Эмили Листфилд Деяния любви
Джорджу
Кровь перевешивает свидетельские показания.
«Свидетель обвинения»1
Сухие листья, которые она сгребла этим утром, шуршали под легким ветерком. Она обернулась к входной двери, решив, что, может быть, слышала шаги, но ветер стих, и наступила тишина, только машина Пита Конрана ехала по улице, он возвращался с работы в 5.45, каждый вечер ровно в 5.45, в некоторых семьях так заведено. Энн Уоринг подошла к лестнице и позвала:
– Ну-ка, девочки, не копайтесь. Папа приедет с минуты на минуту. Джулия, Эйли!
Эйли спустилась первой, ярко-оранжевый рюкзак съезжал с плеча, – младшая дочь была возбуждена, но старательно это скрывала. Эта ее неуверенность в себе была непривычной, одна из примет, появившихся за последний год.
– Ты не забыла взять еще один свитер? Там наверху будет холодно.
– Да, мам. – Она отмахивалась от заботы матери и все же нуждалась в ней, не привыкла пока без нее обходиться.
Энн улыбнулась и крикнула наверх:
– Джулия!
Джулия сошла вниз медленно, ее узкое лицо, обрамленное густыми короткими волосами выражало негодование. Энн вспомнила время, когда она была – нет, не беспечной, но, по крайней мере, веселее и беззаботнее. Пожалуй, эту перемену нельзя просто отнести только на счет последнего года или приписать начавшемуся взрослению Джулии, когда у всех подростков бывают приступы мрачности и перепады настроения. Энн и сама не помнила, когда именно это началось. Она пыталась порыться в прошлом, отыскать тот миг, который она так беспечно упустила, но он оставался неуловимым, тщательно скрытым за отчужденностью Джулии, и Энн понимала только одно – в отношениях между ней и старшей дочерью легла какая-то тень.
– Не понимаю, что ты так суетишься, – Джулия говорила тихо и раздраженно. – Ты же знаешь, он всегда опаздывает.
– Я все думаю, а вдруг он сделает нам сюрприз.
– Ну и глупо.
Энн понимала, что она права, понимала и то, что Джулия винила ее за все случаи, когда она ждала сама и заставляла их всех ждать какого-то знака перемены, уверяя себя, что на этот раз Тед обязательно преподнесет им сюрприз. В своем жестоком тринадцатилетнем сердце Джулия винила ее и за то, что ей надоедало ждать.
Джулия внимательно смотрела на мать и как всегда жалела, что причинила ей боль, но в то же время ей было неприятно, что мать так легко справилась с этим.
– И вообще, почему мы должны ехать на охоту?
– Потому что выходные вы проводите с папой.
– Но почему мы должны ехать именно на охоту?
– Не знаю. Наверное, потому, что он ездил на охоту со своим отцом.
– Ну и что?
Энн нахмурилась. Когда-то давно Тед, смирившись с тем, что он называл заговором женщин под крышей его дома, просто решил воспитывать дочерей так, словно их самым естественным образом интересует все то, что, как он полагал тогда, интересно мальчикам, сыновьям. Он приносил домой модели самолетов, он брал их с собой на строительные площадки, учил их бросать мяч, не выворачивая запястье, и у них все получалось. Но иногда Энн, хотя и одобрявшая идею в целом, за исключением охоты, спрашивала себя, а не был ли этот принцип воспитания легким укором ей самой.
– А вы попробуйте, – сказала она.
Все трое замерли, услышав, как подъезжает машина Теда, внезапно смутившись и не решаясь глядеть друг на друга, чтобы не видеть свое замешательство – свидетельство того, что отец все еще остается той планетой, вокруг которой они вращаются. Энн внутренне напряглась, услышав, как поворачивается в замке ключ.
Тед вошел, ничего не заметив, его сильное тело и темные живые глаза излучали уверенность в том, что выходные пройдут отлично и что прошлое легко загладить.
– Привет, ребята. Готовы подстрелить оленя?
– Я же тебе говорила, мне не нравится, что ты пользуешься своими ключами, – Энн подбоченилась. Ее голос напряженно звенел. – Ты здесь больше не живешь.
Он слегка улыбнулся:
– Это мы можем уладить.
Джулия шагнула вперед.
– Я не хочу охотиться. Это отвратительно.
Тед медленно отвел глаза от Энн, от ее волос, золотисто-каштановых, недавно вымытых, ниспадавших на ворот белого свитера, которого он не помнил.
– Ничего отвратительного. Оленей развелось слишком много. Зимой половина умрет с голоду.
– Но зачем нам убивать их?
– Потому что так устроена природа. Для пацифистов в ней нет места.
– Постарайся не слишком забивать им головы, ладно?
Тед рассмеялся.
– Там ведь нет медведей, да, пап? – с беспокойством спросила Эйли.
– И львов, и тигров, и…
– Перестань, Тед. Ты их пугаешь.
– Этих девочек не так-то легко напугать, верно? Ну-ка, ребятишки, ребята, почему бы вам не подождать в машине? Я хочу минутку поговорить с мамой.
Они смотрели на Энн, ожидая утвердительного знака, а Тед тем временем покачивался с пятки на носок и обратно, пока она слегка не кивнула им. Джулия и Эйли направились к двери.
– Подождите, – окликнула Энн. – Разве вы не обнимете свою мамочку?
Они вернулись, чтобы попрощаться, а Тед следил за ними. В конце концов, так и должно быть. Энн слишком долго держала их в объятьях, жадно впитывая их запах. Затем неохотно разжала руки и смотрела, как они уходят. Джулия перед дверью обернулась еще раз, для верности. Энн и Тед дожидались, пока они вышли.
Он придвинулся к ней.
– Ну что? Ты подумала об этом?
– О чем?
Он нетерпеливо нахмурил брови. Та ночь, ее губы, ее рот, вся она сопротивлялась ему всем своим существом, а потом она брала его, как он – ее. Тело не могло скрыть то, что не желал признавать ум: стремление к близости.
– Разве та ночь ничего не значит для тебя?
– Конечно, значит, – она смотрела в сторону. – Только не уверена, что именно.
– Послушай, Энн. Ты знаешь не хуже меня, что весь этот год был ошибкой.
– Может, та ночь была ошибкой.
– Ты же не хочешь сказать, что счастлива сейчас?
– Я и раньше не была счастливой.
– Никогда?
– Очень недолго. – Конец испортил начало, и теперь ей представлялась лишь бесконечная череда ежедневных мелких неурядиц, неизбежных, предсказуемых и неразрешимых. Словно все время раскручивалась какая-то спираль, которая, наконец, выбила почву у них из-под ног. Вязкая трясина обид. – Я не могу вернуться к тому, что было.
– Не обязательно все будет по-старому.
– Да?
– Я могу измениться.
– Что тебе нужно от меня, Тед? Ведь ты сам ушел.
– В жизни не делал ничего глупее. Я хочу все уладить.
– Почему ты думаешь, что стало бы иначе?
– Мы еще любим друг друга.
– Если хочешь знать мое мнение, любовь всего лишь оправдание для всяких гадостей.
Он улыбнулся.
– И для всяких радостей тоже.
Она чуть улыбнулась в ответ, встретив его взгляд, а потом покачала головой. Вот что было новым, вот в чем заключалась разница, в этом, едва заметном жесте несогласия.
– А как же все хорошее? – настаивал он. – Ты думаешь, что когда-нибудь испытаешь то же самое с другим? Ты не сможешь.
– Я знаю, Тед, – спокойно ответила она. – Но я не уверена, что это так уж страшно.
– Черт побери, Энн, что тебе нужно от меня? – Его голос звучал раздраженно. – Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе и девочкам. Что тебе нужно? – Он осекся и понизил голос. – Извини. Я всего лишь прошу, чтобы ты подумала, прежде чем подпишешь документы. Ради девочек.
– Это нечестно.
– Я знаю. – Он подошел так близко, что ее взгляд на мгновение утонул в глубоких морщинах, разбегавшихся из уголков глаз к подбородку. Они были на его лице с двадцати лет как знак жизненного опыта, которого он тогда еще не имел. – Я люблю тебя.
Она неожиданно отшатнулась.
– Иди, девочки ждут. Тед, обещай мне, что будешь осторожен. Хотя они и насмотрелись всего по телевизору, мне кажется, они вряд ли понимают, что ружья – не игрушки.
Он рассмеялся.
– Ты слишком обо всем переживаешь, вот в чем дело. Всегда. Вся добыча будет состоять из стопки фотоснимков. – Он направился к выходу. Взявшись за блестящую круглую медную ручку, он обернулся. – А ты что делаешь в выходные?
– Ничего особенного. Дежурю в больнице.
Он нахохлился. Он боялся ее рассказов о больнице, навязчивого перечисления мелких подробностей, описания формы и глубины ран, постепенного разрушения тела под действием болезни, когда она углублялась в особенности состояния больного, умирающего, пока ей не грозила опасность потонуть в них, и затягивала его с собой.
– Что ж, я хочу, чтобы ты подумала о нас, когда у тебя выпадет передышка. Вот и все. Просто подумай о нас. Ладно?
Она медленно кивнула. Он долго смотрел на нее, дожидаясь этого жеста, и тогда тоже кивнул.
– Хорошо, – сказал он, улыбаясь. – Вот и хорошо.
Он не пытался поцеловать ее на прощание, для этого он был слишком умен.
Опустевшие дома, даже самые опрятные, пахнут по-особенному, забытыми безделушками, пылью, которая постепенно скапливается в углах. Она продолжала стоять там, где стояла. Бывали периоды, когда она искренне ненавидела его самоуверенную улыбку, еще больше ненавидела себя за то, что ответила на нее первый раз в семнадцать лет: я наблюдал за тобой. Она помнила, как они в первый раз ехали вместе в ярко-зеленом «олдсмобиле» с откидным верхом, на который он зарабатывал четыре месяца, его руки на громадном руле, темные волоски на пальцах, его улыбку, когда он обернулся к ней, я наблюдал за тобой, никогда не было никого другого, хотя она иногда жалела об этом, жалела, что села в эту машину, что не выходила из нее по-настоящему, пока не оказалось слишком поздно. Она тоже наблюдала за ним.
Она взглянула на часы и поспешно поднялась наверх, скидывая джинсы и свитер, прошла в выложенную голубым кафелем ванную и пустила воду. С тех пор, как Тед стал забирать девочек на выходные, у нее впервые появилось свободное время, чтобы понежиться в ванне, и она пристрастилась тратиться на шампуни, пену и кремы, которые едва могла себе позволить. И все же она с трудом привыкала к этому, к удовольствию примешивался неуловимый налет обязательности. Ей постоянно приходилось напоминать себе – это хорошо, это еще один шаг.
Энн как раз надевала шелковое платье трехлетней давности, когда в дверь позвонили. Она отыскала туфли, сунула в них ноги и спустилась вниз на четвертый звонок.
– Привет.
Доктор Нил Фредриксон стоял перед ней в твидовом пиджаке вместо длинного белого халата, в котором она всегда видела его. Эта перемена, неизбежная, но почему-то неожиданная, смущала, делала знакомое неопределенным, зыбким и ненадежным.
– Я не слишком рано? – Он заметил растерянность на ее лице.
– Нет. Извини. Прошу. Хочешь… подожди-ка, хочешь выпить? – повернувшись, чтобы провести его в дом, она обнаружила, что у нее расстегнуто платье. – О, Боже!
Он слегка улыбнулся и застегнул молнию, коснувшись ее кожи костяшками пальцев.
– Извини. – У нее зарделись щеки; эта склонность мгновенно краснеть была одним из тех качеств, от которых ей никогда не удавалось избавиться.
– За что?
– Не знаю. – Она смущенно рассмеялась. – У меня никогда раньше этого не бывало.
– Никогда не бывало чего?
– Свиданий. Я никогда не ходила на свидания. То есть с мужем, разумеется, да, но мы же были совсем детьми. И это не были свидания. Не знаю, как это назвать, но никогда это не было настоящими свиданиями. Боже, что я говорю! – Она улыбнулась. – Тебе же не хочется слушать все это.
– Конечно, хочется. Можешь рассказать мне за ужином. Я заказал столик в «Колоннаде». – Он вручил ей букет желтых роз, который они оба старательно не замечали, будто надеясь, что он сам как-то незаметно перейдет из рук в руки.
– Я только поставлю их в воду, – она с облегчением нашла предлог отвернуться хотя бы на минуту.
«Колоннада» на первом этаже огромного, в викторианском стиле здания, напоминавшего башню, открылась в пятидесятые годы, в период расцвета города Хардисона, когда фабрика игрушек Джеррета, находившаяся в десяти милях к северу, была одним из самых преуспевающих предприятий в стране. Семьи, покидавшие Олбани, переезжали в богатый лесами округ, и даже велись разговоры об открытии в Хардисоне нового отделения университета штата, хотя из этого ничего не вышло. С тех пор «Колоннада», благодаря репутации единственного места, где можно достойно отметить важное событие, сумела успешно пережить два периода спада. Уже более сорока лет юноши приводили сюда возлюбленных, чтобы сделать предложение, а позже, если все проходило успешно, – праздновать годовщины свадьбы; здесь пили за окончание учебных заведений и продвижения по службе люди, которые редко обедают вне дома; а те, кто уехал из города, часто приводили сюда своих новоиспеченных супругов с новыми капиталами, когда приезжали погостить домой. Ресторан почти не изменился с самого открытия: темно-красные ковры с цветочным рисунком, хрустальные люстры-слезки из Франции и покрытые белоснежными скатертями столы, расставленные друг от друга достаточно далеко, чтобы создать хотя бы видимость уединения в городке, где таким пустякам не придавали особого значения. Энн украдкой оглядела зал, радуясь, что там не было никого из знакомых.
– Трудно было снова пойти работать? – спросил доктор Нил Фредриксон.
– Казалось сложнее, чем вышло на самом деле. Разумеется, с тех пор, как я ушла, в работе медицинских сестер случилось много перемен. – Она вспомнила себя сразу после колледжа, неопытную, в накрахмаленной форме, вспомнила, как все сестры вставали, когда в палату входил врач. Вернувшись на работу, в свое первое дежурство она встала, а другие, молоденькие сестры лишь непонимающе смотрели на нее. Больше она не повторяла этой ошибки.
– Должно быть, нелегко снова привыкать к рабочему дню.
– Ничего. Сестры помоложе терпеть не могут работать в выходные, а мне даже нравится. Тед забирает детей, и дом кажется таким… пустым. – Она пригубила вино, которое он, видимо, с большим знанием дела выбрал по тисненой карте. – Конечно, мне нужны деньги. Глупо было долго сидеть дома. Я даже не помню, чем занималась целыми днями.
– Давно ты в разводе?
– Я не разведена.
– Не разведена?
– То есть развожусь. Через пару недель. Может быть, недели через три, так нам сказали. Когда придут документы. – Она обвела взглядом зал, потом посмотрела на него.
– А я уже пять лет.
Энн восхищалась его бывшей женой, Диной Фредриксон, тем, как та носилась по городу в своем «джипе», организовывала сдачу крови для Красного Креста, ходила на аэробику в бирюзовом спортивном костюме и совсем недавно баллотировалась в муниципалитет. Крепкая, фантастически бодрая и неунывающая женщина смотрела с черно-белых плакатов, расклеенных на деревьях на Мейн-стрит и в витрине магазина скобяных товаров, и Энн внимательно изучала ее лицо, отыскивая в широкой щедрой улыбке, тугих завитках волос и в морщинках у глаз следы, которые должен был оставить развод.
– Потом будет легче, – прибавил он.
– Правда?
– Да.
Она вежливо улыбнулась. Сейчас она чувствовала себя, словно турист в чужой стране, где все говорят на языке, который она не позаботилась выучить. Никто не предупреждал ее, что он ей пригодится.
– Вот увидишь, – пообещал он. – Все дело в мелочах. Ешь, когда хочешь. Расставляешь книги так, как нравится тебе. Даже само время течет иначе, когда тебе не надо рассчитывать его ради кого-то другого. Заново открываешь собственные пристрастия. Это и в самом деле замечательно. – В уголке рта у него выступил крошечный пузырек слюны, он аккуратно вытер его льняной салфеткой.
Подошедший официант убрал обеденные тарелки и через минуту вернулся с меню десерта.
– Почему ты захотел стать врачом? – спросила она, стремясь переменить тему. Когда-то в каком-то старом женском журнале она вычитала, что лучше всего задавать вопросы, проявлять интерес, выслушивать.
После ужина он отвез ее обратно к двухэтажному белому деревянному дому и прошел с ней по вымощенной тропинке до входной двери. Для октября вечер был холодным, клочья белого пара выходили изо рта. Она подумала о своих девочках, которые там, на горе Флетчера, зримо представила, как они сидят наверху, глядя вниз и поеживаясь.
– Спасибо. Ужин был чудесный.
– У меня есть два билета на симфонический концерт в Олбани на следующую пятницу. Ты бы хотела пойти?
– Ох, я не знаю. Как с детьми и вообще…
– Ты же только что говорила, что твой муж забирает их на выходные.
– Забирает, конечно. Но мне нужно посмотреть, когда у меня дежурство.
– Может, позвонишь мне в понедельник?
– Да. Хорошо.
Они колебались, поцеловаться на прощание или нет, и в конце концов просто пожали друг другу руки, и она проскользнула в дом.
Энн лежала на широкой кровати в темноте и не могла заснуть. Она передвинула подушки, обложилась ими, чтобы не чувствовать полного одиночества, переменила положение ног, попыталась думать о другом. Ничего не получалось. Она включила свет и, сняв трубку с телефона на тумбочке, медленно набрала номер.
Она всегда радовалась, что ей удалось внушить другим, будто она сначала бросила работу из-за Теда, а не возвращалась к ней раньше из-за девочек. Она даже приукрасила эту легенду несколькими колкостями, выражавшими обиду и негодование, и он не слишком возражал; это была одна из мелких уловок брака, с которым они оба могли смириться. Но на самом деле у нее просто получалось не слишком хорошо, и уйдя, она почувствовала тайное облегчение, потому что ей не хватало одного качества, возможно, самого важного, – способности забывать, умения соблюдать дистанцию. В первые годы она просыпалась почти каждую ночь, потому что мысли о пациентах, за которыми она ухаживала, не давали ей покоя, не могла уснуть от тревоги, терзалась, пережили ли они эту ночь, или, как иногда случалось, она придет и увидит пустую койку или, еще хуже, – совершенно незнакомое лицо. В особенно тяжелые ночи она тайком прокрадывалась вниз, пока Тед спал, и, подражая голосу родственницы – тетки, которая весь день проплакала в комнате для посетителей, сестры, которая требовала от дежурного врача сделать еще один обезболивающий укол, – звонила в госпиталь узнать о состоянии больного. Иногда она обнаруживала, что Тед стоит на пороге комнаты, сердито глядя на нее, и она обещала больше так не делать, но не могла сдержать слова.
Она надеялась, что прошедшие годы что-то изменили, и действительно, за те восемь месяцев, что она проработала, вернувшись в больницу, ей, кажется, удавалось поддерживать хрупкое равновесие между заботой и забвением, если не с легкостью то, по крайней мере, с неким сознательным профессиональным умением. До вчерашнего дня, пока восьмидесятитрехлетний старик, который скатился по двум лестничным пролетам, не попал на койку номер семь, одну из трех коек для безнадежных в ее палате. Исхудавший старик, она видела с другого конца палаты, как его тонкая рука с обвисшей кожей медленно поднималась вверх дюйм за дюймом, другие сестры тоже неотрывно, как завороженные, смотрели на это слабое проявление жизни, на эту руку, воздетую к потолку, к Богу. Энн подошла и, склонившись к нему, услышала отчетливый шепот: «Мне нужно пописать». Ей удалось запихнуть его серый сморщенный пенис в пластиковый сосуд, в который он выдавил полграмма мочи, а потом прижал его к груди – единственное свое несомненное достояние. «Я много дней ничего не ел, – жалобно сказал он ей. – Пожалуйста, покормите меня чем-нибудь».
– Городская больница. С кем вас соединить. Алло? Городская больница.
Она повесила трубку, выключила свет и снова погрузилась в темноту.
Солнце всходило над горой Флетчера в расширявшемся розовато-сером ореоле, заливая светом густой сосняк позади них и раскинувшиеся внизу луга, усеянные молочными фермами. Тед потянулся, выбросив руки вверх, к небу, наслаждаясь прикосновением холодного влажного воздуха к небритому лицу. В нескольких шагах от него Эйли пыталась собрать свои густые темно-русые волосы в хвост на затылке. Было в ее движениях что-то щемяще женственное, настолько интимное, что Теду, глядя на нее, хотелось только схватить ее в объятия и заслонить от всех мужчин, ожидающих ее в будущем, которые, глядя на нее, будут испытывать желание. Защитить ее, не позволить причинить ей боль. Он не пошевелился.
Джулия внимательно смотрела на него.
– А, Спящая красавица, – обратился он к ней, ощутив на себе ее взгляд. – Пора вставать.
– Не называй меня так.
– Ну-ну, какие мы сегодня обидчивые. Слушайте, мисс Уоринг, вы что, думаете, мы здесь на курорте?
– Вы с Эйли пойдете, а я подожду вас здесь.
– Нет. Пойдем все втроем.
– Нас всегда было четверо.
– Верно. И может быть, будет снова. Но сейчас я насчитываю троих. Так что вставай и улыбнись, детка.
Джулия с мрачным видом начала выбираться из спальника, а он взял ружье, которое вечером положил возле своего рюкзака, и погладил прохладный стальной ствол, гладкое ореховое ложе. Он редко пользовался им с тех пор, как его отец, страстный охотник, подарил его сыну, когда тому было одиннадцать лет, в необычном порыве щедрости и любви. Это было любимое ружье отца, и в первые дни обладания им Тед каждый вечер смазывал и протирал его, давая торжественное обещание оправдать доверие, которое вдохновило на такой подарок. Однако десять месяцев спустя, когда отец умер от рака, который он скрывал, пока его не пришлось отправить в больницу – у него были поражены печень и почки, – Тед засунул ружье в самый дальний угол шкафа. В глубине души он понимал, что отец ни за что не отдал бы ему ружье, если бы считал, что сможет сам пользоваться им в следующем сезоне. Тед был не в состоянии оплакивать его и думал только об этом обмане любви. Он поплевал на отпечаток пальца на прикладе и стер его рукавом.
– О'кей, девочки, – начал Тед, – я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели сюда.
Они перевели взгляд на «винчестер 30–06», стоявший между ними торчком, конец ствола доходил Эйли как раз до подбородка.
– Это то самое ружье, из которого учил меня стрелять мой отец.
– Подумаешь, – пробормотала Джулия.
Тед посмотрел на нее, и Джулия, подавшись вперед, твердо выдержала его взгляд.
Он отвел глаза первым.
– Пугаться тут нечего, – продолжал он, – но есть определенные правила. Первое: никогда не наводите ружье на то, во что не собираетесь стрелять. Усвоили? Порядок. А теперь я хочу, чтобы каждая из вас подержала его просто для того, чтобы почувствовать.
Он передал ружье сначала Эйли, она не смогла даже поднять его до уровня груди и просто провела по нему руками сначала в одну, потом в другую сторону, ожидая от отца знака, что подобающим образом выразила дань уважения. Она почтительно вручила его Джулии, только когда увидела, как Тед улыбнулся. Джулия быстро провела рукой по стволу и сунула ружье обратно Теду.
Держа винчестер на коленях, Тед вручил девочкам три патрона, медные гильзы матово поблескивали в утреннем свете. Он показал им, как заряжать ружье, как отводить предохранитель, как взводить курок для стрельбы, как совмещать мушку и прорезь, и объяснил, что, когда стреляешь, в шею словно громом отдает. Он встал.
– Как только вы освоитесь, это не будет казаться таким сложным. Что ж, детки, выходим на тропу. Соберите свои пожитки.
Он подождал, пока они укладывались и застегивали маленькие нейлоновые рюкзачки, которые он купил им для выходных, сосредоточенно наклонив головы, предоставив его на короткий срок самому себе; он осторожно вытащил из своего мешка плоскую серебристую флягу, сделал большой глоток виски и спрятал ее, пока обжигающая жидкость проходила через горло в желудок.
Джулия, подняв глаза, увидела отца с закрытыми глазами и флягой у рта и сочла, что это если не беда, то определенно еще один знак предательства, и занесла его в список, где учитывала все самым тщательным образом.
– Готовы? – весело спросил Тед.
– Готовы, – отозвалась Эйли.
Все трое вышли на узкую тропку, которая огибала гору, постепенно взбираясь по неровному склону. Эйли шла сразу вслед за Тедом, Джулия на несколько шагов позади, а солнце в небе поднималось все выше, растапливая последние островки холода.
– Я расскажу вам, как я впервые ходил на охоту, – произнес Тед достаточно громко, чтобы услышала Джулия. – Хотите?
– Мне все равно, – буркнула Джулия. Однако поскольку Тед редко упоминал о своем детстве, она жадно впитывала его слова, просеивая их в поисках доказательств.
– Ну вот, – продолжал Тед, не обращая внимания на язвительность Джулии, как пытался не замечать ее весь год, надеясь, что рано или поздно это пройдет само собой, – было это в Пенсильвании, на горе вроде этой. И в тот самый первый уик-энд я выследил медведя.
– Настоящего медведя? – переспросила Эйли, его самый благодарный, самый лучший слушатель.
– В этих горах не водятся медведи, – возразила Джулия. – И в Пенсильвании – тоже. Что ты слушаешь его, Эйли? Ты же знаешь, он вечно врет.
– Я не вру. В то утро я встал действительно рано, с рассветом, и ушел один. Только я и вот этот самый винчестер. И примерно в миле от нашей стоянки я заметил в грязи отпечатки огромных лап. Каждая размером с твою попку, Эйли.
– И что ты сделал? – спросила она.
Тед почувствовал, как Джулия невольно придвинулась ближе.
– То же, что сделала бы ты. Пошел по ним. Подумал, будет нам медвежатина на обед.
– Люди не едят медведей, – уверенно заявила Джулия, немного отставая, довольная тем, что снова уличила Теда.
– Ты никогда не слыхала о булках с медвежатиной? Немного кетчупа и – пальчики оближешь. Как бы то ни было, я все шел по следу, держа ружье на изготовку, пока не вышел на поляну, и знаете, что я там увидел? Все медвежье семейство за воскресной трапезой.
– А что они ели?
– Знаешь, Эйли, у них под подбородками были заправлены салфетки в красно-белую клетку, и ели они маленьких туристов, точно таких, как ты. Сначала окунали их головой в бочку с медом, а потом весело жевали, – Тед рассмеялся, и его победный смех эхом раскатился впереди.
– Ну, папа! – взмолилась Эйли.
– Я говорила тебе, он всегда врет, – сурово напомнила Джулия.
– Это называется не врать, а рассказывать байки. Если вы собираетесь охотиться, вам придется рассказывать байки. А следующему рассказчику положено переплюнуть предшествующего. Ты будешь следующей, Джулия?
– А кто вообще сказал, что я хочу охотиться?
– Тс-с-с, – предостерегла их Эйли. – Смотрите.
В пяти футах от них из-за толстого ствола дерева высунула головку олениха, широко раскрыв шоколадного цвета глаза, настороженная, любопытная, ее крупные заостренные уши чуть подрагивали, им было видно, как в них трепещут короткие белые волоски.
– Мы выстрелим в нее? – спросила Эйли.
– Нет, Эйли, вот послушай, убивать самок не положено по закону.
– Почему?
– Потому что тогда на следующий год не останется оленей.
Они замерли, прислушиваясь к собственному дыханию и к подземным шорохам, которых не замечали раньше и которые теперь вдруг словно заполнили собой пространство между людьми и животными, а олениха, вскинув голову, разглядывала их. Потом так же внезапно она развернулась на длинных тонких ножках и снова скрылась в лесу.
– Я проголодалась, – пожаловалась Джулия, как только они опять двинулись вперед. – Когда мы будем есть?
Днем, пока Тед спал, растянувшись поверх своего спальника, разбросав руки и ноги по земле, раскрыв наполненный слюной рот, Джулия увела Эйли к большой сосне неподалеку, чтобы преподать ей ежедневный урок. Это тайное обучение продолжалось уже много лет: Джулия выставляла оценки в книжках-раскрасках в зависимости от того, насколько хорошо Эйли удавалось не вылезать за контуры рисунков; Джулия делилась тайными сведениями об учителях, к которым попадет Эйли, и о том, как лучше вести себя с ними; Джулия объясняла происходившее на переменах; Джулия расшифровывала споры родителей, которые просачивались сквозь закрытые двери и расползались по дому, словно дым; Джулия подавала готовые выводы, так что Эйли, покладистая и беспечная, привыкла получать от нее информацию на блюдечке.
Джулия смотрела в открытое лицо Эйли. Эта мягкость и податливость тревожили ее. Она знала, какой опасностью они могут грозить, как легко ее обмануть. Каждый урок был направлен на то, чтобы закалить ее, умерить эту доверчивость, которая другим людям казалась в Эйли такой привлекательной чертой. Джулия взяла на себя труд научить Эйли тому, чему не смогла научить их мать. Как быть практичной, умной и хитрой. Как уцелеть. Тому, что ей знать было необходимо. Однажды Джулия заставила Эйли проползти целый квартал под припаркованными машинами, словно таким способом можно было вытравить из нее слабость. В конце концов, только взрослые с такой пылкой сентиментальностью цепляются за утверждение, что детство должно продолжаться как можно дольше.
Она отобрала у Эйли стебель крапивы, который та вертела в руках. Помолчала. Джулия в свои тринадцать лет обладала безупречной выдержкой.
– Никогда не верь ему, – сказала она тихо и яростно. – Никогда. Никогда.
Эйли кивнула.
– Никогда не верь никому.
В этот вечер Эйли, Джулия и Тед сидели вокруг маленького костра, который они развели под присмотром Теда. У их ног мерцали крохотные языки пламени, озаряя нижнюю часть лица слабым оранжевым светом, волосы их пропахли пеплом и дымом.
– Ну что ж, может, мы и не принесем оленьих рогов для украшения кабинета, но как хорошо побыть здесь, где легко дышится. – Тед пропустил через пальцы горсть земли.
– Как хорошо, – сонно согласилась Эйли.
Тед улыбнулся. Эйли, чьи сомнения все еще так легко было успокоить, чью любовь не нужно завоевывать заново каждый день, которая все еще любила его, даже сейчас любила.
– Ну-ка, дружище, по-моему, тебе пора на боковую. – Он подхватил Эйли на руки, удивленный ее тяжестью, весомостью ее одиннадцатилетнего тела, и засунул ее в спальный мешок. – Я люблю тебя, – прошептал он, целуя ее в перепачканный лоб.
– Я тебя тоже люблю, – ответила она тихонько, чтобы не услышала Джулия.
Когда он вернулся к костру, Джулия быстро стерла тайные послания, которые чертила на земле, и крепко обхватила руками костлявые коленки. Тед присел рядом, разглядывая ее угловатый профиль в мерцающем отблеске огня.
– Я тебе не враг, ты же знаешь, – мягко сказал он.
– Я этого никогда не говорила.
– Ты только об этом и твердила все последнее время. Джулия, что бы ни произошло, это произошло между мной и твоей мамой. Это не имеет отношения к тебе.
Джулия молчала, словно вражеский шпион.
– Это сложно понять, – продолжал Тед. – Я и не жду, что ты поймешь, когда я сам еще не совсем разобрался во всем. Я знаю лишь, что это не только моя вина. Конечно, шуму от меня было больше. Конечно, я вспыльчив. Но мы оба наделали множество ошибок. Никто в нашем доме не ангел.
Она подалась к нему и осторожно спросила:
– Какие ошибки?
– Во-первых, уход.
Она смотрела и ждала, и мрачно улыбнулась, когда поняла, что никакого продолжения не последует.
Тед отвернулся. На самом деле он вовсе не собирался бросать их по-настоящему, разумеется, никогда не хотел жить отдельно. Просто вылетел из дома в пылу ссоры и не сумел придумать повод вернуться, а часы шли, складываясь в дни и ночи, проведенные на раскладушке компаньона, пока уход не превратился в суровую действительность. Когда через три дня Энн позвонила ему на работу и сказала, что, если он не заберет свои вещи в течение часа, она свезет их на городскую свалку, он хотел признать свою ошибку, но не смог; доказывать, как мало они нуждаются друг в друге стало для них своего рода соревнованием, хотя он никогда не собирался выигрывать. И вот он взял свои вещи там, где она оставила их, на крыльце, в двух больших черных пластиковых мешках для мусора, а через несколько недель уже подыскивал себе квартиру и адвоката, и сколько ни старался, все никак не мог толком вспомнить, из-за чего вышла ссора.
– Послушай, всякое бывает между мужчиной и женщиной, – он запнулся. – Мне кажется, ты немножко мала для этого.
– Мне тринадцать.
– Я знаю.
– Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь.
– О, я в этом не сомневаюсь. – Он взял последнюю ветку и запихнул поглубже в костер. Ему хотелось сказать ей, как это напоминает ощущение, когда не можешь поймать мяч, как однажды он начинает откатываться, и ты ничего не можешь поделать, чтобы остановить его, этот мяч, который и есть вы оба или то, чем вы были, и как ты бежишь и бежишь за ним и даже иногда тебе кажется, вот поймал, но тут он снова ускользает. – Просто ускользает от тебя, – сказал он.
Джулия не отрывала от него глаз, щурясь от дыма, напряженно вслушиваясь.
– Я замечал, как вы спорите с Эйли, – продолжал Тед. – Иногда вначале вы знаете, о чем спор, но в конце уже не имеете об этом ни малейшего представления. Так и во всем. У меня и твоей мамы так получилось. Но теперь все иначе.
– Что ты имеешь в виду?
Та ночь, сопротивление, а потом – нет. Он изучающе смотрел на Джулию, прикидывая, взвешивая каждое слово, прежде чем заговорил, стараясь предугадать, какое это произведет впечатление, и соответственно подстроиться.
– Я никогда не хотел причинить боль твоей маме, – он остановился. – Или тебе и Эйли. Я много думал. Если я открою тебе тайну, ты обещаешь не говорить никому, даже Эйли? – Он привяжет к себе Джулию, привяжет ее секретами, которые она скроет в тайниках души. Она обязательно будет носить их в себе, словно награду.
– Ладно.
– Я стараюсь убедить маму дать нам, мне еще один шанс. Может быть, для нас еще не все потеряно. Как ты думаешь?
– Не знаю.
– Кто-нибудь говорил тебе, что с тобой нелегко иметь дело, детка?
– Зато от меня гораздо меньше шума, чем от вас с вашими постоянными воплями.
– Да ведь я тебе о том и толкую. – Тед ухватился за ее слова с той способностью прирожденного бизнесмена обращать минус в плюс, которая помогла ему создать собственную строительную фирму на пустом месте. – Больше так не будет.
– Обещаешь?
– Правда, обещаю. – Он потянулся обнять ее, его рука застыла в воздухе над спиной Джулии, он гадал, ждет ли его снова отпор, которым весь год она встречала попытки приласкать ее. Рука мягко опустилась, и он почувствовал даже сквозь шерстяную куртку, как ее мускулы напряглись, сопротивляясь. – Мне нужно, чтобы ты поверила.
– Зачем тебе нужно, чтобы я верила?
– Потому что я хочу, чтобы ты сделала мне одолжение.
– Что?
– Я хочу, чтобы ты замолвила за меня словечко маме. Она послушает тебя. Скажи ей, как сильно я люблю ее. Сделаешь это для меня?
– Не знаю.
Тед откинулся назад, еще раз окинув свою дочь оценивающим взглядом, прежде чем снова заговорить, прикидывая, насколько продвинулся к цели.
– Я жалел о каждой минуте, что прожил без вас и мамы, – он широко улыбнулся, морщины прорезали его щеки от глаз до подбородка. – Мне кажется, это подействует. Правда. Я хочу, чтобы завтра ты первым делом сказала ей, что нам надо пойти поужинать всем вместе, хорошо? Договорились, Джулия? Помнишь, как мы отправлялись ужинать каждое воскресенье вчетвером? Так будет снова, точно так же. – Он вытянул ноги, колени хрустнули, он глубоко вздохнул.
Джулия прищурилась, на мгновение ей страстно захотелось увлечься так же, как раньше, когда Тед заражал их своим энтузиазмом, увлекал новыми планами, в своем магазине, в их спальнях, когда помогал им с домашними заданиями, на прогулках в выходные, когда так часто хотелось то новую игрушку, то что-нибудь еще. Его энтузиазм и возбуждение по поводу любого плана, особенно на начальном этапе, действовали на всех них неотразимо. Она быстро встала.
– Я, пожалуй, пойду спать.
– Хорошо.
Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, не так широко, но все же.
Однако, удаляясь от него, она сильно закусила пухлую нижнюю губу, которая предала ее, вонзая в нее передний зуб еще, и еще, и еще, пока не почувствовала солоноватый привкус крови. В конце концов, ей бы следовало поумнеть.
– Спи спокойно, – сказал Тед ей вслед. – И не забудь. Первым делом, когда в воскресенье мы вернемся, идет?
Далеко в темноте Джулия забралась в спальник.
Тед сидел у костра, наблюдая, как он медленно угасает, дожидаясь, пока Джулия заснет, потом вытащил из рюкзака флягу, поднес к губам и долго пил большими глотками, потом опустил ее на колено, – виски, ночь, его дочери – все хорошо.
К полудню Энн уже прочла газету, сделала уборку в комнатах девочек и сменила зеленую мраморную бумагу на кухонных полках. Она беспокойно бродила по дому, перекладывала с места на место журналы, щелкала переключателем радио и видела впереди лишь бесконечную череду пустых воскресных дней, выстроившихся один за другим, словно костяшки домино, через всю ее незамужнюю жизнь. Она позвонила из кухни.
– Сэнди? Привет. Что ты делаешь? Не хочешь заглянуть и составить компанию старшей сестре?
Через двадцать минут Сэнди въехала на подъездную аллею на своей видавшей виды «хонде» цвета морской волны. Энн наблюдала из окна гостиной сквозь тюлевые занавески, как Сэнди идет к крыльцу быстрой уверенной легкой поступью – так она ходила всегда. Она была немного уменьшенной, более утонченной копией Энн, сгустком нервной энергии и бесконечной живости. Голова опущена, подбородок выставлен вперед, при этом тылы у нее всегда были защищены. Она несла большую кожаную сумку, постоянное присутствие которой казалось Энн загадочным и вызывало у нее зависть, как тайный знак жизни более разнообразной и сложной, чем ее собственная. Она с улыбкой открыла дверь.
– Спасибо, что заехала.
– И куда же Тед Великолепный забрал детей на выходные? – спросила Сэнди, войдя в кухню вслед за Энн, устраиваясь за ослепительно белым столом и наливая себе бокал белого вина, которое поставила Энн.
– Охотиться на горе Флетчера.
– Он решительно собрался сделать из девочек настоящих маленьких мужчин.
– Разве девочки не должны иметь точно такого же права охотиться, как мальчики?
– А ты кое-чему научилась, – сказала она, улыбаясь. – Но дело не в этом. Мне казалось, что ты не одобряешь охоту.
– Да.
– Не понимаю, почему ты всегда позволяешь Теду поступать по-своему.
– Сэнди, они и его дети тоже.
– Ошибка природы. Может, нам повезет, и с ним произойдет несчастный случай. На ружье сядет или еще что-нибудь.
– Как ты можешь так говорить? Я все выходные не могла отделаться от мысли, что они там, наверху, без телефона…
– Без видеомагнитофона, без игровой приставки…
– Я не шучу. – Она посмотрела на Сэнди, такую практичную, такую уверенную, никогда не позволявшую никакой мысли, никакому страху вторгаться в ее мир без ее желания, Сэнди, которая в десятилетнем возрасте пугала Энн твердостью своих суждений. – Помнишь, когда мы с Тедом только поженились, единственная работа, которую он сумел найти, была оценка имущества за пределами штата? – Она смущенно улыбнулась. – Каждый понедельник утром, перед его отъездом, я тайком подкладывала в его сумку маленькие любовные записочки. Это началось в шутку, но потом… – она помолчала, вспоминая, как потрясена и счастлива была тогда тем, что она замужем, что принадлежит ему, она никогда не ожидала этого, и как боялась потерять все, создавала сложную паутину суеверных ритуалов, чтобы защитить себя, – потом я начала верить, что, если когда-нибудь забуду, что-то случится, самолет разобьется, в общем, что-нибудь. – Она не сказала Сэнди, как целыми днями слушала радио, куда бы Тед ни летал, ожидая сообщения о катастрофе. – Хочешь послушать глупость? В пятницу, перед тем как девочки уехали, я положила в их рюкзаки записочки – просто на всякий случай.
Сэнди нахмурилась.
– Подумай, насколько тебе было бы лучше, если бы ты забыла положить всего одну записку, и самолет Теда разбился. Он застрахован?
– Перестань, Сэнди. Я хочу, чтобы ты оставила его в покое.
– Ладно, ладно. Так чем ты занималась весь уик-энд?
– Обещаешь никому не говорить?
– Никому не говорить о чем?
– Я ходила на свидание.
– Подожди, я что-то не понимаю. Почему это секрет? Вы же разъехались, ты не забыла?
Та ночь, на тахте, словно они были подростками, неистовая и сладостная, с легким привкусом греха…
– Просто я не хочу, чтобы Тед узнал, вот и все. Он такой собственник, – прибавила она.
– Вот именно. И с кем же ты пустилась в это сексуальное буйство?
– Боже правый, Сэнди. Между нами ничего не было.
– Ну разумеется. Боженька не велит. Всем известно, что это по моей части. С кем ты сидела на крылечке?
– С Нилом Фредриксоном. Он заведует нейрохирургией в больнице. Это он принес мне эти розы.
Они обе обернулись посмотреть. Бледно-желтые лепестки распустились во всем великолепии.
– Неплохо, – заметила Сэнди, отворачиваясь и запуская руку в красную коробочку с фигурными крекерами в виде животных. – Как это было?
– Ужасно.
– Я не уверена, что у тебя к этому правильный подход, Энн.
– Я не хочу сказать, что ужасен был он. Я имею в виду само свидание. Ходить на свидание – ужасно. Не знаю, как ты так долго выдерживала это.
– Спасибо.
– Ты понимаешь, о чем я.
– К сожалению, кажется, понимаю. Дальше ты прочтешь мне лекцию о моих биологических часах. Я знаю, что тебе это в новинку, но определенные вещи днем по воскресеньям запрещены.
– Я всего лишь хотела сказать, что вышла замуж слишком молодой, мне хотелось узнать, что я потеряла.
– Звучит с подозрительным сожалением.
– Сожаление? Нет. Я была не такая, как ты. Я не думала, что есть другой выход. Может быть, для меня и не было, не знаю. Во всяком случае, твоя жизнь казалась гораздо романтичнее моей.
– Ты имеешь в виду блистательные свидания с торговцами подержанными автомашинами и прочее?
– Перестань. У тебя замечательная работа в «Кроникл». И парень у тебя замечательный. Тебе следует быть внимательней к Джону.
– С чего ты решила, что я к нему невнимательна?
– Не понимаю, почему тебе просто не выйти за него замуж. Ты с ним вместе уже почти год. Разве это не рекорд для тебя? И он уже дважды делал тебе предложение.
– Потому что тогда он всю жизнь будет таскать мне спортивные тапочки из этого своего богом забытого магазина и пытаться заставить меня делать зарядку. Брр…
– Я серьезно.
– Я тоже. Ты знаешь, как я отношусь к зарядке. – Она помолчала. – Иногда я думаю, что он так настаивает на женитьбе лишь для того, чтобы ему можно было отметить это галочкой в своем списке. – Она повела по воздуху рукой, словно писала. – Колледж, галочка. Карьера, галочка. Женитьба, галочка. Понимаешь, о чем я говорю?
Энн непонимающе смотрела на нее.
– Послушай, – сказала Сэнди, меняя тактику, – я просто не слишком верю в брак. Что-то происходит с мужчинами после того, как они женятся, какие-то гормональные сдвиги.
– Да, они становятся мужьями.
– Точно.
– Женщины тоже меняются.
– Они превращаются в жен. Кажется, это меня удручает еще сильнее.
– У мамы с папой был удачный брак.
Сэнди насупилась. Он был настолько удачным, настолько тесным, что в нем почти не оставалось места ни для чего другого, даже для Энн и Сэнди, которые в своей крохотной спальне, где они жили вдвоем, в доме, находившемся всего в двадцати милях отсюда, часами тщетно пытались понять этих родителей, частью которых они были и в то же время вовсе не были. Дождливыми ночами воздух настолько сгущался, что комната окутывалась своим собственным, особенным духом, затхлой смесью запахов поношенных зеленых бархатных покрывал с их кроватей, фломастеров, дешевого лака для ногтей, менструальной крови и густого запаха их собственного дыхания в тесной комнате, куда никогда не заходили родители, будто знали, что именно в этих темных, влажных пределах дочери перебирают свои догадки и теории, словно драгоценные шарики.
– То, что было у них, это не удачный брак, – сказала Сэнди. – Это был психоз.
– Может, ты и права, – тихо отозвалась Энн. – Может, они прокляли нас в конце концов.
Сэнди поставила бокал и с любопытством взглянула на Энн – ее слова были новостью в системе их воспоминаний, совершенно различных.
– Ты о чем?
– Они заставили нас поверить, меня заставили поверить, что два человека действительно могут соединиться, могут быть почти неотделимы друг от друга, а все, что меньше этого, – неудача.
– Но неужели тебе и вправду этого хотелось? Я начинаю задыхаться при одной мысли об этом.
– Я больше не знаю. – Она пригубила вино. – Я только рада, что они не дожили и не узнали, какую мы с Тедом заварили кашу.
Эйли сидела на просторном переднем сиденье машины между Джулией и отцом, они ехали по 87-й трассе, направляясь к дому. Деревья по обе стороны дороги стояли почти голые, кроме неровной зеленой полосы сосен между обломками гранита.
– Ладно, может, мы и не лучшие охотники на свете. Но это ведь на первый раз. Мы еще вернемся, – пообещал Тед. – В следующий раз одного добудем.
– Вернемся, – согласилась Эйли.
– Джулия? А ты бы хотела поехать снова?
– Не знаю.
Тед снял правую руку с руля и поправил ей волосы.
– Может, мы даже уговорим маму поехать с нами, а, Джулия? Вот что я тебе скажу. Почему бы тебе пока не взять на хранение дедушкино ружье?
Тед свернул на стоянку возле бара «Бёрлз Лаундж», приземистого черного строения без окон в пяти милях от города, как раз напротив нового торгового центра.
– Вы, друзья, подождите здесь, – сказал он, затормозив и открыв дверцу. – Я только на минутку забегу в туалет.
Внутри он прищурился, вглядываясь в темноту, и ударился ногой об стул. Маленькая эстрада, где после полудня выступали полуобнаженные танцовщицы – молоденькие девушки пятнадцати-шестнадцати лет, с еще не оформившимся телом, девушки, готовые на что угодно за двадцать баксов, – пустовала. Двое мужчин, сутулясь на высоких табуретах, задрав головы, молча наблюдали по телевизору за футбольным матчем студенческих команд. Единственным посетителем, кроме него, была неряшливая женщина в облегающем платье в горошек, высветленные волосы спадали ей на плечи, словно засушенные побеги. Тед быстро прошел между ними к бару, навалился на выщербленную деревянную стойку, нетерпеливо барабаня пальцами.
– Мне, пожалуйста, «Джек Дэниэлз», – крикнул он бармену, который продолжал свое занятие – вносил в меню известную марку спиртного. – Сделайте двойной.
Пока ему наливали порцию, его пальцы непрерывно двигались, он почти не обратил внимания на то, что женщина встала со своего места и подошла к нему.
– Еще порцию? – спросила она, когда он залпом осушил бокал и вытер рот тыльной стороной руки.
– В другой раз, золотко. Сейчас меня ждут жена и двое детей.
– Так уж и все сразу.
Мужчины, заржав, откинулись назад, и Тед развернулся к ним с перекошенным лицом. Они оборвали смех и снова уставились на экран. Тед еще минуту смотрел в их сторону, а затем заторопился к выходу.
– Так-то лучше, – воскликнул он, залезая в машину и заводя двигатель. Он включил радио, и они поехали, а в это время Вилли Нельсон запел одну из своих медленных и заунывных песен – только его срывающийся голос да гитара.
– Ну и как, ты собираешься снова встретиться с ним? – спросила Сэнди.
– С кем?
– Что, у тебя есть и другие? С доктором как-его-там?
– Нил. Нил Фредриксон. Не знаю. Он хочет, чтобы я поехала с ним в Олбани в следующий уик-энд, но…
– Но что?
– Сэнди, Тед хочет, чтобы мы снова сошлись.
– Чтоб мне провалиться. Ты же не думаешь об этом всерьез, правда?
– Не знаю. Возможно.
– Тебе только-только удалось избавиться от него.
– Я знакома с Тедом целую вечность. Все в моей жизни – и хорошее, и плохое – так или иначе связано с ним. Конечно, в последние годы мы жили так, словно катались на «русских горках».
– Ушам своим не верю! «Русские горки» – это забава, Энн. А здесь я ничего забавного не вижу. А как же все, о чем ты мне говорила всего несколько месяцев назад, о том, как ты устала от ссор? Или как он никогда не слушает тебя? Черт побери, а как же все те ночи, когда ты даже не знала, где он? Как ты можешь просто забыть обо всем этом?
– Я не забываю. Но ты всегда все видишь в таких резких тонах, Сэнди, черное и белое, добро и зло, а брак – не всегда чистая штука.
– Кто же заставлял тебя копаться в грязи?
– Мы разговаривали. Мне кажется, он изменился. Мы оба изменились. Может быть, научились не ждать слишком много друг от друга.
– Ты уверена, что сделала правильные выводы?
Энн посмотрела на Сэнди, непоколебимую, твердую. Ей никогда не понять, что за дом Энн обрела, тот дом, который она потеряла, никогда не понять, как контуры любви могут размываться, расползаться, и больше невозможно различить, где она начинается и кончается.
– Не похоже, чтобы он просто болтал. Он любит детей. И он им все еще нужен. Они тяжело переносят все это, особенно Джулия. Он говорит, что любит меня.
– Ты слишком доверчива.
– Ты слишком цинична.
Знакомые слова, такие старые, что они едва прислушивались к ним.
– Ты просто не понимаешь, что значит иметь такое прошлое, – добавила Энн. Она улыбнулась. – Слушай, я ведь только сказала, что думаю об этом. В конце концов, тут есть еще проблема с грейпфрутом.
– Проблема с грейпфрутом?
Энн рассмеялась.
– Тед каждый вечер съедал грейпфрут целиком. Просто разрезал его, как апельсин, и – не знаю уж, что именно он делал, только это было сплошное чавканье и причмокивание. – Она замолчала и продемонстрировала, громко пустив слюни. – Меня просто выворачивало. Дошло до того, что я думала об этом грейпфруте весь вечер, прямо содрогалась при мысли о нем, а потом, когда видела, что это начинается, мне приходилось выходить из комнаты. Тед и его проклятые грейпфруты. Я воображала себе, как он давится одним из них и умирает. Или как я забиваю его до потери сознания целой сумкой грейпфрутов. Я до сих пор не уверена, могу ли вынести это. И вот пока я не решила проблему грейпфрута, мое семейное положение не определено.
Они смеялись, когда услышали, как подъехала машина, дверь открылась и захлопнулась, и Тед, Джулия и Эйли вошли в дом. Энн поспешила из кухни им навстречу, обняла Джулию и Эйли, впитывая приметы внешнего мира, приставшие к ним, дым, пропитавший их волосы, прилипшую сосновую хвою и следы грязи, а в это время Сэнди и Тед, опиравшийся на ружье, которое он поставил на пол прикладом вниз, с подозрением разглядывали друг друга.
– Я понимаю, что вам всем безумно хотелось бы, чтобы я осталась и поучаствовала в этом умилительном воссоединении, – сказала Сэнди, – но мне пора спасать моего трудолюбивого друга, пока он не окостенел за подсчетами в своем магазине. Энн, хочешь завтра пообедать?
Она все еще трогала их волосы, лица.
– Конечно, – рассеянно ответила она. – Я позвоню тебе на работу.
– Договорились. Пока, девочки.
Джулия и Эйли выпрямились.
– Пока, – улыбаясь, ответила Эйли.
Сэнди ушла, не обменявшись с Тедом ни единым словом.
– Что она здесь делала? – спросил Тед.
– Она моя сестра. Ну и как прошел уик-энд, девочки?
– Мы видели олениху, – заторопилась Эйли, – но не стали стрелять в нее. Вчера вечером я съела два хот-дога.
– Два? Это потрясающе. А ты, Джулия? Ты хорошо отдохнула?
– Этой ворчунье понравилось больше, чем она хочет признать.
Энн повернулась к Теду, приглядываясь, изучая его глаза, его голос, принюхиваясь. Она скрестила руки на груди. Тед шевельнулся, взял ружье за ствол и чуть сдвинул его вперед для большей устойчивости.
– Кстати, – продолжал он, раздраженный тем, что она все время принюхивается, – я собираюсь оставить ружье здесь на хранение.
– Черт возьми, Тед, ты же знаешь, я не хочу иметь в своем доме эту штуку.
– Расслабься.
Она нахмурилась, и, заметив это, заметив этот мяч, показавшийся на горизонте, он отступил.
– Я говорил тебе, ты слишком много тревожишься.
– Ты вернулся в ударе.
Он не отреагировал.
– Мы скучали без тебя, правда, девочки?
Она повернулась к Джулии и Эйли.
– Что ж, я рада, что вам было весело.
– Может быть, в следующий раз ты поедешь с нами. – Тед посмотрел на Энн и решил не развивать эту тему. – Как ты провела выходные?
– Прекрасно.
– Что делала?
– Работала, ты забыл?
– Разумеется. Кто-нибудь умер у тебя?
– Видишь ли, некоторые люди считают, что я занимаюсь важным делом. Кое-кто даже по-настоящему уважает меня за это.
– Я уважаю тебя.
– Замечательно.
– Разве я когда-нибудь был против твоего возвращения на работу?
Она вдруг ощутила страшную усталость.
– Давай оставим это, Тед. – Все же та ночь ничего не значила, просто осколок прошлого.
Тед увидел опустошенность и безнадежность в ее взгляде, своих самых непримиримых врагов, с которыми невозможно договориться, в страхе и отчаянии он обшаривал взглядом комнату, пока не наткнулся на розы.
– Красивые цветы. Откуда они у тебя?
– Купила.
– Ты купила себе розы?
– Что тут такого?
– Ничего. Просто не могу припомнить, чтобы раньше ты сама себе покупала розы, вот и все.
– Ты все время твердишь, что каждый может измениться. Разве это не относится ко мне?
Тед пожал плечами, его губы искривились язвительной ухмылкой, вызывая в ней раздражение.
– Если уж тебе необходимо знать, – колко добавила она, – мне подарил их мужчина.
– Кто?
– Нил Фредриксон.
– Кто этот чертов Нил Фредриксон?
– Заведующий нейрохирургией.
– Браво. Долго ли это продолжается?
– Я совсем не уверена, что это твое дело. – Она проверяла его, проверяла себя, только начиная проявлять неповиновение, еще не зная, на что способна и к чему это приведет, и поэтому с непривычки зашла дальше, чем собиралась.
Эйли стояла возле тахты, еще не сняв куртки, смотрела на них, слушала. Они больше не замечали, что она здесь, больше не замечали никого, кроме самих себя, даже не обратили внимания, когда она прошла прямо мимо них, под самым носом у них, прочь от них, испугавшись их, устав от них, удалилась от них на кухню, открыла холодильник и застыла в холодном белом свете совершенно неподвижно.
Джулия отметила для себя, как Эйли вышла, но осталась на месте, хотя она тоже понимала, что больше не существует в этом их мире. Руки Энн все так же напряженно скрещены на груди, а Теда заносило все больше, он размахивал руками, стиснув в правой девятифунтовый винчестер, словно былинку.
– Черт возми! – орал Тед. – Вот именно, это мое дело.
– Я теперь свободна, помнишь? – каждое слово слетало быстрее, быстрее, легче, чем предыдущее, кольцо из слов, все новые, резкие, опьяняющие. – Разве ты не этого добивался?
– Ты прекрасно знаешь, чего я добивался, вовсе не этого.
– Я могу делать все, что захочу, – напомнила Энн.
– Вот как? Прежде всего, я не думаю, что твои похождения пойдут на пользу нашим дочерям.
– Похождения? Я ужинаю с приятным человеком впервые с тех пор, как ты ушел, и это называется похождениями?
Тед кивнул.
– Ты поступаешь так, просто чтобы заставить меня ревновать. Ладно. Это я могу принять.
– О Боже, да почему все непременно должно иметь отношение к тебе? Неужели ничего из того, что я делаю, не может быть только моим?
– Кто у тебя еще есть? – потребовал он.
– Не валяй дурака. Никого. Никого нет. – Она запнулась, понизила голос. – Может, перестанем? В чем дело? Мы же собирались больше этим не заниматься, помнишь? Ты только послушай нас. – Она тряхнула головой.
– Я задал тебе вопрос, – настаивал он, уже не слыша ее. Она видела его таким прежде бессчетное количество раз, когда что бы она ни говорила, ничто не могло подействовать. – Кто у тебя еще есть?
– Тед, пожалуйста. Прекрати. Перестань.
Но он не мог остановиться.
– Вот, значит, как? Значит, все сводится к этому? К твоей свободе. Так, да? Так, Энн?
– Что ты хочешь услышать от меня?
– Какая разница, чего я хочу? Тебе же явно наплевать, чего я хочу.
– Тед, перестань. Ты ничего не понимаешь.
– Я только начинаю понимать. Да, наконец-то я начинаю кое-что понимать. Я хочу, чтобы ты мне сказала. Скажи мне, Энн. В этом дело?
– Да. Получил? – теперь и она кричала. – Да. Ты это хотел услышать? Да. Я жду не дождусь, когда придут эти документы. Я не могу дождаться, чтобы подписать их. Боже мой, я просто не могу дождаться.
Он неистово взмахнул руками, продираясь сквозь ее слова, на мгновение сталь ружья блеснула на свету.
– Господи, какой же я идиот. Проклятый идиот. Хочешь знать, что я за дурак? А, Энн? Я тебя спрашиваю. Хочешь знать, какой я неслыханный дурак? Я тебе скажу. Я вообразил, что у нас есть шанс. Я все выходные только о нас и думал. Что за чертов идиот. Я-то и правда думал, что та ночь кое-что значит для тебя.
– Тед.
Его сверкающий взгляд был жестким.
– Идиот. Я тебе верил, Энн. Я верил тебе, когда ты сказала, что тоже подумаешь о нас. А сама шлялась с каким-то чертовым врачом.
– Когда ты так заводишься, то никогда не слышишь меня. Пожалуйста, можешь успокоиться и выслушать?
– Что тут выслушивать? Ты уже сказала мне все, что нужно. Ты меня обманула, Энн.
Она вспыхнула.
– Я тебя обманула? Ты что думал, я собиралась сидеть здесь, как какая-нибудь девятнадцатилетняя дурочка, ожидая, когда тебе заблагорассудится вернуться? На это ушло какое-то время, но даже мне, в конце концов, пришлось повзрослеть.
Эйли достала бутылку апельсинового сока из-за пакета с молоком и аккуратно налила себе стакан. Она держала его обеими руками, пила, широко раскрыв глаза, медленными глотками, голоса родителей наполняли кухню, скапливались в воздухе, проникая в нее, пока она пила сок, слушая их, теперь только эти голоса, уже не ее родители, лишь голоса…
– С сегодняшнего дня я буду встречаться с кем хочу, когда хочу. И ты прекрасно можешь пригласить меня на свидание, когда захочешь поговорить. А еще лучше, пригласи моего адвоката. Как ты смеешь так являться сюда? Кстати, я собираюсь первым делом завтра утром связаться со своим адвокатом и заставить его пересмотреть твое право посещения.
– Ты думаешь, я собираюсь стоять в сторонке и позволять тебе таскаться с половиной города?
На стенки стакана налипла мякоть. Эйли собрала ее указательным пальцем, отправила в рот и слизнула, ни на что не глядя.
– У тебя нет выбора.
– Это мой дом.
– Был твой, Тед, был. Как только я переговорю с адвокатом, вызову слесаря, чтобы сменил замок.
– И всякий раз на улице я буду натыкаться на очередного типа, которого ты подцепишь? Если ты воображаешь, что я позволю такое, то тебе придется об этом пожалеть. Никогда. Слышишь? Никогда.
Джулия пронзительно вскрикнула:
– Перестань! Нет!
По дому прокатился звук выстрела.
Эйли кинулась на порог гостиной и увидела Джулию и Теда, застывших, тесно сплетенных в объятиях, руки, ноги, ружье, затерянное где-то внутри. Медленно, медленно начали они разъединяться, освобождая руки, шеи. Они одновременно обернулись к подножию лестницы, где лежала Энн, головой на нижней ступеньке, над левым глазом – глубокое багровое отверстие.
Тед высвободился и бросился к ней.
– О Боже мой! О Боже! Боже! – Его рука стала мокрой от крови, когда он прижал ладонь к ране, пытаясь остановить ее. – Энн? – загнать кровь обратно, а она просачивалась сквозь его пальцы на ковер. – Вызови «скорую», – рявкнул он Джулии, все еще застывшей, неподвижной. – Скорее. Господи. Вызови «скорую»! – заорал он. Ему удалось уложить ее голову к себе на колени, убирая волосы от багрового пятна. – Энн? Энн? – Джулия и Эйли смотрели, оцепенев, пока Тед не крикнул в последний раз: – Да вызовите же эту проклятую «скорую»!
Они накрыли ее лицо белой простыней, прежде чем привязать. Полиция приехала как раз в тот момент, когда санитары выносили из дома носилки.
– Так, что здесь произошло? – спросил первый офицер, вынимая из кармана блокнот, сосредоточенно листая его, щелкая ручкой – профессиональные обязанности, защищавшие его от кошмара, который он увидел, приподняв простыню.
– Моя жена. – Тед умоляюще смотрел в глаза офицера, ожидая понимания, помощи, слов, которые никогда не прозвучат: С НЕЙ БУДЕТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.
– Это он сделал, – Джулия шагнула вперед, дрожа, с остекленевшими глазами. – Он застрелил ее.
Ошеломленный Тед повернулся к ней лицом.
– Джулия?! Скажи им, что случилось. – Каждое слово медленное, отчетливое. – Это был несчастный случай. Скажи им. Ведь ты набросилась на меня?! Если бы ты так не вцепилась в меня, ружье ни за что бы не выстрелило. Это был несчастный случай.
Джулия оглянулась на офицера, его ручка застыла наготове над блокнотом.
– Он застрелил ее! – выкрикнула она высоким пронзительным голосом, быстро поднявшимся до рыдания. – Он застрелил мою маму.
Ручка нажала на бумагу, оставив черный росчерк, а офицер внимательно смотрел на Джулию. Наконец он повернулся к отцу.
– Вам придется пойти со мной.
– Это безумие, – голос Теда срывался от отчаяния, офицер приобнял его и решительно повел к выходу, пока его напарник, стоявший в дверях, поднимал ружье, обернув его двумя носовыми платками. – Не знаю, почему она так говорит. Скажи им, Джулия, просто скажи им правду. Скажи, что произошло на самом деле. Это был несчастный случай.
Но Джулия продолжала молчать долго после того, как услышала, что полицейская машина с завывающей сиреной отъехала и скрылась, молчала, когда Эйли начала непрерывно всхлипывать и подвывать, молчала, когда приехала Сэнди, мертвенно-бледная, потрясенная, и наткнулась на оставшегося полицейского, все еще стоявшего посреди комнаты.
2
Девочки обычно старались угадать настроение матери по изменениям цвета ее волос, угадать, будет ли она слоняться по дому, мурлыча отрывки из песенок своей молодости: Синатры, Бейзи, особенно Ната Кинга Коула, улыбаясь самой себе, хватая того, кто оказывался поблизости, чтобы станцевать ту-степ, что обычно заканчивалось градом поцелуев влажным открытым ртом, или на целые дни затворится в спальне, слабым печальным голосом призывая к себе Энн, а иногда Сэнди, чтобы они выслушали какую-нибудь историю, мудрый совет или пересказ сна, который потом унесут в свою комнату, чтобы разобраться. Эстелла (она настаивала, чтобы они звали ее по имени, словно любой вариант слова «мама» был слишком обременителен, чреват ожиданиями и упреками), Эстелла, лежа в постели, словно окутывала дом пеленой, комнаты темнели, звуки приглушались; унылые, действующие на нервы дни, мрачные и несчастливые. Все это они пытались предугадать по цвету ее волос, иногда оранжевому, словно самый яркий закат, а иногда блестящему, багряно-лиловому, как перезрелый баклажан. Обычно же он останавливался на чем-то среднем: цвете пожарной машины, проезжающей в сумерках.
Их отец, Джонатан, не такой непостоянный с виду, тоже заслуживал пристального внимания. Черноволосый, черноглазый, с густой черной бородой, он был совершенно не похож на других, чисто выбритых отцов Хардисона, которые каждым своим шагом стремились подчеркнуть свои достоинства. Джонатан Ледер обучал их детей музыке, давал частные уроки игры на гитаре и фортепьяно, чему матери все еще придавали значение. Это было почти что искусство, и они соглашались проявить снисхождение к его бороде, к его насмешливым глазам. И все же они не хотели пускать своих детей к нему в дом, поэтому он сидел у них в кабинетах и в устланных плюшевыми коврами комнатах для игр со своим складным металлическим пюпитром и портфелем, набитым нотами. Обучая игре на гитаре, он обычно разделял урок пополам, сначала классика, потом – народная музыка. Но если у ребенка был особенно ужасный голос (потом он без всякого юмора воспроизводил его за обедом), он делал упор на классическую музыку. «Это направление обещает вам больше всего», – говорил он им, и они никогда толком не понимали, считать ли это похвалой или нет. Его не заботило, занимаются они или нет. Ему было все равно, этот ли ребенок, тот ли, один инструмент или другой. Он обладал обескураживающей привычкой забывать имена учеников, даже тех, с кем занимался годами, и хотя он пытался скрыть это от их матерей, это лишь усугубляло смутную неловкость, которую они чувствовали при нем. Когда он проводил урок, они оставляли дверь открытой.
Он имел обыкновение сочинять в голове целые симфонии. Но каким-то образом при попытке воплотить их в музыке они в процессе рождения всегда перепутывались, до неузнаваемости исковеркивались. Но всегда сохранялась надежда, что однажды симфония вдруг появится на свет целиком, без огрехов. Во всяком случае, именно в это верила Эстелла с непоколебимой убежденностью, которую нисколько не умерили годы разочарований. «Ваш отец – гений», – говорила она девочкам, и они верили ей, по крайней мере, недолго. Позже они стали сомневаться, верила ли в это сама Эстелла так твердо, как заявляла, или говорила это просто потому, что именно так должна говорить жена. Несмотря на это, дом был пропитан ожиданиями, предвкушениями, и даже долгое время спустя, после того, как Энн поняла, что симфонии никогда не осуществятся, сохранялись хрупкие надежды на какое-то чудо: а вдруг, а что если… Но Сэнди всегда строго отчитывала ее, когда она заговаривала об этом, и советовала ей хранить такие мысли при себе.
Девочки никогда никого не приглашали к себе домой. Несмотря на постоянные усилия Энн (Сэнди однажды в минуту раздражения и упрямства уехала) навести в доме хоть какой-то порядок, она всегда терпела поражение. Единственной реальной переменой был накапливающийся хлам, все больше и больше хлама. Гостиную заполняли стопки книг, доходившие до пояса, ноты, старые журналы, рваные картонные коробки, набитые обрывками ткани, поцарапанные пластинки, заржавевшие инструменты, разбитые лампы с перепачканными бумажными абажурами, спадавшими, словно береты с головы. Им приходилось в прямом смысле слова пробираться по комнате, обходя эти груды. Иногда по ночам, когда Джонатан и Эстелла спали, Энн набивала мешки для мусора и украдкой вытаскивала на помойку, но чаще всего Джонатан утром находил их там и приносил обратно. Нужно было сохранять все; для всего можно было найти место.
Кухня была завалена отрывными талонами, нераспечатанными рекламными буклетами, грязные тарелки громоздились на кухонном столе и в холодильнике. Каждое утро Энн мыла тарелки, но каким-то образом к ее возвращению из школы эти стопки накапливались снова. Она даже не была уверена в том, что родители замечали, как она наводит чистоту. «Не помогай им, – убеждала ее Сэнди. – Ты их только балуешь». Но, несмотря на такое пренебрежение, Энн время от времени замечала, как Сэнди складывала полотенца, подбирала смятые бумажки, хотя та бросала сердитые взгляды и притворялась, что понятия не имеет о том, чем занимается, если ее заставали врасплох. Но, по-видимому, ни тот, ни другой подход не имел для Джонатана и Эстеллы ни малейшего различия; они никогда ничего не замечали по-настоящему, кроме друг друга.
В пятницу, в день окончания неполной средней школы, Сэнди встала рано, вымыла волосы и накрутила их на пустые баночки из-под сока, чтобы расправить кудри, и накрасила губы приторно пахнувшей помадой матово-кофейного цвета – первой в ее жизни. В четырнадцать лет она была готова к возможному разочарованию, к тому, что Джонатан и Эстелла, пообещав, не придут куда-то в определенное время. Но на этот раз они были так взволнованы, говорили так убедительно. «Мы ни за что на свете не пропустим это, сладкая моя», – говорила Эстелла прошедшим вечером. Сэнди неуверенно кивнула.
Когда Сэнди ушла, Энн приготовила кофе, ожидая, пока появится Эстелла. Но в спальне было темно, оттуда не доносилось ни звука. Энн налила чашку и тихонько вошла туда. Эстелла в цветастом платье, нейлоновых чулках и туфлях-лодочках лежала на кровати без простыни среди стопок газет за прошлую неделю и засыхавших остатков еды. Глаза ее были закрыты, она тяжело дышала. Энн стояла над ней и смотрела на ее лицо, серое и помятое от сна, без привычной косметики. На мгновение она представила себе, как приставляет к нему молоток и зубило и оббивает со всех сторон. Словно скульптор у мраморной глыбы, долбя и долбя, пока не покажется на свет таящаяся внутри форма и красота, Энн отбила бы, кусочек за кусочком, страхи и безумные убеждения, и печали, причины которых она никогда толком не понимала, и – что бы она нашла?
Она присела на кровать и выпила кофе сама. Один раз Эстелла приподняла голову, приоткрыла опухшие глаза и тихо проговорила: «Это не потому, что я не хочу двигаться, просто маленькие ангелы сидят на моих ногах, и они кажутся такими тяжелыми». Ее голова упала обратно на подушку. «Глупо, да?» Она чуть сжала руку Энн. «Но ты не беспокойся. Все пройдет. Даже ангелы устают сидеть так неподвижно и долго на одном месте. Скоро они отправятся искать кого-нибудь еще».
Они так и не пошли – ни один из них – на выпускной вечер Сэнди.
В тот вечер Сэнди вернулась домой поздно – помада на губах смазана, серебряный мальчишеский браслет болтается на запястье – и нарочно сразу прошла в маленькую спальню, которую делила с Энн. Она отстегнула браслет, звено за звеном упавший на стол, и скинула туфли.
– Извини, – тихо сказала Энн.
Сэнди сняла платье, лифчик.
– Я старалась.
Сэнди обернулась к ней.
– Почему ты не сделаешь всем нам одолжение и не перестанешь стараться? Просто брось стараться, и все.
– Она не виновата. Она хотела пойти, я знаю, что хотела. Она неважно себя чувствовала.
– Ты что, действительно веришь этому?
– Да.
Сэнди покачала головой.
– Ты и правда невозможна. Ну когда ты перестанешь извиняться за них?
– Я знаю, что ей жаль.
– Ей вечно жаль. Слушай, давай оставим это. Я рада, что они не пришли. Они бы только нашли какой-нибудь способ поставить меня в неловкое положение.
Энн подалась вперед, откидывая волосы со лба.
– Разве ты ни чуточки не любишь их?
Сэнди отвернулась, взяла щетку и принялась расчесывать волосы, все усерднее и усерднее. «Не в этом дело», – сказала она, и хотя Энн не могла увидеть этого, на ее лице была мрачная, победная улыбка, ведь каждая из сестер, сколько себя помнила, собирала факты о родителях и приносила их в эту комнату, оттачивая и отшлифовывая, чтобы сообщить другой.
Когда Энн в последние полгода учебы в средней школе встретила Теда, она хранила это в тайне. С той минуты, когда она забралась с ним в зеленый «олдсмобиль», она знала, что впервые в жизни обрела то, что принадлежит ей и только ей. Отдельно от них. Именно эта «отделенность» и привлекла Теда, потому что вторила его собственной.
Он перешел к ним из другой школы, из другого штата. Хотя он был всего на год старше ее, он казался взрослым. Он ушел из дома в Восточной Пенсильвании, когда ему было шестнадцать, и переехал с родственником в Хардисон. Он не любил говорить о своем прошлом (в восемнадцать лет он сознавал, что у него есть прошлое, и это само по себе производило впечатление), но своего отчима и единоутробных братьев поминал с неистовой, жгучей ненавистью. «Я бы хотел увидеть его мертвым, – сказал он однажды. – Знаю, что это ничего бы не решило, но просто я бы почувствовал себя лучше». Сама мысль обо всех этих переменах в семье, умерших отцах, новых отцах, дальних родственниках для Энн была почти невообразимой, ведь они вчетвером были так тесно связаны друг с другом во влажной атмосфере своего серого дома, что там не оставалось места даже для друзей или родни.
Иногда в первые дни их знакомства Энн спрашивала Теда: «Ты смотрел это шоу по телевизору? Помнишь ту песню, года два назад?» А он нетерпеливо отмахивался: «У меня на это не было времени. Я был слишком занят тем, чтобы выжить». Она представляла себе, как он все ночи работал, убирая мусор с улиц, хотя знала, что до такой крайности он никогда не доходил. И все же поиски средств к жизни отнимали у него все время. И это тоже было привлекательным для Энн, ее собственный дом был так наполнен временем, пойманным в ловушку, временем застоявшимся, временем гниющим, что она боялась, что заражена им и никогда не сумеет вырваться.
Нетрудно было уберечь свою тайну от Джонатана и Эстеллы, которые, как она подозревала, имели самое неопределенное представление о том, ходила ли она на самом деле в школу, были ли у нее друзья, или в ту самую секунду, как она выходила из их дома, она исчезала, становилась в буквальном смысле бестелесной, выпадая из пределов их видимости и досягаемости. Сэнди, разумеется, знала, что Энн потихоньку уходит из дома, вымыв посуду после ужина, и возвращается в два, три часа ночи, переполненная им, и ее радовало и воодушевляло такое развитие событий. Она надеялась, что это предзнаменование того, что Энн в конце концов сможет освободиться, не станет все больше и больше подпадать под внушение родителей, пока не останется выхода. Тем не менее она не расспрашивала Энн про ее приятеля, опасаясь, что их отношения еще недостаточно прочны, чтобы выдержать серьезную проверку. А сама Энн инициативы не проявляла. Сэнди, которая вечно гонялась за парнями, считала, что и с Тедом было примерно так же, а все было не так.
Энн влюбилась в Теда, потому что он умел все налаживать. По крайней мере, это была одна из серьезных причин, почему она влюбилась в него. Он починил машину, на которой они ездили, разобрав ее, выбросив ненужные детали и отремонтировав другие – дисковые сцепления, тормозные колодки, поршни – детали, о которых Энн никогда не слыхала. Он чинил радиоприемники, телевизоры, вентиляторы. Он был совершенно уверен, что способен заставить эту технику работать, и если временами починка отнимала много времени, потому что он категорически отказывался обращаться за помощью, результат всегда бывал успешным. «Никто никогда мне ничего не давал, – говорил он ей. – Мне пришлось научиться самому заботиться о себе». Он никогда не признавал затруднений, никогда не жаловался, никогда не искал сочувствия.
Энн не беспокоилась насчет Сэнди; Сэнди со своими многочисленными планами отступничества всегда нашла бы способ выкрутиться. Но ей был нужен Тед и его уверенность в том, что он сможет наладить будущее.
Он был нелюбопытен. Он никогда не задавал вопросов о ее прошлом, ее семье, о том, что она делала вчера. Когда она заговорила об этом, он сказал: «Я думаю, если ты захочешь, чтобы я о чем-то узнал, ты мне расскажешь». – «Но мне нужно знать, что тебе это интересно», – возразила она. В тот раз они были ближе чем когда-либо к спору, и оба отступили. Она принимала его сдержанность как естественный результат его независимости и чувствовала себя с ним легко, потому что он не лез во все мелочи. Остальное придет, считала она. Поэтому не было ничего необычного в том, что он не спрашивал у нее, почему он никогда не знакомился с ее родными, почему она заставляла его высаживать ее за квартал от дома даже днем. Ему просто не приходило в голову, что она делала это сознательно. Дом, семью – все следовало оставить позади, в прошлом. Все было неважно, от всего легко было избавиться, отрезать и забыть. Это устраивало Энн.
Закончив школу, она пошла учиться на медсестру. Не стала дожидаться осени, а начала учебу через две недели после выпуска. Другие студентки снимали дома или квартиры вдвоем, втроем или вчетвером, ванные у них вечно были завешены белым нейлоном, похожим на полоски от фаты новобрачной, а Энн жила дома. Каждое утро, прежде чем отправиться на занятия, она оставляла завтрак для родителей. Часто, вернувшись домой, она находила его на том же месте зачерствевшим, хотя они явно побывали на кухне, ели что-то другое, оставили за собой испачканную посуду. Сэнди, которая еще училась в школе, дома почти не бывала. Энн никогда не могла точно вычислить, куда она пошла. Она, конечно, была с мальчиками. Но где?
Тед нашел работу в строительной фирме, специализировавшейся на новомодных многоквартирных конструкциях, которые начинали вырастать на окраинах пригородов. Хотя конечные результаты не производили на него впечатления, все же не было для него ничего более притягательного, чем их голые каркасы вдоль дороги, линии и углы свежего белого дерева, уравновешенность. На работе он говорил мало, но внимательно присматривался к тем, кто работал дольше, и быстро перенимал их приемы. По вечерам он изучал бухгалтерию, проектирование и архитектуру. Хотя он не жалел о своем решении отказаться от учебы в колледже, он тайком доставал конспекты по общеобразовательным предметам, которые преподавались в вечерней школе, и разбирался в них. Он не мог припомнить, чтобы в доме его родителей хоть раз появлялась книга, и оказался совершенно не готов к иному пространству, которое вдруг открылось перед ним, вокруг него, внутри его, пространство, которое могли предложить только книги. Он открыл в себе особенную любовь к Эмерсону и Торо, найдя в них подтверждение своему естественному одиночеству и вере в способность к совершенствованию. Он скрывал эту свою новую страсть к чтению, страшась, что слова могли бы умалить ее значение, и она вызревала в темноте. Однажды, когда Энн приехала к нему на уик-энд, он спрятал все книги – их теперь было больше двадцати – в заднем чулане. Обычно он предпочитал приезжать на машине в Хардисон, и там они встречались в доме у его родственника или – иногда – в мотеле E-Z на 87-й трассе.
Однажды, когда Тед был на уик-энде в Хардисоне, они лежали, сплетясь в объятиях, на поношенных простынях под золотистым стеганым одеялом, покрытом пятнами, в мотеле E-Z. Их любовные объятия были странно безмолвными, напряженная схватка, стремление к соединению, не исторгавшее у них ни единого слова, ни звука. Но потом, в недолгие минуты расслабленной близости, Тед тихим доверительным голосом рассказывал, как никому прежде, о своих мечтах и желаниях, о планах, которые он строил каждую неделю, создавая собственную жизнь с уверенностью человека, у которого нет другого выбора. Для Энн это звучало как колыбельная, этот голос, эта жажда, это отсутствие сомнений, и она укрывалась в нем, а он обхватывал ее рукой и продолжал говорить; прежде никто никогда по-настоящему не слушал его. Изредка он даже вспоминал о прошлом.
– Мой отчим обычно садился за завтраком напротив меня и говорил: «Знаешь, чью овсянку ты ешь? Мою. Знаешь, чьей туалетной бумагой ты каждый день пользуешься? Моей. Знаешь, на чьем стуле ты сидишь?» И если я не отвечал «на вашем», он доставал ремень. Пару раз соседи, увидев, как он гоняется за мной по двору, вызывали полицию.
– Как же ты выдерживал это? – спросила Энн.
Он улыбнулся.
– Уходил к себе в комнату, прикалывал на плечи полотенце и воображал, будто я – супермен. Все прыгал с кровати – летать учился.
Они услышали, как на стоянку мотеля въехал грузовой трейлер.
– Я вот думала, может, завтра вечером ты придешь к нам домой поужинать, – предложила она, запинаясь. – Познакомиться с моими родителями.
– Конечно.
Небрежность его ответа заставила ее вздрогнуть. Она подтянула одеяло повыше.
– Они не похожи на других родителей.
– Ты говорила. Что ж, мне их особенно не с кем сравнивать. – Он улыбнулся и поцеловал ее грудь.
На следующее утро она ушла рано, пока он спал тем глубоким сном, который ничто не могло потревожить. Была поздняя весна, и Сэнди, вернувшись из колледжа, пила на кухне кофе, когда туда вошла Энн и вздохнула, словно впервые увидев, насколько она запущена. Она взяла губку и чистящий порошок и начала убираться. Сэнди, которая по утрам никогда не бывала в настроении, с любопытством наблюдала за ней со стороны.
– Я все же никак не пойму, зачем тебе хочется приводить его сюда, – сказала она, приподняв свою чашку, чтобы Энн смогла протереть стол. – Зачем давать им возможность все тебе испортить?
– Они будут вести себя хорошо.
– Джонатан и Эстелла могут иногда – иногда – быть вполне сносными, это я признаю. Но они никогда не бывают «хорошими». Что именно ты имеешь в виду под словом «хорошо»?
– Отстань от меня со своей семантикой. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду.
– Я знаю, что тебе до сих пор необходимо их одобрение. Вот только не могу сообразить, почему.
– А тебе только хочется доказать, что ты в нем не нуждаешься.
Сэнди поставила чашку и спокойно взглянула на Энн.
– Ты его любишь?
– Да.
Сэнди кивнула.
– По-моему, я не такой человек, чтобы влюбляться.
– Кого-нибудь найдешь.
– Не уверена, что хочу, – задумчиво произнесла она. – Не хочу, если любовь значит вот это, – сказала она, указывая на стол, который Энн отчищала с возраставшим усердием. – А для женщин так всегда и бывает, правда? Так или иначе, похоже, что любовь вечно, в конце концов, влечет за собой губку и «Аякс». Разумеется, только не для Эстеллы. Боже правый, ну и выбор. Нет, благодарю вас.
Энн пристально посмотрела на нее.
– А ты сегодня вечером собираешься вести себя прилично?
– Конечно. Со мной-то у тебя хлопот не будет.
Убравшись на кухне, Энн отправилась в супермаркет и купила цыпленка для жарки, зеленый горошек, картошку и продукты для лимонного пирога. С недавних пор она пристрастилась к чтению кулинарных книг поздно вечером, когда больше уже не могла сосредоточиться на учебниках по химии и молекулярной биологии, которые, казалось, имели так мало общего с тем, что вначале привлекало ее в профессии медсестры. В тщательно расписанных рецептах заключалось для нее нечто непреодолимо успокаивающее. Она никогда не меняла указанных продуктов, всегда смешивала все ровно столько, сколько полагалось, и носила при себе таймер, даже когда шла в ванную.
Просеивая муку, сбивая крем, выпекая, она между делом выглядывала в гостиную убедиться, что Эстелла не ускользнула снова в постель, что у Джонатана достаточно мирное расположение духа и он вряд ли станет потчевать Теда гневными тирадами по поводу состояния послевоенного общества, которые частенько могли продолжаться часа по два. На самом деле ожидание гостя было для них таким непривычным занятием, что все они с подозрением поглядывали друг на друга, прикидывая, во что может вылиться это совместное времяпрепровождение. В последнюю секунду Сэнди подхватила с пола в коридоре груду газет и запихнула к себе под кровать.
– Все будет замечательно, – шепнула она Энн. – Ты такая красивая.
Сидя на диване, Тед отодвинул в сторону кусок припоя и сломанное радио, стоявшее у ног.
– Когда я была маленькой, их делали из свинца, – сказала Эстелла, разглядывая припой. – А теперь свинца не найдешь. Странно, не правда ли, как пропадают вещи? Интересно, куда они деваются. – К вечеру она надела платье в оранжево-голубую полоску, черную шерстяную шаль и чулки с золотыми крапинками. Ее полные округлые щеки заливал румянец, а глаза маслянисто блестели. – Так забавно, правда? Я всегда обожала вечеринки. Не могу понять, почему мы перестали их устраивать. – На мгновение она забылась и отвела взгляд, но, к облегчению Энн, быстро пришла в себя. – По-моему, нам надо это делать почаще. Да, действительно надо.
Тед улыбнулся и ничего не ответил. Понаблюдав за ним несколько раз в компании, Энн поняла, что Тед не способен поддерживать светские беседы, задавать ничего не значащие вопросы, которые придают непринужденность разговору, вообще не умеет изображать хоть какое-то подобие легкой болтовни. Возможно, это было одно из тех занятий, которым ему некогда было предаваться, когда он так торопился заработать себе на жизнь.
Энн взглянула на часы.
– Цыпленок наверняка уже готов. Почему бы вам всем не пойти к столу?
Пока Энн подавала, Сэнди через стол открыто разглядывала выступавшие жилы на обнаженных руках Теда.
– Ты поднимаешь тяжести?
– Нет, только инструменты.
– Как это мужественно.
– Сэнди, – предостерегающе произнесла Энн, садясь на свое место.
– Все в порядке, – со смехом сказал Тед.
– А ты собираешься строить воздушные замки?
– Для принцесс вроде тебя?
Она улыбнулась, вздернула голову.
– Я собираюсь строить то, что захочу, – сказал он.
– По-моему, это не слишком многообещающая деловая стратегия.
– Смотри и учись, – ответил Тед. – Смотри и учись.
– Возможно, я так и сделаю, – отозвалась Сэнди.
Энн запихнула в рот порцию фасоли, чтобы не пришлось вступать в эту непривычную словесную перепалку. Внезапно на нее навалилась усталость, она чувствовала себя медлительной и неповоротливой, а собственные искренние старания казались ей еще глупее, чем всегда. Эстелла во время еды мурлыкала себе под нос.
– Видишь ли, – продолжала Сэнди, – для нас целое событие, что ты удостоил нас своим посещением. Наверное, Энн говорила тебе, что мы здесь в городе считаемся чем-то вроде отверженных?
Эстелла недоуменно посмотрела на нее.
– Почему ты так говоришь? Вы, девочки, пользуетесь успехом, совсем как я в вашем возрасте.
– Она собирается употребить слово «кавалеры», я точно знаю, – пробормотала Сэнди. Она обернулась к Эстелле. – «Кавалеров» больше нет. Как свинца. Просто исчезли, и все. Тебе так не кажется, Тед?
Тед издал короткий смешок и обратился к Джонатану.
– Энн говорит, вы обучаете музыке.
– Я не обучаю музыке, – сердито ответил Джонатан. – То, чему я обучаю, не имеет к музыке никакого отношения. Музыка непознаваема, ей невозможно научить. Я учу детей, как читать черные значки на бумаге и как извлекать нечто, приблизительно напоминающее звук, который одурачит их матерей и заставит платить мне. Это не имеет ничего, повторяю, абсолютно ничего общего с музыкой.
Тед улыбнулся и взял еще кусок. Было похоже, что он просто считает их людьми со странностями. Эксцентричными людьми. Он, видимо, не понимал, как они опасны.
Тем не менее, когда Энн провожала его к машине, прежде чем сесть за руль, он повернулся к ней и сказал: «Я считаю, нам лучше пожениться». Именно так и сказал. И она согласилась.
Она поцеловала его на прощанье и пошла домой убираться.
Энн и Тед зарегистрировались три недели спустя в Нью-Йорке. До отъезда она ничего не говорила Джонатану и Эстелле о своих планах, страшась не того, что они могли бы как-то реально помешать – она знала, что они на это не способны, – а того, что ее собственная решимость могла бы поколебаться. Она не могла представить, как родители станут готовить себе еду, вовремя оплачивать счета за телефон и электричество (еще одна из хозяйственных забот, которую Энн взяла на себя после того, как у них по многу раз отключали и то, и другое), сами выносить мусор. Она опасалась, что они могут в буквальном смысле задохнуться под этими грудами. Она оставила им короткую записку о своих намерениях.
Когда Энн и Тед пришли за свидетельством о браке, в регистрационном бюро шла реконструкция, и его временно перевели в отдел автотранспорта. В тускло освещенной, похожей на пещеру комнате все еще висели прежние таблички – «Жалобы», «Нарушения», «Возмещение ущерба». Впереди них сидела женщина в полотняном костюме с пятнами пота и громко обменивалась шутками со своим женихом, подсчитывая количество разводов у каждого из них, чтобы заполнить необходимые бланки. Как большинство других пар, сгрудившихся на раскладных стульях, склонив головы, теребя края своих документов, Тед и Энн почти не разговаривали, пока не назвали их имена.
После они зашли в ювелирный магазин в квартале от бюро и примерили золотые кольца. Энн отдавала предпочтение обыкновенному тонкому колечку, но Тед, поначалу вообще сомневавшийся, стоит ли ему носить его, выбрал широкое, блестящее. «Если тебе такое не нравится, возьми, какое хочешь, а я куплю это», – предложил он. Но сама мысль о таких непарных обручальных кольцах показалась Энн зловещей, и она выбрала точно такое же, как у него. Оба кольца она припрятала в свой плетенный из соломки кошелек до настоящей церемонии на следующее утро.
Когда позже друзья расспрашивали ее, какая у них была свадьба, Энн часто придумывала детали, платья, свидетелей, тосты – сплав фантазий девочек в тринадцать лет, когда любовь никак не связывается с заботами. На самом деле больше всего в то душное утро в городе ей запомнилось, как в самом начале церемонии она выронила кольцо, и оно укатилось, и ей пришлось догонять его. Чиновник с плохо скрываемой скукой зачитывал слова, которые он повторял по десять раз на день, облизывая обветренные, потрескавшиеся, тонкие бледные губы, пока сами слова «Обещаете ли вы…» не утратили для нее смысл, и она могла думать только о его языке, который высовывался и исчезал во рту три, четыре, пять раз.
Они вышли оттуда ошеломленные, словно отсутствие родственников, друзей, даже случайных знакомых низвело весь ритуал до какого-то фарса, и попытались прикрыть ощущение своей неприкаянности смехом, обнявшись на вершине каменной лестницы, напротив крошечного парка, где было полно государственных служащих, отдыхавших в обеденный перерыв. Воздух был густой и влажный, их тела прилипали друг к другу. «Давай вернемся в свой номер, – улыбаясь, сказал Тед, – и отпразднуем».
За следующие три дня они обошли достопримечательности города – статуя Свободы; вершина Эмпайр Стейт Билдинг, где ветер, вырвавшийся снизу из уличной тесноты, метался вокруг них; Чайнатаун, где на бурлящих улицах висели рядами куски рыбы и окровавленные утиные тушки, подвешенные за тощие шеи, в газетных киосках продавались восточные «Плейбои» в коричневых бумажных обертках, и женщины в туфлях без каблука яростно торговались из-за овощей; вверх мимо Бауэри, от сияющих магазинов со вспыхивающими витринами, набитыми всевозможными видами освещения, созвездия мерцающих огней в виде лепестков, в виде рыбок, резкое абстрактное свечение галогеновых ламп. Энн никогда раньше не бывала в Нью-Йорке, и больше всего на нее подействовали людские потоки, которые с такой скоростью двигались к бесконечно большому количеству мест назначения, рассеянно разделялись и снова соединялись. Она всегда представляла саму себя относительно единственной крошечной черной точки – серого домика на Рафферти-стрит – вот она удаляется от него, вот приближается к нему, а теперь, когда эта точка так безвозвратно оказалась за пределами видимости, когда ее заслонили этот город, Тед, та странная короткая церемония, Энн испытывала необычное головокружение, как будто в любую минуту ей грозила опасность упасть.
Только в своем номере отеля «Мадрид» с выцветшей репродукцией «Вида из Толедо» и скрипучей кроватью она как будто пришла в себя и отдалась Теду с изумившим обоих пылом, словно только что утвержденный союз даровал ей свободу дать волю страсти и желанию, о существовании которых она не подозревала.
– С этими тихонями надо быть осторожным, – пошутил Тед, и она в смущении откатилась от него. То, чего она хотела, не имело ничего общего со словами.
В последний их вечер в Нью-Йорке, когда они проходили сквозь неоновые вспышки и крики нищих на Таймс-сквер, Тед положил ей сзади на талию руку, чтобы быстро провести ее через улицу – светофор мигнул красным, и у машин взревели моторы. Этот жест, его рука у нее на талии – направляющая, защищающая – запомнился ей на годы, глубоко впечатался в кожу. Это оставалось для нее подлинным определением любви – его рука у нее на талии, – и уже много времени спустя, после того, как тот же самый его инстинкт направлять и руководить стал обременительным, она все еще замечала, что тоскует по той самой минуте, когда впервые почувствовала, что ею по-настоящему дорожат.
В тот вечер, пока Тед принимал душ, она потихоньку набрала номер дома в Хардисоне, и повесила трубку, когда Джонатан ответил.
Она знала, что выбралась оттуда по чистой случайности. Что если бы не Тед, она все еще была бы там, осталась бы там навсегда.
Энн и Тед поселились под самым Хардисоном в доме с двумя спальнями и участком в четверть акра, который они сняли с полной обстановкой. Шторы, ковры и обои – все с геометрическими орнаментами в устаревших коричневых и желтых тонах, модных в 50-е годы, усиливали ощущение, что они живут чьей-то чужой жизнью в чьем-то времени. Энн опять пошла в училище и на работу в магазине подарков при больнице неполный рабочий день, а Тед устроился в местную строительную фирму.
В те первые недели их брака Энн почти каждое утро подъезжала к дому Джонатана и Эстеллы, оставляла машину за несколько кварталов от него и в обход прокрадывалась к задним окнам. Иногда она видела, как они читают газеты, ходят по кухне с полными тарелками в руках – по-прежнему едят и одеваются, по-прежнему горит свет, – и ее приводило в недоумение прежнее убеждение в собственной необходимости и незаменимости. Кто кого обманывал? Она в смущении откладывала момент возвращения.
Ей приходило в голову и то, что ее не простят за тайный побег, за ее предательство. Она знала, что они враждовали – c бакалейщиками, которые, как им казалось, однажды пытались обсчитать их на два доллара, с родителями, которые уволили Джонатана, – эти битвы годами держали их в напряжении. В конце концов, они никогда ничего не отдавали.
Когда она попыталась поделиться своей тревогой с Тедом, тот просто отмахнулся. Он написал своей семье о женитьбе только по ее настоянию, и письмо вернулось обратно с просьбой указать адрес, куда его переслать.
«Мы будем сиротами по духу, если не по сути», – сказал он, обнимая ее.
Но это была та неограниченная свобода, которой она никогда не искала, и она невольно сжалась от его резкой готовности оборвать любую нить, способную помешать ему.
В следующий свой выходной Энн испекла торт и, аккуратно уложив его возле себя на сиденье, поехала к Джонатану и Эстелле. На этот раз она оставила машину перед домом и позвонила, чего прежде никогда не делала.
Джонатан открыл дверь.
– В чем дело, ты забыла ключи?
– Нет, я просто подумала…
– Ну заходи.
Она не поцеловала его. Он никогда не ласкал дочерей, хотя часто и нежно касался Эстеллы, и поцелуй смутил бы его, или – еще хуже – стал бы предлогом для насмешек. Они молча прошли мимо коробок с книгами, словно замшелая каменная стена выстроилась по пути в гостиную, где Эстелла сидела и смотрела телешоу.
Она бегло улыбнулась Энн и снова уставилась на экран. Энн с тортом в руках ничего не оставалось, как тоже наблюдать, как женщина отгадала загадку и выиграла 4700 долларов. Когда началась музыкальная пауза, Эстелла повернулась к Энн.
– Может, пойдем в спальню? Я немного устала.
Энн последовала за матерью и ждала, пока та устраивалась на краю кровати.
– Садись, – сказала Эстелла, похлопав по постели рядом. Она взяла руки Энн в свои, удивительно гладкие и чистые. – Он хорошо к тебе относится? – спросила она.
– Да.
Эстелла кивнула.
– Наверное, мне полагается дать тебе совет, но не могу сообразить, какой.
Они молча сидели, держась за руки, торт рядом, пока Эстелла пыталась вспомнить.
– Мы с твоим отцом всегда были очень счастливы. Он, – она запнулась, подбирая точное слово, верное объяснение тому, что было по существу необъяснимо – что она просто не может представить себя без этого человека, – он «незаменимый». – Она поджала губы, не удовлетворенная подобранным определением. – Но это судьба, конечно. Тут ничего нельзя поделать. Она как кошка – ни за что не приходит, когда зовешь. – Она вздохнула и прислонилась к изголовью. – Может, и у вас с Тедом тоже будет судьба.
Для Энн это прозвучало как название болезни.
– Почти так же хорошо счастье, – продолжала Эстелла, прикрывая глаза. – Вы наше счастье, ты и Сэнди. Мои прекрасные маленькие девочки, – ее губы шевелились вяло и сонно. – Я считаю, мы должны устроить для вас вечеринку. Кого нам пригласить?
Энн потихоньку выскользнула из комнаты, в то время как Эстелла, подхваченная потоком давно забытых имен – однокашников Энн по детскому садику, друзей своего собственного детства из Буффало, впала в мечтательную дремоту.
Лишь однажды Сэнди сказала Джонатану:
– Тебе не кажется, что ей нужно видеться с кем-нибудь? Тебе не кажется, что нам следует как-то помочь ей?
И он мгновенно влепил ей пощечину.
– Единственное, в чем нуждается ваша мать, – это я, – сказал он.
Закончив училище, Энн устроилась работать в больницу, в отделение нейрохирургии. Место было не слишком веселое, часто менялся младший персонал, сестры быстро уставали от большого количества смертей, к которому они не были готовы, сколько бы ни изучали труды Кюблер-Росс. За исключением нескольких пациентов со смещенными позвонками, большинство лежало с опухолями мозга, аневризмами или параличами. Каждое утро по всему этажу были слышны вопросы, которые задавали больным: «Вы знаете, какой сейчас год? Вы помните, кто у нас президент?», и тихое, с запинкой бормотание – неправильные ответы.
Измерив объем жидкости, которая за ночь вытекла из черепа миссис Ди Лоренцо по длинной дренажной трубке, Энн делала записи в ее историю болезни, стоя за конторкой в центре отделения реанимации. В углу два врача задавали вопросы Дэвиду Лоуэншону, тридцатисемилетнему мужчине, которому накануне дренировали кисту. Два месяца назад ему удалили злокачественную опухоль, но она уже выросла снова. Доктора рассказывали ему анекдоты, стараясь вызвать у него смех или, по крайней мере, улыбку. «Я не помню, как смеются», – отвечал он вежливым бесстрастным голосом. У него была поражена передняя доля головного мозга и были нарушены правильные реакции при различных чувствах. Когда врачи ушли, он подозвал Энн и попросил что-нибудь почитать – книгу, журнал, что угодно. Это была необычная просьба, мало кто в палате мог просто приподнять голову, не то что читать, и Энн пообещала, что как только у нее появится свободная минута, она что-нибудь поищет для него. Однако, прежде чем такая минута возникла, миссис Ди Лоренцо начала громко кричать, что хочет домой: «Тот доктор, он велит мне сказать вам, она хорошая девочка, отпустите ее», а два санитара привезли на каталке еще одного послеоперационного больного и положили на свободную койку у двери. Потом нужно было раздать обед, кому твердую пищу, кому только жидкую, и отметить в картах, кто сколько съел. Она замечала растущее возбуждение Дэвида Лоуэншона, но ничего не могла поделать. Наконец, когда она подошла к нему извиниться, он взорвался.
– Я попросил два часа назад. Два часа назад! Неужели это такая невыполнимая просьба, найти мне что-нибудь почитать в этой дыре? Вы просто ленивы или что?
Энн со слезами на глазах побежала по коридору в приемную и нашла там номер «Нэшнл джиогрэфик» годичной давности.
Когда вечером за ужином она попыталась объяснить Теду, как ее расстроила эта вспышка, он прервал ее.
– Скажи-ка мне одну вещь, Энн. Он умрет?
– Ну, да, но…
– Тогда пусть себе выговорится, не переживай так.
Большинство других сестер, остававшихся работать в отделении, были народ закаленный, сумевший как-то свыкнуться с симптомами и смертями. Они вместе выпивали в местном баре, спали с врачами, жившими при больнице. Почему бы нет? Они знали, что наутро сами могут оказаться на соседней койке. Ешь, пей и веселись, ведь завтра мы…
Когда Дэвида Лоуэншона перевели вниз, в реабилитационное отделение, Энн навестила его после смены. Его родители, славные люди, потрясенные, молча стояли около кровати, все больше волнуясь из-за его неспособности поправиться, словно рак, разраставшийся у него под черепной коробкой, был укором за какой-то промах в их родительских заботах много лет назад, за который Дэвид решил наказать их только сейчас. Когда он пытался завести речь о смерти, они отводили глаза и быстро отвечали: «Не говори так». Или: «Что за глупости, все будет хорошо». А врачи, когда их спрашивали, прикрывали свое замешательство фразами на латыни и подчеркивали возможность ошибки в диагнозе.
Только Энн разговаривала с Дэвидом Лоуэншоном о смерти. Они обсуждали ее со всех сторон, говорили об опасности, которые она несет, с объективностью, которую Энн чувствовала себя обязанной соблюдать в его присутствии, когда сидела на краю его койки, свесив ноги над ослепительно белым полом.
– Вы боитесь? – спросила она его, думая в основном о собственном страхе, временами настолько непреодолимом, что он словно подавлял каждое ее движение, каждую мысль своей чугунной тяжестью.
– Смерти? Нет.
И она не была уверена, связано ли это отсутствие страха с опухолью или с каким-то его душевным свойством, которому стоило позавидовать.
Она представляла, что держит его, его застывшее хрупкое, словно высохший картон, тело, на кончике указательного пальца, и внезапно он обрушивается к ее ногам и разбивается – по ее вине.
Ешь, пей и веселись, ведь завтра мы…
Работа Теда в местной строительной фирме оказалась связана с большими ограничениями, чем он ожидал. Его босс, Тони Лиандрис, не принадлежал к тому типу начальников, которые ценят мнение своих сотрудников, а, напротив, упорствовал в своем упрямом невежестве, за которое клиенты, часто не разбиравшиеся в элементарных основах строительства, вынуждены были платить, даже не подозревая об этом. Теду, который в работе безудержно стремился доводить все до совершенства, стоило таких же трудов придержать язык, сколько он приложил, чтобы выразить свое мнение более приемлемым образом, скрывая разочарование. «Я тебе не за болтовню плачу, Уоринг», – ухмыльнувшись, предупредил его Лиандрис со своим животом, своими деньгами и своим огромным дубовым столом.
Вынужденный воплощать второсортные планы второсортными инструментами, Тед постоянно кипел тихим гневом. Другие молодые рабочие, по-видимому, не разделяли его нежелания уступать и его чувства оскорбленной гордости, они были с ним вежливы, но осторожны. Не обладая честолюбием Теда, они относились к Лиандрису снисходительно и равнодушно, что Тед считал отвратительным, служившим возвышению глупости, которая, как эпидемия, распространялась вокруг. Поначалу его приглашали после работы выпить пивка или сыграть партию в пул, но, получив отказ, оставили в покое и одиночестве, что он всегда и предпочитал.
Ничего Тед не любил так, как первые минуты дома, после работы, когда Энн, все еще в своем белом сестринском облачении и белых шлепанцах, готовила что-нибудь, сосредоточенно прикусив нижнюю губу, а он сидел за кухонным столом, разложив перед собой миллиметровку и справочники. Он пристрастился выписывать по почте проспекты архитектурных институтов штата и, пока она готовила, читал вслух названия дисциплин, биографии преподавателей, рассказы об успешных карьерах и говорил о том, с какой радостью он будет осуществлять собственные планы. «Но это займет семь лет», – говорил он со вздохом. Не время представляло для него угрозу, а те книги, и расчеты, и интернатуры, которые заполняли прошлое других людей, – роскошь, которой он был лишен.
– Ты сможешь сделать все, что захочешь. – Она с улыбкой поворачивалась к нему. – Ты всегда мог. Я так верю в тебя.
Именно эту веру он любил, полюбил с первой минуты, как заметил в ее глазах, веру, какой никто никогда не испытывал к нему. Как же он мог не возжелать захватить ее целиком, обладать ею вечно, этой ее цельной верой?
Под конец Дэвид Лоуэншон перестал узнавать Энн, перестал, когда она входила в его палату, приподнимать голову с учтивостью, пережившей надежду. Тем не менее она была уверена, что его глаза благодарно блестели, когда она брала его исхудавшую, безвольную руку в свои, почти ежедневно навещая его. В тот день, когда она подошла к его кровати и увидела, что та пуста, Энн непонимающе застыла в дверях. Кровать была аккуратно заправлена, тумбочка пуста. Тем не менее она спросила проходившую мимо медсестру:
– Он на анализах?
– Он умер сегодня утром.
– Что?
Медсестры не употребляют меж собой неискренних утешений – он отошел тихо, все к лучшему, – потому что даже самые юные из них видели, с какими жадными, отчаянными усилиями цепляются за жизнь даже самые слабые больные, эти последние жуткие, унизительные конвульсивные вздохи, тщетные попытки заглотнуть самое время.
– Около десяти часов.
У Энн в десять часов был перерыв. Она пила кофе в кафетерии. Она ничего не почувствовала, не ощутила никаких необычных импульсов. Просто пила кофе и думала, что приготовить сегодня вечером на ужин.
На следующий день, пасмурный, унылый, она сказалась больной и легла в постель.
А на другой день была не в силах пошевелиться.
В конце недели старшая медсестра отделения, Синтия Ниери, вызвала ее к себе в кабинет для разговора.
– Я говорила с персоналом в реабилитации и на нашем этаже. Понимаете, вы не должны принимать каждую смерть так близко к сердцу. Может быть, перевести вас в другое отделение?
Энн покачала головой.
– Ну что ж, тогда я должна настоятельно рекомендовать вам обратиться к одному из наших консультантов. Подобное поведение не пойдет на пользу вам и определенно не поможет нашим пациентам.
Энн согласилась, но на прием так и не пошла.
Вместо этого она научилась прятать, скрывать, маскировать свою чрезмерную заботу и тревогу, пока единственным ее признаком не осталось немного удивленное выражение, постоянно поселившееся в ее глазах. Синтия Ниери внимательно следила за ней.
Через год Тед подыскал себе другую работу. Теперь ему приходилось каждую вторую неделю летать в разные места по всему северо-востоку страны, оценивая земельные участки с точки зрения возможности строительства. Это давало ему по крайней мере видимость власти. Проспекты архитектурных институтов он брал с собой, чтобы читать в пути.
Каждый вечер в воскресенье Энн укладывала ему чемодан, тайком засовывая между рубашками и бельем любовные записочки, чтобы оберечь его, а в понедельник, в 5.30 утра, по сумрачной предрассветной прохладе отвозила его в аэропорт. Она сидела в машине и смотрела, как взлетает самолет, каждый раз в полной уверенности, что больше никогда не увидит его. Что, в конце концов, ее жизнь с ним была просто счастливой случайностью, небрежной ошибкой судьбы, которая, несомненно, будет исправлена. Никогда прежде не склонная к набожности, она трижды крестилась и молилась о его возвращении.
Тед освоился и привык к гостиничным номерам в Буффало, Питтсбурге, Кливленде. Первым делом каждый раз он вытаскивал записку Энн и клал возле кровати, во всяком случае, сначала, когда в их жизни еще царила новизна. Позднее, когда поездки стали всего лишь еще одной повседневной обязанностью, он часто забывал до вторника, среды и даже четверга поискать ее записку или, найдя, вскрыть конверт. Они были всегда одинаковы: «С каждым днем я люблю тебя все больше», но он лишь весьма смутно догадывался, что это точное повторение укладывалось в систему ее главных суеверий, а не свидетельствовало просто о недостатке воображения. Он упорно работал, начал читать русских писателей, хорошо спал, пресытился гостиничной едой.
Энн никогда раньше не оставалась одна, всегда кто-то был рядом, и теперь она беспокойно бродила по опустевшему дому, где словно скапливалось лишнее время, лишнее пространство, несмотря на ее отчаянные усилия постоянно быть при деле, он неумолимо наполнялся страхами и наваждениями, которые ее семейная жизнь с Тедом держала в узде. Она стала бояться ложиться спать в одиночестве, бояться наступления ночи, снов и испарины, выступавшей на затылке, когда она вдруг в ужасе просыпалась посреди кромешной темноты. Дэвид Лоуэншон манил ее к себе: иди, иди. И Эстелла, всегда Эстелла.
Днем она читала о разных формах душевных расстройств под тем предлогом, что это имеет отношение к ее работе. Но на самом деле она хотела, всегда хотела узнать, может ли это передаваться по наследству: ангелы Эстеллы, ее приступы мрачного настроения. Она гадала, посещают ли Сэнди подобные страхи. Хотя ей не раз хотелось спросить, она не решалась, опасаясь, что отрицательный ответ мог бы лишь подчеркнуть ее собственную предрасположенность к болезни.
Только когда Тед был рядом с ней, она забывала обо всем.
Однажды в пятницу, перед возвращением Теда, Энн весь день готовила цыпленка и торт с ромовым кремом. Каждую неделю она готовила по новому рецепту, всегда что-нибудь сдобное и сытное, ставила на стол свечи и португальские тарелки с петухами, которые Сэнди подарила им на свадьбу. Она начала названивать в аэропорт за час до положенного прибытия рейса и все время следила за погодой – недавно она узнала о существовании погодных фронтов.
Тед приехал из аэропорта в сопровождении нового сотрудника, которому компания поручила с ним работать. Дэвид Хопсон, черноволосый, в очках, в рыжевато-коричневом пиджаке-гольф, выскочил из остановившейся перед домом машины, и прежде чем Тед успел остановить его, обежал вокруг, чтобы открыть ему дверцу.
– Видела? – с отвращением спросил Тед у Энн, стоя у входа с чемоданом у ног.
Энн неуверенно кивнула.
– Он этим занимался всю неделю. Мне приходилось по три раза в день есть за одним столом с этим ничтожеством. «Куда ВЫ хотите пойти? Какое блюдо ВЫ хотите заказать?» Противно видеть, как взрослый человек так пресмыкается. А потом следит, не пью ли я кофе на пять минут дольше, чем следует.
Энн втянула носом сухой металлический запах самолета, когда поцеловала Теда чуть ниже уха, куда она как раз могла дотянуться, если он не склонялся к ней.
– Ужин почти готов, – сказала она, улыбаясь, впуская его в дом.
Тед рассеянно кивнул.
– Он целыми днями путается у меня под ногами и ищет в моих словах скрытый смысл. Никогда в жизни не встречал такого слабонервного типа. Этот парень каждого официанта в каждой забегаловке величает «сэром». Вполне серьезно. Но попробуй отвернуться от него, и заработаешь неприятности. Его так волнует, что подумают в конторе, у него просто поджилки все трясутся. – Тед мерил шагами гостиную, каждый раз так решительно подходя вплотную к стене, словно прошел бы сквозь нее, если бы смог. В последнее время бывало, что его беспокойная активность, казалось, натыкается на видимые лишь ему ограничения, и сочувственное, но непонимающее выражение на лице Энн лишь подстегивало ускорить шаг. Они начали заговаривать о переезде, хотя для этого не было убедительных причин.
Энн принесла ужин и поставила перед ним с некоторой долей гордости, но беспокойство не покидало его, принявшись за еду, он тревожно постукивал ногой по полу, отрезал, жевал, проглатывал молча, а она смотрела. Она нехотя начала есть сама, ожидая, как она все еще надеялась, что он неминуемо заговорит по-домашнему, на их языке. Но молчание лишь сгущалось.
– Что-нибудь случилось? – наконец спросила она.
– Нет. С чего ты взяла?
– Ты ничего не сказал.
– А что я должен говорить?
– Не знаю, – призналась Энн. Она возила по тарелке кусок цыпленка в бледном соусе. – Я тебе рассказывала о новом пациенте, который к нам поступил на этой неделе? – спросила она, оживляясь. – Мы зовем его малюткой, потому что он так молодо выглядит. Ну вот, недавно он поступил в реанимацию и… – она запнулась и оборвала сама себя. – Тебя на самом деле ничего не беспокоит?
– Черт побери, Энн, я же сказал, все в порядке. Ясно?
Она сникла, и, видя это, видя обиду на ее лице, он сердито отодвинулся от стола.
– Мне приходится целую неделю вести светские разговоры. Меньше всего я хочу приезжать домой, чтобы и здесь быть вынужденным вести такие же разговоры. – Ее неестественная праздничность, невысказанные вопросы, постоянно возникавшие в ее глазах. – У тебя все хорошо? У нас все хорошо? – Он задыхался от них. – Почему ты всегда заставляешь меня почувствовать, что я не оправдываю твоих ожиданий?
– Я этого не говорила.
– Ты никогда не говоришь этого. Господи, иногда мне хочется, чтобы ты сказала.
У нее задрожала нижняя губа. Он был бессилен перед этой страстной надеждой, открытой и жаждущей, уповающей только на него. Он вдруг вскочил, развернулся и, прежде чем выскочить из комнаты, шарахнул кулаком по бумажному гофрированному абажуру лампы на медной подставке возле стола.
Потрясенная Энн сидела в одиночестве за столом, наблюдая, как кусочки абажура один за другим отваливались и падали на пол. Она так и сидела, совершенно неподвижно, когда Тед вернулся и остановился на пороге, глядя на нее.
– Извини, – хрипло сказал он, проводя руками по волосам. – Неделя выдалась неудачная.
Она кивнула.
Он сел за стол и принялся за остывшего цыпленка.
Вымыв вместе посуду, они закрепили абажур серой изолентой, но в дождливое время лента всегда отклеивалась и абажур падал на пол.
Закончив университет в Бингеме, Сэнди на лето вернулась в Хардисон. Она собиралась разослать свои документы, собрать вещи и как можно скорее уехать.
– Ни за что на свете я не останусь здесь, – заявила она Энн.
По утрам она приходила посидеть на кухне у Энн, ее маленькие сильные руки и ноги, покрытые загаром, виднелись из-под завернутых рукавов рубашки и обрезанных джинсов.
– Я уеду куда-нибудь в такое место, где никто понятия не имеет о нашей семье. Куда-нибудь, где никто не сможет напомнить мне, кем я была. Почему вы с Тедом не уедете отсюда?
– Ну, начнем с того, что мы здесь работаем.
– Вы везде можете найти работу. Это Тед хочет остаться или только ты?
– Мы просто живем здесь, Сэнди. Мы никогда по-настоящему не обсуждали почему.
– А что вы обсуждаете?
Энн отложила почту, которую рассеянно просматривала. Она знала, что Сэнди приходит по утрам отчасти и для того, чтобы собрать дополнительные сведения о браке. Единственным известным ей примером были Джонатан и Эстелла, и как все, связанное с ними, это было ненадежно, недостоверно. Но Энн, вступив в третий год семейной жизни, сама только начинала разбираться в ней и могла предложить ей лишь туманную смесь сомнений и желаний. Если бы она была уверена, что Сэнди поймет ее правильно, она бы рассказала ей, как удивлялась, обнаружив, что любовь – вовсе не постоянная величина, как казалось, глядя на Джонатана и Эстеллу, что у нее бывают приливы и отливы, что иногда она надолго исчезает только затем, чтобы снова возникнуть от самого незначительного толчка – от того, как джинсы облегают сзади его ноги, от пряди волос у него на лбу.
Энн коротко рассмеялась и пожала плечами.
– Иногда мне кажется, что, если бы со мной что-нибудь случилось, Тед погрустил бы денек-другой, а потом просто стал бы жить, как и жил, понимаешь? Это никак не отразилось бы на нем всерьез.
– Что тебя наводит на такие мысли?
– Не знаю. Ничего. Просто мы все еще, – она опустила глаза, потом медленно подняла, – не слились в одно целое. Так или иначе, я этого не ожидала.
Сэнди кивнула.
Июль потихоньку перетекал в август, Сэнди все меньше и меньше говорила о документах и других городах, хотя, когда она только начала работать репортером в «Кроникл» – сразу после Дня труда, – то подчеркивала, что это лишь временно, пока она не подыщет что-то другое, получше, подальше отсюда. «Пригодится для моего резюме», – подытоживала она. Она реже приходила к Энн на кухню, потому ли, что нашла то, что искала, или потому, что отчаялась найти, Энн не знала.
Как-то осенью Сэнди переехала из дома Джонатана и Эстеллы в студию, которую она сняла в городе, над винным магазином Райли. Энн знала, что она навещает Джонатана и Эстеллу, забегает к ним в свободные минуты по пути на какое-нибудь задание, но разговора о каком-нибудь мероприятии вроде семейного ужина никогда не заходило. Даже Энн понимала, что это невозможно.
И расспросы о замужестве Энн, о Теде тоже стихли за повседневными заботами, превратились в очередную примету лета, как воскресные поездки на озеро Хоупвелл или запах угля на улице, что исчезает вместе с жарой.
Вылезая из постели, Энн потянула за собой купальный халат и просунула руки в рукава. В спальне царил глубокий полумрак, сквозь шторы проникал только свет от фонаря на углу улицы.
– Почему ты всегда так делаешь?
– Что делаю?
– Надеваешь халат, как только встаешь. Почему ты боишься оказаться передо мной голой?
– Я не боюсь. Здесь прохладно.
Он засмеялся.
– Ты такая зажатая, – сказал он и, улыбаясь, откинулся на подушку.
Она обернулась, снова подошла к постели, присела на краю и смотрела на улыбку, игравшую на его губах.
– Я не зажатая.
– А вот и да.
– Что ты хочешь, чтобы я сделала такого, чего не делаю?
– Мне хочется, – сказал он, внезапно посерьезнев, помрачнев, – чтобы для разнообразия ты сказала мне, чего тебе хочется.
Ее босые ноги теребили бахрому тканого коврика.
– Ты имеешь в виду в сексе?
– Да, в сексе.
– Но меня устраивает наша жизнь.
– Ох, перестань, Энн, должно же тебе хотеться хоть чего-нибудь.
Она не сомневалась, что он прав, но не могла сию секунду сообразить, что бы это могло быть.
– Чего бы хотел ты? – спросила она, хотя на самом деле она не хотела знать этого, не хотела слышать, что ему хочется чего-то еще, кроме того, что у них уже было.
Причудливые сочетания света и тени падали на его лицо.
– Я хотел бы, чтобы мы могли мастурбировать друг перед другом.
Она нахмурилась.
– Но когда ты так делаешь, – а он пытался, – я чувствую, что не умею этого, что делаю не так. Почему ты просто не покажешь мне, чего ты хочешь, как ты хочешь, чтобы я ласкала тебя?
– Дело не в этом. Я бы хотел, чтобы ты тоже ласкала себя передо мной.
– Но мне приятнее, когда это делаешь ты, – сказала она.
– Тебе не кажется, что если бы мы смогли мастурбировать друг перед другом, это было бы высшим доверием, высшей степенью близости? – Он протянул руку и положил ей на колено; она вздрогнула.
– Нет, – тихо сказала она, отводя ногу и почесывая ее, как будто там зудело, как будто именно поэтому она отодвинула ее. – Мне так не кажется. – Она повернулась к нему, ее глаза заблестели, взгляд стал тверже. – Тебе нужна интимная близость, а как же все остальное время?
Он вспыхнул.
– Ты думаешь, что можешь залезть мне в душу, но это невозможно. Есть то, что всегда принадлежало только мне и всегда будет. Только так я смог бы выжить.
На следующее утро он подошел к ней сзади, когда она готовила кофе, поцеловал в шею и прошептал:
– После того разговора я люблю тебя еще больше. У нас впереди еще куча времени. Вся жизнь.
3
Сэнди стояла на кладбище на Бэронз-хилл в северной части Хардисона, где были похоронены ее родители, и смотрела, как дубовый гроб Энн опускали в землю. Одной рукой она обнимала за плечи Джулию, другой – Эйли. Позади нее, вытянув руки по швам, ее друг, Джон Норвуд, наблюдал, как прямые лучи осеннего солнца падают им на макушки, белокурые и золотисто-каштановые. Открытую могилу окружали несколько венков от больницы и Ассоциации родителей и учителей. Три медсестры, работавшие вместе с Энн на четвертом этаже в больнице Хардисона, молча жались друг к другу; два представителя администрации, доктор Нил Фредриксон в темно-синем костюме в тонкую полоску и несколько родителей одноклассников Эйли тоже молча присутствовали здесь. Все старались держаться на расстоянии друг от друга, от семьи, напуганные ружейным выстрелом, который даже сейчас словно слышался в заключительных словах «Отче наш». Сэнди, держась очень прямо, с непроницаемым лицом, находила слабое утешение в этой демонстрации чувства собственного достоинства; это все, что ей осталось. Только один человек двигался – в нескольких шагах от них молодой мужчина, поставив ногу на надгробие, непрерывно записывал что-то в маленький блокнот.
Прислонившись к открытой входной двери, Сэнди прощалась с последними гостями, которых чувствовала себя обязанной пригласить после похорон к себе домой. По большей части незнакомые друг с другом, незнакомые с Сэнди, они стояли в ее беспорядочно обставленной гостиной в молчаливой растерянности, не зная, как себя вести в такой особой печальной ситуации. Они с жалостью поглядывали на Джулию и Эйли, облаченных в накрахмаленные цветастые платья, и пытались в приличествующих словах выразить Сэнди, как разделяют ее горе, но говорили мало. Сэнди знала, что разговоры начнутся позже: событие обсудят дома за обеденными столами, сообщат по телефону родственникам, посудачат в очередях супермаркета, разберут его со всех сторон, смакуя каждую мелочь, каждую версию, и неминуемое возбуждение будет возрастать от того, что они лично знали действующих лиц, что сами причастны к этому.
– Спасибо, что пришли, – сказала Сэнди медсестре, дежурившей с Энн за два дня до убийства. Именно так она относилась к этому, и если кто-то неосмотрительно произносил «несчастный случай», она быстро и резко поправляла.
– Если вам что-то потребуется, хоть что-нибудь…
– Благодарю вас.
– Девочки остаются с вами?
– Да.
– Как этот человек мог? Как подумаю об этом, так и хочется…
– Да, я понимаю. Спасибо. До свидания.
Она закрыла дверь. Остатки еды и выпивки были разбросаны по всей комнате. Джулия, Эйли и Джон стояли за обтянутым холстиной диваном и смотрели на нее, ожидая, что она скажет, как им себя вести и что делать дальше. Ничего не дождавшись, они начали беспокойно одергивать непривычную одежду и переминаться с ноги на ногу.
– Я рад, что все закончилось, – с надеждой сказал Джон.
– Да? Я думала, что почувствую какое-то облегчение, а ничего не меняется, – ее голос, всегда такой оживленный, звучал невыразительно. Она повернулась к Джулии и Эйли. – Что же вы не скинете эти наряды, переоденьтесь в джинсы.
Она смотрела, как они послушно побрели по лестнице наверх, дожидаясь, пока они скроются из виду, и тогда рухнула на диван. Джон опустился рядом, сильное, мускулистое тело казалось неуклюжим в его лучшем костюме.
– Все нормально?
– Великолепно. Тону в этом проклятом кошмаре и чувствую себя прекрасно, большое спасибо. – Она заплакала, первый раз за этот день, и с трудом подавила рыдания, стремясь сдержаться, взять себя в руки. – Мне все кажется, что Энн войдет в дверь и заберет детей домой. Не могу поверить, что больше никогда не увижу ее.
– Я понимаю.
– Я не знаю, что им сказать. Я не знаю, что делать.
– Ты все делаешь прекрасно.
– Правда?
– Да.
– Тогда почему чувствую себя так, будто во сне бреду сквозь ад?
Наверху, в спальне для гостей, где Джулия и Эйли жили вместе и спали на раскладном диване, они копались на полу в большом чемодане, который три дня назад собрала для них Сэнди, в спешке и растерянности выхватывая из каждого ящика то, что лежало сверху, пока не набила чемодан, поэтому теперь у них было слишком много рубашек и слишком мало брюк, куча носков, но не хватало трусов. Девочки сняли платья и начали стягивать колготки.
– Где папа? – тихо спросила Эйли, когда Джулия помогала ей вытаскивать туфли из сваленной на пол кучи. Она робко потупилась: «папа» было одним из тех слов, которые употреблять не полагалось, хотя точно непонятно почему; у взрослых оно неизменно вызывало смятение и молчание.
– Ты знаешь, где он. В тюрьме?
– Да.
Обе они выбрали и надели полосатые свитера с воротником «хомут», потом аккуратно сложили свои платья и колготки и положили обратно в чемодан – словно хорошие гости, неизменно аккуратные, вежливые, осмотрительные.
– Ты это видела, да? – спросила Джулия.
– Что?
– Видела, как он застрелил маму.
– Я была на кухне. Ты же знаешь, что я была на кухне.
– Нет. Ты вышла. Ты видела. Просто не помнишь, вот и все.
Эйли, смутившись под свирепым взглядом Джулии, помотала головой.
– Я не знаю.
– Он убийца. Скажи это.
У Эйли задрожала нижняя губа.
– Ну давай. Скажи.
Но она не могла.
– Ты дура, что любишь его, – презрительно бросила Джулия, отворачиваясь. – Думаешь, я не слышала, как ты говорила ему тогда ночью, а я слышала. Я все слышу. – Она подошла к зеркалу над туалетным столиком и оглядела собственное отражение. Безупречная форма короткой стрижки удовлетворила ее, она поправила выбившуюся прядь, чтобы придать ей еще большую безупречность.
– Пошли, – сказала она, внезапно оборачиваясь к Эйли. – Пойдем на улицу.
Услышав, что Джулия и Эйли спускаются вниз, Сэнди встала им навстречу, все еще надеясь подобрать слово, жест, чтобы спрятать тот бесформенный ужас, о котором они еще до сих пор не говорили, который никак не именовали. Однако каждый раз прикосновение напоминало ей, что она на самом деле не обладает привилегией родителей – ласка, легкое, мимолетное проявление нежности, которое воспринимается как должное. Каждое прикосновение, наоборот, становилось нарочитым, неестественным и потому слишком заметным. Она слегка придержала Эйли за плечи, потом поправила ей воротник.
– Все в порядке, детка?
– Мы здесь останемся надолго?
– Вы теперь будете здесь жить. Со мной. Со своей старой взбалмошной теткой.
– Навсегда?
– Не знаю.
– Я хочу домой, – просто сказала Эйли.
Пальцы Сэнди невольно стиснули ее плечи.
– Вот что я вам скажу. Завтра мы первым делом пойдем гулять и купим что-нибудь для вашей комнаты. Что вы хотите, постеры с красотками в купальных костюмах? Игрушечных зверей с зеленым мехом? Что угодно. А потом зайдем домой и заберем ваши игрушки и книги, договорились? А я закажу для вас две кровати.
Эйли смотрела на нее, не отрываясь, ожидая чего-то еще, ожидая чего-то совершенно другого.
– Послушай, Эйли, – сказала Джулия. – Пойдем гулять. – Она покровительственно обняла Эйли и подтолкнула к выходу.
– Наденьте куртки, – сказала им вслед Сэнди. – Становится холодно. И не играйте на улице.
– Наденьте куртки? Не играйте на улице? – Она снова села рядом с Джоном. – Откуда только все это берется? Так говорят матери? Я не знаю, что говорить. Как мне хочется, чтобы кто-нибудь научил меня.
– Тс-с-с, иди сюда. – Он притянул ее голову к себе на плечо.
– Что я знаю о детях? – спросила Сэнди.
– Ты всегда великолепно ладила с Джулией и Эйли.
– Но теперь я должна знать, как с ними обращаться.
– По-моему, в туалет они уже умеют ходить самостоятельно.
– Я серьезно. Джон, я беспокоюсь за Джулию. Недавно услышала, как она плачет в своей комнате, но, когда я зашла посмотреть, как она, она притворилась, что читает. Она такая… Даже не знаю, как сказать. Такой стоик: непробиваемое молчание, в которое она замкнулась, нося его с собой везде, всегда, стеклянный колпак недоверчивого, настороженного молчания, искажавший расстояние между нею и всеми остальными. Она наблюдает за мной.
– Несчастье действует на людей по-разному.
– Наверное.
– Сэнди, ты сделаешь все, что нужно. Ты научишься всему что нужно.
Она кивнула, ничуть не убежденная.
– Я звонила в школу договориться о дополнительных консультациях у психолога для девочек. Может, от этого будет толк. – Она сменила позу. – Я хочу убедиться, что этот ублюдок заплатит за это, – пробормотала она.
– Тебе не приходило в голову, что Тед, возможно, говорит правду?
– Тед не сумел бы сказать правду, даже если бы от этого зависела его жизнь. Особенно если бы она от этого зависела.
– Я знаю, что ты всегда была настроена к нему враждебно, он и мне самому не слишком нравится. Но мы до сих пор не знаем точно, что же произошло.
– Не могу поверить, что ты защищаешь передо мной этого человека. Он убил мою сестру, побойся Бога.
– Сэнди, ты журналистка. Уж тебе-то следовало бы воздержаться от поспешных выводов. Ты должна знать, насколько важны факты.
– Да, и это факт, моя сестра мертва. И это сделал Тед Уоринг. Спроси Джулию, она тебе скажет.
– Джулии тринадцать лет.
– А представление о жизни, как у взрослой. Ты что, хочешь сказать, что можно позволить мужчинам ходить и стрелять в своих бывших жен?
– Тпру, осади. Конечно, я не думаю, что для мужчин допустимо стрелять в бывших жен. Боже правый. Я всего лишь говорю, что у нас еще нет фактов. Будет суд. Ты же сама знаешь, Сэнди.
Она мрачно кивнула.
– Полиция удовлетворена показаниями Эйли. В конце концов, она не видела, что случилось. Но они хотят завтра утром снова поговорить с Джулией, – добавил Джон.
– Знаю. Я отведу ее туда днем. Сначала я хочу как следует устроить их. Когда смотрю на них, когда Эйли говорит, что хочет домой…
Джон ничего не сказал.
Они оба какое-то время молчали.
– Знаешь, – тихо сказала Сэнди, – мне всегда казалось, что я должна защищать Энн. Даже когда мы были помладше. Она всегда была такой… такой ужасно мягкой, понимаешь? Доверчивой. Я всегда была жестче.
– Сэнди, ну что ты бы могла сделать? Ты здесь ни при чем.
Но она знала, что это неправда.
На следующее утро Сэнди поднялась рано и, плотно запахнув халат, чтобы уберечься от холода позднего октября, открыла дверь забрать газету. Верхний правый угол на первой полосе «Кроникл» занимала фотография Энн, Теда и девочек под шапкой «Трагическая случайность или убийство?». Задохнувшись, она привалилась к стене.
Ее всегда остро интересовало то одно-единственное событие, которое способно превратить человека, семью вот в это. Достояние общественности. Новость. Один неверный шаг – и ты прикован, словно Прометей на Кавказе, обречен на то, что каждый день тебя потрошат заново. Соседи, друзья всегда возражали против таких газетных снимков: «Они были совершенно нормальной семьей», но она не сомневалась, что, если сможет копнуть поглубже (а часто именно она и была тем человеком, кто задавал вопросы, брал на заметку), непременно обнаружится какой-нибудь знак, симптом, на который в свое время не обратили внимания, заметили, но отбросили как маловажный.
Ее семья, конечно, никогда нормальной не была, и она всегда боялась, что их частная жизнь, их неприкосновенность и недоступность защищены всего лишь тоненькой пленкой, которая натягивается, трепещет и держится с трудом. В глубине души Сэнди всю жизнь ожидала, что эта пленка порвется. В каком-то смысле сейчас, прислонившись к стене с газетой в руках, она почти испытывала облегчение, словно ипохондрик, у которого обнаружили рак. Ага. Ну вот оно. Значит, вот какую форму это должно принять. Однако она никогда не предполагала, что из всех из них расплачиваться придется именно Энн. Она услышала, как зашевелились Джулия и Эйли, и быстро спрятала газету под подушкой на кресле, прежде чем они сошли вниз.
– Доброе утро. – Сэнди удивилась тому, что они уже оделись, обулись, тщательно причесались, словно ожидали, что их в мгновение ока куда-то повезут.
– Доброе утро, – ответили они.
Они пошли вслед за ней на кухню, все еще уставленную шаткими стопками грязной посуды из-под еды, которую два последних дня приносили им соседи.
– Почему, когда кто-то умирает, все вечно тащат кастрюльки? – пробормотала Сэнди. – Стоит мне увидеть кастрюльку, и я тут же чувствую запах формальдегида. – Она открыла дверцу холодильника. – Ну-ка, посмотрим. Две порции диетических блюд. Немного йогурта. Какие-то продукты, которые иначе как научными экспериментами по разведению плесени не назовешь.
– А кукурузных хлопьев у тебя нет? – спросила Джулия.
Сэнди сообразила, что в прошедшие два дня спала по утрам дольше, чем они, и понятия не имела, что они готовили на завтрак. Что еще хуже, ей даже не пришло в голову спросить. Вот еще доказательство, что на это она совершенно не годится.
– Хлопьев? Послушайте, ребятишки, я одинокая нервная женщина, поняли? О таких пресыщенные редакторы любят писать уничижительные статьи. Я считаю, что кофе – это одно из четырех основных групп продуктов питания.
– Продуктовой пирамиды, – сказала Джулия.
– Что?
– Это называется продуктовая пирамида. Группы продуктов расширили до пирамиды.
Сэнди вздохнула.
– Почему бы нам не пойти завтракать в торговый центр? Как насчет сосисок в тесте и кока-колы?
Девочки опасливо закивали, и не успели они кивнуть, Сэнди уже помчалась одеваться, чтобы не смотреть в их пытливые, ожидающие лица.
Они сидели за оранжевым пластиковым столиком, шатавшимся на черных металлических ножках, в открытом кафе на дальнем конце нового городского торгового центра Хардисона, ели огромные бутерброды, а рядом с ними пожилая женщина с сеточкой в волосах опорожняла мусорный бак. Ни одна из них раньше не бывала в центре по будням в это время – ни в прошлом году, когда он только открылся и привлеченные новизной семьи шли сюда с утра до вечера, чтобы получить портреты своих детей, исполненные в неопределенных, бледных тонах под большим куполом торгового центра; ни в каникулы, когда Энн отклоняла горячие просьбы девочек, потому что ее саму тошнило от света и смешения запахов, ароматов сладостей, кебабов, и ей дважды приходилось бегать в туалет, где ее рвало. Им была непривычна пустота, безработные, бесцельно бредущие мимо открытых дверей магазинов, женщины со списками в руках, которые целеустремленно сновали кругом, и, пристраиваясь на пустых прилавках, вычеркивали из своих списков рубашки, нижнее белье, сделав покупки, и другие, пришедшие сюда только из стремления отвлечься от своих домашних дел. За соседним столиком сидели две молодые женщины в джинсах и стеганых атласных куртках, между ними стояла легкая коляска со спящим ребенком – девочкой, ее пухлое тельце было обвязано розовыми лентами со всех сторон, ножки свернуты по-улиточьи. Женщины склонились над пластмассовыми чашками с кофе и по очереди поглядывали на Сэнди, Джулию и Эйли.
– Говорю тебе, это те девочки с фото. Ты разве газету не видела? Томми учится в школе с младшей.
– Он это сделал прямо на глазах у детей, вот что меня потрясает. Прямо у них на глазах.
– Моя свекровь говорит, эта семья всегда была немного, понимаешь, того. Ее семья, я имею в виду, жены. Два сапога пара, вот что я скажу.
– Рик знаком с одним человеком, который работал с ним, говорит, у него всегда был тяжелый характер, он с остальными и знаться не хотел. Считал, что он лучше их. Ну вот и допрыгался.
Джулия перестала есть. Она осторожно отложила свой бутерброд на картонную тарелку среди горчичных разводов и медленно встала. Прежде чем Сэнди толком сообразила, что происходит, Джулия подошла к женщинам, холодно посмотрела на них и спокойно и неторопливо взялась за ручку коляски. Она развернула ее, а потом решительно толкнула, и та покатилась между столиками, а ребенок испуганно гукал. Сэнди подбежала и поймала коляску как раз перед тем, как она чуть не врезалась в прилавок с йогуртом.
– Боже правый, – вскрикнула мать ребенка, выхватывая у Сэнди коляску, когда она подкатила ее обратно. – Она же могла убить ее! Ты что, спятила? – прошипела она в сторону Джулии, взяла своего младенца на руки, воркуя и лаская его, расправляя розовую ленточку.
– Извините, – сказала Сэнди.
– Вы все просто психи.
Сэнди вернулась к столику, где стояли Джулия и Эйли. Она схватила Джулию за руку.
– Как ты могла это сделать? – спросила она. Джулия молчала, хотя ее лицо залилось темным румянцем. Брови дрогнули, сдвинулись и снова разошлись. – Идем, – сказала Сэнди.
Они двинулись по центральному проходу, облицованному под керамику, мимо кованых скамеек, выкрашенных в белый цвет, и пластмассовых пальм, почти не обращая внимания на витрины. Когда они отошли от кафе подальше, их шаги замедлились, а у Сэнди постепенно восстановилось дыхание. Она глянула на Джулию в поисках еще каких-нибудь признаков волнения или раскаяния, но Джулия поспешила вперед быстрым шагом, чтобы скрыть, как у нее дрожат колени. Сэнди все-таки пыталась спасти положение, делая вид, что все идет, как обычно.
– Хотите зайти сюда? – спросила она перед витриной, увешанной плакатами с изображениями длинноволосых парней в коже и заклепках – явно звезд рок-н-ролла, имен которых она не знала.
– Не-а, – Эйли даже не взглянула.
– А сюда? – спросила она перед магазином подарков с большими белыми медведями и пушистыми кошками из белого нейлона, уютно устроившимися на витрине. Она вспомнила свою коллекцию мягких игрушек, шестифутовую змею, которой Эстелла боялась и передвигала ее только при помощи насадки от пылесоса. – Похоже, здесь может оказаться что-то интересное.
– Дерьмо.
– Дерьмо? Что, я совсем отстала от жизни? В тридцать пять лет уже никуда не гожусь? – В ее голосе звучала отчаянная бравада одинокой девушки на вечеринке, выпившей слишком много.
Они пошли дальше, понимая, что это провал, но, угодив в ловушку, запутавшись в ней, выбраться они не могли.
– Можно сейчас поехать домой? – спросила Эйли, когда они миновали еще четыре магазина.
– Ты совсем ничего не хочешь купить для своей комнаты?
– Нет.
– Джулия?
Джулия покачала головой.
– Ладно, хорошо. Я согласна. Дерьмо. Полное дерьмо. Наглядный пример американского материализма в самом мелочном проявлении. Поехали.
Они пробрались сквозь главный торговый зал фирмы «Сирз», заполненный объявлениями о распродаже микроволновых печей, оборудования для изготовления воздушной кукурузы и мороженого, и вышли на автостоянку. Стоило им очутиться на улице, как они отодвинулись друг от друга на несколько шагов, и каждая с облегчением ощущала, как их разделили волны холодного воздуха.
Джулия рассматривала Сэнди сзади, ее ноги, обтянутые черными леггинсами, спутанные завитки волос, приглядывалась к тому, как она шла, устремляясь вперед, как наклонилась, открывая дверь машины, и прежде чем сесть самой, закинула свою сумку, внимательно наблюдала за каждым движением, отыскивая тайну женской привлекательности, чтобы можно было ухватить ее, препарировать и пришпилить так же, как она поступала с насекомыми, что раньше очень расстраивало ее мать, чтобы потом изучить в тайниках своей бесстрастной души. Она залезла на заднее сиденье и уставилась на затылок Сэнди.
Когда они подъехали к Сикамор-стрит, Джулия выпрямилась, разглядывая через заляпанное окно знакомые дома, знакомые углы, места, где они обычно играли в прежней жизни, – беспорядочные подробности из полузабытого сна. Сэнди медленно проехала по короткой аллее к их дому и остановилась перед запертой дверью гаража. Девочки вылезли из машины и пошли за ней мимо кучек листьев, которые Энн сгребла на прошлой неделе, теперь осевших и рассыпавшихся.
– Извините, туда нельзя. – Подняв глаза, все трое обнаружили у входной двери полицейского – широко расставленные ноги, властный голос.
– Что вы хотите сказать, мне нельзя войти туда? Это дом моей сестры. Дом этих девочек.
– У меня приказ никого не впускать. Здесь, возможно, было совершено преступление.
– Я прекрасно знаю, что здесь совершено преступление, – ответила Сэнди. Полицейский был младше нее на добрых десять лет. Нос у него покраснел и хлюпал от того, что он целый день простоял на холоде. – Извините. Послушайте, нам просто нужно забрать их учебники и вещи. Мы ничего не тронем.
Полицейский с опаской посмотрел сначала на девочек, потом опять на Сэнди.
– Хорошо, мисс, вы можете войти. Но мне кажется, девочкам лучше будет подождать здесь.
Сэнди ободряюще кивнула Джулии и Эйли и вошла в дом.
Крошечные блики солнечного света проникали сквозь шторы и образовывали в холле тонкие геометрические узоры, словно осколки хрусталя. Она сделала глубокий вдох. Сглотнула. Ее цель – книги, учебники – предметы. Все просто. Она сделала шаг вперед. Остановилась. Наверное, именно так чувствуют себя воры, залезая в дом, когда хозяева уезжают в отпуск фотографироваться на каком-нибудь солнечном берегу, их беззащитное имущество остается заброшенным, дом в своем тоскливом одиночестве хранит слабые отзвуки пульса и дыхания и ждет.
Она прищурилась и снова двинулась вперед. Но, не успев дойти до лестницы, замерла, наткнувшись на контур тела Энн, жирно обведенный белым мелом, – раскинутые ноги, голова на нижней ступеньке, три темно-красных пятна на ковре, словно стигматы. Она задрожала и ухватилась за перила, чтобы не упасть, потом заставила себя обойти это место и подняться по лестнице, пока не почувствовала, что ноги достаточно окрепли, чтобы зайти сначала в комнату Эйли, затем – Джулии, в голове – пустота, холод, она хватала книги и отдельные листки, кидала их в сумку, которую принесла с собой, а на лбу у нее бисеринками выступал холодный пот и медленно стекал вниз.
Она нарочно не опускала взгляд, тщательно избегая смотреть на то, что ждало ее у подножья лестницы, когда сбегала вниз, и разок запнулась о собственную непослушную ногу. Вместо мелового контура ей на глаза попались желтые розы, которые принес Энн Нил Фредриксон, стоявшие на столике у стены, сухие, забытые лепестки опали, рассыпавшись вокруг.
Джулия видела, как полисмен повернул голову, приоткрыл дверь, не в силах устоять перед соблазном подсмотреть, стать свидетелем чужих страданий. Он подался еще чуть вперед.
Она шикнула на Эйли, знаком велела ей не двигаться и метнулась от машины за угол, наступив на прямоугольный участок затвердевшей земли, где летом пламенели четыре разных сорта лилий. Между шторами в окне была небольшая щель, и она привстала на цыпочки, прижимаясь лицом к холодному стеклу.
Ей были частично видны верхушка спинки дивана, закругленный угол стойки от перил и острый выступ мелового контура на полу. Он показался ей похожим на очертания западного побережья Африки.
Сэнди отъехала от дома, пока девочки разбирали сумку, которую она положила между ними на заднее сиденье, роясь в вещах из дома.
– Ты забыла мой учебник по истории, – решительно заявила Джулия.
– Извини.
– Что мне придется говорить мистеру Уилеру завтра, когда я приду в школу?
– Мне плевать на то, что ты скажешь мистеру Уилеру, – огрызнулась Сэнди. – Скажи ему, что его слопала кошка. Скажи, что его слопал компьютер. Скажи про любое существо, которое в наше время что-то ест, что это оно его слопало. – Затормозив на красный свет на перекрестке Сикамор-стрит и Хэггерти-роуд, она полуобернулась назад. – Извини. Завтра я вернусь и возьму его.
– Ладно, – коротко отозвалась Джулия.
Сэнди стискивала руль сильнее и сильнее, пока на руках не выступили побелевшие костяшки. Она молча уставилась на стоявшую впереди машину. На бампере была наклейка с надписью: «Измениться или умереть».
– Я стараюсь изо всех сил, – тихо сказала она сама себе, девочкам.
Джулия ничего не ответила, только стиснула кулаки так, что ее острые ногти глубоко впились в ладони, оставляя на коже следы в виде красных полумесяцев.
В тот же день, попозже, оставив Эйли у соседей, Сэнди и Джулия поехали в город и припарковали машину позади супермаркета «Гранд Юнион», в нескольких кварталах от полицейского участка. Они быстро прошли по Мейн-стрит, мимо сводчатого входа в старое каменное здание библиотеки, которую сто лет назад преподнесла городу семья Бейлоров (в Хардисоне до сих пор жили Бейлоры – сдержанные, приятные люди, которым Сэнди не доверяла из принципа), мимо магазина скобяных товаров с красной тачкой перед входом, мимо нескольких окон с объявлениями «Сдается», заклеенными номерами телефонов, жертвами торгового центра. Они не поднимали голов, уже поднаторев в бесполезном искусстве хранить анонимность.
– Зачем нам снова идти туда? Я уже рассказывала им, что случилось.
– Знаю, детка, но полиция должна работать тщательно. Они хотят еще раз все проверить.
После перебранки в машине они разговаривали друг с другом с подчеркнутой вежливостью, к которой часто прибегают для поддержания отношений, когда нет ни намека на подлинное раскаяние.
– Ясно.
– Я понимаю, это тяжело. Я бы все что угодно отдала, только чтобы тебе не пришлось проходить через это. Джулия?
– Да?
– Ты действительно уверена? Он сделал это намеренно?
– Да.
– Хорошо. Тебе нужно просто говорить правду. Я все время буду рядом.
Сэнди с усилием отворила массивную стеклянную дверь полицейского участка, где провела бесчисленные часы начинающим репортером, слушая хриплые голоса на связи, дожидаясь, когда что-нибудь произойдет, появится что-то позначительней пьяных водителей и мелких краж, которыми неизменно занималась полиция Хардисона. Ей была знакома атмосфера участка, холодный мрамор, вчерашний кофе, ожидание. Она отвела Джулию в заднюю комнату, где их дожидался сержант Джефферсон, которому это задание – лакомый кусок – досталось после довольно невежливой перепалки с напарником и двумя начальниками.
– Привет, Джулия.
– Привет.
– Спасибо, что снова пришла. Это не займет много времени. Мисс Ледер, если вы подождете, мы с Джулией пройдем в мой кабинет.
Сэнди ободряюще улыбнулась Джулии.
– Я буду вот здесь, чтобы тебе было меня видно.
Сержант Джефферсон провел Джулию в кабинет со стеклянными стенами и закрыл дверь.
– Хочешь кока-колы?
– Нет, спасибо. – Она присела на край коричневого стула с сиденьем из винила, разодранное и заклеенное изолентой.
– Как поживаешь, Джулия? Все в порядке?
– Да.
– Хорошо. Извини, что приходится снова заставлять тебя пройти через все это, но меня кое-что смущает, и я надеялся, что ты поможешь мне разобраться.
– Прекрасно. – Джулию сердила покровительственная нотка, которую она различила в его голосе.
– Хорошо. Итак, прошлый раз ты рассказала мне про то, как вы провели с отцом выходные. Вот что я хочу узнать, когда вы возвращались домой, не показалось ли тебе, что отец был как-то особенно зол или расстроен?
– Он был очень зол.
– Но он говорил вам что-нибудь насчет вашей мамы?
– Я не помню.
– А помнишь, из-за чего они поссорились, когда вы приехали домой?
– Она не хотела снова жить с ним. Он хотел, но она сказала нет.
– А что на это сказал он?
– Он сказал, что ей придется об этом пожалеть.
– Джулия, я хочу, чтобы ты хорошенько подумала. Как далеко от отца стояла ты? Вот так? – Он отступил шага на три. – Или так? – Он сделал шаг вперед.
– Примерно так.
– Значит, тебе и секунды хватило бы, чтобы броситься на отца. Должно быть, ты его напугала. Поэтому ружье и могло выстрелить. Это была бы не твоя вина. Никто не был бы виноват. Это произошло именно так, Джулия?
– Нет, – твердо ответила она. – Я вам говорила. Я бросилась на него после того, как ружье выстрелило. После. Я клянусь.
– Ты видела, как твой отец целился в твою маму?
– Да.
Сержант Джефферсон пристально смотрел на нее.
– Ты совершенно уверена? Ты видела, как твой отец умышленно целился в твою мать? – Он различал в ее прерывающемся голосе первые признаки подступающих слез и сделал пометку у себя в блокноте. Это было одно из тех обстоятельств, на которые им с недавних пор полагалось обращать внимание: настроение, поведение. Вместе с остальными полицейскими Хардисона Джефферсон присоединился к силам трех соседних округов, чтобы пройти семинар по психотерапии, вокруг которой политики подняли столько шуму, и после обеда они сидели в аудиториях, где люди, никогда не служившие в полиции, читали им лекции о ролевой игре и правах жертвы. И все-таки Джефферсон впервые расследовал убийство, и ему хотелось подстраховаться. – Ты уверена?
– Да. Он целился ей в голову.
Джефферсон обошел вокруг стола и присел возле Джулии.
– Извини. Я должен был спросить.
– Я попыталась остановить его, но было слишком поздно. Я вообще не хотела ехать на охоту. Я вовсе не хотела брать это дурацкое старое ружье. – Слезы наполнили ее глаза, но не пролились.
– Хорошо, Джулия. На сегодня все.
Она заморгала и кивнула.
Он отвел ее обратно туда, где дожидалась Сэнди.
– Что с ним будет? – спросила Джулия по дороге.
– С твоим отцом?
– Да.
– Не знаю. Это должен решить суд.
Сэнди шагнула им навстречу.
– Все в порядке?
– Да.
– Она просто молодчина, – сказал Джефферсон, похлопывая Джулию по плечу.
– Я знаю. Джулия, подождешь минутку? Мне надо переговорить с сержантом Джефферсоном.
Джулия смотрела, как взрослые отошли от нее на несколько шагов и встали так близко друг к другу, что ей ничего не было слышно, даже когда она потихоньку придвинулась к ним.
– Вы официальный опекун детей?
– Да.
– Вам не позавидуешь.
– Можно ли мне увидеться с мистером Уорингом?
– Я так понимаю, по личному делу, а не как представителю прессы?
– Да.
– Не вижу препятствий. Я предупрежу их, что вы придете.
Тед Уоринг сидел за деревянным столом в камере предварительного заключения, уставившись на единственную длинную трещину в стене цвета зеленого горошка, сквозь которую был виден еще один слой светло-зеленой краски, а под ним – еще один. Единственное, чего ему по-настоящему не хватало, был свет.
Здесь не было стеклянных перегородок, к которым жадно прижимают ладони посетители, разговаривая по телефону по обе стороны, дверей на фотоэлементах, которые бесшумно открываются и неизменно захлопываются. Он предполагал, что все это появится в другом месте, позднее. Если ему не повезет. Или если он сваляет дурака. Как бы то ни было, пока его никуда не переводили.
На его небритое, усталое лицо одна за другой накладывались тени, серые на сером, затуманивая глубоко посаженные глаза и ввалившиеся щеки. Охранник, стоявший позади него у стены, сложив руки на объемистом животе, видел, как Тед снова и снова проводил трясущимися пальцами по голове, по растрепанным густым темным волосам. Здесь у людей расшатывались нервы.
– Я хотела увидеться с тобой сама, – сказала Сэнди, – чтобы ты знал, что тебе просто так не отделаться.
– Я любил ее, Сэнди.
– Я не желаю это слушать.
– Как девочки?
– А ты как думаешь? Они подавлены.
– Приведешь их повидаться со мной? Пожалуйста.
– Ты рехнулся.
– Мне нужно поговорить с Джулией. Позволь мне увидеться с ней, – настаивал он.
– Надеешься, тебе удастся запугать ее, чтобы она солгала в твою пользу?
– Это был несчастный случай. Неужели ты не можешь понять этого? Неужели никто не может понять? За какое же чудовище ты меня принимаешь?!
– Не забывай, я тебя знаю.
– Это палка о двух концах, а? – выдохнул он раздраженно. – Слушай, мне плевать, что считаешь ты. Правда такова: Джулия набросилась на меня. Не знаю, о чем она думала, но она набросилась на меня. И ружье каким-то образом выстрелило. Должно быть, она сдвинула предохранитель, не знаю. Я знаю только, что все случилось именно так.
– Вранье.
– Дай мне поговорить с Джулией. Она испугана и смущена, вот и все.
Сэнди разглядывала его с недоверием.
– Почему ты так поступаешь со мной? – сердито спросил он.
– Я? Я никак не поступаю. Все это ты устроил сам. – Она наклонилась к нему. – Она была моей сестрой, Тед. Моей сестрой.
– Сэнди!
– Да?
– Передай девочкам, что я их люблю, ладно? Просто скажи, что я их люблю.
Она глянула на него безо всякого выражения, отвернулась и вышла.
– Не трудитесь вставать. К вам еще один посетитель, – сообщил ему охранник. – Вы какая-то знаменитость, да?
Вошел Гарри Фиск. Он был с портфелем из мягкой коричневой кожи, в костюме, который, как он надеялся, выглядел более дорогим, чем был на самом деле (он украдкой почитывал журналы мод для мужчин, разглядывал картинки, а потом прятал их среди бумаг, словно порнографию), со слегка распущенным галстуком – вскоре после окончания юридического факультета он решил, что такой стиль лучше всего демонстрировал, какой он трудолюбивый, деловой парень. Впервые он встретился с Тедом четыре дня назад, после того как Тед позвонил единственному знакомому адвокату, Стюарту Клейну, занимавшемуся его разводом. «Это мне не по силам, – сказал Клейн, – совершенно не по силам, Тед», и назвал ему имя Фиска и телефонный номер. Фиск, по общему мнению, подавал надежды. Было известно, что он занимался разными грязными делишками государственных чиновников в Олбани, донимавшими их женщинами, финансовыми махинациями, в которые они не хотели впутывать семейных адвокатов. Он был лучшим из так называемых ходатаев по темным делам, какого можно было заполучить в Хардисоне, штат Нью-Йорк. К счастью для Теда, Фиск счел, что это дело, которое будет вынесено на первые полосы газет, станет хорошей ступенькой в карьере. Их первая встреча свелась к простому обмену информацией, они присматривались друг к другу, пытаясь по шаткому карточному домику из фактов и теорий, выложенных на стол, разгадать, как играет другой.
Не успел Фиск войти, как Тед разразился громкой речью.
– Зачем мне было убивать ее? Вот о чем вы должны заставить их задуматься. Я хотел вернуть ее. Я любил ее. Я все еще ее любил. Черт, да мы всего за два дня до этого занимались любовью.
Фиск спокойно достал свой желтый блокнот, уселся и только тогда посмотрел на Теда.
– Вас кто-нибудь видел?
– Видел ли кто-нибудь, как мы занимались любовью? Вы что, ненормальный? – Тед выпрямил скрещенные ноги. – Нас видели в тот вечер вместе на школьном спектакле.
– Понятно.
– Эйли играла индейца.
Фиск, у которого детей не было, безучастно кивнул.
– Я говорил Джулии, – прибавил Тед.
– Вы говорили Джулии, что занимались любовью с Энн?
– Я говорил ей, что люблю Энн.
– Когда именно вы говорили Джулии об этом?
– Накануне вечером. Когда в воскресенье мы вернулись домой, мы собирались все вместе пойти поужинать. По-семейному. – Он опять уставился на трещину в стене, на слои светло-зеленой краски. – Не понимаю, что случилось. Просто все вышло не так.
– Прежде всего, как несомненно известно даже человеку, читающему газеты лишь время от времени, любовь, еще меньше – секс, едва ли являются убедительным доказательством защиты в деле об убийстве. Напротив, не знаю даже, что хуже. – Фиск невозмутимо разглядывал его. – В общем, все сводится к вашему свидетельству против свидетельства Джулии. И не стоит объяснять вам, кому поверит большинство присяжных, выбирая между чистым личиком ребенка, оставшегося без матери, и… вами. Многие судачат о вашей вспыльчивости. Ваши соседи просто умирают от желания поведать полиции, насколько часто вы с женой ссорились из-за этого.
– Если бы каждую семейную пару в Америке арестовывали за ссоры, в этой стране оказалось бы чертовски много пустых домов.
– Вы здесь находитесь не за ссору с женой, друг мой. Вы здесь сидите за убийство. Уровень алкоголя у вас в крови превышал 300 единиц. По всему ружью остались отпечатки ваших пальцев.
– Разумеется, мои отпечатки были на ружье повсюду. Я же держал его, когда оно выстрелило, бог мой. Но оно бы не выстрелило, если бы Джулия не прыгнула на меня.
– Нам придется смягчать впечатление от показаний Джулии. Как вы думаете, почему она лжет?
– Она во всем винит меня. В том, что мы разошлись. Во всем.
– Этого мне недостаточно, Тед. Вспомните что-нибудь реальное, существенное. Что-нибудь, на чем я могу сыграть. Были у нее какие-нибудь трудности? Что-то такое, что мы можем использовать?
Тед с неприязнью посмотрел на своего адвоката.
– Это же мой ребенок.
– Я знаю, что ваш. И еще я знаю, что вы сидите в тюрьме в ожидании приличного срока. А уж отбывать его вам не придется в этом уютном флигеле.
Тед еще минуту неотрывно глядел на него. Когда он наконец заговорил, его голос звучал холодно и резко.
– Она ходила к школьному психиатру. У нее был тяжелый год. Она смышленая, не поймите меня превратно, но много предметов завалила. Обычно такого не случалось. Что-то произошло, не знаю что. Она ссорится с другими детьми, не слушается учителей. Может быть, она немного не в себе? Как знать, возможно, это так.
– Хорошо, – улыбаясь, произнес Фиск. – Вот это действительно существенно.
– Только вытащите меня отсюда. Я ничего не могу предпринять, пока торчу здесь.
– Слушание об освобождении под залог назначено на завтра.
Тед провел рукой по волосам и кивнул.
Редакция «Кроникл» располагалась в приземистом бетонном здании с плоской крышей в двух милях от города, на Дирфилд-роуд. Сотрудники, многие из которых до сих пор негодовали по поводу шестилетней давности переезда из белого викторианского особняка в центре города, именовали его Бункером, и он действительно выглядел так, словно был предназначен, чтобы выдерживать природные и искусственные катаклизмы. Этот переезд был частью плана развития, когда независимая корпорация выкупила газету у семейства, владевшего ею на протяжении трех поколений. В то время жители из пригородов Олбани переезжали в глубь территории округа, реклама подскочила в цене, и прибыль, казалось, была обеспечена. Однако за последние несколько лет, после того как закрылось два завода и снизились цены на недвижимость, надежды несколько потускнели. Однако «Кроникл» оставалась основным источником информации для большей части округа, где, как и в других северных частях штата, окруженных горами, люди не были склонны доверять прессе, выходившей за его пределами.
Сэнди припарковала машину на стоянке позади Бункера и быстро прошла через главную приемную, где Элла за своей конторкой следила за ее приближением с предвкушением, какое способна возбуждать неожиданная известность, чем бы она ни вызывалась. Она облизнула губы и подалась вперед, ожидая, когда Сэнди, как обычно по утрам, поздоровается с ней, пусть мельком, чтобы ей можно было, хотя бы определенным движением бровей, показать ей, что она сочувствует, что она все понимает, и таким образом заявить права на крошечный кусочек истории лично для себя. Но Сэнди прошла мимо, не поднимая глаз, и Элла, оставшись наедине со своим невостребованным участием, ответила на телефонный звонок отрывистым «Слушаю» вместо обычного «Доброе утро».
Сэнди, сжимая сложенный номер газеты, проскочила основное редакционное помещение, где столы размещались параллельными рядами, а над ними безмолвно мерцал телевизор, настроенный на Си-эн-эн, и ворвалась в кабинет в конце дома. Не говоря ни слова, она швырнула газету на стол Рея Стинсона, сбив проволочную фигурку рыбака, бросающего леску.
– Будь добр, сообщи мне, чья это работа.
Прежде чем взглянуть на нее, ответственный секретарь поправил фигурку.
– Успокойся, Сэнди.
– С каких это пор мы превратились в «Нэшнл инкуайрер»?
Рей терпеливо смотрел на нее. Это был рыжеватый долговязый человек с немного косящими глазами за очками в черепаховой оправе, он разговаривал с запинкой, делая паузы перед словами, как заика, научившийся огромным усилием воли контролировать свою речь.
– Мне жаль твою сестру, но это крупное событие. Одно из самых крупных, какие знал наш округ, насколько я могу припомнить.
– Это не крупное событие. Крупное событие – это то, что влияет на жизнь людей. Изменение в попечительском совете школы. Законы об абортах. Отношение губернатора к смертному приговору. А это – обыкновенные сплетни.
– Разве не ты учила меня феминистскому принципу «Частное – вопрос политики»?
– Ты хоть на минуту задумался о девочках? – раздраженно продолжала Сэнди. – Задумался? Ты подумал о том, что им завтра идти в школу? Что им придется встречаться с друзьями? Ты подумал об этом, прежде чем ляпать все это на первую полосу?
Взяв статуэтку большим и указательным пальцами, он подвинул ее на миллиметр, так что она оказалась точь-в-точь на том месте, откуда Сэнди сбила ее.
– Это не мое дело.
Сэнди недоверчиво взглянула на него.
– Не твое дело? Потрясающе, просто потрясающе.
– И в твои обязанности журналиста это никогда не входило. – Он выдержал ее взгляд. Именно это полное отсутствие сентиментальности, насколько он мог заметить, и помогло ей стать таким ценным работником. Несмотря на то, что она выросла здесь, она никогда не обнаруживала обычных реакций на любые изменения в Хардисоне – структурные, политические, социальные, но, казалось, смотрела на каждое дополнение или изъятие, на каждую перемену одинаково ясным взором, что он находил одновременно и полезным и раздражающим. – Единственное, что мы можем сделать, – писать об этом честно, – добавил он.
– И это ты называешь «честно»? Что за брехня – «трагическая случайность»?
– Одно из возможных объяснений, вот и все. Уоринг имеет такое же право на справедливое разбирательство, как и всякий другой. А это подразумевает, что оно и в прессе должно быть справедливым, как и в зале суда.
– Ты собираешься и дальше поручить это Питеру Горрику?
– Да.
– Давно ли он закончил факультет журналистики, месяца три?
– Четыре.
– Он даже не местный.
– Точно.
– Сколько времени он провел на судебных слушаниях? А сколько расследований?
– Сэнди, я хочу, чтобы ты была от этого в стороне. Конфликт интересов. Между прочим, почему бы тебе не взять отпуск на пару недель. Ты заслуживаешь отдыха.
– Зачем? Мое присутствие здесь мешает тебе?
– Просто тебе сейчас туго приходится. Я слышал, ты взяла к себе детей. Назови это декретным отпуском, если угодно.
– Я всегда считала, что матери должны работать.
– Прекрасно. Тогда закончи серию статей о переработке отходов. Городской совет снова собирается в четверг. Сходи туда.
– Они собираются уже восемь месяцев, и до сих пор не могут договориться, в какого цвета ящики следует складывать пластик.
– Это твоя работа. Не нравится – уходи.
– Нравится, нравится, – Сэнди пошла к выходу. – Обожаю ее, доволен? Просто до смерти люблю.
На обратном пути она оставила дверь распахнутой, так как знала, что ему это будет неприятно, и снова прошла через отдел новостей, избегая встречаться глазами с коллегами, украдкой поглядывавшими на нее из-за столов. Наклонив вперед голову, она при самом выходе из комнаты с изумлением обнаружила, что его прочно загородил Питер Горрик. Чуть старше двадцати лет, в твидовом костюме из шотландской шерсти, с красивым и свежим лицом, он с первого дня в редакции напустил на себя этакий беззаботный и небрежный вид, лишь изредка его выдавало то, что когда он волновался или расстраивался, то быстро дотрагивался языком до щербинки на переднем зубе. Иногда, отвлекаясь от компьютера, Сэнди замечала, как он наблюдал за ней, сосредоточенно прищурившись, сложив перед собой руки с длинными тонкими пальцами, прикусив розовый влажный кончик языка.
– Сэнди? У тебя найдется минутка? Я подумал, может, мы сумеем пробежать кое-какой материал насчет, ну ты знаешь…
Она сердито глянула на него и, пробормотав «Я занята», ловко обошла его ноги, а шестеро остальных сотрудников, сидевших в комнате, отвели глаза.
Он сделал шаг вслед за ней.
– Это займет всего минуту.
Она обернулась к нему.
– Воображаешь себя важной шишкой, да? – спросила она.
– Что-что?
– А, черт, отхватил интересный материальчик, верно?
– Я просто взялся за то, что мне поручили.
– Подумать только.
– В чем дело, Сэнди? Не мог же Рей поручить это тебе.
– Да просто терпеть не могу лощеных мальчиков из «Лиги плюща», вроде тебя, которые приезжают сюда ради того, чтобы накропать несколько заметок, а расхлебывать все дерьмо достается кому-то другому. Гастролер, вот ты кто.
Хотя Горрик и был уязвлен, он сохранял внешнюю невозмутимость. На самом-то деле он не попал ни в один из колледжей «Лиги плюща», куда подавал заявление, и ему пришлось поступить в маленький бостонский колледж, который специализировался на «средствах коммуникации» и кишел актерами и теле-диск-жокеями. Четыре года он старался обособиться от них и мечтал о временах, когда он сможет догнать и превзойти тех, кому повезло больше.
– Я репортер, такой же, как ты, – ответил он.
– Ты ничего не знаешь обо мне, – сказала она и быстро вышла.
Горрик смотрел ей вслед с задумчивым видом, рассчитанным на окружающих. Только усевшись на свое место, он позволил себе расслабиться и сменить выражение лица. За те четыре месяца, что он состоял в штате «Кроникл», он пытался наладить отношения с Сэнди – расспрашивал ее об истории города, о его жителях, приносил ей кофе, хвалил ее работу, но она, хотя была с ним неизменно вежлива, решительно пресекала всякие попытки дальнейшего сближения. Ему оставалось внимательно изучать ее материалы, отмеченные острой наблюдательностью, которой он решил подражать.
Едва выйдя из редакции, Сэнди увидела Джона, который направлялся к ней через автостоянку.
– Что ты здесь делаешь? – спросила она, прежде чем он успел поцеловать ее.
– Умеешь же ты дать понять человеку, насколько он кстати.
– Извини. Видел сегодняшнюю газету?
– Да.
– И это все, что ты можешь сказать, да?
– Куда ты так летишь? – спросил он.
– За продуктами.
Он посмотрел на нее недоверчиво.
– За продуктами?
– Не могу же я вечно держать Джулию и Эйли только на йогурте и «сникерсах», – язвительно пояснила она.
– А где же девочки?
– Я завезла их в школу, там у них после уроков какое-то мероприятие. Я подумала, может, им так легче будет войти в колею.
Джон кивнул.
– Можем мы пойти куда-нибудь поговорить?
– О чем? – спросила она.
– Не здесь.
Сэнди пожала плечами.
– Поедем со мной в супермаркет.
– Хорошо. – Джон смотрел, как она садится в машину, потом поспешил к своей, припаркованной через несколько автомобилей.
Он ехал вслед за ее «хондой», мчавшейся со скоростью, на десяток миль выше положенной, к супермаркету «Гранд Юнион». Однажды, когда она затормозила перед светофором, он подъехал и встал рядом, услышал музыку, рвавшуюся из ее радиоприемника, но не смог поймать ее взгляда. Он спрашивал себя, когда придут слезы, скорбь, печаль; он думал, долго ли еще она сможет цепляться за вспышки гнева, который не давал проявляться горю. Даже их любовные объятия превратились в яростную, безрадостную схватку, стаккатто, отгонявшее призраки, которых он не мог разглядеть.
Они везли переполненную тележку по широким проходам между полками, залитым неоновым светом. Сэнди рассеянно брала упаковки и банки одну за другой и бросала в тележку на верх все увеличивающейся груды. Прежде они с Джоном ходили вместе за покупками только когда собирались устраивать совместный завтрак или ужин; это было романтическое приключение, игра, где каждая деталь наполнялась сокровенным смыслом, очарованием и соблазном, этими первыми признаками близости. Сейчас она схватила первые попавшиеся под руку коробки со сладкими хлопьями.
– Я думала, не сможешь ли ты в субботу взять Джулию и Эйли с собой в магазин, – сказала Сэнди, добавляя в тележку еще одну коробку. – Они могли бы помочь тебе на складе, убрать обувь или еще что-нибудь в этом роде.
Джон поставил три коробки хлопьев обратно на полку.
– Ты же знаешь, существуют законы об использовании детского труда.
– Ты мог бы назвать их неофициальными консультантами. Черт возьми, да они наверняка гораздо лучше тебя знают, что именно хотят купить дети.
– Ты уже все рассчитала, да? – Он быстро шел впереди нее.
– Просто подумала, что для них это было бы неплохо, вот и все. Некоторая последовательность. Кроме того, мне кажется, им это понравится. Просто потому, что от одной мысли о прогулке у меня мурашки бегут по коже.
Она нахмурилась, когда он обошел полку и на мгновение исчез из вида.
– Что-нибудь не так? – спросила она, догоняя его.
– Ничего.
– Ладно.
Он посмотрел на нее в упор и собрался было что-то сказать, но потом раздумал.
– Это же всего лишь идея, – заметила она. – Не понимаю, в чем проблема. Ты хотя бы поразмыслишь об этом?
Он отступил на шаг.
– Я думал, мы с тобой собирались в субботу съездить на тот аукцион в Хаггернвилле.
Одно из колес тележки развернулось боком, и Сэнди наклонилась поправить его, задержавшись в этом положении дольше, чем было необходимо. Она медленно выпрямилась и нарочно пошла впереди него, взяла пятифунтовый пакет риса и с шумом бухнула в тележку.
– Я не могу вот так взять и оставить девочек на весь день. – Она склонилась над полкой с замороженными овощами, разглядывая аккуратно уложенные, красочные коробки.
– Конечно, нет.
– Так о чем ты хотел поговорить со мной.
– Насчет Теда, – осторожно ответил он.
Она обернулась.
– И что же?
– Его выпустили под залог.
– Что? Как это могло случиться?
– Наверное, сочли, что риск здесь невелик.
– Ага, точно такой же, как если залезть в ванну с электроодеялом.
– Он всегда был хорошим отцом. Что бы ни случилось, вряд ли он сбежит и бросит детей.
– Да если он только попробует приблизиться к ним…
– Я заполнил документы о запрете на свидание. Тебе нужно только сходить в полицию и подписать их.
– Ты заполнил?
– Да.
Она внимательно смотрела на него; это было дурацкое, тревожное и незнакомое ощущение, когда есть кто-то, кто заботится о тебе, о твоих делах. Она покатила тележку в кондитерский отдел и взяла три упаковки печенья.
– По-моему, нам хватит, – сказал Джон, откладывая два пакета назад.
Четыре года назад в средней школе Хардисона образовалась группа для детей, родители которых работали, и им больше некуда было деваться. За последний год Эйли и Джулия изредка ходили туда, если Энн не могла перенести дежурство в больнице, но эти случайные посещения оставляли их в неведении относительно быстро менявшихся привязанностей и пристрастий в группе. Эйли с радостной готовностью, которую, как она до сих пор считала, вполне естественно разделят другие, немедленно затесалась в самую гущу детской толпы, и теперь было видно, как она стояла там, тревожно улыбаясь шуткам, которые не совсем понимала.
Джулия в одиночестве сидела на холодной металлической скамье в углу игровой площадки и читала путеводитель по Милану. Она брала их в библиотеке, все, какие там имелись, – путеводители по Восточной Европе, по Майами, Франции, Австралии, Сан-Франциско, и запоминала маршруты, рестораны, кварталы, историю. Само по себе путешествие туда-сюда ее не интересовало, если иметь в виду возвращение с кучей фотографий – путешествие как эпизод. Она искала ни больше ни меньше как новое местожительство, новый путь, в который она пустится, как только будет свободна. Она примерялась к каждому городу, к каждой стране, проверяя, насколько он бы подошел ей, представляя, на какой бы поселилась улице, какую бы нашла работу (всегда оценивая все с практической точки зрения, она тщательно изучала местную промышленность), как могла бы одеваться; она заучивала наизусть, как произносятся основные выражения. В данный момент она читала статью о полиграфии Милана, известном своими книгами, столь же богатыми и роскошными, как и искусство, которое они представляли. Она воображала, как ежедневно едет на работу на мопеде по извилистым мощеным улочкам в темных очках и с шифоновым шарфом.
Стоило ей почувствовать на себе взгляд одноклассников или услышать приближающиеся шаги, как она утыкалась лицом в книгу, шумно переворачивала страницу, и они поспешно отходили прочь. У Джулии и до недавних событий была репутация несколько опасного человека. В прошлом году она швырнула свою металлическую коробочку с картотекой прочитанных книг в голову учительнице, после чего с ней месяцами никто не разговаривал. С тех пор ее буйство проявлялось словесно, язвительными выпадами по поводу умственных способностей, причесок, характеров одноклассников, пока, в конце концов, все не начали обходить ее стороной. А ей только того и было надо. Но, держась от всех на расстоянии, она скрупулезно изучала популярность – кто ею пользуется, как ее приобретают и как поддерживают. Она видела все ее выгоды, и хотя для нее самой уже было поздно, именно этого ей хотелось для Эйли. Ее вечерние уроки часто сосредоточивались на том, с кем дружить, с кем рядом сидеть, как правильно закатывать джинсы, как смеяться. Джулия была уверена, что популярность можно разбить на отдельные элементы и преподавать Эйли, как алгебру. Она перешла к разделу архитектуры Милана и подчеркнула в нем абзац о Миланском соборе.
Эйли напряженно улыбалась, дожидаясь, чтобы ее взяли играть в мяч, но тут рядом с ней возникла Тереза Митчелл, откинув со лба белокурую челку и, фыркнув, сказала:
– Ну и что же твоя сестрица сделает нам, если мы не примем тебя, застрелит?
По мере того как ее слова доходили до Эйли, улыбка сползала с ее лица.
– Замолчи.
– А что, ружье все еще у вас дома? А что, твой отец стреляет в тебя, если ты не сделаешь домашнее задание?
– Брось, Тереза, – робко и неубедительно предостерег Тим Варонски.
– Спорим, тут сейчас летают привидения, – продолжала Тереза. – У-уууу, у-уууу. – Она неистово замахала руками над головой Эйли, а остальные дети неуверенно захихикали, понимая, что это нехорошо, но ведь они слышали разговоры родителей, старших братьев и сестер, и если и не знали точно, какое именно позорное пятно лежит на ней, тем не менее чувствовали, что оно есть.
Эйли кинулась на Терезу, схватила собранные в хвост волосы и дернула.
– Замолчи. Я же сказала, замолчи.
Джулия подняла голову и увидела, как толпа сомкнулась, головы склонились к центру, и среди них – голова Эйли, и она подбежала, хватаясь за чьи-то руки, отпихивая одного за другим, пока не пробралась к распростертой на земле сестре и не вытащила ее наружу. Остальные дети недовольно расступились, но они побаивались Джулию, их пугала ее выдержка, ее одиночество, ее причастность к действиям с ружьем. Джулия поволокла Эйли прочь.
– Идем, – нарочно громко заявила она, – пошли отсюда. Незачем тебе играть с этими идиотами.
Они вместе пошли с площадки, а Тереза Митчелл крикнула им вслед «Паф. Пиф-паф», и остальные засмеялись.
– Вот, – сказала Джулия по дороге, – посмотри. – Она передала Эйли путеводитель, раскрытый на странице с репродукцией «Тайной вечери» Леонардо. – Она находится в церкви Санта Мария делле Грацие. Написана пятьсот лет назад.
Она заглянула в книгу через плечо Эйли. Руки Иисуса ладонями вверх. Опущенные ресницы. Ученики, указующие и шепчущиеся по обеим сторонам от него. Она забрала у Эйли книгу и захлопнула ее. Джулия не очень верила в Бога, но имела определенные взгляды на добро и зло и разделяла всех, кого знала, в соответствии с этими представлениями.
– Я возьму тебя туда, – пообещала она, когда они завернули за угол и школа исчезла из вида. – Вот увидишь.
Они вчетвером сидели за круглым столом на кухне у Сэнди, настороженно прислушиваясь к звукам, которые производил каждый, глотая, жуя, прихлебывая – непривычным, вызывающим неловкость. Для них пока еще не существовало семейного языка, беспорядочного нагромождения слов и жестов, которые сталкиваются и накладываются друг на друга, языка, на который не обращают внимания, пока он не исчезнет, и они украдкой поглядывали друг на друга, отыскивая общий ритм.
Сэнди посмотрела на крепостной вал из фасоли, который Эйли возвела по краям своей тарелки – ровный, влажный круг.
– Ты мало ешь.
– Мне не хочется.
– Я понимаю, что вся эта стряпня для меня в новинку. Завтра вечером мы попробуем что-нибудь другое, идет? Что бы тебе хотелось? Суфле из жвачки? Омлет с драже «Эм энд эм»? Спагетти под шоколадным соусом?
Эйли даже не улыбнулась.
– Мне нездоровится, – тихо сказала она. – По-моему, мне не стоит завтра ходить в школу.
Сэнди приложила тыльную сторону руки ко лбу Эйли, холодному и гладкому.
– Что-нибудь случилось сегодня?
Эйли добавила к фасолевой стене еще один стручок, потом вдруг неожиданно вскочила и выбежала из кухни, опрокинув табуретку. На мгновение Сэнди, Джон и Джулия замерли, глядя на ее опустевшее место. Джулия откусила еще кусок от своего гамбургера. Сэнди отодвинула тарелку и последовала за Эйли.
– Джулия? – вопросительно сказал Джон, поднимая с пола табуретку.
– Просто она еще ребенок. Почему ее не оставят в покое? Она ничего не сделала.
– Кто ее обидел?
Джулия взглянула на Джона, на его крепкую шею, выступавшую из ворота рубашки, слева – след от бритвы, прядь светло-каштановых волос, несмотря на все его старания, спадавшую ему на правый глаз.
– Никто. Все в порядке. – Она взяла гамбургер и снова откусила, стараясь не испачкать пальцы кетчупом.
Наверху Сэнди сидела на кровати, зажав Эйли между колен, а та плакала, теплая плоская грудь содрогалась от рыданий под ее руками.
– Ш-шшш, ничего. – Сэнди гладила ее волосы, которые, словно распустившись от слез, прядями разметались по ее лицу. – Ничего. Ш-шшшш.
– Куда они ее унесли? – наконец спросила Эйли осипшим от слез голосом.
– Кого?
– Мою маму. Я видела, как ее забирали. Куда они ее унесли?
– Ох, моя милая. Ее нет. Извини. Ее просто нет.
– Я знаю, что она умерла, – сердито сказала Эйли. – Я не дурочка. Но куда они унесли ее?
– Мы ее похоронили, ты это знаешь.
Эйли неловко смахнула слезы с лица тыльной стороной рук.
– Я была на кухне. Джулия знает, что я была на кухне.
– Я знаю, дорогая.
– Сэнди?
– Да?
– А папы тоже нет? Я когда-нибудь увижу его опять?
– Ох, Эйли.
– Увижу?
Сэнди вздохнула.
– По-моему, на сегодняшний день это не самая удачная мысль.
– Мне завтра придется идти в школу?
– Боюсь, что да.
В тот же вечер, когда девочки легли спать, Сэнди и Джон сидели на диване, положив ноги на журнальный столик, голова Сэнди покоилась в ложбинке между шеей и плечом Джона.
– Я бы лучше сама пошла в школу вместо них, – сказала она.
– Дети жестоки друг к другу. Так было всегда.
– Хорошая подготовка к взрослой жизни. Джулия что-нибудь рассказала тебе, пока я была наверху?
– Нет. По-моему, она мне еще не доверяет.
– По-моему, она не доверяет никому. – Сэнди помолчала, поерзала. – Джон, сегодня утром в торговом центре кое-что произошло.
– Что же?
Она подняла на него глаза. Его славное мальчишеское лицо, его упрямая вера в то, что при отсутствии выдающихся способностей человеку необходимы упорный труд и настойчивость, чтобы добиться успеха – именно это ей было нужно, во всяком случае, она задумала испробовать эту преданность и надежность. Однако в последнее время это ей часто виделось как предостережение против излишнего сближения. Она отвернулась. Ей страшно хотелось взять сигарету, хотя она уже давно бросила курить.
– Ничего. Пустяки. – Она откинулась на диван. – Мне кажется, она меня не слишком любит.
– Разумеется, она тебя любит.
– У детей любовь к взрослым не возникает автоматически, как и у взрослых друг к другу. Может быть, дело вовсе не в симпатии. Мне кажется, она ко мне относится не слишком одобрительно. Вчера вечером я как раз об этом и говорила…
Джон беспокойно постучал ногами по полу.
– Можно для разнообразия поговорить о чем-нибудь другом? – прервал он ее на полуслове.
Она посмотрела на него, поджав губы.
– И о чем бы ты хотел поговорить?
– О чем угодно. О новостях. О погоде. О нас.
Она выпрямилась и ничего не ответила.
Он положил ей руку на спину и начал уверенно массировать ее.
– Почему бы нам завтра вечером не отправиться поужинать? Вдвоем, – предложил он.
– А как же девочки?
– Они достаточно большие и могут посидеть одни несколько часов.
– Не знаю, – неуверенно произнесла Сэнди.
– Тогда пригласи няню.
В его голосе прозвучала резкость, заставившая ее остановиться и проглотить готовое вырваться слово, лучше всего подходившее к ее ощущениям: «подавленная» – детьми, смертью, им самим; подавленная выбором, которого она никогда не делала, и сомнениями, с которыми не могла справиться.
– Я подумаю об этом. – Она подалась вперед. – Ну вот. Газета поручила вести дело этому новому парню, приезжему. Питеру Горрику.
– Что тут особенного?
– Просто мне не нравятся подобные типы, больше ничего. Я слишком много таких повидала. Приезжают сюда, чтобы за год накопить статей за своей подписью, которые потом можно показать в городе, в любом городе, и навсегда забыть об этом.
– Ты бы тоже могла так сделать, если бы захотела.
– Может, мне бы и следовало.
– Что же тебя удержало?
– Если бы я знала, что. – Сэнди иногда казалось, что ей не хватило мужества сделать выбор между бесчисленными возможностями, открытыми перед ней за пределами Хардисона, которые она так увлеченно подсчитывала в три, четыре часа утра, или, может быть, просто не хватило честолюбия. Еще возможно, что именно то, что более всего подталкивало ее к отъезду, в конце концов, и удержало ее: возможность создать самое себя, освобожденное от давления места, и положения, и прошлого. – Что мешало тебе переехать в Олбани или Сиракузы и открыть сеть магазинов «Спортивные товары Норвуда»? Я не сомневаюсь, что ты мог бы достать средства на это.
– Ничего не мешало. У меня никогда не возникало такого желания. Мне нравится здесь. Это дом. Это моя родина. – Он мало рассказывал ей о том, как на раннем этапе решительно боролся с банками, добывая деньги на открытие собственного магазина, о своем шатком положении в первые несколько лет, о том, как он гордился тем, что в итоге преуспел. Не в его характере было жаловаться или хвастаться, и хотя он сознавал, что его сдержанность иногда приводит к обвинению в самодовольстве, он не видел никакой необходимости изменяться.
Она иронически хмыкнула.
– Что я больше всего люблю, так это твою терпимость, – сказал он со смехом.
Она смутно помнила его со школьных времен, на класс старше нее, помнила, что его мать ходила на каждый баскетбольный матч, в котором он участвовал, что его отец каждую субботу косил газон, припоминала, что он, может быть, даже входил в совет учащихся. Но еще она припоминала, что его окутывало какое-то облако, плотное и непроницаемое, хотя в то время она не знала причины. Конечно, это облако и привлекло ее.
Он наклонился и нежно погладил ее лицо, внезапно посерьезнев.
– Это никогда не проходит, – тихо сказал он. – Но легче становится, вот увидишь. Так или иначе, становится легче.
Только пятнадцать лет спустя, когда они снова познакомились, Сэнди узнала, что старшая сестра Джона умерла от лейкемии, когда ей было десять, а ему – восемь лет.
– После этого, – сказал он тогда, – любое проявление усталости или лени с моей стороны словно вызывало подозрение. Они хотели видеть меня только жизнерадостным, удачливым. Иногда по ночам я видел, как моя мать сидит у себя в швейной мастерской в окружении безголовых примерочных манекенов и плачет. Но днем – никогда. Нам не разрешалось говорить об этом.
– Видел бы ты мою мать, – заметила Сэнди. – Дома она рыдала в каждой комнате совершенно безо всякой причины.
– Я бы не прочь с ней познакомиться.
– Нет.
– Может, тебе повезло больше, – задумчиво произнес он. – По крайней мере, в твоей семье безумие проявлялось открыто. А у меня в доме разрушение происходило исподволь, и это сбивало с толку. Я считал, что, должно быть, все дело во мне, ведь все вокруг твердили, как хорошо держатся мои родители.
Месяцы спустя после того, как они стали любовниками, Джон в странно грубой манере сообщил Сэнди, что в первые годы учебы в колледже перенес легкий нервный срыв. «Я просто не мог больше быть веселым», – объяснил он. Но, проведя две недели в больнице и походив несколько месяцев на консультации, он решил, что безумие и апатия – не для него. И все же стойкость, ставшая такой заметной частью его личности, была скорее результатом победы над собой, чем свойством характера. Или если она и была врожденным качеством, то утраченным и потом сознательно восстановленным, и именно этот факт так интересовал Сэнди. Однако всякий раз, когда она пыталась снова вернуться к этой теме, разобраться и запомнить, ему удавалось уклоняться даже от самых прямых расспросов.
– Знаешь, – сказал он сейчас, сжимая бедро Сэнди, – по-моему, тебе было бы удобнее со мной, если бы я терзался и страдал, как будто быть довольным – признак тупости.
– Я всегда говорила, что тот твой легкий срыв был послан тебе небом во спасение.
– Спасение от чего?
– От полной апатии.
– Почему ты считаешь, что оставаться здесь – неправильно, что ты должна как-то оправдывать это?
– Да ведь пулицеровские премии не раздают за освещение деятельности городского совета Хардисона, штат Нью-Йорк.
– В жизни есть кое-что помимо пулицеровских премий.
– Пожалуйста, только не толкуй мне о том, что «сидеть дома и стряпать – совершенно обоснованное решение». Я знаю, что оно совершенно обоснованное. Только не для меня.
– Я не подозревал, что у тебя были только два этих варианта.
Она колебалась.
– Я раньше представляла себе, как займу место ответственного секретаря, когда Рей уйдет на пенсию.
– Раньше?
– Я не уверена, что мне хочется руководить газетой, если это означает печатать материалы вроде той фотографии на первой полосе.
– Ты бы решила иначе?
– Не знаю, – тихо произнесла она. – Я много думала об этом и просто не знаю. Вот что так беспокоит.
– Ну, если это имеет значение, я думаю, что из тебя бы вышел замечательный ответственный секретарь.
– Спасибо.
Он помолчал.
– И с девочками ты тоже отлично справляешься.
– Пожалуйста, не будь со мной так любезен. Это действует мне на нервы.
– Я знаю. Может быть, когда тебе не нужно будет искать объяснение по поводу того, что ты осталась в Хардисоне, то и меня объяснять тебе не потребуется.
Она с любопытством взглянула на него, как всегда, когда он удивлял ее остротой суждений, которой она не разглядела за внешней невозмутимостью и его настойчивым стремлением хорошенько выспаться ночью.
– Хочешь, я скажу тебе одну глупость? Я с трудом удерживаюсь, чтобы не набрать телефонный номер Энн и не попросить у нее совета.
– Сэнди, тебе нужно просто любить их. И у тебя это получается очень хорошо.
– Да, но ты знаешь, что гораздо легче любить на расстоянии.
Он улыбнулся и притянул ее к себе.
– Мне об этом не известно.
Джулия и Эйли лежали рядышком в двуспальной кровати, касаясь друг друга коленями. В доме на Сикамор-стрит у них были разные спальни; важность разделения – один из немногих вопросов, в которых Энн проявляла настоящую непреклонность, хотя и не без некоторого привкуса печали, когда думала о той комнате, где жили они с Сэнди, об их дыхании, их запахах, смешанных, неразделимых. Эйли дышала чаще, чем Джулия, почти в два раза чаще, разглядывая зловещее переплетение теней на стене.
– Джулия?
– Что?
– Ты не спишь?
– Нет.
– Как ты думаешь, мама на небе?
– Не знаю.
– А я знаю. Я думаю, она там.
В течение всего минувшего года Эйли все больше попадала под власть навязчивой одержимости точно знать, где находятся родители в каждую минуту. Она заставляла приходящих нянь звонить в больницу, чтобы убедиться, что мама там, а потом звонить снова, чтобы выяснить, на каком она этаже, и снова – подтвердить, что она не ушла в другое место. Она выучила наизусть номер телефона в новой квартире Теда, название улицы, этаж.
– Джулия?
– Что?
– Она нас видит? Как ты думаешь, она знает, где мы?
Они находились в гостиной, вчетвером, втроем, в мыслях Джулии они были в гостиной снова и снова, всегда в гостиной, свет скользил по ружью и пропадал.
– Я не знаю, где она, Эйли. – Джулия повернулась лицом к стене, чтобы Эйли не заметила слез, выступивших у нее в уголках глаз, теперь они иногда выступали и во сне, так что она сомневалась, снилось ли ей, будто она плачет, или действительно плакала по ночам, когда никто не видел.
Урок Джулии в тот вечер: память зыбкая и изменчивая штука, запоминай, запоминай, ты видела то, что видела я, запоминай тверже, запоминай снова, запоминай правильно.
Когда Эйли задышала спокойно и размеренно, а голоса внизу уже давно затихли, Джулия осторожно вылезла из кровати и на цыпочках прошла через комнату.
Сэнди не выключила свет на случай, если девочкам понадобится среди ночи в туалет, но Джулия, потихоньку двигаясь по коридору, все-таки вела рукой по стене, словно боялась заблудиться. Она остановилась перед закрытой дверью в спальню Сэнди и, прислушавшись, различила только приглушенное похрапывание мужчины.
Она слегка нажала на ручку, проверяя, не заперто ли, не заскрипит ли, потом приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь.
Голова Сэнди покоилась в дюйме от головы Джона, лицом к его макушке, их тела свернулись под пушистым голубым одеялом. Ее рука была небрежно отброшена ему на грудь, словно не требовалось ни думать, ни примеряться для того, чтобы положить ее туда, держать ее там. Они спали, не пошевелились.
Джулия подходила ближе, пока почти не начала ощущать тепло их дыхания.
Он один раз повернулся, ткнувшись в Сэнди, и она завозилась и свернулась клубочком, пристраиваясь к нему – все во сне.
Джулия медленно повернулась и оказалась перед комодом. Она открыла верхний ящик справа, заваленный бюстгальтерами, чулками, трусиками. Двумя пальцами она извлекла оттуда черные кружевные трусики-бикини, легкие и прозрачные. Задвинула ящик, скомкала находку в руке и вышла из спальни.
На рассвете Сэнди на цыпочках провела Джона вниз по лестнице. Первые тусклые лучи света падали на их лица, оттеняя морщинки и впадины. Джон, полностью одетый, шел за ней неохотно, с ворчанием, держа ее руки в своих, теплых и влажных со сна.
– Тс-с-с-с, – предостерегающе зашипела Сэнди.
– Мне не верится, что ты заставляешь меня это делать.
– Что бы подумали девочки?..
– Наверное, то же самое, что думают сейчас. Они же не слепые.
– Я просто не хочу, чтобы они застали тебя здесь утром, понимаешь?
– С каких это пор ты придаешь значение таким вещам? Ты превращаешься в настоящую маленькую лицемерку, чувствуешь?
– Чувствую, – мрачно ответила она. – Похоже, это входит в перечень моих обязанностей на новой работе.
На самом деле то, что она в своей жизни вырывалась за рамки условностей во всех мелочах, в одежде, в языке, никогда не было только результатом природной склонности, а еще и сознательным выбором, который она делала каждый день из принципа – того принципа, в который она и сейчас верила, но, помимо ее воли, в присутствии детей он становился странно расплывчатым.
– Ну, выкатишься ты отсюда наконец?
– Выходи за меня замуж.
– Не сейчас.
– Не сейчас ты выйдешь за меня или не сейчас дашь ответ?
– Просто не сейчас. Разве тебе не пора отправляться на пробежку или что-нибудь еще?
Она наклонилась, поцеловала его и решительно выставила за дверь.
Тед сидел на высоком табурете возле стойки, отделявшей кухню от гостиной, в своей квартире на третьем этаже в Ройалтон Оукс – группе зданий с белыми стенами и коричневыми крышами в начале Тайлер-стрит, заселенной разведенными, вдовцами, холостяками, перешагнувшими порог ожиданий, прибывшими на полустанок одиночества. У него в гостиной была безукоризненная, ничем не нарушаемая чистота и порядок, серый диван застелен и убран к приходу девочек, серое ковровое покрытие на полу, столовое серебро и лампы, постельное белье и посуда, – все купленное за один выходной. Он все еще то и дело натыкался на этикетку с ценой, которую забыл отодрать, обычно на чем-нибудь таком – прессе для чеснока, одежной щетке – что, как он считал, могло бы пригодиться для дома, но, во всяком случае, не для этой квартиры, и тогда этот выходной вспоминался ему во всех подробностях, со скрупулезной точностью. Он понял, начинать все заново – порочная идея.
Положив локти на стойку, он встряхивал стакан, разжевывая последний хрупкий кусочек льда. Сквозь тонкие стены ему было слышно, как сосед снова и снова гонял одну и ту же запись Марии Каллас в «Мадам Баттерфляй». Он отставил пустой стакан (набор из двадцати четырех стаканов он купил за 66 долларов; ведь он до сих пор не мог не запоминать, что сколько стоило, до последнего цента; в конце концов, он ничего не накопил, у него в ящиках не было никаких сюрпризов) и снял трубку телефона, на который неотрывно смотрел последние пять минут, потом положил обратно.
Он налил себе еще один стакан, выпил, смакуя. Однажды ночью в тюрьме ему приснилось виски, его цвет и вкус, и он по-настоящему напился там, во сне, туманном, отстраненном призрачном видении, одновременно таком близком и таком далеком, которое пришло к нему после виски. Энн не снилась ему ни разу. Он все время ждал этого, каждый вечер, ложась спать, он покрывался испариной, с ужасом ожидая ее появления, но она не приходила к нему.
Он отставил стакан и набрал номер.
– Сэнди? Это Тед. Я думаю, нам с тобой следует поговорить.
У нее застучало в висках.
– Мне не о чем говорить с тобой.
– В самом деле? Ну, во-первых, есть мои дочери.
– Твои дочери не желают тебя видеть.
– Могу себе представить, каким дерьмом ты забиваешь им головы.
– Этого не требуется. Ты представил им все необходимые доказательства.
– Никаких доказательств нет, Сэнди.
– Еще что-нибудь, Тед?
– Послушай, этот судебный процесс будет неприятным. Он будет неприятным для всех. Этого ты хочешь?
– Чего хочу я, не имеет ни малейшего значения, насколько я могу судить. Мне нужна моя сестра, вот все, чего я хочу.
– Дай мне увидеться с Джулией. Всего на десять минут.
– Ты прекрасно знаешь, что существует запрет на свидания.
– Нам незачем никому сообщать об этом.
– Ты спятил.
– Все будут в проигрыше, Сэнди. Даже ты.
Она стиснула трубку и молча положила на рычаг.
Тед услышал щелчок и опустил трубку. Он стер влагу с запотевшего стакана, отхлебнул еще один глоток и взял со стойки фотографию Энн с девочками в серебряной рамке. Ее сделали два года назад, летом, в парке у озера Хоупвелл. Энн стояла в озере по колено в воде, ее длинные округлые ноги возносились из темной воды словно величавые колонны, гладкий, блестящий цельный купальник, руки на бедрах. Ее лицо, ни радостное, ни грустное, было обращено к объективу с вопросительной настойчивостью – этого ты хотел? этого? – а девочки распластались возле нее в воде. Допивая, он без всякого выражения смотрел на этот снимок.
В те четыре дня и ночи, что он провел в тюрьме, лежа на жесткой кровати, которая источала затхлое зловоние, стоило ему пошевелиться, он представлял себе, что бы он делал в каждую минуту, если бы не находился под замком, отрезанный от жизни: в понедельник в 10.30 утра, в 5.45, во вторник в 9.00 утра, телефонные звонки, обеды, бумаги, даже ванну; воображал в мельчайших подробностях свое параллельное «я», расхаживающее в параллельном мире вне его досягаемости, так что когда он теперь шел по улице, когда открывал дверь с надписью простыми черными буквами «Уоринг и Фримен», как много раз проделывал прежде, то немного сомневался, то ли это ему чудится, то ли происходит на самом деле. Само время, сила тяжести остались в той камере; выйдя оттуда, он обрел иное время, иную силу тяжести – более легкую, менее осязаемую.
Он открыл дверь, прислушался к звуку собственных шагов по линолеуму.
– Привет.
Рут Бекер, секретарь, нарочито избегала его взгляда, шумно роясь в бумагах, на тот случай, если он не догадается, в чем дело. Эта женщина, весившая фунтов на тридцать больше нормы, с пышными волосами, перекрашенными в сияющий золотистый цвет, была не из тех, кто склонен к недомолвкам. Когда Тед только ушел от Энн, Рут вырезала из газет заметки с заголовками вроде «Разведенные мужчины больше подвержены сердечным приступам» и «Почему у разведенных мужчин выше процент самоубийств» и по утрам оставляла на его столе, выделив желтым маркером основные доводы. «Как это получается, что люди, которые никогда не вступали в брак, всегда разбираются в нем гораздо лучше, чем те, кто испытал это на себе?» – поддразнивал он ее. Однако и сам он забыл, что такое супружество, утратил ощущение его рамок и атрибутов, и хотя он притворялся, что выбрасывает эти заметки, уносил их домой и читал бесконечными ночами в одиночестве в мрачной квартире в Ройалтон Оукс. Он переступил с ноги на ногу и улыбнулся: ее всегда легко было вывести из равновесия. Однако она даже головы не повернула, продолжала перебирать бумаги, вырезки.
– Как угодно, – пробормотал он и направился в кабинет Карла.
Тед подвинул стопку обработанных на компьютере строительных чертежей с размеченными бледным пунктиром стенами и окнами и уселся напротив своего компаньона.
– Ну, насколько плохи дела?
Карл Фримен откинулся на стуле. Более грузный и румяный, чем Тед, любитель поясов с аляповатыми серебряными пряжками и дорогих сапог в ковбойском стиле, он тем не менее был человеком гораздо более невозмутимым и уже давно изобрел способ обходиться с Тедом, просто не обращая внимания на тяжелые стороны его характера.
– Плохи.
– Понимаю, что плохи. Даже старушка Рут не захотела посмотреть мне в глаза. Я хочу знать, насколько плохи.
– Мы лишились четырех заказчиков. Никто не хочет связываться с тобой, Тед.
– Я не приглашаю их спать со мной, я просто прошу дать нам возможность достроить их чертовы дома. В наше время это довольно сложно. – В действительности в последнее время они упорно балансировали на грани платежеспособности, которая всего каких-то несколько лет назад была вполне надежной, – увольняли рабочих, чаще брались за реконструкции, от которых прежде отказались бы ради более крупных проектов. – Как подвигается дело у Бриаров. Все по графику?
– Они одни из этих четверых.
– Не могут же они менять строителей за две недели до того, как мы наметили рыть котлован?
– Ты застрелил свою жену. И как ты рассчитывал, что произойдет?
Раздражение, усталость и гнев в голосе Карла были редкостью, свидетельством напряженных усилий сдерживаться, снедавших его все эти дни. Он не собирался демонстрировать их. Он еще в начале решил для себя, что верит Теду, должен верить ему, несмотря на свою жену Элис, которая, как она выражалась, «не верила ни вот насколечко». Это расхождение во мнениях порождало между ними некоторое напряжение на кухне, в спальне, и сейчас, когда он смотрел на Теда, оно незримо присутствовало здесь.
– Это был несчастный случай.
– Я знаю. Но никто не забудет, что именно ты держал ружье, когда оно выстрелило.
Тед снова уселся на место и провел руками по волосам.
– Я сам не могу об этом забыть. – Он наклонился, облокотившась обеими руками на стол. – Слушай, я уйду, если ты захочешь. Убери мою фамилию с вывески. Я понимаю.
– Нет, – Карл произнес это спокойно, задумчиво, так что стало ясно, что он уже рассматривал такую возможность. – Нет, мы не будем этого делать. – В какое-то мгновение он испытывал лишь сочувствие, а как же иначе, спрашивал он потом у Элис, как же иначе? Но она лишь качала головой и уходила из комнаты.
– Спасибо.
Карл кивнул.
Тед посмотрел из окна на автостоянку и на здание аптеки за ней, на ее заднем крыльце были штабелями сложены картонные коробки.
– Мы собирались снова сойтись… – Его голос упал до шепота.
– Может быть, если присяжные…
– Да, конечно, – раздраженно бросил Тед, но потом опомнился. – Извини. Мне нужно идти. Я могу что-нибудь сделать? Взять какую-то работу на дом?
– Лучше сосредоточься на том, чтобы разобраться с этим делом.
Карл поднялся, обнял Теда и проводил его до выхода. Похлопывая его по спине, он не заметил в глазах Теда влажного и лихорадочного блеска, вызванного гневом, раскаянием или печалью – тот и сам бы не смог определить.
Факт: В тот день в магазинчике «Деари фармз» кассирша, узнав Теда, отказалась уложить его покупки, и он остался стоять в конце прилавка с кучей банок и коробок, не имея возможности дотянуться до стопки пакетов.
Факт: Фрэнк Ди Челло, один из партнеров Теда в покере по вечерам во вторник, позвонил ему, чтобы сказать: «Я хотел, чтобы ты знал, я за тебя. На все сто процентов. И Джо и Робби тоже. Терри, ну, Терри не придет, то есть, если ты, ну понимаешь, если придешь ты. Но тут беспокоиться нечего, пятого мы всегда найдем. А если и нет, кого это к черту волнует? Ты как, ну это, скажешь сразу, придешь или нет? Мне казалось, ты не захочешь. Я бы на твоем месте не стал. Ну то есть, я имею в виду, это, как бы выразиться, не совсем удобно. При таких обстоятельствах».
Факт: Его телефон по ночам звонил по четыре-пять раз, но когда бы он ни снял трубку, слышалось только чье-то дыхание, а потом на том конце швыряли трубку. Он подумывал сменить номер телефона на такой, который бы не значился в справочнике, но не стал этого делать, беспокоясь о том, что если Эйли или Джулия когда-нибудь решились бы позвонить, то не сумели бы связаться с ним.
Факты, сваленные в кучу, словно камни в его кармане, которые нужно разобрать и разложить, но позже, не сейчас, не сразу, хотя он не мог не ощущать их веса, когда они колотились об его ногу.
Он сидел на балкончике гостиной, задрав ноги на перила, со стаканом в руке, наблюдая, как сумерки опускаются на улочки, расползавшиеся, словно паутина, от ворот Ройалтона. За последние три часа он вставал всего дважды, сначала за новой порцией спиртного и в туалет, а потом – за пледом, когда солнце село и его тонкий замшевый пиджак больше не спасал от прохлады. Почему-то, когда его выпускали, он не задумывался о том, что коридор ожидания (в чем, строго говоря, он не был уверен, хотя именно этим он и занимался– ждал) ничуть не изменится, все обычные входные двери по-прежнему останутся закрыты.
Он думал о последнем отпуске, что они с Энн провели вместе – в прошлом году, на побережье Мексиканского залива во Флориде. Был январь, девочек они оставили на Сэнди. Решение было внезапным, из тех, за какие они тогда хватались, оба поддаваясь соблазну нового места, которое поможет им, снова расставит все на свои места. А если уж ничего не выйдет, так, по крайней мере, появится возможность поговорить о впечатлениях от новых пейзажей.
Они остановились в Сент-Питерсберге, в прибрежном мотеле, которым управлял стареющий хиппи по имени Хэнк; вместе с ключами он предлагал марихуану и по просьбе постояльцев снабжал номера контрабандными видеофильмами. Во внутреннем дворике, обрамленном пальмами и гибискусом, над крошечным прудом высилась статуя пирата. Поговаривали, что во время второй мировой войны здесь был публичный дом.
В самой комнате находилась большая круглая кровать под покрывалом из черного искусственного меха, маленькая, выкрашенная в лиловый цвет кухонька в алькове и доска для игры в трик-трак, встроенная в высокий стол с табуретками по обеим сторонам. Оштукатуренные стены были того же грязно-розового оттенка, что и снаружи.
Каждое утро они вставали рано, проходили сквозь старинные решетчатые ворота мотеля, их причудливые чугунные узоры покосились и прогнулись под грузом многолетних отложений соли, и шли через дорогу на взморье. Они брели мимо склоненных людей, искавших акульи зубы или золото с помощью длинных и тонких прутьев «волшебной лозы», закутанных в свитера из-за вторгнувшегося во Флориду необычайно холодного фронта, мимо заброшенных старых доков, они шли далеко вперед, подбирая случайные раковины, отбрасывая их прочь. Иногда днем они играли в мини-гольф, послушно отмечая огрызком карандаша в таблице очков свое продвижение через ветряные мельницы и крепостные рвы. Несколько часов теплой погоды они проводили у неприветливого пруда на пластиковых лежаках со щелями на месте недостающих планок, куда вдавливалась плоть, и наблюдали за хамелеонами, которые, соскользнув со складок каменных брюк на статуе пирата, юркали в траву, становясь из серых зелеными.
Они были вежливы, советовались друг с другом о том, где обедать, устроить ли на ужин барбекю во дворе мотеля. Они купили пособие по трик-траку и учились играть, устроившись на табуретках в сумрачном номере с закрытыми ставнями, пропахшем паутиной и морем. А по вечерам они лежали, закутавшись в одеяла, пили натуральный грейпфрутовый сок и водку и смотрели, как на фоне ядовито-оранжевого заката ныряют и взлетают пеликаны. Но он понимал, что она еще ничего не решила насчет него, насчет того, чтобы остаться, и собственные искренние, но неуклюжие попытки ухаживать за ней начали казаться ему бессмысленными. Он знал и то, что вскоре обидится на нее, как всегда обижался на любого свидетеля собственных прошлых колебаний или слабости.
В последний день они проехали двадцать миль до заповедника штата и пустились в двухмильную пешую прогулку по территории, отведенной для скопы, находящейся под угрозой вымирания. Над узкой грязной тропинкой, словно своды собора, вздымались пальмы и папоротники, сквозь их зеленое кружево не проникал почти ни единый лучик света. Неподвижный воздух наполнял противный запах мошкары, неумолчное стрекотание сверчков. Этот район когда-то назывался Змеиным островом, но городской совет счел, что такое название может способствовать общему падению интереса к заповеднику, который они переживали, и недавно издал постановление переименовать его в остров Медового месяца. Тем не менее навстречу Теду и Энн попался только один человек, энергичная пожилая женщина с большим биноклем на шее. Проходя мимо, они поприветствовали друг друга кивками.
Через две мили тропинка вышла к океану, и они улеглись на песке за скалами, укрывавшими их от ветра. Солнце светило им прямо в лицо.
Ее глаза были закрыты, лицо обращено к небу.
– Тебе не хочется, – произнесла она, – чтобы кто-нибудь просто объяснил тебе, что возможно, а что – нет? – Он приподнялся на локте и посмотрел на нее. – Я хочу сказать, не лучше ли было бы знать? Что, если это и есть самое большее, что мы можем? Тогда незачем было бы терзаться. Ну а если нет, что ж… Тебе не хочется, чтобы мы знали? – Она медленно раскрыла глаза, повернулась к нему.
Он набрал полные пригоршни песка и пропустил его сквозь пальцы. Она никогда так не разговаривала с ним, никогда не давала прямо понять, что может испытывать такую же неудовлетворенность, что и он, и хотя он это и подозревал, его поразило, как она выразила ее, с какой простотой, лишенной упреков и враждебности, которым, по крайней мере, он бы знал, как противостоять.
– Все дело в неведении, – тихо сказала она.
– Нам лучше вернуться, пока не стемнело, – угрюмо произнес он, вставая.
Когда они въехали на стоянку у мотеля, он открыл дверцу с ее стороны.
– Что ты не выходишь?
– Я только немного проедусь. Вернусь через несколько минут.
Спустя сорок минут, покружив по двухполосной дороге вдоль побережья с включенным радио, высунув руку из окна, он вернулся в мотель и обнаружил ее в комнате Хэнка, она пила китайский чай и курила марихуану. Через открытую дверь до него донесся ее деланный смех, явно изображающий безудержное веселье, он его не узнал.
Они вернулись к себе в номер, и она уселась, скрестив ноги, на черное меховое покрывало, наблюдая, как он начал собирать вещи, ее глаза покраснели, на губах застыла язвительная усмешка. Он отложил рубашку, которую укладывал, и взял ее, неистово и грубо.
Ее лицо, когда она кончила, спина, ее сомкнутые глаза, открытый рот, подчинившиеся наслаждению.
Тусклый серпик молодого месяца испускал слабый свет. Тед прислонился к сухой коре старого дуба, наполовину скрывавшего его, и наблюдал за домом на противоположной стороне улицы. Свет горел на кухне, окно ярким прямоугольником выделялось на фоне темных стен. Они приближались к нему и отходили, все четверо, усаживаясь ужинать. Джулия, откладывающая вилку, берясь за салфетку. Губы Эйли, шевелящиеся, произнося слова, которых он не слышал. Рука Сэнди. И Джона. Он сделал еще один шаг, ближе к краю тротуара, но быстро отшатнулся, заметив приближающиеся огни фар. Он затушил сигарету о толстые узловатые корни дуба, посмотрел, как они доели десерт, вымыли тарелки, исчезли из виду, а потом разглядывал пустой желтый прямоугольник напротив, поджидая своего часа.
4
В затемненной спальне мерцал мертвенно-бледный свет телевизора. Энн смотрела на затылок Теда, уставившегося на экран.
– Только не надо опять, – сказал он, полуобернувшись, одним глазом все еще следя за ток-шоу.
– Но разве тебе не кажется, – настаивала она, подавшись вперед, – что тебе чего-то недостает? Ты не думаешь, что потом пожалеешь об этом?
– Нет, – просто ответил он.
Это слово легло между ними тяжело и веско.
Он нажал кнопку отключения звука на дистанционном пульте, повернулся к ней, дотронулся до ноги.
– Послушай, – спокойно произнес он, – я просто не понимаю, что такого привлекательного в продолжении человеческого рода. И ведь не то чтобы у каждого из нас было такое уж замечательное детство. – Он помолчал. – Возможно, если бы детей сбрасывали с вертолетов… Возможно, если бы мы могли усыновить какого-нибудь ребенка, который действительно бы нуждался в помощи, я бы чувствовал себя иначе.
– Значит, ты возражаешь не против того, чтобы вообще иметь детей. На самом деле ты против того, чтобы заводить ребенка со мной.
Он беспокойно поерзал.
– Не знаю.
– Самое смешное, что именно поэтому я и хочу ребенка.
– Давай оставим это, – сказал он и снова включил звук.
На следующий день, когда Тед был на работе, Энн швейной иголкой проколола свой противозачаточный колпачок в четырех местах. Резина оказалась плотнее, чем она ожидала, и ей пришлось растягивать ее обеими руками. И даже тогда дырочки были крошечными, казалось, они исчезли, как только колпачок принял обычную форму. Она положила его обратно в коричневый пластмассовый футляр и закрыла ящик тумбочки.
Когда Энн выяснила, что забеременела, она три недели ничего не говорила Теду, не от страха, а из опасения, что разглашение беременности может каким-то образом привести к тому, что она рассосется и исчезнет. Она следила за каждым приступом тошноты, возникавшим в желудке и подкатывавшим к горлу, вызывая кислый привкус, за каждым ощущением боли и набухания груди, воображая, как потяжелеет настолько, что больше не будет опасаться, что ее унесет, что эта тяжесть, наконец, поставит на якорь их обоих.
Тед сидел в гостиной с бледно-желтыми стенами, только что вернувшись с работы, держа в руках вторую банку пива, и покорно рассказывал Энн подробности прошедшего дня, хотя и сомневался, несмотря на ее протесты, что ее могут интересовать пиломатериалы и деревообрабатывающие станки. Она сидела рядом, дожидаясь, пока он закончит (по правде говоря, эти рассказы действительно наводили на нее тоску, но пока она еще не готова была признаться в этом самой себе или ему).
– Я беременна, – сказала она, когда он остановился, чтобы глотнуть пива.
– Ты… что?
– Беременна.
– Господи. – Он глянул на нее, словно для того, чтобы убедиться в ее словах, а потом откинулся на диван. – Что я понимаю в этом? – сердито спросил он. – Я и собственного-то отца почти не помню.
– Ты всегда твердил, что именно это и хорошо, то, что нам придется все придумывать самим, заново. Разве не помнишь? Ты говорил, что, поскольку у нас нет достойных примеров для подражания, мы сами изобретем все правила и определения.
– Я это говорил?
– Да.
– Это наверняка было в тот короткий период, когда я покупал всякие популярные книжки по психологии в магазине Армии спасения. Это было своего рода временное помешательство.
Он встал и принялся расхаживать по комнате.
– Я никак не пойму, с чего ты так настаиваешь на том, чтобы смотреть на детство как на благо, – воскликнул он. – Именно ты.
– Не так уж оно было ужасно, – сказала она. – А у тебя? Я хочу сказать, действительно так ужасно?
– О детстве я помню только то, что хотел побыстрее вырваться из него. – На глазах его вдруг заблестели подступавшие слезы. – Когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, я все время убегал из дома, – тихо продолжал он, стоя спиной к ней, опираясь на книжную полку, – забирался в чужие гаражи и спал на холодном полу. Все, что угодно, только бы не оставаться дома. Через несколько дней мать обращалась в полицию, они отыскивали меня и на несколько ночей отвозили в приемник для несовершеннолетних, пока мать не приходила за мной. Когда она снова начала рожать, то даже это ее уже не волновало.
– Какое это имеет отношение к нам?
– Не знаю. – Он обернулся к ней с покрасневшими и влажными глазами. – Не знаю. Ты действительно этого хочешь?
– Да.
Он посмотрел на нее.
– Знаешь, дети требуют больших хлопот.
– Знаю. – Она подошла к нему. – По-моему, из тебя выйдет замечательный отец.
– Ну, как же.
– Я действительно так считаю.
Он взглянул на нее, такую искреннюю и убежденную, и вдруг рассмеялся, и в этот миг она поняла, что все будет хорошо, что он просто неспособен решиться, но, однажды поставленный перед фактом, он примет его, как принимал любую реальность, свыкаясь с ней, разрабатывая тщательно продуманные планы того, как ею лучше воспользоваться. Он не верил в прошлое, особенно в собственное, даже самое недавнее прошлое. Для него существовало лишь то, что будет дальше.
– Господи, – снова произнес он и осторожно дотронулся до ее живота.
Когда в ту ночь они занимались любовью, в ее объятиях, ее поцелуях появилась какая-то мрачная глубина, словно она ожидала какого-то чуда, волшебства, и это испугало и растрогало его.
Всю ночь он не спал, лежал, прислушиваясь к ее тихому размеренному дыханию, легкими волнами касавшемуся его плеча. Внутри у него возникла дрожь, сначала слабая, потом все нараставшая, трепет возбуждения, который он испытывал всякий раз, приступая к чему-то новому, глубокое волнение, вызванное самой возможностью свершения. Ведь вместо того, чтобы чувствовать себя связанным, загнанным в угол, как он всегда это представлял себе, он уже видел ребенка как совершенно самостоятельное существо, не возвышенным и магическим связующим звеном, мерещившимся Энн, но отдельной силой, с новой энергией увлекавшей его в будущее.
Ровно через два месяца после той ночи Теда уволили с работы. Из-за его очевидных способностей и мастерства компания откладывала это решение дольше, чем могло бы быть в ином случае, но жалоб со стороны его товарищей по работе, особенно докладных, написанных четким убористым почерком Дэвида Хопсона, скопилось так много, что их невозможно было не учитывать. У него был скверный характер, он был непредсказуем и заносчив. Он не следовал инструкциям и не срабатывался с другими. А взаимодействие – это главное.
– Пошли они к дьяволу, – буркнул Тед, стоя на кухне напротив Энн. – Я и так собирался уходить. – Энн согласилась с ним, что все к лучшему, и откопала проспекты архитектурных факультетов, погребенные в кладовке холла под коньками, которые они купили два года назад, но так с тех пор и не воспользовались ими, журналами «Гурман», которые она хранила, и рождественскими украшениями, которые она собирала, подсчитывала и каждый год упаковывала заново – вечные фамильные ценности.
Каждый вечер, возвращаясь с работы, она видела, что каталоги перекочевывали из спальни в кухню, в гостиную, и у нее родилась надежда, что какой-то шаг – любой– неизбежен, но он никогда не говорил об этом, и она не спрашивала. Она всегда считала, что его напористое честолюбие – величина постоянная, и слабина, которую она теперь заподозрила, его кажущееся бессилие внушали ей сомнения. Он сидел дома, получал пособие по безработице и наводил в доме порядок с упорством и методичностью, превосходящими даже ее собственные, повыбрасывал все старые губки, щетки и швабры, заменив их на более дорогие модели, которые, как объяснил он, лучше, эффективнее старых.
Еще он начал мастерить принадлежности для детской – детскую кроватку, тумбочку, пеленальный столик – в том простом прямолинейном стиле, который он предпочитал ее склонности к завитушкам и сложным украшениям. Он только занялся стеллажами, когда Энн на восьмом месяце ушла с работы.
Непрерывное гудение ленточной пилы и пронзительное жужжание дрели вырывались из гаража, и, вопреки своим дурным предчувствиям, она не могла не поддаться оптимизму: он в самом прямом смысле строил будущее. Даже когда шум продолжался далеко за полночь, не давая ей погрузиться в сон, которого она так жаждала, она ничего не говорила, опасаясь, что малейшее проявление недовольства может побудить его отказаться от всех планов, ставших единственным смыслом его жизни. Она сидела, спустив босые ноги на пол, вибрировавший от его усилий, теперь опутанная и повязанная тяжестью, и ждала.
Джулия страдала от колик в животе. Ее красное личико с прожилками, обрамленное влажным пушком черных волос, часами корчилось в бесконечных пронзительных воплях, выматывавших всех троих до изнеможения. Тед и Энн по очереди расхаживали по дому с ней на руках, ее мягкое неуклюжее тельце горело и содрогалось от страданий, сморщенные кулачки сердито сжимались. Слишком измученные, чтобы говорить о чем-то еще, кроме самых насущных вещей – бутылочек, купаний и врачебных консультаций, от которых не было никакого толка, – Энн и Тед утратили всякое чувство времени. Часы, дни и ночи расплывались, сливались в одно, подчиненные тирании младенца.
Через шесть недель того, что Тед окрестил «царством террора Джулии», он решил взять ее с собой в короткую поездку до библиотеки, чтобы Энн, которой до двух часов дня не удавалось даже вылезти из своего грязного хлопчатобумажного халата, смогла бы принять душ. Удерживая в одной руке стопку книг, которые возвращал, два сборника русских повестей, в другой – ребенка, он погрузил все в машину, пристегнув Джулию к детскому автомобильному сиденью – подарку Сэнди. Он ехал медленнее обычного, начинал тормозить за полквартала до светофора и трогался с места так осторожно, что идущие сзади машины нетерпеливо сигналили.
Только когда они проехали пять кварталов, до него дошло, что чего-то не хватает – крика. Он скосил глаза и увидел, что круглое личико Джулии стало спокойным и безмятежным, веки расслабленно опускались, она с благодушным любопытством следила, как дорога убегала назад. Только когда он остановил машину, подхватил ее и внес в каменное, погруженное в тишину здание библиотеки, вопли возобновились, эхом разносясь между полками и столами. Он смущенно улыбался взглядам, обращавшимся к нему, чтобы выяснить, кого так терзают, и не осмелился отобрать новые книги, что с величайшей тщательностью проделывал каждую вторую неделю.
Только ритм езды на машине успокаивал Джулию, и с того дня у Теда вошло в привычку устраивать ее на сиденье и часами колесить по проселочным дорогам Хардисона.
– Дай мне пять минут, чтобы умыться, и я поеду с вами, – как-то предложила Энн.
– Не надо. Почему ты не останешься дома и не отдохнешь немного? – с надеждой сказал Тед. На самом деле он вовсе не хотел, чтобы Энн присоединялась к ним, вторгалась к ним.
После пасмурного дня только начало смеркаться, серое на сером, когда он мимо здания новой средней школы, которое они уже почти достроили, выехал к холмам, окружавшим город в низине. На узких проселках, которые он предпочитал, не было ни освещения, ни дорожных знаков, – это было переплетение темных дорожек, петлявших среди леса. Он стер пузырьки слюны, выступившие в уголках крошечного алого ротика Джулии, пока она угрюмо и настороженно следила за дорогой.
– Как ты считаешь, сокровище? Как следует поступить старику-отцу? – Он сбросил скорость и заглянул в ворота старого имения, которое недавно было завещано ближайшему интернату. – Я не могу снова пойти учиться и одновременно возиться с твоими пеленками. Твоя мама, похоже, думает, что это возможно, но среди многочисленных достоинств твоей мамы совершенно отсутствует реализм. – Он слегка постучал по рулю. – А может, дело вовсе не в этом. Ты-то все равно этого не помнишь, так что я вполне могу рассказать тебе, я ведь никогда в школе не блистал, – он засмеялся. – Один из моих учителей однажды сказал мне, что на принципе «ничего не выбирать» – в реальной жизни далеко не уедешь, так что, дескать, лучше мне взяться за учебу и решить, на чем остановиться. Беда была в том, что мне всегда было наплевать на их выбор. А их никогда не интересовал мой. «Он кидается туда, куда и ангелы ступить страшатся» – они и впрямь так написали в одной из моих характеристик. – Он задержал дыхание, пока они проезжали мимо дохлого скунса на обочине. – Но ты будешь другой, правда, сокровище? – продолжал он, когда вонь развеялась. – Я по твоим глазам вижу. Прилежной маленькой ученицей. Поступишь в колледж, может, даже институт закончишь. – Тед улыбнулся. – Ты им всем покажешь, детка.
Было уже темно, бледные белые цилиндрические снопы света, который отбрасывали фары, терялись в пространстве дороги. Он подал машину задом в тупик и развернулся. Его объяла знакомая грусть, всегда приходившая на обратном пути, словно только тогда он сознавал, что не может просто ехать, двигаться все дальше и дальше со спящим рядом ребенком в это недоступное открытое пространство.
Он не мог не почувствовать легкого огорчения, когда колики прошли, – в один прекрасный день крики просто прекратились или скорее больше не начались, и Энн снова завладела ребенком, тем теплым сладковато-кислым запахом, что таился в складках ее ножек, ручек, во всем ее тельце.
Строительная фирма «Парселл бразерз», которая возвела здание новой средней школы, потом выиграла несколько конкурсов на внутреннее оформление новых торговых центров, возникавших во всех прилегающих округах, и Тед занял должность инспектора на строительстве центра в Восточном Грейдоне, в тридцати милях от Хардисона. Он делил время между самой стройкой, громадным бело-желтым плоским зданием, примостившимся среди холмов, и конторой Парселла в Хардисоне, где ему отвели лучший стол и прикрепили секретаршу, которая, кроме него, обслуживала еще двух инспекторов. В конторах, на стройках, в городе – везде царило ощущение подъема, реально ощутимого сдвига, и город, горделиво похлопывая себя по округлявшемуся животу, словно благосклонно улыбался тем, кто его строил. Тед заразился сознанием важности продвижения вперед, оправданного оптимизма.
В действительности существовал только один Парселл, «брат» был придуман при возникновении фирмы для придания солидности и размаха названию. В конторе он был чем-то вроде анекдота, этот мифический брат, и когда что-то не ладилось – терялись чертежи, оформлялись ошибочные заказы на стройматериалы – говорили, что это дело рук Лефти Парселла. Реальный Парселл, Нолан, был добродушный, веселый, любезный человек лет под пятьдесят, который в тот изобиловавший контрактами год охотно присоединялся к шуткам насчет нахального названия фирмы и несуществующего братца. Нолан Парселл моментально сообразил, что таланты Теда относятся к области планирования, разработки концепций, и доверил ему больше, чем то, на что, казалось бы, он мог рассчитывать со своим опытом. Тед, понимая это, с огромным удовольствием, в чем ни за что бы не признался (никто никогда прежде не оценивал его таким образом), вкалывал по двенадцать, четырнадцать часов в сутки, чтобы оправдать доверие. Люди, находившиеся под его началом, были склонны считать его человеком упрямым, лишенным чувства юмора, нетерпеливым, когда они не соображали тотчас, что он задумал, даже если он не всегда мог ясно выразить свои мысли, но результаты его деятельности были неоспоримы, и если они и считали его замкнутым и необщительным, то тем не менее уважали. Торговый центр Восточного Грейдона был закончен досрочно и с экономией сметы, и Теда назначили руководить более крупным проектом – строительством центра в Диэртоне, а затем, два года спустя, – возведением Кеннелли-плаза с девяносто двумя магазинами и водопадом в интерьере.
Энн, занятая ребенком, детскими смесями, первыми шагами и зубами, в те ранние годы словно целиком погрузилась в этот пропахший тальком мир, по очереди переходя от усталости к исступлению и тревоге. Случалось, она по целым дням, неделям не общалась с другим взрослым человеком. Оглядываясь назад на то время, она могла лишь вспомнить, как виделась с Тедом, говорила с ним, прикасалась к нему поздней ночью – два силуэта в 4 часа утра, тени в беспросветном мраке.
Она составляла списки. Списки того, что нужно было сделать, на каждый день: сходить в аптеку за ушными каплями для Джулии, пропылесосить, позвонить Сэнди, вымыть голову. Список качеств, которые она стремилась обрести: терпение, тактичность и новое – после того, как она прочла книгу, которую дала ей Сэнди, – уверенность в себе. Списки, которые, как она надеялась, помогут ей заполнить долгие часы в доме, где она, даже когда была по горло занята, казалось, вечно ждала Теда.
Она тщательно планировала время. Завтрак ровно в 7.15, стирка по вторникам, ужин при свечах по субботам – неважно, какой. Она словно верила, что эти расписания, если их строго придерживаться, обеспечат ту прочность, то соединение, которое, казалось, так естественно появляется в каждой семье, кроме ее собственной. Глажка по средам, жаркое по четвергам.
Но эти графики, которые когда-то казались Теду забавными и даже умиляли его, с годами начали превращаться в некий монолит, выраставший перед ним, окружавший его, отрезая доступ воздуха, заставляя его задыхаться.
Он взглянул на часы над столом. Шесть сорок пять. Как раз то время, когда он должен быть дома. Он наклонился вперед, кресло на колесиках скрипнуло. Нахмурился. Набрал номер.
– Я немного задерживаюсь, – сказал он ей. – Надо еще просмотреть кое-какие бумаги.
В 7.30 он позвонил снова.
– Это займет несколько больше времени, чем я рассчитывал.
И еще раз, в восемь часов.
Когда он приехал домой после девяти, четвертый вечер подряд, Энн стояла на кухне спиной к нему, перемешивая салат, который приготовила много часов назад, вилка и ложка громко звякали друг об друга.
– Я, по крайней мере, звонил, – сказал он.
– Если ты собираешься вернуться домой в девять, почему ты так и не скажешь? Тогда я смогу распланировать вечер. Чего я не выношу, так это быть связанной. Ждать.
– Ну так возьми и делай, что хочешь. Я не просил ждать меня.
– Но ты же знаешь, что я буду ждать.
– Кто же в этом виноват?
Время от времени она пыталась сделать так, как предлагал он, распланировать вечер так, словно и не ждет его, но побороть привычку было трудно, и даже когда она ужинала без него, купала Джулию и укладывала спать, смотрела телевизор, она прислушивалась, тревожилась, ждала его.
Сэнди сидела за столом на кухне у Энн, перед ней лежала стопка «Кроникл». Несмотря на то, что к этому времени статьи за ее подписью уже года два появлялись в газете довольно регулярно, Энн все еще вырезала каждую и даже просила Сэнди принести лишние экземпляры с серией заметок об успешных попытках округа добиться отмены строительства атомной электростанции в его окрестностях. Историю подхватили телеграфные агентства и перепечатали некоторые газеты по всей стране.
– Ничего не могу поделать, я горжусь тобой, – сказала Энн с улыбкой. На восьмом месяце второй беременности ее лицо стало одутловатым, и улыбка тонула в расплывшихся щеках. На этот раз вес был просто весом, тем, от чего необходимо избавиться как можно быстрее.
Сэнди отодвинула газеты в сторону. В последние несколько месяцев она частенько приходила к сестре ужинать, якобы для того, чтобы составить ей компанию, когда Тэд задерживался в конторе. Она являлась, вооружившись списком новых слов, которые недавно узнала и хотела, чтобы Энн заучивала их, повторяя и втолковывая их серьезно, настойчиво и терпеливо: маниакально-депрессивный, недееспособный…
– Ну какая разница, как это назвать? – спрашивала Энн, – Эстелла такая, какая есть.
– Как ты не понимаешь, у этого есть название. Это не просто Эстелла. Не то, что она сделала с нами. Не что-то неопределенное, Энн. Это реальность. Болезнь. У нее есть название и признаки.
– Все равно не понимаю, каким образом от этого что-то меняется.
– Меняется наше отношение. Это не наши фантазии, мы не выдумывали ее. Это не наша вина.
Энн немного помолчала.
– Ты думаешь, если наклеить на Джонатана и Эстеллу ярлык и поместить их в коробочку, то отделаешься от них? Разве ты не можешь просто принять их такими, какие они есть?
– Нет. А ты можешь?
Энн ничего не ответила.
Придя домой, Тед открыл пиво и сел вместе с ними за стол, поставив бутылку прямо на «Кроникл».
– Славная работа, Сэнди, – язвительно заметил он.
– В чем дело? Тебе не понравился мой синтаксис?
– Да нет, по мне твой синтаксис вполне хорош, – сказал он, улыбаясь. – Со стилем у тебя все в порядке. Вот тема – другое дело.
– И что все это должно означать?
– А то, что эта самая электростанция, против которой ты так выступала, могла бы дать городу много рабочих мест, которые нам сейчас так отчаянно нужны.
– Тед, – вмешалась Энн, – мне казалось, ты был против этой электростанции. Ты сам говорил, что они недостаточно в этом разбираются.
Он пропустил ее слова мимо ушей.
– Что за ощущение, когда обладаешь такой властью? – спросил он у Сэнди.
– А я и не подозревала, что обладаю какой-то властью. Но уверена, что если бы это было так, то было бы просто замечательно.
Тед засмеялся.
– Не сомневаюсь.
– Тебе лучше знать, – продолжала Сэнди. – По-моему, в этом доме вся власть в твоих руках.
– Вот как ты считаешь?
– Угу.
– Откуда такие познания?
– Отнеси это на счет моей исключительной наблюдательности.
Тед улыбнулся.
– Что ж, внешность бывает обманчива. За симпатичной наружностью твоей сестры скрывается на удивление упорное стремление поступать по-своему. Правда, Энн?
Они оба посмотрели на нее.
– Пошли вы, – произнесла она так тихо, что в первый момент они оба подумали, что ослышались. – Пошли вы оба. – Она вскочила из-за стола и быстро вышла.
Взгляды Сэнди и Теда встретились, и они поспешно отвели глаза в сторону. Сэнди последовала за Энн в гостиную.
– Энн?
– Оставь меня в покое, ладно?
– Извини. Я не понимаю, в чем дело, но все равно извини.
– Думаешь, раз я не пишу для какой-нибудь дурацкой газеты, значит, я идиотка. А, черт, что я вообще понимаю, у меня даже работы нет. Все простые ответы знаешь только ты.
– Ох, Энн, я никогда не имела в виду ничего подобного. Мне это даже в голову никогда не приходило.
– С чего ты так уверенно судишь о моей жизни?
– Извини. Пожалуйста.
Энн вздохнула.
– Я позвоню тебе завтра, – предложила Сэнди, подхватив свои вещи, стоя с ключом от автомашины в руке. – Договорились? Договорились, Энн?
– Конечно.
Когда Тед услышал, как закрылась дверь, он подсел к Энн на диван.
– Я ничего особенного не хотел сказать, – произнес он и прижался к ней. – То есть, я имею в виду, мне нравится это твое стремление. Ну, давай поцелуемся. Давай. Вот так-то лучше.
Трехлетняя Джулия бежала впереди них, ее крепкие ножки так и мелькали, направляясь прямо к ступенькам при входе. Она поздно начала ходить и с тех пор с редкостной сосредоточенностью наверстывала упущенное. Одним из первых она выучила слово «я», и хотя теперь уже произносила полные и понятные предложения, стоило ей расстроиться, особенно если кто-то пытался сделать за нее то, что она точно могла бы сделать сама, язык и воля все еще сталкивались в вихре «я-я-я-я», пока она не добивалась своего. Энн никогда прежде не слышала, чтобы ребенок в ее возрасте совершенно спокойно и охотно оставался в комнате один.
Энн шла на несколько шагов позади, держа Эйли, завернутую в желтое, связанное крючком одеяло, рядом с ней – Тед, нагруженный двумя коробками книг. В тот день они уже пять раз ходили туда-сюда, этот был последним. Коробки и узлы все еще громоздились у входа в их новый дом на Сикамор-стрит, и Тед при входе споткнулся об них.
– Нет ничего лучше своего дома, – сказал он, поднимаясь с кучи вещей на полу.
Энн отнесла Эйли в пустую спальню, где заранее поставила кроватку, и осторожно уложила. Пол, стены и окно были еще голыми, и когда она обернулась на пороге, ей показалось, что она неосторожно оставила ребенка плавать в таком огромном пустом пространстве. В соседней комнате Джулия стояла у окна – ее глаза были как раз на уровне подоконника – и выглядывала во двор с удовлетворением новоиспеченного владельца. Она не слышала, как Энн прошла мимо, раскладывая на кровати свое любимое одеяло, малиновый прямоугольник в мелкую крапинку.
Энн тихонько спустилась по лестнице и остановилась возле Теда, который удерживал на перилах металлический ящик с инструментами.
– Чувствуешь себя взрослой? – спросил он с улыбкой.
– Скорее самозванкой. Ты думаешь, мы потянем все это?
– Ты имеешь в виду материально?
– Я имею в виду все вместе.
Он засмеялся и притянул ее к себе.
– Да.
Она поцеловала его шею сбоку, и его запах, его тепло пробудили в ней нечто, в последнее время слабое, едва заметное. Он почувствовал, как раскрылись ее губы, встретил их, просунул руку ей под свитер. «Не здесь», – прошептала она уже слегка охрипшим голосом, и он втолкнул ее в просторный и пустой гардероб рядом, где, стоя в темноте, они приникли друг к другу с торопливым, отчаянным и неутолимым желанием.
– Слышал? – прошептала она, прижавшись вспотевшим лбом к его груди.
– Что?
– Тс-с-с.
Она поправила свитер, застегнула джинсы и, чуточку приоткрыв дверь, увидела Джулию, сидевшую на нижней ступеньке, прижав к уху малиновое одеяло.
Когда после нескольких лет подъема спрос на строительство торговых центров упал и дела фирмы пошли хуже, Нолан Парселл, озабоченный тем, чтобы не потерять Теда, поручал ему даже самые мелкие проекты, пристройки, внутренние дворики, гаражи. Сам Парселл становился все сварливее, и по тем сердитым фразам, которые вырывались у него, когда он терял осторожность, было очевидно, что фирма обременена долгами, в которые влезла в то время, когда казалось, что конца расширению строительства не будет. «Лефти были нужны деньги, – ворчал он. – Тупой жадный ублюдок».
Тед, привыкший руководить бригадами и заниматься одновременно несколькими проектами помельче, вдруг обнаружил, что снова загружены ерундой. Всякое сочувствие, какое он, возможно, и испытывал к Парселлу, пропало из-за его собственного сильнейшего разочарования и усиливавшейся желчности Парселла.
Теперь Тед задерживался в офисе, чтобы отксерокопировать списки клиентов, разобраться в сметах, накладных, поставщиках стройматериалов, транспортировщиках, страховке. Засунув бумаги с цифрами и именами в карман пиджака, он переходил улицу и в «Блуберд-Инн» встречался с Карлом Фрименом, чтобы выпить пива и разработать стратегию. Лишь постепенно отвлеченные размышления двух товарищей по работе начали обретать весомость, и они стали серьезно рассматривать вероятность и, наконец, возможность. Почему бы нет?
Эти планы начали возникать в его разговорах с Энн, пока не стали почти такими же, как в их первые ночи в мотеле «Е-Z», когда он впервые дал волю мечтам. И вот, после стольких лет, у него появился шанс на независимость, самостоятельность, положение. Каждое предложение, каждый шаг, с которыми он приближался к осуществлению этой мечты, казалось, придавали ему смелости, и по дому разлилось напряжение, наэлектризованность, которой заражалась Энн и даже девочки; может быть, это и есть тот случай.
Накануне открытия фирмы «Уоринг и Фримен» в новом офисе в западном конце города организовали вечеринку. Всю предыдущую неделю Теда одолевала бессонница, которая не то что утомляла его, а скорее подстегивала его нетерпение, так что, в конце концов, он просто не мог усидеть на одном месте даже чтобы поесть или лежать достаточно долго, чтобы отдохнуть. Днем он находился в офисе вместе с Карлом и новой секретаршей, Рут Бекер, разглядывая молчащие телефоны, белые, элегантные, многофункциональные, листая роскошный ежедневник, который подарила ему Энн, прихлебывая припрятанное в столе виски, которое не оказывало на него никакого заметного действия, растворяясь в горячке его возбуждения.
Энн нарядила девочек в парадные платья, белые гольфы, переднички, хотя Джулия в свои девять лет уже считала себя слишком взрослой для подобных вещей. Все трое устроились на переднем сиденье «бьюика» Энн. На заднем сиденье находились цыплячьи крылышки в кунжуте, фаршированные грибы, домашние шоколадные пирожные с орехами. Жена Карла, Элис, готовила пунш, а мужчины заполнили специальные корзины льдом и поставили охлаждаться напитки.
Когда они приехали, в здании было уже полно людей, которых Энн никогда раньше не встречала – подрядчики, электрики, местные торговцы, будущие клиенты, а также семья Карла. Столы, окна, полы – все сияло полной, чистейшей новизной. Энн поставила еду на стол, который приготовила Элис, и смотрела, как девочки отделялись от нее, сначала Джулия, потом Эйли. Она разглядела Теда в другом конце комнаты, он похлопывал по спине какого-то коренастого краснолицего человека и в то же время взгляд его быстро, слишком быстро блуждал вокруг, не задерживаясь ни на ком, ни на чем. Углы губ кривились, определенно выражая неудовлетворенность, которой не возникало в эти месяцы подготовительной лихорадки.
– Что это с ним?
Энн обернулась и увидела Сэнди, достававшую из корзины бутылку пива.
– Не знаю. Может, депрессия. Они так напряженно работали ради всего этого. Сделай мне одолжение. Пойди скажи ему, как замечательно выглядит офис.
Сэнди улыбнулась.
– Я сама покладистость.
Энн наблюдала, как она прошла сквозь небольшую толпу к Теду, приподнялась, здороваясь, поцеловала его, и впервые за этот вечер плечи, лицо и глаза Теда расслабились. Их голоса сливались с негромким гулом других, и как Энн ни старалась, она не могла расслышать, чему они засмеялись, сначала Тед, потом Сэнди. Их разговор прервался лишь, когда к ним подошел Карл с каким-то человеком, с которым он хотел познакомить Теда.
– Задание выполнено, – доложила Сэнди, возвращаясь к Энн.
Но когда Энн, Тед и девочки уходили – последними, – Тед выудил из лужи в корзине бутылку пива, осушил ее двумя долгими глотками и отсалютовал пустой бутылкой пустому офису.
– Добро пожаловать на всю оставшуюся жизнь, – провозгласил он.
– Я поведу машину, – сказала Энн, когда Тед снова потянулся к корзине, чтобы захватить еще одну на дорогу.
Она сняла с девочек выходные платья и уложила, заботливо подоткнув одеяла. Когда она вернулась в свою спальню, Тед валялся на кровати в одежде, уставясь в потолок.
– Хочешь поесть? – спросила она.
– Нет.
– Ты целый день ничего не ел.
– Что ты заладила? Я же сказал, нет.
Она тихонько начала раздеваться, опасаясь, что достаточно любого неожиданного движения, любого резкого звука, чтобы он завелся.
– Что с тобой? – проворчал он у нее за спиной.
– Ничего.
– Ладно.
– Тебе следовало бы быть поаккуратнее с выпивкой, – сказала она, оборачиваясь к нему.
Он так и взвился.
– Да пошла ты к дьяволу. Никто никогда не указывал мне, что делать, и не тебе сейчас начинать.
– Я и не указываю тебе, что делать.
– Не указывай мне, что делать, – твердил он, не обращая ни на что внимания, – не указывай, и все. Слышишь? – Он раздевался, выпаливая эти слова, и его покрасневшее лицо все больше багровело. – Что ты о себе воображаешь, черт возьми? Мне всегда приходилось самому о себе заботиться, и у меня это отлично получалось. Не лезь ко мне с указаниями. – Он скомкал в руках рубашку, сминая ее пальцами в тугой узел в такт тупо повторявшимся словам. Она замерла, как-то бесстрастно, словно со стороны, прикидывая, швырнет ли он в нее – от этой мысли прямо пробирала дрожь, тогда все стало бы таким четким, определенным, – но он вместо этого швырнул ее на пол, куда она опустилась совершенно бесшумно, несмотря на приложенное усилие.
Они легли спать, не обменявшись больше ни единым словом. Среди ночи Энн разбудил звук падения тела на пол в центре спальни. Она подскочила к Теду как раз в ту минуту, как глаза его закатились и челюсть отвисла. Она звала его по имени, поворачивала его голову, посеревшее лицо, но он не отзывался – мертвый, далекий. Она, спотыкаясь, кинулась к телефону на тумбочке и набрала 911. «У моего мужа сердечный приступ», – задыхаясь, выпалила она, любовь и все давно ожидаемое ощущение неизбежности ее утраты снова нахлынули с одинаковой безысходностью. Но, уже диктуя диспетчеру адрес, она услышала, как Тед захрипел и пролепетал что-то бессвязное, приходя в сознание, заливая мочой себя и ковер.
– Мне показалось, что ты умер. – У нее в глазах стояли слезы.
– Извини, – прошептал он. – Извини, извини.
Она помогла ему сменить мокрое белье и лечь в постель.
– Извини, извини, – бормотал он, снова проваливаясь в сон.
Тед с головой ушел в свое новое дело и усилия, которые требовались, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. Они с Карлом тратили долгие часы на то, чтобы обхаживать клиентов, следить за конкурентами, учиться работать вместе. После нескольких неудачных проб и ошибок они решили, что обсуждать с клиентами контракты и расценки будет Карл. Ему нравились переговоры, взаимные уступки, споры и торговля – все то, чего терпеть не мог Тед. Сначала Карл подтрунивал над ним: «Расслабься, развлекайся. Все это входит в правила игры». Но, если кто-нибудь спрашивал Теда, во сколько обойдутся окна или электропроводка, он воспринимал это как проявление неуважения лично к нему и вечно был на грани того, чтобы рявкнуть: «Черт возьми, платите, либо проваливайте». Самое большое удовольствие он получал непосредственно на строительных площадках, когда собственными руками трогал инструменты и материалы, вдыхал запах свежей древесины.
И все же работа не поглотила его целиком, не ослабила беспокойства. И что-то произошло: Энн утратила веру в него. Сначала она думала, что это как с любовью, что она может скрываться и возрождаться вновь, но вскоре обнаружила, что, однажды потерянная, вера исчезает навсегда.
Тед видел в ее глазах эту матовую пустоту там, где раньше была вера, и впервые он терзался мыслью о возможности потерять ее, потерять то, что, несмотря на все перемены, он с самого первого дня их брака считал непреложным фактом, неизменностью, чем-то, что не нуждается каждый день в проверке и восстановлении.
Энн каждое утро вставала рано, одевала девочек в школу, варила им кашу. Она любила сидеть напротив них, смотреть, как они пьют молоко, как держат стакан обеими руками, широко раскрыв глаза, уставившись в какую-то точку в пространстве. Такие серьезные и сосредоточенные, словно смотрят в саму бесконечность.
Пока с какого-то момента они уже брали стакан не обеими руками, а небрежно, одной. Торопливые. Повзрослевшие. Все шло к тому, что они будут потеряны для нее.
Она решила взяться за благотворительную работу. Не совсем бескорыстно. Она надеялась, что заведет достаточно много знакомств, что у нее будет достаточно встреч, чтобы заполнить ежедневник в переплете из красной кожи, купленный в тот день, когда она приняла это решение. Самостоятельность казалась ей чем-то таким, что можно отработать, выучить через повторение. Она записалась на работу при больнице два дня в неделю по программе помощи – читать слепым.
Она сидела в стеклянной кабине с Марком Карински, красивым сильным мужчиной сорока четырех лет, который постепенно терял зрение из-за retinitis pigmentosa, неизлечимого заболевания глазной сетчатки. «Похоже на то, как с зеркала осыпаются осколки, – объяснил он ей. – В каких-то местах еще видно отражение, а в других – ничего». Он когда-то работал на «скорой», но теперь больше ни имел этой возможности. Однако ему все еще нравилось не отставать, быть в курсе дела по своей профессии, и каждую неделю он приносил бюллетень по заболеваемости и смертности, содержавший статистические данные о смертельных исходах за предыдущую неделю и об их причинах.
– Прочтите мне список, – велел он ей. – И пожалуйста, читайте быстро. Последний раз читали так медленно.
Сухой жар, исходивший от грязной батареи у окна, иссушал губы Энн, пока она читала. Марк открыл маленький пакет с орехами, который он купил в магазине диетических продуктов, и, торопливо проговаривая слова, она слышала, как оболочка раскалывается, ядро отделяется, жуется, проглатывается. Через каждые несколько минут он открывал циферблат на своих часах и дотрагивался до выпуклых цифр. Ровно через два часа после того, как она начала читать, он остановил ее, когда она спешила перейти к следующему параграфу: «Очень хорошо». Она подняла глаза и увидела обращенное к ней бесстрастное лицо. «Увидим ли мы вас в следующий вторник?»
Она было закивала, потом быстро сказала «да».
В тот вечер она попыталась передвигаться по кухне с закрытыми глазами или, чтобы точнее приблизиться к его описанию, загородив глаза чуть растопыренными пальцами. Она лежала в постели возле Теда с закрытыми глазами, по телевизору шел фильм.
– Ты не заболела? – спросил он.
– Просто устала.
К концу недели голени и колени у нее покрылись синяками от ее исследований.
Хотя в программе имелась установка на смену чтецов, чтобы предотвратить возникновение привязанностей, для Марка сделали исключение: ему было так трудно угодить, и вот, наконец, нашелся чтец, которого он одобрил. Каждый вторник и четверг Энн сидела с ним в маленькой стеклянной кабине. Он мог быть вспыльчивым, словно стремился избежать любой неловкости, любого намека на сочувствие, которое могла бы возбудить его прогрессирующая слепота, и поначалу Энн торопилась начать чтение, боясь отнимать у него время неуместной болтовней. Однако мало-помалу они начали разговаривать. Он каждый день часами занимался – ходил к одному китайцу, который учил его самообороне, как почувствовать приближение нападающего, и на его руках бугрились мускулы, выпирая из коротких рукавов рубашек, которые он предпочитал даже сейчас, в разгар зимы. Он рассказал Энн про свою подругу, только что оставившую его после четырех лет, и о своих планах вскоре переехать в Олбани или, может быть, в Нью-Йорк. «Если не можешь водить машину, в провинции жить невозможно, – будничным тоном сказал он ей. – Большие города для слепых гораздо удобнее». Когда заканчивался Бюллетень по заболеваемости и смертности, он просил Энн читать информационный бюллетень организации, к которой он принадлежал, «Светский гуманист». Слова для нее были разъединены, лишены смысла. Существовали только жар от батареи, орехи, ее пересохшее горло, ее желание произвести на него впечатление скоростью и эффективностью чтения.
Дома она грезила о нем, видела странно безмолвные, невнятные сны, сны, где части тела, конечности, туловища проникали друг в друга, где само прикосновение причудливо изменялось.
Однажды в четверг – к тому времени она читала ему уже около двух месяцев – он попросил ее отвезти его домой. «Сосед, который обычно подвозит меня, заболел гриппом», – сказал он ей. Когда они пошли по стоянке к ее машине, он взял ее за руку выше кисти, уверенно обхватив пальцами, словно она принадлежала ему.
Когда они остановились перед его домом, то минуту молча сидели в машине, мотор работал. Она размышляла, спросить или нет, нужно ли помочь ему дойти до квартиры; она никогда точно не знала, какую помощь он сочтет оскорбительной, за что будет благодарен, как и никогда точно не знала, что он на самом деле может или не может видеть. Только она решилась предложить, как он потянулся к ней и поцеловал, отыскав ее губы после самой краткой заминки. Он чуть отстранился, и она ощутила его дыхание, теплое, слегка отдающее запахом орехов кешью. Она закрыла глаза и снова привлекла его к себе.
Они продолжали встречаться в стеклянной кабинке каждый вторник и четверг и внутри ее вели разговоры вежливыми, равнодушными голосами: простой обмен любезностями, чтение и слушание. А после этого ехали к нему домой, где, как только они входили в квартиру, он заботливо включал свет, хотя для него не было никакой разницы.
Внутри все было расположено в определенном порядке. В ящиках белые рубашки лежали справа, темные – слева. В гардеробе одни за другими висели пять пар черных брюк, все с безупречно отутюженными складками. На кухне в три столбика стояли девять банок с томатным супом «Кэмпбелл». Кроме приправ, которыми он не так часто пользовался, обслуга в магазине нагружала его тележку банкой каждого томатного супа, имевшегося в продаже, двадцать семь штук, и он постепенно съедал их. Энн была очарована порядком, дисциплиной и жадной, неутолимой страстью, прорывавшейся сквозь его маску, когда они занимались любовью. Сначала существовало только это, страстная жажда друг друга, стремление встретиться, наполнить, насытиться. Позднее, когда у них стало больше времени, он пробегал пальцами вокруг и внутри самых потайных уголков и складок ее тела, о существовании которых она и не подозревала, прикасаясь к ней так, словно она была незнакомой.
И они разговаривали.
После того, как она уклонилась от его расспросов о муже, детях, их доме, они остановились на более отдаленном прошлом, на детстве, в качестве предмета обсуждения. Отец Марка тоже страдал глаукомой, и Марк вырос в ожидании, когда она доберется до него.
– Даже зная, что она наступает постепенно, я никогда до конца не верил, что она не придет внезапно, что я просто однажды не проснусь совершенно слепым. Каждый день, когда этого не происходило, я считал, что выиграл. Но, даже хотя шансы были пятьдесят на пятьдесят, я почему-то всегда знал, что в конце концов заболею. Иногда мне даже кажется, что она возникла именно из-за этой моей уверенности. Я понимаю, что это чепуха. Мой брат на два года старше меня, и он здоров. Это трудно объяснить.
– Я понимаю, – заметила Энн и рассказала ему про Эстеллу, про то, как она по целым дням не вставала с постели и про ее ангелов, и про свои собственные уловки, чтобы избежать их, – то, о чем она раньше никогда ни с кем не говорила.
– Они тебе не грозят, – заверил он ее.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что ты можешь видеть противника. Это снимает элемент внезапности, так выигрываются сражения.
– Но и ты мог видеть врага.
Марк засмеялся.
– Не знаю, как втолковать вам это, мэм, но я ни хрена не вижу. Черт побери, я даже не знаю, какого у тебя цвета волосы. Я только знаю, что у тебя красивый голос.
– Каштановые, – сказала она.
Она встала, чтобы приготовить чай, и принесла его в постель.
– Ты не сердишься? – спросила она его.
– Ты бы удивилась, сколько в жизни всего, без чего, кажется, невозможно обойтись, на поверку оказывается совершенно несущественным, – ответил он.
Энн очень старалась не менять обращения с Тедом, не нуждаться в нем меньше или больше, и по-настоящему так оно и было. Она не ощущала вины. Все было так, словно Марк, его квартира существовали в каком-то отдельном закоулке времени, двери в который Теду никогда не отыскать. Они были, как дети, играющие в прятки, которые, закрывая глаза, считают, что становятся невидимыми, потому что больше не видят вас.
Однажды она заехала за Марком с утра, и они отправились за двадцать миль в Хэндли, в кинотеатр «Синеплекс». Кроме них, там была лишь горстка людей, и они сидели ближе к концу зала в окружении пустых мест.
В паузах между репликами Энн шепотом пересказывала ему, что происходит, не спуская глаз с экрана, почти прикасаясь щекой к его щеке, ощущая, как он подался к ней, впитывая информацию, нетерпеливыми кивками требуя еще, его восторженное внимание было так же непривычно для нее, как и уверенность собственного голоса, тихого, ровного шума в мерцающей темноте.
Во время одного из ее объяснений мужчина в шерстяной кепке, сидевший впереди за пять рядов от них, обернулся и кинул на нее сердитый взгляд, но она выдержала его, не прерываясь.
В тот день больше ни на что не оставалось времени, и она высадила его возле дома и смотрела, как он напряженно и твердо шел к дверям. Один раз он обернулся, отыскивая в воздухе следы ее присутствия, и в то мгновение ей хотелось лишь выскочить из машины и войти вместе с ним в сумрачную квартиру, но она не шелохнулась, подождала, пока он медленно отвернулся, скрылся, и заторопилась, чтобы успеть домой раньше девочек.
Когда она входила в дом, звонил телефон.
– Алло?
– Здравствуйте. Это дом Энн Ледер Уоринг?
Официальность тона немедленно заставила ее насторожиться.
– Кто говорит?
– Сержант Томазис. Полиция, мэм. Вы дочь Джонатана и Эстеллы Ледер?
– Да.
– Мэм, у меня, я боюсь, у меня для вас печальное известие. Произошел несчастный случай.
– Где они?
– Они скончались.
И потом подробности, где, когда. Тела.
Этот голос и его безумный бред – он все бубнил и бубнил.
Должно быть, Энн повесила трубку, позвонила Сэнди, согласилась, что будет лучше, если Сэнди поедет опознавать тела.
Но все, что она запомнила, – это бесконечная оглушающая тишина и одно слово – тела.
Тела – снова и снова, до тех пор, пока она не готова была на все что угодно, лишь бы заглушить, остановить это.
На похоронах было мало народу. Брат другого пострадавшего водителя, молодой женщины, которая отделалась серьезным переломом ноги, подъехал, но не смог заставить себя выйти из машины. Проводы были слишком малочисленны и скромны. Он наблюдал издалека, потом уехал.
Во время всей церемонии и после нее Энн думала только об одном: когда две машины столкнулись, видели их водители глаза друг друга? Раздробились ли они в паутине разбитого стекла на тысячу, триллион этих застывших, полных ужаса мертвых глаз, огромных, как белая пустая луна? Было ли мгновение, пусть самое мимолетное, когда они поняли, что это и есть конец?
Или, может быть, Джонатан и Эстелла смотрели только друг на друга. Да, это было вполне возможно.
Неделю спустя Сэнди и Энн встретились в сером доме на Рафферти-стрит, чтобы разобрать пожитки Джонатана и Эстеллы. Воздух наполнял знакомый дух гниющей еды и прогорклого жира. На заляпанном черно-белом линолеуме валялись два опрокинутых мешка с мусором, рассыпая по полу вокруг свое заплесневелое содержимое. Пара некогда замороженных котлет лежала на стойке в луже воды.
Энн нагнулась вытереть яичный желток, упавший на ее замшевую туфлю, когда она открыла дверцу холодильника.
– Опять Оззи и Хэрриет не убирались? – спросила Сэнди, входя на кухню.
Энн кивнула, выпрямляясь. Двухлитровые упаковки молока и огромные пластиковые бутылки содовой, еще три коробки яиц – слишком много на двоих, но несомненно, приобретено по неотразимо низким ценам, – всем этим холодильник был набит битком. Она прошла в гостиную и трогала один предмет за другим, желтеющие газеты, влажные полотенца, два нейлоновых пиджака, свисающих с лампы.
– Что нам делать со всем этим барахлом?
– Я за то, чтобы нанять мусоровоз, – заявила Сэнди язвительно, осторожно. Чувство юмора у Энн никогда не проявлялось по отношению к Джонатану и Эстелле.
Но Энн засмеялась, и когда Сэнди вопросительно взглянула на нее, она лишь пожала плечами и вышла.
Энн отправилась в ванную и взяла банку с хной. Какого цвета волосы были в тот вечер у Эстеллы? Была ли кровь на ее кроваво-красных волосах?
Сэнди нашла ее сидящей на холодном полу.
– С тобой все в порядке?
Энн кивнула.
– Знаешь, так странно, но я была не в состоянии заплакать. Ни разу. Даже ни слезинки уронить. Знаешь, что я чувствую, Сэнди? Хочешь знать, какой я чувствую себя на самом деле?
– Какой?
– Свободной.
Однажды несколько недель спустя Сэнди позвонила после полуночи, ее голос был тих, неуверен и печален.
– Я хочу кое-что рассказать тебе.
– Что?
– В последний раз я видела Джонатана и Эстеллу, когда шла обедать в «Джинджер бокс» с той женщиной, которую только что приняли в газету литсотрудником. В общем, я заметила их на другой стороне улицы, за полквартала от нас. Эстелла была в длинной оранжевой юбке и одном из свитеров Джонатана, а Джонатан размашисто шагал, по своему обыкновению сутулясь, запустив руку в бороду. Они выглядели так, словно свалились с луны. Не знаю, Энн, может, я просто немного растерялась от неожиданности, я только не хотела, чтобы они знакомились с этой женщиной, понимаешь? Она же ничего не знала о них, о нас. Они были увлечены разговором, и когда они остановились перед витриной книжного магазина, я быстро провела ее мимо.
Некоторое время слышалось лишь дыхание Сэнди.
– Каждый вечер, лежа в постели, я заново проигрываю то мгновение. Вихляющая походка Джонатана, рыжеватые спадающие волосы Эстеллы, они приближаются ко мне снова и снова. Каждый раз я пытаюсь заставить себя пересечь улицу, поздороваться с ними, представить их той женщине. Но, как бы я ни старалась, мне это никогда не удается.
Она больше не произнесла ни слова и Энн тоже. Они одновременно повесили трубки, и внезапно между ними оказались лишь раскинувшийся по городу покров ночи и ее слова, словно еще один недостающий кусочек от давно потерянной головоломки.
Увидевшись с Энн в следующий раз, Сэнди сказала:
– Что же, для тебя это всегда было легче, правда? Любовь и все такое прочее.
Несколько недель Энн не ходила в больницу читать, сказываясь больной, и наконец предупредила, что увольняется, – все не говоря с Марком. Каждый вторник и четверг она представляла, как он идет по проходу между стеклянными кабинками и находит только того, кто замещает ее. По крайней мере десяток раз она набирала номер его телефона, но всегда вешала трубку, не дождавшись соединения.
Наконец однажды утром, посадив девочек в школьный автобус, она села в машину и поехала через город. Он только вылезал из-под душа, когда она позвонила в дверь, и под чистой белой рубашкой и черными брюками его кожу покрывала мыльная влага. Удивленный ее приходом, он позабыл включить ей свет, и они сидели рядышком в темноте.
– Извини, – сказала она, – мне следовало позвонить.
– Я беспокоился. Мне сказали, что ты заболела.
– Нет, я не болела.
– Что-нибудь случилось?
– Нет. Да. Не совсем. Мне нужно было время, чтобы подумать.
– О нас?
Она заметила, как его тело напряглось, изготавливаясь, настораживаясь, – все эти занятия по самообороне.
– Так дальше не может продолжаться, Марк. По крайней мере, я так не могу. В какой-то момент все оборачивается обманом. Сначала этого не было. Во всяком случае, мне так не казалось. Но это неизбежно. Дело не в Теде, не то чтобы я считала, что обманываю Теда, что бы это ни означало. Но обман не обязательно происходит по отношению к кому-то конкретно, так ведь?
– А я всегда считал, что обязательно, – холодно отозвался он. Он даже не пытался прикоснуться к ней, повлиять на нее. – Скажи, я что же, был для тебя просто экспериментом? Этакий акт милосердия?
– Не надо. Пожалуйста.
– Занятие для скучающей домохозяйки? Положение обязывает?
– Ты знаешь, что все было не так.
– Не уверен, что именно я знаю.
Она попыталась дотронуться до его лица, но он отшатнулся.
– Никто никогда не слушал меня так, как ты, – тихо сказала она.
– Это одно из того, чем занимаемся мы, слепые, – резко ответил он. – У нас нет выбора.
– Извини, – сказала она. – Я-то считала, это оттого, что я, может быть, действительно была тебе интересна.
Они немного помолчали.
– Я замужем, – мягко сказала она.
Он кивнул, вздохнул, встал.
– Я думаю, тебе лучше уйти.
– Но…
– Пожалуйста. Только без этой чуши насчет «не можем ли мы быть просто друзьями», ладно?
– Ладно.
– Пожалуйста. Уходи.
Он обошел диван, прошел по коридору и скрылся. В собственном доме он передвигался без всякой неуверенности, без сознания риска, отмечавшего каждый его шаг за ее пределами.
Энн минуту постояла в темной комнате, а потом вышла, с шумом закрыв за собой дверь, чтобы он знал, что она ушла, что теперь он может выйти.
Существовало одно мимолетное мгновение, каждое утро, когда она только открывала глаза, и день притворялся новым. Но потом все начиналось снова с того места, где кончилось. Сначала Тед предполагал, молчание Энн, ее замкнутость связаны со смертью Джонатана и Эстеллы. Он думал, что это можно переждать, что это пройдет. Но все продолжалось, усиливалось, и постепенно за внешним спокойствием он смог различить, как она осторожно распускает узлы, освобождаясь от него. Впервые он познал разочарование человека, от которого отгородились, который не просто стучится в запертую дверь, но даже не уверен, есть ли за ней хоть кто-нибудь. Она больше не задавала вопросов о его поздних возвращениях, о его настроениях, просто не замечала их. Она больше не боролась с ним и не пыталась успокаивать его. Тед все больше пугался, все больше жаждал хоть какой-нибудь реакции, он пытался задерживаться еще дольше, а когда это не подействовало, не побудило ее интересоваться, где он, он попытался быть таким, каким она всегда хотела его видеть, – вездесущим, услужливым, пытливым. Но ни один путь не возвращал ее ему.
Однажды вечером он рано вернулся с работы и, застав ее за приготовлением рагу из цыпленка, откупорил пиво и прислонился к холодильнику. Девочки были наверху, предполагалось, что они заканчивают делать домашние задания, хотя он слышал звук работающего телевизора.
– Мне казалось, существовало правило: никакого телевизора до ужина.
Энн пожала плечами. Она отошла к раковине сполоснуть фасоль в дуршлаге. Обернувшись к плите, она увидела, как Тед помешал рагу, потом взял солонку и подсыпал соли.
– Что ты делаешь?
– Ты вечно недосаливаешь.
– Если бы мне понадобилось досолить, я бы так и сделала.
– Ты, возможно, в последнее время этого не замечаешь, – язвительно произнес он, – но, кроме тебя, в этом доме есть и другие.
Она смерила его взглядом, потом взяла солонку, отвернула крышку и высыпала все содержимое в рагу. Он уставился на нее – ярость в ее глазах, в его глазах – и бросился вон.
Когда она услышала, как его машина рванула от дома, она спокойно приготовила три сандвича с тунцом, разложила их по тарелкам и, оставив рагу кипеть на плите, отнесла их наверх, где девочки смотрели повторный показ «Я люблю Люси».
– Ужин подан, – объявила она, улыбаясь, усаживаясь на полу между ними.
– А где папа? – с подозрением спросила Джулия.
– Ему пришлось вернуться на работу. Ну вот. Я купила ваши любимые картофельные чипсы.
Девочки ели медленно, между делом бросая на мать быстрые взгляды, считая, что если усиленно всмотреться, они отыщут распорядки и правила, внимание, которые куда-то подевались с недавних пор. Их отсутствие странным образом сбивало их с толку, оставляло в растерянности.
Тед вернулся уже после десяти часов. Он присел на угол кровати, где лежала, закутавшись в одеяла, Энн.
– Прости меня, – тихо сказал он. – Я тебя люблю. Я не понимаю, что происходит, но я тебя люблю.
Она задумчиво посмотрела на него.
– Помнишь, когда-то давно ты сказал мне, что считаешь, будто любовь может существовать без всяких ожиданий? Ты сказал, что любишь именно так. Помнишь? А я еще так рассердилась?
– Возможно, я ошибался.
– Возможно, ты был прав.
– Не делай этого, – попросил он.
– Не делать чего? Не быть такой, как ты?
– В твоих словах такая горечь. Неужели я действительно так сильно тебя обидел?
– Я жалею о том, что сама сделала или не сделала. Ты не виноват в том, что я считала, будто ты так сильно мне нужен.
– Разве это так ужасно – нуждаться в ком-то? Ты нужна мне.
Она засмеялась.
– Наконец-то.
С того вечера тишина разорвалась, сменившись шумными ссорами, которых они раньше не затевали, постоянным противостоянием одной воли другой, потоками брани по самому ничтожному поводу – забыли заправить машину, бросили скомканные полотенца, – всегда заканчивавшимися перечислением прошлых грехов.
Однако бывали мгновения, внезапные озарения, когда обоих потрясала мысль о возможности потерять друг друга, потерять ИХ, и они сходились с глубоким отчаянием супругов, стоящих на грани войны.
Джулия и Эйли казались им обоим зрителями во мраке зала, свет так ослепительно сверкал на их собственной, частной сцене, что они не могли четко различить лица своих дочерей в темноте, только знали об их присутствии там, в стороне.
Однажды в четверг поздней осенью школьный консультант-психолог, миссис Мерфи, позвонила Энн и пригласила их с мужем прийти вечером поговорить о Джулии.
Тед и Энн сидели на двух маленьких деревянных стульчиках перед столом миссис Мерфи, загроможденным горшками с алоэ, кактусами и книгами по детской психологии. У миссис Мерфи были короткие седые волосы, ненакрашенное лицо, крупное ожерелье из кораллов и серебра и серебряные браслеты на руках. В ее речи чувствовался легкий акцент Среднего Запада, и, разговаривая, она наклонялась вперед и вниз, словно за годы бесед с детьми ей приходилось постоянно нагибать голову.
– Происходит ли дома что-то такое, что могло бы беспокоить Джулию? – спросила она.
– Нет, – быстро ответил Тед.
– Почему вы спрашиваете? – удивилась Энн.
– С недавних пор у нее возникли определенные трудности. Я полагаю, вы слышали, что случилось сегодня утром?
– Нет, – призналась Энн, уже чувствуя себя виноватой, нерадивой, безответственной.
– Понятно. Так вот, Джулия швырнула металлическую коробочку с карточками в голову учительнице.
– Боже правый, – воскликнула Энн.
– Она попала в нее?
– Суть здесь едва ли в ее намерении или в отсутствии такового, – твердо заявила Теду миссис Мерфи. – Были и другие инциденты. Нападения на других детей. Ложь при тестировании. Я надеялась, вы сможете помочь нам выяснить, что могло бы вызвать подобные поступки, рассказать, с какими еще проблемами она, возможно, сталкивается.
– Проблемами? – переспросил Тед.
– Какие-нибудь происшествия дома.
– Я ведь сказал вам, все нормально.
– Понятно. Ну что же, вы, конечно, понимаете, что, если хоть что-то похожее повторится, мы вынуждены будем настаивать на постоянном наблюдении психолога, если она собирается оставаться у нас. Между прочим, я весьма рекомендую вам задуматься об этом сейчас же. Прежде чем произойдет обострение.
– Мы подумаем, – пообещал Тед, поднимаясь.
– Надеюсь. – Миссис Мерфи встала и пожала им обоим руки. – Все, знаете ли, может зайти слишком далеко. Никому не хочется, чтобы здесь происходило такое.
Энн и Тед отъехали от школы в молчании, словно миссис Мерфи могла подслушать все, что они бы сказали, использовать против них.
Только когда школа давно скрылась из вида, Энн тихо заговорила:
– Мы не можем так жить дальше.
– Что ты хочешь сказать?
– Ты прекрасно понимаешь.
Тед разогнался, проскочил на вспыхнувший свет, притормозил.
– Почему бы нам не съездить куда-нибудь, только вдвоем? – Его голос оживился, по мере того, как оформлялась эта мысль, обрастая надеждой.
– Куда?
– Все равно. Куда угодно. Куда ты захочешь. В какие-нибудь теплые края. Во Флориду.
– А как с девочками?
– Сэнди может пожить с ними. Энн, не сжигай мосты. Пожалуйста. Просто скажи да. Не ставь на нас крест.
Энн медленно кивнула, и остаток пути они проделали в молчании, а Тед начал придумывать способы, как, призвав в союзники жаркое тропическое солнце, снова завоевать ее.
5
Здание окружного суда Хардисона в стиле возрожденной греческой архитектуры, сохранившееся с 1840 года, блестело под лучами утреннего солнца. Внутри шипели и пофыркивали старинные радиаторы. Тед сидел за массивным дубовым столом вместе со своим адвокатом, Гарри Фиском, и дергал заусеницу на указательном пальце правой руки, пока оттуда не пошла кровь. Он побрился по этому случаю и надел темно-синий костюм, купленный два года назад на похороны Джонатана и Эстеллы. Вытерев кровь о брючину, он поднял голову и беспокойно огляделся. На дальней стене два ряда потускневших золоченых букв гласили «На Господа мы уповаем». Сбоку от надписи бессильно свешивался американский флаг. Вид у него был какой-то замызганный и потрепанный, казалось, его следовало постирать и отгладить. По другую сторону прохода за столом обвинения помощник окружного прокурора Гэри Риэрдон складывал и перекладывал свои бумаги, еще тщательнее выравнивая по краям длинные желтые листы. Место судьи пока пустовало.
Люди, никогда прежде не бывавшие в зале суда, теснились на длинных светлых скамьях – они вызывали воспоминание о церкви, только были светлыми, как школьные столы, – ерзали в ожидании, притопывали ногами, шарили глазами по сторонам в предвкушении зрелища, их голоса сливались в ровный гул из намеков, догадок и планов на обед. В последнем ряду двое пожилых мужчин склонились друг к другу, почти соприкасаясь седыми волосами, и обсуждали последнее судебное заседание, на котором присутствовали, и достоинства и недостатки председательствующего судьи, – постоянные посетители зала суда, знавшие по имени каждого самого мелкого служащего, бесстрашные критики правил и процедур, не пропускавшие ни одного дня. Сэнди сидела рядом с Джоном в первом ряду, отведенном для членов семьи. Он что-то говорил ей – о присутствующих? о погоде? просто подбадривал? – она не прислушивалась. Ее взгляд упал на затылок Теда, когда он обернулся к Фиску и сказал что-то, вызвавшее у обоих короткую вспышку смеха – здесь, сейчас, и она мгновенно прониклась к нему презрением из-за этого смеха точно так же, как презирала его за все, что угодно, нет, еще сильнее, так что это – его затылок, смех – оказалось чем-то вроде шипа, терзавшего ее снова и снова, во сне и наяву, единственное объяснение или доказательство, которое ей требовалось.
Судебный пристав вышел на середину и окинул полный зал долгим бесстрастным взором. У него была бритая голова, оттененная бледным полукругом коротких волос вокруг ушей – бравада лысеющего мужчины, и вислые седые усы. Глаза за очками-консервами в тонкой оправе хранили хорошо отработанное равнодушие. «Слушайте, слушайте, – провозгласил он громко и отчетливо. – Верховный суд штата Нью-Йорк, округ Хардисон, открывает заседание. Все, кто… и будете услышаны. Председательствует достопочтенный судья Луиза Карразерс».
Судья Карразерс вошла через боковую дверь, облаченная в черное. У нее были волосы того коричневатого оттенка, какой бывает у седеющей женщины, не решившей, краситься ли ей под брюнетку или под блондинку, тонкие черты лица, едва начавшие грубеть, и голос – хрипловатый и в то же время нежный, как у девушки. Из обилия черного цвета вздымался блестящий красный воротник шелковой блузки, и прежде чем сесть, она расправила его. Она налила стакан воды из черно-желтого пластмассового кувшина на столе, отпила глоток и потом, взглянув на пристава, кивком подала ему знак начинать.
– Обвинение готово? – спросил тот.
Риэрдон, и так сидевший, словно аршин проглотил, выпрямился еще больше.
– Обвинение готово.
– Защита?
– Защита готова, – немедленно отозвался Фиск.
Взгляд пристава на мгновение задержался на нем, затем он кивнул служащему, который медленно отворил тяжелую дубовую дверь по левую сторону.
Присяжные – семь мужчин и пять женщин – и два запасных кандидата вошли друг за другом, полные и худые, в джинсах и костюмах, все они беспокойно поглядывали на подсудимого, на судью, на публику, новообретенное чувство ответственности лишь слегка сдерживало их жадное любопытство. Когда они расселись по своим деревянным стульям, скрестив ноги и руки, все, кроме одной необычайно рослой женщины в широких серых фланелевых брюках, которая сидела, раздвинув ноги, судья Карразерс повернулась к ним.
– Добрый день, леди и джентльмены.
Присяжные под впечатлением от ее одеяния и от высоты, на которую ее возносило судейское кресло, поздоровались робко и нестройно.
Карразерс повернулась в сторону стола обвинения.
– Мистер Риэрдон, пожалуйста, начинайте.
– Благодарю вас, ваша честь.
Риэрдон встал – хрупкого сложения человек с короткими волосами пшеничного цвета и острыми чертами лица, человек, веривший в порядок, гармонию. За двадцать один год участия в судебных заседаниях он, абсолютист по натуре, умом смирился с нюансами и неясностями закона, с неизбежной относительностью вины и невиновности, хотя душа его до сих пор возмущалась против этого. Данное дело представлялось ему особенно отвратительным, все указывало на то, что защита, основанная на семейных обстоятельствах, роковым образом обернулась против самой себя, – этого он не понимал и не одобрял. Сам он девятнадцать лет состоял в браке с одной и той же женщиной, и хотя были разочарования, хронические болезни, бездетность, они в своей жизни исходили из того, что единственный правильный выбор – доброта. Вежливый, сдержанный, великодушный, он не пользовался среди коллег репутацией человека с чувством юмора. И еще он был одним из немногих членов коллегии адвокатов, не обладавшим политическими амбициями. «Что еще хуже, – сообщил своему клиенту Фиск, выяснив, с кем они имеют дело, – у него есть нравственные принципы, единственная вещь, которая опаснее честолюбия».
Риэрдон медленно подошел к присяжным. Он по очереди обвел их всех чистым и терпеливым взглядом, потом со скорбью покачал головой.
– Это одно из самых неприятных дел, какие только можно представить. Вы узнаете, как вечером 22 октября жертва, Энн Уоринг, была зверски убита в собственном доме в присутствии собственной дочери. – Он помолчал. – Она была застрелена вот этим человеком, Теодором Уорингом, – он указал прямо на Теда, и присяжные, последовавшие за ним взглядом, заметили промелькнувшее в глазах Теда потрясенное выражение, прежде чем ему удалось снова придать им невозмутимость. – Факты продемонстрируют, – продолжал Риэрдон, – что мистер Уоринг вошел в дом с заряженным ружьем и, поссорившись со своей женой, намеренно прицелился, выстрелил и убил ее. Как ни ужасно это само по себе, это еще не самое худшее, потому что убийство было совершено при свидетеле, его собственной дочери. Джулия Уоринг стояла всего в трех шагах от него, когда увидела, как ее отец вскинул ружье и прицелился. В отчаянной попытке спасти жизнь матери, она бросилась на него, надеясь вырвать ружье, но, к несчастью, было слишком поздно. Мать застрелили у нее на глазах. Прошу вас, леди и джентльмены, задуматься и представить себе эту картину.
Он замолчал и прикрыл глаза, наглядно демонстрируя это всем, изобразив на лице болезненную гримасу, когда вернулся к своей речи.
– Речь идет о роковой потере самообладания, о вспыльчивом характере, ставшем причиной смертельного исхода. Это дело об умышленном убийстве, совершенном человеком, которого отвергла женщина. Человеком, которого, наконец, озарила внезапная невыносимая догадка о том, что ему никогда не удастся вернуть свою жену, и который не мог вынести мысли, что увидит ее с кем-то другим. Человеком пьяным. Человеком без совести и раскаяния. Человеком, который, как вы узнаете, славится своей вспыльчивостью и несдержанностью. Тед Уоринг убил свою жену, леди и джентльмены. Возможно, он не собирался делать этого, но тем не менее это было убийство. Наконец, вы увидите, что улики свидетельствуют только об одном: Тед Уоринг виновен в том, в чем обвиняется.
Он внезапно умолк, развернулся и, стуча каблуками по гладкому полу, прошел на свое место и сел.
Стараясь не выдать своего удивления столь кратким предварительным заявлением Риэрдона, Фиск быстро вскочил, прежде чем тишина позволила этим словам подействовать на публику. Он тоже имел опечаленный, смиренный вид.
– Есть дела, – начал он, – которые трогают сердца даже самых закаленных из нас. И это, – он обратился к присяжным, – один из таких случаев. Никого, никого он не может не тронуть. Погублена жизнь, разбита семья. Вследствие трагической случайности. Одной действительно трагической случайности. Случайности, злейшей превратности судьбы. Нет ничего необычного в том, – он отступил назад и быстро взглянул в сторону обвинителя, затем снова обратил спокойный взор на присяжных, – что, когда происходит несчастный случай, начинают действовать поспешно, ища виновника. Это даже можно понять. Но это не правосудие. Ваша задача, леди и джентльмены, вершить правосудие, даже при самых запутанных обстоятельствах.
В одно ужасное мгновение вечером 22 октября были разрушены четыре жизни. Да, четыре. Ибо жизнь Теда Уоринга была разбита точно так же, как и остальные. Мы собираемся показать, что в тот вечер, возвратившись домой, Тед Уоринг был далек от ярости и гнева, что у него на уме было лишь одно – воссоединиться со своей женой. Он любил ее, леди и джентльмены, как только можно любить того, с кем вместе жил, растил детей и с кем – да, да, – пережил испытания. Некоторые из вас знают такую любовь. Если это так, вам повезло. И вы также поймете, что больше всего этот несчастный случай оказался несчастьем для Теда Уоринга.
В прошлом Теда Уоринга не известно ни единого факта применения физического насилия в каком бы то ни было виде. Единственный свидетель – запутавшаяся тринадцатилетняя девочка с таким обилием эмоциональных проблем, что даже в школе ей посоветовали понаблюдаться у психолога. Хорошая, но введенная в заблуждение девочка, растерянная от того, что родители разъехались, которая готова сказать и сделать что угодно, чтобы причинить боль отцу. Девочка, которая, возможно, чувствует себя виноватой в том, что в действительности именно ее действие нечаянно привело к гибели ее матери. Ибо Джулия Уоринг в тот вечер внезапно набросилась на своего отца и таким образом вызвала выстрел из ружья.
Нет, этот случай никому не придется по душе. Но я прошу вас еще раз тщательно разобраться и отыскать справедливость.
Фиск поклонился присяжным и вернулся за стол, где Тед сидел, горестно потупившись, как наказывал ему Фиск. Публика задвигалась, раздались шорохи, утробное урчание, чихание, языки чесались от невысказанных слов, просившихся на волю.
Судья Карразерс отставила стакан, куда она доливала воду и пила, пока произносились вступительные речи. Пять дней назад она бросила курить, и хотя вне зала судебных заседаний она привыкла набивать рот жевательными резинками, здесь это было бы явно неуместно. Она повернулась к присяжным.
– Леди и джентльмены, прошу прощения, но подошло время, когда я должна заслушать другое дело. Надеюсь, это не доставит вам неудобств, но наше заседание откладывается до завтрашнего утра.
Тед поднял глаза. Он встал с плохо скрываемым облегчением и, расправив плечи, нарочито спокойно двинулся по центральному проходу мимо Сэнди и Джона, мимо зевак, посторонних бездельников, изнывавших от любопытства, мимо завсегдатаев зала суда, мимо Питера Горрика, который был занят разговором с двумя репортерами, явившимися из другого города, и через тяжелые резные деревянные двери, сосредоточившись только на этом неожиданном подарке – свободный день, прежде чем процесс возобновится.
Джулия стояла на лестнице у входа в школу, одна среди тесных групп одноклассников, дожидаясь Эйли. Другие школьники, давно приученные к созданной ею оболочке одиночества (хотя она бы сказала, что это они создали ее, со своими кличками, и выдуманным языком, и тайными шуточками, и сдавленным смехом при ее появлении), тем не менее избегали ее даже больше, чем обычно, а она совершенно не замечала этого, ни на кого не смотрела. Раньше она часами стояла дома перед зеркалом в полный рост, отрабатывая неподвижность, непоколебимость. Лишь через пять минут она пошевелилась, перенеся вес тела с одной ноги на другую, перевесив ранец с одного плеча на другое.
Тед, сгорбясь в машине, видел, как она оглянулась на школу, потом посмотрела на свои большие черные пластмассовые часы. Он быстро открыл дверцу и заторопился к ней через улицу.
Но не успел он дойти до края тротуара, как другой человек, словно выскользнув ниоткуда, оказался рядом с ней.
Тед поспешно вернулся в машину, устроился на сиденье пониже и принялся ждать.
– Привет, Джулия.
Джулия с недоверием подняла глаза.
– Ты меня не помнишь, да?
– Может, и помню.
– Меня зовут Питер, Питер Горрик. Я работаю в «Кроникл» вместе с твоей тетей, Сэнди. Она знакомила нас, когда ты и твоя сестра приходили к нам в отдел пару месяцев назад.
– Да.
– Можно я куплю тебе содовой?
Джулия оглянулась вокруг, окружающие школьники уставились на нее и ее собеседника.
– Я жду сестру. Мне надо отвести ее домой.
– О'кей, тогда вот что. Почему бы нам не прогуляться вокруг квартала, а когда мы вернемся, она, наверное, уже будет здесь.
– Пожалуй, – неуверенно согласилась Джулия, желая только одного – уйти прочь от лестницы, от этих глаз.
Питер Горрик улыбнулся. Солнце светило ему прямо в темные очки в тонкой оправе, и он отвернул голову.
– Прекрасно. – Он пошел, надеясь, что Джулия последует за ним.
– Зачем вы хотели поговорить со мной? – спросила она.
Питер постарался говорить спокойно, непринужденно.
– Я подумал, при том, что тебе приходится переживать, тебе может, наверное, пригодиться приятель. Твои друзья тебя сильно донимают?
– Мне наплевать.
– Знаешь, Джулия, мне было столько же лет, сколько тебе, когда мои родители развелись.
– Ну и что?
– Бывает очень тяжело, вот и все.
– Вы жили здесь?
– Нет, я вырос в большом городе.
– Где?
– В Нью-Йорке.
Она кивнула. Если бы он спросил, она могла бы привести ему данные о численности и национальном составе населения, о размере площади Центрального парка.
– И вы переехали сюда?
Он засмеялся.
– А чем здесь плохо?
Джулия не ответила, только ускорила шаг.
– Я собираюсь уехать отсюда, как только смогу. Ненавижу жить здесь.
Страстная горячность ее слов заставила Питера на мгновение застыть на месте, но он быстро пришел в себя и снова пошел, приноровляясь к ее шагу.
– Я тоже жил с матерью после того, как ушел отец.
– Я не хочу говорить о моей матери.
– Ладно, нам незачем говорить ни о чем таком, о чем ты говорить не хочешь. – Он сунул руку в карман своих защитного цвета брюк и вытащил пачку жевательной резинки «Даблминт». Распечатав пластинку, он засунул ее в рот и протянул пачку Джулии. – Хочешь?
Джулия скользнула взглядом по пачке, серебристые краешки оставшихся пластин поблескивали на солнце.
– Нет.
Питер пожал плечами, отправил пачку обратно в карман. Теперь они уже обогнули три угла, и Джулия, стремясь вернуться к лестнице, к Эйли, ускорила шаг.
– Твой отец строитель, верно?
– Угу.
– Держу пари, характер у него крутой, а?
Джулия остановилась, резко повернулась к нему.
– Зачем вы говорите со мной? – Она смотрела на него в упор, прямо в его красивое, смуглое лицо с точеными тонкими чертами, на его взъерошенные рыжевато-коричневые волосы. Его язык скользнул по неровному зубу.
– Я ведь сказал тебе, – спокойно ответил он, – я подумал, что тебе понадобится друг. Вот что, дам-ка я тебе мой телефон. Тогда если тебе когда-нибудь будет нужно с кем-то поговорить, можешь позвонить мне, ладно? О чем угодно. – Он вручил ей листок бумаги со своей фамилией и телефонами – рабочим и домашним, уже аккуратно выведенными черной ручкой.
Она взяла его и положила в ранец.
– Мне лучше вернуться.
Горрик, пережевывая жвачку, смотрел, как она поспешно идет прочь. Единственный ребенок в семье, он в детстве часами вел разговоры с выдуманным другом, Спенсером, писал ему длинные письма о себе, о своих вечно пререкавшихся родителях, о равнодушии своих одноклассников. Иногда он составлял письма от Спенсера ручкой другого цвета, слова поддержки, совета и понимания, а потом откладывал эти письма в сторону на несколько дней, чтобы можно было сделать вид, что он удивлен, обнаружив их. Он вынул жвачку, аккуратно вложил в бумажную обертку и вернулся к своей машине.
Эйли стояла на лестнице одна. Группы детей, окружавшие Джулию, по большей части рассеялись, но Эйли с готовностью улыбалась оставшимся, даже тем, кого не знала. Одни улыбались в ответ, другие не обращали внимания, некоторые отворачивались, шепчась и хихикая, к своим друзьям. Она посмотрела налево, где игровые площадки граничили с улицей, а потом направо, за автостоянку, но Джулии все равно не увидела. Она беспокойно теребила свой хвост, накручивая и накручивая его на палец, прикусывая кончик.
Только она обернулась, чтобы заглянуть за тяжелые стеклянные двери, бесшумно закрывшиеся за учителем физкультуры у мальчиков, как Тед подкрался к ней, обнял ее рукой за спину, широкую и объемную от простеганной подкладки на пуху, и приложил указательный палец к губам: «Тс-с-с». Он ободряюще, заговорщицки улыбнулся и потянул ее за собой вниз по лестнице. Он молчал, пока не завел ее за машину, присев перед ней на корточки.
– Господи, как же я рад видеть тебя, – воскликнул он. Осторожно заправил ей за ухо выбившуюся прядь, чуть помедлил, ласково потрепав мягкую, бархатистую мочку уха. – Как дела, солнышко? Тебя не обижают?
Ее голос прозвучал тихо, недоверчиво и осторожно, лишь слегка прерываясь от нетерпения и тоски.
– У меня все хорошо.
– Я страшно скучаю по тебе и твоей сестре.
– Я тоже скучаю по тебе.
Он не смог удержаться и на мгновение сжал ее в объятиях, чувствуя, как ее тело под слоем пуха напряглось, а потом расслабилось, доверчиво раскрылось ему навстречу. Он отпустил ее и положил руки ей на плечи, их глаза оказались прямо друг против друга.
– Ты и оглянуться не успеешь, как мы будем вместе. Подожди, вот увидишь. Эйли, милая, ты бы хотела помочь мне?
Ее подбородок чуть заметно дернулся вниз и вверх, Теду только это и было нужно.
– Ты же хочешь, чтобы мы снова были вместе, правда? – Он улыбнулся. – Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала, солнышко. Тебе надо лишь вспомнить, что ты видела, как Джулия набросилась на меня. Ты ведь помнишь, да?
– Я была на кухне.
– Я знаю, но мне кажется, ты высунулась и видела, как Джулия прыгнула на меня. Подумай хорошенько, Эйли. Разве ты не помнишь этого?
– Не знаю.
– Постарайся, – настаивал он.
Она безучастно смотрела на него.
В его угрюмом взгляде уже готово было вспыхнуть нетерпеливое раздражение, но он поспешно улыбнулся, чтобы скрыть его.
– Эйли, я хочу, чтобы ты поговорила с Джулией.
– О чем?
– О том, что случилось в тот вечер. Я не знаю почему, но она совершенно запуталась. Ладно, я не сержусь на нее. Но нам нужно разобраться. Тебе, солнышко, нужно всего лишь заставить ее признать, что это был несчастный случай. Хорошо? Так и было, ты же знаешь. Я бы ни за что не сделал ничего такого, чтобы обидеть твою маму. Или вас. Никогда. Ты знаешь это. Тебе надо только уговорить ее сказать это.
Эйли, сунув стиснутые в кулачки руки в карманы, не отвечала.
– Мы сможем снова быть вместе, ты и оглянуться не успеешь. Только поговори с Джулией, ладно?
Эйли молча смотрела на него.
– Я скучаю по маме, – наконец произнесла она.
– Я тоже скучаю по ней.
Тед тревожно оглянулся по сторонам и выпрямился.
– Сохраним это в секрете, ладно? Пусть этот разговор останется между нами.
Эйли кивнула. Тед в последний раз нагнулся и поцеловал ее в макушку, к его нижней губе прилип волосок.
– Мне нужно идти. Помни – никому ни слова. Наша личная тайна. – Он последний раз улыбнулся и скрылся в машине.
Когда Эйли вернулась к школе, Джулия нетерпеливо дожидалась ее.
– Где ты была?
– Нигде.
– Пошли. Пора домой.
Они двинулись по широкой улице, покрытой грязной скользкой коркой – остатками первого снега, который выпал две ночи назад, на следующий день растаял и снова замерз.
– Джулия?
– Да?
– Почему ты им сказала, что папа целился ей в голову?
– Потому что он целился.
Эйли посмотрела на нее, потом прямо перед собой, и они пошли дальше.
В ту ночь они лежали в трех шагах друг от друга в новых одинаковых кроватях под белыми вышитыми одеялами, подобранными под пару, все еще пахнувшими молочно-белой пластиковой упаковкой, в которой их доставили. Простыни тоже были украшены белой вышивкой, жесткие и хрустящие. На стене, там, где раньше стоял диван-кровать, виднелся свежевыкрашенный прямоугольник. Освобожденный, пустой стол Сэнди громоздко высился в темной комнате.
Через сорок пять минут после того, как погас свет, Джулия услышала, что дыхание Эйли начало учащаться, пока не сбилось в торопливое стаккато прерывистых судорожных вздохов и стонов. Она выскользнула из своей постели и забралась к Эйли, как раз когда та проснулась от страха, вся в испарине, растерянная. Она приподнялась, все еще во власти своего кошмарного сна, и Джулия мягко удержала ее и уложила назад, гладила ее по голове, пока веки Эйли постепенно не отяжелели и потом, затрепетав, сомкнулись.
Последнюю неделю это повторялось почти каждую ночь, и каждый раз Джулия старалась успеть, прежде чем стоны становились слишком громкими, и кто-нибудь мог бы услышать, прийти. Она медленными долгими движениями гладила влажные волосы Эйли.
Убедившись, наконец, что Эйли опять уснула, Джулия осторожно выбралась из кровати и на цыпочках прошла к столу, где в углу аккуратно стоял ее ранец. Она медленно расстегнула на нем молнию, оглядываясь на Эйли, которая слегка зашевелилась и снова погрузилась в сон. В сумеречном свете она выудила оттуда записку Питера Горрика, разгладила ее между пальцами и различила четко выведенные цифры и буквы. Нагнувшись, она осторожно выдвинула нижний левый ящик стола, где в самом дальнем углу прятала бумажный пакет. Внутри лежали трусики, которые она взяла в комоде Сэнди, помада, которую она стащила на распродаже в Рэспберри-айс, и записочка, которую Энн сунула в сумку Джулии в тот день, когда они отправились в горы. Она положила бумажку Питера в пакет и начала было сворачивать его, но в последний момент раскрыла снова и достала записку матери. Это был листок розовой линованной бумаги для заметок, верхний край гладкий и все еще липкий от клея из блока, откуда он был вырван, из того самого блока на кухне, которым Энн пользовалась для всех записочек, которые она раскладывала по ящикам, дневникам и кошелькам. Его разворачивали и снова складывали вчетверо по одним и тем же линиям так много раз, что сгибы начинали опасно протираться. Джулия взяла записку с собой в постель и, запустив руку под матрас, где она хранила фонарик, который в тот самый выходной дал ей отец, накрылась одеялом и направила на нее луч, медленно читая, хотя давно уже выучила ее наизусть.
«Джулия, милая!
Я уже скучаю по тебе. Считай меня просто старой нюней, но, как поется в песне, я привыкла к твоему лицу. Надеюсь, ты прекрасно проведешь эти выходные. Постарайся быть не слишком суровой со своим отцом (не хмурься, сокровище, ты знаешь, о чем я). Ты моя самая-самая любимая девочка. Будь умницей. Я тебя люблю.
Мама».
Джулия аккуратно сложила записку, выключила фонарик и прошла по комнате, чтобы убрать ее назад в коричневый бумажный пакет.
Возвращаясь к своей кровати, она разок оступилась в темной незнакомой комнате. Она никогда не могла понять, почему ее мать так любила петь несмотря на то, что постоянно фальшивила. Мать пела и смеялась – она знала, что это смущает Джулию и не укладывается в ее понятия о приличиях.
– Мама!
На лице Энн озорная гримаса:
– «Я привыкла к твоему лицу, оно словно пробуждает рассвет…»
Почти бессознательно Джулия тихонько замурлыкала мелодию себе под нос. «Словно вдох и выдох…»
Внезапно она замолчала. Издалека до нее донесся тихий звук голосов Джона и Сэнди, глухой и ровный, как поток, и она различила в этом потоке собственное имя. Она лежала, притаившись, и вслушивалась.
Риэрдон встал.
– Обвинение вызывает Нолана Парселла.
Парселл, сильно растолстевший за последние несколько лет, тяжело затопал по проходу, но даже он терялся под высокими сводами, определенно возведенными, словно в соборах, чтобы напоминать о высшей силе. Резиновые подметки его обуви скрипнули, когда он остановился, чтобы его привели к присяге. Рука, лежавшая на Библии, напоминала клешню краба, обручальное кольцо врезалось в распухший покрасневший палец.
Риэрдон приблизился к свидетельскому месту. По сравнению с Парселлом он казался еще более подтянутым, опрятным, сама аккуратность, в накрахмаленной белой рубашке с узким черным галстуком.
– Мистер Парселл, знакомы ли вы с обвиняемым Тедом Уорингом?
– Да.
– Откуда вы знаете его?
– Он проработал у меня семь лет.
– И в этом качестве была ли у вас возможность близко наблюдать за мистером Уорингом?
– Не так близко, как следовало бы, учитывая то, что он сделал со мной.
– Мы скоро перейдем к этому, мистер Парселл. Скажите, как мистер Уоринг ладил со своими товарищами по работе?
– Они держались от него в стороне. Компанейским парнем его не назовешь. – Когда Парселл улыбнулся, его рот чуть не утонул в жирных розовых щеках.
– Вы можете пояснить, что вы имеете в виду?
– Скажем так, слово «компромисс» не из его лексикона. Поближе познакомившись с Уорингом, понимаешь, что либо ты делаешь все, как хочет он, либо никак. Он был хорош, когда руководил строительством, но если ему приходилось работать с кем-нибудь еще на равных, то пиши пропало.
– А каков у него характер?
– С норовом он был, если вы это имеете в виду.
– Можете привести пример?
– Всего один?
– Одного для начала достаточно.
– У него есть пунктик насчет уважения. Как решит, что кто-нибудь не оказывает ему должного уважения, так прямо и взовьется. Словно какой-нибудь «крестный отец».
– Протестую! – воскликнул Фиск. – Это давление на присяжных.
Риэрдон остановился, даже не повернув к Фиску головы. С самого начала процесса он ни разу не встретился с ним взглядом, и Фиск, отметив это как еще один знак пренебрежения, рассердился заметнее, чем ему бы хотелось.
– Пожалуйста, придерживайтесь конкретных фактов и эпизодов, – распорядилась судья Карразерс.
– О'кей, вот вам один, – сказал Парселл, придя в такое возбуждение, что у него изо рта брызнула слюна на деревянный барьер. – В тот раз Шепард, другой парень из нашей конторы, отправляется в отпуск в этот, как его, космический центр во Флориде, откуда еще запускают все Шаттлы? Ну в общем, привозит он каждому из нас по фляжке выпивки, на них наши имена и картинка с Шаттлом. Дает он Теду фляжку с красно-бело-синей надписью «Тед», а Тед только скривился и даже спасибо не сказал. Ну вот, в общем, минут этак двадцать спустя слышу я из кабинета Теда громкий треск и иду справиться, все ли у него в порядке. Знаете, что он сделал? Шваркнул фляжку об стену, прямо в картину в рамке попал, и разбил ее. Везде битое стекло. Вот я его спрашиваю: «Зачем ты это сделал?» Знаете, что он отвечает? Он отвечает, что терпеть не может эту фляжку, потому что не желает думать, что на свете тысяча других Тедов пользуются точно такими же. «Я – единственный», – сказал он. – Парселл тряхнул головой и засмеялся. – Представляете?
– При каких обстоятельствах Тед Уоринг ушел из вашей фирмы? – спросил Риэрдон.
– Он меня обобрал.
Фиск вскочил на ноги, выйдя из себя.
– Возражаю. Все это абсолютно не имеет отношения к делу и целиком предвзято.
Карразерс кивнула.
– К чему вы ведете, мистер Риэрдон?
– Мы собираемся показать, что обвиняемый действовал сознательно, – заявил Риэрдон. – Преднамеренно, – поправился он официальным юридическим языком.
Карразерс раздумывала над этим шатким обоснованием необходимости представлять доказательства о прошлом недостойном поведении.
– Я выслушаю эти показания в отсутствие суда и тогда приму решение. – Она распорядилась, чтобы присяжные, которые делали многочисленные записи, – все, кроме одного мужчины с рябым лицом и сальными волосами до плеч, который таращился в пространство, – чтобы присяжные временно покинули зал. Захваченные врасплох тем, что они могли воспринять лишь как выговор, они неохотно встали и вышли, оглядываясь через плечо, уверенные в том, что их каким-то образом обманули.
Когда дверь за ними захлопнулась, Риэрдон продолжил.
– Можете ли вы объяснить, что значит «обобрал вас»?
– Я ему доверял. Это моя ошибка, признаю. Но он за моей спиной списал мои досье, всю мою финансовую информацию, имена поставщиков, потенциальных клиентов, все. Он лгал мне все время, понимаете, притворялся, что его заботит лишь, как помочь фирме, прикидывался этаким парнем – душа нараспашку. А сам месяцами готовился к этому.
Фиск снова был на ногах.
– Возражаю. Мистер Парселл не сообщает ничего, кроме необоснованных утверждений.
Карразерс обратилась к свидетелю.
– Еще раз вынуждена напомнить вам, мистер Парселл, пожалуйста, старайтесь придерживаться фактов.
Парселл недовольно поджал губы.
– Однажды он уходит без предупреждения и открывает собственную лавочку, и уводит у меня половину клиентов, сбивая цену. Вот вам факты. Разве не сажают в тюрьму за кражу секретной служебной информации? – не смог он удержаться от вопроса. – Или чего-нибудь подобного?
– Вы бы назвали Теда Уоринга честным человеком? – спросил Риэрдон.
– Вы что, не слушали? Этот парень каждый день улыбался мне, он даже на ужин меня приглашал, и все это время он обдумывал, как погубить мое дело. У меня для этого найдется множество слов, но «честный» в их число не входит. Черт возьми, такого ловкого мошенника я в жизни не встречал, если уж хотите начистоту. – Тяжело оперевшись пухлыми руками о барьер, он наклонился в сторону Теда, а Тед, открыто встретив его взгляд, представлял себе только жирный кусок мяса, висящий в витрине лавки. Он снова принялся рассматривать, как на стене за местом для свидетеля тени истончались и вытягивались с течением дня.
– Мистер Парселл, через неделю после того, как Тед Уоринг открыл собственное дело, посетили ли вы его офис?
– Да.
– Можете ли вы сообщить суду, что при этом произошло?
– Мне только нужно было высказать ему, что я об этом думаю, понимаете? То есть он же со мной обошелся, как с полным идиотом. Ну вот я и пришел туда утром в десять часов. Не знаю, что я думал сделать. Пожалуй, просто хотел увидеться с ним и убедиться во всем сам. В общем, не успел я и пару слов сказать, Уоринг бросает на меня взгляд и заявляет, что, если я еще когда-нибудь появлюсь поблизости, он примет ко мне меры.
– Как вы поняли, что имелось в виду под этим «примет меры»?
Парселл фыркнул.
– Было яснее ясного, что он имел в виду. Назовите это угрозой, идет? По правде говоря, выяснять я не собирался. Я этому парню не доверяю. Считаю, что он на все способен. На все.
Риэрдон выдержал паузу.
– У меня больше нет вопросов.
Оба юриста повернулись к судье.
– Эти показания не имеют отношения к обвинению в убийстве, – постановила она. – Я их не принимаю.
Фиск позволил себе слегка улыбнуться.
– Пригласите присяжных войти, – велела судья приставу.
Как только присяжные снова расселись по местам, всматриваясь в лица участников процесса, отыскивая намеки на то, что произошло в их отсутствие, пытаясь понять, не изменилась ли атмосфера, Фиск медленно приблизился к свидетельскому месту, окинул Парселла пренебрежительным взглядом и повернулся к присяжным. Прежде чем снова обратиться к свидетелю, он тряхнул головой.
– Мистер Парселл, – начал он, – пока Тед Уоринг работал у вас, продвигали ли вы его постоянно по службе?
– Да, но…
– Не будет ли справедливо утверждать, что вы бы делали это лишь в том случае, если он хорошо справлялся с работой?
– Ну, да, но…
– Доверяли ли вы ему единоличное руководство объектами, где находилось оборудование на тысячи долларов?
– Возможно.
– Случалось ли когда-нибудь, чтобы он воровал у вас деньги, мистер Парселл?
– Он украл у меня мой бизнес.
– Я повторяю вопрос. Воровал ли он когда-нибудь у вас деньги?
– Наличные – нет.
– Он имел дело с многочисленными подрядчиками и клиентами. Возникало много возможностей для взяток, что, не сочтите за оскорбление, как я понимаю, представляет некоторую проблему в вашей отрасли. Были ли какие-нибудь свидетельства о том, что мистер Уоринг замешан в чем-то подобном?
– Нет. А я все-таки сочту это оскорблением, СЭР. Я и не подозревал, что ваша профессия в последнее время получила какой-то приз за неподкупность.
Присяжные захихикали, и Фиск – тоже; он принужденно засмеялся.
– Итак, – продолжал он, – жаловался ли вам на мистера Уоринга когда-нибудь хоть один клиент?
– Нет.
– Опаздывал ли он когда-нибудь на работу?
– Я такого не припоминаю, но…
– Забывал ли он расплачиваться за кофе? Еще за что-нибудь? Вообще хоть что-нибудь, мистер Парселл?
– Ничего подобного не было. Он просто…
– Мистер Парселл, верно ли, что ваша фирма настолько задолжала, что вы были вынуждены прибегнуть к главе одиннадцать?
– Ну и что?
– Правда ли, что Тед Уоринг ушел из вашей фирмы лишь когда у вас осталось мало работы для него?
– Работа у него была.
– Верно ли то, что многие клиенты, перешедшие к нему, сделали это потому, что их беспокоила ваша платежеспособность?
– С нашей платежеспособностью все было бы замечательно, если бы Уоринг не нанес мне удар в спину.
– Похоже, вы очень сердиты на него, мистер Парселл.
– Просто я не люблю людей, на которых нельзя положиться, – ответил Парселл.
– Или людей, которые удачливее вас?
– Возражаю, – вмешался Риэрдон.
– Я снимаю этот вопрос. Давайте поговорим о вашем посещении фирмы «Уоринг и Фримен». Возможно, именно Тед Уоринг почувствовал угрозу с вашей стороны, когда вы ворвались к нему, желая отомстить?
– Я не собирался мстить.
– А что же вы собирались сделать, мистер Парселл?
– Не знаю.
– У меня больше вопросов нет.
– Он не чувствовал угрозы, он чувствовал вину, – выпалил Парселл. – Вину.
Фиск внес протест, и судья распорядилась, чтобы последние слова вычеркнули из протокола.
И все же, когда Парселл, наконец, покинул свидетельское место, он на мгновение задержался возле стола защиты, и его глаза, обращенные на Теда, хитро и победоносно сверкнули.
Сэнди единственная из свидетелей имела особое разрешение, позволявшее присутствовать на судебных заседаниях, даже когда она прямо в них не участвовала. Но ей пришлось уйти до того, как Парселл закончил давать показания, поскольку у нее не было подобного разрешения, освобождающего ее от работы, и ей часто приходилось разрываться, пытаясь совместить эти два занятия, при этом, получалось, в ущерб и тому, и другому. Сейчас она сидела на третьем этаже перестроенного школьного здания, где городской совет собрался на специальное заседание – обсудить кандидатов на замену начальнику полиции Хардисона, который, после восемнадцати лет службы, выразил ясное намерение в конце месяца уйти в отставку. Хотя было немало сетований по поводу спешки, слухи о существовании медицинских показаний – рак легких? простата? – сильно умерили жалобы. Взгляд Сэнди переместился на незашторенные окна, гладкие блестящие перегородки между сумраком снаружи и внутри. На противоположной стороне улицы мусоровоз собирал возле каждого дома фиолетовые, голубые и желтые контейнеры. С недавних пор «Кроникл» завалили письмами к редактору с жалобами на неэффективность новой системы использования вторсырья. Были и такие, кто не особенно верил в то, что содержимое всех контейнеров не сваливается в одну кучу, как только они исчезают из виду. Людям требовались доказательства. Она снова повернулась к длинному столу в передней части помещения, за которым сидели шесть членов совета, возле них в беспорядке стояли картонные коробки с пончиками и бумажные чашки с кофе. Они казались ей далекими, расплывались, словно она смотрела заседание, записанное на пересохшем и потрескавшемся куске кинопленки, где звук то шипит, то вовсе пропадает. Даже резкие голоса, все больше повышавшиеся, мало привлекали ее внимание. Блокнот у нее на коленях оставался чистым, ручка не двигалась.
Уэбб Джонсон грохнул рукой по столу.
– Черт побери, – произнес он. – Да что с вами со всеми? Думаете заполучить сюда какого-нибудь хвата из центра? Во-первых, не получите. А во-вторых, с чего бы вам этого хотеть? Зачем нам человек со стороны, вот в чем вопрос. У нас есть заместитель, который уже десять лет служит этому городу, полицейский Рик Джерард. Никто не знает проблем этого города лучше, чем он.
Члены совета вежливо выслушали его. Джерард был шурином Джонстона, неплохой человек, но широтой кругозора не славился.
– Послушай, Уэбб, – начала Дина Фредриксон. – Мы все знаем, что Джерард прекрасный полицейский. Но положение меняется, уровень преступности в Хардисоне за последние полтора года приблизился к четырем процентам. Не знаю, как ты, но я с этим шутить не намерена.
При упоминании уровня преступности члены совета стали тревожно поглядывать в конец комнаты, на Сэнди. Они давно привыкли к ее присутствию на заседаниях, оно их даже несколько подстегивало, и они частенько тайком оглядывались на нее, проверяя, записывает ли она во время их выступлений, надеясь, что их имена появятся в печати. Но с недавних пор они стали сторониться ее, и само слово «преступность» лишь увеличивало это чувство неловкости, потому что липло к ней, как запах пота.
Дина Фредриксон нетерпеливо глянула поверх очков, натянуто улыбнулась и вернулась к делу.
– Пожалуйста, внимание. – Поговаривали, что после случая с Энн Уоринг она стала несколько раздражительна. Имя ее бывшего мужа наверняка должно было всплыть в суде. – У нас напряженная повестка, – напомнила она коллегам по совету. Они неохотно подчинились.
Сэнди вспомнила детскую игру в гляделки – состязание на то, кто дольше выдержит взгляд соперника, не отводя глаз, не смеясь, не смущаясь, не теряясь. Она всегда выигрывала, могла твердо и невозмутимо смотреть, когда соперник уже давно не выдержал и сдался. Такие способности популярности не способствовали, но она гордилась своей выдержкой. Она по очереди смотрела на членов совета, пока те не утыкались в лежавшие перед ними бумажки, и не записала ни слова.
Вернувшись в редакцию час спустя, Сэнди включила компьютер и начала вводить в него отчет о заседании, пока ничего не забыла. Хотя она и не захотела доставить им удовольствие видеть, как она делает заметки, она понимала важность этого заседания и еще понимала, что Рей Стинсон не спускает с нее глаз, читает каждый ее материал внимательнее и строже, пристально следит за выражением ее лица, и она запасалась терпением, когда была у него на виду, хотя иногда подозревала, что эта самая терпимость, которую он так ценил, теперь почему-то разочаровывала его, разочаровывала многих, обманывала их. Она подняла глаза и увидела, что через четыре стола от нее торопливо печатает Питер Горрик. Глухой стук его пальцев по клавишам, тук-тук-тук, раздражал ее, и она упустила нить мысли. Понаблюдав за ним еще минуту, она встала и, подойдя к его столу, присела на краешек.
– Ну как, – спросила она, склонившись над ним, – уже заполучил контракт с «Вэнити фэр»?
Горрик поднял голову.
– Что?
– Я бы нисколько не удивилась, если бы ты пытался пристроить этот материал в какой-нибудь крупный иллюстрированный нью-йоркский журнал. Разве не так поступают такие, как ты?
Он убрал руки с клавиатуры.
– Что ты, собственно, хочешь сказать этим «такие, как я»?
– Думаешь, ты такой ловкий, да? Мистер Очарование.
Горрик отвел глаза. Один из его преподавателей на курсе журналистики говорил ему, что, если он вообще желает добиться успеха, ему придется решить, хочет ли он нравиться или быть хорошим репортером. «Ваша беда в том, что вы считаете, будто сумеете совместить и то, и другое, – говорил он Питеру. – Когда решите, что для вас важнее, тогда и поймете, что за писатель из вас может получиться». Работая на газету колледжа и время от времени внештатно сотрудничая с ежедневными газетами Бостона, он обнаружил, что для него почти невозможно вызвать людей на разговор, и даже когда ему удавалось задать «неудобный» вопрос, он немедленно стремился заполнить следовавшее за этим молчание собственной нервной болтовней, словно больше всего боялся, как бы его не сочли грубияном. Позднее, сочиняя статью, он так глубоко запрятывал любой намек на критику, что только он сам и мог бы отыскать его. «Вы должны иметь собственную точку зрения», – настаивал тот же профессор. И хотя Питер пытался отстаивать свой стиль, утверждая, что он хочет просто выложить факты, а уж читатель пусть сам делает выводы, он понимал, что это неверно. Именно эта слабость в его материалах, как он подозревал, и не давала ему получить работу на более крупном рынке. Именно эту слабость он решительно вознамерился преодолеть в Хардисоне, выправляя свою рукопись до тех пор, пока в ней не появлялась твердость и решительность и ее нельзя было не признать. Часто по вечерам в тишине своей городской квартиры он прослушивал записи старых интервью, перечитывал старые статьи, прикидывая, как бы сделал их все по-другому. Хотя он был неженат, свиданий назначал мало и редко бывал в барах, кинотеатрах или других местах, где мог бы встречаться с людьми. Он не собирался задерживаться в Хардисоне дольше, чем было необходимо.
– Я занят, Сэнди, – сказал он, опустив руки на край стола. – Что тебе нужно?
– Я тебе скажу, чего мне не нужно. Мне не нужно, чтобы всякие прохвосты вроде тебя вертелись вокруг моей семьи.
– Это моя работа, – ответил он. – Ты бы делала то же самое.
– Откуда ты знаешь, что бы делала я?
– Потому что я знаю, что ты лучший репортер в этой газете.
Она помедлила, потом коротко бросила:
– Брось крутиться вокруг моей семьи. – Соскользнув с его стола, она вернулась к своему и забарабанила пальцами по клавишам, ожидая, когда останется только этот ровный ритм букв, слов. Только в процессе сочинения для нее исчезало ощущение времени, собственной неловкости. Теперь и этот способ изменил ей. Зазвонил телефон, она в смятении подняла трубку.
– Да?
– Я просто звоню узнать, как у тебя дела, – сказал Джон. Ему всегда казалось, что нужно непременно иметь предлог, чтобы позвонить ей; он раздумывал, будет ли она вообще когда-нибудь принадлежать ему.
– Прекрасно.
Повисла тишина.
– Что бы ты хотела сегодня на ужин? Я бы мог купить по пути.
Она прикусила губу. Не было никакого предварительного разговора насчет ужина, насчет сегодняшнего вечера. Она не могла вспомнить, чтобы их отношеня дошли до той стадии, за которой подобные вещи сами собой разумеются. Когда это случилось? Три месяца назад? Полгода? Ей всегда удавалось уходить до наступления этого момента.
– Пожалуй, мне лучше сегодня вечером просто побыть одной, – ответила она.
– Вот как?!
Она расслышала в его голосе разочарование и вздрогнула от накатившего раздражения.
– Мне же нужно какое-то время бывать с девочками, – виновато добавила она.
– Разумеется.
– Я позвоню тебе завтра.
– Сегодня вечером, – настаивал он упорно, но спокойно.
– Сегодня вечером, – согласилась она и улыбнулась. – Я позвоню тебе сегодня вечером.
Сэнди повесила трубку и попыталась снова включиться в работу. Когда она только начала встречаться с Джоном, то месяцами недоумевала, чего же не хватает. Чего-то не хватало. Где должны были быть острые края, крутые повороты, все было ровно, гладко. Временами даже его ласки казались чересчур благовоспитанными, словно сторонились пота, запаха и звука. Лишь постепенно до нее начало доходить, чего же еще недоставало – боли. Она начала с новой страницы методично перечислять возможных кандидатов на пост начальника полиции, их достоинства и недостатки.
Когда Сэнди в тот вечер вернулась с работы, в доме было так тихо, что ей показалось, будто девочки ушли. На первом этаже не горел свет, прихожую освещали лишь ранние зимние сумерки.
– Джулия? Эйли? – позвала она.
Она отыскала их наверху, в их спальне, Эйли на кровати, Джулию – за столом. Ее поразило то, что даже в ее отсутствие они не разбредались по дому, словно не хотели оставлять отпечатков пальцев, следы на чем-то, принадлежавшем ей. Они вежливо подняли головы, когда она вошла.
– Есть хотите?
Эйли кивнула.
– Как насчет пиццы?
– Все равно, – отозвалась Джулия.
Сэнди спустилась и позвонила в местную пиццерию. Она подумала, что девочки могли бы сойти вниз и помочь ей выбрать, что заказывать – побольше сыра? перца? – но они не появились, и ей оставалось самой догадываться, что бы им могло понравиться или вызвать отвращение. Она включила телевизор и смотрела новости, дожидаясь пиццы. Когда ее привезли, горячую, в голубой пластиковой упаковке, которую посыльный вскрывал так, словно содержимое было огнеопасно, Сэнди поставила ее на журнальный столик перед телевизором, выложила тарелки и пачку бумажных салфеток и переключила телевизор на викторину, которую, как она заметила, смотрели девочки, потом позвала их вниз.
Они степенно ели, выковыривая грибы, которые она заказала, и складывая их бесформенной коричневой кучкой на краю тарелок. Они не выкрикивали, как бывало прежде, отгадки на вопросы викторины и не ворчали на глупые ответы. Когда пошла реклама, Сэнди отложила свой кусок пиццы и с надеждой улыбнулась им, но все ее жалкие попытки поболтать – что сегодня происходило в школе? В вашем классе есть умные ребята? – натыкались только на односложные ответы. Она вспомнила время, когда она была для них просто тетушкой, тогда они приезжали к ней добровольно, освобождаясь от родительского надзора. Они наверняка тоже помнили это, как помнили и другие древние предания, в которые больше не могли верить полностью. Они доели пиццу в молчании.
Как только ужин закончился, Джулия встала.
– Мне еще надо закончить домашнее задание, – сказала она. Пошла к лестнице и обернулась, поставив ногу на нижнюю ступеньку. – Эйли, ты ведь тоже не закончила свое.
Эйли, примостившаяся на диване так близко к Сэнди, что та ощущала исходившее от ее тела тепло, не подняла головы, не посмела.
– Нет, не закончила.
Джулия нахмурилась, взошла наверх и захлопнула дверь спальни.
Сэнди и Эйли сидели, окутанные смягчавшейся тишиной. Дюйм за дюймом Эйли все ближе придвигалась к Сэнди, пока ее голова не легла на сгиб ее руки, а потом – на колени, она все также молча смотрела на экран, а Сэнди поглаживала ее волосы.
Так они просидели часа два, остатки пиццы остыли и зачерствели, одно шоу сменилось другим, Эйли легонько посапывала. Сэнди осторожно подняла ее и отнесла в спальню, где Джулия, заслышав ее шаги, быстро выключила свет и притворялась спящей, пока Сэнди укладывала Эйли в постель, снимала с нее обувь и укрывала одеялом.
– Расскажи мне сказку, – попросила Сэнди, согнув колени под одеялом, прижав к уху телефонную трубку.
– Какую сказку?
– Любую. Какую рассказывают на ночь.
– Взрослую или детскую? – спросил Джон.
– Расскажи про нас.
– Я тебе расскажу о нашем первом свидании, – предложил он.
– Ладно.
– Мы отправились на ипподром, – начал он. – Осень была ранняя, холодная. Ты никогда раньше не бывала на скачках, тебя угнетала грязь вокруг, усыпанный билетами пол, мужчины нездорового вида с сигарами. Ты все время спрашивала: «Разве они не работают?» Это были скачки на легких колясках. Мы выбрали лошадей с понравившимися кличками. Женщина Под Парами. Мой Последний Доллар. Мы постоянно проигрывали. Один раз мы поставили чуть не на каждую вторую лошадь, и все равно проиграли. Ты подошла к ограждению, чтобы вблизи посмотреть на лошадей и жокеев. На тебе был большой красный свитер. Один из жокеев, проходя мимо, небрежно поздоровался с тобой. Мне хотелось заниматься с тобой любовью, ни о чем другом я просто думать не мог. Я не знал, как прикоснуться к тебе, даже как взять тебя за руку. Ты казалась такой замкнутой. Мы ушли перед последним заездом.
– У этой сказки счастливый конец? – спросила она.
– Да. Мы вернулись к тебе домой и занялись любовью, и с тех пор никогда не разлучались.
– Мне всегда так нравились волшебные сказки.
Он засмеялся.
– Ну как, теперь сможешь уснуть?
Минуту в трубке слышалось лишь слабое потрескивание.
– Я вижу ее во сне, – тихо сказала она. – Энн. Она никогда ничего не произносит, но ее лицо всегда искажено, глаза западают внутрь, челюсть отвисает.
– Я понимаю. Мне до сих пор снится сестра, – сказал он, – а ведь уже прошло тридцать лет. Меня взяли в больницу повидаться с ней за два дня до того, как она умерла. Она лежала такая исхудавшая на этой большой белой кровати. Все эти годы мне снится одно и то же: большие куски плоти отваливаются от ее тела и падают к моим ногам. Я всегда просыпаюсь до того, как она превратится в голый скелет.
Сэнди плотнее прижала трубку к уху и некоторое время слышала лишь, как пульсирует кровь у нее на виске.
– Мне хочется, чтобы ты больше общался с ними.
– С кем?
– С Джулией и Эйли.
– Ладно.
– Ты серьезно, или это просто значит «отвяжись от меня»?
– Послушай, Сэнди, уже поздно, а мне завтра надо рано быть в магазине.
Повисла долгая пауза.
– Голубой, – наконец произнесла она.
– Что?
– Свитер, который был надет на мне на ипподроме, голубой.
Он рассмеялся.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи. Я люблю тебя, – добавила она столь неуловимым шепотом, что только когда он повесил трубку, до него дошло, что она сказала.
Риэрдон решительным деловым голосом произнес имя женщины, с которой впервые познакомился четыре дня назад, когда она пришла в его офис незванно-непрошенно и заявила, что имеет сведения, которые могли бы заинтересовать его.
Люси Абрамс стояла возле стола, ее тщательно подкрашенное лицо обрамляли густые каштановые волосы, нижняя губа нервно подергивалась. Он поспешил закрыть дверь в кабинет.
– Садитесь, – предложил он.
Она присела на самый краешек обитого винилом кресла, избегая его взгляда.
– Я никогда прежде не бывала в конторе у адвоката, – сказала она. Она колебалась, но голос звучал решительно, свидетельствуя о том, что за стенами этого кабинета недостаток уверенности в себе вообще-то в число ее проблем не входит.
– Ну, это не так неприятно, как у зубного врача, – ободряюще улыбнулся Риэрдон. – Итак, скажите же мне, о чем речь.
Ее глаза, влажные, карие с золотистыми искорками, впервые глянули прямо на него.
– О Теде Уоринге, – ответила она.
Теперь Люси Абрамс, одетая в облегающее красное шерстяное платье, вошла в зал суда и проследовала по проходу к свидетельскому месту. Сэнди внимательно наблюдала за ней, замечая черные замшевые туфли-лодочки и сильные стройные икры ног – наверняка результат системы мучительных тренировок. Ее волосы, перехваченные на затылке черной бархатной лентой, блестели. Проходя мимо Теда, она чуть-чуть замедлила шаг и едва заметно повела головой в его сторону. Тед скривил губы в гримасе отвращения и сложил руки на груди, глядя, как ее приводили к присяге.
– Пожалуйста, сообщите суду, когда вы познакомились с обвиняемым, Тедом Уорингом.
– В прошлом году. По-моему, в декабре.
– А где вы познакомились?
– В баре Хэндли-инн, – ее гладкая красная нижняя губа подрагивала, как тогда, в кабинете у Риэрдона.
– Каков был характер ваших взаимоотношений с мистером Уорингом?
Люси Абрамс уставилась в пол, на пестрый серый мрамор, потом мельком глянула на Теда, ее лицо и взгляд были ясными и жесткими. Если Тед и вздрогнул, она этого не заметила. Она сдалась.
– У нас была любовная связь.
– Как долго она длилась?
– Всего пару недель.
Сэнди заерзала, подалась вперед, чтобы лучше разглядеть лицо свидетельницы. Она была слишком густо накрашена, несомненно, привычка, сохранившаяся со времен порочной юности.
– Был ли мистер Уоринг в то время женат?
– Он говорил, что они с женой только что разъехались.
– Был ли он огорчен этим?
– Иногда да, иногда нет.
Тед пошевелился, громко стукнув ногами по полу, и Фиск похлопал рукой по столу, чтобы успокоить его.
– Его трудно было разгадать, – продолжала она. – Он действительно человек настроения, понимаете? Только что страдал по ней, а через минуту заявляет, что плевать он хотел.
– Мисс Абрамс, почему вы перестали встречаться с мистером Уорингом?
Она поколебалась, прежде чем ответить:
– Кое-что произошло.
– Что же произошло, мисс Абрамс?
– Он зашел однажды вечером. Ну, он пил. Не знаю, что там стряслось в тот вечер, что-то связанное с его женой, кажется, они поругались по телефону. Он все время твердил о ней, Энн то, да Энн се. Ну, вы же понимаете, насколько одной женщине приятно слушать про другую. Я человек отзывчивый, но всему есть предел. Не помню, что я такое сказала, что-нибудь вроде: «Черт возьми, да может, она себе нового дружка завела». А дальше он швыряет меня на диван, а сам наваливается сверху. Сначала я подумала, что он шутит, дурака валяет, понимаете? Но тут он начал всерьез расходиться, чуть не придушил меня. Я закричала, чтобы он прекратил, но он, похоже, не слышал.
– Говорил ли Тед Уоринг при этом что-нибудь?
– Да. Он сказал, что я ошибаюсь, его жена никогда не будет с другим мужчиной.
– Вы испугались, мисс Абрамс?
– Я была в ужасе.
– О, конечно, – буркнул Тед.
Она отвлеклась на мгновение, взглянув на него, а потом продолжала:
– Он словно помешался. Был очень пьян.
– Что произошло дальше?
– Не знаю, как будто что-то в нем щелкнуло, и он переключился. Остановился, слез с меня. Выглядел подавленным, как будто не понимал, где находится.
– Виделись ли вы с Тедом Уорингом после того вечера?
– Нет. Я бы побоялась находиться с ним в одном помещении.
– У меня больше вопросов нет.
Фиск, в свою очередь, поднялся и подчеркнуто остался стоять возле своего стола, словно не желая слишком приближаться к Люси Абрамс.
– Мисс Абрамс, вы сказали, что познакомились с Тедом Уорингом в баре?
– Да.
– Вы часто бываете в барах, мисс Абрамс?
– Возражаю, – вмешался Риэрдон. – Свидетельница не находится под судом.
– Я пытаюсь установить надежность ее показаний, – запротестовал Фиск.
– Можете продолжать, но будьте осторожны, мистер Фиск, – предупредила судья Карразерс.
– Вы часто проводите в барах свое свободное время, мисс Абрамс?
– Мой зять – владелец Хэндли-инн. Я там бывала.
– И там вы обычно знакомились с мужчинами?
– Возражаю.
– Возражение принято.
– Сколько времени вы были знакомы с Тедом Уорингом?
– Как я сказала, около двух недель.
– Сложилось ли у вас впечатление, что он любил свою жену?
– Если он и любил ее, то такая любовь казалась мне довольно странной.
– Встречались ли вы с другими мужчинами в тот период, когда виделись с мистером Уорингом?
– Не помню. Нет. Думаю, что нет.
– В тот вечер, когда случилось это происшествие, вы тоже выпивали?
– Я не была пьяна.
– Но вы выпивали?
– Может, бокал вина, не помню.
– В тот вечер вы звонили в полицию, мисс Абрамс?
– Нет.
– Вы звали на помощь соседей?
– Нет.
– Почему же? Вы ведь только что показали, что были напуганы.
– Просто не вызвала, и все.
– Долго ли мистер Уоринг оставался у вас после этого предполагаемого нападения?
– Не помню, возможно, полчаса.
– И вы позволили засидеться у вас в доме тому, с чьей стороны вы опасались физического насилия?
– Я не знала, как отделаться от него.
– Мисс Абрамс, верно ли, что Тед Уоринг интересовал вас больше, чем вы его?
– Нет.
– И разве вы не были обижены тем, что он не искал дальнейших отношений с вами?
– Нет. Это было не так.
– У меня больше нет вопросов к этому свидетелю. – Фиск внезапно сел, покончив с этим.
Люси Абрамс сошла со свидетельского места, ощущая, как капли холодного пота стекают у нее по ложбинке между грудей, и снова прошла мимо Теда. На этот раз она не смотрела на него, но ясно расслышала, как он фыркнул при ее приближении.
У него уже установился некий образ жизни или, во всяком случае, какое-то его подобие. Каждый день после суда он ехал прямиком в Ройалтон Оукс и сидел в сумеречной гостиной, дожидаясь ночи.
Иногда он пытался читать, но слова сливались, и оказывалось, что он снова и снова пробегает одну и ту же страницу. Даже давние любимцы – Чехов, Чивер – не спасали. Чаще всего он просто сидел, вслушиваясь в звуки, доносившиеся из соседних квартир: пожилая женщина в квартире над ним каждый вечер ровно в шесть принимала ванну, невероятно громкий плеск отдавался в потолок; записи опер у соседа; телефонные споры другого соседа с матерью – случайное сопровождение его собственных рассеянных мыслей. Бывали вечера, когда он двигался только затем, чтобы приготовить себе ужин – что угодно, лишь бы можно было сделать на скорую руку, состряпать и съесть без особых раздумий – и нехотя ковырял еду, продолжая прислушиваться.
Но в другие вечера, ободренный покровом темноты, он садился в машину и ездил часами.
Он проезжал мимо дома Сэнди, где-то внутри которого находились его дочери.
Он проезжал мимо участка, на котором только начинал возводиться дом Бриаров, сваи фундамента угрожающе чернели в ночи. Это должен был быть его объект, а теперь его строит кто-то другой. Его вдруг заинтересовало, много ли они запросили и взялись ли прокладывать трубы и делать проводку.
А под конец он всегда подъезжал к дому на Сикамор-стрит.
Прежде у него никогда не было дома, само это понятие представлялось чуждым, невообразимым. До того как он в шестнадцать лет сбежал в Хардисон, их семья переезжала семь раз, его матери все казалось, что уж в следующем доме разрешатся все проблемы, хотя этот следующий дом оказывался даже меньше предыдущего, сгущая атмосферу жестокости, вызывая ее приступы. Теперь, медленно проезжая мимо дома и глядя на его темные окна, он думал о подвале, который он отремонтировал, о своих инструментах, подобранных и начищенных с немецкой аккуратностью, – стамески, киянки, молотки, развешенные по размеру, смазанный и навощенный рабочий стол, зубья пилы заточены как положено, все это теперь наверняка покрылось тонким слоем пыли. В углу, в плоских ящичках для документов на самом дне были спрятаны наброски, которые он делал много лет назад, когда впервые взял в руки проспекты факультетов архитектуры. Тогда с помощью остро наточенных карандашей, масштабных и логарифмических линеек и циркуля копировал проекты, которые изучал в библиотеках. Он не умел делать правильные расчеты и вычисления, но проводил долгие часы с альбомом и чертежными листами, тщательно перенося на них планы домов, помещавшиеся у него в голове, – имитации чертежей, которые у него никогда не хватало духа выкинуть.
После полуночи он приезжал на стоянку позади Ройалтон Оукс, и хотя утром ему нужно было рано вставать, он не спешил мыться и укладываться в постель. Теперь он спал урывками, просыпался в четыре-пять часов утра, не помня – возможно, к счастью, – подробности своих снов, но оставалось ощущение ее присутствия вокруг и внутри его, барьер воспоминаний и сожалений – тоже. Мелочи. Что он не купил ей на тридцатилетие тот кулон, на что она долго намекала, не купил его как раз потому, что она намекала на это, и он, чуткий ко всяким попыткам как-то манипулировать собой, обиделся. Плоское серебряное сердечко, удлиненное и асимметричное, по сути, пустяк, в витрине у ювелира на Мейн-стрит. В тот сочельник он снова пришел, чтобы купить его для нее, но его уже продали. Не сказал ей, как поражен тем, что она делает, но не хочет слушать подробности о болезнях, потому что слишком впечатлителен (он терял сознание, когда у него брали кровь, однажды ему даже стало плохо в кинотеатре, во время сцены в операционной, и администрация вызывала «скорую»). Но ею он просто гордился. Ему никогда не приходило в голову раскаиваться по поводу Люси Абрамс, считая ее не больше чем мимолетным эпизодом, не оставившим в его жизни заметного следа.
Было слишком много всякого другого.
Он лежал на двуспальной кровати, глядя в потолок. Дом затих, единственным оставшимся звуком был слабый шум телевизора через несколько квартир от него, обрывки смеха. Ему казалось, что если бы он получше прислушивался, то различил бы дыхание спящих соседей. Он пытался закрыть глаза, но хотя они болели от переутомления, веки не смыкались.
Он держал ее голову на коленях, – отверстие, кровь, держал ее голову на коленях, даже тогда замечая, что она вымыла волосы, и, по какой-то нелепой причине, он все время убирал их от раны, больше всего стараясь, чтобы они не запачкались.
Он помнил запах, блеск, мягкую прядь волос, которую он откидывал в сторону, в сторону.
Вот какой вопрос мучил его: ради кого она вымыла волосы? Ради него, к его возвращению? Или ради свидания с доктором Нилом Фредриксоном?
Он повернулся на бок и натянул одеяло на голову.
На следующий день полицейский офицер Фрэнк Бэньон показал, что в день «происшествия» уровень алкоголя в крови Теда составлял 300 промилле – в три раза выше предельно допустимого.
– Скажите, – продолжал Риэрдон, – что вы увидели, прибыв на место происшествия?
– Тед Уоринг сидел у подножия лестницы, поддерживая голову жены. Джулия Уоринг стояла рядом. Эйли Уоринг находилась в дальнем конце комнаты.
– Джулия сказала или сделала что-нибудь?
– Когда я вошел, она повернулась ко мне и сказала: «Это он сделал. Он застрелил ее».
– Он?
– Мистер Уоринг, – Бэньон поднял руку и направил короткий указательный палец прямо в лицо Теду. Присяжные обернулись и увидели, что Тед, снова дергая заусеницу, превратившуюся уже в багровую болячку, упрямо не опускал глаз.
– Колебалась ли Джулия, испытывала ли какую-нибудь неуверенность, делая это заявление?
– Ничуть. Она совершенно внятно повторила: «Он застрелил ее. Он застрелил мою маму».
– Эйли как-то оспаривала то, что утверждала ее сестра?
– Нет.
– У меня больше вопросов не имеется.
Фиск приблизился к свидетелю с несколько высокомерным видом.
– Можете ли вы утверждать, что, когда вы приехали, Джулия Уоринг выглядела расстроенной?
– Да. Я бы сказал, она была взволнована.
– И вы бы сочли взволнованного ребенка, только что присутствовавшего при самом ужасном происшествии, надежным свидетелем?
– Возражение. Этот вопрос относится к области медицины. Данный свидетель не является в ней специалистом.
– Возражение принято. В своих показаниях придерживайтесь того, что вы видели, – распорядилась судья Карразерс.
Фиск не растерялся.
– Мистер Бэньон, что сказал Тед Уоринг, когда вы приехали?
– Он сказал: «Это был несчастный случай».
– Был ли он удивлен поведением своей дочери?
– Да.
– Правда ли, что он просто не верил своим ушам?
– Пожалуй.
– И что он сделал?
– Он сказал ей: «Скажи им правду, Джулия. Скажи им, что произошло на самом деле. Это был несчастный случай».
– Благодарю вас, мистер Бэньон. – Фиск повернулся, отошел к своему столу и уселся, поддернув брюки.
Бэньон неуверенно огляделся, слегка разочарованный тем, что его звездный час так быстро закончился. Только после того, как судья Карразерс ободряюще кивнула, он встал и покинул свидетельское место. Спускаясь с возвышения, он поскользнулся в новых, до блеска начищенных черных ботинках, и когда шел через зал, его обычно бледное лицо густо порозовело.
Риэрдон дождался, пока тяжелая дубовая дверь в конце зала медленно закрылась за Бэньоном, потом назвал следующего свидетеля.
– Обвинение вызывает доктора Сэмюела М. Пелойта.
Невысокий человек в темно-синем костюме уверенно проследовал по проходу и предстал перед судом. Его кожа носила тот густой золотистый оттенок, какой имеет постоянный загар, редкие волосы того же цвета были зачесаны на макушку и уложены так, чтобы прикрыть проглядывавшую плешь. Встав, чтобы принести присягу, он распространил вокруг себя аромат туалетной воды «Аква Велва». Усевшись, он сначала тщательно расправил манжеты рубашки, а потом взглянул на прокурора.
– Где вы работаете, доктор Пелойт? – начал Риэрдон.
– В отделе коронера округа Хардисон.
– Давно ли вы работаете там?
– Одиннадцать лет.
– Какую должность вы занимаете?
– Я являюсь главным медицинским экспертом. – У Пелойта был ровный бесстрастный голос, часто противоречивший тому ужасному предмету, о котором шел разговор. Хотя большинству его коллег это давалось легко и естественно, ему пришлось хорошенько потрудиться, чтобы научиться говорить так сухо и деловито.
– В каких учебных заведениях вы обучались?
– Курс в Государственном университете в Олбани, Корнеллское медицинское училище.
– Можете ли вы сообщить, членом каких профессиональных объединений вы состоите?
Пелойт подался вперед:
– Медицинское общество округа Хардисон, Медицинское общество штата Нью-Йорк, Ассоциация американских врачей, Американская ассоциация судебной медицины…
– По-моему, нам незачем тратить на это время? – прервала его судья Карразерс.
Фиск кивнул.
– Ваша честь, обвинение вносит предложение признать, что доктор Пелойт является экспертом в области судебной медицины.
Судья Карразерс кивнула.
– Принято к сведению. Можете продолжать.
Пелойт недовольно откинулся назад. Они даже не собирались дать ему возможность перечислить многочисленные статьи, которые он напечатал, речи, которые произнес, дела, в которых участвовал как эксперт.
– Знакомы ли вы с делом «Народ против Теодора Уоринга», доктор Пелойт? – задал вопрос Риэрдон, снова привлекая его внимание.
– Да.
– Какое обследование вы проводили в связи с этим делом?
– Я осматривал тело белой женщины тридцати шести лет, Энн Ледер Уоринг.
– Вы определили причину смерти?
– Смерть была вызвана одиночным ранением в голову.
– Можете ли вы описать суду характер ранения?
– Пуля проделала отверстие диаметром в одну восьмую дюйма, на один дюйм выше левой брови, – в голосе Пелойта помимо его воли появились возбужденные нотки. Пулевых ранений в округе Хардисон встречалось гораздо меньше, чем требовалось для него и его самолюбия. – Следов пороха не обнаружено, – добавил он, быстро обретя прежнюю бесстрастность.
– Как вы считаете, насколько далеко от ружья находилась жертва?
– Пожалуй, футов пять, плюс-минус пара дюймов.
– Удалось ли вам определить траекторию пули?
– Пуля рассекла кожу и мягкие ткани и проникла в череп. Затем она прошла сквозь лобную кость и вышла в нижней правой части черепа, пробив затылочную кость. Поверхностный кожный покров имеет повреждение размером один дюйм с рваными краями. – Сидевшая в нескольких ярдах от него Сэнди закрыла глаза. – Жертва умерла мгновенно.
Риэрдон сделал паузу. Некоторые присяжные вновь обернулись, чтобы посмотреть на реакцию Теда, но его глаза были опущены, в них было невозможно прочесть ничего.
– Доктор Пелойт, согласуется ли это с положением ружья при выстреле на уровне плеча?
– Да.
– Итак, вы делаете заключение, что ружье стреляло не снизу, как это было бы, скажем, в случае, если бы кто-то схватил за руку человека, держащего ружье?
– Да. Пуля была выпущена на уровне плеча.
– Благодарю вас, доктор Пелойт. У меня нет других вопросов.
Фиск подошел к свидетельскому месту.
– Доктор Пелойт, находились ли вы в доме 374 по Сикамор-стрит вечером 22 октября?
– Нет.
– В таком случае вы реально не присутствовали при происходивших там событиях?
– Нет, – уголки губ доктора Пелойта презрительно поползли вниз.
– Можете ли вы, исходя из результатов вашего обследования, утверждать, был ли выстрел произведен случайно или намеренно?
– Нет, – признался доктор Пелойт.
– У меня больше нет вопросов.
Джон Норвуд стоял перед стойкой у себя в спортивном магазине, изумленно таращась на Сэнди.
– Я заеду за ними в четыре, – сказала она.
– Но…
Она повернулась и решительно проскочила сквозь тяжелую стеклянную дверь, прежде чем он успел запротестовать.
Джон смотрел ей вслед, пока она не скрылась, затем наконец обратил взгляд на Джулию и Эйли, которые стояли рядом и явно испытывали такую же неловкость, как он.
– Ну что ж, – пробормотал он. Джулия скрестила руки на груди, а Эйли выжидающе улыбалась ему. – Посмотрим.
– Сэнди сказала, мы можем поработать здесь, – с надеждой предложила Эйли.
– О, она так сказала?
Эйли кивнула.
– Может, ему наша помощь вовсе и не нужна, – возразила Джулия.
Джон нахмурился.
– Конечно, мне нужна ваша помощь. Пойдемте глянем, что у нас есть.
Он привел их на склад.
– Ну вот, давайте начнем с этого.
Он начал показывать им, как складывать коробки со спортивной обувью по размерам и фасонам, наблюдая, как они брались за картонки, легко укладывавшиеся в его огромную ладонь, обеими руками с такими короткими, чистыми полупрозрачными ноготками.
– Я бы могла здесь работать каждый день, – предложила Эйли, проходя мимо него.
– А как же школа?
– Мне здесь больше нравится.
Джон улыбнулся.
– Я думаю, тебе придется некоторое время довольствоваться выходными. Ну скажем, ближайшие лет десять. Мне нужно идти в магазин. А вы, девочки, пока разложите на столе все баскетбольные туфли, хорошо? Справитесь?
Джулия и Эйли кивнули.
Он понаблюдал за ними еще минуту, удерживая стремление выровнять коробки, начинавшие скапливаться у их ног, а потом отправился в торговый зал разбираться с покупателем, пытавшимся вернуть явно поношенную спортивную куртку нежно-голубого цвета. Весь перед был заляпан пятнами от горчицы, но молодой человек громко уверял, что она был куплена в таком виде. Кассир, один из студентов, которых Джон брал на работу на выходные и летние каникулы, беспомощно смотрел на Джона.
До Джулии и Эйли доносились лишь отзвуки последующего спора, они продолжали разглядывать этикетки на каждой коробке и соответственно раскладывать их по штабелям.
– Как ты думаешь, мы всегда будем жить с Сэнди? – спросила Эйли, подавая Джулии коробку, которую нужно было поставить на полку, куда она не могла дотянуться.
– Не знаю.
– Я скучаю по папе.
– А я нет.
– Ни капельки?
– Нет.
– Но если бы была возможность…
– Какая возможность?
– Я не хочу, чтобы его сажали в тюрьму.
Джулия уставилась на нее.
– Я его ненавижу. Хоть бы он не был нашим отцом. Я ни за что не хочу больше видеть его.
Эйли повернулась к сестре спиной, наматывая и наматывая шнурок от кроссовки на указательный палец, так что тот покраснел.
Джон, стоявший в коридоре, наблюдая за ними, разглядывая их, повернулся и медленно удалился.
На этот раз, когда Джулия увидела, что Питер Горрик идет по дорожке к школе в три часа дня – легкая поступь, мешковатые брюки цвета хаки, кроссовки «Рибок», – она не удивилась. Однако она почувствовала, как при его приближении щеки ее запылали, – несмотря на свои усилия и тренировки, она еще не умела контролировать свою кровь, которая приливала к щекам, когда учитель вызывал ее отвечать, когда она слышала, как другие ученики, сидя спиной к ней, шепчут ее имя. Ей следовало бы научиться лучше справляться с этим, ведь она много с чем умела справиться. Она понадеялась, что он ничего не заметит.
– Привет, – с улыбкой сказал он.
– Привет.
– У твоей сестры внеклассные занятия по рисованию, верно?
Джулия кивнула. Он, как и она сама, собирал факты, сведения, и, как и она, не раскрывал их источники.
– Хочешь, сходим куда-нибудь, съедим по гамбургеру?
– Ладно.
Она села в его автомобиль, белый подержанный «вольво», купленный три года назад. Он включил обогреватель, сквозь запыленные вентиляционные отверстия тепло хлынуло на переднее сиденье. Она никогда раньше не ездила на машине одна с мужчиной, только с отцом, хотя она не была полностью уверена, точно ли Питер Горрик мужчина во взрослом значении этого слова – мешковатые брюки, кривая ухмылка. Но все-таки это кое-что. Она сидела выпрямившись и старалась принять безразличный вид, а он в это время искал по радио современную музыку.
– «Плэттер Пусс» подойдет? – спросил он. Это кафе находилось в пяти милях от школы; там было меньше вероятности, что их увидят.
– Идет.
– Дети цепляются к тебе? – спросил он, когда они остановились на красный свет.
– Ерунда.
– Вся штука в том, чтобы не показывать виду, будто тебя это задевает. Если им кажется, что тебя ничем не проймешь, это их просто бесит.
– Я знаю.
Они немного проехали молча.
– На какой улице вы живете в Нью-Йорке? – спросила Джулия.
– На Шестьдесят первой восточной. – Он мельком подумал о большой бестолковой, доставшейся по наследству квартире, в которой вырос и которая скрывала тот факт, что капиталов в его семье не осталось. Он учился в близлежащей частной школе для мальчиков на стипендию. – А что?
– Просто интересно. – На прошлой неделе она взяла в библиотеке путеводитель по городу, внимательно изучила карты, водя по улицам и авеню указательным пальцем, размышляя, где он точно бывал, куда мог бы пойти.
Они припарковались на стоянке возле «Плэттер Пусс». Питер вышел из машины первым и пошел открывать дверцу для Джулии, но она уже стояла рядом. Ему все же удалось придержать перед ней стеклянную дверь ресторана и посмотреть, как она вошла. Она надеялась, что другие посетители заметили это.
Они уселись у окна, выходившего на стоянку, и Питер заказал для них обоих гамбургеры, кока-колу и один гарнир из жареной картошки на двоих.
– Ваша мама так и живет в Нью-Йорке? – спросила Джулия.
– Да.
– На Шестьдесят первой восточной?
– Да.
– А отец? – наседала она.
– Он переехал на север Калифорнии. В Сосалито. Живет на барже с медсестрой по имени Фиона. – Питер поправил пожелтевшую пластиковую подставку под тарелкой. Он смутно припоминал, что Фиона была зубным врачом и что после нее было, по крайней мере, еще три девушки. Хотя он и не задумывал заранее именно эту конкретную ложь, выдумки всегда легко и непроизвольно срывались у него с языка, часто изумляя даже его самого. Он не считал это качество ни талантом, ни недостатком, хотя сейчас впервые обнаружил, как оно могло бы пригодиться в его работе. – Твоя мама ведь тоже была медсестрой? – спросил он.
– Я же сказала, что не хочу разговаривать о моей маме.
Питер кивнул.
Официантка принесла заказ, и они начали есть. Джулия откусывала понемножку, жевала и глотала как можно тише, изящно притрагивалась к губам, чтобы убедиться, что на них не осталось никаких предательских крошек еды. Она тщательно следила за тем, чтобы брать картошку по очереди – один раз он, один раз она, – дожидаясь, пока он уберет пальцы.
– Мы с отцом никогда особенно не ладили, – сказал Питер. – Ох, он и вспыльчив был. Ему стоило только бровью повести, и мы все сломя голову мчались прятаться в горах.
– Мне казалось, вы говорили, что жили в городе.
Он засмеялся.
– Очень уж ты педантична, а?
Она не совсем поняла, что он имел в виду и стоит ли ей обижаться.
– Вы ездите к нему в Калифорнию?
– Не слишком часто. По правде говоря, меня на этой проклятой барже укачивает. А кроме того, я не в восторге от Фионы. Немного странно видеть своего отца с подружкой. – Он наклонился над столом.
Джулия опустила глаза и отпила глоток колы. Она была безвкусная, разбавленная растаявшим льдом.
– Вы его боялись?
– Отца?
– Да.
– Иногда, – ответил он. – Он был горлопан. Я имею в виду мощь легких. Все дело в том, что никогда нельзя было точно предугадать, от чего он заведется, понимаешь? По-моему, это хуже всего. Никогда не знаешь, то ли он в следующий момент засмеется, то ли выйдет из себя. А ты боишься своего отца?
– Нет.
Питер запихнул в рот последний кусок гамбургера.
– Вы пишете о нас для «Кроникл», да? – спросила Джулия. – Сэнди прячет газеты, но я знаю.
– Она желает вам добра. Ей просто не хочется вас расстраивать.
– Зачем вы пишете о нас?
– Я пишу о процессе. Это моя работа. Но я не буду писать ни о чем из того, что ты мне расскажешь, пока ты этого не захочешь. Договорились?
Она кивнула.
– Ну что же, давай-ка я подброшу тебя до школы. У Эйли вот-вот кончатся занятия.
Он взял оставшийся ломтик картофеля, обмакнул его в кетчуп, откусил половинку, а другую предложил ей.
– Поровну так поровну, – произнес он с улыбкой. Она взяла ломтик в рот, коснувшись губами его пальцев.
В тот вечер Питер Горрик уселся на кухне за стол и достал блокнот, куда заносил все сведения после встреч с Джулией. Он завел его, чтобы проанализировать не только ее поведение, но и свое собственное, критически просматривая собственные записи: вот это мне следовало бы сказать, вот об этом следовало бы спросить, а вот это я должен сделать в следующий раз. А вот так я выйду из игры.
Он взял ручку и начал писать.
Лежа в темноте, Джулия все еще ощущала этот вкус – соль и кожу его загорелой руки, ощущала его, вертясь с боку на бок, то заворачиваясь в простыни, то сбрасывая их. Эйли в эту ночь спала спокойно, не просыпаясь.
Она выскользнула из постели, подошла к потайному ящику, достала секретный сверток. Вынула клочок бумаги с именем и телефонами Питера, медленно прочла и положила обратно. Потом она вытащила кружевные трусики Сэнди, легкие, как паутинка. Задрав ночную рубашку, она скинула свои хлопчатобумажные трусы.
Трусики свободно висели на ее узких бедрах. Она провела рукой по своему гладкому, плоскому животу до кружева. В самых укромных уголках у нее только намечался пушок волос. «Ты поздний цветок, – говорила Энн, – точь-в-точь как я».
Лицо ее матери, улыбающейся, утешающей, не подозревающей ни о чем.
Я не такая, как ты. Я вовсе не такая, как ты.
Она легла в постель, оставив хлопчатобумажные трусы валяться на полу.
Снег пошел на рассвете редкими белыми хлопьями, набирая силу с наступлением утра. Говорили, что это будет первый настоящий зимний снегопад, и те немногие жители города, кто не поставил зимние покрышки, выстроились у трех заправок, проклиная свою нерасторопность и изобретая предлоги для объяснения причин своего опоздания начальству. Первый снегопад всегда бывал событием, и его параметры – скорость, интенсивность и содержание влаги – тщательно анализировались, из них делались выводы о том, чего можно дальше ожидать от зимы. К половине десятого мостовые и тротуары уже скрылись под чистым белым покрывалом, а в бледном небе гуляла не собиравшаяся прекращаться вьюга. Тед перевел взгляд со старинных окон с толстыми стеклами на стол судьи, она опять наливала себе воды из желто-черного кувшина, ожидая прибытия последнего опоздавшего. Он заметил щербинку на носике кувшина и задумался, была ли она раньше или кто-то уронил кувшин, когда здесь делали уборку после вчерашнего заседания. Рядом с ним Фиск все время рылся в своем портфеле. Он бы убивал время, болтая и сплетничая с адвокатом противоположной стороны, если бы это был не Риэрдон. Шорох бумаг действовал Теду на нервы, и он бросил на Фиска сердитый взгляд. Наконец все было готово к началу заседания.
Риэрдон встал.
– Народ вызывает Сэнди Ледер.
Сэнди в этот день надела свой самый строгий наряд – черный шерстяной костюм, почти прикрывавший колени, и шелковую блузку кремового цвета. За последние недели она похудела, и юбка болталась на ней, пока она шла по проходу, застежка со спины совершенно съехала набок. Она озабоченно одергивала юбку, водворяя ее на место, пока помощник шерифа, отражая своей блестящей лысиной свет от люстры, поднимал Библию.
После того как ее привели к присяге, Риэрдон задал первый вопрос.
– Мисс Ледер, сообщите, пожалуйста, суду, каковы были ваши родственные отношения с покойной?
– Энн Уоринг была моей сестрой.
– Значит, Тед Уоринг приходился вам зятем?
– Да.
Она и не глядя ощущала присутствие Теда в нескольких шагах, ощущала, как он смотрит на нее, магнит, притягивавший ее, отталкивавший ее. Она смотрела только на Риэрдона, на неподвижные белки его глаз.
– Вы были близки с сестрой, мисс Ледер?
– Да, мы всегда были очень близки.
– Можете ли вы утверждать, что она доверялась вам?
– Да.
– Мисс Ледер, как бы вы охарактеризовали брак вашей сестры с Тедом Уорингом? Можете ли вы сказать, что это был гармоничный союз?
Сэнди нахмурилась.
– Разумеется, нет.
– В таком случае, как бы вы охарактеризовали его?
– Бурный. Это в лучшем случае.
– Можете немного пояснить нам, что вы под этим подразумеваете?
– Тед Уоринг человек очень неуравновешенный. По-моему, он ожидал, что будет полностью главенствовать в семье. Возможно, сначала так оно и было. Она была очень молода. Но все меняется; ОНА изменилась. Ей больше это было не нужно. А он не смог этого вынести.
– Возражаю, – с явным неудовольствием воскликнул Фиск. – Все это сплошные догадки и предположения. Что это за показания? Здесь суд, а не «Шоу Опры Уинфри».
Карразерс нахмурилась.
– Достаточно и простого возражения, мистер Фиск. Принято.
Риэрдон спокойно, терпеливо продолжал.
– Припоминаете ли вы какой-нибудь случай за время их брака, когда у Энн возникали основания бояться его?
– Да. Хоть сейчас могу вспомнить. – Сэнди намотала на палец выбившуюся прядь волос, потом отпустила. В ее голосе мешались слабость, гнев и вызов. – Это было примерно за год до того, как они разъехались. Как раз в это время их отношения начали портиться. Тед вернулся из поездки в Олбани, где потерпел неудачу на подряде на какое-то строительство, не помню точно. Во всяком случае, когда он добрался до дома, то был пьян. Не знаю, из-за чего возникла ссора. Знаю лишь, что Энн в тот вечер позвонила мне часов в одиннадцать. Она так испугалась его, что заперлась в спальне. Звонила она оттуда, и мне было слышно, как он колотит в дверь и орет на нее. Она сказала, что, когда на него такое найдет, никакие уговоры не действуют. Она была очень расстроена, плакала. Мне кажется, она до самого утра не осмеливалась отпереть дверь.
– Она боялась, что он может применить к ней силу?
– Да.
Тед, насупясь, со скрипом двинул свой стул назад.
– Мисс Ледер, можете ли вы сообщить суду, насколько вам известно, почему ваша сестра начала дело о разводе с Тедом Уорингом?
– Потому что она наконец образумилась.
В зале раздалось хихиканье, и судье Карразерс, которая сама недавно развелась, пришлось стукнуть молотком громче, чем обычно, словно для того, чтобы успокоить и публику, и себя.
– Она решила, что их брак больше не имеет смысла, – произнесла Сэнди профессиональным тоном, как во время интерьвью, ровным и холодным.
– Почему же?
– Их ссоры перешли допустимую грань, влияли на их жизнь и на жизнь их детей.
– Что чувствовала ваша сестра после разъезда?
– Возражаю, – не вставая с места, заявил Фиск. – Прокурор требует, чтобы свидетельница передавала мысли другого человека.
– Напротив, – возразил Риэрдон. – Мы уже установили, что сестры делились друг с другом и что Сэнди Ледер прекрасно знала о чувствах своей сестры.
– Возражение отклоняется, – сухо произнесла судья Карразерс.
Сэнди продолжала:
– Энн вернулась на работу. Она устраивала свою жизнь. Казалось, она первый раз в жизни почувствовала себя свободной.
– Мисс Ледер, известно ли вам, пытался ли Тед Уоринг помириться с Энн?
– Да, пытался.
– А знаете ли вы, допускала ли такую возможность ваша сестра?
– Нет. Ни в коем случае. Она не могла дождаться документов о разводе.
– Действительно ли она в те выходные ходила на свидание с доктором Нилом Фредриксоном?
– Да. И собиралась снова встретиться с ним.
– Мисс Ледер, как вам кажется, как бы отнесся к этому известию мистер Уоринг?
– Возражение, – воскликнул Фиск. – Вопрос ведет к домыслам.
– Ладно, мисс Ледер, – терпеливо продолжал Риэрдон, формулируя вопрос по-другому, – могли бы вы сказать, присуще мистеру Уорингу чувство собственности или нет?
– У мистера Уоринга огромный инстинкт собственника. Я не сомневаюсь, что это сильно разозлило бы его.
– Насколько я понимаю, Джулия и Эйли Уоринг в настоящее время живут у вас?
– Да.
– Насколько вам известно, говорила ли Джулия Уоринг когда-нибудь неправду своей матери?
– Нет. Она всегда была правдивым ребенком.
– Есть ли у вас какие-либо причины считать, что теперь она стала менее правдивой?
– Нет.
– Еще один, последний, вопрос, мисс Ледер. Давно ли вы знакомы с обвиняемым, Тедом Уорингом?
– Шестнадцать лет.
– Учитывая то, что вам известно о Теде Уоринге, способен ли он был застрелить Энн Уоринг?
Сэнди сделала глубокий вдох.
– Да. – Это слово глухо отдалось у нее в ушах, и она подумала: неужели у нее такое же потрясенное, озадаченное выражение лица, как у тех людей, с которыми она разговаривала после трагических происшествий?
Риэрдон кивнул.
– У меня больше нет вопросов, – тихо произнес он.
Фиск долго разглядывал Сэнди, прежде чем приступить к допросу.
– Мисс Ледер, вы ведь никогда не были замужем?
– Вопрос не имеет отношения к делу, – запротестовал Риэрдон.
– Возражение принято.
– Хорошо, – продолжал Фиск. – Вы показали, что Энн и Тед Уоринг часто ссорились.
– Да.
– Разве не возможно, чтобы таков был характер их супружества, их способ общения друг с другом?
– Я бы не называла это способом общения.
– Но ОНИ, возможно, так считали, мисс Ледер?
– Не знаю.
– Позвольте задать вам такой вопрос. Приводили когда-нибудь эти ссоры к насилию в какой бы то ни было форме? Хоть один раз за все годы их брака жаловалась ли вам сестра, что Тед Уоринг ударил ее или нанес ей физическое оскорбление каким-либо иным образом?
– Нет. Но…
– То есть на самом деле у вас нет никаких причин считать, что у Теда Уоринга имелась привычка к физическому насилию любого рода, верно?
Сэнди опустила глаза и уставилась на свои обветренные руки, на дочиста обкусанные ногти. Она долго ничего не говорила, а когда наконец ответила, то ее голос прозвучал еле слышно:
– Нет.
– Вы сказали, что вы с сестрой были очень близки, я не ошибаюсь?
– Да.
– Тогда вам должно быть известно, что Джулия Уоринг переживает эмоциональные трудности и что в школе она ходит на прием к психологу?
– Энн упоминала об этом.
– Вам так же было известно, не правда ли, что у нее были проявления физической жестокости и другие признаки неблагополучного поведения и что Энн и Тед Уоринг оба были озабочены этим?
– Я не помню, чтобы Энн была чересчур этим озабочена, нет.
– Можете ли вы подтвердить, что у Джулии были сложные взаимоотношения с отцом?
– Я бы сказала, что у множества людей были сложные взаимоотношения с Тедом.
– Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос. Были ли у Джулии сложные взаимоотношения с отцом?
– Возможно.
– Мисс Ледер, вы находились в доме на Сикамор-стрит в тот вечер, когда Тед Уоринг и его дочери вернулись из поездки в горы, верно?
– Да.
– Была ли Энн рада видеть их?
– Девочек, во всяком случае.
– Были ли вы свидетелем каких-нибудь разногласий между Энн и Тедом Уорингом?
– Нет, но…
– Вы не заметили ни малейших разногласий, не так ли, мисс Ледер, да или нет?
– Нет.
– Когда вы уходили, где была Джулия Уоринг?
– В гостиной.
– Она стояла рядом с родителями?
– Она находилась с ними в одной комнате.
– Значит, она стояла рядом с Тедом Уорингом?
– Я этого не говорила.
– Вы бы хотели получить опеку над детьми, не так ли, мисс Ледер?
Риэрдон встал.
– Возражаю. Это процесс по делу об убийстве, а не о назначении опекунства.
– Возражение отклоняется. Свидетельница ответит на вопрос.
– Во всяком случае, не думаю, что они должны достаться Теду Уорингу.
– Вы не слишком любите своего зятя, верно, мисс Ледер?
– Да, действительно не люблю.
– Больше вопросов не имею.
Сэнди минуту постояла, в голове у нее был полный сумбур. Затем она ступила с возвышения и пошла, сперва медленно, проверяя, держат ли ноги, потом все быстрее. Проходя мимо Теда, она наконец посмотрела на него, и он выпрямился и взглянул ей прямо в лицо.
Питер Горрик, наблюдая за ними из третьего ряда, пометил в своих записях этот обмен взглядами словом «уничтожающий».
Сэнди смотрела на спящего Джона, на дорогое, не изрезанное морщинами, спокойное лицо. Метель на улице наконец прекратилась, укутав весь мир толстым слоем снега. По угольно-черному, словно наконец очищенному, небу там и сям были рассыпаны сверкающие точки зимних звезд. Она листала журнал тихо и осторожно, но он открыл глаза.
– Не спится?
– Да.
Он взглянул на крошечный дорожный будильник на ее тумбочке. Его тревожило, что даже будильник у нее был такой компактный, легкий, что его нетрудно передвинуть. На нем бледно светились цифры 3.17.
– Надо заменить батарейку, – сказал он.
– Я знаю.
Они немного помолчали. Он положил руку ей на живот, но она не отреагировала.
– Знаешь, – задумчиво сказала она, – когда-то я видела сны о детях. Однажды мне приснилось, что к моей спине прикреплен ребенок, его маленькие ручки обвиваются у меня вокруг шеи и душат меня. В другой раз мне снилось, что я пинаю ребенка, как футбольный мяч.
– У всех бывают тревожные сны.
– У тебя на все есть объяснение, да?
– А тебе хочется, чтобы я сказал, что ты жуткая личность, и я тебя видеть не могу?
– Неважно.
– Почему ты не попробуешь заснуть? Хочешь, согрею тебе молока?
– Не надо мне твоего дурацкого молока, – раздраженно бросила она.
– Ну что ж, ты не возражаешь, если я попытаюсь немного поспать? Или тебе хочется поделиться со мной еще какими-нибудь фантазиями в духе Нормана Рокуэлла?
– Извини, Джон. – Она устало вздохнула. – Спи. – Она склонилась над ним, чмокнула в лоб и смотрела, как он закрывает глаза.
Она вспомнила ту ночь, когда родилась Джулия, на неделю раньше срока, как Тед позвонил ей из больницы, мы сделали это, мы сделали это, была середина ночи, август месяц, ее грудь была влажной от ночного пота, мы сделали это, мы сделали это, он быстро бросил трубку, словно позабыв, что разговаривает, как будто у него было более неотложное дело, Джулия, следующее утро, у груди Энн, еще сморщенная, мокрая, Сэнди долго казалось, что она больше похожа на лягушку, чем на человека, мы сделали это, мы сделали это, усталая улыбка Энн, любовь не приходит сразу, призналась она наедине с Сэнди, когда медсестра унесла ребенка, ты думаешь, что она есть сразу, а это не так, я даже не знаю ее. Потом она не помнила, чтобы говорила что-то подобное, выводила ту любовь, что вскоре вспыхнула с такой нежданной силой, от начала, с рождения, мы сделали это, мы сделали это, та душная летняя ночь, трубка замолкнувшего телефона в руках.
На следующий день миссис Мерфи, консультант средней школы Хардисона, позвонила Сэнди в редакцию «Кроникл».
– Думаю, вам следует знать, – сказала миссис Мерфи, – что у нас нет ровным счетом никаких успехов с Джулией.
Сэнди рассердил ее холодный тон.
– Что это значит?
– Это значит всего лишь, что она явно решила никоим существенным образом не участвовать в наших обсуждениях. Похоже, она считает, что просидеть весь курс молча – это в порядке вещей. А если и открывает рот, так только затем, чтобы дать краткий ответ и такой, какого, по ее разумению, я жду. Я должна настоятельно порекомендовать, чтобы вы подыскали другого врача, который сможет уделять ей больше времени. И хорошо бы провести такой же профилактический курс для Эйли, хотя она, похоже, несколько поспокойнее.
– Хорошо, – коротко ответила Сэнди.
– Так я могу полагать, мисс Ледер, что вы доведете это дело до конца? – настаивала мисс Мерфи после того, как продиктовала Сэнди фамилии и номера телефонов двух детских психиатров, работающих в больнице Хардисона.
– Можете полагать все что вам угодно, – не могла удержаться от колкости Сэнди, прежде чем повесить трубку.
Минуту она разглядывала клочок бумаги, на котором послушно записала фамилии врачей, потом запихнула его в свою большую сумку вместе с неоплаченными срочными счетами, обертками от конфет и скомканными бумажными салфетками.
Тед беспокойно расхаживал по квартире, к стене – от стены, к стене – от стены, сама атмосфера тишины и покоя действовала угнетающе.
Снег был слишком глубоким для катания на машине, он не мог пойти на риск застрять, чтобы пришлось звать на помощь.
Пойти было некуда.
Больше всего ему не хватало звуков вокруг, звуков, бывших его частью, частью жизни – бренчат кастрюли, его девочки бранятся или смеются, или напевают выдуманные песенки, кто-то возится в душе, – суматохи семейной жизни. Телефон молчал. Почти никто теперь не звонил ему; разве что Карл иногда.
Такое же ощущение пришло к нему, когда он только переехал сюда с Сикамор-стрит. Тишина, чистота и порядок. С чего он решил, что ему нужно именно этого? Это полное отсутствие семьи, точно такая же пустота, которую ему удалось как-то заполнить. Теперь благодаря легкомыслию или невезению все это снова было утрачено.
Последний раз он виделся со своей матерью шесть лет назад. Он был на стройке в Пенсильвании и решил проехать семьдесят миль, чтобы навестить ее. Они с мужем управляли мотелем, жили там же, в маленькой бесплатной квартире. Ее лицо, когда он вошел, – ЧЕМ МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНА?– крашеные черные волосы, стянутые в неряшливый пучок, огромные руки, выпиравшие из запачканного хлопчатобумажного платья кусками дряблого жира – к тому времени она весила около трехсот фунтов. Она не сразу узнала его.
Он сидел в их маленькой кухоньке, заваленной рецептами, записками для постояльцев (в номерах не было телефонов), счетами, ужинал с ней и отчимом. Они ни разу не спросили его, где он работает, живет, что у него за семья, говорили только о крахе на рынке недвижимости, что мотель по соседству с ними закрывается, что у них самих пустует до двенадцати процентов номеров. После ужина он сказал ей: «Почему ты не ляжешь в какую-нибудь диетическую больницу в городе?» Ее ноги были покрыты язвами от диабета, вызванного ожирением, багровые нарывы расползались вверх по икрам.
– Куча баб, которые только сидят да жалуются на своих мужей? – вмешался отчим. – Я не собираюсь оплачивать это.
Он отказался от предложения бесплатно переночевать у них и уехал, как только они уселись смотреть свое любимое телевизионное шоу: «Ты ведь не возражаешь, правда? Мы его смотрим каждую неделю».
Она умерла меньше, чем через год после этого, от обширного инфаркта, в пятьдесят три года, однако отчим сообщил ему об этом только через три месяца.
«Во всем виноват этот осел», – со злостью бросил Тед. Но Энн возразила: «Она отвечала за собственное тело».
И хотя он понимал, что она права, отчима он так никогда и не простил. Была какая-то возня с ее завещанием, она составила его сама, воспользовавшись документами, которые выписала по рекламе в ночном телевидении. Оно не соответствовало официальным требованиям, существовавшим в штате Пенсильвания, и было признано недействительным. После этого он снова перестал общаться с отчимом.
Он отошел от окна и сел на диван.
В тот вечер перед отъездом он показал ей фотографию Джулии и Эйли, она поднесла ее к самым глазам, мечтательно улыбаясь, какая прелесть. Она разглядывала их лица и вернула фото только когда отчим крикнул: «Принеси мне кофейного мороженого, а?»
У него все еще сохранилась та фотография, ее края помялись под рамкой.
Его девочки.
Одна из присяжных опаздывала. Ее машина застряла в сугробе в трех милях от здания суда, и публика нетерпеливо пережидала долгую паузу, шепталась, гудела и ерзала. Джулия обернулась и увидела через два ряда Питера Горрика, наблюдавшего за ней. Когда он улыбнулся, его веки сомкнулись, словно птицы и лодочки, которые она любила делать из бумаги. Она только было улыбнулась в ответ, как почувствовала, что Сэнди неодобрительно смотрит в том же направлении, и повернулась к суду. В двух шагах от себя она видела затылок отца, темные, тщательно причесанные волосы чуть-чуть не доходили до ворота пиджака, открывая полоску бледной кожи. Она не видела его с тех пор, как его увели полицейские. Она уставилась на эту полоску обнаженной кожи, вызывавшей беспокойство, и стиснула ткань платья.
Сэнди метнула на Горрика сердитый взгляд и повернулась к Джулии, которая теперь смотрела прямо на пустующее место судьи упорно, настойчиво и невозмутимо. Она была благодарна обвинению уже за то, что они вчера вечером решили не вызывать Эйли для дачи показаний. Риэрдона беспокоило то, как бы она стала описывать схватку Теда и Джулии и ружье, которое видела. «Они вызовут ее, тогда и займемся этим», – сказал он. Но Джулия, разумеется, дело другое.
Когда опоздавшая, молодая воспитательница детского сада в желтых синтетических зимних ботах, с туго завитыми, только начинавшими отрастать волосами, наконец появилась, волнуясь и извиняясь, заседание началось.
Риэрдон встал.
– Обвинение вызывает Джулию Уоринг.
Сэнди слегка пожала неподвижную руку Джулии и стала смотреть, как она идет по центральному проходу, высоко подняв голову. Тед попытался поймать ее взгляд, когда она шла мимо, вытянувшаяся с тех пор, как он видел ее в последний раз, такая сдержанная, потерянная для него; но она не дрогнула.
Джулия заняла свидетельское место.
Риэрдон подошел к ней.
– Здравствуй, Джулия.
– Здравствуйте.
– Джулия, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
– Тринадцать.
– Я знаю, как это тяжело для тебя, поэтому не торопись, хорошо? Я постараюсь закончить как можно быстрее.
– Хорошо.
– Твои родители разъехались, верно, Джулия?
– Да.
– С кем из них ты жила?
– Я жила с мамой.
– Твои папа и мама долго жили раздельно?
– Около года.
– И за это время твоя мама когда-нибудь говорила о том, чтобы снова сойтись с папой?
– Нет.
– Она никогда не упоминала о намерении воссоединиться с ним?
– Нет. Без него она была счастливее. Я знаю, что это так, – на какое-то мгновение она взглянула в сторону отца, их взгляды столкнулись. Он подался вперед, открываясь перед ней, стараясь подействовать на нее, понять ее, но она была недосягаема. Она отвернулась, отвернулась прежде, чем в ней шевельнулось ответное чувство и смогло предъявить свои права. Она моргнула и снова переключила внимание на прокурора.
– Хорошо, Джулия. Когда ты и твоя сестра были с отцом в те последние выходные, у тебя с ним вышел долгий разговор. Это верно?
– Да.
– И он сказал тебе, что хочет вернуться к маме?
– Да. Он сказал, что все еще любит ее.
– Отлично. Итак, вы трое в воскресенье днем покинули гору Флетчера и поехали обратно в Хардисон. Вы где-нибудь останавливались по пути?
– Один раз, у «Берлз Лаундж».
– Зачем?
– Папа сказал, ему надо в туалет. – Тед размышлял, когда в ее голосе появился этот сарказм. – Но, когда он вышел, от него пахло виски.
– Возражаю, – поднялся Фиск.
– Возражение отклоняется.
Риэрдон не отступал.
– Джулия, нам придется поговорить о том, что произошло, когда вы в тот вечер вернулись домой. Кто нес ружье, когда вы вошли в дом?
– Мой отец.
– Он когда-нибудь выпускал его из рук?
– Нет.
– Ты ни разу не взяла его и не дотронулась до него?
– Нет, – ее голос начал чуть дрожать.
– Хорошо. Я лишь хотел убедиться, что с этим все ясно. А теперь, Джулия, что же произошло, когда вы приехали домой? Что произошло между твоими мамой и папой?
– Она начали ругаться.
– Они громко ругались?
– Да. Очень громко.
– Ты помнишь, из-за чего они ругались?
Судебный протоколист, изможденный, болезненного вида человек в лоснящемся коричневатом костюме, смотрел на Джулию, а его пальцы, словно существуя отдельно от тела, продолжали бесшумно порхать над клавиатурой.
– Мама ходила на свидание, и отцу это не понравилось.
– Он сильно рассердился?
– Да.
– Возражаю. Обвинитель задает наводящие вопросы.
– Возражение принято.
Риэрдон начал сначала.
– Ты помнишь, что сказал твой отец, Джулия?
– Он сказал, что никогда не позволит ей уйти. Сказал, что она ошиблась, если решила, что он позволит. Он сказал, что ей придется об этом пожалеть.
– А что сделала твоя мама?
– Она просила его успокоиться, но он не хотел.
Риэрдон остановился перед присяжными, обдумывая сказанное.
– А что произошло потом? – спокойно спросил он.
– Он застрелил ее, – у Джулии защипало в глазах, и она сморгнула подступившие слезы.
– Джулия, ты видела, как твой отец навел ружье на твою маму?
– Да.
– Она лжет! – Низкий голос Теда разорвал тишину, заполнил зал, ошеломил аудиторию. Это были первые слова, что он произнес за все время, и присяжные, как один, обернулись к нему. Только Джулия, единственная из всех, не дрогнула, не взглянула.
Судья Карразерс громко стукнула молотком.
– До вас дойдет очередь, мистер Уоринг. А пока вы будете вести себя тихо. Еще одна подобная выходка, и мне придется удалить вас из зала. – Она задержала на нем взгляд, потом обратилась к Риэрдону: – Продолжайте.
– Извини, что приходится снова возвращаться к этому, Джулия, но я хочу убедиться, что здесь все ясно. Ты видела, что твой отец действительно поднял ружье и прицелился в голову маме?
– Да. – Теперь она теребила юбку, которая потеряла форму и стала влажной.
– Как далеко ты находилась от своего отца, когда он целился в маму? Можешь показать?
Она посмотрела на разделявшее их пространство фута в три длиной.
– Примерно на таком расстоянии, как сейчас вы от меня.
– Джулия, вытяни руку. Вот так. Как можно дальше. Ты не можешь дотянуться до меня, верно? – спросил Риэрдон.
– Не могу. – Она отвела протянутую руку, которую покалывало, словно она затекла.
– И на таком расстоянии ты находилась от своего отца, когда он выстрелил?
– Да.
– Что произошло, когда ты увидела, как он поднимает ружье и прицеливается? Ты что-нибудь сделала?
– Я закричала: «Перестань! Нет!»
– И что он сделал?
– Он все равно выстрелил. Я пыталась схватить ружье, но было слишком поздно. – На последних словах ее губы задергались, так что они произносились медленно.
– Ты достала его уже после того, как он выстрелил?
– Да.
Риэрдон слегка улыбнулся ей.
– У меня больше нет вопросов.
Настала очередь Фиска. У него было мало опыта общения с детьми, и он всегда избегал длительных контактов с ними, особенно на свидетельском месте, где они оказывались непредсказуемыми и неуправляемыми. Тем не менее за последние несколько недель он потратил много времени на телефонные разговоры со своей четырнадцатилетней племянницей, схватывая ритм и интонацию ее речи, и теперь надеялся, что сумеет контролировать Джулию.
Улыбаясь, он медленно приблизился к ней.
– Здравствуй, Джулия.
– Здравствуйте.
– Джулия, ты очень сердилась на отца, когда в прошлом году твои родители разъехались?
Джулия пожала плечами.
– Разве ты не сердилась на отца за то, что он ушел?
– Нет. – Ее голос вдруг зазвучал ожесточенно, вызывающе. – Я была рада, что он ушел.
– Ты не очень-то любишь своего отца, а, Джулия? Мне кажется, ты в самом деле достаточно сердита на него, чтобы попытаться причинить ему вред, верно?
Джулия не ответила.
– Джулия, когда твой отец звонил маме, ты ведь иногда обманывала его, говоря, что ее нет дома, хотя она была?
– Не помню.
– Ты находишься под присягой, Джулия. Ты ведь понимаешь, что это значит?
– Да.
– Так ты иногда лгала?
– Она не хотела его видеть.
– Пожалуйста, отвечай на мой вопрос, Джулия. Ты иногда лгала?
– Возможно, – выпалила она.
– Итак, ты сказала, что в те выходные на горе Флетчера у вас с отцом произошло нечто вроде разговора по душам. И ты только что говорила, что он сказал, что любит твою маму?
– Да.
– А говорил он тебе, что хочет получить еще один шанс?
– Да.
– Скажи мне, Джулия, было что-нибудь необычное в том, что твои родители поругались?
– Нет. Они все время ругались.
– И при всех этих ссорах твой отец когда-нибудь бил маму?
– По-моему, нет.
– Понятно. Джулия, в тот воскресный вечер разве ты не была очень сердита на отца за то, что он орал на маму?
– Я терпеть не могла, когда они орали.
– Но в этом не было ничего необычного, правда?
– Да.
– И это никогда не приводило к насилию в какой бы то ни было форме?
– Нет.
– Никогда?
– Никогда.
– Джулия, почему твой отец принес ружье в дом?
– Он отдавал его мне.
– Это был подарок. Джулия, когда твои родители подняли крик, разве ты не почувствовала, что отец обманул тебя?
– Он обещал, что больше не будет кричать.
– А когда они закричали, тебя это расстроило, верно?
– Не знаю. Вы меня запутываете. – Она широко раскрытыми глазами посмотрела на Риэрдона, тот тихо кивнул.
– Разве на самом деле ты не потому закричала «Перестань! Нет!», что хотела, чтобы они прекратили крик? Это не имело никакого отношения к ружью, правда, Джулия?
Джулия не отвечала. Карразерс склонилась в ее сторону:
– Джулия?
– Он целился в нее из ружья.
Фиск продолжал, словно не слышал ее:
– Разве на самом деле ты не разозлилась на отца настолько, что бросилась на него и попала ему по правой руке, по той самой, в которой он держал ружье?
– Нет, нет. Он застрелил ее. Я бросилась к нему после. – Она подалась вперед, вцепившись в барьер. – После.
– Тебе не хочется признавать тот факт, что это была твоя вина, да, Джулия? Что, если бы ты не набросилась на отца, ошибочно предполагая, что как-то защищаешь маму, она бы и сейчас была жива? Разве не так, Джулия?
– Вы лжете, – произнесла она.
– У меня больше нет вопросов.
Судья Карразерс обратилась к Риэрдону:
– У вас имеются еще свидетели?
– Нет, ваша честь. Обвинение закончило представление доказательств.
Судья Карразерс стукнула молотком.
– Объявляется перерыв до утра понедельника.
Она быстро прошла через боковой выход в свой кабинет и, как только закрылась дверь, закурила «Кэмел».
Тед был не в состоянии пошевелиться; он мог лишь сидеть, тупо и неподвижно, глядя, как Джулия покидает свидетельское место и проходит мимо него, от него.
Наконец он встал и направился прочь из зала, мимо толпы и озабоченных репортеров во главе со все более напористым Питером Горриком, вечно забрасывавших его вопросами, на которые он не собирался отвечать, и по аккуратно расчищенному тротуару, вдоль которого высились кучи затвердевшего снега.
Он размышлял, помнит ли Джулия, как он учил ее делать снежных ангелов – плюхнуться выпрямленной спиной в сугроб, махнуть раскинутыми руками, чтобы обозначить крылья, раздвинуть ноги, чтобы сделать одеяние. Как он поднимал ее прямо и осторожно, чтобы не испортить ее творение, и они стояли вместе, гордо любуясь им. Сколько ей тогда было лет? Три года? Четыре? Конечно, все это потонуло в недолговечных воспоминаниях раннего детства. Как мог он винить ее за это?
Его нагнал Фиск.
– По-моему, кое-какие зацепки мы сделали, – сказал он, – но, если у вас припрятан какой-нибудь сюрприз, самое время его предъявить.
Тед кивнул.
Девушка танцевала на самодельной сцене, полузакрыв глаза, томно поводя бедрами, поблескивала усеянная золотыми блестками ленточка трусиков-бикини. Ее обнаженные груди были маленькими, но округлыми, крепкими. Казалось, ей все смертельно надоело, или она была пьяна, или и то и другое сразу. Тед отвернулся, склонился над скотчем. Допив, он заказал еще один и встал, роясь в кармане джинсов в поисках двадцатипятицентовой монетки. Он пошел в глубь бара к телефону возле мужского туалета.
– Сэнди? Не вешай трубку.
Она расслышала шум в баре и швырнула трубку.
– Черт. – Он достал еще одну монету, снова набрал номер. – Не вешай трубку. Прежде чем ты доставишь себе это удовольствие, мы с тобой поговорим.
– Мне не о чем разговаривать с тобой. Ни сейчас, ни в будущем.
– Да ну, неужели?
– Что тебе нужно, Тед?
– Встретиться с тобой на Джасперз-филд.
– Спятил. Я не собираюсь встречаться с тобой где бы то ни было.
Он стиснул трубку.
– Если ты не приедешь туда через пятнадцать минут, следующие пятнадцать я потрачу на то, чтобы дозвониться до того паршивого репортеришки, как его там, Горрика. По зрелом размышлении, уложись-ка в десять минут.
На этот раз он бросил трубку первым. Вернулся к стойке, допил свою порцию, дал на чай бармену и вышел.
Сэнди опустила трубку. Она взглянула на Джона, листавшего в гостиной последний номер «Раннерз уорлд».
– Слушай, – спокойно проговорила она, вставая, – я, пожалуй, поеду проветрюсь. Голова просто разламывается. Мне нужно выйти, подышать. Присмотри за детьми, ладно?
– Ты не заболела?
– Конечно, нет. Все будет отлично. Мне просто нужно немного прокатиться. Разобраться во всем. День был тяжелый.
– Сопровождающий требуется?
– Нет, все нормально. Должен же кто-то оставаться здесь, с девочками. Я ненадолго.
Она поцеловала его в макушку и схватила свою куртку.
Стадион Джасперз-филд лежал под белым ковром в окружении пустующих трибун, призрачно темневших на фоне огромного безмолвного неба. Матово-зеленые буквы на зеленом табло, лампочки, выделявшие слова «хозяева» и «гости», тусклые и заброшенные, глубокие ходы, ведущие лишь в еще более густой мрак. Единственное освещение исходило от фар автомобиля Теда; он прислонился к машине, дожидаясь Сэнди. Она подъехала через минуту, остановилась в ярде от него и быстро выключила фары. Замерзшая земля похрустывала под ее ногами, когда она шла к нему.
– Я рад, что ты приехала, – сказал он.
– Оставь эти дерьмовые манеры. Я здесь только ради Джулии и Эйли. Так что тебе нужно?
– Ты должна заставить Джулию изменить показания.
– С чего это?
– Я мог бы сказать тебе, потому что она лжет, но на тебя бы это не подействовало. Поэтому позволь мне привести другую причину. Если ты не заставишь Джулию признать, что это был несчастный случай, я уж позабочусь, чтобы ты об этом пожалела. Может, я и не получу обратно моих девочек, но и ты тоже их не получишь.
– Ты мне угрожаешь?
– Это дерьмовое лицемерие прибереги для своего дружка. Нам-то с тобой лучше знать, а, Сэнди?
– Чего ты этим добьешься, Тед? Объясни мне, чего ты добьешься?
– Свободы прежде всего. Только заставь Джулию изменить показания.
– С чего ты взял, что мне бы это удалось, даже если бы я и захотела? Джулия меня не слушает.
– Ну ладно, тогда Эйли.
– Эйли?
– Она вышла из кухни, ты сумеешь заставить ее сказать это. Она вышла из кухни и видела, что это был несчастный случай. Слушай, мне плевать, как ты этого добьешься, сделай, и все.
Ветер сбивал сосульки с трибун на землю, они оба мерзли, озирая пустынный стадион.
Она снова повернулась к нему.
– Эйли уже дала показания в полиции. Она не видела, что произошло.
– Она была растеряна, потрясена. А теперь вспоминает яснее, – настаивал Тед.
– Это все?
– Я не шучу, Сэнди.
– Да, не сомневаюсь.
Она еще секунду смотрела ему в глаза, потом быстро зашагала к своей машине, села в нее и хлопнула дверцей.
После ее отъезда он еще долго стоял, не шевелясь, уставившись на пустое поле и немногочисленные огоньки в городе.
Когда Сэнди вернулась, Джон все еще читал журнал.
– Тебе лучше? – спросил он.
Она рассеянно кивнула.
– Да. – Села рядом с ним. – Обними меня.
Он заключил ее в объятия, его ласки несли нежность, покой, утешение – совсем не то, в чем она нуждалась.
– Ты любишь меня, Джон?
– Именно это я и стараюсь тебе все время внушить.
Она больше ничего не говорила, а начала расстегивать рубашку на нем, на себе, сначала медленно, потом яростно, отчаянно, царапая его кожу, стремясь пробраться внутрь в поисках убежища, забытья.
6
Сэнди пристально разглядывала макушку Энн: лежа на своей кровати на другом конце комнаты та прилежно доделывала уроки, хотя была еще пятница. Из-за закрытой двери их комнаты было слышно, как Джонатан дирижировал симфонией, звучавшей лишь в его собственном мозгу, громко мыча монотонные звуки, а Эстелла разражалась частыми аплодисментами. Сэнди встала из-за стола и принялась расхаживать по комнате взад и вперед. Бывали ночи, когда она просыпалась, задыхаясь, хватая ртом воздух, капли пота стекали по груди. И днем она часто обнаруживала, что в состоянии делать лишь мелкие, прерывистые вздохи, и, ощущая дурноту, ей приходилось сознательно принуждать себя глубоко вдыхать душную, спертую атмосферу комнаты, дома. Иногда ей казалось, что она может задохнуться в самом прямом смысле слова. Она прошла в один конец комнаты и обратно, хмуро глядя на Энн, спокойную, безмятежную, ничего не замечавшую. На четвертый раз – туда-сюда – она буркнула себе под нос «Господи» и рывком распахнула дверь.
Она позвонила ему по телефону в коридоре: «Еще не поздно передумать?» Она проскользнула мимо Джонатана и Эстеллы, сидевших в гостиной. Они никогда даже не замечали, что она ушла.
Его родители уехали на неделю. У него были такие родители, такая жизнь, когда люди ездят загорать в середине февраля. Она прошла по холоду шесть кварталов до его дома. С каждой новой улицей дома становились все больше, промежутки между ними – все шире, в его квартале почти все дома были реставрированными викторианскими особняками, их разделяли широкие заснеженные лужайки. Там были решетчатые ворота и нарядные почтовые ящики, украшенные деревянными утками. Он был капитаном баскетбольной команды, душой общества в столовой, одним из тех людей, кому все достается легко – друзья, девушки. Он умел рассказать анекдот. У его подруги были длинные блестящие каштановые волосы, матовая кожа, большая грудь; она, разумеется, капитан болельщиков. И все же они дружили, Сэнди и он. Или если уж не совсем дружили, то испытывали друг к другу тайную, робкую симпатию, как свойственно подросткам. Он поддразнивал ее за отличные отметки и высокомерие, но никогда – за семью, а она дразнила его тупицей. Сталкиваясь в коридоре, они улыбались друг другу и на вечеринках разговаривали, подкалывая и подначивая друг друга, – им обоим так было проще. «Хочешь зайти? Мои родители в отъезде». Так просто.
– Я рад, что ты передумала, – он открыл ей дверь и, широко улыбаясь, ждал, пока она стряхивала приставшие к подметкам ледышки.
Она поднялась вслед за ним наверх, в его комнату, где в беспорядке валялись гири, два баскетбольных мяча, пластинки Рея Чарльза. Пахло мятой и эвкалиптом.
– Хочешь посмотреть телик?
– Давай.
Они уселись на полу, привалившись к боковушке кровати, не касаясь друг друга, и смотрели старый фильм «Слушай, путник» с Бетт Дейвис. Одновременно закурили.
– Хочешь, помассирую спину? – спросил он.
Она сняла рубашку и легла на пол. Его большие мозолистые руки неуверенными кругами ходили у нее по спине. Она села и прислонилась к нему. Он мял ее груди, как тесто. Наконец он произнес:
– Может, нам перейти на кровать? – Выключил телевизор, выключил свет, улегся на кровать в одежде.
– Раздеваться ты не собираешься? – спросила она. Как часто бывало, вышло резче, чем она намеревалась.
Он смущенно рассмеялся.
– Кажется, я немного волнуюсь.
Они разделись.
Он положил сверху руку, прижал, она стиснула его плечи, его рука проникала все дальше и дальше, ее бедра приподнялись.
– Ты первый раз, да? – спросил он.
– Да.
Он улыбнулся ей, лег на нее сверху, вошел. Ей как-то не удавалось подладиться к нему, приспособиться к его ритму, вообще найти хоть какой-нибудь ритм, и они стукались друг об друга короткими неуклюжими рывками. Ей не приходило в голову, что она может не испытать оргазма, дома, одной это было так легко, ее рука, подушка, приглушенный стон. Энн в нескольких шагах от нее, невинная Энн.
Когда он кончил, то откатился в сторону и сказал:
– Извини, что для тебя это не стало потрясающим событием. Я никогда раньше не имел дела с девственницей.
Ему было шестнадцать лет, ей было пятнадцать.
– Все нормально.
– Хочешь досмотреть фильм?
– Пожалуй.
Она одевалась, пока шла реклама.
Он проводил ее к выходу и открыл дверь. На прощанье они не поцеловались.
Пока она шла домой, у нее от ледяного воздуха окоченели нос, руки и ноги. Ей было интересно, изменилась ли она внешне. Заметили бы что-нибудь Энн, Джонатан и Эстелла? Она вдруг начала приплясывать, потом побежала, громко хохоча, по жилам, в мозгу разливалось радостное возбуждение, я теперь свободна, свободна.
Закрывая входную дверь, она даже не старалась не поднимать шума. Возможно, она даже отчасти желала, чтобы они увидели, заметили, Я ТЕПЕРЬ СВОБОДНА. Но в доме было тихо. Джонатан и Эстелла закрылись в своей спальне; Энн лежала в постели, читая журнал «Севентин». Если она что и заметила, то не доставила Сэнди удовольствия выслушать ее мнение на этот счет.
Сэнди лежала в постели, заново учась дышать отупляющим воздухом дома.
На следующей неделе Сэнди пошла в центр планирования семьи, назвала вымышленное имя и возраст (там не слишком внимательно проверяли) и дожидалась, сидя в обшарпанном узком коридоре вместе с другими женщинами в бумажных рубашках и шлепанцах, чтобы ей подобрали колпачок. Женщина рядом с ней пришла на аборт. Она все вертела и вертела в руке незажженную сигарету.
В маленьком светлом смотровом кабинете Сэнди легла, подняв ноги на холодные металлические подставки. Она никогда раньше не ходила к гинекологу, ей никогда не приходилось широко раздвигать ноги, подвергаться обследованию. Она закрыла глаза и напомнила себе о конечном результате – независимости. Врач-азиат ужасно рассердился, когда она попыталась сама ввести колпачок и он пролетел через комнату и ударился об стену.
– Не валяй дурака, – отругал он ее. Она заверила его, что и не собиралась.
Стоило ей взглянуть на розовый пластмассовый футляр – в сумке, в ящике стола, – как Сэнди испытывала совершенно новое ощущение могущества, от возможностей которого у нее кружилась голова. Она знала, что Энн мечтала о свечах, цветах и прочей сентиментальной дребедени, мечтала о единственной идеальной любви, как могут по-настоящему мечтать только юные девушки да Эстелла. Но Сэнди было нужно вовсе не это. Ее кожа жаждала прикосновения.
Так началась ее собственная жизнь.
Она не ощущала вины. В этом не было ничего показного, постыдного или недозволенного. Парни ей почти всегда нравились. Иногда она встречалась с одним и тем же по месяцу или два.
Единственное, что имело значение – то мгновение, там, глубоко внутри, когда она забывалась, когда все просто исчезало.
Тогда она завела дневник, расписную тетрадку цвета нефрита, куда записывала подробности своих свиданий. Иногда она оставляла его там, где на него могла наткнуться Энн, благонравная Энн.
А потом Энн встретила Теда. И тоже начала ускользать из дома по вечерам, приходила в час, в два ночи, позже, чем Сэнди, как бы Сэнди ни старалась оттянуть собственное возвращение. Всегда один и тот же парень у Энн. Сэнди внимательно наблюдала за ней, замечала выражение отрешенности у нее на лице, томность в теле, которую ей как-то удавалось сохранять и после того единственного мгновенья. И тоже с первым и единственным. Это ограниченность или везенье?
Но Сэнди было нужно вовсе не это, как раз этого она решила всеми силами избегать: одного мужчины, судьбы Эстеллы. И все же. Была эта сосредоточенность в ее лице, нечто загадочное.
Сама она не принадлежала к тому типу женщин, в которых мужчины влюбляются. Прежде чем она воообще поняла, что это может означать – быть любимой мужчиной, она уже знала все это – в пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет. Она не была из тех женщин, что вдохновляют мужчин, как Эстелла вдохновляла Джонатана, или как теперь Энн – Теда. Она была слишком резка. Она не умела ворковать, ласкаться. Не умела льстить. Никто никогда не стал бы ее идеализировать. Но, понимая это, она взяла эту карту и разыгрывала ее, разыгрывала до тех пор, пока саму карту не захватали пальцами, пока она не истрепалась и не порвалась. Она никогда и не думала сомневаться. По крайней мере, сдавала она сама, решая, когда закончить.
Она даже не всех их знала по фамилиям.
Теперь в комнате пахло бытовой химией, подгоревшим кофе на плитке, ароматом мягкой пудры. Ее соседка по комнате в колледже сидела напротив, накручивая волосы на термобигуди, перекатывая во рту жвачку для похудания, которая, похоже, не помогала. Ей никогда не назначали свиданий, но она придавала большое значение подготовке. Каждое воскресенье она ходила в церковь и каждый вечер в одиннадцать часов запирала дверь на тонкую цепочку, так что если Сэнди опаздывала, ей приходилось ночевать на скрипучей кушетке в вестибюле. Хотя ее соседка никогда не употребляла их, Сэнди подозревала, что у нее в голове все еще вертятся слова вроде «потаскухи». Она никогда не читала газет и, по-видимому, понятия не имела, какое сейчас время и каковы нравы. Она, словно недовольная классная наставница, принюхивалась, проверяя, не курила ли Сэнди в ее отсутствие марихуану. В конце концов Сэнди отправилась на прием к университетскому психиатру и получила медицинское оправдание для того, чтобы потребовать отдельную комнату.
Единственной комнатой, на которую можно было рассчитывать посреди семестра, оказалась свободная комната на двоих на первом этаже смешанного общежития, в котором она и так жила. Ночью перед тем, как переехать, она лежала в постели, прислушиваясь к затрудненному дыханию соседки, алчно грезя о комнате на два пролета ниже, просторной и свободной, наконец-то о своей собственной комнате, не оскверненной присутствием чьих-то чужих запахов или пожитков.
На следующее утро она перетащила вниз свой единственный чемодан, пишущую машинку и учебники. Там было две кровати, два стола, два комода, две лампы. Весь день в аудиториях, в спортзале Сэнди думала об этой пустой комнате, ожидавшей только ее. Она отменила назначенное на этот вечер свидание.
Она поставила машинку на один стол, книги положила на другой. Полежала на кровати у окна, потом на другой, у стены. Встала, перенесла машинку на другой стол и вернулась на кровать у окна, ожидая, когда же придет покой, наслаждение одиночеством, которое так давно было намечено в ее воображении.
Она съежилась на узкой кровати, вертелась то на правый бок, то на левый, то ложилась на спину. Изо всех сил прислушиваясь, она нигде не улавливала ни единого звука. Вокруг царила полная тишина и безмолвие: все исчезли. Она слышала лишь саму себя, бульканье, шуршание и бурчание, издаваемые собственным телом. Жуткие звуки, каких она никогда раньше не замечала. Она начала представлять деление, перерождение клеток, шумный распад собственного организма.
Комната во мраке разрасталась и разрасталась, пока у нее не осталось ни стен, ни потолка, ни предела.
Существовало только ее собственное тело, резко очерченное, словно окруженное чернотой. Она пробежала пальцами по туловищу, по ногам, прижала руки к груди, но это не утешило ее, не успокоило. Она села в темноте, спотыкаясь, проковыляла через пустую комнату к другой кровати. Было четыре часа утра, пять часов. Наконец она впала в тревожное забытье, в ее снах перемешались дом, Джонатан и Эстелла, Энн, видимые сквозь прозрачную перегородку; они не видели и не слышали ее, а все время играли на странной формы инструментах, не издававших ни звука.
С той первой ночи она стала бояться засыпать в одиночестве.
Она откладывала этот момент так долго, как могла. Она ходила играть в настольный теннис и чересчур громко смеялась плоским шуткам парней; она слишком много пила; она просиживала перед телевизором в вестибюле до трех часов ночи; но всегда, всегда ей приходилось возвращаться к этому.
Она думала об Энн, которая дома теперь жила одна в их комнате. Заняла ли она ее всю? По-другому ли ей теперь дышится, по-другому ли спится, скучает ли она по ней?
Она позвонила ей поздно вечером, зная, что Джонатан и Эстелла уже спят. Они говорили о своей учебе и работе медсестры, и о достоинствах грейпфрутовой диеты, а потом Энн спросила:
– Ну и как оно живется, самостоятельно?
– Замечательно.
– Я горжусь тобой, Сэнди. Честное слово.
Сэнди ничего не сказала.
– Наверное, тебе там так хорошо, что не захочется домой и на весенние каникулы? – спросила Энн.
– Нет, я приеду.
Сэнди лежала на знакомом бугристом матрасе и прислушивалась, как Энн наводит порядок на кухне. За бренчанием тарелок, мерным звуком льющейся воды было слышно, как она напевает. Джонатан и Эстелла, утомленные непривычным напряжением – приемом к ужину гостя, – рано удалились, но она различала суетливое квохтанье Эстеллы, когда та чувствовала недомогание, неразборчивое недовольное бормотание. Вода перестала течь, и она слушала, как Энн отправилась в ванную и почистила зубы.
– Ну как, – спросила она, входя в комнату, – как он тебе?
– Тед?
– Нет, Санта-Клаус. Конечно, Тед.
Сэнди немного помолчала.
– Нормально.
– Спасибо.
– Ну, а ты чего от меня ожидала?
– Вы, похоже, поладили, – неуверенно продолжала Энн, с инстинктивным подозрением воспринимая язык, на который Тед и Сэнди, видимо, перешли самым естественным образом, подтрунивание и подначивание, которые ей, искренней и неловкой, были недоступны.
– У тебя с ним правда серьезно? – спросила Сэнди.
– Да.
Сэнди, опершись на локоть, пристально смотрела на сестру.
– А у него с тобой?
Энн улыбнулась.
– Да, – ответила она, и Сэнди разглядела в этой улыбке застенчивую гордость девушки, которую недавно полюбили.
– Он не такой, какого я ожидала увидеть, – заметила она.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Просто я думала, что тебе был бы нужен кто-то более, ну, не знаю, вдумчивый, что ли. Не такой хвастливый. Он, похоже, не совсем в твоем вкусе, вот и все.
– У меня нет никакого вкуса, Сэнди. Это по твоей части, – она вздохнула. – Извини. Просто мне действительно хочется, чтобы он понравился тебе.
– Он мне нравится. Правда.
Энн улыбнулась и вдруг подошла и поцеловала Сэнди перед сном – у них этого не было заведено.
– Я знала, что он тебе понравится, – радостно сказала она и легла в постель.
Сэнди слушала, как дыхание Энн успокаивается, приобретает ровный ритм, такой знакомый, что, казалось, он вечно пульсирует и у нее в крови. Она прикусила губу, отвернулась. Почему Энн?
В ее снах о мужчинах никогда не было собственно секса, свершения, удовлетворения, но было желание, неодолимая боль обоюдного вожделения, пока не утоленного, пронизывающее влечение, когда ты и я («ты» – переменное) все ближе и ближе.
Но она всегда просыпалась прежде, чем они встретятся, и ей оставалось лишь потаенное томление страсти.
Через три недели Энн позвонила Сэнди в колледж. Было около полуночи, и этот звонок напугал ее.
– Я тебя разбудила? – спросила Энн.
– Нет. Все в порядке – Джонатан, Эстелла?
– Все прекрасно. – Долгое молчание. – Я позвонила, чтобы сказать тебе, что вышла замуж.
– Ты – что?
– Мы поженились.
– Зачем?
– Что значит «зачем»?
– Зачем ты вышла замуж, Энн? Ты такая молодая. Откуда, черт побери, ты знаешь, что тебе нужно именно это? Почему ты не оставила себе шанса?
– Шанса на что?
– Узнать жизнь.
– Мне нужно именно это. Я люблю его, – просто сказала она. – Разве ты не можешь просто порадоваться за меня?
– Я рада за тебя.
– Ладно.
– Да, нет, Энн, я действительно рада. Но ты уверена?
Энн засмеялась и не ответила.
– Я скоро позвоню тебе. Тебе надо идти. Наверное, у тебя завтра занятия.
Она повесила трубку, прежде чем Сэнди успела поздравить ее.
Сэнди больше не старалась посещать лекции, особенно утренние. Даже собравшись пойти на занятия, она чаще всего просыпалась с тяжелой головой. Ее ничто не интересовало, во всяком случае, ничто на лекциях по древнему искусству или психологии, или по творчеству Готорна и Джеймса даже не увлекало ее. Она часто спала до часу-двух дня, заставляла себя часок позаниматься, а потом отправлялась развлекаться в бар, где первый год пила коктейли с виски, а потом неразбавленную водку. На какое-то время она убедила себя, что влюблена в парня, который жил этажом выше, красивый парень в шесть футов два дюйма ростом, он носил свитер с воротником «хомут» и бутсы, она таскалась за ним по всему кампусу, изучая его распорядок дня и привычки, по кусочкам составляя жизнь. Она грезила о его руках, о его руках на своем теле. Но он начал встречаться с девушкой по имени Сьюзи, которая красила губы розовой помадой и носила свитера с вышитыми маргаритками. Все равно. Были и другие.
Она реже звонила Энн на новую квартиру, словно неизбежное присутствие другого человека не оставляло места для того, чем они были прежде. Энн присылала домашние печенья и пирожные, присовокупляя коротенькие непринужденные записочки, которые казались Сэнди столь же загадочными, как если бы они пришли из другой страны. Она прикалывала их над столом для изучения.
Однажды она позвонила домой и попыталась поговорить с Джонатаном.
– Я все никак не пойму, чем мне хочется заняться, – сказала она. – Откуда другие люди так точно знают это?
– Потому что они или дураки, или гении. А ты, моя дорогая, ни то и ни другое. – Он пробормотал что-то, чего она не поняла, а потом громко добавил: – Чем бы ты ни занималась, не делай заметок. Никогда не делай заметок. Они вынудят тебя полагаться на чьи-то чужие предвзятые суждения. С чего тебе запоминать ошибочные мнения? Обещай мне, что никогда не станешь делать заметки на занятиях.
– Запросто, – сказала Сэнди.
Но на предпоследнем курсе Сэнди открыла для себя журналистику. Вышло это по чистой случайности. Курс, на который она хотела попасть вначале, «Расовые отношения в период реконструкции», был уже набран.
Каждое утро, как только студенты рассаживались по местам, профессор рассказывал им сюжет. «На 91-м шоссе произошла авария. Две машины, «шевроле» с семьей из четырех человек и микроавтобус «понтиак» с семнадцатилетним парнем за рулем. «Понтиак» выскочил на встречную полосу и врезался в «шевроле». Мать семейста, сидевшая рядом с шофером, погибла сразу. Сын-подросток находится в реанимации. Шел дождь». У вас есть пять минут. Сочините развернутый анонс.
И вот тогда-то Сэнди и обнаружила способ, как тратить время, как забываться самой, подавлять свое ненужное, лишнее, надоедливое «я» дольше, чем на единственное мимолетное мгновение, которое ей лишь иногда давалось с парнями. Переносить факты на бумагу, факты, которые можно было хранить, оценивать и взвешивать. Факты, которые, если их собрать, рассмотреть под определенным углом, изучить, могли бы дать объяснения или, по крайней мере, дать ключи к разгадке. Законы причины и следствия увлекали ее, соблазняли ее обещанием того, что стоит только копнуть достаточно глубоко, задать правильные вопросы, как всегда можно будет отыскать причину. Значит, вот в чем, прежде всего, состояло заблуждение – эту случайность, хаотичность можно было бы победить, перехитрить. Все дело было лишь в настойчивости. Она начала представлять себя охотником, проницательным, лишенным сентиментальности, быстрым.
Она забросила все остальные курсы и с головой ушла в журналистику. Она начала писать для студенческой газеты. О недовольстве на факультете, из-за которого профессору Чейзену не была предложена штатная должность. О спортсменах, которым ставили неоправданные зачеты только затем, чтобы они могли выступать за колледж. О еженедельных собраниях в Женском центре.
Когда она впервые увидела свою фамилию, напечатанную маленькими ровными черными буквами, помещенную посередине полосы, она ощутила, как где-то в глубине ее души, там, где прежде была лишь пустота, появилась некая надежда.
Она купила портативный магнитофон с микрофоном и обнаружила, что когда он включен, может спрашивать о чем угодно ровным и спокойным голосом. Она интуитивно понимала, как не нарушать неловкое молчание, пока не последует ответ. Она была очень хорошим слушателем, терпеливым и пытливым.
Она часами сидела одна у себя в комнате с разложенными заметками, записями и вырезками, излагая на бумаге беспорядочные факты из чужих жизней, перекладывая, подгоняя их, пока не возникала схема, образ. Здесь? Или здесь?
Она не обращала внимания на парней, которые ей звонили, и даже на тех, кто не звонил, – что всегда более загадочно.
Ей начали сниться газетные заметки.
Утром в день последнего выпускного экзамена Сэнди уложила свои вещи, выдержала трехчасовой экзамен и в тот же день села на автобус-экспресс до Хардисона. Сама выпускная церемония ее совершенно не интересовала, эти нудные многословные речи о безграничном будущем и объятия подвыпивших людей, которых она предпочла бы забыть. И вообще, никто все равно бы не приехал. Энн написала. Энн однажды в письме несмело поинтересовалась этим событием, а Джонатан и Эстелла даже спросить не подумали. Это не имело значения. Она хотела лишь уехать, начать жизнь.
Весь июль, когда жара сгустилась в закрытом, лишенном кондиционеров доме, скапливаясь среди коробок и узлов, Сэнди в отупении провалялась в спальне, педантично придерживаясь своей половины комнаты, хотя Энн, разумеется, переехала и никогда бы не вернулась. Кожа под коленками покрывалась потом, когда она лежала, свернувшись калачиком, на незастеленной кровати, ее биография – на полу, вне досягаемости, стопка устаревших неместных газет, раскинутая полукругом, фамилии и адреса их главных редакторов обведены красным. За первую неделю пребывания дома в первоначальном приливе энергии – Я НЕ СОБИРАЮСЬ ОСТАВАТЬСЯ ЗДЕСЬ – она разослала свои материалы в четыре газеты за пределами города и из каждой получила вежливый отказ. Разумеется, существовали и другие, она знала об этом. Она повернулась лицом к стене. Эстелла в гостиной смотрела мыльную оперу. Иногда ближе к вечеру Сэнди приходила и садилась рядом, направляла в их сторону маленький круглый вентилятор, и Эстелла расказывала ей, кто умирал от какой ужасной болезни, чей муж изменял.
Услышав звуки музыкальной темы, означавшей неожиданный поворот в последнем дневном сериале, Сэнди лениво сползла с постели, добрела до гостиной и уселась в кресло возле Эстеллы.
– Эй, крошка! – сказала Эстелла. – Я и не знала, что ты дома.
– Где мне еще быть, разве что пить мятный джулеп в местном клубе?
Эстелла пожала плечами.
– Твой отец пошел к Томми Бладворту. Раньше родители на время летних каникул старались отменять занятия, но сейчас они, похоже, еще и дополнительных хотят. Теперь все берут какие-нибудь уроки. Знаешь, в этом году в школьном бассейне учат плавать грудных детей. Представляешь, швырять детей в воду, словно ведьм на испытании, – выплывет или утонет? – Она вздохнула. – Твоя сестра на днях принесла замечательный кекс. Достань нам по кусочку.
Сэнди пошла на кухню и начала резать липкий шоколадный кекс, в середине просевший от влажности. В это время зазвонил телефон.
– Подойди, – крикнула Эстелла. – Это, наверное, Мег Холлистер с новостями о своем деле в суде, а мне сейчас не хочется с ней разговаривать. Она как заведется, так не остановишь. Скажи ей, что меня нет дома.
Сэнди так и застыла с ножом в испачканной шоколадом руке.
Она перевела дух, вышла из кухни и посмотрела на Эстеллу, невозмутимо листавшую старый журнал.
– Эстелла, Мег Холлистер – персонаж одного из сериалов. Ее не существует. Она не может тебе звонить.
Эстелла подняла глаза, в них лишь на долю секунды мелькнула растерянность. Она отвернулась, не произнеся ни слова. Телефон перестал звонить.
Сэнди принесла кекс, они молча поели.
После этого Сэнди принялась внимательно следить за Эстеллой, с надеждой и страхом ожидая нового проявления надлома, отличного от тех легких отклонений, к которым они привыкли, такого резкого и явного отрыва от действительности. Еще час, еще день и еще – и ничего. Она уже начала думать, что ошиблась, начала вообще сомневаться во всем, что помнила или, как ей казалось, знала.
Но через неделю Эстелла рано утром постучалась в комнату Сэнди.
– Почему ты не вышла вчера ночью? – возбужденно спросила она. – Ты разве не слышала меня?
– Тебя?
– Я стучала к тебе в окно. Была такая прекрасная ночь, я гуляла во дворе. Мне хотелось, чтобы ты вышла и рассказала мне о звездах, о созвездиях. Я никогда не могла запомнить, где какое, а ты такая сообразительная.
– Я ничего не слышала вчера вечером, кроме грозы. Выгляни в окно, всю ночь шел дождь.
Эстелла отвернулась.
– Может, это было не вчера, а другой ночью.
Сэнди почти все утро провалялась в постели. Встала около часа дня, сделала себе сандвич и вернулась с ним в комнату.
Половину сандвича она съела спокойно, потом вдруг отложила его, встала и принялась рыться в своих нераспакованных вещах, отыскала магнитофон и микрофон. Она убедилась, что батарейки еще не сели, и вставила чистую кассету. В тот же день в четыре часа она спрятала его в карман просторного кардигана и отправилась записывать Эстеллу.
На следующий день она поднялась рано, приняла душ, первый раз за долгое время поменяла одежду и пошла в магазин, дождавшись на улице, пока он открылся. Она купила две упаковки кассет по десять штук в каждой, запасные батарейки, бумагу для расшифровки записей и набор новых ручек.
Сэнди сидела у Энн на кухне. Утреннее солнце освещало отшлифованную поверхность стола, чистые бокалы и столовое серебро. Она обхватила руками загорелые колени, Энн заканчивала мыть кофейник.
– Почему ты мне ничего не сказала? – спросила Сэнди. – Могла бы хоть предупредить.
– Не сказала о чем?
– Про Эстеллу.
– Что про Эстеллу?
– Что у нее начались галлюцинации. Я хочу сказать, это ведь что-то новенькое, правда, новая стадия?
– Не понимаю, о чем ты говоришь, Сэнди.
– Энн, ей кажется, что герои сериалов звонят ей.
Энн пожала плечами.
– Ты всегда воспринимала ее слишком буквально. Она фантазерка, Сэнди. Почему ты не оставишь ее в покое?
– Фантазерка? – Сэнди взяла стоявшую у нее возле ног большую сумку и вытащила магнитофон. – Я хочу, чтобы ты послушала. – Она нажала кнопку, и высокий дрожащий голос Эстеллы начал заполнять пространство.
Энн схватила магнитофон и неумело возилась с ним, стараясь как можно скорее выключить. Она уставилась на Сэнди.
– Ты записывала без ее ведома?
– Да.
– Не могу поверить, что ты так поступила. Зачем?
– Затем, что никто в этой семье никогда не желает смотреть правде в лицо. А теперь вот она. Ты больше не можешь уклоняться от нее.
– Вот как ты считаешь, Сэнди? – сердито произнесла Энн. – Думаешь, уловила правду с помощью вот этой дурацкой машинки? Этому тебя учили в коллежде? То, что тебе так успешно удалось поймать, всего лишь слова. Они не имеют никакого отношения к правде. – Она пихнула магнитофон Сэнди. – Вот. Забери.
– Ты просто не хочешь слушать это, – недовольно бросила Сэнди.
– Верно. Не хочу.
– Мне следовало бы догадаться.
– Ну что ты все время пытаешься доказать? – спросила Энн. – Что?
К концу месяца Сэнди извела все чистые пленки, и пришлось покупать еще. Иногда она прятала магнитофон под столом за ужином. Однажды попыталась оставить его под дверью спальни Джонатана и Эстеллы, но получилось одно потрескивание. Лучше всего было днем, когда Эстелла в одиночестве была болтлива, утомлена и свободна.
В запертой комнате с наушниками на голове, Сэнди просиживала мучительные часы, расшифровывая записи, расклеивая этикетки и помечая даты; щелк-щелк-щелк – щелкали клавиши магнитофона, она заполняла страницу за страницей, собираясь потом изучить их.
У нее совсем не оставалось времени на то, чтобы рассылать биографии и материалы. Заброшенные и запылившиеся газеты валялись на полу, уже начиная желтеть. Несколько штук она использовала, чтобы завернуть увеличивавшуюся стопку кассет. Свертки спрятала в дальнем углу кладовки. Только когда у нее кончились деньги, сэкономленные, когда она еще в школе работала официанткой, она поняла, что нужно что-то предпринять. В то утро она отправилась в редакцию «Кроникл», белое, обшитое вагонкой здание на Мейн-стрит.
– Будьте любезны, я бы хотела поговорить с Рэем Стинсоном, – сказала она секретарше.
– Вам назначено?
– Нет. Но я уверена, что он меня примет.
Ответственный секретарь, слышавший все это из своего кабинета, вышел посмотреть, что это за нахальная девица.
– Рэй Стинсон – это я, – сказал он. – Чем могу быть полезен?
На самом деле Сэнди не была нахалкой. Но поскольку она все еще не собиралась задерживаться в Хардисоне, еще меньше – в «Кроникл», у нее возникла временная самоуверенность равнодушия. Она посмотрела на секретаршу, потом на Стинсона.
– Я бы хотела поговорить с вами насчет работы.
Через неделю, прочитав биографию и материалы Сэнди, Рэй Стинсон предложил ей работу на испытательный срок и велел приступать со следующего дня. Сначала ей давали задания, за которые никто другой не хотел браться, – день открытых дверей в клубе цветоводов, ярмарка в школе, и даже эти материалы подвергались строгой критике со стороны Стинсона. Она писала слишком торопливо, слишком бездумно, слишком небрежно. Он думал, что она серьезная молодая женщина. Возможно, он ошибся. Она сидела перед ним, уставясь в пол.
– Позвольте мне кое-что сказать вам, – твердо заявил он. – Если вы не будете считать важным то, чем занимаетесь здесь, то и никто не будет. А теперь избавьте ваши материалы от краткости или увольняйтесь. Понятно?
– Да, – хмуро ответила она.
Возмущаясь его строгим контролем, она все же в глубине души понимала, что он прав. И к своему изумлению обнаружила, что сами статьи стали получаться интереснее, когда она энергично взялась за дело, начала больше спрашивать, больше записывать. Вскоре ее подпись появлялась уже с некоторой регулярностью. Она работала с утра до вечера, подружилась с несколькими коллегами и начала в свободные часы разъезжать по Хардисону на подержанной машине, приобретенной на жалованье за первые два месяца, открывая для себя улицы, закоулки и людей, изучить которые у нее никогда раньше не бывало повода, смахивая грязь и исследуя их так, словно это были археологические находки. Она уже не так часто записывала на магнитофон Джонатана и Эстеллу, но аккуратно хранила все расшифровки.
В тот день, четыре месяца спустя, когда она наконец переехала на квартиру, которую сняла над винным магазином Райли, Джонатан помог ей погрузить в машину последнюю коробку. Он ни разу не сказал ей: «Я горжусь тобой», ни разу не произнес: «Я люблю тебя». Но когда он выпрямился, пристроив коробку на заднее сиденье, то взял ее за руку, быстро пожал – самое откровенное физическое проявление чувств, какое он когда-либо демонстрировал, – и скрылся в доме, где, стоя у окна в гостиной, из-за шторы смотрела Эстелла.
Постепенно Рэй Стинсон начал давать Сэнди задания поинтереснее – кандидаты в конгресс, дело о коррупции в отделе канализации, изменения в законах о делении на зоны, влиявшие на местную окружающую среду. Со временем Сэнди убедилась, что те местные новости, которые она втайне презирала, на самом деле часто бывают важнее для жизни людей, чем все репортажи из-за границы, и это новое ощущение значительности влияло на ее деятельность. Лишь время от времени она задумывалась, родилась ли эта теория из опыта пребывания и работы в Хардисоне или возникла, чтобы оправдать это. Тем не менее, когда редакция переехала в Бункер, ей отвели первый стол, рядом с кабинетом главного редактора. Хотя некоторые сотрудники и утверждали, что она не так уж хороша, а один даже пустил слух, что она спит со Стинсоном, в целом она вполне ладила с остальными коллегами. У нее был один неудачный роман со штатным фотографом, и после этого она хранила свои романы в тайне. Она знала, что о ней судачат – двадцать пять лет, потом тридцать, а все еще незамужем; для Хардисона это было почти сенсацией. Когда однажды зимой на нее накатило беспокойство – менялись мужчины, настроение, – она переехала в этот дом на Келли-лейн. Рэй говорил, что ей следовало бы найти возможность купить дом, что это было бы разумнее с финансовой стороны, но она не задумывалась об этом. Все равно все это было только временно. Только взглянув на дом, она тут же сняла его, за одно утро уложила вещи и вызвала грузчиков из первой попавшейся в телефонном справочнике фирмы. Она не была по натуре собирателем, предпочитая иметь немногочисленное имущество, большая часть которого была легкой и компактной.
Иногда долгими, бесконечными вечерами, дождливыми воскресными днями она доставала из кожаной папки расшифровки записей Джонатана и Эстеллы. Она раскладывала их в гостиной на журнальном столике и сидела с ручкой в руке, переставляя куски так и этак, пытаясь отыскать образ, но все напрасно. Подобно тому, как знакомое слово повторяют и повторяют, пока оно полностью не утратит весь смысл и значение, она больше не помнила, что собиралась отыскать.
Иногда она заносила на бумагу и перемены в жизни Энн и Теда, гораздо более ощутимые, чем просто материальные изменения в ее жизни: первый день учебы Джулии в школе, рождение Эйли, новая фирма Теда – все конкретные приметы реальной жизни.
Каждое лето Энн овладевало желание устроить барбекю, настоящее, со скатертями в красно-белую клетку, узорчатыми бумажными салфетками, цветными пластмассовыми вилками и соседскими детьми, которые вертятся вокруг, пачкая одежду кетчупом и растаявшим мороженым. Она занималась подсчетами и прикидками одержимо – сколько цыплят? сколько «хот-догов»? с каким узором салфетки? кого приглашать? – как и многими другими ритуалами, которые в ее собственном детстве были известны лишь по слухам. Но из-за ее навязчивого внимания к каждой детали, каждой мелочи того, что должно было бы происходить непроизвольно, все выходило немного нескладно. Всегда что-то оказывалось слишком новым, начищенным и искусственным, ее гости обычно собирались группками, вели себя вежливо, но ощущали неловкость, от которой никак не могли избавиться. Сэнди переживала за Энн, ей эти сборища не нравились, но она испытывала странную гордость такой попыткой и всегда упрямо демонстрировала всем, как ей весело. Когда к середине августа она все еще не получила приглашения, то начала тревожиться. Наконец ей позвонил Тед.
– Как насчет нынешнего воскресенья? – спросил он.
– А Энн хватит времени? – усомнилась Сэнди.
– Да, в этом году, кроме нас, никого не будет.
– В чем дело? Она не заболела?
– Заболела? – Сколько раз за последнее время он спрашивал ее, как она себя чувствует? Она всегда жаловалась, что он ни о чем ее не спрашивал. А теперь, разумеется, она не отвечала. – Нет, – произнес Тед. – Она чувствует себя прекрасно. В четыре часа – идет?
Сэнди стояла на кухне, глядя, как Энн выжимает лимон в картофельный салат.
– А где же толпы гостей? Почему в этом году не видно умирающих с голоду масс?
– Это ведь всегда было как бы в шутку, правда? Я хочу сказать, разве кто-нибудь из них хоть раз пригласил нас к себе?
– Мне казалось, тебе нравились такие большие пикники. Они были такой же непременной принадлежностью лета, как комариные укусы.
– Все меняется. – Она засмеялась. – Знаешь, Тед раньше задолго до каждого начинал ворчать о расходах и о том, сколько это отнимает у него драгоценного времени. Я думала, он обрадуется, когда говорила ему, что не хочу в этом году устраивать пикник.
– А он не обрадовался?
– Нет. – Она как-то странно улыбнулась. – Все, чего мне обычно хотелось, что он всегда высмеивал, все, на что у меня больше не хватает сил, все это вдруг понадобилось ему. Смешно, да?
– Например? Я имею в виду, кроме пикников? – спросила Сэнди.
Энн пожала плечами, не отводя взгляда от окна, но она видела не своих детей, не мужа во дворе, а только неосвещенную квартиру на другом конце города с аккуратно висящими брюками, стопками упаковок с томатным супом и продуманно расставленной мебелью, где ждал ее Марк Камински.
– Не знаю. Ничего.
Сэнди отнесла Теду маринованного цыпленка.
– По крайней мере, она не купила тебе передника с надписью «Папа», – сказала она со смехом, подавая ему блюдо. Она стояла с ним возле раскаленных углей, запах дыма пропитал ее волосы. Тед начал нанизывать мясо на шампуры и раскладывать на гриле.
– С Энн ничего не случилось? – поинтересовалась Сэнди. – Есть что-нибудь, о чем мне следует знать?
Он горько рассмеялся.
– Об этом спрашивай не у меня. – Бывало, он звонил домой утром, днем по три-четыре раза, и никто не брал трубку. «Где ты была?» – потом спрашивал он у нее. «Уходила», – отвечала она и принималась готовить ужин или мыть посуду, или решать кроссворд. – А ты? – спросил он.
– Что я?
– Тебе это нужно? – Он оглянулся на дом, обсаженный пестрыми оранжевыми тигровыми лилиями, на Джулию и Эйли, сидевших неподалеку в свежескошенной траве, играя в «веревочку», потом снова взглянул на нее.
– Нет, – серьезно ответила она.
– Никогда не знаешь, что может понравиться, пока не попробуешь.
– Сказал паук мухе. А еще не знаешь, что может оказаться невыносимым, пока не попробуешь.
– Это часто одно и то же.
Энн, наблюдавшая за ними из окна кухни, вышла, поставила на стол две миски с картофельным салатом и направилась к ним.
– О чем это вы тут сговариваетесь? – спросила она.
– Как сделать тебя счастливой, дорогая, – ответил Тед и начал поливать цыпленка густым темно-красным соусом, который Энн усовершенствовала много лет назад. Он обнял ее за талию свободной рукой. Энн, сидя за столом, смотрела на них, они стояли к ней спиной, его рука обнимала ее, ее рука поднималась медленно, неохотно, но все-таки поднималась, чтобы обвиться вокруг него.
Когда она увидела их вместе в следующий раз, через три недели, они точно в той же позе стояли на похоронах Джонатана и Эстеллы.
Сэнди вставила ключ в замочную скважину входной двери.
Ничего не изменилось с того дня после похорон, когда они с Энн приходили сюда вместе. Все осталось на своих местах.
Две лампочки перегорели, и заменить их было нечем. Лампочки Джонатана и Эстеллы станут перегорать одна за другой. Она положила две упаковки мешков для мусора на стол в гостиной, поверх стопки перепачканных бульварных газет. Агент по недвижимости должен был прийти завтра. Сэнди удивилась, когда Энн не захотела еще раз пойти сюда вместе с ней, не захотела взять что-нибудь на память из дома, от них, а когда она попыталась вникнуть в причину такого неожиданного приступа бесчувственности, то быстро получила отпор: «Иди ты!»
Она распечатала упаковку с мешками, вынула один и пошла в спальню Джонатана и Эстеллы. Открыла встроенный шкаф и уставилась на груду платьев, туфель и шалей. За месяц до аварии Эстелла позвонила ей на работу в четыре часа дня и попросила зайти. Она сказала, что если до пяти не оплатить счет, у них отключат электричество. Джонатан ушел на занятия, а Энн не было дома. Сэнди нехотя пришла. Эстелла встретила ее на пороге со счетом. «Не знаю, что бы я без тебя делала?» Она попыталась поцеловать Сэнди, но Сэнди уклонилась. «Ты же не можешь все время так делать, – бранилась Сэнди. – Это просто невозможно. Неужели ты никогда не научишься?» Она ушла со счетом в руке. Сейчас она, несмотря на бесчисленные попытки, так и не могла вспомнить, поцеловала ее Эстелла в конце концов или нет.
Она закрыла шкаф и легла на их постель.
Однажды она пробралась в их комнату без стука и случайно подсмотрела, как Джонатан сидел возле Эстеллы, лежавшей поперек кровати, и тихо гладил ее руку, лаская каждый палец так, словно это драгоценный камень. И, касаясь каждого пальца, он всякий раз по-другому объяснял, почему любит ее. «Потому что, когда ты смеешься, ты для меня все равно самая юная девушка на свете. Потому что когда мы вместе, ничто другое не существует». Другая ее рука покоилась на его черной голове, она следила за его губами, ожидая следующих слов, следующей причины, с волнением, жадностью и опасением.
«Твоя мама, – сказал Джонатан Сэнди, выпроводив ее из комнаты и удержав в коридоре, – это сплав эмоций под тончайшей оболочкой плоти, но я люблю ее больше, чем саму жизнь».
Сэнди глубже зарылась в одежду, все еще беспорядочно разбросанную по кровати; простыни были изношенными, чуть ли не просвечивали; она закрыла глаза, и тени клонившегося к закату дня легли ей на ресницы.
Был один, который называл ее «солнышко» и учил ее полностью забыть о зависимости и преданности – существовали и другие вещи, и какие, Бог мой; и был зеленоглазый парень с запада, о котором она думала, вот оно, настоящее, но ему быстро надоели ее вопросы; был еще высокий, мрачный, подверженный депрессиям парень, его мать утонула в ванной, напившись пьяной, а он пытался выпрыгнуть из окна, когда Сэнди отказалась выйти за него, и вывихнул плечо, когда его приятель втащил его обратно; и еще был один, с самым большим членом, какой она видела в жизни, он был помешан на семейной жизни Линдона Джонсона; были и другие; но ни один, ни один никогда не гладил ее пальцы, словно драгоценности, перечисляя причины любви.
Сэнди оставила в доме все, как было, и дала агенту по недвижимости наличные деньги, чтобы пригласить туда профессиональных уборщиц.
Когда через два месяца дом был продан, она тщательно разделила вырученную сумму пополам, с учетом тех денег, что потратила.
На свою долю Энн открыла первый принадлежащий лично ей одной счет в банке. Она не предложила Теду включить туда и его имя.
– Что ты собираешься делать со своей долей? – спросила она Сэнди.
– И это все, о чем ты беспокоишься, только о деньгах? – парировала Сэнди.
Впервые за много лет Сэнди снова начала бояться момента отхода ко сну, засыпания. Снова ее дыхание угрожающе прерывалось – слабея, слабея.
Они были на противоположной стороне улицы, шли ей навстречу, она так и не подошла к ним. Они были на противоположной стороне, шли ей навстречу…
Она шла по Мейн-стрит на ленч с новой коллегой, они смотрели на витрину книжного магазина, она так и не подошла поздороваться, так и не подошла к ним…
Она села, потянулась к телефону и позвонила Энн. Хотя было за полночь, необходимость во взаимном признании, исповеди была непреодолимой.
– Каждый вечер, лежа в постели, я заново проигрываю то мгновение, – тихо сказала она. – Вихляющая походка Джонатана, рыжеватые, спадающие волосы Эстеллы, они приближаются ко мне снова и снова. Каждый раз я пытаюсь заставить себя пересечь улицу, поздороваться с ними, познакомить их с той женщиной. Но, как бы я ни старалась, мне это никогда не удается.
Энн была спокойна, у нее самой не было никакой нужды признаваться и исповедоваться, она поступала правильно, пока они были живы, и теперь, по ее же словам, была свободна.
Сэнди снова улеглась среди скомканных простыней, закрыла глаза и наконец медленно погрузилась в сон.
При аварии они были мягкими, набитыми куклами, с невидимыми швами, скреплявшими розовую ткань их пухлых рук и тел.
Только в миг удара, когда куски металла и стекла вонзились в ткань их лиц, и рук, и груди, они внезапно превратились в Джонатана и Эстеллу, изуродованных, израненных, окровавленных, с широко раскрытыми глазами.
Она вскочила в холодном поту.
В два часа ночи она встала, отыскала в укромном углу шкафа кожаную папку, отнесла ее вниз и вывалила расшифровки магнитофонных записей в камин. Подожгла эту груду, поворошила бумагу, подпихивая ее глубже в огонь, и пристально смотрела, а едкий дым лез ей в глаза.
Позднее она было пыталась отыскать начало, установить строгую границу – вот откуда это пошло, вот точное время и место, здесь. Вот каким образом. Она с самого начала мысленно объясняла, излагала происшествие суду. Но в душе она не находила никаких подробностей первого толчка, лишь подспудную силу, которая существовала всегда, возможно, неосознанная, бездействующая, но она была. А если бы она не пробудила ее, можно ли было считать, что она в ответе?
Она сидела после работы в баре, оттягивая миг возвращения домой. Хотя со смерти Джонатана и Эстеллы прошло два месяца, она все еще ощущала неприкаянность, страдала от бессонницы. Взяла в «Кроникл» дополнительную работу, но, когда ее обвинили в том, что она слишком часто печатается, пришлось отказаться. Неделю она каждый вечер возвращалась домой вместе с зубным врачом из Хэндли, с которым познакомилась на вечеринке, но у него была привычка так часто мыть руки, что белая стерильная кожа его тонких безволосых пальцев стала вызывать у нее отвращение. Она потягивала водку, болтая лед в прозрачной жидкости.
– Ты одна?
Она подняла голову и рядом с собой увидела Теда.
– Ага.
– В чем дело, договорилась с дружком, а он не пришел?
– Разве тебе никогда не приходило в голову, что женщине, как и тебе, может быть нужно только одно – выпить после работы?
– Почему ты так уверена, что мне только это и нужно?
Она нахмурилась.
Он рассмеялся.
– Шучу. – Он сел на соседний табурет и заказал для них еще по одной порции.
– Вчера вечером я проезжал мимо дома на Рафферти-стрит, – сказал он. – Там на подъезной дорожке стояла новая машина. Микроавтобус, не что-нибудь. Кто знает, может, туда въехала образцовая американская семья, с колли и качелями и надувным бассейном. Быстро ты действуешь, Сэнди.
– Ты стараешься, чтобы я почувствовала себя ничтожеством, или это выходит само собой? – спросила она.
– Извини, – ответил он с неожиданной, обезоружившей ее искренностью.
Она искоса взглянула на него, потом снова занялась своим бокалом.
– Что ты здесь делаешь? Разве тебе не полагается быть дома, с Энн?
– Она не заметит.
– Что?
– Ничего. – Он отхлебнул еще виски.
– Что все-таки с вами происходит? – спросила она.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну знаешь, не надо особой проницательности, чтобы заметить, что вы теперь не совсем та счастливая любящая пара.
– Энн что-нибудь говорила тебе? – спросил он, внимательно глядя на нее.
– Нет.
– Мне казалось, женщины разговаривают друг с другом. Я думал, это у них получается лучше всего.
– Странно, а я считала, что это мужьям и женам полагается разговаривать друг с другам.
– По-моему, она просто тяжело переживает смерть Джонатана и Эстеллы. – Задумчивость в его голосе, не искаженная ни иронией, ни колкостью, была незнакомой, сокровенной и тревожной.
– Правда? Мне казалось, она это переносит очень легко.
– Как это?
– Она мне сказала, что чувствует себя свободной. – Вот оно. Первое предательство, крохотное, почти незаметное, и все же. Она сделала большой глоток.
– Она так сказала?
– Да.
– Свободной от кого? От меня?
– Нет. Не знаю. Может, она чувствует, что освободилась от вечного стремления все упорядочивать.
– Что именно?
– Хотя бы с Эстеллой.
Они никогда прежде не говорили друг с другом серьезно, наедине, и оба тут же смутились. Тед оглянулся на грузного мужчину в клетчатой фланелевой рубашке, нажимавшего на кнопки музыкального автомата, Сэнди водила пальцем по дну чашки с соленым арахисом, прочерчивая спиральные узоры в шелухе.
– И с нами, – добавил Тед. – Ей больше, видно, не интересно упорядочивать нашу жизнь.
– Тебе это нужно?
– Нам нужно что-нибудь, но…
– Как же в той строчке говорится? – прервала она. – «Они оба были слишком заняты собственным спасением». Что-то в этом роде.
Он взглянул на нее.
– А?
– «Ночь нежна». Фитцджеральд. Знаешь, Ф. Скотт Фитцджеральд?
– Никогда о таком не слыхивал. Он что, какой-нибудь ведущий ток-шоу на радио? – Тед ухмыльнулся, внезапно снова очутившись в знакомой стихии. – Мне бы хотелось, чтобы ты перестала считать меня каким-то неандертальцем, Сэнди, – сказал он. – Между прочим, это единственная книга Фитцджеральда, которой я не читал. – Он помолчал, слегка улыбнулся. – Знаешь, когда-то я думал, что мог бы стать таким, как Гэтсби.
Сэнди оглядела его и внезапно расхохоталась.
Уязвленный, Тед стал защищаться.
– Я имею в виду не особняки и шелковые рубашки. – Он выбил пальцами легкую дробь на поцарапанной деревянной стойке бара. – А идею полностью создать самого себя заново. Целиком возникнуть из собственной фантазии. Мне это казалось замечательным. По-настоящему, только такой подход всегда и казался замечательным. Или, по крайней мере, единственным практически осуществимым.
– Когда-то?
Он пожал плечами.
– Скажем, это оказалось не так легко, как я воображал. Честно говоря, в наши дни просто нормально жить, видимо, уже означает одержать победу.
Сэнди отпила еще глоток.
– Как-то неловко получается. Послушать, так мы разговариваем, словно два зеленых студента. Только в студенческие годы и простительно посиживать в баре и обсуждать героев Ф. Скотта Фитцджеральда, словно они что-то значат.
– Откуда мне знать.
Оба допили свои порции.
– У тебя есть книга? – спросил он.
– Какая?
– «Ночь нежна».
– Конечно.
– Я бы взял почитать.
– Ладно. В следующий раз захвачу с собой.
Он кивнул и улыбнулся.
– Что ж, пора мне возвращаться к семейному очагу. Ты собираешься остаться и попытать счастья, или мне проводить тебя к машине?
– Увидеться с тобой – это как раз та порция счастья, какую я способна вынести за один вечер, – парировала она.
Они расплатились и ушли.
Когда на следующий день Сэнди разговаривала с Энн, то не упомянула о том, что встретила Теда. Умалчивать об этом не было никакой, ровным счетом никакой причины, и все же она ничего не сказала.
Так, может быть, вот оно. Начало.
Ей следовало бы удивиться, когда через два дня он заглянул к ней по пути с работы домой, но она не удивилась. Это казалось естественным, предполагалось, что так будет. Она даже откопала на полке ту книгу, стерла с нее пыль, приготовила для него, гадала, придаст ли он слишком большое значение измене и разрыву в романе или сочтет их банальностью. Она рассмеялась: впервые ее беспокоило мнение Теда о ее умственных способностях. Как бы то ни было, когда он вошел, книга дожидалась его, хотя Сэнди и притворилась, что придется поискать.
– Ты не против? – спросил он. – У меня теперь вечно не хватает времени заскочить в библиотеку.
– Конечно, нет.
Пока она ходила за книгой, он стоял на пороге гостиной, освещенной единственной лампой, оглядывая немногочисленные детали обстановки – аккуратную стопку журналов, недопитый бокал белого вина. Они вслушивались в молчание друг друга.
Она принесла книгу; когда отдавала ему, а он брал, их пальцы слегка соприкоснулись.
Вот. Это могло быть началом. Этот самый миг. Он быстро переложил книгу в другую руку.
– Верну, как только прочитаю.
– Никакой срочности.
– Спасибо.
На одно тревожное мгновение он задержался на пороге, потом повернулся и вышел.
В поисках точно определенного начала, конечно, всегда замешана тайная убежденность в том, что стоит лишь обнаружить его, установить точно и несомненно, как можно будет вернуться вспять, начать заново, переиначить, изменить то, что за ним последовало. Вот он, этот миг. Если бы только я поступила по-другому ЗДЕСЬ, как раз в этом эпизоде. Но они этого не сделали. Она бы даже сказала, что они были не в силах поступить по-другому. Хотя прежде она всегда верила в свободу воли.
Она гадала, сказал ли он Энн, откуда у него эта книга, сидя в кровати, держа на поднятых коленях книгу о роли церкви в провинциальных американских городках, которую читала для статьи, гадала, не переворачивает ли он страницу в эту самую минуту.
Он принес книгу обратно через четыре дня. Был понедельник, ненастный вечер, ветер и дождь гнали осеннюю листву к земле, и там она лежала в коричневых и оранжевых лужах и налипла на подошвы его обуви. Его волосы намокли, пока он шел от машины ко входу в дом, и спадали на глаза. Одна капелька воды висела у него на кончике носа. Увидев его, она засмеялась.
– Входи. – Она взяла у него пальто и повесила сохнуть на кухне.
– Я принес назад книгу.
– Быстро управился.
Он кивнул.
Он вынул книгу из заднего кармана, теплую и влажную, и отдал ей.
– Вот.
Книга, теплая и влажная, рука – его, ее.
– Ну и как тебе книга? – спросила она.
– Нормально. Вообще-то проблемы богатых меня не слишком волнуют. Конечно, написано здорово. Но эта его непреодолимая потребность нравиться… – он покачал головой. – Я просто этого не понимаю.
Лицо Сэнди чуть заметно вытянулось от разочарования.
– Извини, – произнес он.
Она улыбнулась и пожала плечами.
Было слышно лишь их дыхание.
Он стоял совсем рядом; мускусный аромат, исходивший от его влажных вельветовых брюк и кожаных ботинок, наполнял их ноздри. Кто первым шевельнулся, протянул руку? Потом это казалось несущественным. Она потянулась, отвела у него со лба мокрую прядь волос. Он подался к ней, его пальцы, пробравшись сквозь завесу ее волос, коснулась шеи. Или никто из них не пошевелился первым, не пал первым? Ни один позже не мог определить, кого винить, не мог взять вину на себя. Они просто упали в объятия друг друга, крепче и крепче, и теснее, и вниз, слияние без прелюдий. Один раз он произнес ее имя – как стон, жалобу, призыв.
Это было похоже не на начало, а на завершение, а скорее на то и другое сразу. Их обнаженные тела на холодном жестком линолеуме, обвившие друг друга. Кость, плоть и язык. Здесь, здесь.
Откуда-то со стороны она слышала собственные, отчаянно громкие стоны. Раньше она никогда так не стонала.
– Я делаю тебе больно? – спросил он и на минуту замер, приподнялся на локтях, заглянул в ее застывшее лицо.
– Нет. – Она стиснула его еще сильнее, теснее, дальше, и он кончил, с закрытыми глазами, раскрыв рот, забыв обо всем.
Потом они молчали. Ни единого слова. Они лежали на полу, следя, как рядом капала с его пальто в маленькую лужицу вода, и медленно высвобождались друг от друга, безмолвно размыкая ноги, руки, груди.
– Слышал это? – Сэнди внезапно приподняла голову.
– Что?
– Тс-с-с. – Она оглянулась на заднюю дверь, которая была постоянно заперта. Ни шороха. – Ничего. Кажется, что-то послышалось.
– Я ничего не слышал. – Он привстал на коленях спиной к ней, потом поднялся и оделся, не оборачиваясь, не глядя ей в лицо. Она лежала, уставившись в дальний угол, там начинали отклеиваться белые с желтым обои. Лишь когда он снял с вешалки пальто, надел и направился к выходу, она встала и пошла за ним.
Он взялся за ручку входной двери, слегка повернул. Она не в силах была поднять глаза, могла лишь смотреть на эту стиснутую мозолистую руку. Он сделал глубокий вдох, потом выдохнул. Рука разжалась. Повернувшись к ней, он медленно приподнимал ее голову за подбородок указательным пальцем, пока она не глянула в его глаза, влажные и темные. Он прикусил губу; она покачала головой; они отвели взгляды. Он быстро повернул ручку и выскользнул из дома.
Как только она услышала, как за ним захлопнулась дверца машины, она бросилась в ванную, и там ее стошнило, отвратительная кисловатая рвота снова и снова подступала к горлу. Когда ее полностью вывернуло, она почистила зубы и ополоснула холодной водой лицо.
Но его семя, теплое, вязкое, бесцветное она смывать не стала, оно медленно стекало по ее бедрам и высыхало.
Они не звонили друг другу, хотя вполне могли бы – с работы. Да и о чем, собственно, было говорить? Извиняться, раскаиваться, обвинять, оправдываться, искать виноватого, выражать страсть?
Помимо своей воли – никогда и никогда и никогда больше – Сэнди в последующие дни ловила себя на том, что придумывает способы, как случайно столкнуться с ним. Она говорила себе, что это лишь затем, чтобы можно было произнести ему эти слова – «никогда больше». Показать ему. Она ходила в бар, где они встретились после работы. Ездила мимо стройплощадки, где возводила дом фирма «Фримен и Уоринг», хотя она находилась совсем не по пути.
Она не появлялась в доме Энн. Не могла. Даже просто заскочить на минутку, как обычно. Как бы она осмелилась?
Она сидела у себя, в притихшем доме, одна, подтянув колени к груди, покачиваясь туда-сюда ночь напролет, монотонно, нараспев твердя, как бесконечную молитву – никогда и никогда и никогда больше.
В следующий раз он не искал предлога, ни необходимости вернуть книгу, ни занять немного сахара. Было поздно, почти десять часов вечера, словно он пришел, сдавшись, только после долгой внутренней борьбы.
Он взял в руки ее лицо, пристально всмотрелся в глаза.
– Ты понимаешь, – сказал он, – что потом я должен буду возненавидеть тебя?
Она кивнула. Она прекрасно понимала, что он имел в виду.
Они рухнули на диван. Подниматься по лестнице, ложиться в постель – эти действия казались слишком преднамеренными, как будто их еще больше запятнала бы такая «одомашненность» с ложными признаками постоянства, законной связи. Их тела терлись и приникали друг к другу, охваченные алчным, неукротимым стремлением. Словно оттого, что они уже нарушили самое страшное табу, все остальные не имели значения – положи это сюда, дотронься до меня вот здесь, крепче, быстрее, еще. Исчезли все законы, все правила. Стыд пришел бы лишь позже, потом, в одиночестве, злобный, ненасытный стыд, сжигавший все, что попадалось ему на пути. Она укусила его в плечо, ощутила вкус его крови, действительно почувствовала его кровь у себя на губах, но он не жаловался. Он прекрасно понимал, что имела в виду она.
Ее голова покоилась на его простертой поперек дивана руке. Их ноги плотно переплетались. Он тронул влажный завиток волос у нее на виске. В конце концов им бы пришлось заговорить, а какой бы язык они могли подобрать? Не игривый лепет влюбленных, воображающих романтические прогулки, отпуска, приключения, – как замечательно, если бы?.. – эти смутные видения, приоткрывающие даже для самых невероятных пар сладкий, призрачный кусочек будущего. Они не могли вновь перейти на прежний язык насмешек и подначек – он звучал неубедительно без слушателей, без Энн. Не подходили и жалобы тайных любовников – моя жена меня не понимает.
Он накручивал ее прядь на указательный палец.
– Все дело в том, – произнес он, – что мы слишком похожи.
Она насторожилась. Она вовсе не считала, что похожа на него.
– Каким образом?
– Мы оба всю жизнь пытаемся доказать, что ни в ком не нуждаемся.
– Я ничем подобным не занималась, – возразила она.
Он улыбнулся.
– Конечно, занималась. Черт возьми, ты даже старалась доказать, что тебе не нужен дом.
– В противоположность Энн, которая всю жизнь пытается доказать, что у нее этот дом есть?
– Я не собираюсь обсуждать с тобой Энн, – грубо бросил он и так резко встал, что ее голова больно ударилась о подлокотник дивана.
Чье предательство было хуже? Мужа или сестры? Она сидела в сияющей ванной, ковыряя болячку на руке. Впивалась в кожу ногтями, пока из-под нее не выступили капельки крови, кожа разошлась, и тогда она вонзила ногти еще глубже, раздирая рану, расширяя ее, ища спасения в иной боли.
Она не звала его, ни разу не говорила «Приходи» или «Не приходи». Хотя множество раз собиралась, собиралась произнести и то и другое.
Она уступила ему право решать, делать шаг.
Она могла только дожидаться в своем доме, дожидаться его появления или отсутствия, желая и того и другого, страшась и того и другого. Она прислушивалась к каждому скрипу, каждому плеску на улице – он? Прислушивалась, а темнота сгущалась, и он не шел, и лишь ее пальцы непрестанно барабанили в такт ее облегчению, разочарованию и ненависти. Никогда и никогда и никогда больше.
Девять дней, ночей – ничего.
Она начала думать, что все кончено. Что она сможет заставить все это исчезнуть, вычеркнуть даже из прошлого.
В субботу днем она оставила машину на стоянке за баром «Бредлиз паб» и пошла по Мейн-стрит, придумывая себе задания, какие-нибудь надобности в покупках. Она отправилась в аптеку Фредрикса и накупила на восемнадцать долларов журналов, собираясь составить список тех, для которых ей бы понравилось писать, куда захотелось бы перейти. Она зашла в книжный магазин и купила аудиокурс, обещавший меньше чем за шесть часов научить говорить по-итальянски. Она долго стояла перед витриной зоомагазина, разглядывая длинношерстых снежно-белых котят. Однажды, еще в коллежде, она завела себе крошечного черного котенка, Мингуса, он спал, примостившись у нее на коленях, и каждое утро будил ее, вылизывая ей глаза. Но всего через месяц Мингус сбежал. Парень, с которым она тогда встречалась, понимающе пожал плечами. «Ты не того склада, чтобы держать домашних животных», – сказал он. Сейчас она с горечью обнаружила, что плачет прямо тут, на улице. Вытерев глаза рукавом пальто, подхватила свои покупки и поспешила прочь.
Она шла к своей машине, когда заметила, что из магазина скобяных товаров выходит Тед с большой зеленой лопатой для разгребания снега. Она быстро свернула в сторону, но он уже заметил ее, шел следом за ней. Она ускорила шаг. Спеша по боковому переулку, ведущему к стоянке, она ощутила его присутствие сзади.
– Сэнди!
Она обернулась, застыла, прислонившись к стене, позволив ему подойти, догнать.
Он стоял совсем рядом, упираясь лопатой в землю. Белые струйки их дыхания клубились между ними, сливались и разъединялись.
– Что тебе от меня нужно? – простонала она.
Он внезапно рассмеялся резким сухим смехом.
– Ничего.
Она не шевелилась. Наконец повернулась, начала обходить его, и тут он вдруг схватил ее за руку, привлек к себе, притянул ее губы к своему горячему рту. Отступил и оттолкнул ее.
– Иди домой, – пробормотал он и пошел по проулку назад.
Энн позвонила Сэнди в редакцию в понедельник утром.
– Где ты пропадаешь, подруга? Что это ты последнее время не заглядываешь? Девочки надеялись, ты придешь на выходной.
– Извини, я, правда, очень занята.
– Так занята, что даже не выкроишь время на ленч? Я по тебе скучаю.
– Ладно.
Они сидели друг против друга за маленьким круглым столом в задней части кафе «Джинджер бокс», перед ними стояли тарелки с чечевичной похлебкой и горячими булочками. Белая ваза с мелкими розовыми гвоздиками была отодвинута в сторону вместе с маслом, к которому они обе не притрагивались.
– Боже правый, что такое у тебя с рукой? – спросила Энн, когда Сэнди взяла бокал с водой.
– Пустяки. Обожглась. Ты же меня знаешь, повар из меня всегда был паршивый. – Она улыбнулась. – Как у тебя дела? Все в порядке? – Она смотрела на Энн, бледную, расстроенную, и с ужасом ждала ответа. Она боялась и выдать себя, боялась, что Энн заметит, что она неискренна, по ее глазам догадается – о предательстве. В ее бокале плескалась вода.
Но Энн лишь вздохнула.
– Иногда я по-настоящему завидую тебе.
– Мне? Почему?
– Потому что ты одна.
– Мне казалось, в нашем обществе об этом положено сожалеть. Знаешь, какие деньги издатели делают на книгах, где женщинам объясняют, как избежать одиночества?
Энн зачерпнула ложкой похлебку и смотрела, как она стекала обратно в миску. Похлебка была похожа на грязь.
– Я даже не знаю, что это такое – одиночество. Может, ты и была права много лет назад, когда твердила мне, что я вышла замуж слишком рано.
Сэнди смотрела в сторону, на дверь, на свою салфетку.
– Что ты такое говоришь, Энн?
– Сама не знаю, – она глянула прямо в лицо Сэнди. – Я не выношу, когда он входит в ту комнату, где нахожусь я, – проговорила она тихим хриплым шепотом. – Я не выношу, как он дышит, спит. Я только тогда уверена, что люблю его, когда волнуюсь за его жизнь. Если он очень задерживается или если слышу по радио о какой-нибудь аварии. И тогда он вдруг снова становится мне нужен, я не могу представить, как жить без него. – Она откусила от своей булочки. – Боже, хоть бы знать, что мне нужно. Как ты всегда бываешь так уверена в этом?
– Ты так считаешь?
– Ну, по крайней мере, ты всегда знала, что тебе не нужно.
– И что же это?
– То, что есть у меня, – Энн отодвинула тарелку. – Как ты считаешь, Эстелла когда-нибудь испытывала сомнения?
– Нет.
– Я тоже так думаю. – Она подняла голову, на ее лице появилось подобие улыбки. – Может, просто все дело во мне, – сказала она. – В чем-то, что со мной происходит и что пройдет. Знаешь, что он сделал в эти выходные? Он сделал мне цветок из вишневого дерева и березы. Настоящую ромашку с единственным лепестком. Любит – не любит – любит… – Энн вскинула голову, в ее глазах застыло туманное, непонятное выражение. – Мы что-то должны друг другу, – тихо сказала она, – только вот не уверена, что именно.
Сэнди посмотрела на склонившуюся под бременем воспоминаний голову Энн.
– Мне нужно возвращаться на работу, – внезапно сказала она и принялась рыться в своей огромной сумке в поисках кошелька.
Никогда и никогда и никогда больше.
Она сидела, съежившись, на полу в сумраке комнаты для гостей на втором этаже.
Она слышала, как он звонил у входа в третий, четвертый раз.
Потом грохот, удары ладони в дверь.
– Сэнди!
Конечно, он видел у дома ее машину, знал, что она дома, несмотря на то, что нигде не горел свет.
– Сэнди, открой. Мне надо поговорить с тобой.
Она крепко обхватила колени руками, слушая, как он снова колотит в дверь.
На минуту все стихло. Потом она услышала, как он постучал в стекло с черного хода.
– Нам надо поговорить.
По комнате разносилось лишь ее дыхание. Она встала и начала медленно, тихо спускаться по лестнице.
Но, когда она открыла дверь, его уже не было.
Она смотрела, как задние габаритные огни его автомобиля мелькнули в конце квартала и исчезли.
На следующее утро она позвонила ему в офис. Назвалась секретарше Линдой – первым пришедшим в голову именем.
– Мне нужно увидеться с тобой, – сказала она, как только он взял трубку.
– Да, мне тоже нужно увидеться с тобой.
– Можешь заскочить после работы?
– В семь часов. – Он повесил трубку.
Он только вошел в дом, остановился на пороге, не раздеваясь.
– Мы больше не можем заниматься этим, – сердито выпалил он. Его глаза блестели.
– Я знаю. – В ней поднялось неожиданное негодование против него за то, что он первым произнес эти слова, украл их у нее, отверг ее, когда это она собиралась отвергнуть его.
Он кивнул, не вынимая рук из карманов, но не двигался с места, не уходил.
Она откинула волосы назад, вертела их пальцами.
– Одна вещь, – добавил он, – знаю, что не должен этого произносить, но все-таки скажу. Что бы ни было, ты должна обещать никогда не рассказывать об этом никому, никому. Никогда.
– За кого ты меня принимаешь?
Какое-то мгновение он вглядывался в нее.
– Чувство вины действует на людей странным образом. Вызывает у некоторых необходимость исповедоваться.
– Но не у тебя?
– Нет, – просто ответил он. – Я люблю Энн.
– Я тоже.
Он нахмурился.
– Не морочь мне голову этой чушью, – заявила она. – Я бы сказала, что мы с тобой равны по части греха.
Он ухмыльнулся.
– Этого слова я не слыхивал с тех пор, как у моей матушки случился недолгий приступ религиозности, когда мне было лет десять. Грех, – произнес он, пробуя слово на вкус, перекатывая его на языке, проглатывая его.
Она вдруг замахнулась и изо всех сил ударила его по лицу.
У него на глазах выступили слезы, но он не шелохнулся.
– Если ты когда-нибудь хоть чем-то причинишь ей боль, я убью тебя, – сказал он. Долгие секунды смотрел на нее блестящими глазами, потом медленно повернулся и вышел.
Энн позвонила неделю спустя.
– Послушай, – сказала она, – я хочу попросить тебя о большом одолжении.
– Пожалуйста. Что такое?
– Можешь побыть с девочками пять дней?
– Ладно.
– Мы с Тедом едем во Флориду. – Молчание. – Это, правда, его идея. Он считает, это поможет.
– Поможет чему?
– Нам.
– Голос у тебя не слишком уверенный.
– Может, я вовсе не уверена в том, что хочу помогать нам, не знаю. Или, может, мне надоели бесплодные попытки.
– Когда вы уезжаете?
– На следующей неделе.
– Так скоро?
– Кажется, это не тот случай, чтобы откладывать. Или уж делать, или нет.
– Конечно.
– Сэнди, я должна тебя предупредить. Есть кое-какие трудности. С Джулией.
– Что за трудности?
– По-моему, сейчас это называется «выпендриваться». – Она нервно рассмеялась. – У нее в школе неприятности с учителями. На прошлой неделе нас вызывали туда. Не знаю. Тед и я, в общем, девочки это тяжело переносят. Это одна из причин, почему я и согласилась поехать с ним.
– Я сделаю все, что ты захочешь.
Энн глубоко вздохнула.
– Тогда пожелай мне удачи, – сказала она.
– Удачи.
7
Сэнди сидела на подоконнике, глядя, как занимается рассвет, как темнота рассеивается, сменяясь сначала желтым и наконец нежно-розовым светом, словно цвета на медленно заживающем синяке. Лоб стыл от холодного стекла, к которому она прислонилась, она поежилась, но не двинулась с места. В нескольких шагах от нее мирно посапывал Джон. Его вдохи-выдохи, словно стук метронома, размеренно, неизбежно и одиноко раздавались в пустынном доме. Она оглянулась на него, страстно желая, чтобы он спал так всегда, чтобы утро навечно зависло где-то за горизонтом.
Она еще раз перебрала имеющиеся возможности выбора, прикидывая так и эдак, критически оценивая их, и наконец все отвергла. Несмотря на то, что Тед говорил этим вечером за трибунами на стадионе, она знала, что ее влияние на Джулию ничтожно, или, еще хуже, имеет обратный эффект, что Джулия нарочно сделает именно то, что Сэнди велит ей не делать. Эйли, конечно, более послушна. Но что, собственно, Сэнди могла бы сказать ей? Измени показания, вернись к нему?
Она содрогнулась.
В желудке возникла тошнота, она с трудом сглотнула ком.
Можно было прямо сейчас разбудить Джона – встать, пройти к нему по холодному, ничем не прикрытому полу, растолкать его, рассказать ему.
Потерять его. Потерять все.
Она начертила на затуманенном стекле букву Х, стерла ее. Она думала обо всех девушках, изображавших сердечки, стрелы и инициалы своих дружков на стеклах машин, окнах школы, – она сама никогда не была в их числе.
Джон забормотал во сне, всхрапнул и снова тихо засопел. Она слышала, как на крыльцо шлепнулась газета, как зашевелились наверху девочки, как заворчала и забулькала автоматическая кофеварка, но все равно сидела, с поджатыми ногами, оледеневшим лбом, неспешно.
Судья Карразерс, лечившаяся от очень затяжной зимней простуды, достала бумажную салфетку из пестрой коробочки, которую поставил перед ней пристав, и звучно высморкалась. Еще дважды попытавшись прочистить нос, она запихнула скомканную салфетку подальше и выпрямилась, обводя взглядом зал поверх очков в узкой черной оправе. Присяжные в ожидании молча ерзали на своих местах, нарочито щелкали ручками, выпрямляли ноги. В дальнем конце школьная учительница бросила поправлять растрепавшуюся прическу. Судья Карразерс на минутку отвлеклась, проверяя, в порядке ли ее новая стрижка, потом оглядела остальную часть переполненного помещения, затихшего под ее взглядом. Только Теду не сиделось спокойно, он в последний раз покосился на ряды позади себя. Место, которое с самого начала процесса занимала Сэнди, пустовало. Он повернулся к судье. Она сняла очки и стукнула молотком.
– Защита может вызывать первого свидетеля.
Фиск кивнул в той изысканной манере, которую он напускал на себя в обращении с судьей Карразерс, – легкое движение тщательно причесанной головой, мимолетный взгляд. В прошлом это срабатывало с судьями-женщинами, этакий намек на вежливое, благовоспитанное, завуалированное признание рыцарского благородства, хотя здесь всегда имелась доля риска, и пару раз даже более скромные проявления галантности были восприняты как оскорбление. Пока он был осторожен, каждый раз рассчитывал и приспосабливался заново. Он встал, прочно оперся руками о стол.
– Защита вызывает миссис Элейн Мерфи.
Миссис Мерфи встала в первом ряду и направилась к свидетельскому месту. Новая стрижка ее коротких седых волос сочеталась с большим серебряным браслетом и серьгами. На ней была широкая коричневая бархатная юбка в складку и удобная обувь.
– Миссис Мерфи, – обратился к ней Фиск, – сообщите, пожалуйста, кем вы работаете?
– Последние одиннадцать лет я работаю консультантом в средней школе Хардисона.
– И в чем заключаются обязанности консультанта, миссис Мерфи?
– Я занимаюсь трудными детьми. Учителя направляют их ко мне, и я встречаюсь с ними и с их родителями и стараюсь найти приемлемые решения.
– И именно в качестве консультанта вы познакомились с Джулией Уоринг?
– Да.
– Опишите, пожалуйста, при каких обстоятельствах это произошло.
– За последний год у Джулии возникли в школе некоторые трудности. Ее отметки резко снизились, для способного ребенка это всегда показатель. Были сообщения о неприязненных отношениях с другими учащимися. Она лгала на социологических тестах. И наконец, она швырнула металлическую коробку с карточками в голову учительнице.
– Перечень внушительный.
– Да, – согласилась миссис Мерфи.
Судья Карразерс громко чихнула.
– Будьте здоровы, – сказал Фиск, улыбаясь ей.
Она поджала губы и достала салфетку, чтобы вытереть хлюпающий нос.
– Продолжайте, – резко сказала она.
Фиск кивнул и вернулся к свидетельнице.
– Давайте попробуем разобраться в этом перечне.
– Конечно.
– Не могли бы вы уточнить, что значит «неприязненные отношения с другими учащимися»?
Миссис Мерфи терпеливо пояснила:
– Джулия временами прибегала к словесным оскорблениям. Она насмехалась над своими одноклассниками, дразнила их. Пожалуй, в одном случае я даже могу утверждать, что она преследовала мальчика.
– Преследовала?
– Она так часто обзывала его идиотом, что его родители приходили и рассказывали, как это задевает и угнетает его. Они даже всерьез подумывали перевести его в другую школу, чтобы избавить от нее.
При слове «идиот» в зале прокатились смешки, и миссис Мерфи приняла строгий вид.
– Речь здесь идет не об обыкновенных детских насмешках, – твердо добавила она. – В поведении Джулии просматривалась целеустремленность, выходящая за рамки обычного. Она носила почти навязчивый характер.
– И она лгала на тестах?
– Мне известно об одном подобном случае.
– Вы сказали, что она произвела физическое нападение на одну из учительниц? – Фиск придал своему голосу легкий оттенок потрясения.
– Да, на миссис Барнард, свою классную руководительницу. Она швырнула ей в голову металлическую коробочку для карточек.
– И что послужило причиной?
Миссис Мерфи вздохнула.
– Причины, разумеется, следовало бы рассматривать во всем многообразии с учетом прошлого. Но если вы спрашиваете в более конкретном смысле, то миссис Барнард побранила Джулию за то, что та невнимательна.
– Итак, справедливо ли было бы утверждать, что в случае с Джулией имел место срыв в сочетании с физическим насилием?
– В данном примере, да.
– Вы бы назвали Джулию правдивым ребенком?
– Я бы не стала относить ложь при тестах к признакам правдивости, мистер Фиск.
– В это время вы встречались с Джулией, обсуждали ее проблемы?
– Да.
– Можете ли вы рассказать нам об этом? В частности, как относилась к этим обсуждениям Джулия?
– Джулия чрезвычайно сопротивлялась попыткам повлиять на нее. Поскольку она девочка очень смышленая, она была способна повернуть ситуацию так, как, она чувствовала, ей выгодно.
– Поясните, что вы имеете в виду.
– На определенные вопросы Джулия давала такие ответы, какие, по ее мнению, удовлетворяют вас или с которыми ей выгоднее вывернуться из трудного положения. Самый простой пример: если я спрашивала: «Ты злишься?» – она отвечала «Нет», хотя было совершенно очевидно, что это не так. Кстати, такой тип лжи довольно обычен для пациентов в больницах.
Фиск удовлетворенно улыбнулся.
– У меня больше нет вопросов.
Гэри Риэрдон встал. Как кальвинист он испытывал естественное отвращение к психотерапевтам и их профессиональному жаргону, которое и пытался преодолеть, готовясь к перекрестному допросу. Сейчас он обращался к свидетельнице строго официально, словно в укор охотно принятой миссис Мерфи задушевной манере.
– Миссис Мерфи, в качестве консультанта вам приходится иметь дело с детьми из распавшихся семей?
– К несчастью, все чаще и чаще.
– А случается ли обычно, что они переживают временный кризис, пока приспосабливаются к проблемам в семейной жизни?
– Довольно часто.
– Следовательно, вы бы сочли это нормальным.
– Я бы сочла, что это находится в пределах нормальной реакции.
– Джулия Уоринг когда-нибудь лгала лично вам?
– Мне об этом неизвестно.
– Миссис Мерфи, вы приглашали ее родителей, Энн и Теда Уоринга, чтобы обсудить эти инцидеты?
– Разумеется. Мы всегда стараемся привлечь родителей, когда ребенок попадает в беду.
– И какое впечатление тогда произвели на вас Энн и Тед Уоринг? Вы сочли, что дома не все в порядке?
– У меня действительно возникло такое впечатление.
– Тед Уоринг разговаривал об этом охотно?
– Нет. Я бы сказала, наоборот, он был очень насторожен.
– Последний вопрос, миссис Мерфи. Из вашего профессионального опыта, бывает ли такое поведение, которое вы засвидетельствовали со стороны Джулии, реакцией на насилие дома?
– Такое возможно.
– У меня нет других вопросов.
Судья Карразерс повернулась и посмотрела на миссис Мерфи стеклянным взглядом сверху вниз. Ее собственный младший сын частенько оказывался в кабинете консультанта, совсем недавно – за то, что разбрасывал в спортзале горящие спички, и она не с добрым чувством вспоминала тот день, когда сидела на маленьком школьном стульчике напротив миссис Мерфи, стараясь не рассмеяться прямо в ее озабоченное и понимающее лицо.
– Вы можете идти.
Он не появлялся целую неделю. Как только прозвенел звонок с последнего урока, Джулия торопливо запихнула полупрепарированную лягушку в пластиковый мешок и выскочила из кабинета биологии на центральную лестницу, но его там не было. Она четыре раза звонила ему домой, слушала его энергичный голос на автоответчике: «Пожалуйста, скажите вашу фамилию и номер телефона и я перезвоню вам, как только смогу. Пока!» – и каждый раз вешала трубку, когда раздавался сигнал. Она размышляла, догадывается ли он, что это звонит она. Смог бы он определить это по звонку, по сигналу, по тому, как вешается трубка? Ничего особенного она не могла ему сказать. Ему нужна была информация, даже она это понимала, но колебалась, что за лакомый кусочек предложить, не знала, что именно удовлетворит любопытство, заинтересует, прельстит. А что, собственно, было нужно ей? Возможно, лишь ощутить его голос, почувствовать вкус его смуглого солоноватого пальца.
Она вернулась в школу и вошла в телефонную будку возле столовой, закрыла старомодную дверь из дерева и стекла, развернула бумажку с его телефоном и набрала номер редакции. Он поднял трубку после второго гудка.
– Алло? Горрик слушает. Алло?
Она проглотила комок.
– Алло? Это Джулия Уоринг.
– Джулия, – в его голосе сразу зазвучало радушие. – Привет.
– Привет.
Один мальчик из класса Джулии прислонился к будке снаружи и прижался лицом к стеклу, так что оно причудливо исказилось, нос и язык превратились в красный бугор, окруженный облачком запотевшего дыхания. Он стукнул в стекло и убежал, громко смеясь. Она нахмурилась и отвернулась.
– Джулия? Ты слушаешь?
– Да.
– Как поживаешь?
– Вы сказали, если у меня будет о чем поговорить, я могу позвонить вам.
– Да, разумеется. Так что?
– Могу я встретиться с вами?
– Конечно. Я могу приехать через пятнадцать минут. Ты в школе?
– Да.
– Хорошо. Подожди меня, ладно, Джулия? Подождешь?
– Да.
– Я сейчас же выхожу. – Он и правда уже стоял с ручкой и блокнотом в руках.
Джулия задержалась в женском туалете на первом этаже и в первый раз при всех аккуратно накрасила пухлые губы украденной помадой. Причесав волосы, она пошла ждать на улице, усевшись на цепь, ограничивавшую школьную территорию. Холодные металлические звенья впивались ей в тело, пока она покачивалась взад-вперед, думая о том, что она может сказать, чтобы не разочаровать его, чтобы удержать его, заставить прийти снова, взять ее с собой. Она наблюдала, как через одиннадцать минут на стоянку въехал белый «вольво» и из него вылез Питер Горрик. На нем была куртка, какой она раньше не видела, из бежевой ткани с темно-коричневым кожаным воротником. Ее сердце учащенно забилось, когда она встала и пошла ему навстречу, не зная, куда девать глаза, стесняясь его взгляда; он открыто наблюдал, как она проходит разделяющее их расстояние. Когда они встретились, он улыбался.
– Как дела?
– Нормально, – неуверенно ответила она.
– Ты голодная? Хочешь, пойдем съедим по гамбургеру?
– А можно просто покататься?
– Конечно.
Они пошли к его машине, и на этот раз она позволила ему открыть перед ней дверцу. Она скользнула внутрь, в этот его особый мир; пряный запах, присущий только ему, пустая банка из-под кока-колы на полу, груда книг на заднем сиденье, стянутая шерстяным шарфом в черно-белую клетку, – все это было проникнуто каким-то символическим смыслом, который потом, ночью, у себя в комнате она будет бесконечно пытаться расшифровать. Какие книги он читает? Покупал ли он шарф сам или ему подарили? А если подарили, то кто? Он сел рядом и поехал от школы. Снова сухое тепло окутало их, снаружи, за поднятыми окнами все расплывалось и уносилось прочь.
– Что ты хотела мне рассказать? – спросил Питер.
Джулия минуту помолчала.
– Если я вам расскажу, вы напишете об этом в газете?
– А ты хочешь, чтобы я написал?
– Нет.
– Ладно, значит, не буду. Назовем это «задним планом». Это когда кто-то сообщает нам информацию, которой мы не можем воспользоваться прямо, не можем на нее сослаться. Но она поможет расследованию.
– Расследованию? – переспросила Джулия.
Питер откинулся на спинку сиденья.
– Я не буду писать о том, что ты мне расскажешь. Обещаю. – Он свернул на Харкурт авеню и обошел две машины.
– Это насчет Эйли.
– Что же с Эйли?
– Она врет.
Питер глянул на Джулию.
– Что ты хочешь этим сказать – врет?
– Она врет, что была на кухне. Она вышла оттуда как раз перед тем, как все произошло. Она все видела. Видела, как он целился из ружья ей в голову.
Питер сбросил скорость и съехал на обочину. Он выключил зажигание и посмотрел Джулии в лицо.
– Почему же она врет?
Джулия ухватила выбившийся из-под куртки подол своей длинной белой блузки и дергала провисшую нитку, пока она не вытянулась.
– Она не хочет, чтобы он сел в тюрьму. Хочет, чтобы мы снова жили с ним.
– Ты в этом уверена? Ты совершенно уверена, что она лжет?
– Да.
– Откуда ты знаешь? Она тебе говорила?
– Я ее видела. Видела, как она вышла из кухни как раз перед тем, как это произошло.
– Понятно. – Питер отвел глаза, обдумывая услышанное. – Как ты считаешь, она изменит показания? Подтвердит то, о чем ты говорила?
– Не знаю.
Он кивнул.
– Почему ты говоришь мне об этом сейчас?
– Вы сказали, если мне захочется поговорить с вами…
– Конечно. – Он ободряюще улыбнулся ей. – Ты сделала правильно. – Он включил зажигание и выехал на шоссе. Несколько минут они ехали в молчании.
– Вы ездите в Нью-Йорк? – спросила Джулия, когда они развернулись и поехали обратно в сторону школы.
– Иногда.
– Возьмете меня с собой в следующий раз?
Он удивленно взглянул на нее.
– Тебе это нужно, Джулия?
– Да.
Он улыбнулся.
– Посмотрим.
Они въехали на стоянку.
– Она сейчас здесь? – спросил Питер.
– Кто?
– Эйли.
– Нет.
– А где она?
– Она сегодня у подруги.
– Я бы хотел поговорить с ней, – сказал он прямо.
– Нет, – коротко ответила Джулия. – То есть, я хочу сказать, она еще не готова. Я поговорю с ней.
– Ты мне позвонишь?
Она кивнула.
Питер улыбнулся ей, потом протянул руку и осторожно стер с переднего зуба Джулии легкий мазок губной помады.
Джулия смотрела из-за спины Эйли, как та переставляет игрушки на полке над своей кроватью, с глубокой сосредоточенностью передвигает их, медведя сюда, льва – сюда, вот сюда. Больше года назад Эйли, стремясь, в подражание Джулии, избавиться от детства, забросила свои игрушки, запачканные, с вытершимся мехом, тусклыми стеклянными глазками, но недавно заставила Сэнди снова извлечь их на свет, и Джулия теперь часто заставала ее за секретными беседами, которые она шепотом вела то с одной, то с другой игрушкой, и замолкала, как только ей казалось, что их могут подслушать.
Эйли вертела хвост коричневой обезьянки, дергала и укладывала его, пока он не лег аккуратным завитком, как ей нравилось больше всего. Она знала, что Джулия наблюдает за ней, ждет, чтобы начать вечерний урок. Но Эйли не оборачивалась, не хотела давать Джулии возможность вклиниться к себе в душу. Она больше не хотела слушать ничего, что должна была говорить Джулия; она больше не понимала, кому верить, ей было все равно, кто говорит правду.
– Эйли?
– Я занята, – она снова взялась за льва, его мягкая коричневая бархатистая морда была заляпана старыми пятнами молока.
– Эйли, – строго позвала Джулия.
– Нет.
Джулия как можно громче прошлепала босыми ногами к столу и с грохотом швырнула на него учебник английского, бесцельно листая страницы.
Эйли погладила морду льва, потерлась щекой о ее гладкую пушистую поверхность.
– Сладкий мой, – прошептала она.
Сэнди стояла перед дверью в их комнату, глядя сквозь щелку, наблюдая, прислушиваясь. За последние несколько дней они стали для нее чем-то вроде персонажей театра теней, существующих только как отражения, то четкие, то расплывчатые, они проецировались на пустой экран ее сознания. Она больше не могла осязать их (воспринимать, понимать, чувствовать?). В бессонные, мучительные ночи, рассеянные дни она занималась тем, что двигала их так и эдак, перемешивала и снова разделяла. «Я не шучу», – сказал Тед. Но в конце они всегда ускользали у нее из-под контроля, начинали вдруг двигаться самостоятельно. Она сейчас слышала его слова, слышала их всегда. «Мне плевать, как ты этого добьешься, сделай и все».
Фиск за прошедшую неделю звонил ей дважды, просил привести к нему Эйли, чтобы он мог предварительно побеседовать с ней, прежде чем вызывать ее на свидетельское место. Сэнди пока удавалось отделываться от него, но она знала, что он позвонит снова.
Она видела, как Джулия сердито отошла к столу, Эйли вернулась к своим игрушкам, и тогда заглянула в комнату.
– Эйли?
Эйли подняла голову, сжимая в руке обезьяний хвост.
– Да?
– Могу я поговорить с тобой минутку?
Джулия, притворяясь, что ничего не замечает, что-то яростно строчила в своем блокноте, а Эйли вышла в коридор и вслед за Сэнди отошла на несколько шагов от двери.
Она выжидающе смотрела на Сэнди. Лицо Эйли не утратило своей мягкой округлости, и глядя на нее сверху вниз, Сэнди подумала, что если бы было достаточно светло, на этом лице наверняка можно было бы разглядеть отпечатки пальцев всех, кто когда-либо прикасался к нему. Она присела перед ней на корточки, их головы оказались друг против друга.
– Детка.
– Да.
Сэнди отвела глаза, подняла с ковра ниточку.
– В тот вечер, когда твоя мама…
Она заметила, как Эйли сжалась, напряглась. Она съежилась, ожидая, когда придут слова, любые слова, но они застряли у нее в горле. Она покачала головой и вздохнула.
– Ничего.
Эйли еще минуту смотрела на нее.
– Можно мне теперь вернуться к себе?
Сэнди кивнула и смотрела ей вслед. Когда она выпрямлялась, у нее в коленях что-то хрустнуло.
Она пошла в ванную. Собственное лицо, отразившееся в зеркале, показалось ей чужим. Она внимательно разглядывала легкие, но безошибочно угадывавшиеся морщинки, веером разбегавшиеся от уголков глаз, и гадала, прорезались ли они лишь сейчас или проявлялись постепенно, незаметно для нее. Она натянула кожу, потом отпустила. Она слышала, как в спальне звонил телефон, но не сделала к нему ни шагу. Она знала, что это Тед, что это он звонил ей днем в редакцию и не назвал регистратору свое имя, Тед, который хотел знать, что она решила, что сделала, Тед, требовавший обратно своих дочерей. Она придвинулась к зеркалу и поправила отделившийся волосок на бровях. У Эстеллы были брови идеальной формы; одна из тех вещей, которыми она гордилась, естественно очерченные дуги над ясными глазами. «И вы, девочки, унаследовали их», – с улыбкой говорила она. Эстелла придавала значение частям тела. И еще они обе получили ее толстые лодыжки, вздыхала она, словно извиняясь. Телефон замолчал.
Сэнди ополоснула лицо холодной водой и заставила себя спуститься вниз, чтобы приготовить ужин.
Она сидела в гостиной – Джулия и Эйли уже давно ушли из-за стола, от переваренных спагетти и жалких потуг развеселить их, – сидела, уставившись на пять стопок карточек, помеченных разным цветом, кучу записей, разложенных перед ней на журнальном столике. Когда Джон просил разрешения зайти ненадолго, она ссылалась на то, что завалена работой, и в самом деле, она опаздывала со статьей о последних попытках заблокировать строительство завода по переработке отходов в двух милях от города. Она вяло просматривала свои заметки по поводу различных видов отходов: ядовитых, низкорадиоактивных, разлагаемых микроорганизмами. Когда-то все это увлекало ее – отбросы жизнедеятельности и естественное побуждение спихнуть их кому-то другому, куда-нибудь в другое место, но теперь она не могла точно вспомнить, почему это так интересовало ее.
Время близилось к полуночи. Она перемешала карточки, словно колоду карт, и разложила их геометрическими узорами. Телефонный звонок раздался так неожиданно, что она, вздрогнув, смахнула их на пол. Она быстро дотянулась до телефона и отключила его. Нагнулась, сгребла карты, снова разложила в виде звезды и внимательно смотрела на них, словно ожидая, пока они перестроятся сами, но они только крутились, как карусель. Теперь в зыбкие мгновения на грани сна ей часто представлялось лицо Джона, когда он едет на работу, его лицо, когда он узнает правду, его лицо, когда он удаляется от нее, недоступный, подавленный, замкнутый – навсегда. И девочки, их лица тоже – еще хуже. «Я не шучу», – сказал он.
Она все-таки не знала, как это сделать, даже если бы у нее было желание, не знала, как подступиться к тому, чем ей бы заниматься не следовало.
Она разглядывала карты, пока не заснула на диване, и когда на рассвете очнулась, на ее лице отпечатались глубокие красные извилистые линии от блокнота со спиралью, на который опустилась ее голова.
С высоты свидетельского места Карл Фримен взглянул на Теда и доверительно улыбнулся ему, прежде чем снова повернуться к Фиску. Его тщательно подготовили к роли характерного свидетеля, и временами казалось, что он отвечает на вопросы еще до того, как они полностью сформулированы. Беспокоясь о том, как это могло быть воспринято присяжными, Фиск мягко пытался умерить его прыть, но пока ему удавалось только растягивать свои вопросы.
– Мистер Фримен, если не возражаете, позвольте задать вам еще пару вопросов о финансовых делах вашей фирмы. Вы с мистером Уорингом имели одинаковый доступ к денежному фонду?
– Разумеется.
– За те годы, что вы вели совместное дело, возникали когда-нибудь малейшие подозрения на какие-то махинации мистера Уоринга с бухгалтерскими документами?
– Никаких.
– Вы доверяли ему активы фирмы?
– Я бы доверил Теду Уорингу свой последний грош. Он порядочнейший человек.
– А как клиенты относились к мистеру Уорингу?
– Больше всего им нравилось работать с ним. Они знали, что если он руководит строительством, то все будет сделано в срок и по смете. Они знали, что если надо, он для этого будет вкалывать по восемнадцать часов в сутки.
Доносившиеся из задних рядов звуки – треск фисташек и чавканье – создавали устойчивый фон допросу свидетеля. Судья Карразерс, все утро старавшаяся не замечать этого, наконец взглянула на двух седовласых мужчин, которые и раньше множество раз, появляясь в зале суда, шептались, препирались друг с другом, высказывали догадки о том, какое решение она примет, хриплыми, но отчетливыми голосами. Она обратилась к ним с предупреждением».
– Здесь зал суда, а не бейсбольная площадка, – произнесла она. – Позвольте вам напомнить, что на чаше весов лежат людские судьбы. Больше никакого чавканья и разговоров в этом зале. – Она обернулась к Фиску. – Можете продолжать.
– Пойдем дальше, мистер Фримен. Как я понимаю, вам много раз приходилось видеть Теда Уоринга вместе с его семьей.
– Да.
– Как бы вы охарактеризовали его отношения с дочерьми?
– Он был предан им. Я никогда не встречал более счастливого отца.
– Он выглядел любящим отцом?
– Да.
– Вы когда-нибудь замечали, чтобы он бил хоть одну из дочерей?
– Нет. Ничего подобного. Между прочим, однажды он отчитал меня за то, что я отшлепал сына. Не поймите меня превратно, я не колотил его, просто он отвратительно себя вел, ну я и дал ему пару раз по заднице. Знаю, что в наши дни это вышло из моды, но на мой взгляд, иногда только это и помогает. Во всяком случае, вы бы слышали, как Тед мне внушал, как нехорошо бить детей. За все время, что я знаком с ним, кажется, именно тогда я его больше всего огорчил.
– Вы наблюдали какие-нибудь проявления насилия между Энн и Тедом Уорингом?
– Никогда.
– Мистер Фримен, создавалось ли у вас впечатление, что Тед Уоринг все еще любит жену?
Фримен посмотрел на Теда, тот едва заметно кивнул.
– Я уверен, что так оно и было.
Тед опустил глаза на неровно заглаженную складку на брюках, которую он разглядывал все утро, и прикусил нижнюю губу.
– Почему вы так уверены?
– Когда же это было, может, во вторник или в среду перед… перед… – он понизил голос, – ну, понимаете. В то утро, когда он пришел в офис, у него блестели глаза. Мы с Элис, Элис – это моя жена, так вот, мы с Элис видели их накануне вечером на школьном спектакле. Наш Бобби участвовал в нем вместе с их Эйли. Любой бы заметил, что они все еще любят друг друга. Кстати, по-моему, они ушли вместе. Ну, и когда на следующее утро он появляется, насвистывая, как мальчишка, нетрудно догадаться, что произошло. Он не вдавался в подробности, но ясно дал понять, что они собираются снова жить вместе.
– И Тед Уоринг был доволен такой перспективой?
– Да, сэр. Доволен, еще как. Как я сказал, он любил жену. Это и слепой бы заметил.
– А как по-вашему, Энн Уоринг тоже радовала такая перспектива?
– Возражаю. Этот свидетель не имеет никаких оснований показывать, о чем в это время думала Энн Уоринг.
– Протест удовлетворен.
– Позвольте мне поставить вопрос иначе, – сказал Фиск. – В тот вечер, за пять дней до того, как Энн Уоринг умерла, когда вы видели их с мужем вместе, что вы заметили в ее манере поведения?
– Ну, Энн всегда держалась скромно, особенно рядом с Тедом. Но было заметно, что она счастлива. Любой мог это заметить хотя бы по тому, как она смотрела на него. Кстати, мы вышли вслед за ними и видели, как она поцеловала Теда перед тем, как он сел в машину.
– Благодарю вас, мистер Фримен. У меня больше нет вопросов.
Риэрдон приблизился к свидетелю.
– Мистер Фримен, правда ли, что вы старались свести к минимуму переговоры Теда Уоринга с клиентами, потому что он с таким трудом шел даже на незначительные комромиссы, что это ставило под угрозу ваш бизнес?
– Я же сказал, клиенты любили его.
– Как строителя – да. Но как участника переговоров? Разве не правда, что мистер Уоринг несколько, скажем так, непреклонен? Что он выходит из себя, когда не имеет возможности делать все по-своему?
– Мне нравиться торговаться, ему – строить. Ну и что?
– Когда Тед Уоринг ушел от жены, он ночевал в офисе?
– Некоторое время – да.
– Можете ли вы утверждать, что он в то время сохранял душевное равновесие?
– Свою работу он делал.
– Разве один из клиентов не попросил заменить мистера Уоринга на посту руководителя строительства, поскольку счел его слишком нервным и вспыльчивым?
– Такие клиенты попадаются всегда. Стоило Теду один раз не побриться, как этот тип уже встал в позу. Вот и результат.
– Освежите мою память. Это ведь мистер Уоринг бросил миссис Уоринг и детей?
– Не знаю, уместно ли слово «бросил». Они переживали тяжелый период.
– Тяжелый период, да, определенно это можно охарактеризовать подобным образом. За этот период, насколько вам известно, предпринимал ли он какие-нибудь попытки помириться с женой?
– Не знаю.
– Вы сказали, что у вас создалось впечатление, будто он все еще любит жену. Он когда-нибудь говорил вам об этом?
– Не в таких выражениях.
– Хоть в каких-нибудь, мистер Фримен?
– Мужчины не говорят друг с другом о таких вещах, – ответил он.
– Он пытался как-то наладить отношения со своими дочерьми?
– Он виделся с ними каждые выходные.
– Когда спал с другими женщинами, вроде Люси Абрамс?
Тед крякнул с отвращением, этот звук на секунду отвлек внимание Фримена.
– Мне ничего об этом не известно, – с облегчением заявил он.
– Вы не знаете о личной жизни Теда Уоринга? Я думал, что как раз об этом вы и давали показания.
Фримен побагровел от смущения и гнева. Он разок потянул массивную серебряную пряжку на своем ковбойском ремне.
– Вы знаете, что я имею в виду.
– Я в этом совершенно не уверен, – ответил Риэрдон. – Больше вопросов не имею.
Вечером в пятницу Тед сидел у себя на кухне за столом со стопкой миллиметровки, новым рапидографом, циркулем и линейкой. Он отодвинул чертежи, сделанные прошлым вечером, и принялся за новые.
Теперь он все больше думал о домах. Во время нескончаемых судебных заседаний в натопленном сверх меры зале суда, когда вся его жизнь, казалось, сводилась к вопросам процедуры, протокола, по утрам, когда, проснувшись в пять часов, он больше не мог заснуть, он ловил себя на том, что руками вычерчивает у себя на бедре линии, углы, прямоугольники, квадраты.
Было время, до того, как они переехали в дом на Сикамор-стрит, когда Энн и Тед мечтали, как мечтают молодожены, о постройке собственного дома, – придумывая комнаты, и лестницы, и коридоры, которые устроят их. В конце концов их остановила не просто нехватка времени или денег или даже уверенности, а гораздо более сложные причины. Вскоре выяснилось, хотя это никогда не произносилось вслух, что насколько Теда захватывало стремление к новым планам, новым стенам, настолько же Энн тянуло к старым домам, облезлой краске и верандам, к прошлому, если даже оно не было ее собственным. То, что пробуждало в ней фантазию, – как ты думаешь, кто здесь жил до нас? были ли они счастливы? любили ли друг друга? умерли здесь? – у него вызывало спазм отвращения. Он тосковал по дому, который создал бы сам и только сам, о доме, не оскверненном следами чужих жизней.
Он стер южную стену, перенес ее на полдюйма ниже.
Раньше он никогда не испытывал тяги к земле, к собственности или к перспективе ее приобретения, а теперь он замечал, что представляет себе холмы за городом, узкие дороги, по которым так опасно передвигаться зимой и в непогоду, соседей, живущих так далеко, что их домов не видно, границы участков, изгороди и расстояние.
Он снова взялся за первый чертеж – общий вид фасада. Простые, строгие линии. Никаких арочных окон или замысловатых украшений и лепнины.
Он многому научился, изучая архитектурные проекты, в осуществлении которых на практике заключалась его работа – никто не подходит к ним критичнее строителей, – и проникся презрением к выкрутасам, чаще всего не производившим впечатления ни на кого, кроме самого архитектора.
Он также начал испытывать приступ восторга, наблюдая в самый первый день строительства, как бульдозер вгрызался в землю, и неизбежную легкую грусть и обиду, что это не его участок, не его дом, начало не его стройки.
Он сменил лист и начал чертить первый этаж – открытое место, выход на юго-восток, место для лестницы в самом центре помещения. Наверху он разместит две спальни по обе стороны от собственной, комнаты, которые подойдут девочкам, и когда те вырастут, удержат их, светлые и просторные, с большими стенными шкафами и огромными окнами, и все они будут, как собака на трех ногах, заново учиться ходить.
Уже позже часа ночи он откупорил банку пива и отложил чертежи. Он встал, потянулся, вынул другой блокнот и шариковую ручку и принялся составлять список предполагаемых расходов, аккуратно распределяя их по колонкам: стройматериалы, оконные блоки, двери, прокладка труб, электропроводка, цемент для фундамента, затраты на рабочую силу. Под конец он отнял ту сумму, которую мог реально надеяться выручить за дом на Сикамор-стрит.
Превыше всего Тед гордился своей практичностью.
На следующее утро, когда в шесть часов зазвонил телефон, он спал на диване, не раздевшись. Он слетел на пол, прежде чем сумел нащупать трубку.
– Папа?
У него запершило в пересохшем горле.
– Папа? Ты где?
Эйли, которая имела некоторое представление о происходящем судебном процессе, но не разбиралась в тонкостях, была уверена, что Теда могут забрать в любую минуту, что, однажды проснувшись, она обнаружит, что и он тоже бесследно исчез. Тюрьма постоянно рисовалась ей в мыслях неопределенным, но громадным сооружением, готовым поглотить его целиком, без предупреждения. Она запомнила номер его телефона, как только он сообщил его ей – даже тогда ее тяга к перестраховке была огромной, – и каждый раз испытывала изумление и облегчение, когда он отвечал: «Я здесь».
– Я здесь, милая. – Он сел возде дивана и откинул волосы со лба. Он тоже испытывал облегчение, когда слышал ее голос, отвечал на эти звонки даже в такое необычное время, как он себе представлял, единственное время, когда она могла незаметно пробраться к телефону, не вызывая подозрений.
Их разговоры, торопливые, тайные, носили успокаивающий характер повтора. Она каждый раз расспрашивала его, во что он одет, что он ел на завтрак, в каком именно месте комнаты он стоит, что он будет делать днем, когда и с кем. А он спрашивал ее, выполняет ли она домашние задания и нравятся ли ей учителя. Они не заговаривали о тюрьме, о суде, о Джулии или об Энн.
– Вот что я тебе скажу, – зашептал Тед, хотя подслушивать было некому, – сделай вот что…
Эйли внимательно слушала и кивала пустому коридору.
В то же утро, позднее, Сэнди сидела на диване, разложив на коленях две газеты. Хотя было уже около полудня, она еще не причесывалась и не умывалась. Эйли стояла перед ней, и, глядя на ее осунувшееся лицо, думала, не заболела ли она – у нее под опухшими глазами лежали темные круги.
– Ничего, если я пойду поиграть к своей подруге, Джеки Джерард?
Сэнди подняла рассеянный взгляд.
– Где она живет?
– В трех кварталах отсюда.
– Ладно. Если подождешь минутку, я тебя провожу.
– Зачем, не надо. Я могу дойти сама.
– К трем часам вернешься?
Эйли кивнула. Она вышла в прихожую, сняла с вешалки свою куртку и тихо покинула дом, прежде чем это заметила Джулия, все еще строчившая что-то наверху в своем новом дневнике, прикрывая его согнутой рукой. Она прошла три квартала и на углу свернула налево.
Тед ждал ее возле светофора, сгорбившись за рулем. Увидев ее лицо, озабоченное и прелестное, исполнившееся облегчения, он быстро открыл дверцу машины. Она скользнула внутрь рядом с ним. Он нагнулся и поцеловал ее в висок, мягко пульсировавший, источая тревожащий клубничный аромат.
– Куда поедем, моя дорогая? В оперу? Или сегодня ты предпочитаешь сходить на балет?
– Папа…
– Па-а-а-апа, – передразнил он, и она засмеялась.
На самом деле выбор у них был невелик: его квартира, рестораны и детские площадки находились слишком на виду, были слишком опасны. С недавних пор Хардисон словно сжимался вокруг него, все сильнее и сильнее тесня его, преследуя своими глазами, языками и предубеждениями. Ему только не хватало попасться на нарушении запрета на свидание с детьми. Хотя Эйли и не знала о требованиях закона, она тоже понимала, что их встреча почему-то запретная, тайная. «Особая, – сказал он ей, – только для нас».
Они выехали за город и направились к окрестным горам. То и дело им попадались автомобили с пристроенными на крыше лыжами, переполненные смеющимися отдыхающими, которым требовался только снег. Проезжая мимо, Тед проклинал их.
Он повернулся к Эйли.
– Загляни под сиденье.
Она нагнулась, с трудом просунула руку под пружины и вытащила плоский сверток в блестящей бумаге в красно-белую полоску.
– Что это?
– Открой и посмотри.
Она осторожно развернула бумагу и нашла три бархатных ленточки – черную, темно-синюю и белую.
– Я подумал, они замечательно подойдут к твоим волосам.
Она прижала их к лицу, мягкие и яркие.
– Спасибо.
– Да на здоровье, моя дорогая. – Эта высокопарная пародия на ухаживание была новой, как будто он понимал, что на самом деле пытается добиться расположения дочери, завоевать ее, но при этом не может обойтись без самоиронии.
Эйли аккуратно разложила ленты на коленях и всю дорогу нежно поглаживала их.
– Ну, как идут дела в «Коррале О. К.»?
– Все в порядке.
– О'кей в «Коррале О. К.»?
Эйли фыркнула.
– Тебя кормят? Поят и выгуливают?
– Пап…
– Я серьезно. Как поживаешь, моя хорошая?
Она не ответила. Он глянул на нее, не останавливая машину. Ему была видна лишь ее голова, склоненная над лентами, она смотрела в окно.
– А Джулия? Как Джулия?
– Нормально.
– Вы с ней разговариваете?
– Конечно, разговариваем.
– Я имею в виду о том, что случилось.
– Нет, – осторожно ответила Эйли.
Тед кивнул.
– Знаешь, если тебе хочется о чем-то спросить, я тебе с удовольствием отвечу. Ты хочешь о чем-нибудь спросить меня?
Она чуть придвинулась к нему.
– Мы когда-нибудь будем снова жить с тобой?
– Надеюсь, дорогая. Но это зависит не от меня.
– А от кого это зависит?
– От суда. Если поверят, что это был несчастный случай, то мы сможем снова быть все вместе. Понимаешь?
Эйли кивнула.
Тед замедлил ход, когда они подъехали к подножию пологого холма. Он мог разглядеть пониже его вершины островерхую крышу укрытого в сосняке дома и дым, исходящий из трубы.
– Тебе хотелось бы жить здесь, наверху? – спросил он.
– Ты хочешь сказать, в этом доме?
– Нет, не в этом. В новом доме. В доме, построенном специально для нас. Разве это было бы плохо?
– А почему мы не можем просто вернуться домой?
– Так будет лучше, вот увидишь. Это будет наш новый дом.
– Когда?
– Как только все это кончится, дорогая.
Когда они отъехали, Эйли прижалась лицом к стеклу.
– Мне нужно возвращаться, – тихо произнесла она. – Я обещала Сэнди.
– Хорошо, дорогая. Только давай сначала сделаем остановку и купим мороженое.
Он развернулся на первой же удобной развилке, направился обратно к Хардисону и остановился возле приземистного невзрачного строения в нескольких милях от города. Они были единственными посетителями в этом захудалом магазинчике. Он купил для обоих мороженое в вафельных стаканчиках, плитку шоколада ей, кофе себе, и они съели все это в душной кабине автомобиля, слишком занятые лакомствами, чтобы разговаривать. Прежде чем ехать, он поплевал на платок и стер с подбородка дочери коричневые пятнышки, точно так же – он видел это тысячу раз, – как это делала Энн.
Только через какое-то время, уже в своей квартире, он наконец определил, что напоминает этот аромат клубники, исходивший от кожи Эйли. Точно так же пахла Сэнди.
Фиск, обычно работавший в Олбани в просторном угловом офисе, откуда открывался прекрасный вид на Капитолий, на время судебного процесса снял помещение на Мейн-стрит, над ювелирным магазином Фаррара. Хотя он провел здесь всего лишь два месяца, ему удалось обставить две небольшие комнатки в духе Старого Света – кругом красное дерево, персидские ковры, книги в кожаных переплетах. Он остановился на этом стиле после недолгого флирта с минимализмом и итальянской мебелью устрашающих конструкций. Тед, оглядывая кабинет из недр бургундского кожаного кресла, размещавшегося напротив громадного стола Фиска, испытывал все большую неловкость, как всегда, оказываясь здесь, в этом убедительном мире призрачной устойчивости и постоянства, созданном с такой легкостью. Фиск, не слишком церемонясь, давал понять, что считает Хардисон несовместимым если уж не лично с собой, то, во всяком случае, со своими тонко развитыми вкусами. Где, в конце концов, ему полагается питаться?
– Попробуйте в следующее воскресенье сходить к лютеранам, – предложил Тед. – Там угощают лучше, чем в епископальной церкви.
Фиск смотрел на него безо всякого выражения. Он до сих пор с трудом разбирался, когда Тед говорил в шутку, а когда – нет. Он всегда гордился собственным умением видеть своих клиентов насквозь, как и тщательностью в отборе присяжных – он читал по их лицам, по тому, как скрещены ноги, по изгибу губ, отыскивая признаки скрытой злонамеренности. Вопрос о виновности или невиновности клиента обычно интересовал его постольку, поскольку имел отношение к тактике защиты, но тот факт, что он не мог с обычной уверенностью раскусить Теда, раздражал его. Словно любовник, наказывающий партнера за те чувства, которые больше не испытывает сам, он замечал, что это недовольство Тедом возникает при самых незначащих замечаниях, и его попытки скрыть это – от самого себя, от Теда, от присяжных – отнимали силы, которые можно было бы с гораздо большей пользой потратить на что-то другое. Он еще раз привел в порядок свои записи и оторвался от светящегося экрана компьютера.
– Вам придется снова пройти через это вместе со мной, Тед.
– Это несложно. Я всего лишь хочу, чтобы Эйли вызвали последней.
– Почему вы не оставите процедурные вопросы на мое усмотрение?
– В последний раз, когда я выписывал чек, это моя жизнь была под угрозой, – парировал Тед.
– Если вы хотите, чтобы я правильно строил защиту, вам придется позволить мне самому делать свое дело.
– Отлично. Но здесь вам придется положиться на меня. Вызовите Эйли последней.
– Могут возникнуть трудности независимо от того, когда мы вызовем ее, – осторожно высказался Фиск.
– Что за трудности?
– На днях я звонил вашей свояченице договориться, когда она приведет ко мне Эйли. – Тед заерзал в кресле. – И она сказала, – продолжал Фиск, – что Эйли отказалась прийти сюда.
Тед ничего не ответил.
– У меня нет никакого права, как вы понимаете, принуждать девочку говорить со мной. Но, каковы бы ни были ваши желания, я не имею привычки выставлять свидетелей перед присяжными, пока не узнаю, что вылетит у них изо рта. Улавливаете мысль?
– Предоставьте мне беспокоиться об этом.
– Как раз за это беспокойство вы мне и платите.
– Я знаю свою дочь лучше всех. Я знаю, что она все сделает правильно, но ей нужно больше времени.
– На что?
– Неважно, – сказал Тед. – Вызовите меня следующим, если нужно, мне все равно, – он резко поднялся. – Только подождите с Эйли.
Фиск поджал губы.
– Прекрасно, – коротко бросил он.
Как только Тед вышел, Фиск водрузил ноги на стол и уставился в свое окно со второго этажа. Жизнь-то под угрозой, положим, Уоринга, но карьера-то его, Фиска. Единственная причина, по которой он с самого начала связался с этим делом, заключалась в известности, которую оно бы непременно принесло. Проиграть дело из-за опрометчивых желаний клиента не входило в его планы. К несчастью, он не был уверен, что у него имелся выбор, когда вызывать девочку в суд. Все равно это был его главный шанс. Сокрушенно постукивая носком начищенного ботинка по оконному стеклу, он увидел, как из здания вышел Тед и в одиночестве пошел по широкой, обрамленной деревьями улице, большими нетерпеливыми шагами, склонив голову, завернул за угол и пропал из виду.
Фиск снял ноги со стола и вернулся к своим материалам. Потрепанный пикап загромыхал по Мейн-стрит и с жалобным скрипом затормозил у светофора.
Теперь часто во время работы, когда спина затекала от сидения за клавиатурой, слова и строчки расплывались у нее перед глазами, теряли смысл. Что еще хуже, она часто ловила себя на том, что неправильно прочитывала слова – «тень» вместо «день», «пробный» вместо «способный» – и потому неверно понимала смысл материала, и ей приходилось перечитывать его много раз, встряхивая головой, чтобы развеять туман. Она хладнокровно думала, не так ли начинают «терять рассудок».
Эстелла однажды призналась ей, что иногда это похоже на прилив жаркой волны, что все перед ее глазами колеблется и мерцает. Рассказывая об этом Сэнди, она улыбалась, словно делилась тайным сокровищем.
Сэнди прикусила губу и снова принялась читать с начала параграфа. «Городской совет Хардисона дал окончательную рекомендацию по кандидатуре нового начальника полиции вместо…»
Стол Горрика пустовал весь день, хотя суд сегодня не заседал.
«…Стэнли Хэнсона, чья отставка вступает в силу со вторника. Ожидается, что мэр Куинн объявит о назначении Дэйва Кайли завтра в полдень».
Она подняла голову и увидела, что Рэй Стинсон наблюдает за ней сквозь открытую дверь. Поймав ее взгляд, он поманил ее к себе.
– Как себя чувствуешь? – спросил он, когда она устроилась в кресле перед его столом.
– Прекрасно. А в чем дело? У тебя есть какие-то причины считать, что я неважно себя чувствую?
– У меня есть причины считать, что любой в твоем положении мог бы чувствовать себя более чем неважно.
– В моем положении?
– Я позвал тебя не для того, чтобы обмениваться колкостями, Сэнди.
– Зачем же ты меня позвал?
– Потому что волнуюсь за тебя.
– Не стоит.
Рэй улыбнулся.
– Тебя это беспокоит, да? Что кто-то может волноваться о тебе?
– Меня это ничуть не беспокоит. Просто для этого нет никаких причин.
– Ладно. Моя ошибка. В таком случае, как продвигается материал по поводу переработки отходов? Я считал, что получу его еще неделю назад.
– Скоро получишь. Дело оказалось более запутанным, чем я сперва предполагала.
Стинсон кивнул и откинулся назад.
– Так. Как вы ладите с Горриком?
– Что это должно означать?
– Только то, что я сказал. Как вы ладите между собой?
– У нас нет никаких причин ладить или не ладить. Мы, как параллельные линии, не пересекаемся, понятно?
Он снова улыбнулся.
– Никогда ведь не уступишь ни на йоту. Ну что ж, я считаю, это может прийтись кстати. Слушай, – сказал он, посерьезнев, – я просто хочу, чтобы ты знала, что я понимаю, как все это тяжело, репортажи о суде в газете, твоя семья. Я не извиняюсь, но знаю, что ситуация далеко не идеальна.
– Не думаю, что это идеальная ситуация для будущего газеты, – сердито буркнула Сэнди.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ты задумывался, какое направление принимает «Кроникл» с этим материалом?
– С этим материалом?
– Личностный характер информации, сенсационность. Мы раньше не были газетой такого типа.
Рэй ответил не сразу.
– Между прочим, я задумывался об этом. И считаю, что мы балансируем на грани, но в данный момент нам здорово удается сохранять равновесие. Сэнди, мы обязаны давать отчеты об этом процессе. Это же событие.
– Вы делаете из этого событие.
– Нет, я так не считаю. По-моему, нам удалось, насколько возможно, придерживаться фактов и не терять объективности. Я отверг несколько линий более персонального характера, в которые мы могли бы углубиться.
– Какие именно?
– Неважно.
– Горрик, – выпалила Сэнди. – Могу представить, что бы ему хотелось напечатать.
Рэй наклонился вперед. Ему действительно пришлось временами осаживать Горрика, но его честолюбие оборачивалось на пользу газете, его материалы отличались живостью и остротой наблюдений, и с тех пор, как газета начала освещать процесс, спрос на нее в киосках значительно вырос.
– Как я сказал, если бы ты почувствовала себя здесь неловко, я бы отнесся к этому с пониманием.
– Ты предлагаешь мне снова взять отпуск?
– Только если ты захочешь.
– Я не хочу. Вот так, – в первый раз за все время, что он знал ее, в ее голосе проскользнуло что-то похожее на страх. – Вот так, Рэй, – повторила она.
– Ну тогда ладно.
Она глубоко вздохнула и откинулась в кресле.
– Что это? Ты с недавних пор занялся чтением учебников о мужской чувствительности?
Он рассмеялся.
– Сделай мне одно одолжение, – сказал он, внезапно снова становясь серьезным.
– Если только мне при этом не придется пожимать руки незнакомым людям и делиться с ними своими истинными чувствами.
– Ты доводишь отдел проверки до белого каления. Ты же всегда так аккуратно обращалась с цитатами и датами.
– Я и сейчас так же аккуратна.
– Нет, – сказал он, – не так. Будь повнимательнее.
Она кивнула. Она все еще заливалась краской при малейшем критическом замечании в отношении ее работы, высказывалось ли оно лично или писалось синим карандашом.
– Это все?
– Да.
Она встала и направилась к двери.
– Когда ты будешь руководить газетой, можешь пересмотреть ее направление, как ты изволила любезно выразиться, – сказал ей вслед Рэй.
Она с любопытством посмотрела на него, но он уже вернулся к макету на столе.
В половине пятого Джулия зашла забрать Эйли с факультатива по рисованию, которые бывали два раза в неделю. Они учились делать коллажи, и Эйли несла большой лист картона, украшенный разнообразными кусочками плотной цветной бумаги.
– Что это такое? – спросила Джулия.
Эйли быстро переложила коллаж в другую руку, подальше от Джулии.
– Ничего.
– Я хочу посмотреть.
Эйли неохотно отдала ей лист, и Джулия остановилась, держа его прямо перед собой. Голубой овал, видимо, обозначал озеро. Возле него сидели четыре фигурки – семья. Волосы матери были сделаны из коричневых вьющихся ленточек, свисавших с картона на руки Джулии.
– Это пикник, на который мы ездили. Мама, папа и мы. Помнишь? Летом, на озере? – сказала Эйли.
– Не помню, – ответила Джулия. Она сунула Эйли работу, и они опять направились к дому. Пройдя всего квартал, они услышали за собой чей-то голос.
– Джулия! – воскликнул Питер Горрик, нагнав их. – Привет. Как поживаешь?
– Прекрасно, – она не остановилась, продолжала идти, глядя прямо перед собой, едва заметно склонив пылающее лицо.
Он пристроился к ним и зашагал с ними в ногу.
– Ты не собираешься познакомить меня со своей сестрой?
– Это Эйли, – буркнула Джулия.
Питер улыбнулся и протянул руку.
– Питер Горрик. Я друг твоей сестры. Она мне много про тебя рассказывала.
Эйли с опаской взглянула на него, подала ему руку, теплую и маленькую по сравнению с его рукой, и быстро ее отдернула.
– Разрешите угостить вас газировкой, барышни?
Эйли посмотрела на Джулию, а та быстро ответила:
– Нет. Нам надо домой. Пошли, Эйли. Мы и так уже опаздываем.
– Ну тогда завтра?
– Не знаю. У нас много дел.
Горрик смотрел, как Джулия обняла Эйли и поспешно повела ее прочь, невнятно попрощавшись. Придется ему сделать еще попытку, подобраться сбоку, по диагонали, окольным путем.
– Кто это был? – спросила Эйли, когда они завернули за угол перед домом Сэнди.
– Никто. Разве ты не помнишь, что говорила мама? Нельзя говорить с незнакомыми людьми.
– Но ты с ним говорила.
– Не обращай внимания, Эйли. Ты должна больше слушаться меня.
Она вынула из ранца ключ и отперла входную дверь. Сэнди, представив себе неприятную картину, как они входят в пустой, темный дом, стала оставлять в прихожей свет для них, и Джулия, недавно проходившая на уроках правила экономии электроэнергии, выключила его. Когда она оглянулась, Эйли уже поднималась по лестнице наверх.
В ту ночь, пока Эйли спала, Джулия осторожно вытащила картонку с коллажем из-под кровати, куда ее припрятала Эйли. При слабом свете она прикоснулась кончиками пальцев к лицам четырех фигурок, задержалась на женщине, вертя и вертя ее коричневые вьющиеся ленточные волосы. Она помнила душистый аромат кокосового лосьона для загара, которым мама намазала им в тот день руки и спины; помнила, как плескалась вокруг ног вода, неожиданно холодная в начале лета; помнила, как один раз, зайдя по пояс в озеро, оглянулась назад и увидела, как мать и отец, стоя возле их полосатого одеяла, разложенного на берегу, на минутку отвернувшись от берега, обнялись и поцеловались, их лица издалека слились в одно, прежде чем Джулия, счастливая, нырнула в воду.
Но это было давно.
Когда она еще вообще ни о чем не знала.
Она вытащила одну прядь из ленточных волос матери и положила коллаж обратно.
А потом на цыпочках прошла к своему потайному ящику и засунула блестящий коричневый завиток в бумажный пакет вместе с трусиками Сэнди, запиской матери и номерами телефонов Питера Горрика.
Хотя Джулия горячо настаивала на том, что они уже достаточно взрослые и могут оставаться дома одни – МЫ ВСЕГДА РАНЬШЕ ОСТАВАЛИСЬ, – Сэнди наняла на вечер приходящую няню, пожилую женщину с туго завитыми седыми волосами, в небесно-голубом кардигане, свободно болтавшемся на ее хрупких плечах.
– Так что все это значит? – спросила Сэнди, когда в половине восьмого Джон заехал за ней.
– Я же сказал, просто я подумал, что нам нужна передышка.
Она смотрела на улыбку, полную нежности, от которой по его коже у глаз и рта разбегались морщинки. Эта улыбка была ненужным даром, незаслуженным, и она не хотела поддаваться ей.
– Я заказал столик в «Колоннаде», – сообщил он, когда она села в его машину.
Сэнди простонала:
– Боже, что за избитая фраза. А какого-нибудь дурацкого букетика ты мне не принес?
Он засмеялся.
– Поиздевайся, раз без этого не можешь. Если серьезно, я слыхал, у них появился новый шеф-повар. Еда непременно должна быть очень хороша. Скажи мне правду. Ты там когда-нибудь бывала?
– А как же. Джонатан и Эстелла водили нас ужинать каждую пятницу.
Он смотрел на нее.
– Ну ладно, не водили.
– Так тебе это принципиально не нравится?
– Разумеется. А что, причина недостаточно веская?
– Ты безнадежна, Сэнди.
– Скажем так, я больше настроена сходить в пиццерию.
Сэнди все еще недовольно хмурилась, когда они вошли в хрустально-красный зал ресторана и их проводили к застеленному алой скатертью столику в углу.
– Ты думаешь, Энн и достойный доктор в тот вечер сидели именно здесь? – сухо спросила она.
– О, Господи, извини. – Джон, видимо, был поражен. – Мне следовало подумать об этом.
– Ничего. Все в порядке.
Они заказали спиртное и, сидя в ожидании коктейлей, поглядывали на других посетителей в костюмах и шелках.
– Меня для чего-то умасливают? – спросила Сэнди.
Джон улыбнулся.
– Вообще-то да.
– Что, откармливаешь меня для заклания?
– Я бы не рассматривал это как заклание.
– Тогда что же?
Они прервали разговор, поскольку им принесли напитки и меню. Когда официант ушел, Джон наклонился вперед через стол и взял ее руки в свои.
– Сэнди, есть кое-что… – он замолчал, опустил глаза, потом снова посмотрел ей в глаза. – Я думаю, нам нужно пожениться.
Сэнди откинулась на спинку стула, на ее губах играла слабая улыбка.
– Только не это снова.
– На этот раз я говорю серьезно.
– А раньше шутил?
– Конечно, нет.
– Как я и говорила, ведешь меня на заклание, – заметила она, пригубив мартини, который, похоже, был единственным напитком, который здесь было принято заказывать.
– Я серьезно. Нам необходимо это обсудить.
– Разве мы уже не обсуждали?
– Нет. Мы шутили насчет этого, ходили вокруг да около, но по-настоящему не говорили об этом. – Он перевел дух. – Я люблю тебя. И, по-моему, ты меня любишь. – Он запнулся. – Так?
– Да, – тихо ответила она.
– Ну?
– Я просто не понимаю, почему А плюс Б непременно должны равняться В.
– Что ты имеешь в виду?
– Мы счастливы сейчас, – сказала она. – Господи, терпеть не могу это слово, – пробормотала она себе под нос, – «счастливы». – Повернулась к нему. – Почему мы должны все менять?
– Я не чувствую себя счастливым.
– Нет?
– Нет, – произнес он так просто, что она похолодела.
– Я этого не представляла.
– Мне нужно что-то большее, Сэнди. Я словно нахожусь в подвешенном состоянии.
– Боже мой, Джон, но почему именно сейчас? Я хочу сказать, разве и так не достаточно забот? Как ты можешь рассчитывать, что я даже задумаюсь над этим в такой момент? Это нечестно.
– Мне казалось, то, что мы переживаем все это вместе, заставит тебя понять, как важно, чтобы рядом был кто-то. – На самом деле он боялся, что она извлечет для себя как раз противоположный урок, потому что с недавних пор ему не давало покоя ощущение, будто он теряет ее. – Спутник, – добавил он.
Сэнди не отвечала.
– Сэнди, скажи мне, какие у тебя возражения против брака?
– Против брака как института?
– Так вот в чем дело, – ухватился он за ее слова. – Ты настаиваешь на том, чтобы относиться к нему исключительно как к институту. Разве ты не можешь видеть просто нас, тебя и меня?
– Все не так просто. Это действительно институт, социальный и юридический. По крайней мере, хоть это признай.
– Ничего не хочу признавать.
– Я не хочу принадлежать никому, понятно? – сказала она. – Не хочу, чтобы кто-то указывал мне, как жить, и сама никому не хочу указывать.
– По мне полная независимость, пожалуй, слишком одинокий путь, чтобы следовать им по жизни.
– Разве? – переспросила она.
– Да. Кроме того, я вовсе не рассчитываю, что ты совершенно переменишься, если мы поженимся.
– В самом деле?
– Да.
– Почему для тебя это так важно, Джон?
Он ответил не сразу.
– Может быть, я полная противоположность тебе. Я сейчас испытываю скованность. Ты накладываешь всякие ограничения на то, что мне полагается чувствовать, на то, что я могу или не могу планировать в будущем. Ты заставляешь меня ограничивать самого себя. Я буду чувствовать себя с тобой по-настоящему свободно, только если мы полностью повяжем себя обязательствами. Возможно, тогда мы оба сможем дать себе волю.
– Дадим себе волю и что?
– И посмотрим, что получится. Считай это актом доверия.
Она теребила лежавшую на коленях большую льняную салфетку.
– Я не могу продолжать так до бесконечности, – произнес он.
– Ты предъявляешь мне ультиматум?
– Нет, конечно, нет, – произнес он, потом прибавил: – Не знаю.
– Как насчет Джулии и Эйли?
– А что они?
– Как они вписываются в твои планы?
– Не знаю, – признался он. – Тебе не кажется, что надо решить вопрос о нас, прежде чем вообще думать об этом.
– Не так все просто.
Он глубоко вздохнул и перегнулся через стол.
– Послушай, я понимаю, что ты не подарок. Мы просто примем все как есть, хорошо?
– Даже если это означает оставить девочек при себе?
– Да.
Она смотрела на него пристально и долго, чтобы убедиться, что он обдумал это всерьез, потом попросила:
– Дай мне немного подумать, хорошо?
Он встретился с ней взглядом и долго не отводил глаз, потом неторопливо кивнул.
Она с облегчением перевела дух и, обмякнув, откинулась на спинку кресла. – Теперь мы можем заказывать?
Он вздохнул.
– Конечно. Я слышал, здесь стоит попробовать палтуса.
– Откуда это ты узнал?
– Из твоей газеты, – сказал он, улыбаясь. – Некоторые из нас все еще читают ее.
– Я, пожалуй, закажу утку, – сказала она.
Остаток ужина они говорили о еде и о сделках с недвижимостью у друзей, о кинофильмах, по которым они не сошлись во мнениях, так увлекшись разговорами, словно это было их первое свидание. Сэнди пила больше, чем обычно, и к тому времени, как они залезли в машину Джона, чтобы ехать домой, у нее в голове все перемешалось и затуманилось, и она больше не могла говорить. Она щелкала металлической крышкой пепельницы, оттягивая и отпуская ее, снова и снова.
– Перестань, – попросил он.
Они не произнесли ни слова, пока он не вырулил на подъездную дорожку к ее дому.
– Как ты можешь быть так уверен во мне, – тихо спросила она, когда машина остановилась, – в том, что хочешь быть со мной?
– Просто уверен, вот и все.
– Ты даже не знаешь меня. По-настоящему не знаешь.
– По-моему, знаю. Кроме того, насколько вообще один человек может действительно знать другого?
Она не ответила.
От передних фар на стену дома падали расплывчатые круги света.
Она нагнулась и поцеловала его на прощанье. О том, чтобы ему войти в дом вместе с ней, не было и речи.
Няню Сэнди застала на кухне за бокалом вина, что та и не подумала скрывать.
– Сколько я вам должна? – спросила она.
– Не расплатитесь.
Тем не менее Сэнди заплатила ей почасовую ставку, о которой они договаривались, и проводила. Она медленно поднялась по лестнице и пошла в свою комнату, не заглянув к девочкам, и забралась в постель, не раздеваясь.
Ее туфли со стуком упали на пол, когда она подогнула ноги, свернувшись калачиком.
Она никогда не знала первой любви, никогда не испытывала тех приступов душевного подъема и сердечных мук, что могут возникать только в особом возрасте или на особом уровне неопытности – ведь закон о сроках давности несомненно действует, и после определенного возраста, после определенного количества романов это уже невозможно. Возможно, такая любовь – та, напоминала она себе, которой она тогда не хотела, – требует степени невинности, какой она никогда не обладала.
Только в последнее время случались минуты, когда она ощущала печаль утраты этой любви, которой у нее никогда не было, жажду той сладкой боли вместо одних цифр.
Она плотнее прижала подушку к лицу.
Впервые Джон сказал, что любит ее, когда они встречались уже три месяца. В тот вечер они сходили в кино и поужинали, и пока они сидели друг против друга в «Токио Инн», он все время смотрел на нее с такой странной улыбкой, что она в конце концов отлучилась в туалет, чтобы проверить, не застрял ли у нее между зубами кусочек суси или какой-нибудь водоросли. Позднее, после того, как они занимались любовью, обнимая ее, он и сказал: «Я люблю тебя». Слова прозвучали с коротким смешком облегчения и удовольствия.
Ее тело напряглось, сначала она ничего не ответила. Наконец спросила:
– Как ты думаешь, мне стоит в тебя влюбиться?
– Что?
– Я имею в виду, каковы шансы, что это сработает? Если бы ты был на моем месте, ты бы влюбился?
Он засмеялся.
– Разве это было бы так ужасно?
Она снова опустила голову ему на плечо.
Только услышав, как его дыхание начало замедляться и тяжелеть, она прошептала: «Я тебя тоже люблю», и он, засыпая, сжал ее в объятиях.
Сквозь тяжелый, навеянный красным вином сон, она нашарила телефонную трубку.
– Ну? – спросил он.
– Как ты смеешь звонить мне так поздно? – пробормотала она. – Ты разбудишь девочек.
– Ты говорила с ней? Говорила с Эйли?
– Я работаю над этим, Тед. Мне нужно время.
– Время – единственное, чего у меня нет, – сказал он. – Не води меня за нос, Сэнди.
– Ты и сам это можешь сделать.
– Что?
– Ничего. Говорю тебе, я этим занимаюсь.
– Перезвони мне. Не тяни.
Телефонная трубка смолкла.
– Защита вызывает Теодора Уоринга.
Тед сел на свидетельское место и был приведен к присяге. Когда он клялся говорить правду, собственный голос отдавался у него в ушах далеким металлическим эхом, как может случаться при недосыпании или сильном потрясении, когда дыхание, звук и значение слов заглушает постоянный ток адреналина.
– Для протокола, – начал Фиск, – назовите, пожалуйста, ваше полное имя.
– Теодор Лайонел Уоринг.
– Мистер Уоринг, в каких родственных отношениях вы состояли с погибшей, Энн Уоринг?
– Она была моей женой.
– Сколько лет вы были женаты?
– Шестнадцать лет.
– И на момент ее смерти вы жили раздельно?
– Да.
– Мистер Уоринг, я бы хотел получить некоторое представление о ваших взаимоотношениях с женой. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились.
– Мы познакомились в школе.
– Вы поженились очень рано, не так ли?
– Да. Ей было двадцать лет, мне – двадцать один год.
– Не могли бы вы описать нам ваши отношения с ней на раннем этапе?
– Это вообще единственное, что когда-либо имело смысл. – Он посмотрел мимо Фиска на ряды невзрачных лиц, наполнявших зал, потом вниз на свои сложенные углом пальцы, его веки чуть дрогнули. Слышно было, как две женщины из состава присяжных сочувственно цокали языками. – Я это говорю не для красного словца, – тихо продолжал он, – а имею в виду совершенно буквально, без всякого преувеличения. Пока я не встретил Энн, ничто для меня не имело ни малейшего смысла, и мне кажется, она чувствовала то же самое по отношению ко мне. Я это знаю. Может быть, именно это и имеют в виду, когда говорят о поисках своей утраченной половины. А все остальное – взлеты и падения, дурацкие мелочи, даже ссоры, – все это на самом деле ерунда. Во всяком случае, так было, когда мы познакомились. Именно так и было всегда. Мы не могли дождаться, пока поженимся. Конечно, мы были молоды, но, – он улыбнулся, несмотря на предупреждения Фиска не делать этого, поскольку Фиск считал, что улыбки Теда слишком смахивают на ухмылки, – мы, видите ли, оба были людьми не того склада, чтобы ходить на вечеринки или гулянки. – Тед заметил неодобрительный взгляд Фиска и согнал улыбку с лица. – Просто мы… – Его голос смолк. – Ничто с тех пор не имело особого смысла, – прошептал он.
В зале стояла полная тишина. Даже судья Карразерс обнаружила, что сама выжидательно подалась вперед. Один из стариков на заднем ряду громко прочистил горло.
– Наверняка эти первые годы были очень трудными. Не так много супружеских пар, вступающих в брак в столь раннем возрасте, справляются с этим. И все же вам удалось остаться вместе?
– Да.
– Вам с женой случалось спорить?
– Разумеется. Невозможно, чтобы два человека жили вместе и не спорили, верно? Я никогда не верил тем, кто утверждает, будто у них нет никаких разногласий. Или они лгут, или у них мозги не работают.
– Понятно. – Фиск оставил эту тему. – За все годы, что вы были женаты, не сомневаюсь, что вы переживали и тяжелые времена?
– Да.
– Вы хоть раз били свою жену, мистер Уоринг?
– Никогда.
– Даже когда ссорились с ней?
– Я никогда бы не сделал ничего подобного.
– Мистер Уоринг, к моменту ее смерти вы все еще любили жену?
– Да. Очень, – в его голосе прозвучали виноватые нотки. – Как можно рассчитывать, что любовь исчезнет лишь потому, что какой-то клочок бумаги утверждает, будто так положено с определенного числа?
– Вы хотели воссоединиться с ней?
– Да. Больше всего на свете. И мы бы это сделали. Я в этом уверен.
– Мистер Уоринг, за четыре дня до того, как вы повезли дочерей в горы, виделись ли вы с миссис Уоринг?
– Да.
– Можете рассказать, при каких обстоятельствах?
– Мы встретились на школьном спектакле Эйли.
– Эйли – это ваша младшая дочь?
– Да.
– И что произошло в тот вечер?
– Вы смотрите на ребенка, которого произвели вместе, смотрите друг на друга… – Он помолчал. – Мы отправились домой вместе.
– В дом на Сикамор-стрит, 374?
– Да.
– Что произошло потом, мистер Уоринг?
– Мы занимались любовью.
– Вы принуждали жену, мистер Уоринг?
– Нет. Господи, конечно, нет. Между нами все еще существовала та удивительная связь, вы должны это понять. Она никогда не исчезала. Мы все еще любили друг друга. Это была самая естественная вещь на свете. А то, что мы разъехались, – ужасной ошибкой. Нам нужно было всего лишь признать это. И мы были готовы это сделать.
– Оба?
– Да.
– Вы могли бы назвать тот вечер романтическим?
– Да. В некотором роде даже более романтический, чем в молодости. Мы были опытнее.
– Вы ссорились?
– Нет.
– А когда вы увиделись с женой в следующий раз?
– Когда забирал девочек на выходные.
– Днем в пятницу, 20 октября?
– Да.
– Можете ли вы описать суду вашу встречу с женой в тот раз?
– Я сказал ей, что хочу с ней помириться. Сказал, что люблю ее.
– И что она ответила?
– Она обещала подумать о том, чтобы нам снова жить вместе.
– Вы думаете, она говорила серьезно?
– Энн всегда говорила серьезно.
– Итак, вы расстались в хороших отношениях?
– Да, в очень хороших.
– А потом вы повезли дочерей в горы. Мистер Уоринг, как бы вы охарактеризовали ваши отношения с Джулией за прошедший год?
– Джулия очень злилась из-за нашего расставания. Что ж, я полагаю, ни одному ребенку не нравится, когда родители расходятся. Да и с чего? Дети любят порядок. Как бы то ни было, она винила меня, хотя мы с ее матерью оба старались объяснить ей, что, по сути, не виноват никто. Она ведь всего лишь ребенок. Она запуталась. Это можно понять. Но с тех пор она была на меня очень сердита.
– И в чем это проявлялось?
– Мрачное настроение, замкнутость, язвительность. Иногда она пыталась навредить мне.
– Навредить?
– Позже я выяснил, что случалось, я звонил домой поговорить с Энн, а Джулия ей ничего про это не сообщала.
– Она лгала Энн?
– Да. Нас с Энн это беспокоило. Нас обоих огорчали некоторые стороны в поведении Джулии. И ложь, конечно, была одной из них.
– Понятно. – Фиск немного помолчал. Он не смотрел в глаза присяжным, но кивнул в их сторону – дескать, мы вместе слушаем. – Вы пытались поговорить с Джулией во время выходных, на горе Флетчера?
– Да. Я старался еще раз объяснить ей, что в случившемся нет ничьей вины. Я хотел, чтобы она поняла, как сильно я люблю Энн, и ее, и Эйли. Я сказал, что хочу, чтобы мы снова жили одной семьей, безумно этого хочу. Я пообещал ей, что на этот раз все будет иначе.
– Иначе в каком смысле?
Тед опустил голову и вздохнул.
– Между мной и Энн некоторое время были напряженные отношения. Все супружеские пары проходят через подобные периоды, когда все меняется. Гордиться тут нечем, но я не знаю никого, кто бы умер от болезни роста. В общем, мы не слишком старались скрыть это от детей. Если мы в чем и были виноваты, так только в этом. Возможно, они слышали больше, чем следовало бы. Как им было во всем этом разобраться?
– Вы можете ответить на вопрос, мистер Уоринг? – вмешалась судья Карразерс.
– Я сказал Джулии, что никаких криков больше не будет, – сухо проговорил Тед. – Мне не следовало этого делать. Это была ошибка, я признаю. Но именно так я сказал ей.
– Почему же это было ошибкой, мистер Уоринг? – мягко спросил Фиск.
– Потому что когда мы с Энн, к несчастью, повысили голос, это расстроило Джулию. Очень расстроило. Она неправильно восприняла это и, по-моему, запаниковала.
Риэрдон встал из-за стола.
– Возражение. Свидетель не может знать, о чем думала Джулия.
– Возражение принимается. – Судья Карразерс обратилась к присяжным. – Не принимайте во внимание последний ответ.
Фиск перевел дух и начал снова.
– Давайте на минутку вернемся к вашей поездке. Вы приехали домой приблизительно в четыре часа дня в воскресенье, правильно?
– Да.
– А кто нес ружье?
– Я.
– Почему вы внесли ружье в дом, мистер Уоринг?
– Я отдавал его Джулии. Мы так хорошо провели время в те выходные, что я подумал, мы могли бы съездить туда еще раз, прежде чем охотничий сезон кончится. Все вчетвером.
– Как вы считаете, ружье в тот момент находилось на предохранителе?
– Да. Между прочим, в то утро я как раз учил девочек, как проверять предохранитель.
– Что случилось, когда вы вошли в дом?
Темно-серые глаза Теда потемнели еще больше.
– Мы с Энн повздорили, – тихо сказал он. Лучше бы мы этого не делали, но так получилось. Однако ссора была не серьезнее прежних. Просто мы таким образом снова соединялись друг с другом, это всего лишь одна сторона нашей жизни. Но, видимо, после всех разговоров о том, насколько все изменилось, громкие голоса смутили Джулию.
– И что она сделала?
– Она закричала: «Перестань! Нет!»
– Как вы думаете, почему она так крикнула?
– Потому что хотела, чтобы прекратилась ссора.
– Возможно, она крикнула «Перестань! Нет!», потому что вы вскинули ружье?
– Нет. Ни в коем случае. Она терпеть не могла, когда мы ссорились. Она, знаете ли, может быть очень сурова.
– Когда Джулия крикнула «Перестань! Нет!», как далеко она стояла от вас?
– Примерно на расстоянии шага. Самое большее, двух.
– И что случилось потом?
– Совершенно неожиданно она набросилась на меня. Может, мне бы следовало это предвидеть, но я не сумел. Она просто выскочила ниоткуда и повисла у меня на правой руке.
– На той руке в которой было ружье?
– Да.
– Можете рассказать, что произошло дальше?
Тед провел рукой по волосам. Черты его лица исказились, словно съежились, запали, и он помедлил, чтобы справиться с собой.
– Ружье выстрелило, – тихо произнес он. – Джулия навалилась на меня в мгновение ока, прямо на предплечье, повисла всей своей тяжестью, и в следующее мгновение я услышал, как ружье выстрелило. Когда я поднял глаза… – он замолк, облизал губы, сглотнул комок в горле, – когда я поднял глаза, Энн привалилась к ступенькам, а ее голова… – Он прикрыл глаза, не в силах продолжать.
– Вы уверены, что ружье выстрелило только после того, как Джулия повисла на вас?
– Да.
– Мистер Уоринг, вы хоть раз вскидывали ружье и целились в голову жене?
– Нет. Я любил ее. Я любил ее больше всего на свете.
– Вы нарочно спустили курок?
– Нет. Ружье выстрелило, когда Джулия повисла на нем. Должно быть, давление ее тела на мою руку каким-то образом ослабило предохранитель.
– Когда прибыла полиция, что вы велели сделать Джулии?
– Я велел ей сказать им правду. Просто сказать правду.
– И она сказала?
– Нет, – тихо сказал он.
– Значит, вы утверждаете, что Джулия солгала полиции?
– Да. Если б я знал, почему. Господи, если бы я знал. Я могу лишь предположить, что она боялась признать, что произошло на самом деле.
Риэрдон встал.
– Возражаю. Это догадка.
– Принято.
– У меня больше нет вопросов, – спокойно сказал Фиск.
Тед глубоко вздохнул, испытывая облегчение, что с ним закончили. Он вытер влажные ладони о брючины и поднял глаза на судью Карразерс. Точно как ее бывший муж, подумалось ей, наиболее заносчивый в минуты наибольшего уничижения. Она подняла молоток.
– Заседание откладывается до завтрашнего утра.
В шесть часов в доме было темно. Джулия слышала за прикрытой дверью бормотание телевизора, там Эйли играла с рисовальной доской и лишь изредка поглядывала на экран. Сэнди еще не вернулась с работы. Теперь она бывала дома гораздо реже, чем когда они только что перебрались сюда. И даже когда находилась дома, ее присутствие было неощутимо, она превратилась в загадку, бродила по коридорам и комнатам, почти не задавая вопросов, почти не разговаривая. Джулия, которая негодовала и возмущалась прежним пристальным надзором и заботой, теперь чувствовала себя одновременно освобожденной и растерянной в пришедшем им на смену молчании. Она стояла в ванной Сэнди перед зеркалом и просматривала содержимое аптечки. Остановилась на черном контурном карандаше для глаз и подвела веки черным. Положив карандаш точно на то же место, откуда брала его, дальше она воспользовалась сухими румянами, потом губной помадой кораллового цвета и черной тушью для ресниц. Закрыла зеркальную дверцу шкафчика и потянулась наверх за стеклянным флаконом с пульверизатором, оросив прохладными брызгами «Шанели № 19» кожу за ушами, как, она помнила это, делала ее мать по особым случаям. Под мини-юбкой на ней уже были надеты кружевные трусики-бикини. Она вернулась в спальню, где Эйли теперь сидела на полу, скрестив ноги, и рисовала цветными карандашами.
– Я ухожу к Молли Кинан, – сказала Джулия, держась подальше от Эйли, чтобы та не заметила ее накрашенного лица.
– Кто эта Молли Кинан?
– Подруга.
Эйли смотрела на нее с подозрением. У Джулии было не так уж много друзей.
– Если Сэнди вернется, скажи ей, что я поужинаю там, ладно?
Эйли кивнула.
Джулия вышла из комнаты и сбежала по лестнице, перескакивая через ступеньку. На темные улицы ложились полосы света от фонарей, и Джулия торопливо бежала, перепрыгивая через них, от одного пучка света к другому.
Добравшись до центра города, она замедлила шаг и решительно двинулась по Филдстон-стрит, пока не оказалась у дома № 54. Задрав голову, она увидела, что это старое желтое трехэтажное деревянное здание. Имя Питера Горрика стояло вторым в списке. Она нажала пластмассовую кнопку.
– Кто там?
– Джулия.
Загудел зуммер.
Он ждал ее на лестничной площадке.
– Джулия, что ты здесь делаешь?
Она, не отвечая, прошла за ним в квартиру.
– Откуда ты узнала, где я живу? – спросил он, остановившись в гостиной.
– Посмотрела в телефонном справочнике.
Он кивнул, с любопытством глядя на нее, ожидая, что же она будет делать.
Она осмотрелась. Большие окна в нише комнаты выходили на улицу, с карниза, словно сброшенные парики, свисали два засыхающих папоротника. Выцветший восточный ковер на полу, бюро с выдвижной крышкой и множеством маленьких ящичков и диван с покрывалом в сине-зеленую полоску. На кофейном столике радом со стопкой книг, блокнотов и бумаг стоял бокал красного вина. Она уселась на диван, не снимая куртки. Он сел в кресло напротив. Смазанный у нее под правым глазом черный контур оттенял бледную кожу.
– Я не разрешала вам разговаривать с сестрой, – сказала она.
– Я просто хотел с ней познакомиться.
– Нет.
– Почему?
Она опустила глаза – ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЙ.
– Она еще не готова разговаривать с вами, – сказала она.
– Я никого не хотел обидеть.
Джулия кивнула.
Питер протянул руку и отпил вина.
– Можно мне немножко? – попросила Джулия.
Он засмеялся.
– Тебе не кажется, что ты еще немного молода для этого?
– Нет.
– Ну, может, в другой раз.
Она окинула комнату взглядом.
– У вас есть подружка?
Питер улыбнулся.
– В данный момент нет.
Она чуть наклонила голову, принимая эту информацию, усваивая ее, сопоставляя.
– У Сэнди много приятелей. Вы с ней спали?
– Нет, – спокойно ответил он.
– Вы считаете, она симпатичная?
– Сэнди?
– Да.
– Пожалуй.
Джулия снова кивнула.
– Как вы думаете, я симпатичная?
– По-моему, не просто симпатичная. По-моему, ты эффектная.
– Почему быть эффектной лучше, чем симпатичной?
– Симпатичным может быть любой. Эффектными бывают только особенные люди.
Джулия скрестила ноги.
– С кем встречается Сэнди, кроме Джона Норвуда? – спросил Питер.
Джулия уклончиво пожала плечами. Глядя на него в упор, она протянула руку и глотнула вино из его бокала. От непривычной горечи у нее на глазах выступили слезы, но она лишь изящно поджала губы и осторожно поставила бокал обратно.
Он с интересом наблюдал за ней.
– А Сэнди знает, где ты?
– Нет. Я не обязана обо всем ей докладывать, – она нахмурилась. – Вы собираетесь оставаться в Хардисоне после суда?
– Пока не знаю.
– Я бы не осталась.
– Понимаю. – Он наклонился вперед. – Наберись терпения, Джулия. Когда немного повзрослеешь, сможешь ездить куда захочешь.
– Вы думали насчет того, о чем я вас просила?
– О чем же?
– О том, чтобы взять меня с собой в Нью-Йорк, – нетерпеливо выпалила она.
– Видишь ли, Джулия, я сейчас очень занят на работе, ты же знаешь, этот процесс, – последнее слово он произнес осторожно, словно пробуя на вкус. – Мне кажется, сейчас не совсем подходящее время, чтобы уезжать.
– Тогда попозже?
– Посмотрим, – сказал он. – Поговорим об этом, когда наступит время, идет?
– Обещаете?
– Обещаю. – Он осмотрел ее длинные скрещенные ноги под мини-юбкой, ее лицо с яркой маской зрелости, размазавшейся только в уголках. – Как ты думаешь, когда Эйли будет готова поговорить со мной?
– Не знаю.
– Мне бы очень этого хотелось, Джулия.
Она молча кивнула в ответ.
– Тебе нужно было со мной еще о чем-нибудь поговорить сегодня вечером? Ты хотела мне что-нибудь сказать?
Она чуть подалась ему навстречу, всего на какую-то четверть дюйма – расстояние между ними она делила на крошечные отрезки – и покачала головой.
– Тебе не кажется, что Сэнди будет беспокоиться о тебе?
Джулия пожала плечами, снова взяла бокал и глотнула из него.
– Можно мне иногда приходить сюда после школы? – спросила она, поставив бокал на столик. – Просто позаниматься. У Сэнди дома так шумно.
– Но пока что становится слишком поздно. Что, если я отвезу тебя домой? Я тебя высажу за квартал, если ты беспокоишься, чтобы соседи о нас не узнали. – Он послал ей мимолетную кривую улыбку, и она опять не была уверена, что это означает.
Она кивнула:
– Хорошо.
Она неохотно спустилась вслед за ним по лестнице. Его машина стояла напротив дома, и она ждала, пока он отпирал дверь и придерживал ее, чтобы она села. Она дотянулась до двери со стороны водителя и открыла ему, – самый незначительный жест, но он каким– то образом вводил ее в мир взрослых женщин; ведь, в конце концов, так поступают женщины. Они выехали из притихшего центра с затемненными витринами магазинов, за исключением книжного на Мейн-стрит да двух ресторанов, и покатили по пустынным улицам Хардисона, безмолвно продвигаясь сквозь ночь. Джулия глубоко дышала, вбирая в себя запах автомобиля, близость его тела.
Он остановил машину возле края тротуара у поворота к дому Сэнди, не выключая двигатель.
– О поездке в Нью-Йорк мы скоро поговорим, – сказал он.
Она слегка улыбнулась, потом вдруг потянулась к нему, поцеловала его в щеку и выскочила из машины.
– Позвольте напомнить, что вы все еще находитесь под присягой, мистер Уоринг, – торжественно предупредила судья Карразерс.
Тед кивнул. Он пришел к выводу, что не нравится судье. Своими аккуратно уложенными, покрытыми лаком волосами, с этим бесконечным множеством шелковых блузок и манерой четко выговаривать слова она напоминала ему некоторых более несговорчивых женщин, с которыми ему приходилось за все годы иметь дело в строительном бизнесе, высокомерных женщин с огромными счетами в банке, гордившихся тем, что им невозможно угодить. Он посмотрел вниз на судебного стенографиста, пальцы которого застыли над клавиатурой компьютера.
Риэрдон медленно поднялся из-за стола, слегка оперся руками о его поверхность и долго в упор смотрел на Теда, прежде чем заговорить.
– Мистер Уоринг, – начал он, его голос и манеры по сравнению с Фиском были медленны и вкрадчивы, – вчера вы показали, что вы с женой часто ссорились, но всегда мирились. Я немного сбит с толку. Это не может быть правдой, не так ли, иначе вы бы не находились в процессе развода к моменту смерти Энн Уоринг?
– Мы собирались снова сойтись.
– Вы сказали, что надеялись на это, но мы не получили никаких доказательств, что таково было и желание миссис Уоринг. Совсем напротив. Я думаю, предыдущее утверждение означает, что она предпринимала шаги, чтобы освободиться от вас, разве это не верно?
– Я так не считаю.
– Должно быть, это происходило очень болезненно?
Тед не ответил.
– Вы считаете себя ревнивым человеком, мистер Уоринг?
– Никогда не желал ничего, что бы не было моим.
– А Энн Уоринг вы считали частью своего имущества?
– Я этого не говорил.
– Вы показали, что провели все выходные на прогулке в горах за раздумьями о примирении и предполагали, что Энн занята тем же. Но когда вы вернулись в воскресенье вечером, разве Энн не сообщила вам, что вместо этого вечером прошедшей пятницы ходила на свидание с доктором Нилом Фредриксоном?
– Да. Но это ничего не значило.
– Вы утверждаете, что для вас ничего не значило то, что ваша жена встречается с другими мужчинами?
– Это ничего не значило для нее.
– Значит, для вас кое-что значило?
– Не знаю.
– Но ведь вчера вы показали, что, придя домой, вы с Энн начали ссориться, разве не так?
– Да.
– Разве вы ссорились не из-за того, что она встречалась с другим мужчиной?
Тед бегло взглянул на Фиска, а потом снова на Риэрдона.
– Мне не понравилось, что она ходила на свидание. Но я ее за это не убивал.
– На самом деле вы пришли в ярость, выяснив, что она встречалась с другим как раз тогда, когда, как вы думали, она размышляет о том, чтобы снова соединиться с вами, разве это не правда, мистер Уоринг?
– Она все равно собиралась соединиться со мной.
– Мы ведь никогда этого не узнаем, не так ли, мистер Уоринг? Разве не правда, что, когда вы пришли домой, Энн заявила вам, что собирается и дальше встречаться с другими мужчинами, что собирается начать строить для себя новую жизнь?
– Нет. Мы собирались строить нашу жизнь заново вместе, – настаивал он.
– А разве не правда также и то, что вы крикнули: «Если ты думаешь, что я собираюсь допустить это, тебе придется об этом пожалеть»?
– Не помню, что я говорил. Мало ли что люди говорят, когда ссорятся. Это ничего не значит.
– Вы не могли смириться с тем, что ваша жена ускользает от вас, не так ли, мистер Уоринг?
– Мы принадлежали друг другу, – он ощутил вскипавший гнев, неистовый и жгучий, и попытался подавить его. Однако его привкус все же прорвался в его голосе. – Возможно, вам этого не понять, но она понимала.
– В тот воскресный день вы останавливались в «Берлз лаундж» по дороге домой и выпили несколько порций спиртного?
– Я выпил одну порцию.
– Разрешите напомнить, что вы находитесь под присягой. Уровень алкоголя в вашей крови в три раза превышал предельно допустимый. Это определенно больше, чем с одной порции, мистер Уоринг.
– Не помню.
– Не помните? Что ж, не удивляюсь, если ваши воспоминания о том вечере несколько ненадежны, с уровнем алкоголя в крови в 300 единиц. Насколько вы способны припомнить, мистер Уоринг, согласны ли вы, что находились в возбужденном состоянии, когда приехали домой?
– Я приехал домой с единственным намерением – повести свою семью ужинать.
– И разве не правда, что находясь в состоянии опьянения, вы повели себя неразумно, когда поняли, что этому не бывать, когда Энн сообщила вам о своих намерениях?
– Нет, – упорно твердил он.
– Ведь вы вдруг сообразили, что ваш брак, единственное, что имело для вас смысл, как вы сами утверждали, разрушен окончательно и бесповоротно?
– Я говорил вам, он не был разрушен. Вовсе нет.
– Разве вы не поняли, что все, что вам было необходимо, вдруг развалилось, и разве это не привело вас в ярость?
– Возражаю, – заявил Фиск. – Обвинитель давит на свидетеля.
– Возражение отклонено.
Риэрдон продолжал.
– Разве на самом деле Джулия вскрикнула «Перестань! Нет!» не тогда, когда вы вскинули ружье и прицелились прямо в голову своей жене?
– Нет, – лицо Теда побагровело, выступившие на шее толстые жилы заметно дергались. – Нет! Ничего подобного не было.
– И разве она прыгнула на вас не после того, как вы выстрелили, в запоздалой попытке вырвать у вас ружье?
– Нет. Я не понимаю, почему Джулия сделала то, что сделала. Но не потому, что я прицелился. Я бы никогда этого не сделал.
– Вы предпочли убить свою жену, не так ли, мистер Уоринг, чем видеть ее с другим мужчиной?
– Нет. Я же вам сказал, это был несчастный случай. Я любил ее, – вдруг пересохло горло, и слова еле продирались сквозь него.
– Может быть, вы ее слишком любили?
– Я считаю, что невозможно любить слишком сильно, – резко бросил он.
– Даже когда смешиваешь любовь с обладанием?
Тед глянул на него и ничего не ответил.
– Мистер Уоринг, вы показали, что у вас были сложные взаимоотношения с дочерью, Джулией, что она считала вас ответственным за неблагополучие в доме?
– Да.
– Не может ли быть, что она реагировала таким образом, годами наблюдая, как вы жестоко обращаетесь с ее матерью?
– Я не знаю, почему она так реагировала. Если бы я знал. Я никогда не поднимал руки на Энн.
– Последний вопрос. С того момента, как вы приехали домой, и до того, как раздался выстрел, держал ли ружье кто-нибудь, кроме вас?
– Нет.
– Ни на минуту?
– Нет.
– Вопросов больше не имею. – Риэрдон не сделал от стола ни шагу. Спокойно убрал руки и уселся на большой деревянный стул за ним, держась совершенно прямо.
– Можете сесть на место, – разрешила судья Карразерс Теду.
Он не пошевелился и, по-видимому, ничего не слышал. Он все смотрел на Риэрдона с его прямотой, легкими ответами и легкой жизнью.
– Это был несчастный случай, – сердито буркнул он.
– Можете сесть на место, мистер Уоринг, – повторила судья Карразерс.
После долгого сиденья в полутемном, выкрашенном в защитный цвет зале суда у Сэнди заслезились глаза от дневного света. Ее пальцы все еще ныли оттого, что, слушая показания Теда, она стискивала кулаки. Она поспешно сбежала по лестнице, подальше от него. Подойдя к своей машине, припаркованной за полквартала от здания суда, она остановилась и, чтобы успокоиться, оперлась одной рукой о капот, пока рылась в кошельке в поисках ключей. Но, только найдя их среди скомканных салфеток и рассыпавшейся мелочи, она вдруг тряхнула головой и снова закинула сумку на плечо. Оттолкнувшись от машины, словно пловец от бортика бассейна, она снова двинулась прочь размашистой, стремительной походкой. Она никогда не любила бродить без цели, без смысла – не совершала прогулок, – но сейчас просто шла, шла быстро, эта быстрота была самоцелью. Она прошла мимо библиотеки, откуда как раз высыпала стайка ребятишек, и направилась к началу Мейн-стрит, перейдя улицу прямо на загоревшийся красный свет.
Она сбавила шаг, лишь когда вышла к последнему большому участку земли в самом дальнем конце улицы, где городские дома начинали редеть. Много лет минуло с тех пор, как здесь снесли старое, бежевого цвета здание школы, где они с Энн учились, чтобы освободить место для супермаркета «Гранд Юнион». До сих пор, проходя мимо, она задавалась вопросом, что стало с выщербленным фасадом, возле которого они обычно встречались с Энн.
Именно там она дожидалась Энн в тот день, когда они сбежали из дома.
Нетерпеливо засигналил автомобиль, и она обнаружила, что стоит на выездной аллее супермаркета.
Разумеется, это была идея Сэнди, выношенная и взлелеянная в тесной душной спальне в доме на Рафферти-стрит, когда им было по восемь и десять лет. Она думала об этом с тех пор, как помнила себя, – жажда побега возникла одновременно с зарождением самосознания, памяти, – но понимала, что ей никогда не удастся убедить Энн присоединиться к ней, Энн, видевшую лишь его романтическую сторону, но никогда – неизбежность. Что же заставило Энн передумать?
Джонатан в тот вечер приготовил ужин, сосиски с картофельным пюре, и выставил на стол разномастные тарелки, приобретенные, когда они только что поженились, и теперь изрядно оббитые. Эстелла утомленно улыбалась ему, благодарная за его заботу, ведь она так уставала. Она ткнула вилку в картофельную массу, которую он положил ей на тарелку. Он смотрел, как она отправляет ее в рот, зажав вилку, словно ребенок, в пухлом кулачке.
Внезапно ее лицо покраснело и скривилось. Она засунула в рот пальцы и вытащила шуруп длиной в дюйм, облепленный студенистой белой массой. «Ты пытаешься убить меня! – крикнула она Джонатану. – Я всегда была для тебя обузой, а теперь ты нашел способ меня убить».
Сначала он просто рассмеялся. «Не глупи. Я понятия не имею, каким образом это оказалось здесь». На самом деле удивляться тут было нечему, учитывая порядки в доме.
Но ее уже захватило и понесло, и разумные объяснения не действовали. «Ты хочешь избавиться от меня! Ты всегда хотел от меня избавиться. Убийца!»
Он подошел к ней, сидевшей с мокрым от слез, искаженным лицом, сгреб ее в объятия, крепко прижал к себе. «Мне бы никогда не пришло в голову избавиться от тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя», – твердил он снова и снова, пока рыдания не стихли и она не взглянула на него снова, придя в себя, измотанная собственной истерикой. «Для меня в целом свете существуешь только ты», – прошептал он.
Он наклонился, поцеловал ее, и она раскрыла ему губы жадно, бесконечно, а Энн и Сэнди сидели за столом, сложив руки на коленях, и смотрели. Джонатан и Эстелла ни разу не обернулись, не сказали им ни слова, лишь вышли из комнаты, обнявшись, ненасытно поглаживая, тиская и сжимая друг друга, отправились в глубь дома, к себе в спальню. Энн и Сэнди слышали, как плотно закрылась дверь, потом они встали и вывалили все содержимое тарелок в мусорное ведро. Именно в тот вечер Энн наконец согласилась, да, давай уйдем.
На следующее утро они взяли с собой в школу все деньги, что смогли набрать, четыре доллара и тридцать два цента. Свои завтраки они не съели, а оставили на потом, когда понадобятся позже. В три часа дня Сэнди и Энн встретились у школы и пошли из города, мимо заправочной станции и методистской церкви, на шоссе.
– Куда мы идем? – спросила Энн.
– Не знаю.
Они шли по старой 93-й трассе в горы, постепенно взбираясь все выше. Становилось холодно, и вскоре они проголодались. Сделав привал на обочине, они быстро съели сандвичи и снова пошли, и с каждым шагом минувший вечер и его решения отодвигались все дальше и дальше.
Еще не было шести часов, когда Энн спросила:
– Где мы будем ночевать сегодня?
– На земле.
– Холодно.
– Не особенно.
Они шли и шли по неосвещенной дороге.
– По-моему, нам надо вернуться домой, – наконец сказала Энн. Она остановилась и не хотела идти дальше. Внизу, под ними были видны огни города, свет и тени чередовались более равномерно, чем представлялось прежде. Энн решительно развернулась и направилась назад.
И Сэнди последовала за ней, последовала без единого звука. Не пытаясь спорить, убеждать или слабо протестовать. Она просто повернулась и молча пошла за ней назад.
Сэнди давно уже ушла со стоянки супермаркета, не замечая, куда идет. Вот чего она никогда не знала, не знала до сих пор – Энн всерьез считала, так же, как Сэнди, что они уходят из дома по-настоящему, или Энн пошла с ней просто, чтобы удовлетворить ее прихоть, и для нее это была просто шалость. В последующие годы она часто задумывалась над этим и однажды даже спросила у Энн. Энн засмеялась: «Боже, я и забыла об этом. Что ж, далеко бы мы ушли на четыре доллара и тридцать два цента, а?»
Но Сэнди никогда не забывала тот день, миллион раз мысленно проигрывала его, потому что в тот день она узнала нечто, так поразившее и испугавшее ее, что эта ослепительная вспышка озарения ни за что не померкла бы до конца. Тогда впервые она лицом к лицу столкнулась с собственной робостью, и привкус ее, привкус собственного малодушия там, где прежде сидела лишь безграничная храбрость, остался у нее во рту предостережением, сомнением, навязчивый отвратительный привкус, от которого ей никогда не избавиться полностью.
Она нарочно пнула камень, отбросив его с пути, и направилась обратно к своей машине.
В тот вечер, когда после ужина Сэнди убирала со стола картонки с остатками китайских блюд, Джулия повернулась к ней и спросила:
– Как по-твоему, что будет?
– С чем?
– С папой. С процессом. Он выйдет на свободу?
Сэнди вздохнула и отвела глаза.
– Не знаю.
– Но он может выйти?
– Может.
– Нам придется жить с ним?
– Не знаю, Джулия.
Джулия ушла с кухни и в тот вечер больше не появлялась.
Джулия прокралась по коридору к комнате Сэнди, заглянула внутрь, посмотрела, как она спит, так тихо и неподвижно. Она сделала еще один шажок, прислушалась к дыханию Сэнди, увидела, что ее тонкая обнаженная рука соскользнула с кровати. Волосы темной массой спадали на лицо и спину. На пальцах ног, высунувшихся из-под одеяла, облупился красный лак. Джулия тихонько отступила и, не отрывая взгляда от Сэнди, прикрыла дверь.
Она вернулась к себе и опять уселась на подоконник, так крепко притянув колени к груди, что заныли суставы. Ночь продолжалась, часы то словно растягивались, расползались, то сжимались, спрессовывались. Раньше она никогда не засиживалась так поздно, но сейчас она ощущала только непрерывное биение собственных мыслей.
В шесть часов утра она встала, скинула длинную белую ночную рубашку и принялась копаться в своей одежде, рубашках, штанах, носках, путаясь в них, выкидывая их из комода. Существовало только одно: вихрь идей, сталкивающихся друг с другом, разлетающихся в стороны, отскакивающих от стен мозга, заглушающих все мысли, кроме одной – «Нет».
Она как раз натягивала через голову тяжелый свитер, когда Эйли открыла глаза.
– Тс-с-с-с, – прошептала Джулия. – Послушай, Эйли. Мне нужно рано выйти. Когда спустишься вниз, скажи Сэнди, что я пошла в школу поработать перед уроками над докладом.
– Но школа не открывается так рано.
– Она не узнает.
– Куда ты идешь?
– На улицу.
– Ты вернешься?
– Да.
– Когда?
– Не знаю.
– Ты не бросишь меня, нет?
– Нет, Эйли.
– Пожалуйста, скажи хотя бы, куда ты идешь?
– Не могу. Потом узнаешь.
– Можно мне с тобой?
– Нет.
Джулия тихонько прокралась мимо комнаты Сэнди, заглянув туда в последний раз, а потом осторожно спустилась по лестнице и вышла из дома.
На пустынных улицах занималось промозглое утро. На первых этажах домов, мимо которых проходила Джулия, только начинал вспыхивать свет в кухонных окнах; то тут то там на подъездные дорожки нехотя выползала машина, а Джулия бежала, останавливалась перевести дух и снова бежала. Когда она добралась до центра, ей попалась пожилая супружеская пара в спортивных костюмах и пуховых куртках, выходившая из магазина с утренней газетой в руках. Она свернула за угол на Филдстон-стрит.
Он как раз выходил из душа, когда услышал, как она постучала.
– Джулия.
Она разглядывала его худое, но мускулистое тело, гладкое и безволосое, он начал застегивать рубашку.
– Разве тебе не нужно идти в школу?
– Мне нужно кое-что сказать вам.
– Хорошо. – Он всмотрелся в ее взволнованное лицо, ее лоб был усеян каплями пота. – Садись.
Она пристроилась на краешке стула за кухонным столом, пока он наливал себе кофе и усаживался напротив.
– Что случилось?
Джулия почувствовала, как ее лицо вспыхнуло, загорелось. Она глянула мимо него на кухонную тумбочку, где стояла початая коробка глазированных хлопьев. Она долго не отводила от нее глаз, прежде чем медленно перевести взгляд на него.
– Мой отец спал с Сэнди.
Питер поставил чашку на стол, расплескав кофе.
– Стоп, полегче. Где ты слышала об этом?
Глаза Джулии заблестели, и она отвела их в сторону, прежде чем ответить.
– Нигде я не слышала. Я их видела, – ее голос срывался, и ему пришлось нагнуться над столом, чтобы разобрать ее слова.
– Ты их видела?
Она подняла голову и посмотрела прямо на него, ее лицо попеременнно выражало то страх, то вызов.
– Да.
Он снова устроился на стуле, провел языком по зубам и прищурился.
– Когда?
– Некоторое время назад.
– Когда твоя мама была еще жива?
Джулия кивнула.
– Твой отец тогда еще жил с вами?
У нее чуть дрогнула губа.
– Угу.
– Джулия, – Питер подался вперед, отодвинув чашку с кофе, – как ты их увидела?
– Однажды вечером я возвращалась домой от подруги, Дженни Дефо. Она живет рядом с Сэнди. Пошел дождь, и я подумала, что Сэнди могла бы подбросить меня домой, поэтому и прошла напрямик к черному ходу. – Джулия закусила губы.
– Продолжай.
Она комкала подол юбки.
– Я увидела их через окно на кухне. Они лежали на полу, – она смотрела на Питера, ее глаза расширились, решительные, негодующие. – Голые.
– Ты уверена, что это был твой отец?
– Да.
– Это мог быть кто-нибудь другой.
– Нет. Я говорю правду, – упорствовала она.
Питер в раздумье потер рукой свежевыбритый подбородок.
– Почему ты рассказываешь мне об этом, Джулия?
– Разве это не доказывает, что он это сделал?
– Нет.
– Но он лгал моей маме. Он ей лгал. – Она повысила голос. – Разве вы не можете написать об этом?
– Ты понимаешь, чем это обернется для Сэнди?
– Ну и что?
– Ты никогда никому не рассказывала об этом? Никогда не говорила маме?
Ее мать, такая чувствительная, ранимая. Джулия мотнула головой.
– Ты согласна сделать официальное заявление? – спросил он.
– Что это значит?
– Это значит, что в настоящий момент ты мой единственный источник информации. Мне понадобится сослаться на тебя.
Джулия колебалась, то скрещивала, то вытягивала ноги, и наконец ответила:
– О'кей.
– Сиди здесь, – велел он. – Не вставай.
Он вышел в гостиную и через минуту вернулся с маленьким черным магнитофоном.
Снаружи на улицах кипела утренняя жизнь. Он в последний раз прослушал запись и выключил магнитофон. Несмотря на ранний час, вынул из холодильника пиво. С самого начала он каким-то образом внушил себе, что все будет, как на современной войне, что ему не придется непосредственно сталкиваться со своими жертвами лицом к лицу, что он сумеет нанести удар и исчезнуть до наступления последствий.
Он прошелся к окну, выглянул из-за шторы и рухнул на диван с банкой пива в руках. Она славная девочка, действительно славная. Потом он поможет ей, поможет ей осуществить самое горячее желание – выбраться, бежать, – поможет рекомендациями, связями, советом, всеми нитями, что скрепляли его старый мир, но принесли ему так мало пользы. Он сделает это для нее. Он залпом допил пиво. А сейчас он должен работать.
«Хардисон, штат Нью-Йорк, 24 февраля. «Кроникл» обнаружила новый важный аспект судебного процесса над Теодором Уорингом по обвинению в убийстве. Из эксклюзивного интервью ваш корреспондент узнал о наличии неопровержимых доказательств факта супружеской измены обвиняемого с собственной свояченицей. По утверждению его тринадцатилетней дочери, Джулии Уоринг, у мистера Уоринга в период брака был роман с Сэнди Ледер, сестрой его погибшей жены. Джулия Уоринг, которой тогда было двенадцать лет, стала свидетелем этого романа, когда случайно застала своего отца и тетку во время полового акта. Девочку это потрясло настолько, что она до сих пор не решалась открыться. Давая свидетельские показания в суде, Сэнди Ледер ничем не выдала характер своих отношений с обвиняемым. Многочисленные просьбы к мисс Ледер, а также к мистеру Уорингу дать пояснения остались без ответа. Выступающий в качестве обвинителя на процессе Гэри Риэрдон передал через свой аппарат, что на этот раз он воздержится от комментариев. Представитель защиты Гарри Фиск по поводу этих новых утверждений сказал: «Они неуместны. Это ложные сплетни, не имеющие абсолютно никакого отношения к требованиям закона по данному делу». Слушание завершится в понедельник утром, когда свидетельское место займет младшая дочь, Эйли Уоринг».
Джон зажал газету в руке. Влажные коричневые пятна от пролитого кофе покрывали нижюю часть аршинного заголовка. Он в третий раз разложил ее на столе, пристально вгляделся, а затем сердито скомкал в большой шар и отшвырнул подальше. Хряснул кулаком об стол, больно отбив ребро ладони. Наконец он взялся за висевший на стене телефон и набрал номер Сэнди. Она сняла трубку на четвертом гудке.
– Скажи мне только одно, – произнес он. – Это правда?
– Да, – быстро ответила она.
Она услышала, как он выдохнул, сглотнул.
– Джон? Позволь, я объясню.
Но он уже повесил трубку.
Она медленно опустила трубку на рычаг. С тех пор как она два часа назад проснулась и открыла входную дверь, чтобы забрать газету, – точь-в-точь как делала каждое утро, зевая, когда наклонялась за ней, с еще заспанными глазами, – все вокруг словно утратило вес, силу тяжести. Почва под ногами была зыбкой и неверной, проваливалась и ускользала от нее.
Она поднялась наверх, где девочки только начали вставать и одеваться в выходное платье.
– Джулия, пойди сюда.
Джулия вышла в коридор, нервно шаркая ногами.
Сэнди сунула ей газету.
– Как ты могла сделать это?
Джулия бегло глянула на нее и снова подняла глаза на Сэнди.
– Как ты могла?
Сэнди застыла, потрясенная, лишившись дара речи. Наконец она пробормотала:
– Извини.
Джулия не сводила с нее глаз, и все, что она собиралась сказать с того самого вечера за дверью в кухню, все слова, что она отрепетировала и затвердила, улетучились. Осталось лишь тупое чувство облегчения, которое она испытывала с тех пор, как поговорила с Питером.
– Если бы ты пришла ко мне. Поговорила со мной, – добавила Сэнди, пытаясь смотреть в малахитовые глаза Джулии, но не в силах выдержать их взгляда.
Джулия не двигалась, не отвечала.
Сэнди провела рукой по своим растрепанным волосам.
– Но пойти в газету…
Повисшее между ними молчание сгустилось, и весь гнев – ОНИ ЛЕЖАЛИ ГОЛЫЕ НА ПОЛУ, – копившийся в душе Джулии за последний год, снова вскипел в ней. Она отпрянула и бросилась к себе в комнату, с грохотом захлопнув дверь.
Сэнди долго стояла, слушая доносившиеся из-за закрытой двери приглушенные рыдания Джулии. Дважды она бралась за ручку, дважды принималась стучать, чтобы войти, но не вошла. Не в силах двинуться с места, она могла лишь беспомощно слушать, как отчаянные всхлипы наконец стали стихать.
Она спустилась вниз и взялась за телефон.
– Джон, ты дома? Господи, я не хочу разговаривать с твоим автоматом. Я знаю, что ты здесь. Пожалуйста, Джон. Нам надо поговорить. Я бы дала что угодно, лишь бы ты не узнал таким образом. Я понимаю, что обязана дать тебе объяснение. Не знаю, существует ли оно, но, пожалуйста, хотя бы поговори со мной. Нет? Ну ладно.
Она еще немного вслушивалась в слабый механический шорох на линии, потом повесила трубку. На секунду застыв, не отнимая руки, снова сняла ее, набрала цифры сердитыми, резкими рывками и нетерпеливо выслушала бодро-безжизненный голос Питера Горрика, исходивший от автоответчика. Дождавшись сигнала, она выпалила: «Ты, ничтожный кусок дерьма!» – и с такой силой швырнула трубку, что на верхней ее стороне образовалась тоненькая трещина.
На кухне вдруг воцарилась полная тишина. Пространство сжалось, стены надвигались все ближе и ближе. Она распустила пояс халата, но от этого ей не стало легче дышать. Воздух словно застрял у нее в горле, его накопилось так много, что он не проходил внутрь, а, наоборот, закупоривал пути. Холодная влага покрыла ее лоб и грудь.
Она привалилась к стене и, потеряв сознание, рухнула на пол, широко раскрыв глаза.
Только в два часа дня Сэнди сумела одеться и отправилась в магазин спорттоваров Норвуда.
Магазин наполнял непрерывный поток субботних покупателей, которые хватали товары с одного стеллажа, а клали на другой, разыскивали среди теннисных мячей и лыжных ботинок своих непослушных детей, причитали по поводу непомерно вздутых цен на спортивную обувь. Сквозь свежевымытое стекло витрины Сэнди минуту наблюдала, как Джон оформлял покупку. Когда клиент с хозяйственной сумкой отошел, Сэнди зашла в магазин.
Он поднял голову, какое-то мгновение молча смотрел на нее, потом схватил инвентарную книгу и принялся быстрыми взмахами ручки помечать наименования галочками.
– Пожалуйста, поговори со мной, – сказала она.
– Сдается мне, ты уже поговорила почти со всеми, кроме меня.
– Джон…
– Ты, должно быть, считаешь меня полным идиотом. А, черт, я себя считаю полным идиотом. Ты довольна, Сэнди?
– Довольна? Как ты можешь это говорить? Да ты знаешь, как я себя сейчас чувствую?
– А мне глубоко плевать, что ты там чувствуешь. Я занят. Тебе придется уйти.
– Я хотела тебе сказать, но…
– Я не хочу слушать, Сэнди.
Джон забрал толстую инвентарную книгу и направился в глубь магазина. Остановился и повернулся к ней.
– В одном ты была права, – с горечью произнес он. – Я все же тебя не знаю.
Он ушел.
Сэнди стояла, ухватившись обеими руками за край прилавка, чтобы не упасть, а продавщица, занявшая место Джона у кассы, смотрела на нее, медленно покачивая головой.
В доме было совершенно тихо. Сэнди стояла в прихожей, пытаясь уловить звуки присутствия девочек, но не слышала ничего, кроме нарушавшего тишину потрескивания старых деревянных балок. Она повесила куртку и медленно взошла по лестнице наверх. Дверь в комнату девочек была приоткрыта, и она распахнула ее ногой.
Джулия, лежа на кровати с путеводителем по Будапешту, подняла голову, а потом снова быстро переключилась на книгу, отыскивая нужное место указательным пальцем.
Сэнди разглядывала макушку Джулии, пока та старательно произносила по-венгерски «Не скажете ли вы, как пройти к ближайшему телефону-автомату?», дважды повторив невнятные звуки, прежде чем перевернуть страницу.
Сэнди переступила с левой ноги на правую.
– Хочешь поговорить? – спросила она.
– О чем?
– О том, что произошло.
Джулия перевела указательный палец на следующую строчку.
– Нет.
– Я понимаю, что причинила тебе боль, – тихо сказала Сэнди. – У тебя есть все причины сердиться на меня. – Она вздохнула. – Я не знаю, что тебе сказать. – Она смотрела вниз, на Джулию, ожидая ответа. – Я люблю тебя и Эйли, – добавила она.
Джулия перевернула следующую страницу, уткнувшись лицом в книгу, чтобы скрыть замешательство.
Сэнди шумно вздохнула.
– Где Эйли?
– Не знаю.
– Как это, не знаешь?
– Куда-то пошла.
– Куда?
– Я же сказала, не знаю.
– Разве ты не спросила? Как ты могла позволить ей уйти из дома, не узнав, куда она собралась?
– Ты мне не мама, – огрызнулась Джулия и снова уткнулась в книгу.
Сэнди еще минуту смотрела на нее, потом вышла из комнаты.
Как только Сэнди ушла, Джулия швырнула книгу на пол. Она свернулась калачиком и, словно кошка, прикрыла глаза согнутой рукой.
Внизу Сэнди соорудила себе сандвич с тунцом. Хотя за весь день у нее во рту не было ни крошки, она только несколько раз надкусила хлеб по краям и снова сунула сандвич в холодильник, сок от тунца уже вытек на тарелку.
В кухне темнело. Сверху не доносилось ни звука. Сэнди шевелилась лишь затем, чтобы взглянуть на часы. Пять часов вечера. Шесть.
К семи часам, когда Эйли все еще не вернулась, Джулия сошла вниз. Она небрежно огляделась, безуспешно пытаясь скрыть любопытство и тревогу.
– Ее здесь нет, – сказала Сэнди.
Джулия подошла к холодильнику и вытащила сандвич, который не доела Сэнди. Она забрала его в гостиную и включила телевизор. Сэнди слышала мрачную электронную музыку, возвещавшую о начале научно-фантастической программы.
Еще через полчаса она вошла в гостиную и требовательно спросила у Джулии:
– Какие у нее есть подруги?
– Не знаю. Джеки Джерард. Может, Сью Хэнсон. – В ее голосе больше не было резких ноток, но она не отводила взгляда от телевизора.
Сэнди снова отправилась на кухню и позвонила домой обеим девочкам. Их матери разговаривали с ней по телефону резко, почти невежливо. Они наверняка тоже прочли газету. ДАЖЕ ПРИСМОТРЕТЬ ЗА МАЛЫШКОЙ НЕ СПОСОБНА! ЧЕГО И ОЖИДАТЬ ОТ ТАКОЙ, КАК ТЫ! «Нет, мы не видели ее», – ответили обе.
Выглянув из кухни, чтобы убедиться, что Джулия еще сидит в гостиной, и, оттащив телефон подальше, насколько позволял провод, она позвонила Теду.
– Она у тебя? – спросила Сэнди.
– Кто?
– Эйли.
– Нет, конечно. Что с ней? Что ты натворила?
– Ничего, – она тут же бросила трубку.
На минуту она прижалась лбом к аппарату, прежде чем снова набрать номер.
– Джон? Не вешай трубку, – заторопилась она. – Я насчет Эйли.
– Что с Эйли? – недоверчиво спросил он.
– Она пропала.
– Что значит «пропала»?
– Не пришла домой. Она ушла, пока меня не было, и я не знаю, где она, а уже темно и поздно, и я не знаю, что делать.
– Ты звонила в полицию?
– Нет.
Джон немного помолчал.
– Я поищу ее. Есть у меня одна мысль.
– Спасибо. – Сэнди опустила трубку.
Она открыла дверцу холодильника и уставилась на его непривлекательное содержимое. Она налила себе стакан белого вина из давно откупоренной бутылки и прихватила с собой в гостиную.
Джулия немного подвинулась, чтобы дать ей место на диване, и они сидели вдвоем, уставившись на экран телевизора, где мешались звуки и цвета и сменяли друг друга рекламные ролики, комедии и выпуски новостей. Ни одна не произнесла ни слова.
В комнате стояла кромешная тьма, когда Эйли проснулась и какое-то время не могла сообразить, где находится. Постепенно ее глаза привыкали к темноте, следя за тусклым светом, что проникал в комнату сквозь окно и отбрасывал неровные вертикальные тени на пустые полки и комод. Дома.
Она выпростала ноги из-под сбившегося одеяла, истершегося почти до дыр в том месте, которое она всегда прижимала ко рту. У нее затекла правая рука, и она трясла ею, пока не ощутила покалывание. Отведя с глаз выбившуюся прядь волос, она спустила ноги на пол и встала осторожно, словно сомневалась, выдержат ли они ее. Ведя руками по стене, она мелкими шажками прошла из своей комнаты по коридору в спальню родителей. Наконец дома.
Она повернула выключатель у двери и у кровати с той стороны, где спала ее мать, вспыхнула лампа, желтый огонек под гофрированным абажуром. Кровать была гладко застелена, ни единой морщинки. Она забралась на бледно-лиловое покрывало в цветочек и уселась, скрестив ноги, на самой середине. Тумбочка справа была пуста. Она вспомнила, когда отец только ушел от них, все время казалось, что комната может опрокинуться, комод, шкаф, сама кровать были так заполнены с правой стороны и так чисто и голо было слева. Она легла и подложила под голову подушку. От нее словно легкими струйками исходил призрачный сладкий аромат духов матери. Она плотнее прижалась к подушке и закрыла глаза, желая только одного – остаться в этом доме навсегда.
Ей снилась земля.
Земля, которой они накрывали ее мать, когда она смотрела, лопата за лопатой, пока она не исчезла из вида.
Земля, где копошились черви и змеи, извиваясь, пробираясь к ней.
Земля, выраставшая кучками на ее ногах, лодыжках, коленях, талии, выше, выше.
Земля, покрывшая ее глаза, – она ничего не видела.
Но это больше не имело значения.
Громкий шум внизу разбудил ее, мало-помалу вернув к действительности. Она прислушалась к приближавшимся шагам и натянула покрывало на голову. Ее дыхание под плотной тканью было слишком жарким, слишком шумным. Шаги слышались близко, потом остановились.
Он сдвинул покрывало с ее лица.
– Привет, – сказал Джон, улыбаясь.
Она смотрела на него, прищурясь, снизу вверх.
– Что ты здесь делаешь, дорогая?
Она все молчала.
– Ты заставила народ здорово поволноваться.
У нее на лице отпечатались следы от подушки и простыней.
Он присел на край кровати, протянул руку и нежно погладил ее лоб.
– Вставай, Эйли. Нам надо идти.
Она сонно покачала головой.
– Тебе нельзя оставаться здесь, – мягко сказал он.
Она еще минуту смотрела на него, и по губам ее скользнула тихая улыбка. Она не сопротивлялась, когда он поднял ее с кровати на руках, тяжелую и разгоряченную.
Спускаясь по лестнице, он крепко прижимал ее к груди, напрягая мускулы, словно боялся уронить. Мало-помалу тепло ее тела передалось ему, он расслабился. Он осторожно усадил ее в машину на переднее сиденье и, прежде чем обойти машину и сесть за руль, наклонился и поцеловал ее в лоб, закрыв глаза, как она.
Он внес ее, снова заснувшую или притворившуюся, что спит, в дом Сэнди.
– Где она была?
– Дома, – ответил он.
– Как же ей удалось забраться внутрь?
– Разбила окно.
Сэнди понимающе кивнула.
– Как ты догадался, где она?
Он пожал плечами и понес ее наверх, слегка покачиваясь при каждом шаге.
Спустившись вниз, он немедленно направился к выходу.
– Подожди.
Он обернулся к Сэнди.
– Пожалуйста, – прибавила она. – Я сварю кофе. Не уходи еще. Пожалуйста.
Он вдруг почувствовал, что слишком устал, чтобы сопротивляться. Вслед за ней он пошел на кухню.
– Прежде чем что-то говорить, – сказала она, насыпая кофе в конический фильтр, – выслушай меня, хорошо? Я хочу, чтобы ты знал, как я переживаю.
– Из-за чего?
– В каком смысле «из-за чего»?
– Я имею в виду, мне хочется знать, из-за чего именно ты переживаешь. Ты переживаешь из-за того, что трахалась с мужем своей сестры? Переживаешь из-за того, что лгала мне? Переживаешь из-за того, что Джулия видела вас? Переживаешь из-за того, что Горрик – мелкий честолюбивый подонок? Объясни мне, Сэнди, из-за чего конкретно ты переживаешь.
Она заплакала.
– Из-за всего. Из-за всего. Ты даже не представляешь, насколько переживаю.
– Безусловно, я о многом не имею представления. Есть еще что-нибудь, что мне бы следовало знать? Или я должен выразиться иначе, кто-нибудь еще, о ком мне следует знать?
Она с убитым видом смотрела на него, не замечая, что вода в кофеварке давно кипела.
– Как ты могла? – продолжал он с мукой в голосе. – Как ты могла?
– Не знаю. Я сама себе задавала этот вопрос весь прошедший год. Словно это сделал кто-то другой.
– Нет, это сделал не кто-то другой. Это сделала ты. Расскажи мне, как это произошло. Я имею в виду, как именно это было. Расскажи мне, как случилось, что ты спала с мужем своей сестры?
– Ты хочешь разложить жизнь по этаким маленьким аккуратненьким коробочкам и все точно надписать, – горько бросила она.
Он отодвинул свой стул, не сводя с нее глаз.
Когда она вновь заговорила, ее голос звучал отстраненно и глухо.
– У них были трудности…
– Ох, пожалуйста, не морочь мне этим голову.
– Он зашел за книгой. Не знаю, просто одно привело к другому.
– Послушай, вот в этом-то и штука. Вот что до меня не доходит. На мой взгляд, одно и другое не приводят, – он сделал резкий жест, – к этому.
Она разлила кофе по чашкам и села напротив него. Ее голос был ровным, задумчивым.
– Я бы могла привести миллион причин, и все они выглядели бы как оправдания. Может, мне хотелось получить то, что есть у Энн. Может, мне хотелось узнать, нужно ли мне то, что есть у Энн. Доказать себе раз и навсегда, что мне этого не нужно. Казалось, ей все всегда дается так легко. За всю жизнь она ни единого дня не была в одиночестве. Казалось, она всегда все делает правильно. Не знаю. Просто у нее все складывалось так удачно, понимаешь?
– Ты права. Это и в самом деле похоже на ворох оправданий. И притом дерьмовых оправданий.
– Может, это не имело никакого отношения к Энн. Может, просто все дело было в нас.
– В нас?
– Во мне и в Теде.
Джона передернуло.
– Мы все время ненавидели друг друга, – сказала она. – Ненавидели друг друга за то, что делали.
– Предполагается, что это меняет дело?
– Нет.
– И значит, вот что стоит за всем этим? – спросил Джон.
– За всем чем?
– За твоей убежденностью в вине Теда. Ты мстишь ему?
– Нет, – вскинулась она. – Он это сделал, я знаю, что сделал. Джон, он мне угрожал. Сказал, что, если я не заставлю Эйли изменить показания, он обо всем этом расскажет.
– Ты все это время общалась с ним?
– Нет. Да. В некотором роде.
– О, Господи. – Он закатил глаза. – Сэнди, если он угрожал тебе, это означает оказывать давление на свидетеля. Почему ты не обратилась в полицию?
– А как же девочки, Джон? – раздраженно сказала она. – Разве ты не понимаешь, у них, кроме меня, никого не осталось. Я бы все что угодно дала, лишь бы они не узнали об этом. Я пыталась защитить их. – Она хрипло рассмеялась. – Что за ирония судьбы! Откуда мне было знать, что Джулия нас видела?
– Ты можешь вообразить, каково ей было все это время?
Сэнди не ответила.
– Послушай, – наконец произнесла она, – есть еще один момент. Однажды он пригрозил, что убьет меня. Под конец нашего… – она опустила глаза, – как бы его ни назвать… он сказал, что, если я когда-нибудь хоть как-то обижу Энн, он убьет меня. Джон, в его взгляде было нечто такое…
– Если ты была так уверена, что он способен на насилие, почему не предупредила Энн?
– Если бы я только это сделала…
– Когда ты собиралась рассказать мне об этом, Сэнди? И собиралась ли?
– Я пыталась.
– Нет. Если бы ты хотела, то рассказала бы.
– Ты не всегда облегчаешь задачу, – сказала она, глядя на него.
Он ничего не сказал.
– Джон, это была ошибка, ужасная ошибка. Но это было давно. До тебя.
Он не шелохнулся.
– Что теперь? – тихо спросила она.
– Не знаю, – печально отозвался он. – Я не знаю.
Она кивнула.
– Спасибо, что нашел Эйли.
Он поднялся, чтобы уходить.
Она проводила его к выходу и придержала дверь, глядя на него снизу вверх покрасневшими глазами.
– Пожалуйста, не надо меня ненавидеть.
– Я не ненавижу тебя.
– Ты все еще меня любишь?
– Не искушай судьбу.
Она чуть улыбнулась, кивнула.
Он еще раз взглянул на нее и ушел.
Тед позвонил поздно вечером.
– Эйли нашлась?
– Да.
– Где она была?
– В старом доме, – ответила Сэнди.
– С ней все в порядке?
– Да.
– Она что-нибудь говорила?
– О чем?
– Насчет завтра.
– Нет. Она вообще ни о чем не говорила.
– Значит, ты не знаешь, что она скажет?
– Нет.
Возникла пауза. Имя Джулии вертелось на языке у обоих, но ни один не мог произнести его.
Тед что-то проворчал и повесил трубку.
В его квартире везде горел свет. Все приведено в порядок, протерто от пыли, разложено по местам. За последние долгие часы он почистил кухонную раковину, ванну и туалет, отодвинул холодильник на три дюйма от стены и соскоблил открывшуюся коричневую полоску смазки.
Он все время похлопывал пальцами по стакану, а потом по бедрам, расхаживая взад и вперед по квартире.
Он немного замедлил шаг и извлек чертежи своего будущего дома в горах из пустого ящика бюро, где хранил их в тонкой оберточной бумаге, заботливо оберегая от повреждения и утраты, словно некий талисман. Он разложил их на кухонном столе и принялся неторопливо, методично стирать и заново чертить прекраснейшие из линий в ожидании прихода утра.
Старший из двоих стариков притащился к зданию суда за час до того, как судебный пристав, потягивая сок из желто-коричневой упаковки, появился, чтобы отпереть двери. Старик быстро прошел в пустой зал и занял свое излюбленное место. Ради этого дня он принарядился в блейзер в бело-голубую клетку с бледно-желтыми пятнами на лацканах, его всклокоченные седые волосы сбились, обнажив лысину, которую им полагалась прикрывать, и торчали по бокам, словно крылья. В ночь перед заседанием он слишком волновался, чтобы заснуть. Когда вслед за ним прибыл его приятель, он распечатал коробочку с сушеными абрикосами, и оба принялись потихоньку жевать, пока зал наполнялся и публика рассаживалась по местам.
Ровно в девять тридцать Сэнди провела Эйли, одетую в синюю плиссированную юбку и белый свитер, на передний ряд. Новые туфли натирали Эйли пятку и скользили по мраморному полу, когда она проходила мимо рядов любопытных глаз. Когда они уселись на свои места, Сэнди крепко держала ее за руку, как ради нее, так и ради себя. Тед полуобернулся и взглянул на свою дочь, чистенькую, свежую и напуганную. Он мягко улыбнулся и увидел, как ее губы начали складываться в какую-то гримасу, которую он не сумел разобрать. Заметив это, Сэнди наклонилась и пригладила волосы Эйли, чтобы отвлечь ее, а Тед снова переключился на Фиска, шепча ему на ухо последний совет. Фиск осторожно кивнул. Несмотря на то, что он множество раз звонил Сэнди, ему так и не удалось добиться, чтобы она привела к нему Эйли. Он непроизвольно постукивал ногой по мраморному полу.
Судья Карразерс уже заняла свое место, когда дверь в зал в последний раз открылась. Сэнди обернулась и заметила, как Джон протиснулся в последний ряд. Прямо перед ним сидел Горрик с блокнотом и ручкой в руке. Она смотрела на его бесстрастное лицо, пока открывалось заседание, но он не реагировал.
– Защита вызывает Эйли Уоринг.
Сэнди крепко стиснула руку Эйли и прошептала:
– Только говори правду.
Эйли неуверенным шагом вышла вперед, приняла присягу и взобралась на возвышение, где находилось место для свидетеля.
Судья Карразерс обратилась к ней, ободряюще улыбаясь:
– Здравствуй, Эйли.
– Здравствуйте.
– Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? – спросила судья.
– Одиннадцать.
– Славный возраст, насколько мне помнится. А где ты живешь, Эйли?
– Раньше я жила на Сикамор-стрит. Теперь живу на Келли-лейн.
– С кем ты живешь?
– С моей тетей Сэнди.
– Эйли, ты знаешь, что такое правда?
– То, что происходило на самом деле?
– Очень хорошо. А знаешь ли ты, что такое ложь?
– Когда что-то выдумываешь.
– Хорошо. Ты только что приняла присягу. Ты понимаешь, что это значит?
– Я обещала говорить правду.
Судья Карразерс улыбнулась.
– Очень хорошо, Эйли. – Она повернулась к Фиску. – Можете приступать.
Фиск не спеша приблизился к Эйли, его губы раздвинула улыбка, как он надеялся, успокаивающая, только уголки, подрагивающие уголки губ выдавали некоторую неуверенность.
– Здравствуй, Эйли.
– Здравствуйте.
– Я постараюсь закончить как можно быстрее. Дорогая, ты, твоя сестра и папа 20 октября ездили на гору Флетчера на выходные?
– Да.
– Вы хорошо провели время с папой?
Эйли кивнула.
– Он говорил что-нибудь насчет того, чтобы поехать туда еще раз?
– Да. Он сказал, что в следующий раз мы поедем все вместе.
– И мама тоже?
– Да. Все вместе.
– Вы вернулись в Хардисон с папой и Джулией в воскресенье 22 октября?
– По-моему, да.
– Эйли, когда в тот день вы пришли домой, твои мама и папа начали ссориться?
– Да.
– А что ты делала?
Она взглянула на Теда, подавшегося вперед, к ней.
– Я пошла на кухню выпить стакан апельсинового сока.
– А где была Джулия?
– Она осталась в гостиной.
– Когда ты была на кухне, что ты слышала?
– Я слышала, как они ругаются.
– А прежде ты слышала, чтобы они так ссорились?
– Да.
– Точно так же?
– Думаю, да.
Фиск глянул в свои записи, потом на Теда, но его внимание было целиком поглощено дочерью.
– Эйли, ты слышала, чтобы Джулия что-нибудь говорила?
– Да.
– Что ты слышала?
– Джулия закричала: «Перестань! Нет!»
– И что ты делала потом?
– Я вышла в гостиную.
Эйли говорила так тихо, что судья Карразерс наклонилась вперед и сказала:
– Ты не могла бы говорить чуточку погромче, детка?
– Я вышла в гостиную, – повторила Эйли.
– И что ты увидела?
Эйли играла пальцами, крутя один вокруг другого.
– Что ты увидела? – опять спросил Фиск.
Она положила указательный палец на большой, потом большой – на указательный.
– Я видела, как Джулия набросилась на папу, – прошептала она.
Фиск расправил плечи.
– Это очень важно, Эйли. Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала. Джулия набросилась на отца до или после того, как выстрелило ружье?
Эйли в последний раз покрутила пальцами.
– До того.
– Извини, я тебя не слышу.
– Джулия бросилась на него до того, как ружье выстрелило.
По залу громко пронесся шорох и ропот голосов. Старик на заднем ряду с таким жаром хлопнул приятеля по колену, что тот от неожиданности вскрикнул. Присяжные, вытянувшие шеи в сторону Эйли, на секунду обернулись. Сэнди впилась ногтями себе в бедро, бормоча проклятия, и, глянув на обращенное к ней в профиль лицо Теда, заметила, как на его лице медленно проступает улыбка.
– Ты уверена, что ружье выстрелило лишь после того, как Джулия набросилась на отца? – В голосе Фиска появилась уверенность, которую он раньше лишь изображал.
– Да.
– У меня больше нет вопросов.
– Она лжет! – выпалила Сэнди, задыхаясь, чувствуя, как у нее кружится голова.
– Соблюдайте порядок, – сказала судья Карразерс.
– Но ведь она лжет! – крикнула Сэнди, вскочив с места, вцепившись в дубовый барьер перед собой.
– Тихо, – потребовала судья Карразерс. – Я не допущу ничего подобного в этом зале! – Она изо всех сил стукнула молотком.
ЭПИЛОГ
Свет, проникавший снаружи сквозь лабиринт голых веток прямо перед тремя большими окнами, отбрасывал на некрашеный пол гостиной причудливые призрачные тени. Рабочие, строившие дом, советовали Теду расчистить побольше зарослей на участке в три акра, но он отказался. Дом – простой, без украшений, не загроможденный мебелью – стоял оазисом среди леса, грозившего поглотить его при малейшей возможности. Когда они только переехали сюда два месяца назад, последние листья день и ночь непрерывно скреблись в окна. Теперь, в разгар зимы, лишь серебристо-белый снег громоздился на карнизах, на ветках и на холмах, вздымавшихся позади, отражаясь в комнате. В ней не было вычурной мебели и ярких красок, на стенах не было ни картин, ни фотографий. Дом нельзя было увидеть с дороги. Он был точно такой, каким он его задумал.
Тед поставил чашку с кофе на белую деревянную стойку, отделявшую кухню от гостиной. Все было светлым и просторным, кругом порядок и чистота. Он вытер со стойки лужицу и глянул на часы. Одним глотком допив кофе, сунул чашку в посудомоечную машину и подошел к подножию лестницы в самом центре дома.
– Джулия? Если мы вообще собираемся ехать, пора пошевеливаться. Уже три часа. Ты идешь?
Взявшись рукой за балясину перил, он ждал ответа. Никогда не отличавшийся терпением, он был вынужден за последние десять месяцев много ждать. Ждать, пока закончится строительство дома. Ждать, несмотря на вынесенный вердикт о невиновности, пока вернутся клиенты, пока исчезнет пятно. Ждать, пока его дочери забудут о прошлом. Он хмурился, тщетно пытаясь расслышать шаги. В нескольких шагах от него Эйли, устроившись в кресле, пристально следила за ним. Она теперь предпочитала ни на минуту не упускать его из виду. После суда был период, когда она так цеплялась за него, что он сомневался, отпустит ли она когда-нибудь его руку, отойдет ли от него хоть на шаг. Он не мог отделаться от мысли, что она берет причитающееся ей, что он ей должен; и он, разумеется, задолжал ей. И все же он задумывался о том, когда же она насытится, если это вообще возможно. Он ободряюще улыбнулся ей и еще раз крикнул наверх.
Джулия наконец спустилась, на плече у нее болтались новые белые ботинки с коньками. Длинные волосы перехвачены резинками.
– Я же сказала, я не хочу идти.
– А я сказал, что вторая половина воскресенья – время семейное. Можешь хоть запереться в своей комнате на шесть с половиной дней в неделю с наушниками на голове, но только не в воскресенье.
Джулия, насупясь, посмотрела на него.
– Ты это говоришь только потому, что так всегда говорила мама.
Тед помрачнел. Джулия, когда-то стремившаяся во что бы то ни стало освободиться, с недавних пор превратилась в охранителя прошлого, на каждом шагу выставляя перед ним Энн, словно магический талисман.
– Ты готова?
– Да.
Они взяли из гардероба в прихожей свои куртки, и Тед наклонился помочь Эйли застегнуть парку, а она стояла неподвижно и безвольно, следя за его руками. Он запер дверь и смотрел, как Джулия и Эйли спешили по морозу к машине на подъездной аллее. Обе уселись на заднее сиденье, но по разные стороны, отвернувшись каждая к своему окну. Глядя на них в зеркало заднего вида, Тед снова был ошеломлен мертвой тишиной, повисшей между ними, тяжелой, непроницаемой. Он включил радио, и они поехали вниз по извилистой дороге вдоль крутого склона Кендл-хилл, слушая развлекательную программу в перерыве футбольного матча.
Когда они подъехали к автомобильной стоянке на дальнем конце озера Хоупвелл, Джулия первая выскочила из машины еще до того, как Тед вынул ключ из зажигания. К тому времени, как Эйли и Тед добрались до края замерзшего озера, на ходу натягивая варежки и перчатки, она уже сидела на скамье, сунув ноги в ботинки с коньками, и разглядывала уже катавшуюся публику, чьи разноцветные куртки и шапки двигались на фоне белого льда, белого неба. Она отъехала от скамьи, как только к ней приблизилась Эйли.
Тед встал на колени и туго зашнуровал ботинки Эйли, чтобы у нее не подворачивались ноги, хотя это вроде бы не помогало, и два воскресенья с тех пор, как они начали ездить сюда, Эйли уходила с катка шатаясь, с ноющими мышцами.
– Ну вот, так надежно. Встретимся на льду, – он слегка хлопнул ее по спине, словно подталкивая, но она не сдвинулась с места, а терпеливо ждала, пока он надевал свои большие черные ботинки.
Тед задвинул свою обувь под скамейку рядом с обувью девочек и встал, взяв Эйли за руку.
– Ну хорошо, идем.
Когда они делали первые неуверенные шаги по неровному льду, он огляделся и заметил зеленую парку и узкие джинсы Джулии далеко справа. Она уже отыскала мальчика, с которым и приехала встретиться. Он знал, что она терпит эти прогулки только из-за мальчика, хотя Теду было неизвестно его имя и даже неизвестно, был ли мальчик один и тот же каждую неделю, однако подозревал, что нет. Он никогда не спрашивал об этом, точно так же как избегал думать о грудях, выросших внезапно, словно вигвамы по весне, о картонных коробочках из-под тампонов, которые замечал среди мусора. Теперь они находились в стороне от всех, двигаясь потихоньку, чтобы не потерять равновесия. Он вел Эйли вокруг озера медленно, с остановками, держась в нескольких шагах от края озера, где она чувствовала себя в полной безопасности.
– У тебя хорошо получается, – сказал он ей, и она улыбнулась, довольная, что угодила ему. – Мне кажется, тебе надо попробовать самой.
– По-моему, я еще не готова.
– Ну давай, Эйли, попробуй.
Он отпустил ее руку, прежде чем она успела возразить, и отъехал от нее, морозный воздух наполнил его легкие, он глубоко вдыхал его и лишь один раз оглянулся убедиться, что она не упала. Он объехал пару, которая скользила, держась скрещенными перед собой руками, с нервным смехом подстраиваясь друг к другу, застенчиво и неловко. Один вид взрослых людей, пришедших на свидание, наводил на него тоску, особенно при свете дня, и он взрезал коньками лед, спеша прочь от них. Оглянувшись, он увидел, как Эйли вскарабкалась на берег и остановилась, следя за ним, дожидаясь его. Он выписал на льду восьмерку. Совершая последний виток, он заметил, как Джулия отделилась от мальчика и приблизилась слишком близко к середине, где лед был менее прочным, и ее коньки погружались в него на четверть дюйма. Он только было направился в ее сторону, как ее догнал мальчик, называя ее по имени со страхом, восхищением и восторгом. Она отошла от опасного места на несколько шагов, смеясь над его малодушием. Тед быстро пробежался туда-сюда пару раз и поехал обратно.
На самом деле он находил эти вылазки на озеро скучным занятием и коньки купил только потому, что не мог придумать, чем бы им заняться по воскресеньям. Джулия, конечно, была права. Первоначально это была идея Энн, она появилась, когда он проводил слишком много времени вдали от них. Дни Семьи – так она их называла, улыбаясь с надеждой, настойчиво и неотвратимо.
Теперь он вспомнил первые воскресенья после суда. Он забрал девочек из дома Сэнди через два дня после вынесения приговора, явившись туда в восемь часов утра и застав Эйли уже возле дверей, в одиночестве, с аккуратно упакованным чемоданом и школьным ранцем с учебниками на плече, вся ее фигура выражала ожидание и облегчение. Он поцеловал ее гладкую щеку.
– Похоже, ты не заставишь мужчину ждать, – поддразнил он ее. Она улыбнулась ему и взяла его за руку.
– Где Джулия? – спросил он ее.
Эйли указала в сторону гостиной.
Тед подошел и, заглянув, заметил в темноте Джулию, сидевшую, положив ноги на кофейный столик, скрестив руки на груди.
– Ты готова? – спросил он.
Она не ответила.
– Джулия!
– Я не поеду.
Тед стоял на пороге и смотрел на нее.
– Боюсь, что поедешь.
– Сэнди сказала, я могу остаться у нее.
– Это не Сэнди решать.
Джулия смотрела мимо Теда на Сэнди, которая подошла и встала позади него, прислонившись к косяку, держа в руке чемодан Джулии.
– Извини, детка, – сказала она.
Тед не обратил на нее внимания, не сводя твердого взгляда с дочери.
– Идем, сокровище. Все будет хорошо, вот увидишь.
Джулия пнула столик, и два журнала свалились на пол.
– Ну же, – настаивал он, и что-то в его голосе заставило ее встать – с презрительной усмешкой, закусив губу, но тем не менее встать и пойти вслед за ним.
Сэнди отдала ей чемодан, когда она проходила мимо.
– Джулия, – шепнула она, но если Джулия и расслышала, то не отозвалась.
Джулия поволокла чемодан к входной двери, которую придерживала Эйли, и обе вышли, а Сэнди молча смотрела им вслед, подавленная собственным бессилием. Девочки как раз сходили со ступенек, Сэнди удержала Теда за руку.
– Я буду следить за тобой, – сказала она.
– Я думаю, было бы лучше, если бы ты какое-то время не виделась с ними, – спокойно ответил он и повез дочерей к себе в Ройалтон Оукс.
В тот первый вечер он разобрал диван, на котором Эйли и Джулия всегда спали рядышком, когда приходили к нему в гости, и взбил им подушки.
– Я с ней спать не буду, – заявила Джулия, выходя из ванны.
– Почему?
Она посмотрела на него с высоты своего подросткового максимализма, полного и невозмутимого.
– Потому что я с лгунами не сплю.
Эйли со стаканом молока в руке стояла рядом и не произносила ни слова.
– Все позади, Джулия, – тихо сказал Тед. – Давай просто оставим это.
– Ты можешь считать, что победил, – прошипела Джулия, – но мы оба знаем, что она не видела, что случилось.
Тед долго не отвечал.
– Можешь лечь на постели или на полу, мне все равно, – он повернулся, собираясь выйти из комнаты.
– Куда ты идешь? – бросила она ему вслед. – К одной из своих подружек?
Он засунул руки глубоко в карманы и долго и пристально смотрел на нее.
– Я сожалею о том, что ты видела, – сказал он. – Я сожалею о том, что случилось. Я совершил ошибку. Но лишь одно имеет значение – я любил твою маму, Джулия. – Он все смотрел на нее, словно ожидая увидеть, как его слова дойдут до нее, проникнут в сознание. Когда она, нахмурясь, опустила глаза, он повернулся и неторопливо вышел из комнаты.
Джулия взяла подушку и спала, как и все последующие ночи, на полу, застеленном серым ковровым покрытием, просыпаясь с отпечатком его узора на щеке. Постепенно изначальная ярость ее гнева на предательство Эйли притупилась и улеглась, и осталось лишь испепеляющее презрение к младшей сестре, а иногда жалость, потому что веселая беспечность Эйли сменилась неуверенностью, заставлявшей ее постоянно оглядываться через плечо, просыпаться ночью. Тем не менее Джулия не делала никаких попыток успокоить Эйли, когда слышала, как та хнычет во сне в нескольких шагах от нее, одна в двуспальной кровати. Они никогда не говорили о показаниях Эйли; не было никаких обвинений и объяснений, никаких признаний. Эйли, больше всего желавшая вычеркнуть все, кроме настоящего, с надеждой приступала к Джулии с робкими предложениями поделиться сандвичем, освободить место у телевизора, с просьбами помочь с уроками, но, натыкаясь лишь на каменное молчание, отходила, тихонько ожидая, когда Джулия наконец простит ее, и довольствуясь Тедом. Воскресенья были днями мрачными, их проводили в торговом центре или в кино, где общение сводилось бы к минимуму. Через два месяца они сняли дом у семьи профессора, уехавшего на год в отпуск в Лондон. Джулия пролила пузырек черных чернил на их марокканский ковер и отказалась отчищать его. Пятно так и осталось нетронутым посередине гостиной, где они никогда не собирались все вместе одновременно.
Как только началось строительство, Тед стал регулярно по воскресеньям водить девочек посмотреть, как возводится дом на Кендл-хилл, бетонный фундамент, каркас и наконец крыша, окна неделя за неделей вырастали у них на глазах. Джулия обычно держалась на расстоянии от стройки, раздраженная и испуганная ее неизбежностью, а Эйли, ухватив Теда за руку, говорила о цвете краски.
Тед оглянулся на берег и увидел, как Эйли, сидя на скамье в одиночестве, распускает шнурки на ботинках с коньками и надевает обувь. Она сидела, сложив руки, глядя, как другие катаются на озере. Это Эйли первая распаковала свои вещи, первая вышла из своей комнаты; Эйли садилась ужинать ровно в шесть тридцать и настойчиво звала Теда и Джулию к столу; это Эйли вспомнила в унылый День благодарения, что они не сделали рога изобилия, который каждый год мастерила Энн, с высыпавшимися оттуда орехами, фруктами и сушеными абрикосами, и отказывалась есть до тех пор, пока они не соорудили сносную замену ему.
Он заскользил по льду и на гудящих ногах подошел к скамье, где она сидела.
– Мы можем поскорее поехать домой? – спросила она.
– Замерзла?
Она покачала головой. Ей больше не нравилось быть на людях, больше не хотелось встречаться с друзьями. Ей хотелось лишь сидеть в этом доме, в своей комнате наверху, где сквозь тонкие занавески виднелся силуэт холма, где кончался их участок и начиналась собственность штата.
Тед встал. Ноги, снова обутые в ботинки, словно налились свинцом и отяжелели. Он подошел к краю озера и позвал Джулию. Он знал, что она услышала, хотя сделала вид, что ничего не заметила.
– Джулия! – крикнул он еще раз, поднеся ко рту сложенные воронкой руки.
Джулия повернула к берегу, увидела, что отец зовет ее, и нарочно развернулась, отрабатывая катание спиной вперед, которому учил ее мальчик. Она выводила ногами букву V, носок к носку, а он потихоньку подталкивал ее.
– Ты почему останавливаешься? – спросил мальчик.
Джулия не ответила, продолжая смотреть через плечо.
В нескольких ярдах от нее Сэнди, у которой подогнулись ноги, рассмеялась, когда Джон опоздал подхватить ее и она шлепнулась на лед.
Их взгляды встретились.
– Джулия, иди сюда, – крикнул Тед.
Она отвернулась от Сэнди, от мальчика и покатила к берегу.
– Что?
– Пора ехать.
– Вы поезжайте. Колин проводит меня домой.
– Пойди попрощайся с ним, мы тебя ждем у машины. Давай.
Он смотрел, как Джулия, злясь, но без звука потащилась назад.
Сэнди потирала ушибленный бок, пока они с Джоном ехали домой.
– Я же тебе говорила, терпеть не могу все это, – сказала она.
– Ты говорила, что никогда раньше не каталась на коньках.
– Я и на военных сборах никогда не бывала, но мне незачем туда отправляться, чтобы понять, что мне это придется не по вкусу.
– А уговор помнишь? Разве мы не собирались сделать это правилом? Одно воскресенье ты выбираешь, чем нам заняться, другое – я, помнишь?
– Хоть бы ты перестал считать это летним лагерем, – пробормотала она.
– А ты бы перестала считать это испытанием.
– Это же и есть испытание, разве не так?
Он быстро глянул на нее, на секунду оторвавшись от дороги.
– Если ты будешь представлять это таким образом, ничего никогда не получится.
Они подъехали к дому, и Джон вышел из машины первым, отпер дверь своим ключом и пропустил ее в дом. Несколько ее коробок все еще торчали в гостиной (он свои вещи разобрал в первые же выходные после переезда), ее одежда большей частью или оставалась в чемодане, или висела в мешке для одежды в шкафу.
Она повернулась к нему.
– Что теперь?
– В каком смысле?
– Ну, это же твое воскресенье, в конце концов. Что ты хочешь делать теперь?
Джон смотрел на нее, расстроенный.
– Мы не на свидании. Понимаешь? Давай повторю. Мы не на свидании. Это твой дом, наш дом. Делай что хочешь. Поднимайся наверх, ложись, читай книгу, что угодно.
Сэнди кивнула и пошла наверх. Она легла на огромную кровать и уставилась в потолок, прислушиваясь к его шагам внизу, к звуку открывшейся и захлопнувшейся дверцы холодильника, к стуку крышки мусорного ведра. Она понимала, что он прав, понимала, что если у них вообще есть хоть какой-то шанс, она должна перестать проверять каждый час, каждый вечер, есть ли какие-то сдвиги, оценивать, все ли у них пока нормально. Истина заключалась в том, что она бы не узнала, когда наступил этот момент. Ведь единственными людьми, с которыми она жила, были Джонатан и Эстелла, и Энн.
Для них обоих оказалось потрясением, когда они поняли, что все-таки не разлучены, что могут сделать такой выбор. «Но повернуть назад мы не можем», – сказал Джон и предложил попробовать пожить вместе. Она кивнула с тревогой, мостик между ними все еще был шатким после недель и месяцев, проведенных в спорах допоздна, когда кончился процесс. Не было другого выбора, разве что еще большее одиночество в доме, который терзал ее бесконечным призраком разлук, пустыми одинаковыми кроватями девочек, темными и тихими коридорами. Однако между собой они больше не заводили никаких разговоров о браке, о прошлых предложениях или о будущем. Она помнила ту ночь вскоре после окончания процесса, когда он до рассвета пролежал на ее кровати, не раздеваясь, отказываясь прикасаться с ней, отказываясь говорить с ней, отказываясь уйти. «Был не в состоянии», – потом объяснил он ей.
Он нашел этот дом через неделю после того, как она сказала «да».
Она слышала, как он внизу поставил новый диск с лучшими песнями Пегги Ли. Она взяла лежавшую возле кровати книгу и открыла на заложенной странице, но слова песен, доносившихся снизу, проникали в ее сознание, даже когда она встала и закрыла дверь.
Книга упала ей на грудь.
Взгляд Джулии на катке, глаза в глаза, волосы у нее теперь до плеч, как у Энн.
Сначала Сэнди следила за Джулией и Эйли на расстоянии, подъезжала к школе к концу уроков, звонила знакомым узнать, как их дела, выискивала признаки неблагополучия. Она словно ожидала какого-то осязаемого взрыва, вспышки, чего-то настолько заметного и громкого, что она бы увидела это издалека, услышала бы за несколько миль. Она тревожно ждала, но вместо этого жизнь шла своим чередом, пока она уже и сама не была твердо уверена, от чего же собиралась ограждать их.
Когда она в первый раз остановилась, вышла из машины, подозвала их, Джулия уперла руки в бока. «Что это ты всегда едешь мимо и не остановишься? – спросила она. – Не понимаешь, что мы тебя видим?» Застигнутая врасплох, растерявшаяся Сэнди не нашлась, что ответить.
– Хотите прокатиться до дома?
Сначала Эйли, потом Джулия уселись на переднее сиденье рядом с ней и показывали ей, как проехать к дому, который они снимали, в двух милях от Сикамор-стрит.
– Как дела в школе? – спросила Сэнди небрежно, ощущая неловкость. Она краем глаза покосилась на Джулию, отыскивая признаки смягчения, прощения.
– Я учусь у миссис Файнман, – ответила Эйли. – У нее рыжие волосы, и она такая тощая, что все кости видны. Ты ее знаешь?
Сэнди улыбнулась.
– Кажется, не имею такого удовольствия. Джулия?
– Все нормально.
Сэнди ждала продолжения. Она слышала, что у Джулии масса проблем. Были разговоры о репетиторах и консультациях у психологов и об особых мерах.
Но Джулия ничего не сказала, только откинулась на спинку сиденья и внимательно наблюдала за тем, как Сэнди вела машину, за изгибом ее руки, отметила, что она по-новому подобрала волосы низко на затылке в свободный пучок. Иногда на какие-то неуловимые доли секунды – когда у нее опускались уголки губ слева, когда она склонялась к рулю на красный свет, – она напоминала Энн, но сходство всегда исчезало, прежде чем Джулии удавалось схватить его, и оставляло после себя лишь саму Сэнди.
– У нас будет новый дом, – сообщила Эйли.
– Да?
– Скоро, – прибавила Эйли. – Мы его строим сами.
После этого Сэнди несколько раз в месяц заезжала за ними, подвозила их до дома, который они снимали, а потом и до Кендл-хилл. Однажды она зашла в дом вместе с ними, но как-то не смогла пройти дальше порога гостиной, такой чистой и светлой, и новой, что она вздрогнула. Джулия наблюдала за ней и поняла ее. Они смотрели друг на друга, до обеих едва доходила нарочито веселая болтовня Эйли.
– Проводишь меня до машины? – спросила Сэнди.
Джулия вышла на улицу вслед за ней.
– Тебе здесь хорошо? – спросила Сэнди.
Джулия неопределенно пожала плечами.
– Я понимаю, что у тебя нет особой причины доверять мне, – сказала Сэнди, прислонившись к машине, скрестив руки, – но, если тебе когда-нибудь что-то понадобится, хоть что-нибудь, надеюсь, ты знаешь, что можешь мне позвонить.
Джулия не ответила, только отложила эту информацию подальше вместе с другими своими последними спасительными средствами.
В следующий раз, отвезя их домой, Сэнди не вышла из машины.
Она так и не узнала, сообщали ли девочки Теду о ее визитах, хотя и подозревала, что нет.
Внизу музыка кончилась, а Джон не шел сменить диск. Сэнди представила, как он дочитывает газету, непроизвольно потирая рукой левое ухо. Иногда чтобы остановить его, она захватывала мочку его уха ртом и тихонько кусала. Она еще несколько минут лежала неподвижно, а потом пошла вниз, к нему.
Как только они вернулись с озера домой, Джулия тут же ушла в свою комнату, закрыла дверь и заперлась. Сбросила обувь и села за стол, выдвинула верхний ящик, вынула тот же самый коричневый пакет, что прятала у Сэнди. Она приоткрыла его ровно настолько, чтобы достать письмо, которое получила на прошлой неделе от Питера Горрика.
Дорогая Джулия,
Привет. Извини, что так долго не отвечал на твое письмо, но моя мать не сразу передала его мне. Я больше не живу вместе с ней, нашел себе квартиру на другом конце города (см. адрес на конверте). Я работаю в «Нью-Йорк глоб», пишу статьи и внештатно сотрудничаю с некоторыми журналами. На прошлой неделе прокатился в Лас-Вегас взять интервью у Сильвестра Сталлоне о его новом фильме. Я говорил с ним лично ровно десять минут, вклинился между доброй сотней других репортеров. По правде говоря, десять минут со Сталлоне – это чересчур, минут на девять больше, чем достаточно. Во всяком случае, мне повезло на обсуждении, редактору материал понравился. Мне очень жаль, что ты так несчастна. Конечно, я бы хотел повидаться с тобой, но в связи с новой работой мне приходится много ездить, и, пожалуй, нам придется на некоторое время отложить твой визит. Что касается твоего вопроса насчет Санта-Фе, нет, я там не бывал. Джулия, я вполне верю тебе, когда ты говоришь, что не можешь дождаться, чтобы выбраться из Хардисона. Не знаю, насколько я могу помочь, но своего обещания я не забыл. Ну, мне пора идти. У меня срочное задание – статья о разводе Петры Гаррисон. Ты вряд ли о ней слышала, но здесь это очень важная персона в обществе, и она согласилась дать мне эксклюзивное интервью.
Береги себя,
Питер
Джулия сложила письмо и собиралась было положить его обратно в пакет, но передумала и порвала его на четыре, а потом на восемь частей. Она понимала, что он никогда ей не поможет. Тем не менее она засунула клочки письма обратно в пакет, вместо того чтобы выбросить их в мусорную корзинку возле ног.
Она закрыла ящик и, осторожно подойдя к двери, чуть-чуть приоткрыла ее. Из кухни доносился запах гамбургеров, которые Тед готовил на ужин. Хотя за последние месяцы его кулинарное искусство заметно улучшилось, Джулия все еще считала за правило есть с подчеркнутым безразличием и, как только заканчивала, тут же спешила уйти из-за стола.
Его глаза, когда он наблюдал за ней через стол, терпеливый и мечтательный взгляд, словно она останется здесь, будет принадлежать ему вечно.
Она закрыла дверь, заперла и включила стереосистему на предельную громкость.
На следующий день Сэнди сидела на своем месте с ворохом разложенных на столе макетов, приводя в порядок свои мысли после ежедневной планерки в час дня по поводу содержания первой полосы завтрашней газеты. С тех пор как ее назначили заместителем ответственного секретаря, она стала бояться этих совещаний, где Рэй Стинсон, сидя во главе длинного стола из красного дерева, безжалостно терзал четырех своих редакторов, с пристрастием допрашивая, почему они считают, что их материалы важнее других и достаточно ли в них остроты. Сэнди, которая раньше всегда высказывала свое мнение спокойно и уверенно, теперь стремилась готовиться чересчур тщательно и свои аргументы выдавала с излишним напором, ожидая критических замечаний, настроенная не соглашаться. Ее отношения с коллегами, прежде обострявшиеся лишь временами, с момента ее повышения в должности заметно испортились. Сначала она просто приписывала это новым полномочиям, которые теперь были ей даны, – сокращать материалы, заменять их, предлагать, снимать. Но потом она поняла, что дело не только в этом, что все связано с судом, с Тедом, с ней самой. Она знала, что им было нужно, чтобы она расплатилась за все – расплатилась так, чтобы они могли это видеть и оценить. Вместо этого сегодня она снова выиграла, и серия из трех статей о бюджетных проблемах штата в последующие дни появится на первой полосе.
Она еще раз просмотрела первую статью, помечая знаком вопроса те положения, которые, по ее мнению, корреспондент мог бы сформулировать яснее. Никто не спрашивал ее, хочет ли она кофе, никто не интересовался, как она провела выходные. Единственным человеком в редакции, который изо всех сил старался быть с ней любезным, была женщина, занявшая место Питера Горрика.
Она только взялась за вторую статью, как ее телефон зазвонил.
– Алло?
– Сэнди?
Сэнди мгновенно выпрямилась.
– Джулия?
– Да.
– У тебя все нормально?
Долгое молчание.
– Я могу с тобой встретиться?
– Конечно. У тебя действительно все нормально?
– Да.
– Куда мне подъехать за тобой?
– К школе, – ответила Джулия и повесила трубку. Она откладывала этот звонок, откладывала даже мысли о нем, сколько могла. Но больше она не видела иного выхода. Она вышла на улицу дожидаться Сэнди.
Крыло старенькой «хонды» цвета морской волны дребезжало, пока они отъезжали от школы и добирались до проселка. Джулия поставила ноги на брошенный на пол школьный рюкзак, подняв обтянутые леггинсами колени до груди. Она смотрела на мелькавшие за окном сосны и снежные сугробы. Стекла были плотно закрыты, и она слышала, как Сэнди дышит, сглатывает комок в горле, ждет. Джулия облизала потрескавшиеся губы.
Сэнди вела машину медленно, растягивая время, что они были вместе, пытаясь превозмочь молчание Джулии, но опасаясь, что, если надавить, Джулия снова замкнется в себе. Проехали еще четыре мили.
– Что-нибудь случилось? – наконец спросила она.
Джулия скрестила ноги. Она смахнула с оконного стекла каплю грязи и вытерла палец о сиденье.
– Ты можешь поговорить за меня с отцом?
– О чем?
– Меня собираются оставлять на второй год. У меня неуспеваемость по четырем предметам. Но миссис Мерфи нашла эту школу, Академию Брандстона. Она находится всего в сорока милях отсюда. Они сказали, что возьмут меня на весенний семестр. Это школа для таких, как я.
– Для таких, как ты?
Голос Джулии стал тихим и язвительным.
– Для детей, которым нужно особое внимание. Ну знаешь, для трудных детей.
– Понятно, – Сэнди на мгновение растерялась. – А ты трудный ребенок?
Джулия пожала плечами.
– Они мне выделят какую-то денежную помощь.
– А твой отец не хочет, чтобы ты ехала?
– Он мне не дает никакого ответа. Он встречался с миссис Мерфи и ей тоже ничего не сказал. Дело в том, что занятия начинаются на следующей неделе.
– А ты хочешь поехать?
– Да, – просто ответила Джулия.
Сэнди свернула на дорогу в сторону Кендл-хилла.
– Джулия, – тихо начала она, – твой отец и я…
Глаза Джулии сузились.
– Ну, скажем просто, что он не слишком ценит мое мнение.
Джулия повернулась к ней, положив ногу на сиденье.
– Но ты по крайней мере попытаешься?
Сэнди въехала на пустую подъездную дорожку. Джулия никогда раньше ни о чем ее не просила, и даже сейчас она ни о чем не умоляла, а лишь прикидывала шансы.
– Попытаюсь, – сказала Сэнди, – но на многое я бы не рассчитывала.
Джулия кивнула и вышла из машины, не сказав спасибо.
Сэнди смотрела, как Джулия вошла в дом и закрыла за собой дверь. Она медленно выехала с подъездной дорожки задним ходом и спустилась с Кендл-хилла. На дороге попадались обледеневшие участки и какое-то время она осторожно вела машину, не думая ни о чем другом.
В городе она очутилась за квартал от дома на Сикамор-стрит, и хотя тщательно избегала его целый год, на этот раз свернула и медленно проехала мимо. Перед домом не стояло машин. На окнах гостиной висели кричащие ярко-желтые шторы. На стеклах окон верхнего этажа были наклеены самодельные снежинки.
Когда-то во время Теда (она никак не могла думать об этом по-другому, не могла подобрать этому подходящее название) она все время тайком проезжала мимо этого дома по дороге на работу, по дороге домой, иногда даже специально ради этого ездила среди дня, хотя и стыдилась этого непреодолимого влечения. Тогда ей казалось, что дом словно раздался в высоту и ширину, вырос наглядным укором, и она тщетно пыталась догадаться, что творится внутри. Возможно, ей просто нужно было напоминать себе о его существовании.
Она проехалась вокруг квартала и отправилась в центр, оставила машину за магазином стройматериалов на Мейн-стрит. Заперев дверцу, она прошла пешком два квартала до бара, где впервые встретила Теда в одиночестве. Ее глаза не сразу привыкли к полутемному помещению, наполненному дымом от сигарет. Она села у стойки, заказала водку со льдом и, получив ее, немедленно сделала большой глоток. Она больше не думала об отъезде из Хардисона, больше не покупала кассет с курсами иностранных языков и газет, выходивших за его пределами, больше не придумывала в четыре часа утра объяснения своему бездействию. Она теперь смотрела на город с чувством собственнической ностальгии, которую другие приберегают для мест, которые оставляют, и бывали минуты, когда это чувство действовало на нее почти успокаивающе. Как бы то ни было, она знала, что это ее дом. Она быстро допила водку и заказала еще одну порцию, алкоголь уже ударил ей в голову, одновременно обостряя и затуманивая сознание. Она взяла бокал и направилась к телефонной кабинке в конце бара и, прежде чем набрать номер офиса Теда, отпила еще глоток.
– Подождите, – сказала секретарша, – он как раз собирался уходить.
Сэнди ждала, накручивая на палец телефонный провод.
Она отбросила его, как только услышала его голос.
– Да?
– Тед, это Сэнди.
Он не произнес ни слова. Музыкальный автомат выдал старую песню, не то «Четыре вершины», не то «Соблазны», она не разобрала.
– Я по поводу Джулии.
– Что по поводу Джулии?
– Ты можешь встретиться со мной? – Она окунула палец в бокал и облизала его. – Пожалуйста.
– Что по поводу Джулии? – повторил он.
– Я не хочу говорить об этом по телефону, – ответила она и объяснила, где находится.
Она пила третью порцию, когда он приехал.
Он сел рядом с ней. Здороваясь, они оба смогли только кивнуть друг другу.
– Я буду пить содовую, – сказал Тед бармену.
Когда ему подали заказ, Сэнди посмотрела на шипучий напиток.
– Не пьешь?
Он пожал плечами, не желая объяснять ей, что бросил давно, словно это было бы признанием прошлой ошибки.
– Прежде чем ты что-то скажешь, – резко начал он, – позволь сказать тебе, о чем бы ни шла речь, я приехал сюда по единственной причине – сообщить тебе, что не желаю, чтобы ты совала нос в мои семейные дела.
– Они и моя семья тоже, – тихо произнесла она. Она ощущала, как спиртное – для нее непривычно большая порция – разливается внутри. – Они – это все, что мне осталось от нее.
Он ничего не сказал.
Она выпрямилась.
– Послушай, мне это нравится не больше чем тебе.
– Давай к делу, Сэнди.
– Как я понимаю, у Джулии неприятности.
– В этом возрасте у всех неприятности.
– Дай же мне сказать, черт побери, а? Дай мне сказать. Джулия попала в беду, Тед. Давай, по крайней мере, честно признаем это.
Он ничего не ответил, только вертел соломинку в бокале.
Она глянула на его лицо сбоку, на склоненную голову. Она вдруг вспомнила отстраненное выражение его лица, когда он, кончая, мощными толчками сотрясал ее тело, глубоко внутри нее что-то дрогнуло.
– Почему ты не хочешь, чтобы она поехала в этот Бранстон? – резко спросила она.
– Я никогда не говорил, что не хочу, чтобы она ехала.
– Значит, ты отпустишь ее?
– Просто не хочу, чтобы другие принимали решения за меня, – ответил он.
– По-моему, ты в одиночку с этим не слишком справляешься.
Он резко обернулся к ней.
– Вот как тебе кажется?
Сэнди откинулась на спинку.
– Может быть, ей нужно уехать подальше от всех нас, – тихо сказала она.
– Каким образом это что-то решит?
– Там будут люди, которые знают, как ей помочь.
– Она в них не нуждается.
– Ей нужны не только мы, еще что-то. Послушай, мне больше неважно, что произошло, мне на все наплевать. Отпусти ее и все, идет? Дай ей этот шанс. По крайней мере это ты ей должен.
– У тебя это выходит так просто.
– Я не нарочно.
Тед провел руками по волосам и посмотрел на Сэнди. Она встретила его взгляд, и оба поняли только одно – они никогда до конца не освободятся друг от друга. Оба отвели глаза в сторону.
– Ты все еще с Джоном? – спросил он.
Она кивнула.
– Тебе нужно позвонить ему и попросить заехать за тобой. Тебе нельзя вести машину в таком состоянии.
– Все нормально.
Тед больше ничего не сказал, а выложил на стойку деньги.
– Окажите мне услугу, – обратился он к бармену, – позвоните в магазин спорттоваров Норвуда и скажите, чтобы Джон Норвуд забрал ее.
Он еще раз взглянул на Сэнди и ушел.
В тот вечер, после того, как девочки давно отправились спать, Тед долго лежал в постели, разглядывая узоры, образовавшиеся у него на обнаженной груди от света настольной лампы. Случалось, что его тело буквально изнывало, стремясь ощутить прикосновение. После суда ему звонило множество женщин, некоторые даже появлялись у него в офисе, делая вид, что им нужно поговорить о строительстве, любопытные женщины, дерзкие женщины, женщины, каких он презирал.
Он перекатился на правый бок и, просунув руку между пружинами и матрасом, осторожно вытащил фото, снятое «Полароидом». Энн на их кровати, голая, на четвереньках, округлые груди висят, зад высоко поднят, голова запрокинута назад в приступе смущенного смеха.
Они тогда прибегали к любым попыткам, раскрепощенные собственной несчастливой жизнью.
Она хватала камеру, придвигала ее близко к нему, слишком близко, на фотографиях вышли расплывчатые пятна из волос и пор, он их порвал. Сохранилась лишь эта.
Он провел пальцами по контурам ее тела на маленьком глянцевом снимке, поднес его к самому лицу, словно, если бы очень постарался, то ощутил бы ее запах. А вторая его рука медленно опустилась по телу вниз.
Джулия услышала, как уже далеко за полночь он бродил по дому, как делал часто, шлепая босыми ногами по деревянному полу. Она прислушивалась, когда он открыл дверь комнаты Эйли и вошел туда, потом тихо вышел спустя несколько минут. Затем он подошел к ее комнате, и она притворялась, что спит, наблюдая сквозь прищуренные глаза, как он стоял в дверях, глядя на ее неподвижное тело, словно вечность прошла, прежде чем он медленно повернулся, спустился вниз и принялся вышагивать взад-вперед по гостиной.
А еще позже ночью она слышала, как он плакал, звуки его глухих рыданий, отдаленные и чужие.
Она наконец уснула перед самым рассветом, и во сне до нее смутно доносилось, как Тед варил себе первый кофе в этот день.
Тед провел рукой по небритому лицу и прикрыл утомленные глаза. Крепкий кофе урчал в животе, и он отодвинул от себя третью чашку. Пасмурное утро тускло освещало кухню. Он услышал, как наверху в туалете спустили воду, дверь открылась и закрылась. Он уже приготовил девочкам миски и два стакана апельсинового сока.
Они спустились вниз вместе и сели на свои места за столом.
Он наблюдал, как Эйли насыпала хлопья, а потом молоко в белую фарфоровую китайскую миску. Джулия, месяцами отказывавшаяся от завтрака, просто потягивала сок.
Он встал, переложил со стола на стойку нераскрытую газету, посмотрел, как она теребит бумажную подставку, салфетку.
– О'кей, – произнес он устало, глядя прямо на Джулию.
Она обернулась к нему.
– О'кей, и что?
– О'кей, можешь ехать.
Она с подозрением смотрела на него, отыскивая в его лице признаки того, что он дразнит ее, или устраивает проверку, или следы слабости.
– Ты уверена, что хочешь именно этого? – спросил он.
Она кивнула:
– Да.
– Я позвоню миссис Мерфи сегодня немного позже и узнаю, что надо делать, – сказал он ей. Он заметил, что до нее наконец дошло, по выражению, мелькнувшему на ее все еще заспанном лице, и отвернулся.
Миски он засунул в посудомоечную машину.
– Поторапливайтесь, – резко бросил он. – Школьный автобус будет здесь с минуты на минуту.
В ночь перед тем, как Джулии надо было уезжать, она дождалась, пока Тед отправился спать, и тихо встала с постели. Дверь в комнату Эйли была закрыта; в доме царила тишина.
Она спустилась вниз в кромешной тьме, сжимая в руке коричневый бумажный пакет, вынутый из ящика стола. Сначала она сходила за лопатой и сапогами, стоявшими у двери, а потом вышла на улицу. Бледная полная луна освещала ей дорогу.
Она прошла в дальний конец двора и положила пакет на землю за самым большим кленом. Почва промерзла, и она потратила много времени, чтобы расковырять ее хотя бы на несколько дюймов.
Перед тем как сунуть пакет в неглубокую ямку, она в последний раз открыла его, коснулась пальцами записки матери: ДЖУЛИЯ, ДОРОГАЯ, Я УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ, первой записки Питера с номерами телефонов и клочков его письма, коричневой вьющейся ленты от коллажа Эйли, коротеньких кружевных трусиков Сэнди.
Ежась от холода, она свернула пакет, положила на дно ямки и аккуратно прикрыла землей, камнями и льдом.
Эйли в ночной фланелевой рубашке в цветочек, босоногая, наблюдала из окна своей комнаты, как Джулия шла обратно к дому, волоча за собой лопату.
После того как Джулия скрылась внутри, она еще минуту вглядывалась в темноту и пустой двор, потом опустила тонкие белые тюлевые шторы и тихонько забралась обратно в постель.






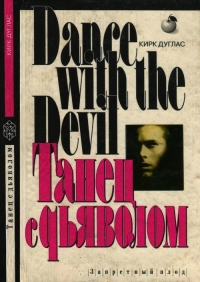





Комментарии к книге «Деяния любви», Эмили Листфилд
Всего 0 комментариев