Олег Слободчиков ЧЕРТОВ УЗЕЛ
1
Алика зарезали в начале мая рядом с избушкой, прилепившейся к скале.
Он умер в призрачной дымке ранних горных сумерек, когда над глухим ущельем мигнула и засветилась первая звезда. Ее холодный небесный блеск кристалликом застыл в светло-карих, как у волка, глазах и долго еще фосфоресцировал в них.
Утром тело в окровавленной рубахе увидел чабан, проезжавший верхами по своим выпасным делам и решивший навестить травника. Он слишком поздно сообразил, что Алик не пьян, что он — мертв, близко подъехав к убитому. Зачем-то окликнул покойного срывающимся голосом и, озираясь, торопливо развернул коня: угораздило же именно в этот день оказаться рядом с избушкой русского… Но след подков был оставлен, и всякому местному жителю ясно кем. Чабан направил коня по берегу реки, к селу, где жил участковый инспектор. По пути всадник увидел крышу фермы кооператора Лехи-чушкаря. В голову пришла дельная мысль: «Почему я должен лезть на глаза начальству? Алик — русский, и чушкарь русский: пусть у него болит голова об убитом и о разговоре с милицией!»
Алексей проснулся поздно: в доме уже было душно, назойливо гудели мухи, под самым окном устроили шумную разборку голодные свиньи. Два дня он мотался по району, выбивая корма в отделениях здешнего совхоза.
Вернулся поздно ночью на попутном лесовозе. До конца квартала оставался целый месяц, план совхоза по сдаче мяса не горел, а потому комбикорм под запись кооператору не давали, хотя обязаны были обеспечивать им по договору.
Подъехавший к избе чабан постучал в стекло плетью, заглянул в пыльное оконце. Дверь запиралась на внутренний замок: сразу не разберешь — дома хозяин или нет его, но возле порога был свежий Лехин след. Чабан поводил приплюснутым носом, разглядывая затоптанные свиньями следы, и застучал настойчивей. Алексей перевернулся на другой бок, не желая вставать, подумал: постучит-постучит и уйдет, красть во дворе нечего. Чабан, брезгливо сплюнул от приторного свиного духа и стал тарабанить так, что оконная рама заходила ходуном.
— Эу, Леха, открывай, Алика убили!
Алексей помотал коротко стриженой головой — не приснилось ли? Сел на край кровати, свесив жилистые ноги.
— Эу, Леха!..
Алексей отпер дверь, высунулся, жмурясь от солнца.
— Какого Алика? — спросил, зевая.
— Твоего, русского Алика, волчатника, — чабан спешился, вошел в избу, сел на лавку и закурил. — Я утром был у него. Мертвый лежит у ручья, и дверь в дом открыта. Недавно убили: ворон нет, кровь не черная. Надо милиция ехать… Человек — не собака! — черные глаза важно метнули взгляд на иконы в углу: мол, мы не какие-нибудь безродные проходимцы, имеем понятие. Чабан приосанился, пристально посмотрел на Леху, намекая: мое дело сообщить, дальше — твоя забота!
— Может быть Алик пьяный лежит? — без надежды в голосе спросил Алексей. — Загулял на Первое мая?
Чуть дрогнули в усмешке обожженные солнцем губы чабана.
Алексей опустил рассеянный взгляд к затоптанным половицам, торопливо перебирая в мыслях события последних трех дней. С озабоченностью в глазах и с облегчением под сердцем тряхнул белобрысой головой — все это время он был на людях и вдали от Алика. С этим чабаном когда-то встречался, но имени его не помнил.
— Агай! Я утром приехал, не спал еще и свиней кормить надо! Съезди к участковому, расскажи, что видел!
Чабан от уважительного обращения к нему еще выше задрал приплюснутый нос и степенно мотнул головой:
— Далеко ехать! Конь слабый, семья ждет.
— Агай! У кого хочешь спроси — русский чушкарь сказал, значит сделал! Есть у меня бутылка самогона, она — твоя.
— Эй, Леха, голова болит — умираю. Налей сто грамм? — чабан хитровато сморщил нос и покосился на стакан с присохшими чаинками.
— К менту с утра и с запахом? Нет! Скажет: чушкарь чабанов спаивает, потом приедет, заберет твою бутылку, а другой нет.
Чабан не стал дожидаться чая. Чтобы не обидеть добрых духов, оберегающих очаг дома, отщипнул корочку от булки хлеба, бросил ее в рот, подвел коня к вросшей в землю кряжистой чурке посреди двора, неловко забрался на нее и сел в седло.
Алексей вытащил из-под половицы незарегистрированный дробовик, разобрал его, обернул мешковиной и унес в лес.
За обещанной бутылкой хмурый чабан явился нескоро. Его на два дня задержали в селе, заставив возить дрова для местной милиции. Участковый приехал на «уазике» уже на следующее утро. С ним прибыли следователь и оперативник из района. Все трое, незваные, прошли в избу мимо вышедшего навстречу хозяина. Алексей не последовал за ними. Сел на чурку, листая исписанную ученическую тетрадь, и дождался, когда нагловатые гости вынуждены были выйти вон. К столу их тоже никто не приглашал. По местным понятиям это было вопиющее неуважение. Такое могло сойти с рук только чужаку. Алексей делал вид, будто ничего не понимает, прибывшие делали вид, что безродный свинопас, прилепившийся к совхозу, не достоин того, чтобы на него обижаться.
Участковый, ни слова не говоря и круто заламывая бровь, с минуту буравил Алексея испытующим взглядом, потом, чуть смутившись насмешливых глаз чушкаря, спросил сурово:
— Кто убил русского?
— Ты — власть, ты и разбирайся! — таким же тоном ответил Алексей и добавил резче: — И не строй мне глазки, я тебе не родственник!
У него сразу не сложились отношения с участковым, поскольку кооператор, обойдя его, одаривал мясом только председателя совхоза и начальника районного отдела милиции.
Глаза милиционера слегка очеловечились.
— Вас здесь только трое, русских… Может быть, подозреваешь кого?
— Алик со всеми хорошо жил и никому зла не делал, — чуть мягче сказал Алексей. Подумал: «А вот с языком, по пьянке, у него были проблемы…» Об этом с прибывшими говорить не стоило. Подрагивающей рукой он протянул исписанную ученическую тетрадь: — Здесь все написано: где и с кем я был последнюю неделю, и кто это может подтвердить.
— Ишь, какой грамотный, — опять прищурил глаз участковый инспектор.
— Да уж пограмотней многих! — скривил губы Алексей.
Тело лежало ничком. Левая рука была поджата к животу, правая, со сбитыми суставами пальцев, вытянута. Чуть заметный ветерок шевелил локон на виске. Некогда светлая рубаха была черна от засохшей крови.
Милиционеры небрежно пошарили в кустах, вошли в избушку, позвали Алексея, потрясенного видом мертвого товарища.
— Бывал здесь?
— Два раза в этом году!
— Как думаешь, что пропало?
Пропадать было нечему: пара серпов была засунута за стропила набранного из тесаных жердей потолка, замызганный спальный мешок валялся на нарах, на столе стояла черная от копоти посуда, керосиновая лампа с треснувшим стеклом, под нарами — две пары резиновых сапог, продукты в мешках. Алексей пожал плечами:
— Нож складной у него был! Большой такой.
— На поясе нож. В чехле, — бесстрастно проговорил следователь.
В избушке смрадно пахло перестоявшей сивухой. Участковый откинул крышку двадцатилитровой алюминиевой фляги и оглядел всех с таким видом, будто раскрыл тайну убийства.
Алексей ни к чему не прикасался, каждый шаг делал с опаской, обдумывая последствия: местным выгодно было свести все к тому, что русские передрались между собой: все просто и всем понятно.
Оседланные кони, взятые для поездки у чабанов, беспокойно топтались возле ручья, храпели и прядали ушами, косясь на тело. Оперативник со следователем перевернули Алика на спину. Засохшая рубаха без пуговиц распахнулась, как надломленная скорлупа, и Алексей, чуть побледнев, увидел раны возле сердца.
— Гляди-ка, сквозняк! — сказал по-казахски следователь. — У тесака должно быть лезвие сантиметров двадцать пять…
«Двадцать четыре», — мысленно поправил его Алексей и с опаской подумал, что говоривший не так глуп, как это казалось на первый взгляд.
Оперативник взял одну из лошадей под уздцы, чтобы погрузить тело, она рванулась в сторону от кровавой лужи. Оперативник, до сих пор ни слова не сказавший по-русски, матюгнулся без всякого акцента. Лошадь получила по лбу удар плетью и, подрагивая, послушно сдала задом к ручью. Участковый и следователь подхватили тело: один за ноги, другой под руки. Алексей, глядя на них, растерянно переступил с ноги на ногу.
— Помоги! — прикрикнул участковый и проворчал: — Еще иконы дома повесил.
Алексей вздрогнул, подскочил к телу, брезгливо подхватил его под поясницу, где не было ни крови, ни ран, помог перекинуть тело через седло.
* * *
После распада общины, тайно жившей в верховьях реки Байсаурки, Виктор, на пару с Аликом, всю зиму заготавливал хвою эфедры и хорошо на этом заработал. Получив деньги, он надолго застрял в городе, а потом устроился на работу в издательство художником. Устроился, потому что не мог отказать в просьбе старому знакомому и бывшему однокурснику, повышенному в должности и искавшему хотя бы временную замену на прежнюю свою должность.
Алик лето и осень проработал в горах один, иногда в паре со случайными людьми. В начале года он снова вписал Виктора в свой договор с заготконторой. И тот клялся, что к весне закончит городские дела и вернется, может быть, даже на несколько лет. Виктор не лгал. Ему действительно плохо было в городе, и он готовился к возвращению на Байсаур. Подстегнул события звонок междугородной станции. Звонил киргиз Богутек, приятель Алика, у которого Виктор пару раз ночевал, дожидаясь попутки или нерегулярного рейсового автобуса в райцентр. Звонил Богутек не иначе как из кабинета управляющего отделением совхоза. Его то и дело перебивала казахская тарабарщина на линии:
— Эу, Витька, Алик где? — кричал табунщик.
— В горах! — Слегка удивившись звонку, ответил Виктор. — Недели три назад он был у меня, вещи оставил…
— В морге наш Алик. Двадцать дырок! Вот, что сделали, сволочи…
— Кто? — еще не осознав услышанного, спросил Виктор.
— Алоу, слышишь? Сейчас хоронить надо. Сказали холодильника в морге нет.
Алика хоронили в середине мая, на девятый день после гибели, когда в горах лютовали клещи, а в предгорьях расцветала душистая джигида.
Милиция вывезла труп в райцентр и в интересах следствия определила место захоронения поблизости. Могилу вырыли вдали от Байсаурского урочища, на заброшенном русском кладбище с облупившимися звездами на памятниках и с покосившимися крестами. Почти все христиане: русские, украинцы, немцы давно выехали из этих мест. Гробов здесь делать не умели. Богутеку удалось договориться в столярке с двумя уйгурами, они сколотили тяжелый ящик из сырых лиственничных плах.
По законам старой чикинды — то есть профессиональных и пожизненных сборщиков трав — Виктор был наследником участка Алика, а значит, платил за все, на что не хватило денег, выданных на похороны заготконторой.
Вскоре после этого он окончательно рассчитался в издательстве, накупил полный рюкзак портвейна, водки, добрался маршрутными автобусами до ближайшего селения. Отсюда до избушки Алика было около шести часов пешего хода. Алексей после распада общины построил ферму почти на середине этого пути. Из прижившихся здесь русских ближе всех к селению жил травник Анатолий Колесников. У него была землянка в пойме реки, врытая в заросший осинником яр.
Богутек со своим табуном был где-то на летних выпасах. Проситься на ночлег в его дом при отсутствии хозяина Виктор не стал: уж лучше идти ночью до самой фермы. Других знакомых в казахском селе с рублеными русскими пятистенками у него не было. По рассказам Алика, Виктор примерно представлял, где находится колесниковская избушка, и решил поискать ее.
На его счастье травник оказался дома. Зная друг о друге только понаслышке, они проговорили до полуночи. Анатолий от выпитого мрачнел, вздыхал, много курил, размышляя вслух по многолетней привычке одинокой жизни.
— Язык у Алика был хоть и не злой, но ехидный, — говорил, отводя глаза в сторону. — Бывало, болтал по пьянке лишнее… А жизнь как устроена? За первый удар — только перед Богом ответчик, за остальные кровью или сроком платить надо: двадцать дырок — не шутка!
Анатолий честно отсидел семь лет за нож и имел свой взгляд на кровавые разборки. Он жаловался, что Алик снится чуть не каждую ночь. «К чему бы?» — спрашивал, бросая настороженные взгляды на гостя.
Виктору покойный тоже снился несколько раз. И он, сознавая, что это сон, торопливо спрашивал: «Кто тебя убил?» Алик при этом смеялся и отмахивался, как от пустого, а Виктор просыпался.
— Сами мы во всем виноваты! — неторопливо размышлял Анатолий. — После заключения я мог в Новосибирске остаться или на Алтае — там тоже горы. А вот ведь зачем-то сюда вернулся… Ты посмотри вокруг, — он распахнул дверь нетрезвым тычком кулака…
Землянка была мала как конура: два на два с половиной метра. Кирпичная печь посередине, лавка и узкие нары на одного человека. За распахнутой дверью, во тьме, шумела река. Струи свежего, влажного воздуха стекали по ночной долине. Они несли запахи льда и снега.
— Ты только посмотри! — Анатолий вздохнул с сиплым, прокуренным стоном, повел рукой, указывая в темнеющую даль.
Со всех сторон их окружали горы. Контуры вершин белели во тьме. Над ними поблескивали первые звезды.
— Это же узел, в котором сам черт не разберется! — Анатолий сплюнул за порог, обернулся к гостю и, прислушиваясь к чему-то, просипел: — Обман!..
Вдруг когда-нибудь сама собой и появилась бы здесь граница между севером и югом, между равниной и ледниками, между разномастными народами: ведь это село наши старообрядцы основали. Но бес, как попало, все смял, связал, и мы в том узле застряли, вроде вшей в чужом грязном белье.
Он опять сплюнул, вывернул кирпич из печки, за которым был тайник, вынул пакетик с анашой и привычными движениями пальцев набил папироску.
— Ладно, мы! — с болью взглянул на Виктора. — Мы тут все пропащие.
Ты-то куда лезешь? На чикинде искони так: кто вовремя смог бросить — живи! Но кто бросал, а после снова вернулся, тому — хана!..
Рано утром с тяжелой от выпитого головой Виктор ушел вверх по долине реки. От избушки Анатолия до фермы Алексея было часа четыре пешего хода, но он добрался туда лишь к вечеру, когда солнце багровой лавой заструилось по ледникам Прииссыкульского хребта.
Два года назад, после развала колонии, Алексей, в отличие от растерявшихся друзей, загорелся новым делом: кооперативом, арендой, экологически чистым хозяйством… Виктор помогал ему в строительстве.
Многое тогда было сделано наспех, в расчете на будущую достройку и отделку. Судя по всему, ферма уже не достраивалась. Как был когда-то наспех собран дом, таким он и остался. Даже крыльцо было недоделанным.
Между тем, все недоведенные постройки вдруг постарели, осунулись, вросли в изрытую скотом, вытоптанную землю. Внове была лишь ветхая юрта, стоящая посреди двора, да изгородь из жердей, на которых сидели тощие куры. По ту и по другую сторону от нее — зловонный навоз, обгрызенный кустарник и грязь: не зная, не догадаешься, что здесь живет оседлый русский, а не животновод-кочевник.
Из распахнутой двери на поросячий визг и озабоченное кудахтанье, выглянул Лешка — хмурый, заросший рыжеватой щетиной. Был он в выгоревшей майке и в обвисших рабочих штанах. Узнав Виктора, обрадовался, посветлел лицом, смутился, как-то жалко засуетился, разжигая примус, наливая воду в чайник. И вид его, и манеры не вязались с прежним, знакомым по колонии щеголем и эрудитом.
Виктор поставил рюкзак на сухое место, сел на колоду. Алексей беззлобными пинками разогнал обступивших гостя свиней и присел рядом. С тоской взглянул на товарища.
— Что там в городе?
Виктор смахнул пот с бровей, распахнул ворот рубахи.
— Перестройка! Все чего-то ждут, мечутся, что твои куры, орут:
«Приватизация! Приватизация!» Телевизор включишь — какой-нибудь дундук с экрана молча глаза пялит: считается — лечит, короче, у всех мозги съехали…
Скатилось за горы весеннее солнце. От усталости дневного перехода, от запахов реки и трав, от удушливых испарений навоза кружилась голова. С модельной прической, еще не потерявшей укладки, в модной рубахе с темными разводами пота, в белых кроссовках, артистически высокий и широкоплечий, Виктор смотрелся как нечто враждебно-чужеродное всему тому, что его окружало. Казалось, от него веяло беспечностью вальяжного, вечно веселящегося города.
— А у меня все по-прежнему! — вздохнул Алексей.
— Вижу!
— Только Светку с детьми отправил к матери… Свиноматок дикие кабаны перетрахали, потомство пошло злющее, прожорливое, у иных даже подшерсток появился… Тут боишься, как бы самого не сожрали, за детей и вовсе страшно… Чего же мы здесь сидим? Заходи! Вот и чайник закипает, — вскочил он.
— Погоди, дай отдышаться, — Виктор скинул рубаху, повесил ее на забор.
Его тренированная мускулатура была покрыта излишним слоем жирка. Но тридцатисемилетнего мужика это не портило. — Я ведь второй день к тебе добираюсь… От Толика тебе привет.
Алексей кивнул, ткнул носком сапога в высунувшееся из-под забора рыло и спросил наконец:
— Что там менты? Не нашли кто убил? — не дождавшись ответа, кивнул на свиней. — Голодные твари… Ох, и влип я с этой арендой. Хотел воли, а попал в кабалу. Так-то вот! И продать хозяйство не могу, и бросить жаль — сколько трудов и денег во все вложено… Прав был Алик: налегке жил, штанов приличных не имел. Так и надо в наше время, — он помолчал и добавил тише, — в этих местах.
В доме пахло перепревшей картошкой. Старая побелка закоптилась, по углам висела паутина, и только на окне на легком сквозняке шевелилась занавеска, всем своим видом напоминая, что здесь когда-то жила женщина.
— Я все про себя да про себя, — проворчал Алексей. — Ты-то как?
— Хорошо! — понимая, что интересует товарища, усмехнулся Виктор. — С Людкой расстались навсегда… Еще зимой. А я уволился. Заявление кладу начальнику на стол, а у того глаза на лоб: уверен, что вот-вот издательство станет собственностью коллектива. — Гость хмыкнул, мотнул головой и в упор взглянул на товарища: — Возвращаюсь на Байсаур, выхожу, так сказать, на новый виток своей жизни.
Выгоревшие до белизны брови Алексея поползли вверх:
— Не понял… Ты надолго?
— Хотелось бы навсегда, но это невозможно!
Алексей выругался отрывисто и приглушенно:
— Ну и ду-рак! Уж если колонией не смогли выжить, один — пропадешь…
— Помолчал, задумчиво глядя в сторону, тряхнул головой: — А я сбегу при первой возможности и навсегда: это уж точно!
— Куда? — усмехнулся Виктор.
— На Север! В Россию!.. Рос-сия! — слово-то какое, — в глазах Алексея блеснули фанатичные огоньки: — Мог бы — прямо сейчас ушел и свиней угнал бы. Но к северу все перевалы непроходимы для моего хозяйства.
Остается одна дорога, — он кивнул по течению реки, на юг, — а там председатель, участковый, аренда, суверенитет. Все, что есть в районе, — по местным понятиям — принадлежит здешней власти. Обложили, гады, загнали в угол! Всем дай, всех накорми… Говорят мусульмане свинину не едят… Брехня! На халяву сало с салом жрут и в запас просят!
Чай в заварнике напрел. Алексей придвинул гостю кружку и замер вдруг с чайником в руке:
— А хочешь, я все тебе отдам? Живи. Если сможешь — когда-нибудь рассчитаешься. Не до прибылей. Бери! Лишь бы своему все досталось, а не здешним псам! — не дождавшись ответа, он грустно кивнул, поставил жгущий пальцы чайник на стол. — Чудишь! В одиночку здесь или озвереешь так, что начнешь мочить всех подряд, или попадешь в кабалу как в капкан.
Бежал бы, пока ничем не связан.
— Куда? — опять насмешливо взглянул на него Виктор.
— На Север! — с пафосом произнес Алексей.
— В отличие от тебя, я знаю Север не понаслышке: и в России работал, и по Сибири поездил. Россия всегда была родным своим детям хуже мачехи: там можно жить, если только ты какой-нибудь армянин или негр. К тому же, здесь народ добрей и отзывчивей: среди ночи в любой дом постучи — поднимутся, чаем напоят, спать уложат на лучшем месте… Попробуй постучись так в России. В лучшем случае пошлют… А то и обухом по тыкве… Алик нормально с местными жил и со всеми ладил, — Виктор расстегнул рюкзак, достал бутылку водки.
— Недолго прожил, — пробурчал, взглянув на иконы, Алексей…Впрочем, неизвестно еще, как мы…
Виктор вспомнил голое тело на каталке, грубый шов от паха до горла, квадратики присоленной кожи, ошкуренные с ран и сохнущие на картонках.
Он мотнул головой и заговорил, разливая водку по стаканам:
— Левая рука у Алика — вся изрезана, на правой казанки сбиты — явно отбивался от ножа, а свой так и не вытащил, не верил, что могут убить. Ему ткнули в живот и провернули лезвие. Дыра — с пятак. На спине против сердца — четыре дырки и еще несколько нераскрывшихся ран — уже мертвого кололи. Кто-то, очень пугливый, это делал, боялся, если не добьет — то Алик его кончит.
Виктор на мгновение умолк, уставившись в одну точку остекленевшим взглядом:
— Там, в морге, санитарка, — то ли из русских, то ли обрусевшая татарка — старая, прокуренная, сморщенная, как сушеное яблоко, говорит нам:
«Покойник тяжелый, мне одной его не одеть». Заходим с Богутеком, а она:
«Вот молодцы, что пришли! Он вас не забудет!» Прикинь, в таком месте работает и в бессмертную душу верит, — Виктор повел глазами в темный угол, завешанный иконами, где на лике Богородицы еще мерцали отблески прошедшего дня: — А может быть и правда душа есть, и она бессмертна? — не дожидаясь ответа, он выпил за помин и, чувствуя, что какая-то важная мысль безнадежно упущена, раздраженно сказал: — Кто-то из наших знакомых убил! Хоть бы зацепку какую найти…
— Есть зацепка! — глядя в сторону, приглушенно буркнул Алексей. — Только, между нами. Пока… Помнишь, у меня был австрийский штык? Так вот, он пропал осенью. Местные даже у своих ножи воруют. Обокрасть русского — почитают за подвиг. Так вот, тем штыком убили.
— Отчего ты так решил? — вкрадчиво спросил Виктор, подливая водки в стаканы. — Разве ни у кого в округе нет длинного ножа?
— Чабаны и браконьеры длинными не пользуются — только туристы, и то «чайники», — пробормотал Алексей. — А они — народ вежливый. Да и с чего бы Алик отбивался от вооруженных незнакомцев кулаками?.. Будешь в избушке — посмотри, там возле крыльца тал растет, в метре от земли над тем местом, где труп лежал, на кожуре четкий отпечаток рукоятки штыка. Уж его-то трудно спутать с чем другим. Кто-то как замахнулся — так и припечатал… Спросишь, почему следователю не сказал? — поднял глаза Алексей.
— Догадываюсь!
— Правильно. Сидел бы сейчас в «крытке» и доказывал, что я не хряк, — он помолчал, морщась от застарелой обиды, заговорил, оправдываясь: — О многом передумал я за эти дни. Ведь кто-то же убил и ходит среди нас. Нож у меня могли взять только местные и двое или трое русских, знавших Алика.
Толика Колесникова на несколько рядов проверили, Тимоха в городе, говорят, торгует компьютерами и иномарками. Если бы он захотел отмстить Алику, ему пришлось бы и нас с тобой убирать — слишком много мы знаем про его дела, когда здесь колонией жили. Был тут еще один русский — Боря!
Осенью он с Аликом траву резал. Чудак! Нашел окровавленную телогрейку в верховьях Байсаурки и понес ее в село показать участковому: хотел перед местной властью выслужиться. А та проверила самого Борю и оказалось, что он во всесоюзном розыске по алиментам. Посадили. Вот и получается, что, кроме местных, убить-то некому. Хотя… Не могу поверить, что среди здешних браконьеров и чабанов есть такой умный, что убил и помалкивает.
Давно бы об этом все знали. Они самогон-то тайком выгнать не могут, куда уж им об убийстве молчать.
Стемнело. В проеме открытого окна показалась вечерняя звезда. Алексей скосил на нее глаза, вздохнул:
— Там, когда жили колонией, бывало, покажется в окне, — кивнул на планету, — значит, скоро рассвет. Я по ней просыпался как по часам. — Он грустно усмехнулся и спросил: — Не жалеешь, что развалилась наша хипповская кооперация? — Пока Виктор пожимал плечами, собираясь с мыслями, добавил: — А я иногда жалею. Головой-то понимаю: глупо жили, и даже пошло, рано или поздно все могло кончиться еще хуже, чем случилось, но ведь было то, чего, наверное, никогда уже не повторится и что до сих пор греет душу… Знаешь что?
Виктор взглянул на него и пожал широкими плечами.
— Свой круг! Были и сволочи, но свои сволочи. Тебе еще предстоит понять, что такое гордое одиночество, если, конечно, останешься здесь…
Туфта все это и интеллигентский бред. Одинокий и свободный — всегда слабый. Только если за твоей спиной организация — ты человек, а не дерьмо.
— Леха, да ты среди свиней стал настоящим коммунистом! — тихо рассмеялся Виктор. — В городе бывшая партийная братия, из самых идейных, грозится побросать партбилеты, божится в ненависти к большевизму, а ты, значит, обратно: «День за днем бегут года — зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя — Ленин…» — Он снова взглянул в потемневший угол с иконами: — Так не примут ведь тебя в партию по недостатку классового атеистического сознания. Гляжу, в Бога ударился? Впрочем, сейчас это в моде.
Алексей протер стекло керосиновой лампы, зажег фитиль. Заплясали тени на стенах. Мутный коптящий огонек ярче высветил строгие лики в углу.
— Местные достали… Знаю точно, что меж собой они никогда не молятся.
Ко мне придут или я к кому зайду — начинают рисоваться мусульманством, показывают, дескать, ты всего лишь советский выродок с моральным кодексом строителя коммунизма, а они — народ! Ну и я, не будь дурак… Они — «Алла бесмолла», я — крестное знамение и «Отче наш…». Сразу зауважали.
— А если и я с ними заодно: «Алла бесмолла»? — устало зевнул Виктор.
— Станут подсмеиваться над тобой и угощать возле порога. Простой народ примитивно, но очень точно чувствует в людях духовность и бездуховность. Даже чужая вера, чуждая, но культура вызывают в нем уважение, а их отсутствие — презрение. Из всего, что я имел неосторожность затевать в этих местах, только два дела вызвали безусловное уважение моих соседей: постройка дома и приобщение к своей национальной религии, — Алексей налил водки в стаканы, бросил на гостя лукавый взгляд: — Тебе все это еще предстоит открыть. Мой совет — со своим-то рылом не строй из себя казаха или интернационалиста — презирать будут!
Виктор безучастно кивнул: учту, мол, повел подбородком в сторону икон:
— Нынче внедрилось модное словцо — имидж. Значит, имидж?
— Не совсем! — Алексей прищурился, разглядывая стакан на свет лампы.
— Библию я давненько почитываю, но понимать начал только сейчас, в этой свинской жизни. И нахожу в ней, особенно в Новом Завете, ответы на все вопросы, которыми так дебильно болело и мучилось наше поколение. И в первую очередь — вопросы национальные, о которых мы не задумывались, кося под Запад. А теперь дорого за это платим: пришло время воевать, а у нас вместо оружия — марксистско-ленинский цитатник, да слюнявые хипповские бредни заграничного происхождения.
— Будто эта жидовская тягомотина чем-то лучше, — раздраженно кивнул в угол Виктор: — Ударили по одной щеке — подставь другую; возлюби врага и лизни в зад палача своего или как там? Сейчас в городском парке эти кастраты с гитарами каждое воскресенье проповедуют. У мусульман хотя бы — око за око, зуб за зуб!
— Ты говоришь про сектантов, которые отрабатывают заграничные деньги, а «око за око, зуб за зуб» — это, как раз, отсюда, — Алексей потянулся к полке над столом, снял толстую потрепанную книгу со множеством закладок, раскрыл ее и прочитал: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя… Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них… Кто сделал повреждение на теле ближнего твоего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» — Алексей поднял глаза на Виктора, кивнул ему: — Как раз то, о чем ты говорил… — Перевернул страницу, пробегая взглядом текст:
— «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежли у тебя, не бойся их; ибо с тобой Господь, Бог твой…» — Алексей что-то пробормотал себе под нос, близоруко щурясь, перевернул страницу, придвинулся к лампе: «…Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас…» — Алексей бросил поверх книги насмешливый взгляд на Виктора: А вот что сказано по поводу твоего замечания о возможности омусульманивания: — «А в городах сих народов, которых Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души; …Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом, Богом вашим», — он захлопнул книгу, положил ее на место и сказал терпеливым учительским тоном: — Это вера воинов! Этим законом наши предки жили тысячу лет, а деды надумали все разом отменить и построить заново. Мы и на тех и на других наплевали. Тоже возомнили себя изобретателями: деревянному ярилиному «хрену» кланялись… Вечные дилетанты, мальчики почти сорока лет.
— Так ведь, шутя, — повел широкими плечами Виктор. — К тому же «хрен-то» был исконно русский, а на иконах у тебя сплошь евреи — если уж ты заговорил о национальном вопросе.
— Это как раз то, над чем я долго думал, — повысив голос, заерзал на месте Алексей, и Виктор понял, что задел за живое. Ему не хотелось полуночного разговора. Он устал от пьянок и нетрезвых бесед.
— Иисус Христос — Бог, воплотившийся в человеческом теле. Может ли Бог, создавший русских, евреев, казахов, собак и свиней, быть кем-нибудь из них? Абсурд! Народу, которому долго благодетельствовал, которому дал Законы, исполнявшиеся дотошно, но бездумно, Бог дал возможность спастись, переосмыслив и дополнив эти Законы. Но народ, в чьей крови он воплотился, его предал и распял. Зато приняли Его Завет наши предки.
Радоваться надо, что он воплотился не в них. И без того верил волхвам, ждавшим его появления. Поклонялись наши предки Богочеловеку и Святой Троице, а не еврею…
Виктор снова зевнул, устало тряхнул головой, придвинул к себе рюкзак, вытащил из бокового кармана три пачки розовых десятирублевок, положил на стол.
— Все, что у меня есть! Зарплата, расчет, гонорар. В городе даже по нынешним неровным временам этих денег на полгода хватило бы, а здесь, если вовремя запастись продуктами, можно продержаться долго. Ты все равно часто выезжаешь по делам. Купи мне продуктов, одежды, сам знаешь чего. Если нужны деньги для дела — бери и трать по своему усмотрению. Я уже не хотел бы возвращаться.
— Круто берешь, — присвистнул Алексей. — Людку замуж выдал, что ли?
Она за тебя так держалась, так любила!
— Да уж, — проворчал Виктор, пьянея. — Очень стала походить на мою первую женушку… Зимой закапризничала и вдруг усмехнулась, точь-в-точь как та, первая. Может, у меня крыша едет… Поверишь, придушить ее захотелось за все, что от той вытерпел. Сам себя испугался. Видно, судьба.
Нет мне через них счастья — одни проблемы и… ненависть. Все они меня за что-то ненавидят и называют это подлинной любовью.
При свете керосиновой лампы Виктор выглядел старше своих лет. Тени, как морщины, лежали на его лице, подчеркивая что-то зловещее и в то же время беспомощное. Почувствовав на себе пристальный взгляд товарища, он уронил голову на руки и пробормотал:
— Устал я от них! От города устал, от людей… К черту!
Алексей тихо снял с полки Библию, снова полистал ее, придвинулся к свету и прочел ровным вдумчивым голосом:
— «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». И еще: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушается их».
Но гость дремал и почти не слышал его.
Как ни уговаривал его Алексей погостить на ферме, рано утром, пока не поднялось солнце, Виктор отправился по скотопрогонной тропе, вдоль левого берега реки, в избушку убитого друга. Вот и ручей — граница участка Алика, теперь законная территория его компаньона. Виктор ступил на свою землю, законную, по крайней мере, до конца года. Монотонно шумела вода, клокоча между камней, как два года, как, наверное, сто лет назад. Вот камень, тот самый, на котором они частенько отдыхали с покойным. И казалось Виктору, что Алик, посмеиваясь, и сейчас сидит здесь, просто он невидим.
Навязчиво вспоминалось, как месяц назад на попутных машинах спешили с Богутеком в райцентр, думая, что тело раздуло — шел девятый день после гибели. В сельском магазине выбрали просторный костюм, вполне приличный и для большого районного начальника. Такой добротной и дорогой одежды у Алика никогда не было. Но, как оказалось, зря они купили самый большой, залежавшийся размер. «Свеженький он. Я кровь-то из него выпустила, — успокоила их санитарка, похожая на Бабу-Ягу и верящая в бессмертную человеческую душу… — А вы молодцы, что пришли. Он вас не забудет».
Виктор хмыкнул под нос, тряхнул головой, встал и одиноко зашагал по широкому полю у подножья скалистого склона гор. Поднявшиеся стебли тысячелистника цеплялись за джинсы. Запах набирающего цвет разнотравья кружил голову. Все выше поднималось солнце, и на открытых местах становилось жарко.
Если не знать где лежало тело, можно было и не заметить след почерневшей кровавой лужи у высокого крыльца: солнце, ветер и весенний дождь замыли оборвавшийся след человека. Как ни разглядывал Виктор тальник разросшийся вблизи избушки — не нашел отпечатка рукояти штыка.
Дверь в избушку была распахнута, но запах сивухи еще не выветрился.
Посуда была разбросана по полу. В черном от копоти казане иссыхало какое-то прокисшее варево. На нарах лежали два драных матраца, с лезущей из дыр ватой, в углу валялся замызганный спальный мешок. Мука, крупа, макароны — те продукты, которые они закупали с Аликом два месяца назад, большей частью были целы, что немало удивило Виктора. «Не разворовали ведь», — с уважением подумал он о чабанах, кочевавших поблизости. Пропало стекло от керосиновой лампы и алюминиевая фляжка.
Виктор вбил клин в рассохшееся топорище, попробовал пальцем заточку топора и пошел за дровами. В сотне метрах от избушки был тайник.
Вспомнив о нем, он оставил топор на тропе, вышел к знакомой скале, отодвинул сухие листья. В укромной нише под камнем лежала малокалиберная винтовка и патроны к ней, разобранный дробовик, бинокль, порох, дробь, капсюля и все необходимое для охоты. Виктор взял винтовку, пачку патронов и бинокль, все остальное положил на место и замаскировал.
Среди обычных дел по обустройству ночлега как-то незаметно зашло солнце, и с верховий пади повеяло прохладой, наступил вечер. Коптила керосиновая лампа без стекла, удушливо пахло горелой соляркой, шел пар от отсыревшей печки.
Всякое место в избушке, всякий предмет вызывали навязчивые воспоминания: всюду был Алик, его голос, мимика, жесты. Как ни затянулось утомительное пьянство поминок, Виктор понял, что просто так не уснет. Он поворочался на нарах, глядя на тесаные жерди потолка, сел, свесив ноги, нащупал в рюкзаке последнюю бутылку водки, поставил на шаткий столик. Бутылка вдруг качнулась и чуть не упала. Виктор чудом успел подхватить ее и ясно услышал, как облегченно матюгнулся Алик. «Допился!» — проворчал себе под нос Виктор. Сковырнул пробку, нащупал на полочке кружку, плеснул в нее, хотел поднести к губам и чуть не пролил, зацепившись локтем за стол.
Он тупо уставился на кружку с поблескивавшей на дне жидкостью. Затем, будто догадавшись в чем дело, шагнул к тлеющей печке и выплеснул водку на угли. Синее пламя вырвалось из распахнутой дверцы. В трубе завыло и загудело. От случайного порыва ветра отрыжкой дрогнул полиэтилен на окне. Виктор опять сел на нары, минуту-другую буравил початую бутылку неприязненным взглядом. И все-таки налил, выпил. Рассеялись тягучие тошнотворные мысли.
Все! Точка! Начиналась новая жизнь. Теперь у него была своя избушка в горах, свой участок и даже кое-какой запас продуктов. Ему не нужен был заработок на заготовке эфедры, ему нужен был повод, не скрываясь, жить в лесу. По большому счету ему не нужен был никто. Разве что Алексей, живущий на расстоянии трехчасового перехода. И Виктор подумал, что давно, в тайне, стремился именно к такой жизни.
От ватного одеяла пахло Аликом. Виктор придвинулся к бревенчатой стене, стал болезненно впадать в забытье. И все казалось ему, что вдребезги пьяный товарищ храпит рядом. «Лишнего плеснул в печь, — думалось в полусне. — Душе без тела много ли надо?» И снилось ему, что на рассвете Алик поднялся первым, придерживая широченные в поясе брюки, в которых клали в гроб, прокашлялся и заковылял на тусклый свет гаснущей утренней звезды.
Рассвет был тих и нетороплив, как движение большой равнинной реки. На голубом без облачка небе комком нестаявшего снега висела луна. Виктор вышел из избушки, наклонился над журчащим ручьем, поплескал в лицо водой и на миг почувствовал себя школьником в первый день каникул.
Вытирая свежим полотенцем мокрое лицо, он посмотрел на противоположный склон, на скальную башню, венчающую его, и решил, что следующую ночь проведет там.
До полудня он шел, мучаясь одышкой, быстро уставал и сильно потел. На полуденном привале, возле ручейка, заварил смородиновый лист, перекусил, подремал на траве и поднялся новым человеком, полным сил, без всяких следов похмелья. А когда по альпийским лугам выходил на знакомый хребет, перебрасывая винтовку из руки в руку, опираясь прикладом, чувствовал себя прекрасно. На душе было спокойно и радостно.
Вот и скальная башня. Возле нее, на мелкой как песок щебенке, виднелись свежие следы. Виктор, слегка удивился, подумав, что Алик недавно был здесь. Чуть волнуясь, он прошел внутрь скального грота, в ту пустоту, которая два года назад была обжита, пересек вытаявшее, согретое полуденным солнцем пространство, где стоял дом. Запах жилья так въелся в скалы, что не выветрился до сих пор. Явно пахло дымком. А вот и новинка — бывшая лебедочная камера отгорожена от «зала» бревенчатым срубом.
«Наверное, Алик постарался. Не лень же было бревна таскать. И для чего? — удивляясь, подумал Виктор. — Но кроме него никто не знал этого места».
Посредине сруба — не то окно, не то дверь — рама из сухой рябины, обтянутая полиэтиленом. Вместо шарниров — лоскуты потрескавшейся кожи.
Виктор осторожно потянул на себя раму — она подалась. Он согнулся вдвое и протиснулся в проем. На том же месте, что и позапрошлой осенью, стояла та самая круглая чабанская печурка, рядом — подстилка из сухой хвои, на ней — знакомое одеяло с вылезшей из дыр ватой. Значит, Алик иногда ночевал здесь. В пещере было кое-что из посуды, топор, пачка из-под муки трехкилограммовой расфасовки, той самой, которую они закупали весной.
Виктор хмыкнул, недоумевая, почему товарищ не сказал ему, что обустроил ночлежку в Башне, выбрался на солнце. Снова его внимание привлек след резинового сапога. Виктор поставил рядом ногу в рифленом ботинке: отпечаток сапога был на треть меньше. Это слегка озадачило его: с некоторой натяжкой можно было допустить, что Алик ходил здесь в опорках из чужих маленьких сапог. Опорки эти Виктор искать не стал. Все равно, кроме своих, никто не мог здесь быть. А если кто-то случайно забрел, что с того?
Он рассчитывал остановиться здесь на ночлег. Но было только три часа пополудни. Погода стояла хорошая. Нужно было осмотреть заброшенные огороды колонии. «Устраиваться так с комфортом! — подумал он. — Не таскать же на себе картошку».
Виктор надел просохшую рубаху, еще раз окинул взглядом просторный скальный грот, где когда-то был дом, и стал собирать рюкзак. Знакомым путем он спустился к озеру. Побродил в лабиринте скал по заброшенным огородам колонии. Нашел здесь пару припрятанных лопат, рассмеялся: Лешка вывез отсюда даже ржавые гвозди, а лопаты почему-то забыл. Виктор внимательней осмотрел знакомые места, нашел ведро и тяпку. Сама судьба благоволила ему и его планам.
Земля давно оттаяла и просохла, можно было вскопать землю под посадки.
Но ему не сиделось на месте: хотелось по-хозяйски осмотреть доставшийся по наследству участок. Солнце стояло еще высоко. Как в далеком детстве день был ясен и долог.
Виктор прошел узким каньоном до речки, впадавшей в Байсаурку, и, бесшумно спускаясь по мягкому, заросшему мхом склону среди старых толстых елей, увидел внизу дым костра и оседланных лошадей. Выбирая укромные места и распадки, он подкрался ближе. Но сорвался из-под ноги камень, с грохотом понесся вниз. Люди у костра со спокойным любопытством оглянулись на шум: никто не дрогнул, не схватился за оружие, и Виктору ничего не оставалось, как спрятать под корнями ели свою винтовку и спуститься к ним.
Он подошел к костру в новеньком энцефалитном костюме, с модной стрижкой на русой непокрытой голове, лицо его еще не было обожжено солнцем — турист, только и всего. Чуть грузноватый для своих лет и для горно-таежной жизни. В его прищуренных глазах мерцал спокойный холодок. На губах стыла стандартная по случаю непонятной встречи полуулыбка.
Беззубый старик, сидя на корточках возле костра, пек на углях шипящий кусок кровоточащей печени, то и дело переворачивая ее тлеющим прутом. В его позе и в движениях была высокомерная снисходительность учителя, решившего показать, как надо готовить, а не гордость повара за свое мастерство.
Еще двое — мужчины средних лет, с круглыми чиновничьими животиками, лежали поодаль. Парень лет двадцати в белой киргизской шапочке почтительно наблюдал за приготовлением пищи.
— Ну, ни хрена себе гость?! — приветливо прошамкал старик на хорошем русском языке. — Алик, ты, что ли?
— Почти! — сдержанно ответил Виктор. — Мы с ним работали.
— А-га, слышал я про тебя. Алик мне прошлый год капсюля давал…
Жакып меня зовут.
— Меня Виктор!
Сидевшие возле костра неторопливо, с достоинством, пожали ему руку. Из кустарника вышел еще один джигит с браунингом на плече.
«Подстраховались!» — подумал Виктор. Жакып понял его взгляд, заулыбался, тыча веткой в печенку.
— Нас местные инспекторы не любят.
— Из Киргизии? — спросил Виктор.
Кто-то кивнул. Один из чиновников сказал, оправдываясь;
— У нас леса мало: на юге — погранзона, на севере — перевыпасы… Где есть лес — там дичь. Что ж теперь одним казахам оленину есть? А ты из Алма-Аты?
Виктор кивнул, показывая, что эти проблемы его не касаются. Жакып что-то отрывисто сказал молодому браконьеру по-киргизски, и тот, расстелив брезентовую палатку, выложил на нее из переметной сумы лепешки, сахар, посуду.
— У тебя кружка есть? — спросили Виктора. Он пошарил рукой в рюкзаке, вынул черный котелок. — Садись ближе, обедать будем.
Качались вершины елей, журчал ручей, дымок поднимался над кострищем.
Сытная полусырая печень с горячим костным мозгом, чай с запахом мяты…
Когда после еды Виктор вытирал руки о сырую траву, сном показалось проведенное в городе время: будто и не спускался с гор. Он — травник, хозяин участка. Недавно похоронил друга. Киргизы, узнав, что Алик погиб, деликатно примолкли и вопросов не задавали: убившему — судья Бог и родственники убитого. Наверное, подумали о Викторе — убил, значит, была причина. Теперь, скрывается, но это его дело.
Виктор распространяться о подробностях тоже не стал. Допускал, что убийца может сидеть возле костра. Маловероятно, но… И это взаимное деликатное подозрение никого не оскорбляло, даже наоборот, вынуждало строже выбирать слова.
— Зимовать будешь? — спросил Жакып.
— Да, — Виктор прикурил от протянутой спички и выпустил струйку дыма в голубое небо.
— Один?
Он пожал плечами:
— Скорей всего один.
— Я к зиме, может быть, перевалю в Казахстан. Трехлинейку возьму с собой — самое лучшее оружие.
— Приходи, — кивнул Виктор. — Давно хотел поучиться настоящей охоте. — Стряхнул пепел с сигареты.
Видимо, Жакып ждал от него чего-то большего. Вздохнул:
— Тебе проще, ты здешний. А меня инспекция поймает — вздрючит на полную катушку.
— Могут! — согласился Виктор. — А ты не говори, что охотишься: заблудился и все. Сам о себе ничего не скажешь — я тоже промолчу.
Старик заулыбался беззубым ртом, показывая пенек единственного и очень длинного зуба:
— Русских казахи тоже не любят… Тебе с нами водиться надежней.
Виктор промолчал, сдержанно улыбнувшись одними глазами. Киргизы, не торопясь, но очень слаженно и быстро разобрали сумки, подвязали их к седлам. Два джигита подвели к старику коня, забросили старшего в седло, вложили в его руку плеть. Тот важно, по-атамански, махнул на прощание, и кони зарысили по тропе, к белым перевалам Иссыккульского хребта.
Виктор посидел у остывающего костра, поднялся на склон за винтовкой и решил остаться здесь на ночлег: лагерь обустроен, костер горит, вода рядом.
По одному и тому же месту в горах люди обычно проходят одним путем, выбирая его по силам, в соответствии со своей человечьей логикой. Иногда, ступив на звериную тропу, человек не сразу это понимает: тропа как тропа. И вдруг начинаются почти непосильные препятствия. Людская же тропа для зверя во всех отношениях удобна и привлекательна, если бы не опасность встречи с самим человеком. Не любят звери человечьих троп, но иногда пользуются ими.
Виктор спустился по притоку до Байсаурки и хотел переправиться на другой берег. Но перейти реку в начале лета, когда от талой воды поднялись даже пересыхающие ручьи, было трудно. Он сунулся в воду по неопытности и вскоре пожалел об этом, не удержавшись на ногах, а поскольку все равно намок, — поплыл на другой берег, оказавшись на заброшенной туристской стоянке. Виктор выбрался на сушу, торопливо скинул мокрую одежду.
Спички и патроны были в полиэтиленовом мешочке и поэтому не намокли.
Трясущимися руками он развел костер, обсушился. Почаевничав, собрал рюкзак, стал подниматься вверх по ручью. Вскоре тропа затерялась среди кустарника. Какое-то время Виктор продирался сквозь него, раздумывая, а не повернуть ли назад? Он невольно стал забирать вправо к крутому склону, заросшему ельником и мхом, и там опять наткнулся на сносную тропу.
Сначала ему показалось, что это старый, заброшенный конный путь. Но вскоре встретилась скальная преграда, которую лошади пройти не могли.
Тропа была звериной. Здесь были козьи следы и груды засохшего козьего помета.
Виктор миновал скалы, и его ботинки стали тонуть в мягком бесшумном мхе, среди которого тропа была еле различима. Вдруг впереди раздалось рычание, огромная тень мелькнула под деревьями. Затрещали ветви. В полусотне метрах по ходу особняком росла раскидистая лиственница. На толстом ее суку, коряво торчащем в сторону от вершины, стоял медвежонок и с любопытством разглядывал человека.
Был тот случай, когда надо было бежать. Но куда? В непроходимую чащобу, из которой только что выбрался? Скользя, сдирая с камней куски мха, Виктор кинулся вверх по склону. Задумка была простой — выскочить на скалы, где зверю трудно его достать, и по хребту, спуститься обратно к реке.
Но там, возле скал, затрещали кусты. Явно, что медведица преграждала ему путь вверх. У Виктора от такого поворота событий перехватило дыхание.
«Спокойно!» — сжав зубы, взял он себя в руки. Винтовка была заряжена, но затвор был заперт со спущенной пружиной. Он торопливо передернул его, хотя понимал, что выстрел в такой ситуации равноценен самоубийству.
Оберегая курок взведенной малокалиберки, он взял правей прежнего курса, то есть почти в обратную сторону, показывая, что уходит от медвежонка. Медведица поняла его маневр. Опять под скалами затрещали кусты, он увидел ее — огромную бурую толстушку с подслеповатыми глазками. Виктор выругался дрогнувшим голосом и скачками побежал вниз.
Преследовать его медведица не стала, но спустилась метров на пятнадцать по склону. Пришлось выходить к высохшему ручью в старое русло, к острым камням, густо заросшим травой и колючим кустарником. Торопливо продираясь сквозь них, Виктор поглядывал на склон. Там, под скалами, скрываясь за деревьями, параллельно его пути тенью следовала медведица.
Вскоре она отстала.
— Хорошая мамочка, — дрожащим голосом прохрипел Виктор. — Мать твою за ногу!
Он опять выбрался из низины, поднялся к тропе и пошел к реке. Еще раз оглянувшись, сел и рассмеялся. Предохранителя у спортивной винтовки не было. Виктор откинул затвор — патронник был пуст. Видимо патрон вылетел, когда он, торопясь, взводил винтовку. «Ну и дела! — пробормотал Виктор, расстроенный недостатком хладнокровия в критической ситуации.
— Так ты еще и паникер?»
2
В начале июня Виктор вскопал огород и пошел на ферму, чтобы взять у Алексея семенной картошки. Продукты еще были. Был даже сахар. Можно было подождать с посадкой еще неделю. Но он спешил, устав от одиночества так непростительно быстро, что беспричинная тоска стала его пугать.
Зной южного лета поднимался в горы. В низинах к полудню было уже очень жарко. Виктор заметно постройнел. Новенькая полевая одежда слегка обносилась и немного балахонила на нем, но была аккуратно выстирана и заштопана. Волосы отросли и выгорели прядями. Курчавилась светлая бородка, облупился нос, шелушились щеки. Зато глаза, будто ветрами отмыло, — они блестели на почерневшем лице голубыми камушками. А вот ботинки безнадежно развалились. Ведь были почти новые рифленки из свиной кожи. Пришлось подвязать проволокой подошвы — чтобы дотянуть до фермы.
За ручьем белые метелки тысячелистника поднимались выше колен. Здесь жара была еще злей и утомительней. Солнце припекало так, что Виктору пришлось вытащить из пустого рюкзака солдатскую панаму. Кошара перед фермой была заселена чабанской семьей. Вокруг расстилались поля, засеянные какими-то злаками. Напрямик, через поле, вытаптывая поднявшийся посев, клином мчалось стадо черных молодых свиней. Впереди несся низкорослый сеголеток, в котором вряд ли осталась даже четверть чистопородных, домашних кровей.
Возле кошары с подвывом и опаской залаяли чабанские собаки. Хозяйка, в повязанном на голове платке, истерично закричала, зазывая детей в дом.
Стадо выскочило из посевов и помчалось к жилью. Женский платок высунулся было и опять пропал в проеме двери. Мешок с комбикормом у крыльца зашевелился, как мяч, и пропал. Собаки отступили за кошару…
Какой-то хряк схватил баранью голову с кручеными рогами, положенную в тени и высоко, чтобы не соблазнять собак, — поволок ее за коновязь.
Посмеиваясь, Виктор опустил бинокль, обошел стороной временное чабанское жилье. Зная Алексея как человека опрятного и хозяйственного, удивлялся — до какой степени тот запустил свое хозяйство.
Полуденный зной обжигал плечи сквозь рубаху. Свинарь валялся на кошме в юрте с оголенными решетчатыми стенами и наслаждался чтением.
Где-то лениво кудахтали куры, в кустарнике у реки повизгивали свиньи.
Виктор подкрался к ферме незамеченным, громко свистнул. Захлопали крыльями, понеслись куда-то за сарай куры. Громче завизжали свиньи, выбегая из лесу. Разомлевший от жары Алексей невозмутимо поднял голову, зевнул:
— А, это ты… Давненько.
— Здорово, чушкарь! — белозубо оскалился Виктор.
— Привет, бродяга!
— Там твои хряки устроили погром! — гость кивнул в сторону кошары, думая, что озадачит хозяина.
Но тот злорадно усмехнулся:
— Поделом! Эти соседушки у меня трех свиней застрелили. Скоро со всей округи будут съезжаться: одни охотиться на моих свиней, другие мясо просить.
Алексей загорел так, что плечи и живот отдавали синюшной чернотой, при этом волосы так выгорели, что голова напоминала одуванчик. Он хмуро громыхнул канистрой, заливая керосин в примус, разжег его и поставил на голубую корону горелки чайник.
— Ну, здравствуй, здравствуй, — с любопытством стал разглядывать Виктора. — Не надоело скитаться в одиночку? А знаешь, ты на Алика походить стал, — уставился на ноги Виктора в рваных, расползшихся по швам ботинках.
— Ты на себя прежнего тоже не очень-то походишь! — съязвил в ответ Виктор.
— Пойдем в юрту, что ли. В доме духота… Новости есть для тебя, — Алексей заговорщически ухмыльнулся. — Траву не резал? Не вздумай.
Суверенитет, о необходимости которого так настойчиво талдычит радиостанция «Маяк», берет за горло не только глупых кооператоров, но и умных травников. Местное население уже возмущено: приезжают тут всякие неизвестно откуда, нашу траву собирают, а нам ничего за это не дают. Ваша контора со здешними властями делиться прибылями не желает, она — союзного подчинения. Вот и началась чехарда: у Толи Колесникова полмашины эфедры арестовали, выписали штраф на четыре тысячи рублей.
Толя, конечно, платить не собирается: стреляет зайцев да трет коноплю.
Виктор сел в тени, сбросил ботинки.
— Мне-то что? Если законы такие дурные, что не дают человеку права жить в лесу просто так, потому что хочется, — мне такой поворот даже на руку — буду жить в горах и ничего не делать.
— Думаешь, дадут? — усмехнулся Алексей. — Плохо знаешь местные порядки. Уже приезжал председатель совхоза. Спрашивал про тебя. Я сказал: известный художник, полиграфический институт закончил, книги оформлял.
А он: зачем ему в горах скрываться? Пусть придет, пропишем и найдем работу. Так что готовь кисти, будешь писать плакаты в аулах: «Партия женесенде!»
Виктор молчал, поглядывая на закипающий чайник, и Алексей эту заминку истолковал по-своему:
— Вот и тебя загоняют в угол. Бежал бы…
Виктор улыбнулся, зная, о чем пойдет речь:
— А я был в Башне… Огород вскопал, — и начал рассказывать о своих приключениях.
Вечером резали поросенка.
— Чуни! Чуни! — на местный манер кричал Алексей, сзывая свое беспокойное стадо. — Мать вашу! Уже неделю не подкармливаю… Чуни!
Чуни! Чтоб вы передохли! — Алексей рассыпал по земле полведра ячменя, который берег для кур. С визгом и хрюканьем со склонов и из кустарника доверчиво понеслись ко двору свиньи — белые, коричневые, черные, пятнистые.
— Без ружья не возьмешь! — Алексей вынес одностволку. — Вон того, пятнистого, долбани в шею. Ох, и замучил, тварь! Мешок хлеба спер, гад!
С ружьем в руках Виктор, крадучись, обошел сбившееся над рассыпанным ячменем стадо. Пятнистый поросенок, будто учуяв свой жребий, перестал толкаться, отошел в сторону, к кустам, и стал боком к стрелку, дернул хвостиком, заверяя людей в добрых намерениях. Виктору показалось, что даже морда кабана на миг преобразилась: печать духа и умиротворения сошла на нее. Прогремел выстрел. Кабан упал, дергая копытцами. Стадо шарахнулось врассыпную, но тут же вернулось к подкормке и с хрюканьем продолжило свои разборки. Алексей подбежал к подсвинку, пнул его под зад, ткнул лезвием ножа в тугую щетинистую шею. Мгновение толстая кожа сдерживала острие. Затем нож легко провалился в теплую трепетную мякоть, и густая струя крови хлынула на вытоптанную землю.
Пока хозяин относил в избу ружье, свиньи обступили тушу, слизывая кровь, подбираясь к парящей ране.
— Отгони их! — крикнул Алексей. — Сожрут мясо — не успеешь глазом моргнуть.
Наступили теплые вечерние сумерки. Зажглись первые, крупные, звезды.
За ними осторожно стали высвечивать те, что помельче. Разделанная туша остывала под навесом, вареное мясо аппетитно парило на большом блюде, с которого когда-то ели всей общиной.
— Плохи твои дела! — вернулся к начатому разговору Алексей, позвякивая посудой. Он накрывал низкий казахский столик — достархан — в юрте с задранным по стенкам войлоком. Сквозь деревянную решетку остова приятно продувало застоявшийся дневной зной.
— Ну почему же? — лениво не соглашался Виктор, развалившись на войлоке. — Сапоги бы найти — и можно жить.
— Где жить? В Башне что ли? Мы колонией там не выжили. А в одиночку с ума сойдешь… Пока я здесь, могу еще тебя прикрыть. Но, даст Бог, к зиме разделаюсь со свиньями и сбегу. Одному тебе — крышка… А может быть вместе, а? Куда-нибудь на Алтай или в Саяны. Там места не хуже здешних.
Виктор рассмеялся:
— Ну и зануда! Я, например, в отношении тебя тоже имею мнение, но не капаю же на мозги, что вся твоя нынешняя маета — иллюзия. Ты не знаешь России — ты здесь родился и вырос. Поживешь там с полгода, со всеми соседями перессоришься, продашь последние штаны, вернешься на эту же ферму и будешь рад-радехонек и всем доволен. Ну, может быть, вместо свиней станешь разводить индюков. Лучше мест все равно не найти.
Алексей выскочил из юрты, вернулся с кипящим чайником, перебрасывая его из руки в руку, обжигаясь и рыча.
— Черта с два: я слишком хорошо знаю нерусский мир, а вот ты ни шиша.
Порхаешь среди восточной экзотики. Горожанин… Чтобы здесь жить нужно вместо души иметь желудок. Никогда русский человек, пока он русский, не примет Азию такой, какова она есть, а Азия не примет его. Еще вчера мы жили в СССР, в сущности, в Российской империи. Пусть на ее задворках, но дома. И отношение к себе имели соответствующее: с нами мирились, принимая таковыми, какие мы есть. Теперь все по-другому. Я кожей чувствую, как у местных меняется отношение ко мне. Надо быть уже совсем дерьмом, чтобы принять те правила, которые мне навязывают. Чтобы остаться здесь навсегда надо или совсем уже себя не уважать, или презирать их всех, презирать так, как я не умею.
— Тебе что надо? — раздраженно спросил Виктор. — Ты сам-то понимаешь, чего ты хочешь? Земли в аренду? Она у тебя есть. Со свиньями не получилось, сам говорил, как здесь можно развернуться с индюками. И корма не нужны. Воли хочешь? Давай заново отстроимся в Башне. Деньги нужны — посей мак, Тимоха его на корню скупит. Даже этого не надо.
Сходи пару раз в Киргизию и через ледовые перевалы доставь опиуху в Алма-Ату — риск минимальный, прибыли дурные. Ну совсем надо быть дураком или неудачником, чтобы попасться на таком деле. На те деньги ты любого местного бастыка* купишь: сам говоришь — здесь все продаются…
И корма тебе будут доставлять вовремя и свиней твоих караулить. Где ты еще найдешь такое место? Там, в России, надо все заново начинать. Нам скоро по сорок лет. Вышел срок. Что-то нужно уметь, чего другие не умеют, чего-то достичь, чего другие не смогли. Ну так купи себе весь этот район — времена-то вон какие… Казахи против тебя ополчились — ты к киргизам: они за перевалом… — Виктор скрипнул зубами, взял себя в руки и спокойным тоном попросил: — Найди мне что-нибудь из обуви.
Не дожидаясь приглашения, Виктор взял с подноса сочный кусок свеженины. Алексей залил кипятком заварник, наконец-то отставил в сторону жгущий пальцы чайник и разлегся у стола на местный азиатский манер.
— Как мясо?
Виктор промычал, восторженно мотая головой. Алексей, не спеша, выбрал ребрышко с грудинки, попробовал, ворча, мол, можно было и еще поварить.
Пропустив последнюю просьбу Виктора между ушей, он тихо и вкрадчиво спросил:
— А тебе чего надо в жизни, кроме сапог?
— Пожить спокойно и подумать, — высматривая следующий кусок, ответил Виктор.
— О чем?
— О том, как это так случилось: всю жизнь подавал надежды во всем, за что ни брался, вызывал восхищение, да на этом как-то и застрял; десять лет назад был хорошим оформителем и сейчас такой же. Хоть по зверью, что ли, надо стать специалистом: изучить повадки, понять образы… Из того, что прошлый раз отснял, — только пару слайдов опубликовали. Я другие и не показывал никому. Прихожу к знакомому художнику. Авторитет. За бугром печатается, импортную технику имеет: не мне с моим совковым «Зенитом» чета. Я всегда думал, что его удачам способствует мохнатая рука в Госкомиздате, — все ясно и понятно. Но он показал мне один-единственный снимок алтайского медведя. Я посмотрел на него и захотел всю свою мазню сжечь. Талант, знание предмета и кропотливая работа — вот что было на его снимке.
— Таланта, значит, тебе не хватает? — ухмыльнулся Алексей.
— Таланта никогда много не бывает, но есть еще и жизненный опыт, которого не хватает явно, — вздохнул Виктор. — С медведицей как-то столкнулся. Ну, она меня пугнула, конечно. Да и я… Не то, чтобы воздух портил, но коленки дрогнули. А потом появился сюжет: медведица с медвежонком, как Богородица с младенцем… Прикинь! Да на такой гениальный кадр год жизни потратить не жаль.
— Кощунствуешь, сын мой, да что с тебя, нехристя, взять. Узнаю родное поколение дилетантов. Нет бы Библию сперва почитать! Куда там, нам достаточно вдохновения. Не сделать тебе гениального кадра! — жестко отрезал Алексей. — Да и вообще, чего-нибудь общепризнанного.
— Это почему же? — сверкнул глазами Виктор.
— Создать что-нибудь на общечеловеческом уровне возможно, проживая среди своего народа и только ради него, — он многозначительно поднял палец. — Это один из главных выводов «свинского» периода моей жизни.
Нет под луной ничего отвратительней человека без родины и без национальности. Более того, человек этот, если его можно так назвать, не способен создавать духовные ценности.
— Да что ты говоришь? — усмехнулся Виктор. — Насколько я осведомлен, именно такие «гении», в подавляющем большинстве, выставляются, публикуются огромными тиражами у нас, в Москве и за бугром.
— Что с того, что выставляются и публикуются? — с непробиваемой байской самоуверенностью возразил Алексей. — Для этого не обязательно быть талантливым, важней — предприимчивым. Умрут они, и закопают их тиражи вместе с ними. Какая это, к черту, духовность? Это заработок, халтура! Для того, чтобы заработать, не обязательно к медведице на клык лезть…
— Короче, философ! — раздраженно оборвал разговор Виктор, досадуя на свою невольную откровенность. — Все равно ты в этом ни бельмеса не понимаешь. А туда же! Скажи лучше — обувь даешь?
— Отрастил, блин, лапу, — пробормотал Алексей. — Да в этих краях от сотворения ни у кого таких не было: народ здесь конный, на ноги слабый.
Есть у меня гонконгские десантные ботинки. Давно еще купил, по случаю…
Но там след… Про заколдованного медведя что-нибудь слышал от чабанов?
— Болтали что-то, да я не понял…
— Как брату по крови открою тебе великую тайну. Этот медведь — я!
Зимой местные ухари начали охоту на моих свиней, ну и достали. Добыл я на барахолке, за большие деньги, ботинки с подошвой в два пальца толщиной и вырезал на ней подобие медвежьей лапы. Здесь все хорошие следопыты.
Подойти к зимовью или к юрте неопознанным трудно. А с таким следом я быстро выследил своих «друзей». Ничего говорить им не стал, потихоньку «конфисковал» пару ружей и бычка, возместив убытки. Если местные узнают, особенно про бычка, — мне конец… Или тебе, если я не сознаюсь, что ботинки мои.
— Покажи! Размер-то какой? Ходить в них можно?
— Да кто его знает, какой размер! Большой. Я в них обутыми ногами залажу. Завтра покажу. Далеко ботинки спрятаны.
— Лучше сегодня, — стал настаивать Виктор, — а то я до утра буду мучиться и сомневаться.
После сытного ужина друзья развалились на кошме и неторопливо попивали чай. Поддавшись настойчивым просьбам друга, Алексей убрал посуду, загнал в птичник кур и уже в полной темноте, с фонарем, ушел в пойменный лес. Вернулся он не скоро, с мешком, перепачканным землей.
— Чего ты их так далеко запрятал? — удивился Виктор. — Не пулемет ведь.
Алексей озабоченно покачал головой:
— Живешь сам по себе, не знаешь, какие слухи ходят здесь про медведяшатуна с быка размером. Честно говоря, страшно отдавать их тебе: черт знает, чем все это обернется.
— Раз другой обуви нет, что же делать?
— Понятно, — почесал затылок Алексей. — Может, что-нибудь придумаем — срежем подметку…
Прежде чем показать обувь, он запер дверь, занавесил окно и убавил свет керосиновой лампы.
— Ого! — Виктор подхватил странного вида обувь, повертел ее в руках.
Это были высокие армейские ботинки: не из кожи и не из резины, а из чегото вроде пластика, который долго не мог выдержать скальных осыпей и горных переходов. Подошва действительно была очень толста, а на ней вырезано жалкое подобие лапы, больше похожей на человеческую ступню, чем на медвежий след. Виктор расшнуровал ботинок, сунул ногу и сладко смежил веки:
— Это же мой размер! Зачем ты испортил прекрасную обувь? Я ее у тебя покупаю за любые деньги, — он снова повертел ботинок возле лампы, выискивая фирменное клеймо. — С чего ты решил, что они гонконгские?
— На барахолке сказали.
— Ладно, неважно. Плачу как за новые, — и спросил насмешливо: — Неужели чабаны верят, что это медвежья лапа?
— Ну почему же не верят? — обиженно проворчал Алексей. — Я, конечно, не художник-гравер, но здесь точность ни к чему: медвежий след ни с каким другим не спутаешь — расстояние между когтями и пяткой никто измерять не будет. Важен символ.
Он постелил Виктору на полу и пригасил керосиновую лампу так, что фитиль едва тлел, чудно очерчивая предметы и их тени в доме…
— Надо было унести ботинки, — пробормотал. — Ты их хоть в свой рюкзак положи, что ли. Вдруг принесет кого нелегкая. Будут неприятности.
«Чем ближе к городу, тем больше проблем», — думал Виктор, засыпая.
Алексей вдруг хохотнул в полутьме и приподнялся на локте.
— А что если вырезать след голой человеческой ступни?
— Зачем? — пробурчал Виктор.
— Ты наделаешь следов вокруг моей фермы. А я в городе, между делом, намекну кое-кому про снежного человека. Заявится толпа энтузиастов, поживет здесь, пока то да се, я им своих свиней скормлю.
— За полгода не сожрут, — пробормотал Виктор. — Они же у тебя как тараканы плодятся. — Слова Алексея разогнали сон и он спросил, зевая: — Неужели так трудно продать мясо? Дефицит ведь…
— Витек! Все просчитано, — вздохнул Алексей. — Местные сожрут если отдать бесплатно. За деньги покупать не станут — мусульмане. На мясокомбинат живым весом сдать — транспортные расходы, налог, долги за корм — все высчитают, и должен останусь. А считают они так: весной пропадала в совхозе картошка — привезли и вывалили возле избы, когда меня дома не было. До сих пор уговаривают подписать накладную по такой цене, что отборную картошку купить можно. Мясо — подлый товар…
Живьем привезешь — где-то содержать надо, здесь забьешь — перекупщик задушит: будет сбрасывать цену пока бесплатно не отдашь, чтобы только не протухло. А что делать? Не буду же я за прилавком стоять. О чем думал, когда завязывался? Так же как ты — дефицит… Мол, только привези — с руками оторвут. Кое-кто из знакомых покупает, когда привожу в город, и то, чаще в долг, с недовольным видом — мол, мог бы и подарить раз свое.
Кровососы! Одичали бы уж, да разбежались эти свиньи что ли, — и то было бы выгодно.
— А что, дельная мысль! — помолчав, снова рассмеялся он.
— Ты про что? — спросил Виктор, не поднимая головы.
— Про снежного человека, — пробормотал Алексей и тут же всхрапнул.
Утром, спрятавшись от людских глаз в лесу, Виктор, по назойливому требованию Алексея, при помощи ножа, стамески и наждачной бумаги вырезал на подошве ботинок босые человеческие ступни.
— Ух ты! — вытаращил глаза Алексей, разглядывая его работу. — Ты, конечно, талант. Аж мороз по шкуре…
— Все? — самодовольно спросил Виктор. — Ботинки мои?
— Твои! — кивнул Алексей и добавил: — С медвежьей легендой, слава Богу, покончено, начинаем проработку легенды о карамаймуне — то есть о снежном человеке. Карамаймуном будешь ты!
3
Избушку под скалой Виктор запирал на тяжелый навесной замок, купленный Аликом, и ключ прятал в том же месте, что и погибший.
Поднимаясь по ущелью, сначала он увидел крышу прижавшегося к скале зимовья, затем дверь с замком. Казалось, все в порядке, но что-то насторожило его. Он остановился, осмотрелся: след подков на тропе, вытоптанная площадка возле крыльца, несколько конских куч. Вспорот полиэтилен на окне.
Сначала Виктор подумал, что кто-то сделал это из простого любопытства, чтобы заглянуть в избушку. Отпер дверь, удивился, что банка со спичками лежит на полу, рядом чайник — как после землетрясения. Вроде бы ничего не пропало. Спускаясь к воде с чайником, он нашел тальниковый прут с крючком из проволоки: этим приспособлением кто-то пытался вытащить его вещи. Виктор даже рассмеялся. Внизу, в пойменном лесочке на берегу Байсаурки, пасся гурт телок, там была поставлена палатка. Других людей в округе не было. Похоже, подселился «крысятник», да еще и глупый. А значит, придет и в другой раз: у таких людей и у зверей — одни повадки.
Караулить избу Виктор не стал, прятать продукты и посуду — тоже: убережешь от людей, не убережешь от дождя, мышей и белок. Напротив вспоротого окна закрепил доску с жирной надписью «Вор» и ушел на огороды. Через несколько дней, когда испортилась погода, он вернулся в избушку.
Вскоре дождь кончился. Белые брюхатые облака поползли по склонам.
Над ущельем робко заблестело солнце. Можно было снова уходить на огороды, где не бывает людей. Со стороны реки донесся глухой перестук подков — кто-то ехал по тропе. Виктор спрятал под нары новые ботинки, надел свои рваные вибрамы. Незнакомый мужчина — по виду, гуртовщик, подъехал верхом к ручью. Чуть смутившись ледяных глаз хозяина, что-то пробормотал о том, что живет рядом:
— Мимо ходишь, а в гости не зайдешь…
— Не звали, — ответил Виктор неприветливо. — А тут еще какой-то шакал в окно лазил, не знаешь кто?
Всадник еще больше смутился, и это задобрило Виктора.
— Заходи, — сказал он приветливей. — Чай пить будем.
Всадник спешился, привязал коня, по крутому крыльцу забрался в избушку к Виктору. Среднего роста, коренастый, с мелкими острыми чертами лица, на котором зубы чуть выступали вперед, делая его чем-то похожим на сурка с хитроватыми глазками.
— Рядом живем, помогать друг другу надо, как без этого в горах?! — проговорил гость с акцентом.
Виктор кивнул, посмотрел на вспоротый полиэтилен и усмехнулся: «Ты уже помог».
Выпив полкружки чаю, отщипнув кусочек лепешки, гость непринужденно развалился и стал рассказывать о себе, зазывая русского на ужин. Виктор согласился пойти к нему.
Симбай — казах из Киргизии, с Иссык-Куля, имел в районе влиятельную родню, потому и перевалил в Казахстан с киргизским скотом, взятым на откорм в аренду. Жил он в просторной брезентовой палатке с женой и помощником-киргизом. По-русски говоря, был пастухом. Симбай взял на откорм годовалых телок — турпаков, поэтому среди местных чабанов назывался турпачником.
Его жена — проворная, смешливая бабенка лет тридцати пяти, сносно говорила по-русски, поплевывая за печку, рассказывала о житье-бытье, будто они с Виктором были близкие родственники.
Он разлегся на почетном месте. Симбай сел за достархан, свернув ноги калачиком и выпрямив спину. Когда достархан был накрыт и все почтительно примолкли, он поднял ладони, задрал приплюснутый нос и забормотал молитву. Лица домочадцев торжественно окаменели. Виктор, слегка обескураженный, поймал на себе мимолетный плутоватый взгляд хозяйки, вспомнив наставления Алексея, снял панаму, приосанился и размашисто перекрестился. Все трое с любопытством взглянули на него и рассмеялись, будто все предыдущее было шуткой.
Симбай много говорил о прежней жизни, о двухэтажном доме на ИссыкКуле, рассуждал о свободе: «Зачем все это, если нет воли?» По его словам, аренда была попыткой переиначить жизнь. Узнав, что Виктор годом моложе, он заговорил еще свободней. Гость не спорил: слушал, кивал, поглядывал из-под прищуренных век голубыми льдинками глаз — не мог понять, как относиться к этому человеку: то ли пройдоха, то ли мужик с детским разумом?
— На праздник в село поедешь? — спросил хозяин. Виктор мотнул головой.
Виктор пожал плечами — не знал и знать не хотел ни городских советских демонстраций, ни местных праздников.
— А мы бы съездили… Посмотри за скотом. Работы мало: вечером загнать на тырло, утром выпустить. Я коня тебе заседлаю.
— Нет проблем! — кивнул Виктор. — Если не дольше чем на три дня.
— Тогда приходи завтра к восьми часам сюда!
Что-то не понравилось Виктору: то ли в тоне, каким была произнесена последняя фраза, то ли в лице турпачника.
— Нет! Заседлаешь коня и приведешь его ко мне, а я посмотрю за скотом.
Теперь задумался Симбай. Возразил, не мотивируя:
— Нет, лучше ты приходи сюда!
Виктор усмехнулся, его смутные подозрения подтвердились. Теперь он ясно почувствовал социальную нишу, отведенную ему Симбаем.
— Я не батрак, я — бич! — улыбнулся он, пародируя Алика и шевеля пальцами босых ног. Его прищуренные глаза поблескивали холодком льда.
Ни Симбай, ни подпасок коня утром не привели. Они уехали в село, оставив скот на поляне, а заседланного коня возле палатки. Через два дня с тяжелым рюкзаком Виктор шел вверх по ущелью и видел в бинокль, как вернувшиеся турпачники собирали разбредшихся телок. Может быть, он и пожалел о том, что пошел на принцип: подумав, что турпачник, скорей всего, не столько хитрый, сколько наивный.
Хотя и наслушался Виктор от Алексея всяких страхов про медведиц с медвежатами, которые в эту пору невероятно агрессивны, его странным образом тянуло в глухую и труднодоступную падь, где произошла случайная встреча со зверем. Именно там хотелось поставить зимовье, подальше от чабанов и турпачников. На лесистом склоне, сотней метров выше старой туристской стоянки, под корнями упавшей ели была почти ровная площадка метра три на три. Корни при падении дерева так вырвали дерн, что образовали две стены. Виктор расчистил это место и соорудил просторный шалаш, обложив его мхом и дерном. С брошенной чабанской стоянки он приволок ржавую трубу и лист жести, из которого сделал печь. С хорошим спальником в таком шалаше можно зимовать. Был у этого бивуака всего один недостаток — за водой ходить далековато — каждый раз нужно спускаться на тропу к туристской стоянке, где журчал ручей. Туда Виктор и ходил, стараясь не оставлять следов. Но однажды случайно наткнулся на свой след и в первый миг ему самому стало не по себе — у воды была отчетливо отпечатана чуть ли не полуметровая человеческая ступня.
На полное благоустройство ушло четыре дня. Теперь можно было жить по соседству с медведицей, не опасаясь непогоды. Виктор отправился к ней налегке: взял продуктов на два дня, спальный мешок да кусок полиэтилена вместо палатки и кофр с фотоаппаратами и сменными объективами.
Напрямую от шалаша выбрался на узкий хребет со звериной тропой среди скал и деревьев. Просматривая сверху падь, поднялся выше леса, но так и не обнаружил медведицу.
Вторую половину дня он пролазил среди черных скал, но и там не встретил зверей. Зато наткнулся на грот, в котором при нужде можно было переждать непогоду. Влез в него на четвереньках, осмотрелся. Пространство чуть больше одноместной палатки. На скальном полу жидкая подстилка из еловых веток. Виктор повернул голову к выходу и снял с выступа несколько длинных ворсинок, затем еще и еще. Похоже, что это была берлога. В ней он и заночевал. А утром, не разводя костер, залил водой из родника сухари в котелке, присыпал их сахаром, тем и позавтракал.
Снова он напрасно прошлялся весь день. Только к полудню следующего заметил шевелящееся темное пятно. Сел, вынул бинокль, долго подсматривал картины жизни медведей. Была она настолько мирной и семейной, что даже нагнала тоску: хоть и была медвежья семья неполноценной, по человеческим понятиям, но даже мать-одиночка с детенышем, словно укоряла за то, что один раз он был женат, другой — долго жил с женщиной, вроде бы любившей его, а семьи создать не смог. И сама медведица в непринужденной обстановке совсем не походила на злобного хищного зверя. Скорей — на милую, чуть неуклюжую толстушку, чем-то напомнившую одну знакомую, добродушную и распутную девицу, о которой осталась светлая память со студенческих времен.
Виктор наблюдал за медведями в бинокль, пока не зарябило в глазах.
Ветер струился с вершин, ненавязчиво теребил отросшие волосы. «Задерет так задерет! — вдруг пришла в голову шальная мысль. — В конце концов, это не самая позорная смерть!» Он повесил на шею «Зенит» со слайдовой пленкой, второй фотоаппарат сунул за пазуху, спустился по крутому склону, вышел под ветер и стал пробираться к медведям по высокой траве с вытоптанными лабиринтами, с черными «минами» медвежьих экскрементов.
Несколько раз, следя за зверями, он заползал в эти кучи, брезгливо отирал ладони о траву. Сначала их запах раздражал, но потом перестал восприниматься.
Медведи поедали сочные зеленые дудки. Виктор, лежа на животе, очистил стебель, пожевал его — горько, через силу проглотил — вскоре началась изжога: избалованный человеческий желудок не принимал звериной еды.
Хотелось горячего чая.
Ветер дул от них и даже доносил дикие запахи теплых звериных тел.
Вдоль ручья ему удалось подползти к медведице шагов за пятьдесят, на хороший выстрел, но не снимок. Виктор стиснул зубы и пополз дальше.
Оставалось метров двадцать пять-тридцать. Видны были даже зеленые от травяного сока губы медведицы. Но что получится на снимке он понимал — отдаленный контур зверя. К тому же, простой, случайный снимок медведя, каких тысячи.
Нужно было подползать еще ближе и ждать, ждать, пока звери не впишутся в композиционный замысел. Но медведица насторожилась, задрала голову, шевельнула черным носом, рыкнула, и медвежонок нехотя прижался к ней. Виктор почувствовал себя, как мальчишка, пойманный подглядывающим за женщинами. Стыдливо поднялся в полный рост, скинул панаму.
— Здравствуй, Машка! — сказал дрожащим голосом.
Она пристально глянула на него строгими колючими глазками, а он при этом почувствовал себя дурак дураком.
— Разрешите представиться, ваш покорный слуга…
Она рассерженно мотнула головой и зарысила вверх по ручью.
Остановившись на миг, обернулась, и Виктору показалось — усмехнулась совсем как женщина, мягко отвергавшая ухаживание.
Добравшись до шалаша, он два дня ел, отмывался и отстирывался.
Настроение было прекрасным. Несмотря ни на что, ему казалось, что свидание удалось. Рано или поздно он надеялся приучить медведицу к своему присутствию. «Закадрю Машку!» — самонадеянно посмеивался, вспоминая сцены знакомства с лохматой «дамой». Раздражали отросшие волосы. Под отросшей бородой чесались щеки. Он наточил нож, кое-как выбрился и подрезал пряди на ощупь. Погода стояла ясная, безоблачная, в задымленный шалаш, где мыши начали обычный разбой, лезть не хотелось, и он ночевал под открытым небом: засыпая и просыпаясь при свете звезд.
Свежий ночной ветер пробежал по лицу. Виктор открыл глаза: гасли звезды, на востоке чуть алела полоска ледников. Ночью откуда-то сверху приползло белое облако, запуталось в скалах, изодралось и повисло над руслом реки. Поднялось солнце, и туман вспыхнул, заискрился розовыми бликами. Из пади выплыл плоский огненный диск, растворился над кустарником, оставив двух головастиков в серебристых скафандрах. Виктор приподнялся на локте, протер глаза, затряс головой — видение не исчезло.
«Проси пуховый спальник и сапоги, — пискнул в голове жлобский голосок, — и денег, денег побольше!»
Один из пришельцев отстал от другого метров на десять, а тот, прихрамывая, ковылял по тропе к ручью, туда, где обычно Виктор набирал воду. Вдруг пришелец завопил как ужаленный, отскочил в сторону, вполне по-человечьи и даже по-русски выругался.
Что там случилось возле ручья, Виктор сверху видеть не мог, но по доносящемуся топоту понял, что «головастики» бегут по тропе. Где-то там, под скалой, испуганный голос просипел:
— У-у, е-е-е! Кудашкин даже ракетницу не дал!
Виктор сплюнул, приходя в себя, торопливо сунул ноги в ботинки и поскакал наперерез. Пришельцы оказались слабее, чем он рассчитывал.
Спрятав ботинки, ему пришлось просидеть на тропе минуты полторы в одних трусах. Уже мурашки поползли по коже, когда сквозь шум воды послышалось тяжелое дыхание и треск кустарника.
У того, кто бежал первым, колпак сполз до самого носа. Виктор даже ноги с тропы убрал, чтобы бегущий не наступил на них. Но «пришелец», подбежав почти вплотную, резко остановился, замахал руками, хрипло заверещал.
Второй, наскочив на него, сшиб товарища с ног. Оба повалились в колючий кустарник.
Тот, что бежал первым, с руганью сорвал колпак и поднял голову с нормальным лицом человека северной расы. Виктор в спортивных трусах сидел возле тропы, с любопытством наблюдая за странными людьми. Ветер шевелил промытые волосы, ноги его были босы.
— Вы что, космонавты? — спросил он, таращась на пешеходов.
— У-у, е-е-е! Ты откуда взялся? — пролепетал «пришелец».
— Живу здесь! — только тут Виктор сообразил, что ранним утром на горной тропе выглядит так же нелепо, как и они. — Палатка у меня там стоит! — махнул рукой в сторону. — Физзарядку делаю.
— Спортсмен долбаный, — необидно, со слезой в голосе проканючил «пришелец», выползая из-под товарища. — Плот у нас разбило, вещи утонули. А это, — ткнул пальцем в колпак серебристого скафандра, — подписались испытать новые костюмы для летчиков… Два дня не евши…
Чабану кричали-кричали, что мы — люди, а тот как вчистит на коне… Хлебто хоть есть?
— Найдется! — посмеиваясь, сказал Виктор. — Наверху. Вы пока костер разведите, а я принесу.
— Чем его разводить? — всхлипнул пришелец. — Все унесло: и плот, и вещи, и спички. В чем были, с тем остались.
Второй, приходя в себя, прыснул сквозь сжатые зубы.
— Что балдеешь-то? — обернулся говоривший и тоже захохотал. Виктор рассмеялся за компанию. Он разул одного из них и в чужой тесной обуви быстро сходил за котелком, зачерпнул воды в ручье, преднамеренно затоптав свой прежний «босой» след, принес чай, сахар, несколько лепешек и три куска вареного мяса. Завтракали вместе.
— Там твой след что ли? — спросил плотогон, с удивлением поглядывая на босые ступни Виктора.
— Мой! — ухмыльнулся он.
— Ну и лапа… Нет, большая, но человечья. А там, я как глянул, е-мое, чудовище. Ты бы хоть лапти себе сплел, что ли?!
До села и до первой автобусной остановки было километров пятьдесят — без привычки за один переход не дойти. Поколебавшись, Виктор рассказал, как найти его избушку, где лежит ключ. Советовал переночевать там.
Пришельцы ушли. Вскоре Виктор пожалел о том, что не проводил их, поскольку медведицу не нашел, попусту прошлявшись целую неделю. Гости переночевали в его избушке, утром ушли, прихватив топор, кастрюлю и пачку сахара. Топор за ненадобностью бросили в километре ниже избушки, кастрюлю — возле фермы, а сахар оставили на перилах моста неподалеку от села…
4
— Эй, хозяин! — Виктор забарабанил кулаком в крепкую дверь фермы. — Сдох, что ли?
Сдох не сдох, но мог уехать — и не на один день, мог все бросить и укатить в город. Это было бы ударом ниже пояса. Виктор еле дотянул до фермы: ни сухарика не осталось в запасе, парой километров выше жилья пришлось снять ботинки и идти в опорках без задников. Что делать, другой обуви нет, а босиком далеко не уйдешь.
Виктор сел на жердину заваливающейся изгороди и стал думать, что делать. Обгоревшее на солнце лицо приобрело кирпичный оттенок, волосы отросли чуть не до плеч, курчавилась короткая борода по щекам, шея и вовсе была лохматой: ножом побрить удалось только щеки. В таком виде и в город выбираться стыдно.
Алексей вышел из леса с удилищем в руке, подстриженный, выбритый, ухоженный.
— Ты на Алика стал походить! — широко улыбаясь, издали заговорил он.
— Еще возле кошары я тебя заметил, издали — ну прямо покойничек пилит…
Царствие ему Небесное. Как живешь?
— Вот так! — Виктор тряхнул отросшей гривой. — Бритву сдуру не взял с собой, а подстричь можешь только ты.
— Не надоело одному шляться?
Гость неопределенно хмыкнул, пожал плечами.
— Когда сапоги мне достанешь? В город ездил?
— Завтра и уеду, раз ты пришел: не на кого было оставить свое свинство.
— Привези продуктов, одежды да сапог две пары или даже три. Машина — за мой счет.
Перемен в доме не было. Разве что исчезла паутина по углам, да свежие занавески висели на промытых окнах — приезжала жена. Неделю назад Алексей отправил ее в город и ждал Виктора, чтобы оставить на него хозяйство.
— Толика встретил? — спросил он, отпирая дверь.
— Нет!
— Значит, разошлись. К тебе пошел долги отдавать. Говорит, занимал четвертак, когда ты ночевал у него. Закурился мужик наглухо, и явно не махрой. По-моему, у него уже и с мозгами что-то не то… — Алексей тряхнул головой и, переменив тему, насмешливо взглянул на друга: — Прокурор с председателем тобой интересовались. Браконьерили где-то в твоих местах, спустились к зимухе, на ней замок, а вид — жилой. Этот факт сильно возмутил местное начальство: живет бич — ни прописки, ни разрешения, еще и дома не сидит, когда большим людям приют нужен. Потребовали от лесника, чтобы тот сломал избу, а он им — акт на выписку леса для строительства временного жилища. Алик местную кухню хорошо знал.
Позаботился.
— Ну и что теперь? — настороженно спросил Виктор.
— Ломать пока не будут, — Алексей сделал нажим на слове «пока». — Приказано явиться к участковому.
Виктор внешне никак не отреагировал на сообщение. Не дождавшись чая, схватил ломоть хлеба, намазал толстым слоем масла.
— Как твой гениальный кадр: медведица в образе Богородицы? — поинтересовался Алексей, гремя посудой.
— А никак, — прошепелявил гость набитым ртом. — Предлагал ей попозировать… Не современная, однако, дама. Сельпо! — и, прожевав, серьезно спросил: — У тебя рыбий жир был. Не выбросил?
— Нет. Но он старый, прогорклый.
— Сойдет. Есть одна идейка… Сапоги бы.
— Ты что, действительно, к медведице пытался подойти?
— Пробовал, да что толку: она на тридцать метров муху слышит. Это какую же аппаратуру нужно иметь, чтобы снимать ее с сотни метров?
— Ты приближался к ней, с медвежонком?
— На тридцать метров подпустила, потом ушла.
— Ты что, умишком слаб или просто глуп? — повысил голос Алексей. — Почитай, что об этом умные-то люди пишут, медвежатник хренов.
— То я не знаю, кто пишет книги и как их пишут, — проворчал Виктор. — Два раза подходил и, как видишь, даже не пожеван… Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Почему бы не приучить медведицу к моему присутствию?
— Да она муженька законного на свою территорию не пускает, а оператора-дрессировщика прямо так и возлюбит: оторвет башку, будет тебе «гениальный кадр»! Ну, Россия-матушка! — простонал Алексей. — Такому мужику пополнять бы генофонд нации, а он то на БАМе кувыркался, то в Афганистан рвался, теперь с медведями путается… Отчего мы такие дурные?
Алексей уехал на следующий день на попутной машине. Перед отъездом, как сумел, подстриг гостя. Виктор остался на ферме: кормил кур, отъедался, отсыпался. Читал журналы, подобранные Алексеем, но никаких особых ужасов про повадки медведей не вычитал. Из собственного опыта жизни знал, что ни один нормальный зверь не бросится на человека, если есть возможность с ним мирно разминуться.
Неподалеку от фермы он подстрелил зайца, ободрал, пропустил мясо через мясорубку, смешал со сливочным маслом и рыбьим жиром, закупорил в толстую бутылку из-под шампанского и выставил на солнце. Когда-то с Аликом делали такую приманку для лис. Как знать, может быть и медведицу это приворотное зелье заинтересует.
На ферму часто приезжали чабаны. Разговор то и дело заходил о медведе, шляющемся по округе, и о карамаймуне — снежном человеке, — следы которого стали встречаться в долине. Некоторые утверждали, что это оборотень. Какой-то странный зверь два раза приходил на кошару Шаутена, задрал лошадь. По другой версии — у этого чабана собрались охотники со всей округи, всю ночь пили водку. К утру скот заволновался. Охотники послали разобраться самого молодого джигита, тот вышел на крыльцо и шарахнул в темноту дуплетом из дробовика. Утром нашли убитого коня.
Через неделю Виктору стало невмоготу от жизни в перенаселенном месте.
Гости раздражали, бесконечные разговоры и чаепития надоели. Он почувствовал, что может сорваться, испортить отношения с местным населением, чего ни ему самому, ни Алексею делать не следовало. Уклоняясь от встреч, утром он кормил кур, завтракал яичницей с хлебом, запирал дверь и уходил куда-нибудь, прихватив удочку или ружье. Алексей не возвращался.
Вот и на этот раз, проснувшись до восхода солнца, Виктор не спеша позавтракал и отправился на реку рыбачить. Недалеко от фермы он приглядел омут, где всегда был хороший клев. Место было укрытое от случайных глаз. Виктор забросил удочки, растянулся на камнях, наслаждаясь покоем и одиночеством.
Прошло часа полтора, может быть два. Азартный утренний клев закончился. Поднялось солнце, и Виктор, изредка поглядывая на покачивающиеся поплавки, прятался в тени. Вдруг на противоположном берегу реки раздался крик. Виктор поднялся, высматривая откуда донесся звук, и увидел всадника на высоком яру. Он смотрел вниз и размахивал руками, подавая кому-то знаки. Кому он кричал, Виктор видеть не мог.
Метрах в двухстах выше по течению река вырывалась из скальной теснины, пенистые волны разбегались в стороны расширяющихся берегов.
Не успев успокоиться и выровняться, чуть ниже того места, где Виктор облюбовал место для рыбалки, река вновь сжималась скалами. Здесь, перед новым препятствием чуть ли не у середины русла, часть воды поворачивала вспять. Это было очень удобно для ловли рыбы на удочку, так как возле берега течение водоворота было несильным. Но там, где ему противостояла отшлифованная волнами скала, булькала и клокотала, задирая плывущие ветки, воронка.
Вот из белого пенящегося вала пробкой выскочила человеческая голова.
Всадник на другом берегу пришпорил коня пятками в бока и галопом промчался за поворот реки. Над гребнем следующей волны мелькнули руки.
По течению плыл человек. Он, наверно, очень устал и потому не греб к берегу, а просто держался на воде. Не использовать сотню метров относительного затишья и пологого берега мог только сумасшедший.
Виктор схватил удилище, по пояс влез в холодную воду, нащупал под ногой прочный камень, уперся в него ступней и выставил удилище.
Плывущему нужно было сделать один взмах руками, и он ухватился бы за конец. Но того пронесло в метре от конца удилища, и он не сделал ни единого движения в его сторону. Плывущий был русским — Толей Колесниковым. Мгновение он и Виктор почти в упор смотрели друг на друга.
В глазах Анатолия не было ни страха, ни растерянности. Виктору даже показалось, что в них насмешка.
Еще мгновение — и течение пронесло его мимо. Воронка сначала медленно, затем быстрей и быстрей стала втягивать плывущего в свою пасть.
С нечеловеческой силой, как куклу, мотнула вокруг себя. Но вместо того, чтобы попробовать выбраться из водоворота — нырнуть или выгрести в сторону, — Анатолий чуть не по пояс выскочил из воды, как-то странно скалясь, задрал к небу правую руку со сжатым кулаком, ребром левой ударил по локтевому изгибу. В следующий миг он крутнулся и ушел под воду с головой. Все это походило на глупую рискованную шалость.
Пока Виктор выбрался на тропу, пока обошел прижим — прошло минут пятнадцать. Если Анатолий не вынырнул за порогом и не сушится на берегу, то его должно было унести за поворот реки, куда ускакал кричавший чабан.
Виктор постоял, слегка потрясенный случившимся, не сомневаясь, что пловец преднамеренно отказался от помощи, что он узнал его и подал знак.
Но что этим хотел сказать? Непонятно!
Постояв, Виктор раздраженно сплюнул и побрел к ферме жарить рыбу.
Анатолий прожил в этих местах больше десяти лет и глупо погибнуть, как выбравшийся за город «чайник», не мог. Скорей всего он сорвался с переправы, а может быть, просто плыл, чтобы остудиться от полуденной жары и нырнул в водоворот, зная, где будет выброшен. Каскадер драный!..
Так думал Виктор на пути к дому.
Ночью не было сна: дурные мысли лезли в голову, в сарае то и дело слышалась какая-то возня. Вот уже совсем странно свиньи шарахнулись во двор и стали приглушенно повизгивать. Волк стаду одичавших свиней не страшен. Может быть, дикарь-любовник пришел к свиноматкам? Виктор поворочался с полминуты и встал, не столько из опасения, сколько из-за бессонницы, вынул из банки с соляркой факел, поджег его и, прихватив заряженную одностволку, вышел из избы.
Свиньи жались возле загона, внутрь не заходили. Черная полоска волока с поблескивавшей струйкой крови тянулась от сарая. Виктор кинулся по ней и увидел мелькнувшую тень человека, зверя ли. Выстрелил с одной руки, прижав локтем приклад к бедру, бросил факел на землю, перезарядить ружье было нечем. В нескольких шагах лежал мертвый подсвинок с кровоточащей дырой на шее.
— Эй ты, урод! — рука привычно скользнула по поясу и, не обнаружив на месте ножа, беспомощно сжалась в кулак.
Виктор сбегал в дом, схватил нож и патронташ. Вернулся к догоравшему факелу, подхватил его, походил кругами среди кустарника — подсвинка не было. Он сделал еще несколько кругов, но так и не найдя его, вернулся к загону. Затем несколько раз ходил в известном направлении — ни убитого подсвинка, ни брошенной второпях гильзы. Выругался:
— Хоть бы луна!
Темно — хоть глаз коли. Подсвинка могли забрать вернувшиеся воры, его могли утащить и сожрать собратья. Ничего не оставалось, как бросить на землю погасший факел и вернуться в избу. Он разделся, поставив у изголовья заряженное ружье, пригасил лампу и лег, прислушиваясь к возне за стеной.
Алексей вернулся через две недели. Привез муку, крупы, макароны, подсолнечное масло. Хохоча, вытащил из мешка пару преогромных галош, приговаривая, что если их надеть на ботинки, след будет вполне человеческий — будто карамаймуна обули. После города он был весел.
— Нет твоего размера — хоть заищись. Я заказал знакомым продавцам болотники и литые резиновые сапоги. Обещали помочь… Куда к черту, отрастил лапу, — снова загоготал он. — На заказ шить надо. Пошляйся в гонконгских. Кому какое дело, что след у них необычный, — не медвежий и ладно. Я уже намекнул кому надо, что в моих местах бывают странности: еле отвязался от одного корреспондента, который про домового писал. Приедут, никуда не денутся. Облапошим «чайников», продадим свиней и… «Пора на север!» — с пафосом пропел он.
Кроме продуктов, одежды и галош Алексей привез ящик водки, ставшей в городе большим дефицитом. В селах тем более ее не было. Перетаскав груз в избу, он запер дверь.
— Бежать надо, — стал поторапливать Виктора. — Скоро заявятся гости, начнут выпытывать и вызнавать, что я привез. Не дай бог, кому-нибудь из местных сто грамм нальешь — после до утра не выпроводишь и на всю округу обиды — одному налил, другому нет… Азия!
С бутылкой и закуской друзья ушли в укромное место на берегу Байсаурки. Кончался знойный день. Зашло за вершины хребта солнце. По долине реки заструилась отрадная прохлада. Скромно попискивали комары.
— Ну, будем здоровы! — Виктор с жадностью выпил, отдышался и притих, ожидая первой хмельной волны. Напряжение последних дней и недель, раздраженное уныние и беспричинная тоска мало-помалу, стали отпускать.
— Говорят, уныние — грех! — крякнул он, шумно занюхивая выпитое душистым огурцом.
— Водка тоже от беса, — устало взглянул в свой стакан Алексей. — Но иногда чертовски приятно посидеть за бутылкой и поговорить с близким человеком в хорошем месте.
Он снова неприязненно заглянул в стакан, вздохнул и выпил залпом.
— Я тут без тебя пробовал Библию читать: так, с пятого на десятое, — похрустывая огурцом, начал Виктор. — Одно понял: где сидишь, там и сиди — не дергайся. Начальство не ругай и местных чурбанов не осуждай. Для Бога, что эллин, что иудей — без разницы.
Алексей передернул плечами, посопел, морщась, пожевал перо лука и повеселел:
— Во-первых, не эллин — в смысле грек, а еллин — еврейская диаспора, живущая среди язычников, как мы с тобой среди казахов. Теперь чувствуешь, как смысл меняется? Для Бога нет разницы между русским, живущим в России, и русским, живущим в Казахстане. И тех и других он любит одинаково. Но любит нас с тобой, а не моего соседа Шаутена — вот в чем дело!
Виктор хмыкнул, не зная чем возразить, а возразить хотелось. Он вальяжно вытянулся на спине, закинул руки за голову, повеселевшими глазами глядя в сереющее небо. Сгущались сумерки.
— Скажи еще: Иисус Христос — такой же как ты националист? — пробормотал под нос.
— Вот именно! — заводясь, громче заговорил Алексей. — И патриот, и националист! Внимательно надо читать такие великие книги, над которыми лучшие умы думают два тысячелетия!
Виктор беззвучно затрясся от смеха:
— Ну, поехали, интеллигенция кухонная! Наливай по второй, пока дух на подъеме.
— Над чем балдеешь? — с ноткой обиды в голосе задиристо тряхнул головой Алексей. — Нам по сорок лет скоро — срок, а не знаем элементарного, на чем стояла тысячелетняя Русь. Плакать надо. Что мы строили там? — кивнул в сторону верховий реки и белеющих вершин. — Русскую общину? Вот! — сложил кукиш и поводил им перед носом друга. — Потому и построили хипповский кибуц. И так будет до тех пор, пока не вернемся к истокам, к вере предков. И Ветхий, и Новый Заветы пронизаны одной сквозной идеей — идеей единения нации по крови и духу: брату своему прости все, прощай всегда. Долги брат не может или не хочет отдать — прости через семь лет. Но иностранцу — никогда, ни долга, ни обиды, ни оскорбления. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего», но не врага.
Вот, что стоит за новозаветным «не убий»! Ты только прикинь: Иисус едва родиться успел — на него начались гонения от единокровников. Родители с ним — за бугор, чтобы младенца спасти. Он бы свой народ ненавидеть должен, как ты. Но ведь вернулся ради них, зная, что распнут. Ценой крови и мук давал шанс спастись, хотя бы через покаяние: в первую очередь иудеям, во вторую — еллинам, потому что свои, единокровные. А уже потом благодетельствовал всем остальным. Это ли не высочайший пример патриотизма?
То-то сейчас по радио и телевидению всякий петух орет: «патриотизм — последнее прибежище негодяев!» Боятся, сволочи, расплаты! Тут недавно встречаюсь со знакомым — он в Россию ездил. И злословит, и возмущается.
Приехал, мол, в какой-то город. Сам — уникальный, известный и редкий специалист. А ему говорят — не можем квартиру дать без очереди. И он в возмущении: без оркестра, видите ли, родина встречала блудного сына.
Алексей вдруг осекся, помрачнел, налил водки в стаканы и пробормотал:
— На место коммуняк сейчас такая мразь лезет… Грешным делом как-то подумал: если Елена Боннэр начнет раздавать Георгиевские кресты — застрелюсь на хрен! Правильно писатель Распутин сказал на съезде, что под русским имперским флагом опять пытаются похоронить историческую Россию.
— Ну вот! Приплыли! — Виктор поднял стакан, чокнул краем другой, стоящий на земле. — Куда ж ты тогда дергаешься, милый? Давай, я тебе помогу развести индюков. Мусульмане будут довольны.
— Но я не застрелюсь! — погоняв желваки на выбритых скулах, сверкнул глазами Алексей и поднял стакан. — Самоубийство — великий грех.
Допекут — поеду в Москву и пристрелю какую-нибудь русофобствующую падлу. А там будь что будет. Уж этого-то вера моих отцов мне не запретит.
Виктор цыкнул сквозь зубы, макнул луковым пером в соль на тряпице.
— Да ведь нас, русских, Россия, за которую ты на крест лезть готов, откровенно кинула. Двадцать пять миллионов бросила на произвол судьбы, за ненадобностью. — Он пожевал, морщась от соли и горечи, добавил: — Впрочем, если Иисус для тебя идеал…
— Я и сам голосовал за суверенитет, — вздохнул Алексей, — но не потому, что хочу жить в суверенном Казахстане, а для того, чтобы в России нерусских стало на десять миллионов меньше. А уж мы как-нибудь выберемся. Спецназ забрасывают на территорию врага и, если подразделения не выходят в срок, — снимают с довольствия…
Виктор снова раздраженно сплюнул.
— Черте что у тебя в башке, — приглушенно выругался. — И как только с тобой Светка живет? Кстати! Черного поросенка в загоне зарезали. Пока я вора искал — туша пропала. То ли свиньи сожрали, то ли местные промышляют?
Алексей покачал стриженой головой:
— На местных не похоже. Где-нибудь в куширях пристрелить свинью, загнать в свою кошару и зарезать — это они могут. Но чтобы ночью, в чужом загоне… Таких здесь нет… Конопля созрела, из города наезжают наркуши и мелкие торговцы, прячутся в горах… Скорей всего они. Одним поросенком больше, одним меньше — не переживай. Пустяки.
На другой день Алексей договорился с чабанами, взял пару лошадей, чтобы Виктор на них забросил продукты в избушку под скалой. С этим припасом можно было безбедно продержаться до Нового года, а то и до весны. Цены на продукты росли, и деньги убывали быстро. Отказаться от заработка, жить в горах только для искусства — было неразумно. Цены на меха росли, нужно было охотиться. К тому же, охота на волка, вечного врага скотовода, была уважаема и почетна в глазах местного населения.
Большую часть продуктов Виктор оставил в избушке, часть перетаскал в шалаш и старался пореже спускаться вниз. После фермы он чувствовал себя отдохнувшим, с хорошим настроением стал готовиться к зиме. В середине сентября насолил грибов, насушил барбариса, накопал картошки, ссыпав ее в известную пещерку, служившую когда-то погребом. С ведром отборного картофеля в рюкзаке он спустился к шалашу. Здесь отдохнул, утеплил его.
Затем несколько раз поднимался вверх по глухой пади, но медведицу так и не встретил: она куда-то ушла вместе со своим постреленком.
В середине октября, ночью, как-то неожиданно, без заморозков, закружил снег. За полночь, разбуженный странным чувством, Виктор открыл глаза и увидел неестественный свет, наполнивший шалаш, высунулся наружу: звезды, луна, бело вокруг. Упускать такой денек было глупо, ведь у него давно кончилось мясо. Он растопил печь, согрел чай и стал собираться на охоту.
Наспех позавтракав в темноте, натянул галоши на ботинки и, стараясь ступать на заснеженные камни, осторожно спустился к тропе, переправился через реку по торчащим из воды камням, сбивая с них снежные шапки.
Затем, уже не беспокоясь о следах, пошел вверх по пади.
Не прошел он в предрассветной полутьме и часа, как заметил отблески костра. В нос ударил запах гари. Крадучись, Виктор подобрался ближе. Ветер дул сверху. Собаки не подавали голоса. Возле затухающего огня дремали знакомые браконьеры-казахи из села. Неподалеку от них паслись расседланные кони.
Охота была испорчена. Ладно бы только охота. Местные все равно обнаружат его след и по своему природному азиатскому любопытству не поленятся проследить, откуда он взялся. А след может вывести к тайному шалашу.
То ли сменился ветер, то ли Виктор сделал неосторожное движение — собаки учуяли постороннего и с лаем бросились в его сторону. Дремавшие браконьеры зашевелились, закашляли, посматривая в сторону разъярившихся собак, но от костра не отходили. Видимо, переговорив между собой, они решили, что собаки загнали на дерево какого-то зверька. Охотники подбросили дров в огонь. Кто-то прикрикнул на собак, но они залаяли еще яростней.
Виктору нужно было выходить к костру, как-то объяснять свое появление в этом месте в столь раннее время или… Шальная мысль пришла ему в голову. Он сдернул с ботинок галоши и, ступая в свой след, пошел в обратную сторону. Расчет был прост: пока браконьеры поднимутся и заседлают коней — он будет на скалах, где слабым на ноги всадникам его не догнать, и, таким образом, уведет след в сторону от шалаша.
План был хорош, да только собаки попались дурные — давясь лаем, подступали вплотную, окружали, угрожая покусать. Особенно яростным был пес с обрезанными ушами. «Этот у них за главного!» — решил Виктор и, изловчившись, огрел его прикладом по морде. Пес завизжал, отскочил в сторону, бросился на двух сопровождавших его собак, вымещая на них оскорбление и боль.
Вскоре собаки отстали. Виктор вышел к реке. Здесь, на камнях, его прежние следы были почти незаметны. Рассветало. От теплого ветерка выпавший ночью снег исчезал на глазах. Виктор потоптался на месте, отвлекая преследователей от неприметных отпечатков галош на переправе, и зашагал к скалам глухого ущелья, выбирая заснеженные места, чтобы отпечатки были поотчетливей. Он со смехом оборачивался, прислушиваясь к погоне. В сумерках осеннего утра преогромные следы босых ног впечатляли.
Охота не удалась. Но день был прожит не напрасно: в верховьях глухой пади он обнаружил следы Машки и медвежонка. Как оказалось, территория медведицы занимала не такую уж большую площадь, чтобы невозможно было ее найти.
Он спустился в шалаш, предварительно высмотрев в бинокль со скал, куда ушли следы конников. В шалаше торопливо пообедал, не разводя огня, бросил в рюкзак несколько лепешек и, замотав в тряпье, положил туда пару фотоаппаратов из кофра. Подумав, прихватил с собой бутылку с пахучей смесью. Чтоб она не выветрилось в пути — решил намазаться непосредственно перед встречей.
На знакомую парочку он вышел без особого труда. Медведи неторопливо копали какие-то корни. Но место, которое они облюбовали, меньше всего подходило для наблюдения: ближе, чем в семидесяти-восьмидесяти метрах укрыться было негде. Виктор понюхал, пожевал один из недоеденных корешков — ничего, даже сластит. Пробираясь ближе, то и дело натыкался на полосы и лужи: похоже, что у мохнатых друзей было расстройство желудков. Впрочем, по звериным понятиям, это не столь серьезный казус, чтобы откладывать свидание на следующий год, решил Виктор.
Ему удалось подползти незамеченным к обломку скалы, лежащему на склоне. Прячась за ним, он достал бутылку, с приглушенным хлопком выдернул пробку. В нос ударил не такой уж противный запах прелых шкур.
Без брезгливости Виктор вытряхнул на ладонь перебродившую массу, местами натер ткань ветрового костюма, шапку. Смазал даже ботинки.
Заткнув бутылку, спрятал ее меж камней. В животе как-то странно заурчало, и отрыгнулся желудочный сок с привкусом разжеванного корешка. Виктор сунул «Смену» в боковой карман, повесил на шею «Зенит» с телеобъективом и стал ждать. Он просидел за камнем больше часа, но медведи нисколько не приблизились к нему. Запах, на который он рассчитывал, то ли не доносился до них, то ли был им безразличен.
Вечерело. Нужно было возвращаться ни с чем, а эта встреча, скорей всего, была последней в году. Он не мог ждать дольше и не хотел откладывать съемки до весны: перекрестился, поплевал через плечо и пополз на четвереньках, но не напрямую, а со стороны, будто хотел незамеченным пробраться мимо.
Пожалуй, ему удалось проползти почти половину пути, но этого все равно было мало. Он опасливо попробовал поймать зверей в объектив, и в этот миг был замечен. Без того колотившееся сердце застучало так, что в ушах загрохотала барабанная дробь. Нужно было что-то предпринимать. И Виктор стал ползать на четвереньках, делая вид, будто ест иссохшие на корню побеги.
Медведица раздраженно зарычала и сделала несколько скачков в его сторону. Виктор понял, что она выходит на ветер, и стал отползать к склону с мелкой осыпью. Но медведица подскочила к обрыву, отрезав путь к отступлению, пошевелила черным носом и даже сделала вид, что совершенно равнодушна к самозванному дрессировщику: вроде бы что-то понюхала, сорвала, пожевала.
Он не успел по-настоящему испугаться — с кошачьей легкостью она метнулась в его сторону и сшибла мохнатым боком. Запах дичины ударил в ноздри. Виктор вскрикнул, приземлился на четвереньки на сыпучей осыпи, с ужасом услышал, как хрястнул о камни дорогой объектив, и, сдирая кожу с ладоней, кувырком полетел вниз.
— Ну и дура! — остановившись, поднялся на подрагивающих ногах и покрутил кровоточащим пальцем у виска.
Медведица сверху, как показалось, с любопытством взглянула на него, фыркнула и мотнула лохматой башкой как лошадь.
Дешевенькая «Смена» была целехонька, а вот на «Зените» объектив был помят, похоже, даже с трещиной. Но разбираться было некогда. Он не решился вернуться к камню за рюкзаком. Сунул фотоаппарат за пазуху и побежал вниз по пади.
Ночью снова падал снег, на этот раз тяжелый и пушистый. Вот и пришла зима. Через день он вернулся к месту последней встречи с медведицей.
Рюкзак лежал под снегом нетронутым. Медвежьих следов на склонах не было видно. Судя по всему, искать их не было смысла, да и не хотелось.
Впрочем, ему уже ничего не хотелось: беспросветный приступ хандры подкатил к самому горлу. Чтобы как-то избавиться от него, он отправился вниз, в избушку. Что там неудавшийся кадр, испорченный фотоаппарат, глупая жизнь! Хандра волочилась следом, заползала в самые светлые уголки души, пакостливо оскверняла даже то, что прежде казалось святым.
5
— Ну, наконец-то! — Алексей радостно ткнул Виктора кулаком в бок. — Я, грешным делом, стал подумывать, не случилось ли что с тобой. А у меня тут такие дела разворачиваются… Даже корреспондент из Алма-Аты приезжал. Здешние чабаны рассказывают, что на них напал «карамаймун» ростом метра три. Собак — руками чуть не разорвал, колхозного коня увел.
На днях должны приехать энтузиасты из какого-то общества. Будут ловить снежного человека… А тебе я сапоги привез.
— Водка есть? — угрюмо спросил Виктор.
— Есть! — удивленно поднял брови Алексей.
— Наливай! — Виктор сбросил рюкзак, снял куртку, сел за стол.
— Что, прямо сейчас? Подожди, я хоть закуску приготовлю…
— Ничего не надо. Наливай! — Виктор придвинул к себе граненый стакан. — Полный лей, не жмоться!
— Да мне не жалко для друга. Но странно как-то, — пробормотал Алексей, достал початую бутылку и налил стакан до самых краев.
Виктор, не отрываясь, выцедил все до последней капли. Шумно вдохнул, скользнув тусклым взглядом по чистому столу, смежил веки, сосредоточенно ощущая как растекается зелье по телу. Алексей нарезал крупными ломтями хлеб, положил на тарелку кусок свиного сала. Обветренной рукой Виктор потянулся к закуске.
— А я тебе сапоги купил! — снова сказал Алексей настороженным голосом. Не дав гостю прийти в себя после выпитого, достал из-под койки болотники сорок седьмого размера и пару резиновых литых сапог.
— Уж эти-то ты сможешь надевать с толстой портянкой. Продавщицы говорят, что обуви большего размера нет, сорок восьмой — это уже чемодан, — попытался шутить он.
— Сапоги — это хорошо! — розовея, пробормотал Виктор и, наконец, вымученно улыбнулся. — Помыться бы, — почесался, яростно запуская пятерню под свитер.
— Это мы мигом. Нагреем воды, отпарим, отмоем, ты ведь у нас чистюля, — Лешка завертелся, хватаясь за все разом. Виктор тупо наблюдал за ним, неторопливо пережевывая горбушку с салом, с облегчением чувствовал, как отступает лютая, звериная тоска. После выпитого все мало-помалу становилось на места и жизнь обретала смысл. Неверной рукой он налил себе еще четверть стакана.
— Уф! — облегченно мотнул головой. — Надо с собой водки брать, а то так и шизануться можно… Старый стал, что ли? Ни в городе такого не бывало, ни в общине, когда в горах жили.
— Год такой! — гремя посудой, поддакнул Алексей. — Страна разваливается, чикинда мрет…Толю Колесникова нашли вскоре после того, как ты ушел вверх. Утонул он. Чабаны говорят — в водоворот затянуло.
— На моих глазах, — помолчав, хрипло выговорил Виктор и отодвинул стакан. — Как тебя видел его в водовороте.
Алексей с перекошенным лицом уставился на него, синяя вена набухла на лбу.
— Самоубийство? — спросил одними губами.
Виктор пожал плечами:
— Я думал, он шутит.
— Самоубийство! — прошептал Алексей, присев на порог. — Я так и думал, — он вскочил, лихорадочно замахав руками, торопливо заговорил: — Когда попадаешь в воронку, у тебя два пути к спасению: вытянуться в сторону от оси — и центробежная сила сама выбросит из водоворота, или сложить руки под головой и нырнуть поглубже, — с каким-то нездоровым азартом он стал изображать позы, поднимая и вытягивая мозолистые руки. — Как делал Толя?
Виктор, нетрезво поглядывая на него, ухмыльнулся, поднял руку со сжатым кулаком, левой ладонью хлопнул по локтевому суставу. Глаза его протрезвели, губы удивленно искривились: вдруг догадался, что означает этот жест.
— Это он мне что ли? — спросил с недоумением.
— Нам, — свесив голову, простонал Алексей. — Отсюда каждый выбирается по-своему… По крайней мере, Толя не сломался… Но это не путь: самоубийство — большой грех! Все равно, что бросить божий дар в лицо самому Господу… Спаси и помилуй! — перекрестился он.
Алексей забегал по комнате с перекошенным лицом и остановился в дверном проеме, глядя мимо Виктора.
— Наверное, Толя хотел всех нас обмануть и самого Бога тоже: мол, упал случайно в воду, попал в водоворот… Отчего мы все такие глупые? — искренно всхлипнул он и вдруг мотнул головой со стылыми глазами, выкинул вверх сжатый кулак в том же самом непристойном жесте: — Вот им всем! Я выберусь иначе, чего бы это ни стоило!
Странности товарища не удивляли Виктора. Алексей всегда тяготел к позе, любил выражать свои чувства с пафосом. Но на этот раз на его лице было что-то настолько беспомощное и отчаянное, что Виктор, крякнув, снова придвинул стакан и выпил, прохрипев сквозь спазм:
— Ты не пробовал смотреть в ствол взведенного ружья? Очень успокаивает.
Энтузиасты из общества «Снежный человек» прибыли на автобусе после полудня, пригожим зимним деньком. Следом за ним пришел грузовик с продуктами и со снаряжением. Слегка поправив печь, они расположились в пустующем чабанском зимовье рядом с фермой. Вместе с ними приехал председатель совхоза на своем «уазике». Помог прибывшим устроиться в совхозном здании, но к свинарю-кооператору так и не зашел. Алексей, ходивший знакомиться с горожанами, вернулся слегка озадаченный и даже опечаленный.
— У них такие продукты — будто отоваривались в цековском магазине. И это когда все по талонам да по блату. Что им моя свинина? Разве для экзотики… Говорю — по десять рублей за килограмм полудикого мяса, разве это цена, когда бутылка водки стоит полсотни… Из дикаря такой шашлык можно приготовить — на мармелады-шоколады смотреть не захотите…
Гляжу им в глаза, а у них в глазницах калькуляторы: мырг-мырг — расход-приход… Короче, режем поросенка килограммов на тридцать. Даем на пробу.
Дальше видно будет.
Старший из прибывших ловцов — бородатый мужик, узкоплечий и широкозадый — меньше всего походил на авантюриста или ученого и, если бы он не носил бороды, смахивал на бюрократа средней руки, амбициозного, истеричного, может быть, — на художника-авангардиста. «Бородатый Винни-Пух» — окрестил его Алексей.
Виктор пропьянствовал на ферме два дня. Он отмылся, коротко постригся и побрился. Помог Алексею зарезать и разделать поросенка, потом кабана.
Кооператор вскоре повеселел: прибывшие хоть и предполагали, что их уникальное занятие предполагает восхищение и одаривание, попробовав дешевого свежего мяса, стали покупать его все в больших количествах.
Алексей то и дело сновал с фермы на кошару. Виктор тоже засобирался знакомиться с туристками. Но друг уперся:
— На тебе, на твоем инкогнито, весь мой план построен и все надежды с этим связаны. Выпьешь там, начнешь девиц лапать, хвастать про возвышенные чувства к здешней медведице. Вдруг и босые ноги предъявишь на всеобщее обозрение. Не совсем же они дураки — соберутся и уедут… Дай мне хотя бы месяц. Я тебе другим разом из города какую-нибудь девицу привезу.
Виктор, затребовав еще одну бутылку, согласился, что друг прав. Но на ферме пожить он не захотел: засобирался, чувствуя, что на душе полегчало.
Ночью снег чуть припорошил горы. Утро обещало быть солнечным.
— Последняя услуга, — попросил Алексей, помогая ему надеть рюкзак. — С твоими ногами пройти несколько лишних километров — пустяк, а для меня подмога. Ты так ненавязчиво оставь где-нибудь босой след, чтобы этих мудрецов заинтриговать.
Виктор ушел на рассвете в новых резиновых сапогах и в теплых портянках, унося ботинки с галошами в рюкзаке. «Ну вот, — думал он, неторопливо шагая по заснеженной тропе, — охотничий сезон, к которому готовился с самой весны, начался. После следующего снега можно проверять капканы и петли». Добротные сапоги казались ему почему-то неудобными, хотя в этих местах все ходили в такой обуви круглый год. Через несколько километров, у ручья, на границе своего участка, Виктор переобулся в растоптанные ботинки, надел поверх подметки с человечьим следом галоши и веселей зашагал к избушке.
Отдохнув в домике под скалой, он достал из тайника малокалиберную винтовку и ушел вверх по берегу Байсаурки, туда, где были расставлены петли и капканы.
От холода вода в реке стала прозрачней, камни под ней запестрили сочными красками. Причудливые кристаллы выросли на сугробах у ручья, легкая дымка повисла над его темными загустевшими разливами. Пришло время, когда ни зверю, ни человеку не отделаться от своего следа.
Пойменный лес, две раскидистые ели, вывернутый из земли корень. За ним поставлен капкан. Сначала Виктору показалось, что снег вокруг чист и никаких примет проходившего зверя нет. Потом он высмотрел странное пятно на снегу из непонятно откуда взявшейся земли. Охотник вошел в лес и почувствовал, как посветлело на душе: небо стало голубей.
Еще недавно в этом лесу охотился Алик. Здесь, под пнем, он каждый год ставил капкан и каждую весну раздраженно совал в его взведенную пасть свою дубинку. Капкан с готовностью срабатывал, подскакивая, впиваясь дужками в древесину. Добыча снова всю зиму ходила мимо, но Алик со странным упорством надеялся поймать волка именно здесь. Лес напомнил о нем, о живом человеке, а не о мертвеце с разинутым ртом, с перепачканными гипсом зубами, с которых снимали слепок. Казалось, образ, переселившийся в этот лес, продолжает жить своей обособленной и независимой жизнью.
На этот раз в капкане сидел волк. Он не прятался и не выказывал себя: лежал на брюхе, преспокойно грыз свою лапу, зажатую капканом, и, не мигая, смотрел на охотника. Взгляды человека и зверя встретились. Светлокарие, почти желтые, знакомые глаза, с запрятанной в их глубине насмешкой, Виктор узнал почти сразу. Он прислонился плечом к дереву, поднял ствол винтовки, постоял так с минуту, но стрелять не стал.
Кровь густеющей струей сочилась из культи. Волк со знакомыми глазами зализал ее, неспешно поднялся на три лапы, скакнул раз, другой, обернулся.
«Ну разве можно так?» — сказали его глаза.
В начале весны, во время последнего наезда в город, Алик остановился у Виктора. Не смотря на то, что тот сам жил на птичьих правах, снимая комнату, запил и вскоре стал раздражать хозяйку квартиры и всех, кто здесь жил. Виктору гость тоже быстро надоел. А тот, стосковавшись по общению, пить и веселиться, не мешая другим, не мог.
— Научите своего гостя пользоваться унитазом, — сжав побелевшие губы, холодно заявила обычно приветливая хозяйка. — В конце концов, я не могу жить в таких условиях, когда седло постоянно обрызгано!
К радости живущих в квартире, Алик вскоре засобирался восвояси, но все отчего-то медлил, все откладывал свой уход, еще больше раздражая жильцов: то он принимался штопать штаны, то шапку не мог найти.
Уже сам не в силах ждать, когда за товарищем закроется дверь и в комнате устроится привычный порядок, Виктор начал приборку. Алик, одетый, с драным рюкзачком на плече, бессмысленно топтался в прихожей и виновато предлагал помощь.
— Сам сделаю! — отмахивался Виктор, азартно елозя мокрой тряпкой по полу.
«Ну разве можно? За гостем и замывать пол? — сказали тогда его глаза. — Да еще в дорогу!» Смысл взгляда, значение приметы, через которую суеверно переступил его компаньон, Виктор понял после похорон. Алик шагнул за дверь. Покалеченный зверь неторопливо скрылся за елками. «Ну разве можно так?» — обернулся напоследок всем торсом с негнущейся волчьей шеей.
«Почему не стрелял? — спросил себя Виктор. — Садистская забава — мучить зверей». Он беззвучно спустил пружину затвора, потоптался на месте и побрел дальше, не ответив на свой же вопрос.
Прошла неделя. Опять потеплело. Оттаяли альпийские луга. Маралы, круторогие горные козлы ушли на открытые пастбища. За ними побрели хищники. С охотой Виктору не везло, но это его не расстраивало — продуктов хватало, шалаш был утеплен и оборудован жестяной печуркой, внизу упали лавины, затруднив доступ в промысловые места, и появилось приятное чувство защищенности. Целыми днями он бродил по округе, высматривая незнакомые укромные места, добывая себе на обед то зайца, то тетерева.
Он мог не возвращаться за продуктами в избушку под скалой до середины зимы, но тело начало чесаться, отросшие волосы раздражали, а одежда до зловония пропахла потом — надо было помыться и выстирать белье.
Ручьи с холодами обмелели и покрылись льдом. Байсаурку переходить не было необходимости. К тому же в избушке под скалой были запасные сапоги, купленные Алексеем. Так и не привыкнув к болотникам, не желая расставаться с латанными-перелатанными ботинками, Виктор прихватил с собой пару лепешек, грязное белье и ушел вниз, натянув поверх ботинок галоши. Случилась неприятность: провалившись в сугроб над заметенным ручьем, он утерял одну галошу, а когда хватился — нужно было возвращаться, и не на сотню метров. Он снял с ботинка другую галошу, сунул ее в рюкзак и пошел дальше, рассчитывая забрать потерю на обратном пути.
По привычке он подходил к избушке осторожно, прячась за деревьями и кустами. К этому обязывали и ботинки с причудливым следом босых ног.
Замок висел на своем месте, окно и дверь не были взломаны, но кто-то приходил сюда — на тропе были следы. Казалось, в сумерках наступающего вечера струился запах опасности. Метрах в двадцати от избушки прямо над тропой висела палка копченой колбасы. «Вот чудики!» — подумал Виктор, догадавшись, что здесь побывали энтузиасты из общества по отлову снежного человека, потянул на себя твердую душистую колбасину… Вдруг что-то хлестко ударило по ногам. Прижатый к земле ствол рябины резко распрямился, небо перевернулось — и охотник повис над землей вниз головой с петлей на ноге. Справа раздался гулкий выстрел, и в небо взлетела красная ракета.
Выругавшись, Виктор подтянулся, вскарабкался на рябину, высвободил ногу, отцепил трос от дерева, скрутил его кольцами и положил в карман.
«Ну, держитесь!» — пробормотал, хищно кривя губы. Было очень стыдно, что какие-то «чайники», эрудиты-болтуны серийного выпуска, так просто перехитрили его. Виктору чудился за спиной хохот Алика. Не заметить примитивной ловушки мог только слепец.
Через час-другой должны были явиться ловцы снежных людей. Пережить позор встречи Виктору было не по силам. Надо было возвращаться в шалаш или подняться в Башню: там, по крайней мере, есть печка и все необходимое для ночлега. Перспектива сидеть всю ночь возле костра его не устраивала.
Он выбрал Башню еще и потому, что очень хотелось посмотреть сверху, что будет происходить возле его избушки под скалой.
Рано вышла полная луна, было светло, но не настолько, чтобы разобрать следы. Подходя к Башне, Виктор почувствовал волнение. Что-то опять настораживало его. Он прислушался, медленно втянул ноздрями похолодевший к ночи воздух и ощутил в нем явный запах дыма. Кто-то был в гроте.
Виктор вставил патрон, без звука задвинул затвор. Следы ботинок уже не смущали его. Осторожно ступая по похрустывавшему снегу, он прокрался через бывший зал, держа палец на спусковом крючке, потянул на себя дверцу. Она легко поддалась. В печи тлели угли, мигала коптилка. На матрасе, лицом вверх, как покойник, лежал человек. Виктор приглушенно свистнул — человек не дрогнул. Тогда он влез в теплый натопленный грот, сел возле печки.
Человек вяло шевельнулся, попытался сесть. Изможденное безбородое лицо его при свете коптилки походило на сплошную коросту, воспаленные глаза сонно мигали. В них силилась появиться мысль.
— Ты кто? — спросил Виктор, держа ружье на коленях.
— Кабан!
— Не очень-то похож, — усмехнулся охотник и добавил: — Зубы мелковаты.
Шевельнув отвисшей челюстью, плавным движением существо вынуло откуда-то два ножа:
— Вот клыки!
Виктор на миг растерялся, не понимая, есть ли угроза в голосе. На всякий случай выбил ножи из вялых рук, завернул кисти за спину, обшарил доходягу и матрас под ним. Другого оружия не было. Тогда он освободил его руки.
Человек покорно опустился вниз лицом, ткнулся лбом в матрас и засопел.
Виктор шагнул в свой угол, сбросил куртку, аккуратно расстелил ее и прилег.
Ноги гудели от усталости. Он поднял один из ножей. Это был основательно сточенный австрийский штык.
— Эй, ты! Давно здесь живешь? — спросил, ткнув доходягу стволом в бок и положив винтовку на колени, вытянул ладони к огню.
— Давно! — пробормотал тот, не поднимая головы.
— Где штык взял?
— Нашел!
«Придет в себя, поговорим», — решил Виктор, вытащил из рюкзака колбасу, снятую возле избушки, отрезал кусок, положил под нос доходяге.
Тот шевельнул ноздрями, лизнул, попробовал было откусить, но снова замер с открытым ртом.
Обшарив камеру, Виктор нашел два пакета муки, точно такие, как Алексей привез из города летом, макароны, в той же упаковке, что хранились и у него в избушке под скалой.
— Эй, земляк!
Доходяга молча посапывал. В жестянке у печки был чай из трав. В сковороде — какая-то затируха на постном масле. Виктор брезгливо понюхал — резкий, но приятный запах. Колбасу он есть не стал — мало ли чем могли нашпиговать ее ловцы снежных людей. Погрыз безвкусную засохшую лепешку, запивая настоем из жестянки. Подцепив ножом поджаренную зелень со сковородки, положил ее на кусок лепешки. Зелень была вкусной.
Подкрепившись, Виктор хотел приготовить ужин. Надо было сходить за водой, но странное ощущение: не усталости, а лени и приятной дремоты одолевало его. Он через силу спрятал ножи, едва доплелся до первого сугроба, набил снегом котелок, вернулся в теплую, необычайно уютную камеру, сел напротив печки и уставился на огонь.
Пошлость прошлого, бессмысленность настоящего, все то, что еще тяготило его после приступа хандры, отслоилось как короста от зажившей раны. Его жизнь была величественна и полна таинственной значимости.
Пожалуй, впервые он был доволен прожитыми годами и не хотел быть никем, кроме как самим собой. Виктор с замиранием сердца ощущал свою необычную роль в этой великой жизни с сияющими над скалой звездами.
«Как же я прежде не догадывался об этом?» — с удивлением думал он, глядя на огонь, шевеля губами, читал полузабытые стихи и находил в них такие глубины чувств и переживаний, которых не понимал никогда в прежней своей жизни.
Он снял с печки закипевший котелок, отставил его в сторону, разулся, вытянул ноги, прижал к животу ружье и отдался нахлынувшему чувству: к черту макароны, суету с ужином — не часто бывает возможность ощутить присутствие духа и его близость… Ему показалось, что чуткая дремота подступила только на миг, но, открыв глаза, он увидел доходягу в замызганной телогрейке и в знакомом овчинном жилете Алика. Тот раздувал огонь в печке. Его трясло от холода.
— Оклемался? — спросил мужичок миролюбиво. — По-крупному мы раскумарились вчера. Надо мельче и ровней держать кайф, — он заглянул в сковороду и довольный пробормотал: — Как раз на двоих осталось… Сейчас почаюем, без этого никак нельзя.
— Что это у тебя в сковороде? — приходя в себя, спросил Виктор и припал к котелку с тренькающими льдинками на студеной воде.
— Оставь попить! — потянулся к нему доходяга. — Сушняки!
— Это что? — опять кивнул на сковороду Виктор.
— Кашка из конопли, — пробормотал тот, отрываясь от котелка и тяжело дыша. При дневном свете выглядел он еще затасканней, чем при свете коптилки. — Нам хватит до лета. Я запасся: целый мешок насушил.
— Давно здесь живешь? — спросил Виктор, кутаясь в свою куртку.
— С осени!
— А это у тебя откуда? — выложил штык.
— У Алика взял… Сколько ни прихожу — все замок. Наверное, бухает в городе.
— Убили его в мае этим вот ножом, — кивнул на штык Виктор. Ни удивления, ни печали не появилось на одутловатом лице.
— Убили? Хороший был парень. Я с ним траву резал прошлый год. Или позапрошлый — забыл. Резал, в общем. Потом меня посадили, а теперь здесь живу… С весны или с осени.
Неловкими руками наркомана-хроника он поставил на печь жестянку со снегом.
— Где твоя кружка? Нету? А вчера как мы пили чай?.. Как-то же пили.
Что-то я забыл.
— Ты продукты где берешь? — пристально взглянул на него Виктор.
— У Алика в избушке. Он разрешает и ключ мне дал. Прихожу, а его все нет… Ну, давай еще по ложечке. Не хочешь? Зря мы вчера помногу, надо ровненько кайф держать.
Виктор пожевал остатки лепешки, поднялся. Мужичок аппетитно погрыз сухой колбасы, заел ее двумя ложками кашки и снова заклевал носом. Виктор взял винтовку, рюкзак и вышел. Был солнечный полдень. Протерев лицо снегом, он хотел прервать прекрасный сон. Но ощущение чуда и таинства не проходило. Если бы не брезгливая память о дохляке, его грязной посуде, он был бы вполне доволен прекрасным ночлегом. Виктор вышел на открытое место, вынул бинокль и стал рассматривать свою избушку и ее окрестности.
Дымила труба, сновали какие-то люди, рубили дрова и, по-видимому, готовились к ночлегу. Надо было как-то выкуривать их из собственного дома. Сначала он хотел сходить в шалаш, переобуться и вернуться на правах хозяина. Потом пришла в голову озорная мысль. Виктор пошел к навесу, где колонисты устанавливали генератор. Там когда-то была большая бутылка с отбитым дном, Алексей использовал ее вместо воронки. Помнится, весной она еще валялась здесь. Бутылка нашлась, даже снег не пришлось разгребать.
Нашлась и консервная банка. При помощи ножа и плоскогубцев, которые носил с собой для работы со стальными петлями, Виктор изготовил свисток в виде наконечника, надевающегося на горлышко. Он сунул бутылку с жестянкой в карман рюкзака и хотел уже отправиться вниз, но вернулся в камеру. Переступив через спящего доходягу, отсыпал из мешка над его головой несколько горстей сухой конопли, плотно затворил за собой дверь и, теперь уже не оборачиваясь, зашагал вниз.
Вся группа в избушке не разместилась. На ночь остались две девушки и три парня, остальные после ужина подались на кошару. Вокруг избушки, где был замечен свежий след и сорвана петля, они развесили приманку.
Фотоаппаратура была наготове. Остающиеся на ночлег знали свои обязанности и были морально готовы к встрече с неизведанным. Темнело.
На чуть облачном небе кучками высыпали звезды. Полная луна светила, как прожектор в тумане. Парни, попугивая девиц, рассказывали туристские байки. К страшному еще только подступали, и вдруг над крышей раздался жуткий стон. Все замерли. Стон повторился, прозвучав еще громче и пронзительней.
— Эт-та не волки, — стуча зубами, как печатная машинка, прошепелявил кто-то в избушке. Из щели между косяком и дверью высунулся ствол дробовика и прогрохотал дуплет. Но стонущий на выстрел не отреагировал: завыл и залаял так, что жестяная труба задребезжала в камертонном отражении.
Вскоре, пронзая лучами фонарей тьму, энтузиасты потащили девиц по тропе, обходя свои же ловушки.
— Так-то лучше! — пробормотал Виктор, спускаясь со скалы, к которой прилепилась избушка.
Замок с двери был аккуратно сорван, горела лампа. Возле печки в котелках томился еще не остывший ужин. «Фу-ты ну-ты — плов с морковью и приправами, кисель…» От одного только запаха текли слюни и кружилась голова. Первым делом Виктор напился остывающим киселем. Потом подкинул в печку дров, в трубе завыло, да так, что и у него самого мурашки побежали по спине. Пришлось влезть на крышу, вынуть из трубы бутылку на тросике для ловли снежных людей. Спустившись, он доел неземного вкуса плов, запил остатками киселя и долго еще вспоминал его кисловатую сладость.
Спрятав ботинки и надев сапоги, он ждал возвращения энтузиастов к утру.
Но их не было. Падал снег, укрывавший прежние следы и браконьерские грехи. Виктор помылся, выстирал и высушил над печкой белье — никто так и не пришел. Тогда он собрал рюкзак и рано утром в сапогах ушел в свою вотчину, в шалаш под корнями упавшего дерева.
Снег падал и падал. Кружил в замершем без движения воздухе, ложился на следы, превращая их в чуть приметные лунки. Виктор шел по старой скотопрогонной тропе, местами проваливаясь по колено. Ругал себя за то, что отправился именно в этот день. Наплевать бы ему на этих чудиков, нагло влезших в его избушку. У Лехи было время для продажи свиней. Ну и хватит!
На пути лежали три лавиноопасных кулуара, ежегодно перекрывавших тропу. По свежему снегу пересекать их было небезопасно, но возвращаться не хотелось, случайная встреча с людьми тоже пугала. Виктор спешил в укромное свое одиночество, унося память об ощущениях, пережитых при ночлеге в Башне.
Будто молока в глаза налили — кругом белым-бело. И с этой белизной отслаивалось с души все преходящее и суетное: «кабан», энтузиасты и даже Алик. Их образы растекались в сознании, как облака на альпийских лугах, исчезали и снова сгущались в свое расплывчатое белое подобие.
Идти становилось все трудней. Виктор все чаще останавливался. Постояв на месте, восстанавливал дыхание и двигался дальше. Не было в этой белизне ни гор, ни волчатника Витьки: лишь снег и одинокая мысль, плывущая в безмерном пространстве. Память о теплом шалаше и сухом спальнике согревала и придавала смысл неторопливому движению по снегам.
Виктор подошел к лавиноопасному месту. Свежий снежный покров лежал на предыдущем выбросе, еще не тронутый ни следом, ни бороздкой. Но этот ласковый на вид, пушистый снег ждал малейшего сигнала, толчка, чтобы ударить сокрушительно, резко и жестко, как дужки капкана. Где-то внизу чуть слышно шумела река. Виктор зарубился прочной палкой в фирновый вынос под пушистым покровом, новые сапоги с острым несношенным рантом по подошве никак не могли найти надежной опоры и скользили, елозя под выпавшим снегом. Оставалось совсем немного: шага три-четыре до края — Виктор сорвался и съехал на боку, толкая впереди себя пушистую белую волну. Это случилось уже в безопасном месте. Не успел он выбраться на тропу, как за спиной ухнуло. Подсеченный снежный покров не удержался и ушел вниз, обнажив старый серый лавинный выброс.
Сход лавины не напугал, не обрадовал Виктора: влился в душу великим покоем и великим смирением. Ему просто повезло. Три капкана стояли неподалеку от скотопрогонной тропы. Под елками, где снега было мало, виднелась выстывшая земля, едва прикрытая засохшей на корню травой.
Темнеющая цепочка лунок тянулась к ним по укрытой снегом поляне.
Снегопад — не время для охоты. И все же. Виктор сбросил тяжелый рюкзак, проваливаясь в рыхлый снег, направился к капканам. Там сидел волк. Не шелохнулся при приближении человека, он достойно глянул ему в глаза, и не было в его взгляде ни страха, ни боли, ни ненависти — только сознание своей правды, не понятной другим, и исполненного долга. Виктор без азарта и без жалости взглянул в эти глаза и снова узнал их.
Передней лапы у волка не было — вместо нее розовая культя с засохшей коростой на суставе. Вторую лапу защемил капкан. Задняя лапа тоже была в капкане. На этот раз у волка не было шанса на продолжение своей земной жизни, но он, как положено волку, держался за то, что было дано и предназначено свыше, — за жизнь. У него впереди оставался последний и, может быть, самый важный шаг, к которому он готовил себя в удачах и невзгодах: достойно отдать свою плоть, поставив точку в виде последнего следа, окропленного собственной кровью.
Пуля чуть выше глаз скользнула по черепу, но не пробила его. Волк дернул головой и судорожно вцепился зубами в зажатую капканом лапу. И опять он не сдешевил: хрипел, но не стонал. Виктор перезарядил ружье и выстрелил под ухо. Струйка крови выползла из рыжей шерсти и закапала на стылую землю. Вытянулось тело и опал в последнем выдохе мохнатый бок, отпуская на волю загадочную волчью душу.
Охотник защелкнул несработавший третий капкан, высвободил лапы зверя. Привязал к ним капроновый шнур, перебросил через сук и, обняв теплую волчью тушу, поднял ее хвостом вверх на уровень своего роста, закрепил конец и начал снимать шкуру.
Под тонкой шкурой волчьего живота пальцы нащупали инородный предмет. Виктор выковырнул свинцовую дробину, разглядел ее на окровавленной ладони и вспомнил, что точно такая же была под кожей у Алика. Лежа на нарах после сытного ужина, он, почесывая живот, шутил и радовался, что заряд не угодил ниже. Старая санитарка в морге, помогая обмывать тело, шепелявила беззубым ртом:
— Здоровый, молодой, стреляный и резаный… А вот и ему не судьба пожить…
Выковырнутая скальпелем дробинка лежала на отдельной картонке.
Виктор снял шкуру, вспорол грудную клетку и вынул большое волчье сердце, отрезал лопатку, завернул в кусок полиэтилена. Тушу оставил воронью. Остро пахло свежей кровью.
Он был уже возле шалаша. Мутнели сумерки, а снег все кружил и кружил.
Виктор протиснулся в свое жилище, растопил печурку. Вскоре стало жарко, пришлось снять куртку, затем свитер.
Вот и все. Теперь он на месте, у него есть одежда и продукты. Все хорошо.
Немного раздражал запах крови, идущий от рук. Виктор бросил окровавленное волчье сердце в черную от копоти кастрюлю. Разбил ножом корку льда в ведре, залил его водой.
Еще осенью, спасаясь от мышиных погромов с помощью давилок, мышеловок, он привадил горностая, и тот чуть ли не каждый день прибегал в шалаш. Не было мышей — здесь для него всегда находился лакомый кусочек. Вот и сейчас горностайчик, сверкая бусинками глаз, обшаривал рюкзак — то из одного, то из другого кармана высовывался черный кончик его хвоста. Зверек чувствовал запах свежего мяса и яростно пробивался к волчьей лопатке. Виктор вытряхнул его из рюкзака, достал сверток, срезал мясо с кости. Горностай опять залез в рюкзак, и тот заходил ходуном на земляном полу. Наконец, получив свой пай в виде кости, он уволок ее куда-то в снег и перестал беспокоить.
«Почему бы с волками не жить так же?» — тупо глядя на мясо, подумал Виктор. Вытащил из-под нар мясорубку, перекрутил волчатину и рядками котлет уложил на сковороду.
Пока готовился ужин, в крышке котелка на краю жестяной печурки, чуть волнуясь, он поджарил коноплю на подсолнечном масле — совсем чуть-чуть: с чайную ложечку. С наивным, как в детстве, ожиданием чуда проглотил затируху, похрустел сухарем, но повторения того, что произошло в Башне, не было.
Стало совсем темно. В шалаше пахло вареным мясом. Виктор вынул из кастрюли почерневшее парящее сердце, отрезал кусочек, подул на него, пожевал, с трудом проглотил. Нет, не так, не с теми чувствами должно было происходить братание охотника со зверем: палача с жертвой. Виктор выполз из шалаша, откопал бутылку со спиртом, плеснул в две кружки: одну — Алику ли, душе ли убитого волка, другую — себе. Выпил, покряхтел, мигая и морщась. Смелей отрезал и разжевал другой кусок сердца, побольше. Затем он налил жгуче холодного спирта еще, выпил, съел полсковороды котлет из волчатины, икнул и долго смотрел на почти ополовиненную бутылку, на кружку со спиртом для Алика. Нелепо стояла она, выпуская из себя терпкий дух. Неверной рукой Виктор поднял ее и выплеснул на угли. Печь ахнула, выбросив сноп искр и золы, завизжала, завыла в поднявшемся над ней облаке.
Виктор стряхнул золу с лица и увидел ухмыляющегося Алика.
— Все-таки это был ты? — спросил хрипло. Облако, пьяно улыбаясь, кивнуло.
— Не очень больно я тебя?..
Призрак пожал плечами, качнулся и стал падать в угол за печку…
Охотник открыл глаза: чуть светила через черное от копоти стекло керосиновая лампа. Была глухая зимняя ночь. Из-за печки выполз Алик, склонился над нарами.
— Мне-то что? — сказал отчетливо. — Убить значит принять на себя грехи убитого. Мне-то теперь полная амнистия.
Хотелось пить, но вода в ведре и в котелке замерзла. Виктор, не вылезая из спального мешка, приоткрыл дверь, достал пригоршню снега, погрыз его, вспоминая видения ночи, прокашлялся и сплюнул на пол.
— Уф! Шугалово! — пробормотал, зарываясь с головой в спальный мешок. Подумал: «Лучше не мешать спиртное с травой». Где-то от кого-то он слышал, что они несовместимы.
Зевнув, он снова уснул и до утра спал спокойно.
6
Проверив петли и капканы после снегопада, Виктор вернулся в избушку под скалой. Тянуло его туда: висел над душой казус с энтузиастами, не давала покоя незапертая, взломанная ими дверь. Но, возвратясь, он, к своему удивлению, не обнаружил никаких следов посещения избушки после снегопада. Странно: не могли же эти чудики так испугаться, чтобы бросить свои вещи и сбежать в город.
Топилась печь. В чистом небе светило солнце, и с крыши покапывало.
Горы сверкали белизной свежего снега, на глазах вытаивающего на южных склонах и скалах. Дверь в избушку была настежь распахнута. Виктор колол дрова, запас которых, почти не возместив, изрядно потратили непрошеные гости. Ему надоело восстанавливать выламываемый пробой в двери: надо было либо прятать все, до последней ложки, либо перебираться в другое, отдаленное место. А сделать это среди зимы не просто. Подумав, Виктор решил выпроводить беспокойных горожан из этих мест, убедив, что никаких снежных людей-карамаймунов — на территории нет. В том, что Винни-Пух с компанией рано или поздно вернутся, он не сомневался.
И действительно, на следующий день к полудню на тропе показалась группа: впереди, тяжело переваливаясь с боку на бок и пыхтя, с дробовиком в руках, шел лоснящийся от пота Винни-Пух. За ним следовали помощники и помощницы. Они тащили под руки двух женщин в тяжелых шубах. Три парня в городском импортном тряпье вели под уздцы груженую лошадь.
Этих ребят с телевидения Виктор помнил: встречался с ними на выставках художников.
Взъерошив отросшие волосы, он скинул сапоги и бросил их под нары, пританцовывая, пробежался по сырому снегу, наделав следов возле избушки.
Чуть отогрев ступни у печки, он снова вышел на крыльцо и принялся азартно рубить хворост. Каким теплым ни был день, но ко времени, когда подошла группа, ступни ломило, хоть вой.
Винни-Пух даже не поздоровался, елозя взглядом по отпечаткам босых ног. Его круглые глаза полезли на лоб:
— Чего босиком? — спросил, не скрывая потрясения.
— Сапоги прохудились! — бодро ответил Виктор, положил в сторону топор и добавил: — Нервы успокаиваю через голые пятки… Тут какие-то «сидоры» дверь взломали, капканов вокруг понаставили. Сперва думал, догнать и по ушам настучать. Походил босиком — подобрел.
Винни-Пух почмокал губами и, пытаясь хоть как-то восстановить свой авторитет, усмехнулся с бывалым видом:
— Кто же в лесу избу запирает?
— Так ведь туристы — это же такие твари — пакостней мышей, пародируя Алика, громче заговорил Виктор. — Приперся я ночью чуть живой, а тут на тебе — полно народу, да еще в хозяина из двенадцатого калибра палят. Это что? В городе бы так?! Вы бы сразу в ментовку — спасите, помогите! А я с вами по-благородному — всего-то пугнул… Да у меня документ на избу есть! А ваши еще проверить надо.
Только тут Виктор заметил, что оператор снимает его. И режиссер, веселая богемная женщина средних лет, с которой когда-то даже вино пили, его не узнает. И не узнает.
Редактор с режиссером слегка отдышались, решили, видимо, отступить от сценария — зря что ли тащились в этакую даль? Они по-деловому задымили сигаретами, перестраиваясь на неожиданный сюжет. Инженер с помощником устанавливали микрофон.
— Так это был ты? — переспросил Винни-Пух.
— Ну я! — хмыкнул Виктор.
— А повторить завывание сможешь? — ехидно скривил губы толстяк.
Виктор сел на крыльцо и демонстративно начал наматывать прогретые у печки портянки на околевшие ноги, будто ради приличия обувая огромные ступни с черными потрескавшимися пятками.
— Лезь на крышу и толкай в трубу вон ту бутылку, — он, наконец, надел сапоги сорок седьмого размера, притопнул и сел на порог, выставив всем на обозрение черные подошвы.
Винни-Пух на крышу не полез, послал подручного. Тот под руководством Виктора опустил бутылку в трубу горящей печи, и в избе раздался причудливый приглушенный вой. Виктор подкинул дров, и звук усилился.
Телевизионные дамы, повеселев, поохали, поудивлялись. Стали бойко расспрашивать Виктора, кто он такой.
— Алик я! Травник. Пятнадцать лет в горах. Даст Бог, и помру здесь.
Траву резать бастыки не дают: суверенитет, говорят, — волков ловлю, тем и зарабатываю на хлеб и бухло…Кого убили? А, весной-то… Бичевал со мной один художник. Я так прикидываю, у него хвост моченый был и какие-то разборки с наркушами. Они и мочканули.
Энтузиасты и телевизионщики ушли. Они, конечно, не могли согласиться с тем, что в этих местах снежного человека нет. Но им предстояло объяснение с финансирующими фирмами. И все же они уходили, делая вид, что оставляют Виктора в покое. Даже бутылку спирта оставили, откупаясь за свою бесцеремонность. А он отремонтировал дверь, спрятал что поценней из вещей и ушел в верховья Байсаурки со спокойной душой.
Снился сон. Он был долог и чувственен. Виктор открыл глаза и смахнул навернувшиеся слезы. В сумерках рассвета чуть виднелись над головой неотесанные жерди потолка. Ночное видение и прошлое, от которого хотелось отречься, ощутимо присутствовали где-то рядом, в изголовьи.
Казалось, достаточно повернуть голову, чтобы встретиться с ними взглядом.
Но Виктор не пошевелился, глядя в темный потолок. Видение стало отдаляться и затягиваться ностальгической дымкой забвения.
В памяти оставались то ли дверь дома, то ли дверца автомобиля, Людмилка — ни невеста, ни жена. Уходя навсегда за эту дверь, она обернулась и поцеловала его, как матери целуют детей. Обрывок сна, малый событийный миг, был несоизмерим со снившимся чувством любви и добра. С тоской и болью Виктор понял вдруг, что никто и никогда не любил его так, как ему приснилось, как ждала и требовала этого его душа.
Лежа в темном шалаше среди заметенного снегом ущелья, он чувствовал, что привиделось все это неспроста, и связан сон с каким-то реальным событием. Наверное, Люда вышла замуж и вспомнила о нем. Дай бог ей счастья, которого не мог дать он сам. Спокойные и добрые мысли текли в голове, как зимняя река под толщей льда. Он думал о своей прожитой среди людей жизни так, будто была поставлена последняя точка. Вскоре забылся сон, но снившееся чувство было с ним весь зимний день.
Он высунулся из спального мешка — рассветало, шалаш за ночь выстыл, чай в кружке, оставленной возле нар, промерз и вспучился. Ежась от стужи, Виктор торопливо накидал дров в печурку, подрагивающей рукой чиркнул и поднес к бересте спичку. Задымила печь, занялась жадно пламенем. Охотник прикрыл жестяную дверцу и, как улитка в ракушку, с головой заполз в спальный мешок.
Шалаш прогревался, задымленный воздух становился жарок. Виктор раскрылся, а вскоре и вовсе вылез из мешка, сел рядом с печкой, снова подбросил дров. Лед в ведре слегка подтаял. Он вынул нож, выдолбил круглое отверстие, с гулким бульканьем наполнив черный чайник, поставил его на печку, а ведро рядом.
В шалаше становилось жарко. Пришлось распахнуть дверь и пересесть подальше от раскалившейся печки. Надев горячие сапоги, Виктор выполз из своего жилья. Еще не взошло солнце, студеное марево висело над черной полыньей реки, но пресыщенное теплом тело не чувствовало холода.
Вытряхнув из ведра прозрачный ледяной цилиндр, охотник поставил его на камень возле шалаша — еще сгодится, и пошел за водой. Казалось, шлейфом тянется за ним тепло жилья и видения ночи, звучащие в душе томительно и сладостно.
Возле ручья пышные сугробы блистали крупными кристаллами льдинок.
Такими же кристаллами были покрыты кусты и деревья у черной тягучей воды. Нигде и никогда Виктор не видел этого ледово-кораллового леса, но не мог избавиться от чувства, что бывал в нем давным-давно… Так давно, что и не верилось — с ним ли это было. Тогда так же стонала детская душа, вспоминая свое будущее.
Виктор зачерпнул воды, новогодними игрушками затренькали льдинки в ведре. Он наклонился, прильнув губами к студеному ручью, сделал несколько глотков, крякнул и подумал, что напитка вкусней, чем родниковая вода в морозы, — нет. Он плеснул в лицо: раз, другой, третий, заломило руки. Выстывало тело, по спине прошел озноб. Быстрыми шагами он поднялся к шалашу, и тело стало послушно вырабатывать свое внутреннее тепло.
День предстоял нелегкий. Хочешь-не хочешь, нужно было идти на охоту: давно пора было иметь надежный припас мяса на суровые времена.
По сугробам, скрывавшим глыбы селевого выноса, Виктор шел на широких охотничьих лыжах, чтобы добыть мясо, не важно чье, — пришла пора, когда он был бы рад и козлятине, и волчатине. Белок, и тех не прочь был настрелять не ради меха, а для еды. Петли и капканы были пусты.
Прошло полторы недели с тех пор, как последний раз выпал снег. Но в темной пади, куда редко попадало солнце, не было ни следочка: застыли склоны и деревья, даже само время, кажется, текло здесь замедленно.
Тревожно было на душе, будто все живое оставило эту землю до лучших времен.
Э-э, нет! Вон, не выдержав голода и стужи, мелкими шажками спустилась в падь рысь. Понюхала места былых пиршеств и, как кот на чердак, ушла в скалы, на солнцепек. Вон марал спустился со склона, постоял под елью, водя заиндевелой мордой, прислушиваясь, как ручей клокочет подо льдом, шумно выдохнул облачко пара и ушел в лес.
Полдень. Над падью показалось солнце. Засверкал снег, резко потеплело.
Виктор на открытом прогревшемся месте развел костер. Не поленился, сходил к ручью метров за триста, раздолбил лед и набрал воды в котелок — из талого снега чай не тот.
Схватился пламенем хворост, запылал костер. Сколько их было в жизни, костров, и все непохожи, как люди: ласковые, добрые, вредные, едкие, ленивые, алчные… Этот трудяга, горит и горит себе, не швыряясь искрами, не докучая дымом. Виктор смотрел в огонь и видел смутные обрывки ночного сна: странного, нежного.
К вечеру в ельнике с неглубоким снежным покровом он спугнул стадо косуль. Уловив звук шагов, вожак, озираясь, вскочил. Одна за другой повскакивали козы. Скрываясь за деревьями, Виктор бесшумно опустился на колено, поднял ружье. Его душа была переполнена трепетной любовью к жертвам. И, обмирая от их близости, он спустил курок. Быстро перезарядившись, выстрелил еще раз.
Крупная косуля с длинной шеей, чем-то удивительно похожая на его несостоявшуюся жену, рухнула в снег. Через мгновение до Виктора донесся глухой шлепок пули. «Наповал!» — отметил он про себя. Другая дергалась, лежа на боку и разгребая снег копытцами. Азарта не было. Виктор с места добил подранка и встал.
Та, первая, так странно напомнившая ему снившуюся женщину, лежала, широко раскрыв глаза: блестящие, знакомые. Опять защемило сердце.
Виктор не чувствовал ни греха убийства, ни жалости, ни раскаяния — одно только сострадание за причиненную боль. Ночное видение, воплотившись в некое свое реальное подобие, погасло в душе. Началась обычная работа.
Перетаскав добычу под дерево, он развел костерок, погрел над огнем озябшие пальцы и вспорол ножом тонкую ворсистую шкуру, обнажив красную теплую плоть… Быстро темнело. Наступала ночь. Снег засверкал отражением поднявшейся луны. Виктор бросил на угли окровавленную печень, предвкушая предстоящее пиршество.
Переночевав возле костра, на рассвете он стал выбираться из пади с тяжелым вислым рюкзаком и быстро вымотался, хотя ел мясо.
Подкашивались от усталости ноги, промокшая рубаха липла к спине, стучала в голове кровь.
Раньше усталость порождала озлобление, злоба превращалась в ярость и давала силу. Теперь злости не было. Окружающий мир был полон спокойной и равнодушной доброты: он убивал без злобы и без ненависти отдавал свою плоть. В горной тиши Виктору слышался то ли чудный зов, то ли гул водоворота, затягивавшего в иную — лучшую жизнь. И он, в отличие от бунтовавшего Алексея, готов был отдаться течению и зову, поднять над головой руки и уйти в свою глубь. Он не станет осуждать тех, кто останется в привычном мирке, не станет звать их за собой: в конце концов, их жизнь — их личное дело… Какую-то истину все-таки понял Анатолий Колесников, без страха уходя в бездну. Так думал Виктор, выбираясь к своему шалашу.
7
В начале декабря на Байсаурке появился Жакып. Был обманный солнечный денек, когда после снегопадов и морозов так потеплело, что вовсю капало с крыши и казалось — наступила весна. Высохли южные склоны, благоухали сухой полынью и чабрецом. На верхушках елок, возле избушки, по-хозяйски сидело воронье и лениво каркало. Виктор готовил дрова в запас и азартно стучал топором. Не услышав цокота подков на тропе, он случайно обернулся и увидел всадника за спиной. Лицо его было настороженным, как перед выстрелом, поперек седла лежала трехлинейка.
Виктор вздрогнул, наклонился, поправляя портянку, ощупал рукоять ножа за голенищем, легонько, одним уголком, воткнул топор и вдруг узнал гостя.
— Жакып?
Старик рассмеялся, и сосредоточенное лицо добродушно сморщилось, как мех гармони, обнажились розовые десна, пеньком торчащий вбок длинный желтый зуб.
— Здорово, Витька! Сказали, ты здесь живешь, — гость неуклюже сполз с седла, доверчиво прислонил к крыльцу старую, перемотанную изолентой винтовку. — Слышать-то слышал, а сам еду и боюсь — вдруг охотинспектор, — Жакып залился беспричинным детским смехом. — Ну, как охота, здоровье есть?
Виктор что-то отвечал, серьезно спрашивал о пустяках и как бы видел себя со стороны и над собой посмеивался: две мимолетные встречи не повод для знакомства — правда, так бывает в городе.
Чай давно кончился, заваривать приходилось травы и корни шиповника.
Но был сахар, были пресные лепешки. Гость есть гость — сначала накорми, потом говори о делах.
— Давно не ел сахар! — Жакып обиженно замигал морщинистыми веками, насыпал в кружку полную столовую ложку. Звонко размешивая напиток, пожаловался:- Этот китаец на всем экономит — лепешки да макароны целую неделю.
— Какой китаец? — спросил Виктор.
— Да турпачник, Симбай… Он тебя знает. Я ему в помощники подписался на свою голову.
— Почему китаец? Он же казах!
— Ай, — отмахнулся гость, — все они из Китая, репатрианты.
Жакып правильно говорил по-русски. Лишь изредка, при некоторых оборотах, в его речи чувствовался акцент. Позже Виктор узнал, что он родился в семье директора школы — учителя русского языка, с детства мечтал быть охотником, несколько раз сбегал из дома к промысловикам.
Отец ремнем и уговорами заставил его закончить школу и зооветеринарный институт. Жакып иногда запивал, еще в молодости чудом спасся от тюрьмы за махинации с колхозным скотом. После суда все бросил: пас скот, охотился, а последние семь лет вообще бичевал. «Трудовую книжку выкинул — пошли они со своей пенсией. Нормальные старики до смерти работают…
Возьму десять баранов — вот тебе и пенсия… Как ты думаешь?» — спрашивал, настороженно улыбаясь беззубым ртом.
А Виктор удивлялся сам себе, что весной принял этого забитого старика за атамана браконьерской банды. Перед ним сидел пожилой обиженный жизнью батрак. К тому же не такой уж и старик — нерастраченная молодость души пробивалась сквозь морщины. Виктор напрямик спросил, сколько ему лет, и с удивлением узнал, что Жакыпу слегка за сорок. И вопрос, и скрытое удивление собеседника были тому знакомы. Посмеивался он, оправдываясь: суровая жизнь в горах, беспробудное пьянство внизу старят быстро.
— Как батраком стал? Хе-хе, целая история, — шамкал Жакып, обсасывая размоченный в чае черствый кусок лепешки. — Обманул китаец. Осенью приехали мы из Киргизии на охоту — и надо было встретить его. Он потерял двенадцать телок, плачет: «Ой, ага, помогите, век благодарен буду, весной коня подарю…» Десять коров мы быстро нашли. Мои охотники ушли за перевал перед снегом, а я остался с турпачником. Нашли весь его скот. Он и давай зазывать меня к себе. Я говорил ему, что свое уже отпас. А он: «Ой, ага, пасти не надо, только живите со мной и советы давайте. Охотьтесь на здоровье, разве иногда по хозяйству поможете…» Я говорю — сын у меня в армии служит, обещал русскому начальнику сурковую шапку за то, что тот его командиром отделения назначил… А он: «Куплю шапку, какой разговор, сам и отправлю». А когда перевалы снегом закрыло и деться мне некуда — он стал показывать, кто хозяин.
Жакып снова жалостливо замигал, опуская глаза. Виктор слушал его, кивал и не мог поверить, что тот говорит серьезно. Обещал… подарил… попросил — не вязались эти жалобы не только с образом старого браконьера, но и человека с высшим образованием.
Лицо Жакыпа, как у мягкой игрушки, сжималось в кулачок, брызги слюны и чая летели на стол. «Если бы я прожил десять лет в горах, неужели стал бы таким же?» — со страхом подумал Виктор. Нет, он не собирался задерживаться здесь на всю жизнь. Три, ну пять лет… Успеть до сорока сделать что-то, что можно вспоминать всю оставшуюся жизнь. Не попал в Афганистан, не выбился в известные художники, так хоть стать человеком, который долго жил среди природы в одиночку… И все! «Что ж, каждому свое!» — вздохнул он, еще раз искоса бросив взгляд на гостя.
Оказывается Симбай с женой и подпаском кружным путем на машине уехали на Иссык-Куль, оставив на Жакыпа скот. Уехали на неделю, а нет их уже месяц. Мука кончается, масла, круп давно нет, сапоги — рваные, а тут еще мясо никак добыть не удается.
— Есть у меня продукты, пользуйся, — сказал Виктор. — Хочешь, поживи здесь. Мне это даже выгодно — избушка будет под присмотром.
— Давай охотиться вместе, в один котел, — предложил Жакып. — Я на сурков весной очень рассчитываю. Десять штук в день добыть можно, а там перевал откроется, уйдем в Киргизию, отдохнем на Иссык-Куле.
У Виктора дрогнули губы, когда услышал про общий котел. Вспомнилась жизнь в колонии и вечные разборки, кто за чей счет живет.
Вскоре он оставил киргиза в своей избушке и впервые со спокойным сердцем ушел на ферму. Алексей встретил его радостно, накормил пшенной кашей на постном масле. Никого не ругая, всем довольный, он будто светился изнутри странным спокойным сиянием. Виктор вытащил из рюкзака кусок подсушенной на дыму костра дичины.
— Мяса не ем, пост, — сказал тот, ласково глядя на друга.
— Это как понимать? — рассмеялся Виктор. — У свиных дел мастера новый заскок? Когда мы с тобой жили в Башне, ты утверждал, что без мяса на высоте быстро ноги протянешь…
— Да уж, — с пониманием взглянул на него Алексей, — о чем только не трепались мы в молодости, в каких только источниках не искали правды!
Дурная судьба досталась нашему поколению — к сорока годам заново открываем истины, которые дедам были даны с пеленок, готовенькими, без наших сомнений, страданий и ошибок. Мы заблудились, но наши души старше нас на тысячи лет: им плохо оттого, что нам не по себе — ищем чегото, что-то изобретаем, блуждаем впотьмах, а душа реагирует как семафор: «да — нет». Нам ведь эдак и жизни бы не хватило, чтобы перебрать возможные варианты…
— Ну и? — насмешливо кивнул ему Виктор. — Сахар-то гостю можешь предложить?
Алексей молча придвинул сахарницу, кивнул на транзисторный приемник:
— Брехунок заходится от лая. Все грехи этого века на коммуняк валит, а все, что до них было плохо, — на русских.
— Что ж, коммунисты того заслужили, да и аристократия наша была не лучше: что родственники царей, что родня Ленина, потомки Сталина, Брежнева — все за бугром… Отцы отработали, как агенты, дети вернулись к хозяевам… Все люди сволочи, а мир — дерьмо! То ли дело волки и медведи…
Киргиз у меня живет — человек, ну, да ты еще… Ничего, путевый мужик.
— Не про то говоришь, — досадливо поморщился Алексей. — Цари, Ленины, Сталины, Брежневы — все это шелуха, вынесенная временем на поверхность. Коллективный разум народа — вот, что делает историю. В него и плюют эти картавые философы. Народ знает, зачем и куда идет, а эти…
Могут помочь ему, могут притормозить или даже заморочить на время.
Выправить же курс сбившийся с пути народ может, только вернувшись к истокам. Мы же с тобой русские, Витя. Нашими путеводными звездами могут быть только православие и национальные традиции. Иначе так и останемся глупыми старыми мальчиками, изобретающими велосипед, играющими в обиженных хиппи.
— Кто же против традиции и веры? — пожал плечами Виктор и раздраженно дернул небритым подбородком. Он похудел. Свитер на некогда широких плечах болтался мешком. — Крест на шее в этих местах не помешает. Но до абсурда чего же доходить. Я, может быть, до поста целый месяц на одних макаронах перебивался, а теперь что? Опять голодай?
Алексей почесал затылок, покачал головой. Вид гостя действительно не располагал к скудному застолью.
— Я хотел сказать, чем больше мы будем походить на своих предков, тем легче нам будет понять происходящее и принять его, — закончил он прерванную мысль и добавил: — А как быть в твоем случае, не знаю.
Наверное, у дедов были и рыба, и всякая другая постная снедь. Не одни макароны. Давай мясо сварим. Только ты меня не сбивай с панталыку: я не голодал.
— Ну и ладно. Где корыто? Вода нагрелась?
Виктор отдохнул, отмылся, отстирался на ферме, вычистил ружье и ушел к себе, прихватив полбулки городского хлеба. Падала с неба белая крупка. Он направился необычным для себя путем — правым берегом, где давно не смотрел следы зверья. И вдруг там, где дорога обрывалась, он увидел приземистую юрту. Скорей, это было сооружение из деревянных решеток и кошмы вроде шалаша. Сбоку, вкривь, из него торчала жестяная труба, рядом стояла бочка с соляркой. Свежепроложенная дорога со следами гусениц бульдозера пересекала осыпь, прежде непроходимую для транспорта. Двумя километрами выше на дороге стоял бульдозер. От него несло соляркой и машинным маслом. Людей не было. Виктор обошел кругом трактор, подобрал брошенную бутылку, набрал солярки и, слегка расстроенный, зашагал вверх по тропе к своей избушке. Вскоре показался сыпучий отвесный прижим, под ним лежал спрессованный выброс лавины. «Уж здесь-то им дорогу никак не продолжить», — злорадствуя, подумал он.
Вот и домик у скалы. Жакыпа и коня не было. Это естественно — он смотрит за скотом. Все на месте — дверь и крыша, окно не выломано. Но странное дело, что-то было не так. Что-то настораживало. Угораздило же выпасть пороше — скрыла следы. Виктор вставил патрон, затвор запирать не стал — неудобна была спортивная винтовка без предохранителя. Он сделал круг, скрываясь за кустарником. Вот оно что! На двери не было замка.
Виктор выстрелил по скале, к которой прилепился сруб. Отрикошетив, запела пуля. Но никто не высунулся из двери. Он вставил еще один патрон, запер затвор и, оберегая ладонью спусковой крючок, стал спускаться со склона. Чуть задержавшись на крыльце, распахнул дверь.
Ожидаемого беспорядка не было. Скорей наоборот — пустота создавала впечатление прибранности. В избе не было ничего — даже старого сапога.
Обворовывали эту избушку много раз, но чтобы так, до последней нитки?!
Такого не случалось.
Виктор растопил печь, заварил в котелке пучок чабреца, перекусил хлебом и пошел проверять капканы. По закону подлости, в сотне метров от жилья в капкане сидел волк. Виктор пристрелил его, взвалил мягкую, пахнущую прогорклой псиной и кровью, тушу на плечи и потащил в дом. Надо было проверить все капканы и петли, надо было ободрать добычу. На это уйдет, как минимум, два дня. Виктор ободрал зверя, срезал мякоть с ребер, промыл в ручье и поставил котелок на огонь. При нужде городские бичи грязных собак с заразных помоек жрут, а тут волк — чистый, опрятный. В километре от избушки, там, где летом пас скот Симбай, под елкой лежала кормовая соль. Пришлось сходить туда и взять пару горстей.
Голодный, злой, с кровоточащей волчьей шкурой в рюкзаке, Виктор уходил вниз по дороге, пробитой уже и через непроходимое лавиноопасное место. Волки уже гуляли по ней, по самой ее середине, гладкой и мягкой после лопаты бульдозера; здесь их нельзя было взять ни капканом, ни петлей, и плевать они хотели на брошенный трактор, на едкие чужие запахи.
На пути Виктора догнал всадник. Это был Симбай. Вместо достойного ответа на приветствие Виктор стал крыть туристов, браконьеров и чабанов: все, мол, воры! Симбай смутился, заговорил с сильным акцентом, объясняя, кто взял его продукты. Виктор не сразу понял, о ком идет речь. А когда сообразил, о каком киргизском охотнике говорит турпачник, повеселел:
— Жакып, что ли?
Симбай закивал, не зная, что они знакомы.
— Я говорил ему — зачем брать чужое? Он боялся — рабочие украдут…
Взял коня и перетаскал вверх. Там избушку строит. Записку тебе писал.
Виктор нашел обустроенный шалаш киргиза только к вечеру. Хозяин рубил хворост забранным из его избушки топором и преспокойно готовился к ночлегу.
— А, Витька, ну здравствуй! Что, нашел меня? — весело рассмеялся тот, и лицо его радостно сморщилось. — Гляжу, дорогу делают, хе-хе, заберут, думаю, все работяги. Знаю я их — загрузят и увезут… Тебе я записку оставил, углем на полене: «Продукты взял я, Жакып».
— Хоть бы на двери написал, а то на какой-то щепке — попробуй, догадайся, — проворчал Виктор и, чтобы не обострять отношений, миролюбиво добавил: — Ну, ладно, все обошлось. Правда, по твоей вине пришлось оскоромиться в русский пост.
О том, что ел волчатину, он умолчал. Скотоводы знают толк в мясе и брезгливы ко всякой несъедобной твари.
Жакып в своем тесном шалаше угощал его мясом горного козла и макаронами высшего сорта, за которыми Светлана, жена Алексея, в городе выстояла очередь. Добрая половина продуктов исчезла. Странным образом перекочевали к Жакыпу кастрюля, чайник, пила, топор — как оставишь человека в лесу без всего этого? Вроде ничего не давал, а забирать было неловко. Вроде бы приглашал к себе в квартиранты, а квартирантом оказался сам.
«Может быть, ты просто хитрый?» — посматривая на объявившегося компаньона, думал Виктор.
Они подолгу не жили вместе: сходясь и расходясь после проверки своих капканов, несколько раз охотились на пару: с трехлинейкой Жакыпа добыть мясо было проще, чем с малококалиберной винтовкой.
Жакыпу на добычу меха не везло, хотя Виктор поделился с ним и капканами. Киргиз мечтал добыть шкуры медведя и барса, за которые можно было попасть под суд. Он хотел подарить эти шкуры какому-то начальству, чтобы что-то получить. Виктор в планы Жакыпа не вникал.
В феврале киргиз подстрелил рысь, которая уже начинала линять.
— Хочу тебе подарить, — важно сообщил при встрече.
Виктор посмеялся:
— Мне в жизни ничто так дорого не обходилось, как подарки.
Жакыпа такой поворот выбил из колеи намеченного разговора. Он долго молчал, потом зашел с другой стороны:
— Ты мне много добра сделал, так будь добр до конца, дай весной ружье на пару месяцев — как на сурка с трехлинейкой охотиться? А я тебе подарю рысь.
Виктор, напряженно помолчав, твердо ответил:
— Оружие, жену и зубную щетку русские напрокат не дают. Весной ты уйдешь за перевал. Встретимся мы еще или не встретимся — неизвестно.
Здесь полно народу из Киргизии: Симбай, Богутек, лесник — у них и возьми.
— Так они же винтовку в залог потребуют, — всхлипнул Жакып. — А винтовку никому не отдам.
«Похоже, меня совсем за дурака принимают!» — поморщился Виктор и промолчал.
Через некоторое время Жакып отдал ему добытую шкуру для продажи через Алексея. Виктор предупредил, что из выручки половину удержит за продукты. Жакып хмурился и вздыхал:
— Тяжело с вами, с русскими!
Он опять уходил в подпаски к Симбаю, уже перетаскав к нему часть продуктов. У турпачника были неприятности: дохли телки. Тот снова упросил Жакыпа поработать помощником. Через некоторое время Виктор навестил его палатку. С Жакыпом вновь произошла значительная перемена.
К нему обращались почтительно, выделяя возраст, впрочем, даже не сам возраст, а ранние морщины- за едой ему подкладывали куски помягче.
Жакып растроганно, но важно мигал слезящимися глазами, кряхтел, как старик, и слова бросал как бы сверху, с высоты своего опыта, зная, что каждое из них будет услышано и осмыслено, а улыбка или хмурость его будут записаны на свой счет. Даже походка у него стала иной — тяжелой, болезненной, а морщины — глубже и резче.
Виктор не мог поверить, что не глупый, европейски образованный, немолодой уже человек, может быть так падок на примитивную, лицемерную лесть. При следующей встрече в палатке Симбая он вновь встретил униженного бартака. Жакып опять ругал турпачника, жаловался и вздыхал: куда деваться, придется до весны жить в работниках.
Получив деньги за шкуру, часть из них он подарил жене Симбая, другую отдал молодому помощнику, который готовился верхами ехать в селение, а оттуда рейсовыми автобусами выбираться в Киргизию.
— Я думал тебе, действительно, деньги нужны, — процедил сквозь зубы Виктор, когда они остались наедине. Высчитанная половина стоимости шкуры не покрывала и четверти понесенных им убытков. — Вообще-то мне тоже есть кому делать подарки, да вот, не могу себе этого позволить — за продукты надо платить. Ты ведь все подчистую от меня вывез.
Жакып начал было намекать, что у него кончаются патроны. Виктор понял его и довольно сухо отказал.
— Попробуй не дай деньги хозяйке, — стал жалостливо оправдываться тот. — Она же догадалась, что ты мне их дал и потом отомстит… Шаурбеку я не просто так деньги подарил, он мне мелкашку привезет, — старик давал понять, что он поступил очень разумно с полученной выручкой, выкрутившись почти из безвыходного положения. Но вместо ожидаемого понимания Виктор рассмеялся:
— Выходит, ты малокалиберную винтовку за полсотни купил?
— Ну почему купил? Не купил… Шаурбек просто так деньги не взял бы…
По-русски этого не объяснишь. У вас нет такого понятия: я ему подарил, он — мне.
Виктор вздохнул, прощаясь навсегда. Ничего не сказал, только подумал:
«Пошли вы все… Со своими подарками и со своими понятиями. С волками жить как-то понятней… И родней».
8
Виктор спустился в избушку под скалой в середине марта. Он мог бы теперь и дольше жить один: с приступами хандры было покончено. Едва начинала подкатывать она, Виктор уходил в свой тайный шалаш возле глухой пади, с ощущением таинства готовил кашку из конопли и строго дозировал ее прием, не перебирая ради глупого щенячьего восторга и веселья.
И конопля помогала: приходило удивительное состояние душевного равновесия и глубоких мыслей, от которых замирала душа. Он шепотом читал стихи, не отрывая глаз от пламени, беседовал с ним, поверяя огню самое сокровенное. Без похмельных мук и неприятных ощущений он выходил из этого состояния, чувствуя себя отдохнувшим.
Давно закончилась мука. Больше недели Виктор жил на одном мясе. Даже запах тела, казалось, переменился: из-под рубахи несло как из волчьего брюха. Падал и падал весенний сырой снег. Переждать непогоду в шалаше было ему по силам. Но вот беда — приснилась булка хлеба с желтой корочкой, с розовой поджаркой по уголку, и Виктор не смог устоять перед соблазном — засобирался вниз. На ферме, по крайней мере, должна быть мука.
Он еще засветло выбрался к своей избушке под скалой. Не входя в падь, остановился, прислушался — почудился запах дыма. Он покрутил носом, ловя ветер, — точно, пахло дымом.
Превозмогая усталость, Виктор полез на склон, спрятался за деревьями.
Снег редел, и видимость улучшалась. Показалась крыша. Из трубы курился дымок. Виктор полежал на склоне, подождал, швырнул камень, другой, звук никем не был услышан, никто не вышел на крыльцо.
Надвигались сумерки. До избушки было метров триста. Виктор до предела сдвинул вперед прицельную рамку, положил ствол на толстый сук ели, сунул под него свою шапку и прицелился. Жестяная труба едва ли занимала треть мушки. Он плавно спустил курок. Звука выстрела и удара не услышал, но консервная банка, прикрывавшая трубу, сорвалась и улетела к ручью.
Охотник, не спеша, вставил в патронник новый патрон, а стреляную гильзу швырнул под корень дерева, втоптав в хвою.
Дверь приоткрылась, с дробовиком в руке на крыльце появился Алексей.
Виктор радостно свистнул, вышел на полянку и поднял над головой ружье.
Тот узнал его. Он был один в избушке. И сразу потеплела, опростела обжитая падь.
Свершилось чудо, какое редко случается в жизни: у Алексея была пара булок настоящего хлеба, чуть зачерствевшего, слегка проквашенного, но источавшего томительный, сладостный дух. Не обсохнув толком, не раздевшись, Виктор высыпал в кружку три больших ложки сахара, рвал зубами скрипящую краюху и щурился от удовольствия.
Алексей, растянувшись на нарах, странно посматривал на него:
— Увидел тебя на склоне и испугался, думал, медведь-шатун…
Рука у Алексея была наспех перевязана, через почерневший бинт проступили пятна крови, глаза смотрели затравленно. Почувствовав признаки насыщения, Виктор долил в кружку чая, сбросил свитер. В голове будто щелкнул затвор камеры — он отметил ранение; следующий щелчок — Алексей на крыльце с незарегистрированным ружьем… Друг — в рифленках, а вокруг избушки свежие следы сапог сорок второго размера. Мозг принял разрозненные фрагменты и выдал версию:
— На тебя с ножами напал этот чудик, что с Аликом работал?
Алексей кивнул и сказал, отводя глаза:
— Он Алика убил!
— Почему ты так решил? — спросил Виктор спокойно.
— Он здесь коноплю жарил, — нахмурился Алексей. — Я захожу, открываю дверь, он как подпрыгнет, как кинется. Хорошо, ты прошлый раз предупредил. Я сразу огрел его прикладом и связал… У него на плече как печать шрам от зубов Алика. А я-то думал, чего меня заставляли раздеться, да слепок с челюсти покойного снимали.
— Ты штык забрал? — поинтересовался Виктор. — Это точно твой?
— Забрал… И отдал. Он полдня бегал вокруг избушки… Да и кровь на том штыке, в руках его держать противно. По-хорошему, пристрелить бы надо этого дебила — все равно ведь он уже не человек и для людей опасен…
— Ну и пристрелил бы, — шумно отпивая из кружки, сказал Виктор. — Или для тебя это грех?
— В убийстве вора нет греха, если его убить до восхода солнца: так в Библии написано. Ветхий Завет. Исход. Но во Второзаконии сказано: «Но проклят тот, кто тайно убивает ближнего своего». Он ведь — русский. К тому же, ради чего убивать? Тебе он не опасен, а до местных мне дела нет.
— Ну ты дочитался! — покачал головой Виктор и внимательным взглядом окинул друга. Опять что-то новое было в нем. Снова, как когда-то в общине, Алексей был опрятно одет, чисто выбрит. Возле нар стояли два мешка с продуктами. Виктор поскоблил пятерней отросшую бороду, сбросил сапоги, развесил над печкой портянки.
— Одного не пойму, — сказал, растягиваясь на нарах. — Зачем ты сюда пришел? Спасибо, конечно, и за продукты, и за натопленную избушку. Я думал, ты уже в городе…
Алексей потерся подбородком о плечо, подбирая слова, подкинул дров в печь.
— Свиней продал. И ферму тоже… Удаву с Зинкой — старым чикиндистам. Они Алика хорошо знают и о тебе слышали. Вложенных когда-то денег и тех не вернул: плата, конечно, символическая — зато своим все оставляю… Я должен уйти через перевал — поэтому оказался у тебя.
— А что не поехал на автобусе? Местная рекетня в селе ждет?
— Никто меня не ждет, — Алексей заговорил с чуть приметным раздражением, ожидая насмешек и вопросов. — Просто пора! Пора на Север! К древнейшим могилам предков. Уходя на север, нельзя идти на юг, ибо сказано «никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Только не надо смеяться и подкалывать: у тебя свои заходы, посмешней моих.
Виктор пожал плечами, дескать, кто спорит, но не выдержал, захохотал: из села на перекладных или автобусах при самых неблагоприятных условиях можно доехать в город за два дня. Через перевал, по таким снегам, как сейчас, можно выбираться неделю.
— Знаешь, Леха, на кого ты сейчас похож? На замполита, у которого поехала крыша… Ты без цитат уже не можешь говорить?
— Могу! — хмуро ответил Алексей.
— Идти через ледник, сейчас, без снаряжения, — верная гибель! Могу проводить на северо-восток, к метеостанции. Упашемся, но пробиться туда можно. От метеостанции на попутках выберешься в город. Идет?
Алексей, подумав, кивнул.
— Ну и договорились… Мяса хочешь, у меня в рюкзаке козлятина, — опять поскоблил бороду Виктор.
— Думаешь, чепуха? Абсурд? — начал оправдываться Алексей. — Вся наша жизнь — абсурд: дурацкое образование, дебильная работа, коммуна, ферма, вся предыдущая жизнь — все чепуха, но только не этот отход на Север.
Виктор лежал после утомительного перехода, смотрел в потолок. Ветер шумел по верхушкам елей. Вспоминались шум водоворота и тот жест Анатолия. «Почему именно мне? — вновь подумал он. — Я всегда налегке и, когда захочу, могу выбраться отсюда в любую сторону».
— Вольному воля, — сказал серьезно. — Хочешь на Север, пойдем на Север. Нам бы пару солнечных дней, а потом морозец. Почему не пройти? Можно.
Наверное, это был последний снегопад в году. Уже на следующий день так потеплело, что протаяли южные склоны и ожили мухи возле прогревшихся скал. Виктор отмылся, отстирался, напек лепешек. Разговор поддерживал, но в спор не лез. Он снова походил на слегка потрепанного невзгодами, но чистенького кота, любящего каждую свою шерстинку, заботящегося о себе.
И все же Виктор так изменился, что от прежнего, высокого, стройного, спортивно-атлетического парня почти ничего не осталось, кроме кошачьей вальяжности. Но и она была какой-то настороженной, как у мелкого хищника, не избалованного жизнью. Виктор стал по-звериному тощ. Плечи сузились и слегка обвисли. Изменилась осанка: он сутулился, будто его теперь больше всего интересовало то, что под ногами. У него до плеч отросли волосы, и это его не раздражало. К тому же у Виктора появилась привычка смотреть на собеседника, не поднимая головы, исподлобья.
Близилось лето. Прошло три дня, тропа на склоне оттаяла и просохла, цепляясь за голенища сапог сухими прошлогодними стеблями. Хлюпали лужи, журчали ручьи. Друзья перебрались в шалаш и ждали подходящей для перехода погоды. По ночам где-то рядом выли волки. Виктор прислушался, отбросив за ухо длинную светлую прядь волос, не без гордости и с каким-то злорадством кивнул:
— Слышишь? Это они меня зовут.
— Может быть, ты с ними уже и разговаривать научился? — недоверчиво хмыкнул Алексей.
— Говорить еще не научился, — серьезно ответил Виктор, — но кое-что понимаю. У меня ведь в этих краях друзей — ты да волки. Ах, да, еще Машка! Вскоре надо будет навестить. Пора ей просыпаться, — он помолчал и добавил: — Умишко у зверей есть. Понимают, что я не только на них охочусь. Ходят следом, добивают подранков, остатки моей добычи подбирают. Не поверишь: загоняют на меня дичь… Вот провожу тебя и останусь у них за атамана.
— Смотри, как бы не сожрали самого… атамана, — проворчал Алексей, забираясь в спальный мешок.
— Да уж это как положено, — не без гордыни в голосе ответил Виктор. — У них, как у людей: пока здоров и полезен — всем друг, ну, а как сломался — ваши-то затопчут и с дерьмом смешают, а эти просто сожрут.
Алексей прислушался к крику ночных птиц и шуму ветра за тонкими стенами шалаша. Снова совсем рядом услышал вой — тоскливый и протяжный. Виктор уже спал, мирно посапывая. От раздавшегося воя он на миг задержал дыхание и снова засопел в спокойном глубоком сне.
С первыми лучами солнца друзья стали подниматься на перевал. Здесь хоть и сошел снег, но тропа еще не просохла, ноги скользили по настывшей за ночь грязи. Справа был отрытый вытаявший склон, слева — лесные колки вдоль ручья. За спиной, как гигантское полотнище, открывался вид на острые вершины, белые долины, седые морены и скалы. Виктор оглянулся, выпрямившись под рюкзаком, задержал взгляд на волнующей картине, спросил:
— В России нет таких гор. Как без них жить? Горец — это и образ жизни, и тип психики. Только здесь я чувствую себя по-настоящему защищенным.
— Красиво, — вздохнув, улыбнулся Алексей и смахнул капли пота с разгоряченного лица. — Буду вспоминать. Что еще остается?.. Не идти же прислугой в чужой дом только потому, что там красиво, уютно, сытно…
Виктор хмыкнул, перекинув винтовку с плеча на плечо, зашагал вверх.
Вскоре он снова обернулся:
— У меня такое чувство, что веду тебя на расстрел. И при том ощущение полного бессилия — ничего не могу доказать. То ли я такой тупой, то ли одичал так, что не в силах объяснить элементарного… Леха, ну поверь, не приживешься ты там!
Алексей с готовностью остановился. Через несколько секунд его дыхание восстановилось и стало ровным:
— Я как-то малину пересаживал, — сказал, мягко улыбаясь. — Крупная, сладкая вымахала, да не на том месте. При пересадке все плодоносящие кусты погибли — жаль. Но каждый корень дал новый росток, и через год была малина на нужном месте.
— Выходит, ради детей своих ты готов принести себя в жертву? — скривился Виктор. — А если они этой жертвы не примут и сбегут за бугор?
Сейчас многие мечтают о Штатах или Канаде.
— Это будет ужасно! Но, в принципе, я отвечаю только за свои поступки и расплачиваюсь за грехи предков. По отношению к своей совести, к Богу, к роду, крови и нации я поступаю правильно.
— Ну вот, — громче и раздраженней заговорил Виктор. — Опять вернулись к тому же: к условной величине икс, ни существование, ни значение которой никто не может подтвердить: к Богу!
— Его надо искать в своей душе — и найдешь! — спокойно добавил Алексей. Они опять не поняли друг друга. Виктор приложил к глазам бинокль, без всякой надобности разглядывая путь к седловине, повел окулярами вдоль кромки леса. Будто искры мелькнули среди елок.
— Кажется, волки за нами идут, — рассмеялся он, стараясь отвлечься от начинавшегося спора. — Звери думают, мы заняты благородным делом — охотой. Придется разочаровать. Вот уж кому никогда не понять, почему ты уходишь на Север!
— На то мы и люди! — огрызнулся Алексей.
— Зря ты так о них — очень умные звери. И с нравственной стороны, может быть, в чем-то получше нас с тобой. Знаешь, какие у них крепкие и верные семьи? Мне бы такую жену, как у волка самка.
Вскоре волки выгнали из леса марала прямо на тропу. Виктор вскинул винтовку и выстрелил с полусотни шагов в шею. Слышно было, как шлепнулась пуля в косматую плоть. Марал вздыбился. Алексей азартно сбросил с плеча дробовик и гулко выстрелил по лопаткам. Зверь упал, дергаясь в судорогах. Скачками хищника к нему метнулся Виктор, выхватив нож, торопливо перерезал горло. На весеннюю оттаивающую землю хлынула горячая кровь.
— Пантач! — глаза Виктора сверкали синими холодными льдинками.
Алексей выбросил из ствола еще дымящуюся гильзу, сам себе удивляясь, — почему стрелял? Жаль было красивого сильного зверя, беспомощно лежащего на окровавленной тропе.
Здесь, возле добытой туши, друзья решили заночевать. Виктору спешить было некуда: он жил, выискивая мелкие радости каждого текущего мгновения. Алексей прощался с прежней жизнью, ностальгически озирал ее всю, с раннего детства до горно-отшельнического периода, любовался видом гор, вдыхал породневшие запахи этих мест и тоже не спешил в будущее.
Товарищ быстро снял шкуру, срезал мякоть с костей, развешал ее, чтобы остыла. Тушу, на костях которой оставалось еще немало мяса, столкнул вниз по склону — этот пай принадлежал волкам. Вертясь и брызгая кровью, понеслись вниз остатки марала, пока не застряли среди кустарников. Волки найдут свою долю.
Стемнело. Они жарили на костре печень и мозговые кости. Последнее время Виктор находил большое удовольствие в том, чтобы неторопливо жить возле туши, занимаясь только едой и отдыхом, как это делают волки. Иногда он с удивлением вспоминал, как мерз когда-то ночами, как мучился бездельем на вынужденных стоянках. Все это осталось в прошлой, безалаберной жизни. Теперь, даже в прохладные ночи ранней весны, стоило чуть прогреть землю костром, набросать лапника, хорошо поесть мяса — и наступал светлый сон под открытым небом.
Виктор вырубил из черепа бархатистые рожки.
— Слегка обработаем, возьмешь с собой, продашь китайцам или корейцам.
На билет в Россию денег хватит.
Горел костер. Порывы ветра доносили с юга запах оттаявшей земли, наполняли душу томительным ожиданием благополучного лета. У костра был покладистый характер, и он деловито потрескивал, даря свое живительное тепло. Чистые яркие звезды, каких никогда не увидишь в городе, висели на черном куполе неба.
Алексей смотрел на пламя, тихо говорил о наболевшем, передуманном.
Виктор, растянувшись на еловой подстилке, слушал, то сыто смеживая веки, то впадая в дрему.
— Ты прав, конечно, ничего я в жизни не знаю: вместо армии прошел двухмесячные сборы, всю жизнь в Алма-Ате прожил: если бы не попал сюда — и казахов бы не знал, и всех инородцев по себе бы судил… Школа, мама, институт, научная работа и… облом. Жена с моим завлабом загуляла, с руководителем темы. Все бы мог понять и простить, но только не это… А дальше — студентка Светка, колония, новый заскок. Жаль не в ту сторону жизнь пошла: приглашали ведь на Алтай и в центральную Россию… В горы подался, идиот. Все наше поколение — дебильное, замороченное, все — уроды и инфантилы с точки зрения диалектического материализма. Но только этот самый материализм ничего не способен объяснить в человеческом духе. Впрочем, как и вся западная заумь, которой мы переболели. Без Бога человек — ничто! Без того, что ты объясняешь через понятие икс. А коли он есть, то моя путаная, глупая жизнь обретает смысл: Бог возлюбил Аврама за то, что тот очень любил родственников, прощал племяннику Лоту и выручал его вопреки научению дьявола. Иисус через Новый Завет от имени Бога призывает любить братьев и близких, но…
Сперва иудея, потом еллина — того же еврея, но живущего среди язычников, а уже потом всех остальных. Вернуться к своим корням, к своей крови…
Вдумайся, как велика милость Божья, стоящая за всем этим! Он дает мне шанс. Через этот отход на Север я, может быть, оправдываю не только свои глупо прожитые годы, но и грехи своих предков, поселившихся среди инородцев.
Виктор стряхнул дрему, зевнул, потянулся и приглушенно хохотнул:
— Ну вот, приплыли! Уже и Абрам с Сарой для тебя национальные авторитеты. Не пора ли обрезаться? А что? Если ты заинтересуешь еврейскую общину, она тебя примет. И будет защищать всеми силами, а не втаптывать в грязь, просто так, как это делают наши, русские. Заслужишь, помогут перебраться в Москву или Израиль.
Алексей глядел на костер незрячими глазами и, обхватив руками колени, чуть покачивался:
— Может быть, и обрезался бы, будь хоть наполовину евреем. Но, слава Богу, у меня этой проблемы нет, а значит нет и выбора. Теперь хоть экологическая катастрофа, хоть столетняя война — никуда меня не заманишь никакими благами: ни в Америку, ни в национальный округ — только этническая Россия, Русь! Все, что суждено ей, — суждено и мне. На городскую квартиру там рассчитывать не приходится. Ну и что, поеду в деревню: учителем, фермером, да хоть сторожем — это уже не важно. Но к своим поеду и жить буду ради своих, с пользой для них.
Он замолчал, и Виктору почудился в этом молчании вопрос. Тот снова потянулся и сказал, глядя в звездное небо:
— Родина там, где тебе хорошо… Лучше этих мест не найти. Поверь, я-то пошлялся по свету. Народ, в принципе, везде одинаково сволочной. Когда-нибудь всем нам придет конец, очистится от двуногой твари планета, и природа возродится вновь. Не молиться надо, а возвращаться к ней, к Матери, — бросать города: здесь всем хватит места, — он закряхтел.
Голяшки сапог нагрелись и жгли икры. Отодвинулся в сторону, заговорил неожиданно зло и раздраженно: — Ну что ты, хипповавший интеллигентишка, можешь знать о своем народе, и о каком народе ты говоришь, если работяга и инженер, не говоря уже о номенклатурных сволочах, — это два совершенно разных народа с разной и чуждой одна другой культурой. Да, для работяги этот самый «инженер» — хуже иностранца. А ты среди них десять лет как-то жил, за рубль премиальных своих наемных рабочих душил, «тыкал» подчиненным, к начальству на четвереньках подползал, как положено в вашей, так называемой, субкультуре. Весь твой протест против того мира в том, что один такой же партийный паразит у тебя жену увел, а ты не смог утереться, как у них положено утираться за очередную материальную подачку. Да твой народ никогда тебе не простит того, что ты с начальствующим быдлом был в одной упряжке.
— Свой народ все простит, если перед ним покаяться, — не срываясь на оскорбленный тон, возразил Алексей. — Иисус Христос призывал именем Божьим прощать единокровных и близких.
— Ближние, говоришь… Да никто мне не сделал в жизни столько зла и подлостей, сколько родные и близкие… Те же родители.
— Ветхий Завет за злословие на родителей требует смертной казни… — с угрюмым укором сказал Алексей.
— Тьфу на тебя! — беззлобно выругался Виктор и проворчал, опять укладываясь поудобней. — Совковую интеллигентщину не переспоришь: будь она марксистская, будь библейская.
Алексей помолчал, повздыхал раздумывая, и, хотя Виктор всем своим видом показывал, что не желает больше разговаривать, тихо пробубнил:
— То, что ты говоришь про мое прошлое, наверное, отчасти справедливо.
Но то, что — про русских, казахов и вообще людей, волков и медведей, — это тот же самый интернационал-большевизм, которому нас учили с пеленок, только с душком зоофилии, — он вытащил из рюкзака спальный мешок и стал укладываться.
Гас костер, тлели угли, студеней и чище становился воздух ночи. Виктор раздраженно смотрел в высокое холодное небо и с болью думал: ведь даже на него, на небо, поднял руку человек — портит, пакостит, над городами висят серые колпаки, и ночью не видно звезд… Ему было неловко, что, сорвавшись, сказал Алексею обидное. Чтобы как-то сгладить назревавшую размолвку, он взглянул на друга через костер и сказал:
— Извини, про жену — это я чересчур. Подловато как-то получилось… Но все равно, жаль мне тебя. Я понимаю, что ты ищешь. Но вернемся хоть бы и к еврейскому вопросу. Конечно, в прошлом веке и тысячу лет назад вся иудейская мишура в Библии и в церковном обряде воспринималась как миф о мифическом народе, о мифическом государстве. Но вот появилось реальное политическое государство Израиль. Я, честно говоря, восхищен подвигом евреев. Ничего подобного в истории, пожалуй, и не было: на прежнем месте, из ничего, возродить государство, возродить умерший древний язык. Да они всему миру показали, на что способен народ, если у него есть цель. Но ведь их государственное возрождение равносильно атомной бомбе, заложенной в русскую церковь. Как-то захожу туда и слышу: «Слава сынам Израилевым!»
Как теперь все это принимать, живя в России или в Казахстане?
В это же небо смотрел Алексей, зябко ежился в спальном мешке. И представлялось ему человечество в виде дерева, корни которого на земле, а крона в космосе. Для чего? Зачем? Не дано понять в этой жизни. У корней одна задача — поставить соки и соли. У дерева есть главные корни — расы, ответвления — народы и так далее до последней ворсинки. И каждая работает на крону, собирая и поставляя живительные соки через свои каналы, не губя другие корешки, не перекладывая свои обязанности, не уступая их другим и не уподобляясь; и в этом многоединстве — сила жизни, ее главный закон. Нет народов отсталых, нет передовых, все одинаково нужны Богу, как корни дереву. Но человечество, подобно дереву, в течение истории пытается отрубить все свои корни, кроме одного, или связать их в пучок, что, по сути, то же самое. Так думал Алексей, глядя вверх на звезды, такие яркие, такие далекие и близкие.
— Знаешь, что мне пришло в голову? — отозвался он на слова Виктора. — Ведь ты, как большевик, предлагаешь начать все заново? Это при том, что нашей православной культуре тысяча лет, а государству Израиль — всего сорок.
Нет! Это мы уже проходили. А потому, потерпим иронию таких как ты.
Мусульманство от тех же Абрама и Сары отпочковалось. Еще и с обрезанием. Ничего, живут и поднимают голову все выше. Вот уже и нас вытесняют. Если Абрам и Сара говорят, что интересы родного по плоти народа превыше всего, что мир среди родственников стоит того, чтобы получив по щеке, подставить другую; если они говорят, что пока есть единый по крови народ — ничего не потеряно, — то я с ними согласен. А вот когда наши перестройщики утверждают, что для сильного государства достаточно закона, а кровь и нация не имеют никакого значения, — я им не верю. Наше время тому пример: чуть ослабла власть — и все развалилось.
Рано утром Виктор упаковал остывшее мясо в шкуру; выдолбил во льду нишу, уложил туда, заложил камнями, набросал рядом углей, положил сверху стреляную гильзу и пропотевшую рубаху, чтобы не искушать волков своим паем. Не спеша позавтракав, друзья вышли к перевалу. Ночью морозец сковал прочной коркой надувы снега на седловине, и они без труда перевалили на другую сторону хребта.
— Я дальше не пойду, — щурясь от лучей восходящего солнца, сказал Виктор. — В хорошую погоду между теми вершинами, — указал стволом винтовки вдаль, — видна метеостанция. К вечеру дойдешь: внизу хорошая тропа. Оттуда, шутя, выберешься в город.
— Ну вот, — чуть смущаясь, пожал плечами Алексей. — Раньше думал: на этом самом месте обложу прожитую жизнь трехэтажным матом и начну все заново. Отчего-то расхотелось.
Он сел на камень, стал шарить в карманах рюкзака, затем залез под клапан.
— У тебя моих вещей не осталось? — спросил вдруг и стал ощупывать свою одежду: — Ты черный пакет с деньгами не забирал?
— Он же возле костра остался. Я думал, ты его за ненадобностью бросил.
Алексей уронил голову на руки, плечи его затряслись. Он поднял глаза, нервно хохоча:
— Ну и болван, ну и жизнь — деньги, и те не смог унести!
— Давай вернемся, — предложил Виктор. — Тут два часа ходьбы туда и обратно.
— Ну уж нет! — решительно отрезал Алексей, запаковывая рюкзак. — Пусть все будет как есть! Возвращаться в такой миг — слишком плохая примета.
Посмеиваясь, он ткнул кулаком в плечо друга.
— Прощай, что ли! Прости, если ненароком обидел. О чем только не говорили!
— Это ты меня прости! — вздохнул Виктор, и голос его дрогнул. — По сути дела, ты у меня единственный друг, который не предавал, не обманывал…
— Я тоже всех друзей давно растерял. Теперь вот и тебя теряю… На ферме, в сарае, припас продуктов, в тайнике двадцать пачек патронов: надолго хватит. Как только устроюсь, вышлю адрес и буду ждать. Вдруг дозреешь — приезжай! Вдвоем легче выжить. Ну, обнимемся, что ли?
Виктор, пряча глаза с блеснувшей слезой, слегка обнял друга, шлепнул ладонью по плечу:
— Надумаешь вернуться — найдешь?
— Прощай!
— Прощай!
Алексей отступил на три шага, развернулся, подняв правую руку со сжатым кулаком и не оборачиваясь, вприпрыжку, стал спускаться с перевала в ущелье, куда Виктор еще не забредал. Он постоял, глядя ему в след, и повернул в другую сторону: беспокоился о мясе. Ночью стая шныряла поблизости, похоже, недовольная своим паем. Разбаловались волки, подавай им вырезку. Зная их дерзкий характер, Виктор спешил. К тому же снег под солнцем начал раскисать.
Охотник пересек седловину и быстрыми шагами стал спускаться вниз.
Пустой рюкзак хлопал по спине, будто подгонял его. Еще издали он увидел в бинокль, что полдесятка волков наглейшим образом топчутся на том месте, где спрятано мясо.
— Оборзели! — возмущенно прохрипел он, заряжая ружье. Выстрелил, надеясь попасть куда-нибудь в камень и отпугнуть зверей. Но те даже не оглянулись в его сторону.
Он скакал по склону, скользя по оттаивающей земле, пробовал кричать на ходу: голос хрипел, срывался, глох и терялся в безмерном пространстве среди белых вершин, крик мешал дыханию. И тогда Виктор залаял — отрывисто, звонко. Бег не мешал горлу издавать отрывистые звуки. И он распалялся, вкладывая в лай возмущение, обиду, укор, входил в раж, тявкая отчетливей и громче.
Ветер дул снизу и скрадывал звуки. Виктор подбежал на полкилометра, когда волки, перестав обжираться дармовым мясом, задрали морды в его сторону. Он выстрелил на ходу, пуля, попав в камень, запела. Полдесятка морд повели носами в сторону удалившегося звука, посмотрели вверх — теперь с долей почтения, мол, так бы сразу и сказал. Охотник скатывался по тропе, размахивая над головой ружьем, тявкал и кричал:
— Пасть порву, псы!
Как брызги от брошенного в воду камня, волки кинулись в разные стороны и вскоре скрылись. Виктор подбежал к стоянке. Выругался, задыхаясь. Он явился к самому концу пиршества: камни были разбросаны, мясо съедено, валялась только разорванная, выпачканная в грязи шкура да ошметки мякоти на тропе. Не помогли ни угли, ни гильза. Рубаха была отброшена в сторону, на ней красовался твердый волчий катых.
Это, пожалуй, возмущало больше, чем съеденное мясо, — ведь хотел жить с ними по-честному, и вот благодарность… Радовало, что всего этого не видел Алексей: уж он бы сделал социально-философские выводы.
Виктор подобрал затоптанный волчьими лапами пакет с деньгами и стал спускаться к сброшенной туше. Стая сорок нехотя поднялась в воздух, закружила, затрещала. Последние птицы выпорхнули почти из-под ног.
Пришлось счищать птичий помет и срезать с костей оставшуюся мякоть.
Жить-то надо!
9
Пришла теплая поздняя весна: еще не знойно в низинах, уже ловится рыба, на просохших склонах гор много дикого лука и чеснока. Подходила годовщина со дня гибели Алика, и Виктор, по законам старой чикинды, должен был справлять поминки. У него был сахар, были дрожжи, но не было емкости.
При десятке одичавших свиней на лехиной ферме теперь жили бывшие чикиндисты: Удав с Зинкой, перебравшиеся сюда из Уйгурского района. Они без разговоров дали бидон, когда-то принадлежавший Алику, напомнили, что Алексей оставил продукты и вещи, занимавшие немало места в их сарае.
Виктор принес флягу в избушку, поставил за печкой брагу и нарубил дров на неделю вперед. Сезон охоты закончился. Делать было нечего. Кофр с фотоаппаратами лежал в тайнике и доставать его не хотелось. Зачем? Таскать повсюду с собой — неудобно. Оставлять в избушке или в шалаше — рискованно.
Почти год Виктор прожил в горах. Пора было подводить итоги. Он заставлял себя думать об этом, но ничего не получалось: сидел на чурке с воткнутым в нее топором, ощущая странную тупость в голове и нездоровье в теле, с недоумением спрашивал себя — что происходит со мной? Сидеть тоже было трудно. Виктор, через силу, зашел в избушку, выпил полкружки чаю — не полегчало. Хотелось лечь и не вставать, но день только начинался.
Он снова спустился к ручью. Услышал, как с тропы сорвался камень. Кто-то приближался к избушке. Затем среди кустарника с воровской утайкой мелькнула тень. Виктор спрятал топор в траву, сел за деревом, наблюдая за подходами к жилью. Прошло несколько минут — никто не появлялся. Вскоре опять мелькнула тень, перебежав от куста к кусту. На этот раз глаз успел уловить контуры человеческой фигуры, и Виктор узнал ее. Он измерил глазами расстояние до крыльца, возле которого стояла дубинка из рябины, и пригнул голову, затаившись на своем месте.
Из чащи с настороженной резвостью куницы высунулась получеловеческая голова, опасливо зыркнула по сторонам, потом на распахнутую дверь.
На лбу Виктора выступила липкая испарина, сердце стучало гулко и учащенно. «Неужели укусил энцефалитный клещ?» — опять подумал он.
Клещей этой весной было много, то и дело приходилось осматриваться, снимать их с тела. Иногда и отдирать. Голова гудела, как паровой котел на холостых оборотах. «А тут еще этот выродок».
Гость бесшумно выскочил на тропу, вытянул шею, прислушиваясь. Босой и обросший, в лохмотьях, которые издали можно принять за шкуру, с глазами больной собаки, он двигался без присущей человеку логики.
Прислушался, поводив головой, как собака ушами, подбежал к избушке, забрался на крыльцо, еще раз обернулся и исчез за открытой дверью.
Виктор бесшумно поднялся, подошел к крыльцу и подхватил дубинку. По логике любого зверя, увидев преградившего путь человека, вор должен был заскочить на крышу, с нее забраться на скальный склон и уйти вверх. Этого и ждал Виктор от оборванца. Тот выскочил на крыльцо с пакетом муки и с бутылкой подсолнечного масла, застыл на месте, пристально глядя на хозяина, и вдруг, бросив муку и масло, пронзительно закричал:
— Я не свинья, я — кабан! Вот мои клыки! — выхваченные из-под лохмотьев, у него в руках блеснули два ножа.
Вор прыгнул на Виктора сверху. Он резко уклонился, и оборванец, не удержавшись на ногах, приземлился на четвереньки. Виктор подумал, что, пожалуй, позволил бы этому тщедушному существу подняться на ноги, если бы не двадцать дырок на теле Алика, если бы не раны на руке Алексея. Он вполсилы ударил каблуком по грязной руке, сжимавшей австрийский штык, затем брезгливо поддал ногой по ребрам. Существо кувыркнулось, оставив штык на земле, но со звериной ловкостью тут же вскочило, перекинув в правую руку второй нож. Виктор не ждал этакой прыти и уже не без любопытства, посильней ткнул дубинкой ему в грудь. По силе удара должно было сломаться ребро.
Оборванец скривился от боли, жалко кашлянул и как-то боком заковылял вниз по ручью. Но вместо того, чтобы просто исчезнуть с глаз, он вскоре стал взбираться по склону. Виктор почувствовал раздражение — этот дохляк готовился к новому нападению — чертыхнулся и, преодолевая немощь, полез на противоположный склон, туда, где была спрятана винтовка.
Оборванец, скрываясь за низким кустарником южной солнечной стороны горы, проковылял вдоль склона метрах в двухстах выше ручья, затаился за камнем и, отдышавшись, засеменил в обратную сторону, приближаясь к избушке. Виктор шагнул под ель, на то самое место, откуда полтора месяца назад стрелял по трубе. Он понял, что движет этим существом сильнейший склероз. Был разрушен стереотип, по которому тот возвращался отсюда с продуктами и при ножах. Теперь этот получеловек будет повторять свои попытки, пока не получит нож и продукты. Вот почему Алексей вынужден был отдать ему и ворованную муку, и штык.
Под елью, среди густых веток, висела упакованная в мешковину винтовка.
Виктор снял ее, освободил от промасленного тряпья, достал из-под корней пачку патронов и зарядил ружье. Расстояние было пристреляно. Он до отказа сдвинул планку, скинул рубаху, свернул ее комом и подложил под ствол.
Полузверь маячил среди кустарника, то высовываясь из-за него, то маскируясь в нем. Его голова умещалась едва ли не на половине мушки.
Виктор выждал, когда он повернет ее боком, поймал уровень уха и плавно спустил курок. По вернувшемуся с задержкой звуку, по резкому исчезновению тела понял, что не промазал. Тщательно упаковал и повесил на место ружье.
В голове шумело, тяжелое уставшее сердце молотом билось в груди. И он опять подумал: «Крышка! Наверное, укусил клещ. Ладно бы просто умереть, а то станешь дебилом и сам этого не поймешь. Как этот урод».
Виктор спустился к избушке, тщательно умылся с мылом и лег, не запирая дверь. Голова становилась все тяжелей, мысли вязче. Еще громче застучала кровь в ушах. «Влип! — опять подумал он. — Хоть бы кто-нибудь пристрелил, если свихнусь. Некому!»
Тускло тлела лампа, высвечивая сруб стены, полку над головой. Был тот случай, когда ничего не оставалось, как положиться на судьбу и удачу.
Знобило — значит поднималась температура. Виктор то ли в бреду, то ли во сне видел Алика, понимая, что его здесь быть не может. Душа садилась напротив: на то самое место, где спала при жизни. «Какая от призрака помощь?» — думал Виктор и спрашивал, шепелявя непослушными, трескающимися от жара, губами.
— Это он тебя убил?
Душа кивала. «Вот в чем связь между охотником и добычей, убийцей и жертвой, — в полубреду осенило Виктора. — Ты отпускаешь на волю душу, а грехи берешь на себя…» Ему вдруг стало ясно, отчего душе друга грустно: убив убийцу, Виктор брал на себя грех двух убийств. «Но почему же грех? — возмущенно думал он, — чушь какая-то. Это справедливое мщение. К тому же убитый не был человеком…» «Он был русским!» — откуда-то с другой стороны напоминал Алексей. Понять этого Виктор не мог и оттого мучался: то клацая зубами от холода, то заливаясь липким потом.
О чем-то говорил Алик: нудно так просил и оправдывался. И Виктор, кажется, нехотя дал согласие. На что? Вспомнить не мог.
Он пришел в себя на рассвете — разбитый и слабый. Приподнялся на локтях, задрал вытянутые ноги. Они послушно поднялись — признаков паралича не было. Кажется, рано отчаиваться. И пулю в лоб пускать рано — вдруг пронесет?
Был день гибели компаньона. Годовщина. За дверью блистал ясный весенний день. Со склона над избушкой, где лежало тело убитого, тяжело поднялась на крыло стая черных ворон. Виктор набрал воды в чайник, растопил печь. Когда вода закипела, залил кипятком сухари в миске, но не смог съесть и половины. Полежал, набираясь сил, уложил флягу в рюкзак, закрыл дверь и заковылял, сгибаясь под ношей.
Он встретил лесника на тропе. Тот ехал по своим делам верхом на лошади.
Виктор обрадовался, что отпала необходимость переправляться через реку, к лесному кордону. Обойти ближайшего соседа и нужного человека — лесника, никак нельзя. Они сели на камень среди зеленеющей лужайки. Не было ни посуды, ни закуски — только двадцатилитровая фляга. Лесник поворчал, придумывая подобие стола-дастархана, так ничего и не придумав, побормотал что-то наподобие суры из корана, провел ладонями по лицу.
— Хороший был человек, — сказал по-русски и, чуть наклонив бидон, сделал несколько глотков.
— «Отче наш иже еси на небесех… Отныне, присно и во веки веков», — что помнил, произнес Виктор и размашисто перекрестился. Стало еще хуже, закружилась голова. Предъявив друг другу жалкие остатки былых национальных обрядов, люди могли поговорить, но говорить было не о чем.
— Хороший был человек, — повторил лесник, отпив еще раз. — Говорят, художник или писатель.
— Художник! — уточнил Виктор, поднимаясь. — Пойду к русским на ферму. Там той будет, вернее, ас, как у вас говорят. Поминки, в общем.
Приезжай!..
На ферме пили третий день. Со своего участка через хребет перевалил Юра Колесников, старший брат утонувшего летом Анатолия. Стол был поставлен во дворе. Грязная клеенка на нем — завалена огрызками и объедками, залита брагой. Мухи садились на литровую кружку, накрытую пресной лепешкой, — угощение душе.
Виктор поставил на землю рюкзак с флягой и сел, радуясь, что все-таки смог пересилить себя и добраться до места.
— Что-то у тебя глаза как у мороженого карпа, — пристально вглядываясь единственным замутненным зрачком в лицо гостя, сказал новый хозяин фермы.
— Заболел, — вздохнул Виктор. — Видно, заразный клещ укусил.
— Ну да?! — со знанием дела качнул седеющей головой Юрий. — От заразного клеща через двенадцать часов откинул бы копыта.
Опять пили. Виктор прежде был осторожен со спиртным, тем более в малознакомой компании. А здесь выпил кружку, вроде бы полегчало. Выпил еще и пожаловался:
— Всю ночь температура, бред. Алик сидит рядом, что-то бормочет…
— Так он вчера здесь был, — сказала Зинка, убирая со стола одной рукой, другой держась за край и мотаясь всем телом при каждом резком движении.
Юрий по-азиатски, в один глаз, с недоверием взглянул на нее:
— Снилось, что ли?
— В натуре… Удав в доме лежал пьяный. Я — здесь, что-то делала.
Приходит Алик, садится сюда вот. А я и забыла, что он помер. Говорю:
«Удав, вставай, Алик пришел!» (Удав, свесив голову в хмельной задумчивости, кивнул: «Помню!») А он мне: «Налей ему и пусть ночует». Я вот эту кружку налила. Алик выпил… Всю. Я ему говорю: «Оставайся ночевать!» А он: «Нет, пойду к Витьке…»
— Гонишь?! — покосился на Удава Юра.
Тот пожал плечами: мол, сам не видел.
— Лежу — ни рукой, ни ногой. Зинка за стеной рычит: «Удав, Алик пришел!» Я думал, она про Витьку, ну и говорю: «Налей ему и пусть ночует».
Виктор вспомнил вдруг, о чем в бреду просил Алик: ему нужно было тело, чтобы в последний раз в человеческом облике побывать здесь. Он тоже свесил голову и, не желая вспоминать и думать об этом, запел:
— На поминках не поют, — напомнил Юра. Налил себе из принесенной фляги.
Удав посипел-посипел, попробовав было подпеть, возразил:
— Алик это дело любил.
«С чего это я распелся?» — удивляясь, подумал Виктор. Он никогда не пел, тем более в застолье.
Потом пили у чабана, с которым Алик был в приятельских отношениях.
Чабан недавно прикочевал в ущелье и еще не поставил юрту. Жена его сдержанно ругалась, но прогнать гостей не смела: только дулась и ворчала.
Потом Виктору заседлали лошадь, и он поехал в гору, где пас скот другой чабан, считавший Алика другом. Высокое и плоское казахское седло удобно на равнине, на крутом же склоне Виктор то и дело сползал с него на круп, мучая лошаденку. Булькала за пазухой фляжка с брагой. Опять пили на лысой вершине.
— Хороший был человек! — кряхтел молодой чабан. Про мертвых плохо не говорят. Он подыскивал слова, желая припомнить об Алике что-нибудь особенное и не умея выразить чувства по-русски, бормотал: — Хороший человек был, хоть и русский… А что?! Русский люди — честный, работящий, — чабан нетрезво ухмыльнулся: — Только смешной — яйца красят… — он захохотал вдруг в полный голос, дергаясь все телом.
— Какие яйца? — удивленно посмотрел на него Виктор.
— Ку-ры-ный! — давясь спазмами, лепетал чабан, катаясь по проклюнувшейся майской траве.
— На Пасху, что ли? — в недоумении пожал плечами Виктор. — Что здесь смешного?
Чабан взглянул на его удивленное лицо, захохотал так, что слюна потекла по безволосому бабьему подбородку.
Виктор пожал плечами, посмотрел вниз, туда, где ставил юрту Джандильбай, простой чабан, вечно притесняемый начальством. На ферме копошились пьяные русские, у всех было много проблем, много обид. Но отсюда, сверху, это казалось пустяком — малой, незаметной частицей бытия.
Сама же жизнь, та ее часть, с которой всегда жаль расставаться, вот она — голубое небо, весенняя свежесть трав, дымки над домами и юртами и вся та грустная и радостная суета внизу. Странные были мысли. Чужие.
Вечером трещали сверчки, дышала прохладой река, пахло талой землей и навозом. Виктор с Юрием усаживали на заседланного ишака Зинку. Ишак — не будь дурак возить пьяных — стоял на месте. Юрка с Витькой наваливались на его круп, толкали, как машину. Ишак срывался с места, женщина падала на весеннюю траву и снова карабкалась на умное заседланное животное.
Затемно Виктор заполз на матрас, брошенный для него на пол, и полетел в бездну без особой надежды хоть когда-нибудь выбраться из нее.
По призрачной незнакомой долине к нему неспешно подошли Алик и Анатолий. На их лицах светились доверчивые, детские улыбки. Они подхватили его под руки, больного и пьяного, повлекли по блестящей тропе, только ноги успевай переставлять. Эй, да есть ли они, ноги? Не увидел Виктор своих ног. Разделились тьма и свет, не смешиваясь больше, каждое само по себе, как краски в тюбиках. Цвета стали гуще и ярче. Виктор увидел икону Троицы и вязь букв над нимбом. От иконы струился свет, и проникал тот свет всюду, пронизывая тело, как мысль. И Виктор вспомнил свою жизнь так, как никогда не представлялась она ему: не грудой фрагментовфотографий, а единым полотном. В жизни этой было так много гадкого: убивал, воровал, лжесвидетельствовал, с чужими женами спал… Свет, как сверло дантиста в нерв, лез и лез в такие глубины, куда и сам-то он никогда не заглядывал. И почувствовал Виктор, что самое страшное впереди.
Толик с Аликом поддерживали его. В их в глазах сочувствие, но они бессильны были помочь. Подхватили опять его под руки, понесли куда-то.
— Не оборачивайся! — прошептал Алик.
Виктор понял, что в этот миг самое страшное находится за спиной и не смог не обернуться.
А там, за ними… Виктор хрипло заголосил и с ужасом понял, что такое ад.
Спасительное сомнение мелькнуло в нем, и он ухватился за пустячную мысль, как за свой единственный шанс.
— Алик! Ведь на тебе грехов не меньше? — взмолился, глядя на покойного дружка. Тот ничего не ответил, лишь одобряюще улыбнулся.
Виктор увидел вдруг его истерзанное тело на каталке и все понял: в той жизни Алик нес в себе звериное знание, что в конце пути заплатит кровью за кровь, своими муками — за принесенные другим. Поняв это, Виктор наперед соглашался на такой же конец, чтобы уйти с наивной душой зверя, не знающего покаяния и душевной боли, которую он сам лишь мимоходом познал здесь.
Виктор вернулся к раскинувшемуся на матрасе телу, пожалел его и очнулся. Колотилось сердце, рубаха была мокра от пота, но все это было не важно. Он выжил и понял, что поправится, хотя особой радости от выздоровления не испытывал.
За печкой клацала бидоном Зинка, сливая гущу. Стонала и охала. Над ее кроватью висела выцветшая картонка с ликами Святой Троицы.
— Сердце у тебя шалит, — проворчала, заметив, что он проснулся. — Всю ночь выл, как волк, спать не давал. А тут еще шугалово с похмела, — взглянув на Виктора, остановилась с кружкой в руке: — А ты сегодня лучше.
Глаза оттаяли. Опохмелишься?.. Как знаешь. А я подлечусь. Нас жизнь приучила. Не жизнь, а… — она не нашла подходящего слова, выругалась. — Выхарила, измочалила и зашвырнула сюда, к черту на кулички. Какой с нас спрос? Пусть и за то скажут спасибо, что людьми остались…
— Кто скажет? — серьезно спросил Виктор.
— А хрен их разберет, кто… Бог, наверно.
— Он — не прокурор, ему твои оправдания, как ишаку похмелка.
— А про что там спрашивают? — настороженно прищурилась Зинка.
Виктор удивленно поднял брови — только что помнил и забыл.
На другой день он вполне пришел в себя. Чувствуя приятную легкую слабость, взял у Джандильбая двух лошадей под грузовыми седлами, загрузил на них оставленный Алексеем припас муки, круп, подсолнечного масла, соли, сахара. И все равно весь груз разом забрать не смог, оставив на ферме несколько мешков до следующего рейса. Рано утром, держа в поводу завьюченных коней, двинулся вверх по берегу реки, но не в избушку, как все думали, а в Башню. Из-за дальнего пути он вернулся с лошадьми только на следующий день к полудню, изрядно напугав чабана.
Добавив ко всему заплаченному за лошадей полведра сахара, он в тот же день налегке ушел в избушку под скалой. На ферме опять пили, но теперь по какому-то другому поводу.
По низинам у реки береза и тал набрали полный лист. Возле избушки поднялась крапива до колен. Виктор пошлялся по склону, ноги сами собой вынесли его к обглоданным костям и к груде тряпья, густо изгаженной птичьим пометом. Воронье взяло свое и оставило останки до худших времен.
Запаха почти не было. Лишь вблизи в густой свежий дух чабреца и полыни вкрапливалась тягучая трупная вонь.
Привычный к смерти и звериным останкам глаз резало поразительное отличие хрупкого, тонкого, будто неземного человеческого скелета, лобастого скалящегося черепа. Надо было все убрать. Хоть нечасто, но люди бывали в этих местах. Зачем им загадки, хлопоты по выяснению дел, к которым они не имеют никакого отношения? И Боря, и Алик, и Виктор жили в другом мире. Это были их личные дела, не касающиеся людей.
Так думал Виктор, поглядывая на останки убитого им получеловека. Он сел на камень неподалеку от костей. Телу эта поза не нравилась, и охотник кошачьим движением сполз на траву, слегка свернувшись, разлегся на боку, сорвал стебелек зубами, пожевал, выплюнул, с привычной настороженностью зверя окинул взглядом возможные подходы снизу.
— Другой мир! — эта мысль сначала потрясла его, а потом победным маршем затрубила в каждой клеточке тела. Человечество страдает потому, что не знает иного мира, кроме созданного. А до него — один шаг. Стоит только швырнуть в рожу тому, общечеловеческому, что разлегся за ледником как скотина в своих отбросах, его привилегии — и ты свободен… Да и какие это привилегии? Право выкупить клочок земли на кладбище и за немалые деньги быть зарытым там среди таких же холопов цивилизации?
Виктор перевернулся на спину. Ясное небо струило чистый свет, белые вершины тянулись к прозрачной небесной выси. И он беззвучно рассмеялся, скалясь в небо, как черный скелет под боком. Что-то звякнуло. Не отрывая глаз от синевы, он пошарил под собой рукой и поднял слегка заржавленный складной нож.
— Терять-то почти нечего, — вдруг пробормотал он вслух, смеясь. — А взамен — беспредельная свобода. И нет над тобой ни власти, ни инспекции: для них — ты зверь. Их право — убить, но и у тебя точно такое же право.
Жизнь вместо гниения в лагерях заключения и психбольницах. Разве это плата?
Виктор поднялся уже другим существом — человеком ли, волколаком или карамаймуном. Ему уже не было дела до названий. Он окинул взглядом склон, воткнул нож под кустом барбариса, где поменьше камней, и стал копать яму для останков.
На другой день, спрятав кастрюлю, ложку, кружку, спички и аварийный запас крупы, на случай если здесь когда-нибудь придется переночевать, он ушел на противоположный склон в Башню, решив навсегда оставить эти беспокойные места.
Продуктов в Башне хватило бы еще надолго. Виктор мог не появляться в долине, возле фермы, до следующей весны и даже дольше. Но в низовьях зрела конопля. Ему нужно было пополнить запас, оставшийся после убитого им беглого зека.
Места, где она росла, Виктор знал хорошо. Было полнолуние. Он с излишними предосторожностями переночевал в скалах без воды и костра, а в полночь спустился на дикое поле, набил мешок листвой, собрал спичечный коробок чистой пыльцы и унес все в скалы, спрятав среди камней. Остаток ночи провел в пустующей кошаре, а при высоком солнце спустился к ферме.
Там еще оставались продукты: мука, пшено, сахар.
Перед тем как пойти к людям, Виктор выстирал ветровку, заштопал штаны. Он давно уже не брился, привыкнув к бороде, но перед походом в долину хорошо отточенным ножом укоротил ее и волосы. Прическа получилась не модельная, но какую-то форму удалось придать.
Солнце поднималось к полудню. По привычке Виктор пошел не по тропе, а в обход — по кустарникам. Удивлялся: вокруг фермы появились изгороди.
Это не походило на Удава и Зинку. Подойдя на близкое расстояние, он постоял за деревьями, вглядываясь в постройки, потом открыто вышел на поляну перед домом и свистнул. Откуда-то из загона появился молодой низкорослый парень, он был курнос, губаст и голубоглаз. Виктор принял его за родственника Удава, отметив в глазах парня собачью жажду выжить любой ценой и жить хорошо вопреки всему.
— Где хозяин? — спросил и, вспомнив, что начал не с того, осекся, неловко протянул руку: — Здравствуй!
— Я хозяин! — ответил молодой.
— А прежний?
— Он продал мне все и уехал, — парень, не мигая, смотрел на Виктора, и это раздражало: по звериным понятиям — бросал вызов. Скрипнув зубами и подавив неприязнь, Виктор членораздельно сказал:
— Витька я! Здесь мои продукты.
— А-а, говорили! — засуетился молодой, замигал растерянно. — Заходи в дом.
Из леса выскочили две холеные породистые собаки, залаяли нагло, без страха, как лают очень дорогие, никогда не битые псы. Виктор презрительно взглянул на них, сдерживая желание пнуть в сытые морды. Собаки, не почувствовав в госте страха, потеряли к нему интерес прежде, чем хозяин отогнал их.
Они вошли в знакомую избу. Опять здесь все переменилось, и запах тоже.
Виктор сел, вытянув ноги, ожидая чая.
— Мука здесь. Я уже думал ее курам отдать — второй сорт.
— Пшено оставалось и сахар…
— Ничего не знаю, — молодой повел глазами по потолку. — Только муку оставляли… И вообще, у нас кооператив. Ночлег — двадцать пять, переправа — пять рублей. Если чего хранить — за деньги.
Виктор встал:
— Где мука?
Вместе с обгаженным курами мешком он затолкал муку в рюкзак — всего-то килограммов двадцать, — не прощаясь, шагнул за порог.
Уже за загоном на него снова бросились собаки. Он ловко пнул одну. Удар пришелся по челюсти, пес завыл. Второй, испуганно тявкая, отскочил, закружил на почтительном расстоянии. Почувствовав удовлетворение, Виктор пробормотал:
— Собачья кровь! — то ли в адрес хозяина, то ли в адрес его собак.
Наедине с собой он впервые сказал это по-казахски и добавил по-русски: — Собака!
10
Давно уже вечерами он почти ничем не занимался: в теплую погоду лежал под открытым небом и смотрел на звезды; в дождь или ветер сидел в своем скальном гроте, смотрел на огонь в печи, о чем-то думал, поглядывая на запас продуктов, который начинал заметно убывать, если не было мяса.
Стоило появиться мясу, припас, если и уменьшался, то незаметно.
Человеку в горах нужно много мяса. Смазанные ружья стояли в стороне, в скальном углу жилища. Здесь же висел кофр с фотоаппаратами. Один из них после удара о камни так и не был отремонтирован. Патронов было достаточно, Виктор тратил их мало, да и не ходил он теперь с ружьем по лесу просто так, в надежде на случайность. Оружием пользовался в конкретных случаях, когда без него невозможно было обойтись. Зайцев — ловил петлями, загонял в петли косуль и даже кабанов. Умерщвлял пойманную добычу рогатиной — штыком, прикрепленным к концу древка. Рогатина была удобна при ходьбе, безотказна в особых случаях, бесшумна.
Но вот снова потянулась привычная полоса промысловых неудач. Будто кто колдовал за спиной, наводил порчу. Виктор пробовал охотиться ночами: днем лес спит, и только в сумерках оживает. Выходит на выпасы дичь, за ней — волки и рыси. Начинается полноценная, невидимая человеком, лесная жизнь. Но он, человек, даже при полной луне в ночном лесу беспредельно ущербен: слепо-глухо-безнос. Нелегко, будучи таким безжалостно обделенным природой, добыть пропитание. Когда в капканы не попадались даже зайцы или вороны склевывали добычу, Виктор сидел у очага в пещере и в дни тоски, которые случались все чаще и чаще, съедал лишнюю ложечку конопляной кашки, а то и выкуривал папироску. Он уже не вспоминал стихи и тем более не пел; он все чаще, глядя на огонь, заплетающимся языком выговаривал Богу обиды за то, что тот сделал его таким несовершенным по сравнению со зверьми. Иногда в томном состоянии легкого одурения он вспоминал удачную охоту, и рот его наполнялся слюной.
Как-то Виктор без пользы прошлялся с малокалиберной винтовкой до полуночи, поспал под елкой и, чуть засветлело небо, пошел по звериной тропе на скально-лесистом гребне. Шел он медленно, замирая и прислушиваясь после каждого шага. Где-то поблизости была косуля. Виктор чувствовал ее запах, тепло, исходящее от тела, и медленно втягивал воздух через нос. Он так любил этих стройных сухощавых козочек, так обмирал от ожидания встречи, что готов был втираться в аккуратные лунки следов, в круглые катышки.
Добытчик заметил ее первым — это была большая удача. Он стал двигаться совсем беззвучно. И все же она, заподозрив что-то неладное, поднялась с лежки. Прислушиваясь, сделала несколько шагов по склону, остановилась на открытом месте. Виктор разглядывал ее, гладенькую — шерстинка к шерстинке, упитанную. Сердце колотилось так, что, казалось, могло спугнуть добычу. Виктор стрелял наверняка. Косуля рухнула на четвереньки. Он быстро перезарядил ружье, с минуту подержал на мушке затихающее животное, затем осторожно отодвинул стволом ветки на том месте, где лежала его жертва, и увидел вжавшегося в землю козленка. Он не пожалел патрона и пристрелил его, отправляя новорожденную душу следом за матерью. Ему не было стыдно перед убитыми. Не хуже волка он съел все, что можно съесть: даже кишки промыл и посолил, а когда кончилось мясо, сварил их…
И вот опять, раз за разом, он возвращался без добычи, чтобы, пожевав пресную лепешку или проглотив ложку-другую кашки, уйти на охоту.
Прошла неделя. Голодные ноги вынесли добытчика в медвежью падь, и там в полдень он увидел медведицу. Виктор долго лежал, разглядывая ее издали. У Машки был новый медвежонок. На расстоянии от них рыл корни и лакомился побегами прошлогодок-пестун. И вдруг, будто кто шепнул из-за плеча: убей!
Мысль ли, шепот ли — сначала потрясли. Но вкрадчивый голос добавил: мелкашка — не оружие против такого зверя. Скорей всего она тебя задерет.
Виктор заколебался, а голос прельщал и прельщал… Уж лучше она, чем воронье… Виктор представил, как медведица будет возиться с его телом — не хилым, по человеческим понятиям, но тщедушно слабым, по понятиям здешнего мира, как будет оберегать его, покусывать и обнюхивать. И во всем этом представилось ему нечто трогательное.
Место встречи было удачным. В полусотне шагов от зверей из склона торчали два скальных жандарма с узкой сквозной расселиной между ними. В эту щель едва ли пролезла бы хорошая собака. И все же, в случае, если выстрел не окажется смертельным, а надежды на это было мало, Виктор мог втиснуться в расселину боком, может быть на метр. Может быть, кое-как перезарядив ружье, смог бы сделать еще один выстрел — в упор. План был примитивен, опасен, но не безнадежен.
Он подкрался к жандармам, терпеливо целился под круглое аккуратное ухо медведицы, подолгу ожидая, когда она удобно подставит голову под выстрел. Наконец плавно спустил курок. Выстрела не слышал. Медведица вдруг легла на землю, и Виктор, радуясь, что так просто добыл гору мяса, неторопливо перезарядил ружье, подняв голову над травой.
Она будто специально ждала этой промашки стрелка, будто забавлялась с ним: легко вскочила на мощные лапы и бесшумно, с невероятной скоростью полетела на Виктора. Он почувствовал жалкое ничтожество маленькой пульки в стволе своего ружья. Мысль выстрелить еще раз даже не пришла ему в голову. Жуткая сила подбросила его в воздух. Он пискнул, как мышь под сапогом, и влепился в скальную расселину.
Медвежья голова с оскаленными желтыми клыками мелькнула возле самого лица, лапа с растопыренными когтями несколько раз скребанула по одежде. Виктор заверещал, отталкивая от себя клыки стволом и, скорей всего, случайно нажал на курок. Тело медведицы судорожно дернулось и осело, загородив выход из расселины. Виктор всхлипнул, не веря звериному коварству. Потолкал голову стволом. Медведица не шевелилась. Он попробовал высвободить зажатую скалой грудь, чтобы вволю набрать в легкие воздуха и с ужасом понял, что сделать этого не может: шершавый камень, сжимал его все туже и туже.
«Только не так!» — прохрипел он, обращаясь к своему духу-покровителю.
А тот, казалось, хохотал ему в лицо. Виктор сжал зубы и, кряхтя, стал извиваться между каменных стен. Ему удалось слегка продвинуть вперед голову и грудь. Дышать стало легче. Он подергался еще и с радостью понял, что на этот раз выберется. Пробормотав: «Нет дураков!», смог освободить правую руку, вынул штык из-за голенища и, перекинув его в левую, по самую рукоять всадил лезвие в лохматую шею медведицы. Она не дрогнула.
Тогда, переступив через тушу, он бросил на землю ружье, выдернул штык из плоти зверя и припал к ране губами, время от времени отплевываясь шерстью. Злая пустота в животе наполнялась жизнью и силой, саднили, ободранные когтями плечо и бедро, кровь зверя мешалась с его кровью.
Наконец он поднялся, вытирая липкую окровавленную бороду. Из-за камней на него непонимающе поглядывал медвежонок.
— Извини, брат, родишься в другой раз… Все равно тебе не выжить, — пробормотал Виктор. Пристрелил медвежонка и, отмахиваясь от мух, начал снимать с него шкуру. Он работал ножом и урчал под нос какую-то песню, радуясь, что мяса много, уверяя убитых, что оно не пропадет. Он знал, как сохранить медвежатину среди лета. Даже протухшую ее можно есть.
Прошел год, может быть, два или больше. Известный в округе лесной бродяга спускался вниз по реке к селу. Обычно он выходил сюда в конце июля, когда появлялась пыльца на конопле. В пути бродяга заночевал, не разводя огня. По следам его, внимательно вынюхивая землю и траву, прошел волк. Определив, что путник силен и может оказать сопротивление, он потерял интерес к нему. На рассвете ворона, заметив в прошлогодней хвое под елкой человечью голову, с ветки на ветку спустилась на землю, вразвалочку, осторожно, стала приближаться. Ей, как разведчице, могли достаться сочные глаза. Но голова зевнула, из хвои выполз человек.
Расстроенная ворона, каркая, полетела на другой склон.
Возле фермы, сначала лениво и настороженно, потом яростно залаяли собаки. Вдруг они завыли, завизжали. Хозяин, накинул телогрейку, хотел выбежать во двор, но дверь распахнулась, в дом вошел оборванный обросший мужик с изъеденными язвами руками. Хозяин не сразу узнал в нем того, кто забрал муку, с кем как-то раз, нос к носу, столкнулся среди ночи на конопляном поле: пришелец постарел и изменился.
Хозяин зябко передернул плечами, чертыхнувшись про себя:
«Прикалывается мужик, что ли?» Но, взглянув в глаза «гостя», растерянно сглотнул слюну. А тот, не раздеваясь, шагнул к печке, опустился на охапку поленьев, вытер рукавом лицо, сплюнул на пол и просипел:
— Чай хочу… С сахаром!
Кооператор слышал от местных жителей, что шляется по округе какой-то сумасшедший. О нем было много слухов. Говорили, что был когда-то исколот ножами и увезен в морг, а там ожил и сбежал.
Волосы гостя, перепутавшись с бородой, рассыпались по плечам. Давно их не чесали иначе как пятерней. Лицо обветрилось, задубело, было посечено шрамами, морщинами и царапинами. Хозяин попробовал было заговорить, но почувствовал себя дурак-дураком, — налил в кружку чай, подвинул банку с сахаром, хлеб, повидло.
Гость, чавкая, съел всю булку, выпил полчайника, ни слова не сказав, откинулся к стене, задремал. Хозяина такой оборот не устраивал: «Вшей на нем, наверное, больше, чем на бродячей собаке блох». Но гость надолго не задержался: закряхтел, закашлял, поднялся и ушел, не сказав ни слова, даже дверь за собой не закрыл.
В селе русского называли Аликом. К нему привыкли, как к местной достопримечательности, хотя показывался он здесь редко. Но и эти посещения давали местным жителям повод для многих разговоров и догадок.
Лесной бродяга появился возле магазина на рассвете, задолго до открытия.
Когда пришли первые покупатели, он с серьезным видом собирал фантики возле крыльца.
К восьми утра по главной улице стайками потянулись школьники. Увидев оборванца, они окружили его, хохоча, строили рожи, делали неприличные жесты. Пришлый, казалось, не замечал сорванцов. Ранние покупательницы, с почтительным страхом поглядывая на бродягу, пристыдили и разогнали расшалившихся детей.
В половине девятого, переваливаясь с боку на бок, на улице показалась продавщица. Она важно поздоровалась со всеми, гремя ключами, сняла замки. Женщины пропустили оборванца вперед. Тот долго разглядывал простенький товар, смакуя запах свежего хлеба и еще чего-то сладостного, людского. Он мог простоять так и час, и два. Надевая халат, с другой стороны прилавка к нему подошла продавщица.
— Чего хочешь, дорогой? — спросила по-казахски.
— Пряники! — просипел оборванец.
Продавщица, серьезно выслушав его, насыпала в бумажный пакет мягких мятных пряников, добавила от себя бутылку лимонада.
— Ешь на здоровье, дорогой! Храни тебя аллах!
Оборванец сунул бутылку в карман, пакет за пазуху, вытащил несколько измятых фантиков, послюнявил палец:
— Бр теньге, еке, уш…
— Хватит! — с серьезным видом приняла цветные бумажки продавщица и добавила по-русски: — Три тенге хватит!
Стоявшие за спиной пришлого покупательницы одобрительно закивали.
Он вышел на улицу, прямо возле крыльца опустился на корточки и стал не спеша жевать. В это время проезжал мимо капитан милиции из райцентра.
Он был не в духе.
Сидевший за рулем «уазика» сержант резко затормозил. Развернувшись, машина подняла возле магазина облако пыли. Капитан распахнул дверцу, пристально уставился на оборванца: начальственно прищурил один глаз, другим пронзительно буравил бича — тот не двинулся с места.
Капитан опустил на землю ногу и поправил складку на голенище сапога.
— Эй, ты, иди сюда! — сказал строго.
В это время с сумкой в руке на крыльцо вышла пожилая полная женщина, мать троих уважаемых в селе и в районе людей.
— Ну что ты пристал к человеку? — спросила сердито.
— Непорядок! — важно ответил капитан и хотел уже выйти из машины.
Этот его законный интерес к проходимцу вдруг вызвал вспышку гнева у женщины:
— Езжай в свой район — там порядок наводи, здесь мы как-нибудь сами разберемся.
Не снисходя до склоки, капитан шагнул было к оборванцу, еще выше задрав бровь:
— Проверять чужих — моя обязанность!
Женщина вдруг разъярилась, как курица цыплят, закрыла собой оборванца. На крыльцо вышли другие и так же, странным образом, накинулись на милиционера.
— Сами давно проверили документ, какой надо…
— Как уехал сопляком в город, так и живи там… Отца с матерью одних оставил… С зятем живут. Совсем стыд потерял…
Так и не поняв, в чем дело, капитан плюнул, с каменным лицом сел в «уазик», бросил сержанту:
— Рули к участковому, разберемся.
Женщина, та, что встряла в спор первой, подхватила оборванца под руку.
— Пойдем ко мне, дорогой, чай попьешь, отдохнешь.
«Уазик» просигналил возле окон участкового. Накинув на плечи китель с лейтенантскими погонами, к машине вышел сельский милиционер, недавно принявший должность. Выслушав вопрос начальства, он как-то странно смутился, стал переминаться с ноги на ногу, почесываться, объясняя, что всему виной старики, — народ темный, суеверный. Говорят, у Еркебая детей не было, а этот русский зашел в дом, чая попил и говорит: «Хорошо у тебя, только сильно тихо, надо бы двух детей». И ровно через девять месяцев, как по заказу, жена родила двойню, и оба — сыновья… Серик-тракторист черствую булку хлеба хотел скотине отдать, а подал через забор этому; через месяц выиграл стиральную машину-автомат.
— Документы проверял, как же… Больной человек, безвредный.
— Ерунда! — строго сказал капитан. — Привези его ко мне — проверим…
Шляются тут всякие, потом скотина пропадает, жалуются люди…
«Уазик» рванул с места и запылил по главной улице в сторону райцентра.
Участковый долго смотрел ему вслед. Угодливая улыбочка на его лице превратилась в насмешливую, а заискивающий взгляд стал насторожен:
— Держи карман шире, шеф, — пробормотал он и сплюнул на землю. — Прошлый год прежний участковый уже проверил у этого документы, недели не прошло — два барана сдохли…
— Старые люди знают, что говорят!
1990 г.

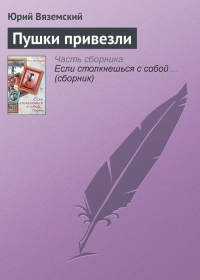

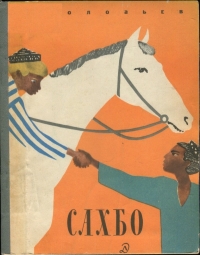






Комментарии к книге «Чертов узел», Олег Васильевич Слободчиков
Всего 0 комментариев