Олег Слободчиков ПОД НАМИ БЕЗДНА Почти нефантастическая повесть Печатается в сокращенном виде
1
Зима на Байкале прошла без обычных морозов. Прибрежные жители ждали холодного, ненастного лета, запасаясь полиэтиленом для теплиц и грядок, утепляя парники. Хмурая, затяжная весна оправдывала самые безнадежные прогнозы.
В конце апреля потеплело. Кое-где на солнцепеках бойко зазеленела молодая глупая трава. В одночасье ожили таежные клещи, деловито занимая места на кустарниках близ людских и звериных троп. И вот на неделю позже обычного срока ледовый покров с треском и грохотом разорвался в полукилометре от берега.
Пятидесятилетний лесоинспектор Федор Москвитин зимовал трудно, как старик целыми днями валялся на узком топчане, даже в лес не ходил. Зимой, после тяжелой болезни, умерла его жена, с которой прожили двадцать пять лет и три с половиной месяца.
Услышав гул трескающегося льда, он накинул на плечи штормовку, и вышел на берег. Вдыхая запахи оттепели, осторожно спустился по крутому, покрытому сухой травой склону в песчаную бухту, укрытую со всех сторон скалами. Намытый прошлогодней волной бархан подпирал ноздреватый лед с вытаявшими застругами.
— Все кончено! — пробормотал лесник, опускаясь на холодный песок и глядя вдаль на расширяющуюся полынью. Он удивился этой случайной, как оттаявшая муха, мысли, то ли о зиме, то ли о жизни. Вспомнил навязчивый мотивчик песни, часто звучавшей на «Маяке». Расхожая фраза была оттуда.
В синем небе, над черной студеной водой с радостными криками уже носились невесть откуда появившиеся чайки. На берегу, у старых потрепанных гнезд, суетливо носились вороны, громко возмущаясь прилету чаек, почти с человеческими интонациями выговаривая, что мест и кормов даже им, тутошним и коренным, мало.
Рвущимися струнами пел колющийся лед. Прибрежные скалы подхватывали эти нетаежные звуки многоголосым эхо. Весна брала свое — непутевая, туманная, снежная, все равно весна. И почудился Федору в этих звуках вздох жены, навсегда оставшейся в холодах пережитой зимы: «Ах, Федя! Федя!»
Он вернулся в дом, окинул свежим взглядом ветшающее жилье. Из тоски и безысходности начинала оформляться какая-то обнадеживающая мысль. «Все кончено!» — пробормотал, улыбаясь, и взял трубку телефона. Батарея в аппарате безнадежно села. Сколько лесник ни давил кнопку вызова — линия молчала, сипя и потрескивая.
Он раздраженно бросил трубку на аппарат и стал собираться: что стоит сбегать за пять километров к старшему лесоинспектору! Федор накинул на плечо лямку пустого рюкзака, надел старинную, с лопухом в кокарде, фуражку и взглянул на себя в запыленное зеркало: чуть не до плеч отросшие волосы прихватила проседь, длинная борода и вовсе будто снегом припорошена. «Сдал, Москва!» — усмехнулся Федор. Если бы не был одет, наверное, остался бы дома.
Из каждой пересекаемой пади дул ветер. Федор хватался рукой за фуражку; прикрываясь плечом, сутулясь, шагал по шпалам вдоль ледового берега. Резкие порывы то останавливали его, пузырем надувая камуфлированную штормовку, то хлестали по глазам непомерно отросшей бородой, трепали, как флагом, длинными волосами.
Едва он сошел с насыпи напротив кордона, с крыльца, сутулясь и неловко переставляя костыли, спустился Игорь Блуднов. Кобура со служебным пистолетом болталась за спиной на уровне поясницы и при каждом шаге по-свойски похлопывала инспектора под зад. Небритое лицо было посечено глубокими морщинами. Будто ударом топора вырубленный рот был сжат в нитку, из-под низкого лба гостя буравил пристальный, настороженный взгляд фронтовика, привыкшего к постоянной опасности.
— Москва? — растянулся безгубый рот, щеки чуть вздулись. — Что приперся? Горишь что ли? — так приветствовал Федора последний и единственный друг, бывший однокурсник. Ни тон, ни слова его ничуть не смутили Федора. Хмуро кивнув, он сказал:
— Слава Богу, вдоль берега гарью не пахнет, — и добавил, приветствуя: — Здорово живешь, урод?
— Да вроде живой, — ответил тот. — Ну а здоровье, отекль ему быть… Сам знашь, кака наша жисть!
Ветер из пади задирал к Байкалу бороду Федора, трепал волосы, висевшие из-под надвинутой до бровей фуражки. Игорь щурил глаз с наветренной стороны, морщил щеку с недельной седоватой щетиной. Они несколько секунд пристально вглядывались друг в друга, словно выискивали в лицах знаки измены и предательства. Блуднов мотнул головой, качнулся на костылях:
— В доме поговорим или на берег пойдем?
— На причал! Там ветер тише, — Федор кивнул в сторону ледовой линзы до самого горизонта и добавил: — А у меня уже полынью пробило. Скоро и у тебя разнесет.
— Когда-то все равно вскроется, — подобрев, вздохнул Игорь. — И понесет к нам нелегкая всякую мразь… Бичей, туристов не видел?
— Не видел, пока… — тихо ответил Федор и спросил потеплевшим голосом: — Как дела? Семья как?
— Да, слава Богу, — отмахнулся Блуднов, — все живы-здоровы. Старший письмо прислал с намеком: дескать, еще с полгодика в заповеднике пооколачиваюсь, потом, может быть, домой вернусь. Второй — на учебе, остальные — на огородах. Только я, калека, на крыльце сижу, на прохожих гляжу… Скоро заполыхает тайга. И будешь на этот раз пластаться на пожарах ты один. Из меня какой работник? Кроме как руководить — ни на что не годен.
— Тоже нужное дело! — прервал его Федор, уловив в голосе друга брюзжание.
Лесники спустились на причал, выстланный почерневшими обрезными досками, сели на старую отшлифованную штанами лавчонку. Даже здесь, под носом у грозного лесоинспектора, она была испоганена резными знаками и туристскими письменами.
Спохватившись, что дал слабину и товарищ ее заметил, Блуднов прежним, грубоватым тоном спросил:
— Ну а у тебя как?
— Ничего… — вяло пожал плечами Федор.
— Что дочь пишет? Все так же с негром трахается?
— Он не негр. Я тебе говорил. Ее муж полунемец-полунорвежец, с голубыми глазами, — хрипло пророкотал Федор, начиная заводиться.
— Да ты ведь сам говорил про негра-американца!
— Я говорил, — сдерживая подступавшее бешенство, процедил сквозь зубы Федор, — что сестра мужа моей дочери замужем за негром и семейка ее с негритятами живет у тещи… Блуда! — скрипнул Федор зубами. — Ты знаешь, я человек интеллигентный, но если ты еще раз вякнешь про мою дочь — я тебе так врежу по лбу костылем… Перхоть из штанов посыплется.
— Это уже лучше! Узнаю Федьку Москву, — ничуть не смутившись, растянул губы Игорь, щеки на скулах самодовольно вздулись, будто за них заложили по теннисному шарику. — Глаза у тебя — замороженные, морда кислая. Бедный, несчастный Пьеро. Мы все любили твою Мальвину. Что с того? Остаются Байкал, служба и клятва Верных.
— Об этом мог бы не напоминать! — проворчал Федор, успокаиваясь усилием воли. Игорь имел право говорить так. Три года назад у него на глазах сгорел малолетний сын. Мальчишка, баловавшийся на сеновале, схватился за оголенные провода под напряжением и замкнул их. Сухое сено вспыхнуло как порох. Еще видно было, как корчится тело ребенка, а к сеновалу подойти уже никто не мог.
— Я ведь в город на днях ездил, пока ты, интеллигент, отлеживался возле печки! — приступил к деловому разговору лесоинспектор. — Просил начальство, чтобы договорилось с ментами и в пожароопасное время бичей в поезд не пускали бы. Всего-то дел — пару омоновцев в сопровождение: и сотни кварталов тайги будут целы, и денег на тушение тратить не надо. Соглашаются, что это верное средство. Но валят все на ментов, у которых, дескать, другое ведомство и другие правила. Как всегда, на свою бедность жалуются. Только я знаю, что лесные пожары выгодны всем, кроме нас с тобой. Такие деньги бесконтрольно расходуются… Надеяться нам не на кого… — Блуднов настороженно помолчал, затем обернулся к Федору, по-волчьи, всем туловищем, и добавил: — Начнешь орать — пойму и не обижусь: но двух бичей, которых мы приняли на работу осенью, я уволил, не советуясь с тобой. Толку от них нет. Еще и браконьерят. Если сторож ворует — это не воровство, а предательство… За такое расстреливать надо.
— Черт с ними — пусть живут! — одобрил его самоуправство Федор. — Время такое: пытает нас Господь соблазнами! Из народа дерьмо косяком прет!
— Не тот молодняк пошел! — вздохнул Блуднов.
— Молодняк — он всегда молодняк, — возразил Федор. — Это мы стареем.
— Не скажи! Ведь мы когда-то семеро разом сошлись. А тут годами замену себе не можем подыскать. Мы ради дела ни о зарплате, ни о карьере не думали. Теперь вымираем, как мамонты!
Хуже! Из троих живых — один предатель.
— Из четверых, — поправил Федор, — Кельсия никто мертвым не видел.
Блуднов раздраженно засопел. Потом стукнул костылями по доскам настила и вдруг раскричался:
— А я говорю, Кеша погиб, и погиб достойно. Я это знаю. Такие как он изменниками не бывают…
— Что орешь-то? — оборвал его Федор. — У меня и мысли не было про измену. Мало ли что может случиться в наше время.
— Это я так, — смущенно притих Блуднов. — Про Упыря все думаю. Был в городе, узнал, что он опять возле Управления крутится. Фирму организовал. Прав был Тунгус: безнаказанность — большое искушение. И искушение идет от нас с тобой, значит, наш грех. Страшный грех, Федька, — Игорь бросил на друга испытующий взгляд. — С меня что взять — калека. А ты теперь свободен как ветер.
С тебя и спросится… Поднимется трава, начнутся дожди, соберем все, что можем, бери мою мелкашку и езжай… Убей его! Это наш долг, не только перед ним, — кивнул на Байкал, — перед памятью всех погибших и твоей жены тоже. Она была настоящей… — Блуднов помолчал, подыскивая сравнение, пошлепал безгубым ртом: — Царевной среди разбойников.
Федор опустил глаза к настилу и ничего не ответил. Жена его действительно была светлой царевной. Почему-то все считали, что досталась она ему не по чину, но его это не обижало. У них были другие проблемы. Все так, но зачем же ее поминать вместе с Упырем? Между ними ничего общего не было.
Федор молчал. Он вообще был молчуном и хорошо знал о манере Блуднова вызнавать не выспрашиванием, а собственной болтовней.
— Опана! Смотри! — указал он костылем вдаль.
На белой равнине в полукилометре от берега разорвало лед. Трещина быстро увеличивалась. Уже видна была рябь на черной оживающей воде.
— Не часто удается увидеть это… Ну вот, новые времена — новые заботы! Скоро припрутся туристы, — забрюзжал Блуднов. — Меня уже осчастливили две недели назад. Романтики слюнявые.
Еще снег по низинам. Смотрю — дымок. Заполз на гору, глядь в бинокль: сидят у огонька, с березок бересту пообдирали, пьют, курят, девок тискают — все, как у них принято. — Безгубый рот лесоинспектора скривился в презрительной усмешке, азартно застучал по доскам настила костыль. — А один, мордастенький такой, все поплевывает. Ну, прямо, шага не может ступить, чтобы не плюнуть на землю. Другой, шнурок, все курит и курит, а окурки раскидывает по сторонам. Да ловко так.
Метров на пять отлетают незатушенные. Этот, куряка, потом и оторвался от коллектива. Гляжу — пилит вдоль берега, в одной руке бутылка пива, в другой сигарета — ну, первооткрыватель-первопроходец, интервент долбаный. Дососал, падла, свой пузырь и в Байкал его, на лед. Досмолил бычок — в сухую траву. Новую пачку достает. Только было плюнуть собрался, петух, уже шею вытянул… Тут я его и заткнул… Через оптический… Похватали они свои заплечные помойки и бегом на станцию.
Прошлый раз ездил в район, в милицию заходил. Пожурили нас с тобой, что плохо с браконьерами боремся: шальная пуля одному юному алкоголику половину зубов вынесла. Теперь он через ноздрю курит, через другую — плюется.
Блуднов скорчил скоморошью рожу, на коричневом от солнца лице холодом блеснули стылые ледышки глаз и вдруг уставились в упор. Федор этому ничуть не удивился. Такая привычка была у Игоря со студенческих лет: наследие детдомовского воспитания. С возрастом некоторые из его манер не только не пообтесались, но и развились.
«Все кончено! — подумал Федор. — Но игра продолжается… По инерции». Он усмехнулся, проигнорировав испытующий взгляд, и отмолчался.
Да! — вздохнул Игорь. — Скоро тридцать лет как воюем, а погани столько же: на скалах пишут, бутылки бросают и бьют, лес жгут…
— Может, зря воевали? — вкрадчиво проговорился Федор и, как показалось, таким тоном, с такими жалостливыми глазами, будто попросил: «Отпусти ты меня!»
Может быть, Блуднов ничего не понял. Или сделал вид. Глаза его были устремлены вдаль, на небритых скулах вздувались и слабли желваки:
— Что, тяжко? — спросил, не оборачиваясь.
— Бывает! — ответил Федор ровным голосом. — Все тут о ней напоминает… И Он тоже, — кивнул на море. — Она Его так любила… За что Он нас так, Блуда?
— И ты туда же — со своими обидами… За свою правду, — миролюбиво проворчал Блуднов. Когда сынишка на моих глазах горел, я тоже думал, за что? После на исповеди батюшка объяснил.
Гордыня! Возомнили, будто лучше Бога знаем, что грех, что подвиг. Терпи уж! Поищи бабенку поласковей. Говорят, помогает.
— А я что, не терплю? — обиженно огрызнулся Федор.
— Ты попискиваешь! Я тоже, когда в «крытке» сидел, о чем не передумал! Но я знал, что прав, и там был курорт. Следователи с какого только боку не подъезжали: и на страх, и на ужас, и на совесть давили. Вот им! — Блуднов выставил дулю в сторону города. Ничего не доказали, освободили под чистую, еще и извинились, хотя не сомневались, что я тех жирненьких «гусиков» в бане зажарил.
Больше просто некому было.
Дело было давнее. Случилось это в первые годы перестройки, когда их было еще четверо. Правда, один уже беспробудно пьянствовал. К Блуднову на кордон, расположенный в живописном месте, приехали пятеро. Пухленький очкарик — предприниматель, трое нерусских охранников и еще один, русский, нормальный мужик, какими-то грехами запутавшийся в этой компании. Очкарик с брезгливой улыбочкой выложил бумаги и заявил, что лесной кордон, где жил Блуднов, им приватизирован. Предложил к утру собраться и освободить жилье. Охранники клацали оружием и рычали на домашних. Блуднов не спорил: дал знать своим и ждал подхода лесников. Они все тогда были готовы к бою. Но подвыпивший предприниматель захотел посетить баню. Новые хозяева натопили ее, стали париться все пятеро разом, и все в ней сгорели. Когда подошли лесники — баня дотлевала.
Блуднов помолчал, гоняя по щекам желваки и щурясь от давней притупившейся боли, добавил:
— После, когда выяснилось, что русский был у них заложником, совесть не мучила: как-то же он с ними спутался. Но как оказалось, это только я так думал. У Него, — Блуднов кивнул в сторону расширяющейся полыньи, — было другое мнение. И Он выставил мне счет. Так-то вот! Сам знаешь, сынишке всего три годика было. После этого все посыпалось: и сердце, и почки, и радикулит. Но есть еще пять ртов, которых поднимать надо. И еще есть Он. Кто его защитит, если не мы? — Блуднов замотал головой, захрипел, закашлял.
— А ты уверен, что Ему это нужно? — вкрадчиво спросил Федор.
— Уверен! Было знамение, — Блуднов поднялся, застучал костылями, закричал вдруг: — Короче, нефиг Его винить, твоя жена — на твоей совести: нищету боялся плодить, аборты позволял делать.
Жизни легкой хотел? Да если бы вы все настрогали как я, по пятерке, какие проблемы? Все побережье было бы нашим…
Федор тоже вскочил. Глянув ему в лицо, Блуднов как-то жалко улыбнулся, съежился и притих:
— Извини, старик. И правда, у меня последнее время крыша простреливает. Забирай свой служебный, — похлопал по кобуре, — и вали к скалам. Пьянь туда не добирается — студентики да романтики. Они покультурней, поосторожней, но чем черт не шутит… Сходи! В тайге полегчает. Эх, мне бы в лес… — он безнадежно тряхнул головой и, опираясь на костыли, побрел к дому.
Федору от этой встречи легче не стало. Разве вместо уныния появилась злость. Ничего полезного он не узнал, от сомнений не избавился, а вот лишнего наболтал. Это как всегда.
Федор натянул фуражку поглубже и хмыкнул под нос: «Ну, прямо… Разбежался, хватаю мелкашку, бегу стрелять Упыря…» Оглянулся на кордон старшего лесоинспектора и зашагал в обратную сторону. Ветер утихал. Возвращаться было легче.
Где-то неподалеку от этих мест, в полутора километрах от кордона, двадцать семь лет назад Федор с Игорем выбрали судьбу и навсегда связали себя с Байкалом. Федор внимательно поглядывал на кромку берега. Помнил, что там была скрытая от глаз ложбинка и крутой спуск к воде. Трудно теперь найти это место: деревья повырастали, кустарник сменился, берег и тот стал другим — где осыпался, где выветрился.
В памяти Федор много раз возвращался к тому дню, оправдываясь за всю дальнейшую жизнь. Ни так ни эдак не мог представить другой ее вариант, о котором часто говорила дочь, туманно упрекая, намекая на какие-то упущенные возможности и незавидную судьбу матери. Много чего было в том выборе: и расчет, и мальчишество, была глупая романтика, но было и то, что невозможно объяснить.
Федор прибыл в эти места на преддипломную практику. Здесь встретился с Кельсием, закончившим охотфак двумя курсами старше. Им когда-то восхищался весь институт: поэт, певец, выступавший со своими песнями по радио и телевидению, отличник, умница, остроумный собеседник, которого все любили и которому многие подражали. Со времен абитуры Кельсий был для Федора идеалом студенчества.
И вот, как оказалось, этот незаурядный парень, защитив диплом, обосновался здесь, работая даже не охотоведом, а простым лесником. Правда, он и тут умудрялся жить с царственным великолепием: несложные должностные обязанности исполнял с аристократическим изяществом, при этом много читал, занимался спортом, писал, что-то изобретал и строил парусник.
У него были образованные, влиятельные родители. Но он не желал делать карьеру, потому что не хотел покидать свой избранный участок побережья. Место определяло высшую точку его карьеры — со временем он мог выбиться либо в старшие лесники, либо в участковые охотоведы. И все! Он сделал свой выбор первым.
Одним летом собрались здесь, на полусотне километрах побережья, семеро молодых людей: студентов, дипломников, выпускников охотфака и даже москвич-аспирант. Однажды судьба свела всех на этом самом месте. Горел костер. Плескалась у ног настороженная волна. Шел душевный разговор. Кельсий пел новые песни, говорил о Байкале, который пытался постичь глубже примитивных физических законов, царивших в те годы в науке. Тогда же, опустив руку в воду, он скромно сказал о своем открытии: что Байкал — это не просто самое большое в мире хранилище питьевой воды, это субстанция и конденсация разума многих цивилизаций. И еще он сказал о том, что решил посвятить свою жизнь служению Ему. «Я с тобой!» — протянул ему руку Тунгус.
Сын русского промысловика-охотника и эвенкийки, Тунгус вырос в тайге, лучше всех учился в школе. Для него не поступить в высшее учебное заведение было равносильно плевку в восхищавшихся его способностями учителей. Он и поступил на охотфак, перетерпел учебу в городе, службу в армии и теперь хотел только одного — жить в тайге. Города он боялся и уже в студенческие годы чувствовал склонность к запоям; по каким-то ему одному известным причинам он хотел держаться подальше от родственников.
Потом Кельсию протянул руку Граф. Его фамилия была Орлов, а прозвище он получил еще на первом курсе. Граф тоже был из деревни, дородный и добродушный силач. Хорошо учился в школе.
Поступил в институт из личного тщеславия, как говорил об этом сам. Для той среды, в которой он вырос, и для его простой крестьянской семьи сам факт поступления в высшее заведение был подвигом, а окончание его — головокружительной карьерой, сделанной без особых усилий.
Вернуться домой с дипломом и работать трактористом Граф не мог, учиться дальше не хотел, в преподавателях себя не мыслил. Все, что представлялось ему возможным достичь в жизни, он уже достиг. Перспектива независимо жить на кордоне, иметь крепкое хозяйство, жену с полудюжиной здоровых ребятишек казалась ему самой заманчивой.
Федор отлично помнил, что третьим примкнул к Кельсию его однокурсник Блуднов. Он был детдомовец и — как потом признался — всегда панически боялся одиночества, как высшей формы беззащитности и слабости. Это он предложил, создав «кодлу», захлопнуть за собой дверь: поклясться в верности друг другу, а изменников жестоко наказывать! И тут же начал вспоминать многочисленные истории о предательстве и доносительстве близких ему людей.
Федор помнил, как похолодело у него в груди от восторженной жути, помнил, как заерзал на месте дипломник Упарников, начал азартно ставить условия и торговаться. Ему некуда было деться. Он женился на третьем курсе, у него был ребенок, растущий в общежитии, из которого вскоре семью должны были выселить. Измотанный нищетой и бездомьем, наверное, он видел выход в том, что у него будет дом, поддержка друзей, Кельсия, у которого родители с большими связями.
— И чтобы держаться друг за друга, помогать друг другу всеми силами! Мы должны быть как братья, даже верней! — захлебываясь, выкрикивал Упарников. — А чтобы не было измены, предателю и отступнику — темную!
— Нет, — спокойно сказал Тунгус, знавший законы тайги лучше всех, носивший их в своей крови: — Изменнику — смерть!
Все притихли на миг покоробленные корявым и нелепым словом, каким оно кажется в молодости, когда только начинаешь сознавать всю серьезность выбора.
— Кругом ложь, предательство, продажность и лицемерие, — задумчиво глядя на пламя костра, сказал Кельсий. — Байкал терзают, его пытаются превратить в помойку. Я не хочу стать такой же мразью, как они там, — кивнул в сторону города. — Согласен! Чтобы не было соблазна — убейте меня, если отступлюсь от клятвы! Орден Верных — вот наше имя!
— Кому верных? — чуть заикаясь, спросил Упарников, уже протягивая руку.
— Ему! — зачерпнув ладонью воду, сказал Кельсий.
Все взгляды обратились к Федору, и он, пожав плечами, молча протянул свою ладонь.
— Русский мужик за компанию удавится! — хмыкнул Блуда.
Никто не знал, что Федька был мечтателем, что с ранних лет зачитывался Александром Грином.
Вся короткая жизнь в тот миг промелькнула перед его глазами. Родители, мотавшиеся по стройкам и нигде не задерживавшиеся подолгу. Таежные рабочие поселки с дружным братством соседей, с вечерними прогулками при ноже за голенищем. Все получали немалые деньги, а жили примитивно и пошло. Вонь перегоревшей солярки, грохот, безжалостно истерзанная тайга за чертой поселков: часто без всякой надобности, просто для куража…
Не любил Федька ни своей семьи, ни своего окружения из людей, оторвавшихся от степенного крестьянского быта и не ставших тем, кем показывали их в кинофильмах: честным, гордым, культурным народом. С пятого по восьмой класс он страстно мечтал стать охотником и жить в тайге.
Из-за этой мечты чуть не бросил школу. Но однажды увидел настоящего промысловика, униженно просившегося со своими мешками в вахтовку. Запомнилась его улыбочка — человека второго сорта, хоть и себе на уме. Запомнились высокомерные, чванливые насмешки работяг, которые могли ему помочь, а могли и не помочь.
С тех пор быть простым охотником Федьке почему-то расхотелось, а жить в тайге, в горах или возле моря — нет. И оттого мечталось ему о всякой несуразице даже в институте, куда поступил не столько для того, чтобы получить профессию, сколько наслышавшись о потрясающей романтике студенческой жизни будущих охотоведов.
Родины как населенного пункта, с которым бы он себя всегда связывал, у Федора не было. Была смутная память о рабочем поселке на Ангаре, где он прожил почти до семи лет. И только здесь, на Байкале, понял, что, мотаясь по стране, родителями, всю жизнь подсознательно искал то единственное место на земле, которого был лишен в раннем детстве.
Чуть испорченные возрастным скепсисом, снова увлекли его мечтания о небольшом дворце, прилепившемся к скалам над самым морем. Рояль в зале с большими окнами, прислоненный к стене карабин, любимая женщина в бальном платье — конечно, ослепительная красавица. Белая яхта под окнами и много, как здесь, на Байкале, солнца и света. И еще, хотелось иметь друзей, таких как Кельсий и Аспирант — умных, воспитанных, порядочных, каких Федор мало встречал в своей жизни.
Рядом с ними баламут Блуда с увальнем Графом не сыпали через слово матерщиной, и Тунгус, робея, признавался, что пописывает стихи.
Федор хотел ответить охотоведам возвышенно и высокопарно, что он всегда мечтал жить в таком месте с такими людьми. Хотелось сказать, что за таких друзей он готов идти в огонь и воду. Но, посопев, он пожал плечами и буркнул:
— Что я рыжий, чтобы отказываться!
— Москва — мужик себе на уме, я его давно знаю, — скаредно съехидничал Блуднов. — Сдать не сдаст, но за нашей спиной ученую степень сделает.
Федор хотел привычно огрызнуться задиристому однокурснику, но все обернулись к сидевшему в стороне Аспиранту. Даже здесь, возле костра, он был в белой рубашке с галстуком под модным пуловером. На нем изящно сидели нездешнего шика потертые брюки, которые еще не дошли до Иркутска и не были по достоинству оценены его жителями.
Аспирант был вальяжен и насмешлив. Не без столичного снобизма он выдерживал паузу, пока ктото не пошутил:
— Его утопить надо, как опасного свидетеля!
— Ну зачем же? — невозмутимо возразил москвич. — Сезон не купальный. Я вступаю в вашу кодлу, как вы изволили ее назвать, на оговоренных уже условиях.
У костра недоверчиво притихли.
— Ты что, испугался? — спросил Блуда.
— Нет, я не испугался! Мне очень хочется посмотреть, как ваша кодла развалится через годдругой. Мне интересно, кто первый сбежит и что вы предпримите. Могу заверить, что я первым не буду. Я подожду!
— А как же аспирантура? — спросил Кельсий. Он тоже был удивлен.
— Я ее уже бросил! — невозмутимо ответил Аспирант. — Увидел эти прекрасные места и понял, что именно здесь, и только здесь, я напишу свои книги… И подарю каждому с дарственной надписью.
Для этого мне нужно года три-четыре.
— Ну дает, спирантик!..
Федор остановился, рассматривая заледеневший берег. Все помнил. Не мог только вспомнить, кто сказал «ну дает».
Кто мог знать тогда, что из всего этого выйдет через четверть века. Мог ли предполагать Аспирант, что проживет на Байкале больше десяти лет, так и не дождавшись измены. О таких деталях, что Граф станет Графином, Аспирант — Аспирином, что к нему, к Федьке Москве, может быть, только благодаря жене — ее щедрости и гостеприимству, не пристанет, годами льнувшая кличка Мышь, об этом они знать не могли.
Память снова вернула его в теплое лето двадцатисемилетней давности.
Потом они наивно клялись и пили водку, ощущая себя людьми, за которыми сила. И если дотошно вспомнить ту чушь, что несли они у костра короткой летней ночью, то от очевидного совпадения бездумных фраз, ставших пророческими, и дальнейших судеб — лезла в голову всякая чертовщина.
Федор отчетливо помнил, как подвыпивший Блуда, словно о потрясшем его прозрении, выкрикивал:
— Ведь кто-то из нас будет последним — и никуда от этого не деться!
Вроде бы глупость говорил, да еще с амбицией, но все отнеслись к его словам серьезно.
— Последнему хуже всех! — заявил Тунгус. — Это как в кабаке: пили все, а карманы выворачивают тому, кто остался за столом.
— И что делать последнему? — напористо, будто именно ему, Блуде, это предопределено, вскрикивал он.
— Заплатить за всех! — посмеялся кто-то.
— Создать новый орден Верных!
— Война план покажет! Главное — начать!
— Путь к цели — все! Достижение — ничто! — провозгласил Аспирант.
Все ждали, что скажет Кельсий. Он долго молчал, пощипывая струны гитары, а когда понял, что должен что-то сказать, — отложил ее, гулко и жалобно загудевшую, на обкатанные волной камни, пожал плечами:
— Такие дальние планы строит тот, кто желает выслужиться. Я хочу честно служить!
У костра приглушенно рассмеялись, и Блуда, свесив голову, о чем-то задумался.
Словно старая, пожелтевшая фотография, встала перед глазами Федора картина: гитара на камнях, свесивший голову Блуда, Аспирант, ежащийся от утренней стужи, Кельсий, с непринужденностью зверя лежащий на боку, и гаснущие звезды над ними. Федор простоял несколько минут на том самом предполагаемом месте. Расширялась черная полынья вдали. Над ней с криками носились чайки, а ветер стихал.
Они были счастливы тогда. Федор с молодой женой, оставившей ради него дружную семью, поселился на таежном кордоне в восьми километрах к западу от Кельсия. Это была небольшая полузаброшенная деревушка с пятью пожилыми семьями, вырастившими и отправившими в город детей. Летом сюда съезжались их внуки. Становилось шумно и многолюдно.
Старики по привычке держали хозяйство. Они часто, но не безобразно, пили и много работали: таков был «шарм» времени. В пяти километрах от Федора, на уединенном кордоне поселился Игорь Блуднов. Вскоре он тоже привез молодую жену и по-мужицки стал обзаводиться крепким хозяйством.
За ним, в трех километрах, жили холостые еще Граф и Тунгус. Самым крайним на границе лесничества осел женатый со студенческих лет Упырь. К востоку от Кельсия, в большой, по местным понятиям, деревне из десятка дворов, обустроился Аспирант.
Жили и работали они играючи, по первому зову приходя на помощь друг другу. Устраивали свадьбы, растили детей. Поначалу ни у кого не было ни страха, ни изнуряющей нужды. Просто комуто везло больше, кому-то меньше: по большей части это касалось жен.
Каждое воскресенье, а иногда и среди недели Верные собирались на каком-нибудь кордоне, ставили в угол ружья и помогали товарищу устроиться: ремонтировали жилье, поднимали огороды, строили. После работ дружно садились за стол без скатерти, ели, пили, пели, плясали, обсуждали дела и планировали дальнейшие работы.
Юная жена Федьки Москвы — Москвичиха — с радостью принимала участие в этих застольях и вносила в них элемент скромной изысканности. При ней все становились вежливы. У нее, потомственной горожанки, открылась страсть к сбору грибов, рыбалке и огородничеству.
Граф на своем участке, споря с Тунгусом, пытался приручить медведицу и несколько раз подходил к ней на опасное расстояние, уверяя всех, что слухи про медвежью агрессивность — трусливые домыслы.
Словно в назидание и для урока всем Верным, Тунгус погиб первым. Его собака вернулась из тайги и стала «звать» за собой Графа. Тот выждал сутки, но обзвонил друзей. На вторые сутки собака привела Графа и Упыря к северной границе лесничества. Здесь, в долине ручья, они нашли останки товарища, задранного и уже поеденного медведем. Самый опытный таежник обходил участок с собакой, с карабином и с пистолетом на поясе. Ни оружие, ни опыт, ни собака ему не помогли.
Тунгуса похоронили как героя. Он ушел чистым, порядочным, никому не успев навредить и сделать зла. Граф перестал шутить с таежным зверьем, все разом поумнели, стали осторожней, дорого заплатив за свой опыт.
Но это была только парадная часть их жизни — вывеска. Как у всякого не вполне законного дела существует теневая, черная сторона, была она и у Верных.
Как-то к Москвитиным приплыл на моторке Граф. Он был зол и возбужден, что редко бывало с этим добродушным парнем. В дом идти отказался: даже из лодки не вылез. Федор, поддернув голенища болотников, вошел в воду.
— Стемнеет, приплывешь к скале с двумя соснами. Прихвати с собой дубину.
— Что случилось-то? — присел Федор на борт лодки.
— Человек пятнадцать пьянствуют, лес рубят, поганят берег. Я к ним по-хорошему — они чуть ружье не отобрали. Что им сделаешь? Пьяные! Кричат «стреляй», рубахи на себе рвут.
— Может, милицию вызвать? — пожал плечами Федор.
— Вот-вот, участкового! — побагровел Граф, сверкая глазами. — А он спросит: «Вы-то там на что?» — Граф дернул шнур. Мотор чихнул, выпустив синее колечко дыма, но не завелся. — А если мы его об этом попросим, а он не приедет, — снова заговорил Граф, наматывая шнур на маховик, — потом, что бы ни случилось с этой пьянью, все на нас повесят… Отчего они такие наглые? У кого-то мохнатая рука есть. Короче, с Блудой и Упырем все решено! — Граф снова дернул шнур, мотор взревел. Федор оттолкнул нос лодки. Она круто развернулась и, быстро набирая скорость, помчалась на восток, в сторону кордонов Кельсия и Аспиранта.
Среди ночи шестеро лесников напали на лагерь отдыхающих, завалили палатки и били сонных дубьем. Следов не оставили. Утром самому же Графу пришлось вызывать мотовоз со «Скорой помощью» и грузить в него пострадавших. Двоих или даже троих в городе положили в реанимацию.
Кельсия несколько раз вызывали к следователю, но он сумел оправдаться. Из города вернулся задумчивый, на очередном сходе вздыхал печально, стихов не читал и несколько раз повторил, имея в виду ночное избиение хулиганов, что это не метод: надо быть умней и дипломатичней.
— Надо! — хмуро согласился Граф. — А как?
— Взять повышенные социалистические обязательства по читке лекций о культуре и нравственности, — шепелявя, съязвил Аспирант. Прошла неделя после побоища, а губы у него были опухшими. Той ночью то ли кто из отдыхавших лягнул его в лицо, то ли свои впотьмах задели.
Через год этот случай вспоминался как шалость. Теневая сторона жизни Верных становилась все резче и рельефней.
2
На солнечных склонах шуршал прошлогодний опавший лист, успевший подсохнуть после стаявшего снега. В тенистых падях, обреченно истекая капелью, еще лежал почерневший снег. Из распадков веяло сыростью и прохладой. Здесь Федор почувствовал облегчение, снова становясь тем, кем единственно уважал себя — человеком в лесу, — бесплотной мыслью, без возраста, без прошлого и будущего. Эта мысль двигалась в благоприятной среде без раздражителей, радуясь запахам, солнцу и весне.
Побаливала поясница, покалывала вена на левой ноге, ненавязчиво ныл локтевой сустав, поскрипывал шейный позвонок, гулко стучал дятел, скрипели иссушенные давним пожаром стволы сухостоя, хвойные верхушки елей качались на ветру. Здесь мысль по имени Федор ощущала благостный покой, сознавая себя частью этого светлого, древнего и вечного мира.
Федор присел на пенек, внимательно осмотрел одежду. По ветровым штанам уже ползли клещи.
Он неторопливо передавил их. Порывистый ветер дул с севера. Очередная струя воздуха донесла едкий запах зверя. Федор удивился, что какой-то дикарь подпустил его так близко, и положил двустволку на колени. Вскоре донеслись звуки потревоженного стада. Внизу, в полусотне шагов со стороны солнца, выскочила на открытое место свинья и стала обходить человека по кругу, направляясь к седловине, которая хорошо простреливалась с того места, где засел лесник. Видимо, стадо услышало его, но разглядеть не смогло.
«Дуреха», — насмешливо пробормотал Федор, осуждая выбежавшую под выстрел свинью. За ней чуть ли не строем неслось с десяток поросят. Тут были еще не отделившиеся от стада сеголетки и новый выводок с полосатыми боками. С повизгиваньем и похрюкиваньем поросята пронеслись у подножия сопки, выскочили следом за свиньей на седловину и скрылись. И только один сеголеток задержался в ложбине, задрав длинную узкую морду, которая, кажется, начиналась от самого хвоста.
Нескладный, как подросток, он подслеповато вглядывался в кустарник, за которым укрылся Федор.
— Вали отсюда! — вполголоса проговорил лесник и даже шевельнул стволом ружья. Сеголеток боязливо дернулся, отпрянув следом за убежавшим стадом, но снова замер и опять уставился на человека.
— Нехорошо отрываться от коллектива, — прошептал Федор и бесшумно поменял патрон в одном из стволов ружья.
Самая утонченная стрельба — когда ствол низит. Чтобы всадить дробинку в глупый поросячий хвостик или в холку, Федор целился в куст почти на метр выше и все равно боялся выбить сеголетку глаза. Когда после гулкого выстрела тот крутнулся на месте, лесник хмыкнул под нос: «Ювелир!» А вслед исчезнувшему за седловиной, поросенку проворчал, вынимая стреляную гильзу из патронника:
«Никогда не верь людям! Это такие твари…»
К вечеру Федор вышел к скалам и еще издали увидел яркую палатку. Он вынул из рюкзака бинокль, осмотрел окрестности. Никого рядом с лагерем не было. Лесник повесил бинокль на шею, принял важный вид человека при исполнении должностных обязанностей и направился прямиком к стоянке. Окликнув отдыхающих, он постоял у кострища. Никто не отозвался.
Судя по следам, здесь расположились две женщины или девицы — рослые, сильные кобылки, способные шляться по тайге без мужиков. Федор стыдливо приблизился к палатке, осторожно отодвинул покачивающийся на ветру полог. Вещи были разбросаны как попало. В одной куче лежали одежда и продукты. Но спальный мешок был один, впрочем, и рюкзак тоже.
Кострище туристки аккуратно обложили камнем. Зола в нем выстыла. Скорей всего на этом месте не разжигали костер даже утром. Это слегка озадачило Федора. Хотя, ничего странного не было: мало ли куда могли уйти отдыхающие налегке и даже заночевать вдали от лагеря. Консервные банки были обожжены и чернели среди углей. Бумаги, окурков, пачек из-под сигарет, полиэтиленовых мешков и бутылок — таежного проклятья последних лет — не было. Лесник почти любил этих крепеньких девиц в кроссовках сорокового и сорок первого размеров. Он готов был простить им мелкие шалости, если таковые обнаружатся. Странно, что при такой чистоплотности в палатке все свалено кучей. «Это их личное дело», — подумал Федор, слегка смущаясь, что заглянул в чужую жизнь. Все было в порядке, хотя поговорить и предупредить о мерах пожарной безопасности следовало.
Отойдя километра на полтора в сторону, к чистому родниковому ручью, возле которого на солнцепеке уже проклюнулись подснежники, Федор сгреб в кучу сухую траву и листья. Из них получилась мягкая и теплая постель. В сырой низине он вспорол ножом и вывернул дерн, обложил им полуметровый круг и развел маленький костер, только чтобы чай вскипятить да кашу сварить.
Поужинав, даже сидеть возле огня не стал, тщательно залил угольки, бросил на приготовленную лежанку спальный мешок, забрался в него, вдохнул давний, прогорклый запах пота и дыма, вытянулся и почти сразу уснул.
Проснулся он на рассвете. Свежий ветерок студил лицо и подергивал за бороду. Федор глубоко втянул носом холодный воздух с запахом весеннего, оживающего леса, мокрого кострища и талой земли. Потянулся и резко распахнул спальный мешок, подставляя теплое тело свежим струям утренней прохлады. Небо было чистым. Здесь, вдали от Байкала, это что-то значило: хотя бы до полудня можно было рассчитывать на погожий весенний денек.
Федор не спеша развел костер, заварил чай, приготовил плотный завтрак и, умывшись в студеном ручье, с бодрым настроением разлегся возле огонька для приема пищи. Походная жизнь приучила его очень сытно завтракать, наспех обедать и до отвала наедаться вечером, что пока не вредило его здоровью, вопреки давним предостережениям жены. Полежав у костерка с четверть часа, он поднялся и начал собираться, поглядывая на скалы.
Дымка над лагерем не было. Шел он, не прячась, не таясь, будучи уверен, что девчонки спят.
Почему-то ему казалось, что туристки молоды. Федор специально наступал на хрусткие сучки, кашлял и сопел, будто чувствовал близость наблюдавшего за ним зверя и выдавал свое присутствие.
Но предосторожности были напрасны: в палатке никого не было, а в лагере ничего не изменилось.
Чуть больше обвисла палатка. Недогоревшая обертка от дорогой шоколадной конфеты все так же сиротливо лежала на выстывшем кострище.
На этот раз пустующий лагерь очень не понравился лесоинспектору. «Куда же вы подевались?» — с недоумением пробормотал он и, сбросив рюкзак, с биноклем и ружьем полез на скалу, удобно сел на вершине и стал внимательно осматривать выветренные скалы бывшего здесь когда-то горного хребта.
Ничего примечательного… Впрочем… Он долго вглядывался, соображая, что бы это могло быть: если трещина в скале, то на редкость ровная и строго отвесная. Возле нее вертелась ворона: то садилась на скалу, с озабоченным вниманием поглядывая вниз, то слетала к земле. Трещина вдруг шевельнулась. Или показалось. В глазах стало рябить от напряжения. Лесник зажмурился, помотал головой, хотел было снова приложиться к биноклю, но стал спускаться. Подхватив рюкзак и поглядывая на ворону, направился в ту сторону.
Это была не трещина. На скале висела альпинистская веревка, почти у вершины продернутая через блестящий карабин, навешанный на скальный крюк. Один конец ее свободно болтался в воздухе, другой валялся на земле. Здесь же на ровной скальной плите лежал ярко-желтый кокон дорогого спального мешка. Федор перекрестился и расстегнул наглухо закрытый капюшон. Это была молодая красивая женщина, может быть, лет тридцати. Золотистые волосы, как лепестки подсолнуха, окаймляли бледное лицо с подкрашенными ресничками. На лице застыло удивление: «Да что вы?» — говорило оно. Брови были высоко подняты, лоб чуть сморщен, глаза закрыты. Из мешка пахнуло парфюмерией. К этому запаху благополучия и города уже примешивался чуть приметный дух тления.
Лесник застегнул молнию. Осмотрелся. Неподалеку, на другой скале, увидел три скальных крюка с навешанными карабинами. И узлы на веревке, и вбитые крючья — все было сделано грамотно. Но случилось что-то непредвиденное, и подружка, скорей всего, не смогла удержать эту рыженькую на веревке. «Надо искать подружку…» — пробормотал лесник.
В тени под скалой дотаивал почерневший сугроб. Федор разровнял на нем площадку каблуками сапог и прикладом ружья. Вернулся, обнял кокон с застывшим негнущимся телом и переложил на снег, в холодок, бормоча: «Здесь тебе будет лучше, девочка… Полежи пока». Он выстрелил, перепугав далеко отлетевшую ворону. Долго прислушивался после раскатистого грохота, не откликнется ли подружка. Не откликнулась.
Навязчиво вспомнились ясные до синевы глаза жены на последних днях жизни. Ее пристальный строгий взгляд с искрящимися бриллиантиками слезинок у переносицы. Однажды она что-то прошептала. Он, не расслышав, прильнул ухом к ее губам, попросил повторить. Она собралась силами и сказала: «Возьми меня на ручки!» Ее строгие глаза на миг стали смущенными, на бледном лице проступил румянец.
«На руки?» — переспросил он, догадываясь, что его жена уже в другом, далеком мире. Она моргнула, радуясь тому, что он понял ее. «Девочка, — простонал Федор, стараясь не выдать подступавших влез. — Я так хочу взять тебя на руки… Но тебе будет больно!?» Она поняла, что он прав. Смущенно и грустно моргнула, закрыла глаза и чуть сдвинулась на боку, на котором только и могла лежать.
Он скрипнул зубами, отгоняя навязчивые воспоминания. Обернулся. Снова вжикнул молнией спального мешка, обнажая чужое, незнакомое лицо. Эта умерла быстро и легко, без страданий. По глупости, по судьбе ли — одному Богу известно. «Это все, что я могу для тебя сделать!» — пробормотал Федор, кивнув на прохладный сугроб, снова наглухо застегнул молнию капюшона и, не оборачиваясь, зашагал к водораздельному хребту.
«Где же подружка?» — мысленно обращался к покойной, представляя ее лицо живым.
«Это было позавчера?»
«Да, примерно так!»
«Тогда спасатели должны были прийти сегодня, а их не видно?»
«Они не спешат, они знают, что врач не нужен!»
«Что же мне делать?»
«Можно подождать. Но за мной могут пойти „чайники“ — друзья или родственники, может быть, муж. Они не привычны к тайге, будут идти долго, много курить и бросать незатушенные окурки…»
«М-да! Рыжик. Сама понимаешь, сидеть рядом с тобой и отгонять ворон я не могу. Надо встретить спасателей. Они ведь и поджечь мой участок могут… Эх, Рыжик, Рыжик! У меня своих воспоминаний хватает, а тут еще ты!»
Он поднялся на водораздел и направился к тому месту, где могли быть следы подружки, если она ушла к остановке электрички. Отсюда к трассе шла плохенькая, прерывистая тропа. Следов Федор не обнаружил: ни входящих, ни уходящих. Это не значило, что подружка не ушла этим путем. Но все же… Он сел и стал рассматривать окрестности в бинокль.
В низине среди чахлого кустарника, среди вжавшихся в мерзлую землю кочек начинался ручей, который бежал прямиком к Байкалу. По нему Федор предполагал вернуться, поправив квартальные столбы. Он внимательно осмотрел очистившееся от снега болото, сухой склон приземистой сопки, окаймлявшей долину. Его внимание привлек пень с ярким пятном. Ни разу в это время года Федор не видел здесь таких ярких красок и не поленился спуститься.
Когда до пня оставалось полтора десятка шагов, Федор понял, что на нем не лишайник, а яркая шерстяная шапочка. Подружка заботливо подложила ее под себя, когда присела, а поднявшись, о ней забыла: шапочка явно не зимовала, у нее был запах. Казалось, она еще излучает остатки тепла своей хозяйки. Здесь же, возле пня, как росчерк в ведомости, были ее следы.
Девчонка почему-то не решилась бежать к электричке. Она пошла к Байкалу — это дольше, но наверняка. «Что ж, в данном случае она поступает разумно, — одобрил действия Подружки Федор. — Чего же тогда мне ждать? Не догоню, так наверняка узнаю, что она дошла и вызвала спасателей!»
Он бодро зашагал вниз по ручью, не столько по следам, сколько по логике молодой, спортивной женщины, обутой не в сапоги, а в кроссовки, и почти не ошибался, то и дело встречая ее след на оттаявших вязких берегах ручья.
После полудня он вошел в хвойный лес, на старую тропу, которая лет десять уже не чистилась и не подновлялась. В случае пожаров это создавало трудности для переброски бригад, но затрудняло доступ черемшатникам и ягодникам — главным виновникам этих самых пожаров.
Федор рысцой побежал под уклон по тропе, перепрыгивая через завалы. Он поглядывал в чащу, по которой пробиралась подружка погибшей скалолазки, жалел ее: что идет по бурелому берегом ручья и одобрял упорство. Она не могла знать этой тропы, не могла ей доверять, отрываясь от верного ориентира.
Тропа круто повернула вниз к ручью и, кажется, где-то там даже пересекала его. Федор зарысил вниз по склону, хватаясь свободной рукой за молодые березки и осинки, скакнул через ствол лиственницы и чуть не наступил на распластавшегося человека в солдатской шинели. Тот лежал ничком, раскинув руки, и был обут в рваные болотники. Скрюченные руки чернели от струпьев и корост. Корявые пальцы сжимали рукав ветровки. Это был даже не лесной бич, это был озверевший человек. Такие в тайге уже ни водки не пьют, ни леса не поджигают. Но они, бывает, убивают из-за куска хлеба или из-за коробка спичек.
Лесник ткнул лежавшего стволом ружья в затылок, голова мотнулась. Федор настороженно огляделся, выругавшись сквозь зубы: веселенький был маршрут. Он прислонил ружье к дереву и брезгливо перевернул труп на спину. Тряпье под шинелью было залито кровью. Просматривались три раны в груди и в животе. Из бороды к приоткрытому глазу убитого полз клещ. Странный клещ. Федор пригляделся и отпрянул, вытирая руки сухой травой. На остывшем ползали встревоженные вши.
Рядом с ним валялся топор. Пошарив в сухой траве, лесник нашел малокалиберную стреляную гильзу.
Судя по количеству дырок в теле, вряд ли в него стреляли из винтовки. Видимо, Подружка была с пистолетом, малопригодным для защиты от зверей, но веским аргументом при разборках с людьми.
Убитого надо было закопать. Не хватало им с Блудновым отчетов, отписок и расследований по таким пустякам. И девчонку жаль. При дурацких городских законах она могла испортить себе жизнь сразу по двум статьям лет эдак на пять.
«Что делать, Рыжик?» — снова Федор мысленно обратился к погибшей скалолазке.
«Догони и спаси ее!» — взмолилась та.
«Каких глупостей ради вас, женщин, не наделаешь!» — хмыкнул под нос Федор и трусцой побежал то по тропе, то берегом, высматривая следы, выбирая путь полегче и в то же время, не отрываясь от ручья, где должна была идти скалолазка.
Вскоре он вышел на ее стоянку. Сначала почувствовал носом запах свежего костра. Потом увидел его — неряшливое, с далеко выгоревшим дерном, но погашенное кострище. Здесь были брошены куртка с оторванным рукавом, котелок и прожженная пуховка. Подружка паниковала. Она считала, что Байкал и жилье уже где-то рядом, но прошла только половину пути. Федор затолкал в рюкзак брошенные вещи и побежал дальше.
Туристку можно было принять за пень, если бы не яркая жилетка. Она сидела под старым кедром, обхватив колени руками и уткнувшись в них лицом. Услышав шаги, медленно подняла голову с усталыми воспаленными глазами, в руке блеснул ствол. Федор упал за дерево, успев крикнуть: «Не стреляй!» Над головой шлепнулись в кору две пули, еще три пропели, отрикошетив, где-то в стороне.
Как только стрельба прекратилась, он поднял голову и увидел, что тонкий ствол пистолета несуразно торчит, а затвор зафиксирован. Пока Подружка не переменила обойму, он выстрелил картечью по кроне кедра. Хвоя, кора и труха водопадом обрушились на девицу. Та завизжала, закрывая глаза ладонями. Пистолет выпал из ее рук. В следующий миг Федор подскочил к ней и, опустившись на колени, обнял за плечи, похлопывая ладонью по спине.
— Ну, все-все, дочка! Успокойся! Я — лесник, зачем же ты в меня стреляешь?
Скалолазка зарыдала, захлебываясь слезами. Ее руки, упиравшиеся ему в грудь, ослабли и обвили его шею. Федор покосился на землю и коленом прижал разряженный пистолет неизвестной ему системы.
— Вот ведь! — задрал он голову, разглядывая кедр. — Ни за что ни про что такому красавцу ветки попортил.
— Какие ветки? — отстраняясь, удивленно спросила она тоненьким голоском подростка, который так не вязался с крепкой спортивной фигурой, и стала вытирать опухшие глаза костяшками пальцев.
Ее ладони были покрыты сплошной кровавой раной. Она взглянула на них, и глаза ее вновь наполнились доверчивыми слезами:
— Руки болят! — плаксиво всхлипнула детским голоском и протянула ладошки к его лицу.
Федор подул на раны, удивляясь, что девушка смогла такими руками разводить костры, стрелять.
Она не бросила веревку, когда сорвалась ее подруга и из скалы выдернулся крюк. Силы были не равны, но она сжимала пальцы даже тогда, когда веревка стала жечь ладони раскаленным железом.
При всей неприязни к туристам Подружка вызывала у лесоинспектора чувство уважения.
— Сейчас мы тебя полечим. У меня для таких ран есть хорошее лекарство. Заживет как на собаке.
Федор наконец сбросил с плеч рюкзак, поднялся на ноги, мимоходом сунув в карман пистолет, достал бинт, вату, склянку с мазью и ампулу новокаина. Обезболив рану, приложил к ней вату с мазью и стал бинтовать, приговаривая:
— Немного пощиплет, но ты потерпи: ты — девочка взрослая.
Скалолазка застонала, засучила длинными ногами, но руку не вырвала, позволив ему закончить перевязку. Затем доверчиво протянула другую.
— Вот и умница! — похвалил Федор.
Наконец он разглядел ее. О возрасте скалолазки сейчас трудно было судить. Ей могло быть и двадцать пять, и тридцать пять лет. Растрепанные густые русые волосы еще сохраняли форму какойто пышной прически. Широкий лоб, очень большие глаза, опухшие выпяченные губы и маленький, подрагивающий подбородок… Голосок, с которым никак не вязались рискованные увлечения и пистолет. Но, так или иначе, эта девушка или женщина имела прямое отношение к гибели двух людей и если не подстрелила его самого, то только благодаря тому, что он за последние двадцать пять лет своей жизни пережил много неожиданностей на таежных тропах.
Федор быстро развел костер, приготовил ужин и ночлег, хотя до сумерек оставалось еще часа три.
Накормив скалолазку из своей ложки, как ребенка, он стал собираться.
— Вы уходите? — спросила она, и в глазах ее снова заполыхал страх. — Куда?
— К потемкам вернусь. Мне свою работу надо закончить, — ответил он уклончиво. — Сиди здесь и жди. — Достал из кармана пистолет, освободил возвратную пружину, вынул пустую обойму. — Патроны есть?
Она кивнула на нагрудный карман жилетки. Он вытащил из него запасную обойму, вставил в рукоять, клацнув затвором, загнал патрон в ствол, поставил пистолет на предохранитель, сунул его во внутренний карман пуховки, которую подобрал на стоянке, и накинул ей на плечи.
Она бросила на него взгляд, быстрый, испуганный, испытующий.
— Жди! — кивнул Федор. — Только в меня больше не стреляй: посмотри сперва кто, спроси, что надо, а потом… А дальше действуй по обстоятельствам.
— Вы все знаете, да? Вы видели его? — спросила она, и глаза ее снова начали наполняться слезами.
— Кого? Бича в подпаленной шинели?
Она кивнула, глядя в сторону.
— Видел, — усмехнулся Федор, перезаряжая двустволку. — Хотел пристрелить, а он сиганул по склону шустрей козла. Шагов на двести оторвался — из дробовика не достать было. Я его знаю.
Появится — стреляй на убой, ни о чем не спрашивай.
Ее глаза стали в пол-лица, как у стрекозы, опухший ротик раскрылся, маленький, кукольно округленный подбородок задергался.
— Он жив? — охнула она.
— А что ему сделается? Таких ни медведь, ни клещ не берут. Кстати, осмотрись насчет клещей. Не скучай, через пару часов я вернусь. Завтра к полудню будем дома.
Налегке он вернулся к месту, где лежал убитый. Неподалеку от тела упавший кедр вырвал из земли корни с дерном и землей. Федор пробрался к ним по лежащему стволу и обнаружил под комлем довольно глубокую яму. Прислонив ружье к дереву, стал расширять ее с помощью охотничьего топорика. Земля здесь, вдали от Байкала, уже оттаяла, и ему удалось углубиться почти на полметра.
Отдохнув, он снял с ружья наплечный ремень, тем же путем вернулся к телу, постоял над ним и, пропустив ремень убитому подмышками, рывками поволок его к яме. Тело оказалось нелегким, а тащить его пришлось через кустарник и валежник, переплетенный стеблями сухих трав. Минут через пять Федор вспотел и даже пожалел, что выкопал яму так далеко от покойника. Во время очередного рывка у того из-под лохмотьев вывалился маленький алюминиевый крестик, висевший на шее, на грязной тесемке.
— Как же ты дошел до такой жизни? — пробормотал Федор, внимательней взглянув в лицо убитого.
Ноги покойного в яме не умещались. Лесник и копал-то ее в расчете, что положит его боком.
Крестик на шее спутал все планы. Он провозился еще с полчаса, но уложил мертвого на спину и, перекрестив, засыпал землей. «Бог тебе судья и земля пухом…» — пробормотал. Поколебавшись, в той стороне, куда «смотрело» лицо зарытого, вырезал на коре дерева крест. «Молись, вдруг и поможет! Для себя жил, сам себя и отмаливай!» — перекрестился, замаскировал могилу, отошел на несколько шагов, остановился, внимательно рассматривая окрестности. Человек опытный мог понять, что место не чисто. Мог раскопать тело оголодавший медведь. Если бы не вырезанный на коре крест, через полгода уже никому бы в голову не пришло начинать следствие из-за останков таежного бича.
Глупо, конечно, было оставлять такой след. Федор поморщился, представляя, что из-за этого они с Блудновым опять могут переругаться, и стал спускаться по тропе.
Он вернулся в лагерь, когда уже стемнело. Издали среди деревьев увидел огонек, хотел окликнуть скалолазку и только тут вспомнил, что забыл спросить имя. Услышав его шаги, она поднялась и спряталась за деревом, настороженно всматриваясь во тьму. Он шутливо крикнул:
— Свои! Команда — не стрелять!
Она доверчиво вернулась к огню и опять присела, радуясь, что одиночество и ожидание закончились. Он вышел на свет, сбросил с себя пропотевшую ветровку, повесил ее на дымке, фыркая, ополоснулся в черной воде ручья, мерцавшей отблесками костра, насухо протер тело рубахой и стал осматривать живот, плечи, придвигаясь выстывающей кожей к жаркому огню. Ощупал себя под мышками, под бородой и на шее.
— У тебя глазки молодые, — кивнул скалолазке, — посмотри-ка, нет ли клещей… Кстати, как тебя зовут?
— Ксения!
— «Ксюш, Ксюш, Ксюша, платьице из плюша, русая коса…» — лет двадцать назад песня такая была в моде.
— Ксения — значит чужая! — сухо отрезала скалолазка тоненьким голоском.
— Понятненько! А меня зовут — Федор, можно Федор Иванович, только не дядя Федя. Терпеть не могу быть дядей без родства, но по возрасту!
Она кивнула, соглашаясь, то ли с тем, что Федор Иванович — в обращении удобней, то ли с тем, что она ему, действительно, не племянница, и стала осматривать его со спины. Он почувствовал ее дыхание на своей шее, кончики пальцев несколько раз коснулись кожи, да так, что у него, давно истомившегося по женской ласке, по телу пробежал озноб.
— Нет? — строго поторопил он ее.
— Не вижу! — сказала она, снова обдав теплым дыханием его затылок.
— Ну и ладно, — торопливо отстранился Федор и достал из рюкзака сухой свитер. — Тебя осмотреть?
— Нет-нет! Я сама! — сказала она, и в этом «нет-нет!» прозвучал подавленный крик и скрытый испуг. Он удивленно вскинул голову, она вздрогнула, метнула на него растерянный взгляд и смутилась.
Федор пожал плечами, тряхнул головой:
— Ну что, Ксения, чайку попьем и спать? Нам надо встать пораньше, чтобы к полудню выйти на телефон… Ты все сделала правильно, только зря свою подружку на солнце оставила. Я ее в тень на снег положил. Но спешить все равно нужно.
Ксения зажмурила глаза, закрыла лицо перебинтованными руками и застонала, раскачиваясь крепким спортивным телом.
— А это что у тебя на шее? — привстал Федор, откинул локон слегка уложенных в его отсутствие волос. — Ага! Клещ! Дай-ка я его сниму. — Он вырвал уже зацепившегося клеща и бросил его в костер.
— Тебе надо осмотреться! — сказал настойчивей.
— Мне бы у врача осмотреться, желательно у психиатра. Все, что происходит, бред какой-то.
Этого не может быть! Ну что я совсем свихнулась? — она тряхнула головой и пристальным долгим взглядом посмотрела на Федора: — Сначала Светка, потом этот грязный мужик, после вы… У Светки перестало биться сердце и не закрывались глаза. Они были совсем живыми. Я надела на нее спальник и побежала за людьми. Я мужику говорила, что тороплюсь, что у меня подруга умирает. А он стал рвать на мне одежду. Я помню, что стреляла в упор, помню — он упал и не шевелился. А вы говорите — он жив и бегает?.. Помогите мне проснуться!
Федор опустил глаза, слегка пожал плечами:
— Боюсь, не получится! — и, помолчав, спросил: — Что это вас с подружкой на скалы потянуло.
— Мы — экстремалки! — коротко ответила она ангельским голоском.
— Что в том экстремального: залезть на простенькую скалу по отвесной стороне, со страховкой?
— Мы хотели осмотреть эти скалы, потом поднять на них дельтапланы и при хорошем ветре перелететь через Байкал.
— Круто… И не дешево, — качнул головой Федор. Усмехнулся. Помолчав, добавил с искренним сожалением: — Что за девки пошли — размениваетесь по пустякам, жизнь по ветру пускаете. Нет бы родить по пять молодцев да пятерых дочек-красавиц. Слабо! Для этого терпение надо, волю, самоотречение. Через Байкал по сарме на дельтапланах — это проще. Сколько лет было Светке?
— Кошмар! — снова всхлипнула Ксения. — Про нее уже говорят в прошедшем времени, будто вышла из электрички для прикола, а я еду и не знаю, где выходить.
— Все мы так, — вспомнив свое, вздохнул Федор.
— Двадцать шесть ей было, — спохватилась Ксения, — на следующий год планировала ребенка родить. А вы что, поп? — она окинула взглядом его длинную бороду и отросшие волосы.
— Я — охотовед!
— А это что такое?
— А это вроде помеси таежного бича с ученым, урки — с интеллигентом, — пошутил он с серьезным видом и, взглянув не нее, понял, что шутка не принята. Федор, отметив в ее взгляде то ли искренний интерес, то ли попытку забыться, великодушно добавил: — Я — биолог-охотовед, двадцать семь лет честно служил Байкалу на простенькой, смешно оплачиваемой должности, а теперь думаю — не податься ли в отставку.
— А зачем в отставку? — серебряным колокольчиком прозвучал ее голос из-за пламени костра.
— Зачем? — немного удивленно повторил он, вздохнул и искренне признался: — Об этом последние полгода только и думаю. Срок, наверно, вышел. О прошлом не жалею. Не подумай, что жалуюсь. С судьбой у меня все в порядке. — Поймав себя на том, что говорит лишнее и двусмысленное, сказал сдержанно: — Спокойной ночи! Залазь-ка в мой спальник, тебе нужно хорошо отдохнуть. А я в твоей пуховке возле огня перекантуюсь. Спальник, правда, старенький, слегка засален…
— Нет-нет! Я так! Мне тепло, — опять торопливо запротестовала она.
— Ну, тогда, еще раз, спокойной ночи! — Федор зарылся в мешок, перевернулся на спину, глядя в весеннее звездное небо над кронами деревьев. На небо, к которому так безнадежно стремились искры костра, высвечивая свои мгновенные траектории. Самые яркие из них не поднимались даже на уровень крон.
— Зачем? — прошептал он, беззвучно шевельнув губами, и звезды заплясали перед его тяжелеющим взглядом. Когда он с трудом разлепил глаза, чувствуя что-то непонятное, гасли угли костра, а на фоне звездного неба над ним склонилось темное лицо скалолазки, локон ее волос щекотал его щеку. Ксения всхлипнула и прошептала:
— Можно, я лягу рядом? Мне страшно…
Он с готовностью отодвинулся от костра, не вполне понимая, сон это или явь. Она положила свой жилет на подстилку из травы и хвои, легла и укрылась пуховкой, жалостливо пробормотав:
— Не приставайте ко мне, пожалуйста. Мне просто страшно.
Федор сонно хмыкнул в бороду. Отечески похлопал ладонью по пуховке, придвинул скалолазку к себе. Она цепко схватила его руку перевязанными, шершавыми ладонями, задышала ровно, вздрагивая и поскрипывая зубами. И он вскоре забылся. …Проснулся от озноба. Откинул капюшон спальника и обнаружил, что завален снегом. Сюрприз!
До полуночи не было никаких признаков дождя! На что непредсказуем, переменчив Байкал, но такой неожиданности за последние двадцать семь лет он не помнил. Федор сбросил с себя тяжесть навалившего снега, поднялся и сел. Вокруг белым бело, от кострища не осталось следа. Напротив, на том месте, где укладывалась на ночь Ксения, был аккуратный сугроб без всяких признаков тепла.
Федор вскочил, разворошил его, откинул пуховку. Женщина лежала, свернувшись калачиком, и улыбалась. Федор попытался приподнять ее. Она, уже закоченевшая, чуть сдвинулась, не изменив позы.
Не было ни волнения, ни ощущения ужаса. Голова работала ясно и примитивно, как логарифмическая линейка. Все, что он мог сделать в этой ситуации, как можно быстрей добежать до Блуднова, к его печке, к его телефону. К черту костер, чай и окоченевшее тело скалолазки. Пока не завалило так, что без лыж не выберешься, надо бежать.
Федор не стал искать под снегом даже рюкзак. Нашарил ружье, перекинул его через плечо и побежал. Пока снег доходил только до икр, был рыхл и не сковывал ходьбы. «Быстрей, Москва, быстрей!» — поторапливал себя и бежал удивительно резво, как бывало в молодые годы.
Сквозь буран Федор видел знакомые контуры склонов и падей. Где-то здесь был коварный прямичок. Можно было сократить путь часа на полтора. Место поганенькое. Последний раз Федор плутал здесь пять лет назад. После того пометил путь засечками. Он побежал напрямик и вскоре, потеряв свои засечки, понял, что опять заблудился. Жаль! Если бы шел по пади, через три-четыре часа мог бы греться у печки, пить чай и есть теплые шаньги.
Он уже решил возвращаться по своему следу к ручью, но увидел контуры зимовья и чуть зубами не заскрипел от возмущения. Кто? По какому праву, на его территории, у него под носом срубил избушку? И, главное, когда успели?
Не было ни запаха дыма, ни признаков жилухи, но внутренним чутьем лесник почувствовал, что в зимовье кто-то есть. Он сорвал с плеча двустволку, подбежал к двери, распахнул ее с перекошенным от ярости лицом и, водя стволами, переступил порог.
Изба была просторней, чем казалось снаружи: настоящий светлый дом. Все его убранство было в узкой лавке вдоль стены. К сожалению, здесь не было даже печки. Посреди комнаты стояли шесть белых пластиковых стульев. На трех из них чинно, как в театре, сидели: Тунгус, Аспирин и Графин.
Чуть в стороне, смущенно выглядывая из-за их спин, в знакомом халатике на чем-то сидела жена — изможденная и больная, с добрыми, любящими глазами.
Федор попытался притворить за собой дверь — из-за нее дуло. В жилье быстро наметало и припорашивало пол. Он бросил на лавку глупое ружье и сказал с облегчением: «Ну вот, значит, я тоже умер!» Хотел присесть на свободное место лицом к жене. Скорчив рожу, Графин выдернул изпод него стул и, когда Федор упал на пол, нагловато и нетрезво расхохотался.
Трое друзей соскочили с мест и, смеясь, начали выталкивать его из избы. Федор захрипел, всерьез пуская в ход кулаки. Но они с хохотом бросили его в снег и заперли дверь. Он вскочил, стал царапать ее ногтями, биться головой, выл от ужаса и незаслуженного оскорбления:
— На жену хоть дайте посмотреть!
Последние полгода он жил с ней как с дочерью. Слабея и уходя, она все больше начинала походить на ребенка, доверять ему во всем, надеяться на его силу и разум, на помощь, если не на чудо, которое возможно только из его рук.
Дверь приоткрылась, и Аспирин, с немыслимой для него грубостью, с неожиданной подлостью, лягнул его пяткой в грудь. Федор снова упал в снег и зарыдал от обиды и бессилия, чувствуя, как горячие слезы заливают щеки…
Открыв глаза, он увидел растрепанные волосы Ксении, ее испуганное лицо, сухую траву.
Почувствовал запах погасшего костра и еще раз ужаснулся — так стыдно стало перед этой девицей за слезы в седеющей бороде.
— Что с вами? — она снова ткнула его в грудь локтем.
Сдерживая новый, подступавший к горлу спазм, он вскочил, бросился к ручью. Пригоршнями поплескав в лицо студеной воды, вернулся к костру.
— Кошмар! — смущенно оправдываясь, стал раздувать огонь. Девчонка смотрела на него большими потрясенными глазами. — Нет, надо же такому присниться! — пробормотал он, вздыхая и вытирая лицо рукавом свитера. — Жена у меня умерла, — признался неохотно, вынужденный как-то объясниться: — И тебя я во сне видел…
— Как? — она чуть игриво улыбнулась и машинально поправила волосы.
— Мертвой, будто замерзла вот здесь в снегу.
Лицо Ксении посмурнело, и Федор успокоил ее:
— Это хорошо! Значит, поживешь еще!.. Ужасно! Ты уж извини, первый раз со мной такое…
Разгорелся костер. Федор повесил на огонь котелок и стал собирать лишние вещи в рюкзак. Ксения сходила к ручью и вернулась прибранной, причесанной. Выглядела она отдохнувшей.
— Как я хорошо выспалась! — прощебетала она.
— Пора сделать перевязку, — хмуро кивнул на ее руки Федор и выбросил из кармана рюкзака аптечку.
Она села напротив и доверчиво протянула ладони.
— Молодец! — похвалил он ее, осмотрев обнаженные раны. — Заживает.
Пока бинтовал, Ксения поглядывала на него насмешливо, шаловливо, с любопытством. Осмелев, спросила:
— На вас, при вашей-то жизни, грехов, наверное, убийств всяких, приключений?
Вопрос со скрытым подтекстом Федору не понравился. Он понял, что любопытство женщины связано с его утренней истерикой, и, пропустив мимо ушей иронию, втайне злясь, стал отвечать якобы обстоятельно и серьезно:
— Грехов много. Такова таежная жизнь: без греха ни шагу. Иногда подумаешь, сколько боли и зла мы делаем за свою жизнь, — душа кровью обливается. К тому же, с возрастом начинаешь понимать, что за все надо платить.
Как-то нам план по волкам спустили. Ну я и рад стараться, хоть на моем участке они ничего плохого не делали. Как-то в петли — метра полтора одна от другой — попались волк с волчицей. А у них шейные мышцы мощные, удавиться трудно. Волчица-то благообразно так умерла, а волк, глядя на ее страдания, так рвался, что прямая кишка из-под хвоста вылезла. Я шкуру снял, чувствую — зуд в этом самом месте. А потом три дня валялся, выл и дрыгал ногами. Ну и боль, однако, от бухгалтерской болезни.
— Вы не романтик! — поморщилась она.
— А как-то рысь попала в волчий капкан, а один богатенький коллекционер как раз у нас шкуру для чучела просил. Я подхожу с дробовиком, боюсь выстрелом шкуру испортить. Она все поняла.
Мордой о землю потерлась. Безнадежно так, почти по-человечески попросила: а может не надо меня убивать? Я ее — дрыном по башке. Она — брык… Отрубилась. Живая еще. Я ей палку на затылок и задушил. Не сопротивлялась даже… А как-то молоденькую волчицу… — азартней заговорил Федор…
— Хватит! — простонала Ксения. В прищуренных глазах тлела боль. Паутинка морщинок протянулась к вискам. — С такими мыслями зачем вам ружье? — кивнула она в сторону дробовика.
— Не всегда же так было! — усмехнулся Федор, злорадствуя. — Это последнее время все философствую: старый стал… Ладно, дикие звери — не я их растил — тайга. Поросят, коз домашних и тех стало жалко. Козы — умные, привязчивые, ласковые, как кошки: они к тебе целоваться лезут, а ты их ножом по горлу.
— Ты что, псих? — Ксения вскочила на ноги. Ее тонкий голос был на несколько тонов ниже и глуше прежнего, глаза гневно сверкали.
— Ты задала вопрос, я — ответил. Искренне. Мы ведь в чем-то похожи — экстремалы. Ты — начинающая, а я… поживший! Делай выводы.
— Извини! — она села. Лоб ее был нахмурен. — Я сама психопаткой стала после всего этого.
По тому, как она вздохнула, откинула волосы и опустилась на землю с кошачьей грацией, он вдруг почувствовал в ней зрелую, многоопытную самку.
— Кружка у нас одна, а вот котелка два. Я тебе в свою налью, а сам из котелка попью? — предложил он.
Она приняла из его рук дымящуюся кружку с чаем, хлеб и вяленую рыбу, прощебетала тоненьким голоском:
— Ты прямо как папочка. А дети у тебя есть?
— Дочь — двадцать четыре года, замужем. Самостоятельная — дальше некуда. А ты замужем?
— А как же, — кокетливо взглянула она на Федора: — И даже не первый раз. — Отставив в сторону кружку, свернулась у костра клубочком и протянула к огню перебинтованные руки. — Надо же, совсем не болят. Ты хороший врач!
Лучше бы она этого не говорила. Федор скрипнул зубами, вспомнив свое, пережитое, и молча стал собираться в путь. Все вещи сложил в свой рюкзак. Она двумя пальчиками за рукоятку вытащила из кармана блестящий пистолетик и бросила туда же, демонстративно показывая, что во всем и полностью доверяет.
Они молча прошагали несколько часов. Не спешили, но и не отдыхали. Байкал был уже близок.
Заметно холодало. Почти исчезла зелень на склонах. Ручей, по которому спускались, весело журчавший вверху, в низовьях был подо льдом. Федор, изредка оборачиваясь и поглядывая на спутницу, долго не решался предложить отдохнуть: ей нужно было поскорей выбраться из тайги.
Щеки ее зарумянились, на лбу выступили бисеринки пота, но дышала она ровно. Наконец, он подумал, что его мелкое тщеславие претит здравому смыслу: давно пора было осмотреться. За то время, что они шли, клещи могли пробраться под одежду.
— Можно и отдохнуть, — обернулся он. — Ты не против?
— Можно, — согласилась она, опускаясь на пенек.
— Клещей стряхни. Я отсюда вижу — по штанам ползет… Дай-ка шею осмотрю и за ушами.
Ксения покорно собрала волосы в пучок и вытянула шею.
— Вот он, голубчик, — показал снятого, шевелящего лапками клеща. — По отношению к этому зверю жалость и сострадание неуместны, — заявил назидательно и разрезал его надвое ножом. — Рубаху задери! Осмотрю спину. Раньше надо было это сделать.
Ксения послушно скинула жилет, задрала через голову майку, прикрыв грудь. Федор, ворча, снял со спины еще пару клещей, посоветовал внимательно осмотреть живот, сам стал раздеваться, осматривая одежду. Спросил, радуясь, что не пришлось выдирать впившихся:
— По тайге шляется, на «э» называется. Кто?
— Энцифалитный клещ?
— Почти что правильно, эдрена вошь! Вперед, Синильга!
— Скоро придем? — в который раз спросила она.
— Часа полтора. Как идти. У нас нормальный ход.
— Что-то сердце покалывает, — пожаловалась вдруг она, прикладывая руку к груди.
— В твоем положении, после всего пережитого — не удивительно! — сказал Федор и виновато пожал плечами. — От сердца у меня ничего с собой нет. А пора бы иметь. Ты-то молодая еще! Давай посидим?
— Да какая молодая?! Тридцать старой дуре. Если все переживу, брошу нафиг этот экстремал и начну почковаться. Муж давно пристает, чтобы рожала.
— Мужик-то нормальный у тебя?
— Нормальные мужики разве бывают? — усмехнулась она. — Мужик как мужик. При деньгах.
Зануда правда. Но сейчас и такие — редкость.
Как и предполагал Федор, они вышли на кордон к полудню. Остро пахло оттаявшим навозом.
Мирно, по-домашнему кудахтали куры, где-то за сараями мычала корова. Из-за дома вышел старший лесоинспектор. Был он не на костылях, как обычно, но с резной тростью. На груди болтался тяжелый бинокль. Игорь часто шмыгал носом и пошловато посмеивался.
— Думаю, что за кадры пилят прямо ко мне на свою же погибель, а то Федька Москва с девкой.
Партизанку-поджигателя арестовал?
— Скалолазку! — приставил к стене ружье Федор и устало опустился на вросшую в землю колоду. — У нее подруга разбилась. Телефон работает? Надо спасателей вызвать.
— Работает. Сам знаешь как. Докричитесь — ваше счастье.
— Надо докричаться. Ты покажи ей как с аппаратом обращаться.
— Проходите в дом. Жена покажет и поможет, — раскланялся Блуднов, наваливаясь на трость и пытаясь изобразить благородные манеры, которых никогда не имел.
Ксения уверенно поднялась по крыльцу. Федор кивнул ей вслед и сказал приглушенно:
— Эта партизанка на шестьдесят восьмом квартале тремя выстрелами завалила бича. Судя по сапогам, того самого, что твое зимовье осенью обобрал.
— Ого!.. Жмурика спрятали?
— Я его прикопал. Она и не знает, что грохнула насмерть.
— Крутая кобылка! Из чего стреляла?
— Малокалиберный… Дорогая игрушка, — уклончиво ответил Федор, не говоря, что пистолет лежит в его рюкзаке.
— Какие, однако, нынче туристки, — уважительно посмотрел ей вслед Блуднов. Потоптался на месте и добавил: — Пойду, помогу дозвониться.
Из-за стены дома раздался пронзительный, как визг, голос Ксении, пытавшейся связаться с коммутатором. Вскоре стекла дрогнули от блудновского баритона:
— Командир, мне город, вокзал… Пиши номер…
Снова зазвучал резкий, пронзительный, капризный, привыкший настаивать и повелевать голос Ксении:
— Я же сказала, что буду ждать здесь! Как хочешь, так и приезжай. Скорей… Что я на себе ее потащу? Присылай людей. Все!
Она вышла на крыльцо с красным от перенапряжения лицом, глаза ее метали молнии. Следом вышел ухмыляющийся Игорь.
— У меня останетесь? Или к себе ее поведешь? — спросил Федора. — Надо бы красотку в бане попарить… В чувства привести. — И к гостье: — Оставайтесь. У него, поди, и жрать-то нечего…
— Мы пойдем! — решительно заявила Ксения, бросив на Блуднова испепеляющий взгляд, и добавила мягче, обернувшись к Федору: — Раньше чем к утру они не смогут приехать.
— Ну и ладно. Сейчас мы вам кое-что соберем к столу, — не стал настаивать Блуднов. — Лед от берега отогнало метров на двести. Дал бы лодку, да боюсь — затрет. С другой стороны, завтра тебе со спасателями идти… Нельзя их отпустить без присмотра. — Поколебавшись, он мотнул головой в сторону Байкала: — Ладно, смотри сам: сможешь проскочить — бери мотор. Бензина в баке хватит…
Нет — придется пешком, или у меня оставайтесь.
Федор подхватил ружье и рюкзак, направился к Байкалу. Очень не хотелось целый час шагать по шпалам. Ксения пошла следом. Влажная свежесть студеной воды пахнула в их лица. Федор остановился на насыпи, втянул всей грудью сладостные запахи весны. Проснулся Байкал. Возле заторошенного берега шевелилась живая сонная волна. Вдали, шурша и поскрипывая, до самого горизонта покачивался колотый лед. Среди басов рыхлых льдин и в тонком перезвоне кристаллов чудился отдаленный звук хора. «Ну, здравствуй, старина! — Федор снова втянул в себя воздух и с сожалением подумал, что пропустил вдали от Байкала, может быть, самые ценные весенние деньки. — Почти три дня не виделись!»
Мотор весело взревел с первого рывка. Легкая лодка задрожала. Перекрывая рев двигателя, Блуднов закричал с берега:
— Чуть что, хоть движок спасай!
Ксения уселась на середине лицом к носу, схватившись перебинтованными ладонями за борта.
Лодка рванула с места и понеслась вдоль берега. Борода у Федора затрепалась, задираясь к плечу, помахивая удалявшемуся товарищу. Трепетали волосы у Ксении. Она спрятала их под башлык пуховки, обернулась к Федору, восторженно улыбаясь, стирая с лица холодные брызги тыльной стороной ладони. Глаза ее лучились, и не было в них следа от переживаемого несчастья.
Проскочив самое узкое место между жмущимися к берегу льдами и мысом, лодка вышла на свободное от льда пространство бухты. Федор, радуясь удачному стечению обстоятельств, лихо развернулся и заглушил мотор. Лодка по инерции беззвучно подошла к берегу и заскрипела днищем по окатышу.
— Ну, вот мы и дома! — сказал в гулкой тишине. — Повезло!
Из-за насыпи с воды видна была только одна крашеная крыша с цифрой «8». Это был его дом.
Ксения выскочила на берег, оглянулась со смеющимися глазами:
— Ты здесь живешь? — прозвенел ее голосок, ставший опять тонким и по-девичьи звонким.
Федор кивнул, неторопливо вылез из лодки и стал вытаскивать ее на берег.
— А что так тихо? — спросила Ксения, оглядываясь по сторонам. — Собаки и те не лают. Ты один здесь?
На насыпи никого не было. Казалось, никого не заинтересовал стрекот первой в этом году моторки. Федор знал, что это не так, и всем местным жителям уже известно, кто прибыл. Поднявшись на берег, он услышал приглушенный стук топора в соседском дворе, приглушенный хлопок двери.
Вырвалось и оборвалось на полуслове картавое лопотание телевизора.
— Почему же один? — не сразу ответил Федор. — У нас, можно сказать, деревня. В начале года шестеро жили. И тогда, бывало, неделями друг друга не видели. Зимой двое умерли. И собаки пропали.
Ей здесь нравилось все: и четыре домика, и ненавязчивые местные жители, которых не было видно. Баня во дворе вызвала бурю восторга. Баня у него действительно была знатной: просторной, с прихожей, где летом он частенько ночевал на топчане, застеленном козьими шкурами. Строилась она с душой еще в те времена, когда верилось в светлое будущее, в просторный терем у моря, в семью, которая останется здесь на века.
Его дочь встретила работавшего на Байкале по договору гражданина Соединенных Штатов.
Внешне парень не отличался от этнических русских. Был пленен природой Сибири, Россией, хотел креститься в Православие, венчаться в церкви, мечтал построить дом на байкальском побережье и обзавестись многодетной семьей. И Федору, и жене его показалось тогда, что это не худший вариант будущего их дочери.
Но американец вскоре после венчания, в связи с делами своей фирмы, возненавидел российскую бюрократию, а вместе с ней и здешний народ, склонный к разгильдяйству. Его контракт был прерван досрочно. Молодожены временно уехали в Штаты. Через год дочь вернулась, разочарованная тамошними нравами и тем народом. На родине, после заграницы, ей вскоре стало невмочь от здешних порядков. Она вернулась к мужу. Там, в одном из северных штатов, где иногда выпадает снег, они решили строить свою маленькую Россию.
Прилетев на похороны, дочь недолго пожила с отцом. По настроению ее, по отношению ко всему происходящему Федор понимал, что на этот раз дочь улетит навсегда, а он никогда не поедет к ней.
По сути дела, она для него умерла еще до жены.
Федор затопил каменку, повесил чайник на огонь. При хороших дровах через час-полтора в парилке будет лютая жара. Холодная вода поступала из речки самотеком: нехитрое устройство всегда содержало бочку наполненной.
Пока грелась баня, Федор с Ксенией сели за стол на крыльце дома, перекусили гостинцами от Блудновых. Здесь был творог, сметана, пироги и даже соленые грибочки.
Федор расщедрился по случаю возвращения, дал гостье не только полотенце, но и чистую простыню. А свежего веника не нашлось. Кончились как-то неожиданно, вдруг. Пошарив в чулане, он вышел на крыльцо и виновато развел руками.
— Ты пока грейся, — сказал ждавшей с полотенцем в руках Ксении, — я к соседу схожу. — Он показал гостье, как пользоваться водой и паром, убрал со стола, переоделся в шорты и майку, сходил к соседу, задержавшись у него на некоторое время с расспросами и объяснениями. От соседа с сухим березовым веником в руке направился прямо в баню. Дверь в предбанник была приоткрыта. Он смело вошел в него, положил веник на топчан, хотел уже крикнуть об этом, но услышал шипение круто подданного пара и приглушенный визг.
В следующий миг дверь в парилку распахнулась, ударив в лицо клубами раскаленного пара, который, чуть рассеявшись, влажно пополз по потолку. Из облака пулей выскочила молодая обнаженная женщина с зажмуренными глазами и всем телом прильнула к Федору. Сквозь тонкую майку он почувствовал упругость ее груди, втянул ноздрями запах женской кожи с въевшейся в нее парфюмерией, и земля качнулась под ногами: удушливо затрепетало сердце, холодный пот выступил на лбу. Федор застонал сквозь сжатые зубы и непроизвольно, на какой-то миг, удержал случайно припавшую к нему женщину, понимая ее недоумение. Удержал, потому что со всей ясностью понял: как только она отстранится — его сердце остановится. И она своим женским началом почувствовала, что это не прихоть, что ему действительно плохо: то ли пожалела капризным сердцем, то ли испугалась и покорно сомкнула обнаженные руки на его шее, прильнув горячим лбом к его сухим губам.
Он с благодарностью повлек ее на жесткий, колючий, застеленный шкурами топчан: жалея и оберегая. Когда спокойно, уверенно забилось сердце и восстановилось дыхание, Федор глубоко и привольно вздохнул. Но вскоре заерзал на зудящейся, исколотой жестким козьим ворсом, спине:
— Спасибо! Ты меня спасла… Думал — все, дам клина в собственной бане.
Она откинулась, не стесняясь своей наготы, стала с любопытством разглядывать его лицо. Это был слегка удивленный, ласковый и чуть насмешливый взгляд опытной женщины:
— Я так и поняла. Не хватало еще одного трупа! — сказала незнакомым, низким голосом.
Он снова заерзал на шкурах. Она тихо рассмеялась и села, потягиваясь, демонстрируя свое молодое спортивное тело:
— Что уж теперь? Попарь-ка меня! У самой не получается.
Федор парил гостью, окатываясь холодной водой, до тех пор, пока она не отказалась лезть на полок. Затем наспех ополоснулся сам и, пока Ксения отдыхала, заварил чай. Несмотря на ранний час, постелил на полу широкий матрац. Обессиленные и утомленные баней, они долго не могли уснуть.
Спасаясь от навязчивых мыслей, истосковавшись по женскому телу, Федор ласкал и ласкал свою случайную подружку. И она, строптивая и заносчивая, покладисто отвечала на его ласки, лишь бы ни о чем не думать. За полночь стала подремывать.
— Спасибо! — прошептал он, прижимаясь щекой к ее крепкому гладкому плечику. — Повезло старому! И радикулит прошел, и песок не сыплется, и почки на место встали… А то одна, вроде как, опускаться начала. Вот уж точно: все болезни от воздержания.
— Хороший старичок! — сонно хохотнула она. — Я уже хотела пощады просить. Ничо себе, леснички… На чистом-то воздухе…
— Льстишь, конечно, все равно приятно, — вздохнул Федор, вытягиваясь на спине, удивляясь, что нет в душе ни раскаяния, ни опасений, один только покой.
— Ты, наверное, жене не изменял!? — будто ставила диагноз, сонно пробубнила она, возвращая Федора в его реальный мир. — Да и с кем тут…
Помолчав, он нехотя ответил:
— И ни к чему. В этом плане у нас проблем не было…
Проблемы у них были, но другие. Он всю жизнь любовался ею, так и не оправившись за всю совместную жизнь от потрясения первой встречи. Он гордился своей женой и почти никогда не ревновал, почему-то подсознательно уверенный в несокрушимости их союза. Этого не мог понять никто из Верных с их женами. Понимал только Кельсий, с которым жена Федора была настолько дружна, что все, кроме мужа, с азартом ждали, когда же она уйдет к нему. Кельсий чуть не каждый год менял жен и писал ей двусмысленные стихи. Она принимала участие в его семейных ссорах и примирениях, вычитывала и корректировала его рукописи, прибирала в доме, когда Кельсий, в очередной раз, холостяковал.
Однажды в тайге Москва, Кельсий и Аспирант, ставший к тому времени завистливым и желчным Аспирином, чистили заваленные буреломом тропы. Возле костра в какой-то глупой перепалке москвич съязвил: дескать, чего им, Москве с Кельсием, делить, они же родственники — мужья одной женщины.
Наступила пауза, которую Аспирин понял по-своему, испугавшись сказанного, прислонился спиной к единственному карабину. За пламенем костра он не мог видеть лица Федора, но услышал, что Москва хохочет. Кельсий лежал на спине и смотрел в звездное небо с черными, чуть качающимися вершинами елей. Не сразу он ответил, проворчав беззлобно, но презрительно:
— Дурак ты! Она же любит его!
— А что к тебе бегает? — визгнул Аспирин.
Кельсий долго молчал, разглядывая мерцающие звезды. Потом сказал в полголоса:
— Тебе этого все равно не понять! Мы с ней будем любить друг друга там! — Кельсий говорил про небо. Федор перестал смеяться, и весь оставшийся путь в тайге был не в меру задумчив и рассеян.
Беспокойство, которое он почувствовал в тот вечер, время от времени давало о себе знать: вспоминалось небритое лицо друга, смотрящего в небо, тонкий, с неприметной горбинкой, нос, почти как у жены, прямой лоб, на котором отсвечивали тени бликов костра. Тогда он впервые заметил, что Кельсий и его, Федора, жена похожи, как родственники.
Вскоре, первыми из Верных, Москвитины обвенчались в церкви. А через несколько лет, когда исчез Кельсий, и жена, почти не способная жить одна, посылала и посылала Федора в тайгу на его поиски, он спросил напрямик, впервые нарушив негласный обет и заговорив о том, что будет после:
— А там ты с кем будешь?
Она все поняла с полуслова, взглянула на него лучистыми глазами, в которых уже мерцал потусторонний свет, ответила ясно и просто:
— С тобой, милый!
«Может быть, заслужил», — серьезно подумал он и, вернувшись с очередного маршрута, солгал, что нашел и похоронил останки друга. Она успокоилась и больше никогда не вспоминала о поэте.
Рано утром, задерживая рейсовую мотаню, к лесному кордону подошел тепловоз с одним блестящим, как игрушка, министерским вагоном и взревел под окнами. Федор вскочил, быстро оделся, сбросил одеяло и примял нетронутую вдовью постель. Ксения потягивалась и не спешила подниматься.
— Наверное, за тобой? — опасливо поторопил ее Федор, тайком выглядывая в окно.
— Да, конечно! — зевнула она и спросила: — В бане вода еще теплая? Тогда я пойду умоюсь, а ты пока приберись, — приказала мимоходом.
Он торопливо скатал матрац с подушками и одеялом, остро пахнущие женщиной, забросил их на полати. Поплескав в лицо из умывальника, вышел за ворота, представляя, как на продуваемых полустанках не первый час мучаются в ожидании пригородного поезда местные жители, как при этом клянут и министров, и мотаню, и привычное чиновничье разгильдяйство на железной дороге.
Поезд заслонял Байкал. «Разнесло ли льды?» — с тоской подумал Федор и направился к открытой двери вагона. По ступеням из тамбура спустился аккуратно подстриженный молодой человек в белой рубашке с бабочкой, протер ветошью поручни. На перрон вышли два крепких парня спортивного вида в полувоенной черной униформе. Привычным глазом Федор приметил, что они вооружены.
Голубоглазый, с белокурым коротким ежиком, добродушно улыбнулся леснику и кивнул на спущенные ступени. Второй из встречавших, с любопытством поглядывая вокруг, закурил и протянул подошедшему леснику блестящую пачку с торчащими как в обойме цветными фильтрами сигарет.
Федор мотнул головой и представился:
— Лесоинспектор Москвитин!
— Нас предупредили! — кивнул блондин и опять доброжелательно улыбнулся: — Проходите, вас ждут!
Половина вагона была оборудована под салон. Посередине стоял большой стол. Несмотря на раннюю пору, он был уставлен бутылками и дорогой закуской: красной икрой и тонкими ломтиками копченостей. Федор скользнул взглядом по столу и посмотрел в окно, в сторону Байкала. Бухта и все видимое до горизонта пространство были забиты льдом.
В салон вошел мужчина неопределенного возраста, с нездоровым серым лицом, с подслеповатыми, колючими медвежьими глазами. Он мог быть и любовником, и мужем, и братом, и отцом Ксении. По взгляду немигающих глаз Федор понял, что этот человек не будет пытаться запоминать его имя, а через мгновение после расставания навсегда забудет о нем. Поэтому он и представляться не стал.
Глядя на гражданина другого мира, подумал, что если бы такой человек застал его с Ксенией в одной постели, то и тогда он вряд ли вышел бы из себя. Федор был для него временно понадобившимся, виртуальным никем. Внутренний дискомфорт, начавшийся с рева тепловоза под окнами, сразу прошел. Лесоинспектор пристальней взглянул на Серого. Тот не трудился, чтобы спрашивать, кто перед ним. Его прислуга не могла дать сбой.
Следом вошли два молодцеватых охранника в черном.
— Как себя чувствует Ксения? — спросил Серый приятным голосом. Это были первые слова, обращенные не то к охранникам, не то к Федору.
— Хорошо! — ответил он, не отводя глаз. — Сейчас подойдет. «А народ на полустанках все ждет!» — укорил внутренний голос, будто в этом была и его, Федора, вина.
Молодой человек в белой рубашке с черной бабочкой вошел с подносом и расставил парящие чашечки с горячим чаем. Один из охранников расстелил карту на свободной части стола.
— Где это место? — спросил Серый, опять конкретно ни к кому не обращаясь.
Федор поправил настольную лампу и ткнул пальцем. Карта была знакомой, скопированной в их управлении.
— Четыре человека смогут доставить тело к автотрассе?
— Я думаю, четверым будет тяжело. На водораздел придется подниматься, да и тропа там плохонькая. Вот сюда, вниз к железной дороге, — выносить полегче.
— Нужно доставить к автотрассе! — как о решенном и непререкаемом сказал Серый.
— Вам видней, — пожал плечами Федор. — Хотя… Три дня уже прошло. Я девчонку на снег положил, но весна есть весна: сюда, к Байкалу, трудно, но можно за день спуститься, на трассу, в лучшем случае, за полтора.
— Ребята сильные, молодые — справятся, — отрезал Серый.
Один из охранников скромно вставил реплику:
— Мы взяли пару полиэтиленовых мешков и препараты для бальзамирования. Очень эффективные.
— Разрешения на оружие есть? — коротко спросил Серый.
— У нас серьезная фирма! — позволив себе слегка обиженные нотки, сказал Белокурый.
— Вам ни к чему оружие в тайге, — обеспокоенно заговорил Федор. — Безопасность я гарантирую!
На него мимолетно взглянули и продолжили разговор. Лишь через некоторое время Серый обронил в его сторону:
— Без оружия никак нельзя. Все необходимые документы у ребят есть.
— Причем тут документы — они и нам и себе проблем наделают с оружием.
— Нельзя без оружия! — повторил Серый таким тоном, что у Федора пропала охота настаивать.
— Тогда так! Без моего разрешения — не стрелять. Хоть бы медведь в десяти шагах от вас был. Не говоря про всякую мелочь безобидную. Или я с вами не иду!
Последняя глупая фраза сама по себе, как у ребенка, сорвалась с языка пятидесятилетнего мужчины, будто: «Я с вами не играю!» Отпустить их одних на свой участок он, разумеется, не мог. На его раздражение никто не обратил внимания.
— Об этом вы с ребятами договоритесь! — холодно отрезал Серый и обвел всех троих колючим взглядом. — Еще проблемы есть? Все?
Федор с уважением посмотрел на него, вспомнив многословные планерки и собрания в Управлении, на которых изредка приходилось бывать.
— Подкрепитесь перед дорогой! — предложил хозяин.
«Почему бы и не подкрепиться?» — подумал Федор и, не дожидаясь повторного приглашения, нанизал на вилку с десяток ломтиков колбасы.
В салон вошла Ксения. Волосы ее были влажны и уложены. Губы подкрашены — незнакомая, чужая женщина: капризная и скандальная. Глаза были устремлены на Серого. Они метали молнии, приготовившись защищаться.
Энергичные глаза хозяина как-то сразу сникли и подернулись туманом. Он обвел тусклым взглядом охранников, лесоинспектора, стряхивавшего икринки с бороды. Охрана, как по команде, исчезла. Серый пристально взглянул на Ксению, сжал губы и кивнул на дверь.
Они вышли в соседнее купе. Через переборку слышны были только возбужденные интонации перебранки, но смысл разговора понять было невозможно. Дверь снова прострекотала роликами. Из нее котенком выпрыгнула Ксения. За ней, горбясь, вышел Серый. По лицам их Федор понял, что Ксения одержала верх в какой-то им только известной логике их запертого на сто замков мира.
Серый слегка загрустил, стал рассеян и задумчив. Налил себе водки в рюмку, молча выпил.
Поелозил взглядом по богатому столу и снова выпил, затем закурил.
— Ну что ж, можно прямо сейчас выходить, — сказал Федору, не поднимая глаз. — Рюмочку на посошок? — спросил насмешливо.
— Федор Иванович водки не пьет! — с укором сказала Ксения отнюдь не серебряным голоском. И выдержав паузу, таким тоном, будто сообщала, что лесоинспектор, кроме всего, еще и владелец крупного банка, добавила: — Он пьет только самогон.
Серый шевельнул бровями и развел руками: мол, чего нет — того нет!
— Перед дорогой только чай! — встал Федор, отодвинув чашку.
— Ну, тогда с Богом! — хмелея, усмехнулся Серый.
Глаза у Ксении потеплели. Она шагнула к Федору, положила руки на его плечи, чмокнула в щеку и прощебетала милым голоском:
— Страшно подумать, что я могла остаться там еще на ночь одна. Спасибо! Возьми на память, — протянула никелированный пистолет. Спохватившись, обернулась к Серому, спросила грубовато: — Можно, подарю?
Тот пожал плечами и снова потянулся к бутылке.
— Мы и так квиты! — тихо возразил Федор.
Она кивнула, улыбкой, взглядом напоминая о связывающей их мимолетной тайне, о случайных слабостях и шалостях, сунула пистолет в нагрудный карман его куртки, вниз рукоятью. Блестящий ствол торчал всем на обозрение. Федор взял его в руку, легкий, удобный, как игрушка, нехотя опустил в брючный карман, кивнул и вышел.
3
Не прошло и суток, как Федор вышел из тайги, а она уже переменилась: пряней и резче стал запах сухой травы, острей дух талой земли. Теперь он сопровождал четырех молодых тренированных ребят.
Уже по тому, как они оделись и уложили рюкзаки, лесник понял, что никакие они не спасатели.
Вскоре попутчики проговорились, что служат в каком-то вневедомственном охранном агентстве.
Нагрузились они сверх всякой меры, а лесника щадили, почитая за бороду с проседью. Старшему, белокурому охраннику, которого Федор увидел первым, было под тридцать. Он назвался Серегой, был высок, коренаст и добродушен. Примерно таким Федор когда-то представлял себе зятя, с которым мог бы построить терем над морем.
На кордоне Сергей азартно взвалил на себя преогромный рюкзак, повесил на шею снайперскую винтовку с оптикой. На поясе у него была кобура с пистолетом. Самому младшему, смешливому и усатому парню было слегка за двадцать, может быть двадцать четыре. Он, единственный из группы, курил. К тому же, как это принято у многих прибайкальских селян и горожан, бросал окурки под ноги. У него, кроме огромного рюкзака, был автомат с подствольником. Остальные были вооружены короткоствольными омоновскими «касучками». Все, чего смог добиться от «спасателей» Федор, — формального обещания не стрелять без его разрешения. Да и то, согласие было дано ни к чему не обязывающим тоном.
Он шел первым, сердился и хмурился, но понимал, что находится в безвыходной ситуации. Молча шагал с легким рюкзачком и с двустволкой, то и дело оглядывался на «войско». Оружие, которое те несли с собой, по его понятиям, было признаком мальчишества. Если бы понадобилось, с любым из Верных в паре, впрочем, и в одиночку, он положил бы их всех здесь без большого шума.
Ребята были сильные, но уже через час вымотались, что было естественно с их грузом и неумелой укладкой. И одеты они были глупо и неудобно: в черные костюмы, на которых клещей заметить трудно. Вскоре выяснилось, что армейские ботинки с высокой шнуровкой меньше всего пригодны для переходов. Ребята стали часто переобуваться.
Когда молодой на очередном привале упал навзничь и закурил, Федор сел рядом и, отворачиваясь от едкой вони, поставил на землю котелок, чтобы пепел курильщик стряхивал только в него.
— Ты, батя, по башке его этим котлом! — откинувшись на брошенный рюкзак, пошутил Сергей. — Ведь «Минздрав предупреждает…»
— Когда только мы вам, горожанам, втолкуем, что в это время в лесу курить опасней, чем на бочке с порохом. Сто раз подумать и оглядеться надо, прежде чем спичку зажечь.
— Я же осторожно, отец, — устало оправдывался молодой и, суетливо спохватясь, заканючил:
— Куда мы затарились? Зачем столько жратвы? Давайте бросим половину. Дед на обратном пути заберет. Ему сгодится.
— Ладно, жратва, — снова заворчал Федор, — какой в ней вес. В тайге всякое может случиться.
Чего ради обвешались? — кивнул на автомат на груди молодого. — Из такой пукалки в зверя стрелять — самоубийство.
— Ну, дед, — усмехнулся Сергей. — От самой деревни наши стволы тебе покоя не дают… Да не будем мы стрелять в твоих зверей — не до того.
— Зачем тогда вооружились?
Четверо устало заухмылялись. Сергей терпеливо и снисходительно пояснил:
— На той девице, за которой мы идем, такие бабки висят, что если появится вертолет и нас начнут мочить с воздуха — не удивляйся.
— И что, эти деньги у нее там за пазухой спрятаны? — раздраженно проворчал Федор.
— Живешь, дед, щи лаптем хлебаешь… Твое счастье, конечно, — он помолчал и добавил скороговоркой: — Если тело исчезнет, то деньги, которые у нее в банке или еще где в деле, будут заморожены на пять лет. Этого кому-то очень хочется. Нам сказали, что никто не знает о ее гибели, однако наняли с оружием. Понял? Не понял? — взглянув на него, криво усмехнулся Сергей. — Какой там к фене зверь? Начнется пальба, хватай свою берданку и беги, не лезь в наши дела… А что, давайка, действительно, мы тебе продуктов отсыплем. Консервов можно половину сбросить…
Чтобы не пакостить землю новым кострищем и в целях пожарной безопасности, Федор привел охранников к лагерю, в котором ночевал с Ксенией. Он дал им спокойно пообедать и отдохнуть, затем стал поторапливать.
— Братва, уберите от меня старого зануду! — взмолился на очередном привале молодой, пытаясь тайком закурить.
Сергей, тяжело дыша, отрезал строго:
— Докуриваешь последнюю. Пока не придем, чтобы воздух не портил. Правильный дед. Курить вредно.
Выйти к скалам засветло они не успели. Но уже то, что дошли без ночлега, в глазах Федора было подвигом. Когда сбросили рюкзаки возле полощущей на ветру, завалившейся на бок палатки, было темно. Охранники попадали на землю. Федор и сам устал, пристраиваясь под чужой шаг, хотя, в отличие от молодых, шел налегке. Немного отдохнув, развел костер в выстывшем кострище.
— Вы пока тут ужин сгоношите, а мне дайте фонарь, схожу посмотрю, на месте ли скалолазка.
Что-то мне не нравится, — проворчал. — Что-то не так, не пойму что.
— Не могла же она уйти? — настороженно просипел старший и, выбросив из рюкзака мощную фару, нехотя предложил: — Мне с тобой пойти?
— Отдыхай! — Федор вскинул на плечо двустволку и, не включая фару, ушел. Темень была вечерней, не густой. К тому же на небе сияла луна, и ему хватало света, чтобы ориентироваться.
До того места, где был оставлен труп, он дошел минут за десять. Ошибиться Федор не мог.
Остановился, прорезая тьму мощным лучом. Веревка все так же висела на скале, сугроб под ней еще не растаял. В тишине чуть слышна была приглушенная капель. Но на снегу ничего не было. Федор ругнулся и еще раз провел лучом от веревки к скальной плите, где нашел скалолазку, потом к сугробу: «Склероз ли, чо ли?» — подумал, холодея. Но нет. Ошибки быть не могло. Труп исчез.
Подсвечивая, он быстрым шагом вернулся в лагерь. Здесь ярко горел костер, пряно пахло какимито паштетами и специями. Молодежь готовила ужин и ночлег.
— Что? — обернувшись к нему, кивнул Сергей, шепелявя набитым ртом..
— Нету! — развел руками Федор.
— Чего нету? — вскочил тот и, сплюнув, закашлял.
— Тела!
— Да ты чо, дед! — вскрикнул молодой. — Нас всех за нее на пятаки порубят. И тебя тоже!
— Всем молчать! — оборвал его старший. По замершим лицам его спутников и по тону, Федор почувствовал жесткую дисциплину, связывавшую эту, на первый взгляд, товарищескую вольницу. — Дед причем? — добавил строго. — Клиент гарантировал секретность в течение трех суток. Опередить нас не могли. Саня, остаешься здесь. Остальные со мной. Батя, возьми что-нибудь, перекусишь на ходу.
С самого начала, еще в салоне министерского вагона, угощаясь бутербродами с икрой, Федор догадывался, что его втягивают в темные дела. Но где они теперь, дела законные и легальные? Мало ли неудачливых туристов терялось и гибло на его территории за четверть века? Мало ли всяких разбогатевших придурков ездит в министерских вагонах и жрет икру с таким видом, будто это самое важное дело? Но с миром, где в ходу большие деньги, он столкнулся впервые и по лицам охранников понял, что ситуация более чем серьезная.
— Есть догадки, — сказал. — Свет нужен. Берите фонари и пукалки.
Скользя подрагивающим лучом по мрачным скалам, он снова шагнул во тьму. Отблески костра пропали. Федор слышал за спиной усталое пыхтение «спасателей», бряцанье их оружия. Вчетвером, подсвечивая фарами и фонарями, они пошли к месту трагедии. Осветив и обследовав окрестности, лесник обнаружил на кустарнике, чуть ниже по склону, пух от спального мешка. Вскоре на песчанике нашел след волока и отпечаток медвежьей лапы.
— Едят вашу золотую девчонку! — пробормотал, вставая с колен и указывая куда светить. Четыре луча заметались по камням и кустарникам.
— А там что? Вон белеет, — подергал лучом один из охранников.
Федор пригляделся и, кивнув, пошел вперед, подсвечивая себе под ноги. Вскоре разглядел и опознал в низкорослом багульнике тот самый спальный мешок. В ноздри ударил душный едкий запах зверя. Казалось, дух этот был еще теплым. Федор остановился, скинув с плеча ружье.
— Не стрелять! — приказал хрипло и дал дуплет в воздух. Кажется, в тот же миг у костра застрекотал автомат, и в небе заискрилась трассирующая очередь. — Я же сказал — не стрелять! — вскрикнул Федор.
Сергей, выхватив из кармана радиотелефон, прокричал:
— Кто тебе разрешал палить, козел?!
В телефоне раздался писк, виноватый голос что-то забормотал в ответ.
Они подошли к белевшему предмету. Это был тот самый спальный мешок. Он был изодран, но не пуст. Федор нащупал «собачку» и вжикнул молнией. Лицо скалолазки было опухшим, неузнаваемо круглым, рот раскрыт и оскален. Казалось, она беззвучно хохочет над шуткой, устроенной «спасателям» и лесоинспектору.
— Она? — настороженно спросил Сергей.
— Она!
— Ну, мля, — кто-то выругался и сплюнул за спиной. — Хоть голова цела!
Федор застегнул молнию и брезгливо выдохнул в сторону. Запах уже был не слабый. Охранники, отплевываясь и морщась, обвязали кокон веревками и понесли вверх. Федор то и дело оборачивался, отступая, водил лучом по сторонам, ждал возможного броска зверя — большой палец на курке, указательный на спусковом крючке.
— Помоги, дед! — попросил Сергей. — Хоть под ноги посвети.
— Лучше я вас прикрою. Это как раз тот случай, когда зверь может напасть.
Трое то и дело спотыкались, приглушенно поругивались и поплевывали, придерживая болтавшееся на шеях оружие. По пути несколько раз отдыхали. Медведя не было слышно. Наконец они вышли на свет костра, бросили тело шагах в двадцати от огня. Федор предложил положить поближе, но все четверо заспорили, дескать, они не патологоанатомы, а охранники.
— Вам видней, — пожал плечами Федор. — Только если медведь наглый и голодный, он за девчонкой вернется.
— Да видно же ее. Мы еще подсвечивать будем.
— Как хотите! — отмахнулся Федор, но на всякий случай взял веревку, брошенную рядом с чьимто рюкзаком, привязал конец к стяжке на спальном мешке погибшей скалолазки. Другой конец, размотав веревку, принес к костру, раздумывая, за что бы его привязать. На глаза попался пень, принесенный охранниками для костра.
— Ты, батя, ужинай и отдыхай. Теперь мы сами разберемся. Спасибо, выручил. Если все нормально — приедем к тебе в гости и привезем самую большую бутылку. Ну а свои заработанные ты получишь, это я обещаю.
— И благодарность от начальства, и премию, как положено.
Федор пожал плечами, присаживаясь к костру. «Деньги, конечно, лишними не бывают», — подумал, а вслух сказал, кивнув на белевший в темноте кокон:
— И я, и вы, и наше начальство — все этим кончим. А вот скалы, тайга, море должны остаться.
— Все правильно! — зевнул Сергей. — Нам бы твои заботы!
— При нашей зарплате, — ухмыльнулся молодой, прикуривая от уголька.
Охранники приглушенно рассмеялись, а Федор, подхватив рюкзак и ружье, отошел в сторону под нависший карниз скалы, из-под которой все было видно, а спина защищена от ветра и нападения. Он расстелил спальный мешок, положил ружье под бок. Долго лежал и не мог уснуть, поглядывая в сторону костра.
Сменился часовой, то есть было уже далеко за полночь. Наконец, на какое-то время, леснику удалось забыться в тяжелом сне. Или так показалось…
Раздался вопль. Федор выскочил из мешка, прижался спиной к скале и взвел курки ружья. Тлел затухающий костер. Охранники повскакивали с лежанок и водили лучами фонарей по склону, невидимому из-под скалы. И там прострекотала вдруг долгая, как простуженный кашель, тявкающая автоматная очередь. Охранники у затухающего костра тоже открыли беспорядочную стрельбу.
Огненные трассеры прочерчивали длинные светящиеся линии, от которых у Федора мурашки побежали по спине. Трое побежали вниз.
Пока лесник обувался стрельба стихла. Один из охранников привел в лагерь постанывавшего товарища, бросил автомат на землю и стал раздувать огонь. Федор подошел к ним, взглянул на стонущего и приглушенно выругался. Вскинулось пламя над хворостом, высветив двоих и расстеленные спальные мешки. Вскоре еще двое выволокли на свет костра многострадальный труп скалолазки в изодранном в клочья спальном мешке. На этот раз его бросили вблизи от огня. Остро пахло жженым порохом. Федор сел, опираясь на приклад ружья.
— Это не медведь, дед, — захлебываясь и тяжело дыша, вскрикнул Сергей. — Это слон. Я в него пол-обоймы всадил — хоть бы что… А ты, мудак, спал на посту? — влепил подзатыльник поскуливавшему.
— Я же веревку к ноге привязал! Только голову на колени положил…
— Подлый медведь у тебя на подотчете, дед, — оправдываясь, попытался пошутить часовой. — Мочить таких надо.
— Чо он лезет и лезет, людоед! — возмутился кто-то в темноте, тяжело дыша.
— Ты не переживай, — сказал Сергей Федору. — Нашим клиентам с твоим начальством договориться — плевое дело. У них связи, какие тебе не снились. А мы подтвердим — людоед был.
— Рассветет — посмотрим! — пробурчал в бороду Федор.
— Вроде, мы его уложили!
— Завалили некрофила. Своими глазами видел.
— Сколько времени? — хмуро спросил Федор.
— Шестой!
— Скоро рассветет. Сготовим завтрак и будем собираться, — сказал Сергей. Это прозвучало как приказ, не терпящий возражений и обсуждений.
— Повезло вам, ребята, — со скрытой угрозой, оскорбленный несправедливостью этого везения, процедил сквозь зубы Федор. — Хотя, день только начинается. Как он закончится — одному Богу известно.
Пятеро у костра еще не закончили завтрак, когда из мрака стали выплывать очертания ближайших скал. Старший начал поторапливать товарищей. Молодежь по-армейски быстро собралась. Часть продуктов они снова оставили Федору, решив поголодать, но облегчиться. Тело завернули в палатку и приготовили к транспортировке.
Федор тупо смотрел на сборы. Бессонная ночь давала о себе знать. Гулко билось в груди усталое сердце, по телу растекалась тупая боль. До него стало доходить, что ребята собираются транспортировать ношу на веревках перекинутых через плечи. «Эдак далеко не уйдут, — подумал. — Начнут вырубать волокушу. Конечно, загубят самые лучшие деревца, срубят много лишних». Ему хотелось дождаться, когда они, наконец, уйдут, лечь и долго-долго спать.
Превозмогая тупую тяжесть в теле, Федор встал.
— Надо вырубить жерди для волокуши, — сказал. — Не ждите меня. Догоню.
— Шеф! — взмолился Молодой, глядя на Сергея. — Надо же посмотреть на некрофила. Хоть клок шерсти взять на память.
При всей ответственности, Сергей не удержался от соблазна и, с мальчишеским озорством сверкнув глазами, сдался:
— Пять минут! — сказал, сбрасывая уже закинутый было на плечо рюкзак. Охранники гурьбой побежали вниз по склону, к месту ночной стрельбы. Федор молча сидел у выстывавшего костра и смотрел на тлеющие угли. Молодежь вернулась притихшая и чем-то озабоченная.
— Нету… медведя, — виновато глядя на Федора, сказал Сергей. — Уполз что ли? — пожал плечами.
— Может быть, уполз, а может, убежал, — пробормотал Федор, не отрывая глаз от тлеющего кострища.
— И что? За нами увяжется?
Федор чуть повел плечом и поднял усталые глаза:
— Шли бы вы поскорей! — поморщился с досадой и добавил мягче: — Путь не близкий…
Охранники надели рюкзаки, подхватили за веревочные петли упакованный труп и побрели на запад, в сторону трассы. Федор накинул на плечо двустволку, спустился к тому месту, где была стрельба. Походил кругами по склону. Среди чапыжника, посыпанного белым пухом, нашел медвежьи следы с кровавыми пятнами. Крови было немного, что естественно для боевого оружия малого калибра. При этом лесник старательно вынюхивал запахи. Его интересовал не столько сам раненый зверь, сколько гарь. Трассирующие пули могли подпалить какую-нибудь гнилушку.
Раздуваемая ветром, через час-другой она пустит пал. Ночь, проведенная у костра, и потяга сверху, от лагеря, притупили обоняние. Сколько Федор ни водил носом — запаха дыма уловить не смог. Зато всем телом ощущал на себе взгляд зверя.
Будто когда-то это уже происходило с ним, он остро почувствовал, что медведь лежит поблизости, жмурясь от боли и обнажая клыки, наблюдает за человеком. Зверь был мучительно голоден и тяжело болен. Он ждал и берег силы для одного единственного броска, от которого зависела жизнь. Этот бросок мог разом избавить от преследователя и утолить голод.
Федор почти догадывался, в каком месте мог скрываться медведь. Он не полез в кустарник.
Присмотрев несколько чахлых березок, постоял возле них, поглаживая ладонью изъеденные лишайником стволы, выбрал два деревца похуже, побезнадежней, срубил, проредив поросль, — все равно им всем не выжить.
Он очистил от веток две жерди, приволок их к костру, сделал волокушу. Затем, тщательно залил угли, отбросил подальше подсохший лапник и, не спеша, побрел по следу охранников. Волокуша громыхала и скрежетала по камням. Лесник глядел под ноги, высматривая окурки, и не находил их.
Ребята шли аккуратно. Хоть это радовало в наступающем дне.
Федор догнал охранников под седловиной. Не прошло и часа, они выдохлись, приуныли и с радостью согласились попробовать приспособление, которое предлагал лесник. Размолвка вышла изза мелочи: им казалось, что удобней уложить труп головой вперед, чтобы сместить центр тяжести.
Федор суеверно настаивал, чтобы транспортировали скалолазку вперед ногами: по крайней мере, до тех пор, пока не уйдут с его участка.
Старший впрягся в волокушу один и, протащив ее с десяток метров, радостно вскрикнул:
— Братва, да эдак мы до трассы галопом добежим! Ну, дед, с нас еще флакон ко всему обещанному.
— Я не пью, — скромно отмахнулся Федор.
— Ну и правильно, не пей сам, но дома имей — сгодится!
Федор вывел охранников на водораздел к квартальному столбу, на границу лесничества. Указал тропу, посоветовал, если собьются с нее, двигаться строго на северо-запад — все равно выйдут на трассу.
Здесь, на высотке, охранники опробовали радиотелефон, им удалось связаться с кем-то. Они доложились и, повеселев, заспешили.
Федор почувствовал облегчение: рассеялась тупая боль в голове, успокоились ноющие суставы.
Здесь заканчивался Байкал, его бездна с водой, скалами, рыбой, тайгой, зверьми и людьми. Отсюда чужие ручьи и речки беззаботно текли куда-то вдаль, а потому, казалось, здесь даже запахи другие.
Федор на миг ощутил себя кротом, выбравшимся на поверхность. В теле появилась легкость, и он с завистью посмотрел вслед веселым, молодым ребятам, возвращавшимся в свой город: пусть грязный и заплеванный, живущий одним днем по законам ума, удовольствий, выгод и искушений.
Не прошел Федор и трети обратного пути к скалам, как увидел возле них дым. Все-таки случилось, чего он больше всего боялся: над склоном висело облако, похожее на вздувшееся лицо погибшей скалолазки. В первом порыве Федор хотел броситься вслед ушедшим охранникам и требовать от них помощи в тушении пожара. Но, поскрипывая зубами от бессилия, понял, что надеяться ему не на кого.
— Гады! — пробормотал. И так грешно, так мучительно захотел, чтобы вместо медведя страдали эти самонадеянные молодчики, созданные по образу и подобию Божию. Здесь, у края бездны, их гибель была ничтожней и безвредней, чем случайно раздавленных клещей или комаров. Но она уже ничем не могла помочь раненому медведю, лупоглазым лягушкам, вмерзшим в тину болот, спящим стрекозам. Спасти все это мог только последний из Верных, еще способный тушить пожары. А каждая минута промедления уносила сотни жизней.
Ветер дул из пади, и гарь поднималась к скалам. Федор мгновенно оценил ситуацию. Дальше скал пал уйти не мог. Жаль было всех, ждущих весны байкальских тварей, обреченных на выжигание. Но им уже ничем не помочь. На севере, цепляясь за вершины деревьев, выплывало из таежного урмана серое облако. Скоро ветер должен был перемениться. Он развернет пожар. На север путь ему отрезан, на востоке им же выжженная земля. Оставался запад: не оттаявшее болото с длинными прядями сухой травы на кочках, за ним падь ручья, бегущего к Байкалу. К вечеру по ней заструится ветерок и погонит огненный вал вниз. Если огонь подойдет к болоту и будет подхвачен ветром, то к утру может выйти на берег.
И скалолазки, и охранники, и деньги, и копченая колбаса, от которой начиналась изжога, не стоили одного единственного захудалого болотца, каких у Байкала тысячи. Федор зарысил на линию, которую наметил себе издали, чтобы отстаивать болото. От осыпи, серым потоком стекавшей по склону, по ту сторону он все отдавал огню: даже раненого медведя, затаившегося в буреломе. По пути лесник вырубил толстую ветку, из которой сделал подобие грабель, бросив рюкзак на камни, стал торопливо очищать от сухой травы и хвороста полосу склона. Мешала двустволка за спиной.
Ветер сменился быстрей, чем ждал Федор. Огонь прошелся вдоль скал, взметнулся на продуваемом гребне и повернул вдоль осыпи к болоту, к очищенной от травы и валежника полосе, к бурелому и кустарнику, здесь яростно затрещал, вздыбился языками к самому небу. Из бурелома вылез медведь. Припадая при ходьбе, направился по черной не выстывшей гари к скалам, выбрался на невыгоревший островок сухой травы и улегся на открытом месте, мордой к человеку, как собака, положив тяжелую голову на передние лапы. Дела его были плохи. По тому, как он лег, Федор понял, что медведь обречен на долгое болезненное умирание.
— Угораздило тебя связаться с этой девицей! — вслух прохрипел он иссохшим горлом и снова побежал вдоль расчищенной полосы сбивать прорывающееся пламя.
В метаниях, прошла вторая половина дня. К сумеркам огонь ослаб, пожар стал выдыхаться и тихо попыхивал разрозненными очагами, рассчитывая на свое коварство и промашку уставшего человека.
Пал был локализован, но погасить пламя на пнях и сушинах могли только дождь или время. При благоприятных условиях пожар мог сожрать сам себя и остыть.
Только тут Федор вспомнил, что не ел, и почувствовал страшную, нестерпимую усталость, когда хочется упасть на том самом месте, где стоишь, что бы ни было под ногами. Но он дотащился до ручья, натаскал сухой травы, бросил на нее спальный мешок, лежа припадал к котелку с ледяной водой, грыз осточертевший сервелат.
То впадая в тяжелую дремоту, то настороженно просыпаясь, он вглядывался во тьму с яркими цветами догоравших костров. Иногда их отблески высвечивали медведя, которому достаточно было света звезд, чтобы видеть человека, лежавшего к нему лицом, открывавшего и закрывавшего усталые глаза, в которых мерцали отблески пламени.
Федор все чаще впадал в забытье, с трудом приходя в себя. Разлепливал тяжелые веки. Сердце стучало гулко и учащенно, тело было вялым и больным, от одежды смрадно несло прогорклым потом и сырой золой. Он поглядывал на склон, находил знакомый бугорок, успокаивался и сочувствовал ему, понимая: будь у медведя достаточно сил, тот не упустил бы шанс напасть этой ночью.
Начался рассвет, притухли и поблекли светящиеся костры. Теперь на месте черной гари веретенами тянулись дымы и выгибались дугами к Байкалу. Четче обозначились контуры лежавшего зверя. Федор хотел было вылезть из отсыревшего спальника и согреть воды. Медведь шевельнулся вдруг, задрал голову, словно беззвучно завыл, глядя на высокие, гнущиеся дымы, поднялся и сделал неверный шаг вниз по склону. Федор придвинул ружье и расстегнул потертый подсумок с патронами.
Поводив носом, медведь сделал еще один шаг, еще и еще, медленно приближаясь к человеку, лежащему на краю болота. Покачиваясь на коротких кривоватых лапах, перед каждым шагом он подолгу высматривал путь. Минута за минутой расстояние между ними сокращалось. Остановившись в очередной раз, зверь повернул голову к пади, подставив под выстрел мохнатую шею.
— Прости, братишка! — прошептал Федор. — Так будет лучше для всех, и для тебя тоже! — Он плавно спустил курок, и медведь покорно лег, устало уронив тяжелую голову. Федор перезарядил ствол и, тщательно целясь, выстрелил еще раз в круглое мохнатое ухо. Он понял, что не промахнулся, бесшумно опустил курок заряженного ствола, отложил ружье в сторону, нахохлившись, под накинутым на плечи спальным мешком, разжег костерок и склонился над ним, будто хотел обнять робкий огонек. Внутренний озноб, дрожь и боль стали замирать в натруженном теле. Федор попил согревшейся воды, пососал тающее во рту иностранное печенье в яркой обертке, снова залез в проволглый мешок и уснул, пригреваемый восходящим солнцем.
Проснулся он от рева кружащего над ним пожарного самолета. Чувствуя себя отдохнувшим, выскочил из спального мешка. Сунул босые ноги в сырые сапоги и вышел на открытое место. На фоне обгорелого, черного склона он был заметен. Кукурузник, развернувшись еще раз, покачал крыльями. Федор дал знак, что пожар локализован, что он контролирует ситуацию. Пожарник снова покачал крыльями и улетел в сторону Байкала.
Тогда лесник закинул за спину ружье и зашагал к убитому медведю. Склонился над ним, потрепал по лохматому, невылинявшему загривку. Зверь был по-весеннему суховат, но не настолько, чтобы лезть на рожон из-за мертвечины. Был он среднего размера и среднего возраста. Шансов выжить у него, действительно, не было: почти не кровоточили полдесятка ран, но начал воспаляться и вздулся кишечник. Федор с легким сердцем вспорол израненный живот убитого зверя, приглашая воронье и всех уцелевших на пожаре зверушек на пир. Пора было подумать о себе: приготовить обед и основательно подкрепиться, прежде чем тушить дотлевавшие головешки.
4
Блуднов выл, как придавленный пес, громыхал костылем, мотал головой, бил себя кулаком по лбу.
Вчера с пожарника ему передали, что возле скал локализован пожар, при нем находится человек.
— Ведь это я, придурок хромой, навел на тебя этих котов. Я им выпишу штраф по полной схеме, я им насчитаю: за каждую сгоревшую личинку заплатят… А ты молодец! — скупо похвалил Федора. — Из меня, кого там, половинка осталась, и та при дурной башке. Насчитаю я им… Ох насчитаю…
— Что толку? — пожал плечами Федор. — Денег у них — море. Начальство — насквозь продажное. Твои докладные даже в архив не попадут. За что воюем, Блуда? — вздохнул. — Кому служим?
— Кому надо — тому и служим! — отрезал Блуднов. Безгубый рот был растянут до ушей, обнажая оскал щербатых зубов. Желваки на небритых щеках вздулись: — Что трепаться о пустопорожнем.
— Пора домой, — поднялся Федор. — Баньку натоплю, попарюсь, а то засмердел. Сегодня, кстати, какое число? — спохватился.
— Двадцатое!
Федор присвистнул и стал торопливо собираться к дому.
— Я тебе вместо премии новый камуфляж дам и сапоги. Яловые. А если в город надо — позже съездишь. Хариус отнерестится — и езжай! — сказал вслед Блуднов.
Не отпирая дом, Федор зашел в баню, сбросил с себя всю одежду, осмотрелся — нет ли клещей, и замочил сразу все: ветровой костюм, портянки, майку. Растопил печь, накинул на плечи тесный халатик жены, сиротливо висевший в предбаннике, пошел в дом.
Кажется, стены радостно подались навстречу, едва он открыл дверь. Больно вспомнилось, как в последние дни, когда она уже не могла говорить, проснулся за полночь, прислушался, встал и заглянул в ее комнату. Ночник был почему-то погашен. Он склонился над женой во тьме, и она радостно подалась ему навстречу, ища его ладонь, защиту и поддержку от ночных мыслей и видений.
Он включил настольную лампу, жена пристально смотрела на него бессонными и счастливыми глазами, в которых носились тени претерпеваемой боли.
— Баралгин? — тихо спросил он.
— Нет! — ответила она одними глазами.
— Анальгин?
— Нет! — во взгляде была спокойная тоска, теперь, кажется, навсегда переселившаяся в этот дом.
Она просто лежала, прижавшись лбом к его руке, цепляясь тонкими пальчиками за его ладонь, счастливая тем, что он рядом. Он, измученный недосыпанием, состраданием, еще не понимал, как счастлив был даже в ту ночь рядом с ней.
Федор сел в кресло и долго смотрел на фотографию, с невысказанным вопросом в глазах, с предчувствием судьбы. По лицу жены пробегали живые тени, губы подрагивали, беззвучно шепча:
«Ах, Федя, Федя!»
Он выстирал одежду, развесил ее на ветру, вычистил ружье и только после этого начал париться потрепанным веником, оставшимся от Ксении. Не спешил: остывал в предбаннике и снова поддавал пару. Потом, попив кваску из березового сока, окатился холодной водой. С пальца соскочило обручальное колечко и, к счастью, упало в таз. «Исхудал!» — провел ладонью по ребрам Федор.
Положил колечко на припечек, от греха подальше, чтобы не разбирать потом банные полы.
Окатившись еще раз, настежь распахнул все двери, слегка обтерся и пошел в дом. И пара, и горячей воды было много. Баня строилась в расчете на большую семью, на внуков и гостей. Теперь все было для одного — просторно и громоздко.
Смеркалось. Полежав, отдыхая, на супружеской постели, обсохнув, Федор надел свой парадный инспекторский мундир. В церковь и на кладбище уже не попасть — нужно было хоть как-то отметить день рождения жены. Он зажег лампадку под образами, накрыл стол скатертью, выстиранной и отглаженной ее руками, достал праздничную посуду — получше, подороже, покрасивей, разложил принесенную с собой закуску, наварил картошки, поставил на стол венчальные свечи и ее фотографию.
Жена перед кончиной настрого наказала не поминать ее спиртным. Собственно, Федор со времени ее болезни почти не пил ничего крепче кваса, а с тех пор, когда ей стало очень плохо, — не брал ни капли спиртного в рот. Слишком отвратительные воспоминания остались смолоду о соседе, запившем горькую из-за смертельно больной дочери, которую он бросил на измученную жену, слюняво откровенничая со случайными собутыльниками, ища сочувствия в пьяных компаниях.
И все же, это был день рождения любимой женщины. Была усталость пережитого пожара.
Хотелось маленького праздника. Во всем этом было нечто не вполне церковное, народно-языческое, приспособленное именно под ту удаленную, замкнуто-таежную жизнь, которой жил он. Федор взглянул на фотографию, пожал плечами в погонах, пробормотал, оправдываясь и крестясь:
— Блажь, но без всякой чертовщины! Пить буду только за свое здоровье.
По фотографии, как по лицу спящего человека, чуть приметно скользнули тени. В доме было сумрачно. Солнце давно закатилось, а он не включал электричества. И ему показалось, что она мигнула, как в последние дни подавала знак, соглашаясь или разрешая.
Почитав молитву вдовца, он вернулся к столу, достал застоявшийся штоф с самогоном, налил себе, сказал фотографии:
— Цветов я тебе в этот день дарил мало, на подарки был скуп. Так-то вот! Что уж там, хреновый был муж. Но по большому счету прожили мы с тобой даже лучше, чем большинство наших сверстников… Первый твой день рождения… Без тебя… Впрочем, почему же первый? И прежде бывали врозь.
Федор вспомнил, что тогда были телефонные звонки и был ее голос… Ах какой у нее был голос!
Он выпил залпом, покряхтел, порылся вилкой в тарелке с грибочками. Хмель резко ударил в голову, фотография поплыла. В доме стемнело. Включать электричество не хотелось: яркий свет все опошлит и опростит до цинизма.
Федор нащупал спички на печи, зажег венчальные свечи. Снова взглянул на фотографию. В полутьме жена смотрела на него чуть насмешливо. Что-то язвительное должно было вот-вот сорваться с ее губ. Он вдруг вспомнил, что хотел поставить венчальные свечи в венчальные кольца.
Схватился за свой безымянный палец.
— Колечко забыл в бане! — пробормотал. Достал из припрятанной коробочки ее обручальное кольцо, по настоянию батюшки снятое с руки перед закрытием гроба. Чуть закоптив золото, вдел горящую свечу в него. Вышел на крыльцо. На небе высыпали первые звезды, по пади струился прохладный ветерок. Клонясь верхушками к Байкалу, во тьме приглушенно шумели деревья.
Поскрипывая начищенными сапогами, он прошел по двору к бане с закрытой почему-то дверью.
Слегка удивленный, вспомнил, что забыл включить рубильник в сенях, и баня обесточена.
Чертыхнувшись на рассеянность, опьянение или склероз, Федор вошел в теплый предбанник — дверь в парную была плотно прикрыта. «Подпалил мозги на пожаре, или чо ли?»- сердясь на себя, подумал Федор, резко распахнул дверь в парную, шагнул в жаркую сырую темень, хотел пошарить на припечке рукой, но побоялся неверным движением уронить колечко на пол. Вытащив из кармана спички, чиркнул и ахнул, невольно отступив назад. Из-за печки выпученными глазами на него смотрела разбившаяся скалолазка. Федор замотал головой, замычал, ударился затылком о низкий дверной косяк, выругался, чиркнул новой спичкой и снова увидел те же самые глаза.
— Свят, свят! — перекрестил привидевшееся. Девица не исчезла. Федор заметил, что та голая, напугана и прячется.
— Чего тебе от меня надо? — проверещало вдруг видение таким жалостливым голоском, что ужас, пронизавший было лесника, слегка отпустил. А вот хмель выветрило напрочь.
— Кольцо! — пробормотал он, чувствуя, как жжет ногти догорающая спичка.
— Это все, что у меня осталось! — пискнула девица, что-то сорвала с пальцев, высунувшись из-за печки, махнула голой рукой, переходящей в выпуклость груди. Мизинец резко обожгло, словно Федор сунул его в капкан.
Он бросил спичку, застучав зубами в темноте, уронил коробок и взвыл от боли. Схватившись за левую руку, нащупал кольцо на мизинце. Пытаясь сорвать его, вскрикнул:
— Земля пухом! Что плохого тебе сделал? — сунул руки в бочку с холодной водой, сорвал кольцо и выбежал из бани.
Ничего не соображая, пулей заскочил в дом, щелкнул выключателем. Комната залилась ярким электрическим светом. Стол был не тронут. При ярком свете почти невидимые язычки пламени на свечах и лампадке покачивались обыденно и уютно. Все молитвы вылетели из головы. Федор подскочил к образам, покрестился, мыча и мотая головой. Налил самогона в стакан, выпил залпом, занюхал квашеным капустным листом и, наконец, пришел в себя.
— Чушь какая-то! — пробормотал, взглянув на ухмылявшуюся фотографию жены. — Да что я, псих? — Вытащил дареный пистолет, проверил обойму, передернул затвор, поставив на предохранитель, вышел в сени, включил рубильник. Двор и баня залились ярким светом.
Сжимая удобную рукоятку пистолета в кармане, Федор решительно направился в парилку. Дверь опять была закрыта. Он резко потянул ее на себя. Она подалась и снова затворилась, удерживаемая изнутри обнаженной рукой.
— Ты кто? — прорычал Федор.
— Люся!
— Какая Люся? Рыжую Светкой звали!
— Я из порта! Ну что вам от меня надо? — взмолился голос, готовый сорваться в слезы.
— Мне в моей бане мое кольцо надо! Оно возле трубы лежит!
— И правда лежит! — успокаиваясь, ответил голос. — Дайте что-нибудь надеть. Я — голая.
Федор сорвал с вешалки халатик жены и сунул в приоткрывшуюся щель. Вскоре дверь распахнулась. В освещенной парилке стояла босая, дрожащая от страха девица с ковшом в руке, готовая в любой миг защищаться. За печкой висела ее сырая одежда. На мертвую скалолазку она ничем не походила, разве только рыжеватым венчиком влажных волос, с прядями, прилипшими по щекам. К тому же, при ярком электрическом освещении Федор узнал в ней одну из местных девчонок, лицо которой за многие годы примелькалось в пригородной мотане. Стыдясь испуга, спросил строго:
— Ты как в моей бане оказалась? Ворота заперты.
— Я часто езжу мимо, вижу, как вы ходите через огород. Хотела тихо посушиться, погреться и все…
Федор переступил порог. Девица боязливо отступила, держа ковш на отлете. Обручальное колечко мирно лежало и поблескивало там, где было оставлено. Он надел его на палец и спросил с насмешливым недоумением:
— Ты чо мне на мизинец напялила?.. Эдак ловко, — он взглянул на красный опухший сустав и болезненно подул на него. — Чуть палец не покалечила.
— Со страха само так получилось! — призналась девица, виновато улыбнувшись. Положила ковш на лавку, шагнула к нему, с любопытством разглядывая погоны и нашивки. — Заскакивает какой-то…
То ли полицай, то ли лесной брат и требует кольцо… Чуть не описалась со страха. Забери, думаю, только не тронь… Ой, дура, — прыснула она, закрывая лицо руками, — пока ждала тут, на полустанке, мотовоз, с туристами связалась. Хотела посидеть у костра — все не одной на перроне торчать. Ну и посидела, еле вырвалась от малолеток. Аж искупаться пришлось. А тут, гляжу, банька истоплена, никого нет, в окнах свет не горит, двери нараспашку. Дай, думаю, погреюсь и посушусь.
— Они что, изнасиловать тебя пытались?
— Да ну их, салажат. И сама тоже — дура! Можно я погреюсь и высушусь?
— Жалко что ли! Сохни, нерпа! — великодушно разрешил Федор. — Будешь уходить — скажи, чтобы свет вырубил.
Пригнувшись у низкого косяка, он шагнул за дверь и обернулся:
— Колечко твое, наверное, в бочке. Больше ему негде быть. Ты пошарь там на дне…
Он вернулся в дом. Задул свечи. Вечер памяти был безнадежно испорчен. «Кем? — Федор покосился на штоф, бросил сконфуженный взгляд на фотографию. — Вот и думай — бесовщина ли, водка ли во всем виновата», — вздохнул, устало провел ладонями по лицу, поднялся, убрал со стола свечи и фотографию. Положил на место кольцо жены, разрядил пистолет, переоделся в будничное.
Время было позднее. Если бы не выпитое — можно лечь спать. Электрический свет раздражал.
Федор зажег керосиновую лампу, поставил ее на стол, налил кваса и принялся за обычный ужин.
В сенях зазвенело пустое ведро. Кто-то в темноте нашаривал ручку входной двери. Он встал, распахнул ее и внутренне содрогнулся — до того ночная гостья в халатике с чужого плеча походила на жену.
— Можно?
— Заходи! Согрелась?
— А что это вы в темноте сидите? — она удивленно взглянула на керосиновую лампу.
— Пробки сгорели! — ляпнул он первое, что пришло в голову. — Садись. Есть будешь? — достал чистую тарелку.
— Ты один? А жена где? — взглянув на постель с откинутым одеялом, спросила она. — Я хотела извиниться перед тетей Наташей, что в баню залезла без спроса.
— Ты ее знала? — спросил Федор, раздумывая, что ответить.
— Конечно. Давно. Еще в школе училась. Она уехала?
— Да! М-м! В общем…
— В Иркутск? — девица села и тряхнула волосами так, что у него заныло под сердцем.
— Дальше!
— В Москву что ли? — она вскинула на него большие глаза.
— Если бы в Москву, — вырвалось у него. — Еще дальше, — пробурчал неохотно и добавил вдруг, кривя скрытые бородой губы: — В Америку улетела! Залетный штатовский турист увез, — пошутил горько. И его понесло: — Распоясались капиталисты. Все из страны повывозили, теперь за породистых баб взялись. У них что там — поросячья кровь?
Он шутил, потому что откровенничать с полузнакомой девчонкой было еще глупей, хотя она и знала его жену. Как ни странно, гостья ему поверила и застрекотала:
— Она очень хорошая женщина…
Глупая, неумелая шутка вдруг начала преображаться в самообман, увлекать и затягивать. Федор впервые почувствовал, как был бы рад сейчас, если бы жена была жива и где-нибудь на другом континенте так счастливо жила с другим, что напрочь забыла бы о нем. Ну, как дочь. Ему хватило бы этого… Даже без ее голоса по телефону… В ее день рождения с этой случайной девчонкой.
— Ты ешь. Предложил бы выпить после купания, да грех — тебе лет двадцать-то есть?
— Тлидцать тли узе, дяденька. Доська сколу заканчивает, — съязвила она и скомандовала: — Наливай!
— Какие тридцать? Ты же недавно еще в школу на мотане ездила? — удивился он.
— Семнадцать лет назад.
— Ну, если так, то растлителем меня никто не назовет. Впрочем, все равно бесовское зелье, хоть и самогон. Наливай сама, сколько хочешь, я уже, — он придвинул ей штоф и поставил чистую стопку.
Люся фыркнула налила себе и ему тоже.
— А вот это зря, — тряхнул он бородой. — С меня хватит: выпил первую — в собственной бане голая девка чуть палец не сломала; выпил вторую — чуть черпаком не огрела. Что будет после третьей?
— Бог Троицу любит! За компанию? — тряхнула она кудряшками.
— Уговорила. Последнюю! Из дамских рук отрава — сахар! — пошутил пошловато. — С «приплытием», нерпа. С открытием купального сезона.
Они чокнулись, выпили. Она поморщилась, помахала ладошкой у раскрытого рта и принялась за еду, нахваливая соленья, которые, как думала, приготовила его жена.
— Ее здесь все любили. Я еще в интернат ездила, она меня пирожками угощала. Думала, вырасту, стану, как она, а вышло как у всех — сразу после школы за местного замуж выскочила. В семнадцать дочку родила. Муж из армии вернулся — запил. Потом пить бросил, стал читать, с приличными людьми встречался. Зря радовалась. Умники оказались сектантами. У мужа крыша поехала, хуже чем с пьянки: нас дочкой из дому гнал, говорил, что у него энергию отсасываем… А после — застрелился, — Люся без печали, с озорством, взглянула на лесника блестящими глазами. — Зачем я тебе это рассказываю? — И спохватилась, в чем-то оправдываясь: — Зато доченька у меня даже не курит. Не замечала, чтобы выпивала. Мы с ней хорошо живем.
«Бедный, бедный лютик!» — первый раз внимательно взглянул на гостью Федор. На его глазах на побережье выросло несколько поколений молодых людей. Как-то уж очень быстро из милых детей они превращались в нагловатых подростков, затем в заносчивых, самоуверенных старшеклассников, веривших, что они-то знают, как надо жить, как изменить грязненький, пьяный мир родителей.
К добру ли, к худу, часть из них исчезала в городах, а те, что оставались, после недолгого своего цветения блекли, как ранние весенние цветы. В лучшем случае выживали и всей дальнейшей жизнью исправляли ошибки молодости. В худшем — опускались в погоне за дешевыми удовольствиями и свободой не думать ни о чем. Затем незаметно исчезали, не оставляя памяти.
— Значит ты — юная вдова? — думая о своем, спросил Федор.
— А ты — старый брошенка! — тут же съязвила гостья. — Ничего, наши бабы быстро к рукам приберут. Про вас все говорили, что очень хорошая семья. Только слухи всякие про лесников…
— Ну и какие же слухи? — живо заинтересовался Федор.
— Что вы, в общем, народ трезвый и себе на уме, как баптисты: чужие, темные. Боятся вас. Не без этого.
— Всегда так, — вздохнул Федор: — не накормив, не защитив, врага не наживешь!
С тех пор как они, охотоведы, обосновались здесь, десятки пришлых, беспутных бездельников, без крови, рода и племени, приживались, вписывались, становились в доску своими среди местных жителей, тоже не имевших давних корней на этой не обжитой еще людьми земле. Из ордена Верных своим здесь не стал никто.
Люся почувствовала, что задела лесника за живое, и затараторила, оправдываясь:
— Завидуют, вот и выдумывают… Пока мы в школе учились, многие мальчишки хотели быть лесниками, а девчонки — их женами. Выросли, запились, закурились…
Федор зевнул, она с пониманием заторопилась.
— Давай я посуду помою!
— Не стоит. В темноте… Завтра, сам.
— Ну хоть со стола уберу! — она составила тарелки, по-хозяйски прибрала остатки еды, вытрясла скатерть на крыльце и аккуратно сложила ее по рубцам. Привычная ловкость, с которой она все это делала, опять напомнила Федору о былом. Он хмуро поднялся со стула, вынес посуду в сени.
— Одежда только к утру просохнет. Ты — ночуй. Хочешь — здесь ложись, хочешь, бери одеяло — и в баню. Надумаешь на мотовозе уехать — могу дать одежонку: от жены много чего осталось. После свое заберешь.
— Завтра уеду, — пробормотала она, метнув в его сторону скрытый настороженный взгляд.
— Как знаешь… — Федор снова зевнул. Усталость брала свое. Он бросил на топчан свежую простынь, наволочку, подушку — все, как в вагоне. Стоя к нему спиной, гостья вытирала и вытирала в полутьме без того чистый стол.
Он вышел на крыльцо, взглянул на черное звездное небо. Хмель прошел, подступала тяжелая сонливость. Напрочь пропало ощущение телесной чистоты. Федор зашел в баню, поплескал в лицо теплой водой. На жаркой еще печи по-семейному была развешана одежда гостьи, ее белье.
«Нерпа!» — хмыкнул он в бороду, усилием воли стараясь рассеять беспросветную тоску под сердцем. Бросил на топчан полушубок — все помягче будет ночлег. На освещенную из распахнутой двери часть двора вышла Люся, зажав под мышками одеяло, подушку, простыни. В том, как она широко, по-хозяйски шагала с грузом, в осанке и в каждом движении узнавалась обычная девица с побережья: вспыльчивая и грубая. Полураспахнутый халатик с чужого плеча, сшитый для других женщин, балахонил на ветру.
Федор грустно улыбнулся, глядя на нее. Пробормотав «спокойной ночи», вернулся в дом, задул лампу, лег на супружескую постель, наспех перекрестившись на образа. И в дреме, между явью и сном, с потрясающей ясностью понял, отчего так полегчало, когда, увлекшись враньем, забыл, что жена его отнюдь не в Америке. Веры нет! Там, где сейчас находилась ее душа, не могло быть плохо.
Вся логика их земной семейной жизни вела к тому, что рано или поздно они встретятся.
Наверное, он уже уснул или задремал очень глубоко. Что-то вдруг насторожило в ночи. Федор приоткрыл глаза и увидел обнаженную спину любимой женщины. Как это часто бывало, она сидела на краю постели и смотрела на противоположную стену. В свете фонаря за окном, освещающего перрон, тускло поблескивала кожа, от нее струилось живительное тепло. Знакомым движением она потянулась, нырнула под одеяло и, прильнув, сунула холодные ладошки ему под мышки, прижалась щекой к его груди.
Сначала Федор принял это за само собой разумеющееся, счастливо забыв о времени, в котором жил. Сквозь сон он подумал, что жена вернулась из Америки, ночным мотовозом… В следующий миг, с ужасом сознавая, что начинает просыпаться, он всеми силами воспротивился тому и, боясь прервать, пусть пригрезившуюся, мимолетную ласку, о которой знали только двое на всем белом свете, прижал ее к себе. Она не исчезла. Все это было ложью. Но об этом так греховно не хотелось думать.
Рассвело. За окном привычно шумел ветер, скатываясь с гор к студеному весеннему морю. Он открыл глаза и словно споткнулся о взгляд, в котором не было ни тени сна. Подперев подбородок кулачком, незнакомая молодая женщина со смешливым любопытством рассматривала его лицо.
Федор молча смежил глаза, глубоко и шумно вздохнул, скрывая чуть не сорвавшийся стон: ее личико было премилым, но не тем, какое он хотел увидеть.
Ощущая рядом с собой женщину, он часто засыпал и просыпался этой ночью. Всякий раз, когда ночная тоскливая явь разгоняла сон и до него доходило, что это совсем другая, он вглядывался в контуры ее лица, с недоумением гладил знакомое тело, возвращаясь в свое реальное нынешнее безвременье. Лезла в голову всякая мистическая чертовщина о переселении душ, потому что этой ночи и этой женщины не могло быть по логике обыденной жизни.
— Ну и дура же она! — прошептала Люся.
— Кто? — недоуменно вскинул брови Федор.
— А твоя жена. Я еще вчера так подумала, когда ты оставил недопитой такую огромную бутылку.
Е-е-е! Такой мужик!
— Не ругайся в моем доме и не говори плохо о моей жене, — Федор ласково потрепал ее за розовое ушко. — Мы с ней прожили долгую и хорошую жизнь. — Он уже жалел о том, что заврался, и не знал, как достойно выйти из положения.
— Тоскуешь? — она схватила его бороду, сжала в пучок под подбородком, как бы примеривая, каков он будет бритым, потом стала шаловливо заплетать ее в косичку. Он потянулся, собираясь подняться. Она мгновенно прильнула к нему, свернувшись на его груди, удерживая его в постели.
— Какое счастье прожить много лет с одним человеком, — всхлипнула с такой тоской, что Федор жалостливо погладил ее по спине. — Мне бы такого мужика. — Она торопливо поцеловала его и, отвернувшись, стала беззвучно отплевываться, снимая ладошкой с губ невидимую ворсинку.
— Линяю? — хохотнул он. — Я — мужик, основательно подержанный.
Она положила голову ему на грудь, прислушиваясь к току его крови, к бою сердца.
— У меня лучше не было! — хлюпнула носом. — А сравнивать есть с кем… Опыт большой.
Иногда подопрет, посмотришь на какого-нибудь замухрышку, думаешь, все равно ведь мужик. Ладно, не помощник, хоть бы погреться обо что. А потом — только вонь да храп, или ревновать примется, драться лезет. Одного — на три года моложе — из тюрьмы вытащила. Ждала. К дочке приставать стал. Еле выгнала. Он с грязными малолетками из-под чурок спутался. Придет пьяный, станет под окнами и орет: «Сука, сифилисом меня заразила!» — Федор обнял ее. Приглушенно шмыгнув носом, она прошептала: — Не бойся, я осторожная. После этого сопляка, на всякий случай, пенициллином откалывалась.
— Осторожная? — ласково сжал ее Федор, желая отвлечь. — Сняла старого в лет и справку не спросила.
— Так чистый, солидный, серьезный! — самоуверенно улыбнулась она. — От вас, лесников, разве что таежного клеща поймаешь. Тоже опасно, но не мерзко. — Ненавижу сопляков. Никогда больше с молодым не свяжусь. Я с ним старухой себя чувствовала. А с тобой, как хрустальная ваза в лапах такого огромного медведя, — она резко подняла голову, оглаживая его ладонями, разглядывая. — С тобой я как девочка. Жаль, не сберегла себя для такого мужчины, дура!..
Глаза ее засияли ярче, счастливей, она зарумянилась и спросила в упор:
— Если твоя не вернется, ты женишься на мне?
Федор стал позевывать, потягиваться, вздыхать, повел глазами по потолку.
— Спроси чего полегче, доченька. Ты знаешь, сколько мне лет?
— Тридцать! — стала шаловливо тереться об него Люся. — Потому что старше нет таких мужиков на берегу. Я всех перепробовала… Извини! — припала к нему и снова всхлипнула. — Я только на словах такая. У меня больше года никого не было. А до того… И вспоминать-то противно. Мне хорошо с тобой, и я ни о чем другом думать не хочу. Может, судьба? Там, в бане, я будто огнем зашлась изнутри. Про тебя и мысли не было: только не умереть бы в чужом доме, думаю. Встала и пошла…
— Нагишом? — Федор опять попытался перевести разговор в шутку.
— Почему нагишом? Я одетая была, — отстранилась и обиженно надула губы Люся. — Я постучала. Хотела каких-нибудь капель от сердца попросить. А ты как облапил — ни дыхнуть, ни это самое…
Федор испуганно взглянул ей в глаза, потом скосился на стул, где лежало ее и его белье. Он ничего не помнил: ни как раздевалась она, ни как раздевался сам: только путанные мысли, обрывки каких-то снов и обнаженная спина. «Чертовщина! — подумал. — Или склероз? Ну не во сне же я с себя трусы скинул?»
Морща лобик, Люся смотрела пристально. Ждала привычного разочарования и незаслуженной обиды.
— Для ночных прогулок я тебе дал тулуп, а ты пришла в халате! — отшутился он. Неискренние его слова были приняты: она улыбнулась и снова прильнула щекой к его груди.
Ждать поезда не пришлось. Он загрохотал под окнами. Люся выскочила к перрону полуодетой и закричала знакомому машинисту, чтобы подождал. Переодевшись в высохшую одежду, она торопливо побежала к вагону. Федор ждал ее возле раскрытого тамбура. Перед тем как запрыгнуть в поезд, она на виду у всех по-хозяйски поцеловала его. Сияли глаза, шаловливые и чуть виноватые. Из вагона тут же раздались крики и насмешки.
— Люська, в бороде запутаешься!
— Хватай лесника, как за поводок!
Отстранившись, она задорно тряхнула головой:
— Пусть все знают! Временно, но мой!
Федор постоял на перроне, втягивая всей грудью прохладу моря, подпорченную гарью тепловоза, привычно осмотрел линию горизонта, гадая о погоде, и вернулся в дом, к фотографии жены, буравившей его насмешливым взглядом. Он не выспался. Он давно и хронически недосыпал. Гулко стучало в голове, хотелось лечь и забыться. Он заперся, поворочался на одной постели, перелег на другую, затем взял одеяло и ушел в теплую еще баню. С тягостными мыслями, то засыпая, то просыпаясь, провалялся до обеда. Затем резко сел, вытянулся, потягиваясь, сказал, зевнув: «Все кончено!» И пошел мыться заново теплой еще водой.
Так хотелось дожить оставшиеся годы в тишине и одиночестве, со светлой памятью о прошлом, без буйства отчаянно недолюбившей плоти. Не получалось! С душевным теплом вспомнился знакомый священник — потомок старого поповского рода, предки которого хлебнули лиха в прошедшем веке, помотавшись по миру и по лагерям, повоевав и пострадав как все. И сам батюшка, старик уже, с нелегкой судьбой, с завидной внешней легкостью претерпевал невзгоды, исполняя все возложенное на него. Страстно захотелось вдруг побывать в церкви, где венчался, поговорить со священником. И Федор решил тайком отлучиться на денек в пожароопасный период — авось пронесет.
5
На крупную, по местным понятиям, станцию, где располагался поссовет, поезд прибыл без задержки. Пассажиров поубавилось. До дома оставался час пути — спокойный час: мотаня входила в зону глубинки, в вагонах стало тихо и просторно. Поезд стоял на разъезде возле отвесных скал и ждал разрешения диспетчера на выезд. По перрону, вдоль путей, неторопливо, вразвалочку, прохаживались гуси. Дежурная по станции со скучающим видом шла вдоль состава, помахивая свернутым в трубку желтым флажком. Была она в своем обычном наряде, который, кажется, не меняла ни зимой, ни летом, в кирзовых сапогах с отвернутыми голяшками, в телогрейке и в солдатской шапке с заложенными за отворот ушами. В уголке сосредоточенного рта дымилась «беломорина». Смерив Федора начальственным взглядом, она перекинула папиросу из одного уголка рта в другой, выпустила из носа струю дыма и просипела:
— Борода! Люська портовская сидит у тебя на крыльце и на весь берег орет по телефону, что приехала трахаться!
Постукивая флажком по голенищу сапога, попыхивая едким табачным дымком, дежурная прошла мимо, уже в следующий миг забыв и о Федоре, и о Люське. Тепловоз посигналил и стал набирать ход.
Дом, в котором когда-то жили Упарниковы, был цел и закрыт на замок. В нем зимовали пришлые лесники, уволенные Блудновым. Цел был и кордон Графина. Только забор и сараи разобрали на дрова местные жители. Проплывали за окнами знакомые селения. Вспоминалось прошлое.
Споры и разногласия среди Верных появились только через несколько лет, а размолвки бывали чуть не с первых дней. С годами многое изменилось. Аспирант как-то поблек и обветшал. Он часто болел и если кто-нибудь отправлялся в город, обязательно закупал для него лекарства в непотребных для одного человека количествах. У Аспиранта был такой «прикол», и с этим мирились. От былой вальяжности и столичного снобизма не осталось следа. Он стал вспыльчив и раздражителен. Стоило Кельсию спеть новую песню или прочитать стихи, Аспирант, уже превращавшийся в Аспирина, както нехорошо бледнел, начинал азартно читать свои стихи — нудные и заумные. Замечая нетерпение и невнимательность слушателей, читал громче или азартно критиковал Кельсия, указывая сбои в размере и рифме песенных текстов. При этом он слишком часто напоминал, что до поступления на охотфак, закончил два курса филфака МГУ.
Кельсий чаще всего великодушно соглашался с критикой, что-то переделывал в песнях. Но это не утешало Аспирина. Он все время в чем-то обличал Верных, и даже Байкал. Чертил какие-то графики, оси координат с синусоидами, уверяя, что бездна, на краю которой они зависли, не так уж безобидна и действует на людей не всегда во благо: бездна она и есть бездна!
Если Аспирин заходил далеко и портил застольный разговор, кто-нибудь напоминал ему, так и не дождавшемуся предательства среди Верных, что тот может покинуть Байкал первым, в порядке исключения, без всяких обид. Это успокаивало спорщика. Затихая, он уверял, что не уедет, пока не закончит писать книгу. Намекал, что близок к какой-то потрясающей разгадке входа в байкальские информационные поля и каналы.
Однажды он пришел к Москвитиным среди ночи, принес полрюкзака исписанной бумаги и просил ее надежно спрятать. Тайком от него Федор прочел несколько страниц текста, туманного и нудного, обидев своей непорядочностью жену. Как-то пятеро Верных, собравшись, уже сидели за столом.
Ждали последнего, Аспирина. Федор, под впечатлением прочитанных страниц «романа», сказал друзьям:
— Братцы, Аспирин шизует. Его же лечить надо!
Ему казалось, что он высказал нечто настолько важное, что должно было всех потрясти. Но Верные проявили к его словам странное равнодушие. Москва повторил сказанное настойчивей.
Тогда Кельсий, как-то странно усмехаясь, рассеянно ответил, что они все здесь слегка шизуют — Байкал действует.
Граф, вздыхая и почесываясь, тихонько выругался:
— Вот ведь, зараза! Влезет в душу, да туда, куда и сам не заглянешь, найдет слабинку и так все вывернет…
— Да вы что? Тоже крыша простреливает? — возмутился Федор. — Как хотите, но я-то нормальный!
Все внимательно посмотрели на него и вдруг рассмеялись.
— Чо балдеете? — вскрикнул Москва. — Морда у меня в саже или говорю что не так?
— А туриста на прошлой неделе бил в здравом уме? — ухмыльнулся и захихикал Упырь.
Федор вскочил с места с побагровевшим лицом:
— Я же говорил! — стал азартно оправдываться. — Пилит по шпалам… Через каждые два шага плюет да харкает, харкает да плюет. Откуда мне знать, что ему в горло залетела муха? Я же после и извинялся, и на лодке его подвез, и рыбы дал…
Хихикая и хитро щурясь, Упырь перебил:
— Кому в здравом уме придет в голову ударить незнакомого за то, что на землю плюнул?..
Шизуешь!
— Да вы чо, сговорились? — Москва сверкнул затравленными глазами. — Весь берег в окурках, банки, бутылки, газеты! Как еще этих грязных тварей учить? Вы же сами говорили — мордой их, мордой!
Графин, Блуда и Упырь хохотали, глядя на Федора Москву.
— Хватит! — оборвал травлю Кельсий. Выглянул в раскрытое окно, прислушался: — «Ветерок» стрекочет. Наверное, Аспиринчик!
Кельсий перевел разговор на другое. Федор же весь день был сам не свой, раздумывая над причиной странного смеха за столом. Не могли же все разом свихнуться. Перед отъездом на кордон напрямик спросил Блуду:
— Что вы ржали? Уж кто бы другой, но ты с Графином, да и Упырь тоже… Праведники хреновы.
Разве я шизую?
— Ты мышкуешь! — жестко ответил друг.
— Это как?
— Без инициативы работаешь. Спихнул с рук дело — и к себе, в норку… Федька Мышь! — усмехнулся Блуднов и расхохотался вдруг.
Федор стерпел насмешку, спросил настойчивей:
— Я что-то неправильно сказал про Аспирина?
— Все ты сказал правильно. Умен!.. Медкомиссию он прошел. Работу свою делает лучше тебя…
Через некоторое время жители деревни, где жил Аспирин, стали рассказывать, что лесник в морозы бегает по берегу полураздетым. Потом донесли, что тот едва не поджег свой дом.
Федор сходил на его кордон и напрямик рассказал Аспирину все, что о нем говорят за спиной.
Друг, рассмеявшись, вполне логично заявил, будто таким образом укрепляет здоровье, и пустился в рассказы о русичах времен колонизации Сибири, которые удивляли иностранцев и инородцев своей невосприимчивостью к холоду и голоду, а теперь вот изнежились. На вопрос о пожаре Аспирин стал пространно рассказывать о сибирской чуди и о русских старообрядцах, сжигавших себя, о древнейших арийских традициях. У него же попросту загорелись рукописи, лежавшие на плите.
Через год, в крещенские морозы, Аспирина нашли на берегу мертвым, в телогрейке, в ушанке и в трусах. Он упал с железнодорожного моста и разбился. Приехавшая на похороны сестра рассказала, что признаки нервного расстройства у брата начались еще во время учебы. Ему рекомендовали отдохнуть вдали от городов. При покое и уединении он мог прожить долгую и полноценную жизнь.
Письма последних лет показывали, что место жительства Аспирин выбрал неудачно. Рядом с могилой Тунгуса появился еще один холмик…
Граф — Валерка Орлов, крестьянский сын, испорченный городом, сначала был самым сильным и самым устойчивым против алкоголя. Он никогда не пьянел и не терял головы, чему Федор, так и не научившийся пить культурно, завидовал.
К началу девяностых Граф стал не только напиваться, но и опохмеляться с утра, да так, что пару дней был нетрудоспособен. Потом была война в Приднестровье. От лесников туда поехал холостяковавший Графин. Верные делали его работу.
Орлов вернулся радостный и возбужденный, неделю шлялся по шпалам в лампасах, пил и рассказывал о пережитом. Потом стал проситься в Сербию. Работник он был никакой — однажды не вышел на тушение пожара, что было не только должностным преступлением, но и изменой — его отпустили.
В Сербии Графин был ранен. Блуднов ездил на Украину, чтобы привезти его на Байкал. Здесь через знакомства Кельсия ранение «наемника», попадавшего под крупный срок по кремлевскому указу, оформили как производственную травму и положили его в госпиталь. Молодой хирург, делавший операцию, посмеиваясь, подарил Графину вынутый осколок и сказал:
— Крутой браконьер пошел нынче — артиллерист! Но тебе, егерь, повезло!
Потом Графин уехал защищать Белый Дом. Вернулся трезвым и злым. Вскоре снова сорвался, бросил работу и запил. Когда он стал проситься в Чечню — лесники ему отказали.
После резкого разговора с Блудновым, Графин не вышел на связь. Блуда пошел к соседу для очередных разборок и позвонил из его дома, вызывая всех Верных. Дом Графина был чист и прибран.
Следов пьянки не было. На столе поверх записки лежали спиленные стволы дробовика. Граф клялся в любви и преданности друзьям, писал, что не в силах больше бороться с мразью, поселившейся в нем, и победить ее способен только так… Его тяжелое сильное когда-то тело нашли в бане. Он сунул в рот обрез и дал дуплет, целя в ненавистную глотку.
В первые годы перестройки незаметно исчез Упарников с семьей. Он вывез все свои вещи и даже выкрутил лампочки, присланные Управлением. Упырь развернул в городе бурную деятельность. На Байкале не показывался. Под видом планового отстрела устраивал валютные охоты для иностранцев в национальном парке. Руководство Управления покрывало его. Упырь слишком хорошо знал бывших друзей и территорию, чтобы встретиться с ними. Охота на него началась еще тогда.
На свободные штаты и опустевшие кордоны принимали новых случайных людей, но они подолгу не задерживались. И не было среди них ни одного, кто мог бы заменить прежних. А за уединенную усадьбу Блуднова, пригодную под туристическую базу, началась война…
Полупустая мотаня остановилась возле кордона старшего лесоинспектора. Федор выглянул из вагона, желая узнать, не случилось ли чего в его отсутствие. Блуднов кивнул, спросил, нет ли бичей-мешочников, и, не спрашивая, почему Федор отлучился, пошел к дому. В нескольких шагах от насыпи он обернулся и крикнул:
— Люська портовская все равно тебе спать не даст. Не поленись, выйди ночью к пригородному, отправь отчет о пожаре!
На полустанке мотаню ожидало все население деревушки: день был торговый, работала вагонлавка. Среди местных жителей по-свойски крутилась Люся в цветном платье, не вполне умеренно накрашенная, яркая, как ранний весенний жарок, с которого вот-вот начнут осыпаться лепестки.
Федор спрыгнул на перрон, и она по-хозяйски повисла у него на шее. Высовываясь из тамбуров, отпускали колкости жители побережья. На одуловатых лицах уже выветривались следы дорожного похмелья и сна.
Люся, сияя глазами, бойко отвечала на соленые шутки, но грубостей в ответ не произносила, с опаской поглядывая на Федора.
— Как дела, внученька? — сдержанно пошутил он и зашагал к дому. — Баньку истопила?
— Истопила! — простодушно призналась она. — Делать было нечего. Я ведь не знала, на сколько ты уехал. У соседей картошки взяла, рыбы. Уху сварила, — щебетала, повисая на его плече.
Напористое вторжение в размеренную жизнь было не по душе Федору. Но он боялся обидеть эту женщину и потому сдержанно помалкивал. Саднила совесть, напоминая, что вот опять… Сразу после исповеди…
Посматривая на радостную гостью, он отпер дверь в дом, бросил в сенях рюкзак, перекрестился на образа, смущенно глядя мимо них. Люся сбегала в баню и принесла чужую, горячую кастрюлю с душистой ухой. «Перец и лавровый лист тоже заняла», — скрывая недовольство, отметил про себя Федор и вдохнул аромат еды, приготовленной женщиной.
Пока он умывался, стол был накрыт, уха разлита. Шаловливо поглядывая на него, Люся сидела в уголке. Вечернее солнце нимбом золотило рыжеватый венчик волос вокруг подкрашенного лица.
Подперев кулачком круглый подбородок, она наблюдала за ним лучащимися глазами. Вдруг они опечалились, набежавший сумрак тенью мелькнул за накрашенными ресницами:
— Зачем ты обманул меня? — спросила она грустно. — Никакой иностранец не увозил твоей жены.
Федор, опустив глаза, пожал плечами, отложил в сторону ложку — уха была еще слишком горяча.
— Зачем грузить тебя своими проблемами? — ответил вопросом на вопрос. Окинул ее взглядом — примолкшую, сжавшуюся в комочек: — Наверное, произошло бы то же самое, но эдак, печально и как бы трагически.
Она смущенно опустила глаза, а когда подняла их — печали уже не было на ресницах.
«Эх, жарки-лютики, весенние скороспелочки, грубые и такие нежные цветочки», — тайком вздохнул он, ожидая первого пробного скандальчика.
— Ты зачем оповестила все побережье, что приехала ко мне на ночь? — спросил насмешливо.
Она еще шире распахнула ресницы невинных глаз:
— Что делать, раз телефон такой: говоришь — и все слышат. Я только спросила станцию, будет ли утром мотовоз. Заказала, чтобы остановился. Тетка на коммутаторе спросила, к кому я приехала.
Сказала — к любимому мужчине, до утра. А что? Я имени твоего не называла.
— У нас только два мужика, — рассмеялся Федор. — Поскольку соседу восьмой десяток — почему-то все решили, что ты приехала ко мне. Ничего страшного, но как-то непривычно.
— Пусть говорят, тебе-то что? Свободный мужчина, — едва он отодвинул тарелку, она юркнула к нему на колени. — Ой, как я вспоминала твою бороду, — прошептала, потираясь щекой. — Только вспомню — и все… Уже готовенькая… Как это неправильно женщине жить без мужчины, да? — прошептала, и Федору послышались отдаленные отголоски скрываемых слез.
— Да, — неопределенно промычал он, смущаясь ее ласк и боясь обидеть. — Ты, конечно, женщина от мира сего. Чудно, для такой горячей бабенки мужик сыскаться не может. Что за времена?
— Уже отыскался! — зарылась она в его бороду.
На этот раз голова была ясной, поступки осознанными, но наваждение предыдущей ночи продолжалось. Скрытый мраком, Федор пристально вглядывался в контуры лица женщины и узнавал жену, своими руками положенную в гроб: ее лицо, ее ласки, ее дыхание, и отдавался соблазнам ночных мороков. Мистического страха не было — он гнал его, хотя время от времени озноб пробегал по разгоряченному телу.
Утром рядом с молодой счастливой женщиной он вышел на перрон. С гор дул ветер. Чуть слышно плескалась волна о прибрежные валуны. Поезд задерживался. Федор смотрел в темную морскую даль, вслушиваясь в привычный отдаленный гул, похожий то на отзвуки несущегося поезда, то на глухие всплески: будто огромные пузыри всплывали из глубин и лопались на поверхности. Он знал, что это не скрежетание поезда за скалами и тоннелями. Эти звуки всегда чудились ему, когда Байкал не был подо льдом.
Люся зябко жалась к нему спиной, шалила, влезая холодными ладошками под одежду.
— Хочешь, я тебе шестерых сыновей рожу? — прошептала: — Если мужчина женщине нравится — ей всегда хочется от него ребенка!
— Как это? — настороженно спросил он.
— А парочками! У меня получится! — не заметив в нем перемены, рассмеялась она.
— Куда в мои годы с такой оравой? — притворно зевнул он. — А почему именно шестерых? — спросил настороженно.
— А ляпнула, что на язык подвернулось!
Проводив ее, он упал на кровать, долго и тупо смотрел в потолок, гадая: то ли прежняя жизнь приснилась, то ли эта ночь. Поднял руки, взглянул на ладони, еще желтые от пожарищ. Загнул шесть пальцев, долго и тупо смотрел на оставшиеся четыре. Затем, усмехнувшись, загнул седьмой.
Чувствуя, как слеза катится по виску и щекочет ухо, новыми глазами оглядел привычное жилье.
«Все! Кончено!» — осенило вдруг. Выход есть: не забыть и не мучиться воспоминаниями можно, если навсегда покинуть этот дом и эти места. И тогда, где и с кем бы ни доживал оставшиеся годы, ушедшая жена, Байкал, родная падь, потерянные друзья — это навсегда останется без всяких перемен, как кассета видеофильма, которую в любой миг и в любом месте можно просмотреть. Если же остаться здесь, то по законам естества начнет меняться дом, падь, память о жене и сам вечный Байкал, которому отданы лучшие годы. Останется убогий домишко, прилепившийся к скале на краю бездны и бессмысленная суета прожитых лет.
Он резво поднялся и стал сбрасывать в кучу все то, что собирался взять с собой в новую жизнь. В другую — откладывал вещи, которые надо спрятать. Наконец, надо было оставить дом прибранным.
Пусть он достанется хорошим людям, которые по-своему будут продолжать дело Верных, потому что бросить на произвол эти места никак нельзя.
Третья куча предназначалась для вещей, которые должны быть уничтожены, чтобы не валяться под ногами, не гнить, вызывая пошлый интерес случайных людей.
Раскладывая вещи, Федор все больше смурнел, только теперь понимая, как много было приготовлено женой для его относительно комфортной жизни без нее, в ведомственном доме, который вскоре займут другие люди.
Он вышел из дому, чтобы растопить печь в бане. Оказывается, погода резко переменилась: принесло туман, или блуждавшее по морю облако вползло в жилую падь, запуталось среди деревьев и скал.
Зачадила печь в бане, сладостно обдав лицо дымком сухой щепы. Федор подбросил дров на растопку и вышел во двор. Туман стал плотней и глуше.
— Эй! — раздался оклик прямо за спиной. Федор вздрогнул и обернулся. Сквозь щель в высоком, плотно подогнанном заборе на него пристально смотрел синий глаз с нависшей на бровь седой прядью. — Зачем так загородился? Не хочешь впустить меня?
Федор отпер глухую калитку. Возле забора стояла знакомая старуха — Ступиха, жившая в соседней пади, в нескольких километрах от кордона. Сморщенная, беззубая, она и сейчас не выглядела дряхлой. В руке ее была увесистая палка, на плечо накинут пустой рюкзак. По-девичьи блестящие, немигающие глаза смотрели пристально и пронзительно, седые волосы были растрепаны и непокрыты. Судя по всему, она вышла из тайги.
— Испугался? — насмешливо спросила, протискиваясь мимо Федора во двор. При этом шаловливо ткнула его локтем в живот.
— Что мне тебя бояться? — пожал он плечами, чувствуя, что визит этот не к добру. Местные про старуху говорили с опаской. Ее побаивались.
— Вдруг к несчастью! — озорно блеснула глазами гостья, как бы приглашая лесника поухаживать за ней. — Что бороду отпустил?
С грустной усмешкой он подумал, что в счастье верят только в молодости, в несчастья — всю жизнь.
— Я всегда был при бороде, — ответил. — Разве не при такой длинной.
— Я бородатых не люблю! — шаловливо подмигнула Ступиха. — Жизнь-то как? Коз не держишь?
Хотела у тебя козочку купить.
— Я теперь никакого хозяйства не держу. Кот и тот пропал зимой, — Федор уже собирался пригласить старуху в дом на чай, чтобы соблюсти добрососедство.
— Пойду, раз ничего не держишь! — настроение у гостьи переменилось, глаза потускнели.
Постучав палкой по створкам калитки, она выскользнула со двора, обернулась и строго приказала:
— Бороду сбрей! Моложе станешь.
Поселившись на Байкале, Федор помнил ее уже немолодой, но энергичной женщиной, державшей большое хозяйство, часто менявшей беспутных мужей-батраков. Лет десять назад дом со всеми постройками сгорел во время таежного пала. Ступиха уехала в город к обеспеченным детям, но жить там не смогла и вернулась к погорелому месту. Здесь она построила шалаш. Вскоре сыновья привезли сырой брус и рядом с шалашом поставили времянку, в которой разместились лишь койка да жестяная печурка. В ней старуха и жила одна.
Едва она скрылась из виду, разнесло туман и снова заблестело солнце.
Собрав все подлежащее уничтожению, Федор принес тряпье в баню. Где-то вдали послышался шум двигателя и рев сирены. Прежде лесник обязательно бы вышел на берег. Теперь в этом не было надобности.
Снова светило солнце. Был ясный майский день. В бухте повыл сиреной и заглушил двигатель какой-то катер. Через несколько минут на насыпи показался полупьяный мужик с русой выгоревшей шевелюрой и красным, обожженным лицом. Он окликнул Федора по имени. Лесник выглянул из ворот. Мужик замахал рукой, подзывая к себе. Федор, передразнивая пьяного, помахал рукой, приглашая к себе. Тот постоял, тупо разглядывая инспектора, и, покачиваясь, направился к воротам.
Это был молодой человек с испитым лицом, одетый в толстый свитер.
— Батя, тебя зовут! — сказал, чуть подрагивая от икоты.
— Меня некому звать. Ко мне приходят! — нравоучительно ответил Федор.
— Да ты чо! — замигал парень. — Там начальство! Чо я буду бегать туда-сюда? — вспылил, качнувшись.
— А ты не бегай! — закрывая ворота, усмехнулся Федор.
Из кучи он потянул черный лоскут. Им оказалась короткая женская сорочка. Когда-то она была очень модной и редкой. Федор проснулся после первой ночи со своей будущей женой. Она смущенно попросила его отвернуться и надела вот эту самую рубашку. «Ступай, милая, в вечность!» Рубашка черным комом легла на пылающие угли, съежилась и вспыхнула…
За воротами зацокали неторопливые шаги. Дверь приоткрылась, во двор вошла высокая женщина в блестящем платье, обтягивавшем стройную сильную фигуру. Пышная прическа, черные очки, дамская сумочка на плече.
— Ксения? — удивился Федор. В царственно стройной гостье он не сразу узнал исцарапанную, изможденную таежными приключениями скалолазку. — Вот так встреча!.. А у меня уборка, — указал на обшарпанный стул, стоявший на крыльце, понимая, что и крыльцо и стул вопиюще оскорбляют дорогой наряд гостьи.
— Ты один? — настороженно вскинула она брови.
— Один, один! — суетливо и бестолково забегал Федор. — Сейчас я чай поставлю.
— Сядь! — чуть раздраженно сказала она и осторожно присела на краешек стула. Федор сел напротив, не зная чем занять руки. Она сняла очки, искусно подкрашенными глазами попыталась взглянуть на него задумчиво и мечтательно. Вздохнула, подавив подступивший зевок, окинула взглядом нечесаную бороду. — Ты вспоминал меня?
— Как же, как же? — Федор пятерней стал расправлять смятую бороду. Бросил быстрый взгляд на раскрытую дверь в предбанник, на неприличную кучу, брошенную на том самом месте, где недавно еще ласкал эту особу.
Она почувствовала, что его мысли заняты отнюдь не воспоминаниями о ней. Сказала деловым металлическим и по-девичьи тонким голосом:
— У меня неприятности из-за пистолета. Верни мне его, я тебе подарю что-нибудь другое, — торопливо вжикнула замком сумки и положила на стол две зеленые, как залежалые капустные листья, стодолларовые купюры.
— А вот это ни к чему, — вяло запротестовал Федор. — Пистолетик цел. Я ни разу из него не выстрелил. Да и ни к чему он мне — свой есть, служебный.
— Ну, как же, — сухо возразила она, чуть пожав плечами. — Ты спас мне жизнь.
— Ты мне тоже, — попытался пошутить он, улыбнувшись одними глазами. Ксения никак не отреагировала на сказанное. Он вошел в дом, не приглашая ее, вынес блестящий пистолет, положил на стол к себе стволом и придвинул гостье. Она ловкими движениями тонких пальцев с ярко накрашенными ногтями вынула косую обойму, вылущила на стол патрончики, бросила пистолет в сумку, смахнула туда же патроны и застегнула молнию.
— На катере твои друзья. Хотят повидаться. Иди за мной! — приказала тоном, не терпящим возражений.
Накинув штормовку, Федор послушно побрел следом. В бухте, ткнувшись носом в песчаный берег, стоял свежевыкрашенный «Ярославец». На его корме был поставлен стол с белыми пластиковыми стульями. Федор хотел помочь Ксении подняться по сходням на высокий задранный нос судна. Как из-под земли появились два охранника из тех, что ходили к скалам. Сергей, учтиво улыбаясь, посвойски облапил его. При этом привычно ощупал на наличие оружия. Федор отстранился, взглянув на него насмешливо. Тот, не смущаясь, развел руками:
— Работа такая!
Ксения скинула туфли, другой рукой поддернула без того короткое платье и, не оборачиваясь, легко, как кошка, вскарабкалась по трапу. Когда Федор, а следом за ним белокурый охранник поднялись на палубу, ее уже не было. Из-за рубки выполз пьяный, тот, что приходил к дому, сопя, стал вытаскивать трап. В глубинах трюма пискляво завыл масляный насос, катер вздрогнул от заработавшего двигателя и выпустил в чистое небо черную струю гари. Заработал винт, кормой вперед «Ярославец» отошел от берега и стал разворачивать нос в море.
Проходя по шкафуту следом за старшим охранником, Федор вышел на корму к столу. Сергей указал на стул и ушел другим шкафутом к рубке. Это слегка озадачило лесника. Он сел и рассеянно окинул взглядом стол — визитку людей, преуспевших в добывании денег.
Распахнулась дверь кормового кубрика, из него вышел малорослый, одетый как на важный прием, мужик. Руки, ноги и голова его были вполне нормального размера, но туловище, к которому крепились члены — круглое и дородное, как бочонок. Пока франт стоял боком, закрывая за собой дверь, он ничем не заинтересовал Федора, кроме дорогого, яркого костюма с торчащей из него, как у черепашки, тонкой морщинистой шеей. Но стоило тому повернуться — Федор подобрался, как перед прыжком.
— Здорово, хи-хи-хи, Москва! — щеголь в белоснежной рубашке с красным галстуком сел напротив и снова приглушенно рассмеялся. Знакомый смех походил на стрекот швейной машинки, как и десять-двадцать лет назад.
— Здорово, Упырь! — тем же тоном, только без смеха и улыбки, ответил Федор, разглядывая бывшего охотоведа, соратника из ордена Верных.
Упарников не только странно растолстел одним туловищем, он постарел: морщины глубоко врезались в природное мальчишеское лицо. К тому же, он заметно поседел. На щеках его была модная сантиметровая щетина, которая не шла ни к костюму, ни к лицу, но была следствием отсутствия привычки бриться, которой обзаводятся смолоду. Упырь стал слегка неуклюж. В остальном это был все тот же Анатолий Упарников, неплохой товарищ, пока дело не касалось дележки премий и прибылей, приятный собеседник, посредственный лесоинспектор, но хороший организатор и делопроизводитель. Что он искал, связывая себя с остальными Верными, к чему стремился — это было загадкой для Москвитина и Блуднова.
После института Упарников писал статьи о природе и даже печатался в молодежной газете, участвовал в общественном движении по спасению Байкала, но личной выгоды от этого получить не сумел. В те годы многие из них были бескорыстными романтиками, даже комсомольские вожаки, первыми оплевавшие своих дедов-большевиков и урвавшие в личную собственность немалый куш добра, скопленного адским трудом нескольких поколений.
— Слышу, хи-хи, про ваши с Блудой делишки, — с любопытством разглядывал он Федора, тоже находя в нем немалые следы перемен. — Все бьете морды, стреляете… Мелко плаваете. Хи-хи!
— Мы тоже слышим про твои заявки по выбраковке изюбрей, кабанов, — уклонился от ответа Федор и небрежно откинулся на стуле. — Защитник природы!
— Давненько не виделись. Ты не помолодел. Похоже, не поумнел тоже, — Упырь хохотнул и поежился. — Что таращишься? И впрямь убить хочешь?
Откинув голову, он застрекотал, будто швейная машинка вышла на полные обороты. Небритый кадык вибрировал на черепашьей шейке, торчащей из дорогого костюма.
— Подумать только, и я во всех тех играх участвовал!
На его щеке все так же синело пятно от въевшегося под кожу дымного пороха. Оно, как и неровно подстриженная седеющая щетина, портило вид преуспевающего предпринимателя. Пятно так и не было выведено. И вообще, в нем появилось что-то жалкое. «Может быть, блефует? — подумал Федор. — Костюм напрокат взял. Нищий шаромыга, исполняющий заказной спектакль?»
Лет двадцать назад они вдвоем заряжали патроны. Упарников молотком прессовал дымный порох в гильзах. Черт дернул его поставить патрон на деревянный стол, капсюлем на гвоздь, обнажившийся при ударе. Помнится, Федор быстрей спринтера сбегал за аптечкой за три километра. Лет пятнадцать назад случилось так, что им на пару пришлось преследовать медведя, раненного браконьерами.
Упарников уложил его за спиной Федора в десятке шагов. «Было ведь и хорошее! — осадил вспыхнувшую неприязнь Федор, поморщился. — Много чего было… Даже из области „Очевидное — невероятное“».
Как-то они рыбачили ночью «на фару» — стояли на якоре в полусотне метров от берега. По черному звездному небу ползали облака, луна на ущербе высвечивала золотящуюся дорожку. Около полуночи клев прекратился. Москва задремал, сидя с удочкой в руке.
— Смотри! — ткнул его в бок Упырь и указал рукой на лунную дорожку.
Позевывая, Москва поводил сонными глазами по стылой темени.
— Да вот же, метров тридцать… Лодка!
Действительно, в свете луны бугрился какой-то странный предмет.
— Вроде бочка! — снова зевнул Москва.
— А вдруг лодка? — азартно зашептал Упырь. — Это какие деньги можно заработать разом. А мы мокнем тут ради пары ведер омуля… Снимаемся!
Они быстро выбрали якорь и сели за весла. Часто оборачиваясь к плывущему предмету, стали грести, сначала неторопливо, потом азартно налегая на весла до тех пор, пока Упырь не проскулил:
— Не приближается! Что за чертовщина? Давай мотор заведем?
Москва встал в рост и долго всматривался в контуры странного предмета на лунной дорожке. Он уже и сам был увлечен азартом погони. Наматывая шнур на маховик, бросил Упырю, возившемуся с бензиновым бачком:
— До него метров триста, а не тридцать!
В то время бензин лесникам приходилось экономить. Подступали времена, когда все становилось дефицитом. Мотор в лодке был только на случай неожиданного шквального ветра. Завели его. Лодка понеслась по лунной дорожке в кромешную тьму моря. Проходила минута за минутой, а странный предмет не приближался. И когда это стало слишком очевидным, Москва сбросил обороты. Лесники увидели вдруг, как впереди мигнул свет, высветив что-то вроде иллюминатора.
От неожиданности Федор заглушил мотор. Упырь ахнул, завизжал и заматерился в стенящей тишине.
— Прокололись! — почесал затылок Москва. Бензина в баке должно было остаться так мало, что предстояло грести на веслах в обратную сторону — на север. Но и это полбеды: именно в том месте, где на небе могла находиться Полярная звезда, была черная дыра зависшей тучи. Компаса в лодке не было. Контуры берегов не просматривались. И только ущербная луна еще высвечивала мутную полосу со странным предметом на воде.
Поострив насчет жлобства, толкнувшего на ночной выход в море, лесники решили не жечь попусту бензин, но дождаться рассвета: ветра и волн не было, лодка была надежной. Вдруг странный предмет стал быстро и бесшумно приближаться, на глазах увеличиваясь в размерах. Москва с Упырем растерянно примолкли, вжимаясь в банки-сиденья. Затем Федор сорвался с места и торопливо включил лампу, чтобы не быть случайно протараненными.
Черная тень высотой со среднее судно обошла лодку кругом и так же бесшумно исчезла.
— Что это? — дрожащим голосом просипел Упырь.
— Может, подводная лодка или катер? — пролепетал Федор, стыдясь мыслей о сверхъестественном. Ах, как хотелось верить, что это они, родные, а не нечто иное: необъяснимое и непредсказуемое.
— Прикалываются оборонщики, — стуча зубами, завсхлипывал Упырь, — испытывают по ночам всякую хренотень. А бедные рыбаки — штаны полощи.
Москва тоже пролепетал что-то, перепуганно ругнувшись в адрес Министерства обороны. Тень исчезла. Исчез предмет на лунной дорожке. Вскоре и луна погасла, скрывшись за черной тучей. Ветра не было. Чуть слышно плескалась вода за бортом.
Прижимаясь друг к другу, они переночевали в сырой лодке. А когда проснулись, на воде золотились первые лучи восходящего солнца. При полном штиле под синим небом сияла бескрайняя гладь моря, и только на востоке в расплывчатой дымке темнело какое-то пятно. Оно неторопливо приближалось, то сгущаясь, то рассеиваясь, и вдруг в километре встал над водой высокий четырехконечный крест. Несколько мгновений Москва и Упырь удивленно смотрели то на него, то друг на друга. Затем по северному крылу креста пробежала рябь, потом растеклось другое крыло, и крест исчез.
Федор облегченно выругался — это был всего лишь мираж.
— Да, Москва, — нервно захихикал Упырь, — похоже, Байкал на что-то намекает… Смотри-ка! — встал в рост и указал рукой на север. В дымке чуть виден был скалистый берег. — Заводи мотор!
Пойдем, сколько хватит бензина.
Бензина хватило, чтобы подойти к берегу километра на три. Дальше пришлось грести на веслах.
Через пару часов вдали показался крупнотоннажный буксир, отражение мачты которого в преломленных испарениями лучах солнца они приняли за крест. Что за бесшумный плавающий объект встретился ночью — они так и не выяснили. Впрочем, в этом не было особой необходимости.
Федор, вспомнив прошлое, молчал, глядя на удалявшийся берег. Бывший соратник истолковал его молчание и задумчивость по-своему: вынул из кармана радиотелефон, через секунду на корме появился вышколенный охранник.
— Поверял? — Упырь тряхнул ладонью с тремя прижатыми, с оттопыренными указательным и большим пальцем, имитируя пистолет. Это был знак, принятый в кругу Верных и обозначавший разрешение на выстрел.
Охранник кивнул и похлопал себя ладонями по бедрам:
— Так!
— Надо тщательно! — раздраженно приказал Упарников, перекрывая голосом шум гребного вала.
Охранник вынул из кармана прибор с металлическим кольцом, послушно поводил им по груди Федора, по пояснице и ногам.
— Чисто! — доложил и снова вышколенно улыбнулся.
— На всякий случай! — зловеще усмехнувшись, хохотнул Упырь. — Вы с Блудой мужики дурные, вам бы в тюрьме или в психушке сидеть. Да только мне на ваши приколы положить. А теперь слушай сюда! Просрали вы свои жизни, казаки-разбойники! А чего добились? Тунгуса медведь завалил, Аспирин — шизанулся, Графин — спился, Кельсий… Говорят, пропал бесследно. Накрылся… Только под его фамилией в Москве кто-то стишки печатает, — Упарников ехидно ухмыльнулся, подмигнул: — Сел тайком, хи-хи-хи, в поезд «Владивосток — Москва», и поминай как звали! Только вы с Блудой, партизаны долбаные, все еще воюете. Ради чего? Что, народ за двадцать лет переменился? Да еще грязней стал, еще гаже! Ни стрельбой, ни мордобоем его не перевоспитать…
Экономически надо мыслить! Хе-хе-хе! — опять заржал Упырь. — Я, вот, в Штатах побывал, в Австрии, в Канаде, в Германии — где только не был за эти годы! Со знанием говорю — живет на побережье одно дерьмо, которому место на помойке. И вы своими методами… Как и я когда-то… только способствуете тому, чтобы это дерьмо опускалось еще ниже и глубже…
— Что ты такой злой? — спокойно спросил Федор, подавив нервный зевок. — Вроде давно не виделись, не ругались.
— Стреляли осенью! — взорвался Упарь. — Думаешь, не понял, кто меня с иностранцами пугал?
Да я вас до самых печенок знаю!
— Не припомню, — глядя на бывшего товарища немигающими глазами, жестко процедил Федор. — Но даже если так, причем тут народ?
— А ты слушай, может и поймешь… Что на западе, что на востоке, везде, где в территорию вложены большие деньги, никому в голову не придет плевать или бросать окурки и мусор не то что в Байкал — на землю. Деньги делают и закон и культуру. Законы денег так суровы и неукоснительны, что даже те, кто владеет огромными деньгами, стопроцентно предсказуемы и вынуждены жить по законам своих капиталов. И Ксюха, и я, и они, — Упарников кивнул в сторону охранников, — все нормальные люди: нам платят — мы исполняем… Вам ни хрена не платят, а вы из себя хозяев корчите!
— Ты зачем приперся, учить меня жизни? — хмуро перебил бывшего соратника Федор. — То, что мы с Блудой тебе не нравимся, сказал. Еще что?
— Давай выпьем и закусим! — будто закончив важный этап работы, с вожделением придвинулся к столу Упырь и распечатал заграничную бутылку.
— Я водки не пью! — презрительно скривился Федор.
— Выпей вина! А если перешел на кефир, пососи боржоми, закуси икоркой с копченостями. Хихи-хи! На халяву-то все сладенькое, — он бросил в рот пластик балыка.
— Не пес. Не жру с чужих рук, — неприязненно скривился Федор.
— Ты хуже! — вскрикнул Упырь. — Помнишь, волков травили, а все собаки в округе передохли…
Позвать бы мальчиков, кинуть тебя за борт — и концы в воду! До чего ж поганый у нас народец — друг друга жрут, как бормыши, и больше ни на что не способны!.. Кинул бы, жену твою жаль. Ее всегда вспоминаю с чувством благодарности. Слышал — больна?
— А ты не жалей, исцелилась, — прищурился Федор. — В хорошем месте, при уважаемой должности.
— Сбежала? — блеснул глазами бывший товарищ.
— Это ты сбежал! Она ушла!
Упарников раздраженно отодвинул тарелку, вытер руки о салфетку и демонстративно швырнул ее за борт.
— Ты перебил меня. Итак, люди вкладывают большие «бабки» в эти места, в туризм. А это значит, всем ублюдкам, с которыми мы вместе когда-то воевали, — конец! Передохнут. Следовательно, вы здесь больше не нужны. Вариант первый! Вы с Блудой бросаете свое грязное дело, возглавляете прокладку туристских троп, строительство зимовий, хи-хи-хи, в трех уровнях, за что ежемесячно, без всяких задержек, получаете деньги, каких в жизни не видели. Вариант второй. Для особо тупых.
Берите по тысяче сольдов, из чувства моей личной привязанности, и сквозите к папе Карле, вместе со своими черепашками. Заерепенитесь, завтра и этого не дам: вас просто уволят по сокращению штатов и выселят с двухнедельным пособием, за которым ходить будете — годы!
По морю дул свежий ветер, то и дело заворачивая бороду Федора на юго-восток. Потом солнце стало слепить глаза, и борода начала задираться на левое ухо. Сначала он подумал, что катер взял курс на город. Но через некоторое время его дымы показались за кормой. Получалось, что «Ярославец» шел в море, потом развернулся и направился к берегу, почти к исходной точке, скорей всего чуть западней. Это был кордон Блуднова. Не снисходя до того, чтобы вращать головой или о чем-нибудь спрашивать, Федор думал: зачем? Зачем шикарный костюм, стол, выход в море, демонстрация повиновения охранников? Упырь рисовался и комплексовал.
— Ну и как будем делать выбор? — спросил. — Под благородное слово, или нотариально?
— Твоего согласия мне мало, — скривился Упырь, глядя через его плечо на берег. — Ты должен убедить Блуду.
— Убедить в чем? Съехать отсюда или работать под твоим чутким руководством?
Катер развернулся бортом к берегу, сбавил обороты и покачивался в километре от лесного кордона. Старший лесоинспектор в таких случаях спешил к причалу. Сегодня его не было на берегу.
И тогда Федор понял, почему они шли в море, а потом возвращались. Упырь боялся бывших друзей.
Он считал себя умным и предусмотрительным, держась на таком расстоянии от берега, что местному снайперу его не достать.
Упарников ни во что не ставил бывших друзей с их разбитым, давно списанным оружием. Он не мог знать, что пять лет назад Блуднов нашел в скальном прибайкальском гроте пару трехлинеек штучного производства 1910 года выпуска. Одна была почти не стреляна. Кто-то законсервировал их на долгое хранение чуть ли не во времена Гражданской войны и сделал это так тщательно, что винтовки сохранились до наших дней.
Блуднов не пожалел денег, поставив на старинную винтовку современную оптику, и многие свои проказы списывал на шальные браконьерские пули, потому что здравый смысл не позволял заподозрить будто с такого расстояния способен стрелять он.
«И правда, где может быть Блуда? — взглянул на кордон Федор. — Не услышать подход катера он не мог, не замечать его — не имел права».
Упарников затребовал у охранника бинокль. Упершись локтями в кровлю кубрика, стал осматривать берег, дом инспектора и окрестности кордона. Федор скользнул взглядом по скальным вершинам хребта и на излюбленном месте Игоря заметил блеснувший солнечный зайчик. На душе стало спокойней: он был не один, не какой-нибудь затравленный одиночка, а член организации, пусть потрепанной, но действующей.
— Не мог же Блуда уехать в Байкальск? — пробормотал Упырь, опуская бинокль. Кивнул Федору: — Вчера ему позвонили из Управления и предупредили, чтобы не отлучался. До чего ж вы непочтительны к начальству, за что только держат!
— Конкурентов нет на зарплату, — огрызнулся Федор.
— Не идти же мне к нему? Он же псих… Что молчишь? Думай, если хочешь заработать!
— Я не говорил, что хочу заработать, — процедил сквозь зубы Федор.
За время, проведенное на катере, ему вдруг с потрясающей ясностью открылась пророческая правота их юности, приправленная экстремизмом и фрондерством. Только теперь, после встречи с Упырем, он понял, что любая община, чтобы не быть обреченной, должна избавляться от гнили. В противном случае всякие выродки разрушат и доведут до абсурда любое доброе начинание.
Наверное, впервые в жизни Федор пожалел, что не имеет волчьих клыков, чтобы вырвать глотку своему переродившемуся товарищу: при нем не было даже захудалого гвоздя. Но была ненависть.
«Если это мой последний день, — подумал он, — то Бог милостив: жена и дочь устроены, лучшие годы прожиты, остается уйти так же достойно, как ушла она. Даже лучше, ведь я — мужчина, который был плохеньким мужем и неважнецким отцом».
— Готовься! Поедешь для разговора с Блудой, — сказал Упырь таким тоном, какой никогда не позволял себе по отношению к друзьям. — Помнишь мираж? Крест среди моря? Наши судьбы давно связаны: но не вы мне палачи и судьи! Я — вам! Как говорится, факт налицо! Хи-хи-хи! — задергался кадык на морщинистой черепашьей шее.
— Я не давал тебе никакого согласия, папа Карло, — прохрипел лесник. — Засунь себе в дупло свои сольды…
— А я тебя не спрашивал, чего ты хочешь, чего нет! — лицо Упыря перекосилось. Видимо, он принял слова о папе Карле относительно своего малого роста. — В том смысл грядущей эпохи, что она никому не дает выбора. Каждый должен делать то, что от него требуется… Мы наденем на тебя поясок шахида. Там микрофончик есть для нашей мирной и безопасной беседы. А кнопочка будет у меня в руке. Хи-хи-хи! Вы — там, я — здесь. Станешь дразниться — размажу по скалам. Станешь уклоняться от встречи с Блудой — погеройствовать не дам — не то время. К делу надо подходить технически, с учетом современных достижений науки и техники… Если, конечно, есть деньги!..
Выпьешь для храбрости?
— Одному не интересно!
— Вместе выпьем!
— Я не про водку, про кончину. Если сумеешь напялить на меня поясок, я ведь вцеплюсь в тебя, как клещ, полетим вместе, так сказать, на цитологическом уровне.
— Напугал! Мои ребята — отцепят, посадят в лодку, отвезут на безопасное расстояние… — и обернувшись к стоявшим в стороне охранникам, Упарников крикнул с пафосом: — Пояс верности моему другу и шлюпку со всеми подобающими почестями! — Затем взглянул на Федора и добавил, зловеще посмеиваясь: — У тебя нет никаких шансов, Москва! Ты или труп, или мой раб! Таковы правила игры нынешнего века. Не я их придумал.
Федор скрипнул зубами от бессилия. Но ощущения безысходности, того, что так старался внушить ему Упырь, не было.
— Нет, Упырь, не игрой была наша клятва… Я все равно тебя убью. Я с того света тебя достану…
— Давай-давай, нагоняй психозу. Так легче умирать. Выговорись — я же не садист! Под нами глубина 93 метра по эхолоту. Рачков-трупоедов там, сам знаешь, видимо-невидимо. Голодные, злые.
Утопленники здесь не всплывают. К утру от тебя останется обглоданный скелетик! Б-э-э-э! — злобно проблеял он.
— Все равно убью! — оскалился Федор, чувствуя, как напряглись за его спиной охранники. Он поднял вверх руку с прижатыми тремя и с оттопыренными большим и указательным пальцем, что у Верных означало разрешение на выстрел, и стал медленно опускать ее, целя указательным в лоб изменнику. Он только успел сказать «кх!», как голова Упыря мотнулась, он взмахнул руками как от прямого удара в челюсть. Черепная коробка сдвинулась, из выпученных глаз хлынула кровь. Тело опрокинулось через леера и рухнуло за борт.
Два охранника подскочили к Федору и заломили руки за спину:
— Т-т-ты чо сделал, д-дед?! — заикаясь, вскрикнул Сергей. Другой, обшарив Федора, бросился за багром, закричал, чтобы катер застопорил ход, побежал вдоль борта, высматривая тело.
— На дне он, — крикнул старший, выпуская руки Федора. — Бронежилет под костюм напялил, придурок, ищи теперь… Ничего не пойму, — растерянно взглянул в яростные глаза лесника. — Это сделал снайпер?
— Это сделал я! — дрогнувшим голосом прохрипел Федор и усмехнулся. — Покойный плохо отозвался о Байкале!
— Зови Ксюху! — приказал Сергей молодому охраннику.
— Я стучал. Она заперлась. Пьет, наверное… — и тряхнув лесника за грудки, вскрикнул: — Дед!
Нам оплатили только аванс.
— Да что ты с него возьмешь, — отмахнулся старший и убежал в рубку.
Полупьяный матрос вышел на корму, покачиваясь, посмотрел на одного, на другого, мимоходом смахнул со стола початую бутылку и заковылял по шкафуту в обратную сторону, то и дело наваливаясь плечом на переборку.
Белокурый вскоре вернулся, успокоившийся, снова вежливый и рассудительный.
— Дед, покажи капитану, где можно пристать к берегу. Повезло тебе — иди и больше так не делай, — он оттопырил палец, прицелился Федору в лоб, сказал «кх!», хохотнул: — Ну ты даешь!
Федора высадили на сушу в полутора километрах от кордона старшего лесоинспектора. Он постоял на берегу, глядя вслед удалявшемуся катеру, и не спеша зашагал к последнему другу и соратнику. Когда подошел к кордону, Блуднов сидел на лавочке возле причала и поджидал его.
— Здорово, Москва! — не вставая, вскинул голову. В серых глазах, подернутых паутинкой усталости, лучился немой вопрос.
— Будь здоров, Блуда! — опустился рядом Федор. Они посидели молча минуту-другую, вглядываясь вдаль с рябью поднимающейся волны, прислушиваясь. И снова казалось Федору, что Байкал пускает пузыри: «Уп!» да «Уп!» — доносилось из глубин.
— Блуда! Когда ты сидишь на берегу, — а ты все время здесь сидишь — что слышится тебе? — спросил Федор, прерывая молчание.
— Плеск! — серьезно ответил Игорь. — Даже не сам плеск, а далекое клацанье: будто кто-то передергивает затвор. — Как Упырь? Постарел? — спросил осторожно.
— Упырь давно помер, а его тело, с которым мне давеча довелось встретиться, слегка поседело, обветшало, изрядно обнаглело и скурвилось. Мы отправили мертвого к мертвым: сделали благое дело и досадили дьяволу!
— Хорошо бы! — вздохнул Блуднов. — На мне уж столько «благих дел», что батюшка от причастия отлучил.
— Упыря я беру на себя. Он только мой, а ты спасал мне жизнь! Насколько я его понял — все кончено! Нас с тобой отсюда выживут… Плетью обуха не перешибешь. Может быть, правда, поиграли и будет? Мне что? За тебя беспокоюсь: жена, дети!
— А ты не беспокойся! — устало вздохнул Блуднов. — Есть бесы и упыри, но есть Байкал и Божья воля. Нас двое, враг наказан. Долг исполнен. Остальное — не нашего ума дело!
— Упырь намекнул, что Кеша живет в Москве и печатает стихи в каком-то журнале.
Ни одна жилка не дрогнула на лице Игоря.
— Этого не может быть, — сказал он тихо, — потому что я его убил!
— Не понял? — затряс бородой Федор.
— Я застрелил Кельсия! — чуть громче сказал Блуднов, глядя вдаль. — Меня тогда на работу пригласили в Саяны. Дом с удобствами в поселке городского типа. Школа поблизости. Кельсий был хорошим следопытом, и нюх у него, интуиция — сам знаешь. Только стрелять не научился. Он обо всем догадался, следил за мной и ночью стрелял почти в упор. Я пальнул на выстрел — и попал ему в сердце.
— Чтобы Кеша стрелял в тебя?.. Не свисти! — нервно хохотнул Федор.
— Он на руках у меня скончался. Не веришь — у жены спроси, — Игорь вскинул грустные глаза и подмигнул: — Все эти годы ты хозяйством, дочерью, женой был занят. Все сам по себе, в своей семье.
Не прятался, но был за нашими спинами… Теперь твой выстрел, Москва!
6
— На кой он мне, этот выстрел? — тупо пожал плечами Федор, поднялся и, не прощаясь, побрел к дому. Он слишком хорошо знал Кельсия и самого Игоря, чтобы поверить сказке. Но в то, что Кельсий жив, верить не хотелось. От того, что жив сам, а Упырь наказан, ни радости, ни раскаяния, ни грусти не было.
— Устал! — сказал Федор, обернувшись к оттаявшему морю, синему и прозрачному до заповедных своих глубин, в которых колючие рачки-трупоеды уже ползали по выстывающему телу Упыря. — Я устал! — повторил он громче и настойчивей, раздраженно мотнул головой и спустился с насыпи к дому.
Во двор без него никто не заходил. На столике под навесом крыльца реально лежали сотенные купюры. Федор сгреб их и сунул в карман, будто деньги даны были за двадцатисемилетнюю службу.
Без прежних чувств и мыслей он заново растопил печку в бане, по-деловому сжег старые вещи.
Потом собрал все ценное, часть спрятал в лесу. Самое необходимое уместилось в сумке и рюкзаке.
На рассвете он запер дом и баню. Как сотни раз за прожитые здесь годы вышел на насыпь и стал ждать пригородный поезд, глядя в розовеющую морскую даль, вслушиваясь в привычные звуки, вдыхая запахи свежей воды и хвойного леса. Обыденно и сонно подошел тепловоз. Федор вошел в прохладный вагон, забрался на верхнюю полку и тут же уснул. Все было предельно просто и ясно — служба закончилась и прежняя жизнь — тоже. Все! Кончено! Он хотел к ней — единственной и любимой. Встреча была неизбежна. Оставалось, всего ничего, — подождать. Ждать легче в другом месте. И точка!
Рано утром он вышел на железнодорожной станции транссибирской дороги. Хотелось крепкого чая, к которому привык по утрам. Федор купил бутылку пива, которое когда-то любил. Сел на привокзальную лавочку, отхлебнул из горлышка. Вкус напитка показался приторным, несколько глотков вызвали тошнотворное головокружение. Он поморщился и брезгливо поставил почти полную бутылку на видное место. Проходивший мимо милиционер, строго осмотрел зачехленный ствол ружья, торчащий из рюкзака, но не удостоил особым вниманием.
Билетная касса была закрыта. В зале ожидания не было свободных мест. Лесник оглядывался в сторону берега и невидимого со станции моря. Благодарственных речей по окончании службы, оркестра и «Прощания славянки» не было.
Открылось окошечко кассы. Выстояв очередь, Федор узнал, что билетов на проходящий поезд нет.
Он снова пошлялся вокруг вокзала, прикидывая перспективы возможного ночлега, перед самым отправлением опять обратился к кассирше, и та, пощелкав по клавиатуре компьютера, раздраженно сказала, что может дать один купейный без места. До Иркутска придется стоять в проходе.
«Это лучше, чем на вокзале», — решил Федор. Проводнику не понравилась его борода, зачехленный ствол ружья, торчащий из рюкзака, и сам рюкзак в узком проходе. Он постучал ключом в дверь купе. Открыл злой мордастый мужик. Хмуро спросил, что надо? Заискивающим голосом проводник попросил временно поставить вещи Федора на свободную полку — а то мешаются в проходе.
— А что место пустует? — спросил Федор, забрасывая на полку сумку и рюкзак.
— Оплачено! — сухо отрезал проводник.
Федор не понял, что такое «оплачено», но молча вышел в проход и встал у окна. Поезд шел по знакомому до мелочей перегону, набирая высоту, кружа поворотами и дугами, взбираясь на Приморский хребет. Федор не смотрел в сторону моря, но чувствовал, как оно отдаляется, а он выбирается из бездны, на краю которой прожил столько лет. Усмехнулся пришедшему в голову каламбуру, что теоретически с каждой секундой приближается к небу — такого чувства не было.
За спиной громыхнула дверь. Он чуть прижался к окну, освобождая проход.
— Куда едем, мужик? — раздался за спиной хриплый бас.
Охотовед обернулся. На него пристально смотрел тот самый, мордастый.
— В Красноярск! — неохотно ответил, опять отворачиваясь.
— Ложись на полку! Что месту пропадать, — доброжелательно пророкотал пассажир, обдав его едким запахом водки. — Хотел купе откупить — договорился с командиром, — кивнул на суетящегося в тамбуре проводника. — Старика везу в Омск… Ты охотник что ли?
— Охотовед! — коротко ответил Федор, раздумывая, стоит ли принять предложение. Ехать в пьяной компании не хотелось. Какая компания попадется от Иркутска — еще не известно.
— А я водила, дальнобойщик. Соточку вмажешь?
— Не пью!
— Ну и попутчики пошли, едрена вошь, — язвительно хохотнул мордастый. — Все равно заходи, а то гляжу на тебя — и рюмка поперек горла.
Меньше всего Федору хотелось разговоров, да еще нетрезвых. Но отказываться Федор не стал, скинул штормовку, положил под голову свитер, вытянулся на полке и закрыл глаза, делая вид, что спит. А поезд все стучал колесами, унося в иные, совсем неинтересные места, к иным людям, которые не вызывали никакого интереса. Шло время. Все остальное теперь не имело значения.
Он стал дремать. На тряской полке ему представилось, как ее локон щекочет щеку, а среди душных запахов поезда чуть улавливался запах ее присутствия. Федор привычно и бездумно подвинулся так, чтобы ей было удобно рядом.
Мелькали знакомые остановки пригородных поездов, мимо которых проносился скорый состав.
Вот он стал притормаживать, сбавил ход и остановился. Напротив стояла электричка. Окно в окно, на Федора с любопытством смотрел знакомый паренек. Он был потрясающе знаком: лицо, рубашка в клеточку, улыбка со щербиной. Федор впился в него взглядом. Поезд тронулся. Паренек знакомым движением поправил длинные волосы. На левой руке был покалеченный палец. И Федор понял — хотя не понял ничего, — что в электричке к Байкалу, на практику и навстречу судьбе, снова едет глупый, молодой Федька Москва. «Вот и хорошо, — подумал. — Замена не заставила себя ждать.
Старик набирает новую команду! Пять сыновей Блуды, он сам и этот. Снова семеро!»
Молодость, молодость! Что в ней хорошего? Иллюзии? Если бы знал этот мальчишка, что его ждет… Нужда, нехватка денег на воспитание и образование единственной дочери, раздражение и семейные раздоры, унизительная торговля рыбой, пошленькое браконьерство, чтобы выжить…
Прекрасная тайга, покой леса, костры, небо, море. Вой ветра в холодной зимней ночи, долгие вечера, красивая женщина, вяжущая возле жаркой печи.
Федор закрыл глаза. Память услужливо унесла его к истокам, будто давно поджидала, когда он расслабится. Вспомнился южный город, остывший от зноя ранним утром. Вспомнился запах зелени и промытого асфальта. Высотный дом, отделанный мраморными ступенями, арочный проход под ним.
Федька Москвитин — молодой, глупый, веселый уже от того, что настало утро, что он улетает в Иркутск с красивой, любимой девушкой, с невестой, не сказавшей последнего слова. Он поставил чемодан на нижнюю ступень арочного крыльца и стал ждать. Она задерживалась, хотя могла передумать и попросту не поехать с ним в далекий и суровый край.
Зацокали каблучки. На другой стороне арочного прохода, как в просвете тоннеля, показалась она, в джинсовой юбке, с распущенными по плечам белокурыми волосами. И сумка через плечо, и наряд, и прическа — все было из иного, степенного и культурного мира интеллигентных людей. Она шла, опустив голову, словно была чем-то озабочена. Федор кинулся навстречу, перепрыгивая через две-три ступеньки, оставив на панели чемодан. Она увидела его, остановилась на самой середине прохода, глядя испуганно и растерянно. Но это продолжалось всего лишь миг. Затем она приветливо улыбнулась и быстрыми шагами пошла к нему, на свет солнечного утра. Выбор был сделан: встречи, шутки, танцы, поцелуйчики как-то сразу уступили место другому чувству — нежному, радостному и тревожному.
Федор снял с ее плеча сумку, поцеловал, и она впервые взглянула на него как на мужа и отца своих детей: ласково и требовательно. Вздохнула, чуть нахмурив лобик:
— Я видела плохой сон и не могу вспомнить о чем. А утром собиралась и случайно уронила зеркало. Оно разбилось.
— Это плохо! — улыбаясь, сказал он. У него в кармане лежали два билета, в душе была твердая уверенность, что Байкал — покровитель и хозяин, не может быть так жесток, чтобы разлучить их, по крайней мере, сейчас. О другом думать тогда не было нужды.
После молодого, зажиточного, ухоженного южного города Иркутск показался Федору убогим и грязным. Но она с восторгом ходила по старинным улочкам, смотрела на купола храмов, не замечая облупившейся штукатурки и мусора. Потрясенная Байкалом, лесничеством, молодыми охотоведами, с их песнями, романтикой, с презрением к благам цивилизации, она решилась. Не помешала этому ни скандальная неприветливая семья, в которой Федор давно не жил, но с которой не мог ее не познакомить, ни пьяное, матерное захолустье ближайшего к лесному кордону байкальского городка.
Для того чтобы не замечать всего этого, нужна была молодость, а она у них была: два диплома, юность, иллюзии и ожидания, которые зрелому человеку в трезвом рассудке показались бы абсурдом.
Потрясенная, замороченная ли малопонятной романтикой незнакомого, сурового мира, она захотела остаться. Они с Федором провели свою первую ночь на неуютном таежном кордоне с обшарпанными стенами и опять были потрясены открывшимся им миром близости. Эта часть их жизни, к счастью, никогда не разочаровывала: все оставшиеся годы им было хорошо вдвоем и в односпальном мешке, и на раскладушке, и на широкой супружеской кровати, которую Федор смастерил сам…
На нижней полке что-то приглушенно выговаривал обиженный старик, жавшийся в угол, к окну.
Дальнобойщик ворчливо потчевал его копченостями.
— Сок пей! — шуршал пакетами. — Водочку отпил. Не проси!
— Да уж мне-то все одно! — вздыхал старик.
— Зато мне не все равно! — ворчал сын. — Парализует, а я с тобой возись. Делать моей жене и детям больше нехрен: дерьмо из-под тебя выгребать.
— Не чужие! — пытался оправдываться старик.
— Что ты раньше об этом не думал? Пока всяким шлюхам трусы стирал, родные внуки выросли, первый раз деда увидят.
— Эх-эх… — обиженно вздыхал старик. — Зря ты так. Тоже ведь старым будешь. Еще не известно, как тебе…
— Да как бы ни было. Я тридцать лет на свою семью горбачусь, а не пристраиваю яйца по чужим дворам…
— Я ведь родил тебя! — жуя и чмокая, возразил старик.
— Ты родил? — взъярился мордастый. — Поимел полчаса удовольствия, а я пятьдесят лет расхлебываюсь. Родил он… От алиментов бегал по стройкам. И угораздило же матери с тобой расписаться. Все равно одиночкой прожила… Эй, кержак! — обратился к лежавшему на полке напротив Федора. — Не спишь? Может, выпьешь? Элитная водка…Тогда соку попей, закуси.
Грудинку вам можно? Пасха вроде прошла…
Краем глаза Федор увидел, как с полки спустился длиннобородый, светлоглазый мужчина лет сорока со здоровым лицом и юношеским румянцем на щеках.
— Это уже лучше! — радостно засуетился мордастый. — У меня и разовая посуда есть. Вы, говорят, из чужой не едите. Подкрепись. Тебе от Тайшета сколько еще добираться?
— Сперва на автобусе, потом на лошадях. В общем, дня три-четыре, — ответил бородач чистым, приветливым голосом.
— Вот ты человек верующий, — встрепенулся старик, — скажи-ка ему, можно ли с отцом так разговаривать? Что об этом в ваших книгах написано?
— Мы по-другому живем, — уклончиво ответил бородач. — У нас ни детей не бросают, ни стариков.
— У вас там что, деревня, скит? — спросил дальнобойщик.
— Деревня! — доброжелательно отвечал старообрядец.
— Школа есть, магазины?
— Не-ет, этого нет!
— Ну ладно, продукты завозите, а без школ как?
— А зачем они? Мы детей дома учим.
— Ну и куда они после, без аттестата?
— Как куда? Жить будут. Своих детишек растить, Богу молиться…
— И правильно! — проворчал старик. — Нынче в школах только на проституток, на воров и наркоманов учат.
— Во, даете! — удивился мордастый. — У вас ни документов, ни прописки?
— А зачем? — невозмутимо улыбнулся бородач.
— Как? Дом у тебя построен. А документы? Эдак, придут и отберут.
— Лучше мы на новое место уйдем и новую деревню построим, чем с вашими бюрократами водиться. Они же из-за этих документов жить не дадут, душу вымотают.
— Так-то оно так, но…
Ободренный этим «но», бородач осторожно начал проповедь.
— Жизнь-то человеку для чего дана? Не в очередях стоять, а душу свою улучшить. Тело, дом, все временное. А душа вечная. Сейчас жизнь-то легкая. Никогда она такой легкой не была. Вот народ и опамятовался после голодовок: знай себе обжирается да веселится. А кто не пьет, не курит — много ли надо, чтобы прокормиться да одеться? Посмотришь, как у вас живут, — страшно, ей-богу!
Федор лежал, не шелохнувшись, внимательно прислушивался к разговору.
— Дети у тебя есть? — продолжал расспрашивать дальнобойщик, потчуя попутчика.
— А как же, шестеро, — отвечал тот.
— И как теперь? Ни в институт, ни в техникум?
— Что я, изверг, свою кровинку в город отправлять? — искренно удивился бородач. — Нам там хорошо. В семье мир да любовь. Тайга кормит…
От последних слов у Федора кольнуло шильцем под сердце. Столько сил положено было на дочь, одну-единственную… И все прахом. Скажи этому таежнику-старообрядцу — не поймет, зачем они надрывались, зачем подолгу жили в разлуке? Все равно переламывалась жизнь надвое: на одной стороне он, на другой жена и дочь. Федор знал счастливую бездетную семью, в которой жена пережила мужа на сорок дней. Последние ее дни, кончина, похороны и скандал объявившейся родни — все это было ужасно. Успокоенный этой мыслью, он задремал под стук колес, а когда открыл глаза — поезд подходил к Ангарску, в купе было тихо, у ног его лежала стопка с постельным бельем.
Федор отметил про себя, на сколько километров удалился от Байкала. Как это бывало в тайге, ждал знакомого ощущения удаленности. Но было совсем иное чувство: тяжкое и муторное, будто часть его тела зацепилась за байкальские скалы — натягивалась как резина и все никак не могла оторваться.
Перед Тайшетом старообрядец стал собираться. Федор вышел в проход, устав лежать.
Распрощавшись с попутчиками — отцом и сыном, — бородач кивнул и Федору, не обмолвившемуся с ним ни словом. Постоял рядом, сказал, ни о чем не спрашивая:
— Вижу, тоже таежник и душа болит. Будет плохо одному — приходи к нам.
— Может быть, встретимся, — протянул руку Федор. — Где искать?
Бородач назвал деревню, от которой его путь лежал в урман.
— Захочешь — найдешь! — сказал уверенно. — Зовут-то тебя как? А меня Петр Ермолаев. Кто мед продает в деревне, спросишь — скажут, как найти.
За Тайшетом была ночь, бессонная и душная. Федор не спал. Вспоминалась прожитая жизнь, ее время и пространство. На одном краю желтел крест, от которого он отдалялся, три могилы Верных и обглоданные бормышем кости на глубине 93 метров. На другом — благополучный южный город, а посередине — Красноярск, как жирная точка… Или вопросительный знак. Снова было навязчивое ощущение, что вся прежняя жизнь пригрезилась в сладостной дреме мчащегося поезда.
Он не мог понять, спал ли, сутки не вставая с полки. Под утро соринка попала под веко. Охотовед поднялся, хлюпая носом, захлебываясь слезами, разбитый, с красным, опухшим глазом. Завтракать не стал. Умылся, попрощался с попутчиками и вышел на перрон большого шумного города. На сером небе, пропитанном гарью, гасли последние жалкие звезды.
Он не собирался тут жить или даже задерживаться. Нужно было только позвонить. Здесь при больших должностях работали бывшие однокурсники, которые всегда помогут устроиться на работу.
Покончить с бумажной волокитой и раствориться в бескрайней тайге — больше он ничего не хотел.
То, что однокурсники помогут, не сомневался. Охотоведы — не только профессия, это клан.
Звонить было рано. Федор зашел в фельдшерский пункт, показал документы. Медсестра осмотрела глаз, нашла в нем металлическую занозу, выдернула ее и выписала рецепт. Почувствовав облегчение, он купил капли в киоске, тут же, на виду у скучающих пассажиров, залил их в распухший глаз. Сел в платном зале ожидания. Щурясь, посмотрел на остановившиеся, кажется, часы. Звонить было рано.
От капель стало легче. Федор положил рюкзак на колени, обнял его и уснул, увидев счастливый и томительный сон — свою падь на Байкале, залитую солнцем, развалины какого-то строения. Походив вокруг, узнал свой дом, в котором якобы когда-то жил. С удивлением вспомнил, что в доме этом, таком маленьком, было просторно, уютно и тепло.
Он проснулся. Не открывая глаз, не отрывая щеки от рюкзака, прислушиваясь к гулу вокзала, резко встал, подхватил рюкзак и сумку. Колени подрагивали, как у альпиниста, распрямившегося на своей высочайшей вершине. Скользя рифлеными подошвами по гранитным плитам пола, стал спускаться к кассовому залу. Возле одного окошечка очереди не было. Думая, что касса закрыта, Федор все равно спросил билет до Байкала. Пальцы оператора запорхали по клавиатуре. Приветливо улыбаясь, девушка, походившая на Лютика, сказала, что поезд отправляется через полчаса.
На обратном пути он прекрасно выспался, с аппетитом поел. Глаз перестал слезиться. Днем по внутренней трансляции поезда «Маяк» сообщил, что принят закон о Байкале. Из того, что было сказано, Федор понял, что убивать инспекторов больше не будут, а их ведомственное жилье переходит к ним в собственность. «Теперь станут вытеснять цивилизованно!» — подумал.
Снова Федор сошел на станции знакомого до мелочей, нелюбимого байкальского города. Не прошел и первой сотни метров к вокзалу, водитель микроавтобуса, высунувшись из распахнутой дверцы, щелчком метнул недокуренную сигарету под ноги прохожим. Рассыпая искры, она ударилась в ботинок лесника. Водитель смущенно вскинул глаза и, подавив мгновенную растерянность, взглянул на прохожего с удалью и нахальством, громко отхаркавшись, плюнул на асфальт и хлопнул дверцей.
Федор шагнул к микроавтобусу, плюнул в лобовое стекло прямо против лица водителя, так, что тот вздрогнул и боязливо откинулся. Слыша за спиной нечленораздельное ворчание, не оборачиваясь, пошел своим путем. «Поставлю зимовье в самой глубинке, запрусь и буду жить в лесу, — думал. — Много ли одному надо?»
Пригородного ждать не пришлось. И уходил он без обычного опоздания. Здороваясь со знакомыми в полупустом вагоне, Федор занял место у окна, тщательно вымыл руки после городов и поездов, достал пакеты с провизией и стал есть, поглядывая на сияющую под солнцем волну. Смотреть на то, что происходило рядом, было мерзко. Будто сговорившись, люди старательно пачкали берег и сам поезд. Залетная бригада таджиков из ненависти ли к здешней земле, по национальной ли традиции, плевала и плевала вокруг себя, швыряя окурки, спички и мусор в окна и двери вагонов. Словно соревнуясь с пришлыми и обезьянничая, не отставали от них местные жители.
«Плетью обуха не перешибешь! — скрипел зубами Федор. — Что с них взять?» — думал, стараясь неприязненно примириться с житейской обыденностью. А она, словно глумясь над идеалами прожитой жизни, назойливо лезла в глаза. Даже лавочник, которого Федор знал лет двадцать, высунулся из двери, бросил окурок в траву, громко отхаркался и сплюнул.
У кордона старшего лесоинспектора он вышел в тамбур. Никто не знал, где пропадал Москвитин три дня. Все равно, что этих дней не было. Пригородный остановился, затем медленно протянул вагон к деревянному настилу перрона. На нем толпилась вся семья лесника. Федор вышел из вагона и увидел Блуднова, лежащего на носилках. Склонился над ним. Игорь растянул губы в улыбку, от которой вздулись на выбритых щеках знакомые шары.
— Ну вот, — с трудом проговорил, кривя рот. — Последним будешь ты! А я подчистую…
На лице его не было ни страха, ни печали, ни тоски. Полупарализованного приступом инсульта, его отправляли в Иркутск прямым и кратчайшим путем — по Ангаре. Федор помог погрузить товарища в вагон, уложил его на нижнюю полку и сел напротив. Говорить не хотелось. Блуднов долго смотрел в потолок, потом, вдруг, как-то отрывисто и приглушенно, закашлялся. Федор склонился над ним и понял, что тот смеется.
— Ты чего? — спросил.
— Что, Москва, не въехал на чужом фигу в рай? — он снова уставился в какую-то точку и тихо добавил начальственным тоном: — Выбора у тебя нет. Служи давай, а то мы за все спросим.
Федор поднял защипавшие глаза, скользнул взглядом к окну, за которым плескалась синяя волна, задрал голову к потолку, к раскрывшемуся, качающемуся, готовому сорваться плафону, застонал, поволчьи вытягивая шею.
— Не вой, бирюк! — хрипло просипел Блуда. — Не одного бросаю. Кеша жив, отсиживается у себя. Сам решай, что с ним делать.
Поезд остановился. Федор, договорившись с машинистом, выгрузил багаж на крыльцо, на котором лежал увядающий букетик жарков, и снова сел в вагон. Блуда важно помалкивал весь оставшийся путь. На несколько секунд притормозив возле очередного кордона, поезд ушел. С ним навсегда исчезал из жизни Федора старый друг, не удостоивший душевного прощания после тридцати с лишним лет совместной жизни, службы, работы. Неподвижный, как шпала под рельсом, переполненный сознанием своего достоинства, он расставался с последним из Верных, будто уходил на значительное повышение по службе. Федор подумал о Блуднове как об умершем, а обо всех Верных с обидой.
Он направился к знакомому кордону, где давно не бывал. Легкий ветерок сдул со скал запахи поезда — гари и мазута. В лицо пахнуло морем и свежей рыбой, беззаботно живущей в чистой воде.
Послышался шум волны, которого так не хватало в эти непутевые дни. У ворот Федор обернулся к пустому перрону.
— Это почему же у меня нет выбора? — пробормотал, обращаясь к линии горизонта между небом и бездной. А входя в незапертый дом, добавил мысленно: — «Свободный выбор есть всегда — на том Бог человека поставил в этом грешном мире».
Возле окна, спиной к нему, склонившись над книгой, сидел вполне живой Кельсий. Он слегка сутулился, и плечи были узки в старом, поношенном пиджаке, который когда-то был вызывающе моден. Федор молча опустился на лавку у входа и стал ждать, когда беглец изволит обернуться.
— Что не стреляешь? — наконец спросил Кельсий и оглянулся, по-стариковски глядя поверх очков. — Поговорить хочется или духа не хватает?
«Без оружия!» — молча поднял руки Федор.
Кельсий встал, закрыв книгу, раздраженно заходил по комнате:
— Я вас не предавал и не убегал. Просто, я не мог видеть ее мертвой.
«Она бы тебе никогда не позволила взглянуть на себя больную, увядающую!» — насмешливо подумал Федор, глядя на старого друга. Тот заметил, как сузились его глаза, напрягшись паутинкой морщин, вскрикнул раздраженно:
— Этого вам с Блудой не понять. Мужичье. Вы знаете только тело… Бабу!
В прошлой жизни было много переговорено о женщинах. Только у двоих сложились прочные браки. Остальные так и не сумели создать семьи в полном смысле. Как ни странно, разумней всех к женитьбе отнесся детдомовец Блуднов. Он встретил свою суженую на танцах в кулинарном училище.
Пару раз потанцевав с незнакомой девушкой, в тот же вечер предложил выйти замуж на тут же оговоренных условиях: чтобы в доме было чисто, чтобы он, муж, и будущие дети были всегда обстираны и накормлены, а остальное — его, мужа, забота. «Красивая, работящая, добрая — что такую не полюбить?»
Раздался отдаленный дребезжащий звук, который вначале можно было принять за комариный писк. Он усиливался, и наконец стало очевидным, что по рельсам на большой скорости мчится мотодрезина. Федор и Кельсий по многолетней привычке обернулись к окну и успели заметить в промелькнувшей дрезине Люську в каком-то странном платье с развевающимся на ветру шлейфом.
— К тебе! — злорадно ухмыльнулся Кельсий, кивнув на черный аппарат в углу. — Три дня терроризировала побережье, разыскивая Федьку-лесника. Сегодня из поссовета получила информацию: едешь с рюкзаком и сумкой…
Федор пожал плечами. «Что ж, — подумал, — девчонка знает, чего хочет. В том нет ничего плохого.»
— А я дописываю венок сонетов, — мягче сказал Кельсий. — Москва, дай мне закончить работу и издать книгу… Это для нее!
Глядя на сивую щетину и шевелюру, Федор впервые увидел в соратнике мальчишку, стыдливо оправдывающегося в том, что всю жизнь любил самого себя, свои личные переживания, но не женщину, с которой прожил жизнь его друг. Наверное, и она что-то додумывала, оберегая его, чего-то ожидая. Может быть, этих самых стихов.
Федор неопределенно пожал плечами, и Кельсий, успокоенный этим жестом, заходил по дому, торопливо говоря о передуманном:
— Мы не могли знать, с чем связываемся, хотя, конечно, догадывались, что не с водоемом… Как коротка жизнь, Федя. Только начали кое-что понимать — и вот… Старость не за горами. Что мы по сравнению с Ним? — кивнул в сторону Байкала. — Если не смогли разгадать его тайны, что с того? В этой пошленькой обыденности у нас был смысл, была цель. Это дано не многим. Поверь! Года худшего, чем последний, в моей жизни не было.
Похоже, Кельсий оправдывался, и Федору стало неловко. Тот еще что-то сказал. Не расслышав его, отвлеченный мыслями, Федор вскинул глаза. Кельсий раздраженно повторил:
— Мне нужен год!
— Живи дольше! — разлепил губы Федор. — Ты начал, ты и доигрывай!
Наверное, он случайно попал в самое уязвимое место.
— Не я! — закричал Кельсий, нависая над ним. — Я вас не звал! Ведь вы же сами! — Он резко умолк, сжимая зубы так, что лицо покрылось сеткой морщинок, пружинистыми шагами таежника заходил из угла в угол, как зверь в клетке. Взяв себя в руки, заговорил членораздельно и хрипло: — Ведь мы все еще тогда обо всем знали наперед. И она знала, что уйдет рано. Что ты поставишь памятник ее телу, а я напишу книгу — для души. И я все знал. Не думал только, что время летит так быстро… И Упырь все знал, — Кельсий обернулся, пристально вглядываясь в глаза Федора. — В Управлении говорят, пьяным упал с катера и утонул… А в ту ночь, когда все начиналось, и Тунгус потребовал смертной казни изменникам, он громко икнул… Помнишь?
Федор вспомнил этот миг. Кивнул грустно и поднялся с лавки.
— Езжай-ка завтра в Управление и восстановись в должности. Найдешь из молодых или из стариков надежного инспектора на кордон Аспирина. Старший блудновский сын будет твоим помощником, второй, студент, диплом защитит и останется на кордоне вместо отца. На места Графина и Упыря кого-то подыскать нужно… Найдем со временем…
Кельсий поморщился и спросил насмешливо:
— А если не поеду — застрелишь?
— Помру! — спокойно, но твердо сказал Федор. — Сам застрелишься!.. По правилам нашей игры.
— К девке побежал? — скривил губы Кельсий, скрывая страх, тенью мелькнувший в его глазах.
— Да, понимаешь ли… Впрочем, тебе этого все равно не понять… Про любовь поговорим там! — ткнул пальцем в потолок. — Прощай что ли! Через три дня жду. Я рад, что ты живой.
Он вышел на берег. Предстояло идти пешком к дому. Если Люся догадается, куда он уехал, — прилетит на дрезине. Эта мысль была приятна Федору. Он спустился к воде, склонился над ней, опустил руки и плеснул в лицо. Небольшая, случайно набежавшая волна шаловливо шлепнула его по щеке. Федор сел на камень, привычно прислушиваясь. Какие-то иные звуки доносились из глубин.
Жене слышались песни, Аспирину — скрип повозок скифов и гуннов, Кельсию — бряцание сабель, и только Федьке Москве — гул. И вот он услышал бормотание такого родного, такого неповторимого голоса. Слов было не разобрать. Но голос с потрясающим чувством читал что-то очень знакомое. Федор долго вслушивался в его тона и модуляции, понимая, что теперь так будет всегда.
Был ясный полдень. Причудливая дымка висела над морем. В пятистах метрах от берега она стала сгущаться и превращаться в нечто узнаваемое. Из воды поднялись бетонные здания цехов и высотная кирпичная труба. Это был не просто мираж. Это был знак. Старик предупреждал, что покоя не будет, что этот грязный и завистливый мир не простит чистоты. Он идет войной, пытаясь превратить бездну в бездонную помойку. Федор вспомнил, как вечерами у теплой печки жена читала вслух Библию. И различил в неясном бормотании, доносящемся из глубин, слова: «Когда видишь войско сильней тебя и колесниц множество, не бойся, потому что впереди иду я, Господь твой!»
Он не боялся. Он не был затравленным и истеричным героем-одиночкой. Верных было двое — а это уже сила.



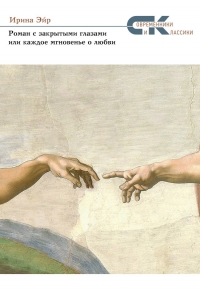






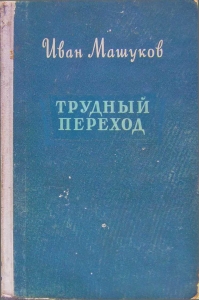
Комментарии к книге «Под нами бездна», Олег Васильевич Слободчиков
Всего 0 комментариев