Олег Слободчиков ШТОЛЬНИ, ТОННЕЛИ И СВЕТ
Абиш, сын Сагади, появился на свет в тот миг, когда тень отца в последний раз обошла родной аул и, сев на худого коня, откочевала к благодатным лугам, где пасут свой скот души предков. Его убил могульский оглан в долине Абиш. Захудалый дулатский род вынужден был принять небрежный выкуп за убийство, но отец Сагади, дед Абиша, не согласился со старейшинами, что это справедливо: за кровь мстишь кровью — такой закон завещали предки. И вместо имени Асым он дал внуку имя долины, где убит его отец, чтобы помнил и мстил.
Абиш перерос сверстников, под крючковатым дедовским носом рано зачернел пушок усов, пришло его время, но весной с гор спустилось сартское войско, чаготаи угнали скот, зарубили деда. Кража и пролитая кровь были случайными. Чаготаи искали могул, кровных врагов Абиша и дулаты не стали ввязываться в драку из-за одного своего, мимоходом ограбленного аула.
Абиш вытер слезы, спрятал тело деда и, покрывая фарсанг за фарсангом, помчался к Ашпаре. Холодный ветер студил его лицо, но не душу. Прижимаясь щекой к теплой шее кобылки, он скрипел зубами и твердил, чему учил дед: «Законы предков идут от крови и разнятся с хитрыми сурами нового бога. За четыре преступления нет иного выкупа кроме смерти: за кровь мстишь кровью, за увечье — увечьем… Возмездие — это равновесие, которым держится мир, никто не вправе нарушать его, иначе небо упадет на землю, вода смешается с огнем, мертвые вернутся из потусторонних кочевий и будут ходить среди живых, ничем от них не отличаясь…»
В Ашпаре Абиш узнал, что Ибрахимхан с войском ушел на закат, и только возле Таласа догнал его. Могулы долго не выспрашивали по какому делу примчался дулаткарачу, пропустили в дом-идущий Ибрахимхана, огромный дом, в котором можно не заметить гостя. В нем Абиш узнал людей дулатского эмира Худайдада, соединившихся с могулами, рассказал, где видел тьмы чаготаев, а все зыркал по сторонам, высматривая того, чье имя узнал раньше имени отца и никогда не произносил вслух. Душа не подсказывала, кто из них кровник.
Ибрахимхан вскочил с шитой золотом подушки, побелевшими губами поклялся, что воздаст чаготаям за обиды. Абиш все сказал, уже повернулся к выходу и услышал за спиной: «Надо бы наградить этого лупоглазого аразила. Скажи моим людям, пусть дадут ему коня!» Абиш обернулся к назвавшему его аразилом-подонком, увидел говорившего оглана с маленькими, как у кабана, глазками, хотел поблагодарить и услышал его имя. Это был кровник.
После многих дней, проведенных в жестком, скрипучем седле, Абиш едва держался на ногах, но лег на кошму и не смог уснуть — в голове шумело как в кипящем котле. «Как быть? — спрашивал себя. — Могулам все равно придется драться с чаготаями. Разве один отмстишь им за деда? Надо бы остаться, чтобы с их помощью расквитаться за свежую кровь, потом перейти к чаготаям и мстить за отца». Он всем им желал смерти, лишь за одного молил предков — пусть останется в живых, пусть не коснется чужой меч свиноглазого оглана. Его нужно принести в жертву и сделать это Абиш должен сам, для этого и родился на свет.
Он ненадолго забывался и видел во сне деда. Старик говорил: «Нехорошо быть всем врагом и лить кровь только за свою выгоду, хоть бы и ради мщения». Абиш просыпался потный, испуганный, злился сам на себя, хотел оскопить свои мысли, как валуха: зачем думать, что справедливо если еще никому не отмстил? Дед был старый, перед гибелью заговаривался, путался в словах. Приснился бы отец и подсказал, как поступить. Но отец, похоже, забыл о сыне на тучных выпасах нижнего мира.
Утром, по глупой суете и крикам, где каждый из сытых кулов-рабов показывал свое усердие, Абиш понял, что могулы собираются бежать к Иссык-Кулю. По тому с каким видом ускакали из стана люди Худайдада, догадался, что дулаты от них отделились. С кем идти не знал, сел на подаренного жеребца и зарысил в Ашпару советоваться с мудрецом про которого слышал от деда. Там он долго не мог найти его, никто не знал, что живет дулат-мудрец. Наконец указали старого гончара, бывшего когда-то гостем в его ауле.
Старик щурился, жаловался на бедность и не вспомнил бы деда, не попадись ему на глаза полтуши барана, привязанной к седлу. Абиш переночевал в его глинобитной лачуге.
Старик ничему не научил, не облегчил от мыслей, может и не слушал рассуждения гостя, хотя с важным видом хмурил лоб и качал головой, помешивая в котле.
Едва улизнув от чаготаев под Ашпарой, Абиш выехал на след Ибрахимхана, поскакал к Чарыну и только днем раньше, чем чаготаи, догнал могул. Ибрахимхан спешил к дулатскому эмиру Джеханшаху, надеясь вместе с ним отбиться от Улугбекова войска и на этот раз могулы приветствовали Абиша не как аразила, а как дулата.
Уже на другой день чаготаи лавиной скатились в ущелье Кызыл-Су, рассеяли могул, как пугливую отару, захватили добычу. Абиш не лез в свалку ради чужого добра, змеей выползал из расселин, кумаем бросался со скал на головы отбившихся воинов, убивал и снова прятался, мстил за деда, берег свою жизнь не из страха, но ради мщения. А потом скрытно смялся, глядя на свиноглазого оглана, прошлогодней травой вытирал окровавленные руки и думал: «Есть равновесие на свете, без него мир продолжаться не может!»
Облегченный потерей обозов, приниженный неудачами, Ибрахимхан помчался к Джеханшаху, как загнанный охотником корсак. Его люди боялись попадаться ему на глаза, сыновья сторонились разгневанного отца. Ругая нового бога и души отвернувшихся предков, рассыпая удары плетью по подвернувшимся под руку, он вел потрепанное войско в Баумское ущелье, где стоял дулатский эмир, сын Комар-ат-дина, воевавшего с самим Тимуром. Беды и обиды от чаготаев вынуждали могулов и дулатов забыть былые распри. Сколько можно кружить по горам и степям? Победа — жизнь, бегство — смерть для всех.
К могулам опять присоединились люди Джеханшаха, привезли привязанных к седлам пленных. От них Ибрахимхан узнал, что чаготайский отряд Араслан-ходжи стоит в ущелье Аксу и посветлел лицом, желая сквитаться за последний бой. Страсть — плохой советчик. Джеханшах был хмур, на угрозы Ибрахимхана отмалчивался, почесывая жидкую бороду, согласился помочь не сразу, не хотел понапрасну терять своих людей.
Чаготаям задешево спину не переломишь: за Араслан-ходжой стоит внук Тимура Улугбек, за ним — Шейбаниды. Что мальчишке Улугбеку? Потешится и уйдет. Прав останется тот, кто выживет. Но не помочь могулам сегодня, значит потерять все завтра.
Ибрахимхан оказался не горазд на военные хитрости, хотел повторить то, что сделали ему чаготаи в Кызыл-Су. Ночью его люди стали пробираться к лагерю Арасланходжи. Абиш скрипел зубами от вскипавшего кровавого опьянения, косил глазами на оглана, не выпуская его из вида, и мстительно высматривал страх в кабаньих глазках. На рассвете увидел, как в общей свалке чаготаи оттеснили людей Ибрахимхана, увидел кровника, бросившегося на помощь хану, испугался, как бы чаготаи не убили его, бросился с сыновьями хана прорубаться к их истекающему кровью отцу и отбивавшемуся оглану. Видел, как отошли сначала дулаты, потом побежали могулы, в запале боя ругал тех и других. Видел упавших с коней Ибрахимхана и одного из его сыновей, потом, как завалился на круп кровник-оглан, пробился к нему, перескочил на его иноходца, перехватил меч из слабеющей руки, а свою легкую сабельку бросил. Одной рукой он воровски придерживал тело оглана, другой прорубал выход из злополучного ущелья и представлял, как в укромном месте будет мучить раненого кровника, перед тем, как умертвить.
Младший сын хана бросился за ним, уже не надеясь отбить тела отца и брата, а вышло, что прикрыл собой и спас Абиша. Лишь на мгновение отвлеклись преследователи и он вырвался из окружения вместе с живым или мертвым огланом. Молодой иноходец вынес двоих из ущелья. Впереди рысили кони дулатов и могулов, бегущих к Великому Озеру. Левая рука Абиша, придерживавшая тело была залита кровью, он не чувствовал ее, правая сжимала дорогой меч с золотой рукоятью, отделанной драгоценными камнями.
Гладь озера покачивалась перед глазами, слабость и тошнота подступали к горлу. Абиш почувствовал, что долго не удержится в седле, звериный инстинкт потянул его в сторону, в укромную чащу. Там, бессильно сползая с коня, он подумал, что чаготаи рыщут слишком быстро, пожалуй, от них не уйти, надо хотя бы безболезненно умертвить оглана…
* * *
Всю душную июльскую ночь с нудным воем москитов и усталым урчанием машин под окнами, я ворочался под взмокшей простыней, вспоминая эти рассказы чудного старика, которые хорошо помнил по прежней работе. Ради смеха или при действительном помутнении рассудка Абиш уверял, что жил в те самые времена, то есть лет пятьсот назад.
Для навязчивых воспоминаний была причина.
Я вернулся из заезда в Прибалхашье, где второй год работал в геологоразведочной партии. Как всегда при возвращении, летний город, прикрытый редкой тенью тополей с пожухлой листвой, казался сытым, вальяжным и праздничным. Со внутренней стороны двора с балконов неподвижно свисало белье и было тихо. Мой почтовый ящик был туго напит корреспонденцией. Я выпотрошил его. Из газет и журналов выскользнул легонький листок. Это была повестка. В приказном тоне, с угрозой наказания при неисполнении, еще три дня назад мне предлагалось явиться к следователю ОБХСС.
Вместо долгожданного отдыха, в ванной, на кухне за чаем и ночью я ломал голову — зачем? Вспоминал события последних трех лет и доказывал сам себе, что причина может быть одна — Абиш добился своего, и ребята из ОБХСС наконец-то занялись Такырбасом.
К утру, в полусне-полубреду, сложилась речь, которую я должен был сказать следователю или суду, чтобы поверили: таких как Такырбас, нельзя оставлять на свободе.
К десяти утра я уже шагал по указанному адресу. От бессонницы кружилась голова, мутило и першило в горле от сигарет. При входе проверили документы, позвонили и отправили на второй этаж. В кабинете сидел круглолицый парень в просторных джинсах и рубахе с закатанными рукавами, его рыхлый зад облипал табуретку, будто всасывал ее в тучное тело. Гудел вентилятор, следователь двумя пальцами стучал по клавиатуре портативной пишущей машинки.
Я молча выложил повестку, он мельком взглянул на нее, окинул меня цепким взглядом и начальственно спросил:
— Где работаешь?
Не дослушав, перебил:
— В восьмидесятом, во «Взрывстрое» числился?
Я кивнул, приготовился выслушать вопрос и выложить все, что заставил себя вспомнить, но следователь порылся среди бумаг и придвинул мне подшивку.
— Эти деньги получал? Подпись твоя?
Мне очень хотелось, чтобы подпись была поддельной, а деньги не получены, но взглянув на бланк, я вспомнил даже магазин, к которому гурьбой потянулись работяги, получив эту премию.
— Подпись моя, и деньги получал! — ответил с разочарованным вздохом.
Расписавшись, спросил: — Что, заворовались начальнички? — Следователь хмуро кивнул. — Этого и стоило ожидать!
— Почему? — он впился в меня насторожившимися глазами.
— Абиш говорил, что у нормального человека бородавка на глазу не вырастает: бог шельму метит! — Я решил начать с этого: иначе не объяснить, почему рабочие люто ненавидели Такырбаса и молчали, хотя были уверены, что их обкрадывают.
Следователь презрительно усмехнулся уголками губ и глаз, чуть приподнялся и опустился на табуретке. Его рыхлый зад, как воздушный шарик, округлился и снова всосал седалище, поменяв и тут же приняв прежнюю форму. Усмешка сбила меня с толку и я заторопился:
— Абиш, хоть и неграмотный, но умный, он говорил: есть законы, созданные властью и временем, а есть вечные, идущие от богов и крови… Что-то вроде совести. Такырбас этих законов не чувствовал.
— Какой Такырбас? — раздраженно спросил следователь, вставляя в машинку чистый бланк.
— Так все звали Петренкова, начальника управления. Такырбас — значит лысый с казахского.
Следователь подавил зевок, поцокал языком, дергая пухлой щекой, и окончательно потерял ко мне интерес.
— Все это любопытно, но к делу не подошьешь!
С повесткой в руке и приниженной шеей в кабинет робко вошел лохматый парень лет двадцати пяти.
— Вот, — повеселел следователь. — Два года числился в вашей бригаде, — хохотнул и подмигнул ему. — Узнаешь напарника по трудовому героизму?
Вошедший ссутулился вопросительным знаком и угодливо осклабился.
— Не то, что тебя, фамилии начальника участка не помнит. Мертвая душа. Это факт!
Я вышел и швырнул в урну отмеченную повестку. Обдавая гарью, мимо с ревом проносились автомобили, нагревался и дышал жаром в лицо асфальт, деревья, как навязчивые побирушки, скрюченными ветвями цеплялись за прохожих. До следующего заезда на работу оставалось тринадцать дней. В общем никаких планов кроме отдыха у меня не было. «Встретиться бы с Абишем, подумал я. — Если утром выехать в Бартогай, к обеду можно добраться».
Знакомые места, немногие старые друзья, оставшиеся в потрепанной бригаде… Я представил встречу с ними и мысленно отказался от поездки. Явлюсь праздный и денежный, вроде вербовщика, в то время как у них с зарплатой туго и начальство под следствием. Нехорошо!
Я выспался днем, до полуночи вспоминал годы прошлой жизни на строительстве водохранилища, почувствовал, что ночью все равно не усну, достал чистую общую тетрадь, придвинул лампу к столу. Приглушенно урчали машины, попрятавшись, помалкивали рассерженные москиты, ночные бабочки мягко шлепали крыльями в стекло освещенного окна. У меня не было фактов, которые хотел получить следователь. Но если бы все знали то, что знал я, Такырбаса можно было бы упечь за решетку без фактов. Так мне казалось той душной ночью. Я обтерся мокрым полотенцем, сел поудобней и начал писать.
Нулевой цикл
Урочище называлось Бартогай — по-местному — «есть лес». На отвилке Кульджинского тракта первая группа рабочих вкопала в каменистую землю столб, прибила к нему обструганную доску, заостренным концом указывающую на колею разбитой дороги. Я столько раз слышал об этом дне, что, кажется, сам видел, как кряхтел, налегая на лопату тучный бурильщий Шмидт, как Славка-бич обмакнул в краску выдубленный мазутом, скрюченный вибрационкой палец, вкривь и вкось намазал им по доске «Бичегорск».
В двенадцати или пятнадцати километрах от тракта речка Чиличка, вырвавшись из горного ущелья на равнину, шаловливо разбегалась рукавами проток, стариц, излучин, затем снова заныривала в узкую теснину скал. Там, где подвижное, меняющее места русло подмыло глинистый берег, среди древних могильников, может быть, и сейчас лежит груда серых, покрытых лишайником камней. Среди них мало кто замечал узкий лаз. За ним, в землянке вроде каменного ящика жил старик, скорей всего такой же бездомный бич, как многие из первоприбывших. Имел ли пенсию или зарабатывал сбором лекарственных трав, говорить об этом он не любил, хотя поболтать был мастер.
Сейчас, когда прошло несколько лет, наши беседы с ним кажутся странными снами.
А тогда… Первое время, слушая его уверения, что он родился и умер полтыщи лет назад, я хохотал. Позже, бывало, его байки и раздражали меня:
— Мели, дед, мели!.. Мне все равно ждать, когда привезут кайло… В детстве на голову не падал? Понятно! Ничего, бывает хуже.
Не обращая внимания на насмешки и недоверие Абиш, обычно, распалял себя с каких-нибудь крученых суждений.
— Чтобы вспомнить жизнь-дорогу, на которой остаются следы, надо мало времени.
По другую сторону она длинна и как сон…
И снова, томясь бездельем, я слушал про битву при Аксу, про резню на перевале Санташ, про егеря и нулевой цикл — ту часть строительства, которую не застал, а со временем так притерпелся к рассказам и рассуждениям, что ничего уже в них меня не удивляло, не возмущало.
Абиш говорил, что нашел равновесие на бесследном пути, потому что не утратил при жизни стремления к нему, потому что не оскопил, как барана… — Он долго сопел, подбирая русское слово, вспоминал и выговаривал, радуясь ему: «собисть» — то есть совесть. Правда, понимал ее по-своему: без пол-литры не разберешь.
Не утратил, так не утратил, соглашался я и терпеливо слушал, как он, потехи ради, морочил егеря и ответственных работников, избравших заповедное место для скрытых и охотничьих забав. Про изыскателей, которые пришли очередным набегом и, увидев рай для избранных, алчно возжелали уничтожить его. Те и другие шумели и ненасытно браконьерствовали, их алчность успокаивала старика: временные люди вроде урок, как приходят так уходят, вечно рождающая земля зарубцует, скроет оставленный беспорядок и снова будет благодать.
— Ваши появились смешно, — говорил, — не так, как все. Укреплялись надолго…
Колобок… Как его?
— Синтик! — подсказывал я.
— Ага! Синтик и Шымит!
Привезли взрывчатку в бумажных мешках, пятьдесят тонн, пояснил мне потом Шмидт, высокий и плотный бурильщик-взрывник начальственного вида. Уложили ее под открытым небом, Шмидта и Сентярева оставили сторожить. Истекали третьи сутки, смены не было.
Палило южное солнце, воздух равнины был недвижим, с упоением стрекотали кузнечики, деловито шныряли занятые делом тушканчики и суслики. Шмидт лежал под палящим солнцем, втискиваясь в клочок тени от штабеля мешков. Аккуратный «директорский» живот пуховой подушечкой поднимался и опускался в такт ровному дыханию. Блестящая пряжка расстегнутого ремня, как стрелка манометра, клонилась то в одну, то в другую сторону. Его напарник — Сентярев — ушловатый непоседа, ловил тушканчиков, привязывал к хвостам капсюль детонатор с куском бикфордова шнура, поджигал и выпускал зверька. Дымящий шнур волочился за скачущим тушканчиком, затем раздавался звонкий хлопок взрыва и хохот Синтика. Шмидт приоткрывал глаз, косил на товарища, сонно ворчал:
— Дурило! Взрывчатка рядом!
Синтик не слушал, скакал и носился на коротких ногах, поднимая песчаную пыль, ловил очередного зверька. Шмидт, зевая, грозил?
— В ухо дам!
Абиш все это видел и тоже захотел повеселиться. Тушканчик с детонатором кинулся к его землянке, старик пугнул его, заставив повернуть в обратную сторону. Зверек поскакал к взрывчатке и спрятался под мешки. Из-под штабеля потянулся голубой пороховой дымок бикфордова шнура.
Синтик резко перестал хохотать и громко икнул. Вскинулся Шмидт, брезентовые штаны с расстегнутым ремнем соскользнули к ботинкам. Сентярев с разинутым ртом и выпученными глазами пробуксовал по песчанику и бросился бежать. Замелькали руки и ноги, придавая крепкому телу форму колеса. Шмидт, резко согнувшись и выпрямившись, подтянул штаны к животу и с воплем ринулся следом:
— Убью, если выживем… Синтик, зар-раза!..
Куда убежишь и спрячешься от пятидесяти тонн на равнине! Глухо щелкнул детонатор в глубине мешков, они не сдетонировали. Синтик упал, кулем покатился по ходу. Хрипя и задыхаясь, рядом рухнул Шмидт, нервно задергался, загоготал. Подушка директорского живота запрыгала и захлюпала, как лопающийся и надувающийся мыльный пузырь.
Вскоре на маленьком автобусе приехали полдюжины работяг, покидали на землю мешки и чемоданы, с неделю собирали остов юрты, осматривались, удили рыбу, спали на кошме, бок к боку, кошмой укрывались. Работали неспешно, с ленцой, но между тем быстро ширился стан, появился вагончик взрывсклада, штабель мешков был обнесен колючей проволокой. Натягивали ее старательно, явно опасались не скота и случайных гостей.
Абиш посмеивался над странным народом: разным на лица, но одинаковым в своей бесшабашности. Из этого кажущегося единства само собой появилось название бишары — то есть бедолаги. Так старик приспособил случайно услышанное слово бичи на свой, тюркский лад. Но один из них, явно бастык-начальник, не походил на всех. Он был как-то не по начальничьи важен, никогда не смеялся, улыбался и то редко, зато, слушая его и глядя на него, хохотали все другие бишары.
Они потешались уже не над безобидными тушканчиками, но над егерем: стреляли зайцев и фазанов возле самого дома в тугаях. Такое дозволялось очень большим людям, но не им. Однажды егерь без спроса заскочил в юрту и выбежал с торжествующим лицом, сжимая в руке конфискованный дробовик. Бичары на поклон не пошли, осатанев от егерского нахальства, возжаждали мщения. Браконьерская пальба усилилась, будто кроме конфискованного они раздобыли еще десяток стволов. Ночью мощная машина утюжила тугаи, свет ее фар врывался в окна егерского дома, тени крестов от оконных рам метались по стенам.
Теперь все оружие бичары держали на взрывскладе. Но стоило егерю приблизиться к колючей проволоке, из вагончика выскакивал сторож и строго по инструкции направлял горластую одностволку в егерский живот. Близко посаженные кабаньи глаза взрывника блестели и строжились тупым равнодушием хладнокровного убийцы. Егерь брызгал слюной, кричал о незаконной охоте, выпячивал живот с дергающейся на ней кобурой, показывая, что вооружен, но вызывающих движений опасался.
Щурился, как при прицеле, поросячий глаз. Сторож говорил, что предупреждение сделано по инструкции, а выстрела в воздух не будет по причине одного ствола. Этот глаз пускал искорку поверх мушки и егерь отступал, передвигая кобуру на бок. Дома же, вспоминая глаза взрывника, обильно потел, заново переживая встречу: этот хряк поступил бы по инструкции, схватись он по привычке за револьвер. Сорок граммов свинца в кишках — и во сне увидеть — не приведи господь…
А ночью бичары опять стреляли индюков в егерском огороде. Хозяин в белье сидел в погребе и палил в отдушину из дробового браунинга, конфискованного в старое доброе время.
На рассвете егерь ворвался в юрту. Все спали, не желая даже ругаться с ним. А он заглядывал в непроницаемые лица, в кастрюли и сытые пасти прибившихся к стану собак — не находил ни косточки, ни перышка от своих индюков: видимо бичары сожрали все подчистую, как этого не может даже свинья. Свиноглазый сторож-взрывник лежал на кошме в ватных штанах, мял вздутый живот и жалобно скулил:
— Слетайте в Копенгаген, мужики, помру ведь!
Копенгаген — Кок-Пек, был в пятнадцати километрах, на тракте. После бессонной ночи и обжорства никому не хотелось тащиться такую даль, хоть бы и на машине.
— Выпей фталазол, — советовали. — Закрепит… И вообще, от этого не умирают. А машина поломатая, — позевывали и глубже забирались под кошму.
Синтик выпрашивал водки с солью — другого лекарства не признавал, поминутно выскакивал за юрту, чвыркал, стрекотал, кряхтел с подвывом едва ли не на егерские сапоги. Хозяин тугаев без смущения таращился на взрывника — не вывалится ли из него индюшачий мосол, вещественное доказательство. Исходил черной ненавистью, худел от мрачных мыслей, ждал старых гостей, но стройка всех распугала.
Егерь стал надеяться на случай. Ох уж как он рисовался в его воображении?!
Синтика поймать, расчленить и скормить свиньям. Вот тебе за наших индюков!
Абиш хоть и жаловался, что от веселой жизни в те времена у него случались судороги в области живота, но остановиться не мог. Как-то загнал на территорию взрывсклада егерскую свинью. Синтик, глянув поутру в запыленную стекляшку окна, с нелюдским верещанием выскочил из вагончика, схватил багор с пожарного щита. За ним выскочили еще двое: один с бикфордовым шнуром и капсюлем на его конце, другой с ракетницей. В общей свалке полнотелый Шмидт не свинье, а Синтику засунул детонатор в ноздрю, поджечь шнур не смог поскольку, получив удар багром в живот, забегал на четвереньках. Хасану выстрелом из ракетницы опалило бороду, вдобавок жадный до свинины Синтик чуть не отгрыз ему ухо.
Смеяться Абиш уже не мог — стонал в каменном ящике. Он любил бичар, ему нравился нулевой цикл.
Егерь хватился свиньи через день, а изжарена и съедена она была к вечеру. Куски сала не смогли осилить даже собаки, прибившиеся к стану. Чтобы скрыть следы кражи Синтику пришлось поусердствовать. Когда подъехал к складу егерь, кругленького взрывника, по пояс голого, в ватных штанах, не смотря на жару, бичары грузили в машину. Синтик стонал и корчился, налегая руками на живот.
Косвенных улик было достаточно. Егерь прихватил увесистый кусок сала, индюка и на бортовушке довоенного выпуска помчался в Чилик. Но не помогли ни сало, ни звонки из приемной горисполкома: присутствовать при чистке желудка врач ему не разрешил, бумагу о том, что болезнь наступила в результате чрезмерного поедания егерской свиньи — не подписал. Местный начальник милиции выразился кратко и веско:
— Найди вора и неопровержимые доказательства, мы его посадим или заставим возместить ущерб.
Вести следствие, как в кино, по таким пустякам местная власть не желала. Какие требуются доказательства — егерь понять не мог. Добровольного признания из бичар не выбьешь, а новые организации при тугаях плодятся как тараканы. Их уже три и, ясное дело, подозреваемые будут валить на других пока не затеряются концы. Где они нетерпимые к преступлениям и умные следователи телесериалов? Майор Пронин, где ты?
На рейсовом автобусе егерь отправился в столицу к большим людям, когда-то гостившим у него. Здесь они были иными, не дозвониться, не пробиться в кабинеты. У всех много дел и забот. Пошел к людям поменьше — приняли, водку, закуску на стол поставили, с пониманием слушали, думали, чем помочь. Тугаи уже вырубаются по закону.
Кабаны уходят, зайцы разбегаются, фазаны улетают. Все равно конец былому раю для избранных: территория идет под затопление. Что тут поделаешь? Можно похлопотать, чтобы зверя поценней отловили и вывезли, можно дать помощника…
Егерь поперхнулся на половине недопитой рюмки, прокашлялся и замахал руками.
Слава богу, он жил не одной зарплатой, делиться не желал. Некогда важный, гордившийся знакомствами и связями, вернулся словно побитый и обветшавший среди городской суеты. Куда делся былой гонор? Абиш заглянул в окно его дома, увидел груду лекарств на столе, самого едва узнал и впервые почувствовал страх, догадываясь, что если теперь егерь не хозяин тугаев, то он, старожил, не их настоящий владыка.
Появился и начальник СМУ, он приехал на подержанном москвичонке. Гладенький, холеный, голова, как полированный шар, шариком живот: весь будто смонтирован из шлифованных шаров и только набухшее веко занозисто топорщилось, скрывая странный блеск прикрытого глаза. Кругляшком заячьей капусты на нем расшеперилась большая бородавка. Один из проходчиков-тоннельщиков, бывший десантник, долго приглядывался к ней и в полной трезвости объявил, что бородавка похожа на магнитную антенну засекреченной аппаратуры связи — зас.
Мягко передвигая шарами ног и приветливо улыбаясь, начальник просеменил вдоль стана. Скрываясь от посторонних глаз, за ним крался Абиш с ржавой железной полоской в виде посоха и удивлялся странным запахам: от начальственных шаров веяло перегревшейся радиоаппаратурой и лютой стужей углекислотного огнетушителя.
Бичары бездельничали: они сделали свою работу, истратили всю солярку и взрывчатку. Новый мастер по кличке Лева из Могилева, шнырял среди них, таращил испуганные глаза и уговаривал хоть чем-то заняться перед начальником для вида.
Проходчики и бурильщики курили с сердитыми лицами и отказывались устраивать спектакль. Тогда Лева сам схватился за метлу и поднял пыль возле юрты.
Начальник раскачиваясь и клонясь на шарах, тепло здоровался со всеми, совал в мозолистые руки пухлую ледяную ладошку. Бичары отвечали сухо, настороженно, не могли оторвать глаз от бородавки на начальственном глазу. Тут, по слухам, Хасан, первым назвал его Такырбасом и будто прилепил лейблу на гладкий затылок.
— Сидите, сидите! Сейчас важна не сама работа, а ваше присутствие на рабочем месте, — по-московски налегая на «а», мурлыкал начальник.
Рабочие робко возмущались:
— Обещали большую стройку, высокую зарплату. А тут, хоть спи, хоть рогом упирайся — полторы сотни на нос, голый тариф.
— Будет большая работа, и большие деньги будут, — сыто жмурился Такырбас, а бородавка подрагивала, меняя цвета.
Что-то во всем этом сильно не понравилось Абишу. Старик перестал смеяться, неделями отсиживался в своей землянке, спрашивал себя: как быть? Могильник снесут или завалят грунтом, урочище затопят, куда деться старику? Он не какой-нибудь бродяга, которому где хорошо, там и родина, он крепко связан с этой землей и останется здесь, что бы с ней не случилось.
Привезли солярку и взрывчатку. Опять стала быстро продвигаться дорога, прокладываемая бурильщиками, взрывниками и бульдозером. Земля тряслась от взрывов, камни-летуны падали возле кургана, скрежетали валуны под гусеницами, ревел мотор.
Абиш высовывался из землянки, смотрел как утюжит землю бульдозер, как крутится Синтик, закладывая новый заряд взрывчатки, пригибаясь, тянет магистраль — оказалась коротка, а спрятаться негде. Он по-куньи воровато огляделся, крутнул ключ взрывной машинки, дал разряд на электродетонаторы и — бегом под бульдозер. Занырнул, подгоняемый взрывной волной, самодовольно захихикал по дробь камней по побитому капоту.
Удивительно много знали и умели эти бичары: ремонтировали всякие двигатели, управляли машинами и тракторами, бурили, взрывали, работали с электросваркой, знали плотницкое и каменное дела… Кое чему научился у них и Абиш. Теперь уже жалея запуганного, смирившегося егеря, не скуки ради решил уничтожить всех разом, чтобы спасти себя и урочище. Для начала он поджег вагончик взрывсклада.
Первым из него выскочил Славка-бич с дробовиком и котлом с зайчатиной. Следом Синтик с коробками детонаторов и ожерельем сосисок в зубах. Внутри вагончика рычал и кашлял Шмидт пока не потушил пожар. Вышел в саже и подпалинах, пытался что-то сказать, выходило только: вже… бже… пше…
Синтик мигом сообразил в чем дело, побежал будить шофера, спавшего в юрте.
— В Кокпенгаген надо! Ключи дай! — толкал в бок спящего. — У Шмитяры замкнуло от пожара, опять по-поляцки разбазарился.
Шофер вздохнул, мотнул головой, вытащил из кармана ключи от машины.
Через час, опорожнив стакан, Шмидт занюхал его рукавом, им же стер сажу с носа и вполне по-русски раскричался:
— Тайком сосиски жрешь, урод?!
Душевной драки не получилось. Шмидт слегка двинул Синтика в ухо, а тот укусил его за живот, выше пупка. Абишу стало страшно: поджог взрывсклада никого не напугал и даже не удивил. Тем временем проходчики пробили штольню в горе, перетаскали в нее тонн тридцать взрывчатки, взорвали и на каменной стене землянки появились змейки трещин.
Работяг становилось все больше, бичары стали теряться среди них. На стане появился новый человек, назвался маркшейдером, поселился в юрте с Левой и Хариным, ходил на гору с треногой и рейкой. Если раньше бичары делали дорогу на глазок, на здравом смысле, зная, куда она должна вести, какие по ней пойдут машины и какой груз повезут, то теперь всем этим командовал маркшейдер: ставил треногу рядом с курганом, смотрел в прибор, записывал цифры. Абиш тихонько подкрался, заглянул из-за его плеча в стекляшку, увидел в ней все перевернутым с ног на голову и понял: маркшейдер — тот кто ему нужен.
Вечером он пробрался к юрте. За вагончиком-общежитием монотонно постукивала дизельэлектростанция — дэска, неподалеку стоял старенький «москвич», подванивавший бензином и смазкой, но все это перебивал другой острый запах. Старик лег на землю, приподнял край кошмы. Юрта была освещена изнутри мощной электролампой. Лева с маркшейдером понуро сидели на раскладушках, Харин стоял навытяжку, Такырбас бегал по свободному пространству, перекатываясь на ногах-шарах, размахивал шарами-руками и кричал пронзительным голосом:
— Какого черта? Заказчик за дорогу платит, так делайте же ее.
— Мы сделали, — угрюмо оправдывался Харин.
— Делайте еще, — топал шарами Такырбас: — На гору — с горы, на гору — с горы.
Пусть на склоне не останется живого места, лишь бы платили.
— Вам легко говорить, а мне с людьми работать, — хмуро оправдывался Харин. — бессмысленный труд — оскорбление…
— Плевать! — визжал Такырбас и бил шарами по столу. — Эту пьянь ничем не оскорбишь. Не нравится, пусть убираются — других найдем. И ты, делай, что приказано, или убирайся… Начать проходку тоннеля мы не можем — нет людей и техники. Надо выиграть время, — успокаиваясь, подвел черту.
Абиш понимал, что Такырбас спасает его, но ни благодарности, ни радости не чувствовал, как когда-то не было их за подаренного кровником гнедого. Еще сильней зажгла обида. Захотелось ткнуть острием шары, казалось, они лопнут, как пузыри на болоте и останется от начальника мокрое место. Но не враг же себе Абиш: стоило ли поджигать взрывсклад, если, натолкнув на правильную мысль одного человека, можно сделать пользы больше, чем взрывы и пожары.
Лева, сидя на раскладушке, вытянулся в струнку. В глазах загорелась страсть. Так оглан когда-то смотрел на родича-властелина. Кто родился кулом, тот пресмыкается перед сильными и мечтать о власти — это их сила, как у слепого слух, как у безногого руки.
Увидел Абиш знакомый блеск в глазах и уже следующей ночью бесшумной тенью проник в юрту, склонился над Левиной раскладушкой, стал нашептывать:
— Техника безопасность — нарушение… Начальник мужик-карачу… Работяга его не уважает, потому что не боится. Как в совхозе «вырвиглаз» делали? За такое тюрьма надо!
Было дело во времена нулевого цикла. Интересы участка совпали с интересами одного из совхозов. Приехал на «газике» председатель, стал просить взорвать небольшую горку, чтобы сделать траншею под дорогу. Камень там крепкий, бульдозер расшевелить его не мог, скреб плохо. Горку председатель описывали небольшой, а день предлагал немалые. Харин ухватился за предложение, прикинул, что пошлет в колхоз трех бичар и компрессор, они за неделю управятся, а на те деньги участку повышенная зарплата. Но при разговоре с председателем хмурился, в сомнении качал головой, дескать «своих дел — много! А тут шефская помощь… Не безвозмездно, но все-таки…» Стал навязывать условия: работягам жилье, кормежку… Потребовать женщин не решился: пусть сами прельщают. Ударив по рукам, Харин на участковом зилоке помчался в управление, пробивать шефскую помощь.
«Вырвиглаз» — штоленка метрового сечения, в которую можно влезть только на четвереньках. В эдакой норе пневмоподдержка — не помощь. Шмидт вползал в забой, распирался руками и ногами в борта выработки, надувал живот и давил им на перфоратор.
Его голова тряслась над вращавшейся штангой, с носа брызгами слетали капельки пота.
Синтик приспособился бурить лежа. Худощавый Хасан пробовал так и эдак, подпирал перфоратор доской и чуркой. Попробовал головой… Задом-задом выкарабкался на поверхность, запел и побежал в степь.
Работали они круглосуточно, ели и спали у волчьей дыры входа в выработку. Через трое суток доложили, что штоленка в пятьдесят погонных метров готова. Председатель не поверил, что все сделано по уговору и непозволительно быстро, почувствовал себя обманутым, чертыхнулся: хоть бы для вида с месяц повозились, тогда деньги отдавать не так жалко.
Понимая его, Синтик ухмылялся и подначивал: мы такие, баскарма! Спецы по высшему разряду, к тому же умные! Председатель позвонил Харину, тот не удивился скоростной проходке, подтвердил: они на работу злы. Председатель с недовольным видом покряхтел в трубку конторского телефона, подъехал к выработке, заглянул в нее, придерживая руками авторитетный живот, — темно. Самому лезть проверять на карачках — не солидно, шофера послать — обидится: брат свата, вытащил из газика свою веревку, размеченную по метрам, пальцем указал на Хасана: ты самый юркий, лезь, тяни! Тот подобострастно упал на четвереньки, прополз тридцать, пробитых в холме, погонных метров, сел у забоя и стал выбирать веревку. Синтик кричит — хватит! Хасан увидел недоверчивое лицо председателя в солнечном свете.
— Эй, где ты там?
Хитер баскарма, но и Хасан не дурак: обмотал голову телогрейкой, крикнул:
— Еще полметра!
Председатель прислушался к глухому голосу из подземелья, согласился — вылазь!
По физиономиям видел: обманывают, но как докажешь? Вздохнул:
— Зарядите получше, мелкий камень нам на строительство нужен.
— Пять тонн, как положено. Взрывчатку — грамм в грамм… За это у-у-у! — Синтик щурил поросячьи глазки, изображая страх: — За это строго спрашивают. Сделаем как надо, баскарма!
Взрывчаткой набивали штоленку, действительно, на совесть, но все равно полторы тонны пришлось вывезти в поле и сжечь.
Взорвали. Качал головой председатель: ой-бай! В ушах его звенело. Синтик вертелся рядом, совал под нос кусок гранита:
— Мелкий, как просил.
— Плохо взорвали: только с одной стороны.
— Так взрыв — он и есть взрыв, его в точности не рассчитаешь. Скалу расшевелили, теперь бульдозер запросто возьмет. Зато камень какой?!
— Жаксы! — сплюнул председатель. — Полгода придется собирать в поле твой камень… Деньги подпишу. Водка ваша, мясо мое.
После взрыва бичары с неделю гуляли в совхозе, собирались женить Хасана, да со свадьбой что-то не сошлось. Укатили веселые, жениха забрали, компрессор продали председателю. Через два дня за ним явился Харин, набросился: как можно купить государственное имущество? Баскарма вытер платком потную шею — компрессор вернул, дал машину, чтобы отбуксировать его, и барана, чтобы замять дело.
Обо всем этом Лева рассказал на партбюро, затем заявил:
— Дайте мне участок, я сделаю из него образец. Чувствую в себе силы!
Харин тихо ушел, с ним ушла половина его бичар. Почувствовав перемены, за ними потянулись другие работнички нулевого цикла: туда, где первые колышки и палатки, где земля еще не изрыта взрывами, не изгажена мазутом, где начальник — твой друг, а работа — не часы трудовой повинности, а полноценная, может быть даже, лучшая часть жизни.
Последний раз Абиш видел Синтика в валенках с короткими голяшками, в ватных штанах с мотней почти у колен, в тесной телогреечке и в шапке с оторванным ухом.
Мелкими шажками спутанных мотней ног он семенил к компрессору и тянул за собой баллон огнетушителя, наполненный машинным маслом.
Вздохнул старик: все-таки веселые были времена. Но, опасные.
Старик принес к кургану ведро, на мутной воде Чилика замешал цемент с песком и замазал раствором трещину в своем каменном ящике.
На горе было тихо: то станок ремонтировали, то не могли вытащить из скважины буровой снаряд. Изредка взрывали. Дорога виляла вправо, вверх, вниз, будто делавшие ее люди ослепли или были всегда пьяны. Маркшейдер глядел через треногу на рейку, морщился, сплевывал, и если работяги приставали к нему, кивал — все правильно.
Ширился участок, появлялись новые вагончики, а мест в них все равно не хватало.
Прибывали странные люди: бурильщики, которые не умели бурить, проходчики, не державшие в руках перфоратор. Стала падать и без того низкая зарплата, появились чудаки, которым не нужны деньги: лишь бы шел стаж на героической стройке. Все ломалось и разваливалось: новые буровые станки выходили из строя через неделю работы, заглохла даже старая дэска, почти полгода бесперебойно снабжавшая стан энергией. В поселок привезли вагончик, оборудованный под полевую кухню. Работяги еще не поели котлет, а уже безнадежно вышла из строя электромясорубка. Ходили слухи о вредительстве, будто шляется вокруг да около какой-то бич в малахае, то в масло песок подсыплет, то сунет в картер болт.
Казалось бы, Лева делал все хорошо и правильно: провел собрание «о вреде выпивок на рабочем месте», да так хитро все рассчитал, что получилось, будто рабочие сами решили объявить себе «сухой закон». Работяги хмурились, вздыхали, но голосовали единогласно. Как воздержишься если факт на лицо? Один вред от пьянства! Лева от восхищения собой и методами своего руководства не удержался, съездил в магазин за беленькой, чтобы отметить. Пил с новым мастером, спокойным и медлительным, похвалялся, как ловко провернул — не командовал, не принуждал, только направлял, и все прошло как пописанному.
Спячка
В городе была благостная прохлада южной осени, а в урочище, с пьяного и голого, жгучее солнце могло спустить кожу. Хмельная смена выгружалась из автобуса. Я прибыл с ней и впервые увидел чашу долины между гор. Берега и острова раскинувшейся в несколько рукавов реки были в густой зелени тугаев, в колючей чащобе облепихи.
Хриплые голоса трезвеющей смены чудились криками чаек, мечущихся над дном будущего озера.
Никто не работал. Приехавшие устраивались в вагончиках, отъезжавшие уныло толклись возле чемоданов и рюкзаков, шофер отдыхал, привычно скрючившись на сиденье, начальство о чем-то спорило в юрте. Оттуда веяло хмельным. Все были злы — что ни пересменок, то собрание, которое растянется до вечера. И только часа через три, когда могли бы быть под Алма-Атой, Лева стал собирать людей в столовой, наспех сколоченной из горбыля, с пустым вырезом окна и земляным полом. Отъезжающим некуда было деться, поругиваясь, они послушно потянулись куда велели, приехавшие прятались, на собрание идти отказывались, ругались через запертые двери вагончиков. Но собрали и их.
Люди сели на плахи, на горки кирпича, прислонились к стенам. Щетинившийся щепой стол начальники накрыли кумачом и началась обычная, привычная придурь.
«Для ведения собрания…» «Голосуем в отдельности… Есть предложение… Первым вопросом — товарищеский суд… ЧП на самом недисциплинированном участке в самой недисциплинированной смене…»
Председатель местного комитета, он же инженер по технике безопасности, протокольно откашлялся, встал, облокотился на край стола и заговорил, будто застучал на пишущей машинке:
— Двенадцатого числа этого месяца, ночью, на участке номер пять произошла драка, в результате которой тракторист Лунин отправлен в больницу с ножевыми ранениями, бурильщикам: Скрипкину — зашили голову, Горшкову дали бюллетень на два дня. Выше всяких рамок, что причиной драки явились наши женщины: раздатчица «ВВ» и повариха.
Две женщины лет тридцати с непринужденным видом и вызывающими взглядами стояли, прислонившись к дощатой стене.
— А теперь, я думаю, послушаем участников ЧП. С кого начнем? Давай ты, Ложкин, расскажи, как было.
Сорокапятилетний мужик с простым испитым лицом, с руками в грязных бинтах, поднялся со скамьи:
— Что я скажу? Спал. Вдруг бабы забегают, говорят, вышли до ветра, а Лунин приставал. Ну, я и пошел, а он — драться. Потом с друзьями пришел ко мне, меня ударили, больше ничего не помню.
— Не помнит, а зачем в общежитие шел? — пробубнил кто-то из толпы.
— Не был я в общежитии — это хорошо помню.
— А вы что скажете? — кивнул председатель женщинам.
Повариха обиженно дернула подбородком:
— Выходим…
— Выходют… — перебил голос из заднего ряда. — А как масло на обед — так десять грамм вместо пятидесяти…
Работяги зашумели, председатель застучал кулаком: при чем тут масло?
— Выходим мы, а он нас…
— А он их… — снова встрял возмущенный голос: — Лагман из вермишеля — пятьдесят копеек. Гнать бичевку, заворовалась!
Драка была забыта.
— Затирухой кормят, обвешивают, цены завышены! — шумели, оживая, сгоняя с лиц последние следы хмеля. И я тогда подумал, может, драки вовсе не было?
Позже Абиш сказал, что она была и на славу: досталось многим. За полночь, когда, казалось, все разобрались и успокоились, открылась дверь в вагончик, в мутном свете луны нарисовалась повариха с кухонным ножом, у которого был обломлен острый конец, а раздатчица взрывчатки держала в руке чайник с кипятком. Женщины жаждали мщения.
— Этот Лунин по кургану проехал на тракторе. Хулиган! — по-азиатски чертыхнулся Абиш. — Пока он крутился возле занятого туалета, я женщин пугнул. — Признался и, довольный собой, добавил: — Это справедливо!
Я, конечно, не мог во всем согласиться со стариком, но все слышанное мной о той драке, казалось очень уж нелогичным.
Собрание решило уволить по статье повариху, заодно и раздатчицу взрывчатки.
Возмущались Славка-бич, с ним двое работяг времен Харина: повариху уволили — значит, отменялись ужин и завтрак. Этим жлобам что? Они привезли с собой сала, мяса. А если у тебя ни дома, ни жены — помирать, да?
Утреннее солнце было по-весеннему ярким, а воздух обжигал зимней свежестью.
Бочка с водой для умывания промерзла, под вентелем полыхал факел. Эту пивную бочкуприцеп на резиновом ходу Славка-бич и, Шмидт когда-то украли в Чилике.
Над долиной все выше поднималось солнце, быстро теплело. Зевая и кашляя, рабочие втискивались в юрту на раскомандировку, рассаживались на раскладушки, стулья, стояли вдоль решетчатых стен. — …Кто я — проходчик или строитель? — возмущался хмурый мужик. — Второй заезд плотничаю… Работу давай!
— В который раз поясняю, — терпеливо потряхивал кипой бумаг Лева. — Тоннель — наши деньги. Но не можем мы сейчас начать врезку, не готовы. А работы по благоустройству поселка — это сто пятьдесят тысяч на план. За счет чего и натягиваем вам зарплату.
Кто-то громко проворчал:
— Как прошлый раз говорил, так и вышло: опять не туда вели дорогу.
— Начальство ошибается — начальство платит, — с усмешкой успокоил его Лева.
— А если бы ничего не делали весь заезд? Всем — выгода! — не унимался ворчун. — Ищете, чем бы народ занять? Массовики-затейники!
Славке-бичу, проходчику-взрывнику высшей квалификации выпало крыть линолеумом пол в привезенном, но еще необжитом вагончике-раскомандировке.
— Ведро надо, битум, — обиженно засопел он.
— Поищи, — предложил Лева.
— Где ж я найду? Ты даешь работу, у тебя пусть голова болит, как ее сделать.
— Уж кто бы, — обиделся Лева. — Ты же из ветеранов!? Я помню, как из ничего делали план по триста процентов…
— Время было такое, — огрызнулся Славка. — Короче, где ведро и битум?
— Прибивай гвоздями! — безнадежно отмахнулся начальник участка.
К полудню разгулялось полуденное солнце, нагревая вагон. Обливаясь потом, Славка четырехдюймовыми гвоздями прибивал цветные квадратики линолеума к плитам из прессованных опилок. Не лезли в них гвозди, гнулись. Славка прикидывал: работы часа на два, но надо растянуть на всю смену, часто курил, сплевывая горечь с одеревеневшего языка, а время будто остановилось. Водки бы вместо тухлой воды!
Между столовой и юртой юлой вертелся бульдозер. Ванька-сварной учился управлять трактором… Нашел место, где учиться… И! Ап! Салага! — рухнула сырая еще кирпичная кладка. Сашка Горшков, по согласию, замещавший повариху, высунулся из окна кухни, захохотал, размахивая поварешкой.
Ночи были холодны, жестяные вагончики промерзали, их подтапливали всем, что удавалось найти или украсть: днем строили стену, ночью ломали на дрова. За полночь, когда утихли голоса и умолкла дэска, Лева бесшумно крался по поселку, выслеживая соблюдение «сухого закона», тенью пробирался в жилье, откуда долго доносились возбужденные голоса. От одной из коек несло застойным пивом. Лева чиркнул спичкой, бесшумно шмыгнул носом и осторожно приподнял край одеяла. Ни подушки, ни матраца под ним не было, на голой сетке лежала человеческая голова с запавшими азиатскими глазами, язвительно усмехалась ртом в усах и бороде. Лева с перехваченным духом склонился, не веря глазам. Голова возьми и подмигни. Разряд тока прошиб начальника через резиновые сапоги и вышвырнул из вагончика.
Списать увиденное на глюк-синдром он не мог: всего-то неделю пил в городе.
Пытался по трезвости сдать гостехнадзору экзамен на допуск к взрывным работам.
Дородный Технадзор засыпал его на самых простых вопросах, да еще с юмором. Добрые люди надоумили пригласить к речке, поставить коньячок, подмаслив подсунуть бумагу на подпись. Но пить с Технадзором пришлось с неделю, прежде чем тот поставил зачет.
И вот, лежал Лева в юрте на раскладушке, сердце трепыхалось, как птенчик в гнезде. Не верил, чтобы за какую-то неделю — белая горячка… Конечно же, работяги подшутили.
Утром на раскомандировке начальник участка угрюмо сопел, клонясь над бумагами. Оторвался от них, обвел собравшихся пристальным взглядом, изобразив на лице иронию, спросил:
— Иванов! О «сухом законе» разговор был?
— А что? — стал разглядывать кончик тлевшей сигареты медлительный и солидный проходчик.
— С Шалобаевым вчера пил?
— Мы шумели, дебоширили, мешали кому-нибудь?
— А «сухой закон»?
— Как его понимать? Этот закон только для рабочих? Мастера позавчера ого как навеселе были.
— Это ты заметил, когда вечером в юрту заходил? — Лева придал лицу выражение надменной иронии.
— Когда надо, тогда и заметил, — проходчик поплевал на тлевший окурок и швырнул ее за порог.
— Короче, Иванов, пишите объяснительную на имя начальника управления.
Шалобаев — тоже. Я говорил: с пьянством будем бороться.
— Да пошел ты… со своей объяснительной, сопляк. Никогда я их не писал. Принесу заявление на увольнение… При таких заработках да еще…
— За компанию вместе с двумя доброй волей написал заявление третий: Горшков.
Опытные рабочие собрали вещи и через полчаса стояли на дороге, ожидая попутку на Кок-Пек.
Оставшиеся притихли. Лева шмыгнул носом:
— Обойдемся! Но от пьянства избавимся.
— Ивану Ивановичу до пьяницы, как мастеру до министра! — наигранно, похолопски засмеялись работяги.
Днем, когда все разошлись на работы, Лева вошел в незапиравшийся вагончик. Как и ночью, на койке без матраца лежало одеяло, под ним бугрилось что-то, похожее на человеческое тело. Дрожащей рукой Лева приподнял край одеяла — на сетке была брошена спецодежда.
— Чертовщина! — пробормотал начальник. — Надо же? Всего неделю… А померещилось.
В середине заезда на участок приехал главный инженер управления Кудаков, суетливый и рассеянный, с красными воспаленными глазами. Лева, сунув руки в карманы, встретил его с независимым видом, потом сопровождал, вышагивая рядом, раскачиваясь с бока на бок. Показывал погреб, кирпичную пристройку возле столовой, фундамент под будущую контору. За Левой запуганными дворнягами волочились два новых мастера, один, краснощекий малолетка, вчера только объявился.
На пару со взрывником-бурильщиком Клюшкиным я работал на горе. Бурили скалу пневмоударным самоходным станком, смотрели сверху, как подкатил участковый зилок, из кузова выпрыгнул краснощекий и неловко выбрался новый мастер… Тихий, — подсказал Клюшкин. Лева внешне как-то уже сник и полинял после раскомандировки, независимый вид тоже был им утрачен. Тихий боязливо ежился, опасливо жался то к начальнику участка, то к другому мастеру. Главный размахивал руками, показывая, что все здесь делается не так, и указывал, как надо, при этом перебирал ногами в туфлях на тонкой подошве, приплясывал и скакал.
— Гляди-ка, — хохотнул Клюшкин. — Как вытанцовывает, падла! Знать, крепко вдуло вышестоящее начальство.
Кудаков, широко ступая, стал подниматься по дороге в нашу сторону. За ним плелись два мастера и Лева. Главный подскочил к станку, не глядя, сунул нам свою холеную бабью ладошку. Клюшкин почтительно выключил воздух, умолк грохот коронки по граниту и обнажился стрекочущий голос главного:
— И здесь та же история… Бурите под скалу?! Сколько же надо взрывчатки, чтобы проработать эдакую махину?
— Десятый год дороги делаю, — приблатненно качнул головой Клюшкин. На его бугристом обветренном лице расплылась насмешка.
Кудаков выдергивал вбитые маркшейдером колышки — разметку скважин, устанавливал их иначе, отходил, щурился, прикидывал, указывал, как и под каким углом бурить. Клюшкин облокотился на станок, закурил, своим видом выражая презрение:
«Тешьтесь, голубки, коли делать нечего!» Главный засеменил дальше вдоль скалы.
— Бурить-то где? — в спину спросил Клюшкин и сплюнул.
— Бурить не надо, — обернулся Кудаков. — Поднимайте снаряд, отгоняйте станок: будете ополаживать склон.
Клюшкин опять мотнул головой, будто вытаскивал из кармана нож.
— Ха!
Краснощекий кивнул ему, как старому знакомому:
— Главный, наверно, взбучку получил от Такырбаса, а тот сверху. Теперь надо делать вид, будто место под врезку тоннеля готово, — пацан сказал и тут же осунулся под взглядом Левы.
Мы отогнали станок, полезли на скалу с легкими оборочными ломами, чтобы сбросить шатающиеся камни. Далеко внизу расстилались тугаи, на полянах видны были пасущиеся дикие козы. Клюшкин смотрел на них, вытирал подшлемником мокрое лицо, восхищенно бормотал:
— Кайф — не работа! Чем пылью-то дышать?.. И кого благодарить? Главный вздрючил Леву, Главного — Такырбас, того, наверное, — министр! Пидор на пидоре! А что выше делается — того ни один кум не знает. И это зовется волей! Ну и жизнь, однако!
К концу смены мы лежали на террасе, защищенные от ветра гребнем скалы.
Пригревало солнце, опять внизу остановился зилок, тупая морда кабины с оскалом радиатора шевельнула ушами-дверцами, на разные стороны выпрыгнули Лева и Кудаков, из кузова скакнул розовощекий мастер, Тихий измученно, враскорячку свесил ноги с борта. Клюшкин толкнул ногой камень, он с грохотом полетел вниз, к машине. Лева и главный замахали руками. Клюшкин потянулся и снова зажмурился на солнце.
После смены нас вызвали в юрту. Там уже сидели Славка-бич и Димка-китаец.
Стол был завален бумагами, Главный и Лева рылись в них, как куры в поисках поклевки.
— Как ополаживание?
— Готово, — щурясь, ответил Клюшкин, смахнул с головы подшлемник и шлепнул им по колену. — Сбросили шатуны. Могу лечь под склон на всю смену.
— Мы с Леонидом Николаевичем только оттуда. Видели вашу работу. Глыбы торчат, местами скала выходит. Все эти «рога» надо убрать взрывчаткой.
Клюшкин недоверчиво хмыкнул, взглянул на Леву. Тот развел руками, показывая, что начальству все видней.
— Ха! Расшевелим склон, потом, сколько ни обирай — сыпать будет, — заспорил было.
Кудаков тряхнул головой в мелких кудряшках, замигал воспаленными глазами:
— Нужно ополаживать… Тоннель — ваши деньги. Вам четверым поручение… Со дня на день приедет комиссия… При свидетелях обещаю, сколько ни проработаете — заплачу по аккорду двадцать рублей в смену.
Но… — Он ткнул оттопыренным перстом в вытяжную дыру юрты. — Надо задержаться после заезда и довести работу до конца.
Клюшкин пожал плечами: дескать, по нынешним временам хорошие деньги, можем и обломать «рога». Начальству видней!
Мы вышли. Стрекотала дэска, привычный дух сгоревшей солярки мешался с запахом сухих степных трав и вареного мяса из столовой. Темнело.
— Я Кудакова давно знаю, — сказал медлительный Димка и закурил: — В карман нассыт и отопрется. Ничего он нам не заплатят.
— Может, и заплатят, — Клюшкин замысловато выругался.
Славка-бич поскоблил небритую щеку:
— Куда они денутся? Выложат деньги, даже если работать не будем — отчитаться-то им надо, а? Остальное их не колышет.
Загрохотало ущелье над рекой. Охала гора, поднимая камни и клубы пыли.
Удушливый запах селитры тек по тугаям, пугая кабанов и фазанов. Зайцы с любопытством смотрели на вонючую тучу, дергали усиками, ловили запах сожженной взрывчатки, привыкали к стройке. Покряхтывая, из своей землянки вылез Абиш. Не отряхивал с себя песок, стал смотреть на тусклый медяк солнца в тучах пыли.
В конце недели, почуяв ухудшение погоды, он привез на скрипучей телеге с умученной лошаденкой десять ящиков водки. Так я впервые увидел старика: не то в чапане, не то в затрапезном демисезонном пальтишке, подвязанном кушаком, в шапке вроде малахая, с пепельной от проседи бородой. С виду ему можно было дать и сорок пять и шестьдесят пять.
— Аксакал! Зачем так много? — удивилась Розихан, продавщица нового поселкового магазина.
— Э-э, бала! Мороз будет, работяга мерзнуть будет. Арак надо, план тоже надо.
Усмехался Абиш. Это был подарок для Левы. Старик прикидывал в отмщение ящик на ящик — все равно, что взрывчатка под юрту. Уже кое-что понимал во взрывных работах.
После обеда задуло по-бартогайски: срывало со скал камни, шифер с крыш общежитий мехколонны, сухой песок наждаком кровянил открытую кожу. В это время лучше не высовываться из вагончиков, а уж если выходить, то по крайней нужде, прикрывая голову руками.
Клюшкин не любил работать детонитом, а другой взрывчатки на складе не было. К вечеру голова его раскалывалась от едкого запаха, поправить ее можно только выпивкой.
Пришлось ему пробираться в общежитие мехколонны: поселковый магазин был там. На двери магазина висел навесной замок. Клюшкин нашел комнату продавщицы в длинном коридоре барака, толкнул дверь. Розихан сидела посередине комнаты на груде шерстяных одеял; в руках домбра, у ног початая бутылка и пиала.
— Заходи, Клюшкин, гостем будешь, у меня сегодня день рождения!
— На что садиться? Га-га! Брюки лопнут, штопать некому!
Розихан была женщиной не толстой, но удивительно плотной. Клюшкин — мужик коренастый, но у продавщицы бедра в два раза шире его плеч. Женщина сидела по-восточному: пятки под себя, колени врозь. Юбка сползла с массивных ног к животу.
Клюшкин давно млел от вида ее бедер, а тут бесплатное кино… Он качнул головой, будто предлагал партнеру сдвинуть колоду:
— Розик, во сне тебя я видел, у тебя плавки из овчины или как? Может, переспим?!
— Эх, Клюшкин, Клюшкин, скучный ты человек. Хоть бы сделал подарок ко дню рождения — сказал, что любишь…
— А я что? Я давно… Розик, брось скучать, давай…
— Что за гость? — насмехалась женщина. — Пить не хочет, говорить не хочет — уставился на одно место, — досадливо ругнулась. — Другую дырку протрешь глазами! Ладно, скучный человек, пойдем в магазин, отпущу тебе в долг.
— Чего?
— Водки! Забыл, зачем пришел? Эх, Клюшкин…
В сумерках вагончики качало ветром, снег с песком и шифер с крыш общежитий стучали по металлической обшивке. Лева на попутной машине успел выбраться из поселка, за начальника остался Тихий. Ему легче — его комната в общежитии рядом с магазином.
Я высунулся, было, из вагончика, приоткрытую дверь вырвало из рук, она распахнулась, звонко ударив по стене. От воздушной оплеухи я двумя руками схватился за шапку и увидел, как сорвалась с тормозов пивная бочка-прицеп и помчалась в гору. Из горловины высовывался старик, тот самый, что привозил водку, уши малахая трепетали, как крылья бабочки на лету. «Вот чудик, зачем в нашу бочку залез? — подумал я. — Если скрывался от камней, то почему в бочке?»
Потом Абиш рассказал, что мчался по ветру фарсанга полтора — страшно было прыгать. Бочка угодила в яму, которую выкопали археологи возле своего вагончика. Они жили вдали от поселка.
На следующий день ветер слегка утих, но не было надежды, что придет автобус со сменой. Работяги, устав сидеть по углам, стали сползаться в бичевской вагончик. Тихий тоже затомился одиночеством, пришел к обществу. Было тепло, и даже душно, приглушенно тарахтела дэска, Славка с Димкой варили зайчатину на мощной электроплитке. Изнутри вагончик гудел от тягучих голосов, снаружи скрежетал железом ветер. Абиш строил рожи Тихому из шкафа с рабочей одеждой. Мастер поглядывал поверх темных очков на странную двоящуюся физиономию, на провокацию не поддавался: тихо посмеивался причудам зрения.
Шмидта в детстве напугала бодливая корова. В малолетках он заикался, но к юности его речь выправилась и только при сильном волнении или в состоянии чрезмерного перипетия при немецкой фамилии у него появлялся польский акцент. А по пьянке был он охоч до картежной игры. И вот… Шастал по вагончику, искал замусоленную колоду карт, возмущался их пропажей:
— Трышы, бжепш… Кшы-кшы, — размахивал руками. Полез в шкаф с одеждой и нос к носу столкнулся с мужиком в малахае. Отпрянул дородной фигурой с начальственным животом, перескочил через казан с кипящей в жиру зайчатиной. Электроплитка на высоких ножках из арматуры проскользнула между его ног, но следом за упавшим Шмидтом, упала в его сторону, казан опрокинулся и плеснул швырчащим жиром прямо под круглый живот.
Шмидт взвыл. Работяги, хохоча, выволокли его на ветер, стянули штаны, стали посыпать ожег снегом, густо мешанным с песком. Бурильщик кричал, страшно вращая глазами, он уже не видел ни хохочущих рож, ни протянутых стаканов.
— Помереть может, — пришел в себя Славка, понимая, последствия того, что все произошло в его вагончике. Тихий повздыхал, мол, судьбу на козе не объедешь, поднялся и поплелся к своему уединению, сожалея, что скука и буря вывели к людям.
Славка-бич протер лицо грязным снегом:
— В Чилик Шмидтяру везти надо! — Потащился заводить участковый зилок. Абиш и здесь навредил — залил в бензобак солярку вместо бензина. Но машина завелась. Из коллектора веретеном валил черный дым. В кузов бросили матрац, на него, Шмидта со спущенными штанами, которые он не давал ни снять, ни одеть для приличия. Машина, пуская по ветру завесу копоти, поползла по заметенной дороге. От ожогов и обморожений в кузове подвывал бурильщик, стучал кулаками и пятками в холодное железо, колючий сухой снег лупил по пунцовой подушке живота, стекал струйками стынущей воды и не приносил облегчения.
В больницу приехали затемно. Славка, не в силах что-либо внятно объяснить, пускал пузыри слюнявыми губами и мычал, к шмидтовскому счастью он был опознан одной из медсестер. Она не поленилась и заглянула в кузов. Обожженного, обмороженного с сосульками слез на седеющих висках, больного выгрузили. Черная от копоти машина жалко кособочилась, попав колесом в арык.
Завести ее Славка не смог. Сделал круг, выбрасывая чужие, путающиеся ноги, кланяясь на все четыре стороны, ткнулся в стенку, прижал к груди початую бутылку, нащупал дверь, потянул и оказался в темном коридоре. Споткнувшись, повалился на чтото мягкое. Холодная плотная ткань приятно студила лицо. Славка опустил руку, бережно поставил на гладкий пол бутылку и вытянулся без сил.
Проснулся он затемно от озноба. Почувствовал — утро. Язык был сух, как щепа.
Протянул руку, нащупал бутылку, отхлебнул, поморщился и сел: воды бы! Вдали что-то тускло светило. Славка встал, и носилки с каталкой откатились из-под него во тьму.
Вытянув вперед руки, спотыкаясь, он пошел на свет. За тяжелой дверью была комната с оцинкованными столами, над дверью мерцала лампочка, на столах лежали три голых покойника. Четвертый, одетый, сидел на полу и поблескивал живыми глазами, его усы топорщились, и борода тряслась от беззвучного смеха.
— Ты живой, дед? — спросил Славка. — Э-э, бичуган, да я тебя в поселке видел.
Опохмелимся, что ли?… Чего молчишь? Арак, говорю, пьешь?..
Абиш рассерженно протянул руку к бутылке.
— Куда мы с тобой попали, аксакал? — прокашлялся Славка, закурил и постучал кулаком по лбу: — Или у меня того… Ты кто? Вот я проходчик-взрывник. Алименты бывшей жене плачу исправно, на остальное гуляю. А ты кто?
Голосом глухим и хриплым старик прошамкал:
— Я Абиш, сын Сагади, убитого могулом в долине Абиш…
— Чего мелешь, бичара, на старые дрожжи выпил? Вот я проходчик-взрывник…
За дверью затопали. Славка хотел спросить, где вода. В помещение вошли два санитара. Старик исчез, улизнул, будто и не было его. Проходчика подхватили под руки и вышвырнули во двор. Утром к Шмидту его не пустили. Зилок стоял уже со снятыми фарами. И поплелся Славка на тракт ловить попутную машину. Здесь его подобрал автобус с новой сменой…
* * *
Общая тетрадь кончилась. Только тут я пришел в себя, с трудом вспоминая сколько времени прошло с тех пор, как начал писать? Помню, готовил, ходил в магазин, спал, снова писал, как в запое. Я полистал отрывной календарь, но не понял какое сегодня число. Включил приемник — звучала заунывная музыка. Включил телевизор, на всех каналах симфонический оркестр выводил смычками и флейтами до того нудно, что захотелось выпить… «Уж не свихнулись ли все, пока я писал?» И тут вспомнилось, что такая же заунывная музыка была с год назад.
Я разыскал телефонную книжку, позвонил Клюшкину.
Он по-прежнему работал в СМУ. Узнав его прокуренный голос, спросил:
— Или я вольтанулся, или телевизионщики чокнулись?
Клюшкин прокашлялся и зарычал в трубку:
— С луны свалился?.. Похороны. Хозяин откинулся… Про нашу контору знаешь?
Такырбас с Лисом украли полтора миллиона. Обделили главного бухгалтера, он накатал на них телегу в ОБХСС. Но взяли его и Лиса, Такырбас с сердечным приступом спрятался в больнице…
— Меня уже вызывали… А какое сегодня число?
Клюшкин сказал.
— Я тут писал следователю. Выходит, целых три дня. Хочу всю подноготную про них выложить.
В трубке захрипело, забулькало. Клюшкин хохотал.
— Сверни свое письмо в трубку и засунь куда следует!
— …?
— Главного бухгалтера и Лиса уже освободили. Такырбас, сука, вылез из больницы и снова командует. Где-то высоко имеет мохнатую руку… Все будет по-старому… Чо молчишь? Приезжай, к нам в магазин завезли «андроповку», помянем хозяина. Плюнь ты на эту мразь, ничего с ней не сделаешь.
Я положил трубку телефона, долго мял никому ненужную тетрадь, вспоминал Абиша. Он как-то спросил: что такое штольня? Я ответил коротко, самому понравилось: выработка, у которой есть вход, но нет выхода.
Эх, Абиш, Абиш…
* * *
…Он очнулся от боли и тряски. Был сумрак. Скрипели колеса и храпели кони.
Похоже, случилось то, чего больше всего боялся. Плен. Рабство. Абиш перевернулся на спину и удивился, что здоровая рука свободна. Пошарил ей вокруг себя по мягкой кошме, нащупал рукоять меча, доставшегося в бою. Шлифованные камни приятно впились в ладонь.
Темная фигура бесшумно поднялась из сумрака просторного дома-идущего. Абиш попытался защититься здоровой рукой и снова потерял сознание, а когда пришел в себя и открыл глаза, в них ударил свет. Все так же скрипели колеса и хоркали кони. Красивая дулатка в одежде старшей жены склонилась над ним.
— Чья ты? — спросил Абиш и испугался своего голоса.
— Не бойся, — тихо сказала она. — Я тоже дулатка, мой муж — сын эмира, — Твои люди ушли в Большой Кемин. Твой иноходец в моем табуне…
— Где оглан, женщина? — уверенней спросил Абиш. — Со мной был раненый.
— Он мертв. Мои люди спрятали тело, потом я укажу тебе место.
Через три дня Абиш оправился от потери крови. Его впалые скулы зарозовели от жирной пищи. Ночью, переполненный благодарностью к спасшей его женщине, он пробрался в темноте к ее постели. Она провела рукой по его жестким волосам и уступила место рядом.
Только под утро опустошенный и обессиленный Абиш вспомнил кочевые законы предков, заученные от деда, которые еще совсем недавно повторял про себя по многу раз в день: «За воровство, грабеж, насилие и прелюбодеяние казнишь смертью». И представилась ему ласковая и страстная спасительница брошенной среди жаркого ущелья с переломленной спиной.
Молчал Абиш весь день, уклонялся от взгляда женщины, а кровь вскипала и голова шла кругом. Вечером он наклонился, прижался лбом к ее плечу, прощаясь. Краем глаза увидел блеснувшие влагой ресницы и грустную улыбку. Затемно ее люди привели к кибитке иноходца, она сообщила дрогнувшим голосом:
— Рассказывали, что Араслан-ходжа не застал Джехан-шаха в Большом Кемине и ушел на равнину Абиш. Ты отправишься туда же?
Абиш промолчал и, уже вскочив на коня, обернулся.
— На Турайгыртау поеду. Мстить надо за деда и отца.
Женщина шагнула к нему, взялась за стремя, прошептала:
— Эмир Худайдад отправил послов к Улугбеку. Скоро все кончится. Не ходи к Джеханшаху — погибнешь. Пережди, спрячься!
Абиш коснулся ее плеча здоровой рукой. Легко затанцевал под ним отдохнувший иноходец кровника. Всадник сдерживал его, разогревая перед большим переходом к Великому озеру, затем к Чарыну, к хребту Турайгыр. Зачем? Он потерял свою ненависть, будто оставил в кибитке чужой жены самого себя. Что делать теперь? Предать земле тело деда. Найти тело кровника, отсечь кисть правой руки и бросить на могилу отца? Но мертвых не обманешь. Духи предков знают, кто убил оглана.
Много дней Абиш провел в горах Турайгыр, питаясь дичиной и корнями. С убитой дулатской лошади снял простую сбрую, чужое, дорогое и добытое в бою, бросил. Только меч оставил себе. Куском выделанной козлиной кожи обернул рукоять — опасно аразилу носить дорогое оружие.
В скитаниях к нему пристали еще несколько головорезов без роду без племени, подбивали на грабеж: кругом смута разберись потом, кто угнал скот, увез добро… И тут пришла весть, что на перевале Санташ перебиты все люди Джеханшаха, женщины и дети угнаны в плен. Воспротивилась кровь Абиша, забыл, что рожден мстить за отца. Что ж делается, думал, если всех дулат перебьют: как встречусь после смерти с отцом и дедом?
И помчался он на иноходце к Кетменьтау. Передавали, что там собираются могулы и дулаты против чагатаев. Сам Шир-Мухаммед встретил его у гор Кетмень с почестями для богатура: слышал от людей Ибрахимхана и Джеханшаха, как бился Абиш в ущелье Аксу, как последним вышел из боя, спасая раненого чингизида. Оставшиеся в живых давно поминали его как мертвого.
Остервенело дрался Абиш с данным под его начало десятком. Сторонились его дулаты и могулы, называя бешеным. В бою на речке Богуты, потеряв всех своих воинов, выл Абиш, бессильно наблюдая, как победившие чагатаи угоняют могульский скот.
Рассеялось войско Шир-Мухаммеда, как отара в тугаях. Пьяные от крови воины Улугбека добивали в горах и на равнине отдельные отряды. Мчался Абиш к знакомым укромным местам на Турайгыре, стыдясь своего страха и отдаваясь ему. Не глупый был страх, позвериному осторожный, и снова конь кровника вынес и спас его от гибели.
На Турайгыртау высохли последние ручьи и островки снега, долго не просидеть без воды. И опять Абиш стучал лбом в сухую землю, чтобы избавиться от мыслей: его род почти ничего не связывало с Джеханшахом, только он, Абиш, со своей местью за деда…
Остался ли кто в живых из обнищавшего аула, для которого Абиш теперь — аразил, раз путался с могулами.
Чем жизнь безродного карачу — лучше смерть. Оставалось только прибиться к разбойникам — один против всех и только за себя, за свою выгоду. Зачем дед учил законам предков? Зачем не оборвал с пуповиной все, что мешает жить спокойно и сыто? Все равно рано или поздно быть Абишу изжаренным на душном кизяке или ободранным заживо.
Всюду смерть на его пути… Он родился мстителем. Но только в бою с чагатаями погибнуть не было стыдно.
Конь ласково ткнулся мордой ему в ухо, шумно втянул воздух сухими ноздрями.
Абиш встал. Надо было выбираться к воде, иначе можно погубить коня. Абиш подтянул подпругу, сел в седло, стал спускаться по жаркому безводному ущелью к урочищу. Он долго рассматривал равнину, прикрываясь скалами, видел блеск воды и кромку тугаев.
Все спокойно, никого вокруг, только черные холмики усуньского могильника темнели брошенными шапками. Надо было дождаться темноты, но конь хрипел и жадно смотрел на воду, жалко было коня.
Распадками, балками, где верхом, где пешим пробирался Абиш к прохладным тугаям. И вдруг у могильника, как шайтан из-под земли, выскочили чагатаи, с визгом бросились наперерез. Помянул Абиш мертвого деда, похлопал коня по загривку — выручайте, плохо дело. Но увидел оперенный хвост стрелы, торчавшей из его шеи.
Помутился разум — полюбил иноходца. Хотел развернуться к врагам и убивать, пока жив.
Страха не стало, но он начал падать, неловко, вниз головой и меч выпал из руки…
После этого рассказа Абиш обычно молчал, а я поначалу похохатывал: мол, видимо во времени, как в земле, бывают трещины? В нее ты и провалился.
— Да, — отвечал он, разобрав мой вопрос. — Провалился и попал на другую дорогу, на которой не останется следов.
Я опять смеялся: по его рассуждениям выходило чудно, мои визиты к нему — вроде мертвого часа при переходе между зимним и летним часовыми режимами; я вхожу в землянку — время передвигается назад, как осенью, выхожу из нее — оно мне возвращается, как пальто в раздевалке.
Абиш, невозмутимо глядя на меня, продолжал:
— Еще не успели птицы выклевать глаза, а корсаки отгрызть пальцы, к кургану верхом подъехала женщина из рода эмира Худайдада. Усуньский могильник с каменным ящиком был вскрыт грабителями много веков назад и оказался пустым поминальным курганом — кенотафом.
Женщина боялась быть замеченной людьми своего рода. С верным человеком она спрятала тело в каменный ящик древней могилы, головой на юго-запад. Туда же, вопреки обычаям ее времени, положила меч. В подбой кургана с трудом столкнули труп лошади со вздувшимся животом, чтобы не привлекать ни людей, ни зверей. Затем все завалили камнями наподобие могильников, которых в этих местах было много. Так, сама того не зная, женщина сделала захоронение по обряду, существовавшему за тысячу лет до нее.
Она была беременна первой беременностью после нескольких лет замужества. Ее жизнь круто изменилась к лучшему: теперь она была обласкана мужем и тестем. Много обещал ей Худайдад, если родит сына.
Здесь, на старом усуньском кургане, женщина просила нового бога и мертвого Абиша дать ей сына. Она обещала первому принести в жертву белого жеребенка, а второму минарет по новому обычаю. Но вскоре, после удачных родов, забыла о том и о другом: сделанная услуга уже ни к чему не обязывает.
В аул женщина вернулась одна. Верный человек, помогавший спрятать тело, упал с лошади и разбил голову. Жалко кула, хороший, верный был слуга: весной на Иссык-Куле он помог тайком перенести раненого воина в кибитку женщины и догадывался, наверно, каким образом дошла молитва несчастной жены до бога.
Реанимация
Я разыскал заброшенную тетрадь через полтора года. Перечитал: вроде бы все правильно и в то же время как-то не так. Поймут ли в прокуратуре, зачем писал все это?
Но главбух опять под домашним арестом, Лис дал подписку о невыезде из рабочего поселка. Работяги шутили: как только в больнице освободится палата-люкс, у Такырбаса случится инфаркт.
Я ждал новой повестки к следователю. На этот раз нужно было явиться подготовленным, а то опять, пока буду соображать, что сказать, меня выпроводят.
Я купил новую тетрадь, синей пастой на клеенчатой обложке нацарапал «вторая часть» и долго ломал голову, глядя на чистый лист, не зная с чего начать: слишком много событий вспоминалось — и все важные. Не начать ли с гробокопателей? Вот уж были пройдохи! Им бы дипломы, партбилеты, связи, должности — обставили бы ребята и Лиса и Такырбаса, весь мир обворовали бы и пустили по миру.
Еще в Лёвины времена в нашей столовой я встретил парня, с которым когда-то работал в геологии. Друзьями мы не были, и все же я обрадовался встрече, подумал, что тот устроился к нам. Оказалось, мой знакомый жил в красном вагончике под горой.
— В археологи выбился, что ли? — удивился я.
Знакомый выругался:
— Какая археология? Работаю гробокопателем! Зарплата — курам на смех. К вам или в мехколонну податься? Заходи, поговорить надо.
Я вспомнил, что парня звали Проша, по фамилии Прохоров, и пошел к нему после смены, интересно было посмотреть, чем занимается наука. Красный вагончик был грязен, вокруг валялись пустые бутылки и обглоданные кости, ни снаружи, ни внутри наукой и культурой не пахло. Один мужик, под сороковник, был похож на старшего, тело его без татуировок, но приблатненный на язык и жесты. Ни славянин, ни азиат, лицо приплощенное, будто раздавленное, широкие, сутуловатые плечи, борода без усов — с виду орангутанг или горилла. Еще двое попроще, понятные по наколкам: где, когда и какие сроки отмотали. Среди них Проша — обычный работяга.
Ученых, да еще археологов я видел только в кино, а киньщики, известно как вешают народу лапшу на уши. Сперва я смутился, потом оправился, стал рассказывать про рисунки на скалах, которые видел неподалеку. Археологи загоготали, Проша со вздохами отвел глаза, потом вытащил из-под койки мешок, вынул желтый человечий череп.
— Я тебе говорил, гробокопатели мы, не ученые! На сдельщине. Нам за черепки платят, остальное хоть в отвал, а голова прилагается к ведомости. Если найдешь — тащи!
Дверь вагончика распахнулась, через порог неуверенно переступил аксакал, тот самый, что привозил водку перед бурей и прятался потом в бочке.
— Кто старший? — спросил меня.
Я кивнул на бородатого. Старик шагнул к нему, учтиво спросил, не разорят ли строители могильник. Научный интерес, история, анау-мынау… Спасать курганы надо!
Орангутанг начальственно хмурился, важно щурил глаз, слушал. В какой-то миг даже стал похож на ученого азиата. Но, не выдержав роли, сплюнул на пол, выдвинул челюсть с бородой и, перемежась примитивным матом, затрубил:
— А чо… в твоих… курганах… пыль скрести? Мы за черепки бабки имеем… Рычи… старый, где в девятьсот девятом полсотни жмуриков зарыли? Говорят, была эпидемия!
Старик, не понимая его, обернулся ко мне. Я перевел словесный понос на простой язык, а под конец, для понтов, ввернул фразу по-казахски. Аксакал закивал:
— На высоком берегу в распадке, как раз напротив усадьбы егеря закопали сразу много.
Бородатый навострил уши, подскочил, подхватив табуретку, стал услужливо подсовывать старику под колени, приговаривая:
— Ну, дед… Если не нагрел — уважим! А то замолол про курганы… Их тыщу лет назад ошмонали…
Аксакал опять повернулся ко мне, и я с готовностью перевел:
— Им не нужны курганы. Он говорит, что в них ничего нет, много лет назад все забрали.
Старик держал в руке железную полосу вместо посоха. Отметки ржавчины висели на ней, как остатки ворса на вышарканной шкуре. Верхняя часть ее была крест-накрест обтянута куском тонкой кожи. Старик одним движением сорвал ее и обнажил рукоять, блеснувшую золотом и дорогими камнями. Орангутанг облизнул губы, сглотнул слюну, но гость уже замотал рукоять той же кожей, толкнул дверь и вышел. Бородатый на коротких обезьяньих ногах скакнул за ним:
— Дед, покаж еще!
Его лицо мне сильно не понравилось и я вышел следом.
— Дед, два бутилка арак?! — коверкая слова, Орангутанг протянул руки к посоху: — Дед, три бутилка… Покажи! Ну, покаж, говорю! — Воровато оглянулся, меня в расчет не взял. Старик резко отдернул посох и ткнул им «археолога» в лоб. Тот качнулся, схватившись за лицо, повел ошалевшими глазами и нехорошо усмехнулся. Я знал, что будет дальше и, не дожидаясь, ударил сбоку.
— Перекупил старика, падла! — со слезой визгнул бородатый.
Я шагнул за аксакалом и покосился на «археолога», ожидая нового броска.
— Мне помогаешь, это хорошо! — пробормотал старик.
На всякий случай я решил проводить его. Мы подошли к горке камней, старик протиснулся в узкую щель. Его молчание я понял, как приглашение, пролез следом за ним в тесную землянку, спросил, оглядывая каменные стены:
— Ты — травник?
Старик долго не отвечал, таращась на меня сквозь морщинистые веки.
— Ты не мог войти сюда… А если зашел — то не сможешь выйти!
Посмеиваясь старческим причудам, я встал, выбрался через щель и снова протиснулся в землянку. Похоже, у старика были проблемы с головой, то есть с мозгами.
Но мне было интересно. Он сел поудобней, помявшись на месте, оперся бороденкой на посох и заговорил:
— Тогда слушай! Я — Абиш, сын Сагади из племени дулат…
* * *
Лева резко помрачнел, растеряв былой начальственный пыл, уже не вспоминал про «сухой закон», сам толкался в магазине, но Розихан, в отместку за докладные, водки ему не давала, и Леве приходилось просить кого-нибудь из работяг купить бутылку. А участок жил своей жизнью, руководимый естественными внутренними законами, когда людьми правит личный интерес.
Среди зимы разобрали и увезли юрту, пригнали несколько МАЗов с новенькими вагончиками на платформах, построили сборнощитовую контору. Нулевой цикл закончился, и Лева, как Харин до него, сделав свое дело, сыграв свою роль, стал вытесняться за ненадобностью. Он порывался начать врезку тоннеля, выступал с инициативами, при этом будто натыкался на невидимую стену, не понимая начальства и законов, управляющих организацией. Его методично наказывали за то, что не начата проходка тоннеля, и молча, ничего не объясняя, били по рукам за всякую попытку начать эти работы.
Такырбас раздувал штаты, заключал новые невыполнимые договоры и подряды, нагонял план, обесценивая труд рабочих. Чего хочет? — удивлялся Лева. — Чтобы люди, как марионетки, по приказу делали вид, будто работают, не просили зарплат, по первому зову были готовы к порке и переносили ее восторженно, как главный инженер управления Кудаков. Того секли больше всех, но он был в милости и получил квартиру.
Ходили слухи про огромный перерасход зарплаты. Кудаков все безжалостней черкал ведомости, срезая и без того низкий заработок. Росла и до того высокая текучесть кадров. Лева уже без печали и обид узнал, что из-под Ташкента приглашена бригада проходчиков, а с ними начальник участка. Новенькие вагончики, пахнущие свежей краской, стояли закрытыми, ждали новоселов.
Они приехали: человек двадцать разом, больше, чем вся предыдущая смена. С повышенным чувством собственного достоинства — их звали издалека, с желанием показать, как надо работать. Вместе с ташкентцами был их новый начальник, с виду самоуверенный и сильный. В простенькой меховой куртке, с курчавой копной жестких рыжих волос вместо шапки, с обветренным, шрамленым лицом пирата, он прошел под испытующими взглядами ветеранов, прищурил глаз, как над стволом мушкета, и на всех повеяло переменами: большими деньгами и работой до изнеможения.
— Я — ваш новый начальник участка, — пророкотал прокуренным голосом. — Объехал объекты, посмотрел… Это не работа — бурить по два метра в смену, по десять часов убирать породу из забоя. Кто пригрелся на такой спячке, всем доволен — пишите заявление и… свободны. Останутся те, кому совестно перед женами ездить этакую даль за полторы сотни рублей.
Облетела работяг и приросла к новому начальнику кличка «Боцман». Позднее узнали, что она эта мотается за ним по стройкам века вот уже лет двадцать.
Быстро переменился поселок: стали рядами жилые вагончики, появились душевая, сушилка, столовая-кухня. Контора — крепостными стенами замкнула квадрат двора. В его середине сделали клумбу, огородили круг кирпичом — ребро на ребро — привезли машину чернозема. Над одним из жилых вагончиков установили громкоговоритель. Ташкентцы привезли с собой магнитофон и проигрыватель.
В половине седьмого в метель или стужу по пояс голый Боцман стоял на середине заветренной клумбы. Его голос чугунного отлива грохотал, будто палкой лупил по металлическим стенам вагонов:
— Бичевье, охламоны, лодыри, кто опоздает на раскомандировку — вздрючу!..
Клюшкин, опять ночью жрал? Дождешься!.. Гусь! Это что за шуба? — шофер Гусев шел умываться в душевую, не вылезая из спальника, проделав отверстия для ног, из клапана торчал сизый нос. — За порченное имущество высчитаю… Гусь птица вредная, вонючая…
Га-га-га!.. Славка, долго потягиваться будешь?
Славка-бич высунул заспанную физиономию из-за двери, ежился от ветра, раздумывая, а стоит ли идти через весь двор, чтобы умыться.
— Славка, пасть порву! Га-га! За усы и в дихлофос, как таракана.
Боцман подскакивал к вагончику с громкоговорителем, тарабанил кулаком в дверь.
Громкоговоритель начинал хрипеть, шипеть, наконец взрывался блатным напевом:
«Водочка! Как хорошо на свете трезвым жить!»
Боцман, довольный, снова выскакивал на центр клумбы, что-то кричал, размахивал руками, таращил глаза, хохотал и ругался. Но его не было слышно. Это он для разминки дыхания костерил новый день.
На раскомандировке начальник в ударе:
— Чих-пых! Пиши заявление и вали на все четыре… Мне такой моторист не нужен: опять дэска не работала.
— Я всю ночь ее перебирал.
— Хе-хе! Он перебирал, — Боцман яростно пучил глаз, казалось, выхватит из-за пазухи если не фитильный пистоль, то, по крайней мере, ракетницу. — Я в дизелях не волоку, и то зашел в половине пятого, за пятнадцать минут наладил, а ты спал в душевой.
— Я — грелся! Откуда знать, что маслопровод забит? Случайность. Я двадцать лет с дизелями…
— Лошадь двадцать лет почту возила, читать не научилась… Пиши! — Решив за полминуты один вопрос, он переходил к следующему: — Балобаев, вчера пил? А ведь у нас «сухой закон» не отменен. — Боцман пытался придать бандитской роже вид административной рачительности и становился похож на волка из детской сказки, переодетого в бабушку: — Уходи, парень, по собственному желанию.
— Всего полстакана, другие вон…
— Другие работать умеют, — Боцман рыкнул, щелкнув крепкими зубами, плечо вперед, грудь колесом: — Мишка ночью сорок метров набурил, у него третий разряд, а ты с пятым всю смену гайки подкручиваешь.
У Клюшкина глаза как помидоры. Боцман видит их и хохочет:
— Камушки с горы катаем? Бильярдом развлекаемся?!
— Взрываем. Сыплет и сыплет… Там сай, — сипло оправдывается Клюшкин.
— На скалах опохмелишься! Возьмете еще одного уркагана, затащите трубопровод.
Обольем склон водой, заморозим и начнем врезку.
— Раскумарил, начальник!
Работяги толпой вывалили из раскомандировки, тарахтя и подымливая, их ждал участковый автобус — появился уже и такой. Жертвы дня скулили: самодур! князек!
Найдется и на него управа.
Работяги кивали, смущенно соглашались, неохотно сочувствовали уволенным: не без самодурства начальник, но, вообще-то, необидный. С ним, бывает, поругаешься, а зла нет, не то что Такырбас: тот только посмотрит — а его уже по стене размазать хочется, слово скажет — думаешь, поскорей бы зубы почистить… Да и как посмотреть: раз моторист — обеспечь светом, раз бурилыцик пятого разряда — давай метры, не чеши языком.
Участок разделился надвое. Новые вагончики заняли приехавшие вместе с Боцманом, напротив — выгоревшие на солнце, посеченные ветрами и песком, здесь все остальные. Прибывшие на своей стороне вывели краской «ул. Ташкентская». Ветераны не остались в долгу и на своем обшарпанном вагоне написали «ул. Алма-Атинская».
Новые проходчики держались особняком, считая себя привилегированными. Но когда пришло время первой зарплаты и они ставили подписи в ведомости вперемешку с алмаатинцами, потом толпились возле конторы, надеялись, что есть другая ведомость, особая, ведь Такырбас клятвенно обещал приличную зарплату — а тут голый тариф.
Загудела, засомневалась улица Ташкентская.
Как можно? Бросили прежнюю работу, квартиры, жен, не с бухты-барахты явились на стройку: все сделали по уму, заслали разведчиков, протолкнули своего человека в начальники участка, затребовали гарантийное письмо, что в течение двух лет будут обеспечены квартирами в Алма-Ате. Шумели: мы — сила, мы — костяк участка, с нами надо считаться. И все-таки, сомневалась улица Ташкентская.
Боцман, ошарашенный, сидел в вагончике-раскомандировке, чесал кудлатую голову, плевал, стараясь попасть в урну метра за три от него, огрызался:
— Откуда я знаю, почему? Сами видели, как я наряды закрыл. Обводит нас Такырбас: хитер, зараза! Не зря бородавка на глазу:
— Но ведь нужны же мы ему: не может же он не хотеть, чтобы работа была сделана в срок и качественно?!
— А если он нас и с квартирами на фонарь посадит? — пробубнил осторожный голос из-за спин, и двадцать глоток сдетонировали: — …Письмо… Суд… Придушим гада…
Боцман ударил кулаком по столу — посыпались бумаги из шкафа.
— Хватит! Подождать надо. Завтра на работу не выходим, отгул. Пара уркаганов смотается в Копенгаген, бухнем и разберемся…
Трое подошли к скале, что над порталом будущего тоннеля, сюда зимой только на час-полтора заглядывало солнце. Курили, поругивали Боцмана: придумал — на такую высоту трубы тащить. А как варить стыки? Тонкий оцинкованный металл — ювелирная работа. Но холодно было стоять на месте. Один завел сак — автономный агрегат-сварку, попробую, говорит, может, что получится. Клюшкин обвязался алюминиевой проволокой, полез на скалу. Закрепился за выступ, вытянул проволокой трос и блок. Если через него трактором потянуть став? Может, что и получится. Хоть бы для вида, чтобы Боцман не орал. Попробовали. Цепляясь за камни, по сантиметру пополз вверх трубопровод.
Клюшкин с Хасаном скакали на высоте, ломами поправляли поднимавшиеся трубы.
Клюшкин сбросил телогрейку — опохмелил краснорожий, в пот бросило.
К обеду к ним подкатил Боцман на участковом зилке, погрозил снизу кулаком, покричал для порядка: попробуй, сорвись — пасть порву! Погоготал:
— Клюшкин, оклемался! Га-га-га! Аккорд вам пробью, падлой буду!
Облили скалу водой, запаковали слоем льда, стали подгонять погрузмашину, дэски, компрессоры. Все было готово для врезки. Приехал Кудаков на новом газике с личным шофером за рулем. Должность та же, да сам не тот, недавно еще скакавший козлом, теперь был важен, вальяжен и нетороплив. На нем импортная дубленка, финские сапоги.
Явно, премиями его не обносили. И Боцман заскромничал, превратившись в застывшую почтительность, в большое внимательное ухо. Абиш увидел его и сказал мне потом, что у него снова появилась надежда отвоевать урочище.
Главный ворчал:
— Отчего скалы разрушаются? Лед! Он имеет свойство ломать даже железо. Стыдно не знать… Школа.
— Не первый раз врезаюсь, — осторожно оправдывался Боцман. — На БАМе посложней места проходили.
— А вдруг камень сверху? — раздраженней заговорил Кудаков. — Короче, не спорь!
Пробрось над тем местом швеллер, — указывал рукой в лайковой перчатке, — на него бревна, сетку. Обезопась место и можешь начинать… А трубу скинь. Скоро начальство приедет — не подумало бы чего.
Утром Боцман, отводя в сторону глаза, сказал Клюшкину, чтобы трубопровод демонтировали. Тот сплюнул, ничего не ответил, не припомнил обещанный аккорд. После раскомандировки сел в автобус с рюкзаком, из-под телогрейки торчал ствол дробовика.
Он высадился у портала и, не оглядываясь, ушел в тугаи на охоту. Хасан вообще не вышел на смену, на попутке укатил в Кок-Пек. Мишка Лунин пошатался по тугаям, замерз, от безделья завел трактор, зацепил хлыст из оцинкованных труб, потянул.
Гнулись, бились о скальные выступы дефицитные трубы, летели вниз вместе с камнями и долго еще лежали вдоль дороги под горой, потом пропали: скорей всего были засыпаны породой, попав под отвал.
Уехал главный, Боцман под вечер влез на клумбу, орал — не понять о чем, а утром, на раскомандировке, смирившийся, но злой, сказал:
— Черт с ней, с трубой! За монтаж и за демонтаж все равно заплатят вдвойне — выжму… Ничего, сколотим штурмовое звено по аккордному наряду… Кто хочет поработать за деньги? — Ожил после первой неудачи, хохотнул с вызовом — все хотят!
Значит, порядок… Тоннель — наши деньги, — снова стал заводиться. — Успеем сделать врезку, а подсобные работы доделаем параллельно…
Штурмовое звено уже готовилось к основной работе: резали швеллер, пилили бревна, но приехал Такырбас. Новенькая «Волга» цвета «Белая ночь», личный шофер с брюшком и сам начальник, сияющий пуще прежнего, перекатывающийся с шара на шар.
Боцман обмер, превратился в слух и почтительно склонился к нему ухом. Шапки он не носил. Начальник окинул взглядом облепленную людьми, опутанную веревками скалу, зашипел, как открытый вентель углекислотного огнетушителя:
— Ты — дурак, а Кудаков как родился, так и умрет идиотом… Сбрасывай эти помочи, делай капитальную бетонную стену — неделя сроку!
Боцман побледнел. Изощренно покрыл матом начальство, убогий участок и тоннель — но про себя. Сам же стоял молча и почтительно. Уехал Такырбас. К ночи Сашка-шофер привез Боцмана из Кок-Пека. Двое дюжих проходчиков выгрузили его из кабины, бросили на койку в вагончике. А он орал и тарабанил кулаком в переборку:
— На фонарь сажают!
В сумерках дребезжали стекла от громкоговорителя, пущенного на полную громкость:
«Водочка! Как хорошо на свете трезвым жить…»
Боцман проснулся среди ночи в тот миг, когда мертвецкий сон переходит в сон чуткий, проснулся от бормотания:
— Начальника боишься! Хорошим кулом будешь. Все сделаешь, как скажу…
Против него, во тьме, сидел какой-то бич в малахае. Боцман осторожно протянул руку, уверенный, что тот снится и сейчас сгинет. Но его пальцы сгребли одежду, зазвенело стекло, и окно вывалилось с рамой.
Утром начальник был в ударе: отыгрывался за вчерашнее молчание перед Такырбасом: физиономия красная, страшная, хрипло рычал:
— Издеваются, сволочи! Ничего, ребята, сделаем бетонную стену через аккорд. Не все, пусть человек десять, но урвут настоящую зарплату, или я буду не я и бородавка мне в глаз.
Заулыбались, загоготали работяги.
— Презрейте лень, мои головорезы! — закричал начальник. — Бесперебойную подачу бетона гарантирую.
Наступила горячая пора. Люди лезли на скалы на пеньковых веревках, по обледенелым склонам вытягивали за собой перфораторы, бурили, цепляясь за камни.
Пошел бетон. Боцман стоял за стулом оператора бетонзавода и тыкал его кулаком в спину, не давая передохнуть. Стена поднималась на глазах, работали даже ночью. Не попавшие в число аккордников ругались и ждали: вдруг кто не выдержит, откажется.
Уже подводили стену к вершине, приехали специалисты из треста и проектирующего института, последней, солидно покачиваясь на рессорах, подъехала черная «Волга». Толпа дубленочников встала внизу, почтительно окружив главного.
Такырбас сиротливо терся среди них, угодливо кланялся, блестел неприкрытой лысиной, почтительно трепетала бородавка на глазу, ловила оброненные замечания.
На следующий день, только к полудню, работяги неспешно полезли на бетонную стену. С утра они чаевничали: то компрессор ломался, то дэска барахлила, даже надежные перфораторы выходили из строя, но все же за неделю, через пень колоду, разбурили бетонную стену, набили шпуры взрывчаткой и рухнула она к тому месту, где был запроектирован портал тоннеля. Боцману удалось сдержать слово — аккорд бригаде выплатили. Но не было веселья. Зло гудели улицы Ташкентская и Алма-Атинская.
Других улиц в поселке не было.
С виду все было по-прежнему — работали. Разве поубавилось гонора у ташкентцев.
Как оказалось, среди них настоящих проходчиков не так уж густо — больше всякого рода подсобники из шахт. Мешались люди, селились без разбора кто на какую улицу, и в бригадах перестали делиться. Алма-Атинцы ездили в отгулы через пятнадцать дней и отдыхали полмесяца. Ташкентцам добираться далековато: они работали, пока не кончалось терпение, не накапливалось отгулов с месяц, а то и полтора. Боцман прежде не давал их использовать полностью, придерживал своих людей, обещая повышенную зарплату. Теперь в его прокуренном голосе появились просительные нотки:
— Надо, ребята! Приезжайте через полмесяца, — и заглядывал в глаза, будто просил отсрочить долг.
Было дело, раньше старались приезжать по просьбам, а тут все чаще стали заявлять:
— Не приеду, пока не отгуляю все, что заработал!
Другие ругались, будто в чем была боцмансая вина:
— Лучше дома гусей пасти, чем здесь придурков.
— За такую зарплату…
Мне в те дни везло, я был в бригаде аккордников, строивших бетонную стену. По сравнению с другими получил не малую зарплату, да только деньги казались грязными, а на душе было гадко. Выходило, что Такырбас, время от времени, откупался за то, что раз за разом плевал на наш труд, значит, нам в душу.
— Нашел холуев! — кричал пьяный Славка-бич. — Да я две электростанции построил…
Из Ташкента не вернулись трое. Друзья сдали за них спецовки и подписали их обходные листы.
Врезку тоннеля отложили. На участок завезли несколько машин арматуры, швеллера, листовое железо и начали строить массивный выходной портал, параллельно закладывали мощную компрессорную станцию, аккордная бригада стала проходить штольню водозабора.
На строительстве компрессорной работало человек десять, хотя и пятерым там делать нечего. Флягами носили из речки воду с ледовым салом, грели в бадье раствор для укладки кирпичных стен. Черная копоть мазута поднималась к небу от костров, в которых часто горел и кондовый крепежный лес. Работяги жались к огню, много курили. Устав от безделья, брались за работу. Скуки ради начинали соревнование: кто больше кирпича унесет разом. Стопки валились из рук, кололись. Победителю, здоровому ташкентцу, пока ехали в столовую, шутки ради, привязали к ноге пару кирпичей. Он выпрыгнул из машины и растянулся среди двора под хохот друзей. После обеда на работу не вышел — растянул связки.
Проходчик, назначенный звеньевым на строительство компрессорной, натягивал план, который сам себе определил в пять замесов. Меньше — стыдно, да и Боцман разорется. Можно было сделать пятнадцать, но зачем? За что лезть из кожи? Пять замесов в самый раз.
— Боишься, вздрючки? — пошучивали у костра.
— Чо бояться? — оправдывался звеньевой. — Лопату не отберут.
На портале гудел «федя» — примитивная соляро-мазутная печь, сделанная из обрезка трубы. Проходчики готовили швеллера для арок будущего портала, жались к раскаленному «феде». Из ущелья с утра и ближе к вечеру потягивало стужей. Люди тянули к теплу руки, кряхтели:
— «Федя» у нас самый главный, «федя» — человек…
— Надо еще одну арку сделать, — канючил мастер. — Боцман придет, разорется.
В ночную смену задание получило смешанное звено: ташкентцы и алмаатинцы.
Техника надежная — лопата да кайло, ломаться нечему. Пришли, покурили, скинули телогрейки, за пару часов прорыли канавки под фундамент, мелковато, наспех, оставили часть работы на утро: вдруг Боцман приедет, для вида перед ним поковырять землю или размяться перед завтраком. Нежелание ругаться с начальником стало мерилом работ. Хоть Боцман сам из работяг, но отговорку и для него найти можно и глаза отвести — плевое дело: даже если он всю смену простоит за спиной.
Работяги побросали лопаты, расселись вокруг печи и потекли неторопливые разговоры вперемешку с байками и анекдотами. Посмеивались алмаатинцы: и какими посулами вас затащили из другой республики? Квартиры обещали и ордена вдобавок?
Прежде ташкентцы на такие вопросы загадочно ухмылялись, до споров не снисходили, теперь не то чтобы спорили, но оправдывались:
— Обещал Такырбас, намекал, что у него есть каналы. Гарантийное письмо подписал…
— Еще никто из местных не получил, разве только Кудаков, а контора полна прихлебаями — и все первые в очереди. Да кто он, Такырбас?
— Не говори… Стройка важная, спецы нужны, а чтобы их заполучить, права Такырбасу должны быть даны.
Осторожно открывали ташкентцы свои «карты». Срываясь с прежних мест — понимали, что рискуют потерять то, незавидное, что имели. И теперь еще теплилась в душах надежда на авось: вдруг и дадут, как обещали?!
«Федя» гудел, раскалившись добела, он работал на совесть. Мы лежали вокруг него на узких досках. Шумела на порожистом повороте река, вырываясь из-подо льда, снова уходила под него. Черное небо дышало в лица космической стужей. Полная луна, щекастая и лысая, насмехалась хитрым прищуром Такырбаса. С одной стороны жарко дымил «федя», с другой знобило от реки, от холодных венчиков звезд, пускающих длинные лучики на смеженные ресницы.
Утром Боцман расхаживал по раскомандировке, скрипели прессованных опилок плиты под квадратами линолеума, начальник тщательно подбирал слова и сдерживался:
— На участке дремота. Я понимаю вас. Но, давайте обсудим наши дела. Я смотрел расценки на строительство портала, и любой из вас может зайти ко мне, убедиться, что на этом можно неплохо заработать. А то, что происходило раньше… Наряды на зарплату, которые я составляю, зависят не только от Такырбаса и Кулакова: они имеют юридическую силу. И если в этом месяце нам опять ополовинят то, что мы подаем в бухгалтерию, — то я с этими нарядами пойду к прокурору. — Дольше Боцман не выдержал, пинком захлопнул распахнувшуюся дверцу стола: — А-а-а! Козлы! Зарплату, как собаке кость…
Ожил участок. Среди проходчиков и бурильщиков нашлись опытные сварщики без дипломов, электрики без допусков, каменщики, бетонщики. Чертежи лежали возле стынущего «феди», придавленные камушками к пустующим скамьям. Возникающие инженерные проблемы решались самими на ходу. И если, бывало, обращались по инстанции, Боцман отмахивался:
— Придумайте что-нибудь, мужики, ведь вы же грамотные люди.
На глазах ширился и рос металлический скелет портала. Абиш, забравшись на вершину хребта, разглядывал невиданную клетку, по которой акробатами сновали работяги. Он помнил, как надвигалась дорога прямо на курган, как топтался по нему маркшейдер с треногой. Ночью явился к Боцману. Бубнил на ухо, путая тюркские и славянские слова:
— Совсем жаман! Спасать курган надо, помогать надо!
Боцман спросонья оттер ладонью мятое лицо, открыл один глаз:
— Это опять ты, бичара? Неделю не сплю, совесть есть? Чего тебе?
— Доски надо, толь, цемент…
Начальник бросил на стол ключи от склада:
— Бери и проваливай. Спать хочу.
С зарплатой приехал снабженец прямо на участок и была она невиданной доселе — даже до тарифа не дотягивала. Были плохие времена, но чтобы так — не было. Боцман бился о стены лбом, орал, предвкушая большой скандал. Заявления на увольнение стопкой ложились на стол — увольнялся весь участок. Накипевшая злость готова была превратиться в яростную силу. Боцман на зилке укатил в контору, работы остановились.
Участковый МАЗ сновал из Кок-Пека в Бартогай. Ничтожная зарплата пропивалась с отчаянием. И ходил по участку слушок, пущенный якобы личным извозчиком Кудакова: будто его хозяин с Такырбасом загодя спланировали пережить тяжелые времена за счет текучести кадров. Говорили, будто кто-то слышал, как Такырбас поучал главного: обещай все — лишь бы люди приходили: косые, хромые — плевать! Пока глаза протрут да осмотрятся, глядишь, мы — выехали.
Мерзкий был слух. Разве можно верить холую, который, опять же по слухам, Кудачихе ковры выбивает. Но зачем ему против хозяина говорить? Тоже ведь, за обещанную квартиру гнется.
Боцман вернулся успокоенным и пьяным, с блаженной ухмылкой на красной шрамленой роже, что-то урчал под нос. Его обступили, спрашивали с надеждой: ну, что?
— Да ничего, — пролепетал, икнув, шагнул из толпы к вагончику, оглянулся на ходу и удивленно хохотнул: — Порвал Такырбас заявления, а меня обещал расстрелять… Ик!
Хлопнула дверь жилухи, но толпа не расходилась, молчала, не понимая происходящего. И пополз по участку слух: измена! Через неделю ташкентцы хватились и не нашли гарантийного письма, через полмесяца Боцман получил квартиру в Алма-Ате.
Измена! — Орал громкоговоритель во всю свою магнитную мощь:
«Водочка! Как хорошо на свете трезвым жить…»
Славка-бич после ночной смены поворочался, затыкая уши подушкой, долго не мог уснуть, раздражал навязчивый блатной напев. Он выскочил во двор, затарабанил в дверь вагончика с громкоговорителем, орал поносное. Дверь не открывалась, музыка не умолкала. Славка принес дробовик и расстрелял громкоговоритель крупной картечью.
Заглох. В тишине проходчик еще что-то кричал, но Боцман, пьяный, лежал на узкой кровати и смутно слышал, как хрипит во дворе толпа, будто пила скребет по железу: измена! измена! измена!
Измена! В поселке оставаться не хотелось. Я поплелся к тугаям и вышел к землянке Абиша. Покричал сверху — он не отозвался, тогда я без приглашения протиснулся внутрь. Старик сидел, поджав под себя ноги, как витая ватрушка.
Заскорузлый чапан топорщился колоколом, в руках, как всегда, — ржавая полоса.
Довольный собой, он рассмеялся и спросил меня, что такое тоннель? Ну, что это?
— Выработка, имеющая вход и выход, — ответил я, — для транспортировки грузов и перепуска воды. — Так учили на курсах.
— Значит, входишь с одной стороны, идешь во тьму, потом появляется свет?
— Да, так! — согласился я, почувствовав, что сделал большую ошибку, устроившись сюда: надо было остаться в геологии. — Ну, что ж, еще не вечер. Вернусь! Примут!
— А чем кончится, посмотреть не хочешь? — хихикал Абиш.
— Не первый год работаю, так знаю: пусть не в обещанные сроки, но водохранилище построят и тут же начнут ремонтировать много-много лет, может быть, всегда. Не дадут тебе жить спокойно.
Я хотел досадить Абишу, чтобы не смеялся над чужой бедой. На душе было муторно, будто зашел в темную выработку, иду на ощупь вперед и не знаю зачем? Забыл, что это штольня, не тоннель, а значит, впереди тупик. Любая штольня кончается тупиком.
Абиш опять захохотал, не поверив: дескать, помыкаетесь у горы и уйдете. Каких-нибудь двадцать-тридцать лет — зарастут, затянутся шрамы дорог, на разбитых взрывами склонах снова будут бегать кеклики и ворковать дикие голуби.
— Растащило тебя, дед! — не сдавался я и подмигнул правым глазом, под которым еще не сошел синяк. В начале заезда Проша с Орангутангом и мехколонновская шоферня подкараулили меня за поселком, пытали, куда дел старика с золотишком.
— За себя-то я постою и сквитаюсь, а вот тебе не надо было показывать железяку.
Меч, говоришь? Не дадут они тебе спокойно жить в урочище, а ты загадываешь на двадцать лет вперед…
Но я не уволился, а участок продолжал шириться и пухнуть. Лева был прорабом по буровзрывным работам, Тихий — заместителем начальника участка по поверхностным работам. В конторе появился новый тип, по виду завскладом, с волчьей посадкой головы на неповоротливой шее, с плутоватой лисьей физиономией — оказался замом главного инженера управления по строительству тоннеля. Мастеров прибывало: чуть ли не на каждого работягу по надсмотрщику, один бурит — другой стоит за спиной и мается бездельем. Славка терпел-терпел какого-то салагу в темных очках, схватил буровую штангу, замахнулся, закричал:
— Не дыши в затылок, падла, из рук все валится.
Мастер с кошачьим проворством забрался на пригорок, черные очки блеснули дырами глазниц, постояв заскакал там на ветру, но продолжал контролировать бурение.
Хиус был пронизывающим, но в нем то и дело улавливалась теплая струйка с запахом почек. Учуял ее и Славка возле пыльного, грохочущего станка, радостно замахал руками, охаживая себя по бокам.
— Весна!
Уже на следующий заезд над урочищем закружили утиные стаи, они не узнавали родных мест: тугаи вырубали и жгли. Кто-то прорыл траншею и выпустил воду из старицы, где среди травы и коряг шевелили плавниками черные спины рыбин. Кружили утки, изумленно кричали: трест! трест!
По слухам, Такырбас расширял управление в трест и желал занять место управляющего. Для того он и набирал людей безмерно, особенно инженеров, заключал новые подряды. На работяг, по обычаям большого начальства, плевал! Хотел быть управляющим треста, и все тут! Логичные были слухи.
Удивлялись утиные стаи переменам: трест! трест!
Заместитель главного инженера по тоннелю с месяц осматривался, шастал по участку, принюхивался. Боцман — открытая душа, все склады при нем были нараспашку, бери, что найдешь! А тут вдруг, разом все стало в дефиците: и мыло, и брезентовые рукавицы начали выдавать под расписку, а их все равно не хватало. Во всем винили улыбчивую толстушку-кладовщицу, жену Лиса. День ото дня участок все крепче прибирался к их рукам.
Никто не объявлял о переменах, просто незаметно исчезали некоторые известные люди, Боцмана подолгу не было на участке, все чаще вместо него руководил Лис.
Однажды вспомнили о бывшем начальнике участка — и оказалось, что он давно уволился.
Весной не приехали на заезд ташкентцы, оставшиеся из них два или три человека растворились в массе. Только на выгорающих стенах вагончиков оставались надписи, напоминавшие об улицах Ташкентской и Алма-Атинской. Но потом они облупились, стерлись и осыпались.
На поверхностных работах пропала прежняя спячка: бурильщикам дали конкретный фронт и назначили приличную сдельную цену — по рублю за обуренный погонный метр и его цементацию. Чудеса начались вскоре после собрания, на котором оговаривались условия: оживали брошенные, разбитые станки со свалок. Шмидт, не долечив ожоги, закрыл бюллетень и явился на участок.
Славке, владевшему перфоратором как ложкой, доверили бурение двухметровых шпуров под основание плотины.
— Штанга два метра, — смеялись работяги. — Как бурить? Разве Шмидту на плечи влезешь, иначе не дотянешься до перфоратора.
Славка сколотил из горбыля козлы, маячил на склоне горы, нелепый со своим помостом, с перфоратором при длиннющей штанге. Говорили, падал, орал. Но — голь на выдумки хитра — порылся на свалке, выволок СБУ-100, одно название, что самоходный буровой станок, — два колеса вместо четырех, сам как из-под пресса. За два Дня Славка умудрился отремонтировать этот металлолом и вместо буровой подвески закрепил перфоратор. Тихий написал о нем в «молнии»:
«Славка-то, во дает, 1000 % в смену. Я балдею!»
Но вскоре он оформил Славкину задумку как свое рационализаторское предложение, премию пропил в одиночку, жлоб.
На цементации скважин крупного диаметра делали по триста-четыреста процентов плана в смену. В конце месяца, подписывая наряды на оплату, Лис нервно дергался, а Тихий дрожал. Новый начальник участка уехал в управление с нарядами, вернулся мрачный, но успокоенный. Такырбаса и конторских он ни в чем не винил, сказал, что вышла путаница с расценками: погонный метр стоит не рубль, а полтинник.
Славка, получив зарплату, возмущался, кричал, что спустит свой станок под гору: был ломом, — ломом станет! Другие ворчали. В общем-то, триста рублей — куда ни шло…
Хотя, рассчитывали получить вдвое больше. Подземные проходчики, так и не врезавшиеся в гору, весь месяц проболтались на поверхностных работах, а получили по столько же. Славка повозмущался, что он проходчик, а не свиное ухо и ушел в бригаду тоннельщиков, станок бить не стал, продал, Шмидту за пол-литру.
На следующий месяц «поверхности» бурить не пришлось: два заезда монтировали воздуховод, два раза его срывало паводком. Работяги не надеялись получить тариф, а получили опять по триста и смущенно винились, мол, Лис-то с Тихим — люди, натянули зарплату, да и Такырбас по-человечески отнесся к неудачам.
Понемногу начали оживать тоннельщики. После смены Славка подсел ко мне в столовой с чашкой в руках, посопел, размешивая гущу ложкой и приглушенно заговорил:
— Лис все правильно рассчитал: врежемся малым сечением, дойдем до коренных пород, разбурим камеру по сечению тоннеля, и с железобетонным креплением начнем палить в обратную сторону… Переходи к нам, будет дело!
Лева подсел с другой стороны — не то прораб, не то мастер или зам, он был слегка навеселе и тоже заговорил про тоннель. Я молчал и щурился. Лучик с электролампы искрился на жирном краю алюминиевой миски.
— Много было плохого, — вздыхал Лева, — но тоннель есть тоннель — он все окупит и выведет на свет.
Я встал.
— Не веришь? — опять шумно вздохнул Лева, будто в столовой не хватало воздуха.
— Не знаю! — ответил я. И пошел отсыпаться в вагончик, насвистывая:
«Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет».
Азарт
Славка дневал и ночевал у портала. Пневматическая погрузмашина на рельсах носилась и визжала, как свинья под ножом. А он на подножке за рычагами скалился и хмурился, прокаленное лицо то разглаживалось, то напрягалось гофрами, с хеканьем выдыхал из себя воздух одновременно с броском ковша, будто лопатил породу вручную.
А она — ну и дрянь: валит и валит. Крепили ее сплошной венцовой крепью. Могутные лиственные бревна гнулись и трещали, когда гора обжимала выработку. Наконец дошли до прочных пород, разбурили-отпалили камеру, собрали в ней металлическую крепь, забетонировали свод и осталось тем же сечением вернуться к порталу через сыпучие породы, закрепив их бетоном и железом.
Клокотала Чиличка, зеленели тугаи, часам к одиннадцати за гору, где портал, заглядывало солнце. Был перекур. Проходчики Славкиного звена лежали на бревнах в отсыревшей одежде, сушились, курили, дремали. Один только Славка, как Ванькавстанька, не мог сидеть и ныл:
— Ну, хорош! Вздрогнули!
Тишина.
— Не пора ли погреться? — не унимался.
— Заколебал, зануда! — ворчали. — Дай просохнуть.
Славка вскочил, подбежал к компрессору, завел его. На бревнах раздраженно заворочались от стрекочущего шума.
Выстроенный за зиму портал под горой, как гигантская рыба, разевал пасть полукругом бетонированного свода. Дальше, в тени, горловиной темнело устье выработки. Славка нырнул в него. Ресивер компрессора до предела наполнился сжатым воздухом, которому не было расхода. Предохранительный клапан сработал, издав мерзкий звук, от которого мурашки поползли по спине:
— П-рь-рь-рь!
Клюшкин приподнялся, сплюнул и стал наматывать портянку.
— П-рь-рь-рь! — снова сработал клапан.
Димка-китаец сел, стер рукавом слюну со щеки, закурил.
— П-рь-рь-рь! — прозвучало через ровный промежуток времени. Клюшкин матюгнулся, сунул босые ступни в сырые резиновые сапоги и захлюпал в них к компрессору, хотел выключить. Лица проходчиков, лежавших на бревнах, уже залимонило и повело в ожидании очередного перепуска воздуха сквозь травящий клапан.
Но он не сработал — Славка начал бурить. Клюшкин вернулся, скинул сапоги, стал не спеша наворачивать портянки, тут горловина выработки будто сделала глотательное движение и закрылась. Несколько глыб выкатились к самому краю портала, придав ему вид зубастой пасти.
Не успел никто ни дернуться, ни встать, а компрессор снова стравил воздух: «П-рьрь-рь!» Все вздрогнули. Клюшкин кинулся к нему босой, портянка волочилась по земле, цеплялась за камни. Компрессор умолк. Димка, на ходу подтягивая сапоги, заскочил под свод портала, выбил клин из быстросъемника воздуховода. Резиновый шланг, переполненный сжатым воздухом, дернулся нервным хвостом змеи, из засыпанной обвалом трубы громыхнуло. Послышались удары с другой стороны — Славка был жив и догадался разъединить воздуховод в забое.
— Бичара! — закричал в трубу Клюшкин, — Ты живой?
— Живой! — утробно донеслось с другого конца трубы.
Клюшкин стоял на четвереньках: обтянутый робой зад, грязные потрескавшиеся пятки. Димка боднув его лбом, потянулся губами к трубе:
— Может, только с нашего края присыпало, сами разберем?
— Не, — донеслось из трубы, — завалило до бетонной крепи, по самые уши… Курить мало, — всхлипнул Славка. — Это ты у меня полпачки расстрелял, морда…
ЧП разом переменило участок. Как кубик Рубика, на котором год за годом крутили-вертели цветные квадратики людей, путались-путались, и вдруг, в несколько движений каждая грань совпала по цвету: все просто и разумно, каждый стал тем, кто он есть на деле, а не тем, кем его назначили по каким-то соображениям.
Мастер-салажонок, отиравшийся вдали от работяг и надзиравший, побежал в контору. Он был шнырем и стал им. Клюшкин взял на себя организацию спасработ и через несколько минут подъехал мехколонновский подъемный кран, забросил на верх портала два буровых станка. Лис в мокрых штанах оказался проворным обеспеченцем: стоило бровью повести, он понимал, что нужны штанги, арматура, из-под земли доставал их за невероятно короткий срок. Тихий крутился за его спиной, где авторучку подаст, где в машину подсадит.
Больше года научные институты и высокие начальники ломали головы, как закрепить слабые породы и врезаться в гору. А тут, будто по волшебству, все было решено в секунды. С кровли портала бурили веером. Если клинило, оставляли штанги, если удавалось пробурить до коренных пород и вытащить снаряд — забивали в скважины арматуру большого диаметра. Чуть приостановив осыпь, начали разбирать завал, Славке через воздуховод просунули алюминиевую проволоку со свертком сигарет и спичек.
— Слав! — кричал Димка. — Задубел, наверно?
— Не на пианинах играю, — донеслось из трубы: — Разбираю помаленьку выход.
Такырбас приехал на следующий день, когда завал был убран. Славку вынесли из забоя, напоили, привезли в поселок и, как был в спецовке, бросили на койку. Шмидт с сильным польским акцентом долго пытался что-то сказать, но усталость взяла свое. В тяжелом сне маячила корова, испугавшая его в детстве. Он мотал головой и шипел.
Утром у Такырбаса было странное лицо: будто плохой гример пытался придать ему гримасу озабоченности. Начальник расхаживал возле портала, Лис, клоня повинную голову, семенил за ним, смена делала вид, что работает, тешила начальство. Опять все встало на свои места, поделенные сумасбродным временем.
Я готовил станки к спуску, сидя наверху портала, ждал подъемный кран, смотрел на начальников, слышать, о чем они говорили, не мог, но сейчас понимаю — радовались не тому, что за сутки была проделана работа нескольких недель, а тому, что авария явно была и теперь под ее шумок можно много чего списать. Вертелся Лис, ловил запахи дурных денег, идущие с рук начальника.
Чуть позже я сказал Абишу:
— Главный враг Такырбаса тот, кто хорошо работает!
Я рассуждал, что провозись мы с завалом неделю, он, соответственно, во много раз удачней погрел бы руки на затянувшейся аварии. Я ошибался, много позже понял: все, что мы делаем, мы делаем ему на пользу. Но, Абиш, похоже, поверил мне, самодельному философу.
Еще не началась настоящая работа: едва дошли до коренных пород и только-только собрались показать, на что способны, Такырбас отвалил участку зарплату вдвое больше ожидаемой. От денег не отказываются, высокой зарплате радуются, в глубине души понимая, что это подачка.
Лис на раскомандировках мигал растерянными глазками, шумно чесал затылок, озирался, будто его загоняли в ловушку. Говорил, теперь будем работать по-новому — из управления треста пришла бумага, велено перейти на хозподряд. — «Что за подряд, — ворчали бродяги, — если мы до сих пор не знаем, сколько зарабатываем? Такырбас, как иждивенцам, сколько надумает, столько кинет». Лис смотрел в потолок, хмурился, оправдывался:
— Должны быть расценки на все виды работ. Сам видел, да забыл. Склероз…
А Славка озверел. Проходчики шутили — не надо было откапывать. Но шутка звучала все серьезней, как предупреждение. Чего хотел звеньевой? Может быть, поверил, что теперь каждый будет получать по труду? Он завелся, стал комплектовать свое звено.
Клюшкин с Димкой остались, остальных выжил. На мастера — «салаженка в очках», кричал на каждой раскомандировке: говорил, что дубаки ему не нужны, что лопата падает из рук, когда мастер стоит за спиной, а пользы от него нет.
— Усы оборву, сачок, если крутиться не будешь.
Мастер отмалчивался, но с каждым наскоком звеньевого делал глаза строже. В комнате итээровского общежития, тренировался перед зеркалом, надеялся прожечь Славку взглядом. Лис, Лева, Тихий ухмылялись, помалкивали. Салаженка устроил на участок сам Такырбас.
— Таракан, — не унимался Славка. — Сунет за пазуху транзистор и тормозок с бутербродами, сидит, трясется, как сученка от холода. Я говорю: «Возьми лопату, погрейся!» — А он мотает головой: не могу, я — начальник!
Славка похвалялся, что писал в Якутию и на Колыму, где работают друзья — настоящие проходчики. Вот приедут — дадим жару. Теперь не то, что вчера, — теперь подряд!
Я бурил недалеко от портала. Сигареты кончились, пошел к тоннельщикам. Гляжу, в Славкином звене лопатит схватывающийся бетон мужик в черном подшлемнике. Лицо его показалось мне знакомым, будто вчера виделись. Оказалось — Абиш, только моложе.
Спросил, родственник травника, что ли? Он подмигнул — молчи! Вот тебе и бичара из каменной конуры.
За месяц они прошли двенадцать погонных метров тоннеля. Лис так и не вспомнил расценки. Получили меньше, чем в прошлом месяце, когда завалило Славку, смеялись: вместо того, чтобы пупок рвать, — надо устраивать по аварии каждый месяц.
Славка в город на отгулы не поехал, не пил, шлялся по окрестностям с дробовиком, а по участку с кислой рожей.
Я слышал, что Лис по ночам устраивает концерты, думал, работяги шутят.
Начальник не курил, не пил, жена под боком, — с чего бы ему не спать ночами? Но как-то приспичило проснуться я до рассвета. Зевая и пошатываясь, пересек двор и услышал бормотание во тьме. Лис стоял возле распахнутых дверей склада, под тусклым фонарем, и шарил в воздухе руками. — …Пятнадцать, шестнадцать… Семнадцать… Опять! — вскрикнул возмущенно.
Захлопнул дверь, щелкнул замком и побежал вдоль стены:
— Стой, семнадцатый! Ворюга, кто ты?
Я протер глаза и окончательно стряхнул сон: может, он лунатик?! Не видел бы сам «концерт» — не поверил бы.
На смену я пошел к порталу. Абиш азартно лопатил бетон, брызги летели во все стороны. Славка, проходя мимо, остановился, снял пальцем блямбу раствора с глаза, стряхнул, выругался. Клюшкин, увидев под глазом звеньевого пятно, расхохотался.
Славка, обернувшись к Абишу, скривился:
— Ну, ты полегче, мужик.
Абиш распрямился, увидел меня, кивнул: проходи, мол, мимо, потом поговорим!
Не хотел показывать, что мы знакомы, значит, так надо. Обиды нет! После ужина я отправился к его землянке. Долина казалась белой от лунного света, длинная тень кривлялась, повторяя мои движения, вдали, со стороны поселка, маячила чья-то фигура. Я оглянулся раз и другой — не за мной ли идут? Присел в русле высохшего ручья, подкараулил идущего. Это был Проша и он явно следил за мной, потому что, потеряв из виду, заметался, потом тоже спрятался. Я подождал несколько минут, выпрямился и быстрым шагом направился к могильнику — пусть попробует найти там.
Абиш лежал, отдыхая после трудов. Железяка-меч под головой, в ногах новенький ящик с гвоздями. Я сел на него. Наверху послышались шаги, потренькали камушки и вскоре все стихло. Прислушиваясь, я вполголоса стал рассказывать, что вытворял ночью Лис.
— Семнадцатый — это я! — заявил Абиш. — Разве не догадываешься по зарплате, что на участке мертвые души? Я их узнаю по запаху, а Лис только на ощупь.
Я молчал, не верил помолодевшему старику, но все равно было интересно. И он громче и торопливей заговорил:
— Мертвые души… Шестнадцать человек. Днем делают вид, что работают, ночью торгуют краденым. Вчера Лис давал гвозди. Я пристроился, будто из их компании. Забрал семнадцатый ящик — это справедливо. Лис понять не мог, кричал…
— Старый, а врешь. Нехорошо! — вздохнул я и поднялся, потому что ждал не такого разговора.
Вышел не прощаясь. Вдали, почти у бетонного узла, маячили две тени. Проша и Орангутанг, потеряв меня, возвращались в свой красный вагончик под горой. Я поплелся следом ними, вспоминая ящик гвоздей. Откуда взял? Лис и ржавый гвоздь без расписки не даст.
Клюшкин с шофером мехколонны, ездил в одно из ущелий Турайгыра на ночную охоту, фарить зайцев. Машина вернулась утром и лихо развернулась возле бичевского вагончика. Клюшкин выпрыгнул из кабины, зажимая под мышкой сверток с разобранным дробовиком, в руках — четыре зайца с болтающимися длинноухими головами, толкнул плечом дверь. Славка с Димкой переодевались после смены.
— Ну, мля, что видел, до сих пор глазам не верю, — бросив у порога зайцев, захлебывался Клюшкин. — Из Копенгагена напрямки ехали по полю. Гляжу — на повороте у скал такырбасовская волжана, дверцы нараспашку, а начальник стоит загнутый…
Клюшкин умолк, торжественно вглядываясь в вытянутые лица друзей.
— Точно говорю: спина голая, плащ, рубаха, майка с галстуком на голове… А его шофер, этот хлопчик-холопчик, пристроился сзади. Мля буду, видел. Мы в низинку скатились, потом выскакиваем, а эти голубки уже в машину и по газам.
У Димки глаза полезли на лоб: Такырбас — педик? Вот так новость!
Славка хохотнул, недоверчиво отмахнувшись рукой:
— Я его шофера знаю — не тот парень.
— Ну, видел, ну?! — не обижаясь, оправдывался Клюшкин, сам себе не верю: — Ну, что мне, в натуре, глаза выколоть? Трезвяком ехал… Шофер рядом.
Через неделю хлопчик-холопчик вошел в бичевской вагон.
Славка с Димкой жарили кекликов на маргарине. Дух шел на весь посёлок, даже повара из участковой столовой по прозвищу «Пустой котел» воротили длинные носы в сторону бичей.
— Здорово, орлы, — торкнулся хлопчик на их половину с минимумом удобств и уюта.
Славка обернулся и расхохотался. В смехе мелко затряс головой Димка, узкие щелки его глаз плутовато поблескивали. Хлопчик окинул их удивленным взглядом и приветливая улыбка сползла с лица, на щеках выступили красные пятна.
— Вы чо?
— Садись, садись, гость дорогой! Орел! — комично засуетился Димка, указывая на кровать с грязным ватным одеялом без белья. — Садись, куда хочешь, только не на мой зад. — И-хи-хи! — опять затрясся в смехе.
— Ты, говорят, герой, — подмигнул ему Славка. — Как подумаю, что товарищ начальником пользуется, как шлюхой, честное слово, горжусь!
— Да вы чо? Сдурели? То совсем другое дело!.. — сообразил хлопчик, на что намекают, подскочил, сорвался в крик:
— У него батарейка села, вот я и менял. Дурни вы…
Славка с Димкой оторопели — какая батарейка?
— «Какая, какая!» Вот не знаете, — брызгал слюной хлопчик. — Из складки кожи на спине торчит контакт, к нему подсоединяется… У меня в бардачке еще одна лежит — не веришь, могу показать.
— Ты чего гонишь-то, парень? — возмутился Славка. — Чтоб у живого человека — и батарейка?
— А чо? — напирал шофер. — Ампулу же алкашам вшивают. А у шефа, может, сердце плохо работает без батарейки. Вдруг, ни с того ни с сего, он начинает часто-часто мыргать и шипит, как Шмидт с перепоя. Ну, а я уже знаю — новая батарейка всегда при мне — загибаю, подсоединяю — и все дела… Во, придурки. И придет же в голову, — всё громче расходился шофер.
Обидели хлопчика, даже от кекликов отказался. С неделю еще похохмили на участке о странном случае и забыли: мало ли какая блажь приходит в головы начальникам? Чтобы выбиться в люди или в нелюди, это кем надо быть: иметь наглую рожу, уметь не мигнуть, не покраснеть. Черт их разберет. Иной инженеришка после института помыкается в мастерах, плюнет и уйдет в работяги, потому что при совести.
Шмидт бурил южный склон шрамленой, покалеченной горы. Когда-то он один из первых прокладывал здесь дорогу. Где она? От вершины до подножия зияющие раны террас, огромная ниша полукругом — здесь будет входной портал тоннеля. Подземщики готовились врезаться в южный склон. Бригада из мехколонны наступала им на пятки, торопила: ей строить портал и шлюзовую камеру.
Лишь на восходе и на закате солнца здесь появляется небольшой треугольник тени, в которой можно укрыться. К полудню ниша раскалялась, как сковорода на печи. Шмидт божился, что слышал как шипит на теле промасленная спецовка. Может быть, у него так начинались слуховые галлюцинации от перегревания. Он выключал станок, спускался к реке, лез в одежде и сапогах в мутную протоку, блаженно чмокал, плескаясь. Остыв, поднимался к станку, оставляя за собой широкий мокрый след на разбитом взрывчаткой, растасканном бульдозерами граните. Начинал работать — спецовка была уже почти сухой: лишь по швам и складкам таилась потеплевшая влага. Меня отправили ему в помощь. Мы бурили по очереди, по очереди лезли в воду.
Вечером в столовую шумно ввалилась толпа гробокопателей. Орангутанг слегка покачивался во хмелю, его тусклые глаза смотрели на всех исподлобья. Он сел за соседний столик ко мне лицом, неприязненно уставился, громко заговорил:
— Кто под яром возле старого могильника удочки ставил — чтоб к утру убрали!
В том месте никто не рыбачил. Гробокопатель закидывал пробные камушки в мой огород, не мог простить Абиша.
— У нас экскаватор, — усмехнулся, пристально глядя на меня, — завтра разроем могильник!
— Замучаетесь разрывать! — проворчал я, не поднимая головы.
Орангутанг подскочил, как на пружинах.
— А это ты видел? — показал всем сидевшим за столами договор на санобработку затопляемой территории.
— Сказал, замучаешься! — громче повторил я.
— Имею законное право. — Закричал он. — Если что там спрятал — попрощайся. Мой человек будет сидеть там всю ночь.
Я бросил в мойку поднос с грязной посудой, пошел из столовой. Орангутанг за моей спиной нахально хохотнул, возомнив, что испугал меня. Шмидт вышел следом.
— Надо бы им пятаки начистить, поможешь? — спросил я.
Товарищ вздохнул, отвернулся, помолчал, раздумывая.
— Не буду вмешиваться в это дело, — проворчал, — и тебе не советую. У них бумага, пусть хоть все перекопают, все равно затоплять. А старик твой и в общаге может пожить.
Славка, Димка и Клюшкин тоже отказались идти на «бакланку», против законного договора. Ни себе, ни им я не мог объяснить, зачем все это надо… Просто решил — не дам старика в обиду.
На участковом автобусе подъехал взрывник. На штольне заказали взрывчатку со взрывсклада. «Запереть бы их всех в вагоне да взорвать!» — мелькнула несерьезная мысль, но через мгновение я уцепился за нее: а почему бы нет? Заскочил в автобус, вытряхнул из пропарафиненной пачки патронированную взрывчатку.
— Тебе зачем? — спросил взрывник.
— Печь не могу растопить, — ответил я.
Взрывник молчал, тупо соображая, зачем и какую печь надо топить в июле. Кусок бикфордова шнура у меня был. Я знал, что делать.
Из вагончика гробокопателей доносился пьяный галдеж. Поблизости от него во тьме горбатился мехколонновский экскаватор «Беларусь», под его колеса была подложена двухметровая чурка. Она-то мне и нужна.
Я осторожно заглянул в открытое окно вагончика с прочной решеткой. Там сидели трое — все, кто мне нужен с эксковаторщиком. Один из гробокопателей должен быть на могильнике, если, конечно, Орангутанг не врал. Где еще один? Появись он неожиданно, мог бы все испортить.
Я вытащил чурку из-под колес и подпер ей дверь вагончика. Из окна смердило, как из пепельницы. Я достал из-за пазухи пачку, туго перетянутую жгутом, с торчащим огрызком бикфордова шнура, и положил ее на железный прут решетки. Все обернулись к окну. Глаза Орангутанга протрезвели.
— Тебе по-хорошему предлагали убраться, — срывающимся голосом заговорил я и прижал спичечную головку к сердцевине бикфордова шнура. Трудно было не расхохотаться, вид тройки стоил того: — Не слушал, а зря…
Проша завизжал. Я даже вздрогнул от его нечеловеческого крика и чиркнул коробкой по серной головке. Снопик искр вырвался из среза шнура, пороховой дым потянуло в вагончик. Проша с воплем ударил плечом в подпертую дверь. Экскаваторщик сидел на койке не шевелясь, выпученными глазами глядел на горящий шнур и громко икал, содрогаясь всем телом. Орангутанг бросился на четвереньки, ткнулся носом в угол и начал по-собачьи скрести пол ногтями. Шнура оставалось секунды на три. Я швырнул пачку ему на спину, он шкурой расстелился на полу. Шнур догорел и погас. В пачке из-под взрывчатки были опилки. Проша сполз по стене и сел, разинув рот, задыхающейся рыбой.
— Оставь могильник! — крикнул я. — В другой раз подкину путевую…
Гробокопатели уехали, может быть, на следующий день, может, позже. Черепки с захоронения, которое им указал Абиш, они собрали, курган хотели разорить для куража и под выполненный договор. Зря я с неделю таскался с увесистым забурником, ночевал у Абиша. Весь заезд на меня орала жена экскаваторщика — она тоже работала в мехколонне нормировщицей. Грозила подать в суд. Я сначала не мог понять, что она так шумит: ну, пошутил… Потом сказали, у мужа от пережитого случилась полная импотенция. К концу месяца нормировщица утихла, хоть и не здоровалась со мной, наверно, мужик пришел в себя.
* * *
Подземщики набирали темпы. Молния! «Сорок погонных метров тоннеля в месяц! Во, дают!.. Что составляет 120 % плана». О том, что зарплата — копейка в копейку, как в прошлый месяц, не писали. Тогда прошли только двадцать метров и план тоже был переполнен.
Димка со Славкой опять не поехали на отгулы в город: там их никто не ждал, да и разгуляться было не на что. Они шлялись по остаткам тугаев, ловили форель в притоках будущего водохранилища, постреливали тощих зайцев и все без шума, молчком. Не иначе как что-то замышляли против начальства.
Я со Шмидтом зарядил последний блок в «сковороде». Отпалили. Еще облако газа не стекло с места взрыва, а Шмидт уже лежал в редкой тени, шепелявил, и радовался, что покидаем пекло. Едва успели проверить, все ли заряды сработали, — бульдозеры ринулись утюжить нишу, проходчики стали подтягивать технику.
За полночь, взопрев в духоте от чая, выпитого вечером, от шепелявых речей напарника, все еще гнавшего коровку в далеком далеке детства, я вышел из вагончика.
Обходя круги света под фонарями, направился к уборной возле складов и опять чуть не столкнулся с Лисом. Он стоял в распахнутом дверном проёме склада, тусклая лампочка горела под потолком, Лис шарил в воздухе руками и, приглушенно матюгаясь, бормотал:
— Тридцать первый, а второму… Стоять! Тридцать третий, бросай листы! Всё равно не выпущу.
С неожиданным проворством для полного тела он отскочил, захлопнул дверь, подпер ее задом и сунул в пробой дужку навесного замка. Похоже, тащили кровельное железо, потому что в запертом складе ухал и зычно громыхал металлический лист. Все это только позавчера привезли. Тихий уверял бурильщиков, что канючил у Лиса четвертинку оцинкованного листа — не дал. Бурильщики хотели сделать из него кожух на мотор станка, чтобы прикрыть его от выброса воды из скважин. Их било током за рычагами.
Славка, хоть и отдыхал на чистом воздухе, а лицом позеленел. Лис осторожно пошутил, мол, цветешь и толстеешь только в вытрезвителе. Но тут же прикусил язык, а заглянув в дурные Славкины глаза, захлопал руками по карманам:
— Аккордный наряд подписан, да вот забыл, куда положил.
— Расценки где? — припер начальника к стене проходчик. Лис пискнул, крутнулся:
— Па-азвольте, это совсем другое дело… их заслали в министерство на переутверждение… Не вернулись еще бумаги.
Проходку тоннеля вели сразу с двух сторон, производительность была бешеной. Но что-то уже надломилось в людях: в глазах и в разговорах появились жалкая обреченность, тупая безысходность. Не скоро я понял что происходило, да и самого себя: не зарплату получали, подачку, хоть и не малую, а самое мерзкое — с этим стали мириться.
Тоннель углублялся с двух сторон. Дело шло к сбойке с невиданной досель на участке скоростью, бригадир, из новых, уже не работал, но всю смену трепался с мастером, конторским придуркам давно потеряли счет. Работяги злились, поносили их междусобойчиком, косились друг на друга, выжидая, кто первым не выдержит и молчали.
Теряло смысл все кроме одного мига, когда в кругу семьи или друзей рабочий мог вынуть из кармана тугую пачку денег. Только в тот короткий миг верилось, что они не заслужены, но заработаны.
Поубавилось веры и у Славки, хотя в его звене работали по-старинке, сказать лишнего не боялись. Но как-то и он вздохнул, не понимая до конца, что его так бесит в Такырбасе. А Клюшкин однажды, с жестокой обыденностью, как о вытрезвителе, просипел:
— Сидеть неохота, а то бы кончил!.. Вот бы поимел кайф, — сощурился, как кот после сытной трапезы.
Маркшейдер, хоть и был уверен в расчетах, но в день сбойки нервничал: если ошибся, — позор на всю жизнь. Высота забоя четыре метра: смотришь на кровлю, каска падает. Забурилось. Полутораметровая штанга ушла в породу — ни звука, ни лучика с той стороны. Славка перекрыл воздух, отсоединил перфоратор. Чьи-то руки выдернули штангу из шпура, вставили длинную, кривоватую, в два с половиной метра.
Славка бурил, бригада стояла за его спиной, осторожно вдыхая через нос пыльный и влажный воздух. Перфоратор дернулся, привалился к забою, заелозил стаканом по монолиту. Славка отсоединил штангу, кто-то с другой стороны потянул ее на себя.
Славкины проходчики загалдели, тоже стали тянуть, штанга не поддавалась, выскальзывала из рук и плясала в шпуре. На той южной стороне тоннеля на породе у забоя сидел маркшейдер, курил сигареты одну за другой — штанга вышла точно по центру.
Он не ошибся.
Пришло время, неспокойное для горных мастеров: прежде были при бригадах вроде довесков, теперь приходилось работать больше всех, но массовиками-затейниками.
Наезжали начальники — один главней другого, комиссии — одна важней другой. Мастера, как режиссеры, расставляли рабочих по местам, поправляли им спецодежку, новенькие каски, совал в руки лом или лопату, уговаривал по сигналу делать вид, что работают, а сами бегали, следил за начальством.
Понуро сидели проходчики, курили, кто с лопатой, кто над разобранным перфоратором. Мчался мастер — начали! Комиссия шла по тоннелю. Димка, отвернувшись, угрюмо постукивал ломом по выступу породы. Клюшкин елозил лопатой по борту — на душе погань, как на в зоне после дурного сна, будто очнулся в лагерном гареме. Там, будто вынул голову из петли… А тут терпят, придуряются, сжав зубы, притворяются работающими. Мастер с измученным лицом ел всех глазами, умолял, ну хоть что-нибудь делать.
Славка взвыл, хватил ломом по гранитной стене. Лом отлетел, звякая по породе.
Звеньевой, сбрасывая на ходу новую спецовку и каску, отплевываясь, пошел в поселок, настрочил заявление на увольнение, но так и не смог объяснить Лису, почему уходит в самое лучшее время: впереди и премиальные и пусковые… Славка мотал головой, отказываясь от них и всяких грамот и на душе, без водки, становилось легче, будто камень с груди сдвигали.
Мы же до конца смены курили, кто с ломом, кто с лопатой на коленях, придурялись перед начальством и снова сидели, а вечером от усталости едва добрались до коек и, разбитые, засветло падали спать. Тихо было в поселке. Только в бичевском вагончике гуляли Славка с Димкой, прощаясь с Бартогаем. Димка дотянул до конца смены и тоже подал заявление.
Наступили новые времена. Утром я тащился в тоннель. Курил от безделья, ежеминутно поглядывая на часы, дождавшись конца смены, потом шел к Абишу и слушал его рассуждения об иных временах, о том, что мертвые души работают в три смены, круглосуточно, их уже больше, чем живых, и все — верные рабы Такырбаса.
Я рассеянно кивал. Видел начальника нынешним утром: бородавка на глазу подрагивала, как чувствительный индикатор, сам сытый, холеный, самодовольный, лишь несколько царапин на лице: наверно, след рубца от подушки.
— Сегодня ночью хотел убить его! — сказал Абиш, и я насторожился. Он размотал кожу на своем посохе, который называл мечом, я опять увидел рукоять с мерцающими камями. Абиш сжал ее пальцами, потянул чуть ниже рукоятки… И как платок из руки фокусника, стал выходить из его кулака блистающий клинок. То, что я считал ржавой полосой железа, упало на каменный пол — это был всего лишь камуфляж.
Он протянул мне сверкающий изящно изогнутый меч, как передают из рук в руки новорожденного ребенка. Я поднес к лицу голубоватую сталь с волнистым рисунком, и на ней, как на зеркале, пятнами замутилось мое дыхание.
— Попробуй, — кивнул Абиш на ящик у изголовья его лежанки. — Гвозди рубить можно… Я бил Такырбаса изо всех сил, но не смог даже ранить. Мертвому не убить мертвого, — свесил голову. — Это должен сделать ты!
Я смотрел на волнующий изгиб лезвия. Шершавые камни ласково впивались в ладонь, будто они были вделаны в рукоять именно для моей руки. Робко и самозабвенно я любил этот меч первым чувством, отданным когда-то девчонке-однокласснице. Понимал, что Абиш не шутит, предлагая мне оружие, и чувствовал, что он прав. Путались в душе соблазны и страхи, боязнь крови, но больше всего мучило самолюбие: чтобы убить Такырбаса, надо доказать себе, что моя бесценная жизнь глупей и дешевле его рыхлого тела. Признать этого я не мог, а не признав, не решился на преступление… Какая-то плесень и я… Пятый разряд, десять лет стажа, достойная служба в Армии!.. Будто отрывая от себя клок мяса, с сердечной болью я вернул меч Абишу.
На свет
Все искренне радовались сбойке тоннеля — все-таки большое дело было закончено.
Но те, у кого еще оставались самолюбия и достоинство, чувствовали себя одураченными и прикидывали, куда бы податься. Ждать уже было нечего. Впереди бетонирование и цементация — спокойная работа, умеренные заработки.
Три человека в бригаде: бригадир и два его друга — общественники-выступалы, рабочая аристократия делили премии по коэффициенту трудового участия и получали зарплату раза в полтора больше других. Где она, бывшая вольница — свободное содружество людей, умеющих работать? Да и была ли?
Забилась труба «пушки» — пневматического податчика бетона. Пока другие из звена делали вид, что разбирают, прочищают трубы, я ковырял лопатой в куче бетона, делал вид, что омолаживаю его. Рабочий день кончался. Понятно, что каждый надеялся спихнуть работу на другую смену. Выкинуть бы этот бетон для пользы общего дела, но при дележке премии нам его припомнят и нагреют. Надбавку получит не тот, от кого было больше пользы, а тот, кто больше суетился. Вот и лопачу, один среди всех, где каждый всем враг и каждому все враги. И только эти трое, общественники-выступалы, всегда правы. Они друг за друга горой, а потому ничего, что бригадир с самой сбойки в загуле: он честь и совесть бригады, — как говорили его дружки. — Не дать ему премию — плюнуть в лицо коллективу. Такие речи они вели на совете бригады и хапали самые высокие надбавки, по их логике, чтобы не унизить, не опозорить других. И ясно уже было: будет ли новый тоннель, перейдет ли участок на новое место — ничего не изменится, потому что отношения людей приняли свою наивысшую железобетонную форму.
Зачем я здесь? Пока не нашел места. И еще… В любой вольнице рискуешь: сегодня пятьсот, а завтра ни копейки: фарт не всем по нраву. У нас двести рублей, зато, чтобы ни случилось, останешься при них. А если тебя минет черный жребий — можешь и надбавку получить. С кого-то снимут, тебе дадут… Ну, вот и приехала смена. Я выколотил рукавицы о бетонную стену и, насвистывая, пошел к автобусу. За спиной ругались звеньевые:
— А ты позавчера не передавал ли мне забитую «пушку»? Чего орешь?! Кто сачок?
Да я в прошлом заезде на лопатах…
Возле входного портала мехколонна насыпала перемычку из глины. Наполнялась чаша водохранилища, там, где щеголяли красочными хвостами фазаны, бродили дикие козы и кабаны, рябила вода. Разномастные начальники из приемной комиссии, управления треста, и министерства шлялись по тоннелю, лезли под руку с советами, им тоже надо делать вид, что работают, нам, что устраняем их замечания. Мастер-режиссер охрип и валился с ног: представление порой длилось всю смену. Работяги к концу дня расползались, чуть живы от усталости. Перейти в ночную смену считалось верхом счастья.
Готовился торжественный пуск тоннеля. Абиш, ряженный под цементатора, зло орудовал лопатой, косился по сторонам, выискивая, какую бы гадость сотворить, сорвать пуск. И случилось! Струя воды из водохранилища перехлестнула глиняную перемычку и скатилась к порталу. Через несколько минут она могла ринуться в тоннель. Абиш захохотал, закричал мне: «Смотри!» Я швырнул лопату и побежал в тоннель, предупреждая людей: «Беги! Сейчас хлынет!»
Толпой все тоннельщики высыпали на возвышение у выходного портала, побросали лопаты, все, чем тешили начальство. Пасть тоннеля молчала. «Вдруг плотину не прорвет… Ведь, засмеют!» — со страхом подумал я.
Кто-то уже ухмылялся, поглядывая на меня, но раздался утробный гул, и через минуту портал изрыгнул первый вал коричневой воды, лестниц и лопат. Объехав гору, подкатил на волге Такырбас. Улыбаясь, спросил: не остался ли кто внутри? Ответ он знал и его простые, ясные мысли световым табло высвечивались на холеном лице: перемычку делала мехколонна — ее начальство заплатит нервами, нам — одна только выгода.
Никто из живых не мог видеть, что выносил из тоннеля мутный поток. В нем был и легковой автомобиль, и кровельное железо, и даже цветной телевизор. Мы видели только воду. В это время мертвые души укрепляли перемычку и боролись со стихией. Сам Такырбас, сбросив пиджак, сидел за рычаги бульдозера, унесенного потоком, захороненного где-то песком и глиной. Мертвые души не жалели ни цемента, ни кондового леса, чем только не заделывали промоину в перемычке: в поток бросали даже гвозди и электрические лампочки без счета… Так рассказывал Абиш, он видел наш мир иначе, чем мы. И еще рассказал, что, как только я убежал предупреждать людей, он стал расширять промоину, а, оглянувшись, встретился глазами с Такырбасом. Тот смотрел с дороги и кивал: хорошо работаешь, парень! И тогда Абиш понял, что опять сделал все не так: себе во вред — ему на пользу. Стал забрасывать промоину глиной, но было поздно.
Такырбас только посмеивался, глядя сверху.
После аварии несколько смен торопливо чистили тоннель от наносов глины и камня. Это была работа, а не представление. Пуск, собственно, произошел сам по себе.
Тоннель был опробован. Правда, зрители оказались не те, что надо. Мехколонна сделала новую перемычку. Мы вычистили, выскоблили тоннель, генеральная репетиция закончилась. Мастер натянул на входном портале цветную ленточку и наточил ножницы.
Рабочий день отменялся. Мы спали до десяти, а потом, принарядившись, потянулись к тоннелю. Лис выдавал бригадиру и его говорунам новые робы с неразглаживающимися складками, новые каски, новые, но, лет двадцать назад снятые с производства перфораторы. Ряженым предстояло изображать лицо участка.
Цветастые квадраты легковых автомобилей облепили склон. Толпы незнакомых людей роились у входного портала. Синяя коробка телевизионного автобуса распускала паутину кабелей и проводов.
— Ряженые, где ряженые? — кричал то ли редактор, то ли режиссер. Ассистент поправлял им каски. Бригадир с перфоратором на плече потел с похмелья и говорил, что мается совестью.
Лис подскочил к пестрой толпе рабочих-зрителей, зашептал, просил застегнуть рубахи на все пуговицы, мол, большое начальство недовольно.
И тут за моей спиной смешливо и хрипло забормотал Клюшкин:
— Жмурика возле моста не видел? Мля буду, в такой день утопленник — плохая примета!
Не из любопытства я пошел к мосту: догадывался — Абиш строит новые козни.
Хотел предупредить, что все это зря. Я увидел и узнал его. Без сапог и рубахи, с тщательно выкрашенным в чёрное телом, он лежал, как мертвый, неловко подогнув руки, и скалил скособоченный рот.
Я спустился к нему, присел рядом, спросил:
— Думаешь, этой хохмочкой сорвешь пуск? — Один глаз Абиша приоткрылся, он посмотрел на меня вприщур: — На участке полно милиции: забросят в машину, отправят в морг, а там разговор короткий — выпустят кишки, не разобравшись, кто и что… Перестань чудить, дед!
— Не мешай, уходи! — шепнул Абиш одними губами. Лучик солнца, искрившийся на роговице глаза, погас.
Я встал, начал взбираться на крутой берег. Галечник и песок скатывались вниз к телу. Представление у портала шло полным ходом.
Вечером автобус увозил смену в город. Я знал, что не вернусь. Клюшкин на заднем сиденье салона закатывался и дрыгал ногами:
— Тащусь, братва! Менты утопленника засекли, но после обеда разъехались: кому охота в своей машине тухлятину везти? Я час назад у моста был, закиды снимал. Нет жмура, мля буду! — Клюшкин хрипел и кашлял прокуренным голосом: — Во, концерт устроили?! Даже покойники разбегаются… Уй, мля, балдею над завтрашним днем. Внукам рассказывать будем — не поверят… Жмуром смылся, падла!
* * *
Я работал в геологии, но никогда так долго не тянулся заезд. Мне не везло с первого дня: то бадьей ударило, то свечку засадил, потом сапог порвал… Думал, не везет, значит, где-то хвалят. Ясно — где: помогли мои записки суду, и Такырбас получил срок на полную катушку. Давно еще я начал писать обвинительное письмо, но тогда дело было закрыто. Недавно следствие возобновили, я дописал начатое и отправил следователю.
Кончился и этот долгий заезд. Я вернулся в город и сразу домой, на час-другой не заскочил к друзьям, хотя звали. Осень, час пик, реки народа на перекрестках. В подъезде лужа зловонной мочи. Город, что с него взять. Я осторожно освободил набитый почтовый ящик от газет и журналов, перетряс их — повестки не было, письма из нарсуда — тоже. Я пошарил рукой в ящике — может быть, зацепилось где-то? Бывает!
Открыл квартиру, бросил сумку в прихожей, не раздеваясь, сел в кресло и позвонил Клюшкину — он так и работал на участке Лиса. Взяла трубку его жена-хохлушка, узнав во мне терпеливого слушателя, ойкнула и стрекотала, пока я не положил трубку на аппарат.
Суд был. Лиса исключили из партии, дали два года условно, но он работает на прежнем месте. Посадили какого-то молодого начальника участка, и главбуху, заварившему все это дело, дали восемь лет. Такырбас отлежался в больнице с десятым или двенадцатым инфарктом, на суде не был и вскоре получил назначение управляющим треста. Правда, трест с названием вроде мыльно-дрочильного и подчиненных меньше, чем в управлении, но кабинет, секретарша, машина, личный шофер — все как надо.
Не раздеваясь, я взял телефонную книгу, полистал, набрался духу, позвонил в приемную ОБХСС и вышел на женский голос, еще не испорченный службой. Это был мой последний шанс.
Рассыпаясь в любезностях, заливаясь соловьем, я получил телефон следователя, которому передал свои записки, набрал номер, представился, не успел задать вопрос, как меня оборвали:
— Да пошел ты… со своей писаниной, ишак! — И короткие гудки.
Нужно было ехать к Абишу. Больше ничего не оставалось.
Я высадился на знакомой развилке у Кульджинского тракта, возле родника перекусил холодными пирожками с Алма-Атинского автовокзала. Ни одна из машин не спустилась на тракт, не свернула на Бартогайскую дорогу. Асфальтированная, прямая, как стрела, черная лента пологими волнами уходила к полоске гор на горизонте. Если бы я не знал — никогда бы не подумал, что впереди вода и до нее всего двенадцать километров.
Грустновато возвращаться в знакомые места, даже если с ними связаны не лучшие воспоминания. Припекало. В этой долине редко была нормальная температура: или жарко или холодно. Но сегодня светило солнце, и дул легкий прохладный ветерок. Спрятавшись в какую-нибудь расселину от ветра, можно было загорать.
Жив ли Абиш? Где он? Два года я не был в этих местах и ничего не слышал о старике, шел к могильнику, а он, возможно, давно был затоплен. И чем ближе я подходил к нему, тем безнадежней казалась мне эта поездка.
Я прошел мимо пустого, притихшего поселка. Женщина-казашка на крыльце общежития выбивала палкой цветастый ковер. Хлопки эхом отзывались со стороны взрыв-склада. Женщина на секунду застыла с поднятой палкой, глянула на меня из-под руки, и опять зазвучало: «уп! уп! уп!»
Сразу за поселком открывался вид на водохранилище. Я помнил в тех местах кряжистые тополя и зелень тугаев, колючие заросли облепихи. Там, где ветер когда-то гнул ветви, теперь рябили волны.
Черные бугорки могильника были чуть видны, дорога, пересекавшая его, уже затягивалась чахлой травкой. Я бросил сумку, подошел к знакомому холмику, возле него на картонном блоке, прямо на солнце, лежали куриные яйца. Кровь тяжело застучала в висках — неужели старик здесь? Я протиснулся через знакомый ход и будто попал во вчерашний день. Абиш сидел на каменном полу, склонив голову. На его коленях лежал закамуфлированный меч. Трещины в камне были грубо замазаны раствором, к потолку привязан лист оцинкованного железа. С него капала вода. В углу стояла заплесневевшая лужа. Я молча сел против старика, он поднял глаза и сказал, будто мы расстались вчера:
— А, пришел?!
— Плохо у тебя, — сказал я, озираясь. С листа капало прямо на спину.
— Ничего. Сделали канал, польют поля, вырастят урожай, станут богаче — взорвут плотину, посадят тугаи и станут уважать мертвых. Здесь будет музей. Надо только переждать лет сто или двести.
— Сделал бы землянку в другом месте! — посочувствовал я, кивая на лужу в углу. — Теперь тут тихо, не ездят, не взрывают. — И предложил: — Хочешь, помогу?
— Нельзя, — ответил Абиш. — Здесь мой вечный дом. Ждать буду.
Я был рад, что сумасбродный старик жив, что нашел его. Сейчас это казалось невероятным до такой степени, что походило на сон. От прилива теплых чувств я хлопнул его ладонью по плечу. Абиш встрепенулся и осторожно, двумя руками, как передают новорожденного, протянул мне меч. Рукоять была обмотано кожей, лезвие оклеено какой-то дрянью, но я помнил, что таит под собой это рванье и мусор, протянул руки, и неожиданная тяжесть легла на мои ладони.
— Я знал, что ты придешь, — сказал старик. — Ждал, когда повзрослеешь.
Вообще-то я шел к нему за советом, по крайней мере, мне так казалось. И вот в одно мгновение все было решено, и говорить больше не о чем.
— Как же ты без него? — спросил я, качнув на руках тяжелую полосу.
Абиш усмехнулся тонкогубым впалым ртом.
— Мертвому не убить мертвого. Такырбас — мертвый, я — не живой. Яйца видел?
Я кивнул и спросил:
— Зачем оставил на солнце — протухнут.
— Пусть протухнут! Если мертвый притворяется живым, нужно сделать, чтобы от него пахло мертвечиной. Такырбас еще приедет?!
Я не стал переубеждать старика: пусть надеется. Вышел из землянки, положил меч в сумку и застегнул молнию. Еще можно было успеть на последний автобус из Чунжи.
* * *
Я долго ждал: маячил в холодном переулке, высматривая вход в контору.
Пришлось часами сидеть в заброшенном сортире, посматривая в щель между досок на окно кабинета. Только через несколько дней совпало все, что требовалось: ушла в магазин секретарша, служащие подались в столовую, шофер еще не приехал, и приоткрылось окно в кабинете управляющего трестом.
Я беззвучно спрыгнул с подоконника на мягкий ковер за спиной Такырбаса, сунул руку в спортивную сумку и стряхнул ее с меча. Солнечный луч с клинка чиркнул по полировке дорогой мебели. Я схватил начальника за воротник, выдернул из кресла, швырнул к стене, прижал бритвенной заточки лезвие к холеному горлу и впервые лицом к лицу заглянул в его глаза. Холод пробежал по спине — вместо них были две цветные стекляшки.
С воплем я отскочил, замахнулся и с силой опустил меч на гладкий лоб, целясь в переносицу. С поразительной легкостью клинок распорол тело и костюм до промежности.
Две живые половинки начальника стояли у стены и смотрели на меня, вразнобой лупая ресницами по стекляшкам глаз.
Я бросился к двери — только на мгновение обернулся и успел заметить, что в кабинете стоят два совершенно одинаковых Такырбаса. Один их них спокойно шагнул к креслу и сел. Я выбежал из кабинета, чуть не сбив с ног секретаршу. Шофёр схватил меня за плечо, но, лязгнув зубами, стал оседать на пол. Я прикрыл меч полой плаща и выбежал в переулок, только теперь понимая, почему Абиш расстался с дорогим оружием и предпочел коробку яиц за трешник.
Ночью я позвонил Клюшкину и рассказал все. Тот недавно вернулся с заезда, отсыпался, скорей всего он не поверил мне, но вида не подал. Только хрипло вздохнул в трубку:
— Ничего с ними не сделаешь. Кудаков теперь начальник управления, Тихий — главный инженер. У обоих на глазу пробиваются бородавки. Может, они уже и не люди…
Но с виду нормальные. Разве их поймешь?
Я закричал в телефон: как можно мириться, когда об тебя вытирают ноги? Кричал про Абиша, про тухлые яйца и краску в аэрозоли. Клюшкин терпеливо молчал на другом конце провода, потом положил трубку.
Утром я первый вошел в хозяйственный магазин и купил эмалевую краску. До открытия конторы оставалось чуть меньше часа. Никого не было в коридоре, дверь нараспашку. Где-то в глубине здания сторож кашлял и шаркал ботинками.
Я запер входную дверь, подперев ее штакетиной, и стал писать: «Осторожно!
Управляющий трестом — не человек!» Буквы расплывались: это сторож ломился внутрь. Я видел через окно, как он побежал к телефону и стал звонить — понятно, что в милицию. Но пока она приедет — я мог сделать еще несколько надписей и принялся за работу.
Они появились все вместе. Шаркнула шинами новенькая волга, из машины чинно вылез Такырбас. Следом подкатил обшарпанный милицейский «бобик», распахнул дверцы, будто лопоухий пес повел ушами. Подходили служащие треста, у магазина невдалеке собиралась очередь. Я закричал во весь голос, на что только был способен:
— Матерью клянусь — он робот. Не принимайте его за человека! Вокруг них все гибнет… Эти электронные куклы делают много вреда. Задерите ему рубаху и найдёте батарейки. Точно знаю…
Я кричал. Останавливались прохожие. Два дюжих сержанта приближались, неприязненно топая ботинками. А я смеялся, потому что впервые видел страх на хлорвиниловом лице, безжалостно освещенном утренним солнцем.
* * *
Все это происходило в начале восьмидесятых годов теперь уже прошлого века, за пять-десять лет до перестройки. Я ошибся, как ошибались тогда в своих ожиданиях все работяги. К девяностым годам такырбасы и другие кишечно-половые космополиты так размножились, вошли в такую силу, что присвоили себе и вывезли за границу все, что под браваду патриотических лозунгов, было построено до них каторжным трудом народа, а вольные бригады нулевого цикла перевелись или отступили далеко на север.




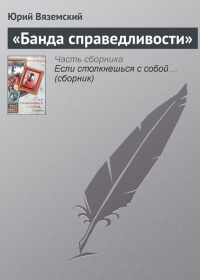







Комментарии к книге «Штольни, тоннели и свет», Олег Васильевич Слободчиков
Всего 0 комментариев