Павел Мейлахс ОТСТУПНИК
«Я быстро спускался по отлогой горе, медленно переходящей в равнину. Миновал летний день с его светом, жарой, пылью; стало сумеречно и прохладно. И как-то тише, глуше, дичее. Я уже давно шел один и даже успел слегка отвыкнуть от нормальной, дневной, людской жизни; так горло и язык отвыкают от речи после долгого молчания. По правую руку оставался лес, уже довольно далекий и еще более отдаляющийся, все призрачнее проступающий сквозь сумерки, но я чувствовал его присутствие справа, хотя боковое зрение доставало его все хуже и хуже. Налево, в двух шагах от меня шла бесконечная канава, проведенная нетвердой, виляющей линией.
Я и не заметил, как появился туман. Еще недавно его не было, но вот он возник, совсем ниоткуда, собрался из невидимых капель и плоско завис над землей. Канава уже до краев полна им, густым, непроницаемым, клубящимся. Я шел и шел, и туман не кончался, открывались все новые и новые его владения. Внезапно мне показалось, что эти острова тумана похожи на озера, на спокойные поверхности озер, подвешенных в воздухе без всякой нити, без всякого усилия. В одном месте лес круто давал влево, и там открывалось — глаза не сразу верили — целое спокойное, недвижное море тумана, уходящее вдаль. Я остановился. Звук шагов, монотонно, привычно сопровождавший меня в течение всего пути, мгновенно смолк — я это услышал, хотя не слышал сам шум шагов. Лес постепенно пропадал, он уходил в ночь, сливался с ночью. Я с наслаждением почувствовал летний, ночной, слегка пробирающий холодок, впервые после долгой ходьбы. Туманы белели все более смутно, но тем более сильным, притягивающе-дремотным становился их свет.
И тут я почувствовал то, что и раньше иногда навещало меня: какую-то далекую светлую, нежную тоску, пронизывающую всего меня, проникающую до самой какой-то моей сути; нежную тоску и одновременно что-то вроде какого-то тихого, немого восторга, ожидания праздника, чуда, преображения. Туман вдруг напомнил мне, что есть что-то еще, есть, протяни руки — и ты дотронешься до него, ты стоишь на пороге — переступи его. И как будто светлее стало кругом. Я незаметно для себя смотрел туда, где еще недавно скрылось солнце. Какая-то другая жизнь… Что-то другое… Иное… Это чувство длилось совсем недолго. Я вдруг вспомнил, что уже поздно, что давно пора бы уже быть дома; и неожиданно сильно затосковал по своей маленькой, уютной комнатке, по книгам, по домашнему чаю, старой сахарнице. Я тронулся с места, ускорил шаг и дальше шел, ни на что не глядя, ни о чем не думая, желая только поскорее дойти. Дома меня ждало все то, о чем я тосковал среди ночного поля: и чай, и еда — я здорово проголодался — и уютное чтение в своей комнате. Обычно это время было очень хорошим, но в тот раз оно было еще лучше — на него ложился отсвет той ночи, леса, поля, тумана, среди которых я недавно побывал.
Сколько было пройдено, сколько перехожено! Если бы меня спросили, что было лучшее в моей жизни, я бы ответил: это когда я ходил. Ходил один. Где бы я ни был, мне везде прекрасно ходилось. Дальнобойные прогулки, к тому же быстрым ходом, так что под конец, на обратном пути, я уже плелся; прогулки без цели — куда глаза глядят, лишь бы что-то новое открывалось, новое. Я терпеть не мог одних и тех же маршрутов; иногда какой-нибудь один приглядывался, и я некоторое время ходил по нему, но, скорее рано, чем поздно, и он надоедал, и я менял его; даже когда ходил по более или менее одним и тем же местам, старался каждый раз пройти хоть немножко — да по-другому.
Идешь, бывало, по пыльной дороге — густейшая пыль-песок с каждым шагом струйками стекает с сандалии, — мимо хилой, исчезающей рощицы, идешь, и вдруг попадаешь в полосу густейшей кислой вони, и даже радуешься этому — такой вони, такой плотности и своеобычности ни разу не нюхивал! Я знаю, что здесь поблизости не то свино-, не то еще какая-то ферма, но только теперь, впервые, я вкусил ее плодов! Идешь дальше, постепенно выходя из вони; по бокам низенькие бедные строеньица с уклоном в неореализм, полуголые маленькие дети в песке — их уже хочется назвать туземцами; после проехавшего трактора не отдышаться и не проморгаться из-за устроенной им бури в пустыне; наконец поселок позади, вокруг ничего нет, даже вони, только ровные зеленые поля и, как всегда, лес вдалеке. Под гору ноги несут легко, но вдруг ты замечаешь другую дорогу — далеко и внизу, и по ней медленно двигается процессия одинаковых грузовиков. Видишь и пыль из-под их колес, она такая же маленькая, как и сами грузовики. Процессия чем-то напоминает погребальную. И что-то заставляет остановиться. Долго смотришь на беззвучно движущуюся процессию, пока она не сливается с далеким лесом.
И вдруг ты чувствуешь, что ты один. Один в этом огромном мире. Ты был на свидании с ним без свидетелей. Простое и странное чувство.
Один раз я забрался очень далеко от дома (я тогда гостил у тетки). Я как-то провозился и когда вышел, было уже поздновато для дальнего захода, но мне так вдруг захотелось уйти, забросить себя как можно дальше, что в ногах я почти физически ощущал восторженное бурное нетерпение.
И заход начался. Я миновал парк, полный ночных летних запахов и эротических тайн, парк, ничего общего не имеющий с собой же дневным: советско-мещанским, наводненным крикливыми мамашами и крикливыми детьми, пенсионерами с газетами, шашками, домино, с памятником Кирову, почему-то часто попадающим в кадр, хотя он был не так уж велик, до сих пор помнится каменная мясистость его шинельных складок; не без опаски миновал дворово-гитарную компанию; миновал притихший и готовящийся к новой дневной страде автовокзал, шел и шел дальше и как-то незаметно вышел за город.
Не помню, когда меня начала покидать беспечность, даже больше — некоторый сомнамбулизм, обычные для таких хождений. Но вокруг стало уже совсем темно, стало прохладно и даже холодновато, и внутри меня тоже что-то такое замедлялось, охлаждалось… Я обнаружил, что уже давно иду по лесу, и даже не иду, а, скорее, пробираюсь, потому что лес был достаточно густ и в нем было темнее; обнаружил, что мне давно надоело разбирать дорогу, временами напарываться на что-то, продираться; еще я все время помнил, что иду под уклон, а это значило, что потом надо будет долго идти в гору. Становилось скучно. А потом тревожно: я уже давно знал, что заблудился, и меня далеко отнесло от дома; хоть я, конечно, и нашел бы дорогу назад, это могло занять несколько часов; тетка тем временем с ума сойдет, да и самому блуждать ночью было не слишком приятно. Заряд хождения кончился. Нужно было просто добираться домой. Неуютно, тоскливо и даже жутковато… С той стороны реки (мост я пересек, едва заметив, хотя иногда любил на нем постоять, посмотреть на бегущую воду) доносилось танцплощадочное буханье, и оно было уже не признаком недалекого людского присутствия, а стало каким-то призрачным, жутковатым, из него как будто вынули душу; оно превратилось в зомби, в один из просто „ночных звуков“, которые придуманы специально для того, чтобы обдавать жутью одинокого ночного путника, как, например, далекое уханье неведомой ночной птицы. Ночь была лунной, поэтому было не совсем темно; луна то и дело мелькала среди стволов. Как все-таки иногда нужно, чтобы были люди вокруг! Точно так же, как иногда бывает нужно, чтобы они все сгинули с глаз долой. Я уже малодушно жалел, что вышел так поздно.
Когда я только вошел в лес, я хотел спуститься сквозь него к реке, я постепенно и спускался, но, видимо, не достаточно последовательно, рассчитывая, похоже, что она объявится сама, круто вильнув в мою сторону; реки, однако, все не было и не было. Но теперь мне совершенно расхотелось к ней спускаться. Треск сучьев под ногами, ставший вдруг каким-то очень явственным; злокозненные пни, дающие тебе неожиданные тычки, резко, неприятно прерывающие твой естественный ход; шум раздвигаемых ветвей, ставший вдруг каким-то навязчиво близким; луна, неотступно сопровождающая меня, как вежливая, молчаливая, но непреклонная охрана, которой дано твердое задание не спускать с меня глаз. Я стану — она станет и будет сколько угодно стоять на том же месте; я двинусь с места — и она двинется с места и будет идти с той же скоростью, что и я. Обычные звуки, всегда сопровождающие идущего через лес, перестали сливаться в сплошной, извечно-знакомый, неразличимый фон; фона не стало, теперь ты идешь среди множества очень отдельных, разных, индивидуальных звуков. Я поворотил в том направлении, где предположительно находилось шоссе. Сейчас не помню, но наверняка оно оказалось гораздо дальше, чем я рассчитывал, и лес, обещающий вскоре расступиться, все не сдерживал и не сдерживал своего обещания.
Я еще долго скитался в поисках дома. Это уже было не хождением, а скитанием, мыканьем, тревожным гаданием: иду ли я хотя бы приблизительно правильно или окончательно сбился с пути. Хоть я в целом и представлял некое общее направление, мне все время приходилось убеждать себя в этом; временами мне казалось, что я не приближаюсь к дому, а удаляюсь и удаляюсь от него (а шел я изо всех сил, во весь опор). Полагаться приходилось только на самого себя, я даже не помню, чтобы я встретил хотя бы одного человека.
Я долго шел по незнакомой равнине, залитой лунным светом. Равнина казалась мне нескончаемой, как еще недавно нескончаемым казался лес, — зато теперь пробирание через него представлялось мне эпизодом из какого-то далекого, смутного прошлого, а может, и вообще чем-то приснившимся. При свете луны равнина казалась очень спокойной, но покоя, безмятежности не было в этом спокойствии, скорее это было жутковатое спокойствие ночного кладбища. Как много лунного света. Какая ясная и страшная луна. Моя тень на траве.
Помню, что я чуть было не налетел на корову. Я бы должен был давно ее заметить, но не заметил, она как будто выросла из-под земли. Некоторое время мы стояли и молча смотрели друг на друга.
Наконец начались ряды домов, я уже был в городе. Домов такой постройки, явно более новой, я никогда не видел в тетушкином небольшом городке; значит, точно, здесь я ни разу не был. Я сворачивал в улицы, в переулки, держась воображаемой цели, которая все более становилась какой-то нереальной, неземной. Помню, как я шел по одной такой, явно незнакомой улице и вдруг увидел открытое окно на первом этаже. Я почему-то заглянул туда и увидел, как молодая женщина с распущенными волосами задергивает элегантные шторы. Она была в халате, вероятно, готовилась ко сну. Я вернул голову на прежнее место и пошел дальше. Тогда я, наверно, в первый раз увидел это: чужая, размеренная, правильная жизнь, домашний очаг, мирный отход ко сну — и я, снаружи, вне всего этого, бредущий, заблудившийся в темноте, в ночи, бродяга без крова, без дома. Я увидел это со стороны — и их, и себя. Уже тогда эта сцена, несмотря на ночь, усталость, проблематичность нахождения дома, мимолетно отозвалась во мне каким-то незнакомым, непонятным мне чувством. И в этом чувстве было что-то щемящее. Как будто я знал, что ничего такого — очага, дома, мира — у меня не будет.
Пошли дома, которые я видел здесь во множестве. Это все-таки уже лучше. Но про каждое место я не мог понять, был ли я здесь или только мне кажется. Ночью все стало измененным, трудноузнаваемым. Какой, оказывается, большой этот небольшой город!
Вдруг я понял, что нахожусь в парке. Еще не совсем уверенный, я пошел по какой-то его аллее и вдруг увидел памятник Кирову. Ну, все. Тревога мигом улеглась, исчезла таинственность, нереальность, неприкаянность; все стало просто, тривиально, все как всегда. Превозмогая мгновенно навалившуюся на меня лень — только сейчас я почувствовал, что смертельно устал, — я потащил ноги давно знакомой дорогой. Киров стоял, позлащенный луной.
Тетушка, едва увидев меня, стала тереть ладонями глаза. Я сказал, что ничего не случилось, просто далековато зашел, подзаблудился слегка. И пошел спать.
Но когда я лег и закрыл глаза, все увиденное мною за этот переход вновь обступило меня. Темный безвыходный лес, бесконечная, залитая лунным светом равнина, безлюдные однообразные улицы, все это ярко стояло перед моими закрытыми глазами, один ярчайший кадр сменял другой, я как будто опять был заброшен назад, в ту затерянность и бесприютность, из которой так долго выбирался. Ярчайшие кадры и острое, телесное ощущение вновь переживаемого прошлого — от всего этого чувство реальности начало снова пропадать. В этом было что-то немножко даже жуткое, головокружительное, — поэтому сон не шел. Но мне он был и не нужен. Я лежал с закрытыми глазами, весь в наползающих друг на друга видениях. Так, утопая в них, я и заснул».
«Каждый день я выходил к заливу, и он ослеплял меня своей синевой. А вон там, подальше отсюда, кто-то щедро накрошил в залив пенопластовых крошек, вот они — болтаются на волнах, такие белые при солнце, белые на синем. Это чайки. Легкое обалдевание от всего этого вида. Спустишься к пляжу, побредешь по песку; резвятся дети, спокойно принимают морские ванны взрослые, а ты идешь, весь такой одетый, совершенно отдельный от всех от них, зловещий, прямо Савонарола. Но уж очень хочется подойти к самому приливу и посмотреть вдаль. А к людям я очень благорасположен. Пусть себе отдыхают, дай им бог здоровья. А если немного отойти от пляжа, взобраться по невысокому склону, то тебе откроется павильон счастья. Это небольшое круглое белое строение с колоннами. Каменная беседка. Что-то странное, иное было в этом павильоне, который я сразу, как только увидел его, назвал павильоном счастья. Он как будто напоминал о солнце, о детстве. О каком-то когда-то испытанном или приснившемся счастье. Солнце отсюда все так же высоко, но залив еще неогляднее. Я испытывал какое-то мгновенное, счастливое головокружение всякий раз, когда подбирался к павильону, входил в него. Колонны такие белые, издалека незаметна их облезлость. И чайки тоже белые.
Выходишь утром. Рано, холодно. Изрядно холодно, я бы сказал, но холод этот специфически утренне летний, так что я согласен потерпеть его, более того, я с наслаждением его терплю! Скоро солнце пригреет… Я вышел на нашу небольшую площадь (невысокая культурная трава и две чинные тропинки) и увидел необычное скопление людей; тут всегда хватало прохаживающихся, но на этот раз их было явно больше. Было ощущение: что-то затевается, вот сейчас начнется. И вправду: поодаль стоял грузовик, который я не сразу заметил. Из него бухала музыка, я подошел поближе, это было что-то рок-н-роллистое, хотя уже вторичное, семидесятых годов. Беспричинная радость екнула во мне. Я огляделся вокруг. Точно, людей больше и все помоложе. Как будто в каком-то ожидании, наверняка в таком же радостном, в каком был я. Начало праздника. С чего-то налетела целая орава чаек, летели низко, едва не задевали зонтики, которые некоторые из тех, что постарше, на всякий случай распустили, — было пасмурно, мог начаться дождь, хотя и вряд ли. Некоторые из чаек небрежно роняли на лету колбаски зубной пасты.
Как будто сбылась какая-то давняя, неотчетливая даже для тебя самого мечта: проснуться среди города веселых и счастливых людей и отправиться бродить по этому городу самому таким же веселым, счастливым, праздничным…
Залив вечером. Стоишь у самой полосы пляжа. Красный месяц на небе. Его отражение-двойник свободно болтается у берега. Кажется, подойдешь к воде — будет болтаться дохлой рыбой под ногами, меж камней. Подошел поближе — только неясная лунная полоса на воде, вот и все. Вода почти спокойна. Вдруг, где-то далеко от берега, зародилась волна, тут же съехала сама с себя же, образовав на мгновенье седло, и, уже плоская, побежала к берегу, отозвавшись у него чуть слышным всплеском. Тишина. Потом опять такая же волна. Потом опять. Красный месяц в заливе почти истаял. Его приходится уже искать глазами. Морская темнота наступает с залива.
Я у озера. Смотрю на небо в озере. Наверху оно почти такое же, но суше, резче. Сижу я на песчаном склоне. Пониже меня, уже поближе к воде, двое выпивающих на скамейке. На ней две бутылки и стакан. Скамейка длинная и узкая, вспоминается картина Сальвадора Дали „Вильгельм Телль“. Вот один из выпивающих встал, потянулся, потом согнулся, сунув руки в передние карманы своих джинсовых штанов, как будто желая продрать их изнутри и достать колени. Объявились девушка, девочка и болонка. Гораздо выше меня по склону. Но болонка, конечно, вихрем примчалась, взрывая песок. Лохматая морда болонки смахивала на гвоздику. Пристрастно обнюхала мои колени и таким же вихрем умчалась. Девушка и девочка стали наперебой звать ее там, наверху. Неожиданно — конечно неожиданно — из-за облака вышло солнце. Противоположный берег — такой же песчаный склон — вдруг осветился, за мгновение успев пройти все оттенки, от задумчивой тенистости до радостной солнечности. И я вспомнил Шуберта…»
«└Любовь ушла». Так называлась первая песня на одной из тех пластинок, которые я очень любил. Мне лет одиннадцать. Вернее, это была не песня, ее исполнял инструментальный оркестр. Сначала как бы в раздумье играло электрофортепиано; задумчиво и как бы подводя некий горький итог. Но это было только начало. Потом вступали ударные, как бы стряхивая дремоту, и то же фортепиано начинало играть уже в нормальном среднем ритме, но уже не так грустно; пожалуй, ему просто взгрустнулось, когда ему пришли на ум далекие прекрасные воспоминания, но эти воспоминания уже обволоклись светлой обезболивающей дымкой. Каждому из нас случается так взгрустнуть на светлый манер. А потом вступали скрипки. Они были так прекрасны, так волшебны, что, казалось, не надо делать и движения, ты и так прикоснулся через них к чему-то далекому… прекрасному. И в голове что-то произносит без намека на звук, без намека на шевеление губами имя той прекрасной, единственной… Я был напичкан всякими Майн-Ридами. Потом опять красивое и задумчивое, горькое фортепиано, и это уже настоящий итог. Все. Номер окончен.
Я всегда мог вызвать в памяти эти волшебные скрипки (и сейчас могу). И я даже знал имя той самой, к которой они вели. Это было майн-ридовское имя, не помню откуда. Виргиния. Я представлял ее золотоволосой, с вьющимися, тяжелыми волосами. Хотя слово «представлял» не вполне подходит, уж слишком эфемерным, исчезающим был ее образ. Кстати, теперь, хотя эти скрипки по-прежнему отзываются во мне именем Виргиния, во мне все молчит. Не волнует.
Предчувствие любви лучше самой любви, много людей сделало для себя это открытие. Любовь к какому-то эфемерному, ускользающему образу, который просто невозможно вытащить, разглядеть. В этом и сила этого образа.
А еще была песня, которую пела Элла Фицджеральд. Песня была длинной, медленной, как прогулка в тумане. Я, разумеется, не понимал слов, но для меня эта песня говорила о прощании с жизнью, и жизнью не слишком удачной. Но никакого отчаянного сожаления, даже сдерживаемой скорби не было в этой песне. Была примиренная тихая грусть. Что было, мол, то было. И хватит об этом.
Я как будто видел и туман, и фигуру немолодой женщины, совершающей неторопливую прогулку, чтобы остаться одной и как-то подытожить свою жизнь.
У родителей было много пластинок. В официальном мире они назывались «зарубежная эстрада». Я порой садился на пол у нижней тумбочки, где они стояли, и раскладывал их, как пасьянсы. Это было прикосновение к другим мирам. В основном к Америке. К послевоенной, благополучной, счастливой Америке, где все не так, как у нас, где не дохло и не противно, как у нас. На пластинках было много певцов, популярных у них в 40—50-х годах. Я слушал и их, мне даже нравилась их сентиментально-привывающая манера. Подолгу, помню, я просиживал над своими «пасьянсами». То одно поставишь, то другое. И песни на английском, на французском говорили мне о других мирах.
Лучше всего было, когда я формально заболевал (температура 37,5°) и утром уходил гулять, пока днем не позвонила мать с работы. Шел я в близлежащий парк. И в голове всегда вертелось несколько этих пластиночных песен. Я брал одну из них, как бы впитывал ее в себя, переживал ее заново, мир этой песни. Потом переходил к другой. Возвращался. И так далее. Мне видится один из таких осенних дней. Ветер гонит листья по тротуару, некоторые обтекают твою ногу, некоторые дрожат и трепещут у твоей ноги, пока ты не шагнешь ей. Сам парк со своими осенними деревьями. Его красота, немота. Я шел с этими песнями в голове, с этим садом вокруг меня, впадая в какой-то тихий транс…
Дверь подъезда хлопнула позади меня, и я сразу же расстался с состоянием «дома», вступив в состояние «в людях». Через наш двор по слякоти лучше было не идти; я свернул налево и пошел по большой улице, почти проспекту, с трамваями и троллейбусами помимо автобусов. Я шел к автобусной остановке. Что я видел на пути?
Вот девица отрешенно бредет мне навстречу, внезапно, поравнявшись со мной, она зевает мне в лицо, ее лицо разворачивается в зевке как цветок, на мгновение я вижу ее зависший язык, овально закругленный, как боеголовка, бордовый, будто напомаженный; три парня переговариваются у ларька, вроде бы нормально разговаривают, но их речь отрывиста, они как будто понукают друг друга; вот пятиэтажный дом на другой стороне, хмуро глядящий на меня своими похмельно-заплывшими, вертикальными глазками, не хватает только тяжелого хамского сопенья на выдохе, тут же подоспело холуйское солнце, чтобы как-то скрасить хамское безобразие этого дома, но, как это часто бывает с холуями, сослужило ему медвежью услугу — он только еще больше предстал во всем своем препохабии; рядом стоял другой кирпичный дом, я увидел другую кирпичную стену, и мне вдруг открылось, что это огромная вафля, не более чем вафля, и мне захотелось надавить на нее фалангой пальца, чтобы переломить ее, услышать вафельный хруст, увидеть, как будут осыпаться красные крошки; медленно, трясясь, как подвода, едет легковая машина, и в ее побитом крыле я вдруг узнал яйцо, побывавшее в пасхальных битвах. Я встретил пуделя, стоявшего у обочины, а его хозяйка метров за двадцать звала его почти умоляюще, и даже пригласительные жесты руками она делала как можно более плавно, чтобы неожиданной их резкостью ненароком не отвратить его; пудель стоял набычившись, подавшись вперед, как бы набрякнув, на всех своих четырех лапах, вид у него был вдребезги пьяного, сейчас он скажет: «Не желаю!» — и, тяжело шатаясь, решительно зашагает куда-то, не разбирая дороги. Второй пудель, встреченный мной метров за пятьдесят от первого, был послушно влеком своей хозяйкой, у него было пьяно-плаксивое, пьяно-слюнявое выражение лица, и через всю морду наискосок у него шла темная полоса, небось в кабаке его так угостили, и вот сейчас его тащат домой, пьяного, униженного, вконец несчастного, дома он будет клясться, что больше не возьмет в рот ну ни капли, он будет целовать крест, втридорога выкупленный хозяйкой из кабака…
Впрочем, довольно. Что это со мной? Надо просто идти на автобусную остановку.
Автобус, успевший сделаться довольно набитым, подкатил быстро. Мне повезло и дальше — я поймал верхний поручень. А что в поле моего зрения? Какая-то кожаная спина поигрывает кожаными морщинами, как мышцами. Дамская рука возле моей руки на поручне, с въевшимся в палец толстым золотым обручальным обручем. Сидящая девица, коротко по-спортивному стриженная, погружена в чтение цветастого, тяжелого, глянцевого дамского журнала.
День набирал силу. Свет в домах, там, где он еще оставался, становился все жиже.
Вообще-то мне нужно было в военкомат. Не знаю, зачем это им понадобилось. Армия мне уже давно не грозит. Нет заведения, отвратительнее военкомата. С ним поспорить может только больница (хотя мерзость там другая). Очередь, разумеется. Дел на пять минут, очередь на час. Два окошечка и тетки за ними. В военкомате я увидел: длинного парня в изрядно потертой желтой кожаной куртке, по профессии электросварщика, как я понял из его ответов на голос из окошечка, видел я его, так сказать, в полузатылок, и мне все время казалось, что он не перестает улыбаться, я подивился этакому легкомыслию в подобном месте, потом он повернулся, и я увидел, что у него заячья губа; я услышал чей-то голос, непривычный к длинным связным фразам, обиженно гудящий: «И что мне делать? Опять туда идти? Так они скажут…» и что-то в этом духе дальше; непонятно о чем переговаривающуюся супружескую чету, примерно моего возраста, но состоящую в застарелом браке, это было видно по привычному, ничем не выводимому раздражению, с которым они переговаривались; сосредоточенно грустную, потупившуюся девушку, прижимающую обеими руками свои бумаги к груди, что невольно придавало ее облику нечто молитвенное; мающегося, расхристанного субъекта, все шоркающегося, торкающегося, по-видимому в бесплодных поисках самого лучшего места, чем он, вероятно, всех утомил, во всяком случае меня, иногда он ненадолго затихал у стены, прикрыв глаза и запрокинув голову так, что она плотно ложилась макушкой на стену, — он как будто решался наконец сдаться на милость судьбы, но какой-то протест снова накипал в нем, и опять начиналась его малопонятная двигательная активность; довольно пожилого уже дядю, раза в два постарше тутошнего среднего возраста, одетого, пожалуй, слишком тепло, судя по его распаренному виду, распаренному и несколько, как мне показалось, расстроенному, даже какому-то униженному, словно его нарочно поместили вместе с малышней в качестве позорящего наказания; тетку, сидящую за соседним окошечком, и мне ее было не только видно, но и очень слышно — вся в ядовито-зеленом, глаз едва выдерживал, губы жирно, жадно накрашены алым, я бы сказал — насильственно курносая (как будто кто-то специально делал туфлей ее вообще-то не курносый нос), говорит грубо, сипло, как тетка с овощебазы; тетку за моим окошечком, небрежно скользящую взглядом по лицам и пальцами по бумагам, она мне и сказала, что по этому вопросу надо приходить по таким-то и таким-то дням по таким-то и таким-то часам, а я пришел не в тот день и не в тот час. Все.
Я вышел из военкомата. Стало получше, но не сильно. Я увидел машины, гоняющие лужи цвета кофе из бака, иногда ухающие в рытвины и тогда стреляющие из-под колес хлесткой веерной струей; серо-желтый длинный и большой дом, унылый, как дворняга, надпись на одной из его дверей: «Фирменный магазин», громоздкая, задубелая дверь была открыта, и за ней скрывалась небольшая, ровно и ярко зеленая дверка, выполненная с претензией на европейское изящество; так, под жесткими крыльями жука обнаруживаются прозрачные нежные крылышки; надпись «XEROX» у другой двери этого же здания и еще какую-то надпись, которую я не разобрал; опять машины, самых разных цветов, но их цветовое разнообразие не могло победить общую тусклость этого дня; столб с предвыборным плакатом, на котором я прочитал «Будем хозяевами своего города», у избираемого было такое лицо, что я невольно прочитал «хозяевбми»; трамвай, разгоняющийся с неожиданной легкостью; компанию перемигивающихся светофоров на перекрестке; далекую афишу с множеством неясных цветных отпечатков на ней.
Уф…
Таким образом, надо будет еще раз переться в военкомат. Ну да черт с ним. Под ногами — хляби небесные. Зима решила прикинуться весной. Я вдруг понял, что мне давно уже надоедает ветер, и почел за благо надеть и застегнуть капюшон, после чего взирал на мир через покосившуюся, прилегшую на правый бок букву «О». По лужам, с заквашенным в них снегом, и по остаткам гололеда, глядя под ноги, я пошел к автобусной остановке среди унылых домов-дворняг, раскорячив ноги и высматривая на труднопроходимом тротуаре волшебную нить, по которой будет пролегать очередной участок моего пути; приходилось еще приглядывать за не в меру ретивыми машинами, чтобы при неожиданной коварной подаче снизу в виде грязевого фонтана оказаться на высоте в этой увлекательной игре и как раз вовремя отпрыгнуть, невольно втянув живот. Минут пятнадцать этой кропотливой работы, и я буду на месте. Я вспомнил свой старый добрый военкомат. Вспомнил тамошнего майора Абрамова, со спокойной, не сомневающейся в себе наглостью лупоглазо разглядывающего тебя, прежде чем что-нибудь сказать, а то и не сказать, а просто отвернуться и пройти мимо. Там был еще какой-то непонятный старичок-ветеран, седенький и коротко стриженный, как и полагается ветерану, с орденскими планками на чистеньком черном пиджачке. Непонятно, что он делал в военкомате, должно быть, его там подкармливали, как бездомную собаку. Военкомат, наверно, был его любимым местом пребывания, и каждый прЕзыв приносил ему новые и новые подтверждения незыблемости порядка вещей; нигде, пожалуй, не вкусить этой незыблемости, как в военкомате. Я уже как будто видел его лицо, в памяти совершенно выцветшее в светлое пятно, но, однако же, имеющее вполне отчетливое выражение какого-то тугодумного согласия, сверхсерьезного одобрения; вот он кивает, размеренно, сосредоточенно: «правильно, правильно, правильно». Он уже вызывал у меня злость, этот орденоносный дебил, инвалид советской власти. Впрочем, скоро мне надоело о нем думать, и я выбросил его из головы, как выбрасывают использованный киношный билет.
Вот и автобусная остановка. Еще порядочно ехать до метро. Я постарался впасть в спячку и ждал автобуса.
Автобус подкатил, как развязный юнец на роликовых коньках. Ожидающие сначала все как один шарахнулись от него, памятуя о шоссейном половодье, потом толпа точно так же метнулась назад к нему, к родимому автобусу. Но давки, машинально ожидаемой мной, не было. Из автобуса вышел юный кавалер, ловким и несколько балетным движением подставив руку своей юной даме; та привычно, почти не глядя на него, спускалась, не забывая при этом чарующе улыбаться; за ними вышли еще один кавалер и еще одна юная дама, составив при выходе ту же конструкцию; юная дама спускалась очень ответственно и осторожно, напряженно улыбаясь, вглядываясь себе под ноги, своим простым и умненьким лицом она напомнила мне отличницу, у которой только физкультура слегка хромает. Параллельно со всем этим, в другой половине автобусной двери, тяжело, медленно, поэтапно спускалась старуха. Я помог ей выбраться. «Спасибо, спасибо», — машинально приборматывала старуха уже на тротуаре, не глядя на меня, не в силах справиться со все накатывающей и накатывающей одышкой; быстрыми, слабыми движеньицами поправляя выбившиеся из-под серого платка волосы. «Спасибо».
Я поднялся в автобус; мне даже удалось сесть. Мимоходом я вспомнил, как в автобусе, у входа, на горбушке над колесом, сидела кондукторша с сумкой на коленях; она была украшена ожерельем из билетных рулонов. Вспомнил, как я, второклашка, бегу на автобус; поздняя осень, очень холодно и пустынно, давно пора бы быть снегу, но его все нет и нет; я слышу дробные удары своих каблуков о заледенелую землю, каждый удар отдается кратким, мгновенно пропадающим эхом в пустом выстуженном воздухе. Голые черные прутья деревьев на фоне серого неба попадают в зону бокового зрения, они ходят ходуном, пока я бегу. На мне демисезонное пальто — это неуклюжее слово я узнал совсем недавно, когда пальто было куплено, само пальто такое же тяжелое, неудобное.
Это все было давно. А теперь на следующем сиденье, спиной ко мне, сидит тетка лет под шестьдесят, с тяжело, намертво привалившимися к ней двумя хозяйственными сумками, туго, до отказа набитыми. Она сама такая же хозяйственная сумка, огромная сумища, туго, до отказа набитая. Те две сумки — ее детеныши, спящие пока что мертвым сном. По черно-ребристому, как подошва, полу автобуса разлита вода, как будто кто-то из ведра окатил; можно даже увидеть, как вода перетекает на поворотах.
Тяжело среди людей. Тяжело…
В метро. Народу опять-таки немного. Стоят кучками, группками, поодиночке. И я среди них.
Наконец из тьмы с воем вырвалось чудище, похожее на электричку. Оно еще долго замедляло свой ход, обдувая сквозняками. Народу в вагоне набралось немного — как раз, чтобы не сесть, а стоять можно было вполне свободно. Это мой последний заход в общественный транспорт, дальше минут десять пешочком, и я на месте. Я не знаю города, в котором живу. Я вырос в пригороде и так и не узнал город. У меня есть несколько протоптанных крысиных тропок, я ими и пользуюсь. Тропка к родителям, тропка к бывшей жене, тропка к другу, тропка в магазин, где я покупаю пластинки классической музыки; теперь тропка к издательству, где я жажду заключить договор на перевод одной американской книги. Дело вроде бы на мази, но, разумеется, все может сорваться в последнюю секунду. Я в них кровно нуждаюсь, а они во мне — нет, ни кровно, ни как-либо еще.
Грохот и завывание метро позади, позади и передвижение по снежной каше; я все-таки не удержался и влез в лужу, так что левая нога, зараза, промокла. Я только сатанински усмехнулся. Конечно, что еще можно ожидать при этой погоде, в этом городе, на этой планете. Несколько минут я боролся с бессильным бешенством по поводу промокшей ноги, а заодно с бешенством по поводу того, что меня волнуют подобные пустяки. От любой ерунды я прихожу в ярость. Это несправедливо. Ведь любая приятная мелочь отнюдь, отнюдь не приводит меня в прекрасное расположение духа.
Вот, наконец, и парадный подъезд. Войдя в него, можно пойти направо, можно налево, можно пройти прямо и подняться по лестнице, а можно остаться ждать старомодного лифта, перемещающегося в сетчатом колодце, как шахтерская клеть. Я вошел. Налево просто так не пройдешь, вход туда сторожит милиционер, распертый бронежилетом. Но мне туда не надо, мне надо прямо по лестнице (или на лифте, которого у меня никогда не хватает терпения дождаться). Я пошел, скользя рукой по полированным перилам с крендельными загибами на поворотах. С детства у меня привычка скользить рукой по перилам, за что меня, бывало, даже ругали, если дело происходило в поликлинике — нахватаешься, мол, всякой заразы. Но я был непреклонен.
Вот и две смежные комнаты, которые мне нужны. За столом Екатерины Владимировны (она-то мне и нужна) никто не сидел. Впрочем, компьютер был включен, его экран мелькал звездным небом с меняющейся конфигурацией звезд. Бумаги на столе аккуратной стопкой, полчашки остывшего кофе. Похоже, кто-то надолго ушел. Напротив стола Екатерины Владимировны, под календарем за 1992 год, под его неописуемыми пейзажами, сидел юноша, сгорбившись, свесив руки между коленями, с выражением скорби на лице. Реденькие прилизанные бачки, в сущности говоря, вихры, прилизанные слюнявым пальцем. На что рассчитывают люди, носящие такие бачки? Одет он был в свитер, в котором, по-моему, можно только работать на огороде. Впрочем, тот, кто живет в стеклянном доме, не должен швыряться камнями — у меня штаны давно не стираны, отливают рыжим.
Я подумал, не зайти ли мне в смежную комнату и спросить, но не решился.
— Вы не знаете, Екатерина Владимировна здесь? — обратился я к юноше.
Он обидчиво пожал плечами. Я не понял, относится ли это пожатие к Екатерине Владимировне или ко всему мирозданию в целом. Но тут из смежной комнаты вышел некто осанистый. Солидное пузо оттягивало рубашку.
— Вам что, молодой человек?
— Катерины Владимировны сейчас нет, вы не знаете? — спросил я, боясь запнуться, от волнения назвав Екатерину Владимировну Катериной Владимировной, да и сам вопрос прозвучал раболепным приглашением к отрицательному ответу.
— Екатерина Владимировна заболела.
— А… Когда можно позвонить?
— Когда выздоровеет.
Он решил быть строгим со мной.
— А-а… Ну извините.
Я повернулся и пошел. Плохо быть просителем. Какое-то подлое чувство на душе не оставляет несколько часов.
Ну, ладно, уже на улице пытался я утешить сам себя. Денег немного, но при спартанском образе жизни хватит. Не хватит, деньги я мгновенно просвистываю на любую дурь и потом сижу на макаронах и один и тот же чай завариваю по три раза. Придется опять ехать к матери за деньгами. Ненавижу это занятие. Так будь тогда мужчиной, зарабатывай деньги сам, а не занимайся этими глупыми переводами, один нищенский договор в год, видимость одна. Ну, как же, я все-таки «работаю», «искания» у меня. Зарабатывай сам, и тогда не придется никому кланяться. А то больно мы гордые с такими доходами. Весь в этих не очень приятных мыслях, я и вошел в ту же самую станцию метро. Впрочем, жизнь продолжалась. Вот татаристая девица с вогнутым носом, с ноздрями, глядящими на волю, как-то порнографически сосет мороженое. Вот два мужика, оба лысых, но один отпустил густые волнистые патлы, так что его голова стала напоминать медузу, а у другого, наоборот, коротко стриженный розовый затылок просвечивал сквозь седину; они, прервав полностью поглощающий их разговор, прошли сквозь метрошный контроль, каждый при этом приподняв свой портфель жестом, каким в старину, должно быть, приподнимали юбки. Мамаша с коляской привычно выруливает среди толпы. Доносится далекая гармошка. Ростовщические пальцы выпихивают и выпихивают из окошечка желтые металлические кругляшки…
Я опустил жетон, прошел невредимым между Сциллой и Харибдой и ступил на ребристую, уходящую из-под ноги ступень эскалатора. Неприятный итог поездки в издательство стал немного отступать, затягиваться. Я уже доехал до середины эскалатора. Какие-то мыслишки, душевные поползновеньица, как это всегда бывает, неспешно копошились в голове…
— Выпить хочу! Точка! — вдруг грянул (внутри меня, разумеется), покрыв все, властный, не допускающий возражений голос.
Это было внезапно, как инфаркт, и сильно, как сцена убийства старухи-процентщицы.
Я заюлил. Денег мало. Но все равно придется переться к матери. А сколько я не пил? Уже вроде довольно долго… Прикинул: оказывается, три дня. Но деньги, ведь я только недавно был у матери…
— Плевать! — прозвучал тот же голос.
Я не знаю, почему я сопротивляюсь, когда мне хочется выпить. Не поломавшись, я не могу. Ведь мне плевать, что обо мне думают другие. Штаны у меня отливают рыжим, и левый каблук отваливается. Мне почти все равно. Все-таки «почти» все равно, а не все равно. По-видимому, огромная разница. Я боюсь опуститься. Быть бомжом, собирать бутылки, питаться на помойке — этого я боюсь. Боюсь — не будем врать — именно мнений нормальных людей, как я буду выглядеть в их глазах. Какие-то социальные инстинкты все-таки вбиты в меня накрепко. Вот почему я до сих пор не спился. Есть еще одна причина — мало денег. Но мне она кажется менее важной.
Я ехал вниз, все больше отдаляясь от ларьков возле метро. Внезапно я почувствовал, что мне душно, душно не телу, а мозгам. Череп слишком мал для моих мозгов, надо бы отворить его, чтобы мозг подышал. С этим ощущением мозгового удушья я вошел в вагон. Я даже шапку снял, даже оттянул пальцем воротник свитера и рубашки, чтобы хоть как-то уменьшить духоту, хотя духота была не там. Голос больше не звучал. Ему главное, чтобы процесс пошел, а дальше не его дело. Испытывал ли я острую жажду выпить? Нет. Но я знал, математически знал, что если я выпью, эта мозговая духота исчезнет. Кто бы не выпил в таком положении? Но я ехал и ехал. На одной остановке привалила целая толпа, и я оказался зажат со всех сторон. Я так разозлился, что у меня появилось жгучее желание выйти, сорвать злость; но я тут же поймал себя за руку, понимая, что это лишь предлог, чтобы выйти из вагона, потом из метро и подойти к ларькам. Вдруг — без всяких внешних причин — я почти ощутил вкус холодного пива во рту, и во мне мгновенно, как промокашка, пропитанная бензином, вспыхнуло желание выпить, немедленно выпить, выпить во что б это ни стало. У меня аж втянулся живот, и начало резать глаза от выступивших слез. Черт, мы как раз только что отъехали от очередной станции. Я чуть не топнул ногой, по-детски капризно, как ребенок, которому не хотят покупать игрушку. Но, как говорится, все имеет конец, и мы все-таки подъехали к следующей станции. Я очень корректно выговаривал: «Вы сейчас выходите?», «Разрешите пройти», раз пришлось перелезать через тележку с багажом, я очень вежливо извинился два раза. Я был сама вежливость и корректность. Я уже знал, что сейчас произойдет. Напряжение во мне оставалось, только начало медленно-медленно спадать. Я твердо подошел к поднимающему эскалатору и твердо стал на твердую ступеньку. Со стороны я был спокоен, как разведчик перед вылазкой. Но внутри меня бушевало нетерпение. Я еле удерживался, чтобы не дрыгаться, как человек, которому очень хочется по-маленькому, еле удерживался, чтобы не подталкивать эскалаторный резиновый ремень.
Я не знаю, алкоголизм ли это, или просто необузданность желаний. Нарколог сказал: формирующаяся патологическая зависимость от алкоголя. Ну, еще только «формирующаяся»…
Железным шагом я прошествовал к ларьку. У ларька была небольшая очередь. У других ларьков тоже. Так, это ничего. Очередь быстро кончится. Мне представилось, что череп у меня с навинчивающейся крышкой. Как бы сейчас мне хотелось ее отвинтить! Чтобы хоть немножко подышали мозги. Душу бы размягчить… Чтоб отмякла, отмокла… Пошел мелкий снежок, или он все время шел, а я только сейчас его заметил. Я подставил снегу свою горячую голову. Стало немного легче.
Что-то все стоим, стоим.
Что ж очередь не идет совсем, мать ее так?! Заснула она там, что ли?!
Наконец я у самого окошечка. Теперь я хозяин положения.
— Две девятки, пожалуйста, — негромко, с достоинством говорю я.
Она переспрашивает.
— Две девятки, пожалуйста, — уже громче повторяю я, все так же, с достоинством, хотя говорить, повысив голос и одновременно с достоинством, не так-то легко.
А внутри меня: давай пива скорее, мать твою! Не видишь, что ли, что творится с человеком, муха сонная?!
Девятка дрянная вещь. Но крепкая и дешевая.
В руках у меня две открытые бутылки. Я стою в межларечном пространстве. Хотел стать как можно дальше от людской толкотни, но не пускают наваленные друг на друга картонные коробки. На душе торжественно, как будто я стою на пьедестале почета и под звуки государственного гимна сейчас на меня навесят золотую медаль. И еще я чувствовал, что сегодня буду пить сколько мне угодно. Сегодня — мой день!
Ну, с богом!
Судорожно сжималось горло, пресекалось дыхание, мешая глотать.
Ну все, пошла расслабуха. Я наконец дышу, мои мозги дышат. Я все больше и больше тонул в блаженстве, даже с одной бутылки.
«Я изнасилован алкоголем, — сладко думал я. — Изнасилован алкоголем».
Пустую бутылку у меня сразу же взял из рук какой-то угодливый старичок, стоявший над душой, пока я пил.
После первой надо покурить. Я делал глубокие затяжки, но практически не выдыхал дым, он как бы вываливался из моего рта вверх.
Принялся за вторую, уже не как за первую — как будто на спор, кто быстрей выпьет, — а не торопясь, со вкусом. С наслаждением ощущал, как пиво всасывается в стенки желудка. Старичок, было исчезнувший, опять появился.
— Слушай, отец, — обратился я к нему, с удовольствием чувствуя, что говорю уже пьяным голосом, — дай пива попить нормально, сделай милость. Будет тебе бутылка.
Старичок закивал, заулыбался и опять исчез куда-то.
Все будет хорошо. Да. Все будет хорошо, старина. Мозги дышали, и живот больше не втягивался. Я впадал в забытье наяву. Ничего мне было не надо, только вот так стоять, курить, смотреть на людей, превратившихся из объектов недоброго наблюдения в славных, в сущности, ребят. Я стоял и просто курил. Медленно вздыхал. В руках у меня была пустая бутылка. Я как будто чтил чью-то память молчанием.
Век бы так простоял.
Появился тот самый старичок, с японскими ужимками взял у меня бутылку.
Все, с чем я живу, все, с чем мне приходится жить, — разменянный непонятно на что четвертый десяток, сын, которого я редко вижу и совершенно материально его не поддерживаю — это делает мать для своего обожаемого внука, договор, который хоть вот-вот и заключат, но тогда придется производить по нему работы, — а я их ненавижу; все это обратилось в пыль, в ничто.
Почему-то вспомнилось:
Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт.Я представил, что это я пришел с войны и не застал свою жену в живых, я стою на ее могиле и разговариваю с ней, с мертвой. Прошу прощения у нее, которого теперь уж никогда не дождешься. «Не осуждай меня, Прасковья» — так, кажется? Прасковьей звали и мою бабушку. Я вдруг так представил себя этим солдатом, уже пожилым, с бурым лицом, в седине, в морщинах, пытающимся свернуть козью ножку дрожащими, неслушающимися пальцами, что и у меня, того гляди, покатится слеза несбывшихся надежд.
И еще, по той же ассоциации с войной, вспомнилось:
Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.Мне когда-то нравилась строчка «с кровавых не пришедшие полей», тогда я еще не знал строчки Блока «с галицийских кровавых полей».
А вот что убитые солдаты превращаются в белых журавлей — меня прямо-таки потрясало. Как они тянутся, тянутся над землей, белые.
Вспомнилось: идет пионерское мероприятие. Все в белых рубашках, в красных галстуках. Света нет, только горят несколько свеч. Кто-нибудь один за пианино. Небольшой смешанный хор выводит: «Мне кажется порою, что солдаты…» Прямо-таки пробирало.
Что-то мне взгрустнулось, хотя и по-алкогольному сладко. Рыдать, оплакивать — это моя специальность. Для меня по-настоящему только рыданье — сладко.
Но все хорошо в меру. Довольно грустить.
Я вышел из своей межларечной щели, как актер из-за кулис, вызванный оттуда овациями. Я, так сказать, дарил себя миру, о чем, разумеется, мир и не подозревал. Все вокруг плыло, горело. Надо бы усугубить радость. Но еще брать девятку — многовато, можно нарваться на свирепых метрошных ментов. Я остановился на компромиссе: «Невское крепкое», 0,33.
В вагоне метро пришлось стоять. Я оказался за девушкой, стоящей ко мне спиной. Ее волосы были забраны вверх; какая нежная у нее была шейка, какие нежные, выбившиеся из общего зачеса, волосики. Я стоял, стоял. И очень деликатно, очень нежно поцеловал ее в шейку. Я даже не поцеловал, я просто легонько-легонько коснулся губами. Она, разумеется, почувствовала, даже как-то трогательно скособочила свою головку. Но не обернулась. Других я вообще не видел, угол зрения был узкий, пьяный.
Вышел на своей станции. Решил пока домой не ходить, просто поболтаться. Все было ярким, переливающимся. Горячая веселость во мне уже достигла своего апогея; она уже чуть не переливалась через край. Все приводило меня в восторг. Вон тройка ментов идет, прочесывая толпу. Я слегка как-то затуманился при их виде. Но, в конце концов, должен же и этим кто-нибудь заниматься? «Все менты мои кенты» — чуть не сорвалось с языка. А вот это было бы зря. Язык мой — враг мой. Ноги несли меня даже не туда, куда глаза глядят, а куда им самим было охота. Я нисколько не возражал. Все было ново и интересно. Хоть и эта толкотня у метро, ларьки, газеты мне знакомы больше, чем свои пять пальцев. У магазинчика стоял алкашистый мужик с собачкой на руках. Она смотрела вниз, можно было подумать, что ей неловко за своего опустившегося хозяина. Такая маленькая, нежная, беленькая собачка. Мужик подобострастно-нахально окликал прохожих и призывал купить ее. Но никто пока не польстился. На меня мужик и не взглянул. (Было бы странным обратное.) Повинуясь какой-то инерции, я вошел в магазинчик. Там, среди ветчин и колбас, нездоровой полноты тетка уписывала за обе щеки батон, отщипывая крупными щипками кусок за куском. У нее было широкое, румяное, несколько дауноподобное лицо. Секунд двадцать я оглядывал это пиршество жратвы. Потом вышел, взглянув в последний раз на какие-то шпикачки. Мужик с собачкой все так же стоял у входа, сникший, тихий. Собачку никто не покупал. Я стал, чтобы покурить, с другого бока. Мы с мужиком, как два швейцара, стояли у входа.
Из медленно проходящей мимо машины до меня донеслась джазовая труба, ее жесткое, сухое чириканье, несколько как бы даже раздирающее слух. Большая редкость — услышать джаз на улице. Пару секунд я слышал ее, ее головокружительный, акробатический пассаж. «Головокружительный» — так, очень точно, прозвали знаменитого джазового трубача. Навряд ли это был он, но похоже.
Как когда-то я увлекался джазом! Почти даже не «увлекался», а «занимался». Выменивал редкие пластинки, читал идеологически выдержанные ломтики, изредка появлявшиеся в советских журналах. Из картинок больше всех мне запомнилась, запала в душу одна: стоит негр, прикованный за обе руки, и смотрит на тебя глазами Маяковского. И подпись: «У истоков поп-музыки. Черно-белая гамма». Картинка не врала. Так все и было.
Из-за этой мимолетно услышанной трубы секунду я был не здесь. Что ж, пора возвращаться в реальную действительность. Или в действительную реальность. Не знаю, как правильно.
Ах, мне ж надо еще и водки купить. Выстояв небольшую молчаливую очередь, я купил водки. Еще пришлось чуть подыстратиться на пакет. И я, уже порядком поддатый, пошел по финишной прямой, по снегу с грязью, к своему парадному, водка отягощала пакет. Когда я вошел в квартиру, то первым делом поставил пакет с водкой на кухонный стол; главное сделано, а раздеваться можно еще хоть полчаса. Но разделся я быстро. Та-а-а-к… Приступим к ритуалу. Ставятся две чайные чашки, одна с водой, другая под водку. Я сел за стол, смотрел на две чашки с неотличимыми жидкостями в них. Я чувствовал так, как будто сорок веков смотрят сейчас на меня. Действительно ритуал. По крайней мере, мне всегда надо посидеть перед дорогой. Ну, отцу и сыну. Так, если верить повести «Казаки», говорит казак перед тем как выстрелить. Недавно я перечитал повесть «Казаки». Это очень хорошая повесть. Водка по сравнению с пивом — это столб огня по сравнению с газовой горелкой. Я даже снял свитер, зная, что сейчас бросит в жар. Бросило. Начнем водочно-музыкальную оргию. Я поставил «Нирвану» и отправился бродить по комнатам (по комнате и кухне) с болтающимися впереди руками, как у человекообразной обезьяны. Да! Что-то и тихо, и водки мало. Исправим и то, и другое. Вот теперь музыка имеет полную силу. Водки я набухал почти полную чашку. Начал пить… со мной чуть было не случился припадок падучей, но я все-таки достиг дна. В желудке сразу зажгло. Щас вдарит по балде. Я шлялся по квартире, цепляясь за стены чем только можно — руками, ногами, грудью, животом. Наконец наступил экстаз. Я был и остался человеком экстаза. Человек экстаза — пожалуй, так, это лучшим образом меня определяет. Мне мерещились беснующиеся толпы на стадионе, музыканты, носящиеся по сцене. Добре, сынку, добре. Добже. Вывернуть себя в экстазе, — что может быть лучше, или даже не лучше — славнее. А себя как следует вывернуть не можете, чтоб были одни сплошные губы. Почему же не можем, — можем, только не так хорошо. Впрочем, к автору этих строк мы еще будем не раз возвращаться. Сейчас явится соседка справа и интеллигентно попросит сделать музыку потише. Я сделаю музыку гораздо потише и лягу головой у самой колонки, а то и вовсе вырублю ее для окружающих, а сам влезу в наушники. Захотелось послушать что-нибудь другое. Можно, например, Девятую симфонию. Или нет, Крейцерову сонату. Как-то ко мне приезжал знакомый рок-музыкант, и я поставил ему Крейцерову сонату. Ему очень понравилось, но интереснее было другое: он нашел, что это водочная музыка. И я тот час же согласился, как будто, как говорится, пелена спала с глаз. Бетховен, действительно, — очень водочный композитор. Сколько я его переслушал в пьяном виде — один, чтобы никто не мог помешать моим экстазам — и фортепианные сочинения, и камерно-инструментальные ансамбли, и симфонические произведения. Нет для водки лучшего композитора, чем Бетховен. Вот сейчас я извлеку из косой, частой вереницы пластинок Крейцерову сонату. Это будет делом нескольких секунд. Пластинки у меня содержатся в порядке. И Бетховен представлен неплохо. Хвастаться моей коллекцией знатоку, конечно, смехотворно, но простому человеку, вроде меня, — можно. Куча Шуберта — самые крутые произведения (а их немало) и большое количество всяких ошметков (если есть десятая часть — я обрадуюсь). И Малер, и Брукнер, и Брамс, и Шуман. Рахманинов (45 опусов всего у этого бедняги). В Рахманинова я был самым натуральным образом влюблен (в композитора, в человека, в его душу, хотя у меня до сих пор нет приличной книги о нем; я горжусь, что родился приблизительно в тех же местах, что и он), да нет, я был больше, чем влюблен, я был помешан на нем. А раньше на Шумане. Моцарта куча. Вивальди, Бах. Ну и еще много разного. Словом, я — любитель, настоящий, от слова «любить». Много денег я перетаскал в кассу филармонии, где продают пластинки, но зато и унес, трясясь нервической дрожью, — пластинки не хотели лезть в сумки; а дома дрожащими руками ставил на проигрыватель очередной шедевр. Только Скупой рыцарь понял бы меня, когда я вставлял в свою вереницу пластинок еще две-три. Ну ладно, теперь назад к моей водочно-музыкальной оргии. Итак, звук я вырубил, остался в наушниках — быть прерванным посреди экстаза мучительно, горько, больно; немногим лучше все время ожидать этого — так что сидите в наушниках, друзья, вас не обломает ни дверной замок, ни телефонный; еще хорошо бы, если бы дома никого не было.
«Помните ли вы это первое Presto?» Помним, помним, не беспокойтесь. Его-то мы сейчас и слушаем. Я лежу на полу, рядом со мной бутылка водки (урон в ней уже огромен), две чашки и электрочайник с холодной водой из-под крана (не горячей же запивать водку). Ну вот и кончилась первая часть, началась вторая, «с пошлыми варьяциями», а вместе с первой частью кончилась и водка. Ну что за занудство брать одну 0,5? Пришлось кое-как одеться, обуться и побежать еще за бутылкой. Не ждать же лифта; я сбегал по лестнице, как веселый школьник, только что отпущенный с уроков. Весенние ветры обтекали лицо и шею. Вот и ларек. У ларька я ронял бумажки в месиво, поднимал их и обтирал об рукав. Заново окрыленный, я быстро побежал туда, где меня ждали Бетховен, электрочайник и две чашки. На обратном пути пришлось подождать лифта, хуже того — с соседкой, живущей со мной на одной площадке. Вид у меня был весьма красноречивый. Ладно, я свободный гражданин, в конце концов. В лифте соседка избегала на меня смотреть, я на нее тоже. Разбрелись по своим углам. Я вернулся к экстазам. Но увы, вторая часть «с пошлыми варьяциями» меня больше не цепляла. Ну, значит, надо выключить эту пластинку и поставить новую. С бессмертными шедеврами я обхожусь просто, утилитарно — надоело или ты уже словил свой экстаз, значит выключаем, нечего тут цацкаться, а то если из чувства уважения позволить пластинке доиграть — с экстазами будет покончено. Кстати, пора бы открыть водку, да заодно и продегустировать. Я был на кухне, и моих двух чашек не было. Вместо них на сушилке оставалось нечто вроде детского песочного ведерка без ручки, черное. Какая разница, за другой-то чашкой все равно надо идти… А мы из горлышка. Чисто эстетически. У меня чуть не лопнули глаза (где-то я встречал такую божбу: «лопни мои глаза»), но все-таки я остался при глазах, а в желудке разразился новый пожар. Так, и что же будем теперь слушать? Я устроил смотр своему пластиночному фронту. Р-россии хочу. Хочу России Бунина и Рахманинова, той страны, где я хотел бы родиться и жить, да вот не довелось. Я выбрал заигранный, но оттого не менее гениальный Второй концерт для фортепиано с оркестром.
Удар, пауза, удар, пауза, удар, все сильнее, все громче. Вот как будто что-то перекатывает клавишами. И вот медленным смерчем, теряющимся в грозовых тучах, начинает разворачиваться знаменитая мелодия. Сама Россия. Сама Россия, по которой я тоскую, потому что нигде не вижу ее. А смерч втягивает и втягивает в себя; я уже не вполне в своем уме, я гужу, раскачиваюсь из стороны в сторону, и слезы облегчения текут по лицу; я их не утираю, со слезами как-то оно слаще. Я ведь, как я уже говорил, большой специалист по части экстазов и слез из ничего не видящих глаз. А вот та же мелодия, но уже в другом ритме, с каким-то торжествующим каторжным приплясом; рассудок окончательно вышибает из моей головы; я невменяем. Чтобы вернуть рассудок, необходимо угоститься, потому что дальше я уже не вынесу. Да, говорю я, да. Говорю я это самому Рахманинову. Да. Да, Сережа. Да, Сергей Васильевич. Что «да», я и сам не знаю.
Я пьян вдрабадан, в сосиску, в мясо. Но я могу довольно много выпить (я развил в себе эту способность). Могу и связно говорить, и спорить, хотя наутро ничего этого не буду помнить.
Первая часть кончилась, и я вырубил. Она заканчивается четырьмя могучими звуками на фортепиано — и все, словно топор тяпнули напоследок в чурбак, оставив его так.
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было, было в Одессе.
Приду в четыре, сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Я сидел на стуле, держа руки на бедрах, и слегка раскачивался. Было похоже на молитву. Впрочем, почему «похоже»? Для меня это и есть молитва. Стихи Маяковского и есть моя молитва. Пусть мое преклонение перед Маяковским говорит о моем дурном вкусе — плевать. За пару стихотворений Багрицкого я отдам всего Кузмина, а еще за пяток — и Анненского в придачу. Пусть я нетонкий человек, пусть. Я думаю, все основатели нашей европейской культуры были нетонкими людьми. Как-то не до тонкости им было. Тонкость — это уже наполовину вырождение, если не оно само.
Я громко читал «Облако в штанах», стараясь чеканить. Если соседи слышали меня, то они, должно быть, мелко крестились. У меня есть один образ, связанный с «Облаком в штанах». Я гляжу на скопление облаков у горизонта. Вдруг одно облако отделилось и поплыло ко мне. Оно еще далеко, но я уже понимаю, что его цель — я. И вот оно приближается, приближается, и вот оно уже накрыло собой все. Это облако и есть — «Облако в штанах». К третьей части у меня сел голос, но я счел своим непременным долгом дочитать всю поэму (ничего подобного почему-то не происходило с дослушиванием пластинки до конца), и я сиплым голосом вбивал и вбивал слова в воздух. Какие то были слова! Они сами грохотали, перекатываясь, во рту.
Город дорогу мраком запер.
Обрызганный громом городского прибоя.
Поэма дочитана. Звенела голова. Хотел было прочитать «Флейту-позвоночник», но сил больше не было. Я неандертальцем ходил по квартире. Маяковский с Бурлюком сбежали с «Острова мертвых» Рахманинова. Дураки. Ницше про увертюру к «Манфреду» Шумана сказал, что это насилие над Евтерпой. Дурак.
Самое время звонить сейчас знакомым. Трезвому мне абсолютно не о чем ни с кем говорить. Немного поколебавшись, я могу назвать и причину этого — я слишком презираю всех окружающих. Но пьяному — о, это другое дело. Что-то важное (или кажущееся таковым) всплывает в душе — о нем и хочется поведать своим не то коллегам, не то сокамерникам, не то даже соратникам — пьяному мне становятся равны все. Пьяный я никого не презираю. Одно плохо — звонить практически некому. Своей бывшей жене? Мне отчего-то иногда охота ей звонить и говорить с ней немножечко свысока. Чтобы показать ей, что вот, мол, и без тебя не пропал? По-моему, не поэтому. Не знаю. Не знаю зачем. Можно попробовать, хотя безнадежное дело. Але! Ты? Пьяный? Короткие гудки. Ну вот, пожалуйста. Хотя мудро с ее стороны, мудро. А может, другу позвонить? Пусть-ка выслушает надрывную исповедь прекрасной гибнущей души минут на сорок. Но нет. Есть все-таки и для меня какие-то границы. О! Позвоню одной знакомой поэтессе. Я когда-то домогался ее, но был с позором отвергнут. (Каждую женщину, не принадлежащую мне, я воспринимаю как личное для себя оскорбление.) Теперь у нас с этой поэтессой некая полушутливая полудружба. Набрал номер (телефонной книжки у меня нет, есть пяток номеров, которые мне постоянно нужны, я их помню и так, а остальные валяются записанные на разных клочках). Трубку взяла сама. Сильно оживилась, услышав мой голос. Ей нравится меня слушать, потому что я с пренебрежением говорю о ее друзьях-поэтах, с пренебрежением за то, что они недостаточно мной восторгаются (нисколько), а ей просто нравится злословить. Я не слышал, чтобы она о ком-либо говорила хорошо, — всегда что-то весело-злое, не опускаясь, впрочем, до простой, некрасивой злости. Тут же стала рассказывать, что она в каком-то конкурсе поэтов заняла первое место, я было рассыпался в преувеличенных поздравлениях, но главное, оказывается, было не это; она заняла первое место, а Светка — второе, и теперь, представляешь, эта сука ходит и везде трендит… тут кончилось мое и так с трудом направляемое внимание, и я так и не узнал, о чем трендела Светка, я только вставил: я всегда говорил, что она редкая дура и пишет хреновые стихи; моя поэтесса только хохотнула на это и продолжала: вы говорите, что мои стихи в сборник не ложатся, зато Светка, наверно, хорошо ложится, да? ты так и сказала? удивился я; ну не так, приблизительно так, смысл тот. Она рассказывает что-то дальше, но я уже отключаюсь. Как жаль, что нас не интересуют дела друг друга, а только взаимная поддержка в злословии! Я люблю тебя так, как не любил никого на свете, вклиниваюсь я, мы уедем с тобой на Цейлон! Она хохочет, я тоже, все довольны. Все неотвратимее становится не о чем говорить. Вежливо поворковав на прощание, мы вешаем трубки.
Да, есть еще одно, за что я люблю изредка говорить с ней: она корит меня моим пьянством, но корит так, что получается, будто бы я гублю какой-то свой талант; так что укоры ее на самом деле — поощрительные.
Я сполз на пол и привалился к тумбочке, на которой стоял телевизор. Разглядывал снизу телефон (он тут же, рядом). Опять почему-то вспомнилась жена (уже три года как мы не живем вместе, а мне все никак не привыкнуть, что она «бывшая»). От жены мысли перетекли на сына, которого я не содержу и редко с ним вижусь — вообще мало интересуюсь. Подлец я перед ним. Подлец. Пусть сыночек полюбуется на такого папашу! Почему-то очень сладко было ощущать себя подлецом перед сыном. Я плюхнулся в это чувство, развалился там и ворочался, как свинья в теплой грязи. В этих мыслях о сыне и о собственной подлости я и уснул.
Проснулся я часа через четыре, крупно трясясь от холода всем телом, с адской головной болью в трех местах. Почему открыто окно? Тут же я вспомнил, что сам же его и открыл, потому что было ужасно накурено, даже сквозь дремучую пьянь я тогда это почувствовал. На миг мне показалось, что, пока я спал, в комнате хозяйничали какие-то чужие, казенные люди, расхаживали, делали что им было надо; спокойно, свободно нарушая, попирая неприкосновенность жилища; они и открыли окно. Но тут же в голове все встало на свои места. Но какой вкус во рту… да что вкус! Как ужасно болит голова! Но может быть, от вчерашнего что-то осталось?? И сразу вспомнил: да, осталось. Заснул я в интересной позе: колени на полу, корпус на кровати, голова повернута, чтобы дышать, — получалось, что я как будто к чему-то прислушиваюсь в толще кровати. Сел на полу. Где же водка? Я сразу забеспокоился. Поднял, собрал себя с пола; преодолевая мертвенную тошноту и головную боль, приволакивая левую ногу, зашаркал на кухню. Вот она! Стоит на кухонном столе, и две чашки рядом; все очень культурно. Оставалось еще где-то полбутылки, даже немножко побольше. Я выпил раз; выпил два. Какая тошнота поднялась во мне сразу! Сейчас вывернет. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Мучаясь, я стоял у стола, изо всех сил сжимая чашку, стараясь ни о чем не думать, потому что любая мысль могла вызвать новый позыв на рвоту. Но постепенно все улеглось. Я поставил чашку на стол, закурил. На душе стало спокойно-спокойно, хорошо-хорошо. И не по-пьяному хорошо, а просто хорошо. Я подошел к ночному окошку. Кое-где светились ночные огни, такие одинокие, такие разобщенные. Обычный ночной пейзаж, видимый из моего окна. Но что-то во всем этом было не так. Секунду спустя я понял, в чем дело.
За окном шел крупный рождественский снег.
Странно было видеть снег, идущий даже тогда, когда на него никто не смотрит.
Было два часа ночи.
Сейчас можно пойти и поставить чайник. Посидеть за столом, медленно прихлебывая чай. Не надо бояться, что не засну. Водка есть. Она навеет сон. А сейчас можно посидеть в своем собственном одиночестве.
Я стал думать о снеге, идущем сейчас за окном. Стал думать, а много ли значил в моей жизни снег? Получалось, что немало. Когда-то я жил в местах дачных для городского жителя. Когда выпадал первый снег, соседский мальчишка Гейка выбегал из нашего общего одноэтажного дома и начинал как полоумный носиться по двору, оря: «Первый снег! Первый снег!» В некотором волнении я подходил к окну и видел: точно, первый снег. Покрыл кусты у нас под окнами. Первый снег — это была какая-то веха. Мы с пацанами тут же начинали лепить снежки и кидаться друг в друга, а также швырять их в двери, где деревянные, где обитые. Двери скоро становились усеянными снежными ласточкиными гнездами.
Мне всегда казалось, что снег идет, чтобы прикрыть собой какие-то наши грехи. Грехи списаны, и можно грешить снова, пока новый снег не спишет и их. Помню, в рассказе Чехова «Припадок» герою было непонятно, как снег может падать в такой переулок. А по-моему, снег в такие переулки и должен падать в первую очередь. Истинно прекрасное и истинно великое, как снег, как звезды, как море, не разбирает чистых и нечистых.
Хорошо, что можно не бояться бессонницы. На этот случай есть водка. Только надо обращаться с ней экономно: выпить 50–70 граммов, когда начнет разбаливаться голова.
Я вижу себя сидящим в классе среди синих униформ, и сам такой же синий; парта наскоро, грубо выкрашена в нищенский, казенный цвет какой-то мутно-белой бурдой; кое-где даже остались следы грубого малярного волоса. Парта исписана, как туристская стена или как парадняк. Какие-то портреты развешаны по стенам. По доске скрипит и крошится мел, в основном пылью, но иногда и крошечной щебенкой. (Кстати, как давно я не обтряхивал мел с рук хлесткими ударами ладони о ладонь! Как давно не выколачивал его из штанов, где, несмотря на все усилия, все равно оставалось слабое, но заметное меловое пятно. А рука, вся изгвазданная лишенными четких контуров шариковыми пятнами; обычно много их было — целый неряшливый архипелаг — на том месте, которое мне хочется назвать яблоком большого пальца, вероятно, по аналогии с глазным. И особенно много этих пятен образовывалось, когда ручка начинала течь, и на ее пишущем острие всегда была видна синяя или фиолетовая сливочная слеза. Специально предназначенной для этого бумажкой ты то и дело утираешь эту слезу, утираешь энергично, как нос маленькому ребенку, но с ней ничего нельзя поделать, она набегает вновь и вновь.) Передо мной раскрытая общая тетрадь, а рядом с ней ручка, лежащая пока в ожидании. Вдруг в классе как-то посветлело. Я смотрю в окно и вижу, как с неба летят мягкие крупные хлопья снега, белые, кроткие и безгрешные, как агнцы. Они летят все в одном порядке, но без следов какого-то однообразия, монотонности. Иногда ветер ни с того ни с сего принимается за них, вносит сумятицу, разгоняет их, относит. Но очень скоро все опять как было. Сейчас трудно поверить, что на свете есть что-то еще, кроме тяжелого школьного воздуха. Но вот, оказывается, есть. Я смотрю на снег сквозь школьное окно. До чего сейчас тянет туда, наружу. Чтобы снег облепил лицо. Чтобы я в это время, когда воля недоступна мне, шел по улице, и каждый предмет, до сих пор покрытый эмалью ненавистной обыденности, абсолютной инструментальной понятности, вдруг превратился в прекрасного таинственного незнакомца. Дома, автобусы, троллейбусы, люди. И все это в снеговом убранстве. Вот автобус на другой стороне улицы, как бы нехотя, как бы снисходительно — налетай, подешевело — тормозит у остановки. Вот женщина, закрывшая пушистым воротником пол-лица, недовольно хмурит лоб, отворачивается от снега. Вот поспешают три молодых человека в дубленках, очень громко разговаривают, каждый стремится переорать другого; сливаются они только в общем гоготе.
И несть числа.
Я могу пойти направо, могу налево, куда захочу. И везде я буду испытывать мгновенное, легкое обмирание при встрече все с новыми и новыми таинственными незнакомцами…
Вся эта маленькая реминисценция заняла не больше двух секунд.
Заболботал и смолк кран.
Включился и ровно загудел холодильник.
Ночные звуки.
Ночные звуки в кухне, ночные звуки в моей душе. Звуки, отзвуки когда-то бывшей жизни. Я медленно подошел к письменному столу. Открыл ящик стола, где лежали листы, накопившиеся за много лет.
«Белая ночь не давала сомкнуть глаз».
Эту запись я сделал, воротясь из общежития, со свидания с женой. Тогда будущей. В квартире я был один, родителей почему-то не было. И действительно, стояли белые ночи. Внутри меня все было так же светло и чуточку нереально, как и снаружи. Нет, светлее. На душе было светло-светло. Во дворе галдела какая-то компания, они, похоже, прощались, но все-таки им не хватило общения за целый день, и окончательное прощание откладывалось и откладывалось. Их разговор отдавался эхом во дворе. И внутри меня каждая мысль, каждое ощущение отдавалось мимолетным, странным эхом. Я ходил по пустой квартире, не зная, куда приткнуться. О сне не могло быть и речи. Я был в состоянии какой-то пьянящей невесомости. Иногда в меня вбредали картины сегодняшнего свидания, и тогда я был готов подпрыгнуть и шлепнуть ладонью о потолок. Я не знал, что делать с собой. И тогда я сел за стол и написал:
«Белая ночь не давала сомкнуть глаз».
Белая ночь действительно пьянит меня, будоражит. Но что же написать дальше? Я просидел за столом довольно долго, но ничего больше не шло в голову. И я отступился. Так и осталась от этого свидания одна фраза. Помню еще необычную фиолетовую бумагу, на которой я писал. Теперь лист пожелтел на краях.
Да, на следующий день был экзамен. Но не осквернять же такую ночь прикосновением к конспектам? Экзамен я сдавал осенью.
«Мне было тогда лет девятнадцать. Стояла осень. На улице обдавало резким холодом, сыростью. По оконному стеклу бежали прозрачные ручьи. Взяв зонтик, я выходил и брел куда попало. Я смотрел на прохожих, на автобусы, на дома, на этот серый и светлый день. Все было ровно и безнадежно. Спускаясь по лестнице, я слышал коротенький мотивчик, предвещающий сигналы точного времени, ощущал запах жареной рыбы, в одном месте собака отзывалась угрожающим, нарастающим урчанием. Люди жили. И я жил среди них. Среди них, но не с ними. Выходил я вроде бы наугад, но бродил все по одним и тем же местам, по небольшому пространству, оно даже стало казаться замкнутым, настолько я привык в этих блужданиях не покидать его. Шел мимо громоздкого, отталкивающе коричневого дома, который все время, как себя помню, был на ремонте; выходил на небольшую площадь перед гастрономом, топтался там некоторое время, потом выходил к озеру, шел по берегу, глядя на серые, светлые волны, казавшиеся мне усталыми, утомленными за лето, но время упокоиться подо льдом все для них не наступало; наконец, почти тем же маршрутом я возвращался домой. Никуда идти не хотелось. Почему-то я очень хорошо помню эту осень. Чистые холодные ручьи все бежали, бежали по стеклам…»
Написано, когда мне было года двадцать три. А сейчас мне тридцать два. Уже в девятнадцать я был такой же, как сейчас. Правда, тогда еще не открыл универсального средства от всех скорбей.
«В детстве как все было близко. Земля, травинки, былинки, букашки. Основание заборной палки, врытое в землю. Потеки смолы, как потеки янтарной сгущенки, на темном, шершавом стволе ели. Странно не то, что это бесследно исчезло, странно то, что и память об этом почти исчезла. Иногда только что-то вдруг пробрезжит… и пропадет.
Даже раннее детство длилось долго. А после детства, — сколько всего еще было! И тоже теперь кажется — так давно».
Юношеские страдания, мучения… Какой чепухой кажется все это сейчас. А тогда — скажи мне, что твои страдания превратятся в чепуху — возмутился бы, не поверил.
«Когда-то давно мы жили за городской чертой. Зимой там все заносило снегом. Лес с одной стороны, лес — с другой. Мы жили на краю поселка, между двумя лесами, разделенными железной дорогой. Взглянешь в окно, выглянешь на улицу — везде снег. А подальше — плотно сомкнутые ели. Иногда проходят необязательные, несущественные люди. Еще бродят и трусят дворняги. Они составляют неотъемлемую часть пейзажа, в отличие от людей. Дворняги и их дерьмо, так хорошо заметное на снегу. Дворняги — вечны. Я помню тихую, покорную тоску, с которой я смотрел на снег, на ели, на дворняг. Я был очень мал и только узнавал мир, но уже понимал, что с миром спорить не приходится. Как медленно, томительно шла зима. Я думаю, что тогда я промерз в этих снегах насквозь, навсегда заблудился в этих дремучих елях».
Прервался.
Ложка, размешивающая сахар в чае, звучит громко и отчетливо среди ночной кухни. Размешиваю сахар и гляжу в стол. Изучаю расположение крошек. Боковым зрением увидел, как в соседнем доме, на последнем этаже, зажглось окно. Продержалось минуту и опять погасло.
«А может быть, это просто осень? Лист, медленно покачиваясь, падает с дерева; похоже, что он не падает, а погружается, тонет. Другой, наоборот, довольно уверенно идет вниз, у него вся тяжесть собрана в одном небольшом месте. Деревья, все еще полные идеально желтой, почти не поредевшей листвы, вызывают у меня, как ни странно, не цветовые ассоциации, а звуковые — они напоминают мне оркестры, играющие что-то прощальное. Эти оркестры, скопления деревьев, играют повсюду. И в воздухе, чистом, прозрачном, но все же не без оттенка некой дремотности, тоже проступает какая-то значительность, какое-то значение мига. Уже не актуальные плакаты „Скоро в школу“ еще висят кое-где. Грязи пока что нет. С моего балкона опавшие листья напоминают мне монеты, набросанные в фонтан. Чтоб вернуться…
Но что же это я? Я же имел в виду совсем другую осень. Темную, вечернюю, ночную осень. Ты лежишь на кровати, а в черном окне двоится отражение люстры. А рядом проходящее шоссе позлащено осенними светофорами, выявляющими все его выбоины и неровности. Позже светофоры отключают, и они бесполезно, бессмысленно пульсируют мандариновым светом. В этой осени можно заблудиться, в ее бесконечных лабиринтах, не имеющих ни входа, ни выхода. А за окном происходит битва каких-то гигантских, неведомых сил — ветер, темень, дождь — это только видимая часть битвы. Листья метутся по земле и иногда вдруг начинают яростно плясать, подобно искрам из разоряемого костра. Призрак умершего лета еще бродит где-то рядом».
«Лежать на чердаке, вдыхать запах сена. На чердачной дощатой стене слева — карта автомобильных дорог Ленинградской области, изодранная внизу. Потом лежать надоедает, ты спускаешься с чердака по шаткой, вибрирующей, почти живой лестнице. Пойти к реке. Ветер нагнал дождь, но дождь только начался, на реку упали только самые первые капли. Капельки. Они оставляют на реке следы такие же эфемерные, как следы на воде от лапок водомерки. Осень, осень…»
В каком-то забытьи изнеможенья, здесь человек лишь снится сам себе…
Непрочитанных листов становится все меньше. Как было много жизни. И как мало этих листов. Я прочитал уже, наверно, половину. Вдруг подумал, что, когда помру, это единственное, что останется после меня. И читающий эти листы так и не поймет, что за человек это был. Нет, наверно, понять кое-что все-таки можно. Эта мысль пропала, едва появившись. Не хотелось думать о грустном… Голова начала постепенно набрякать, готовиться ко сну. Это хорошо.
Еще чайку. И водочки.
Сидя в сортире, читал от нечего делать валявшуюся там газету. Набрел на статью о Зое Космодемьянской. Вернее, статья говорила о другом, но упоминалось там и о Зое. Все детство продолбали этой Зоей Космодемьянской. Оказывается, в тылу врага она ничего не успела сделать — ее сразу схватили и повесили. Повесили — это да. Это и нас так учили. Почему-то меня взволновала эта короткая судьба. Все оказалось страшнее и лучше, чем так, как нас учили. То, что она ничего не успела сделать, было как-то… сильнее, что ли. Чистый подвиг. Поволновавшись немного, я успокоился. В самом деле, куда мне было девать это волнение? На другой стороне газеты ничего путного не было.
Я вернулся к письменному столу. Полка была выдвинута, листы так и лежали, написанным вниз.
«В детстве меня считали блаженным. Что ж, я давал к тому поводы. Мог, например, шептать, спотыкаться, а то и размахивать руками. Правда, я уже и тогда смутно чувствовал в этом какую-то несправедливость. Чем, скажем, представлять осаду замка хуже, чем играть в футбол? А что касается шептания, то и футбольные игроки во время матча не слишком заботятся о том, как они выглядят. Не до этого им. И вообще — резвиться могут и щенки. А вот представлять осаду замка — вряд ли.
Тогда, правда, я вообще не думал об этом. Что ж, они — такие, а я — такой. Я не страдал от своей обособленности, тем более что относились ко мне в целом хорошо. С самого начала я понимал, что я не такой, как все. Мне и не хотелось становиться таким, как все. Я, мне казалось, и так неплохо устроился. И — странное дело — меня, скорее, удивляло не то, что я не такой, как все, а то, что все — не такие, как я.
Я никогда не доверял внешнему миру. Он казался мне не просто равнодушным, а прямо-таки враждебным. Если из него и шло что-то хорошее, то, как мне казалось, лишь по чьему-то недосмотру. Я не знаю, почему я так думал. Но думал я именно так. И стал возводить в себе внутренний мир в противовес внешнему, враждебному. И стал как можно старательнее этот внешний мир не замечать».
Теперь ясно, во что это вылилось. Чтобы жить, надо иметь подспудное убеждение, что мир, в конце концов, хорошо устроен. У меня этого убеждения никогда не было.
«Я читал скучноватые рассказы Грина, собирал марки, монеты — все лишь для того, чтобы укрыться в маленьком, бедном, но внутренне гармоничном мирке. Я изучал эсперанто. Я даже придумывал свой язык, наподобие германского. Большой мир был определенно велик мне. Там было слишком всего много. Много, беспорядочно, бессмысленно, как на гигантской свалке. Стройная грамматика несуществующего языка куда милей для взора, уютней для души. Единственный недостаток этих малых мирков — они быстро надоедали. Что ж, тогда я брался за другой мирок».
«Основное чувство, которое я испытывал в жизни, — скука. Всю жизнь я проходил, как неприкаянная дворняга, обнюхивая все, что попадалось на пути».
«Жалею ли я о чем-нибудь? Нет. Это и бессмысленно. Все равно, все было бы примерно так же. Что я имею в виду? Быть президентом или бродягой — это то же самое? Для меня — да. Все равно — плоть, ткань существования, существования как такового, осталась бы абсолютно такой же. Я ненавижу существование. Его ткань, плоть, не знаю, как еще сказать.
Только стоит мне увидеть, скажем, красивое облако или дерево и т. д., мерзкий вкус существования притупляется. То же самое происходит, если послушаю хорошую музыку или почитаю хорошую книгу. Более того, тогда мне кажется, что я больше чем существую.
Вижу, насколько это все неясно. Но мне никак, никак не выразиться яснее.
В сущности, в жизни у меня было только одно событие — сама жизнь».
Еще отрывочек.
«Человек не может выбирать себя. А это и есть главный выбор, от участия в котором человек отстранен. Один рождается неврастеником, другой здоровяком. „Тебе, дружок, и горький хрен малина, а мне и бланманже — полынь“. Никто не водил тебя вдоль витрины и не спрашивал: хочешь родиться этим? А этим? Напоминает сильно смягченную доктрину о предопределении».
Это уже поздние отрывки, сделанные года три назад.
Пожалуй, что хватит. Голова уже совсем сонная. Я допил остатки водки, расстелил постель, разделся, выключил свет и лег, зная, что засну.
Я проснулся днем. Я лежал в постели и лежал. А зачем мне было вставать? Вставать надо затем, чтобы что-то делать, а что было делать мне? Я давно уже не понимаю, зачем я вообще встаю каждый день. Чувствовал я себя отвратительно и лежал и лежал, ничего не ощущая, кроме этой самой отвратительности. Если бы вы знали, как хреново просыпаться с бодуна в одной и той же консервной банке, где я одинок, как консервированный краб. Видеть все те же обои, две больничного вида тумбочки по обеим сторонам кровати, советский цветной телевизор, бывший когда-то шикарным, слой пыли на его экране со следом проведенного пальца, тюлевые занавески, старый письменный стол (вчера я забыл задвинуть ящик), горшки с землей на подоконнике, я уже и забыл, когда там росли цветы. Мне и трезвому-то бывает худо смотреть на все это. А когда полновластно царствует царь Бодун… Нет, я не умею этого передать… Сколько бодунов уже позади. А сколько впереди? И все тот же и тот же вид из бодуна на мою берлогу, на мою одиночную камеру. Мерзкий хмурый день, совершенно не расположенный светить. Холодная вода из-под крана. Гусиная кожа на ногах, на руках. Пустые бутылки, руины вчерашнего экстаза. Тошно глядеть на них. Полкухни засыпано сушеными чайными червячками — это вчера я очаровательно небрежно заваривал чай. Пока утолишь жажду водой из-под крана, начинает трясти от холода. Под одеяло скорее, согреться. Вот уже и вечер настает. За окном быстро смеркается. Посмотришь в окно — там уже темнее, чем ожидал.
Вдруг я вспомнил — вот черт! — что сегодня у меня назначено свидание с Анькой. Я с неделю назад его почти выпросил, а теперь и думать не мог о том, чтобы куда-то ехать. Посмотрел на часы — через час выезжать. Вылез из-под одеяла, стал звонить, чтобы перенести или (плевать) отменить свидание, но дома ее в такое время, разумеется, не было. Придется-таки тащиться. Денег я с собой практически не взял, чтобы не ухнуть их.
У нас с Анькой некое подобие романа, тянущееся почти полгода. Хотя мы не спали месяца три. Как-то не хочется. В смысле, мне. Что она думает по этому поводу, я не знаю. И дома не бывали друг у друга примерно столько же. Но как-то все окончательно не расстаться. Встречаемся в городе, сидим по кафешкам, когда у кого-нибудь из нас есть деньги. Нельзя сказать, чтобы мне она особо нравилась, что я к ней как-то привязан. Что же тогда толкало меня к ней? Точно и не знаю. Но, я думаю, свою роль сыграла тривиальная, но притягательная схема: «Она меня за муки полюбила». Получается: я, молодой, талантливый, гибнущий, и она — кроткая, женственная, спасительница. В жизни все происходило мало похоже, но эта схема как-то существовала сама по себе, притягивая меня к Аньке. Почему она меня до сих пор не пошлет, мне не ясно. Может быть, действительно полюбила.
Стоя у выхода с эскалатора, я искал глазами ее заячье-белый берет. Вот, наконец, он показался. И, естественно, она сама, со своей всегдашней несколько рассеянно-виноватой улыбкой. Какая она жалкая, не мог не подумать я. И сразу ощутил сильнейший прилив раздражения. Еще этот ее вечный берет, который сейчас вдруг стал мне особенно ненавистен, бог знает почему. Сейчас подойдет, кротко поздоровается, глядя так наивно, так невинно… Мне захотелось повернуться и уйти. Но ничего уж не поделаешь, я стоял и ждал, пока выберется с эскалатора, подойдет. Подошла, поздоровалась точь-в-точь как я себе и представлял.
— Пойдем, — нарочно ей не отвечая, избегая смотреть на нее, мрачно сказал я.
Вышли на Невский. Где-то минуты две молча шли, лавируя в толпе, обходя лужи. Вернее, она обходила, а я пер не разбирая дороги. Внезапно во мне плеснулось еще одно дополнительное раздражение, что она так аккуратно в своих ботиках обходит лужи.
— Лужи обходишь, — с каким-то горьким укором сказал я ей.
— Да, противно, когда ноги мокрые.
Меня взбесило, что она не замечает моего ужасного состояния. Но так, прямо, ничего говорить по этому поводу я не стал. Какие у нее, однако, душные духи! Вроде не сильно и пахнут, а идти рядом невозможно.
Наконец влез прямо в лужу, аппетитно чавкнуло. Громко матюгнулся, специально для нее. Я знал, что она не любила и куда более невинной ругани.
— Ну, не ругайся, — слабо запротестовала она; глазки, и без того довольно круглые, еще больше округлились. Она даже остановилась. А я даже не стал извиняться.
— Одна нога уже мокрая напрочь, — с удовольствием, как будто любуясь делом рук своих, сказал я.
— Ты же простудишься…
— Пусть тебя это не волнует, простужусь я или нет.
— Ну, как это не волнует…
— У меня, кстати, подошвы лопнувши. Как две переваренные сардельки. Правда, похоже?
На ее личике выразилась задумчивость.
— А-а, говорить с тобой, — я махнул рукой с полной безнадежностью.
Еще несколько секунд шли молча.
— Слушай, не могла бы ты снять берет? С души воротит.
— Если тебе неприятно, — обстоятельно ответила она, — конечно, я сниму.
Я смотрел, как она своими пальчиками запихивает берет в малопоместительный карман. Мне стало совестно. Но ничего поделать с собой я не мог.
— Хорошие волосы, — с недоброй улыбкой сказал я. Как будто подразумевалось какое-то недоброе продолжение.
Мы шли, и я по-прежнему не мог ее выносить. Меня всего корчило. Еще и ее кротость меня бесила. Я взывал к своей совести, но тщетно. Я шел, стараясь не смотреть на нее и ничего не говорить от греха.
— Слушай, давай уйдем с Невского. А то тут с ума можно сойти. Он, наверно, специально и построен, чтобы тут сходили с ума.
— Давай. Как хочешь, — и она как ни в чем не бывало улыбнулась мне.
Мне опять стало совестно. Я все наглел и наглел, как бы стараясь определить, где кончается ее кротость, с каждой новой наглостью все больше страшась, что она повернется и уйдет. Ее кротость имеет границы, я это прекрасно знал. Но наглеть не переставал. Не мог ничего с собой поделать.
И тут меня осенила гениальная идея.
— Анька, — сказал я, взяв ее за руку, глядя на нее (как мне казалось) раненым ягненком, — купи мне пива.
Она вынула кошелечек, стала всматриваться в него, перебирать там пальчиками.
— Есть? — как можно более равнодушным тоном спросил я, избежав слова «деньги». Я знал о ее финансовом положении.
— Ну, можно немножечко… — неуверенно, немного жалобно ответила она.
Я предпочел не заметить этой некоторой жалобности. Довольно долго мы искали пиво. Но кто ищет, тот всегда найдет. Я взял две девятки. Раздражение улеглось сразу, как только мы начали искать пиво. И тени раздражения не осталось. Я сразу выпил две трети бутылки. Подействовало немедленно и неслабо. Я со вчерашнего еще как-то плохо проспался.
«А сегодня хотел остаться сухим, — подумал я. — Плевать. Да и две девятки — ерунда».
И я немедленно подобрел. Чуть ли не насильно напялил ей берет назад на голову. И стал говорить. Из трезвого-то, как вы знаете, из меня слова не вытянешь.
Я говорил о том, что музыка Моцарта не нуждается в слушателе. Что когда слушаешь Моцарта, даже бог кажется измышлением тугодумных посредственностей. Музыке Моцарта бог не нужен. Она выше любого бога, любых богов. Это я излагал впечатление от недавнего прослушивания Седьмого скрипичного концерта. (Не могу сказать, чтобы это, да и все последующее блистало особой новизной. Но для меня главное не новизна. Главное для меня — страсть, подлинность переживания. И, кстати, если они присутствуют, наверняка сболтнешь, сам того не ведая, нечто небанальное.) Потом я резко перешел на Зою Космодемьянскую. Попытался передать, что так разволновало меня. От Зои Космодемьянской перескочил к экспедиции Скотта, которая замерзла на обратном пути. Представляешь, как обидно замерзнуть именно на обратном пути! И — представляешь, как обидно! — Амундсен опередил их всего на несколько дней. В экспедиции Скотта был парень, который специально ушел замерзать, чтобы не быть обузой для остальных. Чуть ли не со слезами на глазах я пытался передать всю красоту этого поступка. Сказал по этому поводу, что не вижу принципиальной разницы между этическим и эстетическим; для меня хороший, благородный поступок так же прекрасен, как Шуберт. Вот недавно вычитал в газете, как парень спас девочку из котлована с кипятком. Он вытащил ее, но спасти ее не удалось, да и самого парня тоже. Это не просто хорошо. Это прекрасно.
С каждым новым глотком я любил Аньку все больше. Напялил на нее берет, потом опять стащил, чтобы целовать ее в ее прекрасные волосы. Целовал и тут же пальцами приглаживал поцелованное место.
«Рожденный квасить е… не может» — вдруг вспыхнул в голове афоризм. Я понял, что это горестная правда, относящаяся и ко мне, и ни с того ни с сего поделился афоризмом с Анькой, в этих же самых выражениях. Забыл, что она не выносит мата.
— Мне кажется, что я не заслужила подобного обращения, — каким-то занудливым и будто бы не ко мне обращенным голосом сказала она, никак не отреагировав на смысл афоризма.
— Слушай, Ань, извини, ну извини, пожалуйста. Я как-то забыл.
— Ну, хорошо, — с некоторым сомнением, как будто не зная, как поступают в таких случаях.
Я продолжал. Заговорил о музыке Шуберта, сказал, что хоть он и считается одним из первых романтиков, мне его музыка представляется реакцией на музыку Бетховена, причем реакцией, направленной не вперед, а назад. Бетховен во многом сам создавал стандарты красоты, сам создавал свои правила, а Шуберту этого не требовалось, ему нужно было прикоснуться к вечному идеалу прекрасного, который он чувствовал в себе. Надо сказать, у него это неплохо получалось. Я сказал, что Шуберт первым начал писать страшную музыку, процитировав самого Шуберта, назвавшего песни «Зимнего пути» страшными. Это сущая правда. У него много страшных вещей, например квартет «Смерть и девушка», да и последний квартет не менее страшен. Сказал я и о том, что порой Рахманинов кажется мне моим духовным братом.
И много я еще говорил. Наконец выдохся. В голове была пьянь и пустота. Пьяная пустота. Я попытался было поклянчить еще на бутылку. Но Анька, страдая за меня, ответила, что никак не может себе этого позволить. Пришлось отступиться.
Когда мы прощались, я любил Аньку. И был доволен, что хорошо поговорили. С Анькой что еще хорошо — она будет слушать что угодно и не перебивать. Обцеловав ее личико на прощание, я вошел в зев метро.
Дома мне пришлось купить еще бутылочку, чтобы заснуть, когда придет время ложиться спать. Это время пришло скоро. Выпил. И заснул.
Наутро было воскресенье. Самый ненавистный когда-то день. Оба родителя дома. Не знаешь, куда себя деть. День помывки. В ванной пахнет стиранным, пареным бельем. От одного этого запаха, въевшегося в меня на всю жизнь, мне и сейчас становится тошно. Сидишь в ванне, над тобой обязательно повешена веревка с каким-то мокрым тряпьем. Поэтому сверху всегда капает, как в гроте.
Отец от снедающего его тоскливого безделья начинает цепляться к матери. Та сначала мудро не реагирует, потом отвечает четко, с металлом в голосе. Она всегда умела, в конечном счете, поставить отца на место. Тот идет в свою комнату щелкать переключателем на телевизоре. И почему-то от этого невозможно никуда деться. Только во второй половине дня можно вырваться на волю.
В детстве, а скорее с детства, я ненавидел мир взрослых. Их некрасивость, низменность, пошлость. Пуза папаш, мяса мамаш. Зайдешь к какому-нибудь приятелю, а там папаша в майке почесывает жирную дряблую грудь, сам в тренировочных штанах с провисающими коленками. Мамаша в халате, разбухшие венозные ноги из-под халата. Разговаривают о какой-то дряни. Почесывание, позевывание. Тарелка с недоеденными холодными щами на кухонном столе. Тьфу, гадость!..
С утра было полегче, чем вчера утром, но тоже довольно-таки паршиво. Зудели локти и колени, зудела голова, как будто какие-то отвратительные насекомые копошились там. Руки-ноги не свои, ватные. Как быстро, однако, слабеет тело…
Я вдруг понял, что дома мне настанет каюк. Никуда идти, понятно, не хотелось, но видеть эти тюлевые занавески, эти обои… Эти стены сомкнутся и раздавят меня. За шкирку вытащил себя на улицу.
Сел на трамвай и поехал к озерам. Трамвай, обогнув все, что можно обогнуть, наконец добрался и до них. Я вышел, перешел через дорогу, и вот я у озера.
Я зачем-то посмотрел вверх и увидел светлую, слепую пустоту неба. Посмотрел вперед. Там застыл далекий дым из трубы, имеющий точно такой же цвет, что и небо, казалось, он был пририсован к нему. Фабричная труба из старого, старорежимного кирпича.
Озеро заровняло снегом, и теперь не разобрать, где кончается озеро и начинается берег.
Два рыбака, черные на белом снегу, склонились над своими лунками. Что-то было извозчески-передвижническое в их понурых фигурах.
На склоне, налево от меня, стояли сосны. Летом, на светлом песке, без них невозможен этот навечно хранящийся в памяти образ счастливого летнего дня — север, лето, солнце. Но сейчас непонятно, зачем вообще они здесь.
Ближайший ко мне берег — согнувшиеся к воде деревья, точнее, не к воде, а туда, где раньше была вода. Когда-то вода плескалась у берега, и они играли в ней переливающимися отражениями черной коры и зеленой листвы. А пока жизни в них не больше, чем в телеграфных столбах.
Дома на противоположном берегу. Что я могу сказать о них? С рожденья я видел такие. Деревянные, с деревянными, так сказать, фронтонами. Крашенные белым рамы окон, и еще такое же окно на фронтоне — нет, на лбу — дома. Снег, застывший в бесконечном сползании с двускатных крыш. Скука. Безнадежная скука в этих домах, и именно это главное в них, а не особенности «архитектуры». Впадаешь в отвратительную спячку вместе со всем этим.
Я прошелся по берегу, быстро устал, начал мысленно проситься обратно на трамвай. Долго ждал обратного трамвая. Ну, все же хватанул свежего воздуха.
Дома включил ящик, лежал на кровати и смотрел, тупея, все подряд. Я не только ничего не хотел делать, но и не мог. Ничего, надо отойти от алкоголя. Сегодня останусь сухим.
Но остаться сухим мне было не суждено. Позвонил друг.
По его голосу я сразу понял, что он основательно поддал. Сказал, что получил сегодня деньги, и азартно предложил мне приехать, чтобы отметить эту радость. Я сразу понял, что сегодня я выпью, несмотря ни на какие зароки. Я только выпросил у друга, чтобы он сам приехал (уж больно неохота было никуда переться). Впрочем, друг с легкостью согласился. Да, ну и пусть прихватит с собой литровую.
Еще пять минут назад я был вял, туп, ничего меня не волновало. А сейчас — радость клокотала где-то у горла. Грудь распирало счастьем. Есть в жизни счастье, врет популярная татуировка! Сегодня понятно, как провести вечер. А завтра… да какая разница! Чтобы немного поостыть от счастливого возбуждения, я поставил Вторую симфонию Брамса, зная, что, пока друг доедет, я почти всю ее прослушаю.
Я вполуха слушал красивую симфонию, пребывая в легком, приятном нетерпении. Скоро, скоро приедет друг.
И друг приехал. В кожаных складках его сумки таилась прозрачная бутылка. Мы поздоровались за руку, а потом, радостные, приобняв, потрепали друг друга по плечу. Я думаю, в этот момент не было на земле более близких, любящих и понимающих друг друга людей.
И — как часто говорится в таких случаях — понеслась душа в рай! Нам снова по семнадцать лет, и родителей нет дома. Мы смотрелись друг в друга как в зеркало, и это зеркало нам врало, что нам не по тридцать два, а по семнадцать. Друг — единственный с тех времен, с которым я поддерживаю отношения; стало быть, он — единственное такое зеркало. Может быть, это главная, если не единственная причина, по которой нас тянет друг к другу. Все остальные зеркала правдивы, слишком правдивы. Мы не два стареющих, лысеющих, пьющих неудачника, а снова блестящие молодые люди, перед которыми лежит шикарная, щедрая на все прекрасное и удивительное жизнь. Сразу врубили музыку, не что-нибудь филармоническое и не что-нибудь джазовое, а бодрый заводной рокешник. Как задорно опрокидывались стопари под него! Когда мы пьем с другом, мы как будто присягаем какому-то вечному союзу между нами… нет! мы присягаем вечной, прекрасной юности. И друг понимает это не хуже меня.
— Слушай, — с пафосом сказал я, — нам уже по тридцать два, у нас лысины, и мы ведем «взрослую» жизнь. Но мы никогда не признаем, что так и надо, что так и хорошо. Пусть мы покорились в поступках, но мы никогда — никогда! — не покоримся в душе!
Друг меня всецело поддержал. Он растянул рот в мрачной, закрытой улыбке, выпятив подбородок, и я сразу понял, что ему по душе то, что я сказал.
Разумеется, скоро явилась соседка, недовольная слишком громкой музыкой. Всегда тебя обломают! Таков этот мир. Был соблазн, пьяный соблазн, захлопнуть дверь у нее перед носом. Но я, вежливо гримасничая, сказал, что конечно, конечно… Ладно, сделаю музыку потише, авось не помру.
С тихой музыкой в нашем собрании стала едва заметно ощущаться некая конспиративность. Первое время мы и говорить старались потише. У друга тоже проблема соседей — лет с тринадцати.
Потом мы надели куртки и пошли курить на балкон — просто так, чтобы вспомнить, как во время оно стоялось на балконе, курилось. На балконе, под порывами зимнего ветра, я пристал к нему.
Понимаешь, говорил, точнее, почти кричал я, стараясь переорать ветер, меня интересует проблема великого. Может ли наша теперешняя жизнь порождать великое? Раньше было великое, а теперь что-то не видать. Может быть, не видать из-за собственной слепоты. А ну как — с глазами у меня все в порядке? Может быть, больше никогда не будет великого? Если это так, то и искусство обречено на второсортность. Искусство не может быть выше жизни, для меня это аксиома. Вот Набоков, великолепный писатель, но разве его поставишь в один ряд с Толстым или Достоевским, которого он, кстати, терпеть не мог, что, кстати, больше говорит о Набокове, чем о Достоевском. Просто хорошее взбунтовалось против великого, да еще норовит объявить, что и великого никакого нет. И, кстати, когда стиль занимает столь большое место, это уже омертвение, некроз. Или предвестье их. Да, и Хиндемит что-то такое говорил. Да, он ругал додекафонию, приводя ее в пример того, что может получиться при чрезмерном увлечении стилем.
Вышли с балкона.
— Постой, — сказал друг в прихожей, где мы вешали назад свои куртки; оказывается, он все прекрасно расслышал, — я насчет измельчания. Лично я себя измельчавшим не считаю. Ты думаешь, что люди стали мельче?
— Да нет. — Я задумался. — Люди, наверно, такие же. Дай я тебе приведу пример, опять из музыки. Я имею некоторое представление о музыке первой половины двадцатого века. Так вот, ни одного из композиторов первой половины я не могу назвать великим в том смысле, в котором я называю великими Бетховена или Моцарта. В то же время, когда я слушаю Колтрейна, я чувствую, что за этой музыкой стоит что-то по-настоящему великое. Величие музыки определяется тем, что ты слышишь за ней. За музыкой двадцатого века я великого не слышу. А у Колтрейна слышу. Вообще, когда я его слушаю, мне в голову приходит не, скажем, Чарли Паркер, а Бетховен. Да, именно Бетховен с его пресловутым этическим зарядом. О! Стравинский сказал о современной музыке: где те эмоциональные рычаги, которые были во времена Бетховена? Послушай, как сказано: эмоциональные рычаги.
— Да, — сказал друг, — но ты давай ближе к делу. Что ты там говорил про мелкость?
— А-а-а… Так вот: высота сосны, как бы она ни была высока, — ничто по сравнению с высотой горы, на которой она растет. А что, если мы стояли на горе, а гора вдруг сравнялась с землей? Никакой индивидуальный талант, как ни будь он огромен, с этим ничего не сможет поделать. Вот джазмены, сами того не сознавая, очутились на высокой горе. А классические композиторы — нет. Ну ладно, не надо о грустном.
Но я не мог уняться. Стал сокрушаться, что плохо знаю Гайдна, вот попался бы мне толковый человек в качестве путеводителя. Передал слова какого-то современного чеха — забыл, на языке вертится, — что «немцы заразили музыку психологией и метафизикой». Что ж, тогда я немец. Я немец и не боюсь в этом сознаться!
И чем дальше, тем пьянее.
Последнее воспоминание: мы сидим, навалившись на стол, едва не соприкасаясь лбами и бесконечно поем, тянем «My Wild Love».
Дальше я не помню, что было.
Проснулись мы, лежа бок о бок на кровати, оба в куртках. Я проснулся, и почти сразу же зашевелился и друг, как будто мы были взаимными будильниками. Я думаю, не стоит говорить, как нам было. Я сполз с кровати, потом постепенно поднялся.
— Так, — сказал я, — спокойно. Может, еще есть чего.
Но ничего не было.
— Живо в магазин.
Главное, не дать бодуну раздавить себя с самого начала. Не впасть в постыдное уныние. Криво улыбаясь, мы ходили по комнате. Мы даже острили. Друг порылся по карманам. Оставалось довольно прилично.
— Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, — процитировал друг Высоцкого. Он сразу повеселел при виде денег. Я тоже. Посмеиваясь и отдуваясь, натягивали башмаки в прихожей.
— А в куртке спать удобно, оказывается. Надо будет запомнить, — заметил друг, когда мы ждали куда-то запропастившийся лифт (кнопка все горела, и никаких обнадеживающих звуков не доносилось).
По морозцу мы побрели к ларькам. На улице стало полегче дышать. Я удивился огромности, просторности, пустоте берез во дворе. Пустое гнездо на одной березе. Путь преградила машина с надписью «ХЛЕБ» на фургоне. Пришлось некоторое время идти по бордюру. В каком-то внутреннем зеркале на мгновение отразилось детство.
— Че будем? Девятку?
Мы стояли у ларька.
— Ну ее в жопу, — ответил друг, вытирая со лба прилипшие запятые поределых волос, на границе рыжизны, но все-таки русых. — На тройку ты как, настроен?
— А-а, давай.
Глянул вниз на месиво грязного, раскисшего снега. Стало еще поганее.
Друг взял четыре тройки.
— Какая на вас хорошая кофточка! — осклабился он продавщице, составляя две бутылки в черный пакет (две были уже открыты). Жутковатый оскал на сером, похмельном лице.
Продавщица разулыбалась.
Я смотрел со стороны на друга, пока он покупал пиво. Если вчера за бутылкой он был лживым льстящим зеркалом, то сейчас правдивым, даже жестоко правдивым. Уже не первой молодости мужик, лысеющий, небритый, с красными глазами, разведенный, не имеющий какого-либо стоящего занятия. Потертая кожаная куртка в царапинах. Похожа на мою, только посветлее. Да, зеркало. По нему я могу судить и о себе. Чувствуется, что он уже привык к неудачам (к отсутствию удач) и даже не пытается выкарабкаться, уже привык жить в дерьме. А тоже, чего-то еще строит из себя. «Какая на вас кофточка»…
Больше мы обещали. Да, больше.
Отошли подальше от ларьков, чтоб меньше суеты.
Наши первые бутылки мы пили серьезно, сосредоточенно — так младенец сосет материнскую грудь.
Стояли. Молчали. Закурили.
— Что-то не торкает, — сказал друг.
Он вынул эту фразу из моих уст.
— Слушай… поди… еще открой, — булькнув, выдавил я из себя.
Но друг уже и так шел, взяв под мышку черный пакет.
Что-то долго его нет. Что-то долго не отыкаться.
Пришел.
— Там, блин, — сказал он, — очередь, суки. Становись, говорят, в очередь. Щас.
Я слегка испугался. Пьяным друг с легкостью ввязывался в драки. До сих пор у него бровь вертикально рассечена.
Допил до половины и вдруг почувствовал себя пьяным вдрызг. Я радостно, облегченно заржал. Опять захотелось говорить, нести.
— Знаешь, что Онеггер сказал про Шёнберга?
— Ну? — выразительно вздохнув, друг устало глянул на меня из-под бровей.
Я все понял.
— Слушай, извини, — я охлопывал его плечи, — не буду, извини.
Я нисколько не обиделся. Мне и так было хорошо.
— Слушай, — с энтузиазмом обратился я к нему, — ты видел, у меня бутылок до хрена. Пойдем, сдадим их.
Мне уже было на все наплевать. Блаженное чувство наплевательства на весь мир.
— Нет. Мы в штопор войдем, — жестко сказал друг.
Друг был пьяницей не меньше меня, но иногда в нем проглядывал здравый смысл; даже подвыпив, он его некоторое время сохранял. Мне же стоит хоть чуть-чуть поддать, как я забываю обо всем на свете.
Я было попытался уломать друга, но тот был непреклонен, даже сурово назидателен:
— Все. Я поехал. И тебе не рекомендую.
Пожал мне руку и пошел к автобусной остановке. А я потащился назад домой. Умом я понимал, что друг прав. Но душа не хотела прислушаться к голосу рассудка. Желание добрать так и горело во мне. Я лег на кровать, зная, что стоит полежать часок, успокоиться, и пьяное возбуждение схлынет, огнь желанья притихнет. Где-то через полчаса валянья я заснул. Еще лучше. Проснулся я, разумеется, в скверном состоянии, но уже умея властвовать собой. Сегодня пить я не буду. Бутылки я не пошел сдавать, понимая, что это будет только прелюдией.
Наконец-то кончился день.
Назавтра я, проснувшись, часа три лежал в постели, радуясь приличному самочувствию. Славное состояние — выход из бодуна. Я уже мог есть. Отыскал в холодильнике пачку замороженных, слипшихся пельменей и с удовольствием варил их, бросая в кипящую воду пельменные гроздья. Потом с удовольствием ел. Поколебавшись, лег опять в постель. Ничего не делал, ничего не слушал, ничего не читал. Все изнывал: когда же кончится день и можно будет заснуть, забыться, отключиться.
День наконец-то кончился.
Позвонила жена и попросила забрать ребенка из школы. В этом не было ничего необычного — я довольно часто забираю ребенка из школы. Когда я трезв, отношения с женой вполне нормальные, они даже улучшились с тех пор, как мы расстались.
И вот, во второй половине дня я иду в школу. Настроение отчего-то было хорошее. Солнце то пряталось за тучи, то опять выглядывало, и от этой игры света и тени все становилось немножко нереальным. А реальность, в которую добавлена капелька нереальности, — это, повторю, лучшее, что я знаю на свете. Словом, настроение от этого только улучшилось. Но чего-то не хватало. Совсем чуть-чуть, но… надо было чего-то еще, чтобы настроение стало совсем уж хорошим. Угадали, о чем речь? Вот и прекрасно. По пути в школу я выпил две бутылки пива. Две бутылки — какая ерунда. Никто и не заметит.
Придя в школу (здание, неприятно напоминающее поликлинику), я обнаружил, что их класс задерживается. Надо было ждать где-то полчаса. Такой поворот событий оказался для меня полной неожиданностью. Ну что ж, раз так, придется немножко погулять.
Кстати, почему я взял с собой остатки денег? Не знаю. Так распорядился рок.
Неподалеку продавали пиво. Я выпил еще несколько бутылок, каждый раз думая, что пью последнюю; а какая разница, бутылкой больше, бутылкой меньше? Парадокс лысого, сгубивший многих.
Короче, в школу я вошел, полный радости и воодушевления. Сказал что-то любезное классной руководительнице; ее лицо было то как-то очень близко, то куда-то уезжало. Сын скромно стоял рядом с ней. Я подождал, пока он оденется, взял его за руку и повел домой. Ходим мы пешком.
Мы шли мимо присыпанных снегом сосен, растущих из наста. Я любовался синей промоиной на краю неба.
Я снисходительно расспрашивал сына, как дела в школе. Сын отвечал без особого энтузиазма; странно, обычно он даже спешит рассказать мне, как у него дела, — по-моему, он вообще хорошо ко мне относится. Но я все равно снисходительно мурлыкал.
Говорим мы вообще немного. Мне нечего сказать своему сыну, как когда-то моему отцу нечего было сказать мне.
Перешли шоссе-артерию, дальше шли дворами, среди сталинских домов (с детства помню, с каким уважением это произносилось: «в сталинском доме», а меня удивляло, как о чем-либо, связанном со Сталиным, можно говорить без ужаса и ненависти). Мимоходом мы прокатывались на гололедных озерцах. Я с готовностью подавал пример.
— Любишь по льду кататься? — весело спрашивал я сына, заглядывая ему в лицо.
— Да, ничего… — как-то не очень охотно ответил он, без обычной истовости, с которой говорил о своих делах.
Дошли наконец. Когда-то тут жил и я.
Я помог сыну раздеться, разделся сам, стал думать, что бы еще такое сделать хорошее, чтобы на душе стало еще лучше. Стал, естественно, рыться в пластинках, как у себя дома (мне никак не привыкнуть, что я здесь больше не живу); у жены было немножко поп-классики. Сразу наткнулся на Вивальди. «Времена года». Вивальди! Великолепный, потрясающий композитор, в каком-то отношении не имеющий себе равных!
Давно не слушал Вивальди. Красота просто ослепила.
— Иди, послушай, как здорово! — позвал я сына в другой комнате.
Сын покорно пришел. Приходится, раз отец зовет.
— Здорово, правда? — старался я растормошить сына, но он был вял, как-то все отворачивался, как-то все норовил слинять.
И наконец до меня, дубины, дошло. Я же пьяный. Он что, не видит этого? Какой там Вивальди, какое там катание по льду! Я пьян, безобразен, а остальное на этом фоне ему совершенно неинтересно.
И такая огромная тоска охватила меня. Я даже весь как-то ослабел, поник, как лютик. Выключил пластинку и сел на кровать, бывшую когда-то нашим брачным ложем. Сын возился с чем-то в своей комнате.
Прошел в туалет брат жены Дима. Молча поздоровались за руку.
В замочной скважине завозился ключ. Так. Так. Я знаю, кто это.
Вошла жена в своем черном, кажущимся мне шикарным пальто. Свежая, румяная с улицы. И берет на ней, только другого фасона, чем у Аньки. Я почему-то вспомнил про Анькин берет. Так.
— Так, — сказала жена и, прищурившись, вгляделась в меня. Все сразу же поняла.
И пошло, и поехало в ее фирменном стиле. Да тебя скоро в школу перестанут пускать! Да из-за тебя ребенок мог под машину попасть! Да ты соображаешь, что ты делаешь-то, нет?! Ты соображаешь вообще?!
Голос высокий, повыше среднего женского, несколько блеющий.
«Взрослая», — с ненавистью подумал я. Женился на довольно милой девушке, а какая отвратительная взрослая тетка получилась из нее. Тетка, мамаша какого-то из моих давешних друзей.
— Да какой, на хрен, под машину попасть… Что я, не соображаю, по-твоему? — лениво, с утрированной ленью отбрехивался я.
Но ей все было мало, и она все несла, все гнала, все грузила.
Внезапно я почувствовал, что не могу больше этого слышать. Во что б это ни стало надо заткнуть это мурло, шевелящее губами, издающее высокое блеянье. Годами настаивавшаяся ненависть затопила меня. Уже не соображая, что делаю, я ткнул в мурло кулаком раз, ткнул два, ткнул три…
Дальнейшее я помню как-то смутно.
— Дима, он бьет меня! — вроде бы заверещала она, во всяком случае стала как-то апеллировать к Диме.
Димин желтый свитер вплыл в прихожую. Лица его не помню. Некоторое время он стоял, похоже, прикидывая, оценивая. Потом резко, четко дал мне в скулу. Я отлетел, чуть было не упал, нелепо засучил ногами на циновке перед туалетом, она ерзала; все же я устоял.
Секунду мы стояли, глядя друг на друга. Я вдруг понял, что продолжения не последует. Жена и сын куда-то пропали.
Истерически похохатывая, что-то плетя о причудах женского сердца, я завязывал шнурки. Дима мрачно, молчаливо нависал надо мной. Потом он настежь распахнул дверь, привалившись спиной к косяку, приобретя вид наполовину распятого.
Я вдруг вспомнил.
— Дима, — сказал я ему, — дай в долг тридцатник.
Странно, но я отчетливо помню, что мне хотелось дать понять ему, что я на него не сержусь. Дима что-то мрачно ответил, я не понял что, только понял, что тридцатника мне не будет.
— Ну, бывайте, — сказал я тоном как можно более фатовским и даже помахал ручкой. Стал спускаться по темной, неосвещенной лестнице.
На улице ларьки источали свет. Метрошное «М» светилось цветом огня из газовой плиты.
Я как-то быстро забыл, что только что бил жену, что сам схлопотал по морде. Обшарил все карманы. На трамвай хватит, а там пешком минут двадцать. Приемлемо. Но домой почему-то не ехал. Околачивался у ларьков. И я понял, чего мне давно охота. Возбуждение, взбудораженность после сцены с женой никуда не делись, хоть сейчас я и не думал о них. Но денег не было как назло. Сейчас, в такой момент… Проклятье. У ларьков люди пили пиво на свои. И никто не нальет. Всем плевать. Мне выпить надо, понимаете? Просто необходимо! Поймут. Но только посмеются. Выпить хотелось пронзительно, мучительно.
Что же делать?
И вдруг я вспомнил, что на мне же весьма приличные часы, которые мне подарила мать. Как же, ее ребенок должен прилично выглядеть, чтоб никто не подумал… Ладно, фигня все это. Главное — часы. Меньше чем за бутылку водки не отдам. Мне они дороги как память. Вдруг встрепенувшись, посмотрел на руку — часы-то точно на мне? На мне.
Я обхожу ларьки. Лица выглядывают из окошечек. Лица, лица, лица. Худые, толстые, белесые, чернявые. Не просто едва отвечают, но буквально смахивают тебя, смахивают, как крошку с прилавка. Никому не трэба. Все меньше ларьков остается, и какая-то пустота нарастает в животе от того, что с каждым отказом все лучше понимаешь, что выпить не суждено. И вдруг сделка состоялась. Сидящий в ларьке кавказец, посоветовавшись с кем-то, просовывает мне в окошко бутылку незнакомой водки с дрянной, какой-то полусамодельной этикеткой. Я хладнокровно принимаю водку, как будто ничего и не случилось, и отхожу. На руке, где были часы, теперь непривычно пусто.
Главное — бутылка водки у меня в руках. Это хороший конец, если в руках у тебя бутылка водки. Может случиться что угодно, земля провалиться, но если после всего этого тебя ожидает водка, то это все хорошо, что хорошо кончается.
Долго прождал обратного трамвая. Желание выпить уже не было таким острым; было некоторое нетерпение, но разве это сравнишь с тем, что только недавно было, — все равно ведь знаешь, что выпьешь. Все, что со мной может случиться, — это все равно история с хорошим концом. Водку я упрятал под куртку, чтобы не вводить никого в какого угодно рода соблазн.
Наконец трамвай приволокся. Сидя в тусклом, холодном трамвае, я приходил в себя. Спокойствие воцарялось на душе. Какое-то странное спокойствие.
Я ехал и стал вдруг вспоминать, когда же это началось. В смысле, мое пьянство. Всегда любил поддать. Ну и что? Потом стал попивать более регулярно. Опять же, ну и что? А кто не пьет? Алкашеская отговорка. Ну, пьют и в самом деле порядочно. Но меня постепенно начало интересовать все связанное с алкоголем. Например, какое-то счетоводство с самим собой: уже три дня не пил? ну, можно; или: после такого события грех не выпить; или ладно: сейчас выпью, потом пять дней пить не буду. И так далее. Стал замечать все винно-водочные магазины, совершенно автоматически. Так у военачальника бессознательно откладывается в голове: здесь овраг, здесь водная преграда, здесь высота. Так и я. Бутылки принимают? Хорошо. Круглосуточно? Отлично. Мысли об алкоголе с какого-то момента стали занимать совершенно несоразмерное место. Я думаю, это и есть начало. Опасная черта, которую ты начинаешь переступать. А вообще я думаю: Алкоголизм надо лечить, пока его еще нет. Дальше же гораздо, гораздо труднее.
Извините за дидактику. Я просто думаю — может, и впрямь мой опыт кому-то поможет.
А как хорошо было пить когда-то! Когда ты еще не пьянь, а просто закладушник. Как здорово, например, было пить после бессонной ночи. Летним прохладным утром, ранним утром, еще с редкими прохожими, с птицами, только пробующими свои голоса. После бессонной ночи все воспринимается чуточку нереально, — опять же, с привычных, казалось бы, вещей стерта пыль обыденности. Ты пьешь, хмелеешь не торопясь, и сейчас, кажется, радость хлынет горлом, пантеистическая радость. Опыт почти мистический. И так ты болтаешься по улице и набираешься все больше и больше, с каждым разом приветствуя свой хмель. Завтра будет плохо, но сколько еще до завтра? — бесконечность!
Или слушать жестокий романс, пустив скупую мужскую слезу. Романсы вообще грешно слушать помимо водки.
Или даже Шуберта, в слезах изнемогая, судорожно бия себя в грудь, бесконечно спрашивая себя: за что, за что мне это?! Я ведь этого не заслужил! Но Шуберт, как солнце, как луна светит всем без разбора…
Я только махнул рукой. Все это проплыло через голову и спокойно себе уплыло.
И когда я вошел в свою конуру, я был все так же странно спокоен. Не навалился сразу на водку, а спокойненько, аккуратненько поставил ее на кухонный стол, потом разделся, разулся. Сел на табуретку у кухонного стола. Но к водке все не притрагивался.
Я думал. Я был спокоен. Мозг спокойно качал мысли, как сердце — кровь.
В самом деле, не пора ли провести небольшую ревизию, подвести некоторые итоги?
Мне тридцать два года. Уже тридцать два. А как недавно мне было семнадцать! Как будто вчера. А что я могу вспомнить после семнадцати лет? Ничего. То есть, конечно, вспомнить я могу много, но такого, что и вспоминать не хочется. Просто противно. Нет, противно не то слово — ошеломляет бездарность собственной жизни. Зачем же эти пятнадцать лет я жил? Ну что ж, ответ ясен — незачем. Интересно было узнавать мир. И после того, как я его мало-мальски узнал, я понял, что делать мне тут нечего. Нет, не сразу понял. Но это понимание все крепло. И сейчас, сидя на табуретке перед кухонным столом с бутылкой водки на нем, я понимаю это так ясно, так окончательно, как не понимал никогда. Что мне светит? Да ничего. Так дальше и буду худо-бедно переводить, и мать будет подбрасывать мне денег. И буду потихоньку спиваться. А может быть, и не потихоньку. А после матери? На питье денег точно не будет. На крупы перейду. Но это еще не скоро. Она баба крепкая. Что я могу потерять? Ничего, только такую вот жизнь. Стоит она того, чтобы за нее цепляться? Разумеется, нет. Когда я трезв, мне все отвратительно. Я противен сам себе, я сам себе до смерти надоел. Хоть бы стряхнуть с себя проклятое бремя «я». А пластинки, музыка? Перестань, на самом деле они давно тебе не нужны. Когда-то были нужны, но это давно. Просто по инерции, по пьяному делу ты держишься так, как будто это тебе важно. Осталась только оболочка. Ты — муха, высосанная пауком. Стихи? Тем более.
Если честно…
Если честно, мне нужно только одно — пить. Пить и не просыхать. А самоубийство? Зачем, пить-то лучше. Пить гораздо лучше, чем ничего не чувствовать.
Собака лает за окном. Осипла от ярости, но все лает, лает, лает. Я взглянул на водку. Подожди, не спеши. Еще успеешь.
Все-таки от мыслей о самоубийстве было как-то не отвязаться. Я пошел в комнату, посмотрел на балкон. Выпить сейчас водку, покурить и спрыгнуть с одиннадцатого этажа. Я даже открыл балкон, чтобы представить себе это. Но в комнату ворвался снежный вихрь, я моментально озяб, кинулся сразу закрывать балкон, ругая себя за дурость. Вернулся на кухню.
Значит — пить. Посмотри, какая простая жизнь у нормального, законченного алкаша. Эта жизнь проста, а следовательно — хороша. Все определяется одним параметром: водкой. Есть водка — хорошо, нет водки — плохо. (Да и боярышник, если разобраться, вовсе недурен.) А чем так уж плохо быть алкашом? И у него есть свои минуты счастья. Даже много минут.
Так сделайся наконец и ты настоящим, необратимым алкашом! В моей жизни было слишком много компромиссов. Всей душой ненавидя действительность, повседневность (а действительность есть не что иное, как повседневность), я все-таки прислуживал ей. И теперь еще прислуживаю. Кстати, в издательство так и не позвонил. И правильно сделал. Пропади она пропадом, Екатерина Владимировна. Желаю ей скорейшего выздоровления, конечно. Больше, надеюсь, не увидимся.
Я сделал передышку. Пока ход мыслей меня устраивал.
Я вдруг вздрогнул. Да квартиру пропить, вот что я могу сделать! Это же классика! Перееду в какую-нибудь дыру за городом. Что мне делать в городе? Абсолютно нечего. Но какая куча — туча — денег у меня образуется! Сколько дней пьянки впереди! Отсюда эти дни кажутся столетиями.
Я проглотил слюну и улыбнулся. Я сделал гениальное открытие.
Я буду пить и пить. Целое море счастья.
И если мне повезет, я скоро сдохну.
Всмотрелся в себя — может быть, это поза? Не обнаружил ни тени позы. Похоже, действительно, дело серьезное.
Значит, все-таки самоубийство. Получается что-то вроде этого. Может быть, и не оно, тогда на грани него. Русская рулетка.
Что-то есть в этом знакомое. А, вспомнил. Фильм «Покидая Лас-Вегас». Что ж, я разыграю тот же сюжет. Трудно придумать что-то новое. Да и не нужно.
Я огляделся вокруг. Так четко и чисто я уже давно не соображал. Уже ожидая трамвая, я начал трезветь. А сейчас протрезвел окончательно. Давно забытое чувство обдумывания чего-то важного. Да и было ли когда-нибудь это обдумывание? Наверно, все же было, когда-то очень давно.
Все-таки жалко себя. Я даже почувствовал приближение слез. Я, по-моему, был довольно симпатичным цветочком. Проку от меня, конечно, было как от козла молока, но и вреда, однако, тоже никакого. Думал ли я, бродя зачарованным отроком белой ночью по городу, когда само собой подразумевалось, что весь мир у твоих ног, что именно так, с ненавистью к окружающему и к самому себе, кончу свои дни? Кончу жестоко, безобразно, отвратительно. Опанасе, не гадал ты в ковыле раздольном…
Ладно, не ныть. Довольно я ныл. Теперь я встану с колен. Хватит вилять, вихляться. Моя логика неопровержима, а если так, то надо делать без нытья то, что говорит логика.
Я рассмеялся. Мой собственный голос в ночной тишине звучал странно. Да, ты точно знаешь, что когда-то да помрешь, но когда тебе скажут, как именно, то в этом всегда будет что-то невероятное, плохо представимое.
Ничего, одним мудаком меньше.
Водка нагревается. Я потрогал ее. Она была уже теплая. Дальше греться некуда. Ну, мы и теплую выпьем. В холодильник ставить ее я не стал, зная, что скоро приступлю.
Прошелся зачем-то кругом по комнате. Все предметы хранили молчание, но оно казалось мне знаком согласия. Со мной, с моими мыслями. Почему-то было ощущение, что я вижу их в последний раз, хотя ясно, что не в последний. Ну ладно, торжественную часть можно заканчивать. А сейчас состоится дискотека.
Я прошел на кухню, присел на табуретку. Посмотрел на водку, точнее, она посмотрела на меня. Все-таки в открывании бутылки есть что-то… архетипическое. Древнее, ритуальное.
Ну что? С богом. «В последний раз вы молитесь теперь», — почему-то подумал я.
Возясь с идиотски упрямым язычком на водочной пробке, я вдруг невольно начал перебирать людей, которых я хорошо знаю. Вспомнил Аньку. Только фыркнул. На этом с Анькой было покончено. Вспомнил бывшую жену. Тут я уже криво усмехнулся. Задумался, даже перестал возиться с бутылкой. Вдруг очень сильно, до боли захотелось ей позвонить и сказать что-то главное, что я за годы и годы ей так и не сказал. На мгновенье показалось, что мне есть что ей высказать. Выхрипеть, вымычать. Но в следующее мгновенье это желание пропало. Сказать мне ей нечего, это абсолютно ясно. Так что не дергайся, как вор на ярмарке, займись делом, открывай бутылку. Подумал о родителях. Заскребло на душе. Все-таки они меня любят как могут. Ну что ж, избавлю их от себя. Да лучше так будет, лучше! Так… идем дальше. Сын все равно растет без отца. Более того, лучше, по-моему, вовсе не иметь отца, чем иметь такого. Друг. Что ж, друг все поймет.
И люди отодвинулись, стали далекими. Я уже вышел на финиш, и мне стало неважно, что было раньше. Каждый умирает в одиночку. Я как зверь, уползший в свою нору помирать.
Пару, тройку часов я пробыл в тихом алкогольном блаженстве. Я нежился, раскинувшись, в гостеприимных водах алкогольного моря. Так, в блаженстве, и отошел ко сну. В кровати, раздевшись. И приснились мне три сна.
Нет, лучше так: и было мне три сна.
Я вхожу в комнату и вижу три окна, до полной непрозрачности исписанные морозными узорами. Узоры небывало, несказанно прекрасны, до спазма в горле, до слабости в коленях; такую красоту невозможно увидеть наяву, она является только во сне. Постояв, я двинулся дальше. В глубине комнаты стоял гроб. В гробу лежал покойник, но почему-то лицом вниз. Вдруг у меня родилось подозрение, что в гробу лежу я. Но лица покойника не было видно. Тут я вспомнил, что у меня на затылке довольно характерная вмятина, и если я обнаружу ее на затылке покойника, то значит, в гробу — я. Я так и сделал, я медленно проводил пальцами по затылку покойника, и наконец пальцы нащупали такую же точно вмятину, какая есть у меня. Значит, сомнений нет, в гробу — я.
Потом было серое, зимнее, штормовое море. Мол, заваленный окурками. По молу расхаживали птицы с клювами, как портновские ножницы, и клевали окурки.
Потом я разговаривал с Лунной сонатой. Она кивала мне с кротким упреком: наконец-то я о ней вспомнил; и я знаю, что она боится мне напоминать, как было в прошлый раз: тогда я думал: «Боже, как же я жил все это время без нее, как я мог забыть, что она есть, но теперь-то у меня все будет по-другому, я уже просто не смогу быть тем, кем был, зная, что она есть». А она кротко улыбается и отводит глаза с некоторой неловкостью за меня: ведь она неоднократно все это уже слышала, и не только от меня, а от тысячи тысяч других людей, но все как шло, так и идет по-старому.
Проснувшись на следующий день, я некоторое время находился под властью этих снов. Я всматривался в них, как будто пытаясь понять: что там? к чему? Ничего, разумеется, не понял, зато довольно подробно вспомнил сны. Почему-то не хотелось их забывать. Но потом я вспомнил о вчерашнем моем решении, о моей Аннибаловой клятве. Настроение сразу переменилось. Оно стало бодрым, деятельным, как-то весело деятельным. О бодуне я сразу забыл. Подташнивало, болел правый бок, но мне было на это наплевать. Наконец что-то стоящее, значительное вошло и в мою жизнь, я готов был петь — от радости, что ли? — настолько мне осточертело мое копошение в дерьме все последние годы. Похожее настроение часто бывало у меня в отрочестве, в ранней юности, когда каждая ерунда казалась каким-то Знамением. В юности жизнь была полна предзнаменованиями, знамениями. Потом некоторое смятение, вызванное мыслями о вчерашнем, улеглось, но продолжало греть меня, светить мне, как солнце светит и из-за туч. Оказывается, после любых решений жизнь продолжается самая обыкновенная. Ну, так, значит, так. Это мне известно давно.
Весь день я слушал музыку. Сначала Моцарта, потом Брукнера, потом «Роллинг стоунс». Посмотрел киношку после программы «Время».
Денег у меня совсем не было, но пока было все равно: курево у меня было, а есть после вчерашнего не хотелось. Я было собрался поехать к родителям за деньгами, но передумал: морда у меня изрядно опухла, могла навести мать на некоторые неприятные для меня вопросы. Ладно, поеду завтра. Заодно и передышка от алкоголя.
В общем, день прошел. И прошел очень недурно.
На следующий день, во второй его половине я позвонил родителям. На мой вопрос, где мать, отец ответил: «Еще не прибыли». Непонятно, над чем он иронизирует — с некоторой злинкой; ему известно не хуже меня, где мать — на работе. Ну ладно, поеду так, а там дождусь ее (она заведует всеми финансовыми вопросами). Вообще-то проводить время с отцом мне совершенно не хотелось, но уж больно охота было есть (весь запас из морозилки иссяк). Я посмотрел на себя в зеркало. Физиономия вошла в свои обычные рамки. Да, только вот побриться бы не помешало. Я тщательно побрился, стремясь довести щеки до младенческой гладкости.
И вот я сижу в задубелом от холода, тусклом трамвае. Недавний короткий разговор с отцом как-то сфокусировал на отце мое внимание.
Отец работал и сейчас работает инженером на заводе, насколько я знаю, все в том же чине. Уже в моем детстве он попивал, а сейчас пьет. Я думаю, если бы не мать, он уже давно бы меня догнал и перегнал. Все время, помню, он был мрачен, чем-то недоволен, неустроен. И даже не чем-то конкретным, а вообще недоволен; экая жизнь поганая, черт бы ее побрал! Он был как будто раз и навсегда чем-то обижен, ему было как будто отказано в чем-то, что ничем нельзя было возместить, и постоянное осознание этого, вглядывание в это было, похоже, главным и единственным содержанием его жизни. А вся эта мельтешня вокруг — жена, сын, работа, всяческие хлопоты — ну разве могут они здесь чем-то помочь? И разве может кто-то с него чего-то требовать? В чем-то отец, наверно, был сродни мне. Вот как сейчас вижу: отец после работы, как всегда, перед телевизором, развалившись в кресле (за этим креслом у меня укрепилась репутация отцовского), мать склонилась к нему, говорит что-то тихо, озабоченно, а отец брюзгливо, досадливо морщится на все и с горькой безнадежностью машет рукой — отцепись, мол, без тебя тошно. Отец мало замечал меня. Иногда он, впрочем, как бы спохватывался и начинал «уделять мне внимание». Ничего хорошего из этого не выходило. Изредка он брал меня на рыбалку. Я одуревал там от скуки. Еще мне было мучительно жалко рыб; я просто не мог смотреть на них, уже пойманных, да еще так подло, за губу. Жалость к рыбам я еще мог скрыть, но свою смертную скуку не мог. И отец едва ли не до слез обижался на меня, как на ровню. Мне было и жаль его — уже тогда, и вместе с тем стыдно за него. Ну что он как дите! То же самое с шахматами, иногда он усаживал меня в них играть. И опять, в процессе игры, все больше распалялся в своей досаде на мою невнимательность, тупость. А я ничего с этим не мог поделать, ну ей-богу! И жалко его, и опять… стыдно.
Трамвай поворачивал под прямым углом, потом опять шел прямо, потом опять поворачивал и так далее. Несть числа. Свет с улицы лился в него.
Как сейчас вижу: у нас в квартире не то ремонт, не то сборы в дальнюю дорогу, короче говоря, ситуация, когда каждый должен быть мобилизован, каждый должен быть наготове. А отец сидит на кухне, перед ним две бутылки пива; он со смаком подливает, со смаком закуривает. Все очень неторопливо. Кайфует человек. Блаженствует. Мать деловито, сосредоточенно ходит по квартире, делает то, что надо делать. Только губы не по-хорошему поджаты. Понятно. Мать в бессильной ярости на отца. И сейчас он не может забыть свое пиво!
Да! Пиво «Жигулевское». Куда оно делось? Что-то не слыхать…
А вообще у меня с отцом связана только одна отчетливая, вечная ассоциация: бормотание телевизора за стеной. Я знаю: это за стеной отец смотрит телевизор. Дверь в родительскую комнату часто приоткрыта, и я вижу черно-белый экран телевизора, вертикально, параллельно обрезанный с двух сторон.
Но мать-то какова! Содержит двух оболтусов. Мать-героиня, действительно. Не думаю, чтобы отец зарабатывал сильно больше меня. Ну, скоро матери придется содержать только одного оболтуса.
И вот, наконец я доехал. Сижу на кухне в квартире родителей. Отец рядом, углублен в газету. Его горячо волнуют судьбы России, хотя при любых ее судьбах ему все равно бы ничего не светило. Я сижу на табуретке перед кухонным столом. Стол кругл и пуст, как арена; только с краю лежит сухая серая тряпка, свисая с него. На холодильнике стоит маленький телевизорчик, уже давно не работающий. С тех пор, как здесь жил я, здесь мало что переменилось. На занавесках какой-то узор, он, кажется, что-то изображает, но, что именно, я так и не понял за несколько лет. Отец то и дело откашливается, с неприятным звуком, похожим на отхаркивание. Слава богу, что он углублен в газету, а то с родителями мне всегда мучительно не о чем говорить. Я режу свежий пузырчатый хлеб, пружинящий под ножом, наливаю щи (там много мяса) в маленькую кастрюльку, ставлю кастрюльку на газ. Взгляд случайно упал на отца. Седой, седой, совсем седой… Алкоголические мешки под глазами, лицо серое, как старый забор. Отпустил баки зачем-то. Теперь он похож на опустившегося дворецкого, служившего когда-то в благородных домах. Он поддат как всегда, я это понял, когда он дохнул на меня в прихожей. Из-за отца в атмосфере дома есть что-то от атмосферы хосписа. Да еще по радио детский хор тянет что-то печальное и торжественное, словно опевая, отпевая отцовскую жизнь. Да и мою тоже. Стало как-то грустно. Странно, что я не воспринимаю этот дом как бывший отчий дом. Я узнаю здесь многое, я когда-то здесь жил, но я не чувствую ни ностальгии, ни вообще чего бы то ни было. Словно тот был не я.
Отец посмотрел на часы и, пробормотав что-то, вышел из кухни. Телевизор, наверно, пошел смотреть, как настоящий мужчина. Ну, еще лучше.
Посмотрел, что за книга лежит на подоконнике, раскрытая, переплетом вверх. И очки рядом. Посмотрел. Ремарк. «Время жить и время умирать».
Я чуточку вздрогнул. Настолько это соответствовало моему теперешнему положению. Я, кажется, даже почувствовал мурашки по спине. Да, было время жить. А теперь… другое время. Когда-то было время жить…
Снял щи с плиты, стал есть. Есть очень хотелось. Только где-то на половине тарелки перевел дух.
Наконец пришла мать. Кто-то вошел и завозился в прихожей, кто еще это мог быть?
Быстро вошла в комнату, даже не раздевшись, не разувшись. Убедилась, что это я, да заодно проверила, как я выгляжу. И пошла назад в прихожую.
Пришла, спросила о делах. Я, чувствуя большую неловкость — я всегда ее чувствую, когда приходится клянчить деньги, что неудивительно, — начал выдавливать из себя: понимаешь, договор в воздухе повис… тетка одна заболела… от нее все зависит. Денег я тебе подкину, сказала мать, и я сразу же почувствовал огромное облегчение. Ты как там, не пьешь, шутливо-серьезно спросила мать. Ну, что ты, мама.
А сама смотрит на меня с какой-то опаской, как на ненормального, словно опасаясь, что я сейчас что-нибудь выкину. С детства помню этот ее взгляд. Черт его знает, может, так только кажется. Но давно кажется, всегда казалось.
Мать подала мне две приличные купюры, я с ужимкой принял их. Ну все, позор позади.
Но это было, оказывается, не все. Мать сказала, что пора что-то делать с моими зубами. (Одного, причем верхнего переднего, у меня нет, а среди остальных половина гнилых. Верхнего зуба я лишился этим летом — пил с какой-то незнакомой компанией, о чем-то заспорили, я сказал что-то не так (даже и не помню что); тот, с кем я спорил, сделал какое-то непонятное, быстрое движение, и я в тот же миг увидел звездное небо над головой. Утром проснулся — зуба нет.) Я было попытался отвертеться от зубов, но мать была тверда, а то вид у меня «как у бомжа». Я со вздохом покорился. Вдруг вспомнил, что зубы же дорого стоят, а это значит, что сейчас мне дадут еще деньги, много денег. В ту же секунду я решил, что их пропью. Решил моментально, необратимо. Чувствовал ли я угрызения совести? Нет. Человеческие законы нравственности отступают, становятся неприменимыми, когда речь идет о том, чтобы мне выпить; точно так же логика отступает, когда дело доходит до Божественного. У алкашей с совестью вообще туговато, это слишком большая роскошь для них. Тут надо выбирать: либо иметь совесть, либо пить. Я имею в виду — по-настоящему пить. Да и после моей Аннибаловой клятвы все это представлялось сущей чепухой.
Мать, чертя ручкой по бумажке, объясняла мне, как проехать, записала имя и отчество той, к кому надо обратиться, записала ее телефон, а я не слушал ее, внешне, конечно, изображая внимание.
Я получил толстую пачку денег вполне осязаемой толщины. Уже давно вид денег волнует меня. Нет, не из-за любви к деньгам. Если денег много, то прямо дух захватывает, и чем больше, тем сильнее. Сейчас дух захватывало довольно прилично.
Я раскланялся. Может, посидим еще, чайку попьем? Да нет, поеду, поздно уже. Спасибо. Спасибо. Зубы обязательно. Сейчас щи пивом запью (это уже, конечно, про себя).
Долго не мог найти пива в районе родительского дома. Но, в конце концов, нашел, куда б я делся. Ну и, естественно, водки купил.
С такими деньжищами в кармане я был твердо уверен в завтрашнем дне.
Я хочу сказать кое-что. Я пьян, но я скажу. Курт Воннегут говорит (в шутку, разумеется), что для зачатья необходимо семь полов, просто остальные пять мы не видим. Ну так вот — и я один из тех пяти полов, без которых жизнь невозможна. Я отзываюсь, откликаюсь на что угодно. Я ценитель, восхититель. Моя специальность — обмирать от восторга и рыдать от него же. Если бы Робертом Скоттом не восхищались, то и Скоттов бы поубавилось. Если некому станет восхищаться той же Зоей Космодемьянской или парнем, ценой своей жизни спасшим (все равно не спас) девочку из озера с кипятком, то можно быть уверенным, что такие люди рано или поздно переведутся. Я — тот лавочник, который умер от разрыва сердца, смотря футбольный матч. Надо ли говорить, что без таких лавочников и Пеле бы исчезли? Итак, я ценитель, восхититель. И не только — еще я могу заражать восхищением. Ничего не было для меня лучше, чем угостить кого-то хорошей музыкой, хорошим стихотвореньем. Более того, я чувствовал, что просто обязан это делать. Прибегал ко всяким трюкам, типа — сядь на секунду, сейчас я тебе поставлю один момент, или, глянь, по-моему, ничего, в этом что-то есть. Я был прямо-таки счастлив, если мой, так сказать, пациент был заинтересован. Большей части было наплевать, но все-таки далеко не всем. Наверно, я был рожден, чтобы распространять прекрасное и высокое. Даже сейчас, уходя, я верю в высокое и прекрасное. Моя логика противоположна той, что получила у нас довольно широкое распространение: я дерьмо, следовательно, пусть весь мир будет дерьмом. Я никогда так не рассуждал. Дерьмо я, и только я. Ничего больше из этого не следует.
Я оказался недостоин своей миссии.
Недостоин? Да, недостоин. Сколько человек ты, так сказать, заразил? Хорошо, если за всю жизнь хоть десяток наберется. И что же мне было делать? В лекторы, что ли, идти? Да хоть бы и в лекторы, зря ты смеешься. Конечно, это слишком мелко для тебя, с твоими мегаломаническими понятиями, но лектор делает хоть что-то. Ты же не делал ничего, утешая себя тем, спасаясь в мыслях о том, что это как-то пошло, буржуазно, фи. В результате ты не воплотил то единственное в себе, что было достойно воплощения: делиться пережитым. Все лучшее в себе ты утопил в водяре. Вместо того чтобы делать что-то небольшое, но возможное (а так только почти и бывает в нашем мире), ты не делал ничего. Ты пил. А мотивы пьянства, как ты и сам знаешь, всегда до ужаса убоги. Они одинаковы и у дикого индейца, и у утонченного поэта. Возвышенных мотивов пьянства просто не бывает. Так что твое пьянство не менее пошло, чем если бы ты и в самом деле стал лектором.
А вот еще вариант: жил бы я в маленьком городке; я бы говорил о чем угодно: об экспедиции Скотта, о поэзии Маяковского, о музыке Шуберта, о картинах Ван Гога; естественно, при этом я бы повышал и повышал свой уровень. И меня, наверно, начали бы слушать. И даже наливать, может быть. Менты перестали бы меня трогать. Я бы стал местной достопримечательностью. Пусть и здесь питье, но все же это лучше, чем то, что делал я.
Я считал себя крайним, чистым типом. Может, чистый и есть крайний. Не знаю, не хочу на это отвлекаться. Я считал, что человек, конечно, не может жить как я, но такие примеры людям необходимы, чтобы не стать совсем скотами. Вот человек, который презирал все земное и жил исключительно в каких-то своих небесах. Такова была роль не то монахов, не то юродивых — напоминателей. Разумеется, не все люди могут стать монахами, но они должны видеть перед собой и такие примеры. Я ведь тоже по природе своей — напоминатель. И — хранитель. Я обязан передать то, что храню, следующему поколению, потому что то, что я храню, — оно тоже не мое. Для меня даже художник больше хранитель, чем творец. Передал ли я дальше? Нет. Пренебрег долгом, чтобы жить как можно легче, чтобы голова ни о чем не болела (на 90 % это формула пьянства). Такой человек — предатель, отступник.
В каких-то своих небесах… Мне бы и жить монахом какой-то неизвестной веры. Какой веры? Не знаю. Поэты, художники — монахи этой веры. И я бы мог стать монахом — хранить, распространять тоже дело нужное. Мог бы, но не стал.
Что ж, самой моей глубокой, заветной мечтой было уйти от мира. И я так и сделаю. То говорю — страсть делиться прочитанным, услышанным, то говорю — уйти от мира. Сам себя не понимаю. Наверно, во мне есть и то, и другое. И другое оказалось сильнее.
И другое оказалось сильнее…
В обычные, канонизированные небеса я никогда не верил. Был, правда, у меня такой период, когда вопрос о существовании бога казался мне не таким уж простым. Но после некоторого барахтанья в такого рода рассуждательствах я вдруг понял, что бьюсь над совершенно очевидным для меня вопросом: никакого бога, разумеется, нет. Вот и все. Более того, я не понимал, какие бы выгоды сулило мне существование бога. Мне не нужно никакой внешней помощи. Я готов и проигрывать, и платить, и страдать. Мне не нужна защита от судьбы. А если мне чего-нибудь ну очень захочется, я добьюсь этого и своими силами.
Но все-таки есть кое-что, чего бы я у бога попросил. Это сильных и постоянных желаний. Меня сгубило именно отсутствие их. Вот я только что говорил о невыполненной миссии, об отступничестве, а самому все равно, все равно. Я все это осознаю, но мне плевать. Лед в душе; я хочу только одного: пить. Забыться и заснуть.
Еще на минутку вернемся к чистым типам. Допустим, что они показывают какой-то хороший, нужный пример даже тем, кто не собирается этим примером воспользоваться в собственной жизни (и слава богу). Но я-то никому не подал пример. Зоя Космодемьянская ничего не успела сделать в тылу врага, но о ней хотя бы узнали. Про меня же не знает и не узнает никто. Друг разве… Но таким, как он, такие, как я, не больно и нужны; Шуберта он и без меня знает. Так что — выкинута жизнь. И черт с ней. Я слишком устал. Слишком устал… Устал…
Жизнь давно сожжена и рассказана…
Зову тебя, о смерть! Пьяный я совершенно не боюсь смерти. Правда, помереть только тогда легко, когда тебе этого не надо.
Любовь, посети меня в мой предсмертный час! Любовь, которой в жизни не бывает, но, может быть, хоть теперь ты откроешься мне! Я никогда не был счастлив с женщиной. Всегда с какими-то оговорками, с внутренними барьерами. Нет, не блеснет мне любовь улыбкою прощальной.
Я был три года влюблен в свою одногруппницу. И все три года не решался заговорить с ней. Ха-ха-ха!
Я лежу на полу. Я пью уже с неделю, даже побольше. Я теперь не хожу, я ползаю на четвереньках. Я не помню, почему я приполз на кухню. Я вижу крошки, пылинки, какую-то свалявшуюся пакость. У ножки стола, той, что ближе к окну, посверкивают бутылочные осколки. Это я когда-то разбил бутылку, да осколки недовымел. Еще я вижу батарею под подоконником. Прошли первые дни, когда я устраивал роскошные оргии, экстазы, слушал Бетховена симфонию за симфонией, читал Маяковского. Теперь в моей комнате тишина. Ни слушать, ни читать ничего я уже не могу. Я вообще уже плохо понимаю, что происходит. А! Собака лает. Я, по-моему, уже слышал эту собаку. Тот же необъяснимо яростный, лютый лай. Я перевернулся на спину. Теперь я вижу потолок с небольшими островами желтых потеков и лампочку. Впрочем, плохо вижу, сейчас сумрак. Время дня-то какое? Подумал, подумал, не понял. Хотя какая разница. Время дня нужно лишь для того, чтобы узнать, работают ли ларьки. Да и это не нужно. Один ларек работает и ночью. Сколько перебегано туда было… А сейчас я набрал целый рюкзак. Продавщица спросила, не собираюсь ли я на Северный полюс. Я ответил, что собираюсь. Как Скотт когда-то. А теперь попробуем встать. Не знаю, зачем мне это, но встать захотелось. Я уцепился двумя руками за кухонную дверь, которая норовила отъехать, и в несколько попыток, в несколько приемов встал. «А вот так когда-нибудь и не встанешь», — совершенно равнодушно подумал я. Может быть, это «когда-нибудь» уже недалеко. Сделал шаг, другой, хватаясь за стены. Наблевано у кровати и у балконной двери. У балконной двери-то зачем? И еще мои листы с записями разбросаны по комнате. Непонятно, как так получилось. Не помню, чтобы я их читал. На противоположном доме мигает свет. Не в одном окне, а мигает вся стена. Что это? А, понятно, электросварка. У кровати стоят таз для блевания (все равно один раз крупно промазал), бутылка водки и пузырь русского кваса. Никакой питьевой посуды. Так, значит, из горла и садил. Хотел было посмотреть на мир через балконное окно, но вспомнил, что проход заблеван.
Отвратительная сонливость целый день. Вот, кажется, закроешь глаза и заснешь. Но хрен ты заснешь. Хрен. Дикий непорядок в пластинках. Похоже, вмазал по ним ногой, да и не один раз, многие растоптаны, расколоты. Не помню, зачем я это сделал. В каком-то, вероятно, порыве? А в чем был порыв? Не помню. И не хочу помнить. Что-то устал я стоять. И я сел на пол. Листы валялись вокруг меня. Я взял первый попавшийся да посмотрел — письмо Бетховена. От некоторых писем Бетховена я так торчал, что переписывал их, и даже по многу раз переписывал.
«Прошу Вас, дорогая Жозефина, переслать эту сонату Вашему брату. Благодарю Вас за то, что Вы создаете еще видимость, будто бы я не совсем Вами предан забвению, благодарю и в том случае, если это сделано Вами, быть может, больше по побуждению других. Вы хотите, чтобы я Вам сказал, как мне живется? Более трудного вопроса передо мною нельзя было поставить, и я предпочитаю оставить его без ответа, чем отвечать слишком правдиво. Прощайте, дорогая Жозефина.
Как всегда Ваш, навеки Вам преданный Бетховен».
Внизу сноска, какую именно сонату надо передать брату Жозефины. Оказывается, «Апассионату», которая ему посвящена.
«О люди, считающие или называющие меня неприязненным, упрямым, мизантропом, как несправедливы вы ко мне!»
Даже сейчас от этой фразы что-то пока еще шевелится во мне.
Но, впрочем, все это уже в прошлом. Это — для живых.
Ну и еще две записи из этих «разметанных листов». Без комментариев.
«…Этим утром погода как обычно была хорошая. Уже недели три она была такая. Утренняя прохлада уже кончилась, но дневная жара еще не началась. Они возвращались по летнему солнечному шоссе. На сегодня работы оказалось немного, их отпустили рано. Потаскали батареи, еще какой-то хлам, в основном ждали, что еще скажут таскать. Сидели на чем попало, перекуривали. Их начальник не очень усердствовал, наконец не смог придумать, чем в очередной раз их занять, и отпустил. И теперь они возвращались, весьма довольные. Шли неторопливо. Навстречу почти никого не попадалось. Пару раз садились перекуривать у шоссе. Не то чтобы хотелось курить — достаточно наперекуривались, — а просто так. Очень уж хорошо было. Сидели в траве, молодой, но уже высокой, взрослой. Сняли рубашки, обвязались ими вокруг пояса, потом так и шли. Дошли до своего квартала, пересекли двор, потом еще один.
В парадном было прохладно. Ехали в тесном лифте. Потом стояли на балконе, курили, плевали вниз. О чем-то разговаривали, о чем-то смеялись. Он оглядывал свой родной квартал с непривычно высокого этажа. Плевок летел долго.
Потом врубили магнитофон. Они завалились на диван, а он устроился на полу.
Начать бы жить сначала… Зачем, чтобы не повторить ошибок? Да нет, не было никаких ошибок. И не бывает никаких ошибок. А чтобы то утро еще раз повторилось…»
«…Каждое первое сентября он шатался по родному кварталу. Он смотрел на людей, толпящихся на остановке, на шоссе, на дома и как будто спрашивал что-то у них. Но они были ненадежны, они, как будто сговорившись, прятали что-то от него. Дома особенно. Уже рано начинало темнеть, во многих окнах уже горел свет, и дома в темнеющем воздухе становились все ненадежнее и ненадежнее. А он все не мог понять. Он был еще по-летнему в рубашке, деревья были еще совсем зеленые, погода только, как правило, была плохой. Но и летом бывает плохая погода, и как отличить? Так что обожаемое лето было на месте. Он смотрел на деревья и проверял: на месте, на месте? Но все-таки нет, не то, не то! Что-то непоправимо сдвинулось, надломилось. И на деревьях кое-где все-таки проглядывает предательская желтизна. А когда показывалось солнце со своими тяжелыми лучами, то становилось только яснее, что уже осень. Но он все ходил и ходил, цепляясь взглядом за пыльные летние лопухи у дороги.
Как-то раз он услышал в песне: „Снова птицы в стаи собираются“. И с тех пор он всегда замечал, что осенью птицы действительно собираются в стаи. Их ждала за моря дорога дальняя. А где-то затрепыхалась, забила крыльями курица, взлетела и уселась на чурбак. Он смотрел на птиц, и в нем тоже что-то начинало биться, дрожать, трепыхаться: пора, пора, пора, пора».
Они появились, когда было совсем темно. Что это, белая горячка, что ли, не без юмора подумал я. Но это была не белая горячка. Входная дверь распахнулась настежь, и лестничный свет осветил прихожую. Там были: моя мать, какой-то бородач, еще кто-то, чей пол я даже не разобрал; за всеми маячил отец. Точно, у них же ключ есть. Водку не успел допить, вот черт. Это были мои первые мысли. Бородач снял плащ и оказался в белом халате. Его спутница (теперь я уже мог это сказать) тоже оказалась белохалатницей. Отец все возился в прихожей. «Тапок нет», — донеслось до меня хмурое бурчание отца. «Да проходи ты так, господи боже ты мой!» — ответила мать на грани взрыва. Она, в своей черной каракулевой шубе, каблуками простучала в комнату, встала надо мной. Какое старое, мертвое ее наштукатуренное лицо. Но глаза живые, лихорадочно сухие. В каждом ее движении было что-то мечущееся, непонятно, что именно. Знак беды, подумал я, когда по дому ходят одетые по-уличному. Белохалатники раскрыли свой чемодан.
— Ты меня узнаешь? — зачем-то спросила мать.
— А то как же, — ответил я, хитро погрозив ей пальцем.
Отец куда-то пропал. Не иначе, отправился на кухню пиво пить. Сейчас сидит на кухне, кайфует, курит сигареты «ВТ», которые когда-то считались хорошими. Восемьдесят копеек, а не пятьдесят. Или нет, семьдесят?.. Ну, неважно. Я так явственно представил себе отца с пивом, что аж расхохотался.
— В чем дело? — испуганно спросила мать, взяв меня за руку.
— Да так, ерунда, — ответил я.
Белохалатники никак не реагировали.
И тут я понял, что я же пьяный, а пьяный имеет право молоть всякий вздор. Священное право пьяного. И я начал читать «Флейту-позвоночник», третью часть. Врачи, по-моему, меня не слышали. Физически не слышали, как не слышишь тиканье часов. Большой у них опыт. Наконец я кончил.
Видите — гвоздями слов прибит к бумаге я.Я испытал огромное удовлетворение от просвещения этих простолюдинов.
В мою руку воткнута игла от капельницы. Бородач воткнул ее туда своей мясницкой волосатой лапой. Сейчас они, притащив обе табуретки с кухни, сидели, перекуривали. Мать, кажется, тоже слегка успокоилась.
— Скажите, а что в капельнице? — светским воркующим тоном, будто преподавая кому-то урок любезности, спросил я бородача.
— Ну, раствор Гартнера тебя устроит?
Я засмеялся. Мне понравилось, как он это сказал.
Они ничего не знали. Они не знали, что это только увертюра. А опера еще впереди.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

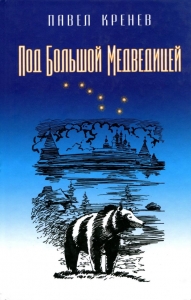



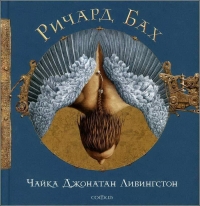
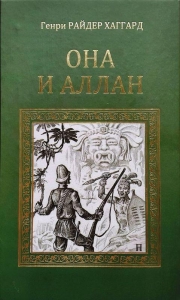
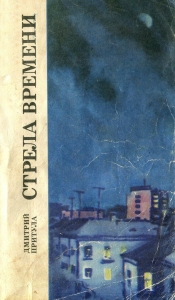

Комментарии к книге «Отступник», Павел Александрович Мейлахс
Всего 0 комментариев