Владимир Дягилев ВЕСЕННИЙ СНЕГ
ОТ АВТОРА
Действие моей повести «Весенний снег» относится к концу 50-х — началу 60-х годов. Оно связано с медициной, с ее проблемами и заботами.
За последнее время медицина шагнула далеко вперед и добилась выдающихся успехов по всем линиям и каналам, начиная с профилактики детской смертности и кончая космической медициной.
В войну усилиями медиков было спасено и возвращено в строй свыше 72 % раненых, а в мирное, послевоенное время врачи одолели многие недуги: туберкулез, малярию, остеомиелит, научились бороться с болезнями легких и сердца, некогда грозными и беспощадными, и побеждать их. Но и сейчас существует еще немало проблем, ждущих своего решения.
Некоторые случаи из врачебной практики, упомянутые во второй части повести, взяты из автобиографической книги Ф. Г. Углова «Сердце хирурга» с согласия автора, за что сердечно благодарю Федора Григорьевича. Но основной материал книги — опыт войны, беседы с сотнями коллег, десятки виденных операций, судьбы множества людей, личный опыт.
Мечтаю дожить до времени, когда не будет «синих мальчиков», когда люди забудут о болезнях, когда человек в белом врачебном халате станет символом здоровья и радости.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Из-за дальнего лесочка показалась грузовая машина, идущая на большой скорости. На мгновение густое облако пыли прикрыло ее, но тотчас ветер-степняк отвел облако в сторону и как бы освободил путь машине.
Первым заметил ее Васюков Ивашка, выглянувший из-за амбара, за которым мальчишки играли в бабки.
— Э-э! — воскликнул он, вскидывая руку с битком над головой. — Ктой-то гонит.
— Колхозный «газ», — авторитетно заявил Минька Зуев.
— Это дядя Саша па своем дизеле, — не согласился Матвейка Дерибас, подошедший к ребятам.
— А то вовсе палавос, — произнес самый младший, четырехлетний Гринька, брат Матвейки.
Ребятишки дружно захохотали.
— Ой, сказанул! — подвизгивал Ивашка. — По дороге! Без рельсов!
— И дым идет, — настаивал на своем Гринька и, вдруг обидевшись, кинул в Ивашку бабкой.
Он был хотя и меньше всех, но не любил, когда над ним смеются.
— Ты что? — подскочил Ивашка, сжимая биток в кулаке.
— Ну, буде, — заступился за брата старший.
— Скажешь, не больно?
— И то, — поддержал Минька.
Они, наверное, подрались бы, но машина продолжала мчаться, и это обстоятельство отвлекло ребятишек от ссоры. Не так часто приезжали сюда грузовые машины.
Обычно наведывался председательский «газик» или Никита Прозоров тарахтел на своем новом мотоцикле с коляской — гордости всех Выселок.
Появилась васюковская бабка Анисья, подперла заплот морщинистыми руками:
— Чо там, робята? Кого видно?
— Машина только.
— Чо машина-то?
— Ну едет.
— Чо едет-то?
Неожиданно хлопнул крыльями и пронзительно закукарекал общипанный дерибасовский петушишка.
— О, язви те! — напугалась бабка Анисья.
Напугалась и прозоровская Пальма — рыжая сука, любимица выселковских детишек, — залаяла часто и отрывисто. На ее лай на крыльцо вышла бабушка Марья, огляделась и, сделав руку козырьком, уставилась на дорогу.
Вскоре все не работающее в этот августовский день население Выселок, от малого до старого, высыпало на улицу.
По тому, как гнали машину, как беспощадно выжимали скорость, всем было ясно: что-то стряслось. Но с кем? Что? У кого?
Машина скрылась за ближним лесочком, вынырнула у самого озера, повернув к домам боком, и, круто вырулив, оказалась у первого от дороги, зуевского дома. Она еще не остановилась, еще взвивала пыльный хвост, еще не сбавила скорости, а по дворам уже неслось:
— Никита Прозоров.
— К Прозоровым.
— У Прозоровых.
Машина скрипнула тормозами так, что закудахтали куры на подворьях, и действительно остановилась напротив Прозоровского пятистенка. Из кабины вылетел Никита Прозоров и в несколько прыжков очутился на крыльце подле бабушки Марьи.
Он что-то сказал ей, и та охнула, припала к его груди и задрожала плечами.
Десятки глаз наблюдали эту немую сцену, пытаясь понять, что же она означает: радость или горе?
Сцена длилась секунды, а потом бабушка Марья оторвалась от груди внука, истово перекрестилась и суетливо кинулась в дом. Рыжая Пальма подскочила к хозяину, завиляла хвостом. Никита подхватил ее на руки и тоже шагнул за порог.
И тогда все поняли: радость. И заспешили к Прозоровскому дому, потому как в маленьких Выселках так было испокон веков заведено: и радость и горе — общие.
Выселки стоят на пригорке и хорошо просматриваются со всех сторон. Пойдешь с запада, от дальних лесов, — они выступают над горизонтом; с юга, от села Медвежье, — они как горошина на ладони; с севера, от большой деревни Матасы, — снова они открываются взгляду; с юго-востока, от станции Малютка, — опять же на них глазом наткнешься.
«Там, на востоке, значит, Сибирь, там, на западе, Урал, а наши Выселки между ними. Мы как раз посредине России», — отвечают взрослые на первый вопрос детей: «Где мы живем?»
Село Медвежье, до которого, как здесь говорят по старинке, пять верст, — главное для Выселок. Там и правление колхоза «За власть Советов», там и школа, там и Дом культуры. Медвежье для них все. Выселки при нем как ребенок при матери.
Существуют Выселки более ста годов. Старики рассказывают, будто бы давным-давно, еще при их дедах и бабках, выслали сюда, в медвежью сторону, какого-то поднадзорного политического и будто бы для надежности поместила его местная власть вот сюда, на пригорок, где стояла одинокая сторожка: «Студено, поди, зато совсюду видать. Не околеет паря, а околеет — туды и дорога. Перед господом богом мы чисты, а перед царем-батюшкой он сам ответ держал».
Не околел поднадзорный. Каким-то чудом зиму пережил, а к весне у местных властей милости попросил: избенку поправить человека в помощь дать. Власти уважили прошение, отметив живучесть и спокойствие поднадзорного, и выделили в помощники Прозорова Прова, пребеднящего мужичонку.
Сделал Пров свою работу, помог поднадзорному да в свою очередь обратился с прошением: дозволить остаться при избушке. Власти поначалу призадумались, а потом решили: все одно толку от Прова мало, мужичонка никчемушный, в работниках ходит, а для дела польза. «Смотри, — наказали власти, — за этим каторжным в оба. Смотри, язви те… В случае чего — сам на каторгу пойдешь».
Пров будто бы дал слово, а по весне к миру обратился: выделить лошадь — леса привезти, сараюшку поставить. Мужик он был тихий, услужливый, непьющий — уважили.
А еще через год к избушке на пригорке от Медвежьего тропинка появилась. Пров будто бы грамоте обучился — прошения, письма, бумаги писать. Власти вначале затревожились было, запрет на посещения наложили, а потом обратный ход дали: Пров-то свой, он-то не ссыльный, а люди-то к нему идут.
Платы Пров не брал, одно просил: пособить. То колодец вырыть, то пригон поставить, то соху на один денек вместе с лошадкою одолжить. Вот с того времени пособлять друг другу и вошло в Выселках в плоть и в кровь.
А дальше будто бы поднадзорный-то умер. А Пров женился. Жену в домишко привел. Потом лошаденку, коровенку завел, хозяйство, одним словом. И были у них сын Никита и дочь Варвара. Никита этот на русско-японской войне был. Вернулся с нее хромой, да не один, а с товарищем. «Костыля притащил», смеялись в Медвежьем. Фамилия «костыля» была Дерибас. Женился он на Варваре, сестре Никиты, и поселился там же, на пригорке, в Выселках. Мастеровой мужик был этот Дерибас, по кузнечному делу. Работал в Медвежьем, у Силантия-богатея, а ночевать ходил в Выселки. Вскоре с помощью общества и он там избушку поставил. А позже появились Зуев, Васюков, Нетбайло, Волобуев. И вот тогда-то именно официально и возникла деревенька эта.
Но ее так Выселками и звали. Первая коммуния. Во времена кулацкого восстания коммунию спалить хотели, да старик Никита-хромой — а он говорун был — объяснил:
«Дак нам по-другому никак нельзя. Войдите в положение. Мы ж все малоимущие. Сопча получается, а поодиночке — перемрем. А насчет названия — сменить согласны. Пущай артель будет. Войдите в положение».
Как ни странно, вошли в положение, не сожгли деревню, только наблюдателей своих оставили.
А Никиту-хромого на колодезном журавле повесили за вредную агитацию. В лютый мороз висел он трое суток, покачиваясь, как маятник, и позванивая, как колокол. Когда восстание подавили, похоронили Никиту-хромого всем миром. Из Медвежьего пришел народ.
Флаг принесли. А свои-то все были. Тут уж завсегда и горе и радость общие. Как в войну потом, бывало, «похоронка» придет — всей деревней плачут.
В войну здесь за главную была бабушка Марья, Марья Денисовна, бригадир-полевод. Она орден за колхозную работу получила. Этим орденом Выселки до сей поры гордятся. Еще есть награды в зуевском, в дерибасовском домах, но то ордена мужские, боевые, а этот — трудовой, бабий, равный боевому. И еще будто бы сказала в те военные времена Марья Денисовна такие слова: «Россия-то с нас начинается…»-«Это мы с России, бабушка», возразили будто бы те, кто помоложе. «Не в том направлении, — разъяснила Марья Денисовна. — А в том, каково нам, таково и России. У нас хлеб будет — Россия не пропадет с голоду и Гитлерюгу проклятого одолеет». Сама Марья Денисовна этих слов не подтверждает, а старшие повторяют их детям и внукам своим:
«Россия с нас начинается. Какими вы будете — такова и она. Значит, растите умными, да — работящими, да совестливыми».
Сейчас Выселки были возбуждены внезапным приездом Никиты Прозорова. Все взрослое население толклось в Прозоровском доме, а ребятишки подле машины. Впрочем, и здесь уже знали, в чем дело.
— Вера Михайловна родила, — сообщил Ивашка, сумевший просунуться в общество взрослых. — И вес уже имеется. Боле трех кило.
— Да кто родился-то? — серьезно спросил Минька.
— Мальчишка.
— Вот с этого и начинай.
Дальше они занялись осмотром машины, и события в доме отошли для них на второй план. Шофер с темным от ныли круглым лицом снисходительно дозволял им залезать в кабину. Ребята по двое, согласно очереди, устраивались рядышком с ним и важно сидели несколько секунд, стараясь углядеть все устройство и обстановку и одновременно реакцию товарищей на свое пребывание в кабине. Если кто-нибудь задерживался, его бесцеремонно стягивали за ноги.
— Давай по-честному! — орала ватага.
А в избе тоже стояли гвалт и суета. Все наперебой поздравляли бабушку Марью, будто она и была виновницей радости. Никита носился по дому, расталкивая земляков, открывая то сундук, то шифоньер с зеркалом, то деревянный шкаф домашней работы, что-то искал, перебирал тряпки, убегал на кухню и вновь возвращался в горницу.
— Ну, слава те, пресвятая богородица, — повторяла бабка Анисья, поглядывая по углам, и, не найдя иконы, крестилась на портрет маршала Жукова в самодельной рамке.
— Стало быть, свершилось, Денисовна, свершилось, — твердил старик Волобуев и покачивал головой, словно подтверждая свои слова. — Стало быть, есть правда, есть.
— Вот и моему Володеньке дружок объявился, — говорила невестка Волобуевых, крепко придерживая младенца, смотревшего на всех неморгающими глазами. — А то все думала, с кем же ему играть, когда подрастет? Ровни-то не было.
— Бабаня! — крикнул Никита. — Машина ждет. Помогите же. Что везти-то? Где оно?
Бабушка Марья всплеснула руками.
— И верно, люди. От радости-то мозги набекрень… Да все готово, все как в кармане.
— Гостинцев-то, господи! — воскликнула бабка Анисья и, в последний раз перекрестившись на портрет маршала Жукова, выскочила из горницы.
За нею поспешили остальные. Через минуту-другую к машине уже несли узелки, туески, крынки — кто что.
Из дому выбежал Никита. За ним трусцой бабушка Марья.
У него в руках рюкзак, у бабушки — узел.
— Будет, будет, бабаня, — на ходу отказывался Никита. — И так ей за неделю не поесть.
У машины толпа. При появлении Никиты люди наперебой загалдели:
— А вот грибочков, Никитушка, в дальних лесах собирали.
— А вот рыбки, рыбки, это, стало быть, пользительно.
— И ничего, и ничего, — соглашалась бабушка Марья, заталкивая в кабину свой узел. — Сама не съест — другие пусть.
Никита махнул рукой.
— Эх и гульнет сегодня роддом!.. А ну, ребятишки, сидай в кузов. До леска довезем.
Ребятишки с визгом посыпались в кузов. Машина заурчала, тронулась, развернулась за последним домом и проскочила по единственной улице, провожаемая улыбками и возгласами.
Сегодня в Выселках общая радость, праздник, которого все ждали много лет. Тут всё на виду, всё на людях. У соседей на глазах проходила любовь и жизнь Веры Зацепиной и Никиты Прозорова.
К Прозоровым вообще отношение в деревне особое.
«Это — главный корень», — говорят о них старики.
А «главный корень» чуть не погиб было. Яков Никитич Прозоров, отец Никиты, не вернулся с войны. Марья Денисовна осталась с двумя внучатами на руках, Никитой и Соней. Духом не пала — не до того было, да и кругом свои, из десяти дворов пять — родственники, а и чужие как родные. И в Медвежьем родня, две сестры — Ольга и Полина. А брат Семен тоже погиб на фронте под городом Старая Русса.
Детей тогда поднимали всей деревней. Не на сладостях росли, не в довольстве, а в работе, на природе, матушке-кормилице.
Ничего. Поднялись военные дети. И поскольку мужиков мало осталось, на мальчишек по-особому глядели, в них видели будущее. Марья Денисовна так и говорила:
«Не погиб еще Прозоровский корень, Никитушка — отросточек, веточка зеленая растет».
Однако эту зеленую веточку Марья Денисовна не укрывала от холодных дождей и житейских бурь. Внучка по дому хлопотала, а Никита всюду с нею, с Марьей Денисовной, был — в поле, при пашне, при хлебе. Всю крестьянскую работу с детских лет изучил. Собственно, он и не понимал ее как работу. Это была жизнь, то главное, для чего человек на свет рожден, чем занимались его отец, дед, прадед. В военные годы Никита за сеялкой ходил, бороновал, за скотиной приглядывал — больше делать ничего не мог, поскольку мал еще был. Война кончилась — ему десять лет стукнуло. Учился, конечно, в школе, в Медвежье бегал. Зимой бабка Анисья ему свои пимишки одалживала.
«Мне-то ничо, при доме-то ничо, а ты тряпки насувай и с богом», Никиту любили, потому что безотказный был, шустрый, старательный. На вид мосластый, кости торчат, а выносливый. «Он у тебя двужильный, Денисовна», — говорили соседи.
За делами, за заботами как-то незаметно вытягивался Никита. «Ну как есть дягиль тянется, прет кверху да и все», — замечали соседи. «А ничо, ничо, — отвечала за внука бабушка Марья. — Были б кости, а мясо нарастет».
Еще в школе Никита изучил трактор, а в шестнадцать лет трактористом работал. Все чего-то кумекал, приспособления разные придумывал, не по одной, а по две сеялки к трактору цеплял.
В передовые вышел. В семнадцать лет его фотография на Доске почета при правлении висела.
Русый чуб у Никиты появился, брови над карими глазами загустели. Все бы хорошо: и статен, и ладен, да больно скуластый. «Денисовна, какой татарин, а может, монгол не нагнал кого из сродственников?» — спрашивали по пьяному делу полушутливо у своего бригадира товарки. «А может, и нагнал, — отвечала она. — А вот обид на внука не имею. Род наш не срамит».
В армию Никита пошел молодец молодцом.
«По старым-то бы временам в лейб-гвардию, — заключил старик Волобуев. Оно и в артиллерию почетно».
Отслужил Никита сколько положено и вернулся в Выселки. Так уж заведено было: что б там ни произошло дальше, а из армии домой возвращайся. Таков наказ стариков был. А в Выселках еще слушались стариковских наказов.
Вернулся Никита, устроился механизатором и в вечерней школе доучиваться стал. Работал и учился в Медвежьем, а жил в Выселках. Через год объявил: «Бабаня, жениться думаю. Какое будет ваше мнение насчет этого шага?» Когда узнали, на ком Никита жениться собирается, — единодушно одобрили: «Прозоров он и есть Прозоров. Тут уж что говорить. Маху не даст».
А взять в жены он задумал учительницу Веру Михайловну.
«Врач из выселковских в Медвежьем есть. Зоотехник тоже наш. А теперь вот учительница нашенская будет», — говорили в Выселках.
Миниатюрная Вера Михайловна казалась девочкой против рослого и широкого в плечах Никиты. С виду такая задиристая, носик вздернут, на щеках веснушки, сама с рыжинкой: надень брюки — за подростка сойдет.
Ее и любили, особенно мальчишки. Учила она хорошо, понятно. Историю и географию вела. Про путешествия рассказывала. А после уроков спортом занималась, бегала, на лыжах каталась, всегда вместе с учениками была. Ученики души в ней не чаяли. Когда узнали, что она с Никитой познакомилась, боялись, что обидит, ходили следом чуть ли не всем классом.
«Знаете что, — сказала им однажды Вера Михайловна. — Не бойтесь за меня. Я за себя постоять сумею».
Тогда Ванька Беляев догадался: «У них любовь, ребята!» И они перестали бояться за свою учительницу.
Только самая любопытная Маша Брыкина не удержалась, пошла посмотреть на любовь. Все давно знали, где по вечерам бывает их учительница с Никитой Прозоровым. Под Выселками, у озера. Там лесок и берег пологий. Так вот у крайней березы они всегда и сидят.
«Ой, девчата, что я видела! — делилась с подругами Маша Брыкина. — Сидят они у березы. Вокруг красота.
Все поле в багрянце. А они смотрят и вдыхают эту красоту… А еще я заметила, что они молчат. Об этом я читала. Настоящая любовь не требует слов, те, кто любит, сердцем говорят».
Действительно, Никита и Вера говорили немного, будто наслаждались тишиной. Одну только фразу Вера повторяла часто: «И пошто я тебя полюбила?» Она повторяла ее пе столько для Никиты, сколько для себя, словно старалась разгадать секрет этого чуда. Вообще-то она никогда не говорила «пошто». А тут само так получилось, вырвалась эта фраза, как крик, и понравилась ей.
«Я ведь никогда не думала, что мужем моим станет деревенский парень из Выселок. — Она прикрывала Никите рот ладошкой, чтобы он не возражал и не обижался. — Ты самый лучший. Я ни о чем не жалею. Но… пошто я тебя полюбила?»
Никита молчал, ошеломленный ее близостью. Только начало их знакомства представлялось ему обычным, все остальное — как в сказке. Познакомились они в Доме культуры на молодежном вечере. После самодеятельности завели танцы. Тогда еще под баян танцевали (теперь под радиолу). А в перерыве между фокстротом и полькой устроили пляску. Плясали в те времена с еще большей охотой, чем танцевали. Никита только что вернулся из армии, еще в форме был. Стоял в сторонке, наблюдал штатское веселье, от которого он успел отвыкнуть. Старые дружки пристроены были, он один в холостяках ходил. Уже, помнится, уходить собрался. И тут заиграли «барыню». В круг влетела задорная девчушка и так лихо застучала каблуками, с таким вызовом обвела всех блестящими глазами, что Никита приставил ногу.
А девчонка, пройдя круг-другой, задержалась как раз напротив него и так азартно тряхнула головой, так на него вызывающе глянула, что пришлось Никите войти в круг. Ну, плясать он и сам умел. Когда-то здесь же, в Медвежьем, призы брал. Да и в армии на полковой сцене выступал. Здешние-то об этом знали, а девчонка, верно, нет.
И началось. Девчонка коленце выкинет, а он два.
Девчонка юлой, а он ползунком полный круг. Девчонка с каблучка на каблучок, а он — свой коронный номер — обратное сальто.
Народ кричал от восторга. Хлопали им, как настоящим артистам.
А потом Никита столкнулся с нею в вечерней школе.
Она оказалась учительницей истории и географии. Урок был, между прочим, последний, и Никита отправился провожать Веру Михайловну.
Они начали встречаться. Он к ней заходил, брал книги для чтения, все о путешествиях-«Пять лет в стране пигмеев», «С палаткой по Африке»… Делился впечатлениями.
А потом… Потом он почувствовал крылья за спиной и как будто не ходил, а летал по свету. Все не верил в свое счастье, все боялся, что она шутит, все ожидал, что она однажды скажет: «Ну, хватит. Поиграли, и достаточно». Но она сказала другие слова: «И пошто я тебя полюбила?»
Свадьбу гуляли неделю. Стоял декабрь. Время позволяло гулять. Сперва у Прозоровых три дня, потом в Медвежьем трое суток. И еще день «доедывали», как фиксировал это событие посаженый отец старик Волобуев.
Начали в воскресенье, кончили в субботу.
В Выселках праздновали по старинке, со всеми известными обычаями. И хмелем дорожку посыпали, и выкупа требовали, и посуду били. Между прочим, пример Марья Денисовна подала, трахнула тарелку об пол:
— Пушшай столько деточек у вас будет, сколько осколочков на полу.
Другие поддержали.
— Не сглазьте, — смеялась Вера.
— Так они всю посуду перебьют, бабаня, — бурчал Никита.
— Ништо. Посуду купим. Дал бы бог правнуков.
— Тут я, стало быть, Денисовна, не согласный, — возразил старик Волобуев. — Ет дело от них, хе-хе, а, значит, не от бога зависимо.
Вера смущалась, краснела от этих разговоров, а молодежь, чтобы выручить ее, кричала: «Горько! Горько-оо!»
Молодые, как водится, целовались. Гости, как водится, пили, горланили песни, но, едва наступала пауза, вновь кто-нибудь начинал все о том же, о детках.
И когда молодым стало уже невмоготу, когда невеста собралась бежать из-за стола, заиграл баян. Вера обрадованно воскликнула:
— Попляшем, а?!
— Оно протрястись-то, стало быть, надо, надо, — поддержал старик Волобуев.
А Никита похлопал баяниста по плечу, шепнул на ухо:
— Спасибо, Леха. В случае чего ты баянь.
Молодые не могли понять одного: надоедливо говоря о деточках, старики хотели, чтоб не засох Прозоровский корень. На нем все дерево держится.
У Веры родственников не было. Из блокадного Ленинграда с тяжелой дистрофией она попала в больницу зауральского городка, а затем в детский дом. Окончила школу. Окончила педучилище, и направили ее в далекое село Медвежье. Школа стала ей родным домом, а коллектив учителей заменил родственников. Директор Иван Кузьмич, поглаживая лысую голову, заявил сватам (он был посаженым отцом Веры): «Отдаем с условием: половину свадьбы у нас гулять».
Отвоевали Дом культуры. Расставили столы. Полон зал народу. Подарки от учителей. Подарки от колхоза.
И пляска. Тут уж плясали до головокружения, аж подвески на люстре позванивали. Сам директор тон задал:
— А ну! По-фронтовому! — погладил лысину и вприсядку, носками вперед.
— Выручай, — подтолкнул Никита Веру, — А то рухнет.
Но директор вовремя остановился и запел, притоптывая:
Ты не ахни, кума, Ты не охни, кума. Я не с кухни, кума, Я из техникума.А Вера в ответ:
Милый мой голубок, Ты понять того не мог: Если б сердцу не был мил, В сердце б гнездышка не свил.К концу третьих суток, прерывая пляску, слово опять взял директор:
— Внимание, товарищи! Внимание! Сенсационное сообщение. В районе села Медвежьего зафиксировано необычное землетрясение силою до трех баллов. Ввиду отсутствия в радиусе восьмисот километров горного массива, ученые не могут объяснить это странное явление.
К месту события срочно снаряжается экспедиция…
Под веселый смех и шум молодых усадили в сани и отправили в Выселки. Но и там еще продолжалось гулянье. Все это проходило как в тумане. У молодоженов от усталости слипались глаза. Гудели ноги.
А в ушах стоял переливчатый звон поддужных колокольчиков.
Первый год совместной жизни пролетел как во сне.
Вера оказалась легким человеком. Быстро сошлась с бабушкой, с Соней, с ее мужем Иваном, с соседями. Стариков она брала внимательностью, молодых — пониманием и веселостью. А ребятишки — это уж само собой. Они к ней лезли, как мухи на сахар. Вера стала своим человеком в Выселках, как будто тут родилась и прожила всю жизнь, хотя в Выселках она бывала мало: работала с утра до вечера. Возвращалась поздно, вместе с Никитой, который нес ее увесистый, набитый тетрадями и книгами портфель. И выходные дни почти что все она проводила в Медвежьем со своими учениками. И все-таки Вера находила минутку к соседям забежать. То книгу оставит, то заказанную покупку передаст, то посоветует, то соседкиного муженька, перебравшего накануне, пристыдит.
И для Никиты времени у нее оставалось немного: дорога от села до поселка да ночи — длинные, темные зимой в избе и летние, звездные на сеновале. И, быть может, оттого, что виделись они урывками, что времени им всегда не хватало, они и не наскучили друг другу, и тянулись один к другому, и рады были, когда оставались вдвоем.
— В отпуск бы нам вместе, — как-то сказал Никита. — Так опять же не сходится. У тебя он летом, а у меня лето — самая страда.
— А ты не страдай, — шутила Вера, — успеем еще надоесть друг другу. Жизнь длинная. Мы с тобой сколько лет проживем?
— Тысячу.
— Ну, это слишком, а вот до ста современная наука обеспечит. Давай поначалу на пятьдесят лет задумаем, до золотой свадьбы, а потом повышенные обязательства возьмем.
Никита стискивал ее так, что она ойкала, и оба хохотали до слез.
— Вот уж как складно живут, вот уж как душа в душу, — говорили в деревне, глядя на счастливые лица молодоженов.
— Повезло тебе, — Денисовна, за все слезы, стало быть, за все боли. Оно и верно, оно и правильно, — повторял при каждой встрече старик Волобуев.
Марья Денисовна не разделяла восторга соседей, точнее, невесткой была довольна, а вот кое-чем — нет. И чем ближе время подходило к осени, тем больше она приглядывалась к Вере, тем больше хмурилась. Как-то не утерпела, сказала Никите:
— Что-то признаков никаких. Ребеночка-то не намечается?
— Она ж не корова, чтоб каждый год телиться, — буркнул Никита.
— А они все ноне такие, — успокаивала Марью Денисовну бабка Анисья. Насчет этого не шибко. Сперва, значит, поживут в свое удовольствие, а опосля…
Однако Марья Денисовна не утешалась. Мысли о продлении Прозоровского рода не давали ей покоя.
— Никитушка, порадовали бы вы меня. Ведь помру без уверенности.
— Живи, бабаня, живи. Не торопи с этим делом…
Мы вот учиться собираемся, на заочном…
— Так вы родите, а уж после учитесь. Родите, а уж мы вынянчим.
— Ладно, ладно. Заявка принята. Обсудим.
На третий год совместной жизни Никита и сам начал призадумываться. Молчал. Но Вера догадывалась, отчего он мрачнеет.
— Я не знаю… Я посоветуюсь… Съезжу в город, к доктору.
— А в Медвежьем-то больница.
— Там мужчины… Хотя есть акушерка, Дарья Гавриловна.
Акушерка сказала Вере, что вроде бы все нормально, а для полного уточнения надо в город ехать.
— Не стыдись, Вера Михайловна. Там Сидор Петрович, старичок такой. Он все знает. Он и утешит, он и подскажет.
Поехала Вера в город. Вернулась, говорит Никите:
— Велел и тебе приехать. Такие дела, оказывается, вдвоем решают.
Через неделю отправились оба.
Старичок доктор морщил нос, как бы приглашая улыбнуться, объяснял Никите жиденьким голоском:
— Видите ли… Вы кем работаете? Ага, ага. Так местный? А супруга ваша родилась в Ленинграде. Ага, ага. У нее, видите ли, дистрофия была. Это может, видите ли, отразиться. Ага, ага. И еще она купель ледяную принимала. Не знали? Было, видите ли, при эвакуации через Ладожское озеро. Полагаю, это и отражается.
Так сказать, последствия войны через столько лет. Ага, ага.
Старичок порекомендовал съездить в Крым, на курорт Саки.
Никита не возражал. Летом, в отпуск, Вера поехала на Юг.
Никита грустил. Марья Денисовна вздыхала.
— Война проклятая, — объясняла она свое горе соседкам. — Ведь голодовку она перенесла, сердешная. Вот и аукнулось.
Соседки тоже вздыхали, сочувствовали.
Три лета ездила Вера на курорт. И все не было результатов. Вера по ночам плакала. Никита гладил ее шершавой ладонью, утешал:
— Ну, чо ты! Я ж ничо. — Когда он волновался, начинал «чокать».
А у самого ком в горле. И злость на судьбу. «Что же это? За что? Все будто бы ладно, а вот детей нет».
Как-то они спали на сеновале. Никита проснулся от тихих всхлипов. Скосил глаза, увидел лицо Веры, и сердце сжалось от жалости.
Первый луч солнца проникал через щелку в крыше и освещал Веру так, что была видна каждая морщинка.
Он впервые заметил, что у нее появились морщины.
Вера почувствовала, что он проснулся, заговорила чуть слышно:
— У нас только два выхода. Или взять ребенка из детдома, или… или развестись. Ты меня не жалей. Ты будь решительным. Я тебя не попрекну… Никогда укорять не буду.
— Полно молоть-то, — оборвал Никита.
Но на следующую ночь Вера повторила свои слова:
— Зачем же двоим быть несчастными? Ты-то при чем? Род-то, ваш при чем? Корень, как бабушка говорит.
— А вот мы у нее и спросим, — вырвалось у Никиты.
Сказал это и сам испугался. Но отступать уже нельзя. Утром — как раз воскресный день был, — подождав, пока все разойдутся, они обратились к Марье Денисовне. Вера повторила ей все те слова, что говорила Никите. Марья Денисовна выслушала ее, обтерла концами платка сухие губы, произнесла:
— Сволоты в нашем роду не было. Женилися навсегда, а не по-петушиному.
Заметив одобрительную улыбку на лице Никиты, бабушка подобрела, но заключила твердо:
— Сраму не потерплю. Прокляну.
— Да это не он, это я, — заступилась Вера.
— А и ты тоже. Разве не понимаем? Не нарочно ведь. Твое-то горе горше нашего… А насчет ребеночка… сиротки… Так вот это уж ваше дело. Препятствий чинить не буду.
Тут пришло письмо. Вера на курорте познакомилась со многими женщинами, и одна из них советовала обратиться к профессору, который ей помог.
Слетала Вера к этому профессору в дальний город.
Стала лечиться новыми лекарствами. И еще год безрезультатно. А потом…
Два месяца таилась. В город проверяться ездила.
И наконец сообщила:
— Никита, а у нас кто-то будет…
На радостях Никита купил мотоцикл с коляской.
— Так мне же без него лучше, — возражала Вера, в то же время и одобряя покупку.
— Ничего, — успокаивал Никита. — Я тебя так возить буду, как по маслу.
— Да мне ходить полезнее, как ты не понимаешь этого.
Бабушка Марья объявила соседям:
— Наш-то анчутка ошалел от радости. Носится теперь по округе на своей «вертихвостке».
Марья Денисовна и сама ошалела от неожиданной новости, столько улыбалась за эти дни, сколько за последние годы не улыбалась.
И все вокруг были довольны: наконец-то появится новый житель. Долгожданный.
— Послал бог, послал, — крестилась бабка Анисья. — Снизошел, значит, до хороших людей.
— Есть правда, стало быть, есть, Денисовна, — поддержал старик Волобуев.
Каждый приезд Никиты на мотоцикле сопровождался визгом ребятишек. А когда он начал по двое сажать их в коляску и довозить до ближайшего леска — тут уж восторгам не было предела.
Частенько теперь в Прозоровском доме бывали люди.
Веру разглядывали с особым вниманием. Она как будто молодела. Морщинки на лице с каждым днем разглаживались и исчезали. Глаза блестели счастьем. И вся она наполнялась невидимым доселе внутренним, тихим довольством.
Вера оставила самодеятельность. Приходила домой пораньше. Много гуляла. Даже в самые морозы закутывалась в шаль до самых глаз, спускалась к озеру, заходила в лесок и там останавливалась чуть ли не у каждого дерева.
— Поди хватит? — заботливо спрашивал Никита, Вера мотала головой и смеялась счастливым смехом.
— А ишшо гимнастику выделывает, — сообщала старушкам Марья Денисовна. По полчаса, не мене, изгибается.
Старушки качали головами, шамкали, вспоминали, как они носили, как рожали.
По вечерам Вера готовила пеленки-распашонки. Она подшивала края иглой и всякий раз укалывала пальцы.
— Так машинку надо, — пожалел Никита.
— Да ладно, ладно, — отказывалась Вера, довольная, что он жалеет ее.
Однако Никита не отступил, не таковского был характера. Как-то пришел с работы и сообщил Вере:
— На совещание выдвинули. На два дня в область еду. Там и куплю машинку.
— Ну что ты! У нас же с деньгами…
— А ничего. В кассе возьму или в кредит.
Над его возвращением из города долго веселились все Выселки.
Шел он по дороге от Медвежьего и перед собой детскую коляску, как тачку, толкал, а в ней вместо ребенка швейная машина лежала.
— Ну ты скажи, Денисовна, Никита-то наш разродился! — в который раз добродушно смеялся старик Волобуев. — Стало быть, механизатор, так он машину-то и принес, значит, согласно уклону.
— Еще полсрока до родов, а у тебя уже все на мази, — сказала Вере золовка Соня.
— Так я ж не прошу, — оправдывалась Вера, привыкшая жить со всеми в ладу и не терпевшая зависти подруг, а тем более родственников.
— Аи проси, — одобрила Соня. — Что ты?! Столько натерпелась. Я бы вся извелась. Ни за что бы не смогла… Теперь твое право… Проси.
До определенного срока Вера была спокойна, а потом начала волноваться.
— Ты чего хмурая? — спросил Никита.
— Ничо, ничо, — шутливо произнесла Вера, но вечером призналась: Что-то боюсь… По сроку должен бы стучаться.
— Ждет указаний, — усмехнулся Никита.
— Тебе смешно.
— Да нет… Это я так… Но вроде все нормально. Ты и у доктора недавно была, и так… э-э… по виду.
Волнение Веры передалось бабушке. Соне, соседям.
— А ты, девка, попарься, вот чо, — советовала бабка Анисья.
Вера не выдержала, пошла на очередной прием к акушерке. Та успокоила:
— Нормально. Сердцебиение прослушивается.
Ночью Вера все равно шепнула Никите:
— А чего он не стучится? Ведь должен.
А под утро растрясла мужа, сообщила:
— Постучался, Никита… постучался… — и заплакала, ткнувшись носом в его плечо.
Никита за завтраком не удержался, передал радостную весть домочадцам.
— Первый звонок, значит, — заключил старик Волобуев, услышав новость от бабушки Марьи. — Стало быть, мужик растет. А потому как не торопится, дисциплину соблюдает.
— А я вот по такому случаю… — сказала за ужином Марья Денисовна и выложила на стол носочки, шапочку и рукавички своей вязки.
— Спасибо, Марья Денисовна, — поблагодарила Вера. — Но ведь еще неизвестно кто.
— А любому сгодится. Любому.
— Девчонка будет, — вставила Соня, любящая девочек.
До последнего дня в семье шел спор: одни доказывали, что родится мальчик, другие — девочка. Каждый приводил свои доводы и свои наблюдения. Вера только тихо улыбалась, слушая спорящих. Меж собой они решили: кто бы ни появился — счастье. Если родится мальчик, назовут его Сережей, если девочка — Машенькой, в честь бабушки.
Когда Вера пошла в декрет, в школе наступили каникулы. У Никиты самая работа. А ей — ожидание. Она носила ЕГО спокойно, теперь уверенная, что ОН существует.
— Ну как будто со свечой ходишь! — дивилась на нее Марья Денисовна. Вся-то ты светишься, девонька.
Она не давала Вере суетиться по хозяйству, отсылала на волю:
— У тебя, девонька, свое… А тут горшки да ухваты — мое дело.
Вера брала книгу и неторопливо шла к озеру. Ветерок от воды обдавал ее приятной прохладой. Иногда ему навстречу прилетал степной ветер, принося запахи трав и полыни, запахи окружающего мира.
Вера чувствовала эти ветры, вслушивалась в шелест листвы и вспоминала о тех вечерах, когда они с Никитой сидели здесь и мечтали о будущем. Сейчас оно — будущее — у нее наконец-то появилось. Сейчас у нее все есть: прошлое, настоящее и будущее. Вот оно, при ней, ее будущее, шевелится, стучится, напоминает о себе. Вера прислушивалась к этому шевелению, боясь двинуться, помешать ЕМУ, и тихо улыбалась своему счастью.
В лесочке звенели голоса ребятишек. В первые разы она как-то не придавала им значения, а потом ей стало казаться странным то, что ребятишки всегда оказываются за ее спиной, стоит ей прийти сюда и присесть у березы.
Однажды она не удержалась, поманила дерибасовского Матвейку:
— Вы чего тут крутитесь, а?
Матвейка дернул себя за выцветший хохолок, помолчал, признался:
— А нам дядя Никита наказывает… Он нас за это на мотоцикле катает.
— Ну ладно. Играйте.
Матвейка переступал с ноги на ногу и не уходил.
— Играй. Я не скажу. Он вас будет катать по-прежнему.
В больницу она попала внезапно. Поехала с Никитой на очередной осмотр, а ее оставили. «На всякий случай, ввиду необычности случая».
Поселок взволновался. Обычно женщин увозили тогда, когда пора подходила. А тут… Необычный случай…
И как он обернется? И чего ждать?
Теперь все свершилось. Родила. Сына. Вес три килограмма сто пятьдесят граммов.
Новость дошла и до Медвежьего. На телеге, запряженной серым жеребцом, прискакали Соня и бабушка Поля, сестра Марьи Денисовны.
Соня влетела в избу, глаза по полтиннику:
— Чо? Чо стряслось?
Марья Денисовна рассказала.
— Вот дьявол чубатый! А мне говорят, ваш Никита сам не свой, машину вытребовал и в Выселки. У меня аж сердце екнуло.
В дом вбежал семилетний Васятка, сын Сони, выпалил:
— Председательша!
За охами и ахами не услышали, как подошла машина. С председательшей на крыльце столкнулись. Высокая, начинающая грузнеть, с загорелым, припудренным пылью крупным лицом, в сапогах, она походила сейчас на командира, вышедшего из боя (страда началась, для нее — бой).
— Прослышала, Марья Денисовна.
Они обнялись, как старые подруги после долгой разлуки.
— Да вроде бы дождались, — сказала Марья Денисовна.
— Ну, ежели чего… хоть время и трудное… поможем.
— Спасибушки, Настасья Захаровна.
К вечеру со стороны Медвежьего послышалось тарахтенье. Первым его уловили мальчишки.
— Дядя Никита едет! Дядя Никита!
Никита остановил мотоцикл подле своего дома, взвалил на плечи что-то завернутое в серую бумагу, крикнул от калитки:
— Бабаня, я дорожку приобрел!
— Ополоумел паря, — произнесла Марья Денисовна, вышедшая на крыльцо. Но по выражению ее лица было видно, что она довольна и внуком, и его странной покупкой, и всем сегодняшним днем.
Глава вторая
— Видать! Видать! — закричали мальчишки и стали подпрыгивать, стараясь разглядеть получше то, что увидели. Они стайкой гудели на околице в ожидании прибытия нового жителя поселка.
Машин еще не было видно, лишь за дальним лесочком появилось редкое облако пыли, похожее на утренний туман. Но у мальчишек были опытные и зоркие глаза. Они различили это облачко и догадались, что оно означает.
Вскоре из-за лесочка действительно появилась машина, или телега, или мотоцикл — из-за пыли нельзя было разобрать детали. Лишь когда дорога повернула и пыль отнесло, оказалось, что к Выселкам движется и то, и другое, и третье, то есть лошадь с телегой, и машина, и мотоцикл.
Часть мальчишек тотчас побежала по поселку, выкрикивая на ходу:
— Едут! Едут!
— В председательском «газике»!
— На мотоцикле!
— На телеге!
— Чо орете-то! В чем едут-то? — закричала появившаяся у заплота бабка Анисья.
Но ребятишки неслись вперед, продолжая галдеть наперебой.
Странный кортеж между тем приближался к поселку. Предупрежденные жители высыпали на единственную улочку.
Когда телега подъехала к первой избе, из-за нее, пугая кур, вылетел Никита на своем мотоцикле и помчался вперед. Никто, однако, не обратил внимания на его маневр. Все были заняты мамашей с новорожденным.
Вера Михайловна сидела в телеге, застланной душистым сеном, как птица в гнезде, и крепко, обеими руками держала бело-голубой конвертик. Рядом была Сопя с узелком на коленях. Она не могла сдержать широкой улыбки и по этой причине молчала и не отвечала на поздравительные возгласы, направленные хотя и не ей лично, но все одно родне, Веруше, дорогому человеку.
Соседи окружили телегу, стараясь заглянуть внутрь конвертика, но ничего не могли углядеть, потому что' Вера Михайловна прижимала его к груди, всеми силами стараясь оградить ребенка от посторонних звуков и взглядов.
— Ш-ш-ш-ш, — зашипели вокруг. — Спит ребенок.
— Да он, поди, ишшо и звуков-то не чует.
— Все одно потише.
Приглушенно говорящая толпа поравнялась с Прозоровским домом и изумленно ахнула. Калитка была распахнута, а от нее до самого крыльца тянулась новая ковровая дорожка. Никита с букетом степных колокольчиков шагнул от ворот, передал цветы жене, а сам принял в руки драгоценный конвертик. Он пропустил Веру Михайловну вперед на ковровую дорожку и пошел за лею, чуть приотставая, держа на полувытянутых руках своего долгожданного первенца. Никита был огромный, а конвертик маленький, но тем не менее Никита двигался по дорожке, как по бревну через реку, боясь оступиться, выронить свою драгоценность. А Вера Михайловна будто плыла перед ним, не поворачивая головы, не скашивая глаз, стараясь не расплескать свою гордость и счастье.
— Будто королева, — слышалось со всех сторон.
— Ай да Никита! Вот это встренул.
— Чо боишься-то? Не мину, чай, несешь.
На крыльце стояли три старушки — бабушки Марья, Полина и Ольга. Они глядели на приближающихся к ним Веру и Никиту с конвертиком на руках как на чудо.
Как только Вера с Никитой очутились на крыльце.
Марья Денисовна поклонилась всем в пояс, произнесла певуче:
— Вечерком милости просим в гости.
Столы вынесли под навес, накрыли старыми, слежавшимися в сундуке бабушкиными скатертями. «Горючее» привез на своем мотоцикле Никита. А закуску принесли соседи, кто что мог. Так тут заведено было.
Закатное солнце заливало землю. Люди казались меднокожими, а все вокруг — багряным, необычным, соответствующим празднику, который отмечали Выселки.
На «газике», не замеченном в суете, приехали директор школы и с ним две учительницы, подруги Веры Михайловны.
Ивану Кузьмичу дали первое слово. Он встал, погладил лысину, мгновение раздумывал, брать ли рюмку, и все-таки взял ее и заговорил просто, спокойно, внушительно, как будто разговаривал с товарищами по работе:
— Я вот что хочу сказать, дорогие товарищи. Если посмотреть на карту, то там не увидишь ни станции Малютка, ни нашего Медвежьего, ни ваших Выселок. Мы, как это говорится, капля в море.
— Стало быть… — не то хотел поддержать, не то возразить старик Волобуев, но на него цыкнулн соседи, и он примолк.
— И событие, так сказать, — продолжал директор, — вроде бы обычное, появился на свет новый человек. Их каждый день по стране нашей огромной, может, не одна сотня рождается. Для Выселок это событие, а для страны вроде бы неприметное дело. Но…
Старик Волобуев опять зашевелился было, на этот раз явно желая возразить директору.
— Но, — повторил директор, — на самом-то деле это не так. На самом-то деле этот новый человек означает многое. Это наше будущее. Это семья, общество, народ — вот какая цепочка получается. Сегодня нашего советского народу прибыло. И уже по всем пунктам идут официальные сообщения: плюс один человек, плюс мальчик, по фамилии Прозоров, по имени… — он покосился на Веру и Никиту, ожидая ответа.
— Сережа, — чуть слышно произнесла Вера Михайловна.
— По имени Сергей, — громко повторил директор. — Он, этот Сергей Прозоров, уже значится во всех сводках, он уже та копеечка, без которой, как говорится, рубля не бывает.
— Это, значит, точно, — не выдержал старик Волобуев.
— Так вот, я хочу, чтобы мы поняли, что от нашей копеечки зависит богатство страны, и берегли ее, как собственный глаз. А вас, — он опять покосился на Веру и Никиту, — я поздравляю и желаю большого семейного счастья.
Люди оживились, зазвенели рюмками и вилками.
Только старик Волобуев все не унимался, все норовил вставить словцо:
— Оно точно. Вроде бы и на карте не обозначено, а между прочим — копеечка… Нет, нет, ты слушай, — тянул он, обращаясь персонально к бабке Анисье: — Копеечка-то, стало быть, золотая…
Вера несколько раз порывалась вскочить, наконец убежала в дом поглядеть, как там новорожденный. Подле младенца дежурил семилетний Васятка, но она ему не очень-то доверяла, тем более что сам дежурный давал повод для недоверия: высовывался из-за дверей, поглядывал, как гуляют взрослые.
Неожиданно шум застолья прервала песня. Марья Денисовна, подперев кулаками голову, затянула:
Раз полоску Маша жала, Золоты снопы вязала. Мо-олода-я-я-я.Ее любили слушать. Все смолкли как по команде.
Мо-олода-я-я.Тотчас два подголоска, две ее сестрицы, две бабушки, подхватили песню:
Эх, молодая-я, молодая-я.Голоса звучали чисто, и, если бы не видеть лиц, морщинистых щек, натруженных рук, опущенных на стол, можно было подумать — поют молодые.
Истомилась, изомлела, Это что уж — бабье дело, Доля злая-я.Нет, они не только пели, они будто рассказывали, поверяли душу, выплескивая из нее близкие и понятные всем чувства, как будто уводили людей в воспоминания, в годы молодости.
Парень тут как тут случился, Повернулся, поклонился, Стал ласкаться-я.Каждый вспоминал свою юность, свою удаль, свою любовь. Было тихо, где-то под стрехой гудела оса да за заплотом шептались прилипшие к доскам ребятишки.
Эх, стал ласкаться-я. Эх, стал ласкаться-я-я.— Тетя Вера, — послышался робкий голос Васятки. — Он фыркаит.
Вера Михайловна бросилась в дом, задев краешек стола так, что тарелка полетела на землю. Никита на лету подхватил тарелку и с нею в руках сам побежал следом за женою.
Гости одобрительно заулыбались и даже не попрекнули ушедших за сорванную песню.
Никита Прозоров работал на комбайне в паре с Лехой Обогреловым, по прозвищу Увесистый. Хотя Леха отслужил армию, женился, эта юношеская кличка за ним осталась: он все так же, как в парнях, был неуклюжим, рыхловатым. Играл на баяне и любил смеяться, От любого слова, показавшегося ему смешным, заливался, как жеребчик по весне.
Вот и сейчас он посмеивался, обращаясь к Никите с вопросом:
— Кого ты проведать-то бегаешь? Кого?
Никита делал вид, что не слышит напарника.
Леха не унимался, повышал голос, стараясь перекрыть гул мотора:
— К кому ты самоволку-то совершаешь? К кому?
Никите надоело, и, чтобы отвязаться от навязчивых приставаний друга, он показал ему кулак через плечо, Леха залился, а через минуту повторил свое:
— Значит, как его называют? Как?
Работали они круглые сутки. Спали по переменке.
На ходу заправлялись, на ходу ели и пили. Лишь иногда, когда задерживались машины, они останавливали комбайн и отдыхали прямо на полосе.
— Ну, что молчишь-то? Кто у тебя народился?
После памятного гулянья по поводу появления сына в доме Никита два дня и две ночи работал без перерыва. На третье утро не выдержал, попросил Леху:
— Мне бы домой наведаться… Как-то там… — Он представил своего Сережку, крохотного, малюсенького, ладонью головку прикроешь, и сказал: Как. там мой детишка, поглядеть надо.
Леха заржал на всю степь, но отпустил старшого.
А теперь вот потешался над этим «детишкой», уж очень ему смешным казалось, что Никита назвал новорожденного так необычно.
Взятые обязательства они выполняли. Норму дорабатывали. Свой участок на основном поле закончили.
Теперь убирали дальнее Прово-поле. По легенде, будто бы здесь именно выделило общество прапрадеду Никиты пустующую землю. Она оказалась плодородной, и урожай ныне на ней был отменный. Пшеница чуть ли не до плеча. Сверху, от штурвала, видно, как она ходит золотыми волнами. И уж на что надоело сравнение, но они и в самом деле, как на корабле, плывут по этим волнам.
Время шло к ночи. Солнце за леса заходило. Небо как бы раздвоилось. С одной стороны оно еще голубело, с другой — горело шафрановым цветом. И пшеничное Прово-поле отражало эти краски, переливаясь то голубыми, то розовыми тонами.
Неожиданно Никита заглушил мотор.
— Чего?.. — не понял Лоха.
— Горючее на исходе.
— Разъязви их! — выругался Леха.
— Уморились, — проговорил Никита прощающим топом и стал спускаться на землю. — Мы ж на отшибе.
Мы подождем. У нас с нормой порядок.
Он растянулся на стерне, сорвал соломинку и, захватив ее крепкими зубами, уставился в синеющую над ними вышину. Леха, крякнув, с маху сел рядом, хотел что-то сказать, но, видя, что старшой не расположен к разговору, тоже повалился на мягкое, прогретое за день поле. Очутившись на земле, оба почувствовали усталость и несколько минут лежали молча, отдыхали.
Пахло свежей соломой, свежим зерном и полевыми мышами. Видно, где-то поблизости были норы.
— Твоему-то сколько? — после паузы спросил Никита.
— Моему-то три года, — ответил Леха.
— Паря.
— Ишшо какой. Боксом дерется, — захохотал Леха. — Это он в телевизор углядел.
Никита не поддержал шутливого тона.
Мне вот что чудно, — проговорил он таинственным голосом. — Ведь он — как загадка. Никто, ничто, а в то же время — у-у!.. — Он не нашел подходящего слова и повторил: — У-у! Кто его знает, что из него получится.
Ведь может, и пузырь мыльный, а может… — ему показалось нескромным произносить громкое слово о только что родившемся сыне, и он оборвал фразу.
Леха покосился на друга, удивляясь мысли, которая тому пришла, а ему никогда не приходила, оттопырил толстые губы, ожидая продолжения разговора.
— Вон она, высунулась, объявилась, — не к месту произнес Никита, указывая рукою на звездочку, первой появившуюся на темнеющей части неба.
Леха поджал губы, недовольный тем, что про загадку все кончилось. Однако Никита соединил, как будто ухватился за эту звездочку:
— Тоже поди знай. Сколько их таких же, а выскочила одна. Это ж чудно. Чу-де-са, — протянул он, будто хотел вникнуть в суть этого слова. — И ведь неизвестно, какое гнездо что родит. Я в армии книг сорок прочитал про жизнь замечательных людей и, вообще, мемуары и воспоминания. По-всякому было… Гении-то не от царей произошли. Ну, Ленин из ученой семьи, а Максим Горький, Ломоносов…
— Верно, — подтвердил Леха.
— Ты не подумай, — спохватился Никита. — Тут разговор общий. Загадка, мол.
— Загадка, — прогудел Леха.
— Я лично хотел бы… — Никита запнулся. Думка о будущем только что родившегося наследника еще не приходила ему в голову. Только сейчас он подумал об этом. — Ты-то как?
Леха хмыкнул в ответ:
— Кто его знает. Пущай растет. Вырастет — учить буду. Выучу, там его дело.
— На самотек, значит? — прервал Никита.
Леха не знал, как отозваться, — принять за шутку?
Речь вроде бы о серьезном. Поддержать серьезность?
Он не был готов к ней.
— Нет, — выдохнул Никита. — Я и про это читал.
Сейчас как раз об этом в газетах появилось. Вот у тебя до армии кровь брали? Определяли группу?
— Положено, — откликнулся Леха.
— Так вот и это, — продолжал Никита. — Каждому свое уготовлено. Усечь надо.
— Тоже кровь брать? — усмехнулся Леха.
— А может, и кровь, — после паузы произнес Никита. — Конечно, я не одобряю, когда деревню бросают. Все бросим — землица захиреет. Она — чуешь? — дышит, живая.
— Ну, — поддержал Леха.
— У тебя было — хотел в городе остаться?
— Было, — вздохнул Леха.
— И у меня. Но представил, как все уйдут из наших Выселок, как дома позаколачивают… И что тогда? Знаешь, как бабушка говорила: «Отсюда Россия начинается».
Леха молчал, но в этом молчании, чувствовалось согласие со словами старшого.
— И мой, ежели не откроются в нем особые таланты, пусть тут робит, вот па этом прадедовом поле, — решительно произнес Никита. — А ежели другой талант какой, держать не стану. Пусть летит высоко.
Леха покачивал головой. По его щекастому лицу блуждала по-детски доброжелательная улыбка.
Ветер донес гудение машины. Через секунду оно отчетливо прослушивалось, оно приближалось.
— Едут, — сказал Никита, вытягиваясь во весь рост.
— Едут, разъязви их, — подтвердил Леха, неохотно поднимаясь с земли.
Сутки для Веры Михайловны как бы прекратили свое существование. Не было ни дня, ни ночи. Время разделилось на то, когда можно поспать, и то, когда нельзя спать. Всем командовал он, розоватый комочек в пеленках. Он вел себя странно и беспокойно. Часто похныкивал, пофыркивал. Встанешь — спит. Возьмешь кормить — пососет немного и уткнется носом в грудь. Вера Михайловна извелась с ним. Поначалу она решила, что будет одна ухаживать за ребенком. Это ж и есть счастье. Она ждала этих дней. Что может быть выше и светлее, чем возиться со своим первенцем, улавливать каждый его вздох, каждое желание? Марье Денисовне Вера сказала:
— Бабушка, не беспокойтесь. Я сама. Сама.
Марья Денисовна глянула на нее с хитринкой, но промолчала.
Через неделю у Веры появились первые признаки переутомления.
— Ну бабушка, ну чего он хнычет? Может, у нас клопы?
— Да ты что, девонька, господь с тобой.
— Почему он не ест-то?
— Так ведь капелюшечка ишшо… Ты вот что, девонька, ты отдохни-ка. Отдохни, а я понянчусь. А ничо, ничо, я ж обещала. Вспомни-ка. Говорила, говорила, вы, мол, родите, а мы вынянчим.
Уступила Вера. Стало полегче. Только беспокойство не проходило: младенец продолжал похныкивать, ел мало, приходилось будить его и чуть ли не силком кормить.
А тут еще Никита, как мальчишка, приревновал к сыну:
— Иду к тебе полночи, а ты ноль внимания.
— Так устаю же, Никита. Он знаешь сколько сил отнимает…
— Да бабаня-то помогает.
— А все равно, все чего-то беспокойство берет.
— Да ну тебя… — Никита устало отворачивался к стене и засыпал.
А потом Веру будила бабушка: кормить пора. А Вера Никиту: в поле надо.
Так они и жили первый месяц.
Соседи в избу не лезли. Разговорами не одолевали.
Подойдет к заплоту бабка Анисья, обопрется на руки, спросит:
— Чо дитё-то?
— Да спит, — отвечала Вера.
— Чо спит-то?
— Да маленький еще.
— Аль не помнишь? — вмешивалась Марья Денисовна. — Поначалу-то они завсегда спят. Такая у них жизнь поначалу. Все перезабыла, а ведь пятерых подняла.
— Позабыла, Марьюшка, — признавалась бабка Анисья. — Память-то отбивать стало. Должно, к возрасту.
Старик Волобуев оперся о суковатую палку, ухмыльнулся в бороду, оглядев развешанные на крыльце пеленки:
— Стало быть, рисует. Оно и ладно. С энтого все начинают.
Жизнь Веры Михайловны будто бы вошла в свою колею. Отличная от прошлой, новая жизнь. Диктатором ее был все тот же розовый комочек, завернутый в синее одеяльце. Он диктовал распорядок этой жизни.
Теперь Вере Михайловне было легче физически, но беспокойство не проходило. Все ей казалось, что счастье ее недолговечно, что оно обманчиво, что обязательно произойдет что-то плохое. Среди ночи она вдруг просыпалась, подбегала к колыбельке, склонялась к ребенку и, чувствуя его посапывание, облегченно вздыхала.
Вскоре беспокойство прошло. И наступило полное счастье. Опять па лице Веры Михайловны появилась тихая улыбка. Опять она ходила, будто свечу перед собой несла. И хотя наступила осень, на улице шел обложной дождь-«бусенец», ей все казалось, что вокруг светит солнце и небо над головой голубое.
Страда прошла. Никита приходил домой каждый вечер. Вера Михайловна и его освещала переполнявшим ее счастьем. Впрочем, он и сам был всем доволен, все шло ладно, все шло гладко. Теперь у него семья, как у всех. Парнишка гулить начал. Он по-прежнему много спал, и они, родители, по вечерам сидели у его колыбельки и смотрели на долгожданного первенца как на чудо.
Все им казалось волшебным — и эта безбровая мордашка, и тонкие губешки, которыми он перебирал во сне, и нос-кнопочка, который он смешно морщил перед очередным кормлением.
Укладываясь на ночь, они еще долго не засыпали, слушая, как бабушка за занавеской поет Сереженьке колыбельную песню. Песня эта была неказистая, какая-то нескладная, почти без смысла, но им она казалась красивой и самой нежной. Бабушка пела:
Баю-баюшки-баю, Колотушек надаю. Колотушек двадцать пять, Чтоб Сереже крепче спать. Баю-бай, баю-бай, Приходил старик-бабай. Коням сена надавай. А-а-а, а-а-а…Младенец и так спал, без ее колыбельной, но бабушке очень хотелось попеть над ним. Она тоже была счастлива…
Был воскресный день. Никита дожидался его как праздника. Он еще ни разу не участвовал в купанье своего Сережки: то приходил поздно, то бабушка и Вера нарочно отсылали его во двор, находя подходящий предлог, словно боялись, что он своими ручищами раздавит младенца. В прошлый выходной он с мотоциклом провозился. Они обещали позвать, да так и не позвали. Нынче он решил не выходить из дому. Вера, зная его желание, нарочно разыгрывала мужа и смеялась звонко:
— Ой, Никита! Ребятишки твой мотоцикл на улицу выкатили. Ой-ой!
Он выскочил из дому, а через минуту вернулся, ни слова не говоря, подхватил жену на руки, как ребенка, и поднял к потолку.
— Ну пусти же, пусти, — смеялась она. — Пеленки вон перепарятся.
А сама была довольна, что он у нее такой сильный, что у них все хорошо и прекрасно.
Наконец наступил вечер — пора купания. Купали на кухне. Там теплее. Ванночку поставили на лавку и долго разбавляли воду. Делал это Никита, а Вера проверяла температуру. Бабушка наблюдала издали, от порога всю эту процедуру.
— Да горячо же, — говорила Вера и смеялась, потому что Никита подливал холодную воду из ковшика чуть ли не по капельке. — Да лей ты больше. В случае чего добавим горячей. Ну вот, теперь холодная.
Никита старательно вытягивал губы, как первоклассник, сидящий над тетрадкой, и лез с ковшом в чугун с горячей водой.
— Ладно. Вот так, — остановила Вера, давясь нашедшим на нее смехом. Держи вот простынку.
Ребенка раздели и осторожно опустили в ванночку.
Он зафыркал, словно котенок, хлебнувший молока больше, чем надо.
— Зато чистеньким будешь, — приговаривала Вера. — Буль-буль водичка. Буль-буль.
Никита стоял, не зная, что делать.
— Полей-ка, Никита. Не слышишь, что ли? Да вон тепленькая, в кастрюле.
Он лил, а она обмывала пофыркивающего младенца, приговаривала:
— Вот какой чистенький Сереженька. Вот какой гладенький.
Марья Денисовна ушла в горницу готовить кроватку.
— Подержи, — Вера передала младенца в огромные ручищи мужа.
Никита с великой осторожностью принял ребенка.
С рождением ребенка Вера не отдалилась ни от своих деревенских, ни от родной школы. В первый месяц, конечно, ей было ни до чего, ни до кого. А потом все образовалось. Она вошла в ритм. У нее выкраивалось время для разговоров с людьми. Веру навещали и учителя и ученики, а о соседях и говорить нечего. К ней приходили, с нею делились, ей по-прежнему поверяли свои тайны и у нее просили помощи и поддержки.
— Да буде вам. Чо вы в самом-то деле, — иногда ополчалась на пришедших Марья Денисовна.
Но все понимали, что это не всерьез, что сама Марья Денисовна никогда не откажет в помощи и совете. Аза невестку так вдвойне довольна, сама говаривала: «Вера — девонька авторитетна».
На этот раз пришла Волобуева Зинка. Лицо заревано. Под глазом фонарь.
Марья Денисовна насупилась было, но глянула помягчала.
— Обожди, покормит покуда.
Минут через пятнадцать вышла Вера Михайловна, Зинка в слезы, ни слова вымолвить не может. Вера Михайловна подсела на лавку, положила руку на Зинкино плечо, сама заговорила:
— Уходить не надо. Маленький у вас. Счастье у вас.
Как от счастья уходить? Выпил — плохо. Стукнул — безобразие. А все равно это ерунда по сравнению с тем, что вы все вместе — семья. Разве уголек сравнишь с солнышком? А и он жгет.
Зинка растерла слезы по щекам, прерывисто вздохгула.
— То и верно. И если бы он… Трезвый — душа, а наберется — ревнует.
— Так любит.
— Значит, бить можно?
— Нельзя. Но он просто не умеет выразить свое состояние. Ты пришли-ка его.
— Не пойдет.
— Пойдет. Ты так и скажи: просила, мол, Вера Михайловна. А мне не оторваться.
— Попытаю, — выдохнула Зинка.
— А уходить не советую. Когда в войну оставались детишки на руках матери — это одно дело. А сейчас…
Зачем сейчас, как в войну? — Вера Михайловна говорила будто для себя, тихо и просто, — Вот подрастет^твои Володенька, его за обе ручки водить надо, с одной мамина, с другой папина.
Зинка кивала и улыбалась, глядя на Веру Михаиловну. Почти все люди улыбались теперь при разговоре с ней.
Ученики долго не решались зайти к Вере Михаиловне. Не один раз подходили к ее дому, стояли, приглядывались, но ничего интересного не замечали. Самое интересное для них был ребенок, все, что связано с ним.
А они даже пеленок не видели: стояла глубокая осень, белье сушили на кухне, у печки. Однажды они не выдержали, крикнули хором:
— Ве-ра Ми-хай-ло-вна-а!
На крыльцо вышла Марья Денисовна, пожурила молодежь:
— Чо орете-то? Младенца разбудите. А привет передам, передам. Идите.
Давно уже кончила школу любопытная Маша Брыкина. Подросло новое поколение, появилась и новая восторженная натура Леночка Демидова. Она и соблазнила класс:
— Давайте все-таки! В воскресенье нагрянем и все.
В воскресенье выпал первый снег. Всю дорогу от Медвежьего до Выселок они играли в снежки. Быть может, потому обычная робость исчезла, и Леночка от имени класса направилась к дому. Она не появлялась минут тридцать. За это время ребята успели нарисовать на снегу подобие ее фигуры и подписали: «Леночка-девочка…» А напротив этих слов каждый вывел свой эпитет:
«Веселая. Хорошая, Легкая. Умная. С фантазией. Восторг». Пожалуй, последнее слово особенно подходило к ней, когда она вернулась от своей учительницы.
— Ой, девчонки! — выдохнула Леночка, сияя голубыми глазами.
— А пас не касается? — спросил Сеня Рытов.
Леночка понизила голос:
— Она знаете что? Она кормила. Видели бы вы ее лицо… Ой, девочки!
Однажды Веру Михайловну навестил директор школы, Иван Кузьмич.
— Как тут будущий ученик?
— Ест плохо, — пожаловалась Вера Михайловна.
— Экономный, значит.
Директор погладил ладонью лысину, сказал на прощанье:
— Вы, Вера Михайловна, живой агитпункт. Вас молодым показывать надо. Да, да, да. Наши старшеклассники от вас в восторге.
Вера Михайловна и раньше относилась к директору с большой теплотой, а теперь ей показалось, что он не посаженый, а настоящий ее отец. И она попросила его:
— Вы приезжайте почаще.
— Чего тебе, Ивашка? — спросила Вера Михайловна.
— Пример не сходится.
— Тогда проходи. Не студи избу.
— Пимы-то отряхни, — крикнула из горницы Марья Денисовна. — В сенцах голичок. Им и отряхни.
Ивашка стряхнул снег с валенок, скинул шапчонку и шубейку у порога, присел к столу.
— Давай твой пример, — сказала Вера Михайловна и ободряюще улыбнулась парнишке.
Всю эту зиму она занималась с выселковскими ребятами Как-то само собой, можно сказать случайно, так получилось. Однажды вышла она погулять с ребенком. Навстречу попался дерибасовский Матвейка, плачет мальчишка.
— Ты чего это? — остановила его Вера Михайловна и наклонилась участливо.
— Мамка по шеям надавала. Двойку по письму — от.
— Ты вот чего… Через часок заходи. Я уложу Сереженьку, и посмотрим, что там у тебя не получается.
Как будто шлагбаум открыла. Пошли к ней выселковские ребятишки кто с чем. У кого письмо. У кого арифметика. У кого с историей нелады. А Минька Зуев ради любопытства заходил.
Вскоре это вошло в привычку. Чуть что — ребята к Вере Михайловне. А если они не шли, она их сама приглашала. Скучала без работы.
— Говорят, у вас частная школа открылась. — пошутил директор в очередной свой приезд.
— Да что вы! — смутилась Вера Михаиловна. — Так, иной раз помогаю ребятам.
— Между прочим, — сообщил директор, — выселковские значительно лучше учиться стали.
Вера Михайловна пошла в учителя по велению души.
Она и раньше любила детишек, а теперь, после рождения сына, все остальные дети как бы приблизились к ней стали еще дороже. Ей очень хотелось, чтобы сын быстрее подрастал и становился на собственные ноги.
Нет он совсем не надоел ей, он приносил радость и был дорог каждой своей клеточкой, каждым звуком, каждым движением. Но, истосковавшаяся ожиданием ребенка, она невольно хотела как бы возместить это тягостное время ожидания, быстрее увидеть сына взрослым. Хотела, чтобы он наконец вознаградил ее ожидания. На этой почве частенько у них с Никитой происходили небольшие размолвки.
— Ну чего он головку не держит? Ведь пора. Чего мало гукает?
— Хочешь, я за него гукну? — спрашивал Никита и гудел на весь дом: Гу-у…
Она зажимала ему рот ладошкой, шептала:
— Разбудишь… Тебе шуточки. А я все думаю — витаминов мало? Может, света недостаточно?
Когда выглядывало солнце, Вера Михайловна спешила открыть занавески, раздвинуть шторы и украдкой дышала на ледок, намерзший на стеклах, чтобы он не мешал проникновению солнечных лучей в комнату, к ее Сереженьке.
— А ты, девка, не цокота, не цокоти, — услышав ее вздохи, успокаивала бабка Анисья. — Он у тебя осенний, вестимо, поздний. Это уж примета така.
Старик Волобуев рассуждал по-своему:
— Стало быть, не торопится. Значит, жить долго загадывает.
Каждое новое открытие в ребенке было для Веры Михайловны торжеством, праздником, радостью на многие дни. Вот Сереженька отличил ее от бабушки. Вот сынок узнал отца. Вот он произнес первое слово: «Бубу».
А когда он поднялся в кроватке на свои слабые, дрожащие ножки, Вера Михайловна расплакалась от счастья. Она показывала всем приходящим это достижение сына и каждый раз восхищалась, когда ее крохотный сынишка вновь и вновь с натугой, с упорством вставал на слабые ножонки. Люди улыбались, глядя на нее, веселую, счастливую. Они с неподдельной искренностью, свойственной простым людям, радовались вместе с нею.
Пришла весна. Началась посевная. Никита снова по суткам отсутствовал дома. А когда приходил, первым делом бросался к кроватке и смотрел на спящего сына до тех пор, пока у самого не слипались глаза.
— Поужинай и спать, — спохватывалась Вера Михайловна.
Никита мотал головой и валился не раздеваясь на неразобранную кровать. Вера Михайловна раздевала его, укладывала и несколько раз подходила то к детской, то ко взрослой кровати, рассматривала то сына, то мужа, как будто искала сходство между ними.
Летом Сереженька сделал первый самостоятельный шаг от кроватки к кровати. Ступил. Покачнулся. И рухнул. И зафырчал.
— Ничо, ничо, — проговорила Марья Денисовна и остановила Веру Михайловну, готовую броситься на помощь сынишке. — Сам встанет. Пушшай.
Но Сереженька не встал, а пополз по ковровой дорожке за солнечным зайчиком.
Вере Михайловне пе терпелось показать соседям первые шаги своего сына. Она надела на Сережу комбинезончик, шапочку и яркие матерчатые купленные в городе башмачки и вышла с ним на крылечко.
— Ну-ка, вставай на ножки. Так, так.
Она поддерживала его под мышки, и он стоял.
— А теперь топ. Ну, топ, топ.
Но Сереженька не двигался с места. Стоило ей опустить свои руки, как он начинал пофыркивать и оседать на доски.
— Сереженька, ну будь же мужчиной.
Мужчина сделал лужу, и ей пришлось поспешно унести его в дом.
А потом пошел. Увидел кошку и сам кинулся за ней.
Он смешно делал первый шаг, приподнимал ногу и мгновение раздумывал, словно не знал еще, что ему делать дальше.
— Стало быть, строевым, — комментировал старик Волобуев, наблюдая через плетень за первыми шагами Сережи Прозорова.
Вера Михайловна в душе торжествовала. У нее было такое впечатление, будто за спиной вырастают крылья и стоит взмахнуть ими, как она оторвется от земли и станет парить над нею, как свободная птица. И она бы взмахнула, оторвалась, если бы не он, не ее сыночек, делающий первые самостоятельные шаги здесь, на земле.
Глава третья
В конце лета Вера Михайловна вышла на работу. Перед выходом они отпраздновали день рождения сына. Снова под навесом во дворе собрались гости. Снова поднимали тосты и директор произносил речь. Снова три бабушки-сестры пели старые песни. А сам именинник молча восседал на маминых руках.
— Сурьезный шибко, — поглядев на него, заключила бабка Анисья.
— Стало быть, начальством быть, — утвердил старик Волобуев.
— А глазоньки-то у него твои, девка, твои. А губы — Никитины.
За столом начался обычный в таких случаях спор: в кого ребенок. Во время спора Никита вдруг вскочил и побежал к мотоциклу.
— Ты куда ж это? — крикнула Марья Денисовна.
Никита только махнул рукой, завел мотоцикл и был таков.
— Да уж молчун, молчун, — заговорила Марья Денисовна, стараясь сгладить перед гостями неловкость, вызванную внезапным исчезновением Никиты. Пофырчит, похныкает, а чтоб реветь — этого у него нет.
Марья Денисовна поглядела на правнука с любовью и протянула через стол соленый огурчик. Сережа взял его и засунул в рот, как соску.
В разгар веселья вернулся Никита. Вынул из-за пазухи бутылку шампанского.
— Вот это да! — закричали гости. — Это по-царски!
На минуту все притихли. Вера Михайловна зажала уши сыну.
Хлопнула пробка. Старухи взвизгнули.
— О, язви те! — выругалась бабка Анисья.
— Стало быть, салют, — одернул ее старик Волобуев.
Никита разлил шампанское, поднял бокал, переступил с ноги на ногу.
— Верно, дедушка. Салют в честь моего Сережки.
Выпили, значит.
Красивой бутылкой из-под шампанского долго потом играл Сережа.
А выселковские ребятишки попрекали родителей:
— Да-а, вона Прозоровскому Сережке салют устраивают, а он ишшо и говорить не может. А я хорошие отметки принесу, а мне фигу, даже на кино не даете.
Вера Михайловна долго помнила сцену с шампанским. Ей представлялось лицо Никиты, по-детски открытое, счастливое, точно это ему исполнялся годик, а не его сыну.
В школе Веру Михайловну особенно не загружали, Вела она обычные уроки, без дополнительных занятий, без общественных поручений. Классное руководство с нее тоже сняли. Даже от педсоветов освобождали…
— Бегите, бегите, — отпускал ее директор. — У вас свое, особое задание.
Она летела в Выселки, сгорая от нетерпения увидеть сына. В се отсутствие Сережу нянчила бабушка.
Вера Михайловна была спокойна, и не волнение подгоняло ее к родному дому, а совершенно невероятная тоска по ребенку. За те несколько часов, что она не видела его, Вера Михайловна успевала так соскучиться, что места себе не находила от тоски, считала часы и минуты до встречи с ним.
— Солнышко ты мое! — говорила она еще от порога. — Как ты тут? Не соскучился по маме?
— Некогда было скучать, — за него отвечала Марья Денисовна. — Мы вот поели, поспали, а сейчас в окошко глядим.
Вера Михайловна подхватывала сына на руки, а он как будто бы не рад был. Восторгов не выказывал, не визжал, не смеялся. Иногда произносил: «Ма-ма». И тогда она прижимала его к себе, радуясь его близости и вдыхая запах его тельца. Потом доставала из портфеля коржик, взятый из школьного буфета, и протягивала сыну. Он, опять же спокойно и молча, принимал гостинец и сосал его, как соску.
Опять началась страда. Никита по суткам отсутствовал дома. Если приходил, то затемно, если уходил, то на рассвете. Сегодня он пришел необычно рано, еще засветло.
— Спит уже? Ну что такое! — Он огорченно махнул рукой. — С сыном повидаться вторую неделю не могу.
Он долго стоял у кроватки, наблюдая за спящим Сережкой. Подошла Вера, прижалась щекой к его плечу, не выдержала, пожаловалась:
— Какой-то он очень тихий.
— Да брось ты накручивать!
— Верно. Не поплачет. Не повизжит.
— Ну, думает мужик. Мыслею занят.
— О чем он думает?
— А что, у него мозгов нет?
Вера терлась щекой о задубелое, пропахшее потом и землей плечо мужа, улыбалась.
— Ну и что, что на других не похожий? Значит, особенный, — оживился Никита. — Может, из него… может, знаешь кто выйдет…
Слова Никиты понравились Вере Михайловне. Они хотя и не объясняли поведения сына, но как бы снимали с ее души тяжелый груз опасений. Сереженька — особенный, вот он и не похож на других.
По роду своей профессии Вера Михайловна видела многих детей разного возраста. Все они были не похожи друг на друга. Но ее сын — особенный: уж очень взрослый, уж очень серьезный. До двух лет она не слышала, как он смеется. Иногда он улыбался слабой улыбкой, но никогда не смеялся так звонко, беспечно, как остальные дети. Вера Михайловна тосковала по его смеху, потому что понятие «особенный» все-таки не исключало веселья и радости в ребенке. И вот однажды она услышала нечто среднее между повизгиванием и всхлипыванием. Она влетела в комнату и увидела Никиту и Сереженьку с открытым ртом.
— Мы пупик ищем, — объяснил Никита. — А ну-ка, где он?
Парнишка увертывался и издавал странные звуки, не похожие на смех.
— Ему же щекотно! — крикнула она и выхватила сына из сильных рук Никиты.
Она видела, что Никита счастлив и рад даже этому подобию смеха.
Теперь Сережу выпускали во двор и он играл с Володей Волобуевым, своим одногодком и соседом. Мальчики резко отличались один от другого, как будто природа специально устроила так, чтобы подчеркнуть особенность Сережи. Володька был нормальным, обычным парнем, щекастым, крупным, горластым, он постоянно кричал и смеялся. А Сережа выглядел младше его. Он не кричал и не смеялся, и казалось, что играет только один Володька. Издали бывало странно слышать: чего это он кричит и заливается один? Те игрушки, которые выносил Сережа, всегда доставались Володьке. Сережа стоял в сторонке, закинув руки за спину, а чаще приседал, наблюдая за действиями товарища, или же делал то, что предлагал Володька.
— Сергунька, — спрашивала бабушка, время от времени появлявшаяся па крылечке, — чо не играешь-то?
Чо приседаешь, как курица на яйце?
— Он пихается, — не жаловался, а просто объяснял Сережа.
— Уж такой взрослый, уж такой разумный, — говорила Марья Денисовна соседям. — Не знаю, чо и думать, чо и выйдет из его.
— Стало быть, ученый, — заключил старик Волобуев. — Вон Михаиле Ломоносов. Слыхала, поди?
— Не, знаю. не знаю. Только сурьезный, будто и не ребенок вовсе. Ну как есть взрослый.
Мальчик рано научился говорить, схватывая все на лету, правильно произносил слова, не коверкая и не путая их.
Играть он любил один. Начал с того, что пытался поймать солнечного зайчика. А позже строил из кубиков понятные лишь ему строения или чертил разноцветными карандашами по газете. Притаится в уголке, как мышка, и его не слышно.
— Чо ты все вприсядку, чо вприсядку? Вот курица-то, — говорила бабушка, в душе удивляясь тихости и послушности ребенка.
Несколько раз мать замечала на мордашке его странное выражение, будто бы он прислушивается к чему-то.
Однажды она спросила:
— Сереженька, что ты там слушаешь?
— Себя.
Вечером она рассказала Никите про странный ответ сына.
— Ну и что? Разве плохо? Он же у нас особенный.
Иногда Никита говорил сыну:
— Ежели обижают, сдачи дай.
Мальчик смотрел на него недоуменно и молчал.
— Он же слабее Володьки, — сказала Вера Михайловна. — Он же понимает это.
— Ничего, даст раз-другой, тот бояться будет.
А Володька все чаще убегал к старшим ребятишкам, объясняя свой уход такими словами:
— Да ну, с ним неинтересно, он квелый.
Вскоре поселок привык к обособленности Прозоровского Сережки.
— И впрямь умный, — сделали вывод в деревне, — Не ревет, не смеется, только сидит и чо-то ладит.
Мать все чаще замечала то поразившее ее в первый раз выражение на лице сына. Он и в самом деле будто прислушивался к себе.
— Ну и что же ты услышал, Сереженька?
— Стук, — ответил мальчик. — Во мне стучит кто-то.
— Ох ты, солнышко мое! На-ка вот тебе карандаши новые. А еще я пластилину достала. Лепи зверьков, людей…
— Нет, я космонавтов буду.
Иногда своими неожиданными ответами сын приводил мать в восторг.
— Сереженька, кого же это ты нарисовал?
— Деда Волобуя.
— А чего ж у него голова красная? Он же лысый.
— А у меня же нет лысого карандаша.
— Сереженька, почему ты говоришь «чо»? Я же тебя учила, надо говорить «что».
— Ну я же не тебе говорю, а бабуле.
Ответы четырехлетнего Сережи Прозорова дошли и до Медвежьего. Приезжали учителя посмотреть на необыкновенного мальчика.
— А что, как сбудется? — сказал Никита. — Я об этом еще когда загадывал. Вон Леха свидетель.
Вера Михайловна обнимала мужа и думала: «Теперь у меня два ребенка, — младший, пожалуй, где-то и понаходчивее».
Среди тех, кто заглядывал в Прозоровский дом, была и Софья Романовна Донская, учительница химии В педагогическом коллективе школы Софья Романовна и Вера Михайловна были как бы антиподами, разными полюсами. Если Веру Михайловну все любили, считали РОДНЫМ человеком, то Софью Романовну не любили сторонились, считали не то что чужой, но посторонней как бы инородным телом в коллективе.
Впрочем, об этом постаралась сама Софья Романовна. Едва появившись в школе, она сказала: «Я не люблю учительствовать. Можете меня презирать. Я человек откровенный. Да, не люблю. Но не у всех и всё с любовью. Разве в армию все идут с охотой? Так вот и я.
Раз уж так случилось, буду нести службу».
И действительно, придраться к Софье Романовне было нельзя, все свои обязанности она выполняла точно. Но не больше. Как будто и в самом деле несла службу.
«Закон самосохранения, — говорила она. — Хоть расшибись, здоровья мне не прибавят, зарплаты тоже». Ее бы, наверное, многие осуждали, не будь она такой откровенной, не признавайся сама в своих недостатках. А таким образом она выбивала козыри из рук тех, кто хотел обрушиться на нее. Ну как осуждать человека, если он сам заявляет о своих пороках? Даже преступнику снижают меру наказания за чистосердечное признание. К Софье Романовне относились так, как относятся к человеку с физическим недостатком, — без возмущения, без резкого осуждения. Просто уже заранее знали, что Софью Романовну напрасно просить о том, что не входит в ее обязанности, — что сверх ее положенных по программе часов. Правда, работала Софья Романовна четко. Ученики ее предмет знали. Побаивались ее иронии. Но. если к Вере Михайловне обращались с просьбой помочь, зная, что она не откажет, то к Софье Романовне и не обращались, и не тратили времени на лишние уговоры. Даже директор и тот обрывал сам себя на педсовете: «Ах, да… у вас же „закон самосохранения“… Тогда поручим экскурсию в воскресный день Вере Михайловне». Теперь Вера Михайловна опять работала столько, сколько нужно. Сын не требовал постоянной опеки, и она могла отдать долг товарищам за то добро, какое, делали они ей, подменяя ее в течение первых лет, пока подрастал сынишка.
Между прочим, и по поводу детей между Софьей Романовной и Верой Михайловной возник спор и продолжался в течение всех этих лет. Еще тогда, когда Вера Михайловна только хотела иметь ребенка и делала все для того, чтобы он появился, Софья Романовна категорически заявила:
— Бабья глупость. Добровольная рабыня на весь век. Лучшие соки ему. А он… Знаю я этих детей. Вов у моей сестрицы трое.
— Но ведь так бы и вас не было, — возражала Вера Михайловна.
— Но я есть, — невозмутимо заявляла Софья Романовна, — потому что я существую.
Учителя, конечно же, приняли сторону Веры Михайловны. Но это не смутило Софью Романовну. Она твердо держалась своего.
— Не собьете. Нет, нет, — повышала она голос. — Я дважды из-за этого семью разрушала. Первый муж очень хотел иметь ребенка. Ему, видите ли, это нравилось… Они свяжут вас по рукам и ногам, асами свободны. Им легко… Да что вы возмущаетесь?! Я говорю, а другие делают. Вы просто отстали. Сейчас все цивилизованное человечество стремится иметь как можно меньше детей. Вся Европа и Америка…
— А посредине Донская, — не выдержала Вера Михайловна.
— Я на вас не обижаюсь, — произнесла Софья Романовна после паузы. — В вас тоже говорит закон самосохранения… Но это другой закон. Пройдет время, и вы увидите, во что вы превратитесь. Куда денутся ваше обаяние, задор, свежесть…
Но произошло как будто обратное, совсем не то, что предрекала Софья Романовна. Вера Михайловна после рождения ребенка не завяла, не захирела, а расцвела, расправилась, помолодела. Увидев ее, озаренную материнским счастьем, Софья Романовна удивилась, задумалась, а затем произнесла как можно спокойнее: «Ну что же. Это доказывает только одно: из каждого правила есть исключение». Она проговорила это так, как будто спор между ними продолжался. Вере Михайловне показались ее слова жалкими и вся она — под своей напускной свободой и безмятежностью — несчастной. Вера Михайловна и всегда-то хотела людям счастья, а сейчас это желание усилилось, и она от души посоветовала Софье Романовне:
— Будет вам. Заведите себе ребенка… Честное слово, вы ведь и красивая, и здоровая.
Софья Романовна поджала губы и отрезала:
— Родить — обычное бабье дело. А вот попробуйте устоять.
С того дня они не разговаривали о детях и вообще мало говорили. И вот вдруг Софья Романовна появилась в доме Прозоровых, даже принесла Сереже подарок — книжку для раскраски. Вере Михайловне дома она ничего не сказала, а на следующий день в учительской произнесла роковые слова:
— Что ж, Вера Михайловна, к сожалению, я оказываюсь права. Вам предстоят тяжкие испытания. Ваш мальчик, по-моему, не совсем здоров.
— Ну знаете ли! — вмешалась всегда выдержанная завуч.
— Мне так показалось, — невозмутимо повторила Софья Романовна, подхватила свой журнал и ушла из учительской.
— Вот стерва! — выкрикнула молоденькая учительница младших классов.
— Ну-у, — не одобрила завуч, — она ж травмированный человек. У нее личная жизнь не сложилась… Хотя, конечно, конечно…
Вечером, укладывая Сереженьку спать. Вера Михайловна невольно вспомнила слова Софьи Романовны и особенно внимательно пригляделась к сыну. Он лежал спокойно и, как всегда, чуть затаенно, будто прислушивался к чему-то. Он был еще очень маленький и очень худенький, и только глаза были большими и взрослыми.
— Спи, Сереженька.
— Только сон загадаю.
— Ну, загадай, загадай.
Она ощутила, как у нее сжалось сердце и недобрые предчувствия на мгновение сковали ее. Мужу она ничего не сказала, наперед зная, что он превратит ее опасения в шутку, а на замечание Софьи Романовны ответит ругательством. Потом она закрутилась, занялась домашними и школьными делами, и отлегло от сердца, забылось. Однако перед сном она опять вспомнила о словах Софьи Романовны и мысленно ответила ей: «Это вы со злости. Это от одиночества, а может, и от зависти».
Летели дни. Жизнь шла своим чередом, и вроде бы окончательно забылись недобрые карканья Софьи Романовны. Но однажды Вера Михайловна пораньше ушла из школы и застала во дворе Сережу с Володькой. Сын по обыкновению присел, как курочка, а Володька что-то изображал, топая ногами. Она особенно отчетливо заметила, насколько Володька крупнее Сережи: тело, руки, ноги, голова — все у ее сына было маленьким, как будто недоразвитым, бессильным и бледным, как у дистрофика. Вера Михайловна представляла примерно, какими должны быть дети в таком возрасте. Ее сын явно и резко отставал от них в физическом развитии. И только глаза были старше его возраста. Намного старше. И разумом, умственным развитием он был тоже старше своих сверстников.
— Сереженька, ты что, ягоды ел? — спросила Вера Михайловна. — Паслён, наверное.
Она достала платок и принялась оттирать ему губы.
Но губы оставались синими. И тогда вновь ей вспомнились слова Софьи Романовны, к опять сжалось ее сердце. Вера Михайловна будто прозрела. «Никакой он не особенный. Он — больной», — подумала она и ужаснулась своему открытию. Теперь все показалось ей в другом свете: и его вялость, и задумчивость, и то, что он не бегает и не играет, а приседает, как курица, и все к чему-то прислушивается, — все, все приняло другой оттенок, другой смысл.
«Больной. Больной. Боже мой!..»
Вера Михайловна долго не засыпала в этот вечер, наконец сообщила мужу:
— У Сережи губы синие.
— А руки грязные, — по обыкновению шутливо отозвался Никита. — Отмоешь все будет нормально.
— Он болен, — всхлипнула Вера Михайловна.
— Ну что ты придумала? Что придумала?!
— Даже Софья Романовна заметила.
— Дура ваша Софья Романовна. Кукушка бездетная. Вот я ей накаркаю!
Вера Михайловна задрожала плечами, и он замолк.
В таких случаях ему всегда было жаль жену, хотелось взять ее на руки, как ребенка, прикрыть своей широкой грудью от беды, унести подальше от того, что ее волнует. Но куда унесешь? От чего прикроешь?
— Так он же вроде не жалуется, — осторожно начал Никита. — И болел только свинкой.
— Контактов не было, — отозвалась Вера Михайловна. — Он же у нас почти все время один.
— Ну-у, контактов, — протянул Никита. Его всегда сбивали научные доводы своей бывшей учительницы.
Она уловила растерянность в голосе мужа и успокоила:
— Ладно. Еще ничего не ясно.
Утром к ней обратилась Марья Денисовпа, которой рассказал о ее тревогах Никита:
— Ты чо, девонька? Откуль это взяла? Да мало ли чо кто сбрехает. На каждый роток не накинешь платок.
— Худенький он, — сказала Вера Михайловна. Иначе она не могла еще объяснить свои опасения.
— А-а, — отмахнулась Марья Денисовна. — Худенький! Да вон у нас петушишка худенький, да шустрый.
А насчет болестей так Никите говорю, это ишшо ппчо не означат. Ныне все болести уколами гонят.
— Ладно, бабушка, — повторила свои слова Вера Михайловна. — Еще ничего не ясно.
В школе заметили ее бледность, беспокойство и грустный блеск в глазах. Даже директор спросил:
— Что с вами? Дома все в порядке? Ничего не скрываете?
Что она могла ответить? Сослаться на слова Софьи Романовны? Сказать об ужасном открытии? Все это выглядело бы несерьезно и бездоказательно. А других фактов у нее пока что не было.
Несколько дней и ночей Вера Михайловна проверяла себя: внимательно следила за, сыном, подолгу стояла у его кроватки, поднималась ночью и подходила к нему, прислушиваясь и приглядываясь. Один раз ей показалось, что она слышит его сердце, так оно сильно колотится. Но в тот же Миг она почувствовала усиленное биение своего сердца и подумала, что может ошибиться, что это тоже не показатель.
Но опасения ее на этот раз не проходили. Предчувствия были сильнее разума. Взрослость, отрешенность, прислушивание к себе, серьезные вопросы сына, которыми они так восхищались, — все теперь говорило Вере Михайловне о нездоровье ребенка, а не о его необычности.
Дождавшись солнечного, безветренного утра, она попросила Никиту:
— Давай-ка свозим Сереженьку в больницу. Там новый доктор прибыл. А может, на дом к Дарье Гавриловне.
— Ну давай, — согласился Никита, готовый для ее спокойствия сделать все, что она пожелает.
Мотоцикл шел мягко, плавно покачиваясь на неровностях дороги. Пыли не было. Обильная ночная роса смочила землю, и она темнела, влажно парясь на утреннем солнце. С полей несло свежей соломой и свежими парами. Лесок уже пожелтел и поредел, но все равно оживлял однообразный пейзаж. А озеро зеркально блестело и отражало единственное облачко на небе.
— Смотри, тучка на Африку похожа, — сказала Вера Михайловна сыну. Помнишь, я тебе карту показывала?
Сережа задрал голову, долго смотрел на тучку, потом возразил:
— И нет. На сердце. То, что рисуют со стрелкой.
Вера Михайловна поразилась памятливости сына, но ничего не сказала, только обняла его покрепче. Она старалась не выказывать то, что происходило в ней последнее время, а именно, что она заподозрила болезнь сына и была почти уверена в ней. Она еще не знала, какая это болезнь, но в том, что болезнь существует, не сомневалась. Конечно, ей было тяжело пережить это страшное открытие одной, но в то же время и легче, потому что страдания мужа, бабушки и родных не уменьшили бы ее терзаний, а, напротив, увеличили бы их.
«Буду терпеть до последней возможности, — внушала она себе. — А они пусть пока ничего не ведают, пусть живут спокойно».
Это решение отнимало у нее много душевных сил, но она была довольна, что ни муж, ни бабушка, ни кто другой еще ни о чем не догадываются и вроде успокоились после первой тревоги, поднятой ею.
Сейчас она косилась на загорелую шею мужа, на его крепкую спину, крутой затылок, на его спокойную посадку, такую слитную с машиной, такую надежную, и была снова почти по-девичьи влюблена в этого простого, здорового, терпеливого и добродушного человека.
«Все-таки он у меня хороший. Все-таки он у меня славный».
Она ощутила под рукой биение другого дорогого сердечка — оно показалось ей усиленным. Она тотчас объяснила себе это необычной поездкой и почувствовала радость оттого, что они — сынишка и муж — существуют, что они рядом. Но тут же она мысленно сравнила могучую, богатырскую фигуру мужа и хилое, костлявое тельце сынишки, и снова боль и ужас недавнего открытия сжали ее сердце.
— А кто так поля подстриг? — спросил Сережа.
— А вот папка твой. Он у нас парикмахер.
— И вовсе нет. Он тракторист, и комбайнер, и…
— Механизатор, — подсказал Никита.
— Вот, — обрадовался Сережа.
— Правильно. Я пошутила, — успокаивала Вера Михайловна, а сама подумала: «И нс смеется-то он. И шуток-то не принимает».
Тревога ожидания нарастала. Чем ближе они подъезжали к Медвежьему, тем беспокойнее было на душе у Веры Михайловны: «Что скажет врач? Что за болезнь у Сереженьки? А быть может, повезет, волнения окажутся ложными?»
Но в это она почти не верила. Думала так, чтобы утешить себя, отдалить тяжелый миг приговора.
Едва они въехали на окраину села, Вера Михайловна предложила:
— Давай сначала к Дарье Гавриловне заедем.
Никита послушно повернул на тихую узкую улочку, где в доме с голубыми наличниками жила известная всей округе старая акушерка.
Старушку они заметили на огороде. Была она вся крупная и добрая. Крупные руки, округлая фигура, крупный нос и добрые глаза, добрый голос, выработанный годами работы со страждущими людьми.
— О-о! Кто к нам приехал?! — воскликнула она, завидев во дворе Веру Михайловну с ребенком. — Какие мы большие, какие взрослые!
В доме в нескольких клетках щебетали птицы-синицы и канарейки.
— Ты послушай-ка птичек, — предложила Дарья Гавриловна Сереже. Послушай. Они тебе песенки споют, а мы с мамой поговорим на кухне.
Выслушав опасения Веры Михайловны, Дарья Гавриловна не опровергла их, только по профессиональной привычке успокоила:
— Чего уж так-то? Может, и ничего. Сейчас мы к Владимиру Васильевичу. Он и посмотрит. Он, хотя и молодой, а диссертацию пишет. Диссертацию, повторила она с уважением.
Снова они сели на мотоцикл и направились в больницу, куда вскоре подошла Дарья Гавриловна.
Непривычные запахи, тишина, белизна, медицинские плакаты на стенках больше всего подействовали на Никиту. Он сидел такой робкий, положив большие руки на колени, и виновато поглядывал по сторонам.
— Эй, — шепнула Вера Михайловна, — не вешай носа, — и показала глазами на сына.
Сережа с любопытством наблюдал за проходившими врачами и сестрами и заглядывал в приоткрывавшиеся двери кабинетов.
— Что ты, Сереженька? — спросила Вера Михайловна.
— А там как зимой. Беленько.
Их принял молодой врач, остроносенький, худой, и, если бы не массивные очки в роговой оправе, его можно было бы принять за подростка, зачем-то надевшего белый халат.
— Какие жалобы? — спросил он у Веры Михайловны.
Она стала рассказывать о своих опасениях.
— Это не жалобы, — прервал Владимир Васильевич.
Вера Михайловна па мгновение смутилась, почувствовала себя ученицей перед строгим учителем, но тотчас поборола смущение.
— Слабенький. Вялый. Малоподвижный. Отстает в развитии от сверстников… Ну что еще? Почти не смеется. Приседает… К себе прислушивается, говорит: «Стукает.»
— Хорошо, — одобрил Владимир Васильевич, и было непонятно, к чему относится это «хорошо» — к тому, что ребенок прислушивается, или к тому, как рассказала Вера Михайловна.
Врач еще задал несколько вопросов, а потом велел раздеть ребенка. И, пока Вера Михайловна раздевала Сережу, врач тщательно потирал свои руки, согревая их, хотя в кабинете вроде бы было совсем не прохладно.
— Не бойся, — сказал врач и, прежде чем осматривать, погладил Сережу по голове.
Он долго его выстукивал и еще дольше выслушивал, засунув блестящие концы фонендоскопа в уши. Он морщил нос, поправлял очки и снова слушал. Вера Михайловна смотрела на него, придерживая дыхание, и сердце у нее то замирало, то подступало к горлу. Наконец врач закончил осмотр.
— Оденьте ребенка. Выведите его, а сами зайдите.
Никита, увидев чужое, будто закаменевшее лицо жены, встрепенулся:
— Ну, что?
Вера Михайловна отрицательно покачала головой и скрылась в кабинете.
— Садитесь, пожалуйста, — предложил Владимир Васильевич, снял очки и для чего-то протер их. — У вашего сына, очевидно, порок сердца. Точно сказать не могу. Нужно обследоваться. Поедете в город. Я напишу направление. Мы узнаем о дне приема и сообщим вам заранее.
— А это опасно? — спросила Вера Михайловна, собравшись с силами.
— Точно сказать не могу, — повторил Владимир Васильевич. — Вот обследуем, тогда скажем.
За всю обратную дорогу Вера Михайловна произнесла одну фразу:
— Надо в город ехать, на обследование.
Сейчас у нее было напряженное, но уже знакомое, а не то, не чужое лицо, и Никита ничего не стал расспрашивать. Марье Денисовне были сказаны те же слова: «Надо в город ехать. На обследование».
Весь этот вечер Вера Михайловна слышала, как приходили соседи и как Марья Денисовна повторяла им:
«В город ехать, на обследование».
В этом сообщении звучала настороженность, но еще не было опасности. И люди принимали новость сдержанно:
— Стало быть, надо.
— Ну чо? Ничо. Ишшо неизвестно. Может, и обойдется.
Никита был поражен чужим лицом своей жены. Но и Вера Михайловна была поражена незнакомым видом своего мужа. Всю обратную дорогу до дома, глядя на его крутой затылок и широкую спину, она видела его другим — растерянно сидящим в коридорчике больницы, с руками, неуклюже лежащими на коленях, видела его глаза, наивно-удивленные, почти испуганные, когда она привела к нему сына. И уже не огромным, большим и сильным представлялся он ей сейчас, а почти таким же, как сын, требующим внимания и пощады. И не только о судьбе Сережи думала она всю дорогу, но и о том, как охранить мужа от предстоящих испытаний.
В конце концов решила твердо: «Все возьму на себя. Буду скрывать от него правду. Я-то ее уже знаю… Почти знаю… А он… Пусть он поживет спокойно. Пусть пока это будет моей тайной. Может, не так опасно».
Последние слова она произнесла для себя, чтобы иметь хоть какую-то отдушину, хоть какую-то слабую надежду на благополучное будущее своего сына.
Слушая слова бабушки и приходивших в дом людей, Вера Михайловна еще больше укреплялась в правильности своего решения: «Да, да. Так и буду делать».
И в школе она сказала: «Еще ничего не ясно. Нужно в город ехать. Обследоваться». Все восприняли се сообщение с удовлетворением и доверием. Лишь два человека не поверили Вере Михайловне — Софья Ромапоана и директор. Софья Романовна, как бы случайно встретив ее в коридоре, произнесла, не то извиняясь, нс то сочувствуя:
— Я очень хочу, чтобы все обошлось. Вы, Вера Михайловна, вызываете у меня симпатию. Это честно. Будем надеяться на лучшее.
— Так ведь еще ничего не известно, — прервала Вера Михайловна, потому что ей вовсе не хотелось откровенного разговора с Софьей Романовной.
Директор пригласил Веру Михайловну в кабинет.
— Я задержу ненадолго. Докладывайте.
— Еще нечего. Поедем обследоваться.
Директор погладил свою лысую голову ладошкой, поморщился:
— Вижу. Все вижу. Я же две войны прошел. Что вы мне… Докладывайте.
Он так на нее посмотрел, с таким чистосердечным отцовским участием, что Вера Михайловна все рассказала, что предполагала, что предчувствовала, и даже всплакнула, отвернувшись к окошку.
Директор не перебил, не успокоил, не произнес дежурных слов. Дал ей выговориться и выплакаться, а потом сказал:
— Слезами горю не поможешь. Пока нет ясности, изводиться нечего. И, вообще, держитесь…
— Я и стараюсь.
— Ну и молодец. Когда надо ехать?
— Обещали сообщить заранее.
— Скажете. Я адресов на всякий случай дам. Там у меня дружок фронтовой живет.
Потянулись дни ожидания. Вера Михайловна присматривалась к сыну и не находила ничего нового. Все так же он больше играл сам с собой, чем с Володькой;, все так же приседал, как курочка, во время игры, все так же смеялся лишь тогда, когда отец щекотал его, играя с ним, все так же временами замирал отрешенно, прислушиваясь к себе. Вера Михайловна вроде бы успокоилась и старалась держаться так, чтобы передать свое спокойствие родным. Получалось, что она играла, а они подыгрывали ей. Еще в день возвращения от врача Никита успел шепнуть бабушке: «Вера шибко переживает, так что…» Он и сам был взволнован не меньше жены, но потом вспомнил: «Это же было (то есть он увидел ее чужое, поразившее его лицо)… было именно до того, как она окончательно поговорила с доктором… А после совсем другое. После она и сама сказала:
„Еще ничего не ясно. Нужно обследоваться“. Точно. Так это и было». Эта простая мысль вернула Никите всегдашнее самообладание. Ему хотелось, чтобы и Вера не расстраивалась раньше времени, потому что он по глазам ее видел, что на душе у нее неспокойно. Однажды Никита перед сном обнял жену и сказал полушутливо-полусерьезно:
— А что, ежели постараться, может, и второй появится?
Она ничего не ответила, но посмотрела на него отчужденно-строго. И Никита замолк. И уже никогда не заговаривал об этом.
Позже он догадался, чем была вызвана ее реакция.
«Можно подумать, что я на Сереге уже крест поставил.
Действительно, предложил не вовремя».
В очередной понедельник в школу позвонили из больницы. Ехать надо в среду. Прием от двенадцати до шести.
Сборы были спокойными. Взрослые старались не напугать ребенка и приободрить Веру.
— Ничо, девонька, съезди, съезди, — повторяла Марья Денисовна. — И для верности, и для отвлечения.
— О чем вы говорите, бабуля?
— А и не зря, и не зря.
Она прошла на кухню, достала с божнички старый сверток, повязанный крест-накрест цветастым платком.
— Вота они, сбережения. Купи чо хошь и себе, и Сергуньке.
— Ну, бабуля, разве мне до покупок? Ведь времени не будет, — отказывалась Вера Михайловна.
— А вдруг появится? Вдруг…
Пришлось принять сбережения, спрятать их в надежное место.
Поезд шел рано. Поднялись на рассвете. Ехать нужно было до станции Малютка, а это еще тридцать километров в сторону от Медвежьего.
Сережа проснулся безропотно, послушно оделся и сел за стол, ожидая бабушкиных оладушек. Вера^ Михайловна вновь обратила внимание на его взрослый взгляд и взрослое поведение, как будто все он заранее знал и делал осознанно. С вечера она сказала:
— Ложись пораньше. Завтра спозаранку в город поедем.
Он согласился, улегся, но когда подошла бабушка и нараспев стала объяснять: «Сереженька город повидает, все увидит, все узнает», — он возразил:
— Я в больницу еду. К доктору. Не знаешь, что ли?
Сейчас он наблюдал, как бабушка хлопочет у плиты, и вдруг сделал ей замечание:
— Хоть бы причесалась, что ли.
Бабушка охнула от неожиданности и принялась заправлять волосы под вылинявшую косынку.
Пришли соседи. Как же, событие! Самый младший житель впервые едет в город. А на самом деле всех волновал вопрос: «Да неужто? Да как же так? Да что же с ребенком-то?» Все они хотели еще раз взглянуть своими глазами на мальчика и для себя определить серьезность его положения.
— Стало быть, в дорожку, Серега, — произнес старик Волобуев, подсаживаясь на лавку у печи. — Приглядывай там, потом, значит, расскажешь, Сережа кивнул утвердительно, продолжая жевать оладьи.
— Ешь-то чо? Скусно, поди? — подала свой голос бабка Анисья.
— Попробуй, — Сережа протянул ей оладушек.
— Ой ты, чадушко ненаглядно! Да спасибо те, спасибо.
Вбежала невестка Волобуевых с сыном Володькой.
— Не уехали ишшо? — перевела дыхание. — А то мой с вечера завел: проводить дружка хочет.
С улицы донеслось гудение мотора. Никита разогревал мотоцикл. Это был сигнал к отправлению.
— Ну, Сереженька, — всполошилась Вера Михайловна. — Давай одеваться.
Вес заговорили, засуетились бестолково. Самым спокойным был Сережа, делал то, что велела делать мама, и молчал.
— Ну, с богом, — проговорила Марья Денисовна и перекрестила мальчика.
Сережа ответил недовольно:
— Не крести меня. Я, когда вырасту, пионером буду.
— Так будешь, будешь, — поспешно согласилась Марья Денисовна. — Это я так, по старости.
Утро выдалось легкое, свежее, светлое. Земля, покрытая росой, блестела слюдяным блеском. Над нею полосами поднимался туман. А за дальними лесами вставало солнце. Лесов па востоке не было видно. Только старики знали, что там лес. Небо покрылось багрянцем, и этот багрянец с каждой секундой набирал силу.
Сережа, закутанный в бабушкину пуховую шаль, прижался к матери и смотрел во все глаза на набрякшее восходом небо. За всю дорогу он, пожалуй, и не произнес ни слова.
Поспели как раз к поезду. Едва Никита купил билеты, показался дымок паровоза. Сережа смотрел на него с любопытством, все сильнее прижимаясь к матери.
Когда послышалось пыхтение, он не выдержал:
— Мам, а нас не задавит?
— Нет, Сереженька. Он по рельсам идет, — успокоила Вера Михайловна и прижала сына к коленям.
С Никитой поговорить не пришлось. Они лишь взглянули друг на друга, и Вера Михайловна заметила в глазах мужа то же не свойственное ему новое выражение растерянности и детской беспомощности, что уже заметила там, в больнице.
Поезд стоял всего минуту. Они побежали к своему вагону — Вера Михайловна с сумкой, Никита с сыном на руках.
— Не волнуйтесь! Я не отправлю, покуда не посажу! — крикнула им старая проводница и выкинула красный флажок, как милиционер на перекрестке вскидывает свою палочку.
Но они не задержали отправления. Сперва Никита протянул проводнице сына, а потом помог подняться Вере. Как только они очутились в тамбуре, вагон качнуло и поезд тронулся.
Вера Михайловна не услышала звука колокола, но увидела дежурного в красной фуражке и даже успел, углядеть, что у него на тужурке загнулся ворот с одной стороны.
До конца платформы за поездом бежал Никита.
А затем он остановился, бессильно опустил свои большие руки. Вера Михайловна поднесла палец к лицу и вздернула нос, что означало: держись, выше голову. Заметил ли он ее жест, она не знала. Но сама была довольна собой: держится.
Замелькали березы станционной рощицы. Сережа спросил:
— А почему деревья побежали?
— Это мы поехали, Сереженька, — сказала Вера Михайловна и, взяв сына за руку, повела в вагон.
Глава четвертая
Всю дорогу Сережа смотрел в окно. Только раза два он попросил попить. Вера Михайловна поглядывала искоса на него и думала: «Боже мой! Какие же мы были дураки! Особенный! Да никакой он не особенный, он больной. Как это могла заметить с первого взгляда Софья Романовна и не увидели мы?» Она снова поглядела на сына и обратила внимание на его глаза, устремленные в окошко, полные удивления и радостного открытия. «Нет, все-таки он особенный. Как смотрит… Как взрослый. И какой серьезный».
Из поезда она вышла в нерешительности. У нее даже мелькнула мысль: «Быть может, не ходить к врачам?.
Так еще ничего не ясно, есть хоть какая-то надежда».
Она покачала головой, осудив себя за малодушие, и ускорила шаг. «Что-то меня ожидает… Что-то, что-то, что-то? Скорее бы. Неясность еще хуже. Это мучительно… А вдруг что-нибудь страшное?»
Она вновь придержала шаг.
— Ну мама же, — сказал Сережа. — Что ты то бежишь, то останавливаешься?
— Прости, сынок.
А мысленно сказала другие слова: «Ты еще не знаешь, куда идешь, что тебя ожидает». Он не дал ей задуматься, начал задавать вопросы:
— А эти люди зачем приехали? А — почему на дороге камень? А здесь много председателей? А потому что на машинах ездят.
В городской поликлинике Вера Михайловна показала направление. Им предложили раздеться и подождать доктора. В коридорчике было много ожидающих, тоже, как видно, приезжих. Они сидели робко и терпеливо, не сводя глаз с дверей врачебного кабинета. Городские были посмелее, совались прямо к врачу, заводили громкие разговоры, останавливали вопросами сестер. Напротив Веры Михайловны сидела бабушка, перетянутая платками, как матрос эпохи гражданской войны пулеметными лентами. Она, казалось, состояла вся из морщинок — руки в морщинах, лицо в морщинах, даже на кончике носа морщины. Она взглянула на Сережу, тотчас переместила морщинки, и они превратились в добрые лучики.
— И ты к дохтуру?
— Угу, — доверительно ответил Сережа. — У меня сердце стукает.
— Стукаит? А вот у меня не стукаит. Дай мне маненько твово стуку.
Сережа кивнул согласно и тут же покосился на мать.
Не видя возражений, он произнес:
— Возьмите. А как?
— А дохтур укажет. Он, ета, знает как.
Сережа наклонился к маминому уху, зашептал:
— Пусть доктор отдаст бабушке мой стук. Ладно?
Вера Михайловна погладила сына по мягким волосам, прижала к себе плотнее.
Приоткрылась дверь. Появилась сестра в белой косынке на такой высокой прическе, что было непонятно, как косынка держится на этакой башне.
— Прозорова с ребенком, проходите.
У Веры Михайловны екнуло сердце. Она тотчас забыла и о сестре, и о ее прическе, повернулась к бабушке, словно желая согласиться на предложенный ею обмен.
Но ничего не сказала, взяла Сережу за руку и пошла.
«Господи», — произнесла она про себя. Никогда она не верила в бога и никогда не произносила этого слова, но тут подумала: «Господи, ну сделай так, чтобы все хорошо было, чтобы ничего страшного».
Их приняла крупная щекастая женщина. Она добродушно кивнула Вере Михайловне, улыбнулась глазами Сереже.
— Присаживайтесь. Слушаю.
Вера Михайловна уже имела некоторый опыт и рассказала ей так, как рассказывала Владимиру Васильевичу. Врачиха смотрела в упор, словно желала убедиться в точности ее слов, и ни разу не перебила. Когда Вера Михайловна кончила, она распорядилась:
— Разденьте мальчика. Здесь не холодно?
— Вроде нет.
— Ну-ка, иди сюда, — позвала врачиха, — сосредоточив все внимание на Сереже.
Она долго слушала мальчика и пожимала плечами, точно удивлялась тому, что слышит.
— Подождите, — наконец произнесла она. — Накиньте что-нибудь, — и вышла из кабинета.
Она вернулась через несколько минут с маленьким мужчиной в больших очках. Вера Михайловна не запомнила его лица, лишь заметила залысины на высоком лбу. Она смотрела на то, что они проделывают с Сережей, вернее на выражение их лиц, стараясь по ним угадать, насколько серьезна болезнь сына. Врачи не обращали на нее внимания. Они занимались мальчиком, выстукивали его и выслушивали, крутили из стороны в сторону, просили дышать или не дышать, иногда перебрасывались короткими малопонятными фразами:
— Комбинированный.
— Врожденный.
— Баталлов.
— Систолический.
— А в пятой точке?
Затем они переглянулись между собой, и врачиха снова предложила:
— Накиньте что-нибудь.
А очкастый ушел.
Через некоторое время он появился с седой маленькой женщиной. Халат на ней был накрахмаленный, и шапочка накрахмалена. Она напомнила Вере Михайловне школьницу-выпускницу перед первым экзаменом, особенно со спины, когда не видно было седых прядок, выглядывающих из-под шапочки.
Врачи втроем начали выслушивать мальчика. Только теперь, как почувствовала Вера Михайловна, они не обращали внимания не только на нее, но и на Сережу. Их увлек случай, болезнь, а сам мальчик был лишь иллюстрацией, экспонатом, заслуживающим внимания.
«Да нет, что я», — устыдила себя Вера Михайловна и снова стала следить за лицами врачей. Но на них была лишь профессиональная замкнутость да разве что все та же заинтересованность случаем. Опять повторялись слова «врожденный», «комбинированный» и новое странное слово — «фалло».
— Хотя бы рентген, кровь, ЭКГ, — распорядилась маленькая женщина.
Крупная врачиха послушно кивнула и записала что-то на бумажке. Мужчина и маленькая женщина, ушли, а щекастая опять — взялась за ручку, проговорив между прочим:
— Оденьте.
Пальцы у Веры Михайловны дрожали, и она старалась, чтобы Сережа не заметил этой дрожи.
— Ну вот, — произнесла врачиха, закончив писанину. — Пройдете на анализы, а завтра и решим. У вас есть где переночевать?
— Есть адрес.
— Я машину попробую организовать. Вас подбросят по адресу.
«Спасибо», — мысленно поблагодарила Вера Михайловна и, подумав, почему же она не сказала громко, повторила про себя: «Спасибо».
Фронтового друга директора школы звали Орест Георгиевич. Жил он на Базарной улице, в потемневшем домике с двумя тополями по бокам. Когда машина с красным крестом на кузове остановилась напротив старых ворот, с крыльца сбежала грузная женщина, а в соседнем доме раскрылось окошко.
— Не пугайтесь, — успокоила Вера Михайловна женщину, — это нас просто подвезли к вам.
Женщина прерывисто вздохнула, покачала головой и улыбнулась приветливо.
— Орест Георгиевич! — позвала она все еще дрожащим от волнения голосом и пригласила:-Проходите, что же вы?
На крыльце уже стоял Орест Георгиевич. Даже издали по прямой осанке можно было признать в нем человека, долго служившего в армии. Бросалась в глаза круглая голова, покрытая коротенькими седыми волосами. Она почему-то напомнила Вере Михайловне поле после жатвы с аккуратно срезанной стерней. Она удивилась этому пришедшему вдруг сравнению и тому, что оно пришло именно сейчас ей в голову, и неуверенно шагнула навстречу хозяину дома.
— Шире шаг, — резким голосом произнес Орест Георгиевич. — Ну-ка, молодой человек, как солдаты ходят?
Сережа неожиданно вытянул ножку и широко шагнул, будто лужу переступил.
Взрослые засмеялись. Смех разрядил обстановку.
— Шершиев, — представился Орест Георгиевич и подал Вере Михайловне жесткую руку.
Она легко пожала ее и стала извиняться:
— Напугала вас. А нас прямо из больницы подбросили. Машину дали.
Орест Георгиевич сделал рукою жест, означающий «добро пожаловать», и одновременно приказал грузной женщине:
— Позаботься насчет довольствия.
— Что вы, — начала было отказываться Вера Михайловна. — У нас вот…
— Разговорчики, — шутливо прервал Орест Георгиевич.
Как-то незаметно Вера Михайловна почувствовала себя свободно, будто встретилась со старыми знакомыми. Она быстро привыкла к внешней резкости хозяина и доброй улыбке хозяйки. И Сережа нисколько не смущался. Это было для нее открытием. И в поезде, и в больнице, и здесь Сережа держался легко, только, как всегда, не смеялся, и все говорили ей: «Какой у вас серьезный ребенок». И сейчас хозяйка сказала:
— Уж больно ты, Сереженька, серьезный.
— Мы ведь после дороги. Устали, — сказала Вера Михайловна еще и для того, чтобы не заводить сейчас тяжелого для нее разговора о болезни сына.
Их быстренько определили в комнате на диване, закрыли двери и затихли, ушли во двор.
Сережа, утомленный долгой дорогой и долгим осмотром, почти тотчас уснул. А Вера Михайловна лежала с открытыми глазами, стараясь не шевельнуться, косясь на угол комнаты, где маленький паучок ловко вил свою паутинку. Она ощутила на губах солоноватый вкус и лишь тогда поняла, что плачет.
«Что же это? — думала она. — За что мне такое?»
Теперь уже у нее никаких сомнений не было: Сережа болен. И болен тяжело. Не напрасно врачи так старательно слушали и крутили его. Не напрасно они собрались втроем.
Она стала вспоминать консилиум, врачей, их отрешенные лица. Да, да, это не совсем обычное заболевание, иначе они не возились бы с Сережей столько времени.
Она припоминала слова, что они произносили, — «врожденный», «комбинированный», «фалло». Два первых она еще как-то понимала, но что такое «фалло»?
Неизвестное слово вызывало у нее настороженность и страх. Быть может, то, что заключено в этом непонятном слове, и таило особую опасность.
Вера Михайловна почувствовала, что внутри у нее все дрожит и она еле сдерживает эту дрожь, боясь разбудить сына.
«И как я не спросила? Конечно, это что-то необычное, иначе они не приглашали бы седую докторшу».
Тут она вспомнила о Сидоре Петровиче, стареньком докторе, к которому когда-то, когда еще не было ребенка, обращалась за советом. Она осторожно встала, оделась и вышла из дому.
Хозяев Вера Михайловна застала в садике, спросила о Сидоре Петровиче и очень обрадовалась, когда узнала, что он еще жив, хотя уже давно на пенсии.
— Это на Баррикадной. Недалеко. Ориентиры… — начал было объяснять Орест Георгиевич.
— Найду, — прервала Вера Михайловна. — Я знаю город. Я здесь училась.
Дождавшись, когда проснется Сережа, она произнесла так, чтобы не напугать ребенка:
— Давай-ка вставай. Мы сходим к одному дедушке.
Я тебе помогу одеться.
Она почувствовала под рукой его вялую кожу и стук сердечка. Ей показалось, что оно стучится прямо ей в ладошку, как у пойманного воробушка.
К счастью, они застали Сидора Петровича дома. Он безотказно их принял.
— Ага, ага! — воскликнул он, едва Вера Михаиловна напомнила ему о своем давнишнем посещении.
Голос у него был еще более жиденький, чем тогда, а пос он морщил по-прежнему, словно приглашал и Веру Михайловну и Сережу улыбнуться вместе с ним.
Он долго слушал Сережу прямо ухом. Оно было покрыто седыми волосками, которые, видимо, щекотали кожу мальчика, потому что Сережа временами вздрагивал и отстранялся от доктора.
Сидор Петрович в последний раз наморщил нос и кивнул Вере Михайловне, чтобы она одевала ребенка потом вздохнул и произнес сокрушенно:
— Война… Ее последствия.
— А что такое «фалло»? — спросила Вера Михайловна упавшим голосом.
— Фалло? Это тетрада такая. Ага, ага. Несколько пороков вместе.
Он покачал головой и посмотрел на нее с сочувствием. Вера Михайловна подумала: «А раньше он умел сдерживать свои чувства». Перед глазами снова промелькнули отрешенные лица сегодняшних врачей. «Это у них профессиональное и вырабатывается годами. А он уже, отвык или расслабился». Она удивилась своим мыслям: «О чем это я?! Да разве об этом надо? Ведь у Сережи, у моего сына, оказывается, несколько пороков».
Она хотела спросить, насколько это опасно, да не смогла. Сама испугалась своего вопроса.
Вера Михайловна не спала всю ночь. Просто лежала с закрытыми глазами, стараясь не разбудить спящего рядом сына. Тело у нее занемело, и внутри все тоже занемело.
Где-то у соседей выла собака, и этот ноющий звук как нельзя лучше подходил к ее состоянию.
«Что же теперь? Что же теперь?» — повторяла она без конца и не находила ответа.
Сейчас она знала, что сыну ее, вот этому прижавшемуся к ней комочку, грозит опасность, что он самой природой обречен на боли и страдания, а возможно… Тут она обрывала себя: «Нет, нет. Я должна… Что я должна?» Этого она не знала. Беспомощность больше всего сковывала ее. Она-то и приводила к тому состоянию, которое Вера Михайловна сама определила как занемение.
Откуда грозит опасность? Насколько она страшна?
И что делать?
«Точно так, наверное, — думала она, — чувствует себя человек перед казнью. Спасения нет. Он уже ничего не может изменить. Ну а тут… Тут еще хуже. Если бы меня, а то его…»
Она снова прислушалась к завыванию собаки и удивилась: «Как это хозяева спят? Привыкли, что ли?.. Ко всему можно привыкнуть, но к мысли, что его, тихо посапывающего, единственного… Нет, нет. Этого не может; не должно быть».
Она опять представляла лица врачей и про себя повторяла слова: «врожденный», «комбинированный», «фалло». Теперь она знала, что они означают. Каждое из них несет угрозу ее сыну, каждое из них как пуля, как приговор судьбы.
Даже Сидор Петрович не утешил. Даже он посочувствовал.
«Война… — вспомнила она его слова. — Неужели через столько лет? Неужели не только мы — дети войны, но и наши дети?»
Перед глазами у нее поплыли отдельные кадры.
В этом кино она, Вера Зацепина, главная героиня.
Вот она в разгаре зимы, в чужих подшитых пимах идет к станции. Ее нагоняет запыхавшаяся баба Катя интернатская сторожиха.
— Ет куды ж ты пошастала?
— К маме. Блокаду прорвали. Я по радио услышала.
Вот она уже восьмиклассницей прочитала в газете о том, как мать нашла сына, и принялась писать письма во все газеты. А затем ждала с замирающим сердцем ответа. Все они были на один лад: «Неизвестно», «Не числится», «Помочь не можем». Но они еще оставляли надежду. Но вот, уже в пятьдесят втором, пришло письмо, перечеркнувшее все надежды: «Зацепина Маргарита Васильевна погибла в блокаду и похоронена в братской могиле на Пискаревском кладбище Ленинграда».
«Неужели и сейчас безнадежно?» — прошептала Вера Михайловна и замерла, испугавшись своего шепота.
Утром она с трудом поднялась. Несколько минут не могла сдвинуться с места. Потом стала энергично массировать мышцы и с удовлетворением ощутила, как они наполняются силой. «Я должна быть сильной, я должна», — внушала она себе.
За утренним чаем хозяйка спросила:
— Что Сидор Петрович?..
Орест Георгиевич бросил на нее строгий взгляд, и она замолкла, виновато улыбнулась.
Вера Михайловна сделала вид, что не заметила этого взгляда, произнесла как можно спокойнее:
— Еще неясно. Вот за анализами пойдем.
В душе она была благодарна этим по существу чужим, но таким чутким людям, которые, видимо, понимали ее состояние и сочувствовали ей.
— Может, вам из деревни что нужно? — спросила Вера Михайловна.
— Все есть, — отмахнулся Орест Георгиевич. — Вот директору вашему поклон передайте.
Несмотря на протесты Веры Михайловны, он. пошел провожать их до больницы, нес ее сумку и подбадривал Сережу:
— Шире шаг-! Не отставай, солдатик!
Вера Михайловна шла с неохотой. Ведь результаты анализов — это минус надежда. Она и без них уже все знала.
Орест Георгиевич оказался кстати. Вера Михайловна, пользуясь его присутствием, не стала сдавать пальто на вешалку, сняла и уложила его на сумку. Орест Георгиевич и Сережа, остались внизу, а она одна поднялась наверх, туда, где находились кабинеты врачей.
Она рассчитывала возвратиться скоро. Однако ее задержали, попросили пройти к главному врачу.
Главный врач, та самая маленькая седая женщина, со спины напоминающая школьницу-выпускницу, приняла ее радушно, усадила рядом с собой в кресло и все медлила с разговором, как бы прикидывая, с чего начать.
— Как у вас самой со здоровьем? — спросила она.
— Нормально, — ответила Вера Михайловна.
— Тогда наберитесь мужества. Приготовьтесь к самому худшему. Быть может, его и не будет или случится оно не так скоро, но вы приготовьтесь.
— Что у него? — спросила Вера Михайловна и не узнала своего голоса.
— Комбинированный порок — сердца. Врожденный. То есть несколько пороков.
— Это я понимаю, — вставила Вера Михайловна, желая услышать не то, что ей уже известно, а то, чего она еще не знает.
— На сто процентов мы решить не можем, — продолжала главный врач тем ровным, сдержанным тоном, какой вырабатывается у врачей за долгие годы службы. — Его нужно в клинику, в область. Там решат окончательно. А в наших условиях это невозможно.
— Что такое «фалло»? — произнес кто-то другой голосом Веры Михайловны.
Главный врач снова помедлила, будто прикинула, стоит ли отвечать на этот вопрос.
— Это тетрада, то есть четыре порока.
— Сразу?
— Да, сразу. Случай редкий. Его обязательно возьмут в клинику.
— Случай? — спросила Вера Михайловна, потому что в душе не могла смириться с тем, что о ее сыне говорят не как о человеке, а как о каком-то, пусть редком, случае.
— Ну, это наше профессиональное, — сказала главный врач. — Если это действительно Фалло, то прогноз плохой. Обычно они погибают рано.
— Когда?
— В подростковом возрасте… Но это, повторяю, еще неопределенно. Вот в клинике вам скажут точно.
Вера Михайловна опять почувствовала, как все в ней занемело и вся она будто оцепенела в этом черном потертом кресле.
— Адрес ваш есть. Мы сами договоримся с клиникой и известим вас о сроке.
Вера Михайловна с трудом встала, вышла из кабинета. Ноги у нее подкашивались, и она, спускаясь по лестнице, крепко держалась за перила. Но как только увидела сына, его взрослые глаза, тотчас вся внутренне напряглась, выпрямилась и подошла к нему уверенным шагом.
Орест Георгиевич посмотрел на нее вопросительно, и она произнесла:
— Еще неясно. Нужно в область, в клинику ехать.
Хотя теперь эти слова были сплошным обманом, она сказала себе: «Так и надо. Так и надо».
Орест Георгиевич проводил их до вокзала, посадил на поезд и, уже когда вагон дрогнул, произнес своим резким военным голосом:
— Верьте в хорошее. Верьте.
Позже, в дороге, вспоминая его слова, Вера Михайловна поняла, что он обо всем догадался, по не расспрашивал, не терзал ее душу. Спасибо!
Мотоцикл с коляской был виден издали. Он стоял у березы за коричневым станционным домом. А Никиты не было. Веру Михайловну это никак не тронуло, просто она отметила для себя, что мужа нет.
Поезд сбавлял ход. Медленно проплывали знакомые привокзальные постройки. Все тот же дежурный в красной фуражке стоял на платформе. И ворот у него был все так же подогнут с одной стороны.
«Только мы. Только мы», — подумала Вера Михайловна и никак не продолжила своей мысли, потому что находилась в состоянии отрешенности, как будто то, что произошло в городе, те слова, что она услышала от главного врача, контузили ее и лишили внутреннего слуха, ощущения реальности всего, что происходило вокруг нее. Все знакомо и в то же время незнакомо. Она чувствовала себя бесконечно одинокой. Она и Сережа. Все, что касалось сына, она выполняла: поила, кормила его дорогой, сказки рассказывала. И сейчас вывела в тамбур, как только проводница сообщила ей: «Ваша станция».
Поезд остановился. Вера Михайловна шагнула на ступеньку, и тотчас ее подхватили сильные руки Никиты. Тут же он принял из рук проводницы Сережу и несколько шагов сделал с ними на руках. Потом поцеловал и не выдержал, спросил:
— Ну, как?
— Еще ничего не ясно, — повторила Вера Михайловна свою заученную фразу и, чтобы успокоить его, добавила:-Дома расскажу.
Всю дорогу они молчали. Никита уловил ее настроение и больше не задавал вопросов. А она снова вошла в то состояние отрешенности, в котором находилась с момента выхода от главного врача, вернее сказать, после ее слов. Она ехала как по чужой земле, все видела, все узнавала и ничего не замечала, словно не видела ничего.
К их удивлению, всю дорогу говорил Сережа. Он был настолько переполнен впечатлениями, что не мог молчать:
— А там дома во-о какие. До неба. А на станции народу во-о сколько. А вагонов знаешь сколько? На всех хватит.
Лишь один раз он отвлекся от городских впечатлений, задрал головенку и спросил.
— А луна почему? Ведь день уже.
Из-за лесочка выглянул знакомый пригорок — родные Выселки.
«Там наш дом, — подумала Вера Михайловна. — Там мы будем, жить и ожидать, когда же это произойдет».
Ей вдруг захотелось остановить машину, попросить Никиту не ехать туда, свернуть в сторону, умчать их в другое место, где не будет терзаний и страшных дней ожидания конца, развязки, гибели Сереженьки. Она уже потянулась к мужу, но вовремя остановилась, понимая, что от неизбежного не уйдешь. Никуда не уйдешь и не спрячешься.
И Марье Денисовне юна сказала:
— Еще не все ясно. Надо в область ехать. В клинику.
— Да чо же это тако?
— Надо, бабуля. Для него же.
— Это-то да. Это-то да.
Бабушка занялась Сережей, а Вера Михайловна прошла в свою комнату и, как была, не раздеваясь, села у окна. За окном покачивались голые ветки акаций.
И почему-то эти потемневшие ветви навеяли на нее такую грусть, что на глаза выступили слезы.
Никита еще при первом взгляде на жену там, на станции, понял, какое у нее настроение, и не заводил разговора. И сейчас он ничего не сказал, только положил свою тяжелую руку на ее плечо. Так они и сидели молча, слушая, как Сережа разговаривал с бабушкой:
— Она думала, я не вижу, а я подглядывал.
— Ай, да чо же это ты так?
— А потому что маму маленькая докторша обидела, Она после нее плакала.
Вера Михайловна снова представила сосредоточенные лица врачей и будто услышала их слова. Ей сделалось душно в комнате.
— Идем погуляем.
— Так устала же?
— Идем.
Они подошли к озеру, к тем березам, у которых много раз сидели в молодости, в годы своей влюбленности.
Короткий осенний день кончался. На воде играли угасающие краски. Мелкие кудрявые облака проплывали по небу и отражались в озере, напоминая улетающих белых лебедей.
— Около нашего детского дома было точно такое же озеро, — заговорила Вера Михайловна.
— Ты рассказывала, — отозвался Никита.
— Когда я тосковала по маме, то уходила туда, подходила к воде и тихонько звала: «Мамочка, где ты? Мамочка, отзовись».
Она вдруг всхлипнула протяжно, будто вскрикнула, уронила голову на грудь Никиты и зарыдала.
— Плохо, Никитушка! — произносила она сквозь слезы. — Плохо. Недолго жить нашему сыночку. У него врожденный порок сердца. Не один, а много.
Он гладил ее осторожно, и пальцы у него дрожали.
Когда Вера Михайловна затихла, они медленно пошли домой. За всю дорогу больше не проронили ни слова. У самого дома Вера Михайловна попросила:
— Только бабуле не говори, ладно? Пока не надо.
И никому не говори. Пока это наша тайна. Наша тайна, — повторила она шепотом.
Марья Денисовна и сама догадывалась: что-то не так. Изменилась невестка после поездки в город. Очень изменилась. И на вид постарела. И потише стала. Говорит, будто кого-то разбудить боится. И на сына глядит так, словно у нее собираются отнять его. Все приметила Марья Денисовна, но ни о чем не сказала ни внуку, ни внучке, ни соседям. А на все их вопросы отвечала словами Веры Михайловны: «Еще, мол, не все выяснено.
В большой город ехать надо. Вызов. будет».
Но и родные, и соседи тоже не первый день жили на свете. Они сразу приметили перемены в настроении и Веры Михайловны, и Марьи Денисовны. И тоже ответили на них по-своему: не лезли с расспросами, не высказывали предположений, не совались лишний раз в дом, а войдя, старались говорить вполголоса, точно за стенкой лежал больной человек.
Лишь бабка Анисья рубила по-старому, все цеплялась к Марье Денисовне с вопросами:
— Съездили-то чо? Не ясно-то чо? Ехать-то чо?
Марья Денисовна всякий раз выходила с ней на крыльцо, а там говорила:
— Из ума вышло. Молоко Сергуньке кипит.
Или что-нибудь в этом роде.
Сама Вера Михайловна понимала, что ждать нечего.
Все определилось, и предстоящая поездка — лишь еще одно подтверждение тяжкой болезни сына. Но иногда она думала: «А вдруг не подтвердится? А вдруг не так тяжело? Ведь сказала же главврач: „Не на сто процентов“. Эта слабенькая надежда была соломинкой, за которую она еще держалась, которая помогала ей держаться.
Вера Михайловна ходила на работу, выполняла то, что обязана была выполнять, старалась не показать ни товарищам, ни ученикам, что творится у нее на душе.
И они вроде бы не замечали этого. И в то же время все видели, что она резко изменилась, подурнела, постарела, но молчали об этом. И учителя и ученики молчали.
На уроках Веры Михайловны теперь было необычно тихо. Гришке Дугину, попробовавшему шуметь, устроили „темную“.
Лишь Софья Романовна не посчитала нужным сдерживаться и в первый же день после возвращения Веры Михайловны из города, встретив ее в коридоре, воскликнула:
— Ой-ой-ой! Что это с вами? Вы же вернулись старухой!
— Просто очень устала, — отговорилась Вера Михайловна и ушла от разговора.
Ее приглашал к себе директор, участливо выспрашивал, и был момент, когда она еле сдержалась, чтобы не расплакаться и не выдать себя. Но у него были такие глаза, добрые и грустные, что она взяла себя в руки, даже улыбнулась ему:
— Еще в клинику надо. Жду вызова… А от Ореста Георгиевича вам огромный привет… Славный' он человек… И от меня большое спасибо.
— Ну это, это… — директор замотал головой и по привычке погладил ее ладошкой.
Из школы Вера Михайловна уходила пораньше, но не спешила, как прежде, увидеть сына. Нет, она не разлюбила его. Ей он стал еще дороже и ближе, но видеть его большие взрослые глаза ей было теперь особенно тяжело. Вере Михайловне казалось, что сын догадывается о своей коварной болезни и будто понимает, что она, мать, скрывает от него эту опасность. Теперь она старалась не смотреть в его глаза, отводила взгляд в сторону.
Как-то в учительской, при всех педагогах, Софья Романовна подошла к ней и протянула конверт:
— Вот, поезжайте-ка в клинику. Там мой хороший знакомый работает. Доктор Устинов.
— Спасибо, но я жду вызова.
Софья Романовна ничего больше не сказала, оставила конверт на столе и вышла из учительской, а позже пришла в класс Веры Михайловны, прямо на урок, и, отведя ее к окну, прошептала:
— Не будьте на поводу у судьбы. Что вы, в самом деле! Езжайте. Он поможет.
Вера Михайловна еще раз поблагодарила, но все-таки дождалась вызова. Он пришел в официальном конверте, на бумаге со штампом и печатью, и наделал шума в поселке. Никогда еще никто не получал такого вызова.
— Стало быть, власти заинтересованы Серегой, — суммировал общее мнение старик Волобуев.
Снова они тряслись на мотоцикле. Снова едва поспели к поезду. Только на этот раз он шел в другую сторону и отрывал их на шестьсот с лишним километров от родного дома. Но не это пугало Веру Михайловну. Она боялась, что этот поезд оторвет ее от тонюсенькой соломинки, от единственной надежды на щадящий прогноз.
Пусть порок, пусть комбинированный, но лишь бы не эта проклятая тетрада Фалло, не этот смертный приговор ее ребенку. С пороками сердца живут. Она знала девушку у них в техникуме, которая, страдая пороком сердца, еще и спортом занималась.
„Лишь бы, лишь бы!.. — молила она судьбу всю дорогу. — Ну почему у других все хорошо, а у меня все плохо? У других и родители, и дети, и они их не всегда и не всех любят. А у меня один-разъединственный…“
В областной город они приехали в сумерках. Горели уличные фонари. Горели неярко, как в тумане. Но тумана не было. Было смешение нарастающей тьмы и уходящего света.
Их захлестнуло шумом, суетой, звоном трамваев. Сережа прижался к маминой ноге, и она вынуждена была остановиться, чтобы дать ему возможность привыкнуть к звукам и многолюдью большого города.
Они направились к стоянке такси. (Никита наказывал: „Обязательно такси бери“.) Стояла длинная очередь с чемоданами и узлами. Каждую подходящую машину облепляли со всех сторон, спрашивали: „Куда?
А не подвезете?“ Водители не отвечали, за них отвечали пассажиры. Водители вели себя так, будто делали снисхождение пассажирам, держались независимо и важно.
Неожиданно один из них, еще не старый мужчина, приоткрыл дверцу и крикнул:
— С ребенком! Женщина с ребенком!
Вера Михайловна и не подумала, что обращение относится к ней, продолжала стоять в очереди. Тогда шофер вылез, молча подхватил ее чемоданчик и понес к машине. Немного отъехав, он спросил адрес, и Вера Михайловна снова растерялась. В сумочке у нее лежал конверт, надписанный рукой Софьи Романовны, она вспомнила ее слова: „Не церемоньтесь. Это мой бывший муж“ доктор Устинов. Они примут вас и помогут. Честное слово, я вам искренне хочу помочь». Но Вера Михайловна еще не решила, стоит ли воспользоваться этим адресом. Шофер, однако, ждал, и ей пришлось открыть сумочку и достать конверт. В растерянности она подала его шоферу. И только после этого спохватилась. Но было уже поздно, обратно требовать конверт неудобно.
Вера Михайловна отметила для себя, что она сегодня необычно рассеянная и непривычно робкая. Никогда она не отличалась особой развязностью, но и не очень робела. Детдом, интернат, техникум научили ее не теряться и не трусить при любых обстоятельствах.
Они ехали по освещенным улицам в потоке машин.
Сережа замер у нее на коленях, дивясь на огни. А Вера Михайловна усиленно думала, что она скажет тем, к кому они сейчас едут.
— В гости или по делам? — спросил водитель.
— В больницу… Вот… мальчика.
Он заскрипел тормозами, прибавил скорости, точно от нее теперь зависела жизнь ребенка. Быть может, он сделал это машинально, но Вера Михайловна поблагодарила его в душе: «Хороший человек». И оттого, что она едет рядом с хорошим человеком, ей сделалось спокойнее, решение пришло самой собой: «Попрошу его подождать. Не примут — в гостиницу поедем».
И просить не пришлось. Водитель отыскал улицу, дом и остановился подле нужного подъезда.
— Вы посидите, — сказал он и хлопнул дверцей.
— Мам, а мы куда приехали? — прошептал Сережа, все еще находящийся под впечатлением вида ночного города.
— К хорошим людям.
— А разве не в больничку?
— В больничку завтра.
Водитель долго не возвращался. Вера Михайловна забеспокоилась, даже вышла из машины вместе с Сережей. Наконец он появился в сопровождении высокой женщины. Вера Михайловна заметила, что женщина стройная и держится подчеркнуто прямо.
— Вы от Сонечки?! — воскликнула женщина и, не дав Вере Михайловне ответить, предложила учтивым тоном: — Проходите, пожалуйста.
Они поднялись на третий этаж и оказались в прихожей, заставленной книгами, отчего прихожая казалась узкой и тесной. Вера Михайловна обратила внимание на то, что квартира новая, а вещи все старые, тяжелые — и шкафы, и стол, и стулья. Разглядывать не было времени. Нужно было побыстрее накормить Сережу и уложить его спать. Было заметно, что он устал за дорогу, но не жаловался и не хныкал.
— Прелестный ребенок, — не удержалась хозяйка, назвавшая себя Антониной Ивановной.
Теперь, при свете, было видно, что она уже не молодая, но еще следит за собой: и пудрится, и губы слегка подкрашивает, а седые, стального отлива волосы расчесывает на прямой пробор и туго закрепляет сзади красной старинной гребенкой.
Она как-то сразу мягкими движениями, мягкой улыбкой, своими ненавязчивыми, но полезными действиями расположила к себе Веру Михайловну и помогла ей сделать все быстро и точно, а главное, позволила почувствовать себя свободно и легко, как в знакомом доме.
Когда все было сделано и Сережа уснул, они вышли в столовую и Антонина Ивановна предложила Вере Михайловне ужин.
После того как Вера Михайловна съела домашний бифштекс и попила чаю, Антонина Ивановна еще раз повторила, теперь уже в виде вопроса:
— Так вы от Сонечки? Ну, как она там?
Вера. Михайловна почувствовала некоторую неловкость, потому что мало знала о Софье Романовне и не могла рассказать подробностей, которых от нее, по всей видимости, ожидали. О своих спорах с нею рассказывать было неуместно, о сдержанном отношении окружающих к Софье Романовне — тоже.
— Да, в общем-то, все нормально. Работает, как все.
Знаете, что такое учитель.
Она поймала себя на том, что впервые за последнее время говорит и думает о чем-то другом, кроме здоровья сына, и внутренне удивилась этому.
Неожиданно глаза Антонины Ивановны увлажнились, и она произнесла с дрожью в голосе:
— Прелестная женщина.
— Кто? — спросила Вера Михайловна, потому что не могла поверить, чтобы эти слова относились к Софье Романовне, которую у них никто не любит.
— Сонечка, — сказала Антонина Ивановна, — это чудный человек. Добрейшая душа.
Тут Вера Михайловна вспомнила, что здесь, в этом доме, она находится благодаря Софье Романовне, и не возразила.
— Да-а, — продолжала растроганно Антонина Ивановна. — Они могли бы жить прекрасно. Виноват, конечно, Эдик. Он ушел в науку. А она прелесть. Только ребенка не хотела. Но это объяснимо. Это оттого, что он ей мало внимания уделял. Женщине нужно, просто необходимо внимание.
Вера Михайловна слушала с удивлением. Неизвестные доселе качества Софьи Романовны открылись ей.
Впервые она слышала, чтобы ее хвалили, говорили о ней как о душевном человеке, жалели о ее неудавшейся судьбе. И кто? Мать бывшего мужа.
Все эти мысли и ощущения пронеслись очень быстро.
Их тотчас оттеснила другая, главная мысль, не дающая Вере Михайловне покоя.
— А ваш сын… Эдуард Александрович… Он скоро придет? — спросила она, выдержав паузу, необходимую для того, чтобы прилично закончить один разговор и начать второй.
— Да, да, часиков в десять. Сегодня ученый совет, а он там секретарствует.
Они продолжали разговаривать, ожидая прихода Эдуарда Александровича. За весь вечер Антонина Ивановна ни разу не задала вопроса, касающегося Сережи, его здоровья. Вера Михайловна про себя отметила ее тактичность и была благодарна ей.
Эдуард Александрович пришел поздно. Мать встретила его в прихожей и, как видно, все объяснила. Познакомившись с Верой Михайловной, он сразу же пообещал:
— Я организую. Завтра вместе поедем.
Был он весь ухоженный, гладко причесанный. Редеющие волосы на косой пробор. Такой же высокий и стройный, как его мать.
Утром они поехали в клинику. За всю дорогу Эдуард Александрович не произнес ни слова. Вера Михайловна поняла, что он опасается разговора о Софье Романовне.
Но она и не собиралась говорить о ней. Не до того было.
Снова единственная мысль завладела ею: «Есть хоть какая-то надежда или нет? Найдут это проклятое Фалло или нет?» Снова она молила судьбу о снисхождении, снова произносила про себя все те слова, какие произносила в поезде. Кажется, самым спокойным был Сережа. Он смотрел на все вокруг расширенными глазами, дивился. Все представлялось ему чудом, сказкой наяву — и троллейбус, на котором они ехали, и проходящие со звоном трамваи, и светофоры на перекрестках.
Он не отрывался от окошка до самой клиники. И когда мама сказала: «Нам пора, Сереженька», он поморщился и неохотно соскользнул с сиденья.
Они прошли прямо к кабинету профессора. Их нигде не задержали.
У самого кабинета Эдуард Александрович сказал:
— Подождите минуту.
Вера Михайловна не запомнила ни обстановки, ни людей. Она сидела, прижимая Сережу к себе, и смотрела на белую дверь с металлической табличкой: «Профессор Б. С. Барышников».
Профессор принял их без улыбки. Молча указал на стул и потер руки. Руки у него были крупные, а глаза серые, проницательные.
— Ну, с чем пожаловали?
Вера Михайловна не раз рассказывала и знала, что говорить, но сейчас почувствовала себя как на экзамене, заволновалась и произнесла не то, чего от нее ждал профессор:
— Вот… Есть ли Фалло или нет?
Профессор переглянулся с Эдуардом Александровичем, но не усмехнулся, не остановил Веру Михайловну.
Она поняла, что сболтнула не то, и покраснела, но тотчас взяла себя в руки и, уже по учительской привычке — четко выговаривая слова, принялась говорить о том, о чем нужно было говорить с самого начали.
Потом Сережу слушали по очереди профессор, Эдуард Александрович и еще раз профессор. В заключение профессор произнес лишь одно слово: «Пожалуй», а Эдуард Александрович только кивнул головой.
— Что ж, — сказал профессор, обращаясь к Вере Михайловне. — Возьмем мальчика… Мне сказали, вы издалека? Ну, недельку все равно пролежит, не меньше. — Он неожиданно обратился к Сереже:-Ты меня не боишься?
— Не-е, — спокойно ответил Сережа.
— А я тебя боюсь.
— А чо?
— Да ты строгий очень, сердитый.
— Не-с, это спервоначалу.
— Ну, тогда другое дело, — и он накрыл голову мальчика своей мясистой рукой.
К удивлению и лаже к некоторому огорчению Веры Михайловны, Сережа остался в клинике без слез и без страха.
Потянулись одинаковые дни ожидания, ничем не отличающиеся друг от друга. Эдуард Александрович устроил Вере Михайловне постоянный пропуск, и после обеда она ехала в клинику навещать сына. Он лежал в палате на четверых — двое взрослых и еще один мальчик, чем-то похожий на него. Сережа ожидал ее появления не только потому, что соскучился по ней, но и потому, что хотел передать свои впечатления, накопленные за день. Он тотчас, как только они уединялись в конце коридора, начинал рассказывать ей о том, кого возили на рентген, а к кому прямо с аппаратом в палату приезжали, кого вызвали к профессору, а кому идти завтра.
Казалось, он играл в новую игру и эта совсем не детская игра ему нравилась.
Сережу, как заметила учительским глазом Вера Михайловна, полюбили и однопалатники, и нянечки, и сестры. Все в один голос говорили Вере Михайловне: «Какой спокойный мальчик. Какой умный». Эти добрые слова, сказанные, конечно же, от чистого сердца, бередили ей душу, и всю обратную дорогу она вспоминала их:
«Спокойный. Умненький. А вот нездоровый. А вот как подтвердят Фалло… Если бы плохой был, если бы дурачок…» Она обрывала сама себя, как бы мысленно перечеркивала свои жестокие мысли.
Вечера Вера Михайловна проводила в разговорах с Антониной Ивановной, и разговоры эти, мягкий, ровный, задушевный голос хозяйки отвлекали ее от дурных дум, успокаивали и держали в должном тонусе. Она была благодарна Антонине Ивановне за то, что та по-прежнему никогда не заговаривала о Сереже, о его болезни. Она, несомненно, была в курсе дел, но из чувства такта умалчивала об этом. Говорила о своей жизни, вспоминала молодость, а больше всего говорила о Сонечке. Теперь, после рассказов Антонины Ивановны, совсем иным человеком предстала в глазах Веры Михайловны ее постоянная оппонентка. Она поняла причины ее надлома, кажется, разгадала секрет ее поведения, все эти ее теории «самосохранения», все эти так называемые принципиальные споры.
«Обязательно расскажу об этом в школе, — давала себе слово Вера Михайловна. — Обязательно…» Спокойная домашняя обстановка, добрые отношения, сердечные беседы — все это помогло Вере Михайловне стойко перенести эту неделю, неделю тягчайшего ожидания.
И вот в воскресенье, в хмурый, тягучий день, она воняла, что все рухнуло, даже последней соломинки у нее теперь нет. Еще никто ничего не сказал, еще не услышала она заключений специалистов, не поговорила ни с одним врачом, не побывала у профессора, а уже узнала, уловила горькую правду: «Все. Конец. Прогноз самый страшный…»
И дала почувствовать это все та же милая и славная Антонина Ивановна.
Она, как обычно, после возвращения Веры Михайловны из клиники завела с ней неторопливую беседу, все так же ударилась в воспоминания, все так же не упомянула ни о Сереже, ни о его болезни, но по ее изменившемуся тону, по ее чуть напряженному, вздрагивающему голосу, по ее более, нем всегда, сочувствующему взгляду Вера Михайловна поняла: дела плохи.
Все эти еле уловимые изменения — недобрые признаки, это эхо вечернего разговора Антонины Ивановны с Эдуардом Александровичем. Она видела, как дружно, без секретов друг от друга живут мать и сын в этом доме, знала, что Эдуард Александрович рассказывает матери все служебные новости, и по настроению, по незаметным деталям могла почувствовать хорошее и плохое.
Антонина Ивановна была Для нее как бы передатчиком чувств и настроений Эдуарда Александровича, его дел и его работы. Если волновался сын, волновалась и мать, и она, как ни старалась, не могла скрыть этого от внимательных глаз, от настороженно-чуткого сердца Веры Михайловны. Вера Михайловна не выдавала своего понимания, не показывала, что она видит: Антонина Ивановна чем-то взволнована, пытается успокоить ее, Веру Михайловну, в то время как сама неспокойна. Этот голос, этот взгляд, эта робкая полуулыбка, появившаяся впервые на губах Антонины Ивановны, — все говорило о большом, едва сдерживаемом волнении. И волнение это касалось ее. Веры Михайловны, вернее, Сереженьки, его здоровья.
И когда вечером в тот же воскресный день Эдуард Александрович как бы между прочим сообщил Вере Михайловне: «Да, завтра Борис Сергеевич просил вас подъехать. к нему», — она не удивилась этому сообщению.
Она была внутренне подготовлена к нему. Она опять вся занемела.
В этом состоянии душевного занемения она и предстала на следующий день перед профессором.
Его заключение не было менее жестким, оно было менее неожиданным. Вера Михайловна знала, откуда ждать удара, и выдержала его.
Профессор, усадив ее напротив себя, некоторое время смотрел на нее внимательно. Глаза его старались ободрить ее, но в глубине их Вера Михайловна разглядела то же сочувствие, что уловила вчера в глазах Антонины Ивановны.
— Так что же? — спросила она не оттого, что не выдержала паузы, а оттого, что, уже предполагая результат, хотела помочь профессору.
— К сожалению, ваши слова о тетраде Фалло подтвердились. Не знаю, от кого вы их слышали ранее, но вот сейчас их говорю я. — Он наклонился над столом, заваленным книгами, точно желая приблизиться к ней для большей доверительности. — Таких мальчиков и девочек мы называем «синими». «Синенькими», — поправился он, вероятно желая смягчить удар.
— Почему? — машинально спросила Вера Михайловна, хотя для нее теперь не имело никакого значения, как называют безнадежных мальчиков, таких, как ее Сережа.
— Да потому, — охотно принялся объяснять профессор, — потому, что они синеют, с годами наступает синюшность от недостаточности кровообращения. Синеют губы, пальцы, а потом и все тело. Живут они до четырнадцати-пятнадцати лет и меньше, причем последние два-три года уже не могут вставать… — Он осекся, заметив, как она побледнела, проворно встал, налил воды в стакан.
— Чем я могу помочь? — нашла в себе силы произнести Вера Михайловна.
— Ничем.
— Нет, вы скажите, чем я могу помочь ему? — повторила она.
Профессор сел рядом, положил свою мясистую руку ей на плечо.
— Ничем. Ни вы, ни я. — Он нахмурился. Видимо, беспомощность была противна его натуре. — Ничем, — повысил он голос, — Убивать людей человечество научилось, а спасать таких вот «синеньких» — нет.
Он посмотрел на нее виновато, как будто извиняясь за вырвавшуюся фразу, встал, прошел к/столу.
— Завтра мы его выпишем. Документы и анализы получите в канцелярии.
Вера Михайловна хотела спросить, для чего ей теперь документы, но не спросил^ Поклонилась профессору и вышла из кабинета.
Глава пятая
Вера Михайловна благополучно добралась до станции Малютка. Никита довез ее и сына до Выселок. На своих ногах она вошла в дом. Молча прошла в комнату.
Молча разобрала постель. Молча улеглась на спину и будто закаменела. Ни с кем не говорила. Ничего не ела.
Только пила теплое молоко из бабушкиных рук. Она все понимала, все чувствовала, но не желала отзываться, вступать в разговоры, рассказывать о поездке и о ее результатах. Ей было ни до кого и ни до чего. Странная, незнакомая апатия и слабость завладели ею.
Она слышала, как приходили соседи и учителя. Слышала их шепот, слова Марьи Денисовны:
— Остолбенение нашло. Доктора, видать, напугали. Чо с нонешних-то спросишь.
Вера Михайловна хотела возразить, заступиться за докторов, но тут же раздумала, потому что заступиться за докторов означало рассказывать о результатах поездки, о Сереже, о его неизлечимой болезни, о его страшной судьбе. Об этом она старалась не вспоминать, не думать… Хотя ей сейчас было все безразлично, все равно она старалась не вспоминать.
Из Медвежьего приезжал доктор Владимир Васильевич, тот носатенький в очках, приезжала Дарья Гавриловна. Но и они ничего не добились, Вера Михайловна продолжала молчать и лежать, отвернувшись к стене.
Появлялся директор. Учителя. Председательша.
А однажды Вера Михайловна открыла глаза и увидела перед собой Софью Романовну.
— Вам привет, — сказала она и не узнала своего голоса.
— Спасибо. Ну как они там? Как Антонина Ивановна? — заговорила Софья Романовна.
Но Вера Михайловна не ответила, снова прикрыла глаза.
Неизвестно, сколько бы она еще находилась в таком отрешенном состоянии, если бы не Сережа. Как-то она лежала в полузабытьи и вдруг почувствовала его ручонки на своей щеке.
— Мам, — произнес он, заметив, что у нее задрожали ресницы. — А что говорят, будто ты из-за меня захворала? Ведь я ж хорошо себя вел.
— Хорошо, сынок.
Вера Михайловна ощутила вдруг теплоту внутри.
Она появилась где-то в глубине и стала расплываться по всему телу, как чернила по промокашке.
— Хорошо, Сереженька, — повторила Вера Михайловна, чувствуя, как отогревается, словно после мороза у раскрытой печи.
— Мам, — прошептал Сережа. — Вставай, а то я тоже заболею.
Она увидела его большие взрослые глаза, полные боли и неподдельного сочувствия, подумала: «Он еще наболеется. Зачем же еще теперь…» И встала. И принялась ходить по дому. А назавтра, по ее настоянию, Никита отвез ее в школу. И она провела урок. Потянулась привычная жизнь. Работа. Дом. Хозяйство. В доме теперь было особенно тихо. Ни смеха, ни громких разговоров. И темнее. Вера Михайловна задергивала занавески, а в комнате повесила тяжелые шторы. Теперь она совершенно не могла выносить Сережиного взгляда. Все ей казалось, что он смотрит на нее с укором и ждет помощи, будто все разумеет и спрашивает: «Что же вы, ждете, когда я умру? Почему же вы не действуете?»
И еще она не. могла смотреть, как он замирает, вслушиваясь в свою болезнь.
Не то чтобы у Веры Михайловны не хватало сил для борьбы за сына, не то чтобы она была по натуре хлипкой и малодушной, — дело было в другом. Она поняла, что соломинки больше не существует, ухватиться не за что, надежды нет. Особенно ее поразили слова профессора: «Убивать людей человечество научилось, а спасать таких вот „синеньких“ — нет». Они вырвались, как крик души. Они оглушили Веру Михайловну, пронзили ее сердце насквозь. Они завели ее в тупик. Можно было бы, конечно, поехать в другой город, в другую клинику, но зачем? Чтобы снова услышать… Нет, быть может, этих слов там не скажут, но помочь не помогут. А ребенка измотаешь. Ему и так жить осталось…
Она смотрела на сына и не могла поверить, что жить ему осталось каких-нибудь восемь-десять лет. Она видела, что губенки у него синеватые, что пальчики холодные. Видела и никому не говорила об этом. Как только она вышла из состояния занемения, она сказала себе:
«Пусть я, а не они. Не надо им об этом. Не надо».
Сегодня она проснулась от белизны в комнате. Думая, что кто-нибудь приоткрыл шторы, она подскочила к окну и увидела снег. Он лежал на всей земле, белый и чистый. Он как бы подчеркивал разницу между ее настроением и самой жизнью, как бы говорил: еще не все потеряно, жизнь продолжается. Она вдруг вспомнила слова Никиты, обидевшие ее когда-то: «Может, и второй появится?» И встряхнула головой, отгоняя эти нелепые сейчас мысли.
Из школы Вера Михайловна возвратилась поздно, после педсовета, и увидела встревоженное лицо Марьи Денисовны.
— Сергунька занемог. Горит весь. Должно, снегу поел.
Вера Михайловна бросилась к кроватке:
— Сереженька, что же ты, сынок?
— А я попробовал только. Володька ел, и мне охота стало.
Всю ночь Вера Михайловна носила его на руках, прижимая горячее тельце к груди. Под утро ей стало казаться, что он уже не дышит, что он уже неживой, что он уже холодеть начал. Она гнала эти мысли от себя, но мысли снова и снова возвращались и мучали ее.
— Никита, — прошептала она в изнеможении, подавая сынишку мужу.
Он взял Сережу на руки и ушел на кухню, а Вера Михайловна бросилась на кровать, закусила подушку и зарыдала.
Сережа поправился, но с той ночи Вера Михайловна стала плакать, закусывая подушку.
— Ничо, ничо, — услышала она как-то успокоительный шепот Марьи Денисовны, долетающий с кухни. Она успокаивала Никиту. — Слезы к лучшему, к лучшему.
Не дай бог, опять остолбенеет.
Никита молча терпел ее слезы, не спал, когда не спала она, гладил ее по спине своей шершавой ладонью, утешал. Но однажды не выдержал:
— Нет, к едрене фене! Не может быть такого положения. В космос, понимаешь, летаем… На Луну замахиваемся.
Утром он рано исчез и два дня не показывался дома.
— Никуда не денется, — успокаивала Марья Денисовна. — По делу, сказывал.
Заявился Никита на третьи сутки, объяснил:
— В городе был. Адреса достал. Больниц разных.
Писать буду.
Еще раньше Никиты та же мысль — «не может быть такого положения» пришла и другим людям. Сговорившись между собой, старик Волобуев и Марья Денисовна пошли в Медвежье, к председательше. Соню дома оставили, дождались, пока Вера Михайловна на работу отправилась, и потопали. По первому снежку, по первому морозцу идти было легко. А дорога известная с малых лет, с той поры, как себя помнят.
Старик Волобуев поскрипывал суковатой палкой и высоко вскидывал ноги в подшитых кожей пимах, словно шел по целине, а не по наезженной дороге. А Марья Денисовна чуть приотставала, глядела на его сутулую, все еще широкую спину, на морщинистую шею, покрытую седыми волосками, на крутой затылок, прикрытый старенькой солдатской ушанкой, и вспоминала давние молодые годы. Лихой парень был этот Ванька Волобуев, на коне через костер прыгал. За ней ухлестывал. Даже сватов подсылал. Да отец отказал: у него на примете Никита Прозоров был. Вышла она не любимши, а потом слюбились.
— Стало быть, памятую, — будто прочитав ее мысли, произнес старик Волобуев. — Ты-то помнишь ли?
— Про чо? Про купальню?
— Значит, помнишь, — старик Волобуев покачал головой и замолчал надолго.
Марья Денисовна помнила. Вот в этом озере, мимо которого они сейчас проходят, они, девки, по дороге с поля по вечерам купались. Место одно было, купальней звалось. Вот поблизости от него они однажды этого Ваньку Волобуева и обнаружили. Сам себя выдал: на него чих нашел. Ну, конечно, крапивой, а потом в воду.
Поди, годов пятьдесят с гаком прошло.
— Стало быть, вот оно как, — наконец произнес старик Волобуев. — Какой знаменатель получается.
— Так ведь корень гибнет, — не сразу ответила Марья Денисовна.
Старик Волобуев покрякал, но ничего не сказал, лишь у самого Медвежьего, у первого дома, заметил:
— Должны помочь. Стало быть, где-то оно должно…
Не могет быть, чтоб не было.
— Чо Настасья Захаровна скажет.
Председательша шумела-гремела в своем кабинете, но, как только молоденькая счетоводка доложила о приходе стариков, голос председательши оборвался. Она сама появилась в дверях, обняла Марью Денисовну, как старую подругу, поздоровалась за руку со стариком Волобуевым.
Марья Денисовна неожиданно для себя расплакалась.
— Уж не взыщи, — застеснялась она своих слез и отвернулась к окошку. — С камнем на сердце ходила.
Вот, прорвало.
— Ничего, ничего, — успокоила Председательша. — Проходите. Садитесь. С чем пожаловали?
— Да ведь беда у нас, Настасья Захаровна. Корень рушится… — начала было Марья Денисовна, но снова почувствовала комок в горле и замолкла.
Тогда выступил представитель сильного пола:
— Стало быть, такое явление. Оно, значит, касается Сергуньки, правнука Марьи…
Общими усилиями они растолковали, в чем дело, что их заставило притопать в Медвежье.
Председательша выслушала, сочувственно покачала головой.
— Я тут порасспрошаю, — пообещала она. — И денька через два заеду.
— Не, не, Настасья Захаровна, — перебила Марья Денисовна. — Мы лучше сами.
Через два дня они снова пришли в Медвежье. Старик Волобуев покрякал с морозу, смахнул с бороды иней, Марья Денисовна развязала шали, отдышалась.
Тем временем счетоводка доложила, и Председательша опять встретила их в дверях, пропустила через порог, приветливо поздоровалась. Потом она усадила их, помолчала, вздохнула совестливо, будто в чем-то провинилась перед ними.
— Покуда без движения, — объявила она, но тут же пообещала:-Еще буду говорить в районе, в городе.
Старик Волобуев понятливо покивал головой:
— Стало быть, наверх надо.
— Так оно и есть, — подтвердила Председательша. — Говорят, такая болезнь.
— Так чо же это? — растерянно произнесла Марья Денисовна. — Выходит, роду нашему конец?
— Да ну, Денисовна, — отмахнулась Председательша. — Еще решение не окончательное. Это ж болезнь.
Вон как земля у тебя не рожала на Сухом поле, помнишь?
— Да, помню, — вздохнула Марья Денисовна.
— Так то, стало быть, земля, — встрял в разговор старик Волобуев. — А тут это… человек. Второго, значит, не купишь.
— Да, вот так пока что, — произнесла Председательша. По натуре она была прямой и решительной, не привыкла недоговаривать, оставлять вопросы открытыми, недоделывать важные дела. И теперь чувствовала себя не по себе и не знала, как выйти из этого положения.
Марья Денисовна уловила ее настроение.
— Так мы пойдем. А ежели чо…
— Да уж конечно, Марья Денисовна. Сама приеду.
— Не, не-е…
— Забыла, забыла. Конспирация.
Старик Волобуев захихикал, но тотчас оборвал смешок, смекнув, что обстановка совсем не веселая.
Они попрощались с председательшей и пошли в обратный путь.
Был воскресный день, но Никита поднялся рано.
— Ты куда? — сквозь сон спросила Вера Михайловна.
— На почту.
Она открыла глаза. Он улыбнулся ей виноватой улыбкой, наклонился, поцеловал. Она заметила в волосах его седину и не удивилась, а пожалела, тоже поцеловала его в жесткую щеку.
— Я договорился, — объяснил он. — А то когда там до нас дойдет… Поди, через день-два.
Никита ушел, а Вера Михайловна уже не могла уснуть.
В своей кроватке посапывал Сережа. На кухне постукивала ухватами Марья Денисовна. Она с кем-то негромко переговаривалась, должно быть с Соней. Жизнь в доме шла обычно, вроде бы мирно, вроде бы спокойно, И если бы не одно обстоятельство, если бы не одна беда, о которой теперь знали все, а больше всех она, Вера Михайловна, то все было бы совсем хорошо. А так…
Медицина бессильна помочь — ее ребенку. Вот он спит — рукой подать дышит и живет, но это только видимость, это временно, это ненадолго. В этом-то и ужас положения, что ей, матери, уже известен его трагический конец и она ничем, абсолютно ничем не может, не в силах помочь ему. Он жив, а между тем не жилец. Об этом определенно и точно знает она одна, и никому нельзя говорить об этом. А одной нести этот груз — не день, не два, а годы — трудно. Ой как трудно!
«Но надо. Так надо», — внушала себе Вера Михайловна.
Ее размышления прервал разговор на кухне. Заявилась бабка Анисья. Она сразу узнала ее голос.
— А чо делать? Чо делать? — говорила ей Марья Денисовна. — Порча с рождения. От войны, говорят…
Я уж и молилась, и в церкву ходила…
Веру Михайловну не удивил случайно услышанный разговор. Она знала, что не только Никита, все остальные родственники, особенно Марья Денисовна, хотят помочь горю. Да не знают, как это сделать.
Она понимает, что все попытки бесцельны, ни к чему не приведут, а они, все остальные, еще верят во что-то. И она не вмешивалась, молчала, не желая обидеть. Кроме того, вмешаться — значит рассказать правду, всю до конца.
«Нет, нет и нет, — твердила она. — Пусть я одна.
Пусть я, раз мне такая доля выпала».
Родные и соседи рассуждали по-своему. Они не знали подробностей, не знали всего до конца, но видели: происходит неладное. Беда в доме у Прозоровых. Для этого не нужно было быть семи пядей во лбу, а достаточно было посмотреть на Веру Михайловну. После всех этих поездок в город она так изменилась, так постарела и подурнела, что любому было понятно, что творится у нее на душе. Нехорошее творится. И все это связано с сыном, с его здоровьем.
Все были поражены беспомощностью медицины. До этого случая они верили в могущество науки, особенно врачебной, верили так сильно и так свято, как дети верят в силу и всемогущество взрослых. Пришедшие с фронта, прошедшие через госпитали Василий. Зуев и Матвей Дерибас рассказывали о чудесах хирургов. По радио все слышали о том, как спасают людей, кровь дают, кожу дают, из мертвых воскрешают. А тут — на тебе. Говорят, ничего нельзя сделать. Так он же еще малютка, в нем вся жизнь заложена! Другое дело старуха какая или старик замшелый, а то — дитё…
По вечерам сидели люди по избам, рассуждали об этом и удивлялись тому, как это ученые-медики не понимают всей важности того, чтобы Сергунька Прозоров жил на белом свете и был здоровым.
Вспоминали слова, приписываемые Марье Денисовне: «Россия — с нас начинается».
«Что же выходит? Что же получается?»
С этим вопросом старик Волобуев и пришел в дом Прозоровых, к Марье Денисовне.
— Да не говорила я энтих слов, не помню, — отпиралась Марья Денисовна.
— Стало быть, в народе запало, значит, говорила, — прервал старик Волобуев. — Дело не в том… В центр надо, в яблочко, стало быть, в Москву ехать.
— Да ты чо? К кому же я поеду?
Вера Михайловна слышала этот разговор, хотела выйти и сказать: «Да не накручивайте вы. Я понимаю вашу заботу. Благодарю за душевность. Но ничего не надо, потому что ничто не поможет». Но не вышла и не сказала, потому что апатия и усталость от всего пережитого одолели ее. И чем больше гоношились вокруг люди из самых лучших, из самых добрых побуждений, тем тяжелее было ей и, как ни странно, тем безразличнее вся эта суета и все эти разговоры.
«Ничто, ничто не поможет. Такая моя доля. Такая судьба. Но я вынесу это. Главное, надо сделать так, чтобы другие меньше страдали».
Другие не знали подробностей и страдали, конечно, меньше ее, матери, но все равно волновались и хотели помочь. Пока что у них не получалось, но они не опускали рук. Искали пути и каналы, по которым можно было бы влить живительные соки в засыхающую веточку Прозоровского корня.
Но один человек знал все, даже больше, чем Вера Михайловна. Этим человеком был Никита. Еще когда Вера уехала в область, на него нашло такое беспокойство, что он места себе не находил, в пору было отправляться туда за нею и быть подле них, жены и сына. Но он не мог поехать, а сделал другое. Вспомнил про кореша, Генку Сдобина, с которым в армии служил. В первые годы после демобилизации они переписывались, а потом переписка оборвалась. Все эти семейные волнения, связанные с лечением Веры, с ожиданием ребенка, с рождением сына, его как-то отвлекли. Не до писем было, не до товарищей. А тут он вспомнил про Генку.
Тот как раз на автобазе в области работал. Разыскал его адрес Никита, написал на всякий случай, повинился за свое молчание и рассказал о своей беде. Ему повезло.
Оказалось, Геннадий перешел на санитарный транспорт, более того, работает именно в том институте, где и находится клиника профессора Б. С. Барышникова. И даже с ним лично знаком. И даже возил его не один раз, И даже личную машину его ремонтировал. Он-то, Геннадий Сдобин, и сообщил Никите подробности и мудреный диагноз, пугающий уже одним своим непонятным названием, и результаты анализов, и выдержки из бесед с докторами и самим профессором. Но больше всего резанули сердце слова Геннадия, заключающие это длинное письмо: «Вот так оно, едри его, получается. Ни хрена они не могут и ничего не обещают. Так что крепись, дружище. А ежели чего узнаю, то сразу же сообщу».
Но последние слова были приписаны так, для ободрения. Никита понял это и не придал им значения. Его поразило одно: «не могут и не обещают». И когда он воскликнул при Вере: «Не может быть такого положения!» — это он не ей, а тем незнакомым докторам возразил. Это он судьбе своей возразил. Никак не мог согласиться Никита с таким поворотом судьбы. Сам он был огромным, здоровым, полным силы, и ему никак не верилось, чтобы у него, у Никиты Прозорова, был такой чахлый, больной, безнадежный сын. Тут было какое-то досадное несоответствие. Умом он понимал, что такое может быть, но сердцем не мог смириться.
«Какая-то ерунда получается. Ерунда, ядрено-зелено».
Когда, бывало, не принимали его рационализаторские предложения, он тоже не соглашался с этим, тоже произносил свое «ядрено-зелено» и не сдавался, доказывал свою правоту.
Конечно, он видел, что тут другое, но все равно не мог примириться с приговором'врачей. Впрочем, все это было позже. А тогда, получив на почте письмо от Геннадия и прочитав его, он пошел куда глаза глядят. Ноги сами привели его к озеру и той березе, у которой он впервые поцеловал Веру. Он вцепился в эту березу руками, прижался лбом к стволу и глухТ) завыл от горя.
— Ты что это? — услышал он знакомый голос Лехи.
Всегда смешливый и веселый, его напарник стоял перед ним растерянный и потрясенный его рыданиями.
— Я еще в Медвежьем встренул тебя. Гляжу: сам не свой, — оправдывался Леха.
— Горе у меня, Леха. Беда, — сказал Никита. — Только об этом никому, понял? Только вот береза да ты, раз уж так вышло.
Так они и жили, оберегая друг друга. Вера — Никиту и всех остальных. Никита — Веру и всю родню. Он потому и письма велел писать на почту, до востребования.
Пока что письма приходили безрадостные. На его просьбы и запросы отвечали по большей части официально: «на ваше письмо», а то и «на ваше исходящее». И все — «не знаем», «не можем», «таких не лечим», «таких не берем».
Он стал внимательно читать газеты, и каждое сообщение о невероятном случае, о необычной операции прибавляло ему энергии и веры. Он снова садился за бумагу и опять писал по новому адресу. Чего-чего, а адресов ему надавали и Владимир Васильевич, и городские врачи, и Геннадий.
Через газету «Медицинский работник» он узнал адрес Министерства здравоохранения и написал туда. Но и оттуда пришла безрадостная бумага: «Обратитесь по месту жительства». Там, видно, кто-то не разобрался в существе его письма.
Однажды он вычитал о том, что в Москве прошла редкая операция и хирурги спасли мальчика с пороком сердца. Почти одновременно пришла добрая весть от Геннадия: «В Москве и Ленинграде врачи научились замораживать людей и делать операции на сердце». В тот же вечер Вера сообщила:
— Софья Романовна получила письмо от своего бывшего мужа. Пишет, будто бы делают операции таким, как Сереженька.
— Ну, а я что говорил…
Он обнял ее осторожно.
В тот вечер они долго сидели в темноте, у подернутого ледком окошка, вслушивались в завывание ветра на улице, в тихое посапывание сына за спиной. И верили В хорошее, в то, что все может еще обойтись и сын их может поправиться.
«А что, если и в самом деле? А что, если…» — внушала себе Вера Михайловна и, хотя не очень надеялась на чудо, вновь утешала себя слабой, вдруг появившейся надеждой.
Она так устала от переживаний, от скрытности, от несвойственной ей замкнутости, от слез, что этот маленький самообман был во спасение.
Прошла зима, полная напряженного ожидания. Она принесла единственное утешение: где-то там, в больших столичных городах, есть люди, которые пытаются оперировать «синих мальчиков». Действие это окружено таинством, о результатах его мало известно, а к тем, кто совершает чудеса, пробиться трудно. Никита по секрету От Веры снова написал в Минздрав.
Тем временем виновник всех беспокойств и терзаний Пока жил по-прежнему тихо и спокойно и за всю зиму больше не болел ни разу. Он все так же лепил из пластилина космонавтов, раз в день с бабушкой выходил из дому, почти не виделся со своим сверстником Володькой. Тому скучно было с Сережей; он ни на санках, ни на лыжах не может. В снежки и то быстро устает.
А снежную бабу давно слепили, еще в самом начале зимы. И снежную крепость тогда же сделали.
В эту зиму Сережа подружился с Пальмой. Обычно рыжая сука жила в пригоне или в сенях, и только в сильные морозы ее пускали под порог на кухню. А в эту зиму сделали исключение.
— Пушшай уж, — согласилась Марья Денисовна, бросая старую дерюжку под порог. — Стареет животина.
На самом-то деле она видела, как скучно парнишке, как он временами тоскует один, без живой души. Все взрослые на работе. Васятка в школе. Она по хозяйству крутится. А он хоть и смирный, хоть и тихий, и без капризов, а все без никого. Пусть хоть собака будет.
Сережа и в самом деле обрадовался Пальме, стал подходить к ней, разговаривать, гладить ее, сначала — когда никого не было дома, а потом при бабушке, при маме и папе, при чужих. И так как говорил он тихо, играл негромко, то никто и не обращал особого внимания на его игру с собакой. Все привыкли к этому. Только бабушка иной раз шутила:
— Ишь вон ты, как курочка. Курочка, значит, и собачка.
— Не-е, — возражал Сережа. — Я мальчик.
Иногда бабушка вслушивалась в разговоры правнука с собакой и поражалась их серьезности.
— А ты не бойся, ты со мной полетишь. Раньше собачка одна в космосе была, а ты со мной полетишь.
В теплые дни, когда выглядывало короткое зимнее солнце, Сережа просился:
— Бабуля, мы выйдем? Пальме очень хочется.
Собака, завидев, что он начинает одеваться, начинала повизгивать от нетерпения и постукивать хвостом по полу. Она быстро привыкла к своему новому другу и, если кто-нибудь из посторонних шутливо хотел схватить Сережу, угрожающе рычала, заступаясь за своего дружка.
— Тс-с, Пальма, — приказывал Сережа и с гордостью смотрел на взрослых.
Как-то отец сделал из старого ремня ошейник, а из веревки изладил упряжку и сказал Сереже:
— Теперь Пальма будет твоей лошадью.
— Не-е, она мой дружок.
— А лошадь разве не друг?
Сережа согласился. Впрягли Пальму, усадили Сережу на санки. Никита подтолкнул собаку и побежал по дороге впереди. Пальма легко взяла с места и припустила за хозяином. Глаза у Сережи заблестели восторженным светом. Никита впервые заметил этот свет. «Это жизнь в нем. Жизнь!»
— Пальма! Пальма! — закричал он и помахал перед ее носом рукой, будто в ней кость была или кусок мяса.
Пальма летела что есть силы. Вдруг от крайнего зуевского дома отделилась серая кошка и, завидев собаку, нырнула за избу. Пальма кинулась за ней. Сережа кувырком в снег.
— Ничего. Ничего, — Никита подхватил сына на руки.
— А и не страшно, — сказал Сережа, хотя сердечко у него стучало так, что через шубенку было слышно его биение.
— Что случилось? — всполошилась Марья Денисовна.
— Да Пальма подвела, — объяснил Никита.
— Не-е, — возразил Сережа. — Это тренировка. Мы в космонавты подготавливаемся. Я по радио слышал: надо подготавливаться.
— О господи! — вздохнула Марья Денисовна и загремела ухватами.
Вера Михайловна знала, что сын играет с собакой, но как-то никогда не присутствовала при этом. Но вот однажды она увидела эту картину. Сережа, как обычно, словно курочка, присел у порога, а собака доверчиво смотрела на него, будто понимала его слова.
— Вот я будто командир, — говорил Сережа. — Я буду править кораблем. А ты поглядывай, чтоб нас звезды не задели. Ну, поглядывай. Туда, туда.
Вера Михайловна вбежала в комнату, уткнулась в подушку и зарыдала.
— Ну что? Ну что? — успокаивал ее Никита, поглаживая по голове. — Ну ничего такого. Все ребятишки играют с животными.
— А он толь-ко с соба-кой, — объяснила она прерывисто.
— Ну что ты и себя и меня изводишь!
Вера Михайловна перекатывала голову по подушке и продолжала плакать:
— И пошто мне такое? И пошто?
Тот блеск надежды, короткий, как закатный луч, который появился после того, как она узнала, что кто-то пытается лечить «синих мальчиков», давно исчез. Мгновенная вера в чудо прошла. Ощущение обретенного счастья, ощущение того вечера, когда они с Никитой сидели в темной комнате у подернутого ледком окошка, развеялось, как дымок от спички. Верой Михайловной вновь завладело тяжелое, прочное, беспросветное ожидание неминуемой гибели своего ребенка. И беспомощность.
Пожалуй, это больше всего угнетало ее. Собственно, два чувства были взаимосвязаны: сознание безнадежности и беспомощность перед приговором судьбы. Она ненавидела себя за беспомощность, потому что была энергичной, сильной, всю жизнь верила в хорошее, в благополучный выход из любого тупика. Но сейчас, в самом важном для себя случае, она ничего не могла поделать, ничем не могла помочь, потому что знала: выхода нет.
Сереженька обречен. Она задыхалась. Ей нечем было жить, а жить было надо. Прежде всего для него, для обреченного судьбою сына. И не только жить, не просто жить, но и притворяться бодрой, спокойной, чтобы он, Сереженька, Никита, бабушка, родные, соседи, товарищи по работе, чтобы ее ученики не знали, как ей плохо, как ей горько, какое душевное голодание испытывает она.
И не день, не два, а месяцы и даже годы. Порою ей казалось, что она не выдержит, свалится где-нибудь по дороге к дому, уткнется лицом в снег и застынет в чистом поле. Но тут она вспоминала глаза сына, большие, взрослые, глядящие на нее с доверием и надеждой, и брала себя в руки, и снова притворялась — жила и работала, как будто так и надо, как будто ничего не произошло.
Со временем она вроде бы привыкла к своему состоянию, и окружающие привыкли к изменениям, которые произошли в ней, к тому, что она стала замкнутой, неразговорчивой, хмурой, к тому, что она будто бы спешила домой и вместе с тем не очень спешила — шла медленно, заходила по дороге в лесок, стояла, прижавшись к березе, и смотрела куда-то вдаль, на запад, словно ожидала оттуда доброй вести, радостного света.
Но добрые вести все не шли, все приходили однозначные ответы: «не можем», «не берем», «не лечим».
И из той столичной клиники, на которую они возлагали надежды, тоже пришел отрицательный ответ: «На лето закрываемся, А с осени переходим на другую тематику».
Каждое такое безнадежное письмо оставляло след на лице Веры Михайловны, прибавляло новые морщинки. Она уже будто бы и смирилась со своей судьбой, хотя все ее существо протестовало против черного приговора. Но что она могла поделать? Если бы ей сказали: войди в огонь, дай себя изрубить на кусочки, отдай всю свою кровь по капле — она бы пошла на это, согласилась без раздумья, ни на секунду не поколебалась бы, не дрогнула, а посчитала бы за великое счастье это самопожертвование. Но никто не говорил этих слов, не делал таких предложений. А она устала надеяться, вернее, играть в надежду.
Один Никита не отступал, продолжал писать письма и получать ответы на Медвежье тайно от Веры. Но и ему это не проходило даром. За одну зиму у него побелели виски, как будто сильные морозы оставили свой след в его волосах. Но все равно он продолжал твердить: «Не может того быть. Пишут же. Есть, говорят, такие врачи. Делают операции, спасают. Все одно ухвачусь за ниточку» Иногда он пытался шутить: «А я как паучок. Меня скинут, а я — цоп за паутинку».
Светлая весточка пришла неожиданно. Принесла ее Софья Романовна. На последнем уроке она вызвала Веру Михайловну прямо из класса, показала письмо.
— Мой бывший сообщает. Его оппонент, живет в Ленинграде. Клиника профессора Горбачевского оперирует «синих мальчиков». Вот адрес.
Лишь осенью пришел ответ из клиники профессора Горбачевского: «Заочно не лечим и ничего сказать не можем. Нужно посмотреть ребенка. О сроке осмотра сообщим особо». Почти одновременно Никита узнал через Геннадия, что там же, в Ленинграде, есть другой профессор, другая клиника, где тоже оперируют «синих мальчиков». В октябре ему вручили на почте большой служебный конверт со многими марками. В нем оказалась большая бумага со штампом, с адресом клиники.
И всего одна строчка, написанная от руки: «Консультации по средам. Профессор Крылов».
Они воспрянули духом. Решили везти Сережу в Ленинград сразу в две клиники. Начались сборы.
Дорога неблизкая. В Ленинград из Выселок не только ребенок, из взрослых-то никто не ездил. Лишь старик Волобуев вспоминал!
— Стало быть, видывал. Из Царского Села. Там мы, значит, неделю стояли. А Петроград, стало быть, ночью проезжали. Теплушки-то закрыты. Голоса слышны.
А Петроград издаля, — повторял он без конца.
— Куды едут-то? Чо едут-то? — выспрашивала бабка Анисья.
Опять прозоровская изба с утра до вечера была полным-полна. Все интересовались ходом сборов. Дорога предстояла далекая. Случай для Выселок особый, небывалый.
Марья Денисовна терпеливо разъясняла всем!
— Да в самый что ни на есть Ленинград едут. Там доктора отыскались, которые Сереженьку полечат. А Никита насчет билетов гоняет. Всю свою тарахтелку грязью заляпал.
— Чо билетов-то? — не унималась бабка Анисья.
— Так ведь дорога-то на самый край. Вот и надо, чтобы все как надо. Ведь с ребенком, не шутки.
— Город-то этот в войну шибко страдал.
— Так уж сколь после войны-то.
— Поди, ишшо не пришел в себя… Я вот к чему: на дорогу снабдить надо.
В первый же день сборов соседи понесли в Прозоровский дом кто что — кто шанежки, кто грибочки, кто рыбку, Марья Денисовна не обижала людей, принимала с благодарным поклоном, уносила в подпол, где зимой и летом хранились продукты.
Наконец все утряслось и все прояснилось. Никита о помощью председательши выговорил место в проходящий поезд дальнего следования. Звонили в город, запрашивали купейное. Сам начальник станции Малютка ездил по этому вопросу. До Медвежьего колхоз отрядил лошадь. От Медвежьего Настасья Захаровна свой «газик» предоставила. Все честь по чести, все как надо.
Накануне устроили проводы. В Прозоровском доме собралась родня, соседи, директор школы. Приехала Софья Романовна. Сама Вера Михайловна пригласила ее.
Софья Романовна достала-таки письмо от своего «бывшего» к его оппоненту. Может, и сгодится. Может, и приветят. Хоть есть к кому обратиться в большом незнакомом городе.
— На родину еду, — с грустью говорила Вера Михайловна, — а родных никого. Может, и остался кто — не знаю.
Первый «посошок» поднял директор:
— Вот как получается, товарищи. Приветствовал я, помнится, появление на свет Сережи Прозорова. Всякие добрые слова говорил. А сегодня… — он глянул в сторону Веры Михайловны, встретил ее испуганный, почти умоляющий взгляд и тотчас сделал поправку: — А сегодня вот собрались, чтобы пожелать удачной поездки.
Путь дальний. Цель большая. Я лично верю в нашу науку, во врачей. Насчет их труда по себе, по войне знаю.
Чудеса творили.
Старик Волобуев, как обычно, попытался прервать директора, но его одернуло сразу несколько человек.
— Думаю и верю, — продолжал директор, — что и на сей раз все обойдется хорошо. Вам съездить и вернуться со здоровьицем! — Он сначала по привычке погладил лысину ладошкой, крякнул, а уж потом выпил.
Слово понравилось. Первым повторил его все тот же старик Волобуев:
— Стало быть, чтоб со здоровьицем.
И пошло: «Со здоровьицем. Со здоровьицем».
Неожиданно бабка Анисья затянула пискляво:
Ай, куда ты, паренек, ай, куда ты?..Песня была некстати, но ее поддержали, чтобы не обидеть бабку Анисью.
А потом запели бабушки, точнее, запела Марья Денисовна, а бабушки Оля и Полина стали ей умело вторить:
Ехал на ярмарку ухарь-купец, Ухарь-купец, удалой молодец.Они пели задорно, весело, так, что даже Сережа смотрел на них, приоткрыв ротишко, и улыбался.
Собрал он девок-красавиц в кружок, Выхватил с звонкой казной кошелек.Сережа еще никогда не слышал, как пели бабушки, и потому сидел не шелохнувшись. А когда мама попробовала тихонько предложить ему грибочков, отмахнулся.
Ухарь-купец подпевает, свистит, Оземь ногой молодецки стучит.Никита показал бабушке на часы, и та, лихо прихлопнув, закончила на высокой ноте.
— Пойдем, Сереженька, — сказала Вера Михайловна. — Нам завтра вставать раненько.
— А петь не будут больше?
— Вот когда возвратишься, мы тебе до утра петь будем, — пообещала Марья Денисовна.
И бабушки, ее сестры, в подтверждение закивали головами.
Встали затемно. Оделись при свете лампы. У Марьи Денисовны уже и оладушки были готовы. На кухне народ толпился, словно и не уходил с вечера.
Как только Вера Михайловна вышла, ей начали совать гостинцы.
— Да куда же? — отказывалась она. — У меня и так чемодан, ребенок…
— А ничо, ничо, — поддерживала соседей Марья Денисовна.
— Да как же… Мне же не унести.
— А ты к людям, — посоветовала бабка Анисья, делая ударение на последнем слоге. — Они помогут. К людям, к людям завсегда.
Над лесом показалась первая полоска зари. Слегка подморозило. Землица похрустывала под ногами. От лошади, жующей сено, шел парок.
Веру Михайловну и Сережу усадили в сено. Никита вспрыгнул на передок, и они неспешно тронулись в сопровождении всей деревни.
Сережа все оглядывался на свой теперь отчетливо видный дом, наконец не выдержал и разревелся. Это было для всех неожиданно. Никто никогда не видел его плачущим.
— Что такое? — всполошилась Вера Михайловна.
— Н-не попрощался… с Пальмой н-не попрощался.
Наступила неловкая пауза. Взрослые не знали, что делать. Не возвращаться же из-за того, что он с собакой не попрощался.
— А надо бы, — вмешалась Марья Денисовна. — С дружком надо попрощаться.
Тогда Никита подхватил сына на руки и побежал с ним к своему дому. Вскоре до провожающих донеслось радостное собачье повизгивание, потом лай.
Через несколько минут отец и сын вернулись. Тогда с Сережей и Верой Михайловной начали прощаться соседи. Они без конца повторяли полюбившееся слово «со здоровьицем», без конца наказывали Вере Михайловне:
«к людям, к людям».
Наконец телега тронулась. Она погромыхивала на неровной дороге, а вслед ей, медленно затихая, доносился собачий лай.
Вскоре и он погас.
На утреннем небе появилась неяркая звездочка. Но свет зари быстро притушил ее, накрыл своим румянцем.
Под этим светом были отчетливо и долго видны Выселки. Темные коробочки домов и чуть заметные фигурки людей, все еще стоявших на пригорке,
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Профессор Крылов многим казался фигурой загадочной. И, как водится, вокруг его имени создавались легенды и сплетни. Чего только не говорили о нем; и то, что он позаимствовал свои работы у известного, умершего уже, академика, и то, что он имеет какие-то каналы в Минздраве и потому ему все сходит с рук, и то, что он обладает магическими свойствами, которые и позволяют делать редчайшие операции, и то, что он просто гипнотизер и одновременно аферист, умеет уговорить не только больного, но и здорового человека и при этом вывернуться из любого положения. А главное, и это было мнение большинства и исходило от самих больных, — это то, что он маг и волшебник.
И надо сказать, что во всех этих измышлениях и легендах, создаваемых вокруг его имени, во всех этих наговорах и историях была в большей или в меньшей степени заключена правда. Он действительно был учеником известного академика и многому научился у него.
Собственно, академик и породил его как ученого, как выдающегося хирурга, как открывателя неизвестных еще отраслей хирургии. Академик взял его под надежную защиту, сам уверовал в его талант и других убедил в этом, стал как бы крестным отцом Вадима Николаевича Крылова.
Для многих было непостижимо, каким образом этот Крылов вышел, как говорили злые языки, из грязи в князи. Старые врачи еще помнили нашумевший много лет назад случай, когда некоего молодого хирурга изгнали из клиники почтенного ученого с редчайшей формулировкой: «За неспособность к научной работе». Уникальный случай, несомненно, врезался в память, обсуждался, передавался из уст в уста. И фамилия этого хирурга, о котором с иронией, с. удивлением, с насмешкой говорили все, тоже врезалась в память. — Фамилия неспособного к науке была Крылов. И вдруг она возникает через несколько лет, вдруг о ней с почтением говорит на хирургическом обществе знаменитый академик, вдруг она появляется под научными статьями. Конечно же, все возбуждены и шокированы этим магическим перевоплощением. Да тот ли это Крылов? Быть может, однофамилец? Где он пропадал и как он снова возник?
Действительно ли он что-то может или добрейший академик подбрасывает ему свои идеи и свои незаконченные работы? Вскоре выяснилось: именно тот самый Крылов. Именно он, бывший «неспособный к науке».
Подвизался все эти годы где-то в глухомани, в дыре, и за это время так поднаторел в практической хирургии, что ему позволяют делать в условиях клиники самые сложные операции. А статьи? — Утверждают — его. Говорят, академик придает им только «божеский вид». Непостижимо!
На первое сообщение Крылова на хирургическом обществе собрался весь цвет хирургии. Были в тот день и другие доклады, другие сообщения, но всех интересовал этот Крылов. Все хотели видеть своими глазами этот нонсенс, слышать своими ушами эту «науку».
Докладывал он плохо. Все увидели, что говорить он не мастер. Тем более что его выступление следовало поч еле выступления, профессора Горбачевского, известного златоуста. Но суть сообщения заинтересовала. И хотя нашлись оппоненты, ценности его работы опровергнуть они не смогли…
Прошли годы. Теперь уже профессор Крылов сам опекает молодых и реже выступает с сообщениями. Разве что на международных симпозиумах и съездах. Вышли его монографии, ставшие настольными книгами многих хирургов во многих странах. Но давняя загадка странного превращения до сих пор окончательно не отгадана, случай не забыт. Маститые, убеленные сединой врачи при упоминании фамилии Крылова нет-нет да и пожмут плечами. Ничего не скажут, ничего не опровергнут, но пожмут плечами, и этот жест, связанный лишь с одной только этой фамилией, воздействует на окружающих, поддерживая давние слухи и недоумения.
И вторая легенда имела основания. И в самом деле в Министерстве здравоохранения поддерживали профессора Крылова: посылали его за границу, давали ему в первую очередь импортную аппаратуру и новые лекарства, позволяли проводить редчайшие, связанные с огромным риском операции. Для многих это, опять-таки, было загадкой, для немногих — нормальным явлением.
Так случилось, что во время одной из первых своих заграничных командировок па важный для нашего престижа конгресс Крылов не только сделал оригинальный доклад на английском языке, но и провел в доказательство правильности своего доклада убедительную операцию: спас ребенка, страдающего пороком сердца. Если разобраться, операция была не такой уж сверхсложной.
Трудность ее состояла в том, что профессор Крылов работал с посторонней бригадой, не знающей его языка, имеющей другие навыки, принадлежащей к другой школе хирургов. Успех операции очень повысил авторитет нашей науки. Естественно, после этого случая смелого и находчивого ученого стали чаще других посылать за границу. Возникла опять-таки естественная цепочка: иностранные врачи, приезжая в Союз, хотели увидеться с известным им профессором Крыловым, побывать в его клинике, увидеть его операции. Пришлось создать его клинике надлежащий вид.
И третья легенда имела основания. Когда народная молва говорила, что профессор Крылов маг и волшебник, она говорила правду. Крылов был настоящим хирургом-самородком. Техника оперирования была у него доведена до виртуозности. Многие хирурги, особенно в годы войны, тоже приобрели отличную технику, сноровку и скорость в работе, тоже довели свое рукоделие до автоматизма. Но Крылов был еще и думающим хирургом. Отточенная техника у него подчинялась четкой мысли. Он не просто оперировал, а и творил во время операции. Но и такие хирурги-творцы, думающие люди — тоже были. И в том городе, где работал Крылов, и в других городах. Но Крылов был еще и смелым врачом. Если сказать точнее, он был дерзким хирургом. Он брался за такие операции, за которые другие хирурги не брались. Дерзость его, казалось, не имела границ. Он шел на риск, на сверхриск, на безумие. Другие хирурги отказывались от больных с декомпенсированными пороками сердца, с недостаточностью кровообращения, от легочных операций, от гангрен, бронхоэктазов, хронических пневмоний. Крылов не отказывался. Почти никогда не отказывался. Он был не просто хирургом, но и отличным врачом. Многие хирурги умели и любили оперировать, но не умели и не хотели выхаживать больных. Многие не брали тяжелых, так называемых безнадежных, потому что не видели перспективы, не овладели и не стремились овладеть искусством подготовки таких «безнадежных» к операции. Крылов овладел этим искусством. Он готовил человека к предстоящей операции иногда месяцами. По всем показателям, которые любят приводить статистики и администраторы, его клиника была позади других клиник. Койко-день у него был высокий. Смертность высокая. Его фамилию в связи с этим упоминали на совещаниях и собраниях. К нему приезжали бесконечные комиссии, подтверждая неизменно одно: большой койко-день и большую смертность. С ним разговаривало всевозможное начальство, убеждая его отказаться от своего стиля, умоляя подумать о престиже всего института, о престиже города и т. д. и т. п. Но он неизменно стоял на своем. Вновь и вновь брал к себе безнадежных и обреченных, тех, кого не брали другие клиники. Он вновь и вновь вызывал «огонь на себя».
Это выражение, сказанное мимоходом кем-то из его сотрудников, так и вошло в обиход:
— Ну, как там ваш шеф?
— Все так же. Вызывает огонь на себя.
И если из десяти безнадежных, тех, на кого все остальные хирурги махнули рукой, на ком давно поставили крест, если из этих многих ему удавалось спасти хотя бы одного, он был счастлив.
Однако этот показатель не принимался во внимание ни статистиками, ни администрацией. Об этом знали сам Крылов, его ближайшие сотрудники и больные. Для них-то, для больных, он и был главным показателем.
Они шли на него, как терпящее бедствие судно на внезапный огонек.
В Минздраве махнули рукой. Кто-то из высоких начальников произнес в адрес Крылова округлую фразу:
«Кому-то надо». За нее и зацепились. Ею и прикрыли высокий койко-день и высокую смертность.
А когда за границей появились сенсационные статьи о редчайших операциях профессора Крылова, в Минздраве и вовсе воспрянули духом: «Пусть знают наших.
Пусть пишут». А один грубоватый, но по-своему умный начальник сказал: «В каждой деревне должен быть свой сумасшедший».
Вера Михайловна не попала к профессору Крылову.
Она обратилась к другому профессору, к Олегу Дмитриевичу Горбачевскому. Виновником этого оказался Алексей Тимофеевич Прахов, тоже профессор, и не просто профессор, а второй профессор клиники Крылова. Это к нему в дом, к бывшему оппоненту бывшего мужа Софьи Романовны, с рекомендательным письмом в руках и попала Вера Михайловна прямо с поезда. Другого пристанища, кроме адреса неизвестного человека, у нее не было. В родной город ехала, как чужая.
Соседом по купе был старичок Федор Кузьмич.
У него маленькое, морщинистое, типично стариковское лицо и седые, пышные, как от другого человека, брови, похожие на усы. Они даже закручивались в уголках, как усы. В первый же день Сережа насмешил ее вопросом:
— А почему усы у дедушки на лоб полезли?
Потом они подружились и расставались с грустью.
— А то к нам пожалте, — приглашал Федор Кузьмич.
Но Вере Михайловне неловко было воспользоваться его добротой, и она отказалась.
— Приехали, — сказал Федор Кузьмич, обнял Сережу и подал Вере Михайловне аккуратно свернутую бумажку. — На случай, координаты записаны.
Вера Михайловна попрощалась с добрым старичком, взяла такси и поехала по адресу, указанному па конверте.
Шофер помог ей найти нужную квартиру, помог поднять вещи. Когда дверь открыли, Вера Михайловна увидела немолодую женщину в домашнем халате. Голова у женщины была тщательно прибрана, а на ногах — теплые носки и тапочки. Красивая прическа и тапочки явно не гармонировали. Вера Михайловна краешком сознания отметила это, через силу улыбнулась и подала конверт.
Женщина, прочтя письмо, секунду медлила, разглядывая Веру Михайловну и Сережу, потом сказала хрипловатым, прокуренным голосом:
— Ну что ж, проходите. Вещи поставьте в коридор. Вас зовут я знаю как, и мальчика тоже, а меня — Виолетта Станиславовна. Я — мать Алексея Тимофеевича.
От нее пахло косметикой, и Вера Михайловна вновь смутилась, уловив этот непривычный запах.
— Ничего, ничего, — торопливо проговорила она. — Мы ненадолго.
— Отчего же ненадолго? Тут написано, что вы в клинику. Ребенок болен.
— Да, болен, — подтвердила Вера Михайловна и стала раздевать Сережу.
Пол блестел. Она видела в нем свое и Сережино отражение.
— Разуйся, сынок, — сказала Вера Михайловна.
— Это совершенно не обязательно, — хозяйка впервые улыбнулась, и улыбка тотчас прорвала натянутость и отчужденность. — Идемте чай пить, — сказала Виолетта Станиславовна. — Только на кухне. Извините.
— Да ничего, ничего, — проговорила Вера Михайловна. — Нам бы помыться.
Они помылись, позавтракали и по настоянию хозяйки легли отдохнуть с дороги.
Проснулась Вера Михайловна от разговора на кухне.
Прокуренный голос хозяйки разносился по всей квартире:
— У нас, между прочим, гости. Дама с ребенком. Из какой-то глухомани. Я еще не узнала. Подарочек тебе от Эдуарда Александровича.
В ответ послышался мужской голос, ровный и тихий.
Слов не было слышно.
— Не первый случай, — ответила хозяйка.
После паузы:
— Я же не возражаю.
После долгого молчания:
— Я же о тебе забочусь.
«Тоже мать. Ее понять можно», — мысленно согласилась с нею Вера Михайловна и тут же, подумав о Сереже, о его судьбе, быстренько встала.
Она познакомилась с Алексеем Тимофеевичем. Это был интеллигентный, учтивый человек в очках с золотой оправой на гладком, хорошо выбритом лице. И голова у него была блестяще-гладкая, с желтоватым отливом, похожая на головку сыра.
«Видно, на Юге отдыхал. Загар остался», — догадалась Вера Михайловна.
Алексей Тимофеевич заговорил о Сереже, попросил показать справки и анализы, а когда мальчик проснулся, осмотрел его внимательно — и, оставив на попечении Виолетты Станиславовны, отправился с Верой Михайловной в свой кабинет, заставленный книгами и коллекцией зажигалок.
— Все правильно, — подтвердил он и снял очки, словно желая показать этим жестом, что он не скрывает от нее жестокой правды. — Классический Фалло.
Это Вера Михайловна давно знала. Она ожидала от Алексея Тимофеевича каких-то других, обнадеживающих слов.
— Что же-е, завтра-а… — продолжал он, растягивая слова, будто раздумывая над ними. — Хотя сейчас… Позвоню… Думаю… Думаю, лучше в клинику профессора Горбачевского.
Он действительно тотчас, в присутствии Веры Михайловны, кому-то позвонил и обо всем договорился. Назавтра Сережу положили в клинику профессора Горбачевского.
Вера Михайловна была довольна. У нее вновь появилась надежда, и она срочно дала телеграмму в родной поселок, Никите. Ее никак не озадачило то обстоятельство, что профессор клиники Крылова положил мальчика не к себе, а в другую клинику, к другому профессору.
А между тем для знающего человека это выглядело странно и необычно, тем более что клиника Крылова тоже, даже в большей степени, чем клиника Горбачевского, занималась «синими мальчиками». Так случилось, что клиники как бы конкурировали между собой и у Крылова получались более обнадеживающие результаты. Знающие люди стремились положить таких детей именно к Крылову.
— А тут… второй профессор… правая рука…
Поступок этот требует объяснения.
Клиника профессора Горбачевского считалась лучшей в городе. Оценка эта складывалась из двух показателей: из официального и неофициального. Из пресловутого койко-дня и процента смертности и из обаяния личности самого профессора Горбачевского. Олег Дмитриевич был хорошо воспитан и образован. Был отличным хирургом. Блестяще читал лекции. Кроме того, он обладал еще одним существенным качеством: мог находить общий язык с людьми разных направлений и разных характеров. Тут он считался прямо-таки выдающимся дипломатом. А при контактах с иностранными учеными Олег Дмитриевич был просто незаменимым человеком. Вот почему он неизменно участвовал в различных форумах, конференциях и симпозиумах.
И если сравнить его с профессором Крыловым, то последний проигрывал Олегу Дмитриевичу по всем статьям. Воспитанием Крылов не блистал, вышел он из низов, не скрывал этого и принципиально на хотел совершенствоваться в вопросе «тонкостей воспитания».
Лекции читал плохо. А своим и иностранным оппонентам, сторонникам другой школы и другого направления, так и заявлял: «Все, чем вы занимаетесь, — не то. И я докажу это в ближайшие годы!» (Когда он выезжал за границу, его очень просили «быть помягче».) Правда, как ученый и хирург он, пожалуй, опережал Горбачевского. Работ опубликовал больше. Монографий выпустил больше. Оперировал не хуже. А по части смелости и дерзости значительно обходил Олега Дмитриевича. Но тут против него неизменно выступал первый беспощадный показатель: койко-день и процент смертности. Они у него были значительно выше, чем у профессора Горбачевского. И на это новая администрация все чаще обращала внимание и все больше высказывала недовольство по этому поводу.
В то же время в жизни происходили парадоксальные явления. В клинику Крылова со всех сторон, не только из нашей страны, а и из других стран, шли сотни писем б просьбой помочь, проконсультировать, положить, прооперировать. Клинику его буквально осаждали жаждущие получить помощь. Конечно, и в клинику профессора Горбачевского тоже попасть было не так-то легко и просто. Но ее не осаждали так, как клинику профессора Крылова. Получалось несоответствие, ножницы: в лучшую клинику не просились, не рвались, не добивались, а в ту, что по всем официальным показателям считалась хуже, в эту клинику стремились страждущие люди.
Конечно, специалистам, врачам, особенно работникам клиники и кафедры профессора Крылова все это бросалось в глаза. И им, несомненно, было обидно. Их ругают, их хают, их упоминают в числе худших на собраниях и конференциях, но к ним идут больные, и они спасают тех, кого никто другой, в том числе и лучшая клиника профессора Горбачевского, не берется лечить. Все понимали: они берут и спасают тяжелых, безнадежных больных прежде всего благодаря яркой, самобытной и сильной личности профессора Крылова, которому многое прощают и на многое закрывают глаза. Тем не менее обида на свое ложное и не совсем справедливое положение у его товарищей, учеников и сотрудников не проходила, и они старались по-своему влиять на этот процесс, чуть-чуть сдерживать порывистую, широкую натуру своего шефа, иногда кое-что скрывать от него, иначе говоря, сокращать койко-день и процент смертности, а значит, по возможности не класть так называемых безнадежных больных, тех, от кого отказались все остальные хирурги, в том числе и Олег Дмитриевич Горбачевский.
Именно так и поступил Алексей Тимофеевич. Именно эти соображения-мотивы самосохранения, престиж клиники — и владели им, когда он устраивал Сережу Прозорова не в свою, а в конкурирующую клинику.
Вере Михайловне понравился профессор Горбачевский. Более того, он ее просто очаровал и расположил с первых минут знакомства. И она рассказала ему свою жизнь с того момента, как помнит себя, до настоящего времени.
— Быть может, об этом не нужно?
— Говорите, голубушка, говорите, — он осветил ее улыбкой, блеском молодых глаз.
И она говорила, все более воодушевляясь.
«Он поможет, поможет», — думала Вера Михайловна. И чем внимательнее он ее слушал, тем сильнее укреплялась она в этой мысли.
Его спокойствие, благорасположение вселяли в Веру Михайловну эту убежденность, возвращали ей надежду.
«Он поможет, поможет», — твердил ей внутренний голос. Еще никогда с тех пор, как она узнала о тяжелом заболевании сына. Вера Михайловна не была такой оживленной, такой уверенной в удачном исходе лечения Сереженьки.
— Посмотрим, голубушка, посмотрим, — пообещал Олег Дмитриевич после того, как Вера Михайловна окончательно замолкла.
«Так, значит, есть надежда?» — хотела спросить она, но не спросила, потому что в этом «посмотрим» как раз и заключалась надежда.
«Он поможет. Конечно, поможет. Господи, наконец-то мы напали на нужного человека».
Эта ее надежда еще более окрепла после двух эпизодов, произошедших в тот же день.
Для оформления госпитализации Веру Михайловну со всеми бумагами направили в общую канцелярию, к заведующему медицинской частью клинической больницы.
Прилизанный мужчина — она заволновалась и не запомнила его лица — холодным голосом спросил:
— А где направление?
После того, что она только что пережила, после подъема, окрыленности от разговора с Олегом Дмитриевичем этот официальный голос резанул ей слух.
Вера Михайловна растерялась.
— Направление? — переспросила она.
— Да. Необходимо направление.
— Но-о… Вот анализы. Вот письмо из клиники…
— У вас есть направление? — прервал заведующий медчастью.
— Наверное, нет.
Он протянул ей бумаги:
— Без направления не сможем принять.
Она, понурив голову, снова прошла в клинику.
В приемной сидела секретарша, ярко накрашенная женщина. Вера Михайловна стала рассказывать ей о своей незадаче. Но тут. из кабинета вышел Олег Дмитриевич. Заметив расстроенное лицо Веры Михайловны, остановился:
— Что случилось, голубушка?
Вера Михайловна объяснила.
Он положил руку ей на плечо и вместе с нею вернулся в кабинет. Позвонил заведующему медчастью:
— Голубчик, я все понимаю, но… простите, но это необходимо для учебной цели. Для учебного процесса, — повторил он.
В приподнятом состоянии Вера Михайловна вышла из кабинета профессора. Ее окликнула секретарша:
— Когда оформите госпитализацию, зайдите, пожалуйста. Анкету нужно заполнить.
Анкета оказалась длинной, чуть ли не сто вопросов.
А ее ожидал Сережа. Вера Михайловна стала торопиться, говорить с неохотой, тем более что почти обо всем, что было в анкете, она уже рассказывала сегодня Олегу Дмитриевичу.
— То есть как? — неожиданно усомнилась секретарша и перестала писать. Как правило, детские дома возвращались в Ленинград. В смысле — эвакуированные дети.
— Я говорю так, как было, — прервала Вера Михайловна.
— Но как правило… — возразила секретарша. — Моя сестренка…
— Ведь речь идет обо мне, — с несвойственной ей резкостью сказала Вера Михайловна, как бы обрывая ненужные вопросы секретарши, мешающей ей поехать за сыном.
— Но это же грубая ошибка…
Опять, как палочка-выручалочка, в приемной появился Олег Дмитриевич.
— Ну что у вас тут, голубушка?
— Она утверждает, что эвакуированный из Ленинграда детский дом остался там…
— Ей не трудно это утверждать, потому что она была в этом доме.
— Но как правило…
— Ах, Евгения Яковлевна, правила для того и пишутся, чтобы были исключения… Закругляйтесь.
Секретарша тотчас кивнула и поспешно закончила свою нудную анкету…
Сдав ребенка в добрые руки улыбчивой нянечки, Вера Михайловна подождала, пока Сереженька скроется за белой дверью, и направилась на телеграф, дать домой обнадеживающую телеграмму. Этого ей показалось мало, и она там же написала подробное письмо Никите. В нем она в восторженных тонах рассказала о встрече с профессором, о своей появившейся надежде, о радости по поводу того, что наконец-то нашелся нужный человек, который вылечит их сына. Она писала об Олеге Дмитриевиче: «Он такой прекрасный, такой щедрый… Он как будто раскрыл душу настежь: добро пожаловать…»
И закончила: «Он поможет, Никитушка, чувствую я, обязательно поможет».
Старая клиника профессора Горбачевского доживала последние недели. В новой, построенной с учетом современных требований медицины, заканчивались отделочные работы.
Сережа попал в восьмую, детскую палату на двадцать коек. Палата была большая, высокая, со сводчатым потолком, с большими окнами, которые, однако, давали недостаточно света, потому что остальные три стороны были без окон. Койки стояли у стен с двух сторон, а посередине маленький белый столик для врача.
Уголок с игрушками находился в коридоре, рядом с телевизором. Так что ходячие детишки могли одновременно играть и на телевизор поглядывать. Для лежачих игрушки хранились в палате, в ближнем от двери углу. Палата, как и вся клиника, была не до конца заполнена.
Клиника постепенно готовилась к переезду в новое помещение.
Сережа попал на левую сторону, к молодой врачихе Нине Семеновне.
Она как раз находилась в палате, когда его привела сестра.
— Это кто же к нам пришел? — спросила Нина Семеновна приветливо.
— Это Сережа, — ответила сестра. — Он космонавтом хочет быть.
— Значит, у нас целый экипаж набирается, — сказала Нина Семеновна. Суренчик хочет быть космонавтом, и Володя, и вот Сережа — третий.
— Ага, — согласился Сережа.
Закончив осмотр других больных, Нина Семеновна подошла к нему, откинула одеяло, посмотрела. В казенном белье, которое было ему велико, он казался особенно худеньким.
— Тебя подкормить надо, — заулыбалась Нина Семеновна. — Ты что любишь?
— Оладушки.
— А блинчики?
— Хужее.
— А сладкое? Мусс любишь?
— Не-е, кисель клюквенный.
— Ну, тогда мы тебе целую кастрюлю наварим!
— Не-е, я не прожора.
— Ну, молодец!
Нина Семеновна улыбнулась ему, погладила по плечу и пошла знакомиться с его анализами и анкетой, которую заполняла секретарша.
Вере Михайловне понравилась врачиха, с первой же встречи она стала ей симпатична: разговаривала доверительно, вроде ничего не утаивала, а главное, была заинтересована в выздоровлении Сереженьки.
— Тетрада — диагноз тяжелый. Но делают операции. Тут важно подготовить ребенка.
В последующие дни Вера Михайловна с удовольствием беседовала с Ниной Семеновной, не скрывая ничего, и с душевной благодарностью видела, что ее мысли и чувства находят понимание. Она любовалась загорелым лицом врачихи, его четкими, будто выверенными чертами и про себя вновь и вновь повторяла: «Они помогут.
Они обязательно помогут».
И другие люди — няня Варя, сестра Ирина — понравились Вере Михайловне. Все в этой клинике были улыбчивые, душевные, какие-то родственные, все хотели ей, а главное, ее сыну добра. Вера Михайловна приходила в клинику с удовольствием, как к своим людям.
И ее принимали как свою, зная, что у нее в городе никого нет, хотя она и ленинградка. Иногда ей делали поблажку, и она еще полчасика или час сверх впускного времени сидела с Сережей в тихом уголке коридора.
Сереже тоже приглянулось в клинике. Его, как везде, сразу же полюбили за спокойствие, за послушание, за тихий нрав. Он быстро перезнакомился с людьми, всех запомнил — и соседей, и сестер, и няню, и докторов.
Каждый день он сообщал маме последние известия:
— А Витя от уколов плакает.
— А ты не плачешь?
— Дак нужно.
Вера Михайловна в душе дивилась разумности сына:
«Какой бы из него мужчина вырос. Настоящий! Но они помогут».
Вся обстановка клиники, казалось, сам воздух утверждал ее в этой мысли, и каждый раз Вера Михайловна уходила от сына с верой в хорошее.
Дома ее встречала Виолетта Станиславовна.
Вере Михайловне здесь было совсем не плохо, но тягостно. Первые дни она старалась не обращать ни на что внимания, поглощенная устройством Сережи. Но потом ее стали раздражать навязчивость хозяйки, ее бесконечные советы и опека по всякому поводу: что одеть, как пойти, с кем и как говорить. Вроде бы Виолетта Станиславовна старалась все делать так, чтобы Вере Михайловне жилось лучше. Приглашала в кино, в театр, но потом, поздним вечером, рассказывала о своих добрых деяниях Алексею Тимофеевичу, как бы бравируя своим вниманием к гостье (а не услышать ее голоса, который гудел по всей квартире, нельзя было). Вера Михайловна слушала, внутренне сжимаясь от неловкости и унижения, чувствуя себя неуютно в этой просторной, роскошной и такой чужой квартире.
Но, к счастью, дома она бывала редко. И все это было ерундой по сравнению с тем чувством, которое она увозила из клиники, с той светлой верой, что вновь появилась в ней.
Нина Семеновна Ластовская была зачислена в клиническую ординатуру прямо с должности участкового врача. Она была счастлива. Она была рада вдвойне, потому что попала не просто в клинику, а в клинику профессора Горбачевского — кумира ее студенческих лет.
Еще с той поры, слушая лекции Олега Дмитриевича, Нина Семеновна мечтала когда-нибудь поработать под его началом. И когда ей выпала такая удача, она первое время даже не верила в нее. Все думала: не сон ли это, не ошибка ли? Не скажут ли ей завтра: «Произошло недоразумение. Вам придется перейти в другую клинику». Но проходили дни, и никто не говорил ей этих слов.
Нина Семеновна успокоилась, внутренне утвердилась и старалась прилежной работой оправдать счастье, выпавшее на ее долю. Приходила раньше всех, из отделения уходила самая последняя.
— Уде не появился ли у тебя кто? — шутливо спрашивал у нее муж.
— Появился. Его зовут Сережа. Фамилия Прозоров.
Ему пять лет. У него тетрада Фалло и вот такие великолепные глаза.
— Ну, это не опасно.
— Как раз опасно. Ему предстоит тяжелая операция. Выживают один-два из десяти.
— У тебя рука легкая.
— Но не я же буду оперировать. У меня еще нос не дорос. И Олег Дмитриевич не бог…
— Не бог, но божество, — прервал муж. — Но к нему я не ревную. К божеству не ревнуют. Оно — нечто эфемерное.
В ответ Нина Семеновна ничего не сказала. Для нее Олег Дмитриевич был вовсе не эфемерным, а живым и реальным человеком. Несмотря на свою обходительность и внешнюю мягкость, он требовал от сотрудников четкости, исполнительности и толковости в работе.
Он любил, чтобы на обходе ему докладывали ясно, доказательно, предъявляя анализы, рентген, электрокардиограммы и все, что положено предъявлять, обосновывая тот или иной диагноз. Он любил, чтобы история болезни была аккуратно заполнена, эпикриз своевременно написан, температурный лист красиво расчерчен. И не дай бог, если что-то было не так…
Если кто-либо из ординаторов или ассистентов что-то недоделывал, ловчил, выдавая старый анализ за новый, еще не полученный, или клеил одну бумажку на другую, или пробовал объяснить: то-то не сделано потому, что кто-то, — тогда Олег Дмитриевич переставал улыбаться, обрывал сотрудника на полуслове и подходил к больному со словами: «Попробуем сами разобраться. Нас тоже кое-чему учили». Это было высшей мерой. На нее нарывались только новички или самые нерадивые, те, кому здесь больше не работать.
Нина Семеновна не относилась ни к той, ни к другой категории. Она благополучно минула испытательный срок и теперь тем более старалась.
Прошло всего десять дней, как в ее палату поступил Сережа Прозоров, а у нее уже были готовы все анализы и обследования. На очередном профессорском обходе она доложила об этом Олегу Дмитриевичу.
— Похвально, — отозвался он таким тоном, что это не прозвучало, как похвала.
Нина Семеновна тут же поняла свою ошибку: она все еще не могла войти в ритм работы клиники, все еще трудилась в темпе участкового врача. Там, на участке, требовалась скорость, там от быстроты зависело многое.
Иногда жизнь человека. А здесь, в клинике, жили размеренно, оставляя время для раздумий, для обучения студентов, для подготовки к операции, если она предстояла.
Самые беспокойные минуты наступали для Нины Семеновны после обеденного часа. Приезжали родственники. С ними нужно было говорить, отвечать на их вопросы, успокаивать, вселять надежду, повышать настроение, чтобы оно затем отразилось на настроении больных.
Чем умнее и опытнее врач, чем он тоньше, тем лучше устанавливает контакты, абсолютно необходимые в лечебном деле. Затаился человек, что-то, с его точки зрения, незначительное скрыл от врача — и диагноз не тот, и лечение пошло по неверному пути. Испугался человек, пошел на операцию со страхом — тоже плохо, тоже может окончиться печально, потому что одно дело, когда человек осознанно и смело идет под нож хирурга, когда он верит в необходимость операции, а другое — когда он боится, не верит, преодолевает себя или откровенно трусит. Получается совсем иная расстановка нервных сил, так необходимых для жизнеспособности организма.
В одном случае все мобилизовано на борьбу за жизнь, в другом — силы уходят на преодоление страха, на сокрытие его. А уж на успех лечения контакт особенно влияет. Если есть цепочка больной-врач-родственники, если она прочна и надежна, если по ней идет равномерный и положительный ток и напряжение его подвластно врачу, тогда виды на удачу возрастают.
А порвется что-то, запрыгает напряжение, замерцает лампочка жизни, вырвется из-под воли врача — и перегореть может.
Нина Семеновна обладала врожденным умением ладить с людьми. Работа по квартирной помощи усилила это умение, закалила его. Но сегодня… Сегодня она с опасением ожидала появления Веры Михайловны. Вера Михайловна человек чуткий. Она тотчас уловит и настроение, и выражение глаз. И потом, у них сложились такие отношения, при которых что-либо утаивать или хитрить нельзя. И все-таки Нина Семеновна схитрила.
Она рассказала, как было, но слово профессора «похвально», произнесенное им так, что оно прозвучало не как похвала, прокомментировала по-своему:
— Сережу подкормить надо. Очень он худенький…
Прошло четыре недели, как Вера Михайловна приехала в этот большой город. Она уже привыкла к своему положению и к ежедневным поездкам в клинику, встречам с врачом и сестрами, к разговорам с сыном и окружающими его ребятишками (они как бы заменяли ей школу и учеников, по которым она очень скучала); привыкла даже к гнилой ленинградской погоде, к промозглости, что поначалу пробирала ее до костей, привыкла к своим ежевечерним письмам то мужу, то директору, то Софье Романовне, к их ответам, которые она получала на главный почтамт до востребования. Привыкла к своей доле, ожидала результатов хотя и напряженно, но спокойно, с верой в хороший исход. К одному никак не могла привыкнуть Вера Михайловна — к своей жизни в чужой квартире. Вроде бы и неприхотливая она, вроде бы всякое видела и везде жила и уживалась, вроде бы и с людьми быстро сходилась, а вот тут никак не могла смириться с навязчивой опекой Виолетты Станиславовны, с ее подчеркнутым вниманием, с ее непременными докладами Алексею Тимофеевичу о проделанной за день работе. Это неприятное ощущение еще углублялось тем, что Виолетта Станиславовна постоянно намекала Вере Михайловне на ее провинциальность, на ее неосведомленность в тех или иных современных вопросах.
Однажды Вера Михайловна не удержалась, спросила:
— Виолетта Станиславовна, а вы давно в Ленинграде?
— Давно, с пятьдесят второго года. Скоро десять лет будет.
— А я — коренная ленинградка. Меня в сорок втором, семилетней, вывезли отсюда.
— Да что вы говорите, Верочка? Где же вы жили?
Где же ваши родные?
— Жили мы на Васильевском, у Гавани. Отец погиб под Невской Дубровкой, брат умер от голода… и мама умерла, — добавила она после паузы.
— Ужас! — произнесла Виолетта Станиславовна таким тоном, будто хотела прикрыть свою неловкость за то, что она столько времени не знала о судьбе своей жилички и поучала ее, как провинциалку.
После этого разговора рекомендаций и советов с намеками на провинциальность от Виолеттй Станиславовны больше не поступало.
Все остальное продолжалось…
Ехать на квартиру Вере Михайловне не хотелось.
Выйдя из клиники, она часто бродила по туманному, серому от дождя городу. Она ехала на Васильевский остров, старалась разыскать места своего детства. И ничего не находила. Прошло почти двадцать лет. Она мало что помнила, да и город изменился так, что его не сразу узнаешь… Возникли новые кварталы, новые улицы. Только ощущение детства было старым, будто она все смутно представляла, как заспанный сон. Вот здесь будто бы стоял их дом. Тут школа, в которой учился братишка.
А вот там, за поворотом трамвая, — контора, где работала мама.
Она возвращалась после таких прогулок с пронзительной тоской на сердце, от которой хотелось плакать светлыми слезами, побыть в тишине, насладиться этим чувством.
А в это настроение вдруг врывался прокуренный голос Виолетты Станиславовны:
— А вы так никогда и не курили? Но это же несовременно!
— Извините, я что-то устала.
Вера Михайловна прошла в гостиную, в отведенный ей угол. Не зажигая света, села к окну, посмотрела на мелькающие вдалеке огни реклам. И тут вспомнила о старичке Федоре Кузьмиче, спутнике по купе, достала записную книжку, отыскала бумажку с адресом, что сунул он ей на прощанье.
А утром отправилась на розыски Федора Кузьмича.
Как-то все так быстро и славно получилось. Сразу нашла его улицу, его квартиру. Дверь открыл он сам. Сразу узнал ее.
— Кто к нам приехал!
Будто ожидал ее.
И старушка Марья Михайловна, жена его, тоже приняла ее как родную.
— Да что же это вы долго не показывались? Да где же вы были? Да почему же? Да у нас и места сколько угодно.
Тотчас вместе с Федором Кузьмичом они поехали за ее вещами.
— Родственников разыскала, — солгала она Виолетте Станиславовне и не покраснела от своей неправды. — Вам за все низкий поклон, — Вера Михайловна поклонилась и подумала: «Раз я деревенщина, вот пусть и видит», — и Алексею Тимофеевичу большущее спасибо.
А в клинике все было хорошо. Сережа встретил ее обрадованно-возбужденно:
— Утром много дядей и тетей было. И все белые.
И все меня смотрели. Больше никого, только меня.
После клиники она поехала на главпочтамт. Получила сразу три письма! И тут же написала мужу: «Никитушка, все идет к лучшему. Я думаю, уже скоро. Сегодня нашего Сереженьку смотрело много врачей. Наверное, перед операцией. А выглядит он… Еще никогда он у нас не выглядел так славненько. Ежели бы мы не знали, что с ним, так и не подумали бы, что болен… Но теперь уже скоро… А еще я перешла на новую квартиру к очень хорошим людям. Денег пришли по возможности. Я тут нс шикую, но все же…»
Вера Михайловна долго сидела над листом бумаги, думала, чем бы еще порадовать Никиту, но больше ничего не придумала, заклеила конверт, поцеловала его и опустила в ящик.
Глава вторая
В клинике Горбачевского случилась беда. Умер мальчик. После операции прошло уже десять дней, и все считали, что с ним все в порядке. Его уже перевели в обычную палату. Именно потому, что он «в порядке», к нему не в первую очередь подходили дежурные врачи и сестры. А когда подошли оказалось поздно. У него нитевидный пульс. Срочно была вызвана реанимационная бригада, но и она не смогла помочь. К утру мальчик скончался.
Вера Михайловна ощутила несчастье еще в гардеробе.
Что-то изменилось. Не так, как всегда, а как-то настороженно-вкрадчиво поглядывала пожилая гардеробщица, подавая ей халат. Перешептывались посетители. Утирала глаза сердобольная старушка. И, наконец, ей навстречу попалась пара — мужчина и молодая женщина с покрасневшими веками. Женщину она встречала и раньше и удивилась перемене в ней: обмякла, постарела, ссутулилась.
Вера Михаиловна вспомнила себя после разговора с главным врачом, после беседы с профессором, который заявил: «Убивать людей человечество научилось, а вот лечить таких „синих мальчиков“ — нет». У нее сжалось сердце. Она и всегда-то была чуткой к чужому горю, а теперь — особенно. Она знала его по себе и потому сочувствовала людям.
К ее удивлению, на отделении все было спокойно и ничего необычного не улавливалось. С занятым видом проходили сестры. Спешили нянечки. Под окнами парами или группами стояли больные, все похожие, все в одинаковых байковых синих халатах. Врачей не было видно. Только Нина Семеновна все еще сидела за столиком в своей восьмой палате.
Увидев через стеклянную дверь ее красивый четкий профиль, Вера Михайловна ощутила облегчение. После всего, что она уловила в гардеробе, она, помимо воли своей, встревожилась. Уверенный вид лечащего врача успокоил ее. Она хотела было уйти, чтобы не мешать Нине Семеновне, но та уже заметила ее, кивнула и вскоре вышла с папкой историй болезни в руках.
— Уже слышали? — спросила она, догадываясь о тревоге Веры Михайловны. Первый случай за полгода, пока я здесь работаю.
— Кто? — спросила Вера Михайловна.
— Ленечка. Помните, на той стороне, в самом углу лежал?
Вера Михайловна не очень помнила, потому что его давно уже перевели в подготовительную палату, потом была операция, но все-таки кивнула.
— Я думаю, на судьбу Сереженьки это не повлияет, — сказала Нина Семеновна, видя, что Вера Михайловна обеспокоена печальным известием. — К сожалению, наша работа сопровождается и неудачами.
— Вы думаете, не повлияет? — спросила Вера Михайловна, сдерживая вздох облегчения. Только сейчас она поняла, что ее так встревожило. Не только смерть этого мальчика, не только сочувствие его матери, но и судьба собственного сына. Тревога эта была инстинктивной, и лишь сейчас она поняла ее суть.
— Конечно, не повлияет, — повторила Нина Семеновна. — Ну, быть может, операцию задержат. Но это к лучшему. Чем он будет крепче, тем больше шансов на успех.
Они еще постояли, поговорили и разошлись — Нина Семеновна в ординаторскую. Вера Михайловна в палату, к сыну.
Сережу она застала в непривычном для него состоянии. Обычно он тихо играл, чаще всего один, и при ее появлении не проявлял особых восторгов. А сегодня сидел на кровати, сжимал игрушку и напряженно поглядывал на дверь. Увидев ее, он обрадовался, но тревога из его глаз не исчезла.
Вера Михайловна почувствовала, как у нее сжалось сердце от любви к нему, она едва сдержалась, чтобы не побежать к его кроватке.
А когда подошла, прижала его к себе, услышала удары его сердечка, мысленно взмолилась: «Нет, нет, нет. Я не знаю, что со мной случится, если его не будет».
Они прошли в обжитый ими уголок, где каждый вечер сидели, разговаривали и играли. И тут Сережа прошептал:
— Мама, а один мальчик умер.
— Да ну, — сказала она. — Его просто перевели в другое отделение.
— Не-е, умер.
Она решила не затевать спора, перевела разговор на другую тему. Вскоре ей удалось отвлечь сына от тревожащих его мыслей. Но его состояние передалось ей. Она уходила от Сережи с неспокойной душой.
— Голубушка, — неожиданно окликнули ее.
В дверях ординаторской стоял Олег Дмитриевич.
— Мы все переживаем… — не удержалась она.
— Не следует. Не вторгайтесь в наши будни. Ведь и в вашей работе тоже есть свои неприятности, — он ободрил ее своей очаровательной улыбкой, взял за руку и повернул к своему кабинету.
Они вошли, сели друг против друга в мягкие черные кресла.
— Я вот о чем хотел с вами поговорить. Вы никогда не задумывались о втором ребенке?
Вера Михайловна тотчас вспомнила давний разговор с Никитой и замялась, не зная, как ответить.
— Нет, нет, это никак не связано с судьбой вашего сына, — поспешил успокоить ее Олег Дмитриевич. — Просто я подумал, голубушка, почему вы не заведете второго ребенка? Семья, по вашим словам, у вас благополучная. Материально вы не нуждаетесь. Если надо вас полечить, то мы поможем. У нас есть консультанты. Сейчас медицина на таком уровне…
Вера Михайловна все сидела потупив взор. Ей почему-то было неловко говорить с Олегом Дмитриевичем на эту тему. Обо всем она могла говорить с ним, об этом не могла.
— Одним словом, подумайте, голубушка. Я вам давно собирался сказать, да все, знаете, дела.
Он осторожно дотронулся до ее плеча.
— А случай этот не принимайте близко к сердцу.
Мы все-таки не резаки, а врачи. Будем стараться.
— Спасибо, — произнесла Вера Михайловна сорвавшимся голосом.
Снова она обрела надежду, снова душа ее поверила в благоприятный исход. Она уходила ободренная.
В гардеробе уже были другие люди, другое настроение. И ничто больше не напоминало ей о несчастье, про изошедшем сегодня в клинике.
На новой квартире жилось Вере Михайловне хорошо. Она ни разу не пожалела, что переехала сюда. Старички приняли ее как родную, у них она чувствовала себя дома. Она еще раз убедилась в гостеприимности ленинградцев, поверила в их простоту и душевность.
Одно ее огорчало: она не могла ничем отплатить старичкам за их теплоту. Напротив, как только они узнали, что она урожденная ленинградка, что потеряла родных, что и брат и мама умерли в блокаду, — и от денег за питание стали отказываться. С трудом уговорила, пригрозив, что иначе съедет в гостиницу.
— Нет уж, нет, — яростно возразил Федор Кузьмич. — Ты к нам приехала вот и живи сколько надо.
Старушка Марья Михайловна тоже была добрая и заботливая. По утрам оладьи Вере Михайловне пекла, как маленькой. Вера Михайловна попробовала отложить несколько штучек для Сережи:
— Он любит. Его бабушка тоже оладушками балует.
— Да что ты! И не вздумай. И ему хватит. Да я потом горяченьких наготовлю.
Она же, эта добрая Марья Михайловна, настроила Веру Михайловну на розыски родственников.
— Может, кто и объявится. Надо искать. Да что же ты, месяц живешь и не поискала? Да, может, по материнской линии?
Тут только Вера Михайловна вспомнила про эту возможность. Но, к своему огорчению, она не могла воспользоваться ею. Она не знала девичьей фамилии матери. Для нее она была Зацепиной Маргаритой Васильевной. И только. В раннем детстве ей и в голову не приходило спрашивать девичью фамилию матери; И родственников она не знала. Были. К ним по праздникам приходили тети, дяди, постарше, помоложе. Но кто они?
Где их сейчас искать? Она не помнила ни лиц, ни фамилий, ни адресов.
Но об этом Вера Михайловна промолчала, поблагодарила Марью Михайловну за совет.
— Да вот, возьми-ка для начала, — предложила Марья Михайловна и вышла в прихожую. Вернулась с толстенной книгой телефонов. — Может, тут. Это внук перед уходом в армию преподнес.
Со странным чувством листала Вера Михайловна эту книгу, боясь и ожидая.
«А вдруг и в самом деле найду? А может, пустое занятие? Может, нет больше Зацепиных или у них телефона нет? А вдруг есть?»
Мелькали фамилии: Забежинская, Зайцев; Замятин, Зац… И Зацепина З. И.
Дрожащей рукой Вера Михайловна записала телефон, позвонила в справочное, узнала адрес. Не желая показать Марье Михайловне своего волнения, она быстренько оделась и вышла на улицу. Первое стремление было немедленно позвонить З. И. Зацепиной, но Вера Михайловна тотчас остановила себя: «О таких делах не по телефону… Вот навещу Сереженьку и поеду».
Сережа в этот день был снова возбужден. Опять рассказывал, что его только его — смотрело много дядей и тетей.
«Глупыш, — подумала Вера Михайловна. — Он вроде гордится этим».
Теперь она знала, что это никакой не консилиум, а просто группа студентов или врачей. Они учатся на ее сыне. Для них он «редкий случай». Теперь Вера Михайловна реагировала на это спокойно. Она привыкла к интересу, который проявляют медики к болезни ее сына. Так и должно быть. Одни люди учатся на других, чтобы лечить третьих.
Она ушла с Сережей в свой уголок, достала гостинец Марьи Михайловны и, пока он ел, рассказывала ему про новую квартиру, про бабушку, что испекла эти оладьи, и про деда, у которого усы на лоб полезли. Она смешно изображала деда, Сережа улыбался и просил;
— Покажи еще.
Она оставила его в приподнятом настроении и, довольная тем, что он сегодня такой веселенький, бодро решила ехать по адресу Зацепиной З. И.
Но, пока садилась в трамвай, пока ехала, пока пересаживалась на автобус, решительность ее растаяла, К дому она подходила не очень уверенной походкой.
К тому же разобраться в новых домах было не так-то просто. Все они походили друг на дружку, все были серые, прямоугольные, с одинаковыми балконами, подъездами, сломанными скамейками у входа, да и расположены квадратно-гнездовым способом: четные во дворе, Нечетные с улицы, а то и наоборот, а то вдруг школа или магазин вместо ожидаемого жилого дома.
А тут еще наступили сумерки. С каждой минутой становилось мрачнее, а фонарей не зажигали. И только Вера Михайловна хотела было возмутиться по этому поводу, вспыхнул свет, и она увидела, что стоит как раз перед нужным ей домом.
Вера Михайловна даже отпрянула от неожиданности, сделала шаг назад. Но тут же собралась и чуть ли не бегом направилась к подъезду. Она в какую-то минуту влетела на третий этаж, остановилась напротив пятнадцатой квартиры, подняла было руку, чтобы позвонить, но тотчас отдернула ее.
На косяке висела планочка с тремя фамилиями, в том числе — Зацепина, три звонка.
Это обстоятельство напугало Веру Михайловну. Она, как девчонка, повернулась от дверей и побежала вниз.
Ей показалось странным, что несколько семей живут в одной квартире, До сих пор как-то так получалось, что она попадала к людям, живущим в отдельных квартирах, кроме них там никто не жил. Ей показалось неудобным заводить интимные разговоры при посторонних людях.
На улице она увидела телефонную будку. Зашла. Набрала номер. Ответил ломкий молодой голос.
— Извините, пожалуйста… Мне бы… Товарищ Зацепина дома? — с трудом спросила Вера Михайловна.
— Зинаида Ильинична! — послышалось в трубке.
Но Вера Михайловна нажала на рычаг.
«Я лучше в воскресенье. Удобнее будет», — решила она, хотя сама бы не могла объяснить, почему в воскресенье будет удобнее.
Ее распирало волнение. Она направилась на главпочтамт поделиться с Никитой новостью. «Я нашла Зацепину. Быть может, это просто однофамилица, а вдруг…»
Тут ей пришла мысль написать в газету! «Разыскиваю…»
«Да, да, — подхлестнула она себя. — Именно маминых родственников».
Она так и написала: «родственников. Зацепиной Маргариты Васильевны».
Указала примерный довоенный адрес. А потом приписала: «Я воспитывалась в детдоме. Живу в Сибири, в деревне Выселки. Мой адрес…»
Она перечитала письмо и осталась очень довольна собой.
Врачи делятся на лечебников и администраторов.
Лечащие — это специалисты разных категорий. Администраторы — это чаще всего неспециалисты или доктора невысокой квалификации. Учатся они в одних институтах, получают одинаковые дипломы, а затем пути их расходятся. Одни оказывают помощь страждущим людям, другие командуют, обеспечивают лечебную работу первых. В идеале это так и должно, быть, то есть администраторы должны организовывать работу лечебников, всячески помогать им, а значит, и больным. Но на деле частенько происходит иначе. Нередко взаимоотношения администраторов и лечебников таят в себе массу нюансов и конфликтов. Бывает, что громкие и бойкие администраторы подминают скромных и робких лечебников.
Бывает, что администраторы зажимают открытия или изобретения. Бывает, что они срывают диссертации, не Обеспечивая Диссертанта лабораторией, изводя его мелкими заданиями, обычной текучкой. Все бывает. И все объяснимо.
Администраторы такие же врачи, такие же люди, со всеми человеческими слабостями и недостатками. И, конечно, им порою бывает обидно. Они создают условия, обеспечивают работу, а слава — лечебнику. Они стараются, покоя не имеют, ночей не спят, а почет — лечебнику. Кое-кто их считает вроде бы и не врачами. Да, иные из них потеряли квалификацию, но разве они хотели этого? Большинство не хотело. Но назначили. Поручили.
Кому-то надо. И они оставили лечебную работу.
А главное, за все про все спрашивают с них. Подчиненные спрашивают. Начальство спрашивает. И на всех совещаниях-собраниях каждое лыко им в строку. Лечебник в чем-то ошибся, а им на народе глазами моргать.
Им за все показатели отвечать. Им — «не обеспечил», «не оказал», «не организовал». Хотя все они — и лечебники и администраторы — работают на одно, на здоровье людей, но подход у них к работе разный. И оценка их работы разная. Лечебника судят по состоянию больного. Администратора — по показателям, по цифрам.
У лечебников — частность, у администраторов — обобщение.
В идеале прекрасно сочетание лечебной и административной работы, прекрасно взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручка. А в жизни? Сколько людей — столько характеров. Сколько больных — столько болезней. Пойди совмести, угадай, предвидь. Тут нужен ум, такт, дальновидность, культура. А дело не стоит на месте. Люди идут. Никогда не знаешь, что подбросит тебе жизнь в следующую минуту…
Обычно профессор Горбачевский ладил с администраторами. Он на своей шкуре испытал, что такое организовывать и обеспечивать: в годы войны совмещал административную должность с лечебной работой. Более того, он иной раз помогал руководству своим именем, своим авторитетом, своим умением находить общий язык с разными людьми. А если сам не вмешивался, то позволял пользоваться своей фамилией. Администраторы с того и начинали некоторые важные разговоры:
— Вот есть у нас профессор Горбачевский. Быть может, слышали? Тот самый… Так вот для его клиники, для него лично совершенно необходимо, и притом срочно…
И получали под это имя, как под гарантированный вексель, аппаратуру, лекарства, деньги, оборудование.
Олег Дмитриевич даже гордился тем, что его имя служит своеобразным паролем и приносит пользу родному институту. Разумеется, эту гордость он не выказывал на людях, со временем и сам привык к ее ощущению и удивлялся, если не улавливал упоминания своей фамилии по какому-либо полезному, положительному поводу.
Из уважения к его персоне администраторы чаще всего не приглашали его к себе, не отвлекали от дел, а сами приходили в кабинет профессора. Принимая эти знаки внимания, он обычно отвечал на них любезностью и доброжелательством. Все это сильно действовало на сотрудников, на прикомандированных, на студентов, па всех, кто находился в эти минуты в его кабинете или в приемной. Еще бы! К нему само начальство приходит.
Не частый случай!
И этому приходу Олег Дмитриевич тоже не придал значения, хотя он и вывел его из обычного, ровного состояния. Явился главный врач клинической больницы доцент Гати.
Олег Дмитриевич встретил его улыбкой, не той, что относилась ко всем, а особой, добродушно-насмешливой, адресованной только доценту Гати, а еще точнее — его комичной, примечательной внешности. Был доцент Гати весь пухлый, как закормленный ребенок, гладкий, лоснящийся, с тройным подбородком. По поводу его внешности без конца острили товарищи, называя его то «с запасом», то «гофрированный», разыгрывали его и потешались над ним, наперед зная, что он не обидится, а посмеется над шуткой вместе со всеми. Однако что касается службы, тут доцент Гати был неумолим, исполнителен и настойчив до предела. Прилипнет по какому-нибудь вопросу и не отстанет, пока не добьется своего.
— Здравствуйте, голубчик, здравствуйте, — первым поздоровался Олег Дмитриевич, сразу же смекнув, по какому делу явился главный врач.
Доцент Гати почтительно пожал руку Олегу Дмитриевичу, сел в предложенное ему кресло и еще долго отпыхивался, все не начиная разговора, делая вид, что слишком задохнулся, поднимаясь по лестнице.
— Да-а, — наконец выдохнул он, показывая, что И трудно ему, и не рад говорить, а надо, служба требует. — Быть может, не указывать этот случай?
— Непорядочно, — тотчас откликнулся Олег Дмитриевич.
— Но он же нам всю картину, так сказать, портит!
— Мы имеем дело не с куклами, — возразил Олег Дмитриевич.
— Это, та-сказать… — заволновался доцент Гати. — Но мы уже написали, и к совещанию подготовлен материал. А тут, та-сказать, сук, на котором сидим…
— Непорядочно, — повторил Олег Дмитриевич.
Доцент Гати вынул аккуратно сложенный платок, промокнул им лицо, все три подбородка по очереди.
— Прямо и не знаю, что, та-сказать, делать. Вопрос большой, в масштабе не только города: в клинике нет смертности. И вот, та-сказать, причины: отличная диагностика и глубокое прогнозирование.
Олег Дмитриевич с пониманием покивал головой, но не поддержал предложения главврача.
— И тут, та-сказать, как назло, как раз накануне совещания…
— К сожалению, такова наша профессия, голубчик, — Олег Дмитриевич развел руками.
Он долго смотрел в глаза главврача. Тот даже прослезился, опять полез за платком. Но взгляд Авторитета выдержал.
Доцент Гати еще посидел, попыхтел, усвоил для себя что со стороны Авторитета поддержки нет, но и осуждения не будет, почтительно откланялся и ушел.
Появилась Нина Семеновна, и очень некстати. Она увидела лицо Олега Дмитриевича таким, каким его никогда раньше не видела; напряженным и недовольным.
Это длилось всего какое-то мгновение, а затем выражение изменилось, лицо приняло привычный вид. Олег Дмитриевич одарил ее своей очаровательной улыбкой, но, словно по инерции, повторил свой жест, развел руками!
— К сожалению, мы имеем дело не с куклами. — Но тотчас спохватился: — Что у вас?
— Относительно мальчика Прозорова. Все подготовлено.
— Прелестно, голубушка, прелестно… Вот в понедельник… на пятиминутке и решим.
Нина Семеновна несколько удивилась, потому что знала, что все в клинике определяет не пятиминутка, а Олег Дмитриевич, но ничего не сказала, извинилась и пошла делать свои дела.
Такое случается только во сне или в сказке. Выходя из трамвая, Вера Михайловна буквально столкнулась с доктором из Медвежьего.
— Ой! — воскликнула она.
— Здравствуйте, — поспешно отозвался он, также удивленный этой встречей.
— Владимир Васильевич? — произнесла она, все еще не веря, что это именно он, их доктор, со своими очками, со своим острым носиком.
— Да, да… Я на усовершенствовании и по поводу диссертации…
— А мы с Сереженькой… Помните? Он в клинике Горбачевского.
— Зайду… В самое ближайшее время.
Подходил следующий трамвай. Владимир Васильевич, видимо, торопился, неловко откланялся и повторил!
— Непременно зайду… Извините…
Эта неожиданная встреча взбодрила Веру Михайловну, придала ей силы и уверенности. Сегодня она снова ехала к своей однофамилице, З. И. Зацепиной. И все еще колебалась, решая, надо ли ей навещать Зинаиду Ильиничну. Быть может, той эта. встреча будет не особенно приятна? Быть может, ей отдохнуть в выходной хочется, а тут нежданный гость?
«Ведь здесь не деревня, не наши Выселки, где к каждому зайди в любое время, и он рад будет, — здесь все по-другому…»
Самой Вере Михайловне хотелось этой встречи. Она ждала и боялась ее. Это была хоть какая-то надежда разыскать родственников.
«Но хотят ли того же другие, вот эта Зацепина Зинаида Ильинична? Та ли это, кого я ищу?»
Встреча с Владимиром Васильевичем все решила.
Вера Михайловна увидела в ней доброе предзнаменование. Сомнения исчезли.
«Все обойдется, — внушала она себе. — Я не одна тут.
Да и Зинаида Ильинична человек же, В крайнем случае извинюсь и не стану задерживать. Я только спрошу и все. Спрошу и все», — повторяла она себе.
Дорогу Вера Михайловна уже знала. Время было дневное. Она быстро отыскала нужный дом. Вошла в подъезд. Остановилась у двери, на которой висели таблички с фамилиями, и нажала звонок З. И. Зацепиной.
Дверь распахнул лохматый высокий парень и оглядел Веру Михайловну пустыми глазами. Он что-то жевал и молчал. И хотя парень годился в ученики Вере Михайловне, его нагловатый вид смутил ее, она спросила поспешно:
— Можно Зинаиду Ильиничну?
Парень, не переставая жевать, ткнул пальцем во вторую дверь от входа, повернулся и пошел, покачивая бедрами, как кокетливая девица.
Вера Михайловна подошла к указанной двери, осторожно вздохнула и постучала.
— Сейчас, сейчас, — послышался грубый голос, и через несколько секунд в дверях показалась немолодая женщина с бигудями на голове.
Вере Михайловне бросилось в глаза ее худое лицо с тяжелой челюстью и с добрыми, будто от другого лица, мягкими карими глазами.
— Вы Зацепина? — с ходу спросила Вера Михайловна.
— Ну, — подтвердила Зинаида Ильинична.
— И я Зацепина.
Зинаида Ильинична отступила в сторонку, пропуская Веру Михайловну в комнату.
— Меня еще маленькой… своих ищу… эвакуирована в сорок втором, выпалила Вера Михайловна и осеклась, сама удивляясь тому, как она коряво и неудачно это проговорила.
Но Зинаида Ильинична, как видно, не заметила этой корявости, а напротив, как-то сразу чутко восприняла ее слова, пододвинула Вере Михайловне стул, сама села напротив.
— Так я говорю, — уже более сдержанно продолжала Вера Михайловна, — как в сорок втором меня отсюда эвакуировали, так я и потеряла связь… О маме написали: «Умерла от голода, похоронена на Пискаревском».
Она заметила, что у хозяйки заслезился один глаз.
Это было странно. Правый смотрел нормально, а левый слезился.
Зинаида Ильинична поспешно встала, взяла с тумбочки папиросы, спички, пепельницу.
— Курите?
— Нет, спасибо, — отказалась Вера Михайловна.
Зинаида Ильинична затянулась, выпустила в сторону дым и спросила:
— Вы не Антонины Ивановны дочка?
— Нет. Маму звали Маргарита Васильевна. Я Зацепина по отцу.
— По отцу? — переспросила Зинаида Ильинична.
Она напряженно думала.
— Может, Захара Ильича? — осторожно спросила Зинаида Ильинична.
— Нет, — полушепотом, так же осторожно ответила Вера Михайловна. Моего папу звали Михаилом. Михаил Петрович.
— Михаил Петрович, — повторила Зинаида Ильинична, щуря слезившийся глаз. — Да что же это я?! — спохватилась она. — Раздевайтесь. Чай пить будем.
Она настояла, чтобы Вера Михайловна разделась, усадила ее к столу, сунула в руки свежую газету и выбежала на кухню. Вера Михайловна читать не стала, принялась разглядывать комнату. В ней было много вещей, и потому она казалась тесноватой. Чуть ли не треть ее занимала широкая кровать с подушками с двух сторон, а посредине — кукла на маленькой подушечке. Кукла была приодета, причесана, но, судя по всему, дети здесь не жили. Жила одна хозяйка. Еще бросилось в глаза обилие цветов. Они стояли у стен и на окнах в глиняных, обернутых цветной бумагой горшочках. А на самом видном месте висел портрет ребенка, написанный плохо, и было неясно, кто изображен на нем, мальчик или девочка.
Зато другое для Веры Михайловны уже стало ясно: она была убеждена, что Зацепина-то Зацепина, да не та. Но это требовалось выяснить окончательно, да и уходить сейчас было неловко, тем более что хозяйка принимает ее душевно, вот бегает, накрывает на стол. Высокая, некрасивая, в бигудях, она выглядела нескладно, и в этой нескладности и суетливости было что-то трогательное. Вера Михайловна даже спросила:
— Может, помочь?
— Что вы, я мигом.
Она расставила чашки, вазу с фруктами, вазочки с печеньями и вареньями,*внесла большой чайник и окинула стол внимательным взглядом.
— Извините, выпить нечего.
— Это и ни к чему. И так все отлично, — одобрила Вера Михайловна и сама удивилась своим словам:
«Я как на уроке. Высший балл ставлю».
Некоторое время они молчали, старательно пили чаи, не решаясь продолжить начатый при встрече разговор.
— Значит, однофамилица? — наконец проговорила Зинаида Ильинична.
— Выходит, так, — согласилась Вера Михайловна.
— Все равно приятно, — мягким голосом произнесла Зинаида Ильинична.
— И мне тоже.
— А вы вареньица, земляничного, клюквенного, сливового?
— Я уже. Спасибо, спасибо.
Зинаида Ильинична улыбнулась, показывая крупные пожелтевшие от курения зубы.
— А сюда приехали в отпуск или по делу?
— Да сын у меня… Больной он…
— Да что же это такое на нас, на Зацепиных! — воскликнула Зинаида Ильинична, и голос у нее дрогнул, и второй глаз заслезился.
Она поспешно ладошкой, как ребенок, утерла слезы, торопливо закурила и, справившись с волнением, объяснила:
— Мой Ванечка, — она указала на тусклый портрет. — Так же, как и вы… Через Ладогу отправились, и… концов нет…
— Искать надо, — посочувствовала Вера Михайловна.
— Искала. До сих пор ищу.
— Может, фамилия другая? Может, усыновили?
Зинаида Ильинична рывком притушила папиросу.
— А вот об этом… И то верно… Благодарю вас.
Еще немного посидели, и Вера Михайловна стала прощаться.
— Сереженька-то ждет. Сегодня воскресенье, впускают пораньше.
— Да, да, — согласилась Зинаида Ильинична. — Чего бы ему?..
Зинаида Ильинична взяла с туалетного столика мохнатую собачонку, протянула Вере Михайловне.
— Ну что вы…
— Нет, нет. Не обижайте.
Попрощались тепло, даже обнялись.
— Заходите. Всегда рада буду.
Уже на лестнице Зинаида Ильинична крикнула:
— Адрес! Свой адрес скажите!
Вера Михайловна назвала адрес Федора Кузьмича, помахала Зинаиде Ильиничне рукой и ушла с хорошим чувством на душе, будто и в самом деле у родственников побывала.
Еще издали Вера Михайловна увидела большие глаза сына. Он сидел в конце коридорчика, в игрушечном уголке, чуть в сторонке от других детей, но не играл, а то и дело посматривал на дверь, ожидал ее. Он даже не обрадовался подарку Зинаиды Ильиничны — пушистой собачке, а тотчас, как только Вера Михайловна поцеловала его, обхватил ее за шею и зашептал в самое ухо:
— Мам, а меня профессор смотрел. Одного меня только.
Он был переполнен этой новостью, как будто сознавал и понимал ее значение.
— Так это ж хорошо, Сереженька, хорошо, — успокоила Вера Михайловна и увлекла его подальше от детишек, в их уголок среди цветов, за телевизором.
Она и сама почувствовала, как у нее задрожало сердце от этой новости.
— Ну-ка, ну-ка, расскажи. Когда он тебя смотрел?
— Да утром же. У себя в кабинете, — с гордостью добавил Сережа. Посмотрел и конфетку дал. Во, — и он достал из кармашка конфету «Белочка».
— Ешь, ешь, — она прижала его к себе, ощущая, как дробно стучит его сердечко.
Сережа занялся конфетой, потом дареной собачкой, а Вера Михайловна все думала, что бы мог означать этот внезапный осмотр профессора, В конце концов она решила, что он мог означать только одно: близость операции.
— Мам, — спросил Сережа, — а меня тоже будут замораживать? А это вовсе и не холодно. Вася рассказывал.
Она поразилась. его понятливости, точнее, его пониманию того, что предстоит. Вообще, все эти долгие месяцы, с тех пор как была обнаружена его болезнь, она удивлялась его стойкости, терпению и мужеству, — он ведь никогда не сробел, не заплакал, не напугался. Он ведь что-то ощущал и чувствовал, хотя бы боль, хотя бы необычность обстановки, но никогда не возражал, не противился, а шел, делал, терпел, потому что понимал, что все это необходимо. Вот и сейчас понимает. Все, все понимает.
«Милый ты мой глупыш. Мужчина ты мой, — мысленно обращалась Вера Михайловна к сыну. — Ты и не представляешь, что тебя ожидает. Замораживают не просто так, а для того, чтобы сердце резать… Но, может, и повезет. Может, и обойдется. Одна надежда.
Другой у нас нет, сыночек…»
Ее охватило такое волнение, что она не смогла больше сидеть, отвела Сережу к ребятишкам и направилась к сестре. Но та сказала:
— Это Клава водила. А она уже сменилась.
«Значит, и в самом деле Сережу смотрел сам профессор, смотрел в необычный день, в воскресенье, смотрел один, с утра, — быть может, специально приехал, чтобы посмотреть его…»
«Ну что ж, ну что ж, — твердила Вера Михайловна. — Вот оно и наступает. Может, и будет наш Сереженька жить долго. Может, и исправят все его проклятые пороки».
Нежно попрощавшись с сыном, Вера Михайловна бросилась на главпочтамт.
«Никитушка! — писала она. — Кажется, приближается тот самый день, которого мы так долго добивались.
Сегодня нашего сыночка смотрел профессор (пришел в выходной специально). Видно, дело идет к операции.
Точнее, она вот-вот будет».
Перо писало плохо. Вера Михайловна поменяла ручку.
«Страшно и боязно, — продолжала она. — А что, как… И рука-то не поднимается написать плохое. Но деться-то нам некуда. Надежда единственная. Невозможно ведь смотреть, как он угасать будет. А сейчас Сереженька выглядит славненько. И такой умница, нисколько не трусит. Рассуждает, как мужчина, разумненько…
Побывала я сегодня у Зацепиной, той, о которой уже писала тебе. Оказалась однофамилицей. Но женщина славная, тоже блокадница, у нее свое горе — ребенка потеряла…»
Вера Михайловна долго думала, как закончить письмо, и наконец приписала: «Об операции я телеграмму пошлю. Ты на почту захаживай».
Она уже сложила листок, но снова развернула его, дописала на уголке: «Ты не беспокойся, Никитушка».
Вера Михайловна не могла оставаться одна. Поехала на квартиру. Рассказала старикам о своей новости.
— Решили, значит, — отозвался Федор Кузьмич. — Они, доктора, нынче зря под нож класть не будут.
— Да и ладно. Да и пора. Да и сколько ждать можно, — оживилась Марья Михайловна. — А что так-то говорить? За чайком и потолкуем.
Они пили чай, смотрели на Веру Михайловну добрыми глазами, желали ей и ее сыну удачи. От всего этого Вере Михайловне было тепло и уютно. Как-то само собой вспомнилось, рассказала:
— У нас сейчас уже спать ложатся. Разница-то, поди, три часа. У нас тишина. Только собаки взлаивают. У нас тоже есть собачка. Пальма. Дружок Сереженьки. Так он к ней привязался, что на прощанье расплакался даже.
А ведь никогда не ревел. Слезинки не видели. А тут навзрыд: с Пальмой забыл попрощаться. С ребятишками ему трудно было. Вот он и играл с собакой.
Старики понимающе качали головами, сочувственно вздыхали.
— Может, еще поиграет. Может, операция хорошо кончится, — не очень уверенно сказала Вера Михайловна.
— Да уж конечно. Да и не думай о другом, — поддакивали старики.
— Есть ведь и удачи. Я сама видела таких детишек.
— Ив газетах о том пишут, — вторили старики.
— Раз уж решили, это не зря.
— Может, и пройдет.
— Пройдет, пройдет.
В эту ночь Вере Михайловне снились родные Выселки, Прово-поле, степные колокольчики и бегущий среди них Сереженька. Он бежит, а за ним — Пальма.
Все это утро и половину дня Вера Михайловна, кажется, только и делала, что смотрела на часы. Ей не терпелось поехать в клинику, встретиться с лечащим врачом, узнать, что ожидает Сереженьку. Уж кто-кто, а Нина Семеновна, конечно, знает, что означает вчерашний осмотр профессора.
Хотя было еще обеденное время, Вера Михайловна не утерпела, пришла в клинику. На лестнице столкнулась с Ниной Семеновной. Та кивнула и как-то скороговоркой произнесла:
— Зайдите к Олегу Дмитриевичу.
Сердце Веры Михайловны подскочило к самому горлу. Она невольно остановилась, вдохнула полной грудью и отошла к окну, чтобы успокоиться. И тут из-за туч пробился луч солнца и осветил ее так ярко, что пришлось зажмуриться. Она закрыла глаза и улыбнулась.
Живя в этом городе, она как будто забыла о солнце.
Оно почти не выглядывало — или она не замечала?
А тут прорвалось, как добрая весточка.
«Да, да, — уверяла она себя. — Сейчас он мне скажет об операции…»
Вера Михайловна тряхнула головой, поправила волосы и решительным шагом направилась к профессору.
В приемной ее встретила вопросительным взглядом секретарша Евгения Яковлевна, которую в шутку все звали «госпожа инструкция».
— Олег Дмитриевич просил зайти. Мне Нина Семеновна сказала, — объяснила свое появление Вера Михайловна.
«Госпожа инструкция» молча прошла в кабинет профессора, молча возвратилась и приоткрыла дверь, что означало: входите.
— Здравствуйте, голубушка, — приветствовал Веру Михайловну Олег Дмитриевич, поднимаясь из-за стола. — Присаживайтесь, пожалуйста. Вот сюда, поближе.
Он обдал ее своей улыбкой и продолжал еще более любезно:
— Как ваше самочувствие? Истомились в ожидании?
Тоскуете по родным местам?
— Что делать, надо, — только и успела ответить Вера Михайловна.
— Ничего. Скоро поедете. Координаты ваши нам известны. При необходимости организуем вызов. Надеюсь, вас отпустят с работы?
Теперь сердце Веры Михайловны провалилось, она ощущала это почти физически. Сама она еще ничего не осознавала, не разобралась в словах профессора, но сердцем почувствовала подвох.
— Надеюсь, и конфликта с главврачом не повторится. Вызов у вас на руках будет.
Он остановился, еще ярче улыбнулся.
— Вы меня понимаете, Вера Михайловна?
— Понимаю, — чуть слышно ответила она.
У нее было странное состояние. Кажется, такое уже было когда-то. Она не помнит — это было давно, — как провалилась под лед во время эвакуации через Ладогу, то есть сам факт этот помнит, а свои ощущения — нет, Сейчас ей показалось, что тогда она чувствовала себя вот так же: все онемело, замерло дыхание, не шевельнуть ни рукой, ни ногой. И не крикнуть, не позвать на помощь.
— Я понимаю, вы ожидали другого решения и приехали за другим, — не убирая улыбки, продолжал Олег Дмитриевич. — Но… Мы вот тут… Как раз сегодня обсудили и… всем коллективом решили не оперировать.
Он сделал паузу, ожидая вопроса или возражения, но Вера Михайловна ничего не сказала, только смотрела на него широко открытыми, изумленными глазами.
— В данное время, — говорил Олег Дмитриевич, — состояние нашей науки… — видимо, он, глядя на нее, тоже начал испытывать чувство душевного неудобства, осекся и поправил сам себя: — Наша наука находится пока что в таком состоянии, что не может дать гарантии… Все человечество ему сейчас не поможет… Не в силах помочь.
Вера Михайловна все молчала. Она не могла самостоятельно выбраться из своего теперешнего состояния — ощущения ледяной воды в миг внезапного провала под лед. Тогда ее вытащили чьи-то сильные руки.
— Ну зачем же, голубушка, — как через стенку, слышала Вера Михайловна, — зачем вам терять его сейчас? Так он хоть поживет несколько лет…
«Он… Сережа… — вспыхнуло в ее сознании. — Я должна его увидеть, Я должна к нему пойти. Я обязана сама выбраться из этого ледяного оцепенения».
Вера Михайловна глотнула широко открытым ртом воздух, потом куда-то провалилась. Потом уловила острый запах нашатыря, различила белые халаты вокруг себя.
Вся внутренне сжавшись, будто и в самом деле выныривая со дна, она поднялась.
— Нет, нет, — послышалось издалека.
— Я пойду… Ничего… Я пойду… — прошептали ее губы.
Она еще нашла в себе силы, повернула голову, произнесла в пространство:
— Извините…
В сопровождении сестры она вышла в коридор, постояла у окна, жмуря глаза, чтобы не видеть солнца.
Сейчас оно только слепило ее, только сильнее высвечивало ее горе, ее безнадежность.
Через день Сережу выписывали из клиники профессора Горбачевского. Вера Михайловна привезла его на квартиру с помощью Федора Кузьмича.
Она плохо помнит момент прощания с клиникой.
В память врезалось лишь два эпизода. Нина Семеновна — уже когда они были одеты — обняла ее и шепнула: «А вы к Крылову… К профессору Крылову, слышите?» Потом откуда-то появилось знакомое лицо — в очках, с острым носиком, — лицо доктора из Медвежьего.
Появилось и исчезло. Но она точно знает, что оно было.
Доктор что-то спрашивал, но Вера Михайловна отвернулась и закусила губу, чтобы не расплакаться. С той поры в минуты сильного волнения она стала закусывать губы.
Они приехали на квартиру, пообедали. Хозяева суетились, не зная, как лучше принять их. Хозяйка угощала Сережу его любимыми оладушками. Он ел и все пододвигал тарелку маме. А Вере Михайловне кусок не лез в горло.
— Спасибо, Сереженька. Спасибо, милый, — она прилагала огромные усилия, чтобы не разрыдаться при нем.
Но он, как видно, уловил ее настроение, все чаще смотрел на нее своими взрослыми глазами.
— Ты ешь, сыночек. У меня голова болит.
— И вовсе нет, — сказал он, но не объяснил своей догадки, точно знал, что это будет тяжело слышать маме.
— Ты сейчас поешь и спать ляжешь, — проговорила Вера Михайловна, не в силах больше выдерживать его взгляд. — Тебя Марья Михайловна уложит.
— Мою бабулю тоже Марьей зовут, — сообщил Сережа.
— Да вот и хорошо. Да вот и ладно. Ешь, ешь.
Оставив сына на попечении стариков, Вера Михайловна выскочила из дома. Очутившись на пустой лестничной площадке, она прежде всего дала волю слезам. Наревевшись досыта, она тщательно утерла лицо и вышла на улицу. Машинально села в автобус, машинально доехала до главного почтамта, но перед входом остановилась.
«Зачем? Зачем их-то тревожить? Пусть поживут в спокойствии до моего приезда».
Потом она очутилась на набережной у Медного всадника и долго смотрела на него, не понимая, отчего это вдруг сегодня на нем белая попона? Наконец догадалась: это изморозь. И все вокруг — стены и крыши домов, колонны и купол Исаакия, решетка и ветви деревьев — все покрыто изморозью, все как бы уже укутано зимой.
Разгадав для себя эту загадку, Вера Михайловна медленно пошла вдоль Невы. Тихая, чуть колеблющаяся вода успокаивала и наводила на мысли.
Больше всего на Веру Михайловну подействовало то, как неожиданно произошло крушение всех ее надежд.
Последних надежд.
«Ведь обнадеживали… Демонстрировали… Делали вид… Больше месяца держали…»
Она вспомнила слова профессора: «Все человечество не сможет помочь». И на миг представила человечество — много людей, море, океан людей — и своего Сережу, капельку, песчинку.
«И все они бессильны?! — ужаснулась она. И представила Олега Дмитриевича, его сбивчивый голос. — Значит, не могут. И это уже окончательно».
Она остановилась и прикрыла лицо руками.
«И пошто мне такое?»
Она подошла к парапету, оперлась о него и стала смотреть на воду. Вода была спокойной, свинцово-холодной и не вызывала у нее тех странных, вынырнувших из глубин души ощущений, что появились тогда, в кабинете профессора. Сейчас она не чувствовала ледяного оцепенения, хотя и была у воды.
«Почему я тогда не утонула?»
— Рыбачите? — раздался голос над самым ухом.
Обернулась. Старичок с удочкой.
— Нет, нет, извините, — сказала она и поторопилась уйти, подумав, что заняла облюбованное место этого человека.
— Чудная, — услышала вслед.
«Да уж, чудная, — ответила Вера Михайловна мысленно. — Но что делать? Он-то, сынок, ни при чем. Совсем ни при чем. И я до конца с ним буду. До конца.
Такая моя судьба».
Вспомнив о Сереже, она осудила себя за то, что оставила сына одного, и заспешила на квартиру.
Открыла ей Марья Михайловна.
— А у нас…
Но тут из кухни выглянула Зинаида Ильинична.
— А я еще одну Зацепину отыскала, — сообщила она. — А тут такое дело… — Она заплакала обоими глазами.
От ее участия у Веры Михайловны опять спазм в горле. Она закусила губу, пересилила себя.
— А Сережа?
— Да спит, спит, — успокоила Марья Михайловна. — Дед вон разошелся, сказки часа два ему рассказывал.
Они снова прошли на кухню, сели вокруг стола.
— Слышала я, — первой прервала молчание Зинаида Ильинична. — Есть тут один… Люди хвалят… Фамилия… Вот забыла… На «к».
— Крылов, — подсказал Федор Кузьмич. — Пока в приемной сидел, о нем разговор был. Да и раньше слышал. От себя гребет.
Видя недоумение на лицах, Федор Кузьмич пояснил:
— От себя, говорю, гребет. Все для других. А вот этот, — он посмотрел на Веру Михайловну, — у которого лежал Сережа, под себя гребет.
— Да полно тебе, — вмешалась Марья Михайловна, боясь, чтобы его слова не огорчили Веру Михайловну.
— Ништо, — упорствовал Федор Кузьмич. — Узнавши говорю.
— Так вот, Крылов этот, — прервала Зинаида Ильинична, желая направить разговор на деловую тему, — он вроде волшебник. Другие будто отказываются, а он подбирает.
Вера Михайловна вспомнила, что и Нина Семеновна ей шепнула о Крылове, но тут же подумала: «Ничто и никто ему теперь не поможет. Все человечество не в силах помочь. Уезжать надо. От судьбы не уйдешь».
Старики все говорили, советовали, но она их больше не слушала, сидела, чтобы не обидеть их. И не возражала, ни звука не произнесла.
«Что их огорчать. Они-то хотят хорошего. Но что они могут, когда все человечество не в силах…»
Она еще посидела из вежливости, потом извинилась и пошла к Сереже, боясь, что он проснется и испугается незнакомой обстановки.
Глава третья
В клинике профессора Крылова шло экстренное совещание. Разбирался последний случай смерти. Все сходились на мнении: подводит АИК — аппарат искусственного кровообращения. Без него нельзя оперировать на сердце и легких, а он не всегда срабатывает точно. К тому же другой аппарат, контролирующий работу АИК, тоже несвоевременно подает сигналы приближающейся опасности.
Об этом Крылову было известно. Аппаратура устарела. Ею не успевают «освежать» клинику. Бюрократический барьер, ведомственная переписка, оформление всяких бумаг затрудняют «освежение». В последние годы дело с аппаратурой ухудшилось. Ликвидировали Министерство медицинской промышленности. Соответствующие заводы передали в ведение совнархозов. Они гнали план, выполняли побочные работы и не выполняли своих непосредственных обязанностей. Возникли своеобразные «ножницы». Соответствующие лаборатории разрабатывали медицинскую аппаратуру и приборы. Талантливые люди изобретали великолепные, необходимые для самых современных операций вещи. Эти аппараты и приборы получали премии и дипломы на международных выставках медицинской аппаратуры, но до клиник и больниц доходили не всегда. Совнархозы или не брались за выполнение нового заказа, или тянули с его выполнением.
Получалась своего рода злая сказка про белого бычка.
Аппараты есть, они прекрасны, но их нет у того, для кого они предназначены, хотя они есть и они прекрасны.
Причина этой злой сказки состояла в том, что прекрасных аппаратов и приборов нужно было немного, десять — пятнадцать штук на всю страну. А совнархозу такой малый заказ был невыгоден. Сто тысяч аппарат тов пожалуйста. Десять штук — крайне нежелательно.
Мороки много, плана нет.
Но так как наука идет вперед, а без новейшей аппаратуры невозможны сложнейшие современные операции, то, случалось, находили пусть не лучший, но легкий, хотя и дорогой выход. Покупали необходимую аппаратуру за границей. Платили за нее чистейшим золотом, хотя она и была хуже нашей, отечественной, той, что брала призы и дипломы на международных выставках, но, увы, лежала в лабораториях в количестве единственных опытных экземпляров.
Все это было нелепо, бесхозяйственно, не лезло ни в какие ворота. Вадим Николаевич Крылов и писал, и выступал по поводу этих нелепостей и безобразий. Но они, как говорится, продолжали иметь место. Ему же, беспокойному и шумливому человеку, в конце концов давали новые, полученные из-за границы приборы и аппараты. Он на время успокаивался, отставал, точнее, его закручивал поток текущих, непосредственных дел до той поры, пока новый случай не побуждал его к новой атаке.
Сейчас как раз и разбирался такой случай. Они давно запрашивали более совершенную аппаратуру. Переписка по этому поводу велась уже несколько месяцев, но без результатов. В ответ на бумаги приходили официальные бумаги, требующие новых бумаг.
Нужно было ехать в самые высокие инстанции, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Вадим Николаевич собирался это сделать, да все так складывалось, что было не до поездок: доклад на симпозиуме, защита диссертаций его подопечными, сдача монографии, очередные срочные операции — все откладывало, оттесняло срок поездки. Но сейчас он решил ехать. Все оставить и лететь в Москву.
Вот только собрать материал, доказательства. И чтоб без осечек, без щелей, в которые могли бы ускользнуть инстанции.
Он слушал выступающих сотрудников, крутя в розоватых от частого мытья руках остро отточенный карандаш, и едва сдерживал раздражение. Опять его помощник, правая рука, Алексей Тимофеевич Прахов, не представил в свое время, не оформил предыдущий, похожий на разбираемый сейчас, случай. «Все дипломатничает, видите ли. Все уберегает меня от стычек. Все ищет лояльных путей, видите ли», — в душе возмущался Крылов, косясь на своего прибранного и приглаженного заместителя.
Из-за дверей донесся голос секретарши. Она уже не первый раз отказывала кому-то, не соединяла с профессором. И теперь Вадим Николаевич слышал ее решительный тон:
— Ну и что? А я не могу… А там важнее.
«Ах уж эта Леночка», — одобрил Вадим Николаевич и, сделав знак товарищам, чтобы подождали, взял трубку.
— Ну, что там? Крылов слушает.
Звонил главный врач доцент Рязанов:
— Просил бы ко мне.
— Я занят.
— Действительно важно?
— Архидействительно.
— Когда же?
— Когда освобожусь.
— Жду.
Освободился Вадим Николаевич уже поздним вечером, в сумерках. Рязанов ждал. Это был старый, еще по фронту, товарищ Крылова, с которым они неплохо ладили, хотя частенько схватывались в принципиальных спорах. Рязанов относился к категории гибких, Крылов — к категории прямых людей. «Мне гнуться и скользить нечего, — говорил Крылов. — У меня, видишь ли, работа такая. Нужна определенность и ясность». — «А у меня, — защищал свое мнение Рязанов, — другая работа. Надо любыми путями выбить, достать, защитить. И все для вас, между прочим». — «Адвокат», — в порыве спора бросал Крылов. «Бык испанский», — ответствовал обычно выдержанный Рязанов.
Сегодня он пока что молчал. Оторвался от газеты, вскинул на лоб очки и указал Вадиму Николаевичу на кресло.
— Жду, — буркнул Рязанов и наклонил лобастую голову.
— Извини… Я просил секретаршу…
— Мне нужна не секретарша, а профессор Крылов.
Он сдержал вздох, отложил газету.
— Как с нашей заявкой насчет аппаратуры? — опередил его Вадим Николаевич.
— Идет переписка.
— Резину можно тянуть еще полгода. Выправляй документы. Через неделю поеду.
Рязанов покачал головой:
— Незачем тебе ехать. Через неделю все здесь появятся. Слышал о совещании?
— Н-ну, — недовольно буркнул Вадим Николаевич.
— Вот о нем и речь, — произнес Рязанов и почесал свой мясистый, нос. — Есть некоторые разведданные…
Горбач будет красоваться, а нас чернить собираются. — Он опять почесал нос и сдержал вздох. — И все из-за тебя.
— Может, полбанки тебе поставить? — попробовал пошутить Вадим Николаевич. — Нос-то вон как чешется.
— Поставят, — не принял шутку Рязанов. — Перо вставят.
— Ну, тут мы поможем. Вытащим.
— Не валяй дурака. Это серьезно.
— Все было, и ничего не было, — отмахнулся Вадим Николаевич.
Рязанов помедлил, произнес глуховато-сдержанным голосом:
— А ты не можешь…
— Не могу, — резко прервал Вадим Николаевич. — И не хочу, видишь ли. Что ты мне Горбача в нос тычешь?! У меня свои принципы, у него свои. — Он начал постукивать кончиками пальцев по подлокотникам, что означало раздражение. — Помню, мой Петька все повидло слизывал. Хлеб оставит, а повидло съест.
— При чем тут твой Петька?
— А таков твой Горбач. Пенкосниматель.
— Мой?
— Твой, раз ты мне им глаза колешь.
— Пошло-поехало. — Рязанов откинулся на спинку кресла и приготовился к длительному молчанию.
На Вадима Николаевича его поза не произвела впечатления. Он продолжал распаляться с каждым словом.
— Вы знаете, — перешел он на «вы», представляя перед собой не Рязанова, а всех своих противников. — Вы знаете, что к чему. Есть, видите ли, врачи и врачи. Как говаривал мой дорогой учитель: изобретено два способа возвыситься над остальным человечеством. Первый — это постоянно расти, совершенствоваться, набираться ума-разума, к людям относиться архигуманно. А второй, — он сильнее забарабанил пальцами, — это унизить и оскорбить других, чтобы себя возвысить. Себя!..
Видя, что Рязанов не возражает, Вадим Николаевич сделал паузу, заговорил помягче, снова переходя на «ты»:
— Ты же отлично знаешь, что мы с Горбачом на разных орбитах. Мы берем тех, от кого он отказывается.
Сколько мы после него взяли? Скольких, можно сказать, с того света спасли? Покойный Владимир Андреевич Опель брался за «операции отчаяния». И я, видишь ли, на грани дозволенного балансирую.
— А надо ли? — вставил Рязанов и тотчас смягчил реплику: — Всегда ли надо?
Вадим Николаевич поерзал на стуле, словно ему вдруг стало неудобно сидеть, помедлил, не потому, что не нашелся, что ответить, а искал слова наиболее доказательные.
— Надо. Всегда, — ответил он решительно. — В пятьдесят шестом году я побывал в Швеции. И там с одним господином хирургом у нас спор зашел. Да, видишь ли, вот об этом же — надо ли? Он утверждал, что так называемых безнадежных следует умерщвлять. И будто бы это гуманно, так как уменьшает страдания и самого больного и родственников его. Может, и нам пойти по этой линии?
— Ну зачем же…
— Тогда как же быть? — оборвал Вадим Николаевич. — Встать в позу стороннего наблюдателя? А как же быть с клятвой Гиппократа? С долгом врача? С совестью?
Рязанов молчал.
— Я лично не могу отказать в просьбе матери, жене и вообще человеку. Я, видишь ли, сентиментален… — Он подождал, не улыбнется ли Рязанов. Но тот не улыбнулся. — Кто докажет, что больной Н. безнадежен? Кто убедит меня, что больной З. неоперабелен? А быть может, это мы безнадежно отстали? Это мы невежды и боимся показать свое невежество? Боимся ответственности. Дрожим за честь мундира. Сколько мы видели этих так называемых безнадежных, от которых все, все, в том числе и пресловутый профессор Горбачевский, отказывались? А они выживали. Сколько?! Надо только представить, что этот безнадежный — твой брат, отец, сын…
Вадим Николаевич вскочил и прошелся по кабинету, потом сел и заговорил более сдержанно:
— Просто необходимо изменить оценки. Судить о работе клиник и больниц не по пресловутым процентам смертности и койко-дню, не только по ним…
— А по чему же? — поинтересовался Рязанов.
— А по тому, сколько спас безнадежных. Скольким не отказал в помощи…
Оба долго молчали. Рязанов не решался отвергать доводы Крылова, но и поддержать их он не мог — положение не позволяло.
— Тогда вот что, — сказал он, опять потирая кончик носа, — выступи-ка ты на этом совещании и сам все объясни.
Вадим Николаевич ухмыльнулся:
— Видишь ли, я уже выступал.
— Еще раз. С новыми данными.
— Пожалуйста. — Он спохватился. — Только аппаратуру я выбью, потому что без нее невозможно. Без нее дело наперекосяк.
Рязанов привстал, протянул руку, что означало: он благословляет Вадима Николаевича.
Веру Михайловну уговорили показать сына профессору Крылову. Старики старались вовсю. Даже Зинаида Ильинична по вечерам приезжала. А Марья Михайловна приговаривала: «Да что теряешь-то? Да что плохого-то?» Но больше всех наступал Федор Кузьмич. Он не просто уговаривал, он доказывал, взывал к разуму, к логике, к чувству.
— Раз уж приехала, надо обратиться. Ведь не убудет. Не сходишь — потом казниться будешь. А люди говорят о нем хорошее, люди зря не скажут.
— Ладно, — согласилась Вера Михайловна. — В среду поедем. У меня и бумага есть.
— Адресок я достал, — обрадовался Федор Кузьмич. — Езды на троллейбусе всего ничего, полчасика.
Старики думали, что убедили Веру Михайловну своими доводами. А она согласилась совсем по другим причинам. Она чувствовала себя плохо. Была подавлена.
Не знала, как и доедет до дому в таком состоянии.
А главное, не знала, что написать Никите, как его подготовить к их внезапному возвращению. Она же все писала «вот-вот», обнадеживающие письма писала. Ее обнадеживали, и она обнадеживала. «Теперь уж нет ни во что веры, — думала она. — И не будет. Но повременить надо. Что-нибудь соображу».
Дважды она ездила на главпочтамт. Получала письма из дому. Но все не решалась ответить. На третий раз дала уклончивую телеграмму: «Мы живы-здоровы. Подробности письмом».
В среду, как и было задумано, они поехали в клинику. Федор Кузьмич усадил Сережу к окошку и всю дорогу рассказывал ему про город, про улицы, по которым ехали.
А Вера Михайловна сидела сзади и была занята своими невеселыми мыслями.
«Если опять будут класть для показа, для демонстрации — не соглашусь. Зачем его мучить? Он у меня не кролик и не собака… А как узнать? Они ж говорят: посмотрим… Насмотрелись. Все установили… Нечего больше устанавливать. Все человечество ему не поможет».
Ей показалась ненужной эта поездка, и она чуть было не предложила выйти из троллейбуса на первой же остановке.
«Ну чего мы едем? Зачем? Чего мы его на новые мучения везем? Все это один обман и одни иллюзии».
Она пристально посмотрела на сына. Он вовсе не походил сейчас на мученика. Выглядел лучше, чем всегда, к деду привык и слушал его внимательно, чуть приоткрыв ротишко. Вера Михайловна иной раз поражалась Сереже, его терпению, мужеству и пониманию. Никогда он ни одной слезинки не пролил, ни на кого не пожаловался, не покапризничал, как другие дети. Всегда был таким послушным, таким тихим, что все восхищались им. Он не понимал этих восхищений и никак на них не реагировал, как не реагировал и на свою болезнь, будто это страшное, заложенное в двух словах «тетрада Фалло», его и не касалось.
Ей стало неловко перед ребенком за свое малодушие. «Хуже не будет. И тяжелее того удара, что уже получила, — не получу».
В приемной она сидела замкнуто-отчужденно, не замечая тех, кто был рядом. Она прижала к себе Сережу и слушала гулкие удары его сердца. Оно учащенно билось под ее рукой.
Молоденькая секретарша взяла у нее письмо — ответ клиники на ее запрос — и скрылась в кабинете.
Вскоре она вернулась и пригласила Веру Михайловну войти. Вера Михайловна заметила настороженный взгляд Сережи. Видимо, его напугал ее отчужденный вид. Она внушила себе: «Я должна держаться». И через силу улыбнулась сыну.
Профессор Крылов не произвел на нее впечатления.
В кресле сидел маленький, невидный человек, в халате, шапочке, лицо клинышком, глаза острые, строгие, без улыбки. Ей невольно вспомнился Горбачевский со своим обаянием, со своей броской воспитанностью, и воспоминание это еще сильнее насторожило ее.
Крылов, как видно, и не старался произвести впечатления, заговорил резковато, не заботясь о приветливости (ей опять вспомнился голос Горбачевского — мягкий, певучий, обволакивающий).
— Слушаю вас. Какие жалобы? — спросил Крылов и краем глаза взглянул на Сережу.
Вера Михайловна уловила, что взгляд его при этом смягчился, и это подбодрило ее, дало силы для разговора.
— Мальчик болен. У него тетрада Фалло. Вот бумаги.
Она протянула целую кипу бумаг. Крылов отложил их в сторону и начал задавать обычные, знакомые, надоевшие ей вопросы. Вера Михайловна отвечала, как нелюбимый урок, лишь бы отвязаться. Профессор будто бы не придал значения ее тону. Он был терпелив и настойчив. Расспрашивал еще и еще, до той поры, пока не добивался нужного ему ответа. Потом он поблагодарил Веру Михайловну и обратился к Сереже:
— В футбол играешь?
— Не.
— А в бабки?
— Нет.
— Ну, тогда пойди сюда, — и профессор впервые улыбнулся. Во рту блеснул золотой зуб.
«У этого зуб блестит, а у того — улыбка», — подумала Вера Михайловна, снова мысленно сравнивая Крылова и Горбачевского. И это сравнение все время напоминало ей о печальном итоге, об обманутых ожиданиях и поддерживало недоброе, воинственное недоверие.
В конце концов она не выдержала и заявила:
— Если для показа студентам, как редкий случай, то я не согласна.
И опять Крылов пропустил ее заявление мимо ушей, продолжая осматривать Сережу.
Вера Михайловна закусила губу и замолчала, стала наблюдать, как проходит осмотр. Что-то на первый взгляд неуловимое отличало Крылова от других врачей.
Пожалуй, решительность, уверенность и осторожность.
Она заметила, что будто бы он и не щадит мальчика, поворачивает круто, прикасается вроде бы сильно, но Сережа молчит, не проявляет недовольства, не морщится. Значит, прикосновения не болезненны, не неприятны.
Они мягкие и эластичные. Человек знает, что и как делать, чтобы выходило терпимо.
— Сколько же тебе лет? — закончив осмотр, спросил профессор Сережу.
— Пять с четвертью.
— Ух ты.
— Да кто же тебе сказал так? — вмешалась Вера Михайловна, пораженная ответом сына не меньше, чем профессор.
— А дяденька Блинов.
— Это в клинике, — вырвалось у Веры Михайловны.
— В какой?
— Да мы ж к вам от Горбачевского.
В этот момент открылась дверь и появился Алексей Тимофеевич.
— Ой, здравствуйте! — невольно воскликнула Вера Михайловна.
Алексей Тимофеевич на какое-то мгновение не то растерялся, не то смутился, но затем взял себя в руки, слегка поклонился Вере Михайловне и деловито заговорил с Крыловым. Он что-то медицинское спросил, Крылов что-то ответил, и Алексей Тимофеевич ушел.
— Так, значит, от Горбачевского? — спросил профессор.
— Вот Алексей Тимофеевич как раз и устраивал.
Спасибо ему, Да только зря все…
— Не первый раз. Не первый, — произнес Крылов резким тоном, точно сам для себя свои мысли высказал. — Ну что же, лечить будем.
Слова его озадачили Веру Михайловну. Если бы он сказал обычное «посмотрим», она бы возразила. Она уже приготовилась к возражению. Но он произнес «лечить будем», и это остановило ее.
«Но лечить — это еще не означает операцию», — подумала она, хотя возражать было уже поздно.
Крылов протянул ей бумагу с личной печатью, со штампом. Там резолюция: «положить» и приписка: «по жизненным показаниям».
Вера Михайловна вспомнила волынку с оформлением в клинике Горбачевского и удивилась: «А как он узнал об этом? Узнал и упреждает!»
Она кивнула. Она согласилась. Она не то чтобы вновь поверила, нет, веры в ней сейчас не было ни на капельку, но она увидела в словах профессора хоть какой-то выход, точнее, хоть какую-то возможность оттянуть поездку домой. Обратно в Выселки Вера Михайловна не могла еще ехать. Никак пе могла.
Крылов встал, подошел к ней и положил руку на плечо:
— Лечить будем.
Он довел их до двери, взлохматил на прощанье Сереже волосы и обратился к секретарше:
— Леночка, Алексея Тимофеевича ко мне.
Класть решили сегодня же, сейчас же. Федор Кузьмич настоял.
— Раз уж приехали — не раздумывай. Мало ли чего. А за вещами я съезжу. Пока ты тут возишься, я и обернусь.
Он был явно обрадован оборотом дела. А главное, тем, что проходила его идея. Как-никак это он настоял, чтобы к Крылову ехать.
Федор Кузьмич действительно быстренько обернулся. Пока Сережу оформляли, мыли и переодевали, Федор Кузьмич снова был уже здесь, в приемной. Вся процедура приема на этот раз проходила без задержки. Правда, у главного врача Вера Михайловна немного испугалась, но все обошлось. Главный врач потер свой мясистый нос, снял трубку и позвонил. Она догадалась — Крылову.
— Ты опять, — сказал главный врач. — Ну, смотри…
И все. Остальное пошло как по маслу. Когда Сережу вывели из приемной в большом, не по росту, до самых пят больничном халате, ей вдруг сделалось так жаль его, какое-то недоброе предчувствие охватило ее. Она не удержалась, окликнула:
— Сереженька! — и бросилась к нему, и обняла, и прижала к груди.
Она вся дрожала и никак не могла унять эту дрожь.
— Ты чего, мам?
— Да так. Ничего. Озябла что-то.
Она через силу улыбнулась сыну.
— Мам, — спросил он, — а этот дядя профессор хороший?
— Хороший.
— А он волшебник?
Она удивилась вопросу, но, чтобы не разочаровывать сына, подтвердила:
— Почти.
Веру Михайловну окликнула сестра приемного покоя:
— Вас просили зайти к профессору Крылову.
Вот тут-то Вера Михайловна и вспомнила об Алексее Тимофеевиче, о неожиданной встрече с ним и о последних словах Крылова. Других причин приглашения она не находила…
«Может, я подвела его? Но ведь он ничего худого…
Я так и буду говорить. Мол, спасибо. Только благодарна. Никаких претензий к Алексею Тимофеевичу нет».
Потом она отвлеклась от этих мыслей, стала думать о том, что написать Никите. «Об отказе от операции писать не буду. Насчет всего человечества тоже не упомяну… Просто… Да, да, просто скажу, что перевели в другую клинику. О клинике Крылова он и сам знает».
Впервые она собралась лгать мужу, но не устыдилась этой лжи, а обрадовалась ей: она сохраняла спокойствие в доме, уберегала родных и дорогих ей людей от ненужных волнений.
— Вас Вадим Николаевич ждет, — завидев ее, будто обрадовалась секретарша.
На этот раз Вера Михайловна рассмотрела профессора поподробнее. Оказывается, у него черные, с редкой сединкой волосы, у глаз и у рта морщинки, особенно они заметны у рта, как две уздечки с каждой стороны.
А глаза темно-карие, умные, будто всевидящие. И взгляда он не отводит. От всего облика его исходила уверенность и убежденное спокойствие. На сей раз он был более приветлив, усадил Веру Михайловну напротив себя, но заговорил совсем не о том, о чем она предполагала.
— Тут, видите ли, один вопрос. Вы доктора… — он заглянул в бумагу, — Петюнина знаете?
— Нет, — отказалась Вера Михайловна, не припоминая такой фамилии. — Нет, не знаю.
— Владимира Васильевича Петюнина, — повторил Крылов.
— Владимира Васильевича… — повторила за ним Вера Михайловна. — Так это ж наш! Из Медвежьего.
— Вот-вот, видите, — подтвердил Крылов. — Он заходил. Вами интересовался. Просил разрешения на посещение… А вы, оказывается, из знакомых мест. Расскажите-ка о себе.
Вера Михайловна рассказала. Не так подробно, как когда-то Горбачевскому, без прежней охоты, но точно и откровенно.
— А вы что… Видите ли… — Крылов тянул, подыскивая слова. — Вы сколько уже здесь живете? Трудновато. Накладно. Так во-от… Могу предложить… Не хотите нянечкой поработать?
Предложение было неожиданным. Вера Михайловна растерялась.
— Я понимаю, — извиняющимся тоном произнес Крылов. — Вы учительница… Но другого пе могу…
А пособить вам хочется. Дело в том, что это надолго с мальчиком. Я имел в виду, что процедура эта, видите ли, трудоемкая.
Веру Михайловну поразила не неожиданность, не само предложение профессора, а мотивы этого предложения. Ее до боли тронуло одно слово: пособить. Давненько она его не слышала. А слово-то дорогое, хорошо знакомое, выселковское, там его часто произносят. Пахнуло родными местами, родными людьми. Будто душевный мостик перебросило это слово от сердца профессора к ее сердцу.
Крылов ждал, и Вера Михайловна произнесла:
— Можно, я подумаю?
— Конечно. Это, видите ли, не к спеху.
Она раскланялась и вышла.
Доехав до главпочтамта, поспешно села за письмо Никите. В нем она сообщила, что уже согласилась поработать санитаркой. «Мне нисколечко не будет трудно, — писала она. — А помогать людям буду. И Сереженька на виду будет… А профессор обещал лечить. О нем люди хорошее говорят».
Вера Михайловна оторвалась от бумаги, удивляясь тому, что пишет о человеке, который еще утром казался ей неприятным и неприветливым, в добрых тонах.
«Но он пособить хочет», — добавила она и подчеркнула это слово двумя аккуратными чертами, будто это было не письмо, а тетрадь одного из ее учеников.
Вера Михайловна смутно помнила тяжелые минуты прощания с клиникой Горбачевского. Она старалась не воскрешать тягостных воспоминаний. Берегла душевные силы. Предстояли последние испытания, и ее силы нужны были не столько ей, сколько Сереженьке. Но иногда, помимо ее желания, одно воспоминание беспокоило Веру Михайловну. Оно касалось Владимира Васильевича — доктора из Медвежьего, человека, который первым определил болезнь ее сына. Вроде бы он, этот Владимир Васильевич, появлялся тогда в приемной, вроде бы о чем-то спрашивал, что-то советовал. Но что именно? Совсем не советы и вопросы доктора из Медвежьего волновали ее, а то, что она обошлась с ним не так, как принято обходиться в родных местах, обошлась неприветливо и дурно.
Не по-людски. А ведь он, верно, добра хотел и ничем не провинился перед нею. Вот эта ее минутная черствость и неприветливость, обхождение не по-людски, проявившиеся пусть и в трудный момент, но проявившиеся, они-то и беспокоили совесть Веры Михайловны. Однако со временем, озабоченная сначала устройством сына, а затем и своим устройством, она как-то позабыла о Владимире Васильевиче и о своей досадной промашке в обхождении с ним.
Зато Владимир Васильевич Петюнин часто вспоминал о Вере Михайловне. Ему врезалась в память та безысходная отрешенность, что застыла на ее лице тогда, в приемной, в минуты ухода ее из клиники Горбачевского.
Лицо Веры Михайловны с расширенными, будто остекленевшими глазами часто вставало перед ним и напоминало о том, что это он, врач Петюнин, первый обнаружил врожденный порок сердца, толкнул ее на те необходимые, но все равно мучительные испытания, что тянутся до сих пор. Только врач способен понять то профессиональное состояние, в котором находился Владимир Васильевич, то душевное беспокойство, что не покидало его все это время.
Он был еще молодым врачом, а значит, все его чувства были еще обострены, они еще не обросли тем особым внутренним панцирем самосохранения, какой появляется с годами у более опытных врачей, когда переживания за каждого человека уже не так травмируют психику, когда их как бы не допускаешь близко к сердцу, внушая себе мысль о том, что это неизбежные спутники твоей профессии и нужно привыкнуть к ним, иначе сам сгоришь раньше времени.
Владимир Васильевич еще переживал за своих больных, еще думал о них, еще терзался их физическими и моральными терзаниями. Вот почему он все эти дни стремился узнать, где же Вера Михайловна и что же все-таки стало с его бывшим пациентом. Свободного времени у Владимира Васильевича было мало, сутки заполнялись учебой, лекциями, работой в библиотеке, встречей с консультантами, подбором литературы и еще десятками необходимых дел, но он все же выкроил несколько часов и поехал в клинику Крылова, где, по его расчету, должен быть этот мальчик Прозоров, если, конечно, его не увезли обратно в Выселки.
Предположения его оправдались. Секретарша профессора сообщила:
— Они как раз оформляются.
— А можно поговорить с профессором? Я врач… Из тех мест, откуда этот мальчик. Я, если хотите, виновник…
Дверь открылась. Показался Крылов.
— Леночка, все заявки на аппаратуру. И список принятых из числа непринимаемых… — Заметив Владимира Васильевича, он осекся. — Вы что хотели?
— Я к вам… Я врач…
— Я, видите ли, занят.
— Извините, но как раз принимают моего больного… мальчика Прозорова.
— Так вы оттуда? — несколько смягчившись, спросил Крылов.
— Да, из Медвежьего. Я первым его смотрел, еще в начале прошлого года.
Крылов жестом пригласил Владимира Васильевича в кабинет. Он был раздражен, но не мог отказать врачу с периферии. Сам выбившись «из низов», как он упорно рекомендовался, Крылов питал некоторую слабость к коллегам с отдаленных точек, зная, как им нелегко живется и непросто работается и как они нуждаются в совете и поддержке старших товарищей. А раздражение его было следствием недавнего телефонного разговора с главным врачом. Доцент Рязанов все-таки еще раз позвонил и высказал решительное недовольство по поводу приема этого мальчика с тетрадой Фалло.
— Ладно, — в сердцах произнес Крылов, — если у тебя или у твоих родственников, не дай бог, появится такой несчастный ребенок, класть не буду, — и бросил трубку.
Сейчас он досадовал на себя и за свою резкость и за весь этот разговор.
— Прибавили вы нам забот, — произнес Крылов, когда они уселись друг против друга.
Он минуту помедлил, проверяя, как отреагирует молодой коллега па его слова, и, видя, что тот понял их правильно, не обиделся, заговорил откровенно:
— Вы, наверное, знаете, что он лежал в клинике Горбачевского? Месяц лежал. Они, видите ли, не берутся за операцию. Они, видите ли, умные. Ему не терпелось отвести душу. А перед ним был человек, разговор с которым ни к чему не обязывал, то есть именно тот, с кем и можно поговорить открыто. — Столько проблем!
Тысяча неизвестных. А у нас даже атравматических игл пет. В Швеции покупаем. Дрожим за каждую, как за собственный глаз. — Он стал потирать подушечки пальцев, будто они замерзли или устали от работы. — А проблемы… Проблемы наши нужно решать всем человечеством, всей международной наукой, потому что они касаются здоровья всех людей… — Он уже разрядился, улыбнулся глазами. — А вы в какой области специализируетесь? Почему здесь? Давно ли работаете?
Владимир Васильевич и в самом деле был несколько озадачен откровенностью профессора и не знал, как вести себя, но последние вопросы подбодрили его, вывели из состояния растерянности. Он все объяснил и снова повторил, что первым заподозрил у мальчика врожденный порок и потому интересуется его судьбой.
— Значит, вы терапевт, — с некоторым разочарованием в голосе сказал Крылов. — Хорошо, что вы заподозрили врожденный порок, хорошо, что направили куда надо, но, увы, никакими лекарствами порока не исправишь, особенно тетраду Фалло. Ведь при этих пороках кровь почти не поступает в легочную артерию, а значит, не обогащается кислородом, а венозная, наоборот, идет прямо в аорту, вот отчего они, детишки эти, такие синие. Хотя что я вам рассказываю, — спохватился он. — Вы же врач, хотя и терапевт, и в заболеваниях сердца должны разбираться. Хотя, думаю, столько, сколько я, пороков не видели.
— Да, — признался Владимир Васильевич. — Наш профессор специализировался на желудочной хирургии, на почках…
— Первое время, помню, мне снились страшные сны, — продолжал Крылов. — Да что во сне… Заходишь в палату, а они темно-синие, губы и ногти почти черные.
Не смеются, не играют. Задыхаются. Смотришь, такой малыш сидит на корточках и встать боится. А еще помню девчушку. Стоит перед зеркалом и губы сметаной мажет, чтобы они были «как у всех».
Из приемной донесся голос секретарши. Она опять повторяла: «Занят. Очень важно». Крылов хотел было взять трубку, но раздумал, решил закончить беседу.
— А подобные операции наблюдали? Как-нибудь приходите. Это, видите ли, сложнейшее дело. При тетраде Фалло требуется не только открыть сердце, но выключить его из кровообращения и остановить. А тут без соответствующей аппаратуры ничего не сделаешь. Ну и без людей, конечно, которые умеют владеть ею. А их даже по штату нет. Пока что не предусмотрено…
Снова послышался голос секретарши. Крылов снял трубку, произнес резко:
— Подождите минуту. — И встал быстро, давая понять, что разговор приходится заканчивать. — Так заходите, — повторил он. — И вот еще. Совет старого доктора. Всегда думайте о человеке, прежде всего о больном, а потом уже о себе и обо всем прочем.
— Да, да, конечно, — поспешно заверил Владимир Васильевич, довольный откровенной беседой и приветливостью знаменитого профессора, о строгости, сухости и странностях которого ходит столько всяких россказней.
Первая неделя пролетела как один день. Тяжкий день. Вера Михайловна так выматывалась, что и ночевала в клинике, предупредив стариков заранее, чтоб не беспокоились. Никогда раньше она и не думала, что работа нянечки такая суетливая, беспокойная, важная, такая «ножная» работа. Весь день на ногах. Только присядешь-«няня, судно!», «няня, приберите в десятой», «няня, помогите, пожалуйста». Быть может, потому, что она все делала безропотно и на каждый зов бросалась немедля, ей и не давали покоя. Конечно, Вере Михайловне могли бы сделать скидку, дать палату полегче, с ходячими, или взять на полставки. Но она сама этого не захотела. Сама сказала старшей сестре: «Только я хочу как все. И… пожалуйста, никому, что я учительница».
Не в ее характере было искать легких путей, снисходительности, чьей-то опеки. Она и учительницей работала безотказно, не считаясь со временем.
«Да и как это? — рассуждала она. — Больной человек просит, а я „подождите“. Он же беспомощный. Особенно если после операции или ребенок, как мой Сереженька».
Впрочем, сына она видела сейчас меньше, чем тогда, когда не работала в клинике. Точнее сказать, видела чаще, но была с ним меньше. Даже но вечерам, после работы, уединится с ним в облюбованном местечке, за телевизором, а ее позовут: «Там, в девятой, уже минут десять звонят». Теперь все знали, что она нянечка, вот и обращались к ней. И Вера Михайловна спешила в девятую. А то сама зайдет к Сереже в третью, а у его соседа Ванечки крошки на простынке — гостинец ел прямо в постели.
— Ну-ка, встань на минуту. Я стряхну.
Ванечка вроде спешил, принимал серьезный вид, но делал все медленно и осторожно. Вера Михайловна терпеливо ждала, понимая, что эта медлительность у Ванечки от болезни, а не от нежелания и щадящие движения его тоже выработаны болезнью.
Теперь она чувствовала себя хозяйкой в отделении, в какой-то мере ответственной за этих людей, взрослых и детей, мужчин и женщин, во всяком случае за их покой и удобство, за их быт и настроение.
Сейчас она видела клинику изнутри, знала ту часть ее жизни, о которой раньше, до своей работы здесь, и понятия не имела.
Вот хотя бы время. Оно для всех здесь разное. Для нянечек и сестер — одно, для врачей — другое, а для больных — третье. Сестрам и нянечкам его не хватает, они с ног сбиваются, чтобы все, что надо, сделать до обхода. А врачи не торопятся с операциями, держат людей месяцами. А больные, особенно те, кто еще ходить может, маются от безделья, места себе не находят, все изведутся, пока привыкнут к больничному времени.
У них время делится — Вера Михайловна однажды услышала такой разговор «от жратвы до жратвы, от процедуры до процедуры, от осмотра до осмотра». А у них, нянечек, — от уборки до уборки. Но это не точно, потому что в промежутке этом надо еще сделать уйму незаметных, может и нетрудных, но хлопотливых дел: помыть, подтереть, подмести, поправить, покормить, повернуть, подать, ответить, ободрить, да мало ли что еще.
И на все идут секунды, и минуты. Так минутка к минутке и набегает. Оглянешься, а уже врачи идут, обход начинается. Опомнишься, а уже сумерки, дежурство кончается, а еще с Сережей не поговорила.
Но больше всего Веру Михайловну удивило то, сколько людей участвует в операции. В операционный день клиника пустеет — все на операции. Кто где, но каждый занят одним, общим — тем человеком, что лежит в эти часы на операционном столе. Да и те, кто не занят, ведут себя по-иному, не как в обычные дни, вроде бы прислушиваются, вроде бы готовы по первому зову прийти на помощь. И все ловят весточки: «Как там? Жив ли? Все ли нормально?» А от сестер и нянечек больные эти едва уловимые весточки принимают. Нет, ни слова никто не говорит — это категорически запрещено в клинике, — но по жестам, по движению, по виду выходящих из операционного блока, по глазам их все всё понимают.
Хотя операционные и отделены от всех палат, все равно они связаны с клиникой. Забегали сестры, повезли аппаратуру, доставили кровь в ампулах — всё заметят, всё углядят. И уже шорох по палатам: «Видно, плохо. Затягивается дело. Бригаду для оживления вызвали».
Вера Михайловна дивилась первые дни: «Ну откуда они знают? Как догадываются?» А потом и сама кое-что замечать стала.
Санитарок было три на отделении и две операционных. Операционные работали особо, у них свой график, а отделенческие «скользили», то есть менялись дежурствами по времени. Сегодня Нюша днем, а Ниловна ночью, а Вера с утра заступает. А завтра Нюша ночью, Ниловна с утра, Вера днем. Вот таким ходом.
И еще одно открытие прямо-таки ошеломило Веру Михайловну. Кто самый главный в клинике? Вадим Николаевич Крылов — это само собой, а кто дальше? Кто следующий? Оказывается, они — нянечки, санитарки.
Оказывается, они не меньше всех других, не меньше даже самого профессора значат.
— Ну, не может этого быть, — не соглашалась Вера Михайловна. — Он же величина. Специалист с мировым именем. Волшебник.
— А вот и может, — возразила бойкая Нюшка. — Без нас он, ёксель-моксель, ни хрена не стоит.
Нюшка любила крепкие выражения и не стеснялась ни мужчин, ни женщин. Она косила на левый глаз, так что поначалу Вере Михайловне казалось, что Нюшка одновременно смотрит и на нее и на кого-то еще, кто стоит сзади. Вера Михайловна даже оборачивалась — нет ли кого?
— Ты возьми себе в голову, — объясняла Нюшка. — Больному-то уход нужен. Без уходу он так занавозится — ни на одну операцию не возьмут. А после операции — особый уход… Усекла? Так что держи хвост морковкой. Врачей-то вон, навалом, а нас?.. То-то!
А потом у Веры Михайловны с этой Нюшкой начался конфликт.
— Поди-ка сюда, — как-то позвала она и завела Веру Михайловну в «черную процедурную». — Ты вот что.
Ты чего явилась? Заработать? Ну так работай, как и мы. А то, ёксель-моксель, выпендриваешься. Из-за тебя и на нас, гляжу, коситься стали.
— Я вовсе не хочу вам неприятностей, — пыталась объяснить Вера Михайловна, — Я просто не могу иначе.
— Моги, — приказала Нюшка.
Вера Михайловна молча кивнула. Она была скована.
В клинике она оказалась в каком-то двойственном положении. Никто, во всяком случае санитарки, не знали, кто она и почему согласилась работать нянечкой. Ничего, разумеется, секретного в том, что она при ребенке и из-за него, из-за того, что он пролежит здесь долго, стала работать санитаркой, не было. Двойственность положения объяснялась другим, тем, что она учительница и скрывает это. Нет, она не стеснялась никакой грязной работы, но ей казалось, что если узнают, кто она на самом деле, к ней станут относиться по-другому и это нарушит естественные отношения с товарищами.
— Я вам хочу напомнить, — еще раз попросила она старшую сестру, уже после разговора с Нюшкой, — о нашем уговоре.
Старшая сестра, Таисия Васильевна, пошевелила тонкими губами, склонила голову, то есть подтвердила: все остается в силе.
— Ну вот, какого… ёксель-моксель, — снова набросилась на Веру Михайловну Нюшка. — Тебе шоколад всучают, а ты рожу воротишь…
Вера Михайловна была женщиной не робкого десятка, еще в детском доме научилась и себя и других защищать. Но тут отступала, безропотно принимала словесные удары.
Вторая санитарка, Ниловна, в отличие от Нюшки была тихой и доброй старушкой. Она ходила, чуть приволакивая левую ногу, старалась, но не все успевала сделать, и не все у нее получалось как надо. На нее бы, наверное, обижались и сердились, но она всегда улыбалась и никогда не возражала. Любые замечания выслушивала молча, с покаянным видом. Вере Михайловне было жаль ее, и она частенько доделывала то, что не успевала сделать Ниловна.
Нюшка и это заметила.
— Чего ты за ее елозишь? Ты бы, ёксель-моксель, больше около своего дитя была.
Однажды Нюшка умилилась и даже прониклась к Вере Михайловне некоторым уважением. Пришла она вечером, заглянула в детскую палату, а там необычная тишина. Вера Михайловна сказку читает. Тосковала она по учительской работе, по детишкам. Вот и решила хоть чем-то заняться таким, что напоминало бы ее любимое дело.
— Ну, ты… ёксель-моксель — только и сказала Нюшка, когда Вера Михайловна, пожелав ребятишкам спокойной ночи, вышла в коридор.
А в следующий раз Нюшка расплакалась. Вере Михайловне тяжелый больной из одиннадцатой палаты флакончик духов в кармашек сунул и яблоко преподнес.
Вера Михайловна, смущаясь, поблагодарила, обернулась — Нюшка смотрит через полуоткрытую дверь.
Вера Михайловна, не раздумывая, увлекла ее на лестничную площадку и передала этот подарок — духи и яблоко. И тут Нюшка заплакала.
— Думаешь, что… Думаешь, от хорошего со всем этим говном возишься? У меня их двое, и вот… — Она, не стесняясь, задрала подол — и показала ноги, перетянутые, как жгутами, надувшимися темно-синими венами.
В общем, отношения наладились. Вскоре Веру Михайловну все полюбили на отделении…
Лишь с одним человеком у нее никак не налаживались отношения. Об этом знали только она и он, но все равно Вере Михайловне было неприятно. Этим человеком был Алексей Тимофеевич Прахов, второй профессор, правая рука Крылова. То есть ничего особенного между ним и Верой Михайловной не происходило, никаких стычек, никаких конфликтов, со стороны никакой натянутости никто и не замечал. Они здоровались, говорили, что надо по делу. Но она-то знала, что что-то не так. Ведь Вера Михайловна жила у него в доме почти месяц, он устраивал Сережу в клинику, к нему первому в этом городе она обратилась за помощью, и он оказал ее.
«Может быть, я его в чем-нибудь подвела? — думала Вера Михайловна, стараясь разгадать причину таких отношений. — Или, может, он не рад, что я тогда объявила о нашем знакомстве? О его участии в нашей судьбе? Так все равно выяснилось бы… Документы есть…»
Она даже собиралась подойти и напрямик поговорить с Алексеем Тимофеевичем. Однажды сделала попытку, выждала его в коридоре, поздоровалась, спросила, как поживает Виолетта Станиславовна.
— Нормально, — бросил он и прошел не задерживаясь.
Вера Михайловна прикусила губу.
Нюшка и тут как из-под земли вынырнула.
— И не подумай, — зашептала опа. — Кобелище. Из глазной сестричку сбил с толку. Он все за молоденькими, ёксель-моксель.
Зато с лечащим врачом Сереженьки, Аркадием Павловичем Чеботариным, Вере Михайловне повезло. Вначале он казался ей слишком строгим и серьезным. Ходит быстро, будто всегда торопится, слушает с лицом каменным, только бровями поводит. И говорит негромко, ровно и не очень внятно, точно ему шестьдесят, а не тридцать. Но потом, приглядевшись, она поняла, что не один Аркадий Павлович, а все в этой клинике ведут себя так — строго и серьезно. Здесь не улыбаются понапрасну, как у Горбачевского. Здесь унылости нет, но и показной приветливости тоже нет. А сам Аркадий Павлович, оказывается, разный. С детьми он преображается, становится другим человеком: шутит, смеется, ребятишек смешит.
Приходит на обход, спрашивает, как кто спал, что во сне видел.
— А я тебя, Миша, видел. Будто бы ты па жирафе ехал, на самой голове сидел и за уши держался.
Сердцем учителя Вера Михайловна почувствовала: Аркадий Павлович любит детей. И это сблизило их душевно. Вскоре Аркадий Павлович узнал, что она читает детям сказки, а чуть позже — и о ее настоящей профессии. Это еще больше укрепило их добрые отношения.
Аркадий Павлович не посвящал Веру Михайловну в тонкости и подробности анализов и обследований, как это делала Нина Семеновна, только говорил:
— Картина проясняется. Еще необходима маленькая операция: давление в самом сердце измерить.
— Так там же мерили.
— Во-первых, прошло время, а во-вторых, у нас свой подход и своя оценка результатов. Операцию-то нам делать.
Слово «операция» оживляло Веру Михайловну, но не настолько, чтобы вернуть ту веру, что переполняла ее тогда, в той клинике. Сейчас она даже не была уверена, действительно ли состоится операция. Но ее и не пытались убедить в этом. Тут просто работали. Сереже делали то же, что и другим детям с этой болезнью.
Вера Михайловна как бы вжилась в жизнь клиники, увидела ее изнутри, и этот взгляд изнутри помогал ей и придавал силы. Особенно на нее подействовал один случай, свидетелем которого она оказалась.
Дети есть дети. И даже тяжко больные, они иногда шалят. Сосед Сережи Ванечка, худенький, как цыпленок, как-то заигрался, забылся, закричал, запищал, замахал руками, и в самом деле изображая цыпленка, и вдруг повалился на пол. Ребята замолкли. Это гробовое, внезапно наступившее молчание и привлекло внимание Веры Михайловны — она пол как раз напротив палаты в коридоре подтирала. Вбежала она в палату, подхватила Ванечку и в ординаторскую. Там доктор Перевозчикова сидела. Она спокойно сделала мальчику укол, спокойно уложила его на топчан, укрыла байковым халатом.
— Обычный случай при тетраде, — сказала она. — С вашим такого не случалось? Сознания никогда не терял?
— Не случалось, — шепотом ответила Вера Михайловна.
Ошеломленная этим происшествием, она в тот же вечер поехала на главпочтамт, обо всем написала Никите.
«Вот и такие дети лежат. Их держат, на что-то надеются». Она хотела приписать ободряющие слова, но удержалась, не написала, чтоб не сглазить.
Дома ее ожидала Зинаида Ильинична Зацепина. Старики тоже обрадовались ее приходу.
— Да что же это ты? Уже трое суток не появлялась, — засуетилась Марья Михайловна и без лишних приглашений стала накрывать на стол.
— Заработалась, не до нас ей, — только и сказал Федор Кузьмич.
Он в какой-то мере был прав. Сейчас клиника для Веры Михайловны была всем. Там находился ее Сережа. Там была ее работа. Там решалась ее судьба. И она — именно там, среди больных, ждущих ее помощи людей, чувствовала себя лучше.
Помимо ощущения своей полезности и необходимости было еще и другое, что облегчало ее существование. Живя по чужим квартирам, напряженно ожидая результатов обследования, решения врачей о судьбе сына, она была одна со своим горем, со своими мыслями, она видела необычность, исключительность, тяжесть одного, своего случая. Сейчас она знала, что есть и другие дети с той же болезнью, еще более тяжкой, чем у ее Сережи, — с черными ноготками, те, что даже сознание теряют. Но их держат, значит, на что-то надеются… Эти наблюдения и ее общение с другими больными детишками, это сознание, что их положили не зря, а с надеждой, хотя они выглядят и хуже ее сына, это спокойствие, с каким относятся к ним в клинике, — все вместе действовало на Веру Михайловну утешающим образом.
За чаем, конечно, ее осторожно спрашивали о работе, о сыне, о дальнейшем.
— Да все идет ладно, — отвечала Вера Михайловна. — Выглядит ничего. Лучше некоторых, — добавила она, опять вспомнив Ванечку и то, как он потерял сознание.
— Да, может, и пройдет, — поспешила поддержать Марья Михайловна.
— Операция… — вздохнула Зинаида Ильинична.
— Ну и что? — как бы одернул ее Федор Кузьмич, который до сих пор гордился своей ролью в этом деле. — За тем и приехали. А насчет хирурга у народа мнение имеется. А народ…
— Ну ладно. Кто его знает… Будут ли еще оперировать, — поспешила прекратить разговор Вера Михайловна.
Помолчали, попробовали свежего варенья.
— А я у Зацепиной побывала, — сообщила Зинаида Ильинична. — Надей зовут. Еще молодая.
— Опять однофамилица? — спросила Вера Михайловна.
— Выходит, что так. Но женщина, видать, хорошая.
Приглашала. Может, съездим?
— Потом, — пообещала Вера Михайловна.
И все согласились с нею, понимая, что на уме у нее судьба сына и предстоящая операция.
Потянулись привычные дни: работа-ожидание, ожидание-работа. Все для Веры Михайловны сосредоточилось на одном — как решится судьба ее сына. Состоится ли операция? Когда? Но и судьбы других людей, особенно детишек, стали ей небезразличны. Она переживала за каждого человека. Вот тот тяжелый, что ей духи подарил, Копылов, все еще плох. Она около него часто бывает. Просто посидит молча, улыбнется. Видит, ему это приятно. И ей приятно.
Особенно же она волновалась за Ванечку. Ему предстояла операция, точно такая же, как Сереже, если, конечно, ее станут делать. Но Ванечка хуже выглядит, а все-таки собираются. Вера Михайловна от Аркадия Павловича слышала: готовятся. А готовятся тут долго, тщательно. Теперь она своими глазами видела, какое это непростое дело — подготовка к операции. Надо и анализы собрать, и точно выяснить все, и врачам подготовиться, и больного настроить…
Каждое утро по дороге на работу, покачиваясь в троллейбусе, Вера Михайловна думала: «Ну, что сегодняшний день даст? Как с Ванечкой? Может, на этой неделе?»
И про себя загадывала: «Если ему сделают, то Сереженьке-то уж не откажут».
Сегодня у нее дневное дежурство. С утра Вера Михайловна заехала на главпочтамт. От Никиты странное письмо. Прочитала — не поняла: «Какой-то Нефедов пишет. Живет под Ленинградом, в Вырице. Вроде по объявлению в газете». Вера* Михайловна и забыла о том, что она под горячую руку в газету писала. Теперь наконец вспомнила. Еще раз перечитала письмо: «…Нефедов… сообщает, что у него была сестра Маргарита, по мужу Зацепина…»
— Да что же это такое? — прошептала Вера Михайловна и поглядела по сторонам. — Неужели мамин брат?..
Она еще раз перечитала письмо, чтобы узнать адрес этого Нефедова. Но, кроме. Вырицы, других координат не было.
Вера Михайловна схватилась за бумагу: «Во-первых, пусть напишет на мою ленинградскую квартиру. Во-вторых, сообщи его адрес».
На работу Вера Михайловна приехала взволнованная. Старшая сестра еще сильнее взволновала:
— Зайдите прямо сейчас же к Вадиму Николаевичу.
— Хорошо, что пришли, — сказал профессор, едва Вера Михайловна переступила порог его кабинета. Он даже не ответил на ее «здравствуйте». — Садитесь сейчас в мою машину и поезжайте к профессору Жарковскому, гинекологу. Вот Ольга Леонидовна знает, куда ехать, и вам поможет.
Вера Михайловна закусила губу. Заметив ее крайнюю растерянность, Крылов, опять-таки на ходу, провожая ее к двери, объяснил:
— Видите ли, я вчера как раз с ним встречался. Ну, и говорил о вас, о вашей судьбе, обо всех деталях. Это наш корифей по акушерству и гинекологии. Так что — тьфу, тьфу, тьфу!
Только в машине Вера Михайловна пришла в себя, собралась с мыслями и поняла, в чем дело. Разговор с Крыловым был давний, ещё в день поступления Сережи. Он ее обо всем расспрашивал, в том числе и о детях.
Почему один? Она без желания отвечала, не придавая значения разговору. А он, оказывается, помнил.
«Теперь уж что? Не выпрыгивать же из машины?!» — подумала она, в душе довольная, более того, умиленная заботой Крылова.
У профессора Жарковского тоже была своя приемная, где сидели люди, свой кабинет, куда прямо с ходу и вошла Ольга Леонидовна. А через минуту пригласили Веру Михайловну.
Жарковский ее удивил моложавостью, веселыми искорками в глазах, стройной, спортивной фигурой. Ей даже на мгновение стало неловко от мысли, что она должна будет раздеваться и показываться этому человеку. Но она уже приучена была к подобным осмотрам, да и Жарковский сразу же так поставил разговор, что та капелька стыда, что появилась было у Веры Михайловны, мгновенно исчезла.
Профессор тщательно и долго расспрашивал Веру Михайловну и еще дольше и внимательнее смотрел ее, а потом вышел к столу, где все это время сидела Ольга Леонидовна, и заговорил с нею, перемежая речь латинскими, непонятными Вере Михайловне словами.
Пока она одевалась, слышала весь этот разговор. Из него поняла: в общем, надежда есть, необходимы стимуляторы и курс лечения, и еще что-то, и еще. Обо всем этом Жарковский говорил с Ольгой Леонидовной, а не с Верой Михайловной, и она в какой-то момент вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, о здоровье которой говорят со взрослыми, и удивилась этому чувству и своему странному положению опекаемой. Но восстать против этого не могла. Обстоятельства не позволяли. Уже с самого начала она волей-неволей была поставлена в непривычное ей положение опекаемого человека.
— Что ж, попытаемся вам помочь, — произнес Жарковский, когда она вышла из-за ширмочки и подсела к столу. — Вам нужно будет сделать кое-какие анализы, — он подал ей направление. — Вот это лекарство, — он подал рецепт, — но его, вероятно, нет в аптеках. В следующий раз загляните ко мне. Я попытаюсь достать его.
И два раза в неделю, пожалуйста, на процедуры.
— Благодарим, — сказала за Веру Михайловну Ольга Леонидовна. Она выполняла поручение Крылова, и на нее нельзя было обижаться.
— Спасибо, — только и осталось сказать Вере Михайловне.
С этого дня дважды в неделю она на машине Крылова ездила в клинику Жарковского. Ездила одна, уже без сопровождающих.
Глава четвертая
Сережа благополучно перенес маленькую диагностическую операцию. Через два дня после нее он огорошил мать вопросом:
— А когда будет большая, настоящая?
Она поразилась, но ответила спокойно:
— Придет время.
Многое в клинике стало для нее открытием. А больше всего — необычное отношение к счастью. К этому слову, к этому понятию. Здесь оно представлялось совсем по-иному, чем за стенами этого дома, у здоровых людей. Здесь счастьем считали то, что тебя положили в клинику, то, что тебя посмотрел сам профессор, то, что тебя начали готовить к операции, и особенно то, что назначили на операцию. Укол — счастье, боль — счастье, и даже операция, грозящая смертью, — счастье. Когда об этом говорили взрослые люди, когда они оживлялись перед операцией и в глазах у них появлялись огоньки надежды, это Вера Михайловна еще могла понять и принять. Люди намучились, настрадались, они готовы на все, только бы избавиться от мучений. Но чтобы дети, эти пяти-, шестилетние крохи… Чтобы они просились на уколы, на боль, на страдания, чтобы они мечтали об операции — этого она уже не могла понять. Точнее, понять могла, но принять, примириться — нет… Чтобы ее Сереженька мечтал об операции… Чтобы он…
— Придет время, — повторила она и, закусив губу, погладила сына по голове и вышла из палаты.
Появился Аркадий Павлович. Дети загалдели, потянулись к нему с вопросами:
— А мне уколы еще будут? А сколько?
— А когда меня повезут??
— А вы сказали, что через педелю.
Вера Михайловна слушала этот шум, эти дикие в других условиях слова, а из головы не выходил вопрос Сережи: «А когда большая будет; настоящая?»
«Значит, и он исстрадался? Значит, и он мечтает избавиться от своей болезни? И он готов на все, лишь бы быть здоровым?» Она спрашивала себя, потому что Сережа вроде бы не проявлял беспокойства, был терпелив и сговорчив. А на самом деле…
Больных размещали продуманно, а не просто как попало, не просто где освободится койка. И особенно продуманно раскладывали по палатам детишек. В общем-то, детских палат — более маленьких и уютных — было три.
Но детишки лежали и во взрослых палатах, и в мужских, и в женских.
Мудрость размещения — это была идея заведующего клиникой, и состояла она в следующем. Больных всячески перемешивали и по диагнозу, и по состоянию, и по характеру. Таким образом, получалось, что в одной палате находились, те, кто еще ожидал операции, и те, кто уже перенес ее, люди, впервые попавшие в больничные условия, и ветераны, проведшие здесь чуть ли не треть жизни, те, кто боялся даже пустячного укола в палец при взятии анализа крови, и те, кто прошел через такое, что и не верилось, что человек может через такое пройти.
Особенно сложно было узнать и уловить при приеме характер. Крылов частенько повторял на пятиминутках:
«Будьте немного психологами, хотя вы и хирурги».
«Уловить характер», как тут говорили, дело не простое.
Для этого у хирурга нет ни времени, ни возможности.
Поступает человек — его класть надо. А вдруг он окажется занудой, капризулей, неуживчивым типом? Тут никакие характеристики со службы не помогут, потому что здоровый человек на работе — это одно, а больной, находящийся в больнице, — совсем другое. «Это, видите ли, две большие разницы», — шутил Крылов на пятиминутках.
Тем не менее опыт, приобретенный с годами, научил хирургов довольно успешно создавать «здоровые коллективы», хотя, конечно, это звучало каламбуром в стенах клиники.
Вера Михайловна видела результат всей этой незаметной, но необходимой работы по психологической подготовке людей. Сказалась она и на ее Сереже.
Она стала приглядываться и замечать, что и другие ребятишки тоже не боятся предстоящей операции, а ждут се и жадно впитывают каждое слово тех, кто перенес ее.
— А засыпание делают еще до операции, — однажды среди разговора сообщил ей Сережа. — Нам Митя рассказывал.
— А правда, что сердце из груди вынимают? — спросил он ее в следующий раз.
Веру Михайловну поражали не сами вопросы, а тон, каким они были заданы, совершенно спокойный, ровный, без тени испуга.
Им, этим крохам, предстояло испытать страдания, быть может, умереть и вновь воскреснуть. А они не боялись этого. Они жили ожиданием. Оказывается, к предстоящим страданиям тоже надо готовить!
Раньше Вера Михайловна что-то слышала об этом.
Сейчас видела, сопереживала. И она-то как раз и волновалась и страдала, хотя не ей, а ему предстояла страшная операция.
И еще раз он спросил ее:
— Ну, мам, когда?
— Есть же, кто раньше тебя поступил… Вот Ванечка, например.
Сережа скосил на нее свои большие взрослые глаза и кивнул: понял.
Выступление Крылова на совещании состоялось. Говорил он, как всегда, негромко, без остроумия и ораторского блеска, но мысль его была новой и необычной.
И люди, привыкшие к его неброским докладам, уловили его мысль и внимали ей. Выступление звучало доказательно и произвело впечатление. Это было видно не только по тому, что ему в конце аплодировали, — но и по той тишине, что стояла в аудитории, а главное, по выражению лиц его вечных оппонентов. Например, Горбачевского. Последний сидел в президиуме, рядом с трибуной, но старался не смотреть на Крылова и ничем не выдать своего неудовольствия. И вот это-то стремление сдержать свои эмоции уловил Крылов.
В перерыве к нему подходили малознакомые и совсем незнакомые люди, благодарили, жали руку. Главный врач доцент Рязанов, отыскав его в толпе, шепнул:
«Кажется, прошло. Проглотили».
А потом как-то так повернули совещание, что предложение Крылова судить о работе клиник и больниц не только по обычным, общепринятым показателям, но и по тому, сколько вылечили так называемых безнадежных и скольким тяжелым не отказали, это предложение, встреченное вроде бы одобрительно, как-то незаметно оттеснили, будто бы и забыли о нем. И лишь в конце, заключая, шеф, крупный деятель из Москвы, вспомнил о словах Крылова и сказал: «А вы знаете, над этим следует подумать. Конечно, не с кондачка, но… подумать следует».
На следующий день Крылову позвонил доцент Рязанов.
— Ехать надо, — сказал Рязанов. — Шеф приглашает. Смотри… не очень…
— Слушаю, товарищ начальник, — иронически-шутливо ответил Крылов и бросил трубку.
Дел в клинике было много. Ехать ему не хотелось.
«А может, насчет аппаратуры удастся?!» — блеснула мысль.
— Леночка! — крикнул он секретарше. — Дайте-ка всю документацию по аппаратуре.
Шеф и издали-то казался человеком громоздким, а вблизи он и совсем напоминал слона. Крылов почувствовал себя перед ним лилипутом.
Шеф медленно вылез из-за стола и подал руку. Крылов посмотрел на его крупное лицо с мясистым носом, в его серые с умными огоньками глаза и подумал: «А он добряк».
— Так вот. Захотелось пообщаться тет-на-тет, как говаривал мой старшина, — без предварительных экивоков начал шеф. — Есть мысль в вашем предложении.
Есть, — подтвердил он и насупился, что совсем не шло ему и никак не вязалось со всем его добродушным видом. — Но дать «добро» на это не можем.
Он замолчал, видимо чувствуя неловкость от отказа.
А Крылов снова подумал: добряк. Но в душе его уже возникло и нарастало сопротивление. Чтобы сдержать себя, Крылов отвернулся к окну. Там шла своя жизнь.
Район капитально ремонтировали, строили, красили, перекрывали крыши. Под лучами редкого солнца все это выглядело радостно и весело.
— Для чего все это? — неожиданно даже для себя спросил Крылов. Будто губы помимо его воли произнесли этот вопрос. Но он показался дельным, и Крылов повторил его: — Для чего строим, улучшаем, возводим новые дома, города? Для чего все эти наши планы, все цифры? — Он вспомнил наказ Рязанова «не очень», но не мог остановиться. — Для чего научно-техническая революция, разгадка атома, его открытие?
Его все-таки прорвало.
— Ну, еще что? — добродушно улыбнулся шеф.
— Для чего? — Крылов уловил, что его настойчивость выглядела мальчишеством, и быстро ответил: — Для человека… Вроде бы… Все для него. А о нем?
О самом? О его счастье, которое начинается со здоровья…
Он замолчал, потому что понял: все это реакция на отказ, и не более…
Наступила пауза.
— А вы спортом не занимались? — спросил шеф. Это прозвучало неожиданно, так же, очевидно, как вопрос Крылова «для чего все это?».
Но это был вопрос, лично обращенный к Крылову, и на него надо было отвечать.
— В студенческие годы, — сказал Крылов, — легкой атлетикой. На сто метров бегал.
— А я — тяжелой, — продолжал шеф. — А к соревнованиям-то готовиться нужно. В форме быть. А если команда? А если целый, вид спорта? Вон санный спорт у нас совсем не развит, хотя странно это, потому что страна у нас снежная. — Он уложил свои большие руки на стол, словно желая подчеркнуть этим жестом самые мирные цели своего разговора. — Я вот к чему. Не готовы мы к тому, что вы предлагаете. Я говорю о хирургах.
Хирурги, наверное, у нас нашлись бы… Мы не готовы технически. Наука наша еще не готова.
— Ну да! — подхватил Крылов. — Если бы тратили на то, чтобы оживить человека, чтобы сделать его здоровым, столько, сколько тратят на то, чтобы убить его…
— Но мы вынуждены, — прервал шеф строго.
— Я в общечеловеческом масштабе, — поправился Крылов, — тут мы, врачи, должны сказать свое слово.
— Пытаемся, — поддержал шеф, — и кое-чего достигли.
— Конечно, — произнес Крылов извиняющимся тоном и замолчал.
Весь разговор, по крайней мере с его стороны, выглядел несолидно. А о том, что наболело, о главном — ни слова. И вот сейчас, понимая, что он прав, ему опять отказывают в поддержке.
— Вы телевизор смотрите? — спросил шеф, будто понимая его неловкость и желая помочь ему.
— Очень редко, — ответил Крылов и еще раз подумал: добряк.
— А я тут как-то специально смотрел. Вы знаете, чему отводится уйма времени? Спорту. В основном — футболу. Двадцать здоровых парней гоняют мячик, а сто тысяч смотрят. Да у телевизоров еще несколько миллионов. Парней называют поименно. А если гол забил — герой. А вот хирурга… Вас, например, показывали по телевидению?
— Как-то было… Интервью брали.
— А ведь вы с того света спасаете. Делаете такое, чего другие не делают, почти никто.
Крылову было неловко слушать этот неожиданный комплимент, и он снова отвернулся к окну.
— И все-таки, — заключил шеф после паузы, — «добро» дать не можем. Пока не можем, — смягчил он. — В настоящее время не только техника, но и хирургия не готова к тем рискованным операциям, что по широте душевной делаете вы. А ведь разреши, так и другие будут делать. Кто из желания поэкспериментировать, кто из зависти, кто из невежества и самонадеянности… И что получится? И так нападанции на вас, — заключил он.
Исказив слово, он и выразил тем самым свое отношение к нему, вернее, к тем, кто нападает. — Нападанции, — повторил он с усмешкой. — Учтите это.
— Да я знаю, — сказал Крылов, в душе до сих пор сожалея и о неудаче в разговоре, и о своем несолидном поведении.
Он взялся за портфель и вспомнил:
— Да… Тут частная просьба.
Крылов вынул документацию по аппаратуре и подал ее шефу. Тот полистал бумаги, произнес, поднимаясь:
— Частную просьбу поддержим.
Он опять неуклюже вылез из-за стола, протянул руку:
— Ну что ж… Неплохо поговорили… на спортивную тему.
— Вот именно, — отозвался Крылов.
Всю дорогу он корил себя, все думал, чего он не сказал и что надо было бы сказать. И лишь поздно вечером, вернувшись к себе домой, вдруг понял, что весь смысл разговора, вся ценность и состояла именно в этой недоговоренности. Они недоговаривали, они говорили не то, но они понимали друг друга.
Веру Михайловну взволновали две новости, которые она услышала от врачей: привезли аппарат «искусственное сердце». Будут оперировать Ванечку. Две эти новости имели для нее особое, глубинное значение, были взаимосвязаны. Она почему-то решила, что именно аппарат и ожидали, именно появление аппарата и повлияло на окончательный приказ: готовить к операции.
И, конечно, еще одно заставило сильнее забиться ее сердце — мысли о собственном сыне. С операцией Ванечки она связывала судьбу своего Сережи. Не зря, не напрасно, она ему говорила: «Вот Ванечка, например». В душе Вера Михайловна так и считала: после Ванечки идет Сережа. Ванечка в ее понимании был как бы предшественником Сережи, разведчиком его судьбы.
«Значит, все-таки… Наверное, состоится», — думала весь этот день Вера Михайловна.
Несколько раз она забегала в третью палату взглянуть не только на Сережу, по и на Ванечку. Ей хотелось разузнать, где этот аппарат, чтобы хоть посмотреть на него, но никто этого не знал, а идти к профессору с таким вопросом было неловко.
— Ну, ёксель-моксель, чего сокатишь-то? — спросила Нюшка, придя на вечернюю смену. — Чего сегодня с тобой?
Вера Михайловна не могла ответить.
— Я, признаюсь, ёксель-моксель, выбуривала на тебя, — пооткровенничала Нюшка. — Чего, мол, ты на профессорском моторе разъезжаешь? А оно — на лечёбу, значит.
Вера Михайловна кивнула.
— Вот что, — проговорила она. — Сережа сказал, что ты его конфетами угощаешь?
— Ну и что, ёксель-моксель!
— Да ничего… Он просто их не очень любит… Не приучен.
— Привыкнет… К сладенькому все быстро привыкают, — хохотнула Нюшка.
С того момента, как была подана команда «готовить к операции», Ванечку как бы высветили среди других больных. Луч всеобщего внимания врачей и сестер был обращен на него. Наверное, и другие больные, подлежащие операции, не были обойдены вниманием, но этого Вера Михайловна не замечала, потому что сосредоточилась на Ванечке. Что бы ему ни делали, кто бы к нему ни приходил, она все замечала и говорила себе: «Вот так же будет и моему Сереженьке. Точно так же. Или похоже на это».
Ванечку тщательно помыли и перевели в особую, предоперационную палату, отделенную от всех остальных стеклянной перегородкой. Вера Михайловна через эту перегородку видела все, что происходит там, а иногда ей удавалось проникать в особый отсек, и она осторожно заглядывала в предоперационную.
«Вот так же и Сереженьке, — вот так же и Сереженьке», — твердила она, замечая и то, что к Ванечке подвозят какие-то аппараты на колесиках, и то, что к нему теперь чаще, чем раньше, приходят процедурные сестры, и то, что к нему уже дважды за четыре дня заходил профессор Крылов.
Аркадий Павлович теперь тоже к нему заглядывал по нескольку раз, но кроме него появлялись и другие врачи, знакомые и не знакомые Вере Михайловне. Так что теперь Ванечка был не только больным своего лечащего врача, но и как бы всеобщим больным.
Жизнь клиники шла своим чередом, никак не меняясь и не замедляя ритма, а параллельно ей шла еще отдельная жизнь — жизнь мальчика Ванечки, обособленная и потому покрытая тайной.
Вера Михайловна не могла бы объяснить, что это такое и откуда появилась эта тайна, но всякий раз, подходя к стеклянной перегородке, она замедляла шаги, старалась ступать потише, а если удавалось проникнуть к самой палате, чувствовала, как у нее замирает сердце, точно как в детстве, когда ожидала увидеть страшную картину или то, что видеть не разрешалось.
Вера Михайловна так же, как всегда, прилежно делала свое дело, выполняла обязанности няни, но сейчас у нее появилось и второе дело: наблюдение за приготовлением Ванечки.
«Вот так и Сереженьке… Вот так и ему», — без конца повторяла она. И ежедневно писала Никите обо всем, что удалось увидеть и почувствовать.
Накануне операции к Ванечке в последний раз впустили родителей. Больше никого не пускали. Теперь только два человека находились подле него специальная сестра и лечащий врач. Ванечку еще раз тщательно помыли, а сестра и врач после этого надели поверх своих халатов другие, стерильные, коричневатого цвета.
В день операции Вера Михайловна приехала в клинику рано, с первым троллейбусом. — Всю ночь ей не давал покоя сон. Будто бы они с Сережей стоят перед стеклянной перегородкой, а за нею никого нет. Пусто и тихо. Но они знают, что там Ванечка. И как только его вывезут, идти Сереже. Но Ванечку всё не везут. А они всё ждут.
Она просыпалась, вставала, пила воду, но, едва ложилась, снова ей снился все тот же сон: они с Сережей стоят перед стеклянной перегородкой. И ждут появления Ванечки.
Тогда она собралась и поехала на работу.
На отделении еще было по-ночному полусумрачно.
Синие сигнальные лампочки горели в палатах. Сестры — сидели у своих столиков, разбирая назначения и готовя склянки для утренних. анализов. Но там, за стеклянной перегородкой, уже возникло движение. Кто-то прошел в предоперационную палату. А там, дальше, за еще одной перегородкой, где находились операционные, горел свет, ходили люди.
Вера Михайловна, чтобы не сидеть без дела, стала помогать Нюшке, но время от времени она выходила поглядеть, что творится там, где будет совершаться таинство.
Вот появился лечащий врач. Вот понесли кровь в специальных биксах, в ампулах (это она знала и видела раньше). А вот покатили аппарат «искусственное сердце», который ей так и не удалось посмотреть вблизи. Но она догадывалась, что это он, потому что вокруг него были люди, они как бы охраняли его от возможных ударов, осторожно придерживали с боков. Аппарат мягко катился на колесиках и был прикрыт белой простыней, точно посторонние взгляды могли сглазить его работу.
К десяти часам отделение опустело. Врачи обошли только тяжелых. Остальной обход был перенесен на конец дня. Наступила необычная тишина и напряжение.
Раньше Вера Михайловна не приглядывалась и потому не замечала ни этой особой тишины, ни этого странного напряжения. Но больше всего на нее подействовали больные, их странное поведение. К этому часу они вдруг стали появляться в коридоре, у дверей палат, на лестничной площадке. Они делали вид, будто вышли случайно, старались чем-то заняться, не привлекать к себе внимания, но не разговаривали и все посматривали на двери, откуда должен был выйти профессор. И это их выдавало.
Наконец профессор появился, сосредоточенный и непривычно строгий. Он, как через строй, стремительно пошел по коридору. Люди смотрели на него, и в глазах их Вера Михайловна читала то, что хотела прочитать:
«Удачи вам», «Пусть все хорошо будет», «Уж вы постарайтесь».
«Вот так же и с Сереженькой… Вот так же», — шептала Вера Михайловна, чувствуя, как у нее замирает сердце и прерывается дыхание.
Операция длилась долго, около пяти часов. В ней так или иначе участвовало тридцать семь человек, не считая нянечек и сестер, временами помогавших делу.
Все это Вера Михайловна узнала позже, потом…
А пока она волновалась…
Первые часы еще ничего. Она понимала, что операция — дело сложное и не быстрое. Ей примерно было известно, сколько она продолжается, если все нормально. Но вот время истекло. Оно уже перевалило за норму.
Оно стало тянуться медленнее, чем обычно. Вера Михайловна через каждые десять — пятнадцать минут находила повод, чтобы появиться у стеклянной перегородки.
Там было по-прежнему тихо. Лишь изредка раздавался не то лязг, не то звон, не то шуршащее поскрипывание.
И так как на отделении было тихо, эти далекие звуки были слышны и подтверждали, что там, за стеклами, идет тяжелая работа. Они, эти звуки, прибавляли неясности и напряжения. И больные, что стояли в коридоре, тоже прибавляли. Их молчание, их терпеливое ожидание усиливали напряжение.
С каждым новым появлением у перегородки Вера Михайловна беспокоилась все больше. А когда там, в конце коридора, замелькали люди и сестра с озабоченным видом пронесла новые биксы с кровью, Вера Михайловна поняла, что там что-то не так. Что-то там неладно.
И тут она подумала о Сереже. Бросилась в его палату. И здесь, в третьей палате, все сегодня было не так, как обычно. Дети играли, разговаривали, но одновременно будто прислушивались к чему-то. Когда Вера Михайловна появилась, детишки тотчас бросили свои занятия и повернули головы в ее сторону.
— Ну, как дела, ребята? — спросила она, следя за тем, чтобы голос звучал бодро и твердо. Профессия учительницы научила ее слушать себя и управлять своим голосом.
Сережа ничего не ответил, глянул на нее по-взрослому и продолжал рассматривать новую книжку с картинками. Лишь когда она поднялась, он спросил:
— Ванечке еще не кончили?
— Это же не быстро, — успокоила она и поспешила заняться делом.
Но что бы она ни делала, ее опять тянуло к перегородке.
Наступил момент, когда она перестала думать о собственном сыне, а стала думать только о чужом ребенке, об этом Ванечке.
«Ну пусть все обойдется. Пусть, пусть», — в душе молила она.
— Электричество применяют, — послышался шепот за ее спиной.
— Значит, не билось. Электрошок называется.
«Ну пусть, пусть, пусть, — твердила Вера Михайловна. — Такой хороший мальчик. Такой послушный Ванечка, так он цыпленка напоминает…»
И тут она увидела странное явление: там вдали, за стеклянными перегородками, что-то блеснуло, вспыхнуло, как электросварка, и исчезло. Это длилось секунду, может быть, две.
«Наверное, показалось», — решила Вера Михайловна, но за спиной снова послышался шепот:
— Второй удар. Видел?
— А сколько можно?
— Значит, можно, раз делают.
«Ну пусть, пусть, пусть», — продолжала свои заклинания Вера Михайловна.
Время двигалось медленно, будто останавливалось.
Там тишина. И здесь тишина. Там, чувствуется, что-то делают, вероятно, спешат. А здесь только ждут, и это мучительно. Но все готовы помочь, если потребуется, тем, кто в операционной. Вера Михайловна заметила эту готовность еще раньше. Вскоре после начала операции она услышала, как одна сестра спросила у второй:
— У тебя какая группа?
— Вторая.
— А у меня нолевая. Если потребуется прямое переливание… Я уже сказала…
Из соседнего отделения прибегала нянечка:
— Там это… Подменить никого не надо? А то у меня есть время…
— Ну хотя бы, хотя бы все обошлось, — шептала Вера Михайловна, не замечая, что шепчет громко, что ее слышат те, кто стоит поблизости.
— Вытянут, — раздалось за ее спиной. — Не зря нашего волшебником прозвали.
Вера Михайловна закусила губу.
Прошла еще целая вечность. И вот за перегородками замелькали тени. Они были отчетливо видны на стекле.
А одна из них отделилась и направилась к выходу.
Вера Михайловна услышала за собой вздох облегчения и легкое шевеление. Это больные вновь выстраивались шеренгой у стены.
Показался Крылов. Он шел медленно, опустив руки и голову. Казалось, силы покинули его и их хватает лишь на то, чтобы вот так медленно, никого не замечая, двигаться по знакомому коридору.
— Спасибо тебе, Вадим Николаевич, — сказал кто-то тихо, но все слышали эти слова.
Все, кроме Крылова, потому что он никак на них не отозвался, продолжая двигаться из последних сил.
Он проходил близко от Веры Михайловны. Она успела разглядеть бледное, резко осунувшееся, постаревшее лицо, свежую щетину на щеке, худую, как у подростка, шею, понуро опущенные плечи. Но больше всего ей запомнились его спина и ноги — они были какие-то надломленные, в необычном положении. В жизни она такого не видела. Разве что в кино. Словно человек на грани падения, и его засняли в этот миг, а в следующий он упал. Но Крылов не падал. Он брел по коридору, по-прежнему никого не замечая и ничего не видя, вероятно думая лишь об одном: дойти, добрести до своего кабинета.
«Почему ему не помогут? Почему не поддержат?» — всполошилась Вера Михайловна, собираясь броситься к Крылову и поддержать его. И если бы еще кто-то хоть малейшее движение сделал в его сторону, она бы тотчас кинулась к профессору. Но никто не двигался, не шевелился.
«Вероятно, видели такое не раз. Вероятно, он не разрешает, чтобы ему помогали».
Крылов скрылся за дверью, которую открыла перед ним сестра, и все заговорили разом. Но это Вере Михайловне было уже неинтересно. Ее волновало состояние Ванечки.
Ванечку еще долго не вывозили из операционной, но все уже знали: живой. Теперь в коридоре стоял легкий шумок. Больные обсуждали событие.
А там, за перегородками, все еще продолжалось таинство. Вера Михайловна, сдав свое дежурство, не уходила, она хотела узнать что-нибудь определенное. На стекле мелькали тени, но каталку с мальчиком еще не провозили. Наконец она проплыла, но не было лечащего врача, — не у кого было расспросить подробности операции.
Аркадий Павлович появился только вечером. В первое мгновение Вера Михайловна не узнала его. Он так похудел — один нос торчит, как сучок.
— Через час разбудите, пожалуйста, — только и сказал он Вере Михайловне.
Но через час он уже и сам был на ногах и снова отправился туда, где лежал его больной, вернее было бы сказать, его ребенок, потому что переживал он за него, как за родного.
В эту ночь Вера Михайловна не уехала на квартиру, осталась ночевать в клинике. Уже после отбоя она еще раз решила узнать, что там происходит за перегородками, и неожиданно столкнулась с Крыловым.
— А-а, это вы, — произнес он и прошел, не остановившись.
Он успел отдохнуть, походка была снова быстрой и упругой, но перед глазами Веры Михайловны все стояла та картина, когда он брел по коридору после операции, когда ей казалось, что он вот-вот рухнет на пол.
Лишь на третьи сутки ей удалось проникнуть к послеоперационной палате. Дверь была чуть приоткрыта, и Вера Михайловна увидела Ванечку, вернее то, что называлось Ванечкой. На кровати лежало маленькое, худенькое тело, а к нему, словно змеи и пиявки, со всех сторон тянулись многочисленные шланги, шнуры, провода.
«Вот так и Сереженька», — опять подумала Вера Михайловна, и сердце ее вновь сжалось от боли и страха. На секунду таинство, к которому она прикоснулась, будто парализовало ее.
«Так это ж для поддержки. Так надо», — внушала она себе, но страх еще некоторое время не проходил и сковывал ее действия.
А потом, еще через два дня, Вера Михайловна увидела Ванечку. Мальчик открыл глаза. И губы у него — когда-то землистого цвета — стали розоватыми.
В этот же вечер Вера Михайловна поехала на главпочтамт, написала Никите: «Мальчик тот, Ванечка, о котором я тебе писала, открыл глаза. И губки у него порозовели… Теперь, Никитушка, очередь за нашей кровинушкой, за Сереженькой…»
Крылов не узнал человека. Маленького роста, в очках, посетитель учтиво поклонился ему в гардеробе, а он не ответил.
«Вроде знакомый», — подумал Крылов, устыдясь своего невнимания, и вернулся в раздевалку.
Теперь он узнал посетителя. Это — врач, кажется, зовут его Владимир Васильевич, он с периферии.
«Ну как неладно», — осудил себя Крылов и шагнул к человеку в очках:
— Здравствуйте. Я, видите ли, немножко… Дела тут у нас… А пройтись не хотите? Я живу недалеко, квартала три отсюда.
Он отпустил машину и пошел пешком в сопровождении этого малознакомого периферийного доктора.
Падал первый снег и тотчас таял, едва касаясь земли. Но все равно город казался светлее, а воздух чище.
Крылов вдыхал его полной грудью и щурил глаза. Владимир Васильевич молчал, понимая, что профессор устал и ему сейчас не до него.
Надышавшись и придя в себя, Крылов произнес, точно ответил на чей-то вопрос:
— А что делать? Такая у нас работа. Я, видите ли, не меньше администрации за нее страдаю. И здоровье мое она, увы, не укрепляет.
Ему необходимо было выговориться, разрядиться, и Владимир Васильевич опять оказался кстати.
— Всю жизнь помню такой случай, — произнес Крылов. — Каким-то чудом дотянул до нас из Сибири скелет в орденах и медалях. Скелет, иначе не назовешь, — кожа да кости. Да еще абсцесс легкого. Как такого не положить? Я, видите ли, вообще не понимаю, как можно отказывать тяжелым. Это равносильно: иди и умирай. Хорош врач с таким девизом… Одним словом, положили. А раз так — надо оперировать. Ну, конечно, готовили, добились кое-какого улучшения. И вот операция.
Легкое у него так срослось с грудной клеткой и средостением, что никак нельзя было продвинуться в грудь тупым путем. Пытаюсь — не получается. А тут кровотечение. А тут давление падает. Прерываем операцию.
Принимаем меры. Поднимаем давление. Снова приступаем. И опять давление падает. Что делать? Умрет от шока или от кровотечения. Значит, прекращать операцию? Но это тоже смерть. Не здесь, но в палате, не сейчас, но через несколько дней. Обязательно смерть.
А тут… Хоть один шанс из тысячи… Чувствую, что плыву. Промок до нитки. Пот заливает глаза. Позвоночник окостенел. Самому не хватает воздуха…
Крылов замолчал и вздохнул полной грудью, словно воспоминания лишили его кислорода.
— Такая у нас, видите ли, профессия, — произнес он после длинной паузы. — Все повторяется, и с годами не легче. Вот третьего дня оперировали мальчонку с тетрадой Фалло. Раскрыли грудную клетку, а у него — шок. Вывели из шока, а у него сердце остановилось. И раз, и два. В результате наложили соустье между аортой и легочной, а это треть дела. По существу, болезнь осталась. Вот так-то, видите ли…
Он замолк, то ли устыдившись своей откровенности, то ли побоявшись оттолкнуть молодого врача.
Владимир Васильевич не посмел просить продолжать рассказ. Стоял и ждал. Крылов закинул голову, прикрыл глаза и подставил лицо снегу. И тут Владимир Васильевич увидал, как он устал, как изменилось с момента их последней встречи его лицо — желтое, все в морщинках, как в царапинах. И в уголках губ, и на лбу напряженные складки. Владимир Васильевич еще никогда не видел хирурга после операции вот так, вблизи, и то, что он впервые заметил, изумило его.
«А два дня, говорит, прошло».
Крылов, вероятно, почувствовал его взгляд, быстро опустил голову и проговорил слова, вроде бы не относящиеся к теме разговора:
— Природа непосредственна, мы — посредственны, — и протянул руку. — Вы пожалуйте-ка на операцию. Посмотрите.
Владимир Васильевич поблагодарил, и они расстались.
Крылов пришел домой, пообедал на скорую руку и, сославшись на занятость, уединился в своем кабинете.
Он взял книгу, пододвинул телефон и, не раздеваясь, прилег на тахту. Читать он не мог. Мысли, похожие на боль, не давали покоя. Опять вспомнился этот «синенький мальчик», эта последняя операция во всех деталях.
Как только вскрыли грудную клетку, он обнаружил множество спаек между легкими и грудной стенкой. Он отлично понимал, что эти спайки необходимы ребенку.
В них — коллатерали, сосуды, что хоть частично дополняют недостаточную подачу крови в легкие. Но спайки мешали. Без рассечения их нельзя было подойти к сердцу, к легочной артерии, к аорте. Он, поколебавшись, рассек их, и пошла кровь. Черная, густая, как сливки.
«Вот, вот. Это, — отметил он для себя. — Возможно, это первая наша недоработка. Хотя мы и „разводили“ кровь, но, видимо, недостаточно. Видимо, нужно буквально накануне операции вновь вводить физиологический, белковые, переливать кровь надо!»
При воспоминании об операции у него появилась тяжесть в ногах, заныли предплечья. Попытался перевернуть страницу — пальцы дрожат. «Смотри-ка, еще держится напряжение!» Крылов встал, походил по комнате и снова прилег.
Теперь перед его мысленным взором возник такой эпизод. Они только что с помощью электрошока возбудили сердце, заставили его биться вновь, и он уже решил для себя сделать хотя бы соустье, попробовать хотя бы помочь ребенку, чтобы не зря были все эти страдания. Это само по себе сверхсложно. Отверстие нужно сделать точным — и не большим, и не маленьким. Если отверстие будет крупным, то крови из аорты в легкие будет поступать много. Там разовьется высокое давление, что приведет к склерозу сосудов и неизбежной гибели. А если маленьким — то оно затромбируется или зарастет. И вся операция окажется бесполезной.
Выяснилось, что сосуды у мальчика уже склерозированы. Они рвались и ломались под рукой, точно были сделаны из плохой бумаги или тонкого стекла. И сердце снова остановилось в его руках.
От воспоминаний Крылову опять стало не по себе.
Он встал и заходил по кабинету.
«Наркоз, — отметил он. — У нас еще несовершенный наркоз. На это также следует обратить внимание».
Жалость и нежность к этому мальчишке, который до сих пор находится на грани жизни и смерти, и чувство стыда перед ним овладели Крыловым.
«Но я ж не экспериментировал. Я действительно хотел помочь», — произнес он тихо.
Крылов никогда не шел на малообоснованные эксперименты. Он всегда, еще с молодых лет, идя на сложную и опасную операцию, прежде всего задавал себе вопрос: «А сделал бы я ее своему ребенку, своей матери или отцу?» И если ответ был положительным, он шел, решался на операцию. Иными словами, если он видел: другого выхода для спасения жизни нет — он тщательно готовился, экспериментировал на животных и трупах и брался за спасение.
«И все равно. Все равно», — прошептал он, чувствуя, что ему снова не хватает воздуха.
Крылов подошел к открытой форточке и сделал несколько глубоких вдохов.
Некоторые люди говорят о хирургах; «привыкли», «мясники», «им что». Если бы они понимали, как это непросто — идти на крайний риск, зная, что оперируемый может погибнуть на операционном столе. Если бы они знали, какую ответственность перед родными, перед друзьями оперируемого человека, перед начальством и товарищами, а главное, перед своей совестью взваливает на свои плечи хирург…
Кто-то из великих сказал: «Врач умирает с каждым больным». Что касается хирурга — то это уж точно.
Только никто этого не видит — ни бессонницы, ни бесконечных терзании «почему?», ни вечных душевных колебаний: брать или не брать? И — новый круг. Новые угрызения совести, хотя она, совесть, чаще всего ни в чем не виновата, напротив, чиста, но сознание и своей вины в неудаче не проходит. С годами все это накапливается, и каждая новая катастрофа не уменьшает, а увеличивает степень переживаний.
«Да, да. Кумуляция, — подтвердил сам для себя Крылов, как будто это сейчас было очень важно. — С годами тяжелее переживать ошибки. Лучше их скрываешь, но переживать тяжелее».
Он по привычке погладил кончики пальцев и уловил дрожание их.
«Нет. К черту. Никаких операций, пока все не наладим, не отработаем до последней мелочи».
Отдав себе такой приказ, он подошел к телефону и позвонил в клинику:
— Ну, как там Ванечка?
Когда Ванечка открыл глаза и Вера Михайловна увидела это, у нее будто в душе посветлело. Вновь блеснул забытый лучик надежды, не призрачный, не придуманный, а реальный, наглядный. Вот он, мальчик, который был еще хуже Сережи, — сознание терял, а выжил, смотрит, у него порозовели губы.
«Значит, очередь за Сереженькой. Значит, и его могут вылечить…»
В этот вечер Вера Михайловна рано приехала на квартиру, отоспалась, постирала — свое и Сережино (на случай выписки после операции), посидела со стариками за чаем.
— Тут тебя навещали, — сообщил Федор Кузьмич. — Будто родственник, Нефедов по фамилии.
Вера Михайловна не сразу сообразила, а когда вспомнила о письме Никиты, о человеке из Вырицы по фамилии Нефедов — заволновалась:
— Так что же?! Где же?!
— Да как быть-то? Да разве тебе до этого было? Да вот уже теперь, — успокоила Марья Михайловна.
Вера Михайловна уже успела съездить до Дежурства на последнюю процедуру, повидалась с профессором Жарковским. Он дал на прощанье пакетик-стимулятор и обнадежил:
— Рассчитывайте на успех. Если кто появится — сообщите.
В клинике Вера Михайловна прежде всего заглянула к Ванечке, убедилась, что он жив, смотрит и даже отвечает на вопросы, а затем — к Сереже.
По его озабоченному взгляду поняла: сын ждет ее с нетерпением.
— Мама, ну теперь моя очередь? — спросил он, как только она подсела к нему на кровать.
— Твоя. Должно — твоя.
И тут у нее мелькнула мысль: узнать. Пойти к самому профессору. Но вспомнила о роковом походе к Горбачевскому и забеспокоилась.
«Там все не так было. Все по-другому», — утешала она себя, но беспокойство не проходило. «Нет, надо узнать. Надо выяснить. А что особенного?»
Весь день она выбирала подходящий момент для разговора. И все не получалось. То она занята, то профессора нет, то у него люди. Хотела посоветоваться с лечащим врачом, но Аркадий Павлович тоже не сидел на месте, да и опасно было с ним беседовать. А вдруг скажет: «Это наше дело». Тогда уже не сунешься к Крылову.
На следующий день она снова появлялась в приемной и опять не могла уловить момент. Раза два ее видел профессор, но не обратил внимания. На этот раз он приоткрыл дверь кабинета, окликнул ее. Когда она вошла, усадил напротив себя, спросил строго:
— Чего вы там маячите второй день?
По этому приглашению, по неласковому тону она догадалась, что он понимает, почему она здесь, и не одобряет ее появления. Вера Михайловна тотчас устыдилась своей навязчивости. «Он и сам все знает. Он и сам…»
Она медлила, а Крылов, видимо и не ожидая ответа, сказал:
— Видите ли, вашему сыну необходима операция, которая относится к разряду сверхсложных.
Кивком головы она как бы подтвердила его слова.
— Сверхсложных, — повторил Крылов и, помедлив, заключил: — Мы таких операции не делаем.
— А Ванечке?! — крикнула Вера Михайловна и с недоумением посмотрела в усталое лицо профессора. Ей сделалось неловко за свой крик. Она повторила сдержаннее: — А Ванечке?
— Ванечке… — как бы для себя повторил профессор и замолчал надолго.
Она заметила, как он растирает подушечки пальцев, волнуется.
Крылов встал, прошелся по кабинету, избегая встретиться с нею глазами.
— Не делаем, я сказал, — произнес он решительно.
— Вы же обещали, — проговорила Вера Михайловна, чувствуя, как у нее садится голос и перехватывает дыхание. — Обещали…
Крылов отвел глаза и начал потирать подушечки пальцев.
— Если не сделать, то… вы же знаете, — прошептала она.
Крылов молчал.
Силы покидали Веру Михайловну. Чтобы не расплакаться, не раскиснуть, не упасть в обморок здесь, в кабинете, она сделала над собой невероятное усилие, сдерживая стон, поднялась и устремилась к двери.
Крылов не остановил ее.
Крылов долго сидел за столом, чувствуя душевную боль, и не решался сдвинуться с места, точно движение могло усилить его страдания. Каждый раз, который раз в жизни, вот в такие минуты его охватывало чувство вины. Хотя он не был виноват ни перед матерью, ни перед ее ребенком, он все равно испытывал терзания, отказывая в помощи. Он-то, конечно, понимал, что единственное спасение этого «синего мальчика» — операция.
Но не мог сказать «да», потому что не был уверен в успехе. Какое это мучение отказывать человеку в помощи, зная, что без нее он непременно погибнет. Это все равно, что благословлять на смерть. А он врач, его задача как раз противоположная: спасать от смерти. Спасать!.. Но это пока что выше его сил. Операция Ванечки еще раз доказала бессилие медицины, недостаточную вооруженность ее на сегодняшний день. Но так бывало уже не раз, и он вот после таких же переживаний все-таки брался за сверхсложную операцию и, случалось, спасал человека. Сначала одного из десяти, потом двух, трех, четырех. Но на сей раз плохое стечение обстоятельств. Неудача за неудачей. О нем уже говорят, в него тычут пальцем. Добро бы страдал он, черт с ним!
Но страдает коллектив, клиника, институт.
«Но если бы это был мой мальчик, мой сын?» — спросил он себя и вздохнул прерывисто.
Крылову вдруг вспомнилось, как еще во время финской кампании его здесь же, в Ленинграде, принимали в партию. Председатель комиссии задал вопрос: «Что вы считаете главным для коммуниста?» И он ответил: «Любить человека».
«С этого начал, этим и кончу», — прошептал Крылов и поморщился от непроходящей боли.
Еще в детстве появилось в нем это и осталось на всю жизнь — любовь к людям. Семья у них была такая — чуткая, отзывчивая на горе людское. Кто ни придет — накормят, обогреют. Ссыльный ли человек, или дальний родственник, или совсем незнакомый заезжий — все у них, у Крыловых, приют находили, всем они помогали.
И позже, когда он уже врачом стал, в городе работал, все мама, бывало, с просьбой к нему обращалась: «Ваденька, уж ты помоги человеку».
Он видел и зло, и ненависть, и врагов видел. В период коллективизации в него стреляли кулаки. Но любовь к человеку от этого не исчезла. Чтобы объяснить зло и ненависть, он сам для себя в молодые годы придумал теорию, назвав ее «теорией крайностей». По этой теории выходило: не любят друг друга и вообще людей только богатые или очень бедные, из жадности или от голода.
Позже он узнал о классовой борьбе, о других причинах, заставляющих враждовать и убивать. Позже он узнал фашизм. Пережил блокаду. Но не изменил своего отношения к человеку. Он верил: настанет время, когда его девиз будет девизом всех людей. Любить человека!
Крылов с юности запомнил и при случае повторял слова Максима Горького: «Всё в человеке, всё для человека. Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга. Че-ло-век!»
Этими словами он начинал и заканчивал свои лекции для студентов.
«Ах, если бы…» — произнес Крылов и с горечью подумал, что той прекрасной аппаратуры, что существует у нас в конструкторских бюро, и той, что он видел за границей, у него в клинике еще нет. А без нее невозможно проводить на высоком уровне вот эти злополучные сверхсложные операции. А жизнь не ждет, она подкидывает «синих мальчиков». И от этого не уйти.
«На самолюбии работаем. Собственное сердце подключаем, — подумал он, прерывисто вздыхая, и тотчас ободрил себя: — А в общем, не так плохо. Из десяти Фалло, оперированных в этом году, шестерых все-таки спасли. И если бы…»
Он снова припомнил последние неудачи и покачал головой.
«Н-да-а… Но теперь у нас новый АИК. А подготовку нужно проводить еще более тщательно. И готовить более индивидуально… И наркоз…»
Он закрыл глаза и представил шефа, услышал его слова; «Не готовы мы к тому, что вы предлагаете». Его сменил главный врач, доцент Рязанов: «А надо ли? Всегда ли надо?» Всех перекрыл голос этой мамаши: «Вы же обещали. Если не сделать, то… вы же знаете».
— Леночка! — крикнул Крылов, одновременно нажимая кнопку вызова. Разыщите… ту, что сейчас у меня была.
Вера Михайловна стояла у окна на лестничной площадке, не осмеливаясь войти в отделение. Первым стремлением после того, как она выбежала от профессора, было увидеть Сережу. Но с каждым шагом решимость покидала ее, силы таяли. Она не могла сейчас видеть сына, смотреть в его взрослые глаза, отвечать на его вопросы. Боялась не выдержать. Она стояла, ощущая пустоту внутри, словно из нее выкачали всю кровь.
И слез не было. И слов не было. Одна пустота.
За окном шел снег. По карнизу прогуливались два голубя. На стекле таяли снежинки, образуя мелкие капельки. Вера Михайловна все это видела, но как бы чужими глазами. Ни снег, ни голуби, ни капельки не вызывали в ней никаких чувств. Она вообще была в этот момент словно бы без ощущений. Странное состояние: ты есть и тебя как будто нет. Пустота.
— А я вас разыскиваю, — сказала секретарша. — Вадим Николаевич просит. Ну идемте же.
Она подхватила Веру Михайловну под руку и потянула за собой.
Крылов указал Вере Михайловне на тот же стул, на котором она сидела полчаса назад, поднялся, прошелся по кабинету.
— Видите ли, — произнес он после долгой паузы, — сложность состоит в том, что нужно не просто открыть сердце, а еще и выключить его из кровообращения, еще и остановить его…
Крылов говорил, но Вера Михайловна будто не слышала его, не понимала. Во всех его словах она улавливала лишь одно: «И он не хочет оперировать. И он не соглашается».
— Аппаратура же, — продолжал Крылов, — еще не совсем надежна, иной раз подводит нас. Да и качество ее…
«Не хочет, не хочет, не хочет», — как метроном, отстукивало во всем теле, в каждой клеточке Веры Михайловны. Эта горькая мысль захватила, пронзила ее насквозь. Ей стало трудно дышать. Ловя открытым ртом воздух, плохо соображая, что она делает, Вера Михайловна соскользнула на пол и встала на колени.
— Ну, вот… вот… вот… — шептала она, плохо видя профессора, не замечая, как по ее щекам ручейками стекают слезы.
Крылов в первое мгновение опешил, остановился, потом замахал руками:
— Встаньте, встаньте сейчас же!
Но Вера Михайловна продолжала стоять на коленях, глядя на него умоляющими глазами.
Крылов огляделся, хотел броситься к двери и вдруг тоже опустился на колени.
— Это я должен… перед вами… перед матерью… за нас… за наше неуменье…
Вера Михайловна отшатнулась, прикрыла лицо руками.
— Что вы?.. Что вы?!. Что вы?..
И начала вставать, чтобы его поднять с пола.
Они разошлись, сели на первые попавшиеся стулья и некоторое время не смотрели друг на друга, перебарывая неловкость и одышку волнения.
— Вот что, — первым пришел в себя Крылов. — Ваш муж может приехать?
Вера Михайловна кивнула.
— Тогда пусть приезжает.
Глава пятая
Никита появился быстро, как в сказке. Сегодня Вера Михайловна отправила телеграмму, а через три дня он постучался. Вера Михайловна как раз была дома, готовилась к вечерней смене.
— Да кто же это? Да что же это? Да чего же стучит-то? — всполошилась Марья Михайловна.
— Руки-то заняты, — объяснил Никита, когда ему открыли дверь. — Так я ногой. Уж не обидьтесь.
Он вошел, огромный, высокий, шумный, загородил собою весь проход. Он поставил у входа чемодан, мешок чуть не. с него ростом и схватил в охапку Веру Михайловну. Ей было стыдно хозяев, и она поначалу отбивалась, потом смирилась, затихла, уткнула нос в его небритую щеку, всплакнула.
— От радости, — сказала она, заранее решив не нагонять на него своего настроения, утаить все страдания последних недель.
Старички смотрели на встречу супругов, умиленно улыбаясь.
— Ты хоть познакомься, — проговорила Вера Михайловна, торопливо смахивая слезы со щек.
Никита подал старикам руку, но этого показалось ему недостаточно, и он притиснул их к себе так, что оба крякнули.
— Да что же это за багаж? Да как же с ним доехал? — засуетилась Марья Михайловна.
— А ничего, — ответил Никита. — Самолетом. Доплатил только. Это питание.
— Накупили столько? — поинтересовался Федор Кузьмич.
— Нет. Свое. Выселковское. Люди надавали.
Был он выше всех на две головы, в полушубке, в сапогах, заполнил собой всю квартиру.
— Ну вот что, — скомандовала Вера Михайловна. — Раздевайся. Помойся. И приведи себя в порядок. И потише. Это не за трактором и не в степи.
— Да чайку бы… — предложила Марья Михайловна.
— Потом, потом, — отрезала Вера Михайловна.
Старички переглянулись лукаво и ушли на кухню.
После завтрака Прозоровы ходили по, городу, и Вере Михайловне все не верилось, что рядом Никита. Она все притрагивалась к нему, точно желая убедиться в том, что он на самом деле здесь, шагает по левую от нее руку.
Вера Михайловна рассказывала о Сереже, но старалась не говорить о своих переживаниях со дня их вынужденной разлуки, о мучительных часах, о своем отчаянии, старалась не напугать его, охранить от волнений.
— Ты что? — перебил он. — Что, говорю, частишь и прыгаешь, как сорока по гумну? Ты мне все по порядку.
Они подошли к Неве, по которой все еще шел лед и одинокий кораблик, ловко увертываясь от него, медленно подвигался вниз по течению.
— Я ж тебе писала.
— Один пишем, два в уме, — буркнул Никита. — Думаешь, не чуял, что ты утаиваешь половину? А что вызывала?
— Идем к Медному всаднику. Там скажу.
Она специально оттягивала разговор, выигрывая время на обдумывание… Радость встречи, переживания последних недель, ответственный разговор — все перемешалось у нее в голове, и она не знала, как сказать ему о том очень важном, для чего и просил вызвать мужа профессор Крылов.
Вера Михайловна покосилась на Никиту и пожалела его. У него было такое обиженное лицо, какого она никогда не видела. Чтобы хоть как-то утешить его, она сказала:
— А меня тут лечили… Вадим Николаевич настоял… Прямо взял и отправил.
— Ну?! — Никита остановился.
— Обещают результат.
— Значит, будет, — поверил сразу Никита.
Дальше шли молча.
— Вот и Медный всадник, — сказала Вера Михайловна.
— В порядке, — отозвался Никита, внутренне напрягаясь в ожидании важного разговора.
— В общем, Никитушка… — Вера Михайловна прикусила губу. Она хотела все объяснить, но у нее не поворачивался язык. Нужно было или говорить со всеми подробностями, в том числе и о последнем случае, который у нее и сейчас вызывал чувство стыда, или совсем не говорить. На, все, она чувствовала, у нее не хватит душевных сил, и она, сдерживая волнение, сказала:
— В общем, профессор хочет с тобой поговорить…
Он все скажет лучше меня.
Никита чуть было не обиделся, но, увидев страдание в ее глазах, сразу же смягчился, взял ее за плечи, притянул к себе.
— Досталось тебе тут.
И это его понимание как бы сняло частичку тяжести с ее сердца. Вера Михайловна все-таки не выдержала, всхлипнула.
— И пошто нам такое?
— Ну, ну, — утешал он ее, как ребенка.
Неизвестно, сколько они так простояли, больше не произнося ни слова. Спустились синие сумерки.
— Мне ведь на дежурство, — спохватилась Вера Михайловна.
— Ну, а это… А Сергуньку-то?..
— Бежим.
Впуск посетителей уже был прекращен, но Вера Михайловна упросила дежурного врача впустить Никиту.
В коридоре им повстречалась Нюшка.
— О, ёксель-моксель! — воскликнула она, как будто знала Никиту сто лет. — Вот это гренадер! Ты оставь его нам, Веруха, сразу текучка прекратится.
— Оставляю, — согласилась Вера Михайловна. — Пойду его подготовлю, шепнула она Никите.
Сережа сидел на кровати, не спуская глаз с двери, ждал.
— Сереженька, — произнесла Вера Михайловна, обнимая сына, и голос у нее дрогнул.
— Папаня приехал? — спросил Сережа.
— Приехал, — подтвердила она и подумала! «Господи, какой он у нас чуткий».
Когда вошел Никита, Сережа слабенько улыбнулся и спросил без упрека!
— А ты чего так долго не ехал? Я уж тосковать начал.
— Да дела ведь, — объяснил Никита, осторожно прижимая сына к себе. Он давно не брал его на руки и потому особенно ощутимо почувствовал, какой он худенький и слабый.
«А писала — поправился», — подумал он.
— А мне скоро операцию должны делать, — сообщил Сережа. — А это и не страшно, усыпляют и замораживают потому что.
Никита отметил для себя, что сын боится меньше матери и ждет операции, как неизбежного дела. И это открытие поразило его и подействовало сильнее, чем страх и слезы. «Дошел, значит», — подумал он и ощутил такую жалость к своему сыну, что даже в горле запершило.
— Вот чего, — произнес он, чтобы перебить неожиданное волнение. — Я тебе привез-то чего. Карточку. Это дружок твой, Пальма. — Он полез в карман, достал фотографию и подал ее Сереже. Мальчик ничего не сказал, только схватил обеими руками карточку, прижал ее к груди, и на лице его был такой восторг, что Никита опять ощутил непривычное щекотание в горле.
Когда через полчаса Вера Михайловна заглянула в палату, она увидела такую картину: Сережа прижался к отцу, затих, разомлел, точно у печки с мороза пригрелся.
Она кивнула и осторожно отошла от дверей, чтобы не вспугнуть этих самых дорогих ей людей.
Крылов и Прахов стояли друг против друга, и оба чувствовали неловкость. Крылов потому, что еще никогда не произносил тех слов, что произносил сейчас. Прахов потому, что учитель говорил правду и ему нечем было опровергнуть эту правду…
— Вы, видите ли, первый, в своем роде новатор, — отчеканивал Крылов. Еще ни один из моих учеников не предавал меня. Увы, не поздравляю. Но и не задерживаю. Располагайте собой… Что же касается меня, то я, видите ли, жив. И отступать от своих принципов не собираюсь. И даже если мне запретят, отнимут у меня клинику, я в сарае, в шалаше, но буду оперировать…
— Но меня попросили… — попробовал оправдаться Алексей Тимофеевич. — Я совсем не ожидал такой реакции…
— Да?! — воскликнул Крылов и отскочил в дальний конец кабинета, желая показать этим, что он теперь и близко не хочет стоять со своим первым помощником. — Вы еще, оказывается, и… и… Это какая-то инфантильность! — Он осекся, начал потирать подушечки пальцев. — Одним словом, несовместимость явная. Вместе мы дальше не сможем работать. Об остальном пусть начальство думает.
Крылов сел, углубился в бумаги, давая понять, что разговор окончен. Прахов бесшумно вышел из кабинета.
Крылову не работалось, не думалось, он вспоминал то, что произошло вчера.
На очередном закрытом партийном собрании выступал секретарь райкома и, конечно же, увязал свое выступление с делами института и клиник. Материал, вероятно, ему дали местные товарищи, быть может доцент Рязанов. Секретарь не очень осуждающе, но довольно уверенно произнес примерно такие слова: «К сожалению, у нас еще не хватает мест в больницах, и в связи с этим имеет первостепенное значение борьба за койко-день.
Он нам дорог, потому что от него подчас зависит здоровье и жизнь человека. А все ли у вас в порядке в этом вопросе?» Секретарь даже не назвал ни Крылова, ни его клинику, просто намекнул. Но тут, неожиданно для всех, а особенно для Крылова, на трибуну поднялся Алексей Тимофеевич Прахов. И начал, и начал, как на исповеди у попа.
Крылов опять вскочил, припомнив его слова, принялся ходить по кабинету.
Алексей Тимофеевич без конца повторял: «Конечно, у Вадима Николаевича золотые руки… Несомненно, у Вадима Николаевича золотые руки… но порой он думает лишь о себе, а не о клинике, не о престиже института, не о тех людях, что ждут места в клинике… Действительно, Вадим Николаевич сделал много, у него золотые руки, но всему же есть предел. Я должен сказать откровенно, что часто мы беремся за то, к чему еще не готовы…»
Кто-то из зала крикнул: «Так не беритесь!»
Алексей Тимофеевич не смутился, а тотчас перевел удар: «Но, простите, не я же командую клиникой».
Когда он в десятый раз произнес «у него золотые руки», аудитория не выдержала. Снова послышались реплики: «И сердце тоже», «И голова на плечах».
Но и это не смутило Алексея Тимофеевича.
Вот эта отчаянная наглость больше всего поразила Крылова.
«Значит, он уже был подготовлен… Значит, давно камень за пазухой носил». И тут в уме он начал повторять свое выступление, самые запомнившиеся фразы — ответ бывшему ученику. Собственно, это было не обычное выступление, не речь, подготовленная заранее. Он вспомнил тот момент, когда почувствовал себя как на операции, если вдруг возникает непредвиденная опасность. И нет времени на раздумье, нельзя рассчитывать ни на чью помощь. Нужно самому не растеряться, действовать решительно. Позже ему говорили: «Ты так еще никогда не выступал». А он и не выступал, он действовал, он ликвидировал внезапно возникшее ЧП. Удачной получилась первая фраза. «Оказывается, я высидел кукушкино яйцо», — сказал Крылов, поднявшись на трибуну. А дальше шло откровение: «Я привык не отказывать в помощи. И если это криминал, то извините. Тогда я отстал от жизни… Да, мы берем тех, кого не берут другие клиники. Это, видите ли… Вот если с вами, с вашим братом, сыном, внуком случится несчастье… Ну и что, что риск? Ну и что, что мы еще не освоили некоторые операции, а точнее, у нас нет для них надежной аппаратуры? Ну и что, что мы не готовы, как тут метко подчеркнул мой бывший ученик? Разве больной виноват в этом?
Нет, виноваты мы. Только мы… Конечно, мы можем перестроиться, выйти в передовые. Оперировать, скажем, только аппендициты и грыжи. Но тогда это будет… Тогда это, видите ли, будет не клиника Крылова, а клиника другого человека, вероятно Прахова…»
Люди аплодировали, а Крылову было горько. Он еще стоял минуту и раздумывал: чем же закончить? Еще была возможность умаслить начальство, пообещать, обнадежить, но он ведь не мальчишка и выступал не на школьном собрании. И Крылов заявил: «Нет, от своих принципов, мне отступать поздно. Совесть не позволяет отступать».
— А быть может, придержать? Подождать? — произнес он вслух, продолжая вышагивать по кабинету.
«Но сколько? Чего ждать? И потом, главное, я-то подожду, а больные? А „синие мальчики“? Им-то каждый день дорог. А разве этого не понимают мои коллеги? Тот же. Алексей Тимофеевич? Возможно, я действительно эгоист…» Крылов снова сел, зажал голову руками и начал мысленно перелистывать всю свою жизнь. Нет, он не мог вспомнить ни одного примера, чтобы он когда-то думал о себе, о своем успехе, о славе, о каких-то выгодах.
Такого не было. Всегда он думал только о больных, только о них. О себе он забывал, обо всем, что касалось себя, забывал — о здоровье своем, о личной жизни, о семье:
— Гм, эгоист, — невесело усмехнулся Крылов.
И точно в ответ услышал слова первой жены: «Ты хоть бы дома побыл. Хоть бы внимание оказал, ведь я женщина». Он обещал, но приезжали издалека, умоляли: «Паря гибнет», и он мчался в ночь, в глушь. Оттого и личная жизнь лишь совсем недавно сложилась, все из-за этого, из-за «эгоизма», вернее, «эгоизма наоборот».
— Нет, не помню такого, — заявил Крылов, словно перед ним все еще была вчерашняя аудитория.
В памяти понеслись, замелькали бесконечные вызовы, просьбы о помощи, бессонные ночи, вечное беспокойство о прооперированных…
Послышался голос секретарши. Леночка опять от кого-то отбивалась, не пускала к нему в кабинет. На этот раз не по телефону, с глазу на глаз.
Крылов нажал кнопку звонка.
Появилась секретарша, на ходу поправила прическу.
— Кто там, Леночка?
— Да эта, что у нас… Вера Михайловна. Говорит, вы велели, чтобы муж приехал…
— Пусть войдут.
Крылов встряхнулся, потер руки и откинулся на спинку кресла.
Первой вошла Вера Михайловна. За нею неуверенно, как-то бочком огромный мужчина. Первое впечатление было такое, будто мама привела нашкодившего сынка. В теперешний век акселерации подобные картины бывают.
Но Крылов знал, что это не мама и детина не ее сын, а ее муж, и потому поспешно поклонился и указал вошедшим на стулья.
Минуту они разглядывали друг друга. Никита стеснялся своих рук, а профессор почему-то смотрел именно на них. Заметив его смущение, Крылов ободряюще улыбнулся:
— Хорошо, что приехали. Отпустили, ничего?
— Да ничо. У нас сейчас такая пора. Межсезонье.
— А вот у нас круглый год сезон, — сказал Крылов, становясь серьезным.
Никита понимающе кивнул. Крылов счел, что подготовительных слов достаточно, перешел к деловому разговору:
— Видите ли, насчет вашего сына. У него сразу четыре порока. В данном случае, вероятнее всего, последствия войны. Лекарствами эти пороки не вылечишь. Нужна операция. Очень сложная операция. А для нее необходимы точные и редкие аппараты… — Он прервался, решив об аппаратах умолчать. — В общем, обещать… Обещать я могу лишь одно: буду оперировать так, как оперировал бы родного сына. А за исход… — Он опять помедлил и все-таки сказал: — За исход не ручаюсь. — Снова хотел добавить об аппаратуре, но не добавил. — Решайте.
Наступило молчание.
Вера Михайловна понимала, что вопрос сейчас обращен к Никите, а он растерялся. Он ведь никогда еще не вел таких разговоров, с врачами-то все она встречалась.
У него на лбу даже испарина появилась.
— Ведь надо, — не выдержала Вера Михайловна.
— Надо, — с хрипотцой в голосе подтвердил Никита.
— Да, — тихо произнес Крылов, понимая важность момента и состояние родителей. Он и сам чувствовал учащенное сердцебиение: будто и привык к таким разговорам, а вот, поди ж ты, сердце реагирует. — Нужно, иначе медленная, мучительная смерть. И чем дальше тянуть, тем меньше шансов на спасение.
Крылов заметил, что Вера Михайловна побледнела, глаза у нее расширились и она готова снова броситься на колени.
— Так как? — спросил он поспешно. — Может быть, подумаете?
— А что думать? — прогудел Никита. — Думай не думай…
— Тогда будем готовить.
Крылов встал и проводил их до двери.
В приемной Вера Михайловна остановилась, ноги отказали, и Никита придержал ее за плечи.
— Да не кусай ты губы, — с сочувствием произнес он. — Они уж и так синие. Взяла привычку.
Она уловила это сочувствие, подумала: «Он-то и вовсе в первый раз». И собралась с силами.
— Мы ж для того его и везли сюда, — прошептала она. — Будем надеяться, Никитушка.
— Началась пора тягостного, острого, как боль, ожидания. Веру Михайловну вдруг охватывал страх. Она готова была закричать: «Никитушка, откажемся! Так хоть несколько лет поживет, а то… Ведь навсегда». Но у нее не хватало духу сказать эти слова, тем более что Никита, вероятно, и сам хотел произнести эти же слова, но только крепился, стараясь отвлечь ее рассказами о доме, о домочадцах, о выселковских новостях.
— А к нам сегодня еще один парнишка поступил, — сообщила Вера Михайловна, возвратясь с дежурства. — Говорят, с тем же пороком, что и у нашего Сереженьки.
Никита на минуту оживился, и это означало, что он понимает, в чем дело: «Раз принят такой же, значит, на что-то рассчитывают. Значит, есть шансы».
Ночью, чувствуя, что жена не спит, он прошептал с придыханием:
— Вот я бы за него… под нож… И без наркоза…
Вера Михайловна уткнулась носом ему в плечо, и он почувствовал теплоту на коже: слезы.
— Ну что ты? Что? Мы ж до самого лучшего дошли. Куда уж?..
Сережу тщательно помыли — Вера Михайловна сама участвовала в этой процедуре — и перевели в предоперационную палату. Впуск туда строго ограничили. Теперь и Вера Михайловна не могла больше пройти к сыну.
Лишь издали она зорко наблюдала за всем, что происходило там, за стеклянной перегородкой.
Наконец наступил день, когда родителям разрешили в последний раз перед операцией пройти к Сереже. На них надели специальные халаты, шапочки, маски, на обувь даже чехлы. Аркадий Павлович напутствовал:
— Только не волнуйте его. И недолго.
Ощущая щемящий холодок в груди, они вошли в предоперационную палату.
Палата была большая, светлая, белая. И среди всего белого они различили глаза своего сына. Оба остановились у входа, как будто вошли из темноты.
— Не видите, что ли? — послышался звонкий и бодрый голос Сережи.
Тогда они подошли к кровати, и две руки потянулись к его головке, чтобы погладить ее.
— Прикасаться лучше не надо, — раздался голос сестры.
Они отдернули руки и вновь замерли, не зная, как вести себя в этой палате.
— Папаня, покажи фотку, — выручил Сережа.
Никита торопливо потянулся к карману, позабыв, в каком именно лежит фотография Пальмы.
— Так в правом же, — подсказал Сережа.
Он долго смотрел на карточку, а потом сообщил сестре:
— Это подружок мой. Пальмой зовут.
И снова наступило молчание.
— А бабуси поют? — неожиданно спросил Сережа.
— Да нет, — ответил Никита. — Тебя дожидаются.
Вот поправишься — споют.
— «Купчик-голубчик»?
— И это споют.
Появился Аркадий Павлович, произнес тихо:
— Достаточно.
Вера Михайловна кинулась было поцеловать сына.
Сестра снова остановила:
— Так попрощайтесь.
Медленно отступая к двери. Вера Михайловна и Никита стали махать Сереже, будто он был в вагоне, а поезд тронулся. У дверей они. все-таки задержались.
— Пока, — бодро сказал Сережа.
«От кого же услышал он это слово?» — подумала Вера Михайловна, но не спросила, а лишь снова помахала сыну…
Перед операцией Сережу еще раз помыли.
Перед операцией его тщательно осмотрел профессор.
Перед операцией ему сделали уколы.
Перед операцией в клинике появился Владимир Васильевич, и Крылов сказал ему:
— Через день операция вашему протеже. Я распоряжусь, чтобы вас пропустили в операционную.
Хотя Владимир Васильевич пришел в операционную пораньше, оказалось, что мальчик уже находится там.
Его привезли сюда спящим, и потом во время всей операции наркотизаторы поддерживали этот глубокий сон.
Пока не появился профессор, у Владимира Васильевича было время разглядеть операционную. По существу, вся она состояла из стекла, воздуха и света. Но кроме того, в операционной горели лампы дневного света, а непосредственно над столом — гнездо мощных рефлекторов. И оттого все вокруг, сам воздух казался прозрачным, каждая капелька, каждая волосинка были отчетливо видны.
Он давно, со времен институтской практики, не бывал на операциях (да и операции тогда, и операционные он видел другие), и потому все особенно бросалось ему в глаза, поражало и запоминалось.
В этой операционной было много аппаратов. Все они время от времени жужжали, потрескивали, на них зажигались красные огоньки. У аппаратов уже стояли врачи — все в белом с ног до головы, неприкрытыми оставались лишь руки и глаза. Белые простыни, белые маски, белые чулки на всех, все столики и подставки покрыты белой краской. Все это невольно вызвало в нем ассоциацию с первым снегом. Хирурги же, как он заметил, привыкли к белому цвету и не обращали на него внимания.
Около Сережи были врачи и сестры, и каждый занимался своим делом: сестры укрывали его белыми простынями, врачи устанавливали свои аппараты, прикрепляли к телу мальчика шнуры, провода, клеммы, датчики.
Прошло несколько минут, и мальчик оказался обвитым бинтами, лентами, резиновыми ремнями, в его тельце были введены иглы, от него во все стороны операционной к блестящим коробкам потянулись шнуры. Он оказался как бы источником энергии, оригинальным аккумулятором, питающим все эти аппараты. И в то же время все приборы, все врачи работали на него, только на него. Одним предстояло следить за деятельностью мозга, другим — за составом крови, третьим — за поступлением кислорода в организм. В операционной уже находилось более десяти человек. Помимо тех, что были в этой комнате — Владимир Васильевич это хорошо знал, — еще несколько врачей, лаборантов, сестер ждали в лабораториях начала операции. А еще — реанимационная бригада. А еще — группа переливания крови. Все они вместе должны были сделать одно великое дело — спасти жизнь мальчика.
От сознания важности событий, оттого, что он представлял их масштабность, из-за необычности виденного Владимир Васильевич ощутил нервную дрожь и удивился этому ощущению. Он снова вспомнил то, что было раньше, еще несколько лет назад. Стол для больного, стол с инструментами — вот и вся обстановка. Бригада состояла из хирурга, его ассистента, сестры. Даже операции самого профессора, заведующего их кафедры, мало чем отличались от ординарных операций, разве что сложностью.
Теперь операционная — целый цех, необыкновенный цех по лечению и исправлению физических пороков человека. В те, совсем недалекие, времена об этом только мечтали. И, как в любом цехе, тут все продумано, разумно, каждый знает свое рабочее место, свою работу.
Здесь нет и не может быть праздношатающихся, здесь невозможно работать кое-как, что-то не сделать сегодня, отложить на завтра.
Владимира Васильевича удивила и восхитила четкая организация дела. Как врач он понимал, чего это стоит.
Можно было бы сесть (кто-то принес белую табуретку), но он стоял, ему хотелось все запомнить, все увидеть.
Врачи и сестры проверили аппараты, приборы, инструменты, заняли свои места. Все спокойны и неторопливы (наверное, волнуется больше всех он), все делали, как видно, эту работу не раз, изредка переговариваются, шутят, меж марлевыми масками и шапочками видны улыбающиеся глаза.
А Сережа спит. Пока что с ним занимается один анестезиолог: он то сжимает, то разжимает красную камеру, похожую на футбольную.
Но вот появляются хирурги — ассистенты профессора. (Владимир Васильевич сделал шажок вперед.) Им предстоит все подготовить к операции: открыть грудную клетку, обнажить сердце.
Они становятся по обе стороны стола, друг против Друга, почти одновременно поднимают руки, и операционная сестра уже вкладывает в эти руки необходимые инструменты.
Владимир Васильевич, помимо своей воли, напрягся в необычном ожидании. Это в какой-то степени его мальчик. Это он, врач Петюнин, подставил его под нож.
Он не увидел самого момента прикосновения скальпеля к телу ребенка, но понял, что это произошло: послышалось потрескивание кровоостанавливающих зажимов. Им тотчас ответили аппараты: зажглись зеленые и красные лампочки, раздалось жужжание, будто под потолком закружился невидимый жук, на зеленом экране телевизора начали прыгать, догонять друг дружку два шустрых блестящих зайчика.
Врачи спокойно продолжали работать. Хирурги делали свое дело у стола, анестезиолог изредка сжимал красную камеру гармошкой, и она опять раздувалась.
Казалось бы, никто не обратил внимания на приход профессора, но — Владимир Васильевич заметил — врачи ждали его появления, потому что, не оглядываясь, не отрываясь от дела, они тотчас уступили ему место у операционного стола, и один из ассистентов, не взглянув на Крылова, начал быстро объяснять ход операции.
Крылов кивнул, все понял и протянул руку. Через секунду в его руке блеснул нужный инструмент.
Владимир Васильевич смотрел как завороженный на все эти действа, дивясь их четкости и простоте. Он-то знал, чего стоит эта видимая простота и четкость.
Он уловил, что приборы словно обрадовались приходу профессора: защелкали быстрее, зажужжали громче, лампочки принялись мигать чаще, а зайчики на экране будто ускорили свой бег.
И сразу же со всех постов, от всех аппаратов послышались точные рапорты:
— Венозное тридцать.
— Артериальное сто десять на семьдесят.
— Зрачки узкие.
Крылов слушал, глядя в раскрытую грудную клетку мальчика.
Владимир Васильевич, невольно сделал шажок вперед.
Перед профессором, всего в нескольких сантиметрах, лежало сердце ребенка. То сердце, которое почти два года назад впервые выслушал он, Владимир Васильевич, и оно показалось ему нездоровым. Вот оно. Вот!
Сердце билось, пульсировало, наполнялось кровью, оно проталкивало эту кровь, разносило ее по всем тканям и клеткам. И внешне оно, пожалуй, ничем не отличалось от сердца здорового. Оно еще было молоденьким и не успело измениться. Но там, в глубине его — Владимир Васильевич представил это, — на нежных клапанах и перегородках было все перепутано, искажено, и хирургу предстояло это исправить.
Но Владимир Васильевич знал, что, прежде чем что-то делать, нужно разрезать мышцу сердца; прежде чем увидеть клапаны, надо обескровить сердце; прежде чем работать на нежных тканях, нужно остановить сердце.
Этого он еще ни разу в жизни не видел. Он весь вытянулся в ожидании этого момента.
— Катетер. Отсос, — произнес Крылов.
Гудение усилилось. Вновь послышалось легкое потрескивание кровоостанавливающих зажимов.
Сердца не стало видно. Хирурги склонились ниже над столом и прикрыли его собой. Но все равно заметно, как оно бьется: на белой простыне ритмично вздрагивает блестящий зажим. А зайчики на экране всё скачут, всё бегут друг за дружкой. Теперь эти зайчики — жизнь человека, биение его сердца. Они возбуждены, они скачут все быстрее — вверх, вниз, исчезают и тотчас появляются, как маленькие кометы с длинными хвостами.
— Аорта резко склерозирована, — слышится голос Крылова. Голос ровный, без оттенков. По нему не поймешь, плохо это или хорошо. Но Владимир Васильевич знает — плохо.
Ранний склероз — это, прежде всего, обильное кровотечение, это опасность, это новые трудности, возникшие вот сейчас, уже в самом начале операции.
Крылов говорит спокойно, будто ничего не произошло, словно он еще до начала операции был уверен, что аорта склерозирована.
— В легочной артерии померяем и в обоих желудочках, — советуется он с ассистентами.
После паузы:
— В легочной есть, а в желудочках плохо. Градиента практически нет.
Его уверенность и ровность успокоили Владимира Васильевича. «Он-то лучше знает». Владимир Васильевич нашел окошечко, увидел руки Крылова. Движение его рук плавное, решительное, уверенное — ничего лишнего.
«Видно; он представляет свою работу до мелочей, во всех подробностях», — подумал Владимир Васильевич и в душе восхитился Крыловым. Не просто даются эти мелочи и подробности, за ними бессонные ночи, огромная практика и труд, труд, труд.
Крылов вставил катетер в правое и левое предсердие, и кровь оттуда с помощью отсосов пошла по специальным шлангам в специальную установку. Там, в этой установке, в большом стеклянном сосуде, три-четыре литра чужой крови, но эта чужая кровь родственна крови мальчика, тщательно проверена на совместимость, и ее не отличишь от крови ребенка. Пройдет несколько минут, заработает АИК — аппарат искусственного кровообращения, и вся эта кровь — и чужая и кровь ребенка — начнет питать организм помимо сердца. Для этого нужно вставить канюлю в бедренную артерию.
Все это Владимир Васильевич представлял теоретически, а сейчас он видел, как это происходит в действительности.
«Но аорта? Аорта?!»
— Кровит. Отсос, — словно в ответ говорит Крылов. — Так. Хорошо.
Теперь кровь через бедренную артерию, через кровящую аорту будет нагнетаться и пойдет по всем клеточкам и тканям. Кровь одновременно будет охлаждаться в особом аппарате и, охлажденная, проходя по сосудам, будет охлаждать весь организм. И сердце тоже. Потом профессор пережмет аорту и выключит сердце. Охлажденное сердце не умрет без питания. А дальше? Дальше он станет исправлять порок.
Главное — Владимир Васильевич слышал — не остановить сердца, не обескровить его, главное — утверждают специалисты — заставить сердце вновь работать, питать и мозг, и легкие, и все клетки.
А пока…
— Кровит, — повторил Крылов. — Держите. Пока не пережму аорту, придется держать.
Вновь раздалось гудение. На халате профессора появились мелкие пятнышки. Целые грозди пятен. Владимир Васильевич в первую секунду удивился, но тут же понял; это кровь. При ярком света она кажется не красной, а темной. А руки хирургов желтыми — они в перчатках.
Он невольно взглянул на руки мальчика и поразился: у Сережи руки стали белыми. Ноготки коротко подстрижены. Он спит. Длинные ресницы не дрогнут.
На мгновение ему сделалось жаль мальчонку. Такой он беспомощный, столько взрослых против него. «Что за глупость! — оборвал он себя. — Они же помочь, спасти его хотят».
Владимир Васильевич закрыл глаза, прислушался.
Гудит отсос. Потрескивают зажимы. Раздаются короткие фразы врачей:
— Давление восемьдесят на тридцать.
— АИК готов.
— Иглу поменьше.
Напряжение нарастает. Он это чувствует не только по себе. Кажется, сам воздух более густой и плотный.
Все сосредоточены. От былой веселости нет и следов.
Врачи ни на шаг не отходят от своих постов.
Владимир Васильевич напрягся, весь внимание. Глаза хирургов устремлены на сердце. Профессор тоже, кажется, никого и ничего не видит, кроме этого маленького сердца.
— Давайте начинать, — произнес он, и слова эти прозвучали как команда.
Владимир Васильевич быстро сдернул очки, торопливо протер их рукавом халата.
Врачи действуют ловко и четко. Нет, они не торопятся, но и не теряют ни одной секунды. Еще раз проверяют систему шлангов, зажимов, соединяют какие-то неизвестные Владимиру Васильевичу стеклянные трубки, осторожно и мягко, будто они могут лопнуть в их руках.
— Катетер ввели? — спрашивает Крылов.
— Давно.
— Так… Хорошо… Внимание.
Наступает такая тишина, как будто все даже дыхание затаили. Владимир Васильевич чувствует, как на лбу у него выступает испарина. Лишь пощелкивают аппараты да на экране всё бегут, бегут светлые зайчики.
А с улицы доносится звон трамвая. Каким далеким сейчас, каким парадоксальным кажется этот звон, словно голос другого мира.
— Сняли? Всё сняли? — еще раз спрашивает Крылов. — Зажимов нигде не оставили?.. Внимание… Начали.
Загудело, зажужжало «искусственное сердце» — АИК. (Владимиру Васильевичу показалось, что и его сердце тоже загудело.) Теперь оно — АИК — питает весь организм, оно — и сердце и легкие. От него зависит жизнь мальчика Сережи Прозорова. Но работа аппарата и все остальное зависит от людей, от этого невысокого, немогучего человека, что стоит у стола, вытянув перед собой руки в желтых, забрызганных кровью перчатках.
«Тшш-тик, тшш-тик» — появляются новые звуки.
И новый огонек то зажигается, то гаснет на аппарате АИК.
А сердце ребенка начинает биться с перебоями, с паузами. Перебои все чаще, паузы все длиннее. Сердце охлаждается. Вот оно останавливается на несколько секунд, затем точно спохватывается — вздрагивает, делает два-три слабых сокращения, опять замирает.
«А если больше не заработает? — встревожился Владимир Васильевич, но тут же успокоил себя: — Но он-то лучше знает».
— Температура? — спокойно спросил Крылов.
— Двадцать два и шесть.
— Двадцать один и четыре.
— Двадцать и три.
Это температура отдельных участков тела, сердца, мышц, некоторых органов.
— Где электрод?
«Ну вот!» — опять заволновался Владимир Васильевич, потому что электрод — это как раз и есть тот случай, когда сердце останавливается и его нужно возбуждать с помощью. электричества.
Крылову подали обмотанные бинтами электроды с плоскими блестящими концами.
Сердце еще вздрагивает, не все сразу, а отдельными участками, еще никак не хочет остановиться. И зайчики на экране еще подпрыгивают, но уже не высоко и не далеко, часто возвращаются назад, на исходные позиции, словно бегуны, взявшие фальстарт.
— Девятнадцать.
— Восемнадцать и три.
Это напомнило Владимиру Васильевичу запуск космического корабля: отсчитываются последние секунды перед стартом. «А что? Это, во всяком случае, не меньшее чудо».
— Температура сердца? — поинтересовался Крылов.
— Шестнадцать и четыре.
— Фибрилляция еще есть, — сказал он. — Подождем.
Хирурги ждут, пока сердце охладится, остановится, уснет.
А Владимир Васильевич полон восторга и изумления.
Как это просто и как необыкновенно! Веками врачи заботились о том, чтобы сердце не останавливалось, все делали, чтобы оно продолжало биться. А теперь хирурги ждут его остановки.
А вокруг идет жизнь. Снова отчетливо звенит трамвай. Сейчас, когда напряжение несколько спало, этот звук хорошо уловим и не кажется голосом другого мира.
По карнизу ходит голубь и крутит точеной головкой. Наверное, тоже восхищается работой хирургов.
Врачи немного расслабились, как будто набирают сил для значительных, самых главных дел.
— Четырнадцать и две.
— Тринадцать и девять.
— Сердце? — спрашивает Крылов.
— Тринадцать и шесть.
— Подождем до десяти. Еще есть небольшая фибрилляция.
Сердце уже не бьется, уснуло. Только на экране изредка скачут блестящие зайчики… Это и есть фибрилляция: отдельные не ритмичные движения отдельных участков сердца.
— Одиннадцать и шесть.
— Десять и восемь.
— Чуть подождем.
Владимир Васильевич вспомнил о матери этого Сережи. Каково ей сейчас? Надо бы ободрить. Да не выскочишь. К тому же начинается самое главное.
Сердце остановилось. Совсем остановилось, не шелохнется, не дрогнет. Блестящие зайчики на экране проплывают почти неподвижными светлыми точками. Зато мигалка на аппарате АИК не переставая сигналит, дает знать о себе — работает, жужжит аппарат, старается, и по трубкам в организм человека идет необходимая кровь, идет жизнь. Анестезиолог приоткрывает веки мальчика, берет фонарик и светит. Зрачки реагируют на свет. Сережа живет.
Владимир Васильевич полон восторга и удивления:
«Только в сказках и фантастических романах читали мы о том, что человек живет не дыша, с остановившимся сердцем. Еще несколько лет назад, когда я учился, это считалось утопией, мечтой. И вот наяву не бьется сердце, не дышат легкие, а человек живет! Ну почему этого не видят люди? Нужно, чтобы все видели это чудо!..»
— Скальпель, — негромко произносит Крылов, обрывая восторги Владимира Васильевича.
Это слово звучит значительно и сильно. Оно вновь заставляет всех насторожиться, припасть к аппаратам.
Вот оно, великое мгновение, когда все слилось воедино: жужжание АИК, пощелкивание аппаратов, мигание лампочек, напряжение врачей, поиски и контроль лаборантов, многодневные сложные обследования, труд многих людей — все сейчас на кончике блестящего скальпеля, все в руках этого невысокого человека, все получило свой смысл и ясную цель.
Потрескивают зажимы, жужжит АИК, и лампочка на нем все мигает, как маячок жизни. Опять ничего не слышно из того, другого мира — ни звона трамвая, ни воркования голубей.
Меж бровей профессора появляется надломленная складка-галочка. Он машинально, по привычке произносит чаще всего два слова:
— Так. Хорошо.
Не оборачиваясь, протягивает руку за инструментами и работает. Его пальцы двигаются быстро, мягко и ловко. Они проводят сейчас тончайшую работу.
«С чем можно сравнить эти руки, эти пальцы? — подумал Владимир Васильевич. — С руками часового мастера, ювелира, музыканта? Вероятно, со всеми вместе.
То, что делает Крылов, действительно волшебно: это и чуткость музыканта, потому что надо уловить мельчайший дефект на нежном клапане; это и ловкость часового мастера, потому что нужно уверенно исправить этот едва уловимый дефект; это и мастерство ювелира, потому что необходимо сделать все так, чтобы получилось правильно и красиво, чтобы самый главный судья твоей работы — сердце — не обиделось, а, начав биться, билось бы правильно и точно».
На Владимира Васильевича нахлынула восторженная волна. В какой-то миг он готов был вслух высказать восхищение от увиденного чуда.
«Сердце человека! — продолжал он свой внутренний монолог. — Вот оно лежит в руках Крылова, сердце, о котором столько сочинено несен и стихов, которое любит и ненавидит, творит добро и зло; Сейчас это неподвижный розовато-синий мешочек. А там, в нем, в самом сердце, чуткие, умные пальцы хирурга шьют, исправляют дефект, делают его здоровым».
— Иглу поменьше, — попросил Крылов.
Сердце не бьется двадцать минут.
Хирург шьет внутри сердца. Как будто все идет как надо. Никто, кроме Владимира Васильевича, не удивлен, не потрясен этим фактом, все спокойны, все на своих местах.
А между тем веками хирурги боялись не то что оперировать — прикасаться к сердцу. Великие медики завещали своим ученикам: не трогайте сердца, это святая святых. В научных трактатах утверждалось: все можно оперировать, сердце — нельзя.
Известный хирург Бильрот писал: «Тот хирург, который зашьет рану сердца, потеряет уважение своих товарищей».
Нет, это не было суеверием, — но было следствием панического страха. Все, кто прикасался к сердцу, терпели фиаско. Люди после таких прикосновений умирали, а хирург вызывал презрение как величайший невежда.
Все это было закономерно. Действительно, в те годы, при том состоянии науки и техники операции на сердце были невозможны. Не было надежного обезболивания, и больные умирали от шока. Не было антибиотиков, и больные умирали от инфекций. Хирурги боялись повредить соседние органы, боялись кровотечения, попадания воздуха в артерии, тромбоза, пневмоторакса…
«Да и сейчас не все, совсем не все, — произнес мысленно Владимир Васильевич, — а только такие, вернее, такой, как Крылов, способны на подобную операцию.
А я… А я вот ошалел от одного вида ее…»
— Так. Хорошо, — произнес Крылов. — Еще шить.
Сердце не бьется уже тридцать минут. И все спокойны, и никакого страха. Даже у Владимира Васильевича он исчез. Но сколько сил и энергии нужно было потратить хирургам, чтобы доказать, что к сердцу человека не опасно прикасаться, что его можно брать в руки.
Следовало уверить врачей в силе и выносливости человеческого сердца. Нужно было преодолеть, во что бы то ни стало преодолеть тяжкий барьер — веками воспитанную боязнь. «А это, пожалуй, — думал Владимир Васильевич, — так же трудно, как в авиации — преодоление звукового барьера. Наверное, еще труднее, потому что речь идет о живом человеке, о жизни и смерти… Но вот нашлись, преодолели…»
Сорок минут сердце не бьется. Сорок минут не дышит мальчонка. Жужжит АИК, то зажигается, то гаснет мигалка.
Крылов делает паузы, осматривает свою работу.
Владимир Васильевич понимает: надо сделать аккуратно. Потом не поправишь ошибки, вторую такую операцию не сделаешь этому Сереже, мальчику, которого он, врач Петюнин, подставил под нож.
— Кажется, все, — сказал Крылов и впервые оторвал взгляд от сердца и оглядел ассистентов.
Они подтвердили:
— Все.
— Начали согревать, — приказал Крылов и снова склонился над сердцем.
Что-то негромко щелкнуло. Жужжание стало более резким. Это переключили змеевик. Теперь кровь из аппарата АИК пойдет не через холодную воду, а через теплую и постепенно начнет согревать организм мальчика.
Через несколько минут — первые измерения температуры. Слышатся первые рапорты:
— Пятнадцать и три.
— Пятнадцать и восемь.
— Шестнадцать.
Крылов не отрывается от работы. Теперь он шьет сердце. Пальцы его словно порхают.
— Девятнадцать и шесть.
— Двадцать.
— Двадцать и две.
Приближается решительный момент, как бы воскрешение человека.
Владимир Васильевич вновь весь напрягся, вытянулся, ожидая этой необычной, волшебной минуты.
Забьется ли снова сердце? Станут ли дышать легкие?
Будет ли работать мозг? Он знает, все тысячи раз проверено, проделано на животных, уже не один раз прошли успешные операции на людях — и все же, и все же…
А вдруг не забьется? А если и электрод не поможет?
Возможно, упущена какая-то мелочь, не учтены особенности организма именно этого ребенка, Сережи Прозорова.
Забьется сердце, но откажется работать мозг. Забьется сердце, но наступит паралич дыхания. Все может быть.
Каждая такая операция — это задача со многими неизвестными, а на решение ее отводятся считанные секунды.
«Ну же. Ну! — про себя повторяет Владимир Васильевич. — Забейся. Вздрогни».
— Двадцать восемь и девять.
— Двадцать девять и шесть.
— Тридцать.
— Не надо больше согревать, — говорит Крылов, и морщинка-галочка меж бровей его становится еще глубже. — Появилось кровотечение.
«Аорта. Аорта», — прошептал Владимир Васильевич, точно хотел подсказать причину.
— Продолжаем, — после томительной паузы произносит Крылов.
— Тридцать один и семь.
— Стоп!
Опять кровотечение.
«Но он же знает, знает, в чем дело».
Молнией сверкают инструменты. И Крылов и ассистенты пережимают, перевязывают забившие вдруг сосуды. Эти сосуды напоминают сейчас кратеры вулканов, что дремали много часов и вот неожиданно ожили, начали бить ключом.
Наступил миг, когда Владимир Васильевич готов был сам кинуться к столу, и, вероятно, кинулся бы, если бы знал, что делать, чем помочь.
— Продолжаем, — спокойно говорит Крылов.
— Тридцать четыре и шесть.
— Тридцать пять и одна.
— Тридцать шесть.
Короткие слова. Точные движения. Врачи предельно напряжены.
— Снимаю зажимы, — предупреждает Крылов. — С нижней…
Очень тихо. Только жужжит АИК да слышатся эти слова. Да у Владимира Васильевича так бьется собственное сердце, что он невольно прижал к нему руку, опасаясь, что его услышат хирурги и это отвлечет их от дела.
Крылов берет в руки электрод. Ждет. И все ждут.
«Ну же. Ну, милое!» — молит Владимир Васильевич.
И вот робко, осторожно, неуверенно дрогнуло живое сердце. Дрогнуло и замерло, словно еще не поверило в себя, в свою силу.
Владимир Васильевич чуть не вскрикнул от радости.
И тоже замер.
А сердце еще раз дрогнуло — уже посильнее. Встрепенулось. Забилось. Еще не ритмично, как-то кособоко, предсердия отдельно, желудочки отдельно. Но тотчас само себя поправило, забилось ровнее.
Несколько минут работают два сердца — живое и искусственное. Несколько минут Крылов и его ассистенты ждут еще, проверяют, можно ли доверить настоящему сердцу?
«Можно!» — хочется заорать во всю глотку Владимиру Васильевичу.
— Выключить, — негромко произносит Крылов.
Жужжание обрывается резко, внезапно, как последний выстрел. Мигалка гаснет. Зато зайчики на экране прыгают, весело скачут. Обрадовались!
А Крылов опять сосредоточен. У него нет времени для радости. Нужно в последний раз по приборам проверить, все ли сделано так, как следует. Врачи прильнули к аппаратам, докладывают:
— Есть аритмия.
— Разницы давления нет.
Крылов координирует:
— Побольше кислорода. Давайте будем вынимать.
Сердце бьется все сильнее, все энергичнее. Теперь оно не безжизненный розовато-синий мешочек, теперь это человеческое сердце. Оно будет страдать, любить, ненавидеть, чувствовать.
«Будет! Будет! Будет!» — в душе ликует Владимир Васильевич.
Все проверено. Все в порядке.
Из операционной увозят аппараты. Они свое отработали, пора на отдых.
Снова долетают голоса другого мира: шум трамвая, воркование голубя.
Крылов отдает распоряжения своим помощникам. Они будут вводить Сережу в жизнь.
— Сколько?
— Пять часов тридцать шесть минут.
Столько времени длилась эта операция, Владимир Васильевич только сейчас почувствовал, как у него взмокла спина, осторожно вздохнул, хотел было подбежать к Крылову, высказать ему слова благодарности и восторга, но тут вспомнил о матери ребенка и заспешил из операционной.
Вера Михайловна стояла в коридоре у окна, на своем месте, облюбованном еще в день операции Ванечки, и молилась. Она не верила ни в бога, ни в черта, ни в приметы, по молилась неизвестно кому — судьбе, наверное.
Второй раз в жизни. Первый — в детском доме, когда хотела, чтобы мама появилась и взяла ее оттуда.
«Синичка, синичка, ну сделай так, чтобы Сереженька выжил».
«Ветка, ветка, помоги мне. Сделай, чтобы все хорошо было».
«Свети, солнышко, свети моему сыночку, чтобы он выжил, чтобы он поправился».
Она видела отчетливо, но как-то странно, избирательно: только ветку, только синицу, только солнышко. И слышала тоже избранно, лишь то, что происходит там, за стеклянными перегородками: какое-то пощелкивание, жужжание, шуршание колес по полу. Она уже знала по прошлым операциям, что это такое. Это работают аппараты. Это привозят и увозят их из операционной.
С той поры, как за ближайшей перегородкой проплыли тени, прошелестела каталка, увезли ее сына на операцию, с того момента ее самой, Веры Михайловны, будто не было, а было ожидание. Она ощущала это ожидание как что-то вязкое, тягучее, что наполняло ее все сильнее, растягивалось, напрягалось и с каждой минутой распирало ее все больше. Даже не с чем сравнить было это ощущение, таким оно было необычным и нарастающе давящим.
Первые два часа Вера Михайловна провела спокойно, и это внутреннее ожидание-напряжение почти не чувствовалось. Она сознавала: операция — дело не быстрое. Ванечку вон сколько оперировали.
Но когда перевалило за три, за четыре часа, ожидать стало невмоготу, никакие доводы и воспоминания не утешали. Единственное, что отвлекало Веру Михайловну от ожидания, это мысль о Никите. Еще утром он признался ей: «Что-то сон у меня рушится. Сегодня совсем не спал».
Она понимала: он не прошел той психологической подготовки, что прошла она, у него, естественно, нет ее закалки, и его надо, просто необходимо поддерживать.
И она время от времени спешила в приемное отделение, где сидел Никита, и говорила с ним минуту-другую… Но с каждым часом уходить со своего места ей становилось труднее, а оставаться все тягостнее.
К ней подходили люди, сотрудники отделения, больные. Вера Михайловна кивала им, но ничего не улавливала из того, что они говорили.
Подошла Нюшка, принесла чаю, бутерброд с колбасой, чуть не силком заставила съесть.
— Ёксель-моксель, глухая будто! Я тебе про кровь толкую. Ежели что — у меня всеобщая. Ну, любому годится. Я уже давала кровь. Так что, ежели что…
Вера Михайловна поблагодарила и снова уставилась на стеклянные перегородки.
Кто-то принес ей табуретку, посадил. Она этого не заметила. И чем дольше шло время, тем меньше она замечала окружающее. Все ее внимание, вся она была нацелена туда, на операционную. Теперь и в окно не смотрела.
А за перегородками — обычное рабочее движение.
Ни новых звуков, ни новых голосов. Ничего такого, что говорило бы о неблагополучии.
Но время… время…
Прошло уже пять часов… Пять пятнадцать… Пять двадцать…
Вера Михайловна чувствовала, как минуты и секунды отстукивают в пей самой. Вбежать бы туда. Узнать бы. Но сил нет.
Пять тридцать… Пять тридцать пять…
И вдруг шум. Тени на стеклах. Шуршание колес.
Вера Михайловна закрыла глаза. У нее зашлось сердце.
— Все великолепно. Поздравляю, — еще издали заговорил Владимир Васильевич. — Крылов бесподобен. Вы знаете, в какой-то момент я даже пожалел, что сам не хирург.
Вера Михайловна всхлипнула от радости, схватила Владимира Васильевича за плечи, чмокнула в переносицу, так, что очки у него свалились, и побежала вниз, к Никите. Откуда только силы взялись.
Никита привстал ей навстречу. Выражение лица у него было, как тогда перед кабинетом врача, — детской растерянности и беспомощности.
— Благополучно, — выдохнула Вера Михайловна, спеша успокоить его. — Мне Владимир Васильевич…
Наш доктор из Медвежьего… Он на операции был.
Они сидели, взявшись за руки, и молчали. Надо было пережить этот момент, это потрясение, с духом собраться.
— Ты вот что, Никитушка, — первой пришла в себя Вера Михайловна. — Ты съезди-ка на квартиру. Старичкам скажи… Они тоже волнуются. И еще вот что. Телеграмму бы надо…
— Может, рано? — неуверенно возразил Никита.
— Так ведь тоже сердце болит. Поди, все Выселки не спали.
— Подожди, — Никита еще не верил в счастье, словно боялся вспугнуть его.
— Так мы ж ничего особого. Несколько слов: «Операция прошла благополучно. Ждем окончательных результатов». Иди, Никитушка.
Она поцеловала его в небритую щеку и заторопилась наверх.
Но узнать в этот день больше ничего не удалось.
Профессор куда-то исчез, появился поздним вечером и сразу прошел в послеоперационную палату. Лечащий врач выглянул на минутку, сказал ей то, что она уже и сама знала:
— Операция прошла нормально.
И снова удалился.
Вера Михайловна попробовала было обратиться к Алексею Тимофеевичу, но тот почему-то шарахнулся от нее, как от огня.
Возле Сережи — она видела по теням на стекле — все время были люди. Они приходили и уходили. Но суеты не наблюдалось, и это успокаивало ее.
Никита вернулся быстро, сообщил:
— А я с твоим дядей свиделся. Он из Вырицы приезжал.
Вера Михайловна не придала значения этому сообщению, не о том думала.
— Ты бы отдохнул, Никитушка.
— А ты?
— Я наверху побуду.
— А я здесь.
Среди ночи что-то стряслось. За стеклянными перегородками зажегся яркий свет и задвигались тени.
Вера Михайловна прикорнула в дежурке, но вдруг ее будто кто-то подтолкнул, она вздрогнула, сразу встала на ноги, вышла в коридор и тотчас заметила свет и тени за перегородками. И тут же у нее зашлось сердце. Подобное ощущение уже возникало, когда она ожидала результатов операции, но тогда это длилось секунды. А сейчас надолго. Вера Михайловна подошла к форточке, глотнула студеного воздуха. Не помогло. Она постаралась не обращать внимания на свое сердце, потому что то, что происходило там, было поважнее. И это ей удалось.
Мимо нее прошли какие-то незнакомые врачи. Один из них произнес неизвестное ей слово: гемолиз. Она тотчас догадалась, что оно относится к Сереже. И поскольку она не знала его значения, оно показалось ей страшным. Собственно, это отметило ее сознание. Сердце ничего не чувствовало. Вера Михайловна не забила тревогу, просто отметила в своем сознании: «Гемолиз — это, вероятно, плохо».
Появился лечащий врач, какой-то отрешенный, не замечающий ее.
— Аркадий Павлович! — окликнула его Вера Михайловна.
Он остановился неохотно, взглянул на нее недоуменно, не сразу узнал.
— Небольшое осложнение. Почки. — И прошел вперед.
Но по тому, как он спешил, как был необычно отрешен, она догадалась, что говорит он неправду.
Аркадий Павлович, очевидно, и сам понял, что поступил жестко по отношению к матери ребенка, вернулся с полдороги, заговорил помягче:
— Там много врачей. Вадим Николаевич там. Уже дважды прямое переливание делали. — Он помолчал. — Нужна «искусственная почка». — Опять — помолчал. — А вам здесь не надо быть.
Вера Михайловна поспешила к Никите.
— Почка нужна.
— Так я… — решительно отозвался Никита.
— Искусственная. Аппарат такой.
Они опять сидели молча, взявшись за руки.
Потом Вера Михайловна поднималась наверх, снова спускалась к Никите и вновь поднималась на отделение, Один раз ее заметил профессор. Он опять двигался своей падающей, чрезвычайно усталой походкой.
— Увести, — приказал он кому-то.
Чьи-то руки подхватили Веру Михайловну и отвели в дежурку. Другие руки дали понюхать нашатыря. Ничто не помогало. Сердце не отпускало. Она была похожа на лунатика, ходила, что-то улавливала, спускалась к мужу и снова шла в отделение. Однажды она сообщила Никите:
— Наша Нюшка кровь давала.
Второй раз сказала:
— Третьи сутки пошли, а профессор не уходит.
— Стараются, — подтвердил Никита.
Неожиданно кто-то позвал Веру Михайловну:
— Вас просят.
Ее провели за стеклянные перегородки, прямо в послеоперационную палату. Еще по дороге она поняла, что это означает, но не заплакала, не закричала, потому что у нее зашлось сердце, а без сердца не получалось слез.
В послеоперационной пахло лекарствами и было так светло, что она невольно зажмурилась. А когда открыла глаза, то первым заметила лечащего врача, Аркадия Павловича. Он стоял у окна, в профиль к ней, и по щеке у него катилась слезинка.
А потом она увидела Сережу. Он вздрагивал, точно через все его худенькое тельце проходила судорога. Вера Михайловна опустилась на колени, припала лбом к его личику, и судорога эта прошла через нее, через ее сердце, и будто возбудила его. Сердце заныло и затрепетало в груди.
— Уведите, — произнес знакомый голос.
Кто-то поднял ее, подхватил под руки.
В коридоре Вера Михайловна увидела много людей.
Она не различала их в отдельности, просто заметила, что их много. Они смотрели на нее и молчали. Так молчали, будто их не было.
— Люди… — почти бессознательно произнесла Вера Михайловна и хотела добавить с упреком: «Что ж вытакие большие, так вас много, и не уберегли моего сыночка…» Но у нее не хватило сил на такую длинную фразу, и вместо этого она выкрикнула: — Люди! — и зарыдала, повиснув на руках сопровождающих ее сестер.
Секретарша Леночка вскочила, но было уже поздно.
Нежданный посетитель вошел в кабинет профессора. Она не могла окликнуть его, остановить, потому что это был главный врач клинической больницы, для нее самый большой начальник.
Доцент Рязанов поздоровался и без приглашения сел в кресло. Крылов кивнул и не удивился, точно ждал его прихода. Он сидел над какими-то бумагами, уставив взгляд в одну точку. Вид у него был усталый. Цвет лица бледно-желтый. Под глазами мешки.
— Ты бы о своем сердце подумал, — посочувствовал Рязанов.
— О чем? — не понял Крылов.
— О здоровье, говорю, своем.
Крылов пропустил совет мимо ушей, произнес после паузы:
— Видишь ли, мы на этот раз ни при чем. Операция прошла безупречно. Вот акт патологоанатомов. К нам нет претензий.
Его это взволновало, и он оживился:
— Причина смерти, видишь ли, необычная. Мы травмировали кровь. Да, вот и такое может быть. АИК еще не совершенен. Кровь, проходя по нему, портится. Происходит разрушение эритроцитов, гемолиз. А затем — осложнение на почки. От этого он и погиб… Если бы была «искусственная почка»… Он вскинул голову, уперся взглядом в Рязанова. — Нужна «искусственная почка». Нам не по профилю, но… вот… нужна. Бывают и такие случаи.
Он умолк, ожидая ответа.
— Пока не нужна, — сказал Рязанов.
— Ах, вам, видите ли, не нужна! — вспылил Крылов. — Так нам необходима. Мы должны иметь под рукой все, чтобы гарантировать человеку жизнь.
Рязанов не стал спорить, неторопливо открыл папку, достал бумагу и протянул ее Крылову.
— Что это? — спросил Крылов, не собираясь брать бумагу.
— Приказ начальства, — сказал Рязанов и положил бумагу на стол. — О запрещении принимать с тетрадой Фалло.
Крылов схватил приказ, пробежал глазами и небрежно отложил в сторону. Он долго молчал, поглядывая в окно, где на покрытой ледком ветке беззаботно попрыгивал воробьишка.
— Тогда пусть они и меня запретят, — наконец произнес Крылов. — Я не шарлатан и не авантюрист. И не сапоги крою. Я не могу отказать матери, если она умоляет спасти ее ребенка. Я не могу сказать: «Нет. Пусть умирает». Если есть хоть один шанс из десяти, я буду оперировать, буду всеми силами стараться не упустить единственный шанс. Отберете клинику — в сарае разверну операционную. С нуля начну, но не брошу. В этом моя роль на земле — помогать страждущим людям.
Он остановился, ожидая возражений. Рязанов промолчал.
— Мы уже многого достигли, — продолжал Крылов поспокойнее. — Хирурги освоили самые сложные операции. Теперь дело не за нами, за техникой.
— Вот и нужно подождать.
— А люди? А «синие мальчики»?
— Выше себя не прыгнешь.
— Прыгают! — Крылов даже привскочил на стуле. — Вы, видите ли, отстали, — он перешел на «вы», что означало крайнюю степень раздражения. — Средний рост человека, учитывая акселерацию, — сто восемьдесят сантиметров. А рекорд по прыжкам в высоту с разбега? Э-эх, темный лес! Двести двадцать восемь сантиметров. А два метра обыкновенная мастерская норма. То-то, уважаемые администраторы. Устаревают ваши взгляды. Человечество перепрыгивает самое себя. Человек увидел землю с высоты. Понял, какая она небольшая и как важно охранять и беречь ее. Наступит время — оно уже наступает, — когда люди поймут, как важно беречь человека. Как важно сохранять ему здоровье и радость жизни. И что думать надо не о том, как убить, а о том, как уберечь человека.
Рязанов не реагировал, подавляя Крылова своей административной невозмутимостью.
— Тебе бы в ООН выступать, — заметил. Рязанов, уловив паузу.
Крылов тотчас замолк, некоторое время разглядывал свои руки, потом спросил сухо:
— Мне расписаться в получении приказа?
— Расписываться не нужно. Надо выполнять.
Крылов ничего не ответил, Рязанов посидел еще минуту, встал.
— Не накручивай. И послушайся доброго совета: повремени.
Крылов даже не взглянул на Рязанова.
Подождав, пока он удалится, Крылов нажал на кнопку звонка.
Вошла Леночка, смущенная допущенной промашкой.
— Вот что, — сказал Крылов. — Я оформлю заявку на «искусственную почку», а вы тем временем оформите командировку… Только бумажку. Я, видите ли, поеду на свои деньги. Надеюсь, этого-то не запретят приказом.
И улыбнулся, как мальчишка, собравшийся обхитрить старших.
Решено было съездить на Пискаревское кладбище, после в Вырицу к дяде и — домой.
— Билеты будут. Вадим Николаевич распорядился, — сообщила Никите Вера Михайловна.
После похорон Сережи она первой пришла в себя.
— Что же делать, Никитушка. Жить-то надо.
Она сдержала вздох, сменила тему:
— Повидалась с родным городом. Хороших людей узнала. Родственника отыскала.
— Ну да, да, — прервал он, опасаясь, что она расплачется.
Так и жили они эти дни, поддерживая друг друга.
А их подбадривали все остальные — хозяева, больничные, Зинаида Ильинична Зацепина. Старики даже на Пискаревку их сопровождать собирались, но они вежливо отказали.
— Сами уж, простите, — сказала Вера Михайловна. — Там одним нам побыть надо.
До Пискаревки они добирались на такси. По дороге не раз останавливались, чтобы купить цветы. С трудом нашли букетик алых гвоздик в целлофане.
— Ну-у, — недовольно прогудел Никита.
— Раз нет других, — успокоила Вера Михайловна.
Первое, что бросилось им в глаза, когда они вышли из машины, — небо. Необыкновенное, не ленинградское — чистое и гладкое, блестяще-голубое. И на этом фоне как-то особенно четко выделялись и деревья, запорошенные снегом, и свежеразметенные дорожки, и сам памятник, строгий и гордый.
Стоял легкий морозец. Под ногами похрустывал песок, которым были посыпаны подходы к монументу.
Особое чувство охватило Веру Михайловну — не горя, не отчаяния, а непривычной, светлой, щемящей тоски.
Вроде бы после стольких лет разлуки она вновь встречается с мамой, с воспоминаниями, с тем, что осталось в памяти.
Вот она совсем крохотная — было ли это? — просыпается от ласкового маминого голоса: «Вставай, доченька, дед-мороз приходил, елочку принес».
Вот она порезала палец, бежит в слезах к матери и слышит поразившие ее слова: «Вот это дочка! Вот это герой! И даже не заплакала».
Последние воспоминания, уже блокадные. Мама шепчет ей: «Главное карточки. И мою возьми. Сохраняй их и выживешь».
«Так мало», — устыдилась Вера Михайловна, удивляясь тому, как немного она запомнила частностей, зато запомнила, сохранила большое, общее чувство: мама была доброй, ласковой, красивой. Мама была — мамой.
И тут она подумала: «А как Сереженька воспринимал меня?» Этот переход от далекого прошлого к близкому настоящему не выбил ее из колеи, не расстроил. Все слезы уже вышли, и она смирилась с потерей, только сейчас, в это мгновение, в ее сердце как бы объединились две потери — матери и сына.
«Но я не одна такая, — утешила себя Вера Михайловна, посмотрев вокруг и вспомнив, что здесь, на Пискаревке, похоронены многие тысячи людей. — И, верно, после них остались такие же, как я…»
Они приблизились к самому памятнику, и Вера Михайловна положила на заиндевевшие ступени свой букетик. Цветы блеснули под солнцем, как капельки крови.
И это сравнение вновь вернуло ее к мысли: «Я не одна, и моя потеря всего лишь капелька».
Сознание, что она не одна со своим горем, не уменьшало его, но как бы растворяло и облегчало душу.
— И ему бы тут быть, — неожиданно произнес Никита. — Помнишь, что на похоронах сказал профессор?
«В данном случае мы имеем дело с еще одним осколочком войны».
Вера Михайловна еще ниже склонила голову.
Обратно они решили идти пешком, пока не устанут.
На самом выходе с кладбища Вера Михайловна еще раз оглянулась. Ее гвоздики горели на солнце и были видны даже издали, Или это ей так показалось?
— Жил наш Сереженька, как весенний снежок, недолго… — тихо, как бы для себя, сказала она. — Порадовал нас — и растаял…
Никита ничего не ответил, только крепче прижал ее к себе.
— А ежели кто родится… — после долгой паузы осторожно произнес Никита. — Ну и подрастет, конечно, способности объявятся, то учиться сюда…
Уловив слово «учиться», Вера Михайловна вспомнила школу, своих учеников.
— Как-то там мой класс? Не забыли меня?
— Еще чего, — прогудел Никита.
Дорогу переходил детский садик. Впереди воспитательница, за нею парами детишки. Воспитательница то и дело оглядывалась и поторапливала малышей, но хвост все равно отставал. Здесь играли. Трое девочек пели недружно, но очень рьяно:
Антошка, Антошка, Пойдем копать картошку…Тот, кому адресовалась песенка, с лопаткой в руках, шел переваливаясь и будто не обращал внимания на дразнилку.
Антошка, Антошка…Он не выдержал, отмахнулся лопаткой. Девчурки, повизгивая, засмеялись.
— Быстрее, девочки, — сердилась воспитательница. — Но дети через секунду снова подхватывали:
Антошка, Антошка…Вера Михайловна и Никита остановились, взялись за руки и долго смотрели вслед детям.
1975–1976

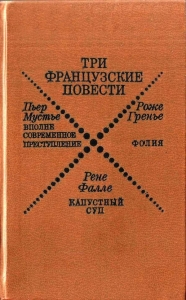

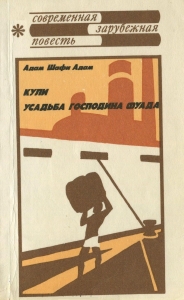


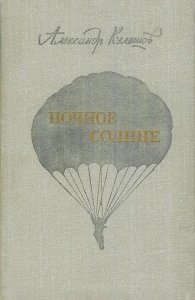




Комментарии к книге «Весенний снег», Владимир Яковлевич Дягилев
Всего 0 комментариев