С жизнью наедине
1974
Один
Дождь той весной лил как из ведра, грохотал по крышам. Вода просачивалась в мельчайшие трещины, размывала прочнейшие фундаменты. Земляные пласты, годами лежавшие незыблемо, сползали, точно кучи шлака, на дороги, увлекая за собой дома, автомобили и бассейны. Деревья падали, обрывая линии электропередачи, и вся округа сидела без света. Реки выходили из берегов, заливали дворы, разоряли дома. Те, кто любил друг друга, то и дело ругались, вспыхивали ссоры, а вода все прибывала, и ливень не утихал.
Лени тоже все злило. В школе она была новенькой, всем чужой — девушкой с расчесанными на ровный пробор длинными прямыми волосами, которая ходит в школу одна, поскольку друзей у нее нет.
Она сидела на кровати, подтянув худые колени к плоской груди. Рядом валялась открытая книга в мягкой обложке, «Обитатели холмов»[1]; уголки потрепанных страниц загибались. Сквозь тонкие стены Лени слышала, как мама говорит: «Эрнт, милый, ну пожалуйста, не надо. Послушай…» — и сердитый ответ отца: «Оставь ты меня в покое».
Опять они за свое. Ругаются. Орут. Еще немного, и мама разрыдается.
Такая погода будит в папе худшее.
Лени взглянула на часы у кровати. Если она не выйдет сейчас, опоздает в школу, а привлекать к себе внимание куда противнее, чем быть новенькой. Она это испытала на своей шкуре: за последние четыре года Лени сменила пять школ, и нигде ей не удалось стать своей, но она все равно не теряла надежды. Лени глубоко вздохнула, вытянула ноги и соскользнула с кровати. Прокралась к двери, прошла по коридору и остановилась на пороге кухни.
— Черт подери, Кора, — произнес отец, — ты прекрасно знаешь, каково мне.
Мама шагнула к нему, протянула руку.
— Тебе нужна помощь, милый. Ты ни в чем не виноват. Эти твои кошмары…
Лени кашлянула, чтобы привлечь их внимание.
— Привет, — сказала она.
Отец взглянул на нее, тяжело вздохнул и отошел от мамы. Вид у него был измученный и жалкий.
— М-мне в школу пора, — пояснила Лени.
Мама выудила из нагрудного кармана розового платья, какое носили официантки, пачку сигарет. Лицо ее осунулось от усталости: вчера мама работала в вечернюю смену, сегодня ей выходить в обед.
— Иди-иди, а то опоздаешь.
Голос у мамы был нежный, спокойный. Мягкий, как она сама.
Лени боялась и остаться дома, и уйти. Странно — или, скорее, глупо, — но ей частенько казалось, будто она единственный взрослый в семье. Балласт, без которого ветхая скрипучая лодка Олбрайтов неминуемо даст крен. Мама беспрестанно «искала себя». Что она только не перепробовала: посещала ЭСТ-тренинги[2], занятия по раскрытию человеческого потенциала, всевозможные духовные практики, ходила в унитарианскую церковь[3]. Даже буддизм исповедовала. И везде хватала по верхам — усваивала лишь то, что ей подходило. Чаще всего, думала Лени, дальше футболок и афоризмов дело не заходило. Что-нибудь в духе «Что есть, то есть, а чего нет, того нет». Толку от всего этого было чуть.
— Иди, — сказал папа.
Лени схватила со стула рюкзак и вышла. Когда за ней захлопнулась дверь, Лени услышала, что родители снова ругаются.
— Черт подери, Кора…
— Эрнт, ну пожалуйста, послушай меня…
А ведь когда-то все было иначе. По крайней мере, так говорила мама. До войны они были счастливы. Они тогда жили в трейлерном парке в Кенте, у папы была хорошая работа механика, а мама все время смеялась и танцевала под «Частичку моего сердца»[4], когда готовила обед (признаться, из тех лет Лени запомнилось лишь то, как мама танцевала).
Потом отца забрали в армию, отправили во Вьетнам, он был ранен, попал в плен. Без него мама совсем растерялась. Тогда-то Лени и поняла, до чего та слаба. Некоторое время мама меняла работы, они с Лени кочевали из города в город, пока не осели в коммуне хиппи в Орегоне. Там они работали на пасеке, шили мешочки с лавандой, которые продавали на местном рынке, и участвовали в антивоенных демонстрациях. Мама отчасти переняла повадки хиппи — ровно настолько, чтобы вписаться в коммуну.
Когда папа наконец вернулся домой, Лени его едва узнала. Из веселого красавца, которым она его запомнила, он превратился в угрюмого и злого брюзгу. Коммуна пришлась ему не по душе, и они переехали. Потом еще раз переехали. И еще раз. Его вечно что-то не устраивало.
Его мучила бессонница, он не задерживался ни на одной работе, хотя мама твердила, что лучшего механика не найти.
Вот и сегодня утром они ругались из-за того, что отца опять уволили.
Лени накинула капюшон. По дороге в школу она проходила мимо ухоженных домов, темных рощиц («держись от них подальше»), кафе быстрого питания, где по выходным собирались старшеклассники, бензоколонки, куда выстроилась длинная очередь из автомобилей, чтобы заправить бак по пятьдесят пять центов за галлон. Вот что всех раздражало в ту пору: цены на бензин.
Взрослых вообще все бесит, думала Лени. Война во Вьетнаме расколола страну. Каждый день, как ни развернешь газету, наткнешься на статью об очередном взрыве, устроенном «Синоптиками»[5] или ИРА. То самолет угонят, то Патти Хёрст[6] похитят. Теракт во время Олимпиады в Мюнхене и Уотергейтский скандал потрясли мир. А недавно в штате Вашингтон стали бесследно пропадать студентки. Мир полон опасностей.
Как же Лени хотелось, чтобы у нее был настоящий друг. Ей так нужно с кем-то поговорить.
Хотя что толку? Разговорами делу не поможешь. К чему тогда беседы по душам?
Ну да, папа частенько раздражается, кричит, они вечно сидят без денег и переезжают с места на место, чтобы улизнуть от кредиторов. Что поделать, такая жизнь. Главное — они любят друг друга.
И все же порой, особенно в такие дни, как этот, Лени от страха не находила себе места. Ей казалось, будто их семья стоит на краю высокого утеса, который того и гляди рухнет, как те дома, что увлекает за собой оползень на затопленных склонах Сиэтла.
***
После уроков Лени шла домой под дождем.
Они жили в переулке, который оканчивался тупиком. Участок по сравнению с соседскими выглядел неухоженно: длинный темно-коричневый одноэтажный дом с пологой крышей, цветочные кадки пусты, водосточные трубы забиты дрянью, дверь гаража не закрывается. Преющая серая гонтовая кровля поросла пучками сорняков. Укоризненно торчит голый флагшток, точно в знак папиной ненависти к тому, куда катится Америка. Мама называет папу патриотом, хотя он терпеть не может правительство.
Отец сидел в гараже на расшатанном верстаке возле помятого маминого «мустанга» с заклеенной скотчем крышей.
Вдоль стен громоздились картонные коробки с вещами, которые они так и не разобрали с тех пор, как переехали сюда.
Отец, как обычно, был в потрепанной камуфляжной куртке и драных джинсах. Он сидел, облокотившись на колени. Длинные черные волосы спутались, усы давно пора подровнять. Босые ноги в грязи. Но даже вот такой, изнуренный, ссутулившийся, он был красив, как кинозвезда. Все так говорили.
Он наклонил голову, так что волосы упали на глаза, взглянул на Лени и улыбнулся устало, но все равно тепло. Такой уж он человек: вспыльчивый, неуравновешенный, порой даже страшно делается, но это все потому, что он острее прочих чувствует боль, разочарование и любовь. Особенно любовь.
— Ленора, — голос у папы хриплый, как у заядлого курильщика, — а я тебя жду. Прости меня, пожалуйста. Сорвался. И вылетел с работы. Ты, наверно, чертовски злишься на меня.
— Ну что ты, пап, вовсе нет.
Лени знала, что папе и правда стыдно. Видела по лицу. Раньше она гадала: что толку извиняться, если все равно ничего не меняется? Но мама объяснила ей, что война и плен сломали отца. «Ему как будто хребет перебили, — сказала мама. — Но если любишь человека, то любым — и больным, и здоровым. Просто сейчас мы должны быть сильнее, чтобы он мог на нас опереться. Ему нужна моя поддержка. И твоя тоже».
Лени уселась рядом с отцом. Он обнял ее, прижал к себе.
— Миром правят идиоты. Это уже не моя Америка. Я хочу… — Он осекся.
Лени ничего не сказала. Она привыкла к тому, что папа всегда измучен и грустит. Он постоянно обрывал фразы на середине, словно боялся признаться в том, что его печалило и пугало. Лени понимала причину таких недомолвок: порой действительно лучше промолчать.
Отец вытащил из кармана мятую пачку сигарет, закурил, и Лени вдохнула привычный едкий дым.
Она знала, как больно отцу. Иногда она просыпалась и слышала, что папа плачет, а мама его успокаивает: «Тсс, Эрнт, не надо, не вспоминай, всё позади, ты дома, ты в безопасности».
Папа покачал головой, выпустил струйку сизого дыма.
— Наверно, мне просто… этого мало. Мне не работа новая нужна. А жизнь. Чтобы идти по улице и не бояться, что меня обзовут «убийцей детишек». Чтобы… — Отец вздохнул. Улыбнулся. — Ладно, не обращай внимания. Все будет хорошо. Все у нас будет хорошо.
— Да найдешь ты другую работу, — успокоила его Лени.
— Куда же я денусь, Рыжик, конечно, найду. Завтра будет лучше.
Родители всегда так говорили.
***
Холодным унылым утром в середине апреля Лени проснулась рано, перебралась в гостиную на привычное место на дряхлом диване в цветочек и включила программу «Сегодня». Поправила рога антенны, чтобы изображение не скакало. Наконец на экране появилась Барбара Уолтерс и проговорила:
— …на этой фотографии Патрисия Хёрст, которая теперь называет себя Таней, держит карабин М1 во время недавнего ограбления банка в Сан-Франциско. Свидетели сообщают, что девятнадцатилетняя внучка газетного магната, похищенная в феврале Симбионистской армией освобождения…[7]
Лени онемела. Ей до сих пор не верилось, что члены радикальной группировки могут вот так запросто вломиться в дом и похитить девушку. Получается, никто в этом мире ни от чего не застрахован? И как так вышло, что наследница миллиардного состояния стала революционеркой по имени Таня?
— Лени, собирайся, — сказала с кухни мама. — Тебе в школу пора.
Входная дверь со стуком распахнулась.
Вошел отец и улыбнулся так заразительно, что невозможно было не улыбнуться в ответ. Он казался сказочным великаном, которому тесно в кухоньке с низким потолком. Серые стены в потеках лишь подчеркивали его силу и бодрость. С волос его капала вода.
Мама у плиты жарила к завтраку бекон.
Папа влетел на кухню и включил транзистор, стоявший на крытом формайкой столе. Из динамика донесся хриплый рок. Папа рассмеялся и обнял маму.
Лени услышала, как он прошептал:
— Прости. Прости меня, пожалуйста.
— Ну конечно. — Мама обняла его так, словно боялась, что он ее оттолкнет.
Папа обхватил маму за талию, подвел к столу, выдвинул стул и крикнул:
— Лени, иди-ка сюда!
Она любила, когда родители звали ее к себе. Лени слезла с дивана и уселась рядом с мамой. Папа улыбнулся и протянул ей книжку в бумажной обложке. «Зов предков»[8].
— На, Рыжик, тебе понравится.
Он сел напротив мамы и придвинулся к столу. По папиному лицу Лени поняла: он опять что-то задумал. Ей и прежде доводилось видеть у него такое выражение лица — каждый раз, когда папа планировал изменить жизнь. Планов этих было не счесть: продать все, год путешествовать по шоссе вдоль океана в Биг-Сур и жить в палатке. Разводить норок (вот это был полный ужас). Продавать элитные семена в Центральной Калифорнии.
Отец выудил из кармана сложенный лист бумаги и с победным видом припечатал его ладонью к столу.
— Помнишь Бо Харлана, моего друга? — спросил он маму.
Мама задумалась.
— Из Вьетнама? — наконец уточнила она.
Папа кивнул и пояснил Лени:
— Бо Харлан был командиром экипажа, а я стрелком. Мы всегда друг друга прикрывали. Потом нашу вертушку подбили, а нас взяли в плен. Мы с ним прошли огонь и воду.
Лени заметила, что отца бьет дрожь. Закатанные рукава рубашки открывали следы от ожогов, тянувшиеся от кистей к локтям, морщинистые уродливые бледно-лиловые шрамы, которые никогда не загорали. Лени не знала, как отец их получил; она не спрашивала, а он не рассказывал. Но совершенно ясно, что в плену. Лени сама догадалась. Спина у отца тоже морщинилась паутиной шрамов.
— Они убивали его у меня на глазах, — сказал отец.
Лени встревоженно посмотрела на маму. Папа обычно о таком не рассказывал. И сейчас обе с испугом слушали его.
Отец притопнул ногой и побарабанил пальцами по столу. Развернул письмо, разгладил бумагу, чтобы Лени с мамой могли прочесть написанное.
Сержант Олбрайт,
Нелегко же вас отыскать. Меня зовут Эрл Харлан.
Мой сын Бо не раз писал, что вы с ним дружили. Спасибо вам за это.
В последнем своем письме он велел, если с ним что-нибудь случится в этом гребаном Вьетнаме, передать вам его участок на Аляске.
Участок небольшой. Сорок акров земли с развалюхой. Но если вы не боитесь работы, то здесь можно неплохо устроиться: кормиться тем, что дает земля, вдалеке от всяких придурков, хиппи и того бардака, который творится в прочих штатах.
Телефона у меня нету, так что пишите до востребования на адрес почты в Хомере. Рано или поздно я обязательно получу ваше письмо.
Участок расположен в самом конце дороги. Проезжаете мимо серебристой калитки с коровьим черепом, и там, не доезжая горелого дерева, начиная от милевого столба с номером 13, будет ваша земля.
Эрл
Мама по-птичьи наклонила голову и уставилась на отца:
— То есть этот… Бо… завещал нам дом? Настоящий дом?
— Представляешь, наш собственный дом. — Папа взволнованно вскочил со стула. — Дом, который принадлежит нам. Где можно ни от кого не зависеть, выращивать овощи, охотиться, жить свободно. Мы ведь так давно об этом мечтали, правда, Кора? Жить простой жизнью подальше от всего этого здешнего бреда. Там мы будем свободны. Ты только подумай!
— Погоди, — подала голос Лени. Все же это слишком даже для отца. — Аляска? Ты что, снова хочешь переехать? Мы же только что перебрались сюда.
Мама нахмурилась:
— Там ведь… ничего нет? Только медведи да эскимосы?
Отец встал, подошел к маме, рывком поднял ее на ноги, так что она пошатнулась и упала на него. От Лени не укрылось, что за папиным восторгом сквозило отчаяние.
— Мне это необходимо. Мне нужно место, где я снова смогу дышать. А здесь мне все кажется, что я того и гляди выползу из собственной шкуры. Там мои кошмары прекратятся, я наконец забуду обо всем. Я это точно знаю. Это нужно нам. Там все будет, как до Вьетнама.
Мама взглянула на отца. Ее бледность так резко контрастировала с его смуглой кожей и черными волосами.
— Подумай сама, — уговаривал отец.
Лени видела, как мама смягчается, как старается приспособить собственные желания к папиным, представить себе, каково это — жить на Аляске. Наверно, ей кажется, что это сродни семинарам по групповой психотерапии, йоге или буддизму. Ответ на вечные вопросы. Маме неважно, что, где и как. Маме нужен только папа.
— Наш собственный дом, — проговорила она. — Но… откуда же у нас деньги… может, тебе подать на инвалидность…
— Не начинай, — вздохнул отец. — Не буду я подавать. Я просто хочу жить по-другому. И я тебе обещаю, что научусь считать деньги. Клянусь. У меня еще кое-что осталось от моего старика. Пить стану меньше. И если ты так хочешь, даже начну ходить в группу поддержки для ветеранов.
Лени прекрасно знала, чем все кончится. Все равно, чего хочет она или мама.
Папа мечтает начать новую жизнь. Ему это нужно. А маме главное, чтобы он был счастлив.
Значит, они переедут на новое место в надежде, что на этот раз все получится. Они поедут на Аляску за новой мечтой. Лени сделает все, о чем попросят, причем с радостью. Опять пойдет в новую школу. Что поделать, такова любовь.
Два
На следующее утро Лени разбудил гром. Она лежала в постели, слушала стук дождя по крыше и представляла, как под окном прорастают грибы, как пробиваются сквозь землю выпуклые ядовитые шляпки, как аппетитно блестят. Вчера она уснула поздно, до глубокой ночи читала о бескрайней и опасной Аляске, оторваться не могла, чего сама от себя не ожидала. Лени казалось, что Последний рубеж[9] — точь-в-точь как ее отец. Необузданный. Впечатляющий. И непредсказуемый.
Лени услышала музыку. Из приемника доносилась дребезжащая мелодия. «Помешан на чувстве»[10]. Лени откинула одеяло и вылезла из постели. Мама курила на кухне у плиты. В электрическом свете она казалась бесплотной — с копной растрепанных со сна светлых волос, лицо скрыто в сизом сигаретном дыму. Белая майка так растянулась от стирок, что болталась на худых маминых плечах. Резинка на розовых трусах ослабла, и они сползали. На шее у ключиц багровел синяк — даже красивый, похожий на вспыхнувшую звезду; он оттенял мамины точеные черты.
— Почему не спишь? — спросила мама. — Еще рано.
Лени подошла к маме и положила голову ей на плечо. От мамы пахло табаком и духами с ароматом роз.
— Ты не спишь, и я не сплю, — ответила Лени.
Так всегда говорила мама. «Ты не спишь, и я не сплю». Ты и я. Эта прочная связь была для них утешением, и сходство, казалось, усиливало любовь. На самом деле с тех пор, как папа вернулся с войны, мама потеряла сон. Лени не раз просыпалась среди ночи и видела, как мама бродит по дому в прозрачном распахнутом халате. Мама что-то шептала себе под нос, но слов было не разобрать.
— Мы что, правда поедем на Аляску? — спросила Лени.
Мама уставилась на металлический перколятор, из-под стеклянной крышечки которого сочился черный кофе.
— Видимо, да.
— И когда?
— Ты же знаешь папу. Скоро.
— Ну доучиться-то я хоть успею?
Мама пожала плечами.
— А где он?
— Уехал еще затемно, продавать коллекцию монет, которая досталась ему от отца. — Мама отпила глоток кофе и поставила чашку на стол. — Аляска. Господи боже мой, почему сразу не Сибирь? — Она глубоко затянулась сигаретой. Выдохнула дым. — Жаль, у меня нет подруг. Не с кем поговорить.
— Я твоя подруга.
— Тебе тринадцать. А мне тридцать. И я должна вести себя, как положено матери. Вечно я об этом забываю.
В голосе матери сквозило отчаяние, и Лени испугалась. Она знала, как хрупко все: родители, семья. Человека легко сломать. Уж что-что, а это любой ребенок бывшего военнопленного знает. Лени до сих пор носила блестящий серебристый браслет в память о капитане, который не вернулся с войны[11].
— Ему нужен шанс. Пусть попробует все сначала. Это нужно нам всем. Может, на Аляске нам повезет.
— Как до этого повезло в Орегоне, Снохомише и с торговлей семенами, на которой мы должны были озолотиться. А помнишь, как он надеялся разбогатеть, продавая пинбольные автоматы? Давай хотя бы дождемся конца учебного года.
Мама вздохнула:
— Куда там. Ладно, иди одевайся, в школу пора.
— Сегодня нет уроков.
Мама помолчала, потом тихо произнесла:
— Помнишь то синее платье, которое тебе папа подарил на день рождения?
— Угу.
— Надень его.
— Это еще зачем?
— Не «зачем», а иди одевайся. Нам с тобой нужно кое-что сделать.
Лени не знала, что и думать. Она сердилась, но все равно послушалась. Она всегда делала, что велят. Так проще. Лени ушла к себе, порылась в шкафу и наконец нашла то платье.
— Вот, Рыжик, ты в нем будешь хорошенькая как картинка.
Ну да, как же. А то она не знала, как будет выглядеть: плоскогрудая тринадцатилетняя жердь в нелепом платье, открывавшем худые ляжки и костлявые коленки. Другие-то в ее возрасте уже без пяти минут женщины, а она ни то ни се. Да она единственная из одноклассниц, у кого еще не выросла грудь и не начались месячные!
Лени вернулась на кухню, пропахшую табаком и горелым кофе, плюхнулась на стул и открыла «Зов предков».
Мама вышла из комнаты только час спустя.
Лени ее едва узнала. Мама сделала пучок и залила волосы лаком. Надела облегающее платье цвета гнилой зелени, которое закрывало фигуру от подбородка до колен, с длинными рукавами, на пуговицах и с пояском. И чулки. И старушечьи туфли на низком каблуке.
— Ничего себе.
— Да-да. — Мама закурила сигарету. — Я знаю, что похожа на тетеньку из родительского комитета, которая устраивает благотворительную распродажу. — Веки мама накрасила голубыми тенями с блестками, приклеила накладные ресницы (кривовато — видимо, рука дрогнула) и гуще обычного подвела глаза. — У тебя нет других туфель?
Лени опустила глаза на туфли с тупыми, расширявшимися и загнутыми кверху, отчего пальцы оказывались чуть выше пяток. Точь-в-точь такая пара была у Джоанны Берковиц, и все девчонки в классе ахнули от восторга, когда та пришла в них в школу. Лени еле-еле упросила родителей купить такие же.
— Есть еще красные кроссовки, но в них вчера порвались шнурки.
— Ну и ладно, бог с ним. Поехали.
Лени послушно вышла за мамой из дома. Они уселись на рваные красные сиденья помятого, в латках грунтовки, «мустанга». Крышка багажника была пристегнута ярко-желтыми тросами, чтобы не распахивалась на ходу.
Мама опустила защитный козырек и посмотрелась в зеркало — не размазался ли макияж (Лени искренне верила, что ключ не повернется в замке зажигания, если мама не посмотрит в зеркало и не закурит сигарету). Подкрасила и втянула губы, чтобы равномерно распределить помаду, потом сняла излишек треугольным краешком манжеты. Снова полюбовалась в зеркало и наконец, довольная отражением, подняла козырек и завела машину. Заиграло радио, из маленьких черных динамиков загремела «Полночь в оазисе»[12].
— А ты знала, что на Аляске подстерегают сотни смертельных опасностей? — спросила Лени. — Можно сорваться с горы, провалиться под тонкий лед. Замерзнуть насмерть, умереть от голода. Тебя могут даже съесть.
— Пожалуй, зря тебе папа дал эту книгу. — Мама сунула в магнитолу кассету, и Кэрол Кинг запела: «Земля уходит у меня из-под ног…»
Мама подхватила мотив, и Лени тоже стала подпевать. Несколько блаженных минут они, как самые обычные люди, катили по Пятому шоссе к центру Сиэтла, мама перестраивалась всякий раз, когда на полосе перед ними показывалась машина, и на каждом маневре с сигареты, зажатой между двумя ее пальцами на руле, слетал пепел.
Через два квартала мама остановилась возле банка. Припарковалась. Снова взглянула в зеркало, не размазалась ли помада, велела Лени подождать и вышла из машины.
Лени наклонилась, заперла водительскую дверь и проводила маму взглядом. Мама не шла, а плыла, покачивая бедрами. Она была очень красива и отлично это знала. Они с папой вечно из-за этого ссорились. Из-за того, что на маму глазеют мужчины. Папу это бесило, но мама любила, когда на нее обращали внимание (хотя ей хватало ума в этом не признаваться).
Пятнадцать минут спустя мама вышла из банка. Она уже не плыла, а вихрем летела к машине, сжав кулаки. Она была вне себя. Злая как черт. Сцепила зубы, линия подбородка уже не казалась такой нежной.
— Сукин сын, — процедила мама сквозь зубы, распахнув дверь машины, села за руль, с силой захлопнула дверь и снова выругалась.
— Что случилось? — встревожилась Лени.
— Твой отец снял все деньги с нашего счета. А кредитную карту мне оформить отказались без подписи твоего или МОЕГО отца. — Она закурила. — Господи боже мой, семьдесят четвертый год на дворе. Я работаю. Зарабатываю деньги. И мне не дают кредитную карту без подписи мужа или отца. Миром правят мужчины, — подытожила мама и завела мотор.
Они промчались по улице и свернули на шоссе.
Мама так виляла из ряда в ряд, что Лени с трудом удавалось удержаться на месте. Она изо всех сил старалась усидеть и лишь через несколько миль осознала, что они выбрались из лабиринта холмистого центра Сиэтла и катят по тихим, тенистым улицам респектабельного района особняков. «Ничего себе», — еле слышно прошептала Лени. Она не была здесь так давно, что теперь едва узнавала окрестности.
Дома на этой улице источали благополучие. На бетонных подъездных дорожках стояли роскошные новые «кадиллаки», «олдсмобили-торнадо» и «линкольны-континентали».
Мама остановилась у серого каменного особняка с окнами в ромбовидных узорах. Дом стоял на небольшом холме, трава аккуратно подстрижена. Со всех сторон особняк окружали ухоженные клумбы. На почтовом ящике виднелась надпись: «Голлихер».
— Ого. Давненько же мы тут не были, — заметила Лени.
— Да уж. Подожди меня в машине.
— Ни за что! Недавно еще одна девушка пропала. Не останусь я одна тут.
— Тогда иди сюда. — Мама вытащила из сумочки расческу, подтянула Лени к себе и так рьяно принялась за ее длинные медно-рыжие волосы, словно те ей чем-то досадили. Лени вскрикнула от боли, когда мама стала заплетать ей косички, торчавшие, точно два водопроводных крана. — И не вздумай вмешиваться в разговор, Ленора. — Мама повязала косички бантиками.
— Куда мне косички, что я, маленькая, — захныкала Лени.
— Молчи и слушай, — предупредила мама. — Возьми с собой книжку и сиди тихо, пока взрослые разговаривают.
Мама открыла дверь и вышла из машины. Лени поспешила за ней.
Мама взяла Лени за руку и повела по дорожке, вдоль которой тянулась топиарная изгородь, к высокой парадной двери.
Мама покосилась на Лени, пробормотала: «Была не была» — и позвонила. Послышался лязг, похожий на перезвон церковных колоколов, и глухие шаги.
Несколько секунд спустя дверь открыла бабушка Лени. В строгом платье цвета баклажана, перехваченном в талии тонким пояском, и с тремя нитками жемчуга на шее она, казалось, хоть сейчас готова отправиться на ланч к губернатору. Каштановые кудри были щедро залиты лаком, точно праздничный кекс глазурью. Увидев их, бабушка распахнула густо накрашенные глаза.
— Коралина, — прошептала она, шагнула к дочери и раскрыла объятия.
— Папа дома? — спросила мама.
Бабушка отстранилась и печально опустила руки.
— Он сегодня в суде.
Мама кивнула.
— В дом-то хоть пустишь?
Лени заметила, что мамин вопрос бабушку расстроил: та наморщила белый напудренный лоб.
— Ну конечно! Ленора, как же я рада тебя видеть.
Бабушка отступила на шаг и провела их через небольшую переднюю, за которой виднелись комнаты и двери, по винтовой лестнице на второй этаж, где царил полумрак.
В доме пахло лимонным воском и цветами.
Бабушка привела их на крытую заднюю веранду с круглыми эркерными окнами и высокими стеклянными дверями. Веранда была уставлена растениями и белой плетеной мебелью. Лени усадили за столик лицом в сад.
— Как же я по вам обеим соскучилась, — призналась бабушка и, словно досадуя на саму себя за признание, развернулась и скрылась в доме. Несколько минут спустя вернулась с книгой. — Я помню, ты любишь читать. Даже в два годика не выпускала из рук книжку. Я купила ее тебе давным-давно… только не знала, куда послать. Героиня тоже рыжая, как ты.
Лени села и открыла книгу, которую перечитывала так часто, что помнила целые абзацы. «Пеппи Длинныйчулок». Детская книжка. Лени уже выросла из такого чтения.
— Спасибо, мэм.
— Пожалуйста, называй меня бабушкой, — печально ответила та и повернулась к маме.
Бабушка отошла вместе с мамой к белому кованому столику у окна. Рядом в золоченой клетке ворковали две белые птички. До чего же им грустно, подумала Лени, этим птицам, которым нельзя летать.
— Странно, что ты вообще меня пустила, — заметила мама.
— Ну что за глупость, Коралина. Я всегда тебе рада. Мы с отцом тебя любим.
— Зато моего мужа вы бы не пустили на порог.
— Он настроил тебя против нас. И между прочим, рассорил с друзьями. Ему хочется, чтобы ты принадлежала ему целиком…
— Я больше не стану это обсуждать. Я все решил. Мы уезжаем на Аляску.
Бабушка села.
— Господи боже мой!
— Эрнту там достался в наследство дом и участок земли. Будем выращивать овощи, охотиться — в общем, сами себе хозяева. Будем жить простой жизнью. Как первопоселенцы.
— Довольно. Сил нет слушать эту чушь. Ты готова за ним хоть на край света, но там тебя никто не спасет. Мы с отцом сделали все, чтобы защитить тебя от ошибок, но ты нашу помощь отвергла. Тебе все кажется, что жизнь — игра. Ты порхаешь…
— Не надо, — перебила мама и подалась вперед. — Разве ты не понимаешь, чего мне стоило сюда прийти?
После ее слов повисла тишина, было слышно лишь, как воркуют птицы.
На веранде вдруг словно повеяло холодом. Лени готова была поклясться, что дорогие полупрозрачные занавески всколыхнулись, но все окна были закрыты.
Лени попыталась представить маму в этом рафинированном, чопорном, закрытом мирке, но не сумела. Между той девушкой, какую хотели из мамы воспитать, и той, кем она стала, зияла непреодолимая пропасть. Что, если все, против чего они с мамой выступали, пока папы не было, — атомная энергия и война во Вьетнаме, — а потом семинары групповой психотерапии и различные религии — словом, все, что мама перепробовала, было всего лишь бунтом против того, как ее воспитывали?
— Не делай этого, Коралина. Это безумие. Не говоря уже о том, что это опасно. Брось его. Вернись домой и живи спокойно.
— Я его люблю. Ну почему ты никак не можешь этого понять?
— Кора, — мягко ответила бабушка, — пожалуйста, послушай меня хоть раз. Он опасен…
— Мы едем на Аляску, — отрезала мама. — Я пришла попрощаться и… — У нее сорвался голос. — Так ты поможешь нам или нет?
Бабушка долго молчала и то скрещивала на груди бледные жилистые руки, то снова их опускала.
— Сколько тебе надо на этот раз? — наконец спросила она.
* * *
На обратном пути мать курила сигарету за сигаретой. Радио включила погромче, чтобы не разговаривать. А Лени и не возражала: у нее, конечно, накопились вопросы, но она не знала, с чего начать. Сегодня ей открылся мир, таившийся под поверхностью ее собственного. Мама никогда толком не рассказывала Лени, как жила до встречи с папой. Они сбежали вместе — прекрасная романтическая история о любви наперекор всем невзгодам. Мама бросила школу и «жила ради любви». Такую вот сказку она сочинила для Лени. Теперь же Лени подросла и поняла, что, как во всякой сказке, и в этой истории есть свои дебри, темные места, разбитые сердца и сбежавшие девушки.
Мама явно злилась на бабушку и все равно приехала к ней за помощью, причем ей даже не пришлось просить денег, бабушка сама дала. Лени не понимала, в чем тут подвох, и тревожилась. Из-за чего же мать и дочь так отдалились друг от друга?
Мама свернула к их гаражу и заглушила мотор. Радио замолчало, и повисла тишина.
— Мы не расскажем папе, что бабушка дала нам денег, — предупредила мама. — Он человек гордый.
— Но…
— Лени, это не обсуждается. Ты не скажешь ему ни слова. — Мама вылезла из машины и захлопнула дверцу.
Озадаченная неожиданным маминым приказом, Лени выбралась из прокуренной машины и последовала за мамой по топкой грязной лужайке к входной двери мимо громоздившихся друг на друга запущенных можжевеловых кустов размером с «фольксваген».
Папа сидел за столом на кухне, разложив перед собой книги и карты, и пил из бутылки кока-колу. Поднял на них глаза, расплылся в улыбке.
— А я тут начертил наш маршрут. Поедем по Британской Колумбии и Юкону. Это почти две с половиной тысячи миль. Отметьте у себя в календариках, дамы: через четыре дня начнется наша новая жизнь.
— Но учебный год еще не кончился… — возразила Лени.
— Да что толку от учебы? Там ты пройдешь школу жизни, — ответил папа и посмотрел на маму. — Я продал «понтиак», коллекцию монет и гитару. Так что теперь у нас в карманах кое-что водится. Обменяем твой «мустанг» на «фольксваген», хотя, конечно, нам не помешали бы еще деньжата.
Лени покосилась на маму и поймала ее взгляд.
Не говори ему.
Неправильно это. Ведь обманывать нехорошо. А умалчивать — все равно что врать.
Но Лени ничего не сказала. Ей и в голову бы не пришло ослушаться маму. В этом огромном мире — а сейчас, когда перед ними маячила перспектива переезда на Аляску, он казался в три раза больше — мама была единственной, кому Лени могла безоговорочно доверять.
Три
— Лени, детка, просыпайся. Мы почти приехали!
Она моргнула и открыла глаза. Сперва увидела собственные коленки в крошках от чипсов, потом заваленную фантиками старую газету и раскрытую книгу «Властелин колец. Братство кольца», которая лежала на сиденье мягкой обложкой вверх, точно крошечная палатка. Пожелтевшие страницы книги торчали наружу. Главная драгоценность Лени, фотоаппарат «поляроид», висел у нее на шее.
На север они ехали по Аляскинской трассе, которая почти на всем протяжении была грунтовой. Путешествие выдалось чудесным — их первый настоящий семейный отпуск. Днем они катили по шоссе под ярким солнцем, а по ночам разбивали лагерь на берегах бурных рек и тихих ручьев, в тени горных пиков, похожих на зубья пилы, сидели возле костра и мечтали о будущем, которое с каждым днем казалось все ближе. На ужин жарили хот-доги, а на десерт пекли смор[13], рассказывали истории, гадали, что же ждет их в конце пути. Никогда еще Лени не видела родителей такими счастливыми. Особенно папу. Он смеялся, шутил и сулил им золотые горы. Он стал точь-в-точь таким, как раньше, до войны.
Обычно во время таких поездок Лени читала не отрываясь, на этот же раз то и дело засматривалась в окно, на величественные горы Британской Колумбии. Сидя на заднем сиденье микроавтобуса, Лени любовалась постоянно сменявшимися пейзажами и воображала себя то Фродо, то Бильбо, героиней собственных приключений.
«Фольксваген» наскочил колесом на какую-то неровность — может, на бордюр, — и вещи полетели на пол, закатились под рюкзаки и коробки с домашним скарбом. Автобус так резко остановился, что завизжали тормоза, запахло паленой резиной и выхлопными газами.
Сквозь заляпанное стекло в пятнах от насекомых струился солнечный свет. Лени перелезла через груду кое-как свернутых спальников и открыла дверь. Холодный ветер трепал их радужный плакат «Аляска или смерть!», прилепленный к автобусу изолентой.
Лени выбралась из фургона.
— Мы все-таки доехали, Рыжик. — Папа обнял ее за плечи. — Это край света. Хомер, штат Аляска. Сюда приезжают со всей округи, чтобы пополнить запасы. В общем, это последний оплот цивилизации. Говорят, что здесь кончается земля и начинается океан.
— Ух ты… — протянула мама.
Лени прочитала кучу статей и книг, пересмотрела массу фотографий, но первозданная, непостижимая красота Аляски все равно застала ее врасплох. Она казалась волшебной, неземной. Вдоль всего горизонта тянулись бескрайние снежные горы, ледяные вершины, точно ножи, впивались в ясное васильковое небо. Залив Качемак блестел на солнце, будто новенькая монета. Бухту усеивали лодки. Остро пахло морем. Над водой парили птицы, то ныряя, то проворно взмывая ввысь.
Знаменитая песчаная коса, о которой читала Лени, изгибаясь, вдавалась в море на четыре с половиной мили. Вдоль кромки прибоя ютились домики на сваях, пестрые, словно карнавальные; все здесь выглядело красочным, подвижным и мимолетным — последний привал, на котором любители приключений пополняют запасы, прежде чем отправиться в неизведанные дебри Аляски.
Лени вскинула «поляроид» и принялась щелкать затвором, карточки едва поспевали вылезать. Лени выхватывала фотографию за фотографией и смотрела, как проявляется изображение, как на лоснящейся белой бумаге постепенно проступают очертания свайных хижин над водой.
— Наш участок вон там, — отец указал на ожерелье изумрудных холмов в тумане, на другом берегу залива Качемак, — наш новый дом. Формально это полуостров Кенай, но по суше до Канека не добраться, его отделяют от материка горы и обширные ледники. Так что туда или на лодке, или на самолете.
Мама подошла и встала рядом с Лени. В расклешенных джинсах с низкой талией и маечке с кружевной каймой, бледная, белокурая, блеклая, как здешние пейзажи, Кора казалась ангелом, спустившимся на берег, который давно ее ждал. И мамин переливчатый смех звучал здесь так естественно: эхо китайских колокольчиков на входе в магазин. Подул холодный ветер, маечка облепила не стесненную лифчиком грудь.
— Ну как тебе, доченька?
— Класс, — ответила Лени и снова щелкнула затвором фотоаппарата, но бумаге и чернилам не под силу было передать великолепие гор.
Отец обернулся к ним. Уголки его губ морщила улыбка.
— Паром до Канека завтра. Давайте проедем по городу, а потом разобьем лагерь на берегу и прогуляемся. Что скажете?
— Ура! — в один голос воскликнули мама и Лени.
Они съехали с косы и покатили по улицам. Лени, прижавшись лицом к стеклу, разглядывала городок. Дома здесь встречались самые разные: вот огромный коттедж с блестящими стеклами, а рядом лачуга с прилепленным изолентой пластиком. Дома-шалаши, сараюшки, передвижные дома, трейлеры. Вдоль обочины автобусы с занавесочками на окнах; перед автобусами стулья. Попадаются и чистые ухоженные дворы за белеными заборчиками, и заваленные ржавой рухлядью, с брошенными машинами и старой бытовой техникой. Большинство домов недостроены. Магазины и конторы ютятся где попало — и в ржавых трейлерах, и в новеньких бревенчатых домах, и в придорожных халупах. Место, в общем, диковатое, но не совсем глушь, как ожидала Лени.
Они свернули на длинный серый берег, и папа включил радио. Автобус еле полз: шины вязли в песке. Вдоль берега стояли машины — пикапы, фургоны, легковушки. Люди явно жили здесь как придется — в палатках, сломанных автомобилях, лачугах из брезента и бревен, выброшенных морем на берег.
— Их зовут «крысами с косы», — пояснил отец, высматривая, где бы припарковаться. — Они работают у чартерных перевозчиков и на консервных заводах.
Папа втиснулся между заляпанным грязью «фордом-эконолайном» с номерами Небраски и лимонно-зеленым «АМС Гремлином», окна которого были закрыты картонками. Палатку установили на песке и для надежности привязали к бамперу автобуса: с моря сильно дуло.
Волны с шуршанием накатывали на берег и отступали. Люди вокруг наслаждались погожим деньком: бросали собакам фрисби, разводили костры, плавали на каяках. Величественные здешние пейзажи, казалось, приглушали их легкомысленную болтовню.
Весь день они, словно туристы, бродили по городку. Мама с папой купили пиво в салуне «Морской волчара», а Лени — мороженое в лачуге на косе. Еще они перерыли все корзины с вещами и обувью в конторе Армии спасения и нашли-таки каждому резиновые сапоги. За пятьдесят центов Лени купила пятнадцать старых книжек, почти все они были в пятнах и покоробились от воды. Папа добыл воздушного змея, чтобы запускать на пляже. Мама тайком сунула Лени деньги и сказала:
— Купи себе кассету.
Наконец они уселись за деревянный стол в маленьком кафе на самом краю косы и заказали свежевыловленного краба. Лени очень понравился солоновато-сладкий вкус белого крабьего мяса в растопленном сливочном масле. Чайки требовательно кричали, кружили над ними, поглядывая на хлеб и картошку фри.
На памяти Лени это был самый счастливый день. Казалось, дальше будет только лучше.
Наутро они загнали автобус на неповоротливую «Тастамену» (местные звали ее «Тасти»), приписанную к здешней судоходной компании. Старенький, но крепкий паром обслуживал отдаленные уголки: Хомер, Канек, Селдовию, Датч-Харбор, Кадьяк и практически необитаемые Алеутские острова. Едва автобус занял место среди других машин, как Лени с родителями тут же побежали на палубу, к перилам. Наверху уже толпились пассажиры, в основном косматые бородачи в бейсболках, клетчатых фланелевых рубашках, дутых жилетах и грязных джинсах, заправленных в резиновые сапоги. Нескольких юных хиппи сразу можно было узнать по рюкзакам, рубашкам из варенки и сандалиям.
Огромный паром, изрыгая клубы дыма, попятился от причала, и вскоре Лени поняла, что залив Качемак вовсе не такой тихий, как казалось с берега. Бурное море белело барашками, волны накатывали друг на друга, били в борт. Завораживающее, волшебное зрелище. Лени отщелкала по меньшей мере дюжину кадров и спрятала карточки в карман.
В волнах показалась стая косаток, с камней на них заревели морские львы. В водорослях у прибрежных скал охотились выдры.
Наконец паром повернул и с пыхтением обогнул изумрудный холмистый берег, который защищал их от ветра, бушевавшего в заливе. Здесь волн не было; паром встретили покрытые буйной растительностью острова с заваленными корягами каменистыми берегами.
— Подходим к Канеку! — объявили по громкой связи. — Следующая остановка — Селдовия!
— Вперед, Олбрайты. В автобус! — смеясь, скомандовал отец.
Они пробрались меж припаркованных машин и уселись в «фольксваген».
— Жду не дождусь, когда увижу наш новый дом, — призналась мама.
Паром причалил, они съехали на берег и покатили в гору по широкой грязной дороге, по бокам которой рос густой лес. На вершине холма стояла белая дощатая церковь с голубым куполом, увенчанным православным крестом. За церковью виднелось огороженное штакетником маленькое кладбище с деревянными крестами.
Они взобрались на вершину холма, спустились по склону на другую сторону, и перед ними предстал Канек.
— Это он? — Лени выглянула в грязное окно. — Не может быть.
Она увидела припаркованные на лужайках трейлеры, возле них стулья, рядом дома, которые в штате Вашингтон назвали бы лачугами. Перед одной из таких лачуг были привязаны три тощие псины, каждая стояла на своей покосившейся конуре и заходилась визгливым лаем. Кое-где в траве виднелись дыры и борозды: собаки от скуки рыли землю.
— Это старинный город с удивительной историей, — сказал папа. — Основали его алеуты. Потом здесь жили русские торговцы мехом, а следом за ними поселились золотоискатели. В 1964 году случилось землетрясение, да такое сильное, что земля за секунду опустилась на пять футов. Дома обрушились в море.
Лени во все глаза смотрела на покосившиеся халупы с пузырившейся краской, которые тянулись вдоль исшарканного дощатого тротуара. Город стоял на сваях в илистой низине, за низиной — гавань с множеством рыбацких лодок. Главную улицу не мостили, длиной она была от силы в квартал.
По левую руку Лени увидела салун «Лягающийся лось». Стены его почернели, обуглились, здесь явно отбушевал пожар, но в грязное окно можно было разглядеть посетителей. В десять утра в четверг пьют в выгоревшем остове салуна.
С той стороны улицы, что ближе к заливу, Лени увидела закрытый пансион, который, как заметил папа, выстроили, должно быть, сотню лет назад для русских торговцев пушниной. Рядом с ним призывно распахнул двери кабачок «Рыба есть!», размером не больше кладовки, за стойкой сидели посетители. У входа в гавань была припаркована пара старых пикапов.
— А школа где? — встревожилась Лени.
Разве это город? Глухой поселок. Через такие вот городки сотню лет назад тянулись на запад караваны крытых повозок, здесь никто не задерживался. Есть ли здесь вообще ее ровесники?
Отец подъехал к узкому дому в викторианском стиле, со шпилем на крыше. Когда-то дом был синим, там и сям на фасаде, где новая краска облупилась, проступали пятна этого цвета. На окне виднелась золоченая надпись с завитушками: «Пробирная контора». Под ней кто-то прилепил скотчем бумажку, на которой накорябал от руки: «Фактория/Универмаг».
— Ну что, Олбрайты, давайте спросим дорогу.
Мама выскочила из автобуса и устремилась к очагу цивилизации. Когда она открыла дверь, над ее головой тренькнул колокольчик. Лени скользнула следом за мамой, обняла ее сзади.
В окна за их спиной пробивались солнечные лучи, освещая переднюю часть магазина, в остальном же помещении горела одна-единственная голая лампочка. Дальний конец зала тонул в тени.
В магазине пахло старой кожей, виски и табаком. Вдоль стен тянулись стеллажи с пилами, тяпками, топорами, меховыми унтами, рыбацкими резиновыми сапогами, горами носков, коробками с налобными фонарями. На каждом столбе висели капканы и цепи, смотанные в петли. На полках и на прилавке — с десяток чучел животных, на блестящей деревянной дощечке навеки застыла длиннющая чавыча, на стенах прибиты головы лосей, оленьи рога, белые звериные черепа. В углу пылилось чучело лисицы. Слева стояли продукты: мешки картошки, ведра лука, пирамиды банок консервированного лосося, краба, сардин, мешки риса, муки и сахара, банки растительного масла. А вот и любимый ряд Лени — всякие вкусности. Красивые разноцветные фантики напоминали о доме. Картофельные чипсы, стаканчики с карамельным пудингом, коробки с овсяными хлопьями.
В такой магазинчик вполне могла бы заглянуть сама Лора Инглз Уайлдер[14].
— Покупатели!
Лени услышала, как кто-то хлопнул в ладоши. Из тени появилась чернокожая женщина с торчащими в разные стороны кудряшками — высокая, широкоплечая и такая толстая, что из-за полированного деревянного прилавка ей пришлось протискиваться боком. Лицо усеивали крохотные черные родинки.
Женщина двинулась к ним, да так энергично, что загремели костяные браслеты на ее крепких запястьях. Она была уже немолода: лет пятидесяти, а то и старше. На женщине была длинная лоскутная джинсовая юбка, непарные шерстяные носки и сандалии с открытыми носами, а под расстегнутой длинной синей рубахой виднелась линялая футболка. В ножнах на широком кожаном ремне висел нож.
— Милости просим! Да вы не смущайтесь, это только кажется, что здесь все свалено в кучу, я-то знаю, где что лежит, вплоть до уплотнительных колец и мизинчиковых батареек. Кстати, местные зовут меня Марджи-шире-баржи.
— И как вы их еще за это не поубивали? — улыбнулась мама так очаровательно, что невозможно было не улыбнуться ей в ответ.
Марджи-шире-баржи зашлась лающим смехом. Казалось, она задыхается.
— Люблю женщин с юмором. Так с кем же я имею удовольствие беседовать?
— Кора Олбрайт, — представилась мама. — А это моя дочь Лени.
— Добро пожаловать в Канек, дамы. Туристы к нам заглядывают нечасто.
Тут в магазин вошел папа и заметил:
— А мы здешние, вернее, будем. Только что приехали.
Марджи-шире-баржи удивленно наклонила голову, так что ее двойной подбородок превратился в тройной.
— Здешние?
Папа протянул руку.
— Бо Харлан завещал мне свой дом, вот мы и переехали.
— Ну надо же! А я ваша соседка, Мардж Бердсолл. Мой дом в полумиле от вашего. Там и знак есть. Вообще тут многие живут сами по себе, в тайге, без всяких удобств, ну а к нашим домам, слава богу, есть дорога. Кстати, вы припасы-то сделали? Если хотите, открою вам счет. Можно расплатиться деньгами, можно добычей или отработать. У нас здесь так принято.
— Вот за такой жизнью мы сюда и ехали, — ответил папа. — С деньгами у нас, признаться, туговато, так что я лучше отработаю. Я отличный механик. Могу починить практически любой движок.
— Здорово. Я всем так и скажу.
Папа кивнул:
— Спасибо. Нам нужен бекон. Еще, пожалуй, рис. И виски.
— Вон там, — указала Марджи-шире-баржи, — за топорами и тесаками.
Папа скрылся в глубине магазина.
Марджи-шире-баржи повернулась к маме и окинула ее с головы до ног оценивающим взглядом.
— Я так понимаю, Кора Олбрайт, об Аляске мечтал ваш муж, вот вы и снялись в одночасье и приехали сюда.
Мама улыбнулась:
— Да мы всегда так: захотели — сделали. А иначе жить скучно.
— Понятно. Но здесь вам придется научиться выживать. Ради себя и вашей девочки. Нельзя рассчитывать только на мужа. Вы должны знать, как уберечь себя и красавицу-дочку.
— Звучит страшновато, — заметила мама.
Марджи-шире-баржи наклонилась, подтащила к себе большую картонную коробку и принялась в ней рыться. Черные пальцы так и порхали над коробкой, будто на пианино играли. Наконец Мардж выудила два здоровенных оранжевых свистка на черных ремешках и повесила их на шею маме и Лени.
— Это от медведей. Обязательно пригодится. Урок первый: на Аляске нельзя ходить тихо и без оружия. По крайней мере, в такой глуши и в это время года.
— Вы хотите нас напугать? — отшутилась мама.
— Именно так. Не боятся только дураки. Сюда ведь много народу приезжает, с фотоаппаратами и мечтами о простой жизни. И каждый год на Аляске пропадает пять человек из тысячи. Исчезают без следа. Ну а эти мечтатели… большинство сдается и убегает после первой зимы. Ждут не дождутся, когда можно будет вернуться на материк, к автокинотеатрам и нормальному отоплению: щелкнул выключателем — и сразу тепло. И к солнечному свету.
— Вас послушать, здесь на каждом шагу подстерегают опасности, — поежилась мама.
— Видите ли, Кора, на Аляску приезжают по двум причинам: либо бегут куда-то, либо откуда-то. И вот за теми, которые здесь по второй причине, нужно смотреть в оба. Да и не только люди опасны. Аляска непредсказуема. Глазом моргнуть не успеешь, как эта Спящая красавица превратится в стерву с обрезом. У нас ведь как говорят: тут ошибаются только раз. Потому что вторая ошибка станет последней.
Мама закурила. Рука у нее дрожала.
— Да уж, Марджи, умеете вы встретить гостей добрым словом.
Марджи-шире-баржи снова расхохоталась.
— Ваша правда, Кора. Совсем я в тайге одичала. — Мардж ободряюще сжала хрупкое мамино плечо. — Ладно, успокою вас: здесь, в Канеке, все как одна семья. В этой части полуострова круглый год живет человек тридцать от силы, так что уж о своих мы заботимся. Мой участок рядом с вашим. Если вам что-нибудь понадобится, что угодно, — берете рацию и вызываете меня. И я прибегу.
* * *
Папа положил на руль листок из блокнота с картой, которую нарисовала для них Марджи-шире-баржи. Канек на карте был изображен красным кружком, из которого выходила одна-единственная прямая линия. Это была дорога (она здесь вообще-то одна, пояснила Мардж) из города в Оттер-Коув. Прямую перечеркивали три красных креста. Первый слева — вотчина Мардж, затем справа владения Тома Уокера и последний, третий, в самом конце прямой, — участок Бо Харлана.
— Ну что, — проговорил папа, — едем две мили мимо Ай-сикл-Крик, там будет участок Тома Уокера, с железными воротами. А наш чуть дальше, в самом конце дороги, — пояснил папа и уронил карту на пол. Они катили к окраине городка. — Мардж сказала, не заплутаем.
С грохотом проехали по шаткому мосту, изгибавшемуся над хрустально-голубой рекой. За мостом тянулись болота, усыпанные желтыми и розовыми цветами, и взлетно-посадочная полоса, где стояли на приколе четыре дряхлых самолетика.
За посадочной полосой гравий закончился, началась каменистая грунтовка. По обе стороны от дороги густо росли деревья. Лобовое стекло усеивали капли грязи и пятна от комаров. Вся дорога была изрыта ямами величиной с детскую ванночку, так что старенький автобус немилосердно трясло. «Ни хрена себе!» — восклицал папа, когда они в очередной раз едва не падали с сидений. По пути не встретилось ни единого дома, никаких признаков цивилизации, пока они не доехали до заваленной ржавой рухлядью дорожки. На обочинах догнивали автомобили. На табличке от руки было написано: «Бердсолл». Жилье Марджи-шире-баржи.
Дальше дорога стала еще хуже. Ухаб на ухабе. Гранит и грязные лужи. Вдоль дороги тянулись заросли травы, репейника и такие высокие деревья, за которыми ничего не было видно.
Вот теперь они и правда забрались в глушь.
Они преодолели очередной пустой отрезок дороги и очутились у ржавых железных ворот, на которых торчал белесый коровий череп. Владения Уокера.
— Что-то мне не внушают доверия соседи, которые украшают ворота костями мертвых животных, — призналась мама и вцепилась в дверную ручку. На очередной выбоине автобус тряхнуло, и ручка осталась у мамы в руке.
Через пять минут папа врезал по тормозам. Еще двести футов — и они сверзились бы с обрыва.
— Господи боже, — прошептала мама. Дорога кончилась, впереди только подлесок и гранитные скалы. Край света. В прямом смысле слова.
— Доехали! — папа выпрыгнул из автобуса и захлопнул дверь.
Мама посмотрела на Лени. Обе думали об одном: здесь ничего нет, кроме грязи, деревьев и скал, с которых они чуть не сорвались в тумане. Они вылезли из автобуса и встали рядышком. Где-то неподалеку — скорее всего, под видневшейся невдалеке скалой, — ревели и бушевали волны.
— Смотрите, какая красотища! — Папа раскинул руки, будто хотел все это обнять. Казалось, он рос и крепчал на глазах, точно дерево, широко расставившее ветви. Ему нравилась эта глушь, эта пустота. Он за этим сюда и ехал.
Тропинка к их дому вела по узкому перешейку, с обеих сторон его сжимали отвесные скалы, о которые бился океан. Ревел он так громко, что звенело в ушах. Лени вообразила, как молния или землетрясение отколет этот клочок земли и он поплывет, точно дрейфующая крепость на острове.
— Вот наша дорожка, — указал папа.
— Дорожка? — спросила мама, глядя на поросшую тоненьким молодым ольшаником тропинку. Казалось, по ней не ездили много лет.
— Бо ведь уехал отсюда давным-давно. Ничего, мы потом расчистим дорожку, ну а пока пойдем пешком, — сказал папа.
— Пешком? — не поняла мама.
Папа принялся доставать из автобуса вещи. Пока мама и Лени стояли и глазели на деревья, он разложил самое необходимое в три рюкзака и скомандовал:
— Ну все. Пошли.
Лени оторопело уставилась на рюкзаки.
— Давай, Рыжик. — Папа поднял рюкзак размером чуть ли не с «бьюик».
— Ты хочешь, чтобы я это несла? — не поверила Лени.
— Если ты хочешь поесть и лечь спать в доме, — ухмыльнулся папа. — Вперед, Рыжик. Не бойся, справишься.
Папа навьючил на Лени рюкзак, и она почувствовала себя черепахой, которой велик панцирь. Если упадет, уже не встанет. Лени преувеличенно осторожно отошла в сторону, а папа помог маме надеть рюкзак.
— Ну что, Олбрайты, — папа подхватил свой рюкзак, — пошли домой!
Он устремился вперед, размахивая руками в такт шагам. Лени слышала, как чавкает и хлюпает грязь под подошвами его старых армейских ботинок. Папа насвистывал себе под нос, словно Джонни Эпплсид[15].
Мама с тоской оглянулась на автобус, потом повернулась к дочери и улыбнулась, но Лени показалось, что в маминой улыбке сквозит не радость, а страх.
— Ну что ж, — сказала мама, — пошли.
Лени взяла ее за руку.
Они шли по узкой извилистой тропинке, по обеим сторонам шумело море, но чем глубже они забирались в лес, тем тише становился прибой. Пространство перед ними ширилось: все больше деревьев, больше земли, больше теней.
— Господи боже мой, — чуть погодя вздохнула мама. — Да сколько нам еще идти? — Она запнулась о камень и рухнула на колени.
— Мама! — Лени машинально протянула ей руку, рюкзак перевесил и буквально швырнул ее на землю. В рот набилась грязь, не отплюешься.
Папа в мгновение ока подбежал к ним и помог подняться.
— Держитесь-ка вы за меня, — сказал он, и все трое пошли дальше.
Деревья теснили друг друга, боролись за место, и над тропинкой стоял полумрак. В пробивавшихся сквозь кроны лучах солнца висела пыль. Пока Лени с родителями шли по лесу, лучи густели, меняли цвет. Поросшая лишайниками земля пружинила под ногами, точно шагаешь по зефиру. Вскоре Лени заметила, что тени уже ей по щиколотку, словно не солнце садилось, а поднималась тьма. А может, здесь всегда темно.
Ветки лезли в лицо, ноги вязли в топкой почве. Наконец они вышли на светлую поляну, поросшую травой и цветами. Их сорок акров земли располагались на полуострове — широкая и длинная полоса суши, по форме напоминавшая палец, с трех сторон окруженная водой. Слева и справа бился о скалы прибой, посередине изогнулся подковой маленький пляж. Там море было тихим и чистым.
Лени, пошатываясь, выбралась на поляну, расстегнула ремни рюкзака и сбросила его на землю. Мама последовала ее примеру.
А вот и дом, который им завещали. Маленькая, почерневшая от старости бревенчатая лачуга с поросшей мхом покатой крышей, ее украшали десятки выбеленных временем звериных черепов. Гнилая веранда, заставленная зелеными от плесени пластиковыми стульями. Слева, между домом и лесом, заброшенные загоны для скотины и полуразрушенный курятник.
И мусор, мусор повсюду. В густой траве гора ржавых спиц, бочки из-под бензина, мотки бурой проволоки, старенькая деревянная стиральная машинка — валки с ручкой для отжима.
Папа упер руки в боки, запрокинул голову и завыл по-волчьи. Потом замолчал, и снова наступила тишина. Папа обхватил маму и закружил.
Когда он наконец ее отпустил, мама споткнулась, чуть не упала и рассмеялась, хотя в глазах ее был страх. В такой хижине впору жить какому-нибудь дряхлому беззубому отшельнику. Она же крошечная.
Неужели им придется втроем ютиться в одной комнатке?
— Вы только посмотрите! — Папа обвел окрестности рукой. — Вот он, Оттер-Коув.
Небо в этот предзакатный час окрасилось изумительными оттенками, а море и трава, казалось, светились изнутри, точно в какой-нибудь сказочной стране. Лени в жизни не видала таких ярких красок. Подножия гор на другом берегу были густофиолетовыми, а вершины — кипенно-белыми.
Внизу изгибался пляж, их собственный пляж — серая галька в легкой белой пене прибоя. На берег спускалась зигзагом шаткая лестница. Доски почернели от времени и от плесени, каждую ступеньку обтягивала мелкая проволочная сетка. Лестница выглядела до того ветхой, что, казалось, дунь ветер посильнее — и она развалится.
Отлив обнажил прибрежные камни, покрытые илом и водорослями. На камнях блестели черные ракушки мидий.
Лени вспомнила, как папа рассказывал: приливной бор в верховьях залива Кука такой, что можно заниматься серфингом, да и здесь в прилив вода поднимается ого-го как. Выше только в заливе Фанди. Лени лишь сейчас в полной мере это осмыслила, когда увидела, до какой ступеньки может дойти вода. Должно быть, в прилив здесь красиво, теперь же, когда море отступило, обнажив ил, Лени догадалась, что в отлив к ним на лодке не добраться.
— Ладно, пошли смотреть дом, — сказал папа.
Он взял Лени за руку и повел по заросшей травой и цветами поляне, мимо мусора — перевернутых бочек, штабелей деревянных поддонов, старых ведер и сломанных ловушек для крабов. Вокруг жужжали комары, кусались, пили кровь.
Мама остановилась на крыльце, не решаясь войти. Папа выпустил руку Лени, вприпрыжку взбежал по лестнице — ступени прогибались под его ногами, — распахнул дверь и скрылся внутри.
Мама глубоко вздохнула и с силой шлепнула себя по шее, оставив кровавый след.
— М-да… — протянула она. — Я не так себе все представляла.
— Я тоже, — ответила Лени.
Обе долго молчали, а потом мама сказала:
— Ладно, пошли.
Она взяла Лени за руку, и они поднялись по ветхим ступенькам в темную хижину.
Первым делом Лени заметила запах.
Дерьмо. В доме нагадил какой-то зверь, — по крайней мере, Лени очень надеялась, что это был именно зверь. Она зажала рот и нос ладонью.
В полумраке из тени проступали смутные очертания предметов. С балок свисала похожая на мотки веревки паутина. От пыли было трудно дышать. Пол был усыпан дохлыми насекомыми, они так и хрустели под ногами.
— Фу, — скривилась Лени.
Мама распахнула грязные занавески, и комнату залил свет. Пыль в лучах солнца стояла столбом.
Внутри домик оказался просторнее, чем выглядел со двора. Сколоченный из грубой фанеры пол напоминал лоскутное одеяло, куски не подходили друг другу по цвету и фактуре. На голых бревенчатых стенах висели капканы, удочки, корзины, сковородки, ведра, сети. В углу главной комнаты ютилась какая ни есть кухня. Лени увидела старый примус и раковину без сливной трубы, пространство под раковиной скрывала занавесочка. На кухонном столе стоял пыльный любительский радиоприемник времен, наверно, Второй мировой войны. В центре комнаты обосновалась черная дровяная печь, жестяная узловатая труба ее указывала в потолок, точно перст в небо. Видавший виды диван, перевернутый ящик с надписью «Керосин» и складной столик с четырьмя железными стульями — вот и вся обстановка. Узкая крутая лестница вела на залитый светом чердак; чтобы пройти в узкий дверной проем слева, нужно было раздвинуть занавеску из бусин кислотных расцветок.
Лени отвела в сторону пыльные бусины и очутилась в каморке размером не больше валявшегося на полу комковатого матраса в грязных пятнах. Здесь на вбитых в стену крюках тоже висел всякий хлам. Пахло пометом и осевшей пылью.
По-прежнему зажимая рот ладонью, чтобы не сблевать, Лени вернулась в гостиную (хрусть-хрусть — дохлые насекомые под ногами).
— А где туалет?
Мама ахнула, бросилась к двери, распахнула ее и выбежала во двор.
Лени выскочила следом на проседавшую веранду и вниз по разваливающейся лестнице.
— Вот он. — Мама указала на приютившуюся между деревьев деревянную будку с вырезанным на двери полумесяцем: тут уж сомнений быть не могло.
Уборная во дворе.
Выгребная яма.
— Вот дерьмо, — прошептала Кора.
— В прямом смысле, — в тон ей ответила Лени.
Лени прижалась к маме. Она понимала, каково той сейчас. Значит, Лени должна быть сильной за двоих. Так уж у них с мамой повелось. Они были сильными по очереди. Потому и продержались все годы войны.
— Спасибо, детонька. И правда смешно. — Мама обвила Лени рукой, прижала к себе. — Ничего, как-нибудь приспособимся, верно? Обойдемся без телевизора. И без водопровода. И без электричества. — Тут у мамы сорвался голос, и последняя фраза прозвучала как крик отчаяния.
— Справимся, мам, — с деланой уверенностью ответила Лени, стараясь не выдать страха. — Да и папа наконец-то будет счастлив.
— Думаешь?
— Знаю.
Четыре
Наутро они засучили рукава и принялись за дело. Лени с мамой убирали в домике. Подметали, мыли, скребли. Кухонная раковина оказалась «сухой» (водопровода-то не было), то есть воду сперва требовалось принести с протекавшего неподалеку ручья и вскипятить, а потом уже пить, готовить или мыться. Электричества не было. Газовые лампы висели на стропильных балках, стояли на фанерной столешнице. Под домом был устроен погребок площадью восемь на десять футов, не менее, вдоль его стен тянулись пыльные провисшие полки, уставленные грязными пустыми стеклянными банками и покореженными корзинами. Погребок они тоже вымыли. Папа же тем временем расчищал дорогу к дому, чтобы можно было привезти во двор оставшиеся вещи.
К концу второго дня — который, к слову, длился целую вечность, солнце все светило и светило, — уже в одиннадцатом часу, они закончили работу.
Папа развел на пляже — их собственном пляже — костер, они уселись на бревнах вокруг огня, ели сэндвичи с тунцом и пили теплую кока-колу. Папа набрал мидий и венерок, научил Лени с мамой их открывать. Они глотали склизкое содержимое раковин.
А ночь все не наступала. Небо окрасилось в густые лилово-розовые тона. Сквозь пляшущее рыжее пламя костра, над которым вились и мелодично потрескивали искры, Лени смотрела на сидевших под шерстяным одеялом родителей. Мама дремала у папы на плече. Папина рука любовно покоилась у нее на бедре. Лени их сфотографировала.
Папа заметил вспышку, услышал жужжание «поляроида», поднял глаза и улыбнулся.
— Мы здесь будем счастливы, Рыжик. Ты же это понимаешь?
— Ага, — ответила Лени и, может быть, впервые в жизни сама поверила в это.
* * *
Лени проснулась от стука: кто-то — или что-то — барабанил в дверь домика. Она выползла из спального мешка и отпихнула его, впопыхах опрокинув стопку книг. Внизу зашуршали бусины, послышались мамины и папины шаги: родители побежали к двери. Лени проворно натянула вчерашнюю грязную одежду и кубарем слетела с лестницы.
Во дворе стояла Марджи-шире-баржи с двумя товарками; позади них валялся на траве ржавый мотоцикл, а рядом был припаркован вездеход, груженный бухтами мелкой проволочной сетки.
— Здорово, Олбрайты! — весело проговорила Марджи-шире-баржи и махнула им широкой ладонью. — Я не одна, с подругами, — и указала на двух женщин.
Первая — словно эльф, ростом с ребенка, длинные седые волосы копной, а вторая высокая и худая. Все трое во фланелевых рубашках и грязных джинсах, заправленных в высокие коричневые резиновые сапоги, у каждой по инструменту: у одной бензопила, у другой колун, у третьей плотницкий топорик.
— Мы приехали вам помочь, — пояснила Марджи-шире-баржи. — Надо же с чего-то начинать. И привезли кое-что полезное.
Лени заметила, как нахмурился отец:
— Что же мы, по-вашему, сами не справимся?
— У нас тут так принято, Эрнт, — ответила Марджи-шире-баржи. — Уж поверьте: прочитай вы хоть сотню книг, все равно первая здешняя зима застанет вас врасплох.
Женщина-эльф вышла вперед. Худенькая, носик такой острый, что хоть хлеб режь. Из кармана рубашки торчали кожаные перчатки. Маленькая, но держалась уверенно.
— Меня зовут Натали Уоткинс. Мардж сказала, вы только что приехали и еще не освоились. Я тоже десять лет назад была новичком. Приехала сюда за мужчиной. Старая история.
С мужчиной мы расстались, но я здесь уже прижилась. Теперь у меня даже собственная лодка есть, хожу на рыбалку. Так что я понимаю, какая мечта привела вас сюда, но этого мало. Вам придется быстро всему учиться. — Натали натянула желтые перчатки. — Кстати, стоящего мужика я здесь так и не встретила. Как говорится, народу много, а выбрать не из кого.
Следом вышла подруга Натали. Высокая, гибкая, как тростинка, со светло-каштановой косой почти до пояса и блеклыми, как закатное небо, глазами.
— Добро пожаловать в Канек. Я Женева Уокер. Джен. Дженни. Генератор. Зовите как хотите. — Она улыбнулась, и на щеках показались ямочки. — Я-то родом из Фэрбанкса, а муж отсюда. Я влюбилась в его края, вот и осталась, и живу тут уже двадцать лет.
— Вам нужны запасник и парник, и это как минимум, — вмешалась Мардж. — Когда старина Бо купил участок, думал, все тут перестроит. Но потом ушел на войну… и, в общем, так ничего и не доделал.
— Запасы? — не расслышал отец.
Марджи-шире-баржи энергично кивнула:
— Запасник. Это такой тайничок на сваях. Там хранят мясо, чтобы медведи не добрались. А то они в это время года голодные.
— Ну что, Эрнт, за работу? — Натали наклонилась и взяла лежавшую под ногами пилу. — Я привезла портативную лесопилку. Вы будете валить деревья, а я пилить доски. Надо же с чего-то начинать.
Папа кивнул, ушел в домик, надел дутый жилет и отправился с Натали в лес. Вскоре до Лени донеслось жужжание бензопилы и стук топора.
— А я начну делать парник, — сказала Женева. — Вроде бы у Бо оставались виниловые трубы…
Марджи-шире-баржи подошла к маме и Лени.
Поднялся ветерок, и моментально похолодало. Мама скрестила руки на груди. Должно быть, замерзла — на ней была только футболка Grateful Dead и расклешенные джинсы с высокой талией. По голым маминым рукам бегали мурашки. На щеку сел комар. Мама убила его, размазав по щеке кровь.
— Да, комары у нас тут звери, — заметила Марджи-шире-баржи. — В следующий раз привезу вам репеллент.
— Давно вы на Аляске? — спросила мама.
— Десять лучших лет, — ответила Марджи-шире-баржи. — Жизнь здесь трудная, но нет ничего вкуснее только что пойманного лосося, зажаренного в сливочном масле, которое ты сбила из собственных свежих сливок. Здесь никто не будет вам указывать, что и как делать. Каждый живет как может. Для выносливых тут рай на земле.
Лени восхищенно глазела на эту медведицу. Никогда прежде ей не доводилось видеть таких высоких и крепких женщин. Казалось, Марджи-шире-баржи с легкостью может повалить взрослый кедр, закинуть на плечо и унести.
— Мы решили начать все заново, — к удивлению Лени, призналась мама, которая не очень-то любила обсуждать семейную подноготную.
— Он воевал?
— Да. Был в плену. Как вы догадались?
— По нему видно. Да и к тому же… вам ведь этот дом Бо оставил. — Марджи-шире-баржи бросила взгляд налево, где папа и Натали валили лес. — Он вас обижает?
— Н-нет, — ответила мама. — Нет, что вы!
— Ему снятся кошмары? Мучают воспоминания?
— С тех пор как мы уехали на север, все спокойно.
— Вы оптимистка, — заметила Марджи-шире-баржи. — Что ж, для начала неплохо. Ну да ладно. Вы бы переоделись, Кора, а то мошка заест, с вашей-то белой кожей.
Мама кивнула и послушно ушла в дом.
— Ну а у тебя какая история, мисси? — спросила Марджи-шире-баржи.
— Никакой.
— Брось, у каждого своя история. Может, твоя как раз начнется здесь.
— Может быть.
— Так что ты умеешь?
Лени пожала плечами:
— Да особенно и ничего. Читаю. Фотографирую вот. — Она показала на висевший на шее фотоаппарат. — Правда, здесь от этого никакой пользы.
— Ничего, научишься, — успокоила Марджи-шире-баржи, придвинулась к Лени и заговорщически прошептала ей на ухо: — Это волшебная страна, малышка. Нужно просто ей довериться. Потом сама поймешь. Но Аляска коварна, об этом тоже забывать нельзя. Кажется, Джек Лондон писал, что здесь подстерегают тысячи смертельных опасностей. Так что смотри в оба.
— Зачем?
— Чтобы не попасть в беду.
— Какие же здесь опасности? Климат? Медведи? Волки? А еще?
Марджи-шире-баржи оглянулась через двор на валивших деревья папу и Натали.
— Да всякие. Климат суровый, места глухие, некоторые от этого дуреют.
Но расспросить подробнее Лени не успела: вернулась мама, переодевшись для работы.
— Ну что, Кора, сварите нам кофе? — спросила ее Мардж.
Мама рассмеялась и пихнула Лени бедром:
— Давно бы так! Уж что-что, а кофе я варить умею.
* * *
Марджи-шире-баржи, Натали и Женева трудились целый день, да и Лени с родителями не отставали. Аляскинки работали молча, только иногда покряхтывали, общались знаками да кивками. Натали вставила бензопилу в какую-то штуку, похожую на клетку, и в одиночку распилила срубленные отцом бревна. С каждым упавшим деревом становилось чуточку виднее солнце.
Женева научила Лени пилить бревна, забивать гвозди, устраивать приподнятые грядки под овощи. Вместе они начали строить из досок и виниловых труб каркас будущего парника. Лени помогла Женеве принести длинный тяжелый рулон полимерной пленки, которую они нашли в сломанном курятнике.
— Уф-ф-ф… — выдохнула запыхавшаяся Лени, бросив рулон на землю. Лоб блестел от пота, влажные кудри облепили раскрасневшееся лицо. Но огород — пусть пока лишь его костяк — внушал ей гордость. Лени чувствовала себя нужной, и ей не терпелось посадить овощи, которыми будет питаться семья.
А пока они работали, Женева рассказывала Лени о том, какие овощи лучше выращивать, как их собирать и как важно иметь запас на зиму.
Зима не сходила у старожилов с языка. На дворе середина мая, впереди лето, а они уже думали о зиме.
— Ладно, отдохни пока, — наконец сказала Женева и выпрямилась. — Мне нужно в уборную.
Пошатываясь, Лени выбралась из будущего парника и увидела маму — с сигаретой в одной руке и чашкой кофе в другой.
— У меня такое ощущение, будто мы провалились в кроличью нору, — призналась мама. Рядом с ней на складном столике из гостиной виднелись следы обеда: мама испекла стопку оладий и нажарила на всех вареной колбасы.
Пахло дымом, табаком и свежераспиленной древесиной. Ревела бензопила, доски с глухим стуком ложились в штабеля, гвозди впивались в дерево.
К ним двинулась Марджи-шире-баржи. Усталая, потная, она все равно улыбалась.
— Кофейку дадите глотнуть?
Мама протянула ей чашку.
Лени, мама и Мардж стояли и смотрели на двор, который преображался на глазах.
— А ваш Эрнт ничего, рукастый, — наконец заметила Марджи-шире-баржи. — Знает свое дело. Он сказал, его отец был фермером.
— Ага, — ответила мама. — Он из Монтаны.
— Вот и отлично. Как починете хлев, я вам продам пару коз. Недорого возьму. Будет у вас свое молоко и сыр. И принесу журналы по сельскому хозяйству, там куча всего полезного.
— Спасибо, — поблагодарила мама.
— Женева очень хвалила Лени, сказала, с ней приятно работать. Это хорошо. — Марджи-шире-баржи так хлопнула Лени по плечу, что та покачнулась. — Кстати, Кора, я посмотрела ваши запасы. Надеюсь, вы не против. Так вот, на зиму их не хватит. Как у вас с деньгами?
— Вообще-то туговато.
Марджи-шире-баржи кивнула и нахмурилась. На ее лице проступили морщины.
— Вы стрелять умеете?
Мама рассмеялась.
Марджи-шире-баржи даже не улыбнулась.
— Кора, я серьезно. Так умеете или нет?
— В смысле, из ружья? — уточнила мама.
— Ну да, из ружья, — ответила Мардж.
Мама затушила сигарету о камень.
— Нет.
— Ну, вы не первые чичако, которые рванули сюда за мечтой и практически без подготовки.
— Чичако? — не поняла Лени.
— Приезжие. Ну да на Аляске неважно, кем вы были до того, как сюда приехали. Главное — кем вы станете здесь. Природа тут дикая, девочки. Это вам не сказки. Здесь все по-настоящему. Сурово. Оглянуться не успеете, как наступит зима, и поверьте, она здесь совсем не такая, как вы привыкли. Зимой мы отрезаны от большой земли. Так что вам придется научиться выживать. Научиться стрелять и убивать, чтобы прокормить и защитить себя. Вы здесь не вершина пищевой цепочки.
Подошли Натали с папой. Натали несла бензопилу и на ходу вытирала потный лоб скомканной банданой. До чего же она тоненькая, да и ростом почти с Лени. Даже не верилось, что у нее хватало сил таскать такую тяжесть.
Натали остановилась рядом с мамой и уперла скругленный конец пилы в носок сапога.
— Ну что, мне пора кормить скотину. Эрнту я оставила подробный чертеж запасника.
К ним подошла перепачканная Женева; волосы, лицо, перед рубашки — все в земле.
— Лени — девочка прилежная. Вам с ней повезло.
Папа обнял маму за плечи.
— Не знаю, как вас и благодарить, дамы.
— Да. Вы нам так помогли, — добавила мама.
Натали улыбнулась и стала еще больше похожа на эльфа.
— Мы всегда рады вам помочь, Кора. Помните об этом. И, кстати, на ночь запирайте дверь. До утра на улицу ни ногой. Если вам нужен ночной горшок, загляните к Мардж в лавку.
У Лени отвисла челюсть. Это что же, ей теперь писать в ведро?
— В это время года медведи очень опасны. Особенно черные. Нападают просто так, потому что могут, — пояснила Марджи-шире-баржи. — А еще волки, лоси и прочие. Не ходите без ружья, даже в уборную. — Мардж забрала у Натали пилу и забросила на плечо так легко, словно та была не больше ароматической палочки. — Полиции здесь нет, телефон только в городе, так что, Эрнт, научите ваших девочек стрелять, и побыстрее. Я дам вам список самых необходимых припасов, их нужно раздобыть к сентябрю. Осенью подстрелите лося. Лучше, конечно, охотиться в сезон, но… главное, чтобы в холодильнике было мясо.
— А у нас нет холодильника, — ответила Лени.
Мардж это почему-то рассмешило.
Папа серьезно кивнул:
— Понял.
— Тогда до скорого, — хором сказали женщины, помахали, расселись по мотоциклам, проехали по тропинке к главной дороге и в считаные мгновения скрылись из виду.
После их ухода повисло молчание. Холодный ветер трепал кроны деревьев. Над головой пролетел орел, в его когтях трепыхалась серебристая рыбина величиной со скейтборд. Лени заметила на верхушке сосны собачий ошейник. Наверно, орел поймал и унес собачку. Интересно, хватит ли у орла сил утащить тощую девчонку?
Здесь нужно быть осторожной. И научиться стрелять.
Они поселились на клочке земли, куда в отлив не добраться на лодке, на полуострове, где обитали лишь горстка людей и сотни диких зверей, в суровом климате, который убьет слабака. Ни полицейского участка, ни телефона. Кричи — никто не услышит.
Теперь-то Лени поняла, что значит «глушь».
* * *
Три дня спустя Лени разбудил запах жареного бекона. Она с трудом села.
Руки и ноги нестерпимо болели. Ныло все тело. Зудели комариные укусы. Три дня (а дни здесь тянулись бесконечно, солнце светило чуть не до полуночи) тяжелой работы в буквальном смысле преобразили Лени. Она чувствовала, как бугрятся мускулы там, где их прежде в помине не было.
Лени выползла из спального мешка и натянула джинсы клеш (спала она в фуфайке и носках). Во рту словно кошки нагадили: забыла вечером почистить зубы. Лени уже привыкала экономить воду — она ведь тут не льется из крана, ее приходится таскать в ведрах из ручья.
Лени спустилась по лестнице.
Мама стояла над примусом в кухонном закутке и высыпала овсянку в котелок с кипятком. На черной чугунной сковородке, которую они нашли и отчистили, пузырился и трещал бекон.
Вдали раздавался стук топора, ныне сопровождавший каждый их день. Папа трудился в буквальном смысле от рассвета до заката, то есть едва ли не круглые сутки. Он починил курятник и загоны для коз.
— Мне нужно в санузел, — сказала Лени.
— Смешно, — ответила мама.
Лени надела туристские ботинки и вышла во двор. День выдался ясный. Краски были такие яркие, что мир вокруг казался нереальным: и колыхавшаяся зеленая трава на поляне, и фиолетовые цветы, и серый зигзаг лестницы, что сбегала к лизавшему гальку синему прибою. Вдали простирался неправдоподобно величественный фьорд, высеченный ледниками миллионы лет назад. Лени хотела было вернуться в дом за «поляроидом», чтобы снова сфотографировать двор, но она уже усвоила, что бумагу надо экономить. Раздобыть ее здесь не так-то просто.
Уборная стояла на крутом обрыве, в зарослях тоненьких елочек. Отсюда был виден холодный каменистый берег. На крышке стульчака кто-то написал: «Я не обещал тебе розарий» — и налепил переводные картинки с цветами.
Лени осторожно подняла стульчак, обернув пальцы рукавом свитера, и присела, брезгливо отвернувшись от дыры.
Закончив, Лени направилась к домику. Над головой ее парил белоголовый орлан — описал широкий круг, взмыл ввысь и улетел. В ветвях одного из деревьев запутался огромный рыбий скелет и переливался на солнце, точно елочная игрушка.
Наверно, орлан бросил, когда ободрал мясо с костей. Справа торчал недостроенный запасник, пока что это были четыре сваи из окоренных бревен и на них дощатый помост три на три фута в двадцати футах от земли. Неподалеку от запасника виднелся огород — шесть пустых приподнятых грядок с похожими на фижмы каркасами из труб и досок, которые предстояло обтянуть полиэтиленом.
— Лени! — окликнул ее отец, когда она шла по двору, и направился к ней энергичной размашистой походкой. Волосы у отца были в земле и опилках, рубаха в масляных пятнах, руки грязные. Отец улыбнулся и помахал Лени.
Лицо его, присыпанное розовой древесной трухой, так сияло, что Лени застыла на месте. Она не помнила, когда в последний раз видела папу таким счастливым.
— Господи, до чего же здесь красиво, — сказал он.
Папа вытер руки красной банданой, засунул ее в карман джинсов, обнял Лени за плечи, и они пошли в дом.
Мама накрывала в гостиной на стол.
Складной столик ужасно шатался, так что завтракали они стоя — ели овсянку из железных мисок. Папа одновременно набивал рот и кашей, и беконом. Казалось, ему жаль тратить время на еду, ведь еще столько предстояло сделать.
Сразу же после завтрака Лени и мама вернулись к уборке. Они уже смели слои пыли, грязи и мертвых насекомых; все половики по очереди повесили на перила веранды и хорошенько выбили вениками, которые были едва ли не грязнее половиков. Мама сняла занавески и отнесла в одну из стоявших во дворе больших бочек из-под бензина. Лени натаскала воды; налила в допотопную стиральную машину, бросила туда хозяйственное мыло и битый час потела на солнцепеке, помешивая занавески в мыльной воде. Потом перетащила гору отяжелевшей ткани, с которой ручьем текло, в бочку с чистой водой и принялась полоскать.
Мокрые занавески надо было пропустить через древнюю машинку для отжимания. Тяжкий, изнурительный труд. Невдалеке во дворе мама пела, отстирывая в мыльной воде очередную стопку одежды.
Затарахтел двигатель. Лени разогнулась, потирая нывшую поясницу. Захрустели камни, булькнула вода в луже… из-за деревьев выкатил старенький «фольксваген» и остановился во дворе. Папа наконец-то расчистил дорогу!
Папа посигналил. С деревьев сорвались птицы и всполошенно заголосили.
Мама подняла глаза от стирки, приставила руку козырьком ко лбу. Прикрывавшая ее белокурые волосы бандана промокла от пота, бледное лицо в красном кружеве комариных укусов.
— Ура! Получилось! — воскликнула она.
Папа вылез из автобуса и махнул им рукой:
— Кончай работу, Олбрайты! Поехали кататься!
Лени буквально завизжала от восторга. Она была рада-радешенька отдохнуть от этой каторги. Девочка схватила в охапку выжатые занавески, отнесла на веревку, которую мама натянула меж двух деревьев, и повесила сушиться.
Лени и мама со смехом уселись в старенький автобус. Все вещи были уже в доме (несколько ходок туда-обратно с тяжелыми сумками), так что на сиденьях валялись только журналы да пустые банки из-под кока-колы.
Папа с трудом включил первую передачу: рычаг переключения скоростей разболтался. Автобус закашлялся, как старик, затрясся, загремел и, проваливаясь то одним, то другим колесом в ямки, описал круг по двору.
Лени увидела подъездную дорожку, которую папа расчистил.
— Дорожка уже была, — пояснил папа, перекрикивая вой мотора, — просто ивняком заросла. Я все вырубил.
Проехать можно было, но впритык, так как дорожка оказалась чуть шире автобуса. Ветки стучали в ветровое стекло, царапали бока «фольксвагена», сорвали их плакат, и он повис на дереве. Дорожка ухабистая, каменистая, зато грязи почти не было. Старенький автобус то пыхтел на подъеме, то с глухим стуком ухал в яму. Шины шуршали о голые корни и гранит.
Наконец они выбрались из густой тени на солнце, а подъездная дорожка перешла в грунтовку.
Миновали железные ворота Уокеров, столбик с табличкой «Бердсолл». Лени подалась вперед, ей не терпелось увидеть болота и взлетную полосу, с которых начинался Канек.
Город! Совсем недавно он казался Лени невзрачным поселком, а поди ж ты — пожила несколько дней в глухом уголке и оценила: в Канеке есть магазин. Там много чего можно купить, даже, наверно, шоколадку.
— Держитесь! — Папа свернул налево, в лес.
— Куда это мы? — удивилась мама.
— Надо поблагодарить родных Бо Харлана. Я привез его отцу бутылку виски.
Лени уставилась в замурзанное окно. Из-за слоя пыли все выглядело призрачным, как в тумане. На несколько миль вокруг, насколько хватало глаз, лишь лес да кочки. То и дело попадались машины, гнившие в высокой траве на обочине.
Ни домов, ни почтовых ящиков, хотя кое-где от дороги уходили в чащу грунтовые тропы. Если здесь кто и жил, то явно не хотел, чтобы об этом знали.
Дорога была каменистая, скверная, просто две разбитые тряские колеи. Чем выше они поднимались, тем гуще становился лес, так что и солнца не видать. Через три мили им встретился первый знак: ПРОЕЗД И ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН. ПОВОРАЧИВАЙТЕ ОБРАТНО. ДА, ВЫ. ТЕРРИТОРИЮ ОХРАНЯЮТ СОБАКИ И ВООРУЖЕННЫЕ ЛЮДИ. ХИППИ, ВОН.
Тропа обрывалась на вершине холма у знака СТОЙ, СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ. ВЫЖИВШИХ ДОБЬЕМ.
— Господи Иисусе, — прошептала мама. — Мы точно не заблудились?
Дорогу им преградил мужчина с ружьем и встал, широко расставив ноги. Из-под грязной бейсболки торчали каштановые кудри.
— Кто вы? Что вам нужно?
— Давай уедем, — попросила мама.
Папа высунул голову в окно машины:
— Мы к Эрлу Харлану. Я был другом Бо.
Мужчина нахмурился, потом кивнул и посторонился.
— Эрнт, может, не надо? — спросила мама. — У меня сердце не на месте.
Папа переключил передачу. Старенький автобус зафырчал и покатил вперед, подскакивая на камнях и кочках.
Они выехали на просторный грязный пятачок, там-сям торчали пучки желтеющей травы, по краям поляны стояли три дома. Или, скорее, хижины. Строили их явно из того, что оказалось под рукой, — фанеры, гофропластика, бревен. Школьный автобус без покрышек, но с занавесками на окнах утонул по ступицу в грязи. У будок рычали, лаяли и рвались с привязи тощие собаки. В железных бочках горел огонь, в небо поднимался столб черного дыма. Воняло жженой резиной.
Из хижин вышли люди в грязной одежде. Мужчины с ежиками или с длинными волосами, убранными в хвост, женщины в ковбойских шляпах. У каждого при себе ружье, а на поясе нож в ножнах.
Из бревенчатого дома с покатой крышей появился седой старик с допотопным пистолетом. Старик был тощий и жилистый, с длинной белой бородой. Он грыз зубочистку. Спустился на грязный двор, и собаки словно обезумели: принялись еще сильнее рваться с привязи, повизгивали, припадали к земле. Некоторые запрыгнули на будки и оттуда облаивали всех и вся. Старик прицелился в автобус.
Папа взялся за ручку двери.
— Не ходи! — Мама схватила его за руку.
Папа вырвался, взял бутылку виски, которую привез отцу Бо, и спрыгнул в грязь. Дверь за собой оставил открытой.
— Вы кто такие? — прокричал старик, и зубочистка запрыгала меж его губ.
— Я Энрт Олбрайт, сэр.
Старик опустил пистолет:
— Эрнт? Это вы? А я Эрл, отец Бо.
— Да, сэр, это я.
— Держите меня семеро! А это кто с вами?
Папа обернулся и махнул Лени с мамой, чтобы вышли из автобуса.
— Ничего не скажешь, хорошо придумал, — пробормотала мама и открыла дверь.
Лени вышла вслед за мамой и услышала, как чавкает под ногами грязь.
Обитатели подворья стояли и таращились на них.
Папа обнял маму и Лени:
— Это моя жена Кора и дочь Лени. Девочки, а это Эрл, отец Бо.
— Здешние зовут меня Чокнутым Эрлом, — сказал старик, пожал им руки, выхватил у отца бутылку виски и повел их в дом: — Идем, идем.
Лени с трудом заставила себя войти в тесную темную хижину. Воняло потом и плесенью. Вдоль стен тянулись ряды припасов: бутыли с водой, консервы, ящики с продуктами и пивом, стопки спальных мешков. Пространство у одной из стен целиком занимало оружие. Ножи, ружья, коробки с патронами. На вбитых в стену крюках висели старинного вида арбалеты и булавы.
Чокнутый Эрл плюхнулся на стул, сколоченный из досок от ящиков из-под керосина, открыл бутылку виски, поднес ко рту и отпил большой глоток. Потом протянул бутылку папе, и тот пил долго, прежде чем вернуть бутылку Эрлу.
Мама наклонилась и взяла старый противогаз, в коробке их было видимо-невидимо.
— В-вы коллекционируете военную атрибутику? — робко спросила она.
Чокнутый Эрл отпил еще виски, одним глотком едва не ополовинив бутылку.
— Нет. Это не для красоты. Мир сошел с ума. Приходится защищаться. Я приехал сюда в шестьдесят втором. И уже тогда в Нижних сорока восьми[16] творилось черт знает что. Куда ни плюнь, везде коммуняки. После Карибского кризиса все тряслись от страха. В каждом дворе по бомбоубежищу. Я перевез семью сюда. Мы приехали с одним ружьем и мешком коричневого риса. Думали, что в тайге-то уж будем в безопасности, переживем ядерную зиму, которая того и гляди наступит. — Эрл отхлебнул виски и подался вперед: — Но и здесь житье не лучше. С каждым днем все хуже и хуже. Экономику загубили, бедных наших мальчишек отправили на верную смерть… Это уже не моя Америка.
— Я давно это говорю, — сказал папа. На лице его было написано благоговение, какого Лени прежде видеть не доводилось. Казалось, он всю жизнь ждал этих слов.
— Там, внизу, — продолжал Эрл, — на материке, народ стоит в очереди за бензином, а ОПЕК гребет деньги лопатой и смеется нам в лицо. И неужели вы думаете, что наши старые друзья из СССР забыли про нас после Кубы? Ошибаетесь. Всякие негритосы называют себя «Черными пантерами»[17] и грозят нам кулаками, нелегальные иммигранты отнимают у нас работу. А люди что? Протестуют. Устраивают сидячие забастовки. Швыряют гранаты в пустые почтовые отделения. Шляются с транспарантами по улицам. Но я не такой. У меня есть план.
Папа подался вперед. Глаза его сияли.
— Какой?
— Мы хорошенько подготовились. У нас есть ружья, противогазы, стрелы, патроны. Нас голыми руками не возьмешь.
— Неужели вы правда думаете, что… — начала было мама.
— Еще как думаю, — перебил ее Эрл. — Белого человека ни во что не ставят. Будет война. — Он посмотрел на отца: — Вы же понимаете, Олбрайт, о чем я говорю?
— Еще как. Да мы все это понимаем. А сколько вас? — спросил папа.
Чокнутый Эрл отпил большой глоток, вытер капли с губ и, прищурив слезящиеся глаза, посмотрел сперва на Лени, а потом на Кору.
— Вся наша семья, но уж мы-то сумеем за себя постоять. Чужим мы об этом не рассказываем. Не хватало еще, чтобы народ узнал, где мы, когда ВНМТ.
В дом постучали. «Входи!» — крикнул Чокнутый Эрл. Дверь открылась, и на пороге показалась невысокая жилистая женщина в камуфляжных штанах и желтой футболке с улыбающейся рожицей. Волосы женщина заплела в косички, хотя на вид ей было уже под сорок. Рядом с ней стоял здоровенный мужик ростом едва не с дом. Длинная каштановая челка лезла ему в глаза, волосы на затылке забраны в хвост. В руках у женщины была стопка пластиковых контейнеров, в кобуре на бедре висел пистолет.
— Ладно, пап, хватит людей пугать. — Женщина весело улыбнулась и вошла в дом. Следом за ней юркнула чумазая босая девчушка лет четырех. — Меня зовут Тельма Шилл, я дочь Эрла. Бо — мой старший брат. А это мой муж, Тед. И Мэрибет. Мы ее зовем просто Малышка. — Тельма погладила девочку по голове.
— Меня зовут Кора. — Мама протянула руку. — А это Лени.
Лени робко улыбнулась. Муж Тельмы, Тед, прищурясь, рассматривал ее.
Тельма улыбалась искренне, тепло.
— Лени, ты ведь придешь в понедельник в школу?
— Тут есть школа? — удивилась Лени.
— Ну разумеется. Небольшая, конечно, но, думаю, ты найдешь с кем подружиться. К нам детей даже из Беар-Коува возят. Занятия будут еще неделю. Здесь всегда учебный год заканчивают пораньше: дети должны помогать по хозяйству.
— А где находится школа? — спросила мама.
— На Альпийской улице, за салуном. У подножия церковного холма. В общем, не заблудитесь. В понедельник к девяти утра.
— Мы приедем. — Мама улыбнулась Лени.
— Вот и хорошо. Мы так рады, что вы с нами, Кора, Эрнт и Лени. Бо нам столько о вас писал из Вьетнама. Он вас очень любил. Все хотят с вами познакомиться. — Она подошла к Эрнту, взяла за руку и повела за собой на двор.
Лени с мамой последовали за ними. Чокнутый Эрл зашаркал следом, ворча на дочь: ишь, раскомандовалась тут.
На дворе их ждала кучка людей в потрепанной одежде — мужчин, женщин, детей, подростков, — и все не с пустыми руками.
— Меня зовут Клайд, — сказал мужчина с бородой, как у Санта-Клауса, и кустистыми бровями, которые нависали над глазами, точно козырьки от солнца. — Младший брат Бо. — Клайд протянул папе бензопилу в ярко-оранжевом пластмассовом футляре. — Я ее недавно наточил.
К ним подошли двое юношей лет двадцати и женщина, а с ними две чумазые девчонки лет семи-восьми.
— Это вот Донна, моя жена, близнецы Дэррил и Дейв. Наши дочки, Агнес и Марти.
Народу во дворе собралось немного, но держались все приветливо и дружелюбно. Все, кто пришел познакомиться с Олбрайтами, обязательно что-нибудь им дарили: ножовку, моток проволоки, листы пластика, рулоны изоленты, блестящий серебристый нож, который назывался «улу», с лезвием в форме веера.
Ровесников Лени не было. Единственный подросток, шестнадцатилетний Аксель, на Лени едва взглянул. Стоял в сторонке, метал ножи в дерево. У Акселя были длинные грязные черные волосы и миндалевидные глаза.
— Вам надо поскорее обустроить огород, — сказала Тельма, когда мужчины отошли к бочкам, в которых горел огонь, и принялись по очереди прикладываться к бутылке. — Климат здесь капризный. Бывает так, что в июне еще весна, в июле лето, в августе осень, а все остальное — зима.
Тельма отвела Кору и Лени на большой огород. От животных грядки защищала ограда из обвисших рыбацких сетей, привязанных к железным прутьям.
Овощи еще не созрели, кое-где из черных земляных холмиков торчали еле заметные пучки зелени. У самых сетей, вперемешку с кучками тухлой рыбы, яичной скорлупы и кофейной гущи, валялись комки какой-то дряни, похожей на водоросли.
— Вы умеете выращивать овощи? — спросила Тельма.
— Ну, спелую дыню от неспелой отличить сумею, — ответила мама.
— Ничего, я вас научу. Лето здесь короткое, так что сидеть сложа руки некогда. — Тельма взяла стоявшее на земле помятое железное ведро. — У меня осталась картошка и лук, я вам дам. Вы еще успеете их посадить. И еще я вам дам морковной рассады. И цыплят.
— Ну что вы, не стоит…
— Поверьте, Кора, вы понятия не имеете, какая долгая тут зима и как быстро она наступит. Мужчинам-то ладно, многие уедут работать на новый нефтепровод. А мы с вами, матери, останемся дома, и нам надо позаботиться о том, чтобы дети были живы и здоровы. Это не так-то просто, но вместе мы справимся. Мы всегда и во всем друг другу помогаем. Выручаем друг друга. Завтра я научу вас коптить лосося. Пора уже делать припасы на зиму, набивать погребок.
— Вы меня пугаете, — ответила мама.
Тельма коснулась ее руки:
— Мы сюда приехали из Канзас-Сити. Мама только и делала, что плакала. На вторую зиму ее не стало. Думаю, она сама себя уморила. Не вынесла холода и темноты. Женщина в этих краях должна быть закаленной, как железо. Нам тут рассчитывать не на кого — кроме нас, детей никто не спасет. Без воли к жизни здесь никуда. А еще нужно быстро всему учиться. На Аляске ошибаются один раз. Только один. Потому что второй станет последним.
— Как-то мы ко всему этому не готовы, — призналась мама. — Наверно, зря мы сюда приехали.
— Ничего, я вам помогу, — успокоила ее Тельма. — Мы все вам поможем.
Пять
Бесконечный световой день перевел внутренние часы Лени, и ей казалось, что она не поспевает за Вселенной, словно само время, единственное, что до сих пор не подводило, на Аляске текло иначе. Она ложилась засветло и просыпалась тоже засветло.
Наступило утро понедельника.
Лени стояла у окна гостиной, стараясь разглядеть в натертом до блеска стекле собственное отражение. Без толку. Слишком ярко.
Она видела лишь свой призрак, но знала, что выглядит не ахти, даже для Аляски.
Во-первых, как всегда, волосы. Длинные, непослушные, рыжие. Кожа молочно-белая, как у всех рыжих, вдобавок на носу россыпь веснушек, похожих на красные перчинки. Глаза, правда, красивые, цвета морской волны, — жаль, шоколадные ресницы подкачали.
Сзади подошла мама и положила Лени руки на плечи.
— Ты у меня красавица и в этой новой школе наверняка с кем-нибудь подружишься.
Лени хотелось верить привычным маминым утешениям, но разве же это правда? Сколько она уже сменила школ, и нигде толком не вписалась. С первого же дня всегда что-то было не так — ее волосы, одежда, обувь. Уж где-где, а в средней школе всегда встречают по одежке. Лени в этом убедилась на собственном горьком опыте. Тринадцатилетние девчонки — самые суровые критики моды, они не прощают ошибок.
— Да я там, наверно, буду единственной девчонкой на всю школу, — Лени тяжело вздохнула. Что проку надеяться на лучшее, разбитые надежды ранят слишком больно.
— Ты там будешь первая красавица. — Кора с нежностью заправила ей волосы за ухо, и Лени почувствовала: что бы ни случилось, у нее всегда есть мама. Она не одна.
Дверь домика распахнулась, и повеяло холодом. Вошел папа с парой дохлых уток. Сломанные шеи их бессильно свисали, клювы били папу по ноге. Папа поставил ружье на стойку у двери и положил добычу на деревянный стол возле умывальника.
— Мы с Тедом до рассвета ходили в его засаду. Так что сегодня у нас на ужин утка. — Папа шагнул к маме и чмокнул ее в шею.
Мама отпихнула его и рассмеялась:
— Кофе хочешь?
Кора отошла к кухонному закутку, и папа повернулся к Лени:
— Ты чего такая грустная, в школу не хочешь?
— Нормальная.
— Да ладно, знаю я, в чем дело, — не поверил папа.
— Вряд ли, — мрачно возразила Лени. На душе у нее было тяжело.
— Дай-ка угадаю. — Папа театрально нахмурился и скрылся в спальне. Вскоре вернулся с черным мусорным пакетом и поставил его на стол. — Может, это поднимет тебе настроение.
Ну да. Только мусора ей сейчас не хватало.
— А ты открой, — сказал папа.
Лени неохотно разорвала пакет.
Внутри лежали черные расклешенные джинсы в ржавую полоску и пушистый бежевый свитер, который выглядел так, словно вязали его на здорового мужика, но от стирок свитер сел.
О господи.
Лени, конечно, модницей не назовешь, но это же мальчишечьи джинсы, а уж свитер… да такие сто лет никто не носит!
Лени и мама переглянулись. Обе прекрасно понимали, что папа очень старался. И облажался. Надень она такое в Сиэтле — проще застрелиться.
— Лени? — У папы огорченно вытянулось лицо.
Лени выдавила улыбку:
— Очень красиво, пап, спасибо.
Папа вздохнул:
— Вот и хорошо. Я все корзины перерыл, пока нашел.
Армия спасения. Так он, значит, заранее все придумал, еще когда они были в Хомере. Теперь эти уродливые вещи казались Лени почти красивыми.
— Примерь, — попросил папа.
Лени ушла в спальню родителей и переоделась.
Свитер был откровенно мал, а шерсть такая плотная, что руку не согнешь.
— Шикарно выглядишь, — сказала мама.
Лени попыталась улыбнуться.
Мама шагнула к ней и протянула железную коробку для завтраков. На ней был нарисован Винни-Пух.
— Тельма подумала, тебе понравится.
Вот теперь ее в школе точно засмеют, и ничего тут не поделать.
— Ну что, пап, поехали, — сказала Лени. — Не хочу опаздывать.
Мама крепко ее обняла и прошептала:
— Удачи.
Лени уселась на пассажирское сиденье «фольксвагена», и они покатили по ухабистой дороге, свернули к городку, выехали на главную дорогу, грохоча, миновали поле, которое считалось аэродромом. У моста Лени крикнула:
— Стой!
Папа врезал по тормозам и обернулся к ней:
— Что?
— Можно я отсюда сама дойду?
Папа бросил на Лени обиженный взгляд:
— Но почему?
Лени слишком волновалась, чтобы еще и отца успокаивать. Везде, где ей довелось учиться, обычаи были одни и те же: с родителями на школьный двор лучше не соваться. Они как пить дать заставят тебя краснеть.
— Мне уже тринадцать лет, тем более мы на Аляске, а здесь нужно быть самостоятельной, — ответила Лени. — Пап, ну пожа-а-алуйста.
— Ладно, как хочешь.
Лени вылезла из автобуса и пошла одна по городу, мимо мужчины, сидевшего скрестив ноги на обочине с гусыней на коленях. Лени услышала, как мужчина произнес: «Нет, Матильда, даже не вздумай», и прибавила шагу. Миновала грязную палатку, в которой размещалась контора проката рыбацких лодок.
Школа, состоявшая из одной-единственной комнаты, располагалась на поросшем сорняками пустыре за городом. Позади тянулись желто-зеленые болота, в высокой траве змеился ручей. Скаты крутой железной крыши доходили почти до земли.
Лени остановилась в дверях и заглянула внутрь. Комната оказалась просторнее, чем можно было предположить снаружи, минимум четырнадцать на четырнадцать футов[18]. На дальней стене висела доска, на которой прописными буквами было написано: ОШИБКА СЬЮАРДА[19].
За большим столом лицом к двери стояла эскимоска — крупная, широкоплечая, с большими сильными руками. Бронзовое лицо обрамляли две длинные черные косицы. Между нижней губой и подбородком чернела татуировка. Одета она была в линялые джинсы, заправленные в резиновые сапоги, мужскую фланелевую рубашку и замшевый жилет с бахромой.
Завидев Лени, женщина воскликнула:
— Привет! Добро пожаловать!
Дети повернулись, скрипнув партами.
Всего в классе было шестеро учеников. На первом ряду сидели две девочки помладше. Лени узнала их: Агнес и Марти, внучки Чокнутого Эрла. Узнала она и насупленного парнишку, Акселя. За сдвинутыми партами хихикали две девчушки-эскимоски лет восьми-девяти, на голове у каждой красовался увядший венок из одуванчиков. В правой части класса лицом к доске стояли две сдвинутые парты. Одна пустовала, за второй сидел тощий мальчишка с белокурыми волосами до плеч. Он был единственным, кого заинтересовала новая ученица. Парень обернулся к Лени и внимательно ее рассматривал.
— Меня зовут Тика Роудс, — представилась учительница. — Мы с мужем живем в Беар-Коуве, так что зимой мне порой сюда не добраться, но я стараюсь как могу. И от учеников жду того же. — Она улыбнулась. — А ты Ленора Олбрайт. Тельма предупредила, что ты придешь.
— Лени.
Миссис Роудс оглядела Лени:
— Тебе сколько, одиннадцать?
— Тринадцать, — ответила девочка, чувствуя, как вспыхнули щеки. Ну когда же у нее наконец вырастет грудь?
Миссис Роудс кивнула:
— Вот и отлично. Мэтью тоже тринадцать. Садись вон туда. — Она указала на парту рядом с белокурым мальчишкой. — Давай.
Лени с такой силой вцепилась в дурацкую коробку с Винни-Пухом, что побелели пальцы.
— П-привет, — пробормотала она, проходя мимо Акселя.
Тот бросил на нее безразличный взгляд и продолжил рисовать на желтой обложке тетради нечто похожее на инопланетянина с огромными сиськами.
Лени неловко плюхнулась на стул рядом с тринадцатилетним парнишкой, покосилась на соседа и буркнула:
— Привет.
Он широко улыбнулся, показав кривые зубы.
— Ну слава богу, — парень откинул волосы с лица, — а то я боялся, что придется до конца года сидеть с Акселем. По нему же тюрьма плачет.
Лени не удержалась и хихикнула.
— Ты откуда? — спросил он.
Лени растерялась. Она никогда не знала, как отвечать на этот вопрос, поскольку он подразумевал некое незыблемое прошлое, которого в ее жизни не существовало. Не было такого места, которое она считала бы домом.
— Последняя моя школа была в Сиэтле.
— Тебе, наверно, сейчас кажется, будто ты провалилась в Мордор.
— Ты читал «Властелина колец»?
— Ага. Полный отстой, я знаю. Но это Аляска. Зимой тут темно как в жопе, а телевизора у нас нет. А я, в отличие от отца, не могу часами слушать по местному радио стариковскую болтовню.
В душе Лени шевельнулось незнакомое чувство, которого она еще не понимала.
— А я люблю Толкина, — тихо призналась она, и ее охватило странное облегчение: надо же, оказывается, как приятно говорить начистоту. В прошлой ее школе большинство любило кино и музыку, а не книги. — И Герберта[20].
— «Дюна» клевая. «Страх убивает разум». Лучше не скажешь.
— И еще «Чужак в чужой стране»[21]. Примерно так я себя и чувствую.
— Еще бы. Тут, на Последнем рубеже, всё не как у людей. В соседнем городе, к северу от нас, мэром выбрали собаку.
— Да ладно!
— Я тебе клянусь. Маламута. Большинством голосов. — Мэтью прижал руку к сердцу. — Такое и захочешь — не придумаешь.
— Я как сюда шла, видела человека, который разговаривал с гусем.
— Это Полоумный Пит с Матильдой. Они муж и жена.
Лени расхохоталась во все горло.
— Какой у тебя странный смех.
Лени почувствовала, как щеки вспыхнули от смущения. Прежде ей такого не говорили. Неужели это правда? Интересно, как же она смеется? О господи.
— Ой, прости. Сам не знаю, почему я так сказал. Вечно я что-нибудь ляпну. Я сто лет с ровесницами не общался. Честное слово. Ты красивая. Правда. Я несу чушь, да? Ты, наверно, сейчас от меня с визгом сбежишь за парту к Акселю — мол, уж лучше сидеть с этим будущим убийцей, чем с тобой. Ладно, все, затыкаюсь.
После «ты красивая» Лени не слышала ни слова.
Она старалась убедить себя, что это ничего не значит. Но когда Мэтью взглянул на нее, Лени охватила надежда. «А мы ведь можем подружиться», — подумала она. В смысле, не просто ездить вместе на автобусе или сидеть за одним столом в столовке, а по-настоящему.
Стать друзьями.
Такими, у которых есть общие интересы. Как Сэм и Фродо, Энн и Диана[22], Понибой и Джонни[23]. Лени на мгновение закрыла глаза и замечталась. Они могли бы вмести смеяться, болтать…
— Лени! — окликнул он. — Лени!
Ой. Он дважды позвал ее по имени.
— Да ладно. Я сам такой. Вечно зависаю. Мама говорит, я живу в мире собственных фантазий с выдуманными людьми. А сама с Рождества никак «Еще одно развлечение у дороги»[24] дочитать не может.
— Ну да, — призналась Лени. — Я иногда… туплю.
Мэтью пожал плечами — мол, подумаешь, что тут такого.
— Кстати, ты в курсе, что завтра вечером будет барбекю?
***
«Ну так чего, придешь?»
Лени снова и снова прокручивала в голове вопрос, дожидаясь, пока отец ее заберет. Конечно, ей хотелось прийти. Больше всего на свете.
Но родители не любили такие сборища. Да и вообще с соседями не общались, если уж на то пошло. В семействе Олбрайт это не принято. В старом их квартале соседи то и дело устраивали что-нибудь — те же барбекю, на которых отцы семейств в свитерах с V-образными вырезами пили скотч и жарили бургеры, женщины курили сигареты, попивали мартини, приносили подносы с куриными потрошками, обернутыми жареным беконом, а дети с воплями носились по двору. Лени знала об этом, поскольку как-то раз подглядывала за соседями через забор и видела все эти обручи, водные горки и брызгалки.
— Ну что, Рыжик, как в школе? — спросил папа, когда Лени после уроков залезла в «фольксваген» и захлопнула дверь. Он приехал за ней последним из всех родителей.
— Мы узнали, как Россия продала нам Аляску. И про гору Алиеску на Чугаче[25].
Отец что-то одобрительно пробормотал и включил первую передачу.
А Лени думала, как сказать о том, чего ей хотелось. «В моем классе есть парень моего возраста. Он наш сосед».
Ой нет, о парне лучше даже не заикаться.
«Наши соседи устраивают барбекю и приглашают нас».
Но папа подобные сборища на дух не переносит. По крайней мере, там, где они жили раньше, он их терпеть не мог.
Они с грохотом прокатили по грязной дороге, вздымая клубы пыли, и свернули в густую зеленую тень, на дорожку к дому. Во дворе толпился народ — похоже, здесь собрался едва ли не весь клан Харланов. Соседи работали молча, дружно, то сходясь, то расходясь, точно в танце. Клайд распиливал бревна на доски той штукой, похожей на клетку, Тед доделывал запасник — прибивал доски к боковым опорам, Донна укладывала поленницу.
— Наши друзья приехали в полдень, чтобы помочь нам подготовиться к зиме, — сказал папа. — Нет. Они больше чем просто друзья, Рыжик. Они наши товарищи.
Товарищи?
Лени нахмурилась. Папа что, в коммунисты подался? Он же их вроде ненавидит, как хиппи и власти.
— Вот так и надо жить, Рыжик. Люди должны помогать друг другу, а не убивать чужих матерей за кусок хлеба.
Лени бросилось в глаза, что почти у каждого в кобуре на поясе висел пистолет.
Папа открыл дверь автобуса.
— На выходных мы все поедем в Стерлинг, будем ловить лосося в «Лачуге фермера» на Кенае. Говорят, чавычу фиг поймаешь. — Отец ступил на топкую землю.
Чокнутый Эрл помахал отцу, и тот кинулся к нему.
Лени прошла мимо новой клетушки размером футов девять в высоту и четыре в ширину, со стенами из черного полиэтилена (наверняка пакеты для мусора). Сквозь открытую дверь было видно, что внутри полным-полно рыбин, которых разрезали вдоль хребта и подвесили на сложенных шалашиком ветках. Тельма. стоя на коленях у железного ящика, подкладывала дрова в огонь. Клубы черного дыма поднимались к висевшему над ящиком лососю.
Мама чистила лосося на столе во дворе. Подбородок ее был перепачкан розовыми рыбьими потрохами.
— Это коптильня, — мама кивнула на Тельму, — Тельма учит меня коптить рыбу. Оказывается, это целое искусство. Если огонь слишком сильный, рыба изжарится, а она должна сушиться и коптиться. Вкуснятина. Как прошел первый школьный день?
Волосы мама убрала под красный платок.
— Классно.
— Не засмеяли тебя из-за одежды и коробки с Винни-Пухом? Девочки тебя не обижали?
Лени невольно улыбнулась:
— Там вообще нет девчонок моего возраста. Зато есть мальчик…
— Мальчик? — с любопытством спросила мама.
Лени зарделась.
— Ну, мам. Он мой друг. Просто мальчик.
— Угу, ясно. — Мама закурила, пряча улыбку. — Красивый?
Лени пропустила ее вопрос мимо ушей.
— Кстати, он сказал, что завтра вечером будет барбекю. Я хочу пойти.
— А мы и поедем.
— Правда? Вот здорово!
— Ну да, — улыбнулась мама. — Я же тебе говорила, тут все будет по-другому.
Лени никак не могла решить, что надеть на барбекю. Она совершенно растерялась и не понимала, что с ней происходит.
Одежды у нее было немного, выбирать особо не из чего, но она все равно перемерила несколько вариантов. В конце концов (в основном потому, что отчаялась выглядеть красиво, — куда уж ей, с такой-то внешностью) остановилась на клетчатых синтетических брюках-клеш, зеленой водолазке в рубчик и жилетке из искусственной замши с бахромой. Волосы, как ни билась, красиво уложить не удалось, так что в итоге просто убрала их с лица и заплела косу толщиной с кулак.
На кухне мама складывала в пластиковый контейнер крупные ломти кукурузного хлеба. Она расчесала стриженные лесенкой волосы до плеч, и те блестели на свету. Мама принарядилась: тугие джинсы клеш, обтягивающий белый свитер и массивное бирюзовое индейское ожерелье с бусинами в виде цветков тыквы, купленное несколько лет назад в индейской резервации. Ей явно хотелось произвести впечатление.
Мама рассеянно закрыла крышку судка, и из него вышел воздух со звуком, похожим на отрыжку.
— Боишься, да?
— С чего ты взяла? — бегло улыбнулась мама, но глаза ее оставались серьезными. Она накрасилась, чего давно не делала, и выглядела ярко и красиво.
— Помнишь, что было на ярмарке?
— Это другое дело. Тот парень хотел его обмануть.
Но Лени-то помнила, как было на самом деле. Они прекрасно проводили время на ярмарке штата, пока папа не надулся пива. Потом какой-то парень принялся заигрывать с мамой (а она с ним), и папа озверел. Толкнул парня, так что тот едва не разбил себе башку об опору пивной палатки, и заорал на всю ярмарку. Явилась охрана, но папа разбушевался не на шутку, и пришлось вызвать полицию. Лени с ужасом заметила, что за дракой наблюдали двое ее одноклассников. Они видели, как папу волокли в патрульную машину.
Дверь домика открылась, и вошел отец.
— Ну что, красавицы, готовы веселиться?
— А то, — тут же ответила мама и улыбнулась.
— Тогда поехали.
Они забрались в автобус и отправились в гости. Через считаные минуты — по прямой бы и четверти мили не набралось — подъехали к железным воротам с белесым коровьим черепом. Ворота были гостеприимно распахнуты.
Подворье Уокеров. Их ближайших соседей.
Папа медленно въехал в ворота. Подъездная дорожка (две ленты примятой травы, которые вились вверх-вниз по заросшему лишайником участку) лениво змеилась меж тоненьких черных еловых стволов. Сквозь прогалину слева Лени увидела вдалеке голубое пятно, однако вид открылся, лишь когда они выбрались на поляну.
— Ого, — сказала мама.
Они очутились на плоском утесе над тихой голубой бухтой. На огромном, заросшем травой пространстве вырубили все деревья, кроме нескольких самых красивых.
На холме над утесом, точно корона, возвышался двухэтажный бревенчатый дом. Треугольный фасад украшали огромные трапециевидные окна. Дом опоясывала веранда, выдаваясь вперед, точно нос гигантского корабля, выброшенного бурей на берег и навеки обреченного гнить на суше, глядя на родную стихию. На веранде стояли разрозненные стулья, обращенные к открывавшемуся с утеса великолепному виду. По другую сторону дома виднелись загоны, там обитали коровы, козы, куры и утки. В доходившей до колена траве там и сям валялись мотки колючей проволоки, деревянные поддоны и клети, тут же стоял сломанный трактор, лежал ржавый экскаваторный ковш, торчали корпуса машин — одни вышли из строя, другие дышали на ладан. Неподалеку от маленькой деревянной постройки, над которой клубился дым, сгрудились ульи. Чуть в стороне Лени заметила остроконечную крышу уборной.
У подножия утеса уходил в море серый причал. В конце его на потрепанной арке виднелась надпись: БУХТА УОКЕРОВ. К причалу были привязаны гидросамолет и две блестящие серебристые рыбацкие лодки.
— Гидросамолет… — протянул папа. — Ишь ты, богачи.
Они вылезли из автобуса и прошли по высокой траве мимо ярко-желтого трактора с черным ковшом и блестящего красного вездехода. С утеса Лени увидела, что на берегу вокруг огромного костра собрались люди — человек десять, если не больше. Пламя тянулось в лиловое небо, искрило, трещало, точно кто-то щелкал пальцами.
Лени вслед за родителями спустилась на берег. Отсюда ей было видно всех собравшихся. На бревне сидел широкоплечий мужчина с длинными светлыми волосами и играл на гитаре. Марджи-шире-баржи приспособила под барабаны-бонги два перевернутых пластмассовых ведра, а учительница, миссис Роудс, наяривала на скрипке. Натали изо всех сил дула в губную гармошку, а Тельма пела «Короля дорог»[26]. Строчку «Я богач среди бедняков» подхватили все.
Клайд и Тед занимались жаровней, которая выглядела так, будто ее смастерили из старых бочек из-под мазута. Неподалеку Чокнутый Эрл отхлебывал что-то из глиняного кувшина. Две младшие девочки из школы, Марти и Агнес, согнувшись, собирали у воды ракушки вместе с Малышкой.
Мама спустилась на пляж. В руках у нее был судок с кукурузным хлебом. Следом шел папа с бутылкой виски.
Высокий широкоплечий мужчина отложил гитару и встал. Одет он был, как большинство здешних мужчин, во фланелевую рубашку, линялые джинсы и резиновые сапоги, но все равно выделялся. Казалось, он создан для этой суровой земли: может целый день бежать без остановки, срубить любое дерево и играючи перебраться по бревну через бурную реку. Даже Лени он показался красивым — для такого-то старика.
— Том Уокер, — представился мужчина. — Рад вас видеть.
— Эрнт Олбрайт.
Том пожал папе руку.
— А это Кора, моя жена.
Мама улыбнулась Тому, пожала ему руку и оглянулась:
— А это наша дочь, Лени. Ей тринадцать.
— Привет, Лени, — сказал Том. — Мой сын Мэтью говорил о тебе.
— Ой, правда? — обрадовалась Лени. (Ну чего ты лыбишься как дура.)
К Тому подошла Женева Уокер.
— Привет, Кора. Вижу, с мужем моим вы уже познакомились.
— Бывшим. — Том Уокер обнял Женеву. — Я на нее не надышусь, но жить с ней не могу.
— И без меня тоже, — усмехнулась Женева. — А мой нынешний вон там. Кэлхун Мэлви. Он меня любит куда меньше, чем Том, зато мы отлично ладим. И еще он не храпит. — Она игриво ткнула мистера Уокера в бок локтем.
— Я слышал, вы не очень-то подготовлены к здешней жизни, — сказал мистер Уокер папе. — Вам придется быстро всему научиться. Не стесняйтесь просить о помощи. Я всегда рад. Если вам что-нибудь понадобится, только скажите.
Папа поблагодарил, и Лени насторожилась. В папином голосе прозвучало раздражение, словно его оскорбили. Мама тоже это заметила и бросила на мужа встревоженный взгляд.
Пошатываясь, подошел Чокнутый Эрл в футболке с надписью «Я так долго рыбачил, что совсем зарыбался». Пьяно ухмыльнулся и, покачиваясь из стороны в сторону, пробормотал:
— Что, Большой Том, помощь Эрнту предлагаешь? Ну надо же, как благородно. Ни дать ни взять король Иоанн[27] снизошел до бедных своих рабов. Пусть тебе помогает твой дружок губернатор.
— Господи, Эрл, ну сколько можно, — покачала головой Женева. — Пошли лучше споем что-нибудь. Эрнт, вы умеете на чем-нибудь играть?
— На гитаре, — ответил папа. — Но я продал…
— Вот и отлично! — перебила Женева, схватила папу за руку и потащила прочь от Чокнутого Эрла, к Марджи-шире-баржи и собравшемуся на берегу импровизированному ансамблю.
Женева протянула папе гитару, на которой прежде играл мистер Уокер. Чокнутый Эрл, спотыкаясь, отошел к костру и снова взялся за глиняный кувшин.
Интересно, думала Лени, знает ли мама, как она привлекательна, когда вот так стоит на берегу в обтягивающих джинсах и ее светлые волосы треплет легкий ветерок? Она была совершенна, как точно пропетая нота, и красива, как орхидея, какой-то нездешней красотой.
Ага. Все она прекрасно понимала. И мистер Уокер тоже понимал.
— Что будете пить? — спросил он маму. — Может, пива?
— Пива? С удовольствием, Том, спасибо, — ответила мама, и мистер Уокер повел ее к столику с едой и ведерку, в котором охлаждались банки с пивом «Рейнир».
Рядом с мистером Уокером мама не шла, а плыла, покачивая бедрами под музыку. Она легонько дотронулась до руки Тома, он посмотрел на нее и улыбнулся.
— Лени!
Она услышала, как ее окликнули по имени, и обернулась.
Мэтью махал ей с утеса.
Лени поднялась к нему; Мэтью дожидался ее с двумя банками пива в руках.
— Пробовала когда-нибудь пиво? — спросил он.
Лени покачала головой.
— Вот и я нет. Пошли. — Он двинулся налево, в заросли, по осклизлой извилистой тропинке, которая вела вниз, мимо валунов.
Мэтью вывел Лени на заросшую лишайником полянку. Сквозь прогалину в черных елях было видно, как взрослые веселятся на берегу. До них было от силы футов пятнадцать, но казалось, что это другая планета. Взрослые хохотали, болтали, играли и пели. Малышня искала в гальке ракушки. Аксель в сторонке метал нож в гнилое бревно.
Мэтью уселся, вытянул ноги и откинулся на бревно. Лени опустилась рядом с ним, но так, чтобы не касаться Мэтью.
Он с треском открыл пиво и протянул Лени. Она сморщила нос, отхлебнула глоток. Пиво щипало горло. Омерзительный вкус.
— Гадость, — скривился Мэтью, и Лени засмеялась. Еще три глотка — и она тоже откинулась на бревно. С берега долетал прохладный ветерок, принося с собой соленый запах моря и дразнящий аромат жареного мяса. Взрослые толклись и гомонили совсем рядом, за деревьями.
Мэтью и Лени спокойно молчали, и Лени это удивляло. Обычно рядом с теми, с кем хотела подружиться, она ужасно нервничала.
Веселье на берегу было в самом разгаре. Взрослые передавали друг другу стеклянную банку. Мама танцевала, покачивая бедрами и потряхивая волосами. Она походила на лесную фею и точно светилась изнутри, танцуя для дюжего лесного народца, отупевшего от выпивки.
От пива Лени поплыла, ее охватила такая легкость, будто в животе пузырился воздух.
— Почему вы решили сюда переехать? — поинтересовался Мэтью и, не успела Лени рта раскрыть, швырнул банку в валун, так что та расплющилась.
Лени не удержалась от смеха. Мальчишки есть мальчишки.
— Папа… любит приключения, — наконец пояснила она. (Правду говорить ни в коем случае нельзя, никто не должен знать, что папа не задерживается ни на одной работе, что ему не сидится на одном месте, и уж точно — что он слишком много пьет и орет.) — Ну вот ему и надоело в Сиэтле. А вы? Когда вы сюда переехали?
— Мой дед, Экхарт Уокер, перебрался на Аляску во времена Великой депрессии. Сказал, не хочет стоять в очереди за жидкой похлебкой, упаковал вещички и автостопом двинул в Сиэтл. А оттуда уже на север. Говорят, он прошел Аляску пешком от края до края и даже залез на гору Алиеску с лестницей на горбу, чтобы перебираться через трещины в ледниках. С бабкой Лили они познакомились в Номе. Она работала в прачечной и закусочной. Они поженились и решили жить здесь.
— Значит, в этом доме жили твои дед с бабкой и выросли вы с отцом?
— Не, ну как. Большой-то дом построили гораздо позже, но да, мы все выросли здесь. Мамина семья из Фэрбанкса. Сестра там сейчас учится в колледже и живет с ними. Родители мои разошлись несколько лет назад, мама выстроила себе на участке дом и переехала туда с новым своим парнем, Кэлом. Тот еще говнюк. — Мэтью усмехнулся. — Но мы все равно работаем вместе. Зимой они с папой играют в шахматы. Что поделать, это Аляска.
— Ух ты. Я и представить себе не могу, каково это — прожить всю жизнь на одном месте. — Лени поймала себя на том, что завидует Мэтью, и ее это смутило. Она запрокинула голову и допила последние капли пены из своей банки.
Импровизированный ансамбль разошелся вовсю: музыканты барабанили в ведра, бренчали на гитаре, играли на скрипке.
Тельма, мама и миссис Роудс покачивали бедрами под музыку и распевали во все горло: «Роки-Маунтин, штат Колорадо…»[28]
Клайд крикнул от жаровни:
— Бургеры с лосятиной готовы! Кому сыра?
— Пошли, — сказал Мэтью. — Жрать хочу, умираю. — Взял Лени за руку (такой естественный жест) и повел ее сквозь заросли на берег. Они подошли сзади к папе с Чокнутым Эрлом, которые пили и болтали, и услышали, как Эрл ударил своей стеклянной банкой о папину, так что та гулко звякнула.
— Этот Том Уокер воображает, будто его говно малиной пахнет, — сказал папа.
— Когда ВНМТ, сам ко мне приползет, потому что я подготовился, — пробормотал Чокнутый Эрл.
Лени от испуга застыла на месте и посмотрела на Мэтью. Он тоже все слышал.
— Сынок богатых родителей, — процедил папа. Язык у него заплетался. — Вроде вы говорили, да?
Чокнутый Эрл кивнул, пошатнулся и навалился на папу. Они держали друг друга.
— Ишь, возомнил о себе.
Лени отодвинулась от Мэтью, съежившись от стыда. Ей казалось, что она одна-одинешенька.
— Лени?
— Мне жаль, что ты это слышал, — ответила она.
Мало того, что папа бормотал ругательства, так еще и мама стояла рядышком с мистером Уокером и так ему улыбалась, словно сознательно нарывалась на неприятности.
Все как всегда. А ведь на Аляске все должно было быть иначе.
— Чего ты? — удивился Мэтью.
Лени покачала головой. Ее охватила привычная печаль. Она никогда не смогла бы ему объяснить, каково это — жить с отцом, который тебя пугает, и мамой, которая так сильно его любит, что вечно провоцирует на опасные доказательства любви. Например, флиртует с другими.
Лени ни с кем не делилась этими тайнами. Они лежали грузом на душе.
Все это время, все эти годы она мечтала найти настоящего друга, такого, которому можно доверить любые секреты. Как же она раньше не догадалась?
У нее никогда не будет такого друга, потому что она сама не сможет быть таким другом.
— Извини, — пробормотала Лени. — Все в порядке. Пошли поедим. Жрать хочу, умираю.
Шесть
Дома после вечеринки родители Лени набросились друг на друга, как возбужденные подростки. Они врезались в стены, тяжело дышали, прижимались друг к другу всем телом. Музыка и алкоголь (ну и, пожалуй, внимание Тома Уокера) сделали свое дело, и теперь они бешено хотели друг друга.
Лени поспешно вскарабкалась на чердак, спрятала голову под подушку и принялась мурлыкать себе под нос «Скорей улыбнись»[29]. Когда в домике снова все стихло, Лени подползла к стопке книг, купленных в Армии спасения. Внимание ее привлек сборник стихов какого-то Роберта Сервиса[30]. Она улеглась с книгой и открыла ее на стихотворении «Кремация Сэма Макги». Фонарь Лени не включала, потому что на улице до сих пор было светло, несмотря на поздний час.
Под солнцем полночным дела творят, Кто до здешних богатств охоч; Полярные тропы тайны хранят, От которых стынет кровь.Лени погрузилась в прекрасный, суровый мир стихотворения. Он так ее очаровал, что она стала читать дальше — про Опасного Дэна Макгру и леди по имени Лу[31] и про чары Юкона.
Это Юкон, таков здесь закон, Он ясен, как день, и крут: Глупец и слабак не сдюжит никак, Лишь сильный выживет тут[32].С каждым словом ей открывались все новые и новые стороны странного штата, куда они перебрались, но выбросить Мэтью из головы никак не получалось. Лени не могла забыть, как ей было стыдно, когда Мэтью на вечеринке услышал гадость, которую ляпнул отец.
Захочет ли он теперь с ней дружить?
Ни о чем другом она думать не могла. От тревоги ей не спалось. Лени готова была поклясться, что глаз не сомкнула, однако утром ее разбудил оклик:
— Вставай, засоня. Поможешь мне, пока мама нам шамовку готовит. До школы еще есть время.
Шамовку? Что за простецкие словечки?
Лени натянула джинсы, большой свитер, спустилась, обулась и вышла во двор. Папа сидел в этой штуке на сваях, похожей на собачью будку. В запаснике. К остову была прислонена лесенка из бревен, вроде той, что вела на чердак. Папа прибивал доски к крыше.
— Подай-ка мне вон те пенсовые гвозди[33], Рыжик, — скомандовал он. — Несколько штук.
Лени схватила синюю жестянку из-под кофе, полную гвоздей, и забралась по лестнице к папе. Выудила из банки гвоздь, подала ему.
— У тебя руки дрожат.
Он покосился на гвоздь, тот прыгал у него в кулаке. Папа был бледен, как лист пергамента, под глазами темные мешки, как фингалы.
— Я вчера перепил. Не выспался.
Лени встревожилась. Не выспавшись, папа места себе не находил. Правда, до сих пор на Аляске он спал превосходно.
— С перепоя вечно такая фигня, Рыжик. Мне, конечно, не следовало нажираться. Ну да что уж теперь. — Папа загнал последний гвоздь в замшевую рабочую перчатку, из которой сделали дверную петлю. (Марджи-шире-баржи посоветовала — на Аляске все мастерили из того, что под рукой.)
Лени спустилась по лестнице и спрыгнула на землю, гвозди загремели в жестянке из-под кофе.
Папа засунул молоток за пояс, приземлился рядом с Лени, взъерошил ей волосы:
— Ну что, мой маленький плотник?
— Я думала, я твой библиотекарь. Или книжный червь.
— Мама говорит, тебе самой решать, кем быть. Что-то там про рыбку и зонтик.
Ага. Лени это уже слышала. Наверно, очередная фразочка Глории Стайнем[34]. Поди знай. Мама вечно сыплет цитатами. Для Лени в этом было не больше смысла, чем в том, чтобы сжечь хороший лифчик[35]. С другой стороны, то, что в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году взрослая работающая женщина не может получить кредитную карту или открыть в банке счет на свое имя, тоже полный бред.
Миром правят мужчины.
Лени прошла за отцом от запасника к веранде мимо каркаса нового парника и обтянутой мусорными пакетами импровизированной коптильни. По другую сторону дома в новеньком загончике клевали землю цыплята. На мостках, которые вели к курятнику, сидел петух.
Отец зачерпнул воды из бочки, брызнул в лицо, и по щекам его побежали бурые капли. Вернулся на веранду, уселся на нижнюю ступеньку. Выглядел он паршиво. Как после многодневного запоя. (Как в те дни, когда ему снились кошмары и он срывался.)
— А твоей маме, похоже, приглянулся Том Уокер.
Лени насторожилась.
— Нет, ты слышала, как он тыкал нам в нос своим богатством? «Если хотите, Эрнт, я одолжу вам трактор, а может, вас в город подвезти?» Говорил со мной через губу!
— А мне он сказал, что считает тебя героем и что правительство вас предало, — соврала Лени.
— Да? — Папа откинул волосы с лица. На загорелом лбу проступила морщина.
— Мне здесь нравится, — тихо ответила Лени и вдруг поняла, что это правда. За считаные дни она почувствовала себя как дома. В Сиэтле ей никогда не было так хорошо, как на Аляске. — Нам тут хорошо. Я же вижу, как ты счастлив. Только… не пей больше, пожалуйста.
Повисло напряженное молчание: Лени с мамой, не сговариваясь, даже не заикались при папе ни о выпивке, ни о скандалах.
— Может, ты и права… — Папа задумчиво глянул на нее: — Ладно, Рыжик. Поехали в школу.
* * *
Час спустя Лени стояла перед школой. Перебросила рюкзак через плечо и направилась к двери. Коробочка с завтраком била в правый бок. Плетешься нога за ногу, сказала бы мама. Лени и правда не торопилась на урок.
Когда Лени была у самой двери, та распахнулась и на улицу, болтая и смеясь, высыпала стайка школяров. Посередине шла Женева, мама Мэтью. Она подняла заскорузлые от работы руки и попросила всех замолчать.
— О, Лени, а вот и ты, — приветствовала ее миссис Уокер. — Ты так припозднилась, я уж думала, не придешь. Тика не смогла выбраться, так что сегодня занятия веду я. Ха! Сама-то я школу окончила с трудом, что уж там скрывать, — она рассмеялась, — и поскольку мальчишки интересовали меня куда больше уроков, мы с вами сегодня отправимся в поход. Ненавижу в такой прекрасный день сидеть в четырех стенах.
Лени шла рядом с миссис Уокер. Та обняла ее за плечи и прижала к себе:
— Я так рада, что ты приехала.
— Я тоже.
— До тебя Мэтью от дезодорантов шарахался как черт от ладана. Теперь хоть одежду менять стал. Сбылись наши мечты — я о тех, кто с ним живет в одном доме.
Лени понятия не имела, что на это отвечать.
Они толпой спустились к пристани, точно слоны из мультика про Маугли. Лени почувствовала, что Мэтью смотрит на нее. Дважды поймала его смущенный взгляд и тут же отвернулась.
Наконец добрались до причала. Вокруг скрипели, покачиваясь на волнах, рыбацкие лодки. Миссис Уокер поделила учеников на пары и сказала, кому в какое каноэ садиться.
— Мэтью, Лени, ваше зеленое. Не забудьте про спасательные жилеты. Мэтью, проследи, чтобы Лени все правильно надела.
Лени сделала, как велели, забралась в каноэ и села на корме, лицом к носу.
Следом залез Мэтью. Каноэ под ним качалось и скрипело.
Мэтью уселся лицом к Лени.
Лени не очень-то разбиралась в том, как плавают на каноэ, но точно знала: Мэтью сел неправильно.
— Ты вроде должен сидеть лицом в другую сторону.
— Мэтью Денали Уокер. Что ты вытворяешь? — Мимо них скользнули на каноэ Женева с Малышкой. — На тебя что, затмение нашло? Помнишь хоть, как меня зовут?
— Мне надо поговорить с Лени. Я быстро. Мы вас догоним.
Миссис Уокер бросила на сына многозначительный взгляд:
— Только недолго. Ты на уроке, а не на первом свидании.
Мэтью застонал.
— Ну мам, ты вечно как скажешь…
— Я тоже тебя люблю, — ответила миссис Уокер, рассмеялась и погребла прочь. — Вперед, — крикнула она остальным, — плывем в Орлиную бухту.
— Что смотришь? — спросила Лени у Мэтью, когда они остались одни.
Мэтью положил весло на колени. Волны глухо плескали о борт каноэ, убегая от пристани.
Лени догадалась: он ждет, что она скажет. Но сказать она могла только одно. Ветер ерошил волосы Лени, выдергивал тугие кудряшки из-под резинки, сдувал рыжие пряди ей на лицо.
— Прости меня за вчерашнее.
— За что простить?
— Да ладно тебе. Не играй в благородство.
— Понятия не имею, о чем ты.
— Папа вчера напился, — осторожно ответила Лени.
Прежде она никому в этом не признавалась и сейчас чувствовала себя так, словно предала отца. И еще неизвестно, чем это аукнется. Мало, что ли, она смотрела специальных передач по Эй-би-си? У психически неуравновешенных родителей забирают детей. Власти могут разрушить любую семью из-за чего угодно. Лени старалась не болтать лишнего, чтобы никого не обеспокоить и не подвести отца.
Мэтью засмеялся:
— Да они там все были хороши. Подумаешь, тоже мне. В том году Чокнутый Эрл так напился, что нассал в коптильню.
— Папа иногда… напивается… и ругается. На самом деле он вовсе ничего такого не имел в виду. Ты же слышал, что он сказал про твоего отца.
— Да я от кого только это не слышал. Особенно от Чокнутого Эрла. Полоумный Пит тоже папу недолюбливает, а Билли Хорчоу вообще как-то раз пытался его убить. Почему — мы так и не узнали. Это Аляска. Долгие зимы, народ пьет не просыхая и творит такое, что уму непостижимо. Так что я ни капли не обиделся. Да и папа тоже.
— То есть тебе все равно?
— Это Аляска. Тут закон такой: живи сам и дай жить другим. Мне нет никакого дела до того, как твой отец относится к моему. Главное для меня — это ты.
— Правда?
— А то.
Лени охватила небывалая легкость, того и гляди взлетит. Она открыла Мэтью одну из самых страшных, мучительных тайн, и он не отвернулся от нее.
— Ты сумасшедший.
— Еще какой.
— Мэтью Уокер, хорош трепаться, греби уже! — крикнула миссис Уокер.
— Значит, мы друзья? — спросил Мэтью. — Что бы ни случилось?
Лени кивнула:
— Что бы ни случилось.
— Круто. — Мэтью развернулся лицом к носу каноэ и погреб к далекому берегу. — Как доплывем, покажу тебе одну классную штуку, — бросил он через плечо.
— Какую?
— Там на болотах полным-полно лягушачьей икры. Склизкая, липкая — в общем, гадость. Может, мне удастся подговорить Акселя ее съесть. Он же чокнутый.
Лени взяла весло.
Хорошо, что Мэтью не видел, как она расплылась в улыбке.
* * *
Лени вышла из школы, смеясь какой-то шутке Мэтью, и увидела родителей, которые ждали ее. Оба. Мама высунулась из окна автобуса и помахала ей энергично, словно актриса массовки на пробах к телепередаче «Правильная цена».
— Ого. Да тебя как принцессу встречают.
Лени рассмеялась, попрощалась с Мэтью и залезла в автобус.
— Ну что, мой книжный червячок, — проговорил папа, когда они с грохотом катили по грязной дороге из городка, — что ты сегодня полезного узнала?
— Мы ходили в поход на каноэ, плавали в Орлиную бухту, собирали листья для проекта по биологии. Ты знал, что волчьи ягоды есть нельзя, а то сердце остановится? А от болотницы может быть приступ удушья?
— Какая прелесть, — заметила мама. — Тут даже растения опасны.
Папа рассмеялся:
— Вот это я понимаю. Наконец-то вас в школе научили хоть чему-то полезному.
— Еще нам рассказывали о золотой лихорадке на Клондайке. Канадская полиция пропускала за перевал Чилкут только тех, у кого была с собой печь. То есть эту печь им приходилось тащить на своем горбу. Но большинство старателей нанимали индейцев нести вещи.
Папа кивнул:
— Богачи вечно на бедняках ездят. Такова история цивилизации. Это-то и погубит Америку. Алчные проходимцы, которым все мало.
Лени заметила, что папа стал чаще высказываться в таком духе, с тех пор как познакомился с Чокнутым Эрлом.
Папа свернул на дорогу к дому, и автобус с грохотом пополз по ухабам. Во дворе отец ударил по тормозам и заявил:
— Ну что, девочки мои, сегодня будете учиться стрелять.
Отец выскочил из автобуса, вытащил из-за курятника тюк почерневшего плесневелого сена и поволок по высокой траве.
Мама закурила. Дым встал сизой короной над белокурыми мамиными волосами.
— Наверно, это весело, — уныло предположила она.
— Мы должны научиться стрелять. Тем более что и Марджи-шире-баржи, и Тельма нам об этом говорили.
Мама кивнула.
— Мам, ты заметила, что папа, как бы это сказать… сердится на мистера Уокера?
Мама обернулась, поймала взгляд Лени.
— Да? — равнодушно откликнулась она.
— Ты сама понимаешь, что да. Ну, в общем… ты же знаешь, как он злится, когда ты… это самое. Флиртуешь с кем-то.
Папа грохнул по капоту, мама вздрогнула, ойкнула, выронила сигарету и наклонилась, чтобы подобрать.
Лени знала, что мама все равно ничего не ответит — очередная их семейная причуда. Папа бесился, а мама его подзуживала. Наверно, ей нужны доказательства его любви.
Лени с мамой прошли вслед за папой по холмистому двору, поросшему пучками высокой травы, к тюку сена с мишенью.
Отец достал из кожаного чехла винтовку, прицелился, выстрелил и попал точно в центр мишени, прямиком в голову, которую нарисовал фломастером на листе бумаги. С дерева вспорхнула стайка птиц и с сердитым криком рассыпалась по небу. Их место тут же занял огромный белоголовый орлан с размахом крыльев минимум футов шесть, уселся на верхнюю ветку и, наклонив голову с желтым клювом, уставился на людей внизу.
— Вот чего я от вас жду, — пояснил папа.
Мама выдохнула дым.
— Да, доченька, мы тут надолго.
Папа протянул Лени ружье:
— Ну, Рыжик, давай посмотрим, на что ты способна. Смотри в прицел, только не подноси ружье слишком близко, а как поймаешь мишень, жми на спусковой крючок. Медленно и спокойно. Дыши ровно. Теперь целься. Я скажу, когда стрелять. Осторожно, только не…
Лени подняла винтовку, прицелилась, подумала: «Ух ты, скорее бы рассказать Мэтью» — и нечаянно спустила курок.
Ружье с такой силой отдало в плечо, что едва не сшибло ее с ног. Прицел ударил в глазницу с громким хрустом, словно сломалась кость.
Лени заорала, выронила винтовку, рухнула на колени в грязь и схватилась за глаз. Веко дергало. Боль была такая, что свело живот, и ее едва не стошнило.
Лени плакала, подвывая. Кто-то опустился рядом с ней и погладил по спине.
— Черт, Рыжик, — сказал папа, — ну чего ты выстрелила, команды же не было. Ничего, сейчас пройдет. Дыши. Обычная ошибка новичка. Все будет хорошо.
— Что с ней? — кричала мама. — Она не ранена?
Папа поднял Лени на ноги.
— Не реви, — велел он. — Это тебе не какая-нибудь репетиция конкурса красоты, на которой учат петь, чтобы получить стипендию. Ты должна меня слушаться. Я ведь пытаюсь спасти тебе жизнь.
— Но…
Боль была нестерпимая. Голова лопалась, по глазам словно били изнутри. Травмированный глаз почти не видел, все двоилось и расплывалось. Однако куда больше Лени терзало то, что отцу совершенно наплевать на ее боль. Лени стало жалко себя. Том Уокер с Мэтью наверняка обращается куда лучше.
— Хватит, Ленора. — Папа встряхнул ее за плечи. — Ты же говорила, тебе нравится на Аляске и ты хочешь здесь освоиться.
— Эрнт, ради бога, она же не солдат, — встряла мама.
Папа развернул Лени лицом к себе.
— Сколько девушек похитили, когда мы жили в Сиэтле?
— М-много. Каждый месяц кто-нибудь пропадал. Иногда даже несколько.
— Что это были за девушки?
— Самые обычные. Подростки.
— А Патти Хёрст украли прямо из квартиры, из-под носа у ее парня, так?
Лени вытерла глаза и кивнула.
— Скажи мне, Ленора, чего тебе больше хочется — выжить или умереть?
Голова у Лени болела так, что мысли путались.
— В-выжить.
— Здесь мы должны быть готовы ко всему. Я хочу, чтобы ты могла себя защитить. — Отец осекся, и Лени догадалась, чего ему стоило скрывать свои чувства. Он ее любил. И хотел, чтобы она сумела за себя постоять. — Вдруг что-то случится, а меня рядом нет? Медведь вломится или волки тебя окружат? Я должен знать, что ты сумеешь защитить себя и маму.
Лени громко всхлипнула и постаралась успокоиться. Он был прав. Надо быть сильной.
— Поняла.
— Вот и умница. А теперь бери ружье, — приказал папа.
Лени подобрала забрызганную грязью винтовку. Прицелилась.
— Не подноси прицел так близко. У него же отдача. Держи ружье вот так. — Папа аккуратно поправил винтовку. — Положи палец на спусковой крючок. Осторожно.
Лени замялась: слишком уж страшно было снова получить ружьем в глаз.
— Делай, что говорят, — сказал папа.
Она глубоко вдохнула и скользнула указательным пальцем по холодному стальному изгибу спускового крючка.
Опустила подбородок, отодвинулась от прицела.
Заставила себя сосредоточиться. Шум прибоя, карканье ворон, шелест ветра в кронах деревьев — все звуки стихли, их заглушил стук ее сердца.
Лени зажмурила левый глаз.
Мир сжался до размеров прицела. Сперва перед глазами плыло, мишень двоилась.
Сосредоточься.
Она видела лишь тюк сена с белым листом бумаги, очертания головы и плеч. Надо же, до чего четкое изображение. Лени поправила ружье и прицелилась в самую середину головы.
Медленно нажала на спусковой крючок.
Винтовка снова с такой силой отдала в плечо, что Лени пошатнулась, но на этот раз прицел не ударил в глаз.
Пуля угодила в тюк сена. Не в мишень, даже не в лист бумаги, а в сено. И все равно Лени гордилась своей маленькой победой.
— Ну вот, Рыжик, я же знал, что ты сможешь. Еще чуток потренируемся — и станешь снайпером.
Семь
Когда Лени вошла в класс, миссис Роудс писала на доске задание.
— Ого, — сказала учительница. — Похоже, кто-то поднес прицел слишком близко к глазу. Дать тебе аспирин?
— Ошибка новичка, — ответила Лени. Она гордилась синяком, ведь это значило, что она осваивается на Аляске. — Мне уже не больно.
Миссис Роудс кивнула:
— Тогда садись и открой учебник истории.
Лени и Мэтью переглядывались с той самой минуты, как она переступила порог. Мэтью расплылся в улыбке, обнажив кривые зубы.
Лени уселась за парту, та качнулась и лязгнула о стол Мэтью.
— Почти все в первый раз получают в глаз прицелом. У меня фингал держался почти неделю. Болит?
— Болело. Но учиться стрелять здорово, я и не думала…
— Лось! — завопил Аксель, вскочил из-за парты и бросился к окну.
Лени с Мэтью кинулись за ним. Детвора столпилась у окна, глядя на огромного лося с раскидистыми рогами, который бродил по площадке за школой. Сохатый перевернул стол для пикника и принялся объедать кустики, вырывая их с корнем.
Мэтью наклонился к Лени, коснувшись плечом ее плеча:
— Давай отмажемся и сбежим с уроков? Я скажу, что после обеда должен помочь дома.
Лени разволновалась: она никогда еще не прогуливала.
— А я скажу, что у меня голова болит. Только мне надо будет вернуться к трем, а то за мной родители приедут.
— Класс, — ответил Мэтью.
— Ладно, хватит, — сказала миссис Роудс. — Лени, Аксель, Мэтью, откройте страницу 117 учебника истории Аляски…
Остаток уроков Лени с Мэтью нервно поглядывали на часы. Перед самым обеденным перерывом Лени пожаловалась, что у нее болит голова, и попросилась домой.
— Я дойду до универмага и вызову по рации родителей.
— Хорошо, — согласилась миссис Роудс, явно не заподозрив обмана.
Лени выскользнула из класса, закрыла дверь, вышла на улицу, юркнула в кусты и стала ждать.
Полчаса спустя из школы вышел ухмыляющийся Мэтью.
— И что мы будем делать? — спросила Лени.
Да и чем тут заняться? Ни телевизора, ни кино, даже асфальта нет, так что на велике не покатаешься, ни придорожных кафешек с молочными коктейлями, ни роллердромов, ни детских площадок.
Мэтью взял Лени за руку и повел к заляпанному грязью мотоциклу-вездеходу:
— Садись.
Мэтью перекинул ногу через черное кожаное сиденье. Лени испугалась, но виду не подала — не хотела, чтобы Мэтью счел ее трусихой. Она уселась позади него и неуклюже обхватила его за пояс.
Мэтью повернул ручку газа, и они сорвались с места, вздымая клубы пыли. Двигатель пронзительно завывал, из-под широких колес разлетались камни. Мэтью проехал через городок, с грохотом миновал мост и выкатил на проселок. Сразу за аэродромом свернул в лес, с ревом перебрался через канаву и выехал на тропу, которую Лени заметила, только оказавшись на ней.
Они поднимались по склону холма среди густых зарослей и наконец очутились на плато. Лени разглядела внизу изгиб врезавшегося в сушу синего моря. Волны накатывали на берег. Мэтью сбросил скорость и ловко рулил по ухабам. Тропа кончилась. Лени так трясло, что она со всей силы вцепилась в Мэтью.
Наконец он остановил вездеход и заглушил двигатель.
В тот же миг их окутала тишина, которую нарушал лишь плеск волн о черные гранитные скалы. Мэтью порылся в сумке и выудил бинокль.
— Пошли.
Он шел впереди, уверенно ступая по неровной каменистой земле. Лени дважды оступилась и чуть не упала, но Мэтью двигался ловко, как горный козлик.
Он вывел ее на поляну, которая возвышалась над морем, точно сложенная горстью ладонь. Под деревьями стояли два самодельных деревянных стула. Мэтью плюхнулся на стул и знаком предложил Лени сесть.
Лени бросила рюкзак на траву и села. Мэтью разглядывал деревья в бинокль.
— Вот они. — Он протянул Лени бинокль и указал на деревья: — Люси и Рики. Их так мама назвала.
Лени поднесла бинокль к глазам и медленно оглядела окрестности. Сперва она видела только деревья, деревья, еще деревья, как вдруг в листве мелькнуло что-то белое.
Лени перевела бинокль чуть левее.
Высоко на дереве в гнезде размером с ванну сидела пара белоголовых орланов. Самка кормила трех орлят. Они толкали друг друга, раскачивались из стороны в сторону, тянули клювы к пище, которую отрыгнула мать. За шумом прибоя Лени расслышала, как орлята пищат и клекочут.
— Ух ты!.. — протянула она. Лени так и подмывало вытащить из рюкзака громоздкий «поляроид», который она всегда таскала с собой, но орлята сидели слишком далеко, так что снимок не получился бы.
— Сколько себя помню, они прилетают откладывать яйца. Мама впервые привела меня сюда еще ребенком. Видела бы ты, как они вили гнездо. Закачаешься. Кстати, эти птицы образуют пару на всю жизнь. Даже не знаю, что будет делать Рики, если с Люси что-то случится. Мама говорит, их гнездо весит почти тонну. Я всю жизнь наблюдаю, как орлята вылетают из гнезда.
— Ух ты, — повторила Лени и улыбнулась, когда один из орлят захлопал крыльями и попытался забраться на братьев.
— Мы давно сюда не приходили.
Мэтью так это произнес, что Лени опустила бинокль и посмотрела на друга:
— Вы с мамой?
Мэтью кивнул.
— С тех пор как они с папой расстались, все не то. Может, потому, что моя сестра Алиеска уехала в Фэрбанкс, учиться в колледже. Я по ней скучаю.
— Вы, наверно, очень друг друга любите.
— Ага. Она классная. Тебе бы понравилась. Вбила себе в голову, что хочет жить в городе, но надолго ее не хватит. Вернется, никуда не денется. Папа твердит, что мы оба должны закончить колледж, чтобы решить, кем стать. Достал уже, если честно. Я и без колледжа знаю, кем хочу быть.
— Серьезно?
— А то. Я хочу стать летчиком. Как мой дядя Вент. Люблю летать. Но папа говорит, что этого мало. Надо учить физику и прочую фигню.
Лени его понимала. Они с Мэтью еще дети, никто их не спрашивает, что они думают, и ничего не объясняет. Барахтайся как хочешь, живи в мире, который тебе подарили, пусть вокруг по большей части творится какая-то чепуха и непонятно ни черта, кроме того, что твой номер последний.
Лени откинулась на занозистую спинку стула. Мэтью рассказал ей о себе, поделился сокровенным. Откровенность за откровенность: ведь они же друзья. Лени сглотнула и пробормотала:
— Везет, папа тебе добра желает. А мой… после войны не в себе.
— В смысле?
Лени пожала плечами. Она не знала, как ответить, чтобы не сболтнуть лишнего.
— Ну, ночами на него находит, кошмары снятся, и в плохую погоду психует. Иногда. Но, с тех пор как мы сюда переехали, кошмары прекратились. Так что вроде стало получше.
— Кто его знает. Зимой же тут все время ночь. У народа от темноты крыша едет, начинают орать, стрелять по домашним животным, по друзьям.
У Лени свело живот. О зиме она как-то не подумала. Ведь если сейчас все время светло, значит, зимой будет все время темно. О зимнем мраке Лени даже думать не хотелось.
— Чего ты боишься? — спросила она у Мэтью.
— Что мама от нас уйдет. Ну то есть она выстроила дом на участке, да и они с папой все еще по-своему любят друг друга, но это уже не то. Однажды она пришла домой и сообщила, что разлюбила папу и теперь любит этого козла Кэла. — Мэтью повернулся к Лени: — Разве можно вот так вот взять и разлюбить? Вот что страшно.
— Ага.
— Жаль, что скоро каникулы, — добавил Мэтью.
— И мне жаль. Еще три дня — и все. А тогда…
Как только кончатся занятия, Лени придется день-деньской хлопотать по дому, и Мэтью тоже. Едва ли им удастся увидеться.
* * *
В последний учебный день Лени и Мэтью пообещали друг другу, что непременно встретятся до сентября, когда начнутся занятия, и не раз, но оба знали правду. Они еще дети, а значит, не могут распоряжаться ни собой, ни своим расписанием. У Лени сердце щемило от одиночества, когда она попрощалась с Мэтью и пошла к автобусу, ждавшему на обочине.
— Что-то ты совсем загрустила, — заметила сидевшая за рулем мама.
Лени уселась рядом с ней. Что толку жаловаться на то, чего не можешь изменить? Было три часа. До заката еще море времени, несколько часов домашних работ.
Когда приехали домой, мама сказала:
— У меня идея. Сходи возьми шерстяное одеяло и шоколадку. Я буду ждать тебя на берегу.
— Что мы будем делать?
— Ничего.
— Как это? Папа не разрешит.
— Так его же нет, — улыбнулась мама.
Лени не теряла ни секунды. Забежала в дом, пока мама не передумала, взяла на кухне плитку шоколада «Хёршис» и одеяло со спинки дивана. Одеяло накинула на плечи, как пончо, по шаткой лестнице спустилась к серому завитку гальки, испещренной каплями воды, — их собственному пляжу. Слева заманчиво темнели пещеры, которые за много веков выбили волны.
Мама стояла в высокой траве и курила. Лени подумала, что детство для нее всегда будет пахнуть морем, табачным дымом и мамиными духами с ароматом роз.
Лени расстелила на неровной земле одеяло, они с мамой уселись, вытянули ноги, скрестив лодыжки, и привалились друг к другу. Перед ними катились бесконечные синие волны, омывали берег, шуршали галькой. Чуть поодаль от берега плавала на спине выдра, пытаясь открыть черными коготками ракушку.
— А где папа?
— Уехал с Чокнутым Эрлом на рыбалку. Ну и заодно хочет попросить у него взаймы, а то у нас туго с деньгами. У меня еще кое-что осталось из того, что дала мать, но эти деньги я трачу в основном на кассеты для твоего «поляроида» и сигареты. — Мама мягко улыбнулась Лени.
— Зря папа водится с этим Чокнутым Эрлом, — сказала Лени.
Улыбка сбежала с маминого лица.
— Понимаю, о чем ты.
— Впрочем, ему здесь нравится, — добавила Лени, стараясь не вспоминать разговор с Мэтью о долгой холодной зиме и о мраке, от которого дуреют.
— Жаль, что ты не помнишь, каким он был до Вьетнама.
— Ага. — Лени слышала массу историй о том времени и очень их любила. А мама любила рассказывать о том, как они жили раньше, в самом начале. Как старую добрую сказку.
Мама забеременела в шестнадцать.
Шестнадцать.
Лени в сентябре исполнится четырнадцать. Как ни странно, раньше она об этом как-то не думала. Нет, она, конечно, знала, сколько маме лет, но как-то не сопоставляла цифры. Шестнадцать.
— Ты была всего на два года старше меня, когда забеременела, — сказала Лени.
Мама вздохнула:
— Я училась в одиннадцатом классе[36]. Господи. Чего уж тут удивляться, что родителей едва удар не хватил. — Мама скривила губы в прелестной улыбке. — Им меня было не понять, не те они люди. Им не нравилось, как я одеваюсь, какую музыку слушаю, а я терпеть не могла их правила. В шестнадцать мне казалось, что я сама все знаю. Так им и сказала. Они отправили меня в католическую школу для девочек. Там считалось бунтом, если ты заворачивала пояс юбки, чтобы чуть-чуть приподнять подол, на дюйм обнажив колено. Нас учили, как преклонять колени, молиться и удачно выйти замуж.
Твой отец ворвался в мою жизнь как штормовая волна, буквально сбил меня с ног. Все, что он говорил, перевернуло привычные мои представления о жизни, изменило меня. Я разучилась дышать без него. Он сказал, что мне незачем учиться. Я верила каждому его слову. Мы с твоим папой так влюбились друг в друга, что вообще ни о чем не думали, и я забеременела. Когда я сообщила об этом своему отцу, он взорвался, хотел отправить меня в приют для матерей-одиночек. Я знала, что там тебя у меня отберут. В ту минуту я ненавидела его так сильно, как никого и никогда.
Мама вздохнула.
— В общем, мы сбежали. Мне было шестнадцать, почти семнадцать, а твоему папе двадцать пять. Когда появилась ты, у нас не было ни гроша, мы жили в трейлерном парке, но нас это ничуть не волновало. Какая разница, есть ли у тебя деньги, работа, новая одежда, когда у тебя самая прекрасная дочка на свете? Он все время таскал тебя с собой. Сперва на руках, потом на плечах. Ты его обожала. Нам никто не был нужен, мы жили любовью, но жизнь взяла свое.
— Началась война, — догадалась Лени.
Мама кивнула.
— Когда твоего папу призвали, я умоляла его сбежать. Хоть в Канаду. Мы постоянно ссорились из-за этого. Я не хотела быть женой солдата, но его призвали, и он решил, что пойдет служить. Я собрала его вещи, обливаясь слезами, и отпустила. Через год он должен был вернуться. Я не знала, что делать, куда податься, как жить без него. Деньги кончились, я переехала к родителям, но надолго меня не хватило. Мы все время ругались. Они мне все уши прожужжали, мол, разведись с ним, подумай о дочери. В конце концов я опять от них ушла. Тогда-то я и нашла коммуну и людей, которые не судили меня за то, что я родила ребенка, хотя сама еще ребенок. А потом вертолет твоего отца сбили, а его взяли в плен. За шесть лет я получила от него одно-единственное письмо.
Лени вспомнила и то письмо, и как мама рыдала, когда его прочла.
— Вернулся он такой, что краше в гроб кладут, — продолжала мама. — Но он любил нас. Только нами и дышал. Говорил, что может заснуть, только если обнимает меня, хотя все равно толком не спал.
Тут мамина история всегда обрывалась: сказка кончилась. Дверь ведьминой хижины захлопнулась за потерявшимися детьми. Из Вьетнама вернулся другой человек, не тот, кто когда-то туда улетал.
— Впрочем, здесь ему лучше, — добавила мама. — Как думаешь? Он хоть стал на себя похож.
Лени смотрела на катившиеся к берегу волны. Вода неумолимо прибывала, прилив никакой силой не удержать. Одна ошибка, одна погрешность в расчете — и тебя либо выбросит на берег, либо унесет в открытое море. Нужно защитить себя: подготовиться, свериться с картой, принять правильное решение.
— Здесь зимой по полгода темно. Снег, морозы, вьюга.
— Знаю.
— Ты всегда говорила, что в непогоду ему становится еще хуже.
Лени почувствовала, как мама отстранилась. Об этом она старалась не думать. И обе знали почему.
— Здесь все будет иначе. — Мама затушила окурок о камень и повторила на всякий случай: — Здесь все будет иначе. Ему здесь лучше. Вот увидишь.
* * *
Тянулись длинные летние дни, и тревога Лени утихла. Лето стояло волшебное. Край полуночного солнца. Потоки света, день длиной восемнадцать часов, затем ночь — короткая, как вдох, — и снова день.
Солнце и работа — вот вам лето на Аляске.
Работать приходилось много, чтобы все успеть. Все постоянно об этом говорили. В очереди в закусочную или на кассе в универмаге, на пароме до городка. «Ну как рыбалка? Удачно поохотились? Как огород?» Все вопросы только о припасах да подготовке к зиме.
С зимой шутки плохи, это Лени уже усвоила. О грядущих холодах здесь не забывали ни на минуту. Ты не просто так рыбачишь погожим деньком, а ловишь рыбу на зиму. Вроде как и развлечение, но при этом серьезное дело. Подумать только, от каких мелочей зависит выживание.
Лени с родителями вставали в пять утра, с трудом заставляли себя позавтракать и принимались за дело. Перестраивали загон для коз, кололи дрова, пололи грядки, варили мыло, ловили и коптили лосося, дубили шкуры, консервировали рыбу и овощи, вязали носки, подклеивали изолентой то, что оторвалось. Они ни минуты не сидели на месте — что-то куда-то тащили, забивали гвозди, строили, скоблили. Марджи-шире-баржи продала им трех коз, и Лени научилась за ними ухаживать. Научилась она и собирать ягоды, варить варенье, доставать из раковин съедобных моллюсков и готовить из икры лосося лучшую в мире наживку. По вечерам мама готовила им новые блюда — лосося или палтуса (в любом виде) с овощами из огорода. Папа чистил ружья, чинил железные капканы, которые продал ему Чокнутый Эрл, читал, как правильно разделывать туши животных. Здесь жили натуральным обменом, торговлей и взаимопомощью. В любую минуту к дому мог подъехать кто-то из соседей и предложить лишнее мясо, какие-нибудь доски или ведерко черники в обмен на что-то еще.
От гостей в этой глуши не было отбоя. Приносили связки лосося, ящики пива и созывали по рации остальных. И вот уже к берегу причаливала лодка с рыбаками, а в бухточке садился гидросамолет. Глазом моргнуть не успеешь, а вокруг костра на берегу собрались люди, смеются, болтают, пьют и засиживаются далеко за полночь.
В то лето Лени стала взрослой, — по крайней мере, так ей казалось. В сентябре ей минуло четырнадцать, начались месячные, она стала носить лифчик. Лоб, нос, щеки обсыпали прыщики, похожие на крохотные розовые вулканчики. Лени сперва даже испугалась: как она теперь покажется Мэтью, вдруг он увидит, каким нескладным подростком она стала, и передумает с ней дружить, но он, похоже, даже не заметил предательских высыпаний на ее коже. Встречи с Мэтью были для Лени отдушиной. Каждый раз, как им удавалось свидеться, они убегали от всех, прятались где-нибудь и разговаривали. Мэтью читал Лени наизусть стихи Роберта Сервиса, показывал всякие диковинки — то тайничок с голубыми утиными яйцами, то огромный медвежий след на песке. Она фотографировала все, что он ей показывал, его самого, при любом освещении, и прикалывала снимки к стене своей чердачной комнатушки, так что получился огромный коллаж.
Лето кончилось так же быстро, как началось. Осень на Аляске была не временем года, а, скорее, мгновением, переходным периодом. Зарядили дожди, дороги развезло, полуостров затопило. Ливни окружили его серой стеной. Реки выходили из осыпавшихся берегов, отрывали большие куски земли, меняли русло.
Тополя вокруг домика как-то сразу, в одночасье, зазолотились и перешептывались друг с другом, затем листья сворачивались черными дудочками, облетали и собирались в хрупкие кружевные кучи.
Начался школьный год, а с ним вернулось и детство. Лени увидела Мэтью в классе, уселась рядом с ним и придвинулась поближе.
Его улыбка напомнила Лени, что жизнь не ограничивается делами. Благодаря Мэтью она узнала, что дружба всегда продолжается, словно вы и не расставались.
* * *
Холодным субботним вечером в конце сентября, после долгого хлопотливого дня, Лени стояла у окна и смотрела на темный двор. Они с мамой выбились из сил, трудились от рассвета до заката, консервировали последнего в этом сезоне лосося — готовили банки, чистили рыбу, резали толстыми ломтями розово-серебристое мясо, отрывая склизкую кожу, складывали ломтики в банки и опускали в скороварку. Потом одну за другой относили банки в погреб и ставили на новенькие полки.
— Если в комнате будет десять умных и один дурак, угадай, кого выберет твой отец.
— А? — откликнулась Лени.
— Не обращай внимания.
Мама встала рядом с Лени. Снаружи стемнело. Полная луна заливала все иссиня-бледным светом. В небе булавками торчали звезды в овальных ореолах. Здесь по ночам небо казалось бескрайним и не чернело, но становилось бархатным, темно-синим. Мир земной сжимался до точки, пятнышка света от костра, белесой лунной ряби на тусклой воде.
Во дворе, возле бочки из-под мазута, в которой горел огонь, стояли папа и Чокнутый Эрл и пили виски, передавая друг другу бутылку. От горевшего в бочке мусора валил черный дым. Остальные гости давным-давно разъехались.
Вдруг Чокнутый Эрл вытащил пистолет и выстрелил в деревья.
Папа расхохотался.
— Долго они еще будут там стоять? — спросила Лени. Когда она выходила в туалет, до нее донеслись обрывки их разговоров: «Губят страну… мы должны себя защитить… начнется анархия… атомная война».
— Откуда я знаю?
Мама раздраженно вздохнула. Она пожарила лосятину, которую принес Чокнутый Эрл, запекла картошку, накрыла складной столик: поставила железные миски, положила столовые приборы. Чтобы столик не шатался, под сломанную ножку подсунули книжку в бумажной обложке.
Было это несколько часов назад. Теперь же мясо, наверно, задубело, как старый башмак.
— Ну все, хватит, — не выдержала мама и пошла на двор. Лени шмыгнула к порогу и открыла дверь, чтобы слышать, о чем будут говорить. Козы заблеяли, услышав шаги.
— О, Кора пришла. — Чокнутый Эрл слюняво улыбнулся. Он едва стоял на ногах. Качнулся и чуть не упал.
— Поужинаете с нами? — предложила мама.
— Не, спасибо. — Чокнутый Эрл, пошатываясь, шагнул в сторону. — Если я не вернусь домой к ужину, дочка мне задаст перцу. Она сегодня варит чаудер[37] с лососем.
— Ну, значит, в другой раз. — Мама повернулась к отцу. — Пошли, Эрнт, а то Лени уже с голоду умирает.
Чокнутый Эрл поковылял к своему джипу, уселся за руль и покатил, то останавливаясь, то снова трогаясь с места и сигналя.
Папа направился в дом, ступая чересчур осторожно, как всегда, когда он пьяный. Лени и раньше видела его таким. Он захлопнул дверь, пошатываясь, побрел к столу и осел на стул.
Мама принесла блюдо с мясом и румяной печеной картошкой и теплую буханку: Тельма научила их печь хлеб на закваске, которая у здешних жителей не переводилась.
— Ух ты, — сказал папа, набил рот лосятиной, шумно зачавкал, поднял глаза и осоловело оглядел домашних. — Вам еще многому предстоит научиться. Мы как раз с Эрлом об этом говорили. Когда ВНМТ, вы же первые и пострадаете.
— Какое еще ВНМТ? Что ты несешь? — спросила мама.
Лени бросила на нее предостерегающий взгляд. Мама ведь прекрасно знала, что с ним пьяным лучше не связываться.
— Когда все накроется медным тазом. Ну ты поняла. Военное положение. Атомная бомба. Пандемия. — Он отломил кусок хлеба и обмакнул в мясной сок.
Мама откинулась на спинку стула, закурила сигарету и уставилась на него.
«Мам, не надо, — подумала Лени. — Ну помолчи ты».
— Знаешь что, Эрнт… не очень-то мне нравятся все эти разговоры о конце света. А о Лени ты подумал? Она же…
Папа с такой силой бухнул по столу кулаком, что все задрожало.
— Черт тебя подери, Кора, неужели так трудно хоть раз меня поддержать?
Он встал и направился к висевшим у двери курткам. Его шатало. Лени послышалось, будто он пробормотал «дура чертова» и еще что-то. Он качал головой, сжимал и разжимал кулаки. В его движениях Лени почудилась с трудом сдерживаемая ярость, чувство, охватившее его стремительно и мощно, неукротимо.
Мама бросилась за ним, протянула к нему руки.
— Не трогай меня, — рявкнул папа и оттолкнул ее.
Схватил куртку, сунул ноги в сапоги и хлопнул дверью.
Лени поймала мамин взгляд. В ее больших голубых глазах, выражавших малейшие оттенки чувств, Лени, точно в зеркале, увидела собственную тревогу.
— Неужели он правда верит во все эти байки про конец света?
— Видимо, да, — ответила мама. — Или же хочет верить. Как знать? Да и неважно это. Так, одни разговоры.
Лени и сама знала, что на самом деле важно.
Погода портилась.
А с ней и папино состояние.
* * *
— Как оно вообще? — спросила Лени у Мэтью на следующий день в конце занятий. Дети в классе собирались домой.
— Что именно?
— Здесь зимой.
Мэтью задумался.
— Прекрасно и ужасно. Сразу понятно, выдержишь ли ты на Аляске. Большинство еще до весны сбегает на материк.
— Бескрайняя глушь, — процитировала Лени. Так окрестил Аляску Роберт Сервис.
— Ты выдержишь, — ответил Мэтью.
Лени кивнула, жалея, что не может ему сказать: последнее время она все больше опасается не столько того, что подстерегает ее за пределами дома, сколько того, что в доме.
Она о многом могла рассказать Мэтью, но только не об этом. Могла признаться, что отец слишком много пьет, орет или срывается на них, но только не в том, что порой она его боится. Такое предательство невозможно было даже представить.
Плечом к плечу они вышли из школы.
Снаружи Лени уже поджидал «фольксваген». Выглядел он неважно — помятый, поцарапанный, бампер держится на честном слове. Глушитель отвалился на очередном ухабе, и теперь старая развалина ревела, как гоночный автомобиль. В машине сидели родители — приехали за ней вдвоем.
— Пока, — бросила она Мэтью и направилась к автобусу. Швырнула рюкзак внутрь и уселась. — Привет, — сказала родителям.
Папа с трудом переключил передачу, сдал назад и развернулся.
— Чокнутый Эрл попросил меня кое-чему научить его домашних, — пояснил папа, сворачивая на главную дорогу. — Мы вчера как раз об этом говорили.
И вот они уже поднялись на холм и очутились на подворье Харланов. Папа первым выпрыгнул из автобуса, схватил лежавшее на заднем сиденье ружье и повесил на плечо.
Чокнутый Эрл сидел на крыльце; завидев папу, встал и помахал ему, крикнул что-то своим (слов Лени не расслышала), и те мгновенно положили лопаты, топоры, пилы и собрались на поляне в центре участка.
Мама открыла дверь и вылезла из автобуса. Лени выпрыгнула за ней, и ботинки ее увязли в грязи.
Рядом с «фольксвагеном» остановился помятый «форд» Акселя. Из машины вышли Аксель и две девочки, Агнес и Марти, устремились к толпе, собравшейся перед крыльцом Чокнутого Эрла.
Чокнутый Эрл стоял на покосившемся крылечке, широко расставив кривые ноги, и казалось, что ему самому так не слишком-то удобно стоять. Вдоль морщинистых щек висели седые волосы — корни жирные, концы вьются. На Эрле были грязные джинсы, заправленные в коричневые резиновые сапоги, и видавшая виды рабочая фланелевая рубашка.
— Ну-ка, давайте поближе, — махнул он собравшимся. — Эрнт, Эрнт, иди сюда, сынок.
Собравшиеся перед крыльцом загомонили и обернулись.
Папа прошел мимо Тельмы и Теда, улыбнулся Клайду, хлопнул его по спине, поднялся на крыльцо и встал возле Эрла. Рядом с низкорослым старикашкой папа казался высоким и сильным. Черные волосы, густые черные усы — словом, писаный красавец.
— Мы с Эрнтом вчера вечером беседовали с глазу на глаз о том, что на большой земле творится черт-те что. Президент наш конченый аферист, да вот еще недавно самолет взорвался прямо в небе[38]. Мы теперь все в опасности.
Лени обернулась, посмотрела на маму, та пожала плечами.
— Мой сын Бо был лучшим из нас. Он любил Аляску, он так любил старые добрые Штаты, что отправился добровольцем на эту проклятую войну. И мы его потеряли. Но даже в той адской дыре он заботился о нас. Своей семье. Он хотел, чтобы мы были целы-невредимы и в безопасности. И поэтому он послал нам своего друга Эрнта Олбрайта, чтобы он стал одним из нас. — Чокнутый Эрл хлопнул папу по спине, как бы подтолкнул вперед. — Я наблюдал за Эрнтом все лето и точно знаю: он желает нам добра.
Папа вытащил из заднего кармана сложенную газету и расправил. Показал заголовок: «88 пассажиров погибли в результате взрыва бомбы на рейсе 841 компании TWA».
— Мы, конечно, живем в тайге, но при этом ездим в Хомер, Стерлинг, Солдотну. Мы знаем, что творится на материке. Теракты ИРА, ООП[39], «Синоптиков». Люди убивают друг друга, похищают ради выкупа. В штате Вашингтон пропадают девушки, теперь вот кто-то убивает девушек в Юте. Симбионистская армия освобождения. Индия проводит испытания атомных бомб. Того и гляди, начнется Третья мировая. Атомная… или биологическая. И вот когда это случится, все действительно накроется медным тазом.
Чокнутый Эрл кивнул и что-то согласно пробормотал.
— Мам, — шепотом спросила Лени, — это правда?
Мама закурила сигарету.
— Не всякий факт — правда, и замолчи уже. Мы же не хотим, чтобы он взбесился.
Папа был в центре внимания и упивался этим.
— Вы тщательно подготовились к трудностям с продовольствием. Как все поселенцы, вы прекрасно умеете о себе позаботиться. У вас отличная система водосбора и большие запасы провизии. Вы застолбили за собой источники пресной воды, вы умелые охотники. Огород у вас хоть и маловат, зато ухоженный. Вы способны выжить в любых условиях. Кроме последствий военного положения.
— Ты о чем? — спросил Тед.
Папа преобразился. Стал как будто выше ростом. Раздался в плечах. Лени таким его сроду не видела.
— Атомная война. Пандемия. Электромагнитный импульс при ядерном взрыве. Землетрясение. Цунами. Торнадо. А может, извержение вулкана Денали или Рейнир. В Сибири в 1908 году взрыв был в тысячу раз мощнее бомбы, которую сбросили на Хиросиму. Существует миллион вариантов, как именно этому прогнившему, больному миру придет конец.
Тельма нахмурилась:
— Да ладно тебе, Эрнт, не пугай…
— Тише ты, — оборвал ее Чокнутый Эрл.
— Что бы ни случилось, техногенная катастрофа или стихийное бедствие, сразу же начнется беззаконие и беспорядки, — продолжал папа. — Вы только себе представьте: ни электричества. Ни связи. Ни продовольственных магазинов. Все продукты заразные. Ни воды. Ни цивилизации. Военное положение.
Папа сделал паузу и обвел взглядом собравшихся, каждому посмотрев в глаза.
— Типов вроде Тома Уокера, с его большим домом, дорогими лодками и экскаватором, это застигнет врасплох. Какой толк от всей этой земли и богатства, когда кончатся пища и медикаменты? Никакого. То-то и оно. А знаете, что будет, когда типы вроде Тома Уокера поймут, что ничегошеньки у них нет?
— Что? — Чокнутый Эрл взирал на папу так, словно узрел Бога.
— Он придет сюда, постучится к нам и будет умолять о помощи нас, тех самых людей, перед которыми так задается. — Папа выдержал паузу. — Поэтому мы должны уметь себя защитить и дать отпор мародерам, которым наверняка понадобится то, что у нас есть. Первым делом надо приготовить тревожные чемоданчики — то есть собрать вещи, необходимые для выживания. Чтобы можно было исчезнуть в любую минуту, прихватив с собой все, что нужно.
— Точно! — крикнул кто-то.
— Но этого мало. Все самое основное у нас есть. А вот безопасность хромает. Я уверен, Бо оставил мне эту землю, чтобы я приехал сюда, к вам, и сказал вам: одних запасов для выживания недостаточно. Вы должны драться за свое добро. Убить любого, кто на него покусится. Я знаю, вы все здесь умелые охотники, но когда ВНМТ, нам понадобятся не только ружья. Оружие ударного действия ломает кости. Ножом можно перерезать артерию. Стрелы пробивают тело. Я вам обещаю, что еще до первого снегопада каждый из нас будет готов к самому худшему, все вы, от мала до велика, сумеете защитить себя и свою семью от грядущей опасности.
Чокнутый Эрл кивнул.
— Ну что, тогда стройтесь. Я хочу проверить, как вы умеете стрелять. С этого и начнем.
Восемь
К первому ноября дни стремительно укорачивались. Лени остро ощущала утрату каждой секунды света. В девять неохотно занимался рассвет, а часов в пять — темная ночь. Меньше восьми часов дневного света. И шестнадцать часов тьмы. Ночь накрывала землю мгновенно, точно тень хищного крылатого чудовища. Лени никогда такого не видела.
Погода стала непредсказуемой. То дождь, то снег, то снова дождь. Вот и сейчас небо плевало в них ледяной смесью дождя со снегом. Вода собиралась в лужи, бежала ручейками, превращалась в корку льда, из которого торчали сорняки. Пока переделаешь все домашние дела, успеешь основательно помесить грязь. Накормив коз и кур, Лени с пустыми ведрами тащилась в лес за домом. Тополя облетели, осень превратила их в скелеты. Все живое попряталось, стараясь укрыться от ледяного дождя.
Лени карабкалась по склону холма к ручью, холодный ветер трепал волосы, со свистом рвал куртку. Лени ссутулилась и втянула голову в плечи.
Чтобы наполнить железную бочку, которую они держали у дома, нужно пять раз сходить туда-сюда. Помогал дождь, но надеяться на него нельзя. С водой, как и с дровами, нельзя полагаться на авось.
Потея от натуги, Лени зачерпнула ведро воды — часть расплескала на ботинки, — и тут опустилась ночь. «Опустилась» в буквальном смысле, стремительно и резко, как крышка на чугунок.
Лени повернула к дому, и перед ней простерлась непроглядная тьма. Не видно ни зги, на небе ни звездочки, ни луны, чтобы осветить тропинку.
Лени выудила из кармана куртки налобный фонарик, который дал ей папа, подтянула ремешок, надела, включила. Вытащила пистолет из кобуры, засунула за пояс.
Сердце колотилось. Лени наклонилась и подняла тяжелые ведра. Железные дужки врезались в руки, перчатки мало помогали.
Ледяной дождь превратился в снег, колол щеки и лоб.
Зима.
Вроде бы медведи еще не впали в спячку? Сейчас они опаснее всего, отъедаются перед зимовкой.
Из темноты на Лени смотрели два желтых глаза.
Да нет, показалось.
Тропинка под ногами изменилась, пошла под уклон. Лени споткнулась. Вода плеснула через края ведер, намочила перчатки.
Безпаникибезпаникибезпаники.
Фонарик выхватил из темноты валежину. Тяжело дыша, Лени перешагнула через бревно, услышала, как чиркнула по джинсам кора, но не остановилась, а пошла дальше, в гору, потом с горы и через густые черные заросли. Наконец впереди забрезжил огонек.
Свет.
Дом.
Ее так и подмывало побежать. Ей отчаянно хотелось оказаться дома, и чтобы мама ее обняла, но Лени понимала: это глупо. Хватит и первой ошибки: нельзя было терять счет времени.
Ближе к дому тьма немного рассеялась. На черном фоне проступили темно-серые очертания, блеснула железная дымовая труба на крыше, засветилось боковое окно с силуэтами людей. Запахло дымом и уютом.
Лени поспешила к бочке возле стены, приподняла самодельную крышку и вылила то, что оставалось в ведрах. Тут же раздался плеск — значит, бочка заполнилась примерно на три четверти.
Лени так трясло, что дверь она открыла лишь со второй попытки.
— Я вернулась, — сказала она, входя. Ее била дрожь.
— Заткнись, — оборвал ее отец.
Мама стояла напротив папы. В поношенных спортивных штанах и огромном свитере она казалась неуверенной, слабой.
— Привет, доченька, — сказала мама. — Повесь куртку и сними ботинки.
— Кора, я с тобой разговариваю, — не унимался папа.
В его голосе Лени услышала злость и заметила, как вздрогнула мама.
— Отнеси рис обратно. И скажи Мардж, что у нас нет на него денег, — велел папа.
— Но… ты же пока не добыл лося, — возразила мама. — Нам нужно…
— Значит, это я виноват? — крикнул папа.
— Я не это имела в виду. Но надвигается зима, припасов у нас маловато, да и денег…
— Думаешь, я сам не знаю, что нам нужны деньги? — Папа толкнул стоявший перед ним стул, и тот с грохотом опрокинулся.
Взгляд у папы стал бешеный, сверкнули белки, так что Лени испугалась и попятилась.
Мама подошла к нему, погладила по щеке, пытаясь успокоить:
— Эрнт, родной, мы справимся.
Он отпрянул и бросился к двери. Сорвал куртку с крючка у окна, распахнул дверь, впустив слепящий, обволакивающий холод, вылетел из дома и захлопнул за собой дверь. Тут же взревел мотор «фольксвагена», окно пронзил луч фар, облил маму бледно-золотистым светом.
— Это все непогода. — Мама закурила сигарету, глядя, как отъезжает папа. Ее нежная кожа в свете фар вдруг пожелтела, стала восковой.
— Дальше будет хуже, — заметила Лени. — С каждым днем все темнее и холоднее.
— Да. — Испуг на мамином лице передался Лени. — Я знаю.
* * *
Зима тисками сжала Аляску. Бескрайние просторы сократились до пределов их домика. Солнце вставало в четверть одиннадцатого и садилось уже через пятнадцать минут после того, как в школе заканчивались занятия. Меньше шести часов светового дня. Снег валил и валил, укутывая округу. Заносил подоконники, выплетал кружева на оконных стеклах, так что улицы не видно, и оставалось лишь смотреть друг на друга. В короткие светлые часы небо над головой было серым, так что порой и день был не день, а лишь слабое его подобие. Ветер пробирал насквозь, выл, как от боли. Обледеневшие стебли иван-чая торчали из сугробов причудливыми изваяниями. Мороз стоял такой, что стыло все: замерзали двери машин, трескались окна, глохли моторы. По радио то и дело передавали предупреждения о метелях и перечисляли, кто еще умер, — зимой на Аляске это было так же привычно, как слипшиеся от холода ресницы. Погибнуть можно было из-за любой оплошности: уронил ключи от машины в реку, в баке кончился бензин, сломался снегоуборщик, не вписался в поворот. Без предупреждения Лени не могла никуда пойти и ничего сделать. Зима уже казалась бесконечной. Припайный лед сковал побережье, покрыл глазурью ракушки и гальку, так что берег стал похож на расшитый серебристыми блестками воротник. За стенами домика ревел ветер, и каждый его порыв преображал белый пейзаж. Перед ветром склонялись деревья, звери ладили логовища, рыли норы и прятались в укрытия. Точь-в-точь как люди, которые в такие морозы отсиживались дома и старались без нужды не рисковать.
Никогда еще жизнь Лени не была такой скудной. В хорошие дни, когда позволяла погода и автобус заводился, они ездили в школу. В плохие не оставалось ничего, кроме работы на лютом, сводившем с ума морозе. Лени сосредоточивалась на том, что нужно сделать: выполнить домашние задания, покормить скотину, натаскать воды, разбить лед, заштопать носки, привести в порядок одежду, приготовить вместе с мамой ужин, убрать в домике, истопить печь. С каждым днем приходилось колоть, носить и складывать в поленницу все больше и больше дров. В укоротившиеся дни некогда было думать ни о чем, кроме насущных потребностей. Они выращивали овощную рассаду в картонных стаканчиках на столике под крышей чердака. Даже тренировки навыков самообороны и выживания, проходившие по выходным на подворье Чокнутого Эрла, на время отменили.
Хуже самой непогоды была вызванная ею необходимость сидеть в четырех стенах.
Зима их стеснила, отрезала от людей, Олбрайты остались наедине друг с другом. Вместе они проводили все вечера, долгие темные часы ютились вокруг печурки.
Нервы у всех были на пределе. Между родителями то и дело вспыхивали ссоры из-за денег, из-за домашних дел, из-за погоды. По самым ерундовым поводам.
Лени знала, как папа переживает из-за нехватки припасов и отсутствия денег. Она видела, что это его мучает. Видела Лени и то, как пристально мама за ним наблюдает, как беспокоится из-за его растущей тревоги.
Было заметно, что отец изо всех сил старается сдерживаться, но порой казалось, что ему даже смотреть на домашних не хочется. Просыпался он ни свет ни заря и весь день проводил на улице в трудах, возвращался уже затемно, весь в снегу, с заиндевевшими бровями и ресницами и побелевшим кончиком носа.
Попытки держать себя в руках стоили отцу больших усилий. Дни становились все короче, ночи длиннее, и после ужина он мерил шагами комнатушку, что-то беспокойно бормотал себе под нос. В такие тяжелые вечера он старался побыстрее куда-нибудь уйти: брал капканы, управляться с которыми научил его Чокнутый Эрл, в одиночку отправлялся в чащу их расставлять и возвращался осунувшийся, измученный. Молчаливый. Замкнутый. Чаще всего с добычей — лисьими или куньими шкурками, которые можно продать в городке. Вырученных денег им хватало, чтобы удержаться на плаву, но даже Лени замечала, как пустеют полки в погребке. Из-за стола они всегда вставали, толком не наевшись. Те деньги, которые маме дала бабушка, давным-давно закончились, а другие взять было неоткуда, так что Лени перестала фотографировать, а мама почти не курила. Порой Марджи-шире-баржи украдкой, пока папа не видел, совала им сигареты и какие-то мелочи, но в городке они теперь бывали редко.
Папа хотел добра, но жить с ним было все равно что с диким зверем. Местные рассказывали о чокнутых хиппи, которые селились с волками и медведями, и те в конце концов их задирали. Хищник есть хищник, даже если кажется домашним, ластится к тебе, лижет лицо, трется о ноги, чтобы ему почесали спину. Ты понимаешь (по крайней мере, должен понимать), что ошейник с поводком и миска корма могут укротить лишь повадки зверя, но натуру его не изменят. Вздохнуть не успеешь, как волчья природа возьмет свое и он бросится на тебя, оскалив клыки.
Мучительно трудно все время чего-то бояться, следить за папиным тоном, за каждым его жестом.
Мама выбивалась из сил. От вечной тревоги глаза ее потухли, кожа потускнела. А может, землистая ее бледность объяснялась тем, что все они, как грибы, почти не видели света.
В одно особенно холодное декабрьское утро Лени проснулась от криков. Что-то с грохотом рухнуло на пол.
Она мгновенно догадалась, что происходит. Папе приснился кошмар. Третий за неделю.
Лени выползла из спального мешка, подошла к краю чердака и посмотрела вниз. Мама стояла у завешенного бусами входа в спальню и держала над головой фонарь. В его белом свете мерцало перепуганное лицо, волосы дыбом. Одета мама была в фуфайку и спортивные штаны. В темноте виднелось оранжевое пятнышко: в печке горел огонь.
Папа метался, как дикий зверь, толкал мебель, срывал одежду с крюков, рычал, что-то кричал, но слов было не разобрать… потом перерыл все коробки в поисках неизвестно чего. Мама боязливо подошла и погладила его по спине. Он оттолкнул ее с такой силой, что мама врезалась в стену и вскрикнула от боли.
Папа замер и резко выпрямился. Ноздри его раздувались. Он сжимал и разжимал кулаки. Заметив маму, переменился в лице, ссутулился, пристыженно понурил голову.
— Господи, Кора, — прошептал он прерывисто, — прости. Я… сбился, где я.
— Я знаю. — В маминых глазах блеснули слезы.
Папа подошел к ней, обнял, притянул к себе. Они опустились на колени, прижались лбами. Лени слышала, как они шепчутся, но не понимала о чем.
Она забралась в спальный мешок и попыталась уснуть.
* * *
— Лени! Вставай. Мы идем на охоту. Сил нет сидеть в этом чертовом доме.
Лени вздохнула и принялась одеваться на ощупь, в непроглядной темноте. В первые месяцы аляскинской зимы она приноровилась жить, точно фосфоресцирующее беспозвоночное, которое ползает по морскому дну, не зная иного цвета и света, кроме тех, что производит само.
В гостиной сквозь узкое оконце в черной железной двери печурки мигал рыжий огонек. Лени видела силуэты стоявших рядом с печкой родителей, слышала их дыхание.
Папа зажег фонарь и поднял над головой. В неверном свете было заметно, как папа измучился, как извелся. Уголок его правого глаза дергался от тика.
— Ну что, готовы?
Мама выглядела утомленной. Без макияжа, в огромной куртке и утепленных штанах она казалась слишком слабой для таких морозов и слишком уставшей, чтобы идти куда-то далеко. Из-за папиных кошмаров и воплей она уже неделю не высыпалась.
— Конечно, — ответила мама. — Обожаю охотиться по воскресеньям в шесть утра.
Лени подошла к вешалке на стене, взяла серую куртку и утепленные штаны, найденные в конторе Армии спасения в Хомере, и поношенные армейские ботинки, которые отдал ей Мэтью. Вытащила из карманов куртки дутые перчатки с пухом внутри.
— Вот и хорошо, — сказал отец. — Пошли.
Предрассветный мир был тих. Ни ветра, ни треска веток, лишь бесконечно сыпавший снег и белизна, куда ни глянь. Лени проторила тропку к загончикам. Жавшиеся друг к другу козы при виде Лени заблеяли и принялись толкаться. Она бросила им охапку сена, покормила кур, разбила лед в поилках.
Когда Лени села в автобус, мама уже была там. Лени забралась на заднее сиденье. На таком морозе двигатель долго не заводился, а лед на окнах никак не таял. Не лучшая машина для здешних краев, в этом Олбрайты убедились на собственном горьком опыте. Папа надел цепи на колеса и бросил между передними сиденьями сумку с инструментами. Лени сжалась в комок, скрестив руки на груди, и дрожала, то задремывая, то просыпаясь.
На главной дороге папа свернул направо, к городку, но, не доезжая до аэродрома, повернул налево, на дорогу, которая вела к заброшенной хромовой шахте. Несколько миль они ехали по накатанному снегу; дорога то и дело петляла, как серпантин. Забравшись в самую чащу, высоко на холме папа вдруг врезал по тормозам, так что машина вздрогнула, остановился, выдал маме и Лени по налобному фонарю и ружью, взвалил на плечо рюкзак и открыл дверь.
Ветер, снег и холод проникли в салон. Снаружи было градусов двадцать[40].
Лени надела на голову фонарь, поправила ремешок и нажала кнопку. Фонарь испускал лучик яркого света.
На небе ни звездочки, а оттого темно. Валит снег. Непроглядная густая чернота, шепчутся деревья, где-то притаились хищники.
Папа шел первым на снегоступах, прокладывал путь. Лени пропустила маму вперед и двинулась за ней.
Они шагали так долго, что щеки у Лени сперва замерзли, потом разгорелись, а потом онемели. Так долго, что от мороза слиплись ресницы и волоски в носу, она вспотела под теплым бельем, и кожа зачесалась. Лени почуяла запах собственного пота и подумала, не унюхал ли его еще кто. Здесь запросто можно было из охотника превратиться в добычу.
Лени так устала пробираться по сугробам, понурив голову и ссутулив плечи, что даже не заметила, что в какой-то момент разглядела собственные ноги, ботинки, снегоступы. Свет сперва был серенький, неверный, словно сочился из-под снега, просыпаясь, и наконец занялась заря, оранжево-розовая и маслянистая, как лососина.
Солнце.
Лени наконец-то огляделась по сторонам. Они шагали по застывшей реке. Лени с ужасом поняла, что машинально вышла вслед за папой на скользкий лед. А если он слишком тонок? Один неверный шаг — ухнешь в холодную воду, и тебя унесет течение.
Под ногами что-то затрещало.
Папа уверенно шел вперед; похоже, его ничуть не беспокоила прочность льда. На другом берегу он пробрался сквозь засыпанный снегом приземистый кустарник, пристально глядя себе под ноги и наклонив голову, словно прислушивался. Борода его побелела от инея, лицо раскраснелось от мороза. Лени догадалась, что отец ищет следы — высматривает, нет ли где заячьего помета, стежек. Зайцы-беляки обычно выбегают кормиться на рассвете и в сумерках.
Вдруг отец остановился.
— Вон там заяц, — сказал он Лени. — На опушке.
Лени посмотрела, куда он указывал. Все было белым, даже небо. Трудно что-то разглядеть: как заметить белое на белом?
Наконец что-то зашевелилось — выскочил упитанный белый заяц.
— Ага, — ответила Лени. — Вижу.
— Давай, Лени. Это твоя охота. Дыши. Не напрягайся. Выжди и тогда стреляй, — велел отец.
Лени подняла ружье. Она уже несколько месяцев стреляла по мишеням и знала, что делать. Вдохнула и выдохнула, не задерживая дыхание, поймала зайца на мушку, прицелилась. Затаилась. Мир исчез, все упростилось. Остались лишь Лени и заяц, охотник и добыча, связанные друг с другом.
Она нажала на спусковой крючок.
Все случилось как-то разом: выстрелила, попала, убила, заяц завалился набок.
Прекрасный меткий выстрел.
— Отлично, — сказал папа.
Она повесила ружье на плечо, и они втроем двинулись гуськом к опушке и добыче Лени.
Когда они дошли до зайца, Лени оглядела его мягкое белое тельце, испачканное кровью. Снег вокруг успел покраснеть.
Она убила живое существо. Чтобы накормить семью ужином.
Убила. Отняла жизнь.
Она не знала, что и думать, ее обуревали противоречивые чувства — печаль и гордость. Сказать по правде, ей хотелось реветь. Но она же теперь аляскинка, это ее жизнь. Не будешь охотиться — нечего будет подать на стол. Здесь ничто не пропадает. Из шкурки сошьют шапку, на костях сварят бульон. Мама вечером пожарит зайчатину на домашнем сливочном масле из козьего молока, приправит луком и чесноком. Может, они даже шиканут, добавят к мясу пару картофелин.
Папа опустился на колени в снег. Лени заметила, как дрожат его руки, и по напряженному папиному дыханию догадалась, что у него болит голова. Папа перевернул мертвого зайца на спинку, воткнул нож возле хвоста и повел лезвие вдоль брюха к шее, взрезая кожу и кости. На грудине остановился, просунул окровавленный палец под лезвие и аккуратно двинул нож выше, стараясь не повредить внутренности. Распорол и выпотрошил зайца, вывалив горкой на снег дымящуюся красно-розовую требуху.
Выковырял из кучи крохотное плотненькое сердце и протянул Лени. Сквозь его пальцы сочилась кровь.
— Ты охотник. Ешь сердце.
— Эрнт, пожалуйста, не надо, — вмешалась мама. — Мы же не дикари.
— А то кто же, — отрезал он голосом, стальным, как нож, и ледяным, как ветер в спину. — Ешь.
Лени взглянула на маму, которая, казалось, перепугалась не меньше ее.
— Не заставляй меня повторять дважды, — сказал отец.
Спокойный тон его был страшнее крика. Лени пронзил страх, по спине пробежал мороз. Она протянула руку, взяла сине-красное сердечко (неужели оно еще билось? или это ее трясло?).
Под пристальным отцовским прищуром Лени сунула сердце в рот и заставила себя сжать губы. Ее чуть не вырвало. Сердце было противное, склизкое. Лени прокусила его, и оно лопнуло, оставив во рту привкус металла. Она почувствовала, что из уголка губ у нее сочится кровь.
Лени, давясь, проглотила сердце и вытерла губы, размазав теплую кровь по щеке.
Отец поднял глаза, поймал ее взгляд. Он выглядел разбитым, усталым, но живым; в его глазах Лени увидела столько любви и печали, сколько едва ли вынести человеку. Даже сейчас что-то раздирало его на части. Словно в нем жил другой, плохой человек, который пытался вырваться в темноте.
— Я всего лишь хочу, чтобы ты научилась выживать.
Он словно извинялся, но за что? За то, что порой срывается, или за то, что учит ее охотиться? Или же за то, что заставил съесть бьющееся заячье сердце? Или за ночные кошмары, которые не дают им спать?
А может, он извинялся за то, чего пока не совершил, но боялся, что не сумеет сдержаться?
* * *
Декабрь.
Папа был все время на взводе, слишком много пил, что-то бормотал себе под нос. Кошмары участились. Снились три раза в неделю, каждую неделю.
Все время в движении, подгонял их, приказывал. Ел, пил, спал, дышал — все с одной только мыслью: как им выжить. Он опять стал солдатом — по крайней мере, так говорила мама, а Лени заметила, что при отце она старается помалкивать, боится сказать или сделать что-нибудь не то.
После уроков и по выходным Лени так упорно трудилась, что, казалось бы, — упасть и сразу уснуть, но увы. Ночь за ночью ей от волнения не спалось. Страх и тревога о том, что творится в мире, стали острее ножа.
Вот и сегодня, несмотря на усталость, Лени не спала — лежала и слушала, как кричит отец. Когда же наконец провалилась в сон, очутилась в какой-то охваченной пламенем фантасмагории, полной опасностей: идет война, убивают животных, похищают девушек, какие-то мужчины кричат и угрожают пистолетом. Лени звала на помощь Мэтью, но в рушившемся мире никто не слышал ее мольбы. Да и что толку звать Мэтью? Ему ведь об этом не расскажешь. О чем угодно, только не об этом. С некоторыми страхами приходится справляться в одиночку.
— Лени!
Она услышала, как ее зовут по имени откуда-то издалека. Где же она? Стояла глухая полночь. Неужели это ей снится?
Кто-то ее схватил, рывком вытащил из спального мешка. На этот раз по-настоящему. Кто-то зажал ей рот.
Знакомый запах.
— Папа? — пробормотала Лени в закрывшую ее губы ладонь.
— Пошли, — велел он. — Сейчас же.
Лени, спотыкаясь, подошла к лестнице и в кромешной темноте спустилась вслед за отцом.
Лампа внизу не горела, но было слышно, как тяжело дышит мама.
Папа подвел Лени к складному столику, который недавно починил, так что столик теперь не шатался, и усадил на стул.
— Эрнт, ну что ты, в самом деле… — начала было мама.
— Заткнись, Кора, — отрезал отец.
Что-то со стуком и лязгом упало на стол перед Лени.
— Что это? — спросил отец и встал рядом с ней.
Лени протянула руку, коснулась шершавой столешницы.
Ружье. Разобранное на части.
— Тебе нужно больше тренироваться, Лени. Когда ВНМТ, нам придется все делать иначе. А вдруг это случится зимой? Кругом темно. Тебя застали врасплох, сонную, ты не понимаешь, что происходит. Отговорки не помогут, тебя просто убьют. Ты должна научиться действовать в темноте, даже если страшно.
— Эрнт, — донесся из темноты дрожащий мамин голос, — она же еще ребенок. Отпусти ты ее, пусть ляжет.
— Когда настанет голод, а у нас окажется запас еды, всем будет плевать, ребенок она или нет.
Лени услышала, как щелкнул секундомер.
— Давай, Лени. Почисти ружье, а потом собери.
Лени протянула руку, нащупала холодные детали, подвинула к себе. Темнота действовала на нервы, сбивала с толку. Лени увидела, как вспыхнула спичка, почувствовала дым зажженной сигареты.
— Стоп, — сказал отец. Ослепительный луч света выхватил из темноты ружье. — Неудовлетворительно. Тебя убили. Наши припасы забрали. А может, еще и маму изнасилуют. — Он схватил ружье, разобрал и отодвинул детали на середину стола. В ярком свете фонарика Лени увидела части ружья, шомпол, тряпки, пузырек с оружейным маслом для удаления нагара и ржавчины, несколько отверток. Постаралась запомнить, где что лежит.
Он прав. Она должна научиться — или ее убьют.
Сосредоточься.
Щелчок фонарика: свет погас. Щелчок секундомера: время пошло.
— Давай.
Лени протянула руку, стараясь вспомнить, где что лежало. Придвинула к себе детали ружья, быстро собрала, привинтила прицел. Потянулась за тряпкой, но тут щелкнул секундомер: время истекло.
— Тебя убили, — раздраженно бросил отец. — Давай еще раз.
* * *
Накануне, во вторую субботу декабря, они вместе с соседями ездили за елкой. Зашли в самую чащу, выбрали дерево. Папа срубил елку, взвалил на санки, притащил домой, и они поставили ее в углу под чердаком. Нарядили семейными фотографиями, снятыми на «поляроид», и блеснами. Под душистыми зелеными ветками разложили подарки, завернутые в пожелтевшие страницы «Анкоридж таймс». Ленточки на упаковке нарисовали фломастерами. От висевших на елке газовых фонариков в комнате было так уютно, так ярко они горели темным декабрьским утром. Ветер царапал стреху, в стену домика то и дело стучали ветки.
Настало воскресное утро, и мама пекла на кухне хлеб. Пахло дрожжами. Из-за непогоды все сидели дома. Папа сгорбился возле рации, слушал скрипучие голоса, то и дело крутил ручки настройки. Сквозь помехи Лени слышала писклявый голос Чокнутого Эрла, звучавший громко и четко.
Лени сидела на диване с найденным на помойке «Дневником Алисы»[41] в потрепанной бумажной обложке. Мир казался невероятно крошечным, шторы были плотно задернуты, чтобы не тянуло холодом, а дверь заперта на щеколду — от мороза и диких зверей.
— Что-что? Повторите еще раз, прием. — Папа вслушивался, сгорбившись над приемником. — Мардж, это ты?
Из приемника сквозь помехи донесся прерывистый голос Марджи-шире-баржи:
— У нас ЧП. Пропали… Поисковый отряд… Мимо дома Уокеров… Встречаемся на дороге в шахту. Отбой.
Лени отложила книгу:
— Кто пропал? В такую погоду?
— Мардж! — окликнул папа. — Эй! Кто? Кто пропал-то? Эрл, ты здесь?
Шум помех.
Папа обернулся:
— Одевайтесь. Нужна наша помощь.
Мама вынула из печи недопекшийся хлеб, поставила его на стол и накрыла полотенцем. Лени натянула на себя самую теплую одежду, которая у нее была: подвернутые в талии лыжные штаны, куртку, армейские ботинки. Не прошло и пяти минут с того момента, как Марджи-шире-баржи сообщила о случившемся, а Лени уже сидела в автобусе и ждала, пока он заведется.
Мотор завелся не сразу.
Наконец папа расчистил ветровое стекло, так что сквозь него можно было хоть что-то увидеть, и сел за руль.
— Да уж, неприятно потеряться в такой мороз.
Папа медленно развернулся и, увязая колесами в снегу, покатил к обрамленной заснеженными деревьями дорожке. Изо рта у Лени шел пар, до того в автобусе было холодно. Валил такой снег, что дворники едва поспевали очищать ветровое стекло.
Когда они подъехали к городку, из снежной завесы показались черные бугорки — другие машины с включенными фарами. Лени увидела, как впереди замигали янтарные и красные огни. Должно быть, Натали на своем снегоходе прокладывает путь к еле заметной дороге, ведущей к старой шахте.
Папа сбросил газ. Они медленно пристроились за большим пикапом, принадлежавшим Клайду Харлану, и неспешной вереницей покатили в гору.
Наконец добрались до поляны, и Лени увидела неровный ряд снегоходов (про себя она по-прежнему называла их «снегомобилями», хотя здесь так никто не говорил). Они принадлежали тем, кто жил в самой тайге, где не было дорог. У всех машин работали двигатели, горели фары. В лучах света вился снег, и выглядело это жутковато — не машины, а призраки.
Папа припарковался возле снегохода. Лени вслед за родителями вышла из автобуса. Снаружи завывал ветер, мороз пробирал до нутра. Они увидели Тельму и Чокнутого Эрла и подошли к друзьям.
— Что стряслось? — спросил папа, стараясь перекричать ветер.
Не успели Чокнутый Эрл или Тельма ответить, как раздался пронзительный жалобный свист. Вперед вышел мужчина в тяжелой утепленной синей куртке и штанах. По широкополой шляпе стало ясно, что он из полиции.
— Меня зовут Курт Уорд. Спасибо, что откликнулись. Пропали Женева и Мэтью Уокер. Они должны были уже час назад прибыть в охотничий домик. Это их обычный маршрут. Если они ранены или заблудились, мы их найдем по дороге к домику.
Лени осознала, что закричала, лишь когда мама ее погладила, чтобы успокоить.
Мэтью.
— Он же замерзнет насмерть, — проговорила Лени. — Вот-вот стемнеет.
Не успела мама ответить, как Уорд скомандовал:
— Держитесь на расстоянии двадцати футов друг от друга.
И начал раздавать фонари.
Лени включила фонарь. Весь мир сжался до размеров заснеженной тропки. Она видела все слоями: белая земля, белый от снега воздух, белые деревья. И тусклое серое небо.
Где же ты, Мэтью?
Она медленно, упрямо продвигалась вперед, смутно сознавая, что где-то рядом другие члены поискового отряда, другие огни. Слышала лай собак, громкие голоса; лучи фонарей то и дело пересекались. Время тянулось странно, словно в другой реальности, отмеряли его убывающий свет и дыхание.
Вот звериные следы, груда костей в свежей крови, осыпавшиеся сосновые иголки. Ветер ваял из снега горы и спирали с твердыми, покрытыми льдом кончиками. В провалах вокруг деревьев чернел валежник: звери устраивали там временные норы, укрытия от ветра.
Чаща густела. Температура резко упала, снегопад прекратился. Облака поредели, уплыли прочь, открыв темно-синее небо в звездной россыпи. Растущая луна заливала окрестности ярким светом. Все вокруг сияло серебром.
И тут Лени что-то заметила. Руки. Из-под снега торчали тонкие застывшие пальцы. Лени бросилась к ним по глубокому снегу с криком: «Мэтью, я иду!» Дышать было больно, Лени хрипела, луч фонарика прыгал вверх-вниз.
Рога. Раскидистые. Лосиные. Сам сбросил или здесь же лежат и кости, оставленные браконьером. Снег покрывает все грехи, и этот тоже. Правда не откроется до весны. Если вообще когда-нибудь откроется.
Поднялся ветер и ударил по деревьям, так что ветки посыпались.
Лени с трудом пробиралась вперед — один из десятков лучей, рассыпанных по сиявшему сине-бело-черному лесу, желтые точки, которые ищут, ищут… Она услышала голос мистера Уокера, он так часто кричал «Мэтью!», что уже охрип.
— Вон он! — завопил кто-то.
— Вижу! — откликнулся мистер Уокер.
Лени бросилась на голос, проваливаясь и спотыкаясь.
Впереди маячил призрачный бугорок… да нет же… человек… в лунном свете он стоял на коленях у замерзшей реки, понурив голову.
Распихивая всех локтями, Лени пробралась сквозь толпу и подбежала к мистеру Уокеру, который присел на корточки возле сына.
— Мэтти! — крикнул он и положил руку в перчатке ему на спину. — Я здесь. Я здесь. Где мама?
Мэтью медленно обернулся. Лицо его побелело от холода, губы потрескались. Зеленые глаза поблекли, стали цвета речного льда. Мэтью била дрожь.
— Ее больше нет, — прохрипел он. — Она утонула.
Мистер Уокер поднял сына на ноги. Тот покачнулся, чуть не упал, но отец его удержал.
До Лени донеслись обрывки разговоров.
— …провалилась под лед…
— …как же она так…
— Господи…
Пропустите их.
— Возвращаемся, — скомандовал Уорд. Парня надо согреть.
Девять
Зима унесла жизнь одной из них, той, что здесь родилась и умела выживать.
Лени думала об этом непрерывно: ее мучил страх. Если уж смерть так легко забрала Женеву Уокер — «Джен, Дженни, Генератор, зовите как хотите», — значит, это может случиться с каждым.
— Господи боже мой, — заговорила Тельма, когда они в мрачном молчании возвращались к машинам. — Дженни в жизни не вышла бы на тонкий лед.
— И на старуху бывает проруха, — возразила Марджи-шире-баржи. Темное лицо ее исказила скорбь.
Натали Уоткинс печально кивнула:
— Да я эту речку уже раз десять переходила. Боже мой… как она умудрилась провалиться-то? Декабрь на дворе.
Лени слушала и не слушала. Она не могла думать ни о чем, кроме Мэтью, его горя. Он видел, как его мама провалилась под лед и погибла.
Как такое пережить? Теперь, наверно, эта сцена всегда будет стоять у него перед глазами, как ни зажмуривайся. И до конца дней он будет с криком просыпаться от кошмаров. Чем же ему помочь?
Вернувшись домой, Лени, дрожа от холода и страха (оказывается, можно вот так запросто потерять родителей или жизнь обычным воскресным утром, когда ты просто вышел прогуляться в снегопад… раз — и все), одно за другим писала ему бесконечные письма и рвала, поскольку выходило не то.
Два дня спустя, когда город собрался на похороны Женевы, она по-прежнему пыталась сочинить идеальное письмо.
Морозным днем в городок съехались десятки машин. Водители парковались где могли: вдоль дорог, на любом свободном клочке земли, один бросил автомобиль прямо посреди улицы. Лени еще ни разу не видела здесь столько джипов и снегоходов. Все заведения были закрыты, даже салун «Лягающийся лось». Канек съежился от стужи, покрылся снегом и льдом; ослепительное солнце заливало городок.
За каких-нибудь два дня мир перевернулся, изменился непоправимо — а ведь в нем стало всего лишь на одного человека меньше.
Автобус припарковали на Альпийской улице и вышли. Лени услышала, как заунывно воет и рычит мотор генератора, от которого работало освещение в церкви на холме.
Они гуськом поднялись к храму. В пыльные окна старой церквушки лился свет, из трубы валил дым.
Лени замешкалась у закрытых дверей, чтобы скинуть отороченный мехом капюшон. Церквушку она видела всякий раз, как они приезжали в город, но внутри еще не бывала.
Внутри храм был еще меньше, чем казался снаружи. Щербатые стены обшиты белеными досками, пол сосновый, скамей нет. Люди заполнили пространство от стены до стены. Впереди мужчина в камуфляжных штанах и шубе, лица за усами, бородой и пышными бакенбардами практически не разглядеть.
В церкви собрались все, кого Лени знала в Канеке. Марджи-шире-баржи стояла между мистером Роудсом и Натали; Харланы жались друг к другу. Пришел даже Полоумный Пит с гусыней на бедре.
Лени не сводила глаз с первого ряда. Возле мистера Уокера стояла белокурая красавица — видимо, Алиеска приехала из колледжа — и еще какие-то родственники, которых Лени не знала. Справа от них, вроде и вместе со всеми, но наособицу, стоял Мэтью. Кэлхун Мэлви, любовник Женевы, переминался с ноги на ногу, словно не знал, что делать. Глаза у него покраснели.
Лени попыталась привлечь внимание Мэтью, но он не заметил даже, как отрылись и закрылись двойные церковные двери и внутрь ворвался ветер и снег. Мэтью стоял, понурив плечи и уронив голову на грудь, сальные волосы падали ему на лицо.
Лени прошла за родителями на свободное место позади Чокнутого Эрла с семейством. Эрл тут же протянул папе фляжку.
Лени смотрела на Мэтью, надеясь, что он оглянется на нее. Она не знала, что скажет ему, когда они наконец сумеют пообщаться; может, и ничего не скажет, просто возьмет за руку.
Священник — его преподобие, пастор, а может, батюшка? кто знает? Лени в таких вещах не разбиралась — заговорил:
— Все мы знали Женеву Уокер. Она не была моей прихожанкой, но она была одной из нас с того самого дня, как Том Уокер привез ее из Фэрбанкса. Она ничего не боялась и никогда не сдавалась. Помните, как Али уговорила ее спеть гимн на Празднике лосося и Женева так фальшивила, что завыли собаки и даже Матильда сбежала? А Джен допела и сказала: «Ну да, петь я не умею, и что? Меня же Али попросила». Или как на соревновании рыбаков зацепила Тома крючком за щеку и заявила, что теперь ей положен приз за самый большой улов? Сердце у нее было большое, как Аляска. — Он вздохнул и замолчал. — Наша Джен. Она умела любить. И пусть в конце концов мы запутались, за кем она все-таки замужем, но какая разница. Мы все ее любили.
Тихий печальный смех.
Лени не слушала. Она даже не знала, сколько прошло времени. Она думала о своей маме, о том, каково было бы ее потерять. Наконец она поняла, что собравшиеся расходятся: зашаркали ноги, заскрипели половицы.
Служба закончилась.
Лени попыталась пробраться к Мэтью, но тщетно: публика, толкаясь, двигалась к выходу.
Лени не заметила, чтобы в церкви обсуждали, не заглянуть ли после похорон в «Лягающегося лося», однако именно туда все и направились, точно лемминги. Как будто взрослыми двигал инстинкт.
Лени вслед за родителями спустилась с холма, перешла через дорогу и очутилась в обугленном полуразрушенном салуне. С порога ей ударил в нос едкий запах прокопченного дерева. Видимо, гарь не выветривалась. Внутри — словно в пещере. Висевшие на стропильных балках газовые фонари покачивались и скрипели, стоило открыть входную дверь.
Старый Джим за стойкой разливал напитки, стараясь как можно проворнее обслужить каждого посетителя. На плече у него висела мокрая серая тряпка, капли воды расплывались темными пятнами на груди фланелевой рубашки. Поговаривали, что Джим работал барменом не один десяток лет. Начинал он в те давние времена, когда немногие мужчины, обитавшие в этой глуши, либо прятались от Второй мировой, либо только с нее вернулись. Папа сразу заказал четыре стаканчика виски и осушил их один за другим.
Посыпанный опилками пол пах пылью, как в амбаре, и приглушал шаги толпившихся в салуне. Все говорили одновременно, негромко, как полагается при таком случае. Лени слышала обрывки разговоров, воспоминаний. «Красивая… последнюю рубашку отдаст… а хлеб какой вкусный пекла… трагедия».
Лени видела, как гибель Женевы повлияла на людей, как потускнели их глаза, как печально они качают головами, как обрывают фразы на половине, точно не могут решить, что же облегчит их скорбь — слова или молчание.
У Лени еще никто никогда не умирал. Она видела смерть по телевизору, читала о ней в любимых книгах (смерть Джонни в «Изгоях» буквально перевернула ей душу), теперь же поняла, как это бывает на самом деле. В литературе смерть означала многое: смысл, катарсис, возмездие. В книгах герой умирал оттого, что у него остановилось сердце, но были смерти и иного рода — сознательный выбор, подобно тому, как Фродо решил отправиться в Серую гавань. Погибших оплакивали, скорбели по ним, но в лучших ее книгах в смерти было и умиротворение, и удовлетворение — ощущение, что история закончилась правильно.
Однако сейчас Лени видела, что в жизни все иначе. Со смертью близких в душе поселяется печаль, меняется взгляд на мир.
Это заставило Лени задуматься о Боге, о том, чем он может помочь в такие минуты. Впервые в жизни она задалась вопросом, во что верят ее родители, во что верит она сама, и поняла, почему мечта о рае утешает.
Нет ничего страшнее, чем потерять маму. При одной лишь мысли об этом у Лени свело живот. Мама — точно бечевка у воздушного змея. Держит тебя крепко и прочно, а без нее ты улетишь, потеряешься в облаках.
Лени не хотелось даже думать об этом ужасе, тяжкой ноше, которую не выдержит ни один хребет, но в такие минуты отвернуться не получится, а потому она смело взглянула смерти в глаза, не мигая, не отворачиваясь, и сразу поняла: будь она на месте Мэтью, ей сейчас был бы нужен друг. Кто знает, чем она поможет и что лучше — то ли тихонько побыть рядом, то ли трещать без умолку, лишь бы не молчать. Придется ей самой решить, как именно его поддержать. Но что дружба поможет, Лени знала наверняка.
По внезапно наступившей тишине она поняла, что в таверну вошли Уокеры. Все обернулись к двери.
Первым на пороге появился мистер Уокер. Он был таким высоким и плечистым, что ему пришлось пригнуться, чтобы пройти в низкую дверь, длинные светлые волосы падали ему на лицо, он то и дело убирал их назад. Мистер Уокер увидел, что все стоят и смотрят на него, замер, выпрямился. Медленно обвел серьезным взглядом собравшихся друзей. Горе его состарило. За мистером Уокером шла белокурая красавица с мокрым от слез лицом. Она обнимала Мэтью за плечи, точно агент секретной службы, защищавший ненавистного людям Никсона от гнева толпы. Позади них топтался Кэл с остекленевшим взглядом.
Мистер Уокер заметил маму и направился к ней.
— Соболезную, Том. — Мама подняла на него заплаканные глаза.
Мистер Уокер посмотрел на нее:
— Я должен был пойти с ними.
— Ох, Том… — Мама коснулась его руки.
— Спасибо, — хрипло прошептал он и тяжело сглотнул, словно боялся сказать лишнее. Оглядел собравшихся вокруг друзей. — Я знаю, мало кто любит похороны в церкви, но на улице чертовски холодно, да и Женеве нравились обряды.
Собравшиеся дружно забормотали в знак согласия, все переминались с ноги на ногу, к скорби их примешивалось облегчение.
— За Джен. — Марджи-шире-баржи подняла стаканчик.
— За Джен!
Взрослые чокнулись, осушили стаканы и потянулись к бармену за новой порцией, Лени же наблюдала, как Уокеры пробираются сквозь толпу, то и дело останавливаясь, чтобы со всеми пообщаться.
— Ничего так похороны, пышные, — громко заявил Чокнутый Эрл. Он был пьян.
Лени покосилась на Тома Уокера: слышал ли? Но тот разговаривал с Мардж и Натали.
— А чего ты ждал? — Папа проглотил очередную порцию виски. Глаза у него осоловели от выпитого. — Странно, что губернатор не прилетел выразить соболезнования. Я слышал, они с Томом дружки, вместе рыбачат. Уокер не упускает случая нам об этом напомнить — дескать, вы шваль, а я…
Мама придвинулась ближе:
— Эрнт. Он сегодня жену похоронил. Неужели нельзя…
— А ты вообще заткнись, — прошипел отец. — Я видел, как ты на него пялилась…
К ним подошла Тельма.
— Эрнт, ради бога. Сегодня день траура. Забудь ты о ревности хоть на десять минут.
— Думаешь, я ревную к Тому? — спросил отец и, прищурясь, посмотрел на маму. — А что, есть повод?
Лени отвернулась от них и увидела, как Алиеска ведет Мэтью сквозь толпу в тихий уголок в глубине салуна. Лени направилась к ним, пробираясь меж людей, от которых пахло дымом, потом и немытым телом. Зимой мылись редко: вода — это роскошь.
Мэтью стоял в одиночестве у обугленной, облупившейся стены и безучастно таращился в пространство. Рукава его были в саже.
Лени изумилась — до чего он переменился. За такой короткий срок Мэтью вряд ли успел бы похудеть, однако скулы выступили над ввалившимися щеками, точно горные хребты, потрескавшиеся губы кровили. Белая кожа на висках резко выделялась на фоне обветренных щек. Грязные сальные волосы свисали вдоль лица тонкими сосульками.
— Привет, — сказала Лени.
— Привет, — промямлил Мэтью.
Что дальше?
Только не говори «соболезную», как взрослые. Глупо же. Разумеется, ты соболезнуешь. Толку-то?
Но что же сказать?
Лени осторожно подвинулась к Мэтью, стараясь не задеть, и прислонилась рядом с ним к обугленной стене. Отсюда ей были видны и фонари на закопченных балках, и стены с пыльными старинными снегоступами, рыбацкими сетями и беговыми лыжами, и переполненные пепельницы, и окутавший помещение густой дым.
Родители сидели с Чокнутым Эрлом, Клайдом, Тельмой и прочими членами семейства Харланов. Даже сквозь завесу табачного дыма Лени разглядела, как папино лицо налилось кровью (значит, уже перебрал виски), как он щурится от злости. Мама сидела рядом с ним, боясь пошевелиться, вставить слово или взглянуть на кого-то, кроме мужа.
— Он считает, что это я во всем виноват.
Лени изумилась, что Мэтью заговорил, и не сразу поняла смысл его слов. Она перевела взгляд на мистера Уокера и повернулась к Мэтью:
— Твой папа? Не может такого быть. Тут никто не виноват. Она же… ну, то есть лед…
Мэтью расплакался, слезы лились по щекам. Он стоял неподвижно, только волны боли пробегали по телу. В его взгляде сквозила недетская тоска. Одиночество, тревога, непредсказуемый, раздражительный отец — все это страшно, из-за этого снятся кошмары.
Но это еще пустяки. Увидеть, как гибнет твоя мама, гораздо страшнее. Каково ему теперь? Такое разве забудешь?
И как же ей, четырнадцатилетней девушке, у которой полно собственных проблем, помочь ему?
— Ее вчера нашли, — сказал Мэтью. — Слышала? Без ноги, и лицо…
Лени коснулась его:
— Не думай…
От ее прикосновения Мэтью издал мучительный вопль, который услышали все. Мэтью снова закричал, задрожал всем телом. Лени застыла, не зная, что делать — то ли отстраниться, то ли придвинуться ближе. Она инстинктивно обняла Мэтью. Он прильнул к ней, обхватил ее так крепко, что у Лени сперло дыхание. Она почувствовала на шее его теплые слезы.
— Это я во всем виноват. Мне все время снятся кошмары… я просыпаюсь в таком отчаянии, что сил нет.
Не успела Лени рта раскрыть, как к Мэтью подошла красавица-блондинка, обняла его и оттащила от Лени. Мэтью покачнулся и завалился на сестру. Двигался он так неуверенно, словно разучился ходить.
— Ты, наверно, Лени, — сказала девушка.
Лени кивнула.
— Я Али. Старшая сестра Мэтти. Он мне рассказывал про тебя. — Девушка напряженно улыбнулась; было заметно, чего ей стоило улыбаться. — Говорит, вы с ним лучшие друзья.
Лени едва не расплакалась.
— Да.
— Везет. Когда я училась в школе, у меня тут не было ровесников. — Али убрала волосы за ухо. — Наверно, я поэтому и перебралась в Фэрбанкс. Ну то есть… Канек и наш участок крошечные, как зернышко. Но если бы я не уехала…
— Не надо, — перебил ее Мэтью. — Пожалуйста.
Улыбка Али дрогнула. Лени совсем ее не знала, но сразу поняла, что она изо всех сил старается держаться и очень любит брата. И оттого Лени показалось, что Алиеска ей не чужая, между ними есть что-то общее.
— Я рада, что у него есть ты. Ему… сейчас нелегко, да, Мэтти? — Голос ее осекся. — Но он справится. Я надеюсь.
И Лени вдруг поняла, что надежда способна сломать, что это всего лишь блестящая приманка для простаков. Что будет, если ты отчаянно верил в лучшее, а случилось самое худшее? Быть может, лучше не надеяться вовсе, быть готовым ко всему? Разве не об этом постоянно твердит ей отец? Готовься к худшему.
— Конечно, справится, — ответила Лени, но сама в это не верила. Она-то знала, что кошмары вытворяют с человеком и как тяжелые воспоминания меняют его до неузнаваемости.
* * *
На обратном пути никто не проронил ни слова. Лени ощущала, как утекает каждая секунда света, чувствовала так же остро, как если бы ее молотком били по кости. Ей казалось, будто отец слышит их, эти потерянные секунды, которые словно камешки осыпались с грохотом со скалы и булькали в мутную черную воду.
Мама съежилась, ссутулилась на сиденье, то и дело поглядывала на папу.
Он был пьян и раздражен. То и дело подскакивал на месте, стучал кулаком по рулю.
Мама коснулась его руки.
Он отдернул руку и процедил:
— Тебе лишь бы мужиков лапать. Уж это-то ты умеешь. Думаешь, я не вижу. Думаешь, я идиот.
Мама уставилась на него широко раскрытыми глазами. Лицо ее исказил страх.
— Вовсе я так не думаю.
— Я видел, как ты на него пялилась. Я все видел. — Он что-то пробормотал и отодвинулся от нее. Лени толком не расслышала, но ей показалось, будто он еле слышно проговорил «дыши». Ясно было одно: им несдобровать. — Я видел, как ты гладила его руку.
А вот это уже совсем плохо.
Он всегда завидовал богатству Тома Уокера… но это что-то новое.
Всю дорогу до дома отец бормотал себе под нос: «Шлюха, сука лживая» — и барабанил по рулю, как по клавишам рояля. На подворье вывалился из автобуса, стоял, пошатываясь, и глядел на дом. Мама подошла к нему. Оба прерывисто дышали и смотрели друг на друга.
— Ну что… решила снова меня одурачить?
Мама коснулась его руки.
— Неужели ты думаешь, что я хочу Тома?..
Отец схватил маму за руку и поволок в дом. Она пыталась вырваться, спотыкалась, накрыла его кулак свободной ладонью, прося сжалиться, но тщетно.
— Эрнт, пожалуйста, не надо.
Лени бросилась за ними, повторяя на бегу:
— Пап, пожалуйста, отпусти ее.
— Лени, иди… — начала было мама.
Но отец так ей врезал, что она отлетела, ударилась головой о стену и рухнула на пол.
— Мама! — закричала Лени.
Мама с трудом поднялась на колени, встала на ноги. Рассеченная губа кровоточила.
Папа ударил ее еще раз, сильнее. Когда она впечаталась в стену, опустил глаза и с удивлением уставился на свои окровавленные кулаки.
Протяжный, пронзительный крик боли вырвался из его груди, отразился эхом от стен. Папа отшатнулся от мамы, бросил на нее долгий взгляд, полный отчаяния и ненависти, выбежал наружу и хлопнул дверью.
* * *
Лени так удивилась и испугалась, что не сделала ничего.
Ничего.
А должна была броситься на отца, растащить их, может, даже сбегать за ружьем.
Стук захлопнувшейся двери вывел ее из ступора.
Мама сидела на полу перед печкой, сложив руки на коленях и уронив голову. Волосы закрывали лицо.
— Мам?
Мама медленно подняла глаза, убрала волосы за уши. На виске расплывался синяк. Нижняя губа треснула, кровь капала на штаны.
Сделай же что-нибудь.
Лени кинулась на кухню, намочила посудное полотенце в ведре с водой, вернулась к маме и опустилась рядом с ней на колени. Мама устало улыбнулась, взяла у Лени полотенце и прижала к кровоточащей губе.
— Прости, доченька, — пробормотала она сквозь тряпку.
— Он тебя ударил, — изумленно проговорила Лени.
Такой мерзости она даже представить не могла. Одно дело — сорваться, накричать. Но пустить в ход кулаки? Избить в кровь жену? Нет…
Ведь дома, с родителями, тебе никто не страшен. Потому что они защитят тебя от любой угрозы.
— Он весь день места себе не находил. Зря я заговорила с Томом, — вздохнула мама. — Теперь, поди, ушел к Эрлу пить виски и ругать весь свет.
Лени посмотрела на измученное мамино лицо, все в синяках, на красное от крови полотенце.
— То есть ты хочешь сказать, что сама виновата?
— Ты еще маленькая, не поймешь. Он не нарочно. Просто иногда… он слишком сильно меня любит.
Неужели правда? Неужели у взрослых это называется любовью?
— Нарочно, — тихо сказала Лени, и ее как холодной водой окатили: она вдруг осознала, что так и есть. Воспоминания сошлись, как детали головоломки, и все встало на свои места. Мамины синяки, вечные ее отговорки — мол, я такая неуклюжая. Годами она скрывала от Лени неприглядную правду. Но легко врать, когда можно спрятаться за стенкой, в однокомнатном же домишке все на виду.
— Он ведь и раньше тебя бил.
— Нет, — запротестовала мама. — Никогда, ты что.
Лени пыталась осмыслить произошедшее, найти хоть какое-то объяснение, но не могла. Разве же это любовь? Разве мама в чем-то виновата?
— Мы должны понять и простить, — сказала мама. — С больными иначе нельзя. Им и так тяжело. Представь, что у него рак. Но он поправится. Обязательно. Он ведь нас очень любит.
Мама расплакалась, и Лени стало еще тяжелее, словно мамины слезы поливали этот кошмар и он рос. Лени обняла маму, крепко прижала к себе, гладила по спине, как мама не раз утешала саму Лени.
Лени не знала, долго ли так просидела, обнимая маму и снова и снова прокручивая в голове безобразную сцену.
Вдруг она услышала, что отец вернулся. На веранде раздались его неровные шаги, забренчала щеколда. Видимо, мама тоже это услышала, потому что с трудом поднялась на ноги и оттолкнула Лени:
— Иди наверх.
Мокрое, окровавленное полотенце шлепнулось на пол.
Дверь открылась. Повеяло холодом.
— Ты вернулся, — прошептала мама.
На пороге показался папа. Лицо его искажала мука, в глазах стояли слезы.
— Господи, Кора, — прохрипел он. — Конечно, вернулся.
Они двинулись друг к другу.
Папа бухнулся перед мамой на колени, так громко ударившись о половицы, что Лени подумала: завтра наверняка будут синяки.
Мама прижалась к нему, запустила руки в волосы. Он зарылся лицом в ее живот, задрожал, заплакал.
— Прости меня. Я так тебя люблю… просто с ума схожу. Совсем дурной стал. — Он поднял глаза и разрыдался. — Я не хотел.
— Я знаю, любимый. — Мама опустилась на колени, обняла его и принялась укачивать.
Лени вдруг почувствовала, до чего хрупок и ее мир, и мир вообще. Она ведь почти не помнила, как они жили до войны. А может, и вовсе не помнила. Может, все воспоминания о том, как папа сажает ее к себе на плечи, обрывает лепестки маргаритки, подносит к ее губам одуванчик, читает на ночь сказку, она позаимствовала с семейных фотографий и додумала сама?
Она не знала. Да и откуда ей знать? Маме хотелось, чтобы Лени закрывала на все глаза так же просто, как она сама. Чтобы Лени прощала даже тогда, когда извинения тоньше лески и хрупки, как обещание исправиться.
Лени так и делала всю жизнь. Она любила обоих родителей. Она знала, что мрак в папиной душе — зло и так, как он, поступать нельзя, но верила в мамины объяснения, что папа болен, что он раскаивается, что если они будут сильно-сильно его любить, то он обязательно поправится и все станет как прежде.
Вот только теперь Лени больше в это не верила.
Правда в том, что зима едва началась. Мрак и холод продлятся еще долго-долго, и долго-долго они будут в тесном домишке один на один с отцом, как в ловушке.
И в полицию здесь не позвонишь, и на помощь некого позвать. Все это время отец учил Лени, что внешний мир полон опасностей. Но оказалось, что самая страшная опасность подстерегает ее дома.
Десять
— Просыпайся, соня! — Наутро мама разбудила Лени ни свет ни заря. — В школу пора.
Самые обычные слова, каждая мама так говорит своей четырнадцатилетней дочери. Но Лени услышала подтекст, немую просьбу: «Пожалуйста, давай сделаем вид, будто ничего не было». Просьбу, которая таила в себе угрозу.
Мама хотела сделать Лени соучастницей чудовищного заговора молчания, а Лени всей душой этому противилась. Она не желала притворяться, будто случившееся в порядке вещей, но что делать? Она же еще ребенок.
Лени оделась и осторожно спустилась с чердака, опасаясь столкнуться с отцом.
Мама стояла возле складного столика с тарелкой блинов, по краям лежали хрустящие ломтики бекона. Правая щека распухла, на виске синяк. Глаз заплыл и почти не открывался, под ним чернел фингал.
Лени охватила злость, и это ее встревожило.
Страх и стыд она поняла бы. Страх заставляет бежать и прятаться, стыд побуждает молчать, злость же требовала чего-то другого. Выхода.
— Не надо, — попросила мама. — Пожалуйста.
— Не надо что? — уточнила Лени.
— Ты меня осуждаешь.
Лени с удивлением поняла, что это правда. Она действительно осуждает мать, а ведь так нечестно. Даже, пожалуй, жестоко. Ей же прекрасно известно, что папа болен. Лени наклонилась, чтобы поменять под шаткой ножкой столика книжку в бумажной обложке.
— Все не так просто, как кажется. Он ведь это не нарочно. Да я и сама порой его провоцирую. И зря. Но я ведь тоже не специально.
Лени со вздохом потупилась. Медленно выпрямилась и обернулась к маме:
— Но мы же теперь на Аляске. И вряд ли нам помогут, если понадобится. Может, нам с тобой лучше уехать? — Лени сама не догадывалась, что думала об этом, пока не услышала, как с ее губ сорвались злые слова. — Зима будет долгой.
— Я его люблю. Да и ты его любишь.
Так-то оно так, но разве это ответ?
— К тому же ехать нам некуда, да и денег у нас нет. Даже если бы я захотела, поджав хвост, вернуться домой, как бы я это сделала? Нам пришлось бы оставить все вещи здесь, пешком идти до города, на попутке добираться до Хомера и там ждать, пока родители пришлют денег на билет.
— А они нам помогут?
— Возможно. Но какой ценой? Да и… — Мама осеклась и вздохнула. — После такого он никогда не принял бы меня обратно. Я разбила бы ему сердце. Никто и никогда не будет любить меня так, как он. Ты же видишь, он раскаивается. Он старается изо всех сил.
Грустно, но правда: мама так его любит, что никогда не бросит. Даже после всего, что было. С разбитым и распухшим лицом. Может, она не врет и действительно только им и дышит. И завянет, как цветок, без солнца.
Не успела Лени спросить: «Неужели это и есть любовь?» — как дверь открылась и в домик ворвался ледяной ветер.
Папа вошел и закрыл дверь. Снял перчатки, подул в сложенные ковшиком ладони, обил снег с унт. Тот осыпался, на миг убелив пол под ногами, и тут же расплылся лужицами. Вязаная шерстяная шапочка, густые усы и борода припорошены снегом. Вылитый зверобой[42]. Джинсы от мороза стояли колом.
— А вот и мой маленький библиотекарь. — В папиной улыбке сквозила печаль, даже отчаяние. — Я с утра сделал твои дела, покормил кур и коз. Мама сказала, тебе надо выспаться.
Лени видела, что ему стыдно и он ее любит. Злость отступила. Лени снова одолели сомнения. Он ведь не хотел ударить маму, он это не нарочно. Он просто болен…
— Ты так в школу опоздаешь, — тихо сказала мама. — Возьми завтрак с собой.
Лени взяла учебники, коробку с Винни-Пухом, обулась, укуталась потеплее — вязаная шапочка из шерсти овцебыка, толстый свитер, перчатки. По пути к двери проглотила блинчик с вареньем и вышла на белый двор.
Изо рта валил пар. Лени не видела ничего, кроме падавшего снега и дыхания того, кто рядом. Сквозь снежную пелену медленно проступили очертания «фольксвагена», двигатель уже работал.
Лени протянула руку в перчатке и открыла правую дверь. На морозе это получилось лишь со второй попытки, но в конце концов старая железная дверь со скрипом подалась, Лени бросила рюкзак и коробку для завтрака на пол и забралась на рваное сиденье из кожзаменителя.
Папа сел за руль и включил дворники. Оглушительно задребезжало радио. На «Канале полуострова» шел утренний выпуск. Передавали сообщения для тех, кто живет в тайге, без почты и телефона. «…Мориса Лаву из Мак-Карти[43] мама просила позвонить брату, ему нехорошо…»
Всю дорогу до школы папа не проронил ни слова. Лени так глубоко задумалась, что удивилась, когда он вдруг сказал:
— Приехали.
Она подняла глаза и увидела школу. Дворники елозили по стеклу, и здание то выплывало из тумана, то снова исчезало.
— Ленора?
Ей не хотелось на него смотреть. Ей хотелось быть сильной, как истинной уроженке Аляски, которая способна пережить что угодно, хоть Армагеддон. Хотелось, чтобы он понял, как она зла, сразить его злостью, как мечом, но он снова окликнул ее, и в голосе его звучало раскаяние.
Лени обернулась.
Он повернулся к ней, прижавшись спиной к двери. На фоне снега и тумана он казался таким красивым — черные волосы, темные глаза, густые черные усы и борода.
— Я болен, Рыжик. И ты это знаешь. Психиатры называют это «реакцией на стресс». Конечно, чушь полная, но глюки и кошмары у меня бывают взаправду. Я не могу выкинуть из головы всякую дрянь, и меня это бесит. Особенно сейчас, когда с деньгами беда.
Лени скрестила руки на груди.
— От алкоголя тебе только хуже.
— Ты права. И от непогоды. Мне очень стыдно. Ужасно. Я брошу пить. Такое больше не повторится. Клянусь любовью к вам обеим.
— Правда?
— Я возьму себя в руки, Рыжик, обещаю. Я люблю твою маму… — Он перешел на шепот: — Она для меня как героин. Ты же знаешь.
Лени считала, что это неправильно, нормальные родители так себя не ведут, ей категорически не нравилось, когда любовь сравнивают с наркотиком, который сушит тело, сжигает мозг и обрекает на верную смерть. Но папа и мама все время повторяли это друг другу точно непреложную истину, как Эли Макгроу в «Истории любви»[44] говорит, что если любишь, то никогда и ни о чем не пожалеешь.
Лени была бы рада, если бы ей хватило его извинений, стыда и печали. Она была бы рада, как обычно, последовать маминому примеру. Она и рада была бы поверить, что вчера вечером стряслось нечто из ряда вон и больше никогда не повторится.
Папа протянул руку и коснулся ее холодной щеки:
— Ты же знаешь, как я тебя люблю.
— Ага, — ответила Лени.
— Это больше не повторится.
Она должна верить ему, верить в него. Во что превратится ее мир без этой веры? Лени кивнула и вылезла из автобуса. Пробралась сквозь заносы к крыльцу, поднялась по лестнице и вошла в теплую школу.
Ее встретила тишина.
Все молчали.
Ученики сидели за партами, миссис Роудс писала на доске: «Вторая мировая война. Аляска была единственным штатом, в который вторглись японцы». Не было слышно ни звука, только скрип мела о доску. Никто из детей не болтал, не хихикал, не толкался.
Мэтью сидел на месте.
Лени повесила свитер на крючок рядом с чьей-то курткой и обила снег с ботинок. Никто к ней не обернулся.
Она спрятала коробку для завтрака, прошла к парте и села рядом с Мэтью.
— Привет, — сказала она.
Он слабо улыбнулся и ответил, не глядя в глаза:
— Привет.
Миссис Роудс повернулась к ученикам, посмотрела на Мэтью, и взгляд ее смягчился. Учительница откашлялась.
— Итак. Аксель, Мэтью, Лени, откройте страницу 172 учебника истории. Утром шестого июня 1942 года пятьсот японских солдат высадились на острове Кыска Алеутского архипелага. Это было единственное сражение Второй мировой войны на территории Америки. Сейчас уже мало кто об этом помнит, но…
Лени хотелось взять Мэтью за руку под столом, дружеское прикосновение успокоило бы ее, но что, если он отдернет руку? Что она ему скажет?
После всего, что ему пришлось пережить, не может же она плакаться ему на то, что их семейный уклад вдруг оказался таким хрупким и что теперь ей страшно оставаться дома.
Раньше, пожалуй, рассказала бы, но тогда все было иначе, а сейчас горе буквально согнуло Мэтью. До нее ли ему?
Лени чуть было не ляпнула: «Ничего, все образуется», но заметила слезы у него на глазах и закрыла рот. Не нужны ему эти банальности.
Ему нужна помощь.
* * *
В январе непогода разгулялась еще сильнее. Холод и темнота отрезали Олбрайтов от остального мира. Они только и делали, что сутки напролет топили печь, это была их первостепенная задача. Чтобы выжить, каждый день приходилось колоть, таскать и складывать кучу дров. А в плохие ночи, когда папе снились кошмары, он будил маму и Лени (словно мало им прочих трудностей), заставлял снова и снова укладывать тревожные чемоданчики, разбирать и собирать оружие — проверял боеготовность.
Солнце каждый день садилось в пятом часу, а вставало не раньше десяти утра, так что световой день длился не больше шести часов, а ночь — все шестнадцать. В картонных стаканчиках не прорастала рассада. Папа часами сидел, сгорбившись, над радиоприемником, трепался с Клайдом и Чокнутым Эрлом, от остального мира они были отрезаны. Все давалось им тяжким трудом — и натаскать воды, и нарубить дров, и накормить скотину, и добраться в школу.
Но хуже всего было то, что погреб стремительно пустел. Овощей не осталось — ни картошки, ни лука, ни моркови. Рыба тоже почти кончилась, из дичи в запаснике висела одна-единственная оленья нога. Питались они теперь только белком и знали, что надолго его не хватит.
Родители постоянно ругались из-за денег и припасов. С самого дня похорон папа худо-бедно старался держать себя в руках, но терпение его иссякало. Лени чувствовала, как в нем копится раздражение. Они с мамой следили за каждым своим шагом, чтобы ненароком его не разозлить.
Сегодня Лени проснулась затемно, позавтракала, оделась в темноте и в темноте же приехала в школу. Заспанное солнце выглянуло лишь в одиннадцатом часу, но все же наконец показалось, послало хилые желтые лучики в полутемный класс, который освещали лишь печурка да фонарь. Все оживились.
— Солнышко! Значит, не соврал прогноз! — обрадовалась сидевшая у доски миссис Роудс. Лени жила на Аляске не первый день и знала, что в январе солнце и голубое небо в диковину. — Надо выбраться из класса, глотнуть воздуха, подставить лицо солнцу. Стряхнуть с себя зимнюю паутину. В общем, сегодня у нас экскурсия!
Аксель застонал. Он терпеть не мог школу и все, что с ней связано. Парень уставился на учительницу сквозь спутанную черную челку (такое ощущение, что голову он сроду не мыл):
— Ну вот… Может, просто отпустите нас пораньше? Я бы пошел на рыбалку.
Миссис Роудс пропустила его слова мимо ушей.
— Старшие — Мэтью, Аксель и Лени — помогут младшим одеться и собрать рюкзаки.
— Еще чего, — пробубнил Аксель, — не стану я им помогать. Пусть им эти влюбленные голубки помогают.
Лени вспыхнула. На Мэтью она даже не взглянула.
— Ну и пожалуйста, — ответила миссис Роудс. — Если хочешь, иди домой.
Уговаривать Акселя не пришлось, он схватил куртку и был таков.
Лени встала и подошла к Марти и Агнес, чтобы помочь им одеться. Больше сегодня в школу никто не пришел — видимо, из Беар-Коува было не добраться.
Лени обернулась, увидела, что Мэтью стоит у парты. Плечи опущены, грязные волосы падают на глаза. Она подошла к нему, дотронулась до рукава фланелевой рубашки:
— Хочешь, я принесу тебе куртку?
Мэтью выдавил улыбку:
— Ага. Спасибо.
Лени сходила за камуфляжной курткой и протянула ее Мэтью.
— Ну что, пошли, — скомандовала миссис Роудс и вывела учеников из класса на залитую солнцем улицу.
Они прошли по городу к пристани, где был привязан гидросамолет модели «Бивер»[45]. На корпусе виднелись вмятины — самолет давно было пора покрасить. Он качался, поскрипывая, на волнах, натягивал швартовы. Когда школьники подошли к самолету, дверь открылась и на причал спрыгнул жилистый мужчина с густой седой бородой. На мужчине была поношенная бейсболка и непарные ботинки. Он расплылся в такой широкой улыбке, что щеки собрались складками, а глаза превратились в щелочки.
— Дети, это Дитер Мансе из Хомера. Он раньше служил пилотом в «Пэн-Эм». Залезайте в самолет, — проговорила миссис Роудс, а Дитеру сказала: — Спасибо, дружище. Я так тебе благодарна! — Она встревоженно оглянулась на Мэтью. — Нам не мешает проветриться.
Летчик кивнул:
— Да не за что, Тика.
Раньше Лени сроду бы не поверила, что такой вот дядька служил в «Пэн-Эм». Но на Аляске многие жили иначе, чем прежде, на большой земле. Марджи-шире-баржи когда-то была прокурором в большом городе, а теперь принимала душ в прачечной самообслуживания и торговала жвачкой; Натали раньше преподавала экономику в университете, теперь же рыбачила на собственной лодке. На Аляске обитала масса чудаков — например, та женщина, которая жила в сломанном школьном автобусе в Анкор-Пойнте и гадала по руке. Поговаривали, что когда-то она служила полицейским в Нью-Йорке, а теперь расхаживала с попугаем на плече. Здесь у каждого по две истории: жизнь тогда и жизнь теперь. Хочешь, молись любому, самому странному богу, живи в школьном автобусе, женись на гусыне — на Аляске тебе никто слова поперек не скажет. Никто не удивится, если у тебя на веранде стоит старый автомобиль, не говоря уж о ржавом холодильнике. Здесь каждый живет как ему заблагорассудится.
Лени наклонила голову, согнулась пополам, забралась в салон, устроилась в среднем ряду и пристегнула ремень. Рядом с ней села миссис Роудс. Мэтью прошел в хвост, не глядя на них.
— Том говорит, из него теперь слова не вытянешь, — поделилась миссис Роудс, наклонившись к Лени.
— Не знаю, кто ему может помочь. — Лени обернулась и увидела, как Мэтью сел и пристегнул ремень.
— Друг, — ответила миссис Роудс.
Ну что за глупости. Вечно взрослые говорят то, что и без них ясно. А что этот друг может ему сказать?
Пилот сел за штурвал, пристегнулся, надел гарнитуру и завел мотор. Лени услышала, как хихикают сидевшие рядом Марти и Агнес.
Двигатель урчал, железо дребезжало. Волны шлепали о поплавки самолета.
Пилот говорил что-то о подушках кресел и о том, что делать в случае экстренного приводнения.
— Погодите, но это же значит авария. Он говорит, что делать, если самолет упадет, — испугалась Лени.
— Не упадет, — успокоила ее миссис Роудс. — Нельзя жить на Аляске и бояться маленьких самолетов. Здесь же это один из основных видов транспорта.
Лени знала, что это правда. Дорог в штате мало, так что без лодок и самолетов не обойтись. Зимой просторы Аляски соединяют застывшие озера и реки, летом же эти стремительные потоки воды разделяют и отрезают людей от мира. Выручают самолеты-вездеходы. Но Лени никогда не летала на самолете, а потому ей казалось, что его ужасно качает и вообще он ненадежный. Она вцепилась в подлокотники и постаралась успокоиться. Самолет с грохотом миновал волнорез, затрясся и взлетел. Его так болтало, что Лени затошнило, но вскоре он выровнялся. Лени так и сидела, зажмурясь. Она боялась, что если откроет глаза, то увидит что-нибудь страшное: болты могут выскочить, иллюминаторы треснут, или впереди угрожающе вырастут горы. Она вдруг вспомнила, что несколько лет тому назад в Андах упал самолет. Те из пассажиров, кто выжил, стали каннибалами.
Пальцы ломило, так сильно она сжимала подлокотники.
— Открой глаза, — сказала миссис Роудс. — Не бойся.
Лени открыла глаза, убрала с лица дрожащие кудряшки.
Сквозь кружок плексигласа мир предстал перед ней таким, каким Лени его еще не видала. Синим, черным, белым, фиолетовым. С высоты перед ней развернулась вся история формирования Аляски. Лени увидела, как бурно рождалась эта земля — в извержениях вулканов Редаут и Августин; как вздымались из моря вершины гор, а потом оседали под тяжестью неподатливых голубых ледников; как потоки двигавшегося льда высекали фьорды. Она увидела Хомер, приютившийся на полоске земли между высокими утесами песчаника, заснеженные поля и длинную косу, уходившую в залив. Весь этот ландшафт образовали ледники, они прорубали себе путь, с треском ползли вперед, выдавливали глубокие бухты, оставляя по краям горы.
От насыщенных красок захватывало дух. За голубым заливом, как в сказке, высились горы Кенай, точно зубчатые белые клинки, пронзавшие синее небо. Кое-где на крутых склонах виднелись бледно-голубые, как яйца дрозда, ледники.
Горы ширились, поглощали горизонт. Белизна их пиков была испещрена черными расселинами и бирюзовыми ледниками.
— Ух ты! — Лени восхищенно припала к иллюминатору. Они пролетали рядом с вершинами.
Наконец самолет начал снижаться над фьордом, скользнул над самой водой. Снег окутал берега, лежал блестящими заплатами, вода превращала его в лед и шугу. Самолет заложил вираж, снова набрал высоту и перелетел через заснеженные заросли. Лени увидела огромного лося, который брел к заливу.
Они уже над самым фьордом, идут на посадку.
Лени снова вцепилась в подлокотники, зажмурилась и приготовилась.
Они сели с глухим стуком; волны били в поплавки. Пилот заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины в ледяную воду, подняв брызги, вытащил самолет на берег и привязал к валежине. Вокруг его щиколоток плескала шуга.
Лени осторожно вылезла из самолета (зимой в этих краях нет ничего опаснее, чем промокнуть), прошла по поплавку и спрыгнула на льдистый берег. Мэтью спустился за ней.
Миссис Роудс собрала учеников на берегу.
— Значит, так. Мы с младшими поднимемся на хребет. Мэтью и Лени, а вы просто погуляйте в свое удовольствие.
Лени огляделась. От величественной красоты этого места захватывало дух. Ничто не нарушало царившую здесь глубокую тишину — ни человеческие разговоры, ни шаги, ни смех, ни шум моторов. Слышен был лишь голос природы: дыхание волн, набегавших на камни, плеск воды о поплавки самолета, далекий рев морских львов, валявшихся на скалах в окружении галдящих чаек.
Вода за припайным льдом была изумительного бирюзового цвета — таким Лени представляла себе Карибское море. Выбеленный берег украшали заснеженные черные каменные глыбы. Покрытые снегом вершины гор нависали над головой. Наверху отвесные склоны усеяны бежевыми точками: пасутся снежные козы. Лени сунула руку в карман за последней драгоценной кассетой фотопленки.
Ей не терпелось отщелкать несколько кадров, но пленку надо было экономить.
С чего же начать? Может, с покрытых льдом камней на берегу, похожих на россыпь жемчуга? Или застывших листьев папоротника, торчащих из-за круглого сугроба над черной валежиной? С бирюзовой воды? Она обернулась к Мэтью, хотела что-то сказать, но он исчез.
Лени огляделась, чувствуя, как ледяная вода подступает к ботинкам, и заметила вдалеке Мэтью: он стоял на берегу одиноко, скрестив на груди руки. Куртка его валялась в считаных дюймах от набегавших волн, волосы трепал ветер, и они хлестали Мэтью по лицу.
Лени прошлепала к нему по воде, протянула руку:
— Мэтью, оденься, холодно же…
Он так резко отодвинулся от нее, что споткнулся и чуть не упал.
— Уходи, — прохрипел он. — Не хочу, чтобы ты видела…
— Мэтью? — Она взяла его за руку, заставила взглянуть на нее. Глаза его покраснели от слез.
Он оттолкнул ее. Лени пошатнулась, зацепилась ногой о корягу и рухнула на землю.
Все случилось так быстро, что у Лени перехватило дыхание. Она растянулась на замерзших камнях у прибоя и уставилась на Мэтью. Локоть пронзила боль.
— О господи, — сказал Мэтью. — Ты не ушиблась? Я не нарочно.
Лени поднялась на ноги и впилась в него взглядом. «Я не нарочно». Вот и отец ее так же говорит.
— Я в последнее время сам не свой, — дрожащим голосом произнес Мэтью. — Папа во всем винит меня, я вообще не могу заснуть, без мамы в доме так тихо, что хочется орать.
Лени не знала, что ответить.
— Мне снятся кошмары… про маму. Я вижу ее лицо подо льдом… она кричит… Я не знаю, что делать. Я не хотел тебе говорить.
— Почему?
— Потому что мне хочется тебе нравиться. Иногда ты — единственное… Блин. Ладно, забудь. — Он покачал головой и заплакал. — Я слабак.
— Неправда! Тебе просто нужна помощь, — возразила Лени. — После всего… что тебе пришлось пережить, любому понадобилась бы помощь.
— Тетя зовет меня к себе в Фэрбанкс. Говорит, будешь играть в хоккей, пойдешь к психологу, научишься водить самолет. Тем более что там Али. Но… — Он посмотрел на Лени.
— Значит, ты едешь в Фэрбанкс, — тихо проговорила она.
Мэтью тяжело вздохнул. Лени поняла, что все уже решено и он лишь хотел рассказать об этом ей.
— Я буду по тебе скучать.
Он уедет. Оставит ее одну.
При мысли об этом у Лени сжалось сердце. Ей будет ужасно не хватать Мэтью, но ему нужна помощь. Она по отцу знала, до чего способны довести человека кошмары, тоска и бессонница, какая это опасная смесь. Что бы она была за друг, если бы думала о себе, а не о нем?
Ей хотелось ответить ему: «Я тоже буду по тебе скучать», но что толку? Словами тут не поможешь.
* * *
После отъезда Мэтью январь стал темнее. И холоднее.
— Лени, накрой на стол, пожалуйста, — попросила мама морозным ненастным вечером. Снаружи вихрился снег, ветер рвался в их дом. Мама жарила на чугунной сковороде консервированную ветчину, прижимала к днищу лопаткой. Два куска ветчины на троих, больше у них не было.
Лени отложила учебник по обществоведению и пошла на кухню, стараясь не выпускать отца из виду. Он ходил туда-сюда вдоль задней стены, сжимал и разжимал кулаки, сжимал и разжимал, сутулясь, и разговаривал сам с собой. Жилистые руки его исхудали, испачканная фуфайка обтягивала впалый живот.
Он треснул себя по лбу и что-то неразборчиво пробормотал.
Лени бочком пробралась мимо стола в кухоньку. Испуганно взглянула на маму.
Отец тут же очутился за спиной Лени:
— Что ты только что сказала?
Мама прижала лопаткой кусок ветчины. Масло брызнуло ей на руку.
— Ай! Больно!
— Вы говорили обо мне?
Лени мягко взяла его за руку и повела к столу.
— Твоя мать говорила обо мне, правда? Что она сказала? Она говорила про Тома?
Лени выдвинула стул и усадила отца.
— Нет, пап, мы говорили об ужине. И больше ни о чем. — Лени направилась на кухню, но он схватил ее за руку и так рванул к себе, что Лени завалилась на него.
— Но ты-то ведь меня любишь?
Лени не понравилось, как он подчеркнул «ты».
— Мы с мамой обе тебя любим.
Тут же, как по команде, явилась мама и поставила тарелочку с жареной ветчиной на стол возле эмалированной миски печеной фасоли с коричневым сахаром, которой угостила их Тельма.
Мама наклонилась, чмокнула папу, погладила по щеке.
Эта ласка его успокоила. Он со вздохом выдавил улыбку.
— Пахнет вкусно.
Лени села за стол и стала раскладывать еду по тарелкам.
Мама сидела напротив Лени, ковыряла вилкой фасоль, возила ее по тарелке, поглядывая на отца. Он что-то бормотал себе под нос.
— Эрнт, тебе надо поесть.
— Не буду я это говно. — Он оттолкнул тарелку, та слетела на пол и разбилась. Потом вскочил, стремительно отошел от стола, схватил куртку с вешалки на стене и распахнул дверь. — Ни минуты покоя, черт побери, — бросил он на прощанье и хлопнул дверью.
Несколько мгновений спустя до них донесся шум мотора. Автобус резко развернулся, так что его занесло, и укатил.
Лени посмотрела на маму.
— Ешь давай. — Мама наклонилась и подобрала с пола осколки.
После ужина Лени с мамой перемыли и вытерли насухо посуду, поставили на полки над столом.
— Хочешь, сыграем в кости? — вяло поинтересовалась Лени, и мама грустно кивнула.
Они уселись за складной столик и играли, пока обеим не надоело притворяться, будто им интересно.
Лени знала, что обе ждут, когда во дворе затарахтит «фольксваген». И волнуются. Непонятно, что хуже — когда папа дома или когда его нет.
— Как думаешь, где он? — целую вечность спустя спросила Лени.
— Наверно, у Эрла, если удалось проехать. А если нет, то в салуне.
— Пьет, — сказала Лени.
— Пьет.
— Может, нам лучше…
— Хватит, — отрезала мама. — Ложись спать, ладно? — Она откинулась на спинку стула и закурила одну из последних драгоценных сигарет.
Лени собрала кости, карточки со счетом, желто-коричневый стаканчик из искусственной кожи и убрала в красную шкатулку.
Поднялась по лестнице на чердак и залезла в спальный мешок, даже не почистив зубы. Мама внизу мерила комнату шагами.
Лени повернулась и достала лист бумаги и ручку. С тех пор как Мэтью уехал, она написала ему несколько писем, а Марджи-шире-баржи отправила. Мэтью писал регулярно, присылал короткие записочки о своей новой хоккейной команде и о том, каково это — учиться в школе, где есть спортивные команды. Почерк у него был такой скверный, что Лени с трудом разбирала написанное. Она с нетерпением ждала новых писем, а получив, тут же вскрывала конверт, читала и перечитывала, как детектив, стараясь отыскать подсказки и намек на чувство. Ни она, ни Мэтью толком не знали, что сказать, как с помощью безликих слов выстроить мост между их такими разными жизнями, но все равно писали. Лени понятия не имела, каково ему сейчас, сильно ли он тоскует по матери, но знала, что он думает о ней. А на первых порах и этого более чем достаточно.
Дорогой Мэтью,
Сегодня нам на уроке рассказывали о золотой лихорадке на Клондайке. Представляешь, миссис Роудс упомянула твою бабушку — как пример женщины, которая отправилась на север без гроша в кармане и нашла…
Тут Лени услышала крик, вылезла из спального мешка и буквально скатилась вниз по лестнице.
— Там кто-то есть! — Из спальни вышла мама с фонарем. В его свете было заметно, что она сама не своя от испуга.
В темноте протяжно завыл волк.
Совсем рядом.
Ему ответил другой.
Откликнулись козы, их пронзительный вопль пугающе походил на человеческий.
Лени схватила со стойки ружье и бросилась к двери.
— Нет! — Мама вцепилась в нее. — Выходить нельзя. Они же на нас накинутся.
Они отодвинули занавески, открыли окно и в неверном лунном свете сумели разглядеть, как волки ходят по двору. Серебристые шкуры, желтые глаза, клыки. Стая шла к загону с козами.
— А ну пошли отсюда! — крикнула Лени, вскинула ружье, прицелилась во что-то шевелившееся и спустила курок.
Раздался треск выстрела. Волк взвизгнул и жалобно завыл.
Она стреляла снова и снова, слушая, как пули с глухим стуком вонзаются в деревья, звенят о железо.
Козы пронзительно блеяли не умолкая.
* * *
Тишина.
Лени открыла глаза и увидела, что лежит на диване рядом с мамой.
Огонь погас.
Лени, дрожа, выбралась из-под груды шерстяных и меховых одеял и затопила печь.
— Мам, вставай, — сказала она. Обе были тепло одеты, но ночью так умаялись, что уснули и забыли про огонь. — Надо проверить, как там снаружи.
Мама села.
— Выйдем, когда рассветет.
Лени взглянула на часы. Шесть утра.
Несколько часов спустя, когда заря не спеша, неуверенно залила землю светом, Лени сунула ноги в армейские ботинки, взяла со стойки у двери ружье и зарядила его, с лязгом закрыв патронник.
— Не хочется мне туда идти, — призналась мама. — Но одну я тебя не пущу. Тоже мне Энни Оукли[46].
Мама слабо улыбнулась, обулась, надела куртку и накинула на голову отороченный мехом капюшон. Зарядила второе ружье и подошла к дочери.
Лени открыла дверь и с ружьем наперевес вышла на заснеженную веранду.
Кругом белым-бело. Падал снег. Глушил все звуки. Тишина.
Они пересекли веранду и спустились во двор.
Лени учуяла смерть, еще не видя ее.
Разоренный загон, внутри обломки стоек и дверей. Повсюду чернели кучи экскрементов вперемешку со свежей и запекшейся кровью и кишками. Кровавые следы вели в лес.
Все разрушено. Загончики, курятник, клетки. Вся живность исчезла — даже ошметков не осталось.
Они таращились на разрушения, пока мама не сказала:
— Нам нельзя здесь оставаться. Запах крови привлечет хищников.
Одиннадцать
Взявшись за руки, они шагали вдвоем по дороге, и Лени чувствовала себя космонавтом на суровой белой планете. Она не слышала ни звука, только их дыхание и шаги. Лени пыталась уговорить маму зайти к Уокерам или к Марджи-шире-баржи, но мама отказалась. Ей не хотелось, чтобы кто-то знал, что случилось.
Городок затаился. На тротуарах под снегом прятался лед, с карнизов свисали сосульки. В гавани волны с белыми гребнями швыряли рыбацкие лодки, дергали швартовы.
«Лягающийся лось» был уже — или еще — открыт. Сквозь янтарные окна сочился свет. У салуна стояли машины — пикапы, снегоходы, — но их было немного.
Лени ткнула маму локтем и кивнула на припаркованный возле салуна «фольксваген».
Обе замерли.
— Он нам точно не обрадуется, — вздохнула мама.
И это еще слабо сказано, подумала Лени.
— Может, нам лучше вернуться домой?
Маму била дрожь.
Напротив открылась дверь универмага, послышался далекий звон колокольчиков. Вышел Том Уокер с большой коробкой продуктов, увидел их и замер.
Лени догадалась, как они с мамой выглядят — по колено в снегу, розовые от холода, в окаменевших от мороза шапках. В такую погоду никто не гуляет. Мистер Уокер убрал коробку с покупками в багажник пикапа, задвинул поглубже. Из магазина вышла Марджи-шире-баржи. Лени заметила, что Мардж с мистером Уокером переглянулись, нахмурились. И направились к ним с мамой.
— Здравствуйте, Кора, — поздоровался мистер Уокер. — Что же вы гуляете в непогоду?
Маму так трясло от холода, что зубы стучали.
— К нам вчера ночью приходили волки. Н-н-не знаю сколько. З-з-зарезали всех кур и коз, разгромили курятник и загон.
— Эрнт кого-то из них подстрелил? Вам помочь снять шкуры? Их можно продать за…
— Н-н-нет, — перебила мама. — Темно было. Я пришла… чтобы заказать новых кур. — Она посмотрела на Марджи-шире-баржи. — В следующий раз, как поедешь в Хомер. И риса с фасолью. Правда… денег у нас больше нет. Но я могу что-нибудь постирать. Или заштопать. Я отлично умею управляться с иголкой и ниткой.
Лени заметила, как окаменело лицо Марджи-шире-баржи, и услышала, как та еле слышно выругалась.
— Он вас бросил одних, и на ваш дом напали волки. Они же могли вас сожрать!
— Но не сожрали же. Мы отсиделись в доме, — ответила мама.
— Где он? — тихо спросил мистер Уокер.
— Н-н-не знаю, — солгала мама.
— В «Лосе», — сказала Мардж. — Вон их автобус.
— Том, не надо, — попросила мама, но было поздно. Мистер Уокер стремительно направился по тихой улочке, разметывая ногами снег.
Женщины и Лени кинулись за ним, то и дело поскальзываясь.
— Том, правда, не надо, — повторила мама.
Он распахнул дверь салуна, и Лени ударил в нос запах сырой шерсти, немытых тел, мокрой псины и горелого дерева.
Внутри, не считая сгорбленного беззубого бармена, сидело человек пять. Было шумно: мужчины стучали кулаками по бочкам из-под виски, заменявшим столы, работал радиоприемник на батарейках, неслась песня «Скверный, скверный Лирой Браун»[47], все говорили разом.
— Вот-вот, — вещал Чокнутый Эрл; глаза его остекленели. — Первым делом они захватят банки.
— И нашу землю. — Клайд еле ворочал языком.
— Хер им, а не землю. — Это уже отец. Он стоял, шатаясь, под свисавшим с потолка фонарем, глаза налились кровью. — Я свое никому не отдам.
— Ну и мудак же ты, Эрнт Олбрайт, — прошипел мистер Уокер.
Папа пошатнулся, обернулся. Посмотрел на мистера Уокера, потом на маму:
— Это еще что такое?
Мистер Уокер стремительно бросился на него, расшвыривая стулья. Чокнутый Эрл еле увернулся, чтобы не попасть ему под горячую руку.
— На твой дом вчера напали волки, Олбрайт. Волки!
Папа перевел взгляд на маму:
— Волки?
— Ты всю семью погубишь, — добавил мистер Уокер.
— Слышь, ты…
— Нет, это ты меня послушай! — перебил мистер Уокер. — Ты не первый чичако, кто приехал сюда, ни черта не зная о здешней жизни. Видали мы и поглупей. Но если мужчина не бережет жену…
— Кто бы говорил. Ты-то свою не уберег, а, Том? — бросил отец.
Мистер Уокер схватил его за ухо и так дернул, что папа взвизгнул, как девчонка. Уокер вытащил его из зловонного бара на улицу.
— Прогнать бы тебя пинками по городу, — прохрипел мистер Уокер.
— Том, пожалуйста! — взмолилась мама. — Не надо, только хуже будет.
Мистер Уокер замер. Обернулся. Взглянул на перепуганную — вот-вот расплачется — маму и усилием воли обуздал свой гнев. Лени еще никогда не видела, чтобы человек так себя поборол.
Он замер, нахмурился, пробормотал что-то себе под нос и потащил отца к автобусу. Открыл дверь, поднял отца играючи, как ребенка, и запихал на пассажирское сиденье.
— Позорище. — Захлопнул дверь, подошел к маме и спросил: — Справитесь?
Лени не расслышала, что прошептала мама, но ей показалось, будто мистер Уокер ответил: «Убейте его», а мама покачала головой.
Мистер Уокер коснулся маминой руки — мимолетно, слегка, — но Лени все равно заметила.
Мама улыбнулась. Губы ее дрожали.
— Лени, садись в автобус, — велела она, не сводя глаз с мистера Уокера.
Лени повиновалась.
Мама села за руль и завела мотор.
На обратном пути Лени наблюдала, как копится ярость в отце, как он раздувает ноздри, сжимает и разжимает кулаки, слышала это в словах, которые он не сказал.
Папа любил поговорить, а уж последнее время, зимой, особенно — за словом в карман не лез. Сейчас же сидел, стиснув зубы. От этого Лени показалось, будто она — обвязанный вокруг кнехта швартов, который треплет и тянет ветер, а трос сопротивляется, скрипит, скользит. Если узел завязать кое-как, он обязательно развяжется, оторвется; а может, неистовый ветер вырвет кнехт с корнем.
На ухе у папы, точно ожог, по-прежнему розовела отметина — там, где его схватил мистер Уокер, вытащил на улицу, унизил.
Лени не могла припомнить, чтобы кто-то обращался так с отцом, и знала, что им с мамой придется за это расплачиваться.
Автобус повело юзом, потом он дернулся и остановился во дворе.
Мама заглушила мотор, и тишина стала еще тяжелее без грохота и гула.
Лени с мамой быстренько вышли, оставив папу одного.
По дороге в дом они снова увидели разгром, который учинили волки. Все замело, на столбах и досках скопились шапки снега. Торчали груды перепутанной проволочной сетки, полуоторванная дверь лежала на земле. Кое-где, в основном под деревьями, но и на досках тоже розовела заледеневшая кровь, местами она застыла сгустками. Там и сям валялись пестрые перья.
Мама взяла Лени за руку и провела через двор в домик. Захлопнула за ними дверь.
— Он тебя побьет, — сказала Лени.
— Твой отец — человек гордый. Такого унижения…
В следующий миг дверь распахнулась. На пороге стоял отец. Глаза его горели от гнева и алкоголя.
Лени ахнуть не успела, как он подскочил к ним, схватил маму за волосы и так ей врезал кулаком в челюсть, что мама отлетела к стене и рухнула на пол.
Лени завопила, бросилась на него, скрючив пальцы, как когти.
— Лени, не надо! — крикнула мама.
Папа с силой встряхнул Лени за плечи, схватил за волосы и потащил по полу к двери, ноги цеплялись за коврик. Вытолкнул на мороз и захлопнул дверь.
Лени бросилась на дверь, билась в нее всем телом, пока силы не оставили. Тогда она рухнула на колени под свесом крыши.
Внутри раздавались удары, что-то разбилось, послышался крик. Лени так и подмывало броситься за подмогой, но от этого стало бы только хуже. Да и куда? Им никак не помочь.
Лени зажмурилась и принялась молиться Богу, о котором ей отродясь никто не рассказывал.
Она услышала, как щелкнул замок. Сколько же прошло времени?
Лени не знала.
Она так продрогла, что с трудом поднялась на ноги и переступила порог.
Внутри как на поле боя. Стул сломан, пол засыпан битым стеклом, на диване кровь.
На маму страшно смотреть.
Лени впервые подумала: «Он ведь мог ее убить».
Убить.
Надо бежать. Немедленно.
* * *
Лени робко приблизилась к маме, опасаясь, что та вот-вот упадет в обморок.
— А папа где?
— Отключился. В постели. Он хотел… меня наказать… — Она пристыженно отвернулась. — Иди ложись.
Лени подошла к вешалке, взяла мамину куртку и ботинки:
— Оденься потеплее.
— Зачем?
— Делай, что говорят.
Лени бесшумно прошла к спальне родителей, отодвинула занавеску из бусин. Сердце молотом колотилось в груди. Огляделась и увидела, что искала.
Ключи. И мамин кошелек. Хотя и без денег.
Схватила все это, направилась к выходу, но остановилась и обернулась. И посмотрела на отца.
Он лежал под одеялом на животе, голый по пояс. Руки и плечи покрывали морщинистые, извилистые шрамы от ожогов, в полумраке кожа казалась лиловой. На подушке виднелась кровь.
Лени вернулась в гостиную. Мама курила, и вид у нее был такой, словно ее избили дубинкой.
— Пошли. — Лени взяла ее за руку и потянула за собой.
— Куда? — спросила мама.
Лени открыла дверь, легонько подтолкнула маму, подхватила один из тревожных чемоданчиков, которые всегда стояли у порога, — безмолвная ода худшему, что может случиться, напоминание о том, что умные люди готовы ко всему.
Лени взвалила чемоданчик на плечо и, наклонив голову от ветра и снега, направилась за мамой к автобусу.
— Садись, — тихо сказала она.
Мама села за руль, вставила ключи в зажигание и повернула. «Фольксваген» начал прогреваться, и мама спросила уныло:
— И куда мы?
Лени швырнула чемоданчик в салон.
— Мы уезжаем, мама.
— Что?
Лени уселась рядом с ней.
— Уезжаем, пока он тебя не убил.
— А, вот ты о чем. Да нет, — мама покачала головой, — он меня не убьет. Он меня любит.
— По-моему, у тебя нос сломан.
Мама с минуту сидела потупившись. Потом медленно включила передачу и повернула старенький «фольксваген» на дорожку. Фары осветили выезд.
Мама бесшумно заплакала — наверно, думала, что Лени не замечает. Пока ехали между деревьями, она поглядывала в зеркало заднего вида и утирала слезы. Когда выбрались на дорогу, в автобус диким зверем вцепился ветер. Мама плавно жала на газ, стараясь удержать автобус на заснеженной дороге.
Миновали ворота Уокеров и покатили дальше.
На следующем повороте порыв ветра ударил с такой силой, что автобус занесло. По лобовому стеклу хлестнула ветка, сломалась, на секунду застряла в дворнике, со скрежетом поелозила вверх-вниз по стеклу, наконец выпала, и перед капотом вырос переходивший дорогу огромный лось.
Лени закричала: «Осторожно!» — но и сама понимала, что поздно. Придется либо таранить лося, либо резко сворачивать, а от столкновения с таким огромным животным автобус просто развалится.
Мама вывернула руль, отпустила педаль газа.
Автобус, который на снегу всегда слушался плохо, заскользил в длинном медленном пируэте.
Они плавно обогнули лося, огромная голова промелькнула в считаных дюймах от окна Лени. Ноздри животного раздувались.
— Держись! — крикнула мама.
Они врезались в сугроб у обочины и перевернулись; автобус вылетел с дороги и со скрежетом рухнул в снег.
Лени видела все урывками: деревья вверх ногами, заснеженный косогор, сломанные ветки.
Она ударилась головой о стекло.
Первое, что Лени заметила, очнувшись, была тишина. Потом боль в голове и привкус крови во рту. Мама лежала рядом; обе они очутились на пассажирском сиденье.
— Лени? Ты цела?
— Вроде… да.
Послышалось шипение — что-то с двигателем — и жалобный скрип оседавшего в снегу металла.
Мама заметила:
— Автобус лежит на боку. Думаю, под нами земля, хотя кто знает, вдруг провалимся.
Еще одна смертельная опасность, подстерегающая на Аляске.
— Нас найдут?
— В такую погоду никто на улицу не выйдет.
— А даже если и выйдет, нас не заметит.
Лени осторожно пошарила рукой, нащупала тяжелый рюкзак, в котором что-то брякало, порылась в нем и выудила налобный фонарь. Надела на голову, щелкнула выключателем. Свет фонаря казался слишком желтым, неземным. Мама выглядела странно — казалось, ее лицо в синяках вылеплено из воска и тает.
А это что?! На коленях у мамы кровь, из прорехи в рукаве торчала кость.
— Мама! Твоя рука! Твоя рука! О боже…
— Дыши. Посмотри на нее. Видишь? Ничего страшного, обычный перелом. И не первый, кстати.
Лени постаралась успокоиться, глубоко вдохнула, на миг задержала дыхание.
— И что же нам делать?
Мама открыла рюкзак, здоровой рукой принялась выкладывать из него перчатки и неопреновые маски.
Лени не могла оторвать взгляд от осколка кости, от крови, пропитавшей мамин рукав.
— Так. Сначала ты должна сделать мне перевязку, чтобы остановить кровотечение. Ты же этому училась. Помнишь? Оторви подол рубашки.
— Я не могу.
— Рви, я сказала, — велела мама.
Дрожащими руками Лени сняла с пояса нож и надрезала ткань. Оторвала длинную ленту фланели и осторожно придвинулась к маме.
— Выше перелома. Завяжи как можно крепче.
Лени обернула тканью мамину руку, затянула, и мама застонала от боли.
— Больно?
— Крепче.
Лени затянула ткань, насколько хватило сил, завязала узел.
Мама судорожно вздохнула и перебралась на водительское место.
— Значит, план такой. Я разобью окно. Ты перелезешь через меня и выберешься наружу.
— Н-н-но…
— Не спорь. Ты должна быть сильной. Так нужно. Мне со сломанной рукой не выбраться, а если мы обе останемся, замерзнем насмерть. Иди за подмогой.
— Я не смогу.
— Сможешь. — Мама прижала окровавленную ладонь к повязке на руке. — Сделай это ради меня.
— Но ты же замерзнешь, пока я буду ходить!
— Я крепче, чем кажется, не забывай. Тем более что благодаря армагеддонофобии твоего отца у нас есть тревожный чемоданчик. Одеяло, еда, вода. — Мама слабо улыбнулась. — Ничего со мной не случится. Иди за подмогой. Да?
— Да. — Лени и рада была бы не бояться, но ее трясло от страха. Она натянула перчатки, неопреновую маску, застегнула куртку.
Мама вытащила из-под сиденья аварийный молоток.
— Дом Уокеров ближе всего. От силы четверть мили. Иди туда. Справишься?
— Ага.
Автобус глухо заскрипел, чуть осел, пошевелился.
— Я тебя люблю, доченька.
Лени сделала над собой усилие, чтобы не разреветься.
— Задержи дыхание. И вылезай.
Мама врезала молотком по стеклу.
Стекло покрылось паутиной трещин, просело. Осколки еще миг держались — и со звоном осыпались. В автобус полетел снег. Мороз стоял лютый.
Лени наклонилась, перелезла через маму, стараясь не задеть сломанную руку, услышала, как мама застонала от боли, почувствовала, как здоровой рукой она подталкивает ее в спину.
Протиснулась в окно.
Ветка хлестнула по лицу. Лени упрямо ползла по бортику, пока не добралась до косогора, на котором падавший автобус оставил глубокий след. Чернела грязь, торчали сломанные ветки и корни.
Лени спрыгнула на заснеженный склон и принялась карабкаться вверх, на дорогу.
Казалось, прошла целая вечность. Лени цеплялась, подтягивалась на руках, задыхалась, снег набивался в рот. Но в конце концов она вылезла, перевалила через сугроб и рухнула ничком на дорогу. Ахнула, поднялась на четвереньки, встала на ноги.
Белая мгла. Лени надела налобный фонарь, включила. Лишь тонюсенький лучик света. Ветер спихивал с дороги, деревья качались, гнулись, скрипели. Падали ветки, одна ветка больно ткнула ее в бок, чуть не сбила с ног.
Лени цеплялась за лучик света, как за спасательный трос. С каждым вдохом в груди саднило от ледяного воздуха, в боку кололо. По спине стекал пот, ладони в перчатках стали липкими.
Она понятия не имела, долго ли шла, стараясь не останавливаться, не кричать и не плакать, но наконец увидела впереди серебристые ворота с коровьим черепом в круглой снежной шапочке.
Лени потянула на себя калитку и открыла, сдвигая снежные бугры.
Ее так и подмывало броситься вперед с криком «Помогите!», но она знала, что бежать нельзя, это была бы вторая — смертельная — ошибка. Лени брела по колено в снегу. Тянувшиеся справа деревья чуть-чуть заслоняли ее от ветра.
Ей показалось, что прошло не меньше четверти часа, прежде чем она подошла к дому Уокеров. В окнах горел свет, и у Лени защипало глаза. Слезы застывали, жалили, туманили зрение.
Вдруг ветер улегся, мир спокойно вздохнул, и наступила тишина, прерываемая лишь сбивчивым дыханием Лени и далеким шорохом волн на замерзшем берегу.
Лени прошла мимо заснеженных куч металлолома, старых машин, пчелиных ульев. Коровы, завидев ее, замычали и с топотом бросились друг к другу, сбились в кучу: вдруг это хищник? Козы блеяли.
Лени поднялась по обледеневшей лестнице и постучала в дверь.
Мистер Уокер открыл почти сразу же, увидел Лени и изменился в лице.
— О господи…
Он втащил ее в дом, провел через длинную прихожую, где висели пальто, шапки, стояла обувь, и усадил у печи.
У Лени так стучали зубы, что она боялась откусить язык, если заговорит, но молчать было нельзя.
— М-м-мы п-п-перевернулись. М-м-мама застряла в автобусе.
— Где?
Лени уже не в силах была сдержать ни дрожи, ни слез.
— Н-н-на повороте, н-н-не доезжая М-м-мардж.
— Ясно, — кивнул мистер Уокер, вышел, оставив Лени у печки, и вернулся уже тепло одетым, с большим сетчатым мешком на плече.
Подошел к радиоприемнику, нашел свободную частоту. Сперва раздался треск помех, потом визг.
— Мардж, говорит Том Уокер, — произнес он, поднеся ко рту микрофон. — На главной дороге возле моего дома авария. Нужна помощь. Я еду туда. Прием. — Он отпустил кнопку. Снова затрещали помехи. Уокер повторил сообщение и положил микрофон. — Пошли.
Слышал ли это папа? Он у приемника или до сих пор валяется в отключке?
Лени испуганно выглянула в окно, словно ожидала, что он вдруг появится.
Мистер Уокер взял со спинки дивана полосатое красно-бело-желтое одеяло и укутал Лени.
— У нее рука сломана. Кровь идет.
Мистер Уокер кивнул, взял Лени за руку и повел из теплого дома обратно на мороз.
Стоявший в гараже большой пикап завелся мгновенно. Машину окутало тепло, отчего Лени задрожала еще сильнее. Ее неудержимо трясло, пока они отъезжали от дома и сворачивали на главную дорогу, где ветер лупил в лобовое стекло и свистел в каждой трещинке кузова.
Том сбросил газ, пикап полз, рыча и завывая.
— Вон там! — Лени показала, где они вылетели с дороги. Мистер Уокер свернул на обочину.
Впереди засветились фары. Лени узнала пикап Марджи-шире-баржи.
— Подожди в машине, — велел мистер Уокер.
— Нет!
— Сиди здесь. — Он взял мешок, вылез и хлопнул дверью.
В свете фар Лени увидела, как мистер Уокер подошел к стоявшей на дороге Марджи-шире-баржи, бросил мешок на снег, достал свернутую веревку.
Лени прижалась к окну, от ее дыхания стекло запотело. Лени раздраженно протерла его рукавом.
Один конец веревки мистер Уокер обвязал вокруг дерева, другой — вокруг пояса, для страховки. Махнул Мардж, медленно перевалил через бровку и скрылся из виду.
Лени распахнула дверь и, сражаясь с ветром, ослепленная снегом, перешла через дорогу.
У самой бровки стояла Марджи-шире-баржи.
Лени посмотрела вниз, увидела сломанные деревья и смутные очертания автобуса. Посветила фонариком, но мощности не хватало. Послышался скрип металла, глухой стук, женский стон.
И вот… в неверном свете фонарика показался мистер Уокер с мамой: он привязал ее к себе.
Марджи-шире-баржи схватила веревку и принялась вытаскивать их, перебирая руками в перчатках, пока наконец мистер Уокер не вылез на дорогу. Мама осела: она была без сознания. Мистер Уокер держал ее.
— Состояние тяжелое, — прокричал мистер Уокер, перекрывая ветер. — Я отвезу ее на лодке в больницу в Хомер.
— А как же я? — крикнула в ответ Лени. Неужели про нее забыли?
Мистер Уокер бросил на нее взгляд, в котором читалось: «Бедняжка!» Лени отлично знала это выражение.
— Поедешь со мной.
* * *
В приемном покое маленькой больницы было тихо.
Том Уокер сидел рядом с Лени, на коленях у него дыбилась куртка. Когда они вернулись к Уокерам, мистер Уокер на руках отнес маму на причал, бережно усадил в алюминиевую лодку, и они помчались вдоль скалистого побережья в Хомер.
Мистер Уокер внес маму в регистратуру. Лени бежала рядом и касалась то маминой лодыжки, то запястья — до чего могла дотянуться.
За стойкой сидела эскимоска с длинными косами и громко печатала на машинке.
Вскоре за мамой пришли две санитарки.
— А нам что делать? — спросила Лени.
— Ждать.
Они сидели молча; Лени дышала с трудом, словно у легких ее был собственный разум, и они отказывались работать. Лени боялась всего сразу: и что у мамы серьезный перелом, и что мама может умереть, и что приедет папа. (Не думай об этом, не представляй, как он разозлится… и что сделает, когда поймет, что мы сбежали.) И что будет дальше? И как им теперь от него уйти?
— Принести тебе попить?
Лени так глубоко погрузилась в яму своих страхов, что не сразу поняла, что мистер Уокер обращается к ней.
Она подняла мутные глаза:
— А это поможет?
— Нет. — Он взял ее за руку. Лени этого не ожидала и так удивилась, что едва не отдернула руку, но все же ей было приятно. Она сжала его пальцы и поневоле подумала, что если бы ее отцом был мистер Уокер, жизнь сложилась бы совсем иначе.
— Как там Мэтью? — спросила она.
— Лучше. Брат Дженни научит его водить самолет. Мэтью ходит к психологу. Радуется твоим письмам. Спасибо, что не бросаешь его.
Лени тоже радовалась его письмам. Иногда ей казалось, что весточки от Мэтью — лучшее, что есть в ее жизни.
— Я по нему скучаю.
— Я тоже.
— Он вернется?
— Не знаю. Там ведь столько всего. Хочешь — общайся со сверстниками, ходи в кино, занимайся спортом. А уж если Мэтти сядет за штурвал — все, пиши пропало, он же просто обожает самолеты. Мне ли не знать! Он всегда любил приключения.
— Да, он говорил, что хочет стать летчиком.
— Вот-вот. Жаль, что я его толком не слушал, — вздохнул мистер Уокер. — Я ведь всего лишь хочу, чтобы он был счастлив.
К ним подошел доктор, крепко сбитый, из-под синего халата грудь колесом. Лицо морщинистое, обветренное, как у пьяницы, — впрочем, в тайге многие так выглядели — однако же аккуратно пострижен и гладко выбрит, если не считать седых усов.
— Я доктор Ирвинг. А вы, наверно, Лени. — Доктор снял хирургическую шапочку.
Лени кивнула и встала:
— Как она?
— Поправится. На руку мы наложили гипс, так что месяца полтора или около того придется поберечься, но в целом последствий быть не должно. — Он посмотрел на Лени. — Вы спасли ее, юная леди. Она просила меня непременно вам это передать.
— К ней можно? — спросила Лени.
— Да, конечно. Идите за мной.
Лени и мистер Уокер прошли за доктором Ирвингом по белому коридору до палаты с табличкой «Послеоперационная». Доктор открыл дверь.
Мама в больничном халате сидела под теплым одеялом на узкой койке, отделенной занавеской. Левая рука в гипсе, согнута под прямым углом. Нос свернут чуть набок, под глазами синяки.
— Лени. — Мама откинула голову на стопку подушек за спиной. Взгляд у нее был ленивый, рассеянный, как после наркоза. — Я же тебе говорила, я крепкая. — Голос звучал как-то искаженно. — Ну не плачь, доченька.
Но Лени ничего не могла с собой поделать. После всего, что им пришлось пережить, сейчас, когда она увидела маму на больничной койке, Лени поневоле задумалась о том, до чего же мама хрупкая и как легко ее потерять. Мысли ее тут же перескочили к Мэтью: она вспомнила, как неожиданно и стремительно порой уносит людей смерть.
Доктор попрощался и вышел.
Мистер Уокер подошел к маме:
— Вы ведь сбежали от него, правда? Иначе как вы оказались бы там в такую погоду?
— Нет.
Мама покачала головой:
— Я вам помогу, — не унимался он. — Мы все вам поможем. Все мы. Мардж раньше служила прокурором. Хотите, я позвоню в полицию, сообщу им, что он вас избил? Он ведь вас избил, верно? Вы же нос не в аварии сломали?
— Что толку от полиции, — возразила мама. — Знаю я их. Мой отец юрист.
— Его посадят.
— На сколько? На день? На два? А потом он придет за мной. Или за вами. Или за Лени. Неужели вы думаете, что мне совесть позволит подвергать других такой опасности? Да и…
Лени услышала то, чего мама не сказала. Я его люблю.
Мистер Уокер впился взглядом в маму. Избитая, перебинтованная, она была не похожа на себя.
— Вам достаточно только попросить, — тихо ответил он. — Я хочу вам помочь, Кора. Вы же понимаете, я…
— Вы меня не знаете, Том. Если бы вы только знали…
Лени заметила, что у мамы на глаза навернулись слезы.
— Я же ненормальная, — медленно проговорила она. — Иногда мне кажется, что это слабость, иногда — что сила, но у меня не получается его разлюбить.
— Кора! — послышался голос отца, и Лени увидела, как мама вжалась в подушки.
Мистер Уокер отпрянул от кровати.
Папа прошел мимо него, словно и не заметил.
— Господи, Кора, что с тобой?
Мама сразу же растаяла, как только увидела его.
— Мы автобус разбили.
— Куда вы вообще поперлись по такой погоде? — спросил он, хотя и сам знал ответ. Лени поняла это по глазам. На щеке отца краснела глубокая царапина.
Мистер Уокер попятился к двери — великан, который пытается стать невидимкой. Напоследок бросил на Лени печальный проницательный взгляд, вышел из палаты и тихо закрыл за собой дверь.
— Мы поехали за продуктами, — ответила мама. — Я хотела приготовить тебе на ужин кое-что вкусненькое.
Натруженной мозолистой ладонью папа погладил маму по опухшей, покрытой синяками щеке, словно его прикосновение могло ее исцелить.
— Прости меня, родная. Я покончу с собой, если ты меня не простишь.
— Не говори так, — попросила мама. — Никогда, слышишь? Я тебя люблю. Только тебя.
— Прости меня, — повторил отец и обернулся к Лени: — И ты, Рыжик, прости дурака. Ну да, мне не всегда удается держать себя в руках, но я же вас так люблю. И я исправлюсь.
— Я тебя люблю, — расплакалась мама, и Лени вдруг осознала, что происходит, словно Аляска с ее суровой красотой открыла ей правду. Они попали в ловушку — и не столько из-за денег и непогоды, сколько из-за больной, извращенной любви, которая связывала родителей.
Мама никогда не бросит папу. И неважно, что однажды ей хватило духу собрать вещи, сесть в автобус и уехать. Она бы все равно к нему вернулась и будет возвращаться снова и снова, потому что любит его. Или нуждается в нем. Или боится его. Кто разберет?
Лени понятия не имела, почему отношения родителей сложились именно так, за что они любят друг друга. Она была достаточно взрослой, чтобы заметить зыбкую почву, но слишком маленькой, чтобы понять, что скрывается под ней.
Мама никогда не уйдет от папы, а Лени не бросит маму. А папа никогда их не отпустит. Из этих страшных, ядовитых семейных пут не вырваться никому.
* * *
Вечером они забрали маму из больницы.
Папа так бережно нес ее на руках, словно она была стеклянная. Так заботливо, так осторожно, что Лени охватила бессильная злость.
А потом она заметила у отца слезы на глазах, и гнев ее сменился жалостью. Она понятия не имела, как взять власть над этими чувствами, как их изменить. Любовь к отцу сплеталась с ненавистью, в ее душе боролись обе эмоции, и каждая стремилась одержать верх.
Он уложил маму в постель и тут же ушел колоть дрова. В поленнице их вечно не хватало, да и Лени знала, что физическая нагрузка ему на пользу. Лени, сколько было сил, сидела у постели и держала мамину холодную руку. Ей о многом хотелось спросить, но она понимала, что жестокие слова лишь доведут маму до слез, а потому так ничего и не сказала.
Наутро Лени спустилась по лестнице с чердака и услышала, как мама плачет.
Лени вошла в спальню и увидела, что мама сидит в кровати (то есть на матрасе на полу), прислонясь к бревенчатой стене. Лицо опухло, под глазами чернели синяки, нос по-прежнему был свернут чуть влево.
— Не плачь, — попросила Лени.
— Ты, наверно, невесть что обо мне думаешь. — Мама осторожно коснулась разбитой губы. — Я ведь его спровоцировала. Неправильно с ним говорила. Так оно было?
Лени не знала, что ответить. Неужели мама считает, что сама во всем виновата, что если бы помалкивала, была заботливее или сговорчивее, отец бы не вспылил? Вот уж неправда, подумала Лени. Просто он то психует, то нет, вот и все. И мама не должна себя винить. Это даже опасно.
— Я его люблю, — проговорила мама, уставившись на гипс. — И никак не могу разлюбить. Но ведь мне нужно думать и о тебе. Господи ты боже мой… да я сама не знаю, почему так себя веду. Почему позволяю ему так с собой обращаться. Наверно, не могу забыть, каким он был до войны. Все время надеюсь, что он вернется, тот человек, за которого я когда-то вышла замуж.
— Ты никогда от него не уйдешь, — тихо сказала Лени, стараясь, чтобы слова ее не прозвучали укором.
— Неужели ты бы этого хотела? Мне казалось, ты любишь Аляску, — ответила мама.
— Тебя я люблю больше. И… мне очень страшно, — призналась Лени.
— Да, в этот раз вышло скверно, но он и сам испугался. По-настоящему. Больше такое не повторится. Он мне обещал.
Лени вздохнула. Чем мамина непоколебимая вера в папу отличается от его страха перед Армагеддоном? Неужели взрослые видят лишь то, что хотят, и думают то, что хотят думать? А факты и опыт для них ничего не значат?
Мама выдавила улыбку:
— Хочешь, сыграем в «сумасшедшие восьмерки»?[48]
Вот, значит, как они поступят: залатали лопнувшее колесо — и снова в дорогу. Будут говорить о простых вещах и делать вид, будто ничего не произошло. И так до следующего раза.
Лени кивнула. Вынула карты из шкатулки розового дерева, в которой мама хранила милые сердцу мелочи, и уселась на пол возле матраса.
— Мне повезло, что у меня есть ты, — сказала мама, пытаясь одной рукой перетасовать колоду.
— Мы команда, — ответила Лени.
— Два сапога пара.
— Одного поля ягоды.
Они то и дело говорили так друг другу, но сейчас эти слова звучали неубедительно. И даже грустно.
Первая партия была в самом разгаре, как вдруг Лени услышала, что к дому подъехал автомобиль. Она бросила карты на кровать и подбежала к окну.
— Это Марджи-шире-баржи, — крикнула она маме. — И с ней мистер Уокер.
— Черт, — всполошилась мама. — Помоги мне одеться.
Лени бегом вернулась в спальню, помогла маме снять фланелевую пижаму, надеть линялые джинсы и огромный свитер с капюшоном, в рукав которого проходил гипс, причесала на скорую руку, вывела в гостиную и усадила на обшарпанный диван.
Дверь отворилась. В домик рванула ледяная поземка, припорошив фанерный пол.
Марджи-шире-баржи была в огромной меховой куртке, волчьей шапке, сшитой явно своими руками, и унтах — ни дать ни взять медведица-гризли. Серьги из оленьих рогов оттягивали мочки. Она обила снег с унт, хотела что-то сказать, но заметила синяки на мамином лице и пробормотала:
— Вот же скотина. Ну я ему устрою.
К ней подошел мистер Уокер.
— Доброе утро, — поздоровалась мама, стараясь не встречаться с ним глазами. Она не встала — должно быть, не было сил. — Хотите…
Тут в дом ввалился отец и захлопнул дверь.
— Не надо, Кора, сиди, я сам сварю им кофе.
Между взрослыми сгустилось нестерпимое напряжение. В чем же дело? Что-то тут нечисто.
Марджи-шире-баржи взяла мистера Уокера за руку — так крепко, словно рыбу из реки тащила, — и подвела к стулу возле печки.
— Сядь, — велела она, а когда он замешкался, силой усадила на стул.
Лени притащила в гостиную табуреточку из-под складного стола — для Мардж.
— Да ну куда мне этакую крохотулю, — сказала Марджи-шире-баржи. — Моя задница на ней будет торчать, как гриб на зубочистке. — Но все же села, оперла мясистые ладони о бедра и посмотрела на маму.
— Выглядит хуже, чем на самом деле, — дрогнувшим голосом пояснила мама. — Мы же в аварию попали, вы слышали?
— Да уж слышала, — ответила Марджи-шире-баржи.
В гостиную вошел папа с двумя чашками в синюю крапинку. От чашек поднимался пар, запахло кофе. Папа протянул чашки Тому и Мардж.
— Давненько у нас гостей не было, — неуверенно проговорил он.
— Сядь, Эрнт, — ответила Мардж.
— Я не…
— Садись давай, или ты у меня ляжешь, — пригрозила Мардж.
Мама ахнула.
Папа сел на диван рядом с мамой.
— Кто же так с хозяином дома разговаривает?
— Сказала бы я тебе, Эрнт Олбрайт, кто такой настоящий хозяин. Я ведь терплю-терплю, а могу и не сдержаться. И тебе это точно не понравится. Я баба сильная, сам видишь. Так что пасть заткни и слушай. — Она покосилась на маму. — Оба слушайте.
Лени показалось, будто из комнаты вышел весь воздух. Повисло ледяное гнетущее молчание.
Марджи-шире-баржи впилась взглядом в маму.
— Как вы знаете, я из Вашингтона, раньше была юристом. Столичным прокурором. Носила модные костюмчики, туфли на каблуках. Ну и все такое. Работу свою любила. А еще я любила сестру, которая вышла за мужчину своей мечты. Правда, потом оказалось, что он малость того. С придурью. Пил как лошадь и колотил мою сестренку как грушу. Как я ее ни уговаривала его бросить, она ни в какую. То ли боялась, то ли так его любила, то ли рехнулась с ним за компанию. Этого я не знаю. Зато я знаю, что если мы звонили в полицию, ей от этого было только хуже, и она умоляла меня этого не делать. Ну я и сдалась. И это была самая большая моя ошибка. Он прибил ее молотком. — Марджи-шире-баржи передернуло. — Хоронили мы ее в закрытом гробу. Вот как он ее уделал. Потом уверял, что выхватил молоток у нее, оборонялся. А наши законы если кого и защищают, так точно не избитых женщин. Он до сих пор на свободе. Живет себе спокойненько. А я уехала сюда, чтобы об этом забыть. — Она посмотрела на Эрнта: — А тут вы.
Папа привстал.
— На вашем месте я бы не шевелился, — заметил мистер Уокер.
Папа медленно сел. Глаза его встревоженно блестели, он нервно сжимал и разжимал кулаки, постукивал ногой по полу. Они и знать не знают, что маме еще придется пожалеть об этом визите. Стоит им уйти, и папа ей устроит.
— Я знаю, вы хотите как лучше, — начала Лени. — Но…
— Не надо, Лени, — мягко перебил ее мистер Уокер. — Ты еще маленькая, не тебе решать. Сиди и слушай.
— Мы с Томми все обсудили, — продолжала Марджи-шире-баржи. — Ну то есть как с вами быть. И кое-что придумали. Знаешь, Эрнт, по-моему, самое лучшее — вывезти тебя в лес и там прикончить.
Папа рассмеялся было, но тут же осекся. До него дошло, что они не шутят, и он широко раскрыл глаза от удивления.
— Это я предложил, — пояснил мистер Уокер. — У Мардж на уме другой вариант.
— Значит, так, Эрнт. Ты сейчас соберешь манатки и поедешь на вахту в Слоуп[49], — сказала Марджи-шире-баржи.
— На нефтепроводе таким, как ты, всегда найдется работа, там у них Содом с Гоморрой, механики нужны. Заработаешь деньжат, вам же без денег никак, и весной вернешься.
— Не могу же я бросить жену с дочкой одних до весны, — возразил отец.
— Ишь ты, заботливый, — пробормотал мистер Уокер.
— А ты думал, я вот так возьму и оставлю ее тебе? — бросил папа.
— Хватит, мальчики, — отрезала Мардж, — бодаться будете после. А сейчас Эрнт уезжает, и я переезжаю сюда. Поживу с твоими девочками до весны. Защищу их от всех напастей. Весной ты вернешься. Может, к тому времени до тебя дойдет, как тебе повезло с женой, и ты научишься вести себя с ней как следует.
— Вы не можете заставить меня уехать, — возразил отец.
— Ошибаешься, — сказала Мардж. — Видишь ли, Эрнт, в чем дело. Аляска пробуждает в людях и плохое, и хорошее. Может, на Большой земле ты бы никогда до такого не докатился. Я знаю, ты воевал во Вьетнаме, и у меня сердце рвется на части из-за того, что тебе и другим пришлось пережить. Но здешний мрак на тебя дурно влияет. Стыдиться тут нечего. Полярную ночь вообще мало кто способен выдержать. Так что смирись и сделай как лучше для твоей семьи. Ты ведь любишь Кору и Лени?
Папа посмотрел на маму, взгляд его смягчился, и на миг перед Лени предстал ее настоящий отец, каким он был, наверно, пока его не исковеркала война. Тот, прежний папа.
— Да, — ответил он.
— Вот и чудненько. А если любишь, значит, поедешь на заработки, — сказала Мардж. — Так что собирай шмотки — и в путь. Увидимся, когда сойдет снег.
1978
Двенадцать
Семнадцатилетняя Лени уверенно вела снегоход. Она была совершенно одна здесь, в бескрайней зиме. Следуя за тусклым светом фар, в предрассветных сумерках она свернула на дорогу к старой шахте. Милю спустя или около того дорога превратилась в тропу, которая изгибалась, поворачивала, шла то в гору, то с горы. Пластмассовые санки, привязанные сзади к снегоходу, с глухим стуком подпрыгивали на снегу; сейчас они пустовали, но Лени надеялась, что вскоре положит на них добычу. Если отец что и сделал правильно, так это научил Лени охотиться.
Она со свистом пролетала гати, огибала деревья, пересекала застывшие реки, порой взмывала в воздух на снегоходе, теряла управление, вскрикивала то от страха, то от восторга — или от того и другого разом. Здесь она была в своей стихии.
Подъем стал круче, деревья поредели, да и стволы здесь были тоньше. Замелькали утесы и покрытые снегом гранитные валуны.
Лени все ехала — то вверх, то вниз, — петляла, взрывая сугробы, объезжала гнилые валежины. Приходилось смотреть в оба, так что Лени ни о чем другом не думала и ничего не чувствовала.
На гребне холма снегоход вильнул, забуксовал. Лени сбросила газ, поехала медленнее. Остановилась.
Огляделась по сторонам, хватая ртом воздух сквозь прорези в неопреновой маске. Заснеженные пики гор, бело-голубые ледники, черный гранит.
Дрожа от холода, Лени слезла со снегохода. Наклонив голову от ветра, расстегнула рюкзак, надела снегоступы, отвела снегоход под раскидистое дерево (все ж укрытие, пусть и сомнительное) и накрыла брезентом. Дальше не проехать, придется пешком.
Небо понемногу светлело. День прибывал с каждым вдохом.
Тропа сузилась, повернула в гору. Полмили спустя Лени заметила на снегу комок замерзшего овечьего помета и пошла вверх, по следам копыт.
Достала бинокль, оглядела раскинувшиеся вокруг белые просторы.
Вот они. Бежевые бараны Далла с большими изогнутыми рогами бредут по высокому гребню, осторожно переступая копытами по заснеженным камням.
Лени медленно двинулась вперед по узкому хребту, вошла в пролесок. Здесь тоже были следы копыт, они вели на застывшую реку.
И свежий помет.
Значит, бараны пересекали реку здесь, выбивали копытами ямки, поднимали брызги. На поверхности реки торчали льдины, прыгали, как поплавки; окружающий плотный лед удерживал их на месте.
На льду лежала старая валежина, раскинув застывшие сучья, под которыми кое-где уже виднелись промоины.
По льду мела поземка, прибивалась с одного бока к валежине, уносилась крошечными вихрями к другому берегу реки. На прогалинах, где ветер сдул снег, блестел потрескавшийся серебристо-голубой лед. Лени знала, что здесь переходить реку небезопасно, но на поиски другого места понадобилось бы еще несколько часов. Да и кто знает, удастся ли его найти? Она ведь ехала сюда не для того, чтобы повернуть обратно ни с чем.
Лени поплотнее затянула рюкзак, привязала к нему ружье, сняла снегоступы и тоже привязала к рюкзаку. Смерила взглядом валежину, которая была фута два в обхвате, с облупившейся кое-где корой, заснеженная и обледеневшая, глубоко вздохнула и поползла по стволу на четвереньках.
Мир сузился до размеров бревна, расширился до пределов реки. Шершавая обледенелая кора впивалась в коленки. Лед трещал, как автоматная очередь.
Лени не отрываясь смотрела на валежину.
Вот он. Другой берег. Ни о чем другом сейчас думать нельзя. Ни о треске льда, ни о бегущей под бревном ледяной реке. И уж точно нельзя представлять, как падаешь в воду.
Дюйм за дюймом она ползла вперед. Ее хлестал ветер, засыпал снег.
Лед трещал. Сильно. Громко. Валежина осела, проломила перед ней лед. Брызнула вода, потекла на лед, собралась в лужицы, поймала скудные лучи рассвета.
Бревно затрещало, просело глубже, с глухим стуком ударилось обо что-то.
Лени вскочила на ноги, вытянула руки, поймала равновесие. Казалось, валежина дышит под ней.
Лед снова затрещал. На этот раз оглушительно.
От берега ее отделяло от силы футов семь. Она вспомнила о маме Мэтью, обглоданное зверями тело которой нашли в нескольких милях от того места, где она провалилась под лед. Да уж, падать в реку не хочется. Кто знает, где тебя найдут. На Аляске вода повсюду, она открывает то, что должно оставаться в тайне.
Лени медленно подвинулась вперед. Приблизившись к берегу, спрыгнула с бревна, взмахнув руками, словно усилием воли могла полететь, и рухнула на заснеженные камни.
Кровь.
Она ощутила теплый металлический привкус во рту, почувствовала, как капля крови сползла по замерзшей щеке. Ее вдруг пробрала дрожь: одежда вымокла, — то ли от пота, то ли от брызг воды, но перчатки намокли лишь сверху, ботинки тоже, те и другие были водонепроницаемыми.
Лени медленно, с трудом поднялась на ноги и оглядела себя: не поранилась ли. Ага, слегка оцарапала лоб и прикусила язык. Намочила обшлага куртки, да еще, кажется, за шиворот попали брызги. В целом же ничего страшного.
Лени перевесила рюкзак, отвязала ружье и тронулась в путь, то и дело оборачиваясь и поглядывая на реку. Она шла по следам копыт и помета, взбираясь все выше и выше по скалистым уступам. Здесь, наверху, царила мертвая тишина. Все окутывала дымка падавшего снега и пара изо рта Лени.
Вдруг послышался треск. То ли хрустнула ветка, то ли баран поскользнулся, чиркнул по камню копытами. Лени учуяла мускусный запах добычи. Втиснулась меж двух деревьев, вскинула ружье.
Посмотрела в прицел, увидела барана, взяла на мушку.
Дышала ровно.
Выжидала.
Спустила курок.
Баран не издал ни звука. Идеальный выстрел, точно в цель. Жертва не мучилась. Баран рухнул на колени, завалился набок, скользнул вниз по каменистому склону и замер на краю уступа.
Лени побрела по снегу к добыче. Ей хотелось как можно скорее разделать тушу и спрятать мясо в рюкзак. Формально это браконьерство (сезон охоты на баранов осенью), но пустой холодильник есть пустой холодильник. Она на глаз прикинула, что баран потянет где-то на сотню фунтов. Долгонько же она будет возвращаться к снегоходу с такой ношей.
* * *
Лени рулила на снегоходе по длинной белой подъездной дорожке к дому. На ручку газа сильно не жала, ехала медленно. Здесь она знала каждый уклон и поворот.
За последние четыре года она росла, как всё на Аляске, сама по себе. Волосы теперь доходили почти до пояса (Лени не видела причины их стричь) и приобрели густой оттенок красного дерева. Пухленькое детское личико похудело, веснушки вылиняли, и молочная белизна кожи подчеркивала бирюзу глаз.
В следующем месяце отец вернется домой. Последние четыре года он жил по правилам, установленным Томом Уокером и Марджи-шире-баржи. Пусть неохотно и зло, но делал, как они «советовали». Каждый год после Дня благодарения (обычно как раз в ту пору, когда его снова начинали мучить кошмары, когда он принимался бормотать себе под нос и ввязываться в драки) отец уезжал на нефтепровод в Норт-Слоуп. Зарабатывал неплохо, каждую неделю присылал домой деньги. А они на эти деньги обустраивали хозяйство. У них теперь были козы, куры, алюминиевая рыбацкая плоскодонка и целый огород в куполообразном парнике. «Фольксваген» сменили на вполне рабочий пикап. В старом же автобусе обитал старик-отшельник где-то в лесу в районе Мак-Карти.
Жить с отцом не стало легче, он был все так же раздражителен и неуравновешен. Мистера Уокера ненавидел лютой ненавистью, взрывался по малейшему поводу (или если перепьет виски с Чокнутым Эрлом), но при этом ему хватало ума понять, что Том Уокер и Марджи-шире-баржи за ним внимательно следят.
Мама по-прежнему спрашивала у Лени: «Ему ведь лучше, правда? Как думаешь?» Да Лени порой и сама в это верила. А может, они просто приспособились к такой жизни, как куропатки, которые белеют к зиме.
В месяцы перед отъездом на нефтепровод, когда день постепенно становился короче, и зимой по выходным, когда отец приезжал домой на побывку, Лени с мамой наблюдали его настроение, как специалисты, замечали, если у него вдруг начинал легонько дергаться глаз, — верный признак, что отец занервничал. Лени научилась гасить вспышки его раздражения, если получалось, а если нет — старалась не попадаться ему на глаза. Она знала по горькому опыту, что от ее вмешательства маме будет только хуже.
Лени заехала в белый двор, заметила огромный пикап Тома Уокера и рядом с ним «Интернэшнл Харвестер»[50] Марджи-шире-баржи. Припарковалась между домом и курятником, слезла со снегохода, и ботинки утонули в грязном, покрытом коркой снегу. Погода быстро менялась: теплело. Стоял конец марта. Вскоре с сосулек на карнизе забарабанит капель и двор развезет стекающая с холма талая вода.
Девушка отвязала разделанную тушу с красных пластмассовых санок, взвалила на плечо белый мешок с окровавленным мясом, прошла мимо домашней живности (при виде хозяйки куры закудахтали, козы заблеяли) и поднялась по ладной лесенке в дом.
Внутри ее окутали тепло и свет. Пар изо рта, который она видела только что, исчез. 1удел генератор, от которого питалась электропроводка, от черной печурки, той, что была в домике с самого начала, шел жар.
Из стоявшего на новом обеденном столе большого портативного приемника неслась громкая музыка. Какое-то диско в исполнении «Би Джиз». Пахло пекущимся хлебом и жарящимся мясом.
Сразу ясно: отец в отъезде. Без него спокойнее и проще.
За большим прямоугольным столом, который отец смастерил прошлым летом, играли в карты Марджи-шире-баржи и мистер Уокер.
— Лени, привет. Следи, чтобы они не жульничали, — крикнула мама из кухонного закутка, который за эти годы постепенно перестроили, притащили газовую плиту и холодильник. Мистер Уокер выложил кафелем столешницу и установил новую раковину. Правда, ни водопровода, ни уборной в доме так и не появилось. Марджи-шире-баржи сколотила полку для посуды, которую они прикупили, когда ездили в Армию спасения в Хомер.
— Жульничают, жульничают, еще как, — улыбнулась Лени.
— Только не я. — Мардж сунула в рот кусок колбаски из оленины. — Я и без всякого жульничества обыграю этих двоих. Давай к нам, Лени. Мне нужен достойный соперник.
Мистер Уокер рассмеялся и встал, скрипнув стулом по дощатому полу.
— Я смотрю, кое-кто добыл барана. — Он достал из-под раковины большой кусок белого полиэтилена и заботливо расстелил его на полу.
Лени со стуком свалила добычу на полиэтилен и опустилась рядом на колени.
— Да, у Портер-Ридж. — Она расстегнула мешок и вытащила разделанную тушу.
Мистер Уокер наточил улу и протянул Лени.
Лени принялась резать мясо на порционные куски — что-то будут жарить, что-то запекать, — срезая серебристые жилки. Раньше ей казалось странным разделывать мясо вот так, дома, на куске полиэтилена. Теперь уже нет. Так они и жили зимой.
Из кухни с улыбкой вышла мама. Казалось, зимой она все время улыбается. На Аляске она расцвела, да и Лени тоже.
Как ни смешно, но именно зимой, когда их дом отрезан от мира, а вокруг полным-полно опасностей, им было спокойнее всего. Без отца можно вздохнуть с облегчением. Мама и Лени сравнялись в росте. На богатой белком пище обе стали худыми и гибкими, как балерины.
Мама уселась за стол и сказала:
— Ну ничего, сейчас я вас сделаю. Предупреждаю заранее, так что готовьтесь.
— Взаправду? — спросил мистер Уокер. — Или как обычно?
Мама рассмеялась.
— Вот увидите, Том, вам еще придется взять свои слова назад. — И она принялась сдавать карты.
Зимой Лени, как и летом, тоже приходилось притворяться. Вот и сейчас она сделала вид, будто не замечает, как мама с мистером Уокером смотрят друг на друга, как боятся нечаянно друг друга коснуться. И как мама порой вздыхает, когда о нем заходит разговор.
Обе прекрасно понимали, что это опасно.
Лени так сосредоточенно разделывала тушу, что не сразу услышала шум двигателя. Затем по окну скользнул свет фар, несколько мгновений спустя открылась дверь.
Вошел папа. В линялой потрепанной бейсболке, надвинутой на глаза, с длинной нестриженой бородой и усами. За месяцы работы на нефтепроводе он весь как-то высох и теперь — заросший, жилистый — выглядел так, словно слишком много пил и почти ничего не ел. Суровый климат Аляски, казалось, выдубил его кожу, лицо избороздили морщины.
Мама вскочила на ноги, во взгляде ее мелькнула тревога.
— Эрнт! Вернулся пораньше? Что же ты меня не предупредил, когда приедешь?
— Еще бы, — папа уставился на мистера Уокера, — понятно, почему тебя это так беспокоит.
— Мы просто играли в карты. — Мистер Уокер поднялся из-за стола. — Ну да не буду вам мешать. — Он прошел мимо папы, который не двинулся с места, так что мистеру Уокеру пришлось его обойти, снял куртку с вешалки у двери, оделся. — Спасибо, девушки.
Когда он ушел, побледневшая мама уставилась на отца, приоткрыв рот, словно у нее дыхание перехватило от страха.
Марджи-шире-баржи встала.
— Ну, я так быстро собраться не сумею, так что, если вы не против, останусь до завтра. Вы же не против?
Отец даже не посмотрел в ее сторону. Он не отрывал от лица мамы настороженного взгляда.
— Боже меня упаси диктовать толстухе, что делать.
Марджи-шире-баржи рассмеялась и отошла прочь от стола.
Плюхнулась на диван, который папа купил в разорившейся гостинице в Анкоридже, и положила ноги в тапках на новый журнальный столик.
Мама приблизилась к папе, обняла, прижала к себе.
— Привет, — прошептала она и поцеловала его в шею. — Я по тебе соскучилась.
— Меня уволили. Сукины дети.
— Ну вот, — огорчилась мама. — Почему? Что случилось?
— Да один мудак наврал, будто бы я пил на работе. Ну а начальник — тот еще козлина. Я вообще тут ни при чем.
— Бедный ты мой, — сказала мама. — Плохо с тобой обошлись.
Он погладил маму по лицу, ухватил ее за подбородок и страстно поцеловал в губы.
— Господи, как я по тебе соскучился, — пробормотал он, не отрываясь от ее губ. Мама застонала от его ласки, прильнула к нему всем телом.
Они медленно направились к спальне, прошли сквозь занавеску, бусины защелкали. Родители словно забыли, что не одни в доме. Лени слышала, как они упали на кровать, как учащенно задышали, как под ними заскрипели старые пружины.
Лени присела на корточки. Господи боже мой. Никогда ей не понять, что у родителей за отношения. Ей было стыдно за них; непоколебимая любовь, которую мама питала к папе, мучила и тяготила ее. Было в этом что-то нездоровое, и она это знала. Понимала по тому, как порой Марджи-шире-баржи поглядывала на маму.
— Ненормально это, — проговорила Марджи-шире-баржи.
— А что тогда нормально?
— Кто ж его разберет. Из всех, кого я знаю, лишь Полоумный Пит счастлив в браке.
— Ну, Матильда не обычная гусыня. Хотите есть?
Мардж похлопала себя по животу:
— А то. Обожаю рагу твоей мамы.
— Сейчас принесу. Все равно они не скоро выйдут из спальни.
Лени завернула разделанное мясо, сполоснула руки под рукомойником над раковиной. Включила радио на кухне на полную громкость, но все равно оно не в силах было заглушить доносившиеся из спальни звуки страстного воссоединения.
* * *
Ледоход на Аляске. Пора таяния, движения, шума, когда несмело возвращается солнце и все глубже оседает грязный, весь в проталинах снег. Земной шар повернулся, очнулся от холода, и повсюду стук да скрип, словно крутятся огромные шестеренки. Глыбы льда величиною с дом оторвались и плывут по течению, то и дело на что-нибудь натыкаясь. Деревья падают с треском, потому что мокрая зыбкая почва под ними ходит ходуном. Снег обращается в слякоть, шугу, а потом и в воду, которая скапливается в каждой выбоине и ложбине.
Находятся вещи, потерянные в снегу, — шапка, сорванная ветром, моток веревки; по расквашенной дороге плывут пивные банки, которые зимой мужчины швыряли в сугробы на обочинах. В мутных лужах чернеют сосновые иглы, поломанные буранами ветки несутся в потоках, текущих с холмов во всех уголках земли. Козы стоят по колено в засасывающей грязи. Сколько сена ни подстилай, все равно увязнут.
Вода заполняет колодцы вокруг деревьев, бежит вдоль дорог, затапливает землю, напоминая всем о том, что вообще-то эта часть Аляски некогда считалась дождевым лесом. Где бы вы ни были, всюду слышно, как трещит лед, как льется вода с ветвей и карнизов, течет по обочинам, разбегается ручейками по всем углублениям в промокшей насквозь земле.
Звери покинули укрытия. По городу неторопливо прошел лось. Здесь вообще никто и никогда не спешит. Нырки возвращаются галдящими стаями и качаются на волнах в бухте. Медведи вылезли из берлог и рыскают по окрестным холмам в поисках пищи. Природа проводит генеральную весеннюю уборку, отскребает лед, иней и холод, моет окна, чтобы впустить свет.
Дивным синим вечером под лазурным небом Лени сунула ноги в резиновые сапоги и пошла кормить скотину и птицу, шлепая по щиколотку в грязи и стараясь не соскользнуть в заполненную водой колею. У них теперь было семь коз, тринадцать кур и четыре утки. Вдруг она услышала голоса. Обернулась на звук, к бухточке, которая связывала их семью с внешним миром. Несмотря на то что они прожили здесь уже несколько лет, участок их по-прежнему казался диким. Даже в родном дворе приходилось смотреть в оба, но в такие дни, как сегодня, когда усыпанный ракушками берег в прилив поглощала вода, Лени чувствовала это особенно остро.
На воде плясали каяки, вдоль берега скользила флотилия ярких лодочек.
Туристы. Они, поди, и не знают, как быстро все меняется на Аляске. Сейчас-то штиль, но дважды в день бухточка наполнялась водой, а затем пустела, и стремительные волны могли выбросить на берег или утопить неосторожных, так что те даже не успели бы заметить опасность.
К Лени подошла мама. От нее привычно пахло табачным дымом, мылом с шиповником и лавандовым кремом для рук, и смесь этих запахов всегда будет напоминать Лени о маме. Она обняла дочь за плечи и шутливо пихнула бедром.
Они смотрели, как каяки заплывают в бухточку, слышали, как эхо их смеха летит по воде. Интересно, как им живется, подумала Лени, этим ребятам с Большой земли, которые приезжают сюда на каникулы, ходят с рюкзаками по горам, мечтают «пожить в тайге», а потом возвращаются в свои пригородные дома и жизни, полные перемен.
За спиной заурчал красный пикап.
— Девочки, пора ехать, — крикнул папа.
Мама взяла Лени за руку, и они направились к отцу.
— Зря мы едем на этот сход, — сказала Лени, когда они подошли к отцу.
Он посмотрел на нее. За годы, прожитые на Аляске, папа постарел, словно высох, тонкие скобки-морщины, бороздили впалые щеки.
— Почему?
— Ты расстроишься.
— Думаешь, я боюсь Тома Уокера? Думаешь, я трус?
— Пап…
— Это и наш город. Никто не любит Канек так, как я. Если Уокер решил показать нам, какой он крутой, и созвать сход, так мы придем. Садитесь давайте.
Они втиснулись в старенький пикап.
Канек очень переменился с тех пор, как они сюда приехали, отцу же все новое было поперек горла. Он злился, когда появился пассажирский паром, который привозил в городок туристов из Хомера. Его бесило, что из-за них приходится сбрасывать скорость, потому что они бродили посреди дороги, шатались по городу, выпучив глаза, и тыкали пальцами в каждого орла, ястреба и тюленя. Его раздражало, что новенькая контора по прокату лодок и рыбацкого оборудования процветала и в закусочной порой не было свободных мест. Он ненавидел тех, кто приезжал на экскурсию, обзывал их «глазолупами», но еще больше ненавидел чужаков, которые перебирались сюда жить, строили дома в окрестностях городка, обносили участки заборами и ставили гаражи.
В этот теплый вечер по Главной улице прогуливались несколько закаленных туристов, фотографировали и переговаривались так громко, что переполошили всех собак, привязанных у домов. Туристы толпились и у новенькой лавки под названием «Закуснасти» (там продавали закуску и рыболовные снасти).
На «Лягающемся лосе» висело объявление: ГОРОДСКОЙ СХОД В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 7 ВЕЧЕРА.
— Да что у нас, Сиэтл, что ли, — пробормотал папа.
— Прошлый сход был два года назад, — заметила мама. — Когда Том Уокер дал городу доски для ремонта временной пристани.
— Думаешь, я сам не знаю? — Папа свернул на парковку. — Думаешь, мне надо это повторять? Я и так прекрасно помню, что Том Уокер строит из себя важную персону и тычет нам в нос своими деньгами. — Он припарковался у обугленного салуна «Лягающийся лось». Дверь была гостеприимно распахнута.
Лени вслед за родителями вошла в салун.
Это было единственное место, которое не затронули происходившие в городе перемены. В Канеке никого не смущали почерневшие стены и запах гари, лишь бы выпивка лилась рекой.
Внутри уже собралось полным-полно народу. Барную стойку обступили мужчины во фланелевых рубашках, тут же было несколько женщин. Под высокими табуретами и у стен свернулись калачиком собаки. Все говорили разом, играла негромкая музыка. Какая-то собака завыла в тон песне, но ее тут же пнули, и она замолчала.
Чокнутый Эрл заметил их и помахал рукой.
Папа кивнул и направился к бару.
За стойкой который десяток лет стоял Старый Джим. Беззубый, со слезящимися глазами и бороденкой скудной, как его словарный запас, Джим обслуживал клиентов медленно, зато относился ко всем по-человечески. Все знали, что Старый Джим нальет в долг или возьмет плату лосятиной. Поговаривали, что так повелось аж с 1942 года, когда папаша Тома Уокера выстроил салун.
— Виски, двойной, — крикнул папа Джиму, — и пиво для моей женки.
Он шлепнул на стойку скомканные банкноты, заработанные на нефтепроводе, взял виски, мамино пиво и направился в угол, где заняли пластмассовые стулья вокруг перевернутой бочки Чокнутый Эрл, Тельма, Тед, Клайд и прочие представители клана Харланов.
Тельма улыбнулась маме и подвинула белый пластмассовый стул. Мама села, и женщины тут же склонились друг к другу и завели беседу. За эти годы они крепко сдружились. Лени узнала, что Тельма, как большинство женщин на Аляске, которые отваживаются жить в тайге, выносливая, надежная и честная — даже себе в ущерб. Но не дай бог ее обидеть.
— Лени, привет! — Малышка улыбнулась ей во весь щербатый рот. Свитер ей был велик, штаны коротки, так что из полусапожек и спущенных шерстяных носков на добрых три дюйма торчали ножки-проволочки.
Лени улыбнулась восьмилетке:
— Привет, Малышка.
— А к нам вчера Аксель приезжал. Я его чуть не подстрелила из лука, — ухмыльнулась девочка. — Как же он разозлился! (Лени спрятала улыбку.) Покажешь мне новые фотографии?
— Конечно. В следующий раз привезу. — Лени прислонилась к закопченной бревенчатой стене, Малышка придвинулась к ней.
На барной стойке зазвенел колокольчик.
Разговоры вокруг стойки стали тише, но не смолкли. К общегородским сходам здесь давно привыкли, и все равно полную комнату аляскинцев не так-то просто утихомирить.
За стойкой появился Том Уокер и улыбнулся собравшимся.
— Здорово, соседи. Спасибо, что пришли. Я вижу тут много старых друзей и новых лиц. Здравствуйте и добро пожаловать. Меня зовут Том Уокер, если кто не знает. Мой отец, Эк-харт Уокер, приехал на Аляску тогда, когда большинства из вас еще и на свете-то не было. Мыл золото, но со временем понял, что истинное богатство здесь, в Канеке, — это земля. Они с мамой застолбили участок в шестьсот акров и осели в этих краях.
— Ну началось, — скривился папа и осушил стакан. — Сейчас мы услышим про его дружка-губернатора, с которым они в детстве крабов ловили. Господи боже мой…
— Вот уже третье поколение моей семьи обитает на этой земле. Это место — не просто наш дом, это мы сами и есть. Но жизнь не стоит на месте. И вы знаете, о чем я говорю. К нам приезжают новые люди. Аляска — последний рубеж. Все хотят увидеть наш штат, пока он еще больше не изменился.
— И что? — выкрикнул кто-то.
— В сезон ловли чавычи на берегах Кеная полным-полно туристов, они плавают по нашим водам на каяках, набиваются на паромы, сходят толпами на пристань. И скоро круизные лайнеры будут привозить сюда не сотни, а тысячи туристов. Я знаю, что за последние два года бизнес Теда по прокату рыбацкого инвентаря удвоил обороты, а в закусочной летом нет свободных мест. Поговаривают, что пассажирский паром между нами, Селдовией и Хомером каждый день будет набит битком.
— Мы сюда от такого сбежали, — крикнул отец.
— К чему ты нам все это рассказываешь, Томми? — подала голос из угла Марджи-шире-баржи.
— Хорошо, что ты спросила, — ответил мистер Уокер. — Я наконец-то решил потратиться на «Лося», привести старика в порядок. Давно пора нам обустроить бар, после которого ладони и седалище не будут в саже.
Посетители одобрительно заухали.
Папа поднялся на ноги:
— С чего ты взял, что нам нужен бар, как в большом городе, что мы намерены привечать идиотов в сандалиях и с фотоаппаратами на шее?
Все обернулись и посмотрели на отца.
— Нас не убудет, если мы тут кое-что покрасим и заведем за стойкой морозилку со льдом, — спокойно ответил мистер Уокер.
Толпа рассмеялась.
— Мы сбежали сюда с Большой земли от этого сумасшедшего мира. И мы не дадим мистеру Большой Шишке усовершенствовать салун. Пусть чичако пьют в «Морском волчаре».
— Ну ей-богу, я же не мост на материк собрался строить, — ответил мистер Уокер. — Между прочим, этот город основал мой отец. Я работал в этом салуне, когда ты еще мечтал играть в Малой лиге[51]. Здесь все мое. — Он примолк. — Все. Не забыл? Кстати, раз уж на то пошло, отремонтирую-ка я и старый пансион. Надо же людям где-то спать. И назову его «Женевой». Ей бы понравилось.
Он дразнил отца, Лени поняла это по глазам мистера Уокера. Между ними всегда ощущалось напряжение. Они старались обходить друг друга стороной, но все равно это чувствовалось. И на этот раз мистер Уокер не собирался отступать.
Папа обернулся к Чокнутому Эрлу:
— Нет, ты слышал? А что потом? Казино? Колесо обозрения?
Чокнутый Эрл нахмурился, встал:
— Погоди-ка, Том…
— Да там всего-то десять комнат, — перебил его мистер Уокер. — Он принимал гостей сотню лет назад, когда по этим улицам ходили миссионеры и русские торговцы пушниной. Моя мать своими руками сделала витражи. Эта гостиница — часть нашей истории, и сейчас она стоит с заколоченными окнами, как вдовица в черных одеждах. Я верну ей былой блеск. — Он замолчал и уставился на папу: — Никто не помешает мне усовершенствовать наш город.
— Если ты богат, еще не значит, что ты можешь нами помыкать! — заорал папа.
— Эрнт, — сказала Тельма, — по-моему, ты хватил через край.
Папа волком взглянул на Тельму:
— Мы не хотим, чтобы туристы шлялись за нами по пятам. Мы против. Нет, черт подери…
Мистер Уокер протянул руку и позвонил в колокольчик над баром.
— Всем выпивка за счет заведения, — улыбнулся он.
И тут же все радостно закричали, заухали, захлопали в ладоши и облепили стойку.
— Продадитесь за пару стаканчиков?! — выкрикнул отец. — Идея его дурацкая. Если бы мы хотели жить в большом городе, нас бы тут не было. А он на этом не остановится.
Но его никто не слушал. Даже Чокнутый Эрл двинулся к бару за угощением.
— Не умеешь ты заткнуться вовремя, Эрнт, — заметила Марджи-шире-баржи. На ней было расшитое бисером замшевое пальто по колено и фланелевые пижамные штаны, заправленные в унты. — Тебя разве заставляли получать лицензию на ремонт лодочных моторов на пристани? Нет, не заставляли. И если Тому втемяшилось превратить эту дыру в домик Барби, никто ему и слова поперек не скажет. Вот поэтому мы и здесь. Чтобы делать то, что нам хочется. А не то, что ты нам велишь.
— Да надо мной всю жизнь издеваются такие, как он.
— Так, может, дело не в нем, а в тебе? — предположила Марджи-шире-баржи.
— Заткнись, толстуха, — отрезал папа. — Пошли, Лени. — Он схватил маму за плечо и потащил сквозь толпу.
— Олбрайт! — окликнул его мистер Уокер.
Папа остановился почти у выхода и обернулся. И так рванул маму к себе, что она споткнулась и едва не упала.
Мистер Уокер с двумя стаканами виски в руках направился к отцу, за ним потянулись и другие. Казалось, он настроен вполне дружелюбно, однако по тому, как он взглянул на маму, поджав губы, стало ясно: он вне себя от злости.
— Да ладно тебе, Олбрайт, не уходи. Выпьем как добрые соседи, — сказал мистер Уокер. — Надо же как-то деньги зарабатывать, а от перемен все равно никуда не денешься. Они неизбежны.
— Я тебе не позволю менять наш город, — ответил отец. — И мне плевать, сколько у тебя денег.
— Да что ты сделаешь, — усмехнулся мистер Уокер. — Выбора у тебя нет. Так что смирись. Умей проигрывать с достоинством. На вот, выпей.
Проигрывать с достоинством?
Неужели мистер Уокер еще не понял?
Папа не из тех, кто смиряется.
Тринадцать
На следующий день папа мерил домик шагами да распинался про опасные перемены и будущее. В полдень сел к приемнику и созвал Харланов на сходку у них на подворье.
Весь день Лени мучили дурные предчувствия, сосало под ложечкой. Время шло еле-еле, но все-таки шло. После ужина они поехали к Харланам, и теперь все с нетерпением ждали начала сходки. Из домиков и сараев вынесли стулья и расставили как попало на грязном дворе перед крыльцом Чокнутого Эрла.
Тельма устроилась на пластмассовом белом стуле, на коленях у нее притулилась Малышка, которая уже явно слишком выросла, для того чтобы сидеть у мамы на коленях. Тед стоял за стулом жены и курил. Мама расположилась возле Тельмы на деревянном садовом кресле с отломанным подлокотником, а Лени устроилась рядом с ней на увязшем в грязи складном металлическом табурете. Клайд с Донной вытянулись, точно часовые, по бокам от Марти и Агнес, а те прилежно строгали из палочек стрелы.
Все смотрели на папу, который стоял на крыльце с Чокнутым Эрлом. Бутылки виски нигде не было видно, но Лени догадалась, что они успели выпить.
Моросил противный дождь. Все было серым: серое небо, серый дождь, серые деревья в сером тумане. Собаки лаяли и рвались с ржавых цепей. Некоторые псы забрались на крыши маленьких будок и оттуда наблюдали за происходившим во дворе.
Папа обвел взглядом собравшихся, которых было мало как никогда. За последние годы молодежь разъехалась из дедова дома на поиски собственной жизни. Одни рыбачили в Беринговом море, другие устроились лесниками в национальный парк. Аксель в прошлом году обрюхатил девицу-эскимоску и теперь жил где-то в поселении юпиков.
— Мы все знаем, зачем мы здесь собрались, — начал отец. Длинные грязные волосы его спутались, густую бороду давным-давно пора было постричь, кожа была бледной после зимы. Красная бандана закрывала почти весь лоб, чтобы волосы не лезли в глаза. Отец похлопал Чокнутого Эрла по костлявому плечу: — Этот человек раньше любого из нас понял, что будет дальше. Он догадался, что правительство нас обманет, что преступность и жадность уничтожат все, что мы любим в Америке. Он приехал и привез вас всех сюда, чтобы вернуться к природе, жить простой жизнью. Кормиться охотой, защищать семью, сбежать от херни, которая творится в больших городах. — Папа примолк, обвел глазами собравшихся. — Так все и было. До недавнего времени.
— Скажи им, Эрнт. — Чокнутый Эрл наклонился, достал спрятанную под стулом бутылку виски и с глухим стуком откупорил ее.
— Том Уокер — богатый самодовольный мудак, — продолжал папа. — Видали мы таких. Он не воевал во Вьетнаме. У таких, как он, был миллион способов уклониться от службы. В отличие от меня, Бо и наших друзей, которые защищали родину. Ну да это еще ладно. Я могу смириться с тем, что этот лицемер считает себя лучше прочих и тычет мне в нос своими деньгами. Я могу смириться с тем, что он глазеет на мою жену. — Он спустился по шаткой лесенке, ступил в мутную лужицу, собравшуюся у нижней ступеньки. — Но я не позволю ему уничтожить Канек и нашу жизнь. Это наш дом. И мы хотим, чтобы он оставался диким и свободным.
— Да ладно тебе, Эрнт, он же всего-навсего хочет отремонтировать бар, а не выстроить комплекс для конференций! — воскликнула Тельма. Услышав мамин крик, Малышка тут же сползла с ее коленей и ушла играть с Агнес и Марти.
— И еще гостиницу, — вставил Чокнутый Эрл. — Не забывай, мисси.
Тельма посмотрела на отца:
— Ну, пап, вы делаете из мухи слона. У нас тут ни дорог, ни коммуникаций, ни электричества. Нытьем вы ничего не добьетесь. Смиритесь.
— А я и не ною, — возразил отец Лени. — Я намерен действовать, и, видит бог, так и сделаю. Кто со мной?
— Правильно, черт возьми, — слегка заплетающимся языком пробормотал Чокнутый Эрл.
— Вот увидите, он поднимет цены на выпивку, — посетовал Клайд.
— Я переехал в тайгу не для того, чтобы у меня под боком выстроили гостиницу, — не унимался папа.
Чокнутый Эрл что-то неразборчиво пробурчал и сделал большой глоток.
Лени наблюдала, как мужчины обступили папу и хлопают по спине, словно он сказал что-то важное.
В считаные мгновения женщины остались одни на грязном дворе.
— Что-то Эрнт слишком нервничает из-за пустячного ремонта салуна, — сказала Тельма, посматривая на мужчин. Казалось, они наливаются праведным гневом, раздуваются от него, передавая бутылку друг другу. — Я-то думала, он смирится.
Мама закурила.
— Смириться он просто не может. Никогда.
— Я знаю, вы не в силах на него повлиять, — Тельма перевела взгляд с мамы на Лени, — но он ведь здесь устроит черт знает что. Ну да, у Тома Уокера новый пикап, и вообще ему принадлежит большая часть полуострова, но случись что, он тебе отдаст последнюю рубашку. В том году, когда Малышка расхворалась, Мардж обмолвилась об этом Тому, так он по собственному почину приехал сюда и переправил ее на самолете в Кенай.
— Я знаю, — тихо ответила мама.
— За твоим мужем нужен глаз да глаз, а не то он весь город перессорит.
Мама устало засмеялась. Лени ее поняла. Можешь обращаться с отцом бережно, точно со склянкой нитроглицерина, и все равно не уследишь. Рано или поздно он взорвется.
* * *
Родители Лени опять напились, так что ей пришлось везти их домой. Она припарковала пикап во дворе, отвела маму в спальню. Та рухнула на кровать и, смеясь, потянулась к папе.
Лени забралась к себе на чердак, легла на матрас, который они нашли на помойке и вымыли хлоркой, укрылась куньим одеялом и постаралась уснуть.
Но происшествие в салуне и встреча с Харланами не выходили у Лени из головы. Что-то ее тревожило, хотя она сама не могла определить что — мол, вот именно это меня обеспокоило. А может, ей так показалось из-за того, что отец распсиховался, пусть и не в первый раз? Но из-за его состояния она восприняла произошедшее слишком остро.
Что-то изменилось. Чуть-чуть, но все же явно.
Папа злился. Даже, пожалуй, бесился. Но из-за чего?
Из-за того ли, что его уволили с нефтепровода? Из-за того, что он в марте увидел маму с Томом Уокером, застал мистера Уокера у них за столом?
Нет, тут явно что-то еще. Не мог же он так разнервничаться из-за каких-то городских новостей. Хотя, конечно, чего скрывать, папа как никто любит пропустить стаканчик виски в «Лягающемся лосе».
Лени перевернулась и потянулась к стоявшей у кровати коробке, в которой хранились письма Мэтью за последние годы. Месяца не проходило, чтобы он не прислал весточку. Все его письма Лени заучила наизусть и могла по желанию вызвать в памяти любое из них. Некоторые строки всегда вертелись у нее в голове. «Мне уже лучше… Вчера пошел ужинать и вспомнил о тебе: у чувака был огромный “ поляроид”… вчера я забил первый гол, жаль, ты не видела…» И ее любимые, в которых он писал, например, такое: «Я по тебе соскучился». Или: «Я знаю, это глупо, но ты мне снилась. А я тебе снюсь?»
Правда, сегодня ей не хотелось думать о Мэтью, о том, как он далеко, как ей одиноко без него и его дружбы. За годы его отсутствия в Канеке не прибавилось молодежи. Лени привыкла и полюбила Аляску, но порой ей было здесь очень одиноко. В плохие дни, вот как сегодня, ей не хотелось перечитывать письма и гадать, вернется ли он; Лени боялась, что рано или поздно напишет ему то, что думает: «Мне страшно и одиноко».
Вместо этого Лени открыла книгу, которую как раз читала, «Поющие в терновнике», и погрузилась в историю запретной любви на суровой и негостеприимной земле.
Она зачиталась, и было уже за полночь, когда Лени услышала, как зашуршали бусины. Она ожидала, что сейчас лязгнет дверца печки, которую откроют и закроют, но до нее донеслись только шаги по половицам. Лени сползла с матраса, подкралась к краю чердака и свесила голову.
Там светила лишь печурка, и глаза Лени не сразу привыкли к темноте.
Папа весь в черном; на глаза надвинута бейсболка с эмблемой «Аляска Эйсез»[52]. В руках большая сумка для инструментов, в ней что-то гремит.
Папа отворил дверь и вышел в ночь.
Лени спустилась с чердака, тихонько подошла к окну и выглянула наружу. Грязный двор заливала полная луна, то там, то сям в ее свете блестели упрямые побуревшие снежные корки. Повсюду валялся мусор: ящики с рыболовными снастями и туристическим снаряжением, ржавеющие железные клети и всевозможные механизмы, сломанная калитка, еще один велосипед, починить который у отца так и не дошли руки, штабель сдутых шин.
Папа швырнул сумку в кузов пикапа и направился к фанерному сараю, где они держали инструменты.
Несколько мгновений спустя вышел оттуда с топором на плече.
Сел в пикап и уехал.
* * *
Наутро папа был в превосходном настроении. Черные космы собрал в дурацкий пучок (не то Иисус, не то самурай), который съехал набок и болтался, как щенячье ухо. В усы и густую черную бороду набились стружки.
— Доброе утро, засоня. Поди, всю ночь читала?
— Ага, — ответила Лени, настороженно глядя на него.
Он обхватил Лени и танцевал с ней, пока она не заулыбалась.
Тревога, терзавшая ее со вчерашнего дня, постепенно улеглась.
Вот и слава богу. К тому же сегодня первая суббота апреля, один из самых ее любимых дней в году.
Дни лосося. Соберется весь город, чтобы отпраздновать грядущий сезон ловли лосося. Раньше праздник назывался по-другому. Придумали его эскимосы, которые некогда здесь обитали, все племя собиралось, чтобы попросить у богов удачной путины. Ну а сейчас это просто городской праздник. Уж сегодня-то наверняка забудутся вчерашние размолвки.
В третьем часу, покончив с домашними делами, Лени подхватила стопку контейнеров с едой и вслед за родителями вышла из домика. В синем небе ни облачка, галечный пляж переливался на солнце, рассыпанные повсюду осколки ракушек белели подвенечным кружевом.
В багажник погрузили еду, одеяла, сумку с зонтами и плащами — на всякий случай, погода в это время года бывала переменчива. Мама с Лени уселись на заднее сиденье, папа за руль, и они тронулись в путь.
В городе припарковались у моста и двинулись к магазину.
— Что случилось? — удивилась мама, когда они завернули за угол.
На Главной улице толпились горожане, но не так, как обычно по праздникам. В такие дни мужчины собирались вокруг мангалов, жарили бургеры с лосятиной, колбаски из оленины, свежих моллюсков, травили рыбацкие байки, потягивали пиво. А женщины у закусочной хлопотали над длинными столами, уставленными угощением — сэндвичами с палтусом, блюдами с дандженесскими крабами, ведерками с моллюсками, от которых шел пар, большими мисками с тушеной фасолью.
А сейчас одна половина горожан собралась на тротуаре, смотревшем на берег, а вторая — у салуна. Словно перед перестрелкой у корраля О’Кей[53].
И тут Лени увидела салун.
Все стекла в окнах выбиты, дверь порублена в щепы, на медных петлях висят обломки досок. На обугленных стенах корявая надпись белой краской из баллончика: ПРЕДУПРЕЖДАЮ. НЕ ЛЕЗЬ. МУДИЛО САМОДОВОЛЬНОЕ. НИКАКИХ ПЕРЕМЕН.
Перед разрушенным салуном стоял Том Уокер, слева от него — Марджи-шире-баржи и Натали, справа — миссис Роудс с мужем. Лени узнала остальных собравшихся, почти все — хозяева здешних лавок, рыбаки, торговцы снаряжением. Словом, те, кто приехал на Аляску, чтобы чего-то добиться.
На другой стороне улицы на тротуаре скопились отшельники, одиночки, изгои. Те, кто жил в тайге, куда можно добраться лишь по морю или по воздуху, кто приехал сюда, чтобы спрятаться — от кредиторов ли, правительства, закона, алиментов, современной жизни. Как и отец Лени, они хотели, чтобы Аляска всегда оставалась дикой. Будь их воля, здесь бы никогда не появилось ни электричества, ни туристов, ни телефонов, ни мощеных дорог, ни ватерклозетов.
Папа уверенно устремился вперед. Лени с мамой бросились за ним.
Том Уокер двинулся к нему, встретил отца на середине улицы и швырнул ему под ноги баллончик из-под краски. Баллончик лязгнул и откатился в сторону.
— Думаешь, я не знаю, что это был ты? Думаешь, никто не догадывается, что это был ты, дебил чертов?
Папа улыбнулся:
— А что, Том, ночью что-то случилось? Кто-то разнес салун? Ну надо же, как жаль.
Лени заметила, как уверенно и спокойно держался рядом с отцом мистер Уокер. Уж он-то наверняка не стал бы напиваться, разговаривать сам с собой или просыпаться с криком и рыдать.
— Ты хуже чем трус, Олбрайт. Ты идиот. Пробрался сюда в темноте, выбил стекла, расписал стены, которые я все равно снесу.
— Ну что ты, Том, это не он. — Мама старалась не встречаться глазами с мистером Уокером. Она остерегалась прямо смотреть на него, тем более в такую минуту. — Он ночью был дома.
Мистер Уокер шагнул вперед:
— Слушай меня внимательно, Эрнт. Я забуду о том, что случилось, — подумаешь, ты ошибся, с кем не бывает. Но прогресс все равно придет в Канек. И если ты выкинешь еще что-нибудь, если ты еще хоть раз позволишь себе вмешаться в мои дела, я не горожан сюда позову. И не копов. Я сам приду за тобой.
— Ишь ты, денежный мешок. Тебе меня не напугать.
На этот раз настал черед мистера Уокера улыбаться.
— Ну я же говорю — идиот. — Мистер Уокер повернулся к собравшимся, многие из которых придвинулись ближе, чтобы слышать спор. — Мы тут все друзья. Соседи. Ерунда, какие-то надписи на стене. Давайте уже праздновать.
Горожане тут же оживились, зашевелились, женщины переместились к накрытым столам, мужчины принялись разжигать жаровни. В конце улицы заиграла группа.
«Ложись, Салли, отдохни, я тебя обниму…»[54]
Папа взял маму за руку и повел по улице, качая головой в такт музыке.
Лени осталась одна-одинешенька посреди улицы, между двух огней.
Она чуяла, как в городке зреет раскол, разлад, который легко может перерасти в битву за то, каким должен быть Ка-нек, — за его душу.
Это может плохо кончиться.
Лени знала, что это сделал отец, и эта хулиганская выходка свидетельствовала о нарастающей ненависти. Лени испугало, что он отважился в открытую бросить вызов. С тех самых пор как мистер Уокер и Марджи-шире-баржи в первый раз отправили его на зиму на нефтепровод, папа был начеку. Не бил маму по лицу, где синяки могли заметить. Старался изо всех сил, из кожи вон лез, чтобы не сорваться. От мистера Уокера держался на почтительном расстоянии.
Похоже, этому настал конец.
Лени и не заметила, как к ней подошел Том Уокер, пока тот не заговорил:
— Что-то у тебя вид напуганный.
— Ваши разногласия с отцом могут расколоть Канек, — ответила Лени. — Вы же это понимаете, правда?
— Поверь, Лени, тебе нечего бояться.
Лени подняла глаза на мистера Уокера и сказала:
— Ошибаетесь.
* * *
— Зря ты так переживаешь, — на следующий день сказала Марджи-шире-баржи Лени, когда та пришла на работу. Лени вот уже год после школы работала в магазине: расставляла на полках товар, вытирала пыль с припасов, со звоном выбивала чеки на старенькой кассе. Заработков вполне хватало на кассеты для фотоаппарата и книги. Папа, разумеется, был против, но мама впервые осмелилась ему возразить: девочке в семнадцать лет нужны карманные деньги.
— То, что он разнес салун, — дурной знак, — ответила Лени, глядя в окно на следы разгрома.
— Мужики такие идиоты. Могла бы уже понять. Возьми хоть лосей. Разбегаются и со всей дури бьют друг друга рогами. И бараны Далла такие же. Вот и эти пошумят, побесятся да и успокоятся. Пустяки.
Лени думала иначе. Она видела, к чему привела отцова выходка, как повлияла на окружающих. Написанные на стене слова, точно пули, метили в самое сердце города. И хотя вчера вечером на Главной улице, как обычно, пировали вовсю, так что веселье не смолкало до самых сумерек, Лени заметила, что горожане раскололись на две группы: одна верила в перемены и развитие, другая — нет. А когда праздник закончился, все разошлись кто куда.
В разные стороны. В городке, где все и всегда действовали сообща.
* * *
В воскресенье вечером Олбрайты поехали к Харланам на барбекю. После ужина, как обычно, развели на грязном дворе большой костер, собрались вокруг него, болтали, выпивали. Сгущались сумерки, превращая людей в лиловые силуэты.
У Тельмы на крыльце Лени перечитывала в свете фонаря последнее письмо Мэтью, поглядывая на взрослых у костра.
Они передавали друг другу бутылку, которая с крыльца казалась черной осой. За треском и шипением пламени Лени слышала голоса мужчин, гул крепнущей злобы.
— Заправляет нашим городом…
— Самодовольный мудак, вообразил, что купил нас…
— А в следующий раз ему взбредет в голову провести электричество и телевещание… устроить тут Лас-Вегас.
В темноте сверкнули фары. Во дворе всполошенно зашлись в лае собаки. Большой белый пикап с ревом проехал по грязи и затормозил, подняв брызги.
Мистер Уокер вылез из дорогого нового автомобиля и так спокойно подошел к костру, словно был уверен, что ему тут все рады.
Ого.
Лени сложила письмо, сунула его в карман и спустилась во двор.
Папино лицо в свете костра казалось оранжевым. Пучок завалился набок и лежал за левым ухом.
— Да ты никак заблудился, а, Уокер? — заплетающимся языком спросил он. — Тебе здесь не место.
— Кто бы говорил, чичако, — парировал мистер Уокер и так широко улыбнулся, что слова его прозвучали как-то необидно. А может, наоборот, показались еще обиднее. Лени сама не поняла.
— Да я здесь четыре года живу. — Папа сжал губы в ниточку.
— Целых четыре года? Ну надо же. — мистер Уокер скрестил сильные руки на груди. — Да мои ботинки дольше ходят по Аляске, чем ты.
— Слышь, ты…
— Остынь, — усмехнулся мистер Уокер, но глаза его оставались серьезными. — Я не к тебе приехал. Я приехал поговорить с ними. — Он мотнул головой, указывая на Клайда, Донну, Тельму и Теда. — Мы всю жизнь знакомы. Я учил Клайда охотиться на уток, помнишь, Клайд? А Тельма в школе как-то раз дала мне по морде, чтобы руки не распускал. Я приехал поговорить с моими друзьями.
Папе было явно не по себе. Он злился.
Мистер Уокер улыбнулся Тельме, та улыбнулась в ответ.
— Когда-то мы с вами впервые пробовали пиво, помните? «Лось» — наше место. Наше. Донна, вы же с Клайдом там свадьбу играли.
Донна посмотрела на мужа и неуверенно улыбнулась.
— Дело вот в чем. Пора отремонтировать старичка. Мы заслужили место, где не будет вонять гарью, где можно собраться, поболтать и отдохнуть, не перемазавшись с ног до головы сажей. Правда, придется попотеть. — Мистер Уокер замолчал и обвел взглядом собравшихся. — Нужно много рук. Я, конечно, могу нанять рабочих в Хомере и платить им по четыре бакса в час, но хочу, чтобы деньги остались здесь, в городе, у моих друзей и соседей. Приятно ведь, когда зимой у тебя в кармане есть деньжата.
— Четыре бакса в час? Это много. — Тед с Тельмой переглянулись.
— Чтоб все по-честному, — ответил мистер Уокер.
— Ха! — подал голос отец. — Он пытается вами манипулировать. Купить вас. Не слушайте его. Мы знаем, что нужно городу. Уж точно не его деньги.
Тельма бросила на папу раздраженный взгляд.
— И сколько продлится ремонт?
Том пожал плечами:
— Надо успеть до холодов.
— Сколько тебе нужно рабочих?
— Чем больше, тем лучше.
Тельма подошла к Теду, пошепталась с ним.
— Эрл, — окликнул отец старика Харлана, — неужели ты так это оставишь?
Бледное морщинистое лицо Эрла скривилось, как маска, вырезанная на сушеном яблоке.
— Видишь ли, Эрнт, с работой здесь напряженка.
Лени заметила, как ошарашил отца такой ответ.
— Я готов, — сказал Клайд.
Мистер Уокер торжествующе улыбнулся. Лени увидела, как он впился взглядом в отца.
— Отлично. Кто еще?
Когда Клайд шагнул вперед, папа зашипел, как лопнувшая шина, схватил маму за руку и поволок за собой по двору к пикапу. Лени пришлось догонять их бегом. Они сели в машину.
Папа так врезал по газам, что колеса забуксовали в грязи и пикап не сразу тронулся с места. Потом врубил заднюю передачу, сдал, развернулся и вылетел в распахнутые ворота.
Мама взяла Лени за руку. Обе прекрасно понимали, что сейчас лучше помалкивать. Отец бормотал что-то себе под нос и колотил ладонью по рулю в такт своим мыслям.
Идиоты чертовы… спасовали перед ним… проклятые богачи воображают, будто весь мир им принадлежит.
У дома он резко затормозил и рывком переключил рычаг на нейтральную передачу.
Лени с мамой боялись вздохнуть.
Отец не двинулся с места, так и таращился сквозь грязное, облепленное дохлыми комарами лобовое стекло на расплывчатые очертания коптильни у подножия черных деревьев. Темно-буро-фиолетовое небо, точно булавки, утыкали звезды.
— Идите быстро домой, — процедил отец сквозь зубы. — Мне надо подумать.
Лени открыла дверь, и они с мамой буквально вывалились из пикапа, так спешили удрать. Взявшись за руки, прошлепали по грязи, поднялись по ступенькам, открыли дверь, захлопнули ее за собой, жалея, что нельзя закрыться на замок. Но обе прекрасно понимали, что делать этого не стоит. В припадке гнева отец мог спалить дом дотла, чтобы добраться до мамы.
Лени подошла к окну, отодвинула занавеску и посмотрела во двор.
Фургон по-прежнему стоял там, горели фары.
Лени разглядела силуэт отца, который разговаривал сам с собой.
— Это он сделал. — Лени подошла к маме. — Он разнес салун.
— Неправда, он был дома. В постели со мной. И вообще он на такое не способен.
Лени и рада была бы оставить маму в неведении, не причинять ей боль, но правда прожигала душу насквозь. И, чтобы потушить этот огонь, нужно было обо всем рассказать. Ведь они с мамой команда. Они вместе. У них нет тайн друг от друга.
— Когда ты заснула, он уехал в город. Я видела, как он уходил с топором.
Мама закурила и тяжело вздохнула:
— Я думала, в кои-то веки…
Лени ее понимала. Надежда. Блестящая финтифлюшка, приманка для доверчивых. Лени знала, как эта штука заманчива и опасна.
— И что же нам делать?
— Да что же тут сделаешь? Он и так переживал из-за того, что его с работы выгнали, а теперь еще эта история с салуном и Томом. Того и гляди сорвется.
Лени чувствовала мамин страх — и стыд, его безмолвный близнец.
— Нам нужно быть начеку. Это может плохо кончиться.
Четырнадцать
Апрель в Фэрбанксе переменчив. В этом году месяц выдался не по-весеннему морозным, мел снег, птицы не прилетели, реки не вскрылись. Жаловались даже старожилы, а уж они-то провели не один десяток лет в городе, который считался самым холодным в Америке.
После тренировки Мэтью возвращался с катка с клюшкой на плече. Он понимал, что в насквозь промокшей от пота хоккейной форме и унтах выглядит обычным семнадцатилетним пареньком, но ведь внешность обманчива. Он это знал, и это знали ребята, с которыми он учился вот уже несколько лет. Нет, они относились к нему вполне приветливо (здесь, вдали от цивилизации, никто никого не судил, каждый жил как хотел), но все же сторонились. Слухи о его «расстройстве» распространились быстрее пожара в горах Кенай. Он только-только сел за парту на первом уроке в девятом классе, а о нем уже составили мнение. Старшеклассники — стадные животные, даже в дебрях Аляски. Они чуяли, что в их компанию затесался слабый.
В ледяном тумане, тяжелой серой дымке, пронизанной застывшими частичками загрязняющих примесей, Фэрбанкс казался пародией на самого себя, как в комнате смеха, где нет ничего плотного, ни одной четкой линии. Пахло стоялыми выхлопными газами, как на гоночном треке.
Приземистые двухэтажные домики на другой стороне улицы, казалось, цеплялись друг за друга, заблудившись в тумане. Как и многие здания в городе, их выстроили наспех, словно временное жилье.
Людей в сумерках точно углем рисовали — прямые и косые черты: бездомные, ютившиеся у подъездов, пьяницы, которые глубокой ночью вываливались на улицу из кабаков и замерзали насмерть. Не все, кого Мэтью видит сейчас, протянут еще день или неделю, не говоря уже о том, чтобы выжить в эти нежданные холода в городке, где зима с сентября по апрель и ночь по восемнадцать часов в сутки. Каждый день уносил новые жертвы. Все время пропадали люди.
Пока он шел к машине, стемнело. Стремительно, в мгновение ока. Теперь светили только фонари — рассыпанные тут и там пятна — да время от времени в тумане змеился след фар. Мэтью был в куртке, хоккейном свитере, теплом белье, хоккейных рейтузах и унтах. По меркам Фэрбанкса, не так уж холодно, чуть ниже нуля. Поэтому перчатки он не надел.
Автомобиль завелся практически сразу, как обычно в это время года, не то что в разгар зимы, когда бывает и минус двадцать пять. Тогда, отлучившись в магазин или по делу, не глушишь мотор.
Дядин большой двухдверный пикап медленно покатил по городу. Тут приходилось смотреть в оба — то чью-то машину занесет, то животные бросятся под колеса, то дети играют там, где нельзя.
Впереди выехал на дорогу побитый «додж». На заднем стекле у него красовалась наклейка: ОСТОРОЖНО. В СЛУЧАЕ ПОХИЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬ ЕДЕТ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ.
Здесь, в глуши, вдали от туристических местечек на побережье или величественных пейзажей национального парка Денали, такого рода наклейки на автомобилях попадались очень часто. Аляска кишела маргиналами. Они верили во всякие странные штуки, молились суровым богам, запрещавшим то и это, и забивали подвалы одновременно и Библиями, и оружием. Аляска идеально подходила тем, кто мечтал жить в таких краях, где никто никому не диктует, что делать, не обращает внимания на припаркованный в чужом дворе трейлер или холодильник на крыльце. Тетя говорила, что индивидуалистов сюда влечет романтика приключений. Мэтью не был уверен, что тетя права (он вообще не тратил силы на то, чтобы размышлять о подобных вещах), но точно знал: чем дальше от цивилизации, тем больше странностей. Большинство, пережив в Фэрбанксе темную суровую зиму длиной восемь месяцев, сбегали с визгом. Те немногие, кто оставался, — неудачники, искатели приключений, романтики, одиночки — почти никогда уже не покидали пределов штата.
Минут пятнадцать он ехал до дорожки к участку и еще пять — до того места, которое последние два года называл домом. Два десятка лет назад, когда семья его мамы обосновалась на этой земле, участок был на отшибе, но за эти годы город растянулся, подступил ближе. И пусть Фэрбанкс расположен черт-те где, менее чем в ста двадцати милях от полярного круга, однако это второй по величине город штата и быстро растет благодаря нефтепроводу.
Мэтью проехал по длинной извилистой дорожке в обрамлении деревьев и припарковался в огромном, обшитом досками гараже (он же мастерская) между вездеходом и снегоходом дяди Рика.
Стены в доме были обиты грубо отесанными досками, которые казались неряшливыми. Тетя с дядей собирались обшить их гипсокартоном, да как-то все руки не доходили. Кухню делили на части Г-образные высокие столы с деревянными столешницами и зелеными шкафчиками; дядя с тетей забрали их в заброшенном доме в Анкоридже, одном из «домов мечты», выстроенных приезжими, которые сбежали, не дотерпев до конца первой же здешней зимы. Кухню от столовой отделяла барная стойка с тремя высокими табуретами. За столовой была гостиная: широкий клетчатый раздвижной диван с пуфиками и два уютных потрепанных кресла у окна, выходившего на реку. Повсюду шкафы, битком набитые книгами, фонари и светильники на случай, если отключится электричество, а отключалось оно частенько: погода скверная, огромные деревья падали на провода. В доме были свет, водопровод и даже телевизор, а вот смывного туалета не было. Впрочем, никого из Уокеров это не смущало, все они с детства привыкли ходить в уборную во дворе, и это их вполне устраивало. На Большой земле понятия не имели, что если такой сортир регулярно мыть, он будет чистым-пречистым.
— Привет. — Сидевшая на диване Али подняла на брата глаза. Судя по всему, она делала домашние задания.
Мэтью бросил у двери сумку со снаряжением, прислонил клюшку к стене в холодной прихожей — увешанном одеждой, уставленном сапогами коридоре, который отделял крыльцо от жилой части дома. Повесил куртку на крючок, сбросил унты. Он так вытянулся — уже шесть футов и два дюйма[55], — что в дверях приходилось пригибать голову.
— Привет. — Мэтью плюхнулся на диван рядом с Али.
— От тебя козлом пахнет. — Она закрыла учебник.
— Между прочим, этот козел сегодня забил два гола. — Он откинулся назад, положил голову на спинку дивана и уставился на массивные деревянные поперечные балки, пересекавшие потолок. Сегодня он отчего-то нервничал, слишком остро все чувствовал, — сам не знал почему.
Мэтью выстукивал пальцами арпеджио на потертом подлокотнике дивана. Али впилась в него взглядом. Она, как обычно, красилась, да недокрасилась, словно в процессе ей надоело. Светлые волосы убрала в небрежный хвост, который чуть съехал. А может, она специально их так завязала. Алиеска была красива естественной, грубой красотой, как типичная девушка с Аляски, которая на выходных скорее отправится на охоту, чем в кино или по магазинам.
— Вот ты опять, — сказал он.
— Что опять?
— Смотришь на меня. Как будто я сейчас взорвусь или еще что-нибудь.
— Нет, — она выдавила улыбку, — я не поэтому. Просто… у тебя, наверно, был тяжелый день?
Мэтью закрыл глаза и вздохнул. Старшая сестра его спасла, в этом он не сомневался. Когда он только-только сюда переехал, когда его захлестывала скорбь и мучили кошмары, Али подставила ему плечо, единственная сумела до него достучаться. Хотя, конечно, далеко не сразу. Первые три месяца он вообще ни с кем не разговаривал. Психолог, к которому его отправили, ничем не помог. Мэтью с первого же визита понял, что чужому не доверится, в особенности такому, который обращается с ним как с ребенком.
Так что спасла его именно Али. Она не сдавалась, постоянно спрашивала, как он себя чувствует. И когда он наконец сумел подобрать слова, чтобы описать свое состояние, скорбь его оказалась пугающей, бездонной.
Он до сих пор поеживался, вспоминая о том, как рыдал.
Сестра обнимала его, когда он плакал, укачивала, как мама. За эти годы у них появились свои выражения для скорби, они научились говорить о потере. Мэтью и Али так много разговаривали о боли, что в конце концов исчерпали слова. Еще они подолгу молчали, стоя бок о бок на берегу реки, рыбачили нахлыстом, бродили по нехоженым тропам Аляскинского хребта. Со временем его скорбь превратилась в гнев, потом в печаль и, наконец, в неотвязную грусть, которая его не оставляла, но уже и не захватывала целиком. И лишь недавно они начали говорить о будущем, а не о прошлом.
Оба понимали, что это серьезная перемена. Али нашла убежище в учебе, пряталась за ней, как за щитом, от тягот сиротской жизни. В Фэрбанксе она осталась ради Мэтью, а до гибели матери у Али были большие планы — она мечтала перебраться в Нью-Йорк или Чикаго, туда, где по городу ходят автобусы, есть театры и опера. Но и ее, как Мэтью, потеря совершенно переменила. Она осознала, как много значит семья, как важно не расставаться с теми, кого любишь. Последнее время она то и дело заводила речь о том, чтобы вернуться жить к отцу, может, работать вместе с ним. Мэтью понимал, что сестра не уезжает из Фэрбанкса только из-за него. И если он не примет меры, так может продолжаться вечно. В глубине души ему этого и хотелось, но ему же почти восемнадцать, и если он сам не вылетит из гнезда, сестра будет нянчиться с ним до старости.
— Я хочу закончить учебный год в Канеке, — сказал он, отвечая на ее невысказанный вопрос. — Нельзя же всю жизнь прятаться.
Али испугалась. Она видела его в худшие времена, и Мэтью понял: сестра боится, что он снова погрузится в липкую депрессию.
— Но ты же любишь хоккей, у тебя неплохо получается.
— Сезон кончается через две недели. А в сентябре я пойду в колледж.
— Лени.
Мэтью не удивился, что Али сразу его поняла. Они ведь говорили обо всем, в том числе и о Лени, о том, как много ее письма значат для Мэтью.
— Что, если она уедет учиться в какой-нибудь колледж? Я хочу с ней увидеться. Мало ли, вдруг другой возможности не будет.
— Ты уверен, что справишься? Там ведь все будет напоминать о маме.
Серьезный вопрос. По правде сказать, Мэтью не был уверен, готов ли вернуться в Канек, к реке, которая поглотила маму, увидеть папину скорбь так ярко и близко. Но он знал одно. Письма Лени очень для него важны. Может, они тоже спасли его, как забота Али. Несмотря на то что их с Лени разделяли многие мили, да и жизни их текли по-разному, ее письма и фотографии подсказывали ему, каким он был прежде.
— Мне и здесь все о ней напоминает. А тебе разве нет?
Али медленно кивнула.
— Я как будто все время вижу ее краем глаза. Разговариваю с ней по ночам.
Иногда, проснувшись поутру, он на долю секунды забывал, что жизнь пошла наперекосяк, ему казалось, будто он обычный парень в обычном доме и сейчас мама позовет его завтракать. В такие утра тишина становилась невыносима.
— Хочешь, я поеду с тобой?
Разумеется, ему этого хотелось. Ему хотелось, чтобы Али была рядом, держала его за руку, подставляла плечо.
— Нет. Ты же учишься до июня. — Голос дрогнул, и он понял, что сестра это услышала. — Да и мне кажется, что я должен сам через это пройти.
— Папа тебя любит, ты же знаешь. Он будет счастлив, что ты вернулся.
Он это знал. Как и то, что порой любовь замерзала, превращалась в тонкий опасный лед. Последние годы им с отцом было трудно общаться. Их искорежили скорбь и вина.
Али взяла его за руку.
Он ждал, что Алиеска еще что-то скажет, но сестра молчала. Оба понимали почему: говорить было нечего. Чтобы двигаться вперед, иногда приходится возвращаться. Как ни молоды были оба, а уже это знали. Но было тут и кое-что другое, чего они избегали, от чего старались друг друга защитить. Порой возвращаться мучительно больно.
Что, если все это время скорбь ждала, пока вернется Мэтью, подстерегала его в темноте, в холоде? Что, если в Канеке вся его внутренняя работа пойдет насмарку и он снова сорвется?
— Ты стал сильнее, — заметила Али.
— Вот и проверим.
* * *
Две недели спустя Мэтью на дядином гидросамолете пролетел над мысом Оттер-Пойнт, заложил вираж, снизился и сел на синюю водную гладь. Заглушил мотор и подплыл к высокой серебристой деревянной арке с надписью: БУХТА УОКЕРОВ.
Отец стоял на краю причала, уперев руки в бока.
Мэтью спрыгнул с поплавка на причал и привязал самолет. Помедлил, наклонившись, на секунду дольше необходимого, собираясь с силами, перед тем как снова увидеть свой дом.
Наконец выпрямился и обернулся.
За спиной стоял отец. Он крепко обнял Мэтью, так что кости захрустели, и не отпускал, пока тот едва не задохнулся. Потом отстранился, взглянул на сына, и обоих окутала любовь — пусть смешанная с горечью, печальными воспоминаниями, но все-таки любовь.
Последний раз они виделись несколько месяцев назад. Отец старался выбираться на хоккейные матчи Мэтью и приезжал в Фэрбанкс всякий раз, как позволяла погода и домашние заботы, однако обычно они болтали о пустяках.
Отец постарел, на лице прибавилось морщин. Он улыбнулся широко, от души, — как жил: без оправданий, без сожалений, без подстраховки. С первого же взгляда на Тома Уокера становилось ясно, что это за человек, он сам открывался вам. Было сразу понятно: он всегда говорит что думает, даже если кому-то это придется не по вкусу, он живет по собственным правилам и другие правила ему не важны. Мэтью не слышал, чтобы кто-то смеялся так же громко, как отец, а плакал он на памяти сына и вовсе один раз. В тот день на застывшей реке.
— Да ты еще выше, чем когда мы виделись в прошлый раз.
— Я Халк. На мне одежда трещит.
Папа подхватил чемодан и повел Мэтью по причалу, мимо рыбацкой лодки, натягивавшей швартовы; над головой кричали морские птицы, волны плескали о сваи. Мэтью учуял запах нагретых солнцем ламинарий и прибитого к берегу взморника.
На верхней ступеньке Мэтью наконец увидел опоясанный верандой большой бревенчатый дом с парящим над землей фасадом, похожим на нос корабля. Фонари освещали висевшие на карнизе кашпо с засохшей прошлогодней геранью.
Мамины цветочные горшки.
Мэтью остановился, перевел дух.
Он и подумать не мог, что время способно отмотать годы твоей жизни назад, и вот на миг тебе опять четырнадцать, ты плачешь в бездонной пропасти, которая словно появилась на свет еще раньше тебя самого, и отчаянно мечтаешь об исцелении.
Папа шел впереди.
Усилием воли Мэтью двинулся за ним. Миновал посеревший от непогоды стол для пикника, поднялся по деревянным ступенькам к входной двери, выкрашенной в фиолетовый цвет. Возле двери висел вырезанный из железа бобр с надписью: БОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! (Подарок Мэтью; мама над этой фигуркой всегда смеялась до упаду.)
На глаза Мэтью навернулись слезы. Он смущенно вытер их, чтобы не увидел стоик-отец, и вошел в дом.
Внутри все было по-прежнему. Старинная и отремонтированная мебель в гостиной, посередине — покрытый ярко-желтой скатертью старый стол для пикника, на нем ваза голубых цветов. Вокруг вазы, точно хижины в средневековой деревне, толпятся свечи. Повсюду заметна мамина рука. Мэтью даже показалось, что он слышит ее голос.
Интерьер дома — бревенчатые стены с почерневшей корой, высокие окна, в которых открывается пейзаж, пара коричневых кожаных диванов да пианино, привезенное бабушкой с Большой земли. Мэтью подошел к окну и сквозь водянистое отражение собственного лица увидел бухту и причал.
Сзади подошел отец.
— С возвращением домой.
Дом. Как много смыслов у этого слова. Место. Ощущение. Воспоминания.
— Она ушла вперед, — проговорил Мэтью и услышал, как дрожит его голос.
Папа тяжело вздохнул. Неужели он попросит Мэтью замолчать, прекратит разговор, который они ни разу не отважились завести?
Повисло молчание, пауза короче вздоха, а потом папа положил тяжелую руку Мэтью на плечо:
— Твою маму никто не мог удержать. Ты ни в чем не виноват.
Мэтью не знал, что ответить. Ему столько хотелось сказать, но они ведь никогда это не обсуждали. С чего вообще начинают такие разговоры?
Папа крепко обнял Мэтью:
— Я чертовски рад, что ты вернулся.
— И я, — хрипло сказал Мэтью.
* * *
Середина апреля. В седьмом часу землю заливала заря. Когда Лени в первый раз открывала глаза, даже если затемно, ее охватывала радость при мысли, что наконец пришла весна. Как истинная жительница Аляски, она чувствовала нарождавшийся свет, видела его в небе, менявшем цвет с чернильного на темно-серый. Рассвет приносил надежду, что день прибавится и все изменится к лучшему. И отец тоже исправится.
Но надежды не сбывались этой весной. День прибавлялся, а отец с каждым днем становился злее. Напряженнее, раздраженнее. И все больше ревновал к Тому Уокеру.
В душе у Лени крепло предчувствие, что того и гляди стрясется беда.
В школе ее весь день мучила головная боль. Когда Лени на велосипеде возвращалась домой, у нее разболелся живот. Она пыталась убедить себя, что просто начинаются месячные, но сама понимала, что дело не в этом. Ей было плохо от напряжения. Тревоги. Они с мамой снова все время были настороже. То и дело переглядывались, передвигались осторожно, стараясь не попадаться отцу на глаза.
Лени привычно катила по ухабистой дороге, стараясь держаться посередине и не попадать колесами в грязь по обочинам.
Во дворе, превратившемся в болото из-за потоков талой воды, красного фургона не было. Значит, отец либо охотится, либо поехал к Харланам.
Она прислонила велосипед к стене дома и отправилась хлопотать по хозяйству: покормила скотину и птицу, проверила, есть ли у них вода, сняла с веревки высохшее постельное белье и бросила в корзину из ивовых прутьев. Пристроила корзину на бедро, услышала тоненькое дребезжание лодочного мотора и, приставив ладонь козырьком ко лбу, взглянула на море. Прилив.
В их бухту свернула алюминиевая плоскодонка. В тишине монотонное тарахтение двигателя разносилось на мили. Лени оставила корзину с бельем на крыльце и пошла к лестнице на берег, которую они за эти годы подлатали. Почти все ступеньки заменили, лишь кое-где серели старые доски. Пересчитала грязными сапогами ступеньки, которые зигзагом вели на пляж.
Лодка медленно плыла к берегу, гордо разрезая волны острым носом. Какой-то мужчина подвел лодку к берегу.
Мэтью.
Он заглушил мотор, спрыгнул в воду, доходившую едва до щиколоток, и взялся за потрепанный белый линь.
Лени смущенно пригладила волосы. Утром она и не подумала ни заплести косу, ни просто причесаться. Вдобавок на ней была та же одежда, в которой она ходила в школу и сегодня, и вчера. От фланелевой рубашки, должно быть, так и несет дымом.
О господи.
Мэтью вытащил лодку на берег, бросил швартов и направился к ней. Она годами представляла себе этот миг и в мыслях всегда находила верные слова. В ее сокровенных мечтах они принимались дружески болтать, словно он и не уезжал.
Но она-то представляла себе Мэтью четырнадцатилетним мальчишкой, который показывал ей лягушачью икру и орлят, писал ей письма каждую неделю. «Милая Лени, учиться мне здесь тяжело. По-моему, в классе меня не любят…» А она ему отвечала: «Я знаю, каково это — быть новичком. Противно до ужаса. Я бы на твоем месте сделала вот что…»
Этот… мужчина был другой, она его совсем не знала. Высокий, с длинными светлыми волосами, чертовски красивый. Что же сказать такому Мэтью?
Он выудил из рюкзака книгу — потрепанную, рваную, с пожелтевшими страницами. «Властелин колец». Лени прислала ему на пятнадцатилетие. Она помнила, что написала на книге. «Друзья навеки, как Сэм и Фродо».
Это написала другая девушка. Та, которая не знала, какая у нее на самом деле ненормальная семья.
— Как Сэм и Фродо, — сказал Мэтью.
— Сэм и Фродо, — повторила за ним Лени.
Она понимала, что это бред, но ей казалось, будто они общаются без слов, говорят о книгах, о вечной дружбе, о том, как справиться с непреодолимыми трудностями. А может, они говорили вовсе не о Сэме и Фродо, а о самих себе, о том, что выросли, но все равно остались детьми.
Мэтью достал из рюкзака коробочку в подарочной обертке и протянул ей:
— Это тебе.
— Подарок? Но у меня же не день рождения.
Трясущимися руками Лени разорвала обертку. Внутри был тяжелый черный фотоаппарат «Кэнон Кэнонет». Лени удивленно подняла глаза на Мэтью.
— Я по тебе соскучился, — признался он.
— Я тоже, — тихо ответила она, понимая, что все изменилось. Им уже не по четырнадцать лет. Но самое главное — изменился ее отец. Так что теперь дружить с сыном Тома Уокера небезопасно.
Лени пугало, что ей на это плевать.
* * *
На следующий день Лени никак не могла сосредоточиться на учебе. То и дело косилась на Мэтью, словно хотела убедиться, что он и правда здесь. Миссис Роудс даже пришлось несколько раз прикрикнуть на нее, чтобы привлечь внимание.
После уроков они вместе, бок о бок вышли из школы на залитое солнцем крыльцо и спустились по деревянной лесенке на грязный двор.
— Я потом вернусь за вездеходом, — сказал Мэтью, когда Лени забрала свой велосипед, стоявший у забора из рабицы. Забор установили года два назад, после того как на школьный двор забрела в поисках пищи свинья с поросятами. — Хочу проводить тебя до дома. Если не возражаешь.
Лени кивнула. Она словно лишилась голоса. За весь день не сказала Мэтью и двух слов: боялась опозориться. Они уже не дети, и она понятия не имела, как общаться с парнем-ровесником, особенно если тебе важно, что он подумает.
Крепко сжимая пластмассовые ручки руля, Лени катила по гравийной дорожке позвякивавший велосипед, который собрали из найденных на помойке деталей. И рассказывала Мэтью о работе в магазине — просто чтобы не молчать.
Она физически ощущала его присутствие, чего прежде с ней не бывало. Его рост, широкие плечи, уверенную легкую походку. Изо рта у него пахло мятной жвачкой, а от кожи и волос — сложной смесью покупного шампуня и мыла. Лени подстроилась под него, между ними возникла странная связь, как между хищником и добычей, опасная, как круговорот жизни и смерти, и совершенно ей непонятная.
Они свернули с Альпийской улицы и вошли в городок.
— Да, тут все переменилось, — заметил Мэтью. У салуна остановился, прочел написанные краской слова на обугленном деревянном фасаде. — Хотя некоторые не желают меняться, я так понимаю.
— Да уж.
Он посмотрел на нее:
— Мне папа сказал, что твой папа разнес салун.
Лени скрутило от стыда. Она и рада была бы соврать Мэтью, да не смогла. Но и сказать правду не сумела, ведь это значило предать отца. Все и так уверены, что это сделал он. А уж они с мамой знают это наверняка.
Мэтью двинулся дальше. Лени поспешила его нагнать, обрадовавшись, что салун, который в гневе разнес отец, остался позади. Когда они проходили мимо магазина, на крыльцо вышла Марджи-шире-баржи, вскрикнула от радости, бросилась обнимать Мэтью, похлопала по спине, потом отстранилась и окинула взглядом их обоих.
— Смотрите в оба. Ваши отцы не очень-то ладят.
Лени пошла дальше. Мэтью за ней.
Из-за разгромленного салуна и предупреждения Марджи-шире-баржи Лени стало не по себе. Мардж права. Она играет с огнем. Папа может проехать здесь в любую минуту. И если увидит, что она идет домой с Мэтью Уокером, добра не жди.
— Лени!
Она осознала, что Мэтью пришлось догонять ее бегом.
— Извини.
— За что?
Лени не знала, что ответить. За то, о чем он понятия не имел, за будущие неприятности, в которые он наверняка влипнет из-за нее. Вместо этого она промямлила что-то о книге, которую недавно прочитала, и остаток пути они болтали о пустяках — о погоде, о фильмах, которые он смотрел в Фэрбанксе, о новомодных блеснах для чавычи.
Время пролетело незаметно, хотя они шли почти час, и вот впереди железные ворота с коровьим черепом. Мистер Уокер стоял возле большого желтого экскаватора у ворот, обозначавших въезд в его владения.
Лени остановилась:
— Что он делает?
— Расчищает участок. Хочет построить несколько домиков. А над воротами сделает арку, чтобы гости знали, где нас искать. Собирается назвать это «Парк приключений в бухте Уокеров». Или как-то так.
— Гостиница для туристов? Прямо здесь?
Лени почувствовала взгляд Мэтью так же явственно, словно он к ней прикоснулся.
— Ну да. Мы на этом неплохо заработаем.
Мистер Уокер направился к ним, на ходу снял бандану и почесал мокрые волосы; на лбу белела полоска кожи.
— Папе эта арка не понравится, — сказала ему Лени, когда он подошел ближе.
— Да твоему папе вообще ничего не нравится, — улыбнулся мистер Уокер и вытер лоб скомканной банданой. — И в первую очередь ему не понравится, что ты дружишь с моим Мэтти. Ты же это понимаешь?
— Да, — ответила Лени.
— Пойдем. — Мэтью взял ее за локоть и повел прочь от отца. Велосипед позвякивал. Наконец они дошли до поворота к дому Лени. Она остановилась и посмотрела на затененную деревьями дорожку.
— Тебе лучше уйти, — сказала Лени и отодвинулась от него.
— Но я хочу проводить тебя до самого дома.
— Не надо.
— Из-за твоего отца?
Лени кивнула. Она готова была сквозь землю провалиться.
— Ему не понравится, что мы с тобой дружим.
— Да и черт с ним, — ответил Мэтью. — Не может же он запретить нам общаться. Никто не может. Папа рассказывал мне об их дурацкой вражде. Какая разница? Нам-то что?
— Но…
— Я тебе нравлюсь? Ты хочешь со мной дружить?
Она кивнула. Настала торжественная минута. Серьезная. Они заключили пакт.
— Ты мне тоже нравишься. Значит, все. Решено. Мы будем дружить. И никто нам ничего не сделает.
До чего он наивен, подумала Лени, и как же ошибается. Мэтью ничего не знает о том, как нелогично и злобно порой ведут себя родители, о том, как ударом кулака ломают носы. И о вспышках ярости: сперва разгромленный салун, а там кто знает, до чего дойдет.
— Папа порой ведет себя непредсказуемо, — сказала Лени, не придумав ничего лучше.
— И в чем это проявляется?
— Если узнает, что мы друг другу нравимся, может тебя побить.
— Ничего, я с ним справлюсь.
Лени едва удержалась от истерического смеха. Не хотелось даже думать о том, как именно Мэтью надеется «справиться» с папой.
Разумнее всего было бы уйти, сказать Мэтью, что им нельзя общаться.
— Лени?
Его взгляд растопил ее сердце. Разве кто-нибудь когда-нибудь смотрел на нее так? Лени задрожала — то ли от тоски, то ли от облегчения, то ли от возбуждения. Она сама не знала. Она знала лишь, что не может от него отказаться после стольких лет одиночества, несмотря на то что чувствовала, как опасность бесшумно скользнула в воду и плывет к ней.
— Папа не должен узнать, что мы дружим. Никогда. Ни за что.
— Как скажешь, — согласился Мэтью, но Лени видела, что ничегошеньки он не понял. Ему знакомы горе, боль и муки утраты, это читалось в его печальных глазах. Но о страхе он не знает ничего. Думает, она сгущает краски, устраивает спектакль.
— Я серьезно. Он ничего не должен знать.
Пятнадцать
Лени снилось, что она стоит под проливным дождем на берегу реки. Мокрые волосы слиплись, все расплывается перед глазами.
Река поднялась, оглушительно затрещала и вскрылась. От ледяного щита откололись огромные глыбы и, покачиваясь, поплыли по течению, увлекая за собой все, что попадалось на пути, — деревья, лодки, дома.
Надо перебраться на другой берег.
Лени не поняла, кто это сказал, она или кто-то другой. Она понимала одно: надо перейти на другой берег, пока лед не утащил ее в реку, пока вода не хлынула в легкие.
Но переходить было негде.
Ледяные волны вставали стеной, земля уходила из-под ног, с грохотом падали деревья. Послышался крик.
Это она кричала. Река ударила ее, словно лопатой по голове, и Лени покачнулась.
С воплем взмахнула руками и почувствовала, что падает.
«Сюда!» — крикнул кто-то.
Мэтью.
Он ее спасет. Тяжело дыша, Лени пыталась выкарабкаться на лед, но что-то вцепилось в ногу и тянуло все ниже и ниже, пока она не задохнулась. Все поглотил мрак.
Лени проснулась, хватая ртом воздух, и увидела, что она в безопасности, у себя на чердаке, со стопками книг и тетрадей с рисунками у стены, рядом коробка писем Мэтью.
Дурной сон почти тут же забылся. Кажется, мне снилась река, подумала Лени. Ледоход. Еще одна смертельная опасность, которая подстерегает на Аляске.
В школу она надела джинсовый комбинезон и клетчатую фланелевую рубашку. Волосы убрала с лица и заплела в колосок. Зеркал в доме за эти годы не осталось (папа все перебил), так что Лени не могла оценить, как выглядит. Она привыкла смотреть на себя в осколках стекла. Видеть себя по частям. Пока Мэтью не вернулся, ей вообще не было до этого дела.
Лени спустилась на кухню, положила стопку учебников на стол и села. Мама поставила перед ней тарелку с колбасками из оленины, оладьи с мясной подливой и миску черники, которую они летом собрали на песчаных утесах над заливом Качемак.
Лени завтракала. Мама за ней наблюдала.
— Ты вчера целый час таскала воду, чтобы помыться. Волосы заплела. Красиво, кстати.
— Ну, мам, это же обычная гигиена.
— Я слышала, Мэтью Уокер вернулся.
Лени следовало догадаться, что мама сообразит, что к чему. Порой из-за папы и прочего Лени забывала, до чего мама умна. И проницательна.
Лени жевала, стараясь не встречаться глазами с мамой. Она и так знала, что мама ей скажет, а потому не собиралась ни в чем признаваться. На Аляске места много, наверняка отыщется укромный уголок, чтобы спрятать такую малость, как дружба.
— Жаль, что твой отец так ненавидит его отца. И что твой отец так несдержан.
— Это так теперь называется?
Лени почувствовала, что мама не сводит с нее пристального взгляда, как орел, который высматривает в волнах серебристую рыбку. Лени впервые скрыла что-то от мамы, и ей было неловко.
— Тебе почти восемнадцать. Юная женщина. И за последние годы вы с Мэтью написали друг другу сотню писем.
— А это здесь при чем?
— Гормоны — как форсаж. Одно прикосновение — и ты в космосе.
— Что?
— Я говорю о любви, Ленора. О страсти.
— О любви? Фу-ты ну-ты! Я вообще не понимаю, почему ты об этом заговорила. Тебе не о чем беспокоиться.
— Вот и хорошо. Будь умницей. Не повторяй моих глупых ошибок.
Лени подняла глаза:
— Каких ошибок? Ты о папе? Или обо мне? Ты…
Открылась дверь, вошел отец. Утром он вымыл голову, надел относительно чистые коричневые холщовые штаны и футболку. Отец ногой закрыл дверь и сказал:
— Как вкусно пахнет! Доброе утро, Рыжик. Ну как, хорошо тебе спалось?
— Ага, — ответила Лени.
Он чмокнул ее в макушку.
— Тогда поехали. Отвезу тебя в школу. Ты готова?
— Я на велике доеду.
— Да неужели я в такой солнечный денек не отвезу мою вторую любимую девочку в школу?
— Ладно, — согласилась Лени, подхватила учебники, коробку для завтрака (все ту же, с Винни-Пухом; теперь она ей очень нравилась) и встала из-за стола.
— Будь повнимательнее в школе, — напутствовала ее мама.
Лени не обернулась. Вслед за отцом она вышла во двор и села в машину.
Папа сунул в проигрыватель кассету и прибавил громкость. Из динамиков понеслась песня «Лживые глаза»[56].
Папа принялся подпевать, сперва тихонько, потом громче.
— Подпевай, — сказал он Лени, свернул на главную дорогу и поехал в город. И вдруг резко затормозил. — Вот мудак.
Лени чуть не слетела с сиденья.
— Мудак, — повторил отец.
Под грубо оструганной аркой над дорожкой к дому Уокеров стоял хозяин собственной персоной. На верхней доске было вручную вырезано название: «Гостиница и парк приключений в бухте Уокеров».
Папа рывком передвинул рычаг в нейтральное положение, вышел из машины и направился к мистеру Уокеру, даже не пытаясь обходить лужи на ухабистой дороге.
Мистер Уокер, завидев его, остановился и сунул молоток за пояс, точно пистолет.
Лени подалась вперед, силясь разглядеть сквозь заляпанное грязью ветровое стекло, что же там происходит.
Папа орал на мистера Уокера, а тот улыбался, скрестив руки на груди.
Такое ощущение, подумала Лени, будто джек-рассел-терьер с тявканьем рвется с поводка на ротвейлера.
Наконец мистер Уокер повернулся к отцу спиной, не обращая внимания на крики, подошел к арке и продолжил работу.
Папа с минуту стоял как вкопанный. Потом вернулся к фургону, уселся и захлопнул дверь. Резко включил передачу и нажал на газ.
— Давно пора поставить этого мудака на место. Знавал я таких во Вьетнаме. Засранцы и трусы. Посылали лучших ребят на верную погибель, а им за это медали на грудь.
Лени благоразумно помалкивала. Всю дорогу до школы отец бормотал себе под нос: «Сукин сын, самодовольный мудак, считает, что он лучше нас…» Лени догадывалась, что от школы он рванет к Харланам и будет вместе с ними поносить мистера Уокера. А может, на этот раз дело не ограничится разговорами.
Отец остановился возле школы:
— Я сегодня еду в Хомер. Заберу тебя в пять после работы.
— Ладно.
Лени взяла учебники, коробку с завтраком, вылезла из машины и, не оглядываясь, пошла к школе. Отец на прощанье не нажал на гудок. Он так врезал по газам, что гравий брызнул из-под колес.
Лени вошла в класс и увидела, что все уже здесь. Миссис Роудс писала на доске: «Пятистопный ямб у Шекспира».
Мэтью повернулся к ней. Его улыбка притягивала, точно в фантастических романах. Лени быстренько села рядом.
Мэтью смотрел на нее. Наверно, вот так папа смотрит на маму, подумала Лени. Иногда. При мысли об этом ей стало не по себе, тревожно.
Мэтью вырвал из тетради листок, написал записку и передал ей. Можешь после школы прогулять работу? Сходим кое-куда.
Надо бы отказаться, подумала она, но вместо этого ответила:
— Папа заедет за мной в пять.
— То есть ты согласна?
— Ага, — улыбнулась она.
— Здорово.
До конца уроков Лени в волнении предвкушала прогулку. Ей не сиделось на месте, она толком не могла ответить ни на один вопрос о «Гамлете», хотя читала вслух фрагменты и конспектировала за учительницей. Когда уроки закончились, она первая выскочила из-за парты, выбежала из школы, помчалась к магазину, влетела в узкую дверь и крикнула:
— Мардж!
Марджи-шире-баржи разбирала коробку с туалетной бумагой, которую, как и все товары, покупала в Солдотне, писала на упаковке цену и выставляла на продажу.
— Чего?
— Я сегодня не выйду.
— А. Ну ладно.
— И ты даже не спросишь почему?
Марджи-шире-баржи улыбнулась, выпрямилась и уперлась ладонью в поясницу, словно у нее заломило спину.
— Не-а.
Звякнул колокольчик. В магазин вошел Мэтью.
— Говорю же, я не хочу ни о чем знать. — Мардж повернулась спиной к Лени и Мэтью, прошла вдоль заставленных товарами полок и скрылась за стопкой ловушек для крабов.
— Пошли, — сказал Мэтью. — За мной.
Они выскользнули из магазина, прошмыгнули мимо рабочих у «Лягающегося лося» и поднялись на холм к православной церкви. Здесь их никто не заметит.
На мысе отыскали полянку. Внизу на голубой воде залива Качемак качалось с десяток лодочек.
Из ножен на поясе Мэтью достал большой нож с зубчатым лезвием, нарубил охапку лапника, устроил что-то вроде шалаша. От свежих веток приятно пахло хвоей.
— Вот, садись.
Лени села; гибкие ветки пружинили под ней.
Мэтью опустился рядом, заложил руки за голову и улегся на спину.
— Смотри.
Она уставилась на небо.
— Нет, ты ляг.
Лени последовала его примеру. Над ними по ясному небу плыли белые облака.
— Видишь пуделя?
И действительно, Лени заметила облако, похожее на аккуратно постриженного пуделя.
— А вон то — как пиратский корабль.
Она следила, как по небу медленно плывут облака, меняют форму, на глазах превращаясь во что-то новое. Вот бы и люди так же просто менялись.
— Как тебе Фэрбанкс?
— Толпы народа. По крайней мере, мне так казалось. Наверно, я просто люблю пустоту и тишину. А там все какие-то дикие. Рабочие с нефтепровода вечно перепьются и лезут в драку. Но тетя с дядей замечательные, ну и приятно, что Али была рядом. Она за меня очень переживала.
— Я тоже.
— Я знаю. И я хотел перед тобой извиниться, — сказал он.
— За что?
— Помнишь, когда мы ездили на экскурсию, я тебя толкнул… мне тогда казалось… что я и сам справлюсь. Ну, то есть это, конечно, не так, но тогда мне так казалось.
— Да я понимаю, — ответила Лени.
— Откуда?
— Папе после войны снятся кошмары. Иногда он из-за этого сам не свой.
— Я ее видел. Маму. Подо льдом, она проплывала у меня под ногами. Волосы тянулись по воде. Она царапала лед, пыталась выбраться. А потом исчезла. — Он судорожно вздохнул, и Лени поняла, что ему сейчас не до нее. Он погрузился в печальные, мучительные воспоминания. Но потом очнулся. — Без сестры я бы точно не справился… и без твоих писем. Я понимаю, звучит глупо, но это правда.
Лени почувствовала, как земля куда-то уплывает, совсем как в том сне. Теперь она знала о многом, о чем в четырнадцать лет даже не подозревала: и о льде, и о смерти, и даже о страхе. Невозможно было представить, каково это — потерять маму, но чтобы вот так, видеть, как она плывет подо льдом, а ты не можешь ее спасти…
Лени повернула голову, посмотрела на профиль Мэтью, его точеный нос, короткую светлую щетину, изгиб губ. Заметила шрамик, рассекший бровь пополам, коричневую родинку на лбу у самых волос.
— Хорошо, что у тебя есть Алиеска. Повезло тебе с сестрой.
— Ага. Она раньше мечтала устроиться в «Вог» или в какое-нибудь такое место. Теперь хочет вернуться и работать с папой. Они собрались сделать на участке гостиницу. Чтобы и следующее поколение Уокеров жило на той же земле. — Мэтью рассмеялся.
— Ты против?
— Да нет, что ты, — тихо ответил он. — Я хочу научить своих детей тому же, чему меня научил папа.
После этих слов Лени отодвинулась от него. Эту мечту она разделить не могла. Она снова уставилась в небо. На пуделя, который успел превратиться в ракету.
— Я тут прочитал классную книгу, называется «Конец детства»[57]. Там про последнего человека на земле. Интересно, каково это. И каково провидеть будущее…
Он взял ее за руку, и Лени не отдернула ладонь. Держаться за руки с Мэтью, касаться его — что тут такого?
* * *
Вскоре Лени поняла, что влипла. Она все время думала о Мэтью. На уроках следила за каждым его движением, наблюдала за ним, как за дичью, стараясь по действиям догадаться о намерениях. Порой он касался ее руки под партой или, проходя мимо в классе, дотрагивался до ее плеча. Она не знала, были ли эти мимолетные прикосновения намеренными или случайными, но тело ее инстинктивно отзывалось на каждое из них. Как-то раз она даже привстала со стула и вжалась плечом в его ладонь, как кошка, которая просит ласки. Она не думала, что так случится, не сознавала, что ей этого хочется. Приподнялась, и все. А иногда во время разговора вдруг заглядывалась на его губы и гадала, смотрит ли он так же на ее губы. Она поймала себя на том, что украдкой изучает его лицо, запоминает каждый холмик, углубление, впадину, точно исследователь, открывший неизведанную землю.
Она беспрерывно думала о нем — и в школе, когда полагалось читать, и дома, когда нужно было заниматься делами. Она сбилась со счета, сколько раз маме приходилось повышать голос, чтобы привлечь ее внимание.
Она могла бы поговорить с мамой, расспросить о снедавшем ее беспокойстве, признаться, что ей снятся прикосновения и поцелуи, а проснувшись, она не знает, что и думать, ей чего-то хочется, а чего — сама не понимает, но папе явно становилось хуже, и под их крышей сгущались тучи. Не стоило добавлять маме тревог, и Лени молчала о странных, необъяснимых желаниях, пытаясь во всем разобраться самостоятельно.
Сейчас Лени, мама и Тельма стояли у стола из нержавейки во дворе у Харланов, потрошили рыбу, резали длинными ломтями. Потом эти ломти несколько дней помаринуют и минимум тридцать шесть часов будут коптить.
Тед чинил собачью будку, Клайд разделывал коровью шкуру, чтобы нарезать ремней. Неподалеку тринадцатилетняя Агнес тренировалась метать острые серебристые звездочки, которые с глухим стуком вонзались в ствол дерева. Марти выстругивала рогатку, Донна развешивала белье на веревках. Папа и Чокнутый Эрл уехали в Хомер.
Тельма окатила столик мыльной водой из ведра, рыбьи кишки соскользнули в грязь, и собаки тут же затеяли из-за них грызню.
Лени сидела в пластмассовом кресле, рядом с ней на земле притулилась Малышка и рассказывала о каком-то птичьем гнезде, которое недавно нашла. Лени же чинила краболовку.
На подворье у Харланов теперь ощущалась какая-то неловкость, напряжение. С тех самых пор как приехал мистер Уокер и напомнил Харланам, что давным-давно занял прочное место в их жизни, — и предложил прибыльную подработку, — Лени заметила, как взрослые посматривают друг на друга. Точнее, стараются не смотреть.
Здешнее общество раскололось. Причем не только горожане, но и клан Харланов. Лени толком не понимала, кто за кого, но взрослые-то знали. Например, папа после того вечера не разговаривал ни с Тельмой, ни с Тедом.
От неожиданного автомобильного гудка Лени вздрогнула, выронила краболовку, и та упала ей на ногу. Лени вскрикнула от боли, пнула ловушку, отшвырнула в сторону.
Папа въехал во двор и припарковался у сарая.
Обе двери фургона открылись одновременно, и вылезли папа с Чокнутым Эрлом.
Папа достал из багажника большую картонную коробку, подхватил и понес по двору. В коробке что-то лязгало и дребезжало. Папа поднялся на пригорок возле ульев и оглядел собравшихся. Чокнутый Эрл встал рядом с ним. Вид у старика был уставший — пожалуй, больше обычного. За последний год он почти полностью облысел, лоб избороздили глубокие морщины. На щеках и подбородке росла седая щетина, пучки волос торчали из носа и ушей.
— Идите сюда! — Чокнутый Эрл жестом позвал всех ближе.
Тельма вытерла руки о грязные штанины и вместе с мужем подошла к отцу.
Лени шмыгнула к маме.
— Да они же пьяные, — шепнула она.
Мама кивнула и закурила. Они подошли к Тельме.
Точно верховный жрец, папа улыбнулся с пригорка собравшимся перед ним.
Лени узнала эту улыбку. Сколько раз она уже ее видела! Папу осенила очередная судьбоносная идея. И теперь он предвкушал, как начнет ее воплощать.
— Эрл радушно принял меня и мою семью в вашем чудесном доме, защищенном от всех опасностей. За эти годы мы сроднились с Харланами. Вы так тепло к нам отнеслись. Я знаю, как Кора любит свою подругу Тельму. А ведь до приезда сюда мы везде были чужими. — Он поставил на землю коробку, в которой что-то громко брякнуло, отодвинул ее в сторону тупым носком резинового сапога и стиснул плечо Эрла. — Бо оставил мне свой дом. Зачем? Чтобы я научил его семью тому, что умею сам. Он доверил родных тому, кто сумеет их защитить. Как вы знаете, я серьезно отнесся к этой ответственности. Вы все прекрасно стреляете из ружья. Умеете обращаться с луком и стрелами. Ваши тревожные чемоданчики собраны — в любую минуту взял да пошел. Мы готовы к военному положению, атомной войне и пандемии. По крайней мере, мне так казалось.
Лени заметила, как нахмурилась Тельма.
— Куда ты клонишь? — Клайд скрестил на груди мускулистые руки.
— На той неделе враг явился сюда как к себе домой. И никто его не остановил. Ничто его не остановило. Он пришел и посулами — и подкупом — вбил между нами клин. Вы знаете, что это правда. Вы сами чувствуете этот разлад. А все из-за Тома Уокера.
— Началось, — пробормотала Тельма.
— Эрнт, это обычная подработка, — сказал Тед. — Нам нужны деньги.
Папа с улыбкой поднял руки. Лени знала эту улыбку: в ней не было ни капли веселья.
— Я никого ни в чем не виню. Я все понимаю. Я лишь указываю на опасность, которую вы упустили. Когда ВНМТ, у каждого из наших соседей найдется душещипательная история. Всем вдруг понадобится то, что есть у нас, и вы рады будете с ними поделиться. Вы же так давно их знаете. Я понимаю. Поэтому и хочу защитить вас от вас же самих.
— Бо наверняка этого хотел бы, — добавил Чокнутый Эрл, скрутил цигарку, закурил и так глубоко затянулся, что Лени испугалась, как бы он не окочурился на месте. — Скажи им, — выдохнул он.
Папа присел на корточки, открыл коробку и сунул руку внутрь. Выпрямился и показал всем доску, утыканную сотней гвоздей, вбитых так кучно, что та смахивала на оружие. В другой руке у него была граната.
— Отныне никто не явится сюда как ни в чем не бывало. Мы выстроим стену с колючей проволокой. По периметру выроем канаву, чтобы враг не прошел. В канаву бросим доски с гвоздями, разбитое стекло, шипы. В общем, все, что найдем.
Тельма рассмеялась.
— Это не шутки, мисси, — заметил Чокнутый Эрл.
— Кладем гранату в стеклянную банку, — вещал отец, сияя от удовольствия, что так здорово придумал, — выдергиваем чеку, закрываем крышку, тем самым сжимаем предохранитель. И закапываем. А когда кто-нибудь наступит на банку, она разобьется — и ба-бах.
Никто не проронил ни слова. Все молчали, лишь собаки лаяли во дворе.
Чокнутый Эрл хлопнул папу по спине:
— Зашибись, Эрнт. Сильно придумано.
— Нет, — возразила Тельма и повторила: — Нет. Нет.
Чокнутый Эрл еще что-то горланил, так что негромкий голос Тельмы услышали не сразу. Она пробралась вперед, вышла на шаг из толпы и осталась одна-одинешенька впереди всех, как наконечник стрелы.
— Нет, — сказала она.
— Нет? — прошамкал ее отец.
— Пап, ну он же совсем рехнулся, — ответила Тельма. — У нас дети. Вдобавок некоторые из вас, чего уж там, не дураки выпить. Нам нельзя минировать участок. Ведь мы сами же потом и наступим на эти мины.
— Занимайся своим делом, — отрезал папа. — А за безопасность я отвечаю.
— Нет, Эрнт. Я отвечаю за свою семью. И я еще могу понять, когда собирают припасы и придумывают, как в случае чего фильтровать воду. Я научу дочек полезному — стрелять, охотиться, ставить капканы на зверя. Хотите с отцом чесать языки про атомную войну и пандемию — ради бога, я вам слова не скажу. Но я не хочу изо дня в день жить в страхе, что кто-нибудь из нас может случайно погибнуть.
— Чесать языки? — тихо произнес папа.
Все заспорили, заговорили разом. Лени почувствовала, что между взрослыми разверзлась и ширится пропасть. Они разделились на две группы: одни хотели, чтобы семья жила дружно (таких было большинство), другие готовы были убить любого, кто посмеет приблизиться к подворью (папа, Чокнутый Эрл и Клайд).
— У нас дети, — настаивала Тельма. — Не забывайте об этом. Какие еще мины, какие гранаты?
— А если сюда явятся враги с пулеметами? — Отец огляделся в поисках поддержки. — Убьют нас и заберут припасы.
Лени услышала, как Малышка спросила:
— Мам, это правда? Нас убьют?
И спор вспыхнул снова. Взрослые стояли лицом к лицу и орали друг на друга, раскрасневшись от злости.
— Хватит! — Чокнутый Эрл вскинул костлявые руки. — Я не могу допустить, чтобы моя семья переругалась. К тому же у нас и правда дети. — Он повернулся к папе: — Извини, Эрнт. Но я вынужден согласиться с Тельмой.
Папа попятился от старика.
— Хорошо, Эрл, — сдавленным голосом произнес он. — Как скажешь.
Харланы тут же успокоились, подошли друг к другу, по-семейному попросили прощения и переменили тему. Интересно, подумала Лени, заметил ли кто из Харланов, как папа их сторонится, какими глазами смотрит, как злобно сжал губы.
Шестнадцать
В мае вернулись стаи песочников, кружили над головой, ненадолго присаживались отдохнуть на волнах, после чего продолжали путь на север. В этом месяце на Аляску прилетало столько птиц, что за ними не было видно неба. Пение, крик и писк не смолкали.
Обычно весной Лени лежала в постели и слушала весь этот гомон, угадывая птиц по голосам, сверяла время по прилету и отлету стай, с нетерпением ждала лета.
Но в этом году все было иначе.
До конца учебного года оставалось всего две недели.
— Что-то ты молчишь, как язык проглотила, — заметил папа, сворачивая на школьную стоянку, и припарковался возле пикапа Мэтью.
— Все в порядке. — Лени взялась за ручку двери.
— Это из-за безопасности?
Лени повернулась к нему:
— Ты о чем?
— С того вечера у Харланов вы с мамой все дуетесь да кукситесь. Я же вижу, что вы боитесь.
Лени смотрела на него, не зная, что и сказать. После скандала с Харланами отец себе места не находил.
— Тельма оптимистка. Прячет голову в песок, как страус. Не хочет смотреть правде в глаза. Потому что страшно. Но и отворачиваться нельзя. Надо готовиться к худшему. Я сдохну, а не дам вас с мамой в обиду. Ты ведь это понимаешь, правда? Ты же знаешь, как сильно я вас люблю. — Он взъерошил ей волосы: — Не бойся, Рыжик. Я вас спасу.
Лени вылезла из пикапа, захлопнула дверь и вытащила из багажника велосипед. Повесила рюкзак на плечо, прислонила велик к забору и пошла к школе.
Папа посигналил и укатил.
— Эй! Лени!
Она оглянулась.
За деревьями напротив школы прятался Мэтью. Он ей помахал.
Лени подождала, пока папин пикап скроется за углом, и побежала к Мэтью.
— Чего?
— Давай сегодня прогуляем школу и съездим на «Тасти» в Хомер.
— Прогуляем школу? Съездим в Хомер?
— Ну давай! Классно будет!
Лени знала сто тысяч причин, по которым не следовало соглашаться. Знала она и то, что сегодня отлив и отец планировал утром собирать моллюсков.
— Никто не узнает, а если даже и узнает, подумаешь. Мы же выпускники. Уже май. На Большой земле все выпускники в мае прогуливают уроки.
Лени понимала, что этого делать не стоит, это даже опасно, но не могла отказать Мэтью.
Она услышала низкий, элегически печальный гудок подходившего к пристани парома.
Мэтью взял ее за руку, и не успела Лени опомниться, как они уже выбежали с школьной парковки, взобрались на холм, пронеслись мимо старой церкви и влетели на ожидавший паром.
Паром медленно отчалил. Лени стояла на палубе, опершись о поручни.
Верная «Тастамена» все лето возила аляскинцев — рыбаков, путешественников, рабочих, туристов, даже спортивные команды старшеклассников. На палубе теснились автомобили и грузы: строительное оборудование, тракторы, экскаваторы, стальные балки. Для неприхотливых туристов поездка на пароме была чем-то вроде бюджетного круиза по красивым труднодоступным местам, приятным досугом. Для здешних жителей — привычной дорогой в город.
Лени сотни раз плавала на пароме, но никогда еще не ощущала такой свободы, как сейчас. Казалось, возможно все. Словно старенькая посудина везла ее прямиком в будущее.
Ветер дул в лицо, над головой с криком кружили чайки и ржанки, то пикировали, то взмывали на воздушных волнах. По зеленой глади моря бежала рябь от парома.
Мэтью встал за спиной Лени, тоже оперся о перила. Она невольно откинулась к нему, греясь его теплом.
— Даже как-то не верится, что все это происходит с нами, — призналась она. Впервые в жизни она почувствовала себя обычным подростком — настолько, насколько они с Мэтью могли себе это позволить. Подростком, который в субботу вечером ходит в кино, а после сеанса покупает в закусочной молочный коктейль.
— Я поступил в университет в Анкоридже, — сообщил Мэтью. — Буду играть в их хоккейной команде.
Лени повернулась и оказалась в объятиях Мэтью. Ее волосы хлестали его по лицу.
— Поехали со мной, — предложил он.
Предложение это, как прекрасный цветок, распустилось и тут же завяло у Лени в руках. У Мэтью совсем другая жизнь. Он талантлив и богат. Мистер Уокер хочет, чтобы сын учился в университете.
— Мы не можем себе этого позволить. Да и родителям надо помогать.
— Можно получить стипендию.
— Я не могу уехать, — тихо проговорила Лени.
— Я понимаю, твой папа с причудами, но почему ты не можешь уехать?
— Не из-за него, — пояснила Лени. — Я не могу бросить маму. Я ей нужна.
— Она уже взрослая.
Лени не находила слов, чтобы ему объяснить.
Мэтью все равно не понять, почему ей порой кажется, что без нее мама пропадет.
Мэтью прижал ее к себе. Интересно, заметил ли он, как я дрожу, подумала Лени.
— Господи, Лен, — прошептал он ей в волосы.
Неужели он специально сократил ее имя, чтобы оно зазвучало по-новому, только для них?
— Я бы с радостью, но не могу, — ответила Лени.
Оба молчали. Она размышляла о том, что их жизни складываются совершенно по-разному, а ведь на Большой земле все иначе, там они с Мэтью самые обычные подростки, каких миллионы.
В Хомере они сошли на берег вместе с прочими пассажирами и, взявшись за руки, смешались с толпой восторженных туристов и местных жителей в затрапезной одежде. Лени и Мэтью ели палтуса с картошкой фри на веранде ресторанчика на оконечности песчаной косы и бросали ломтики соленой жирной картошки слетевшимся птицам. Мэтью купил Лени фотоальбом в сувенирной лавке, где продавались елочные игрушки с флорой и фауной Аляски и футболки с надписями типа «Не козли меня» и «Тебя крабёт?».
Они болтали обо всем и ни о чем. О том, как на Аляске красиво, как непредсказуемы приливы и отливы, как много машин и людей на косе.
Лени сфотографировала Мэтью перед салуном «Морской волчара». Сто лет назад здесь была почта и бакалейная лавка — в медвежьем углу, который даже аляскинцы называют «краем света». Теперь же в темных закоулках старенькой таверны горожане сидели бок о бок с туристами; стены были увешаны памятными мелочами. Мэтью написал «ЛЕНИ И МЭТЬЮ» на долларовой купюре, приколол к стене, и доллар их тут же затерялся среди тысяч прочих банкнот и бумажек.
Это был лучший день в жизни Лени, и когда он закончился и они на водном такси возвращались в Канек, Лени, сидевшая на корме, не в силах была справиться с грустью. На «Тасти» и в городской толпе они были обычными подростками. Теперь же вокруг ни души — лишь капитан водного такси да морской простор.
— До чего же не хочется возвращаться домой, — призналась Лени.
Мэтью обнял ее, прижал к себе. Лодку качало, она то поднималась, то опускалась на волнах.
— Так давай убежим, — предложил он.
Лени рассмеялась.
— Нет, правда. Я так и вижу, как мы с тобой путешествуем по миру, бродим с рюкзаками по Южной Америке, лезем на Мачу-Пикчу. А потом, когда все-все повидаем, осядем где-нибудь. Я пойду служить пилотом в какую-нибудь авиакомпанию, а может, стану фельдшером на «скорой». Ты будешь фотографом. Вернемся домой, поженимся, заведем непослушных детей.
Лени понимала, что Мэтью говорит несерьезно, так, мечтает вслух, но ее охватила тоска. Она и подумать не могла, как на самом деле ей всего этого хочется. Лени выдавила улыбку и решила подыграть, словно его слова и не ранили ее в самое сердце.
— Фотографом, говоришь? А что, отличная мысль. Когда мне будут вручать Пулитцеровскую премию, я обязательно накрашусь и надену туфли на шпильках. И закажу мартини. Но вот насчет детей не уверена.
— Детей непременно. Я хочу, чтобы у нас была рыжая дочка. Я научу ее пускать по воде блинчики и ловить чавычу.
Лени ничего не ответила. Почему ее так расстроила эта пустая болтовня? Зря Мэтью так размечтался, да еще вслух. У него погибла мать, у нее опасный отец. Семья, будущее — все это так ненадежно.
Такси замедлило ход и боком пришвартовалось к пристани. Мэтью спрыгнул и обвязал трос вокруг железного кнехта. Лени сошла на берег, Мэтью отвязал трос и бросил обратно на борт.
— Вот мы и дома, — сказал он.
Лени окинула взглядом хижины на облепленных ракушками сваях над водой.
Дома.
Они вернулись в реальную жизнь.
* * *
На следующий день на работе Лени то и дело ошибалась. Написала на коробках с трехпенсовыми гвоздями[58] не то, что нужно, поставила их не туда, а вместо того чтобы исправить ошибку, стояла и глазела на коробки, размышляя: «А может, все же поехать учиться?» Неужели получится?
— Езжай домой, — к Лени подошла Марджи-шире-бар-жи, — что-то ты сегодня витаешь в облаках.
— Да все в порядке, — возразила Лени.
— Нет, не в порядке. — Она бросила на Лени проницательный взгляд. — Я видела, как вы вчера с Мэтью шли по городу. Ты играешь с огнем, девочка.
— В-в-в каком смысле?
— Сама знаешь в каком. Хочешь, поговорим об этом?
— Тут не о чем говорить.
— Думаешь, я вчера родилась? Мой тебе совет: будь осторожна, и все.
Лени не ответила. Она сейчас не соображала, что ей говорят, а рассуждать и вовсе не могла. Она вышла из магазина, забрала велосипед и поехала домой. Покормила скотину, натаскала воды из колодца, который они выкопали несколько лет назад, и пошла в дом. Ее обуревали мысли и чувства, так что очнулась Лени уже на кухне, с мамой, но как там очутилась, не помнила.
Мама месила тесто на хлеб. Услышав, как стукнула дверь, подняла глаза и замерла, приподняв над тестом руки в муке:
— Что случилось?
— Да что могло случиться? — Лени догадалась, почему мама задала такой вопрос, и была готова расплакаться, хотя и не знала почему. Знала она лишь то, что слова Мэтью выбили ее из колеи. Прежде ей такое и в голову не приходило, а он на многое раскрыл ей глаза. Теперь она думала лишь о том, что учебный год вот-вот закончится и Мэтью без нее уедет в университет.
— Лени? — Мама вытерла перепачканные в муке руки и отбросила полотенце. — У тебя несчастный вид.
Не успела Лени ответить, как послышался шум мотора. Во двор въехал чистенький белый пикап.
Машина Уокеров.
— Только не это! — Лени подбежала к двери, распахнула.
Из машины вылез Мэтью.
Лени сбежала по лестнице во двор.
— Зачем ты приехал? Тебе сюда нельзя.
— Ты сегодня весь день молчала, а потом убежала на работу. Я думал… я тебя чем-то обидел?
Лени была и рада его видеть, и напугана. Она понимала, что нужно его как-то спровадить, но ей так хотелось, чтобы он остался.
Из-за угла вышел папа с топором. От натуги он раскраснелся, весь взмок. Увидел Мэтью и замер.
— Нечего тебе здесь делать, Мэтью Уокер. Если вы с отцом решили испоганить свой участок, я вам, разумеется, помешать не могу, но держись подальше от моей земли и моей дочери. Понял? Вам, Уокерам, лишь бы все портить: то салун ремонтируете, то гостиницу строите, то парк приключений. Вы погубите Канек. Превратите его в гребаный Диснейленд.
— Диснейленд, говорите? — нахмурился Мэтью.
— Вали отсюда, пока я тебя не пристрелил за нарушение границ частной собственности.
— Ухожу. — В голосе Мэтью не слышалось ни капли страха, хотя и не верилось, что такое возможно. Он ведь совсем мальчишка, а ему угрожает мужик с топором.
Лени смотрела Мэтью вслед. Она и не предполагала, что будет так больно. Лени отвернулась от отца, вошла в дом и застыла, уставясь в пространство. Она так тосковала по Мэтью, что ни о чем другом и думать не могла.
Вернулась мама. Подошла к Лени, ласково обняла ее и проговорила:
— Ну что ты, доченька.
Лени разрыдалась. Мама обняла ее крепче, погладила по голове, усадила на диван.
— Конечно, он тебе нравится. Как иначе? Он же такой красавчик. А ты столько лет была одна-одинешенька.
Хорошо, что мама сама это сказала.
Лени действительно все эти годы было очень одиноко.
— Я все понимаю, — добавила мама.
Ее слова привели Лени в чувство, напомнили о том, что на бескрайних просторах Аляски их дом — словно особый мир. Мама догадалась, о чем думает Лени.
— Это опасно. Ты же понимаешь?
— Да, — ответила Лени. — Я все понимаю.
Лени впервые поняла все книги о несчастной любви и разбитых сердцах. Ей было физически больно. Тоска по Мэтью мучила, как хворь.
Лени всю ночь не спала, и наутро ей в глаза словно песку насыпали. Сквозь слуховое окно лился ослепительный свет, и она прикрыла глаза ладонью. Натянула вчерашнюю одежду, слезла с чердака. Не удосужившись позавтракать, отправилась кормить скотину, потом прыгнула на велик и укатила. В городе помахала Марджи-шире-баржи, которая мыла магазинные окна, проехала мимо Полоумного Пита и свернула на школьный двор. Оставила велосипед в высокой траве у забора из рабицы, прижала к груди рюкзак и пошла в класс.
Место Мэтью пустовало.
— И правильно, — пробормотала Лени. — Наверно, он понял, какой у меня чокнутый отец, и укатил в Фэрбанкс.
— Здравствуй, Лени, — весело поприветствовала ее миссис Роудс. — Ты не могла бы сегодня за меня провести уроки? В Хомер в ветлечебницу привезли раненого орла, нужна моя помощь.
— Да, конечно.
— Ты настоящий друг! Я знала, что ты меня выручишь. Значит, так. Малышка сегодня отрабатывает деление в столбик, Агнес и Марти пишут контрольную по истории, а вы с Мэтью читаете Элиота.
Лени выдавила улыбку. Миссис Роудс вышла из класса. Лени взглянула на часы, подумала: вдруг Мэтью просто опаздывает, и принялась помогать девочкам с заданиями.
Время тянулось медленно, Лени то и дело посматривала на часы. Наконец пробило три.
— Ну, девочки, на сегодня все. Уроки окончены.
Дети убежали. Лени собрала вещи и последней вышла из опустевшей школы.
Забрала велосипед и неспешно покатила по Главной улице. Домой Лени не торопилась. В небе лениво описал дугу самолет-вездеход, давая пассажирам возможность получше разглядеть вытянувшийся вдоль деревянной набережной городок. Болота за городом цвели вовсю, густая трава колыхалась на ветру. Пахло пылью, свежей травой, грязной водой. В зарослях вдалеке скользил к морю красный каяк. В салуне стучали молотки, но рабочих на улице не было видно.
Лени приблизилась к мосту. Обычно погожим днем в начале сезона вдоль всего моста толпились плечом к плечу мужчины, женщины, дети с удочками, ребятня привставала на цыпочки, смотрела через перила вниз, на прозрачную реку.
Сейчас здесь стоял один-единственный человек.
Мэтью.
Лени затормозила, опустила ногу на землю, вторую оставила на педали.
— Ты чего здесь?
— Жду.
— Кого?
— Тебя.
Лени слезла с велосипеда и пошла рядом с Мэтью обратно в город. На ухабистой, усыпанной гравием Главной улице велосипед дребезжал и гремел. Звонок то и дело прерывисто позвякивал.
Лени с опаской покосилась на салун, но ни Клайда, ни Теда не было. Не хватало еще, чтобы отцу донесли, что ее видели с Мэтью.
Они поднялись на холм, прошли мимо церкви и нырнули в заросли серебристых елей. Лени положила велосипед на землю и пошла вслед за Мэтью к выступу на черной скале.
— Я всю ночь не спал, — признался Мэтью.
— Я тоже.
— Все о тебе думал.
Эти слова эхом отозвались в ее душе, но повторить их смелости не хватило.
Мэтью взял ее за руку и повел к шалашу, который устроил в прошлый раз. Они сели, прислонившись к трухлявой, поросшей мхом валежине. Внизу волны плескали о камни. От земли исходил сырой сладкий запах. Меж солнечными лучами чернели звездчатые тени.
— Я вчера рассказал о нас отцу. Даже съездил в закусочную и позвонил сестре.
О нас.
— И что?
— Папа мне заявил, что я играю с огнем, раз хочу быть с тобой.
Быть с тобой.
— Али спросила, поцеловал ли я тебя. Я сказал, еще нет, и она ответила: «И чего ты ждешь? Действуй, братишка!» Она знает, что ты мне очень нравишься. Ну, в общем. Можно я тебя поцелую?
Лени еле кивнула, но Мэтью все равно заметил и робко коснулся губами ее губ. Совсем как в книгах, которые она читала. Этот первый поцелуй изменил ее, открыл мир, о котором она не подозревала, огромную, яркую, дивную вселенную, полную неожиданных возможностей.
Наконец Мэтью отстранился, и Лени впилась в него обеспокоенным взглядом:
— Нам. Вот так. Опасно.
— Ты права. Но это ведь неважно?
— Да, — тихо согласилась Лени. Она понимала, что впоследствии, наверно, пожалеет об этом, но сейчас не могла иначе.
— Все неважно, кроме нас с тобой.
* * *
Поехали со мной, Лен, ну пожалуйста…
В Анкоридже замечательный университет… до осени ты еще успеешь поступить. Поедем вместе.
Вместе…
Дома она поставила велосипед, пошла кормить скотину и по рассеянности опрокинула полное ведро зерна. Потом натаскала воды из колодца. Час спустя, управившись по хозяйству, увидела, что родители стоят на берегу у лодки. Они собрались на рыбалку.
Их не будет несколько часов.
Можно съездить на велосипеде к Мэтью. Пусть он снова ее поцелует. Родители и не узнают об отлучке.
Дурацкий план. Они же с Мэтью завтра увидятся.
Она схватила велосипед, прыгнула в седло и покатила прочь, мимо каноэ, которое отец на той неделе приволок со свалки, мимо гниющего велосипеда — отцу так и не удалось его починить. На дорожку падали тени от деревьев, и Лени пробирал холодок.
Она выбралась на большую дорогу, на солнце, и проехала четверть мили до забора Уокеров. Свернула в открытую калитку, миновала покрашенную арку с вырезанным на ней коричневым кижучем и поехала дальше.
Лени понимала, что это опасно, но ей было плевать. Сейчас она думала только о Мэтью, о том, как она чувствовала себя, когда он ее поцеловал, и как сильно ей хочется снова его поцеловать.
Дорогу к дому Уокеров явно отремонтировали и посыпали гравием. А вот отцу в голову не пришло бы заделывать ямы, чтобы стало легче ездить.
Запыхавшись, она остановилась у дома.
Мэтью тащил в хлев огромную охапку сена. Завидев Лени, выронил сено и бросился к ней. На нем был огромный хоккейный свитер, шорты и резиновые сапоги.
— Лен? — Как же ей нравилось, что он дал ей новое имя, словно превратил ее в какую-то другую девушку, которую знал только он. — Что с тобой?
— Я соскучилась по тебе, — призналась она. Глупо. Они же едва успели расстаться. — Нам нужно… быть вместе.
— Я к тебе приду завтра ночью. — Мэтью обнял ее. Именно этого ей и хотелось.
— К-к-как это?
— Я незаметно. — Он так уверенно это произнес, и Лени не нашла что возразить. — Завтра ночью.
— Не надо.
— В полночь. А ты выберись потихоньку ко мне.
— Слишком опасно.
— У вас же уборная во дворе, да? Выйдешь как будто в туалет. Не полезут же твои среди ночи на чердак проверять, дома ты или нет.
Она оденется потеплее, выйдет и побудет с Мэтью. Целый час, а может, и больше. Наедине.
Откажи она ему сейчас, глядишь, сумела бы жить разумно и любить так, что никто не сравнил бы это чувство с героином. И никогда бы не пришлось засыпать в слезах.
— Ну пожалуйста. Я очень хочу тебя увидеть.
— Лени! — раздался окрик отца.
Она оттолкнула Мэтью, но поздно. Отец видел их вместе. Он стремительно шел к ним. Мама бежала сзади.
— Какого черта ты тут делаешь?!
— Я… — Лени не знала, что ответить. Дурадурадура. И зачем она только сюда поехала!
— Я тебя, кажется, предупреждал, чтобы ты держался подальше от моей Леноры. — Отец схватил Лени за руку и рванул к себе.
Лени прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Мэтью не должен знать, что отец причинил ей боль.
— Лени, — нахмурился Мэтью.
— Не надо, не подходи, — попросила она. — Ну пожалуйста.
— Пошли, Лени! — Отец поволок ее за собой.
Запинаясь о кочки, она шла рядом с отцом, то налетала на него, то отставала. Если отставала слишком сильно, отец рывком подтягивал ее к себе. Мама семенила рядом, катя велосипед Лени.
Около дома Лени вырвалась, едва не упала и обернулась лицом к отцу.
— Я ни в чем не виновата! — выкрикнула она.
— Эрнт, они же просто друзья, — произнесла мама, надеясь его образумить.
Папа повернулся к маме:
— Так ты знала, что они снюхались?
— Ты преувеличиваешь, — спокойно ответила мама. — Они учатся в одном классе. И все.
— Ты знала, — повторил отец.
— Нет! — Лени вдруг охватил страх.
— Я видел, как она уезжала, — сказал папа. — И ты тоже ее видела, а, Кора? Ты ведь знала, куда она намылилась.
Мама покачала головой:
— Н-н — нет. Я думала, может, на работу поехала. Или за каким-нибудь галаадским бальзамом[59].
— Ты врешь, — отрезал он.
— Пап, не надо, она тут ни при чем, — сказала Лени.
Но он не слушал. Взгляд у него был дикий, отчаянный.
— Ты мне врала. — Он схватил маму и поволок в дом.
Лени бросилась за ними, но папа втолкнул маму в дом, а Лени отпихнул.
Хлопнул дверью. Лязгнул засовом. Заперся изнутри.
За дверью раздался грохот и сдавленный вопль.
Лени бросилась на дверь, колотилась в нее, умоляла открыть, впустить ее.
Семнадцать
Наутро оказалось, что половина маминого лица распухла и побагровела, под глазом наливался фингал. Она в одиночестве сидела за столом, перед ней стояла чашка кофе.
— О чем ты только думала? Он увидел, как ты уезжаешь, и двинулся за тобой по следам шин в грязи.
Лени уселась за стол. Ей было стыдно.
— Я не подумала.
— Гормоны. Я тебя предупреждала, что с ними шутки плохи. — Мама подалась к ней: — Послушай меня, девочка. Ты играешь с огнем. И сама это знаешь. Я тоже это знаю. Держись подальше от этого парня, не то навлечешь беду.
— Он меня поцеловал.
И попросил тайком выбраться к нему сегодня ночью.
Мама долго молчала.
— Ну, один поцелуй еще ничего не меняет. Что ж я, не знаю? Но ты не обычная девчонка из пригорода, да и отец твой — не мистер Кливер[60]. Каждое решение влечет за собой последствия. Причем не только для тебя, но и для твоего парня. Для меня. — Она коснулась синяка на щеке и поморщилась. — Держись от него подальше.
Встречаемся в полночь.
Весь день эта фраза не выходила у нее из головы. На уроках Лени смотрела на Мэтью и понимала, что он думает о том же.
«Пожалуйста», — последнее, что он ей сказал.
Она отказалась и намерена была выдержать характер, но, когда вернулась домой и принялась хлопотать по хозяйству, поймала себя на мысли о том, что с нетерпением ждет, когда же сядет солнце.
Обычно Лени не обращала внимания, который час. Было важно другое: стемнело, начался прилив или отлив, зайцы-беляки поменяли цвет шубки, птицы вернулись или улетают на юг. Так они исчисляли время — по работе в огороде, по нересту лосося, по первому снегопаду. В учебные дни Лени поглядывала на часы, но без особого рвения. Никого не волновало, если опоздаешь на урок, — ни зимой, когда морозы бывали такие, что машины не заводились, ни осенью и весной, когда полным-полно хлопот по хозяйству.
Сейчас же она пристально следила за временем. Внизу, в гостиной, папа с мамой лежали рядышком на диване и тихонько разговаривали. Папа то и дело касался синяков на мамином лице, просил прощения и клялся в любви.
В одиннадцатом часу Лени услышала, как он сказал: «Ты как хочешь, а меня уже ноги не держат», и мама ответила: «Меня тоже».
Родители выключили генератор и в последний раз подбросили дров в печурку. Зашелестела занавеска из бусин: они ушли в спальню.
Все стихло.
Лени лежала и считала все подряд: вдохи и выдохи, стук сердца. Она и хотела, чтобы время шло быстрее, и боялась этого.
Она проигрывала в уме различные сценарии: что будет, если она выйдет к Мэтью? останется дома? попадется? не попадется? Снова и снова твердила себе, что вовсе не ждет полуночи, не такая уж она отчаянная дура, чтобы улизнуть из дома.
Настала полночь. Лени услышала, как в последний раз негромко щелкнула стрелка ее часов.
И тут же за открытым окном раздалась тихая птичья трель — почти как настоящая.
Мэтью.
Лени вылезла из-под одеяла и оделась потеплее.
Она замирала от каждого скрипа лестницы, от каждого шага, так что до двери добиралась целую вечность. Сунула ноги в резиновые сапоги, натянула дутую жилетку.
Затаив дыхание, щелкнула замком, отодвинула засов и открыла дверь.
Ее овеяла ночная прохлада.
На холме над берегом, на фоне розово-аметистового неба, чернел силуэт Мэтью.
Лени затворила дверь и бросилась к нему. Он взял ее за руку, и они побежали по заросшему травой мокрому двору, перевалили холм и спустились по шаткой лестнице на берег, где Мэтью уже расстелил одеяло, придавив его по краям большими камнями.
Лени легла. Мэтью тоже. Она почувствовала тепло его тела и сразу успокоилась, хотя они сильно рисковали. Обычные подростки, наверно, сейчас болтали бы без умолку, смеялись. Или еще что-нибудь. Пили бы пиво, курили травку, обнимались, целовались. Но и Мэтью, и Лени знали, что у них все совершенно иначе, чем у тех, для кого тайком улизнуть из дома — обычное дело. Оба без слов понимали, что в гневе ее отец способен натворить бед.
Она слышала, как шумит прибой, как скрипят сосны в шелесте весеннего ветерка. Все заливал тусклый свет бледно-лилового ночного неба. Мэтью показывал Лени созвездия, рассказывал о каждом. И казалось, будто окружающий мир стал сказкой, полной не тайных опасностей, а бесконечных возможностей.
Мэтью повернулся на бок. Они лежали лицом к лицу, Лени чувствовала его дыхание, прядь его волос щекотала ее щеку.
— Я говорил с миссис Роудс, — сказал Мэтью. — Она считает, что ты еще успеешь поступить в университет. Подумай об этом. Ведь там мы будем вместе, вдали от всего этого.
— Моим это не по карману.
— Есть стипендии. Можно взять кредит под небольшие проценты. Так что все в наших силах. Абсолютно все.
Лени на мгновение позволила себе помечтать. О жизни. Своей собственной.
— А может, и правда подать заявление, — проговорила она, но даже когда произносила вслух эту свою мечту, думала о том, какую цену придется заплатить. Причем расплачиваться придется маме. И как потом ей, Лени, с этим жить?
Но неужели она сама до конца своих дней заперта в ловушке, куда ее загнали мамин выбор и папино бешенство?
Мэтью повесил ей на шею ожерелье, застегнул на ощупь в темноте.
— Я сам вырезал.
Лени потрогала костяное сердечко на металлической цепочке, тонкой, как паутинка.
Она погладила Мэтью по лицу. Щеки у него поросли колючей щетиной.
Он прижался к ней всем телом, бедро к бедру. Они поцеловались; Мэтью прерывисто дышал.
Лени и не подозревала, что любовь возникает вмиг, из ниоткуда, точно Вселенная из Большого взрыва, и меняет тебя и всю твою жизнь. Она вдруг поверила в Мэтью, в то, что у них все получится. Поверила так же, как верила в силу тяжести или в то, что Земля круглая. Но ведь это безумие. Безумие. Когда он поцеловал ее, она увидела целый новый мир, новую Лени.
И отстранилась.
Глубина этого нового чувства ее страшила. Ведь настоящая любовь приходит постепенно, разве нет? А не так стремительно, словно столкнулись планеты.
Вожделение. Теперь она знала, что это такое. Вожделение. Слово старое, откуда-то из эпохи Джейн Эйр, но для Лени такое же новое, как эта секунда.
— Лени! Лени!
Это кричал отец.
Лени села. О господи.
— Сиди здесь.
Она вскочила и бросилась к зигзагообразной лестнице, обветшавшей от непогоды. С топотом взбежала по затянутым проволочной сеткой ступенькам. Жилетка распахнулась.
— Я тут, пап, — задыхаясь, выкрикнула Лени и помахала ему.
— Слава богу, — ответила отец. — А то я пошел отлить, смотрю — твоих сапог нету.
Сапоги. Так вот на чем она прокололась. На такой мелочи.
Лени ткнула пальцем в небо. Заметил ли он, как она запыхалась? Слышит ли, как колотится ее сердце?
— Смотри, как красиво.
— А.
Она стояла рядом с ним, стараясь отдышаться. Он обнял ее за плечи. Точно свою собственность.
— Лето здесь волшебное, правда?
Слава богу, что травянистый косогор скрывал от глаз берег. Лени не видела ни изгиб, усыпанный галькой и осколками ракушек, ни одеяло, что принес Мэтью. Как и самого Мэтью.
Лени сжала в руке костяное сердечко, острый его конец колол ладонь.
— Никогда так больше не делай, Рыжик. Будь осторожнее. В это время года могут напасть медведи. Еще чуть-чуть — и я бы схватил ружье и пошел тебя искать.
* * *
ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ
Ленора Олбрайт Опасное это дело, Фродо, — выходить за порог: стоит ступить на дорогу, и, если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет[61].Зная меня, вы бы не удивились, почему я решила начать эссе с цитаты из Толкина. Книги — вехи моей жизни. Кто-то вспоминает, что с ним было, по семейным фотографиям или фильмам, а я по книгам. По персонажам. Сколько себя помню, книги служили мне убежищем. Я читала о дальних странах, которые с трудом могла себе представить, погружалась в истории о путешествиях в заморские страны, где ждут героев девицы, даже и не подозревающие, что они принцессы.
Но лишь недавно я поняла, зачем мне эти дальние края.
Отец растил меня в страхе перед внешним миром, и кое-что из его уроков я усвоила. Я читала о Патти Хёрст, Зодиаке, массовом убийстве на Олимпиаде в Мюнхене, о Чарльзе Мэнсоне и понимала, что мир полон опасностей. Отец мне все время твердил об этом, повторял, что, если начнется извержение вулкана, лава погребет под собой мирно спящих жителей. Правительство коррумпировано. Нежданно-негаданно может разразиться эпидемия гриппа и унести миллионы жизней. Того и гляди на нас сбросят атомную бомбу, которая уничтожит все живое.
Я научилась на бегу сносить из ружья голову бумажной мишени. У нашей двери стоит тревожный чемоданчик с аварийными запасами. Я могу развести костер с помощью кремня и с завязанными глазами собираю ружье. Я умею правильно надевать противогаз. Меня все детство готовили к войне, анархии или всемирной катастрофе.
Но все это неправда. Точнее, правда, но не истина: взрослые ведь различают эти понятия.
Мои родители уехали из штата Вашингтон, когда мне было тринадцать лет. Мы перебрались на Аляску, жили в тайге, вели натуральное хозяйство. Мне все это нравится. Правда. Я люблю суровую, непокорную красоту Аляски. Но больше всего я восхищаюсь здешними женщинами — такими, как моя соседка Мардж, которая раньше была юристом, а теперь владеет бакалейным магазином. Я восхищаюсь ее стойкостью и человечностью. Я восхищаюсь тем, как моя мама, хрупкая, словно листик папоротника, ухитряется выживать в климате, который норовит ее убить.
Я восхищаюсь всем, о чем написала, я люблю этот штат: здесь мне хорошо, здесь мой дом. Но настала пора покинуть родные места, искать свой путь, знакомиться с реальным миром.
Вот поэтому я и хочу поступить в университет.
* * *
После той ночи на берегу Лени наловчилась быть незаметной, как вор. Она всю жизнь училась притворяться, и теперь этот навык сослужил ей добрую службу: она крала время.
Еще она приучилась обманывать. С невинным видом, даже с улыбкой врала отцу, чтобы украсть время. То контрольная начинается раньше — минимум на час, то они после уроков пойдут с классом на экскурсию, так что она вернется поздно. А то надо сплавать в Селдовию в библиотеку за материалами для самостоятельной работы. Они с Мэтью встречались в лесу, в полумраке среди полок магазина Марджи-шире-баржи, на заброшенном консервном заводе. На уроках все время держались за руки под партой. Вместе отмечали после школы день его рождения, сидя на причале за ржавеющей железной лодкой.
Это было восхитительно, увлекательно. Лени узнала то, о чем книги ей не рассказывали: что любовь — захватывающее приключение, что от прикосновения Мэтью ее тело как будто преображается, что если целый час крепко обниматься, то потом ломит подмышки, что от поцелуев губы набухают и трескаются, что его жесткая щетина царапает ее кожу.
Украденное время стало той силой, что приводила в движение ее мир. По выходным, когда тянулись часы без Мэтью, Лени охватывало нестерпимое желание улизнуть из дома, побежать к нему, улучить еще хотя бы десять минут.
Впереди маячил конец учебного года. Вот и сегодня, скользнув за парту, Лени бросила взгляд на Мэтью и едва не расплакалась.
Он взял ее за руку:
— Что с тобой?
Лени поневоле думала о том, до чего же они малы в этом огромном опасном мире, два подростка, которым хочется любить.
Миссис Роудс хлопнула в ладоши, привлекая внимание:
— Осталась всего неделя, и я решила, что сегодня мы с вами поплаваем на лодке и прогуляемся по лесу. Так что одевайтесь и пошли.
Учительница вывела галдевших подопечных из класса и провела по городу на пристань.
Все уселись в алюминиевую рыбацкую лодку миссис Роудс, завели мотор, выплыли в залив и, подпрыгивая, в туче брызг полетели по волнам. Учительница вела лодку по окруженному горами фьорду то в один залив, то в другой, пока дома не скрылись из виду. Вода здесь была аквамариновой. На глухом берегу паслась свинья с двумя черными поросятами.
Миссис Роудс причалила в узкой бухточке. Мэтью спрыгнул на ветхую покосившуюся пристань и привязал лодку.
— Бабушка и дедушка Мэтью поселились на этой земле в тридцать втором году, — сказала миссис Роудс. — Тут был их первый дом. Ну, кому показать пиратскую пещеру?
Поднялся радостный галдеж.
Миссис Роудс с младшими учениками пошли по берегу, то и дело увязая в песке и перешагивая через коряги.
Когда они скрылись за поворотом, Мэтью крепко взял Лени за руку:
— Пойдем покажу тебе кое-что интересное.
И повел ее вверх по косогору, заросшему высокой травой, которая заканчивалась у чахлого подлеска.
— Тсс… — Он прижал палец к губам.
Стало слышно, как хрустит под ногами валежник и как шелестит ветерок. Время от времени по небу проплывал самолет-вездеход. Растительность на Аляске буйная, стеной: ее питают бегущие с гор ручейки. Мэтью указал Лени тропинку среди деревьев, которую она сама бы не заметила. Они нырнули в заросли и, пригнувшись, устремились вперед в тенистой прохладе.
Их вел солнечный лучик. Постепенно глаза Лени привыкли к полумраку.
В прогалине меж кустов открылся живописный вид: насколько хватало глаз, тянулись болота. В высокой, колыхавшейся от ветра зеленой траве лениво змеилась река. Горы обнимали болота, точно хотели защитить.
Лени насчитала на болоте пятнадцать огромных бурых медведей, которые жевали траву и ловили рыбу в стоячей воде. Огромные, косматые, с большущими головами — на Большой земле их называют «гризли». Медведи бродили вперевалочку, точно кости у них крепились на резинках. Медведицы держались возле медвежат, не подпускали их к самцам.
Лени залюбовалась этими величественными зверями, бродившими в высокой траве.
— Ух ты.
Самолет-вездеход заложил вираж и стал снижаться.
— Меня сюда дедушка в детстве водил, — прошептал Мэтью. — Я тогда еще ему сказал: дед, ну ты совсем, зачем было селиться так близко к медведям, а он ответил: «Это Аляска», как будто это все объясняло. Бабушка с дедушкой держали собак, те отпугивали медведей, если они подходили слишком близко. А потом вокруг участка учредили государственный заповедник.
— Такое бывает только здесь, — рассмеялась Лени.
Она приникла к Мэтью. Такое бывает только здесь.
Она лишь сейчас осознала, насколько сильно полюбила Аляску. Дикую, суровую, величественно прекрасную. Больше этой земли она любила лишь людей, которым та была по сердцу.
— Мэтью! Лени! — послышался крик миссис Роудс.
Они, пригнувшись, пробежали сквозь кусты и выскочили на берег, где стояла миссис Роудс с младшими девочками. Недалеко от них причалил гидросамолет.
— Скорей! — миссис Роудс махнула им рукой. — Марти, Агнес, садитесь. Мы возвращаемся в Канек. У Эрла сердечный приступ.
* * *
Чокнутый Эрл скончался.
У Лени это не укладывалось в голове. Ведь еще вчера старик был жив и полон сил, хлестал самогон, травил байки; на подворье у Харланов кипела жизнь, вовсю шла работа: пилили и рубили дрова, над кострами калили клинки. Без него даже лай собак смолк.
Лени не плакала по Чокнутому Эрлу — не хотелось лицемерить. Но тех, на чьих лицах читалась боль утраты, ей было жалко до слез. Тельму, Теда, Малышку, Клайда и всех остальных, кто здесь давно жил. Вот им еще долго будет его не хватать.
Все собрались в заливе вокруг лодочной стоянки неподалеку от русской церкви.
Лени сидела в помятом алюминиевом каноэ, которое ее отец притащил со свалки несколько лет назад. Мама сидела на носу, отец позади Лени — для равновесия.
Вокруг было полным-полно лодок. День выдался ясный, на море штиль. Люди явились на похороны. Солнце припекало уже по-летнему, сотни белых гусей вернулись в верховья залива. На крутых берегах, зимой пустых, скованных льдом, теперь кипела жизнь. На скале у берега, черно-зеленой каменной башней, вздымавшейся из пучины, теснились морские львы, над ними лениво описывали круги белые чайки и тявкали, как терьеры. Лени смотрела, как чайки вьют гнезда, как бакланы ныряют в воду. Тюлени, мордами смахивавшие на черных и серебристых кокер-спаниелей, высовывали носы из воды, а рядом на спинах плавали выдры и проворно раскрывали лапками ракушки моллюсков.
Неподалеку в блестящей алюминиевой плоскодонке сидели Мэтью с отцом. Всякий раз, как Мэтью бросал взгляд на Лени, она отворачивалась, боясь выдать свои чувства.
— Папочка очень любил это место, — говорила Тельма, и в такт ее словам постукивало весло по воде. — Нам будет его не хватать.
Лени смотрела, как Тельма сыплет в море струйку пепла из картонной коробки. Сперва пепел расплылся по водной глади мутным пятном, потом стал медленно тонуть.
Все молчали.
Казалось, здесь собрался весь Канек. Харланы, Том и Мэтью Уокеры, Марджи-шире-баржи, Натали, Кэлхун Мэлви с новой женой, Тика Роудс с мужем, хозяева всех магазинов. Прибыли даже старожилы, те, кто жил в глуши, в самой чаще и почти никогда не появлялся на людях. Редкозубые, с длинными тонкими волосами и впалыми щеками. У некоторых в лодках сидели собаки. Полоумный Пит с Матильдой стояли бок о бок на берегу.
Лодки одна за другой причалили; их вытащили на берег. Мистер Уокер бросил Тельмин каяк в кузов ржавого фургона.
Все инстинктивно посмотрели на мистера Уокера, ожидая, что он что-нибудь скажет и куда-нибудь всех позовет. Все собрались вокруг него.
— Вот что, Тельма, — проговорил мистер Уокер, — поехали все ко мне. Пожарим лосося, выпьем холодного пива. Устроим поминки, которые понравились бы Эрлу.
— Ну надо же, большая шишка предлагает устроить поминки по человеку, на которого всю жизнь смотрел свысока, — вставил папа. — Не нужны нам твои подачки. Мы и без тебя его помянем.
От отцовской резкости вздрогнула не только Лени. На лицах собравшихся читалось потрясение.
— Эрнт, не надо сейчас, — взмолилась мама.
— Как раз сейчас и надо. Мы собрались, чтобы попрощаться с человеком, который приехал сюда, потому что мечтал о простой жизни. И ему уж точно не понравилось бы, что мы поминаем его в компании того, кому приспичило превратить Канек в Лос-Анджелес.
Папа от злости и ненависти к Тому словно стал выше ростом. Он подошел к Тельме. Казалось, горе сломало ее, будто палочку от мороженого. Тельма стояла, ссутулясь, и плакала. Грязные волосы висели точно водоросли.
Папа стиснул ее плечо, и Тельма вздрогнула от испуга.
— Я заменю вам Эрла. Вам не о чем беспокоиться. Я позабочусь о том, чтобы беда не застала нас врасплох. Я буду учить Малышку…
— И как же ты собрался учить мою дочь? — дрожащим голосом спросила Тельма. — Наверно, так же, как учишь жену? Думаешь, мы не знаем, как ты над нею мудришь?
Мама застыла, залилась краской.
— Как же ты нас достал! — голос Тельмы окреп. — От тебя дети шарахаются, особенно когда ты пьяный. Папа терпел, потому что ты помогал брату, и я тебе тоже за это благодарна, но ты же ненормальный. Я не собираюсь минировать подступы к подворью. И восьмилетним детям не нужно в два часа ночи учиться надевать противогаз, хватать тревожный чемоданчик и бежать к воротам. Отец жил так, как считал нужным, и я тоже буду жить так, как считаю нужным. — Она глубоко вздохнула. И хотя в глазах Тельмы блестели слезы, Лени прочла в ее взгляде облегчение. Сколько же лет она мечтала все это высказать? — А теперь мы поедем к Тому и помянем папу в кругу его давних друзей. Мы Уокеров знаем всю жизнь. До того, как явился ты, мы все жили дружно, по-соседски. Если ты способен вести себя прилично, поехали с нами. А если намерен перессорить весь город — сиди у себя.
Лени заметила, как все попятились от папы. Даже отшельники с кудлатыми бородами отошли на шаг.
Тельма посмотрела на маму:
— Поехали с нами.
— А? Но… — Мама покачала головой.
— Моя жена останется со мной, — отрезал отец.
Никто не пошевелился, не проронил ни слова. Наконец Харланы медленно направились прочь.
Папа огляделся и понял: его выгнали. Вот так просто.
Лени смотрела, как все их друзья и соседи расходятся по машинам и разъезжаются с лодками в прицепах или кузовах пикапов. Мэтью бросил на Лени долгий грустный взгляд и отвернулся.
Они остались одни. Лени покосилась на маму. Судя по ее лицу, она, как и Лени, была напугана, ведь после такого отец точно взбесится, можно даже не сомневаться.
Отец застыл, вперив сверкающий ненавистью взгляд в пустую дорогу.
— Эрнт, — позвала мама.
— Заткнись, — прошипел он. — Я думаю.
На обратном пути он рта не раскрыл. Казалось бы, надо радоваться, что хоть не орет, но уж лучше бы орал. Крик — как бомба в углу: ее замечаешь, видишь, что фитиль горит, и думаешь — сейчас рванет, бегом в укрытие. Молчание же — как убийца с ружьем, который спрятался в доме, пока ты спишь.
Дома отец безостановочно мерил комнату шагами, бормоча что-то под нос и качая головой, словно с кем-то не соглашался.
Лени и мама старались быть тише воды, ниже травы.
На ужин мама разогрела остатки жаркого из лосятины, но даже аппетитный запах не развеял напряжения.
Когда мама поставила на стол тарелки, отец вдруг замер, поднял глаза и так просиял, что Лени с мамой испугались. Бормоча что-то о неблагодарности, вредных суках и мудаках, которые возомнили, будто весь мир им принадлежит, он выбежал из дома.
— Давай запремся, — предложила Лени.
— Тогда он выбьет окно или выломает стену, но все равно войдет.
На дворе зажужжала пила.
— Или убежим.
Мама слабо улыбнулась:
— Ну да. Конечно. Так он нас и отпустил.
Обе понимали, что Лени, возможно (хотя и не факт), удастся сбежать и начать новую жизнь. Но маме — нет. Он ее везде разыщет.
Поужинали в молчании, не спуская глаз с двери и прислушиваясь, не раздастся ли какой-нибудь зловещий шум.
Вдруг дверь распахнулась с такой силой, что врезалась в стену. На пороге стоял отец: взгляд безумный, в волосах опилки, в руке топор.
Мама вскочила и попятилась. Отец бросился к ней, бормоча что-то, схватил за руку и поволок во двор. Лени бежала за ними и слышала, как мама воркует, пытаясь его успокоить.
Отец притащил маму к концу подъездной дорожки, поперек которой соорудил огромную баррикаду.
— Я решил построить стену. Поверху утыкаю ее гвоздями, может, натяну колючую проволоку. И тогда мы будем в безопасности. Не нужно нам их сраное подворье. Пошли эти Харланы в жопу.
— Но, Эрнт… не можем же мы жить…
— Представляешь, — перебил отец, одной рукой прижимая к себе маму, из другой по-прежнему не выпуская топор, — никакая зараза до нас не доберется. Мы будем в безопасности. Только мы с вами. А этот мудак пусть себе превращает Канек в Детройт. Плевать. Я тебя спасу, Кора. От всех. Видишь, как я тебя люблю.
Лени с ужасом таращилась на бревна и представляла: их вытянутый, точно большой палец, участок окажется отгорожен от мира в самом суставе, отрезан от цивилизации, нормальная жизнь останется за стеной.
Никто не помешает отцу осуществить этот безумный план. И тогда даже полиция их не защитит, не выручит из беды.
А когда он достроит стену и запрет калитку, удастся ли им с мамой выйти отсюда?
Лени оглянулась на родителей. Две худые фигуры склонились друг к другу, целуются, гладят, бормочут признания в любви, маме лишь бы успокоить папу, а папе лишь бы мама была рядом. Так было и будет всегда, тут ничего не изменится.
Раньше, когда она была мала и наивна, ей казалось, что родители всегда где-то рядом, а она в их тени; они все знают и могут. Сейчас же Лени поняла, что они — всего лишь сломленные люди.
Она вольна их оставить. Вырваться на свободу, пойти своей дорогой. Страшно, да, но еще страшнее наблюдать их гибельный танец, жить их жизнью, а не своей, пока от нее самой ничего не останется, пока она не уменьшится до точки.
Восемнадцать
Десять часов вечера. Небо над бухтой Уокеров было темно-синего цвета, а по краям бледно-лилового. Костер догорел; бревна стали золой, осыпались друг на друга.
Отлив оказался неожиданно сильным, море отступило, обнажив широкую полосу ила, в гладком сером зеркале отражалось закатное небо и заснеженные горы на другом берегу. Открылись сваи, облепленные черными ракушками; привязанный к буйку алюминиевый катер лежал на боку в иле.
Разговоры после похорон Чокнутого Эрла не смолкали несколько часов. Собравшиеся, то и дело запинаясь, рассказывали истории про Чокнутого Эрла. Некоторые вызывали смех, но чаще вспоминали другое. Чокнутый Эрл не всегда был таким вздорным, каким стал к старости. Его озлобила гибель сына. А когда-то они с дедушкой Экхартом были лучшими друзьями. Аляска никого не щадит, особенно стариков.
Но вот почти все разошлись.
Мэтью сидел в стареньком шезлонге, вытянув и скрестив ноги, и смотрел, как молодой орел клюет на берегу остатки лосося. Рядом кружили чайки, надеясь поживиться ошметками рыбы.
На берегу остались только они втроем — папа, Марджи-шире-баржи и Мэтью.
— Ну что, Том, может, все же обсудим ситуацию? — Мардж прервала молчание, которое затянулось настолько, что Мэтью думал, они сейчас затопчут костер и поднимутся к дому. — Тельма фактически указала Эрнту на дверь.
— Да, — ответил папа.
Мэтью не понравилось, как отец посмотрел на Марджи-шире-баржи. С тревогой.
— О чем вы говорите? — спросил Мэтью.
— Эрнт Олбрайт — дурной человек, — ответил папа. — Мы все знаем, что это он разнес салун. Тельма говорит, он пытался убедить Харланов поставить растяжки и заминировать участок, чтобы, дескать, их защитить, если вдруг начнется война.
— Да уж, он такой же чокнутый, как Эрл, но…
— Чокнутый Эрл был безобиден, — возразила Мардж. — Эрнт же этого так не оставит. Тельма его выгнала, и это наверняка выведет его из себя. А когда он бесится, то злится на весь мир, а раз злится на весь мир, то и отыгрывается на всех, кто попадет ему под горячую руку.
— На всех? — Мэтью пробрал озноб. — То есть и на Лени? Он поднимет руку на Лени?
Мэтью не стал дожидаться ответа. Он взбежал по лестнице на двор, оседлал велосипед и, налегая на педали, в какие-нибудь десять минут докатил по мокрой вязкой земле до главной дороги.
У поворота к дому Олбрайтов он так резко затормозил, что велосипед едва не выскользнул из-под него. Узкую горловину подъездной дороги перегородили два окоренных бревна цвета лососины — значит, деревья совсем недавно срубили. На ярко-розовой древесине там и сям виднелись куски коры.
Что за черт?
Мэтью огляделся, но никого не увидел и ничего не услышал. Объехал бревна и покатил, уже медленнее, к дому Олбрайтов. Сердце колотилось, тревога нарастала.
В конце дорожки он слез с велосипеда, положил его на землю. Обвел пристальным взглядом двор, но не заметил ничего подозрительного. Фургон Эрнта стоял возле дома.
Мэтью стал потихоньку пробираться к крыльцу, вздрагивая всякий раз, как под ногой хрустела ветка или на что-нибудь наступал — на пивную банку, потерянную кем-то гребенку, в сумерках было не разглядеть. Заблеяли козы. Всполошенно закудахтали куры.
Вдруг послышался стук.
Дверь домика отворилась.
Мэтью бросился в высокую траву, замер.
Шаги на крыльце. Скрип.
Пошевелиться было страшно, не пошевелиться — еще страшнее. Мэтью высунул голову из травы.
На краю крыльца стояла Лени. Плечи ее, точно плащ в красно-бело-желтую полоску, укутывало шерстяное одеяло. В руках в лунном свете белел рулон туалетной бумаги.
— Лени, — шепотом позвал он.
Она испуганно оглянулась на дверь и бросилась к нему.
Он поднялся и крепко ее обнял.
— Что случилось?
— Он строит стену. — Лени снова глянула через плечо.
— И поэтому перегородил бревнами дорогу?
Лени кивнула.
— Я боюсь.
Мэтью хотел ее успокоить, мол, все будет хорошо, но кто-то отодвинул засов на двери домика.
— Уходи, — прошептала Лени и оттолкнула его.
Мэтью юркнул за дерево, и тут же открылась дверь. На крыльцо вышел Эрнт Олбрайт в поношенной футболке и мешковатых семейных трусах.
— Лени! — крикнул он.
Лени помахала ему:
— Я тут, пап, просто бумагу уронила. И скрылась в уборной.
Эрнт маячил на крыльце, пока она не вернулась, загнал ее в дом и щелкнул засовом.
Мэтью неслышно добрался до велосипеда и во весь дух припустил домой. Папа и Мардж стояли во дворе возле ее фургона.
— Он с-строит стену, — запыхавшись, выпалил Мэтью, спрыгнул с велосипеда и бросил его в траве у коптильни.
— Ты о чем? — спросил папа.
— Эрнт. Ты же знаешь, у них участок узкий, как бутылочное горлышко, вдается в море. Он перегородил дорожку бревнами. Лени говорит, он строит стену.
— Господи Иисусе, — изумился отец. — Он решил отгородиться от мира.
* * *
Лени проснулась под пронзительный вой пилы и стук топора. Папа уже давно был на ногах, он все выходные строил стену.
Единственное, что хоть немного радовало Лени, — выходные кончились, настал понедельник, а значит, надо ехать в школу.
Мэтью.
Радость вытеснила гнетущее, безнадежное чувство утраты, которое поселилось в ее душе в эти дни. Она оделась и спустилась вниз.
В домике было тихо.
Из спальни вышла мама в водолазке и мешковатых джинсах:
— Доброе утро.
Лени подошла к маме:
— Мы должны ему помешать, пока он не достроил стену.
— Да не станет он ее достраивать. Это он так, психанул. Ничего, образумится.
— Думаешь, на это можно рассчитывать?
Лени впервые заметила, как постарела мама, какой измученный и потерянный у нее вид. Свет в глазах погас, она больше не улыбалась.
— Я сварю тебе кофе.
И в эту минуту в дверь громко постучали, и она почти сразу же распахнулась.
— Эй, есть кто дома?
На мясистых Марджи-шире-баржи запястьях звенели десятки браслетов, в ушах прыгали серьги, точно поплавки, блестели на свету. Отросшие волосы она расчесала на прямой пробор и собрала в два пучка-помпончика, которые вздрагивали при каждом шаге.
За Мардж в дом протиснулся папа и упер руки в тощие бока:
— Я же сказал, сюда нельзя.
Марджи-шире-баржи ухмыльнулась и протянула маме бутылку лосьона. Вложила маме в руки, накрыла большими ладонями мамины маленькие ладошки.
— Тельма сделала его из лаванды, которую выращивает в огороде. Она надеется, что тебе понравится.
Лени понимала, как много для мамы значит этот подарок.
— Не нужны нам ваши подачки, — вставил папа. — Она и так отлично пахнет, незачем ей мазаться этим дерьмом.
— Подруги дарят друг другу подарки, Эрнт. А мы с Корой подруги. Я, собственно, потому и приехала. Дай-ка, думаю, загляну к соседям на кофе.
— Лени, пожалуйста, свари Мардж кофе, — попросила мама. — И отрежь хлеба с клюквой.
Папа, по-прежнему стоя в дверях, скрестил руки на груди.
Марджи-шире-баржи подвела маму к дивану, усадила и села рядом. Подушки скрипнули под ее тяжестью.
— А меня тут такой понос пробрал.
— Мерзость какая, — подал голос папа.
— Как трубу прорвало. Может, у тебя таблетки есть? А то живот свело, хоть плачь.
Папа процедил ругательство и хлопнул дверью.
Мардж расплылась в улыбке:
— Какие же мужчины все-таки предсказуемые. Наконец-то мы остались одни.
Лени подала кофе и уселась в глубокое кресло из искусственной кожи, которое они в том году купили у старьевщика в Солдотне.
Марджи-шире-баржи перевела взгляд с Коры на Лени, потом снова на Кору. Лени была уверена, что от Мардж не укрылось ничего.
— Эрнт, поди, обиделся, что Тельма так обошлась с ним на похоронах Эрла.
— А, ты об этом, — сказала мама.
— Я смотрю, он на главной дороге столбов понатыкал. Стену, что ли, строит?
Мама покачала головой:
— Нет, что ты.
— Ты же знаешь, зачем строят стены? — не унималась Мардж. — Чтобы никто не увидел, что за ними творится. И чтобы никто не сбежал. — Она поставила чашку на столик, подалась к маме: — А если он повесит на ворота замок, ключ спрячет — как вы тогда выберетесь?
— Н-н-никогда он так не сделает, — возразила мама.
— Да ну? Вот и сестра мне так же ответила, когда мы с ней общались в последний раз. Я бы что угодно отдала, чтобы повернуть время вспять и все изменить. В конце концов она от него ушла, но слишком поздно.
— Она от него ушла, — тихо повторила мама и впервые не отвела взгляд, — потому и погибла. Такие мужчины… не успокоятся, пока тебя не найдут.
— Мы не дадим тебя в обиду, — пообещала Марджи-шире-баржи.
— Кто это «мы»?
— Мы с Томом Уокером. Харланы. Тика. Весь Канек. Вы с Лени — одни из нас, Кора. А он чужой. Доверься нам. Позволь тебе помочь.
Лени впервые всерьез задумалась об этом. А ведь они и правда могут от него уйти.
Но для этого пришлось бы уехать из Канека и даже, пожалуй, с Аляски.
Расстаться с Мэтью.
И что дальше? Неужели им придется всю жизнь провести в бегах, прятаться, менять имена? Получится ли? У мамы ни денег, ни кредитки. Даже права и те просрочены. У нее самой тоже нет прав. Может, по документам их с мамой и вовсе не существует?
А если он их найдет?
— Я не могу, — наконец ответила мама. Лени никогда еще не слышала такого печального, душераздирающего признания.
Марджи-шире-баржи впилась в маму долгим взглядом. На лице ее было написано разочарование.
— Ладно. Не все сразу. Просто помни, что мы рядом. Мы тебе поможем. Ты только скажи. Ко мне ты можешь прийти хоть в глухую январскую полночь. Договорились? Что бы ты ни натворила, что бы он ни сделал. Приходи, я тебе помогу.
Повинуясь порыву, Лени обогнула столик и бросилась Мардж на грудь. В ее объятиях было так уютно, так безопасно.
— Ладно, поехали, — сказала Марджи-шире-баржи, — отвезу тебя в школу. До выпуска остались считаные дни.
Лени схватила рюкзак, повесила на плечо, крепко обняла маму, прошептала: «Нам нужно поговорить» — и вышла за Мардж во двор. На полпути к пикапу перед ними вдруг вырос отец с пятигаллонной канистрой бензина.
— Уже уходите? — поинтересовался он. — Что так быстро?
— Так я же всего на чашечку кофе. Заодно подброшу Лени до школы. Мне как раз нужно в магазин.
Отец поставил пластмассовую канистру на землю. Послышался плеск.
— Нет.
— Что — нет? — нахмурилась Марджи-шире-баржи.
— Без меня отсюда больше никто не выйдет. Нечего нам там делать.
— Ей пять дней осталось до выпуска. Надо же девочке закончить школу.
— Ишь, раскомандовалась. Пусть дома сидит. Подумаешь, всего пять дней. Все равно ей дадут бумажку.
— Да ты никак решил со мной тягаться? — Мардж двинулась на отца. Браслеты ее звенели. — Если эта юная леди пропустит хоть день, я позвоню в полицию, Эрнт Олбрайт, и посажу тебя. Даже не сомневайся. Мне плевать, что ты чокнутый и с гнильцой. Чуди себе сколько хочешь, но ты не помешаешь этой красавице закончить школу. Уловил?
— Полиции до этого нет дела.
— Еще как есть. Уж поверь. Хочешь, чтобы я им рассказала о том, что здесь творится?
— Ты же ни черта не знаешь.
— Пусть так, зато язык у меня подвешен отлично, так что лучше не доводи.
— Ладно, черт с тобой. Вези ее в школу, раз тебе так приспичило. — Он посмотрел на Лени: — Я заберу тебя в три. Не заставляй меня ждать.
Лени кивнула и забралась в старенький «Интернэшнл Хар-вестер» с протертыми до дыр матерчатыми сиденьями. Они проехали по ухабистой дорожке, миновали столбы из свежеокоренных бревен. Когда они в облаке пыли катили по главной дороге, Лени осознала, что плачет.
Она не сумела справиться с нахлынувшими чувствами. Слишком многое поставлено на карту. А вдруг мама убежит, а отец найдет ее и правда убьет?
Марджи-шире-баржи свернула к школе и остановила машину.
— Несправедливо, что тебе приходится во всем этом вариться. Но жизнь вообще несправедлива. Да ты и сама это понимаешь. Если что, ты всегда можешь позвонить в полицию.
Лени повернулась к ней:
— А если из-за меня отец убьет маму? Как мне потом с этим жить?
Мардж кивнула.
— Если тебе понадобится помощь, приходи ко мне. Договорились? Обещаешь?
— Обещаю, — вяло ответила Лени.
Мардж перегнулась через нее, открыла скрипучий бардачок и вынула оттуда толстый конверт:
— Это тебе.
Лени привыкла к ее подаркам. Шоколадка, роман в бумажной обложке, блестящая заколка. В конце рабочего дня в магазине Марджи-шире-баржи частенько совала ей что-нибудь в руку.
Лени взглянула на конверт. Письмо из университета Аляски. Адресовано Леноре Олбрайт, на адрес магазина Мардж Бердсолл в Канеке.
Дрожащими руками Лени вскрыла конверт. Прочла первую строчку. «Рады уведомить, что мы приглашаем вас…»
Лени подняла глаза на Мардж:
— Меня взяли.
— Поздравляю, Лени.
Она оцепенела. Ее приняли.
В университет.
— И что мне теперь делать? — спросила Лени.
— Поедешь учиться, — ответила Мардж. — Я говорила с Томом. Он все оплатит. Мы с Тикой купим тебе учебники, Тельма даст денег на карманные расходы. Ты одна из нас, и мы всегда тебе поможем. Не жалей ни о чем, девочка. Уезжай при первой же возможности. Беги во весь дух, без оглядки. Но…
— Но что?
— До отъезда смотри в оба.
* * *
В последний учебный день Лени боялась, что у нее разорвется сердце и она рухнет ничком на землю — еще одна жертва Аляски. Девушка, которая умерла от любви.
Мысль о том, что впереди лето, долгие жаркие дни, работа от рассвета и до заката, сводила ее с ума. Как же она доживет до сентября, не видя Мэтью?
— Вряд ли нам удастся видеться, — тоскливо сказала ему Лени. — Мы же все время будем заняты. Ты ведь и сам знаешь, как бывает летом.
Теперь она целые дни напролет будет хлопотать по хозяйству.
Лето. Пора, когда лосось идет на нерест и нужно каждый день работать в огороде, когда на склонах холмов спеют ягоды, когда консервируют фрукты и овощи, рыбу режут полосками, маринуют, коптят, когда за долгий световой день нужно починить все, что требует ремонта.
— Будем встречаться тайком, — предложил Мэтью.
Но теперь это было слишком опасно. После того как Харланы раззнакомились с папой, он как с цепи сорвался: целыми днями рубил деревья, снимал кору, а по ночам просыпался и мерил домик шагами. Все время что-то бормотал себе под нос и строил, строил, строил свою стену.
— А в сентябре мы с тобой поедем в университет, — добавил Мэтью, уж он-то умел мечтать и верить.
— Ага, — ответила Лени, которой хотелось этого больше всего на свете. — Будем жить в Анкоридже, как самые обычные люди. — Они все время твердили это друг другу.
Лени вслед за Мэтью пошла к выходу, пробормотав «до свидания» миссис Роудс, которая крепко ее обняла и сказала:
— Не забудьте, сегодня в салуне вечеринка в честь окончания школы. Вы с Мэтти почетные гости.
— Спасибо, миссис Роудс.
На улице Лени ждали родители с плакатом: «Поздравляем с окончанием школы!» Она застыла на месте.
Лени почувствовала, как Мэтью положил руку ей на талию и даже, кажется, легонько подтолкнул ее вперед. С вымученной улыбкой она спустилась во двор.
— Привет, — сказала она родителям, которые бросились ей навстречу. — Да ну что вы, не стоило приезжать.
Мама просияла:
— Шутишь? Ты закончила школу лучшей в классе!
— В классе из двух человек, — заметила Лени.
Папа обнял ее, прижал к себе.
— Мне вот никогда и ни в чем не удавалось стать первым. Я горжусь тобой, Рыжик. Ну а теперь ты можешь с чистой совестью сделать этой сраной школе ручкой. Пока-пока.
Они уселись в фургон и поехали. Над самой головой протарахтел самолет.
— Туристы, — произнес папа, словно это было ругательство. — Мама испекла твой любимый пирог и сделала клубничный акутак[62].
Лени кивнула. Ей было так грустно, что улыбнуться не хватило сил.
На полуотремонтированном салуне висела перетяжка: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЕНИ И МЭТЬЮ! ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ВЫПУСКА В ПЯТНИЦУ В 9 ВЕЧЕРА! ПЕРВЫЙ НАПИТОК БЕСПЛАТНО!
— Лени, что с тобой? Вид у тебя потерянный.
— Я хочу пойти в салун на праздник в честь выпуска, — ответила Лени.
Мама подалась к папе и поймала его взгляд:
— Эрнт?
— Ты хочешь, чтобы я пришел в салун к Тому Уокеру и общался с теми, кто губит наш город? — спросил папа.
— Ради Лени, — попросила мама.
— Нет уж, дудки.
Лени старалась разглядеть за его злобой того, кем, по уверениям мамы, он был, пока его не изуродовал Вьетнам, пока аляскинские зимы не выявили его темную суть. Она напоминала себе, что папа звал ее Рыжиком и катал на плечах по набережной в Эрмоса-Бич.
— Пап, ну пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу отметить окончание школы в нашем городке. Ты ведь сам привез меня сюда.
Папа посмотрел на Лени, и в его взгляде она впервые за долгое время увидела любовь. Истерзанную, измученную, почти уничтоженную ошибками и обидами, но все же любовь. И печаль.
— Нет, Рыжик, извини. Я не пойду на это даже ради тебя.
Девятнадцать
Вечер.
Пила долго визжала, потом фыркнула и смолкла.
Лени стояла у окна и смотрела на двор. Было семь часов — пора ужина, передышки после долгого дня хлопот. В любую минуту придет отец, а с ним вернется и напряжение. На столе стояли остатки праздничного обеда на троих в честь окончания школы: морковный пирог и клубничный акутак, здешнее мороженое, которое готовили из снега, растительного масла и фруктов.
— Ну не сердись. — Мама подошла и встала рядом с Лени. — Я знаю, как тебе хотелось попасть на вечеринку. Наверняка ты гадала, как бы сбежать туда тайком. Я бы в твоем возрасте точно попробовала улизнуть.
Лени зачерпнула ложку акутака. Она всегда его любила. Но не сегодня.
— Я придумала с десяток вариантов.
— И?
— Каждый раз все заканчивалось одинаково: отец гоняется за тобой с кулаками по всему дому.
Мама закурила и выдохнула дым.
— Да еще эта его стена… он ведь не уймется. Нам надо быть осторожнее.
— Еще осторожнее? — Лени повернулась к маме: — Мы думаем над каждым словом. Исчезаем в мгновение ока. Делаем вид, будто нам никого и ничего не нужно, кроме него и этого дома. Толку чуть. На него не угодишь, хоть тресни. Он все равно нет-нет да психанет.
Лени видела, что ее слова ранят маму, и пожалела, что заговорила об этом. Надо было притвориться, будто все наладится, отец исправится, притвориться, будто он все это нечаянно и больше такого не повторится. Притвориться.
Но теперь все иначе.
— Меня приняли в университет Аляски в Анкоридже.
— Ух ты! Вот это да! — Мама обрадовалась, заулыбалась, но улыбка ее тут же потухла. — Но у нас нет денег…
— За все заплатят Том Уокер, Мардж, Тельма и миссис Роудс.
— Дело ведь не только в деньгах.
— Да, — ответила Лени, не отводя взгляда от мамы. — Не только.
— Надо будет хорошенько все обдумать, — продолжала мама. — Папа не должен узнать, что за все платит Том Уокер. Никогда.
— Какая разница. Все равно он меня не отпустит. Ты же знаешь.
— Отпустит. — Лени давно не слышала, чтобы мама говорила так уверенно. — Я его заставлю.
Лени забросила мечту, как удочку, так что крючок пролетел над синей-синей гладью и плюхнулся в воду. Университет. Мэтью. Новая жизнь.
Ага. Конечно.
— Заставишь его, как же, — вяло ответила она.
— Понимаю, ты не готова на меня положиться.
— Да дело даже не в этом. Как я тебя с ним оставлю?
Мама улыбнулась ей грустно и устало.
— Без разговоров. И не спорь. Ты мой птенчик. Я мама-птица. Если сама не вылетишь из гнезда, я тебя выпихну. Выбирай. В любом случае ты поедешь учиться вместе со своим парнем.
— Думаешь, получится? — Призрачная мечта Лени обретала плоть, ее можно было взять в руки, рассмотреть со всех сторон.
— Когда начинаются занятия?
— Сразу после Дня труда[63].
Мама кивнула:
— Хорошо. Но будь осторожна. Не делай глупостей. Не рискуй всем из-за поцелуя. Не повторяй моих ошибок. Вот как мы с тобой поступим: до сентября ты не должна видеться с Мэтью и вообще ни с кем из Уокеров. Я сделаю заначку, чтобы тебе хватило на автобус до Анкориджа. Все нужные вещи сложим в тревожный чемоданчик. Я устрою так, чтобы мы всей семьей поехали в Хомер. Ты отпросишься в туалет и сбежишь. А потом, когда отец успокоится, я покажу ему записку, которую ты якобы оставила, — мол, уехала учиться в университет (куда именно, не написано), летом вернусь и буду помогать по хозяйству. Все получится, вот увидишь. Но только если мы будем осторожны.
Не видеться с Мэтью до сентября.
Да. Ей придется на это пойти.
Но как выдержать такое? Любовь к Мэтью — стихия, неукротимая, как море. Разве море удержишь?
Лени вспомнила фильм, который они с мамой смотрели давным-давно. «Великолепие в траве». Там Натали Вуд так же сильно любила Уоррена Битти, но потеряла его и в конце концов попала в психушку. А когда вышла, оказалось, что он уже женат и у него ребенок, но все равно понятно, что ни он, ни она никогда и никого не сумеют полюбить так, как когда-то любили друг друга.
Мама плакала в три ручья.
Тогда Лени этого не понимала. Теперь поняла. Она осознала, что любовь порой таит в себе опасности, что она ненасытна. Лени умела любить так же сильно, как мама. Теперь-то она это знала.
— Я не шучу. — Мама с тревогой посмотрела на Лени: — Не делай глупостей.
* * *
В июне папа каждый день строил стену, и к концу месяца все окоренные столбы были на месте, торчали из земли по периметру участка через каждые десять футов — условная граница между их владениями и главной дорогой.
Лени старательно топила тоску по Мэтью, но та оказалась живучей и то и дело всплывала. Порой в разгар хлопот Лени замирала, доставала из кармана ожерелье, которое нельзя было никому показывать, и сжимала с такой силой, что острый кончик впивался в кожу до крови. Она без конца прокручивала в голове все, что хотела бы ему сказать, снова и снова вела с ним мысленные беседы. Ночами читала романы в бумажных обложках, которые брала из корзины с бесплатными товарами в магазине Мардж, глотала книгу за книгой. «Дьявольская страсть», «Пламя и цветок», «Безумие под луной» — исторические романы о женщинах, которые вынуждены были бороться за свою любовь, и в конце концов это их спасло.
Она отличала правду от вымысла, но все равно упивалась любовными романами. Благодаря им Лени верила, что можно стать хозяйкой собственной судьбы. Даже в этом мрачном и жестоком мире, который проверяет женщин на прочность, героини романов ухитрялись одержать победу и найти настоящую любовь. Книги дарили Лени надежду, скрашивали одинокие ночи.
Световой день казался бесконечным. Лени работала в огороде, таскала мусор в бочку из-под мазута, сжигала, золой удобряла грядки, варила из нее мыло, делала средство от вредителей. Носила воду, чинила краболовки, разбирала спутанные сети. Кормила скотину, собирала яйца, подновляла ограду, коптила рыбу.
И все время думала о Мэтью. Повторяла его имя, как мантру.
Снова и снова твердила себе: сентябрь не за горами.
Но июнь сменился июлем, они с мамой, как в ловушке, сидели за стеной, которую строил отец, и Лени чувствовала, что понемногу сходит с ума. Четвертого июля будет праздник, весь город соберется на Главной улице, и ей ужасно хотелось туда, к людям.
Ночь за ночью, неделю за неделей она лежала в постели и тосковала по Мэтью. Ее любовь к нему — воин, что покоряет горы и переходит реки вброд, — пересекла границу одержимости.
К концу июля ее одолели мрачные мысли: он встретит другую, влюбится, решит, что с Лени слишком много проблем. Она тосковала по его прикосновениям, мечтала о его поцелуях, говорила сама с собой от его лица. Понемногу ее охватило смутное, тревожное чувство, будто к непрестанной тоске примешался страх и запятнал ее, от ее дыхания завяли помидоры и никогда уже не поспеют, черничное варенье скисло от бисерин ее пота, и зимой, когда настанет черед припасов, к которым она прикасалась, родители будут недоумевать, отчего же те испортились.
К августу она дошла до предела. Стена была почти готова. Там, где участок граничил с главной дорогой, от скалы до скалы протянулся забор из досок. Для входа и выхода на подъездной дорожке оставили проем в десять футов шириной.
Но Лени о стене и не думала. Она похудела и почти не спала. Каждую ночь просыпалась часа в три-четыре, выходила на веранду и шептала: «Он там…»
Дважды обувалась, один раз даже дошла до конца подъездной дорожки, но повернула обратно.
Нельзя подвергать маму и Мэтью опасности.
До Дня труда оставалось меньше месяца.
Надо подождать, они с Мэтью встретятся в Анкоридже и больше не расстанутся.
Это было бы разумно. Но она влюбилась и утратила способность поступать разумно.
Ей нужно увидеть Мэтью, удостовериться, что он ее все еще любит.
Когда же это желание превратилось в план?
Мне нужно его увидеть.
Побыть с ним.
«Не надо», — предостерегала прежняя Лени, привыкшая к папиным вспышкам и маминому страху.
«Хотя бы раз», — отвечала новая Лени, которую переменила страсть.
Хотя бы раз.
Но как?
* * *
В начале августа приходилось вкалывать по восемнадцать часов — нужно было готовить припасы на зиму. Они снимали урожай, консервировали овощи, собирали ягоды, варили варенье, ловили рыбу в открытом море, заливе и реках. Коптили лосося, палтуса, форель.
В тот день они встали рано и весь день рыбачили на реке: ловили лосося. Рыбалка — дело серьезное, поэтому они почти все время молчали. Потом отволокли улов домой и стали консервировать мясо. Еще один долгий, изнурительный день в череде многих.
Наконец настало время ужина. Они прервали работу и пошли в дом. Мама испекла пирог с лососем и пожарила на свином сале зеленый горошек. Улыбнулась Лени, притворяясь, будто все в порядке.
— Спорим, ты ждешь не дождешься, когда же откроется сезон охоты на лося.
— Ага, — дрогнувшим голосом ответила Лени. Она не могла думать ни о чем, кроме Мэтью. Она не просто скучала, она болела от тоски по нему.
Папа проткнул вилкой слоистую корочку, принялся выковыривать куски рыбы.
— Кора, в пятницу едем в Стерлинг. Там продают снегоход, наш-то совсем плохой. И еще мне нужны петли для ворот. Лени, останешься дома, присмотришь за скотиной.
Лени чуть вилку не выронила. Неужели правда?
До Стерлинга минимум часа полтора, если папа намерен купить снегоход, ему придется ехать на машине, то есть переправляться на пароме, а это еще полчаса туда и столько же обратно. Значит, их не будет весь день.
Папа ковырял вилкой пирог. Сперва доел рыбу, потом принялся за картошку, морковку и горох.
Мама посмотрела на Лени:
— Не нравится мне это. Ехать, так уж всем вместе. Я не хочу оставлять Лени дома одну.
Лени затаила дыхание. Отец вытирал куском хлеба тарелку.
— Втроем в машине тесно, а дорога долгая. Ничего с ней не случится.
* * *
— Ну что, Лени, — сказал папа самым строгим тоном, на который был способен, — сейчас лето. Ты понимаешь, что это значит. Черные медведи. Ружья заряжены. Запирайся. Пойдешь по воду — шуми как можно сильнее, не забудь взять свисток.
Мы вернемся часам к пяти, но если припозднимся, к восьми чтоб сидела дома, закрывшись на замок. Мне плевать, что еще светло и никаких рыбалок. Поняла?
— Пап, мне скоро восемнадцать, я сама все знаю.
— Ну да, конечно. Думаешь, раз тебе скоро восемнадцать, так ты уже взрослая. Ошибаешься.
— Я никуда не уйду и обязательно запру дверь, — пообещала Лени.
— Умница. — Папа подхватил коробку со шкурами, чтобы в Стерлинге продать скорняку, и направился к двери.
Когда он ушел, мама сказала:
— Лени, пожалуйста, не делай глупостей. Тебе вот-вот уезжать в университет. Осталось подождать совсем немного. — Она вздохнула: — Ты меня не слушаешь.
— Слушаю. Не волнуйся, я не наделаю глупостей.
С улицы донесся автомобильный гудок.
Лени обняла маму и буквально вытолкала за дверь.
Проводила взглядом родителей.
Дождалась, считая минуты, времени отплытия парома.
Ровно через сорок семь минут после их ухода оседлала велосипед и припустила по ухабистой дорожке, через проем в дощатой стене, на главную дорогу. Свернула к Уокерам. Затормозила у двухэтажного бревенчатого дома, слезла с велосипеда, огляделась. В такой день дома никто сидеть не станет, тем более когда работы по горло. Слева, у деревьев, она заметила мистера Уокера за рулем бульдозера, двигавшего земляные кучи.
Лени бросила велосипед на землю, по заросшей травой тропинке подошла к широкой лестнице, серой от времени и непогоды, и посмотрела вниз, на галечный берег. Грязь, водоросли и камни были усыпаны обломками ракушек.
На мелководье Мэтью потрошил на косом железном столике нерку и кижуча, вытаскивал мешочки с рыжей икрой, аккуратно раскладывал сушиться. Над ним в ожидании поживы вились и верещали чайки, то и дело пикировали в воду, хлопая крыльями. Вокруг резиновых сапог Мэтью плавали рыбьи кишки.
— Мэтью! — окликнула Лени.
Он поднял глаза.
— Родители уплыли на пароме в Стерлинг. Придешь ко мне? У нас есть целый день.
Мэтью положил улу.
— Вот это да! Через полчаса я у тебя.
Лени вернулась на двор и села на велосипед.
Дома накормила и напоила скотину и птицу, а потом заметалась по комнате как сумасшедшая, собираясь на первое в жизни свидание. Набила съестным корзину для пикника, почистила зубы (еще раз), побрила ноги и надела нарядное длинное кремовое платье, которое мама подарила на семнадцатилетие. Доходившие до талии волосы заплела в косу толщиной с запястье и перевязала репсовой лентой. Романтический образ портили растянутые серые шерстяные носки да походные ботинки, но ничего другого у нее не было.
И принялась ждать. Стояла на веранде с корзинкой для пикника и одеялом, притопывая от нетерпения. В сарае закопошились козы и куры — видно, почуяли ее волнение. Васильковое небо потемнело, набежали тучи, закрыли солнце.
Родители, должно быть, уже плывут на пароме в Хомер. Только бы не вернулись за чем-нибудь.
Лени вглядывалась в тенистую подъездную дорожку. Вдруг вдалеке послышался гул мотора. Рыбацкая лодка. Летом в этих краях такой же привычный звук, как жужжание комаров.
Она подбежала к обрыву в тот самый миг, когда в их бухту зашла алюминиевая лодка. У самого берега мотор смолк, лодка бесшумно скользнула в полосу прибоя и ткнулась носом в гальку. У руля стоял Мэтью и махал ей рукой.
Лени бегом спустилась на берег.
Мэтью спрыгнул на мелководье и направился к ней, волоча за собой лодку. Его улыбка, уверенный вид, любовь в его глазах заворожили Лени.
Один лишь взгляд — и напряжение, которое в последние месяцы поглотило ее и не выпускало из своей утробы, вдруг исчезло. Лени снова почувствовала себя юной и легкомысленной. Влюбленной.
— У нас есть время до пяти, — сказала она.
Мэтью обнял ее и поцеловал.
Лени рассмеялась от радости, взяла его за руку и повела мимо пещер на пляже к тропинке в рощицу, которая смотрела на другой конец залива. Непокорные утесы вдавались в море. Волны разбивались о скалистый берег, осыпая их брызгами, точно поцелуями.
Лени расстелила одеяло, поставила корзинку с едой.
— Что у тебя там? — Мэтью уселся на одеяло.
Лени встала на колени.
— Да ничего особенного. Сэндвичи с палтусом, крабовый салат, фасоль, сахарное печенье. — Она с улыбкой подняла на него глаза: — Это мое первое свидание.
— И мое.
— Странно мы живем, — заметила Лени.
— Может, у всех так. — Он подвинулся к ней, лег и обнял Лени. Впервые за долгие месяцы она могла дышать.
Они целовались так долго, что она забыла о времени, страхе, обо всем, кроме его языка, который так нежно касался ее языка.
Мэтью расстегнул перламутровую пуговку и сунул руку ей под платье. Лени почувствовала, как его грубые, мозолистые от работы руки гладят ее кожу, и покрылась мурашками. Он коснулся ее груди, скользнул под поношенный хлопковый лифчик и дотронулся до соска.
И грянул гром.
Лени охватила истома, и она подумала было, что гром ей почудился.
Но тут хлынул дождь. Резкий, мощный, проливной.
Они со смехом вскочили на ноги. Лени схватила корзинку для пикника, они пробежали по извилистой прибрежной тропе и выскочили на утес возле уборной.
Остановились только в домике. Стояли лицом к лицу, не отрывая друг от друга глаз. Лени чувствовала, как по щекам струится вода, капает с волос.
— Лето на Аляске, — проговорил Мэтью.
И по телу Лени вдруг пробежали мурашки, оттого что она осознала, как сильно его любит.
Не той губительной, отчаянной, ненасытной любовью, как мать отца.
Мэтью ей нужен не для того, чтобы ее спасти, заполнить пустоту или преобразить.
Прежде она не знала чувства чище, сильнее и яснее, чем любовь к нему. А сейчас у нее словно открылись глаза: оказывается, она способна так полюбить. Навсегда. На всю жизнь. Сколько бы ни прожила.
Она принялась расстегивать мокрое платье. Кружевной воротник соскользнул с плеча, открыл бретельку лифчика.
— Лени, ты уверена…
Она закрыла ему рот поцелуем. Никогда еще она ни в чем не была так уверена. Расстегнутое платье кружевным парашютом упало к ногам. Лени перешагнула через него и отшвырнула ногой.
Развязала ботинки, сняла, бросила в сторону. Один с глухим стуком ударил в стену. Лени осталась в лифчике и трусах.
— Пойдем, — сказала она и повела Мэтью на чердак, в свое убежище.
Там он торопливо разделся, уложил ее на меховое покрывало, медленно снял с нее лифчик и трусики. Его руки и губы исследовали ее тело, и все ее нервные окончания напрягались как струны. Когда он прикасался к Лени, звучала музыка.
Она растворилась в нем. Тело словно существовало независимо от нее, двигалось инстинктивно, в первобытном ритме, который, должно быть, знало всегда. Ее охватило наслаждение, больше похожее на боль.
Она стала звездой, которая сияла так ярко, что взорвалась в брызгах осколков и ослепительного света. На землю вернулась другая девушка — или другая Лени. Ее пугал собственный восторг. Удастся ли ей еще когда-нибудь пережить то, что совершенно ее преобразит? И как теперь, после всего, что у них было, расстаться с Мэтью? Как такое возможно?
— Я тебя люблю, — тихо признался он.
— Я тебя тоже.
Слишком простое, мелкое слово, ему не вместить ее чувство.
Лени лежала рядом с Мэтью и смотрела на небо, на струи дождя на стекле. Она знала, что запомнит этот день на всю жизнь.
— Интересно, как все сложится в университете? — проговорила она. — Ты как думаешь?
— Там мы с тобой все время будем вместе. Вдвоем, как сейчас. Ты готова ехать?
Сказать по правде, Лени боялась, что когда придет пора ехать, она не сумеет бросить мать. Но если останется, откажется от мечты, никогда себе этого не простит. Такое страшно даже представить.
Сейчас, в его объятиях, когда будущее принадлежало только им, Лени не хотелось вообще ни о чем говорить. Не хотелось отгораживаться от любимого стеной из слов.
— Хочешь, расскажи мне о своем отце, — предложил Мэтью.
Лени так и подмывало ответить «нет», поступить, как обычно, сохранить все в тайне. Но что же это за любовь?
— Война его искалечила.
— Он тебя бьет?
— Не меня. Маму.
— Вам с мамой надо бежать. Я слышал, как папа говорил об этом с Мардж. Они хотят вам помочь, но твоя мама отказывается.
— Тут все не так просто, как кажется.
— Если бы он вас любил, он бы вас не обижал.
В его устах это звучало просто, как уравнение. Но ведь любовь с болью связывает не одна-единственная линия, а целая паутина.
— Хотела бы я знать, каково это — чувствовать себя в безопасности.
Он погладил ее по голове:
— Вот как сейчас?
И правда. Быть может, впервые в жизни она почувствовала себя в безопасности. Но это же безумие. О какой безопасности может идти речь, когда она с парнем, которого ее отец терпеть не может.
— Папа тебя ненавидит, а ведь он тебя даже не знает.
— Я не дам тебя в обиду.
— Давай поговорим о чем-нибудь другом.
— Давай… например, о том, что я думаю о тебе все время. Я так много о тебе думаю, что голова идет кругом. — Он прижал ее к себе и поцеловал. Они обнимались вечно, время специально для них замедлило бег, и они наслаждались, изучали друг друга. Порой прерывались, болтали, шептались, шутили, делились тайнами, потом опять замолкали и целовались. Лени узнала, какое это волшебство — исследовать любимого на ощупь.
Ее тело снова откликнулось на его ласки, но во второй раз они занимались любовью уже иначе. Все же слова что-то изменили, и реальность вторглась в их мирок.
Она боялась, что больше у них никогда ничего не будет. Только этот день. Боялась, что так и не уедет учиться или что папа в ее отсутствие убьет маму. Боялась даже, что любит Мэтью не по-настоящему или по-настоящему, но как-то не так. Вдруг пример родителей ее испортил и теперь она не знает, что такое настоящая любовь?
— Нет, — сказала она себе, Мэтью, вселенной. — Я тебя люблю.
Это было единственное, в чем она не сомневалась.
Двадцать
Чья-то рука зажала Лени рот, послышался шепот:
— Проснись.
Она открыла глаза.
— Мы заснули. Тут кто-то есть.
Лени ахнула Мэтью в ладонь.
Дождь кончился. В слуховое окно лилось солнце.
Снаружи донесся шум мотора и скрип подвески: по двору проехал пикап.
— О господи, — выдохнула Лени, перелезла через Мэтью, быстро натянула на себя, что попалось под руку, кинулась к перилам вдоль края чердака, но уже открылась дверь.
Вошел папа, остановился, посмотрел на пол.
Там валялось ее мокрое платье.
Черт.
Лени перелезла через перила и не столько спустилась, сколько скатилась с лестницы.
Папа наклонился и поднял ее мокрое платье. С кружевного подола капала вода.
— Я… я под дождь попала, — сказала Лени.
Сердце так колотилось, что она задыхалась. Кружилась голова. Она огляделась в поисках того, что может их выдать, и заметила ботинки Мэтью.
Лени тихонько ахнула.
Слева от папы горка с ружьями, под ними полка с патронами. Только руку протяни — и вооружен.
Лени бросилась к папе и выхватила у него платье.
Мама нахмурилась, проследила за взглядом Лени, увидела ботинки и тревожно распахнула глаза. Посмотрела на Лени, потом на чердак и побледнела.
— А ты чего так вырядилась-то? — удивился папа.
— Н-н-ну, Эрнт, девочки любят покрасоваться, — пояснила мама и подвинулась, чтобы загородить от папы ботинки.
Папа огляделся. Ноздри его раздувались. Лени подумала, что он похож на хищника, учуявшего добычу.
— Чем это у нас пахнет?
Лени повесила платье на вешалку у двери.
— Я собрала корзинку для пикника, — ответила она. — Хотела сделать вам сюрприз.
Папа подошел к столу, открыл корзинку, заглянул внутрь.
— Но тут всего две тарелки.
— Просто я проголодалась и съела свою порцию. А это все вам. Я подумала, что вы, наверно, устанете с дороги. Так что ешьте на здоровье.
Наверху раздался скрип.
Папа нахмурился, поднял голову и направился к лестнице.
Сиди тихо, Мэтью.
Папа взялся за лестницу, взглянул вверх. Занес ногу на нижнюю ступеньку.
Мама наклонилась, схватила ботинки Мэтью, бросила в большую картонную коробку у двери и скользнула к отцу:
— Пойдем лучше покажем Лени снегоход, — проговорила она достаточно громко, чтобы Мэтью услышал. — Он у курятника.
Папа выпустил лестницу, повернулся и бросил на них странный взгляд. Неужели что-то заподозрил?
— Ладно. Пошли.
Лени вслед за папой двинулась к выходу. Он открыл дверь, и она оглянулась на чердак.
Уходи, Мэтью. Беги.
По дороге к курятнику мама так крепко держала Лени за руку, словно боялась, что она вырвется и убежит.
В бухте сверкала и серебрилась на солнце алюминиевая лодка Мэтью. Недавний ливень отмыл все до блеска. Свет играл в мириадах капель, на травинках и цветах.
Лени поспешно заговорила — сама толком не сообразила, что сказала, лишь бы привлечь внимание отца, лишь бы отвернулся от берега.
— Вот он, — проговорил отец, когда они подошли к ржавому прицепу за пикапом. На прицепе стоял помятый снегоход без передней фары и с разорванным в клочья сиденьем. — Сиденье заклеим изолентой, и будет как новенький.
Лени показалось, будто стукнула дверь домика и заскрипели доски веранды.
— Класс! — воскликнула она. — Будем на нем гонять зимой на рыбалку и на охоту. Да и вообще удобно, когда в доме два снегохода.
Вдалеке затарахтел лодочный мотор, завыл, набирая обороты.
Папа оттолкнул Лени:
— Это что у нас там, лодка?
По бухте к мысу пролетел алюминиевый скиф, острый нос его гордо торчал над водой.
Лени затаила дыхание. Разумеется, это был Мэтью: его светлые волосы и новенькая лодка. Вдруг папа его узнает?
— Проклятые туристы, — злобно прошипел папа и отвернулся от берега. — Эти богатенькие студенты уверены, что летом штат принадлежит им. Надо будет расставить везде таблички ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ.
Обошлось. Пронесло. Мэтью, у нас получилось.
— Лени, — позвала мама. Резко. В голосе ее слышалось раздражение — а может, страх.
Родители смотрели на нее.
— Что? — спросила Лени.
— Папа с тобой разговаривает.
Лени беспечно улыбнулась:
— Ой, извини.
— Что-то ты витаешь в облаках, как говаривал мой старик, — заметил папа.
— Так, задумалась, — пожала плечами Лени.
— О чем?
Лени услышала что-то новое в его голосе и насторожилась. Она только сейчас заметила, как пристально он смотрит на нее. А вдруг им не удалось его обмануть? Вдруг он обо всем догадался и просто издевается над ней?
— Ты же знаешь этих подростков, — дрожащим голосом ответила мама.
— Я спрашивал Лени, а не тебя.
— Я думала о том, как здорово было бы куда-нибудь съездить, провести весь день вместе. Может, на базу отдыха к Педерсенам в Кенай. Нам вроде там всегда нравилось.
— Хорошая мысль. — Папа отошел от снегохода и окинул взглядом дорожку. — Ладно. Мне надо работать. Лето же.
Он сходил в сарай, забрал пилу, взвалил на плечо, направился к дорожке и скрылся за деревьями.
Мама и Лени не дыша прислушивались, когда же наконец завизжит пила.
Мама обернулась к Лени и прошептала:
— Дура ты, дура. Чуть не попалась.
— Мы заснули.
— А в жизни всегда так: ничего не предвещало — и нате. Ладно, пошли. — Мама направилась к дому. — Сядешь у печки, погреешься. Я тебя хоть причешу. А то у тебя на голове черт-те что. Твое счастье, что отцу такие вещи до лампочки.
Лени принесла к печке трехногую табуретку, села, поставив босые ноги на перекладину, и расплела косу.
Мама взяла из синей жестянки из-под кофе, стоявшей у нее на самодельном комоде, гребенку с редкими зубьями и принялась медленно расчесывать спутанные длинные волосы Лени. Потом втерла ей в голову масло и намазала шершавые руки Лени душистым бальзамом, который они делали из бутонов.
— Радуешься, что на этот раз все обошлось, и думаешь, как бы снова увидеться с Мэтью. Я ведь угадала?
Мама как в воду глядела.
— В следующий раз буду умнее, — ответила Лени.
— Никакого следующего раза! — Мама взяла Лени за плечи, развернула к себе: — Потерпишь до университета, как мы с тобой договаривались. Сделаем все как планировали. В сентябре встретитесь с Мэтью в Анкоридже, и у тебя начнется новая жизнь.
— Я умру, если его не увижу.
— Не умрешь. А обо мне ты подумала?
Лени стало стыдно за свой эгоизм.
— Прости, мам. Ты права. Сама не знаю, что на меня нашло.
— Секс все меняет, — тихо ответила мама.
Несколько дней спустя, когда мама и Лени завтракали овсянкой, дверь распахнулась и вошел папа. Темные волосы и фланелевая рубашка были усыпаны щепками.
— За мной. Обе. Быстро!
Лени вслед за родителями вышла из дома. Папа шагал по топкой земле широко и ходко, мама за ним не поспевала и то и дело спотыкалась.
— Господи… — прошептала мама.
Перед ними высилась стена, которую папа строил все лето. Он ее доделал. Плотной вереницей тянулись свежераспиленные доски, поверху увитые колючей проволокой. Ни дать ни взять ГУЛАГ.
Но страшнее всего было другое. Дорожку перегородила калитка, закрытая на тяжелую железную цепь. На цепи замок. А ключ — у папы на шее.
Папа обнял маму. Улыбнулся. Наклонился, прошептал что-то ей на ухо, поцеловал в лиловый синячок над ключицей.
— Наконец-то мы отгородились от этого подлого мира. Теперь нам ничего не угрожает.
* * *
Лени поняла, что страх — вовсе не тесный темный чулан, как ей когда-то казалось, где стены давят, головой упираешься в потолок, а пол холодный.
Нет.
Страх — дворец с бесконечными анфиладами комнат.
После того как на калитке появилась громыхающая цепь, Лени словно очутилась в этих комнатах. Ночами она лежала на чердаке и боролась со сном, потому что ей снились кошмары. Страх, который она весь день отгоняла, ночью смыкал вокруг нее кольцо. Ей беспрестанно снилось, что она умирает — тонет, проваливается под лед, падает с горы в пропасть, гибнет от выстрела в голову.
Все это были метафоры. Смерть всех ее мечтаний — даже тех, о которых она еще не подозревала.
Папа не оставлял их ни на минуту, болтал как ни в чем не бывало, шутил — впервые с тех пор, как Харланы отказали ему от дома. Он дразнил Лени и маму, смеялся, работал бок о бок с ними. Ночью Лени слышала, как родители разговаривают, занимаются любовью. Мама ловко притворялась, будто все в порядке. Лени же эту детскую способность утратила.
Она все время думала об одном: «Нам надо бежать».
* * *
— Нам надо бежать, — сказала Лени в субботу утром. Неделю назад отец запер калитку на замок и впервые за это время оставил их с мамой наедине.
Мама замерла над тестом, которое месила.
— Он меня убьет, — прошептала она.
— Неужели ты не понимаешь? Здесь он точно тебя убьет. Рано или поздно. Сама подумай: скоро зима. Мрак. Холод. Мы заперты в темнице. Он ведь в эту зиму не уедет ни на какую работу, и мы останемся с ним один на один. Кто ему помешает, кто нас спасет?
Мама нервно оглянулась на дверь.
— Куда же мы пойдем?
— Мардж обещала помочь. И Уокеры.
— Только не Том. Так еще хуже будет.
— Через три с половиной недели начнутся занятия в университете. Мне нужно уехать при первой же возможности. Ты поедешь со мной?
— Может, ты как-нибудь без меня?
Лени знала, что этим кончится. Она долго думала, как быть, и наконец ответила:
— Мне надо ехать. Я так жить не могу. Но и без тебя я тоже не могу. Я… не смогу тебя бросить.
— Мы с тобой одного поля ягоды, — печально сказала мама. Но она все понимала. Они же всегда держались вместе. — Ты должна уехать. Я хочу, чтобы ты поехала. Я себе не прощу, если ты останешься. Так что ты придумала?
— Мы сбежим при первой же возможности. Может, он пойдет на охоту, и мы возьмем лодку. Как только подвернется случай — только нас и видели. Если не успеем смыться до того, как опадет первый лист, — нам крышка.
— Значит, сбежим. С пустыми руками.
— Зато живые.
Мама отвернулась. Прошло немало времени, прежде чем она кивнула:
— Я попробую.
Лени надеялась услышать другой ответ, но ничего лучше пока ждать не приходилось. Она молилась, чтобы, когда подвернется возможность, мама все же ушла с ней.
* * *
Погода менялась. Там и сям ярко-зеленые листья становились золотистыми, оранжевыми, алыми. Березы, что весь год, как невидимки, скрывались между других деревьев, вдруг выступили вперед, кора их белела, как крылья голубки, листва горела миллионом свечей.
С каждым поменявшим цвет листом напряжение Лени росло. Близился конец августа, рановато для осени, но Аляска в этом смысле непредсказуема.
Они с мамой больше не обсуждали план побега, но это читалось между строк. Каждый раз, как папа выходил из дома, они переглядывались, словно спрашивали друг друга: может, сейчас?
Лени с мамой варили черничный сироп, как вдруг вошел отец. Грязный, потный, с черным от пыли лицом. Лени впервые заметила в его бороде седые пряди. Волосы папа кое-как собрал на затылке в хвост, лоб повязал банданой с двухсотлетним человеком[64]. Папа в резиновых сапогах протопал на кухню, посмотрел, что мама готовит на обед.
— Опять? — поинтересовался он, глядя на фрикадельки из лосося. — Почему не овощи?
— Овощи я консервирую. У нас кончилась мука, риса осталось совсем чуть-чуть. Я же тебе говорила, — устало ответила мама. — Если бы ты отпустил меня в город…
— Правда, пап, съезди в Хомер. Пора делать припасы на зиму, — с деланой беззаботностью вставила Лени.
— Как же я вас одних оставлю? Это небезопасно.
— За стеной мы в безопасности, — возразила Лени.
— Не совсем. В прилив кто-нибудь может приплыть в бухту на лодке. Кто знает, что тут без меня будет. Так что поедем вместе. Купим все, что нужно, в городе у этой суки.
Мама посмотрела на Лени.
«Пора», — взглядом ответила та.
Мама покачала головой. Округлила глаза. Лени поняла, чего боится мама: они же договаривались бежать в его отсутствие, а не прямо у него из-под носа. Но погода меняется, ночи все холоднее, а значит, скоро зима. До начала занятий в университете меньше недели. Это их последний шанс. И если все хорошенько продумать…
— Поехали, — скомандовал папа. — Прямо сейчас. — И громко хлопнул в ладоши. Мама вздрогнула от неожиданности.
Лени с тоской взглянула на тревожный чемоданчик, где, как обычно, лежало все необходимое, чтобы выжить в тайге. Сейчас его никак не взять, отец непременно что-нибудь заподозрит.
Придется им бежать как есть.
Папа взял ружье со стойки у двери, вскинул на плечо.
Может, это предупреждение?
— Поехали.
Лени подошла к маме, сжала ее тонкое запястье, почувствовала, как та дрожит. И спокойно проговорила:
— Пошли, мам.
На пороге Лени невольно остановилась, обернулась, обвела взглядом уютную теплую комнату. Несмотря на боль, страх и отчаяние, что ей пришлось здесь пережить, это был ее единственный дом.
Она надеялась, что больше никогда его не увидит. Как жаль, что надежда несбыточна без утраты.
Сидя на потертом заднем сиденье пикапа, Лени чувствовала мамин страх, словно горьковатый запах. Лени хотелось ее успокоить, заверить, что все у них получится, они убегут, доберутся до Анкориджа, все будет хорошо, но она молчала, боялась вдохнуть полной грудью, старалась успокоиться и уповала лишь на то, что когда придет пора бежать, у них не отнимутся ноги.
Папа завел пикап и подъехал к забору. Остановился, вылез из машины, оставив дверь открытой, подошел к воротам, взялся за замок, снял с шеи ключ, вставил в скважину и с усилием повернул.
— Все, — сказала Лени маме, — в городе мы убежим. Через сорок минут причалит паром. Надо будет как-то пробраться на борт.
— Не выйдет. Он нас поймает.
— Тогда обратимся к Мардж. Она нам поможет.
— Ты и ее жизнью готова рискнуть?
Лязгнул огромный железный замок. Папа толкнул левую створку ворот, та проехала по торфяным кочкам, потом открыл правую. Показалась главная дорога.
— Скорее всего, у нас один-единственный шанс, — мама тревожно прикусила нижнюю губу, — так что лучше подождать, если в этот раз не сложится.
Лени понимала, что это разумно, но не знала, достанет ли у нее терпения еще ждать. Теперь, когда она позволила себе помечтать о свободе, мысль о том, чтобы снова вернуться в неволю, казалась невыносимой.
— Нам нельзя ждать, мам, уже падают листья. В этом году зима может начаться рано.
Папа сел в машину и захлопнул дверь. Они тронулись с места. Когда выехали за ворота, Лени выгнулась и сквозь ружья на стойке посмотрела назад. На светлых досках чернели слова, написанные краской из баллончика:
ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН. ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. БУДУ СТРЕЛЯТЬ.
Лени отметила, что отец не запер ворота. Они выбрались на главную дорогу, миновали арку на повороте к участку Уокеров, проехали мимо дорожки, которая вела к дому Мардж Берд-солл.
За взлетной полосой под колесами захрустел недавно положенный гравий. Впереди показался деревянный мост, у крашеных перил стояли люди в разноцветных дождевиках, смотрели на реку и показывали друг другу на ярко-красных лососей, которые плыли в прозрачной воде, чтобы отложить икру и умереть.
Папа опустил окно, крикнул: «Валите к себе в Калифорнию», и пикап с грохотом проехал мимо туристов, извергнув клубы черного дыма.
В городе Главную улицу перегородила баррикада из козел, белых ведер и оранжевых конусов — чтобы туристы не подходили к экскаватору, который работал перед закусочной. За ним вдоль улицы зиял свежий шрам траншеи и громоздились кучи земли.
Папа так врезал по тормозам, что старенький пикап пошел юзом в высокой траве на обочине. Отсюда они разглядели, кто управлял экскаватором. Том Уокер.
Папа рывком перевел рычаг на нейтральную передачу и заглушил мотор. Навалился боком на дверь, которая никак не желала поддаваться, открыл, выпрыгнул из машины. Не успела Лени проговорить: «Мам, не уходи, возьми меня за руку», как папа подошел к пассажирской двери, распахнул ее, схватил маму за запястье и вытащил из фургона.
Мама с ужасом оглянулась на Лени, прошептала одними губами: «Беги», но тут папа рванул ее к себе, и она едва не упала, стараясь за ним поспеть.
— Черт, — выругалась Лени.
Она видела, как родители шагают мимо немногих туристов, случившихся на улице погожим августовским днем, папа расталкивает людей локтями, отпихивает в стороны.
Лени не усидела на месте, бочком выскользнула из машины и бросилась за родителями. Вдруг удастся вырвать у него маму. Им ведь не надо много времени, чтобы улизнуть. Если понадобится, они и лодку украдут. Может, папа сейчас отвлечется, и они под шумок убегут.
— Уокер! — заорал папа.
Мистер Уокер заглушил мотор экскаватора, снял мокрую от пота бейсболку.
— Эрнт Олбрайт, — ответил он. — Какой удивительно приятный сюрприз.
— Что ты вытворяешь?
— Траншею копаю.
— Зачем?
— Чтобы провести электричество. Я поставлю генератор.
— Что?
Мистер Уокер повторил по слогам, медленно, словно собеседник его плохо понимал по-английски: «э-лек-три-че-ство».
— Кому оно здесь нужно?
— Я заплатил владельцам всех магазинов в городе за право провести линию по их земле. Наличными, — ответил мистер Уокер. — Людям нужен свет, холодильники, отопление. А, и фонари на улицах. Что ж тут плохого?
— Я тебе не позволю.
— И что ты мне сделаешь? Снова напишешь краской ругательства? Не советую. Во второй раз тебе это с рук не сойдет.
Лени подошла к маме, схватила ее за рукав, попыталась оттащить от папы, пока тот отвлекся.
— Лени! — окликнул ее Мэтью. Он стоял перед салуном, в руках большая картонная коробка.
— Спаси нас! — крикнула она.
Папа схватил Лени за плечо, рванул к себе.
— Это от чего же вас надо спасать?
Она замотала головой и прохрипела:
— Ни от чего, так, вырвалось.
Лени бросила взгляд на Мэтью, который поставил коробку на землю, сошел с дощатого тротуара и направился к ним.
— Скажи ему, чтобы остановился, иначе, видит бог, я ему… — Папа положил руку на висевший на поясе нож.
— Все в порядке, — крикнула она Мэтью, но догадалась, что он ей не поверил. Он же видел, что она плачет. — Н-не подходи. И передай отцу, что все у нас хорошо.
Мэтью окликнул ее. Лени прочитала это по губам, но голоса не услышала.
Папа крепче стиснул ее плечо, и ей показалось, будто в тело впились клещи. Отвел обеих к фургону, втолкнул внутрь и захлопнул за ними дверь.
Все уместилось в какие-нибудь две минуты. Приезд в город, скандал, крик о помощи, возвращение в машину.
На обратном пути папа бормотал себе под нос. Разобрать можно было только слова «Уокер» и «лгунья».
Мама держала Лени за руку. Они проехали по изрезанной колеями дороге, свернули к себе на участок. Лени пыталась придумать, как успокоить отца. И зачем она только это крикнула? Знала же, что звать на помощь нельзя.
Любовь и страх.
Самые разрушительные силы на свете. Страх выворачивал ее наизнанку, любовь лишила рассудка.
Папа въехал в ворота, по-прежнему что-то бормоча себе под нос. Лени подумала: «Сейчас он выйдет закрыть замок, я прыгну за руль, включу заднюю передачу и врежу по газам». Но запирать ворота он не стал.
Ворота открыты. Значит, ночью можно убежать…
У крыльца он включил нейтральную передачу, заглушил мотор, схватил Лени за руку и поволок за собой по траве, вверх по лестнице и с такой силой втолкнул в дом, что она споткнулась и упала.
Сзади к папе с делано невозмутимым видом подошла мама. Лени не представляла, как ей удавалось притворяться, будто ничего особенного не происходит.
— Ну успокойся, Эрнт, оно того не стоит. Пожалуйста. Давай поговорим. — Она положила руку ему на плечо.
— Ты тоже думаешь, что вас надо спасать? — натянутым голосом поинтересовался он.
— Она же еще ребенок. Она ничего такого не имела в виду.
Лени заметила, как тяжело отец дышит, как сжимает кулаки, как привстает на цыпочки. Его буквально распирало от напряжения и злости.
— Ты все врешь, — сказал он.
Мама покачала головой.
— Нет. Не вру. Я вообще не понимаю, о чем ты.
— Вечно эти Уокеры, — пробормотал он.
— Эрнт, это же глупо…
Он швырнул ее в стену, мама упала. Не успела мама встать, как он набросился на нее, схватил за волосы, запрокинул голову и вмазал кулаком. Мама ударилась виском об пол.
Лени прыгнула отцу на спину, вцепилась в него что было сил, дернула за космы, заорала:
— Отпусти ее!
Он вывернулся, ударил маму лбом об пол.
Лени услышала, как за спиной открылась дверь, и в следующее мгновение ее оторвали от отца. Краем глаза Лени увидела Мэтью. Он оттащил отца от матери, развернул. Удар мощного кулака повалил отца на пол, он рухнул на колени.
Лени кинулась к маме, помогла ей подняться.
— Нам надо бежать. Сейчас.
— Беги. — Мама испуганно оглянулась на своего мучителя, который стонал от боли. — Беги. — Лицо у нее было в крови, губа лопнула.
— Я тебя не брошу!
У мамы на глазах навернулись слезы и покатились по щекам, мешаясь с кровью.
— Он меня никогда не отпустит. А ты беги. Беги.
— Нет, — повторила Лени. — Я тебя не брошу.
— Она права, миссис Олбрайт, — вмешался Мэтью. — Вам нельзя здесь оставаться.
Мама вздохнула:
— Ладно. Я пойду к Мардж. Она меня защитит. Но тебе со мной нельзя. Поняла? Если он за мной придет, я не хочу, чтобы ты была там. — Мама посмотрела на Мэтью: — Я хочу, чтобы она уехала хотя бы на сутки. Спряталась где-нибудь, где он не сможет ее найти. На этот раз я обращусь в полицию. Подам заявление.
Мэтью серьезно кивнул:
— Я не дам Лени в обиду, миссис Олбрайт. Обещаю.
Папа застонал, выругался, попытался встать.
Мама схватила тревожный чемоданчик и сунула Лени:
— На. А теперь бежим.
Они вылетели из дома на залитый солнцем двор и помчались к фургону Мэтью.
— Садитесь, — крикнул он, подбежал к папиному пикапу, открыл капот и что-то сделал с двигателем.
Дверь за ними распахнулась. Из дома, пошатываясь, вышел папа.
Лени услышала, как щелкнул курок.
— Кора! — Папа стоял на крыльце. Из его рассеченного лба обильно сочилась кровь, заливала глаза. В руках он сжимал ружье. — Где ты, твою мать?
— Садитесь! — крикнул Мэтью, швырнул что-то за деревья, через мгновение оказался за рулем и завел двигатель.
Под градом дроби, со свистом рассекавшей воздух, Лени прыгнула в машину, мама втиснулась рядом с ней. Мэтью врубил передачу и нажал на газ. Машина пошла юзом в высокой траве, но вскоре колеса поймали сцепление с дорогой. Мэтью промчался по подъездной дорожке, вылетел в открытые ворота и вырулил на главную дорогу.
Они свернули к Марджи-шире-баржи, подъехали к дому, посигналили.
— Спрячь ее где-нибудь в надежном месте, подальше от меня, — сказала мама Мэтью, и тот кивнул.
Лени посмотрела на маму. Вся их жизнь — и любовь — выразилась в этом взгляде.
— Ты к нему не вернешься, мама. Ты обратишься в полицию. Подашь заявление. Мы с тобой встретимся через сутки. И уедем отсюда. Обещаешь?
Мама кивнула, крепко обняла Лени, расцеловала в мокрые от слез щеки.
— Уезжайте, — отрывисто сказала она.
Мама с трудом вышла из машины, они уехали. Лени прокручивала в голове все, что случилось, и тихо плакала. Дышать было больно, ее так и подмывало вернуться, остаться с мамой. Может, зря она ее оставила?
Мэтью свернул на участок Уокеров, проехал под аркой, встречавшей гостей.
— Туда нельзя! Он именно здесь и будет нас искать! — сказала Лени. — Мама же говорила, что нам нужно уехать на сутки.
Мэтью припарковался, вышел.
— Да. Но сейчас отлив. Мы не сможем взять ни лодку, ни гидросамолет. Я знаю одно-единственное место, где можно спрятаться. Сиди здесь.
Пять минут спустя Мэтью вернулся с рюкзаком и швырнул его в багажник.
Лени то и дело оглядывалась через плечо на подъездную дорожку.
— Не бойся. Ему еще надо будет найти крышку распределителя, — успокоил ее Мэтью.
Они снова тронулись в путь, свернули сперва на главную дорогу, потом налево, в горы.
Повороты. Серпантин. Переправы через реки. Они забирались все выше и выше.
Наконец выехали на грунтовую парковку и остановились. Других машин на стоянке не было. На указателе в начале тропы виднелась надпись:
ЗАПОВЕДНИК «МЕДВЕЖИЙ КОГОТЬ»
РАЗРЕШАЕТСЯ: гулять, разбивать лагерь, заниматься скалолазанием
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРОПЫ: 2,8 мили в одну сторону
ОПАСНОСТИ: отвесные скалы
РАССТОЯНИЕ ДО ВЫСШЕЙ ТОЧКИ: 2600 футов
МЕСТО ДЛЯ ПРИВАЛА: Сотус-Ридж, у знака переправы через Игл-Крик
Мэтью помог Лени вылезти из машины, опустился на одно колено, проверил, как зашнурованы ее ботинки, туже завязал шнурки.
— Ну что, готова?
— А если он…
— Она от него сбежала. Мардж о ней позаботится. И она хотела, чтобы ты была в безопасности.
— Ты прав. Пошли, — вяло ответила Лени.
— Идти долго. Выдержишь?
Лени кивнула.
Они направились к тропе — Мэтью впереди, Лени за ним, стараясь не отставать.
Они взбирались на гору несколько часов, не встретив ни души. Тропа змеилась по отвесной гранитной скале, под ними простиралось море, волны бились о камни. Земля содрогалась от их ударов — а может, Лени это только придумала, потому что положение ее стало таким шатким. Даже почва казалась зыбкой.
Наконец Мэтью привел их к цели — большой поляне, поросшей травой и лиловыми люпинами. Вдали маячили снежные вершины, у подножия гор тянулись пласты гранита, испещренные белыми точками, — там паслись дикие овцы.
Мэтью бросил рюкзак на землю, развязал, обернулся к Лени, дал ей сэндвич с копченым лососем, банку теплой кока-колы, а сам, пока она ела, поставил в высокой траве палатку.
Позже, когда перед оранжевой палаткой с поднятым пологом трещал костер, Мэтью сел рядом с Лени. Обнял ее. Она прильнула к нему.
— Тебе не придется защищать ее в одиночку, — сказал он. — Мы все поможем вам. В Канеке всегда так.
Лени хотелось, чтобы это было правдой. Ей хотелось верить, что для нее и мамы найдется безопасное место, где они смогут начать новую жизнь, причем не на обломках старой, сожженной дотла. Как же она мечтала избавиться от изматывающей, одинокой ответственности за маму.
Она обернулась к Мэтью и подумала, что любит его так сильно, так отчаянно, словно ее удерживали под водой и теперь ей не хватало воздуха.
— Я тебя люблю.
— И я тебя, — ответил он.
Здесь, на бескрайних просторах Аляски, эти слова звучали беспомощно и жалко. Как будто грозишь кулаком богам.
Двадцать один
Он должен ее уберечь.
Лени — его путеводная звезда. Он понимал, что это звучит глупо, по-девчачьи сентиментально, что люди скажут — дескать, мал ты еще, чтобы о таком рассуждать, но он давным-давно повзрослел. Когда погибла мама.
Он не сумел уберечь маму, спасти ее.
Теперь он сильнее.
Всю ночь он обнимал Лени, любил ее, чувствовал, как она вздрагивала от страшных снов, слушал, как она всхлипывала. Уж он-то знал, каково это — кошмары о маме.
Когда первый луч солнца пробился сквозь оранжевый нейлон палатки, Мэтью наконец отодвинулся от Лени, улыбнулся тому, как она тихонько похрапывает. Натянул вчерашнюю одежду, надел походные ботинки и вылез наружу.
По небу неслись серые тучи, нависали над самой головой. Ветерок был легче вздоха, но ведь стоял конец августа. Листва по ночам меняла цвет. Они оба понимали, что это значит. А здесь, наверху, погода портится еще быстрее.
Мэтью принялся разводить огонь на черневшем в траве вчерашнем кострище. Сел на камень, наклонившись вперед, уставился на дрожавшее пламя. Поднявшийся ветер норовил загасить огонь.
Сидя в одиночестве у костра, Мэтью признался себе, что боится, не ошибся ли, решив привезти сюда Лени, не ошибся ли, оставив Кору в Канеке. Вдруг обернется и увидит, как по тропе стремительно шагает Эрнт с ружьем в одной руке и бутылкой виски в другой.
И больше всего он боялся за Лени. Даже если все получится, даже если она все сделает правильно, спасет маму, эта рана останется в ее сердце навсегда. Неважно, почему ты остался без родителей, были они хорошими или никудышными, все равно тебе будет их не хватать. Мэтью горевал по маме, которая у него была, и догадывался, что Лени будет тосковать по тому отцу, которого ей всегда не хватало.
Он поставил походный кофейник на огонь, прямо в костер.
За спиной послышался шорох, чиркнула молния палатки. Лени откинула полог и вылезла на утренний свет. Когда она заплетала косу, в глаз ей попала капля дождя.
— Доброе утро. — Мэтью протянул ей кофе, и еще одна капля булькнула в железную кружку.
Лени взяла кружку обеими руками, села рядом, привалилась к Мэтью. Следующая капля звякнула о кофейник, зашипела, превратилась в пар.
— Вовремя мы проснулись, — заметила Лени. — С минуты на минуты ливанет.
— На Глешиер-Ридж есть пещера.
Она посмотрела на него:
— Я не могу здесь оставаться.
— Но твоя мама сказала…
— Я боюсь, — тихо призналась Лени.
В голосе ее сквозило сомнение, и Мэтью понял: она не просто сообщает, что ей страшно, но и спрашивает о чем-то.
Он догадался о чем.
Она не знала, как поступить, и боялась ошибиться.
— Как думаешь, может, мне лучше сейчас вернуться к ней? — спросила Лени.
— Я думаю, нельзя бросать тех, кого любишь.
Он заметил ее облегчение. И любовь.
— Может, у меня не получится поехать учиться. Ты же это понимаешь, да? Если мы убежим, нам придется спрятаться там, где он не станет искать.
— Я поеду с тобой, — пообещал Мэтью. — Куда угодно.
Она вздохнула. Сейчас она казалась такой слабой, того и гляди потеряет сознание.
— Знаешь, за что я тебя больше всего люблю?
— За что?
Она опустилась на колени в мокрую траву, взяла его лицо в холодные ладони, поцеловала. Ее губы пахли кофе.
— За все.
После этого говорить было особенно не о чем. Мэтью понимал, что Лени волнуется, не может думать ни о чем, кроме мамы, и пока она чистила зубы и скатывала спальник, у нее на глаза то и дело наворачивались слезы. И он понимал, какое она испытывает облегчение, оттого что вернется к маме.
Он ее спасет.
Обязательно. Придумает как. Обратится в полицию, в газету, к отцу. А может, чем черт не шутит, сам пойдет к Эрнту. Те, кто обижает слабых, обычно трусливы, их ничего не стоит осадить.
Глядишь, и получится.
Надо вынудить Эрнта расстаться с Лени и Корой, и тогда Лени, быть может, поедет с ним учиться. Даже не обязательно в Анкоридже. Или вообще не на Аляске. Какая разница? Главное, чтобы они были вместе.
Уж где-нибудь найдется им местечко, чтобы начать новую жизнь.
Они позавтракали, собрали вещи и спустились по тропе футов на пятьдесят, когда разразилась гроза. Тропа в этом месте была такой узкой, что идти приходилось гуськом.
— Не отставай, — бросил Мэтью, стараясь перекричать шум дождя и вой ветра. Куртка его шелестела, точно колода карт, когда ее тасуют, мокрые волосы облепили лицо, закрыли глаза. Он потянулся к Лени, но ее ладонь выскользнула из его руки.
По тропе бежали ручейки, гранит стал скользким. Ветер с дождем трепали заросли иван-чая, прибивали к земле.
Сгустился мрак, все заволокло туманом. Мэтью прищурился, стараясь сквозь завесу воды разглядеть хоть что-то.
Дождь барабанил по нейлоновому капюшону его куртки, капли стекали по щекам, заползали за воротник, свисали с ресниц.
И вдруг он услышал…
Крик.
Мэтью обернулся. Лени не было. Он бросился обратно, выкрикивая ее имя. Ветка хлестнула его по лицу. Сильно. И он увидел ее. Футах в двадцати, не на тропе: она слишком забрала вправо. Мэтью увидел, как она оступилась и пошатнулась.
Лени закричала, попыталась поймать равновесие, устоять на ногах, взмахнула руками, стараясь за что-нибудь уцепиться — за что угодно.
Не за что.
— Ле-ни! — заорал он.
Она сорвалась со скалы.
* * *
Боль.
Лени очнулась в зловонной темноте. Она лежала в грязи и не могла шевельнуться от боли. Кап-кап-кап: шел дождь. Стучал о камни. Смердело тухлятиной и гнилью.
Болело в груди — видимо, сломала ребро. Да, точно. И, кажется, левую руку. Не то сломала, не то вывихнула плечо.
Спина упиралась в рюкзак. Похоже, этот тревожный чемоданчик действительно спас ей жизнь.
Забавно.
Она потянула с плеч лямки рюкзака, стараясь не обращать внимания на жгучую боль, которая пронзала насквозь, стоило лишь пошевелиться. Целую вечность спустя она освободилась от рюкзака и лежала, раскинув ноги и руки и тяжело дыша. Ее тошнило.
Двигайся, Лени.
Она скрипнула зубами, перевернулась на бок, приподняла голову и огляделась, с трудом переводя дыхание и стараясь не разреветься.
Темнота.
Ужасно воняло гнилью и плесенью. Она лежала в глубокой липкой грязи, вокруг высились скользкие мокрые скалы. Сколько же она пролежала без сознания?
Она поползла, прижимая к телу сломанную руку. Медленно и мучительно выбралась в полосу света, падавшего на гранитную плиту, из которой вода и время выточили что-то вроде блюдца.
Боль была такая, что ее стошнило, но она все равно упрямо двигалась вперед.
Вдруг ее окликнули.
Лени заползла в гранитное блюдце, посмотрела вверх. Дождь слепил глаза.
Наверху краснела куртка Мэтью.
— Ле-ни!
«Я здесь!» — хотела было ответить она, но от боли в груди не смогла вымолвить ни слова. Помахала ему здоровой рукой, но он ее, конечно, не увидел. Расщелина над ее головой была узкой, не шире ванны. В нее лупил дождь, и в темной пещере его стук отдавался оглушительным эхом.
— Иди за подмогой! — крикнула она что было мочи.
Мэтью свесился над расселиной, пытаясь дотянуться до дерева, что упрямо росло из скалы.
Он собирался спуститься к ней.
— Нет! — крикнула она.
Он спустил одну ногу со скалы и принялся нащупывать опору. Остановился — видно, думал, как быть дальше.
Правильно. Не лезь сюда. Это слишком опасно. Лени вытерла глаза, стараясь разглядеть хоть что-то сквозь потоки дождя.
Мэтью нашарил ногой опору, перелез через край скалы и повис.
Так он провисел довольно долго — сине-красный крест на серой скале. Наконец уцепился за торчавшее неподалеку дерево, потянул на себя, проверяя, выдержит ли, и спустился чуть ниже.
Лени услышала, как загрохотали камни, и сразу догадалась, что происходит, увидела точно в замедленной съемке.
Мэтью вырвал дерево из скалы.
И сверзился вниз, так и не выпустив веток.
Камни, глина, грязь, дождь, Мэтью падает, и крик его тонет в шуме обвала. Он летит кубарем, ломая ветки, рикошетит от валунов.
Лени закрыла лицо рукой, повернула голову; на нее обрушились камни, рассекли щеку.
— Мэтью. Мэтью!
Последний камень Лени заметила слишком поздно и увернуться уже не успела.
* * *
Лени с мамой плавают по заливу Татка на каноэ, которое папа нашел на свалке. Мама рассказывает о своем любимом фильме, «Великолепие в траве». История о первой любви, которая кончилась так печально. «Уоррен любит Натали, это видно, но этого мало».
Лени слушает вполуха. Слова не имеют значения. Важен момент. Они с мамой наслаждаются свободой, живут другой жизнью, и плевать, что дома ждет список дел.
Мама говорит про такие погожие деньки: «Надо же, как с погодой повезло, прямо поймали синюю птицу счастья», но над ними в ясном лазурном небе парит не синяя птица, а белоголовый орлан с огромными крыльями. Неподалеку на слоистых черных камнях нежатся морские котики, тявкают на орла. Кричат ржанки, но близко не подлетают. На верхушке дерева, возле огромного орлиного гнезда, блестит розовый собачий ошейник.
Мимо каноэ, тревожа водную гладь, с ревом проносится катер.
Туристы машут им, вскидывают фотоаппараты.
— Можно подумать, они каноэ никогда не видели, — замечает мама и берет весло. — Ладно, пора домой.
— Вот бы эта прогулка никогда не кончалась, — хнычет Лени.
Мама улыбается какой-то чужой улыбкой. Здесь что-то не так.
— Ты должна его спасти, доченька. И себя.
Вдруг каноэ так сильно кренится, что все валится в воду — бутылки, термосы, рюкзачок.
Мама кувырком летит через Лени, с криком плюхается в воду и скрывается из виду.
Каноэ выпрямляется.
Лени хватается за борт, смотрит на воду, кричит: «Мама!»
Из пучины показывается черный плавник, острый как нож, поднимается выше и выше, становится ростом с Лени. Косатка.
Плавник заслоняет солнце, закрывает небо, и все погружается во мрак.
Лени слышит, как скользит по волнам кит, с плеском выныривает на поверхность, фыркая, выдувает воздух из дыхала. Изо рта у косатки несет гнилой рыбой.
Задыхаясь, Лени открыла глаза. Голова раскалывалась, во рту привкус крови.
Вокруг действительно было темно и воняло тухлятиной. Гнилью.
Она подняла глаза. В расщелине меж двух валунов торчал Мэтью, ноги его висели над самой ее головой: зацепился рюкзаком и застрял.
— Мэтью! Мэтью!
Но он ничего не ответил.
Может, не в состоянии говорить? Может, умер?
На лицо ей упала капля. Лени вытерла ее, почувствовала вкус крови.
С трудом попыталась сесть. Ее пронзила такая боль, что Лени вырвало, и она потеряла сознание. А когда пришла в себя, ее едва опять не стошнило от запаха рвоты на груди.
Думай. Помоги ему. Она же аляскинка. А значит, выживет всем чертям назло. Ведь это единственное, что она умеет. Единственное, чему научил ее отец.
— Мэтью, мы в расщелине. Не в медвежьей пещере. Уже хорошо.
Значит, бурый медведь не явится сюда на ночлег. Лени дюйм за дюймом ощупала скользкую скалу. Нет прохода.
Она отползла обратно на плиту-блюдце и уставилась вверх, на Мэтью.
— Выход только один: наверх.
С его ноги на камень капала кровь.
Лени встала.
— Ты загораживаешь единственный выход. Придется мне вытащить тебя оттуда. Вот только рюкзак мешает. (Из-за него Мэтью и застрял.) Если я сниму с тебя рюкзак, ты упадешь.
Упадет. Не лучший вариант, но ничего другого в голову не пришло.
Ладно.
Но как это сделать?
Лени засунула сломанную руку за пояс и осторожно двинулась вперед. Не то соскользнула, не то слетела с каменного блюдца и плюхнулась в вязкую грязь. Грудь пронзила такая боль, что Лени ахнула. Порылась в рюкзаке, нащупала нож. Зажала его в зубах, подползла под ноги Мэтью.
Осталось дотянуться до него и перерезать лямки рюкзака.
Но как? Она даже до ног не достает.
Надо вскарабкаться на скалу. Легко сказать. У нее рука сломана, а скала скользкая, мокрая.
По камням.
Она отыскала несколько больших плоских камней, подтащила их к скале, сложила друг на друга. Это заняло целую вечность, Лени даже показалось, что она пару раз теряла сознание, а когда приходила в себя, снова бралась за дело.
Наконец удалось сложить стопку высотой фута полтора. Лени глубоко вдохнула и забралась наверх.
Под ее тяжестью один из камней выскользнул из-под ног.
Лени упала, ударилась сломанной рукой, закричала.
Четырежды она пыталась взобраться на камни и каждый раз падала. Нет, так дело не пойдет. Камни чересчур скользкие и шаткие, на них не устоишь.
Ладно.
Значит, по груде камней добраться до Мэтью не получится. Могла бы сразу догадаться.
Она с трудом подошла к скале, коснулась холодного влажного гранита. Здоровой рукой принялась ощупывать камень, отмечая каждый выступ, ребро, ямку. По обе стороны от Мэтью сочился тусклый свет. Лени порылась в рюкзаке, нашла налобный фонарик, надела и хорошенько рассмотрела скалу — уступы, дыры, точки опоры.
Пошарила рукой вверху, сбоку, внизу, отыскала крохотный выступ, куда можно поставить ногу, встала на него. Поймала равновесие, принялась нащупывать следующую опору.
Сорвалась, растянулась внизу и, тяжело дыша, оглушенная, уставилась на Мэтью.
Не сдамся. Попробую еще раз.
С каждой попыткой она запоминала еще один выступ в скале. На шестой раз ей удалось забраться наверх и ухватиться за рюкзак Мэтью для равновесия. На левую ногу его было страшно смотреть: из рваной раны торчит сломанная кость, ступня вывернута чуть ли не назад.
Мэтью бессильно висел, наклонив голову набок, лицо так перепачкано кровью, что не узнать.
Лени не поняла, дышит он или нет.
— Я здесь, Мэтью, держись, — сказала она. — Сейчас отрежу лямки и тебя освобожу.
Карманным ножиком перерезала лямки рюкзака на плечах и на поясе. Одной рукой возилась долго, но в конце концов справилась.
И ничего.
Она перерезала все лямки, а Мэтью не упал. Ничего не изменилось.
Она изо всех сил дернула его за здоровую ногу.
Ничего.
Потянула еще раз, потеряла равновесие и упала в грязь.
— Почему? — крикнула она в расселину. — Почему?
Лязгнул металл, что-то стукнуло о скалу.
Мэтью рухнул, врезался в скалу и с глухим стуком приземлился в грязь возле Лени. Рядом плюхнулся рюкзак.
Лени подползла к Мэтью, положила его голову к себе на колени, грязными ладошками вытерла окровавленное лицо.
— Мэтью! Мэтью!
Он захрипел, закашлялся. Лени едва не разревелась.
Выключила налобный фонарик, отволокла Мэтью к камню-блюдцу и с трудом втащила на неровную плиту.
— Я здесь, — сказала она, забравшись к нему. Лени не осознавала, что плачет, пока не увидела, как слезы капают на его чумазое лицо. — Я тебя люблю. Все у нас получится. У нас с тобой. Вот увидишь. Мы…
Она бы и рада была продолжать, ей этого хотелось, она понимала, что это нужно, но не могла думать ни о чем, кроме того, что он оказался здесь из-за нее. Она во всем виновата. Он сорвался со скалы, пытаясь ее спасти.
* * *
Она кричала, пока не сорвала голос, но никто ее не услышал. Никто не пришел на помощь. Никто не знал, что они ушли по тропе, и уж тем более — что провалились в расщелину.
Она провалилась.
А он пытался ее спасти.
И теперь они лежат в грязи. Израненные. Избитые. Жмутся друг к другу на плоском холодном камне.
Думай.
Мэтью лежал рядом с ней. Окровавленное лицо его распухло до неузнаваемости, кожа на щеке была содрана, и кровавый лоскут свисал собачьим ухом, обнажая красно-белую кость.
Снова пошел дождь. Вода стекала по скале, превращая грязь в топь. Вода была повсюду: кружилась водоворотами в ямках, брызгала, прибывала. В тусклом свете, что сочился на них вместе с дождем, кровь на лице Мэтью стала розовой.
Спаси его. Спаси нас.
Она перелезла через него, соскользнула с каменной плиты, порылась в его рюкзаке, нашла кусок брезента. Одной рукой его привязать получилось не сразу, но в конце концов ей это удалось, и в два больших термоса набралась вода. Лени залезла обратно на камень.
Наклонила голову Мэтью, напоила его. Он судорожно глотал, давился, кашлял. Лени отставила термос в сторону и принялась рассматривать ногу Мэтью. Та походила на груду фарша с торчавшей костью.
Лени вернулась к рюкзакам, достала все лекарства, которые были. Аптечку собирали на совесть: нашелся и антисептик, и марля, и аспирин, и гигиенические прокладки. Сняла ремень.
— Сейчас будет больно. Хочешь, я тебе стихи почитаю? Помнишь, как мы любили Роберта Сервиса? В детстве мы его наизусть знали.
Она обвязала его бедро ремнем и затянула так туго, что Мэтью застонал и забился. Лени расплакалась, но затянула ремень еще туже, и Мэтью потерял сознание.
Она наложила на рану прокладки и марлю, залепила пластырем.
И обняла его, как сумела — со сломанной рукой и ребром.
Пожалуйста, не умирай.
Быть может, он ее не слышит. Быть может, ему холодно, как и ей. Они промокли насквозь.
Но он должен знать, что она здесь.
Стихи. Она наклонилась и, клацая зубами, хриплым срывающимся голосом прошептала ему на ухо: «Бывали ли вы в бескрайней глуши, где ярко светит луна…»[65]
* * *
Он что-то слышит. Какие-то сумбурные звуки, они капают в лужу, растекаются в разные стороны.
Он пытается пошевелиться. Никак.
Весь затек. Под кожей словно иглы да булавки.
Боль. Мучительная. Голова раскалывается, нога горит.
Он снова пытается пошевелиться, стонет. Ничего не соображает.
Где он?
Болит все тело. Он не чувствует ничего, кроме боли. Ничего другого не осталось. Только боль. Ничего не видно. Никого рядом.
Нет.
Она.
Что это значит?
«МЭТЬЮМЭТЬЮМЭТЬЮ».
Он слышит этот звук. Что-то это значит, но что?
Боль затмевает все. Голова так болит, что сил нет думать. Пахнет рвотой, плесенью, гнилью. Ноздри и легкие саднит. Он не может дышать: задыхается.
Он наблюдает за болью, подмечает нюансы. Голову давит, сжимает, словно кто-то стучит изнутри; ногу режет, пронзает, бросает то в жар, то в холод.
«Мэтью».
Чей-то голос. (Ее.) Точно солнышко на лице.
«Яздесь. Яздесь».
Бессмыслица.
«Сефпорядке. Яздесь. Япрочитаютебедругоестихотворение. МожетпроСэмаМакги».
Кто-то прикасается к нему.
Боль! Кажется, он стонет.
А может, все это ложь…
* * *
Он умирает. Чувствует, как вытекает жизнь. Даже боль прошла.
Он ничто, кусок мяса в сыром холоде, мочится под себя, блюет, стонет. Иногда перестает дышать, а когда снова делает вдох, заходится кашлем.
Как же воняет. Плесень, говно, гниль, ссаки, блевотина. По нему ползают жуки, жужжат в ушах.
Единственное, что не дает ему загнуться, — Она.
Она говорит и говорит. Знакомые рифмованные строчки, в которых даже есть смысл. Он слышит ее дыхание. Знает, когда она бодрствует, когда засыпает. Она дает ему воду, поит его.
Из носа у него течет кровь. Он чувствует — склизкая, липкая.
Она туманится.
Нет. Другое слово.
Плачет.
Он цепляется за это слово, но оно мелькает так же быстро, как остальные. Он снова уплывает.
Она.
«ЯлюблютебяМэтьюнебросайменя».
Сознание его покидает. Он пытается барахтаться, но тщетно, и тонет в зловонной темноте.
Двадцать два
Две страшные холодные ночи спустя Мэтью в первый раз пошевелился. Он не пришел в сознание, не открыл глаза, лишь застонал и как-то жутко закряхтел, словно задыхался.
Над ними синела трапеция неба. Дождь наконец перестал. Лени ясно видела скалу — все ребра, ямки, опоры для ног.
Он горел в лихорадке. Лени заставила его проглотить еще аспирина, вылила остатки антисептика на рану, поменяла марлевую повязку, снова заклеила пластырем.
И все равно чувствовалось, что жизнь утекает из него. В лежавшем рядом с ней переломанном теле не осталось его.
— Не бросай меня, Мэтью…
В темноте послышался стрекот, далекий гул вертолета.
Лени выпустила Мэтью, сползла с камня в грязь.
— Мы здесь! — закричала она и поползла туда, где сквозь расщелину виднелось небо. Прижалась к отвесной скале, замахала здоровой рукой, закричала: — Мы тут! Внизу!
Что это? Собачий лай, голоса людей.
На нее посветили фонариком.
— Ленора Олбрайт, — крикнул мужчина в коричневой форме, — это вы?
* * *
— Сначала мы вытащим вас, Ленора, — сказал кто-то. Лица она не разглядела в мешанине тени и света.
— Нет! Сначала Мэтью. Он… ему хуже.
Не успела она опомниться, как ее привязали к клети и втащили по отвесной скале. Клеть с лязгом билась о гранит. Боль отдавалась в груди, в руке.
Клеть со стуком приземлилась на твердую почву. Солнце ослепило Лени. Повсюду были мужчины в форме, надрывно лаяли собаки. Раздавались свистки.
Она снова закрыла глаза, почувствовала, что ее несут по тропе на травянистую поляну, услышала гул вертолета.
— Я хочу подождать Мэтью, — закричала она.
— Все будет хорошо, мисс, — ответил какой-то мужчина в форме, низко наклонившись над ней; его нос торчал посередине лица, как гриб. — Мы отвезем вас в больницу в Анкоридже.
— Мэтью. — Она вцепилась мужчине в воротник и рванула на себя.
Тот изменился в лице.
— Парень? Он за вами. Мы его вытащили.
Он не сказал, что с Мэтью все будет хорошо.
* * *
Лени медленно открыла глаза, увидела полосу ламп на потолке, белую светящуюся линию на звукоизолирующей плитке. В комнате стоял приторно-сладкий запах от множества букетов, в воздухе висели воздушные шары. Ребра перевязали так крепко, что было больно дышать, на сломанную руку наложили гипс. В окне лиловело небо.
— Проснулась моя доченька, — сказала мама. Левая щека ее опухла, лоб был иссиня-черным. Мятая грязная одежда — давно дежурит, не отходя от койки. Мама поцеловала Лени в лоб, нежно убрала волосы с ее глаз.
— Ты цела, — с облегчением ответила Лени.
— Цела, конечно. Мы за тебя беспокоились.
— Как нас нашли?
— Где мы только не искали. Я чуть с ума не сошла от страха. Все испереживались. Наконец Том вспомнил про место, которое любила его жена. Отправился на поиски, обнаружил пикап. Спасатели заметили сломанные ветки на хребте Медвежьего когтя, там, где ты упала. Слава богу, мы вас нашли.
— Мэтью пытался меня спасти.
— Я знаю. Ты только об этом врачам «скорой» и твердила всю дорогу.
— Что с ним?
Мама погладила Лени по ушибленной щеке:
— Ничего хорошего. Врачи опасаются, что он не доживет до утра.
Лени с усилием села. Каждое движение, каждый вдох причиняли боль. Из тыльной стороны кисти торчала игла, а вокруг нее на фиолетовый синяк прилепили пластырь телесного цвета. Лени выдернула иглу и отшвырнула в сторону.
— Что ты делаешь? — встревожилась мама. — У тебя два ребра сломано.
— Мне нужно увидеть Мэтью.
— Ночь на дворе.
— Мне все равно. — Она спустила с кровати голые, покрытые синяками и ссадинами ноги.
Подошла мама, подставила ей плечо, и они прошаркали к двери.
У двери мама высунула голову, выглянула в коридор, кивнула. Они выскользнули из палаты, мама тихо закрыла за ними дверь. Пересиливая боль, Лени вслед за мамой ковыляла на перевязанной ноге то одним коридором, то другим, пока наконец они не очутились в ярко освещенном, гнетуще-технологичном пространстве под названием «отделение реанимации».
— Постой здесь, — велела мама и пошла вперед, заглядывая в палаты. У последней справа остановилась, обернулась и поманила Лени.
На двери за маминой спиной Лени увидела лист в прозрачной пластиковой папке. УОКЕР, МЭТЬЮ.
— Приготовься, — предупредила мама. — Выглядит он плохо.
Лени открыла дверь, зашла.
Повсюду стояли приборы — щелкали, гудели, жужжали, вздыхали, как человек.
На кровати кто-то лежал. Неужели это Мэтью?
Голову его обрили, обмотали повязками, лицо крест-накрест забинтовали, и белая ткань порозовела от сочившейся из ран крови. Один глаз спрятали под защитной повязкой, второй, закрытый, заплыл. Висевшая на кожаной петле дюймах в восемнадцати над кроватью забинтованная нога так распухла, что походила на бревно. Лени видела лишь огромные фиолетовые пальцы. Из полуоткрытого рта торчала трубка, соединявшая его с аппаратом, который поднимался и опускался, делая вдох и выдох, надувал и сдувал грудную клетку. Дышал за Мэтью.
Лени взяла его горячую сухую руку.
Он был здесь, сражался за жизнь ради Лени, ради любви к ней.
Она наклонилась и прошептала:
— Мэтью, не бросай меня. Пожалуйста. Я тебя люблю.
Она не знала, что еще сказать.
Лени стояла возле него долго, пока хватало сил, и надеялась, что он чувствует ее руку, слышит ее дыхание, понимает ее слова. Казалось, прошло несколько часов, пока наконец мама не оттащила ее от Мэтью, отрезав: «Не спорь», не отвела в палату и не уложила на кровать.
— А папа где? — наконец поинтересовалась Лени.
— Сидит в полицейском участке, спасибо Мардж и Тому. — Мама выдавила улыбку.
— Вот и хорошо, — ответила Лени и заметила, как мама вздрогнула.
* * *
Наутро Лени миг после пробуждения лежала в блаженном забытьи, но потом все вспомнила. На стуле у двери, ссутулившись, сидела мама.
— Он жив? — спросила Лени.
— Да, ночь пережил.
Не успела Лени осознать услышанное, как в дверь постучали.
Мама обернулась. Вошел мистер Уокер, вид у него был измученный. Он выглядел так же изнуренно и неприкаянно, как Лени себя чувствовала.
— Доброе утро, Лени. — Он стащил бейсболку и нервно скомкал в широких ладонях. Скользнул взглядом по маме и снова посмотрел на Лени. Казалось, они с мамой что-то друг другу сказали без слов, Лени в их молчаливом разговоре участия не принимала. — Приехали Мардж, Тельма и Тика. Клайд остался ухаживать за вашей скотиной.
— Спасибо, — ответила мама.
— Как Мэтью? — спросила Лени и с усилием села, кряхтя от боли в груди.
— Он в искусственной коме. У него что-то с мозгом, кажется, это называется диффузная травма, так что, возможно, его парализовало. Врачи хотят попробовать его разбудить. Проверить, сможет ли он дышать самостоятельно. Они в этом не уверены.
— То есть они думают, что когда его отключат от аппаратуры, он умрет?
Мистер Уокер кивнул.
— Думаю, он хотел бы, чтобы ты была там.
— Том, может, не надо? — спросила мама. — Она и сама нездорова, выдержит ли такое?
— Я хочу быть рядом с ним. — С этими словами Лени слезла с постели.
Мистер Уокер поддержал ее, чтобы не упала.
Лени посмотрела ему в глаза.
— Он покалечился из-за меня. Он пытался меня спасти. Это я во всем виновата.
— Он не мог поступить иначе. После того, что случилось с его матерью. Я его знаю. Даже если бы понимал, во что ему это обойдется, все равно попытался бы тебя спасти.
Он старался ее утешить, но от этих слов Лени вовсе не стало легче.
— Он тебя любит, Лени. И я рад, что в его жизни была любовь.
Мистер Уокер говорил так, словно Мэтью уже умер.
Опираясь на руку мистера Уокера, Лени вышла из палаты. Она чувствовала, что мама идет за ними; время от времени та протягивала руку и гладила Лени по спине.
Они вошли в палату Мэтью. Алиеска уже была там — стояла, прислонившись к стене.
— Привет, Лен, — сказала она.
Лен.
Совсем как ее брат.
Алиеска обняла Лени. И пусть они едва знали друг друга, но эта трагедия их породнила.
— Он бы все равно попытался тебя спасти. Такой уж он.
Лени молча проглотила слезы.
Открылась дверь, вошли три человека, втащили оборудование. Впереди шел мужчина в белом халате, за ним две медсестры в оранжевых костюмах.
— Отойдите туда, — велел доктор Лени и маме. — Отец может остаться у кровати.
Лени отошла в сторону, прижалась спиной к стене. Они с Алиеской стояли бок о бок, но казалось, будто между ними океан: на одном берегу сестра, которая его любит, на другом девушка, из-за которой он в шаге от смерти. Алиеска взяла Лени за руку.
Врачи деловито хлопотали у кровати Мэтью, кивали, переговаривались, делали пометки, проверяли показатели приборов, записывали параметры жизненно важных функций.
Наконец доктор спросил: «Ну что, готовы?»
Мистер Уокер наклонился к Мэтью, что-то прошептал, поцеловал в забинтованный лоб, пробормотал слова, которых Лени не расслышала. Наконец отстранился, и Лени заметила, что он плачет. Мистер Уокер обернулся к врачу и кивнул.
Тот медленно вытащил трубку изо рта Мэтью.
Раздался сигнал тревоги.
Лени слышала, как Алиеска шепнула:
— Давай, Мэтти, ты сможешь.
— Ты сильный. Борись, — проговорил мистер Уокер.
Снова сигнал тревоги.
Пи-пи-пи.
Медсестры многозначительно переглянулись.
Лени следовало бы промолчать, но она не удержалась:
— Не покидай нас, Мэтью… пожалуйста…
Мистер Уокер бросил на нее полный отчаяния взгляд.
Мэтью сделал глубокий, жадный, одышливый вдох.
Писк стих.
— Он дышит самостоятельно, — сообщил врач.
Он вернулся, с облегчением подумала Лени. Он поправится.
— Слава богу, — выдохнул мистер Уокер.
— Не хочу вас обнадеживать, — начал доктор, и все стихли. — Вполне вероятно, что он будет дышать самостоятельно, но так никогда и не очнется. Он может остаться в устойчивом вегетативном состоянии. И даже если придет в сознание, не исключено серьезное нарушение когнитивных функций. Дышать — это одно. Жить полноценной жизнью — совсем другое.
— Не говорите так, — попросила Лени так тихо, что ее никто не услышал. — Вдруг он вас услышит.
— Он обязательно поправится, — пробормотала Али. — Очнется, улыбнется и скажет, что проголодался. Он вечно голоден. И попросит принести книгу.
— Он боец, — добавил мистер Уокер.
Лени не могла вымолвить ни слова. Облегчение, охватившее ее, когда Мэтью сделал вдох, улетучилось. Как на американских горках: когда очутишься на самой вершине, переживаешь восторг, но в следующее мгновение с головой окунаешься в ужас.
* * *
— Тебя сегодня выписывают, — сообщила мама.
Лени пялилась в телевизор, висевший на стене палаты. Передавали «МЭШ»: Радар рассказывал Ястребиному Глазу какую-то байку. Лени выключила фильм. Она годами жалела, что у них нет телевизора. Теперь же ей было все равно.
По правде говоря, ее мало что волновало, кроме Мэтью. Она вообще ничего не чувствовала.
— Я не хочу уезжать.
— Я понимаю, — мама погладила ее по голове, — но так нужно.
— И куда же мы поедем?
— Домой. Не бойся, папа в полиции.
Домой.
Четыре дня назад, когда они с Мэтью сидели в расщелине и Лени отчаянно надеялась, что их успеют спасти и Мэтью не умрет у нее на руках, она твердила себе, что все будет хорошо. Мэтью поправится, они вместе поедут учиться, мама переберется с ними в Анкоридж, снимет квартиру, может, устроится в «Чилкут Чарли»[66] официанткой, будет разносить напитки и получать щедрые чаевые. Два дня назад, глядя, как у Мэтью вынимают изо рта трубку и он дышит самостоятельно, она на миг поверила, что все наладится, но надежда ее тут же разбилась о камни. «Быть может, никогда не очнется».
Теперь же она знала правду.
Не поедут они с Мэтью учиться ни в какой университет, не начнут новую жизнь, как самые обычные влюбленные.
Хватит уже себя обманывать, мечтать о счастливом конце. Остается лишь ждать, когда Мэтью придет в себя, и любить его, несмотря ни на что.
«Нельзя бросать тех, кого любишь». Так он ей сказал, так она и сделает.
— Можно мне до отъезда увидеть Мэтью?
— Нет. У него воспалилась нога, к нему даже Тома не пускают. Но мы вернемся, как только получится.
— Ладно.
Одеваясь, чтобы отправиться домой, Лени не чувствовала ничего.
Вообще ничего.
Проковыляла с мамой к выходу, прижимая к себе загипсованную руку и кивая прощавшимся с ней медсестрам.
Улыбалась ли она им, хотя бы из вежливости? Вроде нет. Даже такая малость ей сейчас была не по силам. Прежде она не знала такого горя. Оно душило, лишало жизнь красок.
В приемной мистер Уокер мерил комнату шагами и пил черный кофе из пластикового стаканчика. Тут же на стуле сидела Алиеска и читала журнал. Увидев их, оба выдавили улыбку.
— Простите меня, — сказала Лени.
Мистер Уокер подошел к ней, взял за подбородок, заставил поднять глаза.
— Хватит об этом. Мы, аляскинцы, народ живучий, верно? Наш мальчик обязательно поправится. Он выздоровеет. Вот увидишь.
Но разве не Аляска чуть его не убила? Как может природа быть такой живой, такой красивой и жестокой?
Нет. Аляска тут ни при чем. Она сама во всем виновата. Лени стала для Мэтью второй ошибкой.
Алиеска подошла к отцу.
— Не надо терять надежды, Лени. Он сильный парень. Пережил мамину смерть. Переживет и это.
— Как мне узнать, как он себя чувствует? — спросила Лени.
— Я буду сообщать по радио. По «Каналу полуострова». Каждый вечер в семь. Слушай трансляцию, — ответил мистер Уокер. — А как только врачи разрешат, мы перевезем его домой. С нами он быстро пойдет на поправку.
Лени безучастно кивнула.
Мама отвела ее к фургону, они сели в машину.
Всю долгую дорогу до дома мама возбужденно болтала. О небывало низком уровне воды в Тернагейн-Арм[67], о машинах, средь бела дня стоявших перед баром «Скворечник», о толпе рыбаков на Русской реке (народу на берегу было столько, что такую рыбалку прозвали «рукопашной»: нет-нет кого-нибудь да заденешь). Раньше Лени любила такие вот долгие поездки. Разглядывала усеянные белыми точками горы — там паслись дикие овцы; всматривалась в залив, не мелькнет ли где лоснящийся бок чудовищной белухи, они порой сюда заходили.
Сейчас же сидела молча, положив здоровую руку на колени.
В Канеке они съехали с парома, с грохотом скатились с рифленого железного пандуса, миновали русскую церковь.
Когда они проезжали мимо салуна, Лени старалась не смотреть в ту сторону. Но все равно увидела табличку ЗАКРЫТО на двери и цветы на тротуаре. Больше ничего не изменилось. Они доехали до конца дороги и свернули сквозь распахнутые ворота к себе на участок. Мама припарковалась, вышла из машины, открыла Лени дверь.
Лени кое-как выбралась из фургона, заковыляла, радуясь, что мама ее поддерживает, пока они идут по высокой траве. Козы заблеяли, столпились у проволочной сетки.
В грязные, густо усеянные пылинками окна дома лился маслянистый свет августовского солнца.
В гостиной ни пятнышка. Ни осколков стекла, ни фонарей на полу, ни перевернутых стульев. Ни следа того, что здесь происходило.
И пахнет вкусно, жареным мясом. Лени учуяла запах, и в ту же минуту из спальни вышел папа.
Мама ахнула.
Лени ничего не почувствовала и, уж конечно, не удивилась.
Он стоял и смотрел на них. Длинные волосы собраны в изогнутый хвост, лицо в синяках, чуть опухшее. Под глазом фингал. Одежда та же, в какой Лени видела его в последний раз, на шее засохшие пятнышки крови.
— Т-тебя выпустили, — пробормотала мама.
— Ты же не стала писать заявление, — ответил он.
Мама покраснела. На Лени не взглянула.
Он двинулся к маме:
— Потому что ты меня любишь и знаешь, что я не нарочно. Ты знаешь, что я раскаиваюсь. Такого больше не повторится, — пообещал он и протянул ей руку.
Лени не знала, что двигало мамой — страх, любовь, привычка, а может, ядовитая смесь всех этих чувств, но она тоже протянула ему руку. Ее бледные пальцы переплелись с его грязными, обхватили их.
Он обнял маму так крепко, словно боялся, что их унесет в разные стороны. Когда они наконец разжали объятия, он повернулся к Лени:
— Я слышал, он не жилец. Жаль.
Жаль.
В эту минуту что-то сдвинулось у Лени в душе, точно от землетрясения; перемена эта была стремительной, неудержимой, резкой, как ледоход, и так же изменила пейзаж. Она больше не боялась этого человека. А если и боялась, то где-то в глубине души, так что даже сама этого не сознавала. Сейчас она чувствовала к нему лишь ненависть.
— Лени? — Он нахмурился. — Мне жаль. Скажи что-нибудь.
Она видела, как повлияло на него ее молчание, как разнесло вдребезги его уверенность, и тут же решила: отныне она никогда не будет разговаривать с отцом. Мама, если хочет, пусть возвращается к нему, таясь от всех, пусть снова вплетается в этот чудовищный клубок, в который превратилась их семья. Лени же уедет при первой же возможности. Как только Мэтью станет лучше. Если маме нравится так жить — ради бога. А Лени уедет.
Как только Мэтью поправится.
— Лени? — робко окликнула мама. Ее тоже озадачила и напугала совершившаяся в Лени перемена. Она почувствовала, как нарастающее в дочери чувство крошит континенты их прошлого.
Лени прошла мимо них обоих, неуклюже залезла по лестнице на чердак и забралась в постель.
* * *
Милый Мэтью,
Прежде я и не знала, что горе растягивает тебя, как старый мокрый свитер. Минута, что проходит без известий от тебя, без надежды получить от тебя весточку, кажется днем, а день — месяцем. Как же мне хочется верить, что однажды ты сядешь и скажешь, что ужасно проголодался, спустишь ноги с кровати, оденешься и приедешь за мной, может, отвезешь меня в тот ваш охотничий домик, мы зароемся в шкуры и снова будем любить друг друга. Такая вот огромная мечта. Как ни странно, она ранит куда меньше, чем крошечная мечта о том, чтобы ты просто открыл глаза.
Это я виновата в том, что с нами случилось. Встреча со мной сломала тебе жизнь. С этим никто спорить не станет. Все из-за меня и моей чокнутой семейки, моего отца, который хотел тебя убить за то, что ты меня любишь, и бьет маму только за то, что она об этом знала.
Я так его ненавижу, что эта ненависть, как яд, выжигает меня изнутри. Каждый раз, как я его вижу, во мне словно что-то каменеет. Даже страшно делается, как сильно я его ненавижу. С тех пор как мы вернулись домой, я с ним не разговариваю.
И ему это явно не нравится.
Если честно, я сама не знаю, что делать со всеми этими чувствами. С яростью, отчаянием и тоской. Я и подумать не могла, что бывает так плохо!
Чувства мои не находят выхода, и отключить их я тоже не могу. Каждый вечер в семь часов слушаю радио. Вчера твой папа рассказывал о твоем состоянии. Я знаю, что ты вышел из комы, тебя не парализовало, я стараюсь радоваться и этому, но ведь этого мало. Я знаю, что ты не ходишь, не говоришь и что твой мозг, скорее всего, не восстановится. Так сказали медсестры.
Но мои чувства к тебе от этого не изменятся. Я тебя люблю.
Я здесь. И жду тебя. Я хочу, чтобы ты это знал. Я буду ждать тебя вечно.
Лени
* * *
Лени сидела на носу рыбацкой плоскодонки и, наклонившись, шевелила пальцем в прохладной воде, глядя, как разбегаются круги и рябь. Гипс на другой ее руке казался на фоне грязных джинсов еще белее. Из-за сломанных ребер каждый вдох отдавался болью.
Родители о чем-то негромко переговаривались. Мама закрывала ведерко, полное серебристой рыбы, папа заводил мотор.
Мотор завелся, и лодка стремительно заскользила по воде: они возвращались домой.
На берегу лодка ткнулась носом в гальку и песок с таким хрустом, словно колбаса заскворчала на раскаленной чугунной сковороде. Лени спрыгнула в воду, доходившую ей до щиколоток, схватила здоровой рукой потрепанный швартов и вытянула плоскодонку на берег. Привязала к валявшейся на песке огромной коряге без сучьев и вернулась за металлической сетью, с которой капала вода.
— Вот так кижуча мама поймала, — сказал папа. — Она сегодня у нас победитель.
Лени его проигнорировала. Повесила на плечо сумку с рыболовными снастями и медленно двинулась к лестнице.
Поднявшись на двор, убрала снасти и пошла проверить, есть ли у животных вода в поилках. Накормила коз и кур, перемешала компост в баке и принялась носить с реки воду. С одной лишь здоровой рукой времени это отняло больше обычного. Лени, как могла, оттягивала момент, но в конце концов все равно пришлось вернуться в дом.
Мама на кухне готовила ужин: на домашнем сливочном масле с травами жарила свежепойманного кижуча, на консервированном лосином жире — стручковую фасоль, нарезала салат из помидоров и латука, только что с грядки.
Лени накрыла на стол и села.
Папа уселся напротив. Она не взглянула на него, но услышала, как стукнули ножки стула о деревянный пол, как скрипнуло сиденье. Уловила знакомую смесь пота, рыбы и табака.
— Может, завтра сгоняем в Беар-Коув за черникой? Ты же так ее любишь.
Лени не подняла глаз.
Подошла мама с оловянной миской жареной до хруста рыбы и стручковой фасоли. Замялась было, а потом поставила миску на середину стола возле банки из-под супа, в которой вяли цветы.
— Твое любимое, — сказала мама Лени.
— Угу, — буркнула та в ответ.
— Лени, хватит уже, — не выдержал папа, — сколько можно дуться? Вы сбежали. Парень упал со скалы. Сделанного не воротишь.
Лени и ухом не повела.
— Ну скажи что-нибудь.
— Пожалуйста, Лени, — взмолилась мама.
Папа оттолкнулся от стола и вылетел во двор, хлопнув дверью.
Мама осела на стул. Лени заметила, что мама очень устала, у нее дрожали руки.
— Хватит, Лени. Ты его нервируешь.
— И?
— Лени… ты скоро уедешь учиться. Теперь-то он тебя отпустит. Ему и так паршиво из-за того, что случилось. Так что мы его уговорим. Ты уедешь. Как и хотела. Неужели так сложно…
— Нет! — ответила Лени резче, чем хотела, и заметила, что мама инстинктивно отпрянула от ее крика.
Лени и хотела бы устыдиться из-за того, что напугала мать, но ей не было до этого дела. Если маме так нравится искать золото в грязи папиной нездоровой, изъязвленной любви, ради бога. Лени ей в этом больше не помощница.
Она прекрасно понимала, как его бесит, что она с ним не разговаривает. С каждым часом ее молчания он нервничал и злился все больше. А значит, становился опаснее. Но Лени на это плевать.
— Он тебя любит, — сказала мама.
— Ха.
— Ты играешь с огнем. И сама это знаешь.
Лени не могла признаться маме, как сильно злится: казалось, ее все время грызут острые крохотные зубки, отрывая кусок всякий раз, как она глянет на отца. Она отодвинулась от стола и поднялась на чердак, чтобы написать Мэтью. Лени старалась не думать о матери, которая осталась на кухне одна-одинешенька.
* * *
Милый Мэтью,
Я стараюсь не терять надежды, но ты знаешь, что для меня это всегда было непросто. Надеяться. Я тебя не видела уже четыре дня. А кажется, будто целую вечность.
Смешно, но только сейчас, когда надежда ускользает и ни в чем нельзя быть уверенной, я осознала: в детстве я полагала, будто ни на что не надеюсь, на самом же деле только надеждой и жила. Мама все время кормила меня обещаниями, что он исправится, и я их заглатывала, как терьер. Каждый день я ей верила. Он мне улыбнется, подарит свитер, спросит, как день прошел, а я и думаю: ага, значит, все-таки любит! Даже после того, как он в первый раз ударил ее при мне, я верила, будто на самом деле все так, как она говорит.
Теперь от этого не осталось и следа.
Возможно, он болен. Возможно, Вьетнам его искалечил. А может, все это лишь отговорки для его гнилого нутра.
Я уже и сама не знаю, да и, признаться, знать не хочу.
Единственный, на кого я надеюсь, это ты. Мы с тобой.
Я все еще здесь.
Двадцать три
Председателю приемной комиссии
Университет Анкориджа, Аляска
К сожалению, в этом семестре я не смогу посещать занятия. Надеюсь (хоть и сомневаюсь), что к зимнему семестру обстоятельства мои изменятся.
Я всегда буду Вам благодарна за то, что Вы меня приняли. Надеюсь, что Вы возьмете на мое место другого студента, пусть ему повезет.
С уважением,
Ленора Олбрайт
* * *
В сентябре на полуострове ревели холодные ветры. На Аляску медленно, неумолимо надвигалась тьма. К октябрю миг, который здесь назывался осенью, пролетел. Каждый вечер в семь часов Лени приникала к радиоприемнику, прибавляла громкость и сквозь помехи вслушивалась, когда же раздастся голос мистера Уокера. Но неделя проходила за неделей, а улучшения все не было.
В ноябре дождь сменился снегом — сперва легким, точно гусиный пух, падавший с белых небес. Грязь замерзла, отвердела, как гранит, стала скользкой, но вскоре все укутало белое покрывало — тоже, в общем, новое начало, красота, замаскировавшая все, что осталось под ней.
А Мэтью так и не стал собой.
Промозглым вечером, после первого настоящего осеннего шторма, Лени в непроглядной темноте управилась по хозяйству и вернулась в дом. Не удостоив родителей взглядом, прошла к печке и вытянула замерзшие руки. Осторожно разжала пальцы левой руки. Та еще была слаба и словно чужая, но гипс сняли, и на том спасибо.
Лени повернулась и увидела собственное отражение в окне. Бледное осунувшееся лицо с острым как нож подбородком. После того случая она сильно похудела, редко мылась. Скорбь расстроила все: сон, аппетит, желудок. Выглядела она плохо. Иссохшая, изможденная. Мешки под глазами.
Без пяти минут семь она включила радиоприемник.
Из динамика донесся голос мистера Уокера, спокойный, как траулер на море в штиль.
— Лени Олбрайт из Канека: мы перевозим Мэтью в Хомер. Можешь во вторник его проведать. Это реабилитационный центр.
— Я поеду к нему, — сказала Лени.
Папа точил улу. Он замер.
— Еще чего.
Лени на него даже не взглянула, не дрогнула.
— Мама. Скажи ему: чтобы меня остановить, ему придется меня пристрелить.
Лени услышала, как ахнула мама.
Летели секунды. Лени чувствовала папину ярость и робость. Чувствовала, что внутри у него идет борьба. Его распирало от злости, так и подмывало настоять на своем, треснуть по чему-нибудь кулаком, но она не уступит, и он это знал.
Он ударил по кофейнику, так что тот слетел на пол, и пробормотал что-то еле слышно. Выругался, поднял руки и отступил — и все это одновременно, рывком.
— Езжай, — сказал он. — Проведай его, но сперва управься по хозяйству. — Он обернулся к маме, ткнул ее пальцем в грудь: — А ты слушай. Она поедет одна. Поняла?
— Поняла, — ответила мама.
* * *
Наконец наступил вторник.
— Эрнт, — сказала мама после обеда, — Лени надо ехать в город.
— Скажи ей, пусть возьмет старый снегоход, новый не трогать. И к ужину домой. — Он впился в Лени взглядом: — Я не шучу. Не заставляй тебя искать. — С этими словами он сорвал со стены железные капканы, вышел из дома и хлопнул дверью.
Мама шагнула к Лени, робко оглянулась и вложила ей в руку два сложенных листка бумаги:
— Это письма. Тельме и Мардж.
Лени взяла письма, кивнула.
— Не глупи, Лени. Возвращайся к ужину. Он в любой миг может закрыть ворота. Они открыты, потому что ему стыдно за то, что он натворил, и он пытается загладить вину.
— Как будто меня это волнует.
— Это волнует меня. Могла бы и обо мне подумать.
Лени уколола совесть.
— Ладно.
Она вышла во двор и, наклонив голову от ветра, двинулась по снегу к хлеву.
Покормила скотину, оседлала снегоход, дернула стартер.
В городе припарковалась у въезда на пристань. Водное такси уже ее поджидало, мама вызвала его по радио. Сегодня штормило, выходить в море на плоскодонке было опасно.
Лени повесила рюкзак на плечо и ступила на обледеневший скользкий причал.
Капитан водного такси помахал ей. Лени знала, что денег за проезд он с нее не возьмет. Он обожал мамин клюквенный соус, и каждый год она специально для него закатывала банок двадцать. Так уж тут было принято: натуральный обмен.
Лени протянула ему банку с соусом и взошла на борт. Сидя на корме на скамье и глядя на город, ютившийся на сваях над грязью, она говорила себе, что сегодня не стоит ни на что надеяться. Она знала, в каком состоянии Мэтью, ей об этом уже все уши прожужжали. Поражение головного мозга.
И все равно каждую ночь, написав Мэтью письмо, она перед сном мечтала о том, что и у них, как в сказке о спящей красавице, поцелуй истинной любви развеет темные чары. Она вышла бы замуж за Мэтью и ждала, пока ее любовь разбудит его.
Сорок минут спустя водное такси, невзирая на качку и брызги, пересекло залив Качемак, подошло к пристани, и Лени спрыгнула на берег.
День выдался морозный, и вдоль полосы прибоя на косе клубился туман. Туристов на улицах не было, только местные. Большинство заведений закрылись на зиму.
Она сошла с главной дороги и направилась вверх, в центральную часть Хомера. Ее предупреждали: если она увидит двор с розовой лодкой и украшениями, оставшимися с празднования Четвертого июля, — значит, ушла слишком далеко по Уодделл-стрит.
Лечебница располагалась на окраине города, на глухом пустыре с посыпанной гравием парковкой.
Она остановилась. С телефонного столба на нее глядел огромный белоголовый орлан; его золотые глаза горели в сумерках.
Лени двинулась дальше, нашла нужное здание, обратилась в регистратуру и, следуя инструкциям секретаря, направилась к палате в конце коридора.
Там у закрытой двери она остановилась, отдышалась и вошла.
У кровати стоял мистер Уокер. За эти месяцы он изменился до неузнаваемости, исхудал так, что свитер и джинсы на нем болтались. В отросшей бороде густая проседь.
— Здравствуй, Лени, — сказал он.
— Здравствуйте, — ответила она, не в силах отвести глаза от кровати.
Мэтью пристегнули к кровати ремнями. Вокруг его лысой головы торчала какая-то штука, похожая на клетку. Она была привинчена: ему просверлили череп. Мэтью постарел и был тощий и костлявый, точно ощипанная птица. Лени впервые увидела красные зигзагообразные шрамы, крест-накрест пересекавшие его лицо. Складка кожи оттягивала вниз край глаза. Нос приплюснут.
Мэтью не шевелился. Глаза его были открыты, с отвисшей нижней губы свисала слюна.
Лени подошла ближе, встала рядом с мистером Уокером.
— Я думала, ему лучше.
— Ему лучше. Иногда я готов поклясться, что он смотрит прямо на меня.
Лени наклонилась:
— М-мэтью, привет.
Мэтью застонал, что-то промычал. Не слова, а какой-то набор звуков. Потом заворчал, как обезьяна. Лени отпрянула. Казалось, он злится.
Мистер Уокер накрыл руку Мэтью ладонью:
— Мэтью, это Лени. Ты же помнишь Лени.
Мэтью завизжал. Пронзительно, точно зверь, угодивший в капкан. Правый глаз его ворочался в глазнице.
— Фтооооо.
Лени смотрела на него, раскрыв рот. Ему не лучше. Это не Мэтью, это пустая оболочка, которая стонет и визжит.
— Ыгаааа… — Мэтью застонал и выгнулся. Поднялась жуткая вонь.
Мистер Уокер взял Лени за руку, вывел из палаты.
— Сюзанна, — позвал он медсестру, — ему надо поменять памперс.
Лени упала бы, если бы мистер Уокер ее не поддержал. Он вывел ее в приемную с торговыми автоматами и усадил в кресло. Сел рядом.
— Не расстраивайся из-за того, что он кричит. Он все время так. Доктора говорят, рефлекс, но мне кажется, он кричит от бессилия. Он где-то здесь… где-то. Ему больно. Сил нет видеть его таким и знать, что ничем не можешь помочь.
— Я могу выйти за него замуж, ухаживать за ним, — сказала Лени. Она не раз представляла, как они поженятся, она будет о нем заботиться, и ее любовь вернет его к жизни.
— Это очень великодушно, Лени, и я лишний раз убеждаюсь, что Мэтью влюбился в достойную девушку, но вряд ли он когда-нибудь сумеет подняться с этой кровати или ответить: «Да, я беру ее в жены».
— Другие-то женятся — и калеки, и те, кто не может говорить, и умирающие. Разве нет?
— Но не восемнадцатилетние девушки, у которых вся жизнь впереди. Как у мамы дела? Я слышал, она простила твоего отца.
— Она всегда его прощает. Они как магниты.
— Мы все за вас очень переживали.
— Ага, — вздохнула Лени. Толку-то от этих переживаний. Изменить ситуацию может только мама, а она ничего делать не собирается.
В тишине, наступившей за оставшейся без ответа репликой, мистер Уокер вынул из кармана тонкий сверток в газетной бумаге. На свертке красным маркером было написано: ЛЕНИ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
— Алиеска нашла у него в комнате. Я думаю, он приготовил тебе подарок… до того, как…
— Ох, — только и сумела вымолвить Лени. За всеми перипетиями этого года о дне ее рождения совершенно забыли. Она взяла подарок, уставилась на него.
Из палаты Мэтью вышла медсестра. Сквозь открытую дверь Лени услышала, как он кричит: «Вааа… На… Шер…»
— Понимаешь, детка, поражение мозга — дурная штука. Не буду тебе врать. Жаль, что ты отказалась ехать учиться.
Лени сунула подарок в карман куртки.
— Как бы я поехала без Мэтью? Мы ведь должны были ехать вдвоем.
— Он бы хотел, чтобы ты поехала. Ты же знаешь.
— Но мы ведь не знаем, чего он теперь хочет, правда?
Она встала и ушла к Мэтью в палату. Он лежал, напрягшись всем телом, стиснув кулаки. Из-за винтов в голове и шрамов на лице Мэтью смахивал на Франкенштейна. Здоровый глаз безучастно смотрел в пространство, но не на Лени.
Лени наклонилась, взяла Мэтью за руку — тяжелую, неподвижную. Поцеловала тыльную сторону ладони, сказала:
— Я тебя люблю.
Он не ответил.
— Я никуда не поеду, — хрипло проговорила она. — Я всегда буду здесь. Это я, Мэтью, и теперь я спускаюсь к тебе, чтобы тебя спасти. Как ты меня. Ты же меня спас, ты знаешь? Ты спас меня. Я останусь с тобой, потому что я тебя люблю. И надеюсь, что ты это слышишь.
Она провела у него несколько часов. Время от времени он принимался биться, кричать. Два раза плакал. Наконец пришла пора его мыть, и Лени попросили уйти.
И только позже, когда поймала водное такси и взошла на борт, когда слушала, как лодка с глухим стуком режет волны в барашках, и чувствовала брызги на лице, Лени вдруг осознала, что так и не попрощалась с мистером Уокером. Просто вышла из лечебницы и направилась прочь, мимо мужчины, стоявшего перед лачугой, обтянутой полиэтиленом, куски которого были скреплены скотчем, мимо детишек в снежном камуфляже, игравших на школьном дворе в «квадрат»[68], мимо старухи-эскимоски, выгуливавшей двух хаски и утку, причем всех на поводке.
Лени думала, будто уже отгоревала по Мэтью, выплакала все слезы, теперь же увидела, что перед ней расстилается пустыня страдания. И нет ему конца-края. Человеческое тело на восемьдесят процентов вода; значит, она буквально состоит из слез.
Когда она сошла на берег в Канеке, начался снегопад. Город негромко гудел, звук шел от огромного генератора, питавшего освещение. Снег сеялся, как мука, в свете новеньких уличных фонарей мистера Уокера.
Половина пятого, формально еще день, но уже стремительно темнело. Лени не замечала холода, пока шла к магазину. В дверях звякнул колокольчик.
Марджи-шире-баржи вышла в замшевой куртке с бахромой и дутых штанах. Казалось, будто на голове у нее не волосы, а мелкая металлическая стружка. Местами на темной коже виднелись проплешины — там, где Мардж слишком коротко состригла волосы. Видимо, в зеркало не смотрела.
— Лени! Какой сюрприз, — протрубила Мардж так громко, что, случись поблизости птицы, наверняка сорвались бы с деревьев. — Как же мне не хватает моей лучшей помощницы.
В карих глазах Мардж читалось сострадание. Лени хотела было сказать: «Я видела Мэтью», но, к своему ужасу, залилась слезами.
Марджи-шире-баржи отвела Лени к кассе, усадила на старенький диванчик и сунула ей банку газировки.
— Я ездила к Мэтью, — прошептала Лени и обмякла.
Мардж уселась рядом с ней. Диванчик сердито скрипнул.
— Ясно. Я на той неделе была в Анкоридже. Больно видеть его таким. А уж Тому-то и Али как тяжело. И за что одной семье столько горя?
— Я надеялась, раз его перевезли в лечебницу в Хомер — значит, ему лучше. Я надеялась… — Она вздохнула. — Сама не знаю, на что я надеялась.
— Я слышала, лучше ему уже не станет. Бедный парень.
— Он пытался меня спасти.
Марджи-шире-баржи примолкла. Интересно, можно ли вообще кого-то спасти, подумала Лени, или спастись можно только самостоятельно?
— Как мама? Мне до сих пор не верится, что она приняла Эрнта обратно.
— Да уж. А без ее заявления копы тоже ничего сделать не могут. — Лени не знала, что сказать. Она догадывалась, что никто, и Марджи-шире-баржи в том числе, никогда не поймет, почему женщины вроде Коры не бросают таких мужчин, как Эрнт. Все ведь просто, как в элементарном уравнении: он тебя бьет + переломал тебе кости = уходи от него.
— Мы с Томом умоляли твою маму написать заявление. Мне кажется, она его боится.
— Да тут дело не только в том, что она его боится. — Лени хотела что-то добавить, но вдруг так свело живот, что ее чуть не вырвало. — Прошу прощения, — проговорила она, отдышавшись. — Я последнее время ужасно себя чувствую. От волнения меня все время тошнит.
Марджи-шире-баржи надолго замолчала, а потом встала с диванчика:
— Посиди-ка, я сейчас приду.
Лени сидела и глубоко дышала. Мардж направилась к полкам в глубине магазина, задела висевший на стене железный капкан.
Лени снова и снова вспоминала встречу с Мэтью, как он кричал, как его глаз ворочался в глазнице. «Ему надо поменять памперс».
Это она виновата. Во всем.
Вернулась Мардж. Посыпанный опилками пол скрипел под ее сапогами.
— На-ка, возьми. Боюсь, пригодится. Я всегда держу один про запас.
Лени взглянула на тонкую коробочку в ладони Мардж.
И поняла, что трудности только начинаются.
* * *
В рано сгустившихся сумерках Лени шла из уборной под усыпанным звездами бархатным синим небом. Стоял один из тех ярких, ясных аляскинских вечеров, когда не верилось, что вся эта красота существует на самом деле. Луна отражалась в снегу, и все вокруг сияло.
Войдя в дом, Лени заперла за собой дверь на щеколду и замерла у вешалки с куртками, теплыми свитерами, дождевиками, под которой на полу стояла коробка с варежками, перчатками и шапками. Шевелиться, думать, чувствовать, она была не в силах.
До сих пор, до этой самой секунды, она обожала синий цвет. (Дурацкая мысль, но ничего другого ей сейчас в голову не пришло.) Синий. Цвет утра, сумерек, ледников и рек, залива Качемак и маминых глаз.
Теперь же он обернулся цветом разрушенной жизни.
Она не знала, что делать. В такой ситуации что ни выбери, все не то. Уж это-то ей хватало ума понять.
Что же ей не хватило ума не вляпаться?
— Лени?
Она услышала мамин голос, по тону поняла, что та беспокоится, но сейчас ей было все равно. Лени чувствовала, как между ними ширится пропасть. Наверно, так все и меняется — в тишине недомолвок и отказов признать очевидное.
— Как Мэтью? — спросила мама, подошла к Лени, стянула с нее куртку, повесила на крючок, подвела Лени к дивану, но ни она, ни мама не сели.
— На себя не похож, — ответила Лени. — Ничего не понимает, не ходит, не говорит. Он на меня даже не взглянул, только кричал.
— Значит, его хотя бы не парализовало. Уже хорошо, правда?
Лени раньше и сама так думала. А что толку, если двигаться можешь, но при этом ничего не соображаешь и не говоришь? Лучше бы он умер там, в расщелине. Так было бы милосерднее.
Но жизнь никогда не была милосердна, тем более к юным.
— Я понимаю, тебе кажется, будто все конечно, но ты еще так молода, ты обязательно снова полюбишь… Что там у тебя?
Лени вытянула руку, разжала кулак и показала маме тонкую пробирку.
Мама взяла ее, принялась рассматривать.
— Что это?
— Тест на беременность, — ответила Лени. — Синий — значит, беременна.
Она вспомнила череду решений, которые к этому привели. Отклонись она от курса в любую сторону хоть немного, градусов на десять, все было бы совсем иначе.
— Наверно, это случилось в ту ночь, когда мы убежали. Или раньше? Как это определить?
— Ох, Лени…
Больше всего сейчас Лени нужен был Мэтью. Ей нужно, чтобы он стал собой, целым. И они сейчас вместе решали бы, как поступить. Если бы Мэтью был Мэтью, они бы поженились, родили ребенка. Тем более что на дворе 1978 год — может, жениться даже не обязательно. Главное — они нашли бы выход. Пусть они еще слишком молоды, да и учебу пришлось бы отложить, но это не стало бы катастрофой, как сейчас.
Как же ей быть без него?
— Ну, теперь не то, что в мое время, когда девушку с позором выгоняли из дома, а ребенка отдавали в приют, — заметила мама. — У тебя есть выбор. По закону ты можешь…
— Я рожу ребенка Мэтью, — перебила Лени. Она и не подозревала, что на самом деле уже все обдумала и решила.
— Ты же не сможешь воспитывать его одна. Тем более здесь.
— Ты хочешь сказать, с папой. — А ведь дело и правда в нем. Лени беременна от сына Тома Уокера. И когда ее отец об этом узнает… — Я его и близко к ребенку не подпущу, — твердо сказала Лени.
Мама крепко ее обняла:
— Мы что-нибудь придумаем. — Она погладила Лени по голове. Лени почувствовала, что мама плачет, и ей стало еще тяжелее.
— В чем дело? — гаркнул отец.
Мама виновато отскочила. На щеках ее блестели слезы. Она улыбнулась дрожащими губами.
— Эрнт! — воскликнула она. — Ты вернулся.
Лени сунула пробирку в карман.
Папа на пороге расстегивал дутый комбинезон.
— Как там парнишка? Все еще овощем?
Лени охватила такая ненависть, какой она сроду не испытывала. Она отпихнула маму, подошла к отцу, который удивленно уставился на нее, и выпалила:
— Я беременна.
И опомниться не успела, как он ее ударил. Только что стояла и смотрела на отца, как вдруг его кулак впечатался в челюсть и рот наполнился кровью. Голова ее дернулась, Лени качнулась, потеряла равновесие, налетела на стол, рухнула на пол и почему-то подумала: «Надо же, какой быстрый».
— Эрнт, не смей! — крикнула мама.
Папа расстегнул ремень, вытащил из брюк и двинулся на Лени.
Она попыталась встать, но голова кружилась, в ушах звенело, перед глазами все плыло.
Отец хлестнул ее ремнем по щеке, и пряжка распорола кожу. Лени вскрикнула, попыталась отползти.
Мама бросилась на отца, вцепилась ему в лицо. Он ее отшвырнул и пошел на Лени.
Рывком поднял ее на ноги и наотмашь ударил по лицу.
Она услышала, как хрустнула переносица. Из носа хлынула кровь. Лени попятилась и упала на колени, пытаясь защитить живот.
Раздался выстрел.
Запах пороха, звон разбитого стекла.
Папа стоял, широко расставив ноги, правая рука его по-прежнему была сжата в кулак. На миг все замерли. Потом отец качнулся вперед, к Лени. Из раны на груди толчками била кровь, пропитывала рубашку. Отец изумленно обернулся.
— Кора? — только и сказал он.
За ним с ружьем наперевес стояла мама.
— Не трогай Лени, — спокойно проговорила она. — Не трогай мою дочь.
И выстрелила еще раз.
Двадцать четыре
— Он мертв, — проговорила Лени. Хотя сомнений в этом и так не оставалось. Из ружья, которое схватила мама, можно было уложить и лося.
Лени осознала, что стоит на коленях в луже крови. Осколки костей и хрящей белели в крови, как опарыши. Из разбитого окна в комнату тянуло холодом.
Мама уронила ружье и двинулась к отцу. Глаза ее были широко раскрыты, губы дрожали. Она испуганно схватилась за горло, оставив на бледной коже красные полосы.
Лени неловко, точно деревянная, поднялась на ноги и пошла на кухню. Ей бы думать: «Все хорошо, его больше нет», но она не чувствовала ничего, даже облегчения.
Лицо так болело, что ее выворачивало наизнанку, сломанный нос дышал с присвистом. Она взяла мокрую тряпку, прижала к лицу.
И как только мама годами терпела такую боль?
Она ополоснула тряпку, отжала розовую воду, снова намочила и вернулась в гостиную, где воняло порохом.
Мама сидела на полу, обняв отца, раскачивалась из стороны в сторону и плакала. Все было в крови: ее руки, колени. Она размазала кровь по глазам.
— Мама? — Лени наклонилась, дотронулась до маминого плеча.
Мама подняла глаза и слабо заморгала.
— Я не знала, как еще его остановить.
— Что будем делать? — спросила Лени.
— Возьми рацию. Вызови полицию, — безжизненно ответила мама.
Полицию. Ну наконец-то. Впервые за долгие годы им помогут.
— Все будет хорошо, мам, вот увидишь.
— Не будет.
Лени вытерла кровь с маминого лица, как не раз делала прежде. Мама даже не поморщилась.
— Почему?
— Они скажут, что это умышленное убийство.
— Убийство? Но он же нас бил. Ты мне жизнь спасла.
— Я выстрелила ему в спину, Лени. Дважды. Ни присяжные, ни защита не поверят, что это была самооборона. Ну и ладно. Плевать. Иди и расскажи обо всем Мардж. Все же она юрист, хоть и бывший. Она придумает, что делать. — Мама говорила медленно, словно под наркотиками. — У тебя начнется новая жизнь. Ты вырастишь ребенка здесь, на Аляске, среди наших друзей. Том тебе будет как отец. Уж в этом-то я не сомневаюсь. Мардж тебя обожает. А может, потом и в университет поступишь. — Она посмотрела на Лени: — Я ни о чем не жалею. Так и знай. Ради тебя я снова сделала бы то же самое.
— Погоди. То есть ты хочешь меня бросить? Сесть в тюрьму?
— Сходи за Мардж.
— Ты не сядешь в тюрьму за убийство того, кто тебя избивал, и весь город знал об этом.
— Плевать. Главное, что ты в безопасности.
— А что, если мы от него избавимся?
Мама моргнула.
— То есть как это — избавимся?
— Прикинемся, будто ничего не было.
Лени поднялась на ноги. Да. Так они и сделают. Придумают, как замести следы. И тогда они обе, и она, и мама, смогут остаться здесь и жить среди друзей, в городе, который стал им родным. Ее ребенок будет расти среди любящих его людей, а когда Мэтью наконец поправится, Лени будет рядом.
— Не так-то это просто, — ответила мама.
— Это Аляска. Здесь все не так-то просто, но мы сильные, а если ты сядешь в тюрьму, я останусь одна. Мне придется растить ребенка в одиночку. Я без тебя не справлюсь. Ты нужна мне.
Помолчав, мама ответила:
— Значит, надо так спрятать тело, чтобы его никогда не нашли. Но земля уже промерзла, так что могилу не выроешь.
— Ты права.
— Но это значит, — спокойно продолжала мама, — что мы совершим еще одно преступление.
— Преступление — позволить, чтобы тебя обвинили в умышленном убийстве. Думаешь, я допущу, чтобы ты попала в руки правосудия? Да правосудие ли это? Ты же сама мне говорила, что закон не защищает жертв домашнего насилия, и ведь так и есть. Не прошло и нескольких дней, как его выпустили. Разве закон хоть раз защитил тебя от него? Нет. Нет.
— Ты уверена, Лени? Тебе ведь потом придется с этим грузом жить.
— Ничего, как-нибудь проживу. Не сомневайся.
Мама задумалась, потом отодвинулась от окровавленного, обмякшего тела отца, встала и ушла в спальню. Через несколько минут вернулась в водолазке и дутых штанах. Свою окровавленную одежду бросила рядом с трупом.
— Я постараюсь вернуться побыстрее. Никому не открывай.
— Ты о чем?
— Сначала надо избавиться от тела.
— И ты полагаешь, что я буду сидеть дома, пока ты с ним возишься?
— Это же я его убила. Мне и следы заметать.
— Я тебе помогу.
— Некогда спорить.
— Вот именно. — Лени сняла перепачканные вещи и за считаные секунды надела дутые штаны, куртку, армейские ботинки. Можно выходить.
— Возьми его капканы, — велела мама и вышла из дома.
Лени собрала висевшие на стене тяжелые капканы и вынесла во двор. Мама уже прицепила к снегоходу красные пластмассовые санки. Те самые, на которых отец возил дрова. На них помещались два больших ведра, большая вязанка дров или туша лося.
— Положи капканы в сани, принеси пилу и бур.
Лени вернулась с инструментами, и мама спросила:
— Ну что, ты готова?
Лени кивнула.
— Тогда за ним.
У них ушло полчаса на то, чтобы вытащить безжизненное тело отца из дома и протащить по заснеженной веранде, и еще десять минут, чтобы уложить на санки. По снегу тянулся кровавый след, но в такой снегопад он уже через час исчезнет. А весной дожди все смоют. Мама накрыла отца брезентом, пристегнула тросами к саням.
— Ну все.
Лени с мамой переглянулись. Обе понимали, что этот поступок, это решение навсегда их изменит. Мама без слов давала Лени последний шанс передумать.
Но Лени не отступила. Она уже все решила. Они избавятся от тела, уберут дом и скажут всем, что отец от них ушел — может, под лед провалился, может, заблудился в метель. Никто их ни о чем не спросит. Никому нет дела. Все знают, что на Аляске подстерегают тысячи смертельных опасностей.
И Лени с мамой наконец-то — наконец-то — вздохнут с облегчением.
— Поехали.
Мама дернула стартер, завела снегоход, села у руля и сжала ручку газа. Натянула неопреновую маску на опухшее лицо в синяках, осторожно надела шлем. Лени последовала ее примеру.
— Жуткий мороз, — прокричала мама, перекрывая шум мотора, — а в горах еще холоднее.
Лени уселась на снегоход, обхватила маму за пояс.
Мама нажала на газ, они покатили по девственному снегу, выехали из открытых ворот. Свернули направо, на главную дорогу, потом налево, к заброшенной хромовой шахте. Стояла глубокая ночь, морозная и снежная. Фара снегохода желтым лучом освещала путь.
В такую погоду можно не бояться, что тебя увидят. Два с лишним часа они поднимались в горы. Ехали по холмам, долинам, пересекали замерзшие реки, огибали высокие отвесные скалы. Мама ехала медленно — чуть быстрее, чем если бы они шли пешком, но они и не торопились. Главное — чтобы их никто не заметил. И чтобы сани не перевернулись.
Маленькое горное озерцо застыло в окружении высоких деревьев и гранитных скал. За последний час метель прекратилась, тучи рассеялись, и открылось бархатное иссиня-черное небо в вихрях звезд. Вышла луна, словно для того, чтобы поглядеть на двух женщин в снегах и льдах, — а может, заставить их пожалеть о содеянном. Полная, яркая, она заливала все вокруг светом, который отражался от снега и как будто поднимался ввысь; ослепительное сияние озаряло снежные просторы.
В неожиданно прозрачной темноте были отчетливо видны две женщины на снегоходе посреди блестящего серебристобелого мира, с трупом на красных санях.
На берегу замерзшего озера мама отпустила ручку газа, и снегоход, дернувшись, остановился. Мотор гудел, как насекомое, заглушая тяжелое дыхание Лени под неопреновой маской и шлемом.
Крепок ли лед? Проверить это было невозможно. Скорее всего, да, на такой-то высоте, но все-таки еще рановато. Не середина зимы. На замерзшей озерной глади в лунном свете сиял снег.
Лени крепче обхватила маму.
Мама легонько сжала ручку газа и тронулась с места. Они двигались в темноте, точно астронавты, в диковинном, залитом небывалым сиянием мире, так похожем на глубокий космос; вокруг трещал лед. На середине озера мама заглушила мотор. Снегоход плавно остановился. Мама слезла. Лед трещал громко, неумолчно, но бояться не стоило. Он дышал, потягивался, а не ломался.
Мама сняла шлем, повесила на ручку газа, стянула маску. Изо рта струился пар. Лени положила шлем на заклеенное скотчем сиденье.
В серебристо-сине-белом свете луны кристаллы льда сверкали на снегу точно драгоценные камни.
Тишина.
Слышно лишь их дыхание.
Вместе они стащили труп с саней. Лени саперной лопаткой прорыла в снегу яму. Добравшись до стеклянного серебристого льда, отложила лопатку, взяла бур и пилу. Мама пробурила отверстие глубиной дюймов восемь. Сквозь лунку просочилась вода, вытолкнула ледяной кружок.
Лени сняла маску, сунула в карман, завела пилу. «Трах-тах-тах-тах!» — оглушительно разнеслось по окрестностям.
Лени опустила ленту пилы в лунку и начала долгий трудный процесс превращения дырки во льду в широкую квадратную прорубь.
К концу пот лил ручьем. Мама бросила капканы возле проруби. Они звякнули о лед.
Мама пошла за отцом. Взяла его за ледяные руки и подтащила к самой проруби.
Неподвижное тело окоченело, застывшее лицо походило на маску из моржового бивня.
Лени впервые задумалась о том, что же они делают. О том, что они натворили. Вряд ли они когда-нибудь сумеют забыть, что оказались способны на такое. Убить человека, избавиться от трупа, скрыть следы преступления. Хотя уж им-то не привыкать: они всю жизнь прикрывали отца, отводили глаза, притворялись. Но это другое. Теперь они преступницы, и Лени придется хранить собственную тайну.
Хорошему человеку, наверно, стало бы стыдно. Лени же не чувствовала ничего, кроме дикой злости.
Им давным-давно следовало от него уйти или обратиться в полицию, попросить о помощи. Если бы мама хоть раз поступила иначе, они бы сейчас не стояли на льду над мертвецом.
Мама разжала капканы, заставила их черные челюсти раскрыться. Сунула внутрь руку отца. Капкан сомкнулся, хрустнула кость. Мама побледнела; казалось, ее сейчас стошнит. Капканы с треском сломали отцу ноги: теперь это не капканы, а грузила.
В небе зажглось северное сияние — каскадом желтых, зеленых, красных и фиолетовых вихрей. Невероятные, волшебные краски. Огни струились, точно шелковые шарфы, желтые, неоново-зеленые, кричаще-розовые. Казалось, будто яркая, как электрическая лампа, луна следит за ними.
Лени посмотрела на отца. Она видела человека, который в гневе пускал в ход кулаки, видела кровь на его руках, стиснутые от злости зубы. Но видела и другого — того, чей образ создала по фотографиям и собственным потребностям, того, кто любил их как мог, поскольку война истребила в нем способность любить. Лени подумала, что теперь ее будут преследовать воспоминания о нем. И не только воспоминания, но и печальная, пугающая правда: можно одновременно любить и ненавидеть одного и того же человека, мучиться из-за его гибели, стыдиться собственной слабости и при этом не раскаиваться в содеянном.
Мама упала на колени, склонилась над ним:
— Мы тебя любили.
Посмотрела на Лени — наверно, хотела, даже нуждалась в том, чтобы Лени повторила ее слова, поступила так же, как всегда. Одного поля ягоды.
Обе сейчас вспоминали, как он годами кричал, бил маму, как они его боялись… и как он улыбался, смеялся, говорил: «Привет, Рыжик» — и вымаливал прощение.
— Пока, пап, — только и сумела вымолвить Лени. Может, со временем она забудет последнюю сцену; может, когда-нибудь вспомнит, как он держал ее за руку, катал на плечах по набережной.
Мама толкнула его по льду в прорубь. Капканы лязгнули. Тело ухнуло в воду, голова запрокинулась.
Обращенное к ним лицо в холодной черной воде белело, как камея, в лунном свете; борода и усы обледенели. Медленно-медленно он погрузился в воду и скрылся навсегда.
Назавтра не останется и следа. Лед затянется задолго до того, как сюда кто-нибудь доберется. Тело промерзнет насквозь, тяжелые капканы утянут его на дно. Постепенно труп оттает, его размоет, останутся только кости; возможно, их вынесет на берег, но, скорее всего, хищные звери доберутся до них куда раньше полиции. К тому же тогда его все равно уже никто искать не будет. Каждый год на Аляске пропадают без вести пять человек из тысячи. Это общеизвестный факт. Проваливаются в расщелины, сбиваются с тропы, тонут в прилив.
Аляска. Бескрайняя глушь.
— Что же мы наделали, — проговорила мама.
Лени стояла рядом, вспоминая, как окоченевшее тело отца утянуло во мрак. Во мрак, который он ненавидел больше всего на свете.
— Мы выжили, — ответила Лени и подумала: смешно, ведь именно этому и учил их отец.
Выжили.
Лени снова и снова прокручивала в голове, как скрывается под водой лицо отца. Воспоминание об этом будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь.
Лени с мамой наконец вернулись домой, вымотавшись и продрогнув до костей. Кое-как заткнули дыру в окне, натаскали дров, растопили печь. Лени бросила перчатки в огонь. Они с мамой стояли у печки, вытянув к огню дрожавшие руки. Сколько же они так простояли?
Кто знает. Время уже не имело значения.
Лени тупо таращилась на пол. У ее ноги валялся осколок кости, и еще один на журнальном столике. Уборка займет всю ночь, но Лени боялась, что даже если они смоют кровь, она просочится снова, вспузырится из-под половиц, как в фильмах ужасов. Однако пора браться за дело.
— Надо тут убрать. Мы скажем, что он пропал, — проговорила Лени.
Мама нахмурилась, задумчиво прикусила нижнюю губу.
— Езжай за Мардж. Скажи ей, что я натворила. — Мама посмотрела на Лени: — Ты меня поняла? Скажи ей, что это сделала я.
Лени кивнула и вышла, оставив маму убирать дом.
На улице снова сеялся снег, стало темнее, небо затянули тучи. Лени с трудом пробралась к снегоходу, села за руль. Снежинки летели, точно гусиный пух, меняли направление от ветра. С главной дороги Лени свернула направо, к дому Марджи-шире-баржи, углубилась в чащу и покатила по извилистой колее.
Наконец выбралась на поляну — маленькую, овальную, в окружении высоких белых деревьев. Марджи-шире-баржи жила в юрте из дерева и холста. Как все местные, она никогда ничего не выбрасывала, и двор ее был завален грудами заснеженного барахла.
Лени припарковалась возле юрты и слезла со снегохода. Она знала, что звать хозяйку нет нужды: свет фары и шум мотора и так оповестил ее о гостье.
И действительно, минуту спустя дверь юрты отворилась. Вышла Марджи-шире-баржи, закутавшись в шерстяное одеяло, точно в огромный плащ. Приложила руку козырьком ко лбу, чтобы снег в глаза не попадал.
— Лени? Это ты?
— Я.
— Заходи. Заходи, — махнула ей Мардж.
Лени вбежала по лестнице в дом.
Внутри юрта была безукоризненно чистой и более просторной, чем казалось снаружи. Фонари источали маслянистый свет, от печки шло тепло; дым вытягивало в железную трубу, уходившую наружу сквозь аккуратное отверстие в холщовом куполе.
Стены юрты из длинных узких перекрещивавшихся дощечек под туго натянутой холстиной походили на затейливую юбку с кринолином. Купол подпирали балки. Кухня была нормального размера, спальня размещалась наверху, на чердаке, который смотрел сверху на гостиную. Сейчас, зимой, здесь было уютно и тесно, холщовые окна закрыты, но Лени знала, что летом их расстегивают и сквозь защитные сетки дом заливает яркий свет. В стены юрты бил ветер.
Марджи-шире-баржи окинула взглядом синяки на лице Лени, ее сломанный нос, запекшуюся кровь на щеках, сказала: «Гаденыш» — и крепко ее обняла.
— Это было ужасно, — отстранившись, наконец проговорила Лени. Ее трясло. Наверно, она только сейчас осознала, что произошло. Они убили его, переломали кости, сбросили в прорубь…
— Неужели Кора…
— Он мертв, — тихо сказала Лени.
— Слава богу, — ответила Марджи-шире-баржи.
— Мама…
— Ничего не говори. Где он?
— Его больше нет.
— А Кора?
— Дома. Вы обещали нам помочь. Нам сейчас нужна помощь — ну, чтобы все убрать. Но я не хочу, чтобы у вас потом были неприятности.
— Обо мне не беспокойся. Езжай домой. Я буду через десять минут.
Когда Лени уходила, Мардж уже одевалась.
Вернувшись домой, Лени увидела, что зареванная мама смотрит на лужу запекшейся крови и грызет сломанный ноготь.
— Мама? — окликнула Лени, боясь к ней прикоснуться.
— Она нам поможет?
Не успела Лени ответить, как по окну скользнул луч фар, ярко осветил маму, отчаяние и скорбь на ее лице.
Марджи-шире-баржи открыла дверь и вошла в дом. Она была в дутом комбинезоне, шапке из росомахи и унтах до колена. Быстро огляделась, заметила запекшуюся кровь и осколки стекла и костей. Подошла к маме, погладила ее по плечу.
— Он накинулся на Лени, — сказала мама. — И я его застрелила. Я стреляла в спину. Два раза. А он был без оружия. Ты ведь знаешь, что это значит.
Марджи-шире-баржи вздохнула:
— Да уж. Полиции дела нет, как он над тобой измывался и как тебе было страшно.
— Мы прикрепили к нему груз и утопили в озере, но… Не мне тебе говорить, что на Аляске рано или поздно все тайное становится явным. Чего только не всплывает в ледоход.
Марджи-шире-баржи кивнула.
— Его никогда не найдут, — возразила Лени. — Мы скажем, что он сбежал.
— Лени, иди наверх, сложи рюкзачок. Вещей много не бери, только на ночь, — велела Мардж.
— Я вам помогу убирать, — ответила Лени.
— Иди, — отрезала Мардж.
Лени забралась на чердак. Мама и Мардж о чем-то тихо беседовали.
Лени взяла томик стихов Роберта Сервиса. И фотоальбом, который подарил ей Мэтью; теперь в этом альбоме была масса ее любимых снимков. Все это сунула в рюкзак вместе с верным фотоаппаратом, сверху положила кое-какие вещи и спустилась в гостиную.
Мама в папиных ботах вышагивала по луже крови, потом подошла к двери, чтобы остались следы. Прижала окровавленную ладонь к краю оконного стекла.
— Что ты делаешь? — удивилась Лени.
— Это чтобы полиция не сомневалась, что твои мама и папа были здесь, — ответила Марджи-шире-баржи.
Мама сняла папины боты, надела свои и снова прошлась по луже крови. Потом взяла свою рубашку, порвала на лоскуты и швырнула на пол.
— Ого, — только и сказала Лени.
— Так они поймут, что произошло преступление, — пояснила Мардж.
— Но мы же хотели все убрать, — опешила Лени.
— Нет, детка. Нам придется уехать, — ответила мама. — Сегодня же. Сейчас.
— Что? Постой-ка, мы ведь собирались сказать, что он от нас ушел. Все в это поверят.
Мама и Мардж печально переглянулись.
Лени повысила голос:
— На Аляске вечно кто-то пропадает!
— Я думала, ты понимаешь, — ответила мама. — После такого мы не можем остаться на Аляске.
— Не можем?
— Да, не можем, — повторила мама — мягко, но решительно. — Мардж со мной согласна. Теперь ведь никого не убедишь, что мы всего лишь защищались. Мы же скрыли следы преступления.
— А это доказывает, что убийство умышленное, — добавила Мардж. — Закон не защитит избитую женщину, которая убила мужа. Хотя и должен бы. Конечно, если сказать, что ты спасала дочь, глядишь, и сработает. Могут даже оправдать, если присяжные сочтут, что в данном случае применение оружия оправданно, — но стоит ли так рисковать? К жертвам домашнего насилия закон не очень-то снисходителен.
Мама кивнула.
— Мардж отгонит наш пикап со следами крови в салоне в какой-нибудь тупик и бросит там. Через несколько дней сообщит в полицию, что мы исчезли, приведет их сюда. Будем надеяться, они решат, что он убил нас обеих и смылся. Мардж с Томом скажут полиции, что он нас избивал.
— У твоих родителей одна группа крови, — добавила Мардж, — а значит, невозможно точно определить, чья именно это кровь. По крайней мере, я на это надеюсь.
— Но я же хотела сказать, что он убежал, — заупрямилась Лени. — Мам, ну пожалуйста. Как же Мэтью?
— Исчезнувшего человека ищут даже в тайге, — ответила Мардж. — Помнишь, как весь город искал Женеву Уокер? И первым делом они обыщут дом. Как ты им объяснишь дыру от пули в стекле? Я Курта Уорда знаю. Он мужик дотошный. С него станется явиться сюда с собакой или вызвать следователя из Анкориджа. Сколько ни отмывай, все равно останутся улики. Какой-нибудь осколочек кости, что-нибудь, что позволит установить гибель твоего отца. И если они это найдут, вас арестуют за убийство.
Мама подошла к Лени:
— Прости, доченька, но ты сама настояла. Я была готова взять вину на себя, но ты не дала. Так что теперь мы обе в это впутались.
У Лени пол ушел из-под ног. Она-то наивно полагала, будто им не придется расплачиваться за грех, что они отделаются грустными воспоминаниями и кошмарами.
Но предстоит пожертвовать всем, что Лени любила. Мэтью. Канеком. Аляской.
— Лени, у нас уже нет выбора.
— Да когда он у нас был? — ответила Лени.
Ей хотелось кричать, плакать, вести себя как ребенок, которым она никогда не была, но если жизнь и семья чему ее и научили, так это выживать.
Мама права. Всю кровь им ни за что не отмыть. А если полицейские придут с собакой, обязательно что-нибудь да обнаружат. Вдруг у отца на завтра назначена встреча, о которой они не знают, кто-нибудь позвонит в полицию и сообщит о его пропаже, а они не успеют замести следы? Вдруг капканы свалятся, лед растает, труп вынесет на берег и там его найдет какой-нибудь охотник?
Лени, как всегда, приходилось думать о тех, кого она любила.
Мама закрыла ее собой, застрелила отца, чтобы ее спасти. И теперь, когда надо бежать, Лени не может бросить маму, как не может и растить ребенка одна. Ее охватила тоска, гнетущее чувство, будто они пробежали марафон и все равно очутились там, где были.
По крайней мере, они будут вместе. И у ребенка появится надежда на лучшее будущее.
— Ладно. — Лени повернулась к Мардж. — Что нужно делать?
Еще час ушел на последние приготовления. Они отогнали пикап к пристани, ручку двери испачкали кровью, перевернули мебель, бросили на пол пустую бутылку из-под виски, Марджи-шире-баржи два раза выстрелила в стены. Дверь дома оставили открытой: пусть звери довершат начатое.
— Ты готова? — наконец спросила мама.
«Нет, не готова, здесь мой дом», — хотела ответить Лени. Но цепляться за прошлое было поздно. Она угрюмо кивнула.
Марджи-шире-баржи крепко обняла обеих, расцеловала в мокрые щеки, пожелала удачи.
— Я сообщу полиции, что вы пропали, — шепнула она Лени на ухо. — И никогда ни одной живой душе ничего не скажу. Можешь мне верить.
Когда они с мамой в последний раз спускались на берег по зигзагообразной лестнице, Лени казалось, будто ей тысяча лет. Снег валил густо-густо, ничего не разглядеть.
Ветер трепал мамину челку, приглушал ее голос, что-то бренчало в рюкзаке у нее за спиной. Лени понимала, что мама о чем-то ей говорит, но слов не могла разобрать — да и, признаться, не очень хотела. По ледяным волнам добралась до плоскодонки, швырнула в лодку рюкзак, забралась сама и села на деревянную скамью. Вскоре их следы на берегу заметет, словно их здесь вовсе и не было.
Огни нигде не горели, мама медленно вела лодку вдоль берега, крепко сжимая руль. Волосы разлетались на ветру.
Когда они обогнули мыс, занялась заря и указала им путь.
* * *
В Хомере они причалили к временной пристани.
— Мне нужно попрощаться с Мэтью, — твердо сказала Лени.
Мама бросила ей швартов.
— Даже не думай. Нам надо ехать. Тем более что нас никто не должен видеть. И ты об этом знаешь.
Лени привязала лодку.
— Это был не вопрос.
Мама взяла рюкзак, надела на спину. Лени ступила на обледеневшую пристань. Швартовы скрипели.
Мама заглушила мотор и вылезла из лодки. Они стояли под медленно падавшим снегом.
Лени достала из рюкзака шарф, обмотала вокруг шеи, прикрыла лицо.
— Никто меня не увидит. Я все равно пойду.
— Ладно, встретимся через сорок минут у кассы Гласс-Лейк, — ответила мама. — И не опаздывай. Договорились?
— Мы что, на самолете полетим? Как это?
— Не опаздывай.
Лени кивнула. Сказать по правде, ее сейчас ничуть не занимало, что да почему. Она не могла думать ни о ком, кроме Мэтью. Она взвалила рюкзак на плечо и припустила прочь. В такую рань холодным и снежным ноябрьским утром на улице не было ни души, ей никто не встретился.
Лени дошла до лечебницы и замедлила шаг. Здесь нужно быть осторожнее.
Стеклянные двери со свистом разъехались.
Внутри пахло дезинфицирующим средством и чем-то еще — металлический, терпкий запах. За стойкой регистратуры дежурная болтала по телефону и, когда открылись двери, даже не подняла глаза. Лени быстренько прошмыгнула мимо стойки. В коридорах ни души, двери закрыты. У палаты Мэтью она остановилась, отдышалась и открыла дверь.
Тихо. И темно. Не слышно свиста и стука аппаратуры. Жизнь Мэтью поддерживало лишь его большое сердце.
Его разместили так, что он спал сидя, голову удерживало кольцо наподобие нимба, прикрепленное к специальному жилету, чтобы Мэтью не шевелился. Лицо в розовых шрамах словно сшивали на машинке. Каково ему, шитому-перешитому, с винтами в черепе, не способному ни говорить, ни соображать, ни обнять кого-то? Да и его самого не очень-то обнимешь. Как же она бросит его?
Лени опустила рюкзак на пол, подошла к кровати, взяла Мэтью за руку. Кожа, некогда загрубевшая от рыбалки и работы, стала нежной, словно у девушки. Лени невольно вспомнила, как в школе они держались за руки под партой, как передавали друг другу записочки и думали, что у них вся жизнь впереди.
— А ведь все могло быть иначе, Мэтью. Мы бы с тобой поженились, родили ребенка, ну рано, и что, и любили бы друг друга всю жизнь.
Она зажмурилась, представляя все это, представляя их вместе. Они дожили бы до седин, превратились в старичков в старомодной одежде, сидели бы рядышком на крылечке под полуденным солнцем.
Если бы да кабы.
Пустые слова. Слишком поздно.
— Я не могу бросить маму. А у тебя есть папа, семья, Аляска. — Голос ее осекся. — Ты меня даже не узнаешь.
Она наклонилась к нему. Слезы капнули на щеку, на розовый шрам.
Сэм Гэмджи никогда бы не бросил Фродо. Герои так не поступают. Но книги — лишь отражение жизни, а не сама жизнь. В книгах не пишут об искалеченных парнях с повреждением мозга, которые не могут ни ходить, ни говорить, ни назвать тебя по имени. О матерях и дочерях, которые совершают ужасные, непоправимые ошибки. О детях, достойных лучшей участи, чем та погань, в которой они родились.
Она прижала руку к животу. Сейчас зародыш с лягушачью икринку, такой крохотный, что и не ощутишь, и все равно Лени готова была поклясться, что слышала эхо второго сердечка, стучавшего в такт ее собственному. Одно она знала наверняка: она должна стать хорошей матерью этому ребенку и позаботиться о своей маме. И точка.
— Я помню, ты очень хотел детей, — тихо проговорила Лени. — А теперь…
Нельзя бросать тех, кого любишь.
Глаза Мэтью открылись. Один смотрел вверх, второй дико вращался в глазнице. Тот зеленый глаз, что смотрел вверх, был единственным, что напомнило Лени прежнего Мэтью. Мэтью забился, страшно застонал от боли. Открыл рот, прокричал: «Бваааа…», заметался, затрясся, словно хотел вырваться. Нимб бренчал о спинку кровати. На висках возле винтов набухли вены. Раздался сигнал тревоги.
— Ыннн…
— Не надо, — попросила Лени. — Пожалуйста…
Дверь за ее спиной открылась, в палату вбежала медсестра.
Лени попятилась, дрожа, накинула капюшон. Медсестра не видела ее лица.
Мэтью мычал, выл, как зверь, бился. Медсестра ввела ему в капельницу какое-то лекарство.
— Успокойся, Мэтью, все в порядке. Скоро папа придет.
Лени хотелось сказать: «Я тебя люблю» — в последний раз, вслух, чтобы весь мир слышал, но она побоялась. Надо срочно уходить, пока медсестра не обернулась.
Но никак не могла уйти, стояла с полными слез глазами, прижав руки к животу. «Я постараюсь стать хорошей мамой, я расскажу ребенку о нас. О тебе…»
Потом схватила с пола рюкзак и выбежала из палаты.
Бросила Мэтью одного с чужими.
Он бы с ней так никогда не поступил.
* * *
Она.
Она здесь. На самом деле? Он уже не знает, что правда, что нет.
Он помнит кое-какие слова, он собирал их, как самое важное, но не знает, что они значат. Кома. Скобы. Поражение мозга. Они здесь, он смотрит на них, но не видит, как то, что внутри другой комнаты, когда глядишь сквозь рифленое стекло.
Иногда он знает, кто он, иногда нет. Иногда на мгновения осознает, что был в коме, очнулся, не может двигаться, потому что его привязали. Он знает, что не может двигать головой, потому что ему в череп вкрутили винты и надели на голову клетку. Он понимает, что сидит так весь день, на подпорках, связанное чудовище, вытянув ногу перед собой и постоянно мучаясь от боли. Он знает, что все, кто на него смотрит, не могут удержаться от слез.
Иногда он что-то слышит. Видит формы. Людей. Голоса. Свет. Пытается их поймать, сосредоточиться, но перед глазами лишь какие-то мотыльки да ежевика.
Она.
Она же сейчас здесь, да? Кто она?
Та, которую он ждет.
«Аведьвсемоглобытьиначе, Мэтью».
Мэтью.
Мэтью — это же он? Она к нему обращается?
«Тыменядаженеузнаешь…»
Он пытается повернуться, вырваться, чтобы смотреть на нее, а не в потолок, который качается перед глазами.
Он кричит, зовет ее, плачет, пытается вспомнить нужные слова, но ничего не находит. Его охватывает такое отчаяние, что даже боль отступает.
Он не может пошевелиться. Он завязь — нет, не то, — привязан, пристегнут ремнями. Связан.
Вот кто-то еще. Другой голос.
Он чувствует, как все ускользает. Он замирает, не в силах вспомнить, что было минуту назад.
Она.
Что это значит?
Он перестает биться, таращится на женщину в оранжевой одежде, слушает ее воркование.
Глаза его закрываются. Последняя мысль о ней. «Не уходи». Но он даже не знает, что это значит.
Он слышит шаги. Кто-то бежит.
Так бьется его сердце. Наконец все стихает.
Двадцать пять
Снегопад превратил Хомер в размытый неяркий пейзаж под блеклым небом. Те немногие, кто в такую погоду выбрался из дома, смотрели на мир либо сквозь заляпанное ветровое стекло, либо исподлобья, пряча подбородок в ворот. Никто не обратил внимания, когда замотанная шарфом девушка в просторной куртке с поднятым капюшоном спускалась с холма.
У Лени ужасно саднило лицо, пульсировала боль в перебитом носу, но душа болела куда сильнее. Когда она дошла до дороги, ведущей к аэродрому, снегопад прекратился. Лени свернула к летному полю и заметила самолетик с работавшим двигателем.
Крошечная контора авиакомпании с островерхой крышей, из дерева и гофрированного железа, напоминала огромный курятник. На вывеске не хватало букв, и вместо «Вход для пассажиров» читалось «Вход для жиров». На памяти Лени так было всегда. Хозяин говорил, дескать, разок починил — и хватит. Видимо, буквы украли школьники, из шалости.
Внутри все тоже кое-как, словно начали, да так и не доделали. Пол из разномастных кусков линолеума, стойка регистрации из фанеры, маленькая витрина с туристическими брошюрами, за сломанной дверью — туалет. У задней двери стопка коробок с товарами, которые то ли привезли, то ли должны увезти.
Мама сидела в белом пластмассовом кресле, обмотав лицо шарфом до носа и спрятав светлые волосы под шапкой. Лени устроилась рядом в мягком цветастом кресле, которое какая-то кошка разодрала в клочья.
Перед ними на столике, крытом формайкой, лежали журналы.
Лени устала плакать, устала от скорби, которая снова и снова охватывала ее и затихала, но все равно слезы подступали к глазам.
Мама сунула окурок в пустую банку из-под кока-колы. Окурок зашипел, из банки поднялась струйка дыма и растворилась в воздухе. Мама со вздохом откинулась на спинку кресла.
— Ну как он? — спросила она.
— Так же. — Лени прислонилась к маме, чтобы согреться ее теплом. Сунула руку в карман, нащупала что-то острое.
Подарок Мэтью, который передал ей мистер Уокер. Лени закружилась и забыла о нем. Вынула из кармана завернутый в газету маленький тонкий сверток, на котором Мэтью написал: ЛЕНИ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В треволнениях этого года про совершеннолетие Лени вовсе забыли, но Мэтью к нему готовился заранее. Наверно, даже придумал, как отпраздновать.
Лени развернула подарок, аккуратно сложила обертку, чтобы сохранить — ведь он держал эту газету в руках и думал о ней. Внутри, в тонкой белой коробочке, сложенная вырезка из газеты, пожелтевшая, истрепанная.
В вырезку засунута старая черно-белая фотокарточка двух поселенцев. Держась за руки, они сидели в разрозненных креслах перед домишком с мшистой крышей, вокруг ездовые собаки. Двор был завален хламом, в грязи возился белокурый мальчишка. Лени узнала и двор, и крыльцо: это были бабушка и дедушка Мэтью.
Внизу Мэтью приписал: ЭТО МОГЛИ БЫТЬ МЫ С ТОБОЙ.
У Лени защипало глаза. Она прижала фотокарточку к сердцу и опустила взгляд на статью.
Лили Уокер
МОЯ АЛЯСКА
4 июля 1972 года
Все вы знаете слово «дикий». Мы им пользуемся всю жизнь. Этим словом можно описать и зверей, и прическу, и непослуш
ного ребенка. Но лишь на Аляске до конца понимаешь его смысл.
Мой муж Экхарт и я приехали на Аляску порознь — казалось бы, что тут такого, но это важно. Каждый из нас самостоятельно решил, причем, надо сказать, уже в зрелом возрасте, что цивилизация не для нас. Великая депрессия была в разгаре. Я жила в лачуге с родителями, шестью братьями и сестрами. Нам вечно всего не хватало — времени, денег, еды, любви.
Как же мне пришла мысль об Аляске? Сейчас уже и не вспомню. Мне было тридцать пять, не замужем (тогда таких, как я, называли «перестарками»). Потом умерла самая младшая из моих сестер — то ли от разбитого сердца, то ли не вынесла страданий собственных деток, — и я уехала.
В чем была. С десяткой в кармане, без профессии, направилась на запад — куда же еще? Романтика! В Сиэтле увидела объявление, что на Аляску нужны прачки на золотые прииски.
«Ну уж стирать-то я умею», — подумала я и поехала на Аляску.
Труд там был каторжный. Мужчины то и дело ко мне приставали. Кожа на руках задубела, как звериная шкура. А потом я встретила Экхарта. Он был на десять лет старше, да и лицом, если честно, не вышел.
Но все-таки я его заприметила, а он и признался, что хочет поселиться на Кенае. И когда он сделал мне предложение, я согласилась. Любила ли я его? Нет. По крайней мере, тогда. Я полюбила его много лет спустя, и когда он умер, у меня было такое чувство, словно Господь протянул руку и вырвал мне сердце.
«Дикий». Этим словом можно описать все. Мою любовь. Мою жизнь. Аляску. Для меня это одно и то же. На Аляску ведь никто особо не рвется, у большинства кишка тонка здесь жить. Но если уж она цепляет, то глубоко, держит и не отпускает: ты теперь ее. Дикий. Ты любишь суровую красоту и блаженную глушь. И, видит Бог, в другом месте уже не сумеешь жить.
— Что у тебя там? — спросила мама и выдохнула дым.
Лени аккуратно сложила вырезку вчетверо.
— Статья, которую написала бабушка Мэтью. Она умерла за несколько лет до того, как мы приехали на Аляску. — На коленях у нее лежала фотокарточка с бабушкой и дедушкой Мэтью, датированная 1940 годом. — Неужели я его когда-нибудь разлюблю? Смогу… забыть?
Мама вздохнула:
— А, ты об этом. Нет, доченька, любовь не тускнеет и не умирает. Все это враки. Если ты его любишь, то будешь любить и через десять лет, и через сорок. Может, не так, как сейчас, слабее, но все равно отныне он часть тебя. А ты — часть его.
Лени не знала, пугает ее это или утешает. Если она всегда будет мучиться, как сейчас, когда ее сердце словно открытая рана, получается, она уже никогда не будет счастлива?
— Но любовь бывает не только раз в жизни. Если повезет, конечно.
— Нас, Олбрайтов, везунчиками не назовешь…
— Как знать. Ты же встретила его в такой глуши. Какова была вероятность найти здесь парня, чтобы он в тебя влюбился, чтобы ты его полюбила? Так что, думаю, тебе повезло.
— А потом мы свалились в расщелину, он получил травму мозга, а ты убила папу, чтобы меня защитить.
— Ну да, все так. Стакан всегда либо наполовину полон, либо наполовину пуст.
Лени знала, что стакан разбит.
— И куда мы теперь? — спросила она.
— Тебе правда интересно?
— Нет.
— В Сиэтл. Больше я ничего не придумала. Спасибо Мардж, что мы летим, а не добираемся на попутках.
Дверь открылась, повеяло холодом. Вошла женщина в коричневой куртке и надвинутой на глаза толстой вязаной шапочке.
— Самолет готов к взлету. Рейс на Анкоридж.
Мама мгновенно спрятала лицо в шарф до самых глаз, Лени накинула капюшон и туго затянула завязки.
— Вы наши пассажирки? — уточнила женщина, глядя на лист бумаги, который держала в руках. Не успела мама ответить, как телефон на стойке зазвонил, женщина подняла трубку: «Авиакомпания “Гласс-Лейк”».
Мама и Лени выскочили из маленькой конторы на летное поле, где уже стрекотал пропеллером самолет. Когда они поднялись на борт, Лени швырнула рюкзак в хвост, к тюкам с каким-то грузом, и прошла за мамой по темному салону. Села в кресло (их было всего два, сразу за пилотом), застегнула ремень.
Самолетик с ревом и грохотом промчался по полосе, взлетел, качнулся, выровнялся. Мотор тарахтел, как колеса велосипеда, если ребятня цепляла в спицы карты, — там, где Лени жила в детстве.
Лени смотрела в темноту за стеклом иллюминатора. С такой высоты все казалось темно-серым и белым, суша, небо и море сливались. Зубцы заснеженных гор, сердитые волны в барашках на пепельно-сером море. Лачуги и дома упрямо лепятся вдоль дикого берега.
Хомер медленно таял вдали.
* * *
Ночной Сиэтл под дождем.
В темноте змеятся желтые лучи фар. Неоновые вывески отражаются в мокром асфальте. Светофоры меняют цвет. Отрывисто гудят автомобили.
Из открытых дверей, разрезая ночь, вырывается музыка, ничего похожего Лени слышать не доводилось. Мелодия лязгает, грохочет, люди перед барами похожи на марсиан: в щеках булавки, на головах синие ирокезы, черные шмотки изрезаны в клочья.
— Все в порядке. — Мама притягивает к себе Лени, когда они проходят мимо скверика, где несколько бездомных вяло передают друг другу косячки.
Лени видела город фрагментами, обрывками, сквозь полуприкрытые ресницы, мокрые от затяжного дождя. Видела женщин с младенцами, свернувшихся калачиком у подъездов, мужчин в спальных мешках под эстакадой, которая высилась над районом. Лени не понимала, зачем так жить, если можно уехать на Аляску, завести хозяйство, выстроить дом. Она невольно вспоминала всех тех девушек, которых похитили в 1974 году и нашли мертвыми в окрестностях Сиэтла. Теда Банди арестовали, но значит ли это, что на улицах теперь безопасно?
Мама нашла телефон-автомат и вызвала такси. Пока они его ждали, дождь кончился.
К тротуару подъехало ярко-желтое такси, обдав их грязной водой из лужи. Лени уселась с мамой на заднее сиденье; в салоне сильно пахло хвоей. С этой минуты Лени видела огни города через окно такси. Повсюду лужи, капает вода, но дождь прекратился, и городская неразбериха казалась красочной, карнавальной.
Они поднимались в гору. Как только у обитателей Пайо-нир-сквер, района старых кирпичных малоэтажных домов, заводились деньжата, здешние жители тут же выбирались из этой дыры. Над центром города, точно отвесные скалы в каньоне, высились небоскребы, офисные здания, вдоль оживленных улиц тянулись универмаги с витринами, похожими на декорации, населенные манекенами в шикарных костюмах с завышенными плечами и туго затянутыми талиями. На вершине холма город перетекал в предместье особняков.
— Приехали, — сказала мама и протянула таксисту последние деньги, которые дала им Мардж.
Дом оказался больше, чем запомнилось Лени. В темноте он выглядел неуловимо-зловещим: остроконечная крыша, устремленная в черное ночное небо, светящиеся ромбы окон. Участок окружала железная ограда с пиками-сердечками.
— Ты уверена? — тихо спросила Лени.
Лени понимала, чего маме стоило обратиться к родителям за помощью. Она догадалась об этом по ее глазам, понурым плечам, стиснутым кулакам. Вернуться сюда для мамы означало признать, что она неудачница.
— Это лишь доказывает, что они были правы насчет него.
— Мы можем уехать отсюда. Начнем все сначала самостоятельно.
— Будь я одна, я бы так и сделала, но у меня есть ты. Я плохая мать, но я буду хорошей бабушкой. Так что даже не уговаривай. — Она глубоко вздохнула: — Пошли.
Лени взяла маму за руку; они вместе прошли по мощеной камнем дорожке, фонари освещали кустарник по обе стороны, подстриженный в виде животных, и обрезанные на зиму колючие кусты роз. У богато украшенной входной двери остановились. Постояли немного. Потом мама постучала.
Несколько мгновений спустя дверь открылась. На пороге стояла бабушка.
Годы ее изменили: кожа обвисла, волосы поседели. А может, она и прежде была седой, просто теперь перестала закрашивать седину.
— О господи… — прошептала она и закрыла рот худыми пальцами.
— Привет, мам, — дрожащим голосом проговорила Кора.
Лени услышала шаги.
Бабушка посторонилась, к ней подошел дедушка. Синий кашемировый свитер обтягивал толстый живот, полные щеки обвисли, седые волосы аккуратно, прядка к прядке, зачесаны поверх блестящей лысины. Мешковатые черные синтетические брюки туго перехвачены ремнем, а значит, ноги, скорее всего, тонкие, как птичьи лапки. Он выглядел старше своих семидесяти.
— Привет, — сказала мама.
Бабушка с дедом, прищурясь, рассматривали синяки на распухших лицах мамы и Лени, кровоподтеки, ссадины.
— Сукин сын, — выругался дед.
— Нам нужна помощь. — Мама стиснула руку Лени.
— Где он? — спросил дед.
— Мы от него ушли, — ответила мама.
— Слава богу, — сказала бабушка.
— Стоит ли нам волноваться, что он заявится сюда вслед за вами и выломает мне дверь? — уточнил дед.
Мама покачала головой:
— Нет. Никогда.
Дед прищурился. Понял ли он, что это значит? Понял, что они сделали?
— Ты хочешь ска…
— Я беременна, — перебила Лени. Вообще-то они с мамой все обсудили и решили пока никому ничего не говорить, но теперь, когда они пришли сюда просить о помощи, Лени не смогла молчать. Хватит с нее тайн. Она больше не хочет жить в их тени.
— Яблоко от яблони недалеко падает, — проговорила мама, силясь улыбнуться.
— Мы это уже проходили, — ответил дед. — И я помню, что тогда тебе советовал.
— Ты хотел, чтобы я отдала ее чужим людям, вернулась домой и притворилась, будто я та же, что была. Я же хотела, чтобы ты мне сказал: все в порядке, я все равно тебя люблю.
— Мы тебе говорили, — мягко поправила бабушка, — что некоторые прихожанки нашей церкви не могут иметь детей и с радостью приняли бы в семью твоего малыша.
— Я оставлю ребенка, — вставила Лени. — Не хотите помочь, не надо, но ребенка я никому не отдам.
Мама еще крепче сжала ее руку.
После этих слов повисло молчание. В наступившей тишине Лени представила огромный мир, расстилавшийся перед ней и мамой, и море проблем, с которыми придется справляться в одиночку. Это пугало ее, но не так, как мир, где придется жить, если она откажется от ребенка. Бывают ошибки, которые не исправишь, уж это-то Лени понимала.
Наконец, целую вечность спустя, бабушка повернулась к мужу:
— Сесил, мы ведь с тобой не раз обсуждали второй шанс? Час настал.
— А ты больше не сбежишь среди ночи? — спросил он Кору. — Твоя мама… еле это пережила.
В этих скупых, тщательно выбранных словах Лени услышала грусть. Маму и ее родителей связывали боль, сожаление, недоверие, но и нежность.
— Нет. Мы не сбежим.
Наконец дед улыбнулся:
— С возвращением, Коралина. Ленора. Пойдемте, надо приложить к синякам лед. И вам обеим нужно показаться врачу.
Лени видела, как не хочется маме переступать порог дома, как ей нужна поддержка.
— Не отпускай меня, — прошептала мама.
Едва войдя в дом, Лени почувствовала запах цветов. На блестящих деревянных столах были искусно расставлены большие и сложные букеты, на стенах висели зеркала в золоченых рамах.
По дороге Лени заглядывала в комнаты, осматривалась в коридорах. Она видела столовую с обеденным столом на двенадцать человек, библиотеку с книжными полками до потолка, гостиную, где все предметы были парными — диванчики, кресла, окна, лампы. Лестница, устланная ковром с таким густым ворсом, что в нем утопает нога, как летом во мху, вела на второй этаж еще в один коридор. Тут на стенах с панелями красного дерева висели медные канделябры и картины в роскошных золотых рамах — сплошь лошади и собаки.
— Пришли, — наконец сказала бабушка. Дедушка остался внизу — видимо, считал, что показывать комнаты — женское дело. — Ленора, ты будешь спать в бывшей комнате Коралины. Кора, идем со мной.
Лени вошла в свою новую комнату.
Первое, что она заметила, — кружева. Да не какой-нибудь там ситчик в дырочку, который она не раз видела в лавках старьевщиков, а тончайшие, как паутина. На окнах кружевные занавески цвета слоновой кости. Кружевные абажуры тоже цвета слоновой кости, на кровати — такие же покрывала. На полу кремовый ковер. Мебель цвета слоновой кости с позолоченными краями. Овальный столик на изогнутых ножках, под ним пуфик с подушечкой цвета слоновой кости.
Воздух спертый, неживой, с химическим запахом лаванды.
Лени подошла к окну, подняла тяжелую раму, высунулась наружу. Сладкий ночной воздух ее успокоил. Ночь, словно умытая дождем, сверкала. Во всех домах на холме горел свет.
Перед ней тянулась полоска мокрой крыши, внизу — ухоженный двор. Возле самого окна рос старый клен, уже облетевший, лишь кое-где висели золотисто-красные листья.
Деревья. Ночной воздух. Тишина.
Лени выбралась из окна на гонтовую крышу. Хотя в доме горел свет, да и в домах напротив светились окна, только здесь она чувствовала себя в безопасности. Вдыхала аромат деревьев, травы, даже уловила слабый запах моря.
Какое непривычное небо. Черное. На Аляске зимними ночами небо бархатно-синее, а когда снег покрывает землю, окутывает деревья, все сияет под луной, как в сказке. Порой в небе вихрится северное сияние. Однако созвездия она все же узнала — они оказались не там, где обычно, но звезды те же самые. Большая Медведица. Пояс Ориона. Мэтью показывал их ей в ту ночь на берегу.
Пальцы сжали висевшее на шее ожерелье с сердечком. Теперь она может носить его открыто и не бояться, что отец спросит, откуда оно взялось. Больше она его никогда не снимет.
— Можно к тебе?
— Конечно. — Лени подвинулась.
Мама вылезла в открытое окно, подошла по крыше к Лени и села, подтянув колени к груди.
— В старших классах вечером в субботу я спускалась по дереву и тайком убегала тусоваться с парнями в «Дикс» на Аврора-авеню. Только о парнях и думала. — Она вздохнула и уперла подбородок в колени.
Лени прислонилась к маме и уставилась на дом напротив. Окна его сияли. Лени насчитала минимум три включенных телевизора.
— Прости меня, Лени. Я сломала тебе жизнь.
— Мы с тобой вместе все решили, — ответила Лени. — И теперь нам надо с этим жить.
— Наверно, я ненормальная, — помолчав, сказала мама.
— Нет, — отрезала Лени. — Это он был ненормальный.
* * *
— Она там, поверь мне. Вон там, — говорила мама пять дней спустя.
Синяки успели побледнеть, их удалось спрятать под макияжем. Они провели дома почти неделю, не отваживаясь высунуть нос на улицу, и уже устали сидеть в четырех стенах.
Теперь, когда мама сделала короткую стрижку и перекрасилась в шатенку, они наконец вышли из дома и отправились на автобусе в оживленный центр Сиэтла, где слились с разношерстной толпой туристов, деловой публики и панков.
Мама взмахивала руками, представляя ей город.
Лени совершенно не интересовала ни Гора (именно так здесь называли Рейнир, как будто других гор на свете не было), ни прочие достопримечательности, которые мама демонстрировала ей с такой гордостью, словно Лени их никогда не видела. Яркая неоновая вывеска ГОРОДСКОЙ РЫНОК, смотревшая на рыбный ларек; Спейс-Нидл, похожий на инопланетный космический корабль, стоящий на палочках для игры в микадо; новый аквариум, дерзко вдававшийся в холодные воды залива Элиот.
В этот теплый солнечный ноябрьский день Сиэтл был и правда красив. Такой же зеленый, каким запомнила его Лени, окруженный водой, покрытый асфальтом и бетоном.
Повсюду, точно муравьи, кишели люди. Шум, сутолока: машины гудят, пешеходы переходят улицу, автобусы выпускают клубы выхлопных газов, скрежещут шестеренками передач на холмах, подпирающих город. Удастся ли ей когда-нибудь здесь, среди всех этих людей, почувствовать себя как дома?
Город не умолкал ни на минуту. Последние ночи Лени лежала в новой кровати (пахло кондиционером для белья и покупным стиральным порошком), стараясь устроиться поудобнее и наконец привыкнуть. Как-то раз на улице вдруг заревела сирена — не то «скорой», не то полиции; за окном загорался и гас красный свет, окрашивая кружево багровым.
Сейчас они с мамой были в северной части Сиэтла. Сели в автобус, который ехал через весь город, расположились посреди хмурых утренних пассажиров, потом прошли вверх по людной авеню к обширному кампусу Вашингтонского университета.
Они очутились на краю так называемой Красной площади. Вся площадь, насколько хватало глаз, была вымощена новенькой красной брусчаткой. Гигантский красный обелиск устремлялся в синее небо. Площадь окружали новые кирпичные здания.
По площади сновали сотни студентов, накатывали и отступали волной, болтали, смеялись. Тут же собрались протестующие в черных одеждах, в руках у них были плакаты против атомной энергии и ядерного оружия. Некоторые требовали закрыть какой-то Хэнфордский комплекс[69].
Лени вспомнила студентов, которых каждое лето видела в Хомере: кучки молодых людей в дождевиках глазели на зубчатые заснеженные вершины гор с таким видом, словно услышали, как их зовет Господь. И шептались — мол, надо все бросить, перебраться в тайгу, жить настоящей жизнью. «Назад к природе», — твердили они, как стих из Библии. Точно цитата из Джона Мьюра[70]: «Горы зовут, я должен идти». На Аляске многие лелеяли такие мечты. Правда, большинство так и не отваживалось перебраться сюда, а те немногие, кто все же приезжал, не выдерживали и одну зиму, но Лени всегда знала, что даже эта великая мечта и мелькнувшая вдалеке возможность изменят их навсегда.
Лени с мамой пробирались сквозь толпу. В руках у Лени был рюкзачок, с которым она ходила с двенадцати лет. На Аляске. Теперь он казался ей талисманом, последним остатком отвергнутой жизни. Жаль, что не удалось прихватить коробку с Винни-Пухом.
Наконец они пришли, куда нужно — к карамельно-розовому готическому зданию с широкими арками, изящными шпилями и окнами в затейливых завитках.
Внутри оказалась библиотека, в какой Лени прежде никогда не бывала. Сводчатый потолок, бесконечные ряды деревянных столов с зелеными лампами на медных ножках. Над столами готические люстры. А книги! Лени отродясь не видела столько книг. Они шептали о неизведанных мирах, незнакомых друзьях, и Лени поняла, что она здесь не одна. Вот они, ее друзья, на полках корешками наружу, ждут ее и ждали всегда. Жаль, Мэтью этого не видит…
Лени шла рядом с мамой. Она все ждала, что кто-нибудь, услышав стук ее каблучков, поднимет глаза, ткнет в них с мамой пальцем и скажет, что им здесь не место, но студентов в читальном зале совершенно не заботило, что к ним забрели чужаки.
Библиотекарь тоже без малейшего недоумения выслушала их вопросы и направила к соседней стойке, где уже другая сотрудница выполнила их просьбу.
— Вот, пожалуйста. — Она протянула им подшивку газет.
Мама поблагодарила и села за стол. Если библиотекарь и не заметила, что у мамы дрожит голос, то от Лени это не укрылось.
Лени уселась на деревянную скамью, придвинулась к маме.
Вскоре они нашли то, что искали.
СЕМЬЯ ИЗ КАНЕКА ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ПОЛИЦИЯ ПОДОЗРЕВАЕТ УБИЙСТВО
Полиция штата сообщает, что семья из Канека пропала без вести. Местная жительница Мардж Бердсолл 13 ноября обратилась в полицию и заявила об исчезновении соседок, Коры Олбрайт и ее дочери Леноры. «Они должны были вчера заглянуть ко мне в гости, но так и не приехали. Я испугалась, что Эрнт опять их избил», — сказала Бердсолл.
14 ноября Томас Уокер сообщил, что обнаружил возле своего участка брошенный пикап. Автомобиль, зарегистрированный на Эрнта Олбрайта, был найден на десятой миле шоссе в Канек. Полиция обнаружила кровь на сиденье и рулевом колесе. Также в салоне был найден кошелек Коры Олбрайт.
«Мы расследуем этот случай и как дело об исчезновении, и как потенциальное убийство», — заявил Курт Уорд, сотрудник полиции Хомера. Соседи утверждают, что Эрнт Олбрайт систематически избивал жену и дочь, и высказывают опасение, что он их убил и скрылся.
Подробности дела пока неизвестны, поскольку расследование не закончено.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Олбрайтов, просят сообщить о них констеблю Уорду.
Мама откинулась на спинку скамьи и вздохнула.
Лени видела мамину боль и понимала, что боль всегда будет с ней из-за всего, что случилось, и сожаление о том, что не уходила от него, хотя надо было, и о том, что любила его, и о том, что убила. Что происходит с такой болью? Быть может, понемногу она рассеется или же, наоборот, сгустится, превратится в яд?
— Отец сказал, что в конце концов нас объявят умершими, но на это может уйти лет семь.
— Семь лет?
— Будем жить дальше, научимся быть счастливыми, иначе зачем все это было нужно?
Счастливыми.
Жизнь не вызывала у Лени ни радости, ни восторга. Сказать по правде, невозможно было представить, что когда-нибудь она снова будет счастлива.
— Да, — Лени выдавила улыбку, — теперь мы с тобой будем счастливы.
Двадцать шесть
В тот вечер после ужина Лени сидела на своей двуспальной кровати и читала «Противостояние» Стивена Кинга. После приезда в Сиэтл она прочитала уже три его романа и буквально влюбилась в них. До свидания, научная фантастика и фэнтези, здравствуйте, триллеры.
Лени полагала, новое увлечение отражает то, что творится у нее в душе. Пусть ей лучше снятся кошмары про Рэндалла Флэгга, Джека Торренса и Кэрри, чем про собственное прошлое.
Она перевернула страницу и услышала приглушенные голоса. Взглянула на стоявшие у кровати часы (в доме их было полным-полно, и, когда они тикали, казалось, будто бьется невидимое сердце). Почти девять вечера.
В это время ее бабушка с дедушкой обычно уже спали.
Лени отметила страницу и отложила книгу. Подошла к двери, приоткрыла и выглянула в коридор.
Внизу горел свет.
Лени выскользнула из комнаты, бесшумно прошла босиком по плюшевому ковру, спустилась по лестнице, скользя рукой по гладким перилам красного дерева. Ступила на холодный черно-белый мраморный пол.
Мама сидела с родителями в гостиной. Лени прокралась поближе, чтобы посмотреть, что там творится.
Мама сидела на красно-оранжевом диванчике; напротив нее в одинаковых креслах, обтянутых тканью с узором пейсли, расположились родители. Кленовый столик между ними был уставлен изящными фарфоровыми статуэтками.
— Все думают, что он нас убил, — сказала мама. — Я сегодня прочитала в городской газете.
— И ведь запросто мог, — ответила бабушка. — Если помнишь, я тебя предупреждала: не надо было уезжать на Аляску.
— И вообще выходить за него замуж, — добавил дедушка.
— Что толку теперь от «я же тебе говорила»? — Мама тяжело вздохнула. — Я любила его.
Лени слышала в их голосах печаль и сожаление. Еще год назад она не поняла бы, о чем тут можно жалеть. Теперь понимала.
— Я не знаю, что делать дальше, — призналась мама. — Я сломала нам с Лени жизнь, а теперь еще и вас в это втянула.
— Ты серьезно? — спросила бабушка. — Разумеется, ты нас в это втянула, мы же твои родители.
— Это тебе, — сказал дед.
Лени так и подмывало высунуться из укрытия и посмотреть, что же там такое, но не осмелилась. Она слышала, как скрипнуло кресло, как простучали по деревянному полу каблуки (дедушка даже дома с утра до ночи ходил в ботинках), как зашуршала бумага.
— Свидетельство о рождении, — чуть погодя проговорила мама. — На имя Эвелин Честерфилд. Родилась 4 апреля 1939 года. И зачем оно мне?
Снова скрипнуло кресло.
— А это свидетельство о браке. Фальшивое, разумеется. Ты вышла замуж за некоего Чеда Гранта. С этими двумя документами ты пойдешь в Департамент регистрации транспортных средств, получишь права и новую карту социального страхования. Для Лени я тоже приготовил свидетельство о рождении. Она твоя дочь, Сьюзен Грант. Вы снимете дом где-нибудь поблизости. Мы всем скажем, что ты наша родственница, ну или домработница. Какая разница. Лишь бы вы были в безопасности, — хриплым от волнения голосом произнес дедушка.
— Откуда это у тебя?
— Я же адвокат. У меня есть кое-какие связи. Купил у клиента, он… не очень щепетилен.
— Это на тебя не похоже, — тихо заметила мама.
— Мы все изменились, — помолчав, ответил дедушка. — Научились на горьком опыте. На своих ошибках. Нам следовало к тебе прислушаться, когда тебе было шестнадцать.
— А мне к вам.
В дверь позвонили.
В такое время это было настолько неожиданно, что Лени охватил испуг. Послышались шаги, потом зашуршали деревянные жалюзи.
— Полиция, — сказал дед.
Мама выбежала из гостиной и увидела Лени.
— Иди наверх!
Из гостиной вслед за мамой вышел дед.
Мама взяла Лени за руку, и они поднялись по лестнице.
— Сюда, — сказала мама. — Тихо.
Они на цыпочках прокрались по темному коридору в просторную спальню бабушки и дедушки: окна со средниками, на полу оливково-зеленый ковер, на кровати с балдахином кружевное покрывало в цвет ковра.
Мама подвела Лени к вентиляционной решетке в полу, осторожно ее сняла и отложила в сторону. Опустилась на колени, поманила Лени к себе.
— Когда монахини пришли сообщить, что меня отчислили, я тут подслушивала, о чем они говорят.
Сквозь металлические щели вентиляции Лени расслышала шаги.
Мужские голоса.
— Детективы Арчер Мэдисон и Келлер Уотт, управление полиции Сиэтла.
Дед:
— Вы в такой поздний час, неужели что-то случилось?
— Мы здесь… [неразборчиво] по поручению полиции штата Аляска [снова неразборчиво]. Ваша дочь, Кора Олбрайт… [еще что-то]… в последний раз ее видели… Вынуждены с прискорбием известить… предположительно мертва.
Лени услышала, как бабушка вскрикнула.
— Присядьте, мэм, позвольте, мы вам поможем.
Молчание. Долгое. Затем что-то зашуршало — видимо, открыли портфель, вынули документы.
— Найден пикап… в доме следы крови, окно разбито, явно преступление, но хищники уничтожили улики… результаты анализов не позволяют сделать однозначный вывод… рентгеновские снимки, сломанная рука, сломанный нос. Ведутся поиски, но… в это время года… непогода. Кто знает, что нам удастся обнаружить, когда снег сойдет… мы вам сообщим.
— Он их убил, — громко, зло проговорил дед. — Убийца. Подонок. Мерзавец.
— Многие говорят… что он их бил.
Лени повернулась к маме:
— Значит, нам удалось?
— Как сказать… по делам об убийстве срока давности не существует. А все, что мы сделали — и еще предстоит сделать в Департаменте регистрации, — лишь доказывает нашу вину. Его убили выстрелом в спину, мы избавились от тела и скрылись. Если его когда-нибудь найдут, обязательно примутся нас искать. Родители нас покрывают, следовательно, они соучастники преступления. Так что нам нужно быть осторожными.
— Долго?
— Всегда.
* * *
Милый Мэтью,
На этой неделе я каждый день звонила в лечебницу. Представлялась твоей двоюродной сестрой. Отвечают мне всегда одно и то же: без изменений. И каждый такой ответ разбивает мне сердце.
Я знаю, что никогда не отправлю это письмо, а если и отправлю, ты все равно не сможешь его прочесть, не поймешь слов. Но я не могу не писать тебе, даже если слова утратили смысл. Я себе повторяю (и другие мне тоже вечно об этом твердят), что надо жить дальше, начать все сначала. Я пытаюсь. Правда.
Но ты живешь во мне, ты часть меня. Пожалуй, лучшая часть. И я сейчас не только о нашем ребенке. Твой голос звучит в моей голове. Мне постоянно снится, как ты мне что-то рассказываешь, и я просыпаюсь в слезах.
Наверно, мама была права насчет любви. И пусть в ее жизни было немало ошибок, но она понимает, какой безрассудной и прочной бывает любовь. Разлюбить так же невозможно, как заставить себя влюбиться.
Я понемногу обживаюсь тут. Ну то есть не я, а Сьюзен Грант. Машин на улицах тьма-тьмущая, на тротуарах толпы прохожих, никто ни на кого не глядит, никто ни с кем не здоровается. Хотя ты тогда был прав. Здесь красиво, нужно только уметь увидеть эту красоту. Гора Рейнир красивая, похожа на Илиамну[71], то появляется, то исчезает, словно по волшебству. Здесь ее называют просто «Гора», потому что другой нет. Не то что дома, где горы торчат, как голый хребет мира.
У дедушки с бабушкой свои причуды. Их заботит, правильно ли накрыли на стол, в котором часу обед, ровно ли я заправила кровать, аккуратно ли заплела косу. Позавчера бабушка вручила мне щипчики и велела выщипать брови.
Мы сняли чудесный домик по соседству с ними, так что можем их навещать — разумеется, с оглядкой. Мама, по-моему, сама удивляется, что ей нравится общаться с родителями. Еды у нас вволю, куча новой одежды, и когда мы собираемся за столом, то стараемся связать оборванные нити наших жизней, подтянуть петли, ну и так далее.
Наверно, это и есть любовь.
* * *
Милый Мэтью,
Рождество здесь — как Олимпиада. Никогда не видела столько еды и ярких огней. Бабушка с дедушкой меня совсем задарили, даже неловко. Но потом, когда я сидела одна у себя в комнате, смотрела в окно на соседей, с которыми мы стараемся не общаться, на дома в мерцающих гирляндах, я вспоминала настоящую зиму. Думала о тебе. О нас.
Смотрела на фотографию твоих бабушки и дедушки, перечитывала статью, которую написала твоя бабушка.
Интересно, каково-то сейчас нашей малышке? Чувствует ли она, как мне тревожно? Слышит ли песню моего разбитого сердца? Я так хочу, чтобы она была счастлива. Чтобы росла ребенком нашей любви, тех, прежних нас.
Мне показалось, сегодня я почувствовала, как она пошевелилась.
Я хочу назвать ее Лили. В честь твоей бабушки.
В этом мире девушке нужно быть сильной.
* * *
Милый Мэтью,
Даже не верится, что уже 1979 год. Сегодня я снова звонила в лечебницу, получила обычный ответ. Без изменений.
К сожалению, мама услышала, как я звонила, и взбесилась. Сказала, что нельзя быть такой дурой. Ведь полиция при желании может выяснить, что звонили из дома бабушки с дедушкой. Так что больше мне звонить нельзя. Я не имею права так рисковать, ведь речь не только обо мне, но как же перестать звонить? Ведь это последнее, что связывает нас с тобой. Я понимаю, что ты никогда не поправишься, и все равно каждый раз, когда звоню, надеюсь: а вдруг? У меня ничего не осталось, кроме этой надежды, какой бы глупой она ни была.
Это были плохие новости. Ну да бог с ними, есть и хорошие. Наступил новый год.
Я учусь в Вашингтонском университете. Бабушка нажала на все рычаги, и Сьюзен Грант приняли без аттестата об окончании средней школы. На Большой земле совсем другая жизнь. Здесь важно, сколько у тебя денег.
Универ я себе представляла иначе. Некоторые девчонки ходят в пушистых шерстяных свитерах, клетчатых юбках и гольфах. Кажется, они из какого-то студенческого женского клуба. Все время хихикают, сбившись в стайку, как овечки, а парни, которые ходят за ними по пятам, переговариваются такими громкими голосами, что медведь в тайге их за милю услышал бы.
На занятиях я представляю, что ты сидишь рядом. Один раз так в это поверила, что едва не написала записку, чтобы передать тебе под партой.
Я по тебе скучаю. Каждый день и особенно каждую ночь. И Лили тоже тебя не хватает. Она уже так пинается, что я порой просыпаюсь. Когда она совсем уж расшалится, я читаю ей стихи Роберта Сервиса и рассказываю о тебе.
И она сразу же успокаивается.
* * *
Милый Мэтью,
Весна здесь совсем другая: никакого ледохода и ледяных глыб размером с дом, земля не уходит из-под ног, из-под снега не появляются потерянные вещи.
Здесь все окрашивается в разные цвета. Я никогда не видела столько цветущих деревьев, по кампусу летают розовые лепестки.
Дедушка говорит, что расследование не закончено, но нас уже никто не ищет. Нас сочли умершими.
В каком-то смысле это правда. Олбрайтов больше нет.
По ночам я разговариваю с тобой и с Лили. Наверно, от одиночества — а может, я просто сошла с ума? Я представляю, как мы втроем лежим в кровати, за окном показывает свой спектакль северное сияние, ветер стучит в стекло. Я говорю нашей доченьке, что она вырастет умной и храброй. Храброй, как папа. Я пытаюсь ее предостеречь, рассказываю, что порой жизнь ставит нас перед сложным выбором и тут главное — не ошибиться. Всем женщинам семейства Олбрайт так не везет в любви, словно на нас какое-то проклятие, и поэтому я хочу, чтобы родился мальчик, а не девочка. А потом вспоминаю, как ты говорил, что хотел бы научить сына всему, что умеешь сам… и мне становится тошно, я забираюсь с головой под одеяло и представляю, будто я на Аляске зимой. Сердце стучит, как ветер в стекло.
Мальчику нужен отец, а у Лили, кроме меня, никого нет.
Бедная моя девочка.
* * *
— Толку от этой подготовки к родам! — выкрикнула Лени и застонала от боли, когда ее скрутили очередные схватки. — Дайте анестезию!
— Ты же хотела естественные роды. Теперь уж поздно, какая анестезия.
— Мне восемнадцать лет. Не надо было вообще меня слушать, я же ничего в этом не понимаю.
Схватки прошли. Боль отступила.
Лени тяжело дышала. Лоб ее взмок, кожа зудела от пота.
Мама взяла кусочек льда из стаканчика у кровати и положила Лени в рот.
— Сунь в него морфий, мам, ну пожалуйста, — взмолилась Лени. — Я больше не могу. Это была ошибка. Я не готова стать матерью.
Мама улыбнулась:
— К этому невозможно подготовиться.
Боль снова начала усиливаться. Лени заскрипела зубами, сосредоточилась на дыхании (как будто от этого легче!), сжала мамину руку.
Зажмурилась, тяжело дыша. Наконец боль достигла пика и стала понемногу утихать. Лени без сил откинулась на подушку и подумала: «Вот бы Мэтью был здесь», но отогнала эту мысль.
Схватки возобновились. На этот раз Лени до крови прикусила язык.
— Кричи, — посоветовала мама.
Дверь открылась, вошла акушерка, худая, в синем хирургическом костюме и шапочке. Брови у нее были выщипаны неровно, и казалось, будто лицо чуть перекошено.
— Ну что, мисс Грант, как мы себя чувствуем? — спросила она.
— Выньте его из меня. Пожалуйста.
Акушерка кивнула, надела перчатки.
— Давайте посмотрим. — и откинула простыню.
В любое другое время Лени вряд ли обрадовалась, если бы чужая женщина полезла проверять, что там у нее между ног, сейчас же она рада усесться в гинекологическое кресло хоть на смотровой площадке Спейс-Нидл, лишь бы только эта мука кончилась.
— На подходе, — спокойно заметила акушерка.
— Ох, черт! — крикнула Лени, которую снова скрутила боль.
— Тужьтесь, Сьюзен. Сильнее. Еще сильнее.
Лени тужилась, кричала, обливалась потом, ругалась.
А потом боль исчезла. Так же внезапно, как началась.
Лени рухнула на кровать.
— Мальчик. — Акушерка повернулась к маме: — Бабушка Ева, хотите перерезать пуповину?
Лени словно в тумане смотрела, как мама перерезает пуповину, как они с акушеркой идут к пеленальному столику и заворачивают ребенка в голубое одеяльце. Лени попыталась сесть, но у нее не осталось сил.
У нас мальчик, Мэтью. Твой сын.
«Ты ему нужен, Мэтью, я не справлюсь…» — запаниковала она.
Мама помогла ей сесть и вложила в руки крохотный сверток.
Ее сын. Она в жизни не видела такого малютки: личико словно персик, глазки голубые, мутные, он их то открывает, то закрывает, чмокает губками, похожими на розовый бутон. Малыш высунул из-под голубого одеяла розовый кулачок, Лени протянула ему палец.
Крошечная ручка обхватила ее палец.
Обжигающая, очищающая, всепоглощающая любовь разбила сердце Лени на миллион мельчайших осколков и склеила заново.
— Господи боже мой… — изумленно протянула она.
— Вот-вот, — сказала мама. — А ты еще спрашивала, как это.
— Мэтью Денали Уокер-младший, — тихо проговорила Лени. Аляскинец в четвертом поколении, который никогда не увидит отца, не услышит спокойный голос Мэтью, не утонет в его крепких объятиях. — Привет, — сказала она.
Теперь-то Лени поняла, почему после убийства решила бежать. Раньше она этого не знала, не осознавала до конца, что может потерять.
Этого ребенка. Своего сына.
Она жизнь отдаст, чтобы его спасти. Она пойдет на что угодно, лишь бы его уберечь. Даже если ради этого придется послушаться мать и перерезать последнюю тонкую нить, которая связывает ее с Аляской и Мэтью, перестать звонить в лечебницу. Что ж, она больше не будет туда звонить. При мысли об этом у нее разрывалось сердце, но иного выхода нет. Она же теперь мать.
Лени тихо плакала. Мама, наверно, услышала, догадалась, почему она плачет, и поняла, что слова не нужны. А может, все мамы плачут в такую минуту.
— Мэтью, — прошептала Лени и погладила его по бархатной щечке. — Мы будем называть тебя Эмджей. Твоего папу звали Мэтти, но я никогда его так не называла… он умеет водить самолет… он бы очень тебя любил…
1986
Двадцать семь
— Не представляю, как жить после того, во что из-за меня превратились ее детство и юность, — сказала Кора.
— Столько лет прошло, — ответила ее мать. — Посмотри на нее. Она счастлива. К чему нам снова и снова об этом говорить?
Кора и рада была бы согласиться. Она твердила себе это каждый день. «Смотри, она счастлива». Порой даже была готова в это поверить. Но случались такие дни, как сегодня. Она сама не знала, из-за чего все вдруг менялось. Может, из-за погоды. Или старых привычек. Едкого страха, который коль уж поселился в человеке, то разъедает до костей и ни за что не отпустит.
Семь лет прошло с тех пор, как Кора увезла Лени с Аляски сюда, в город на берегу залива.
Кора видела, что Лени старается пустить корни в эту плодородную влажную почву и расцвести. Но в Сиэтле живут сотни тысяч людей; этот город никогда не заговорит неуклюжим языком первопоселенца, внятным душе Лени.
Кора закурила, вдохнула дым, задержала дыхание, и это привычное действие ее тут же успокоило. Выдохнула, задрала подбородок, уселась поудобнее на складном стуле. После ночи в палатке, в якобы походных условиях, у нее ныла поясница, из-за вечных простуд появилась одышка.
Лени стояла неподалеку на берегу реки. По одну руку от нее мальчик, по другую — старик. Ловким изящным движением она забросила удочку, леска задрожала, запрыгала в воздухе и плавно осела в тихую воду. Солнце заливало все золотом — и реку, и три такие разные фигурки, и окрестные деревья.
Набежала туча, и начался грибной дождь. В воздухе повисла морось.
Они приехали в Хох-Рейн-Форест, один из последних уцелевших уголков дикой природы в густонаселенной западной части штата Вашингтон. Они наведывались сюда при первой же возможности, ставили палатки в кемпингах с водой и электричеством. Здесь, вдали от суеты, они становились собой. Можно было не опасаться, что их увидят вместе, ничего не выдумывать, не врать. О семействе Олбрайт с Аляски давно уже позабыли, никто их не искал, но они все равно были настороже.
Лени говорила, что здесь, в чаще, где стволы деревьев толщиной с «фольксваген» и такие высокие, что за ними не видно упрямого солнца, ей дышится легко. Говорила, ей нужно научить сына тому, что умели его предки и чему невозможно научить среди асфальта и уличных фонарей. Тому, чему научил бы его отец.
В последние годы Корин отец полюбил рыбачить — а может, просто любил внучку и готов был на все, лишь бы порадовать Лени и Эмджея. Он отошел от дел и целыми днями сидел дома.
Поэтому они выбирались сюда очень часто, несмотря на то что здесь даже в разгар лета в девяти случаях из десяти шли дожди. Они ловили рыбу и жарили на ужин в чугунной сковородке на открытом огне. Поздно вечером у костра Лени читала наизусть стихи и рассказывала о тайге.
Для Лени это не было развлечением. Вовсе нет. Ей это было жизненно необходимо. Так она сбрасывала напряжение, копившееся всю неделю, когда она смешивалась с толпой на пространном кампусе Вашингтонского университета, когда по вечерам ходила на занятия по фотографии, когда продавала книги посетителям огромного книжного магазина «Шори» на Первой авеню, где подрабатывала в свободное время.
Лени приезжала сюда, чтобы заново найти себя на природе, воскресить в душе хотя бы крошечную частичку Аляски, связать сына с отцом, которого он не знал, показать ему жизнь, что принадлежала ему по праву рождения, но не на деле. Аляска, последний рубеж, край, который всегда был и будет для Лени домом. Ее малая родина.
— Слышишь, как он смеется, — сказала Коре ее мама.
Та кивнула. Что правда, то правда: даже сквозь шум припустившего дождя, барабанившего по нейлоновым палаткам, пластиковым капюшонам, широким, как блюдца, листьям, Кора слышала, как смеется внук.
Эмджей рос добрым и веселым. Легко заводил друзей, слушался старших и по-прежнему держал маму или бабушку за руку, когда та вела его в школу. Любил все то же, что и его ровесники: фигурки киногероев, мультики, фруктовое мороженое летом. Об отце по малолетству не спрашивал, но рано или поздно обязательно спросит. Взрослые это понимали. Знала Кора и то, что Эмджей не замечает грусти, спрятанной за улыбкой его мамы.
— Как думаешь, она меня когда-нибудь простит? — спросила Кора, глядя на Лени.
— Я тебя умоляю, Коралина. За что? За то, что ты спасла ей жизнь? Девочка тебя любит.
Кора глубоко затянулась сигаретой, выдохнула дым.
— Да я знаю, что она меня любит. Я ни разу ни на миг не усомнилась в том, что она меня любит. Но из-за меня она выросла в зоне военных действий. Из-за меня видела такое, что не надо видеть ребенку. Из-за меня боялась того, кто должен был ее любить, а потом я убила его у нее на глазах. А потом скрылась и вынудила ее жить под вымышленным именем. Будь я посильнее и посмелее, я бы, может, сумела изменить закон, как Ивонн Уонроу[72].
— На то, чтобы ее дело попало в Верховный суд, потребовалось несколько лет. А ты была на Аляске, не в Вашингтоне. Кто же мог предположить, что в конце концов закон признает право на самооборону за женщиной, которая подверглась домашнему насилию? Кстати, твой отец говорит, что этот закон до сих пор почти не работает. Забудь ты уже об этом. Она же забыла. Посмотри, как она учит сына рыбачить. Твоя дочь счастлива, Кора. Она счастлива. Она тебя простила. Пора тебе тоже простить себя.
— Ей нужно вернуться домой.
— Домой? Туда, где ни воды, ни электричества? К парню с повреждением мозга? Вернуться туда, где ее обвинят в том, что она покрывает убийцу? Теперь же появился какой-то новый анализ крови. Что-то с ДНК. Не глупи, Кора. — Мама обвила тонкой рукой Корины плечи. — Подумай о том, что вы здесь нашли. Лени получает образование, из нее выйдет замечательный фотограф. Ты работаешь в художественной галерее, и тебе там нравится. Дома у вас всегда тепло, и рядом близкие, на которых ты можешь положиться.
Да, дочь действительно простила то, что сделала с ней Кора, и прощение ее было таким же искренним и настоящим, как солнечный свет. Но Кора, как ни старалась, не сумела себя простить. Причем даже не за то, что убила мужа, — Кора знала, что в подобных обстоятельствах снова поступила бы так же.
Она не могла себя простить за те годы, что предшествовали преступлению, за то, что она принимала и терпела, за то, какое представление о любви внушила дочери. Точно проклятие ей передала.
Из-за Коры Лени научилась довольствоваться малым, жила под чужим именем в чужом месте.
Из-за Коры Лени, возможно, никогда не увидит человека, которого любит, не вернется домой. И как же Коре себя за такое простить?
* * *
Улыбайся.
Ты же счастлива.
Лени сама не знала, почему ей приходилось напоминать себе улыбаться и казаться счастливой этим ясным июньским днем, когда они выбрались в заповедник, чтобы отметить окончание университета.
Она ведь и так счастлива.
На самом деле.
Тем более сегодня. Она гордилась собой. Первая женщина в семье, которая окончила университет.
Правда, на это ушло немало времени. И все же. Ей двадцать пять, она самостоятельно воспитывает сына, обладатель — с завтрашнего дня — диплома в области изобразительных искусств. У нее любящая семья, лучший в мире сын, теплый дом. Она не голодает, не мерзнет, ей не нужно опасаться за мамину жизнь. Если она чего и боится теперь, так только того, что и все родители. Что ребенок в одиночку пойдет через дорогу, что упадет с качелей, что к нему пристанет незнакомец. Она давным-давно не засыпает под крики и плач, и утром пол в их доме не засыпан битым стеклом.
Она счастлива.
И неважно, что порой, как сегодня, мысли о прошлом не дают покоя.
Вполне естественно, что сегодня она вспоминает Мэтью, ведь они так часто мечтали об этом дне. Сколько раз их разговоры начинались с фразы: «Вот закончим университет…»
Она машинально подняла фотоаппарат и свела к минимуму мир перед глазами. Так она справлялась с воспоминаниями, так постигала мир. В зрительных образах. С помощью фотоаппарата кадрировала жизнь, обрезала все лишнее.
Счастлива. Улыбайся.
Щелк, щелк, щелк — и она снова становилась собой. Видела то, что важно.
Ясное синее небо, нигде ни облачка. Вокруг люди.
Солнце обращалось к жителям Сиэтла на понятном языке, выманивало из домов на холмах, соблазняло надеть дорогие кроссовки и насладиться горами, озерами, извилистыми лесными тропками. А после прогулки горожане заезжали в продуктовый магазин за расфасованными стейками, чтобы в выходные пожарить их на гриле.
Жизнь в Сиэтле спокойная. Упорядоченная и безопасная. Пешеходные переходы, светофоры, шлемы, полицейские на лошадях и на велосипедах.
Как мать она ценила эту безопасность, пыталась привыкнуть к здешней удобной жизни. Никому и никогда не признавалась (даже маме), как сильно скучает по волчьему вою, по дню, проведенному в одиночестве на снегоходе, по гулкому треску льда в ледоход. Теперь она покупала дичь, а не добывала на охоте, открывала кран, если нужна вода, и смывала за собой в туалете. Лосось, которого она летом жарила на гриле, продавался уже вымытым, выпотрошенным, без костей и без головы, словно под пленкой не рыба, а полоски серебристого и розового шелка.
Сегодня все люди вокруг смеялись и болтали. Собаки лаяли, прыгали и ловили фрисби, подростки бросали друг другу мяч.
— Смотри! — Эмджей указал на скакавший вверх-вниз розовый воздушный шар с надписью «Поздравляем выпускников!», привязанный к краю желтого транспаранта. В руке у Эм-джея был надкусанный кекс, рот и подбородок выпачканы глазурью.
Лени понимала, что сын быстро растет (уже ходит в первый класс), так что надо его тискать и целовать, пока позволяет. Она обняла сына. Он чмокнул ее сладкими, перемазанными в сливочном креме губами, привычно прильнул к ней, обхватил руками за шею, словно утонет без мамы. На самом же деле это она без него утонет.
— Кто хочет сладкое? — спросила бабушка Голлихер, сидевшая за столом для пикника. Она как раз приготовила любимый десерт Лени — акутак. Эскимосское мороженое из снега, растительного масла, черники и сахара. Мама с зимы специально для этого хранила в морозилке комки снега.
Эмджей вырвался, ликующе вскинул руки — обе, чтобы уж точно заметили:
— Я! Я хочу акутак!
Бабушка обогнула стол, подошла к Лени. За последние годы бабушка очень изменилась, стала мягче, спокойнее, хотя по-прежнему даже на пикник наряжалась как в загородный клуб.
— Я так тобой горжусь, — сказала бабушка.
— Я тоже собой горжусь.
— Сондра, моя приятельница из клуба, говорит, что в журнале «Сансет» нужен ассистент фотографа. Если хочешь, я попрошу ее замолвить словечко за Сьюзен Грант.
— Ага, — ответила Лени. — То есть да, конечно, спасибо!
Она так и не привыкла к тому, как здесь делаются дела.
Куда важнее, кого ты знаешь, а не что умеешь.
Впрочем, в одном она не сомневалась: ее здесь любят. Бабушка с дедушкой встретили ее радушно. Последние несколько лет Лени, мама и Эмджей снимали домик в Фремонте, а бабушку с дедушкой навещали по выходным. Поначалу Лени с мамой всего боялись, не заводили друзей, не заговаривали с незнакомыми, но со временем полиция Аляски перестала их искать, и угроза разоблачения отошла на второй план.
Эмджей рос шумным и подвижным ребенком, и в степенном доме на холме в районе Квин-Энн всегда царил кавардак.
По вечерам они собирались перед телевизором, смотрели передачи, которые Лени казались чепухой, она вместо этого читала, сейчас — уже третью книгу подряд из цикла «Интервью с вампиром»[73]. Эмджей был колесом, они спицами. Их объединяла любовь к нему. Если Эмджей счастлив, они тоже. А он буквально лучился счастьем. Все это подмечали.
Лени увидела, что мама стоит одна на краю площадки для игр и курит, как-то неестественно выгнувшись, схватившись за поясницу.
Неожиданно Лени заметила, как заострились мамины скулы, как побледнели губы, осунулось лицо. Без макияжа мама казалась почти прозрачной. Год назад она перестала красить волосы, и теперь в выцветших белокурых прядях мелькала седина.
— Я хочу акутак! — завопил Эмджей и потянул Лени за рукав. Голосок был вялый, с одышкой из-за недавней простуды. С тех пор как Эмджей пошел в частную школу рядом с домом, и он, и Лени с Корой то и дело болели.
— Что нужно сказать? — напомнила Лени.
— Пожаааааалуйста, — ответил Эмджей.
— Ну хорошо. Иди за бабушкой. Скажи ей, чтобы потушила уже эту чертову сигарету и вернулась к столу.
Мальчик пулей понесся к бабушке, его тощие белые ноги мелькали, как венчики-взбивалки, светлые волосы развевались вокруг бледного остроносого личика.
Лени смотрела, как он тащит к столу красную от смеха маму.
Потом взглянула в другую сторону, отвлеклась на миг. И увидела мужчину, стоявшего у входа в парк.
Блондин.
Это он.
Он ее нашел.
Нет.
Лени вздохнула. Она уже несколько лет не звонила в лечебницу. Часто поднимала трубку, но номер так и не набирала. Как ни мала вероятность, что их найдут, рисковать нельзя.
Да и пока Лени звонила, ей все время отвечали про состояние Мэтью одно и то же: «Без изменений».
Она понимала, что он уже не оправится от травм, что парень, которого она любила, жил лишь в ее снах. Иногда он что-то шептал ей во сне, не каждую ночь, нечасто, но достаточно, чтобы ее поддержать. В ее снах он оставался улыбчивым парнем, который подарил ей фотоаппарат и доказал, что можно любить, ничего не боясь.
— Пойдем. — Бабушка взяла Лени за руку.
— Здесь прекрасно, — проговорила Лени. Ей показалось, что слова прозвучали как-то холодно. Официально. Но тут к ней подскочил Эмджей, захлопал в ладоши, пропищал смешно, как Микки-Маус: «Ух ты, мамочка!» — и Лени не удержалась от улыбки.
И темные границы снова отступили, исчезли, осталось лишь здесь и сейчас: солнечный день, праздник, семья. Жизнь полна стремительных перемен. Радость вернулась неожиданно, как солнце.
Лени была счастлива.
По-настоящему.
* * *
— Мамочка, расскажи про Аляску, — попросил Эмджей вечером, когда забрался в постель под одеяло.
Лени убрала тонкие светлые кудри со лба сына и в который раз подумала: до чего же он похож на отца.
— Тогда подвинься. — И улеглась рядом.
Эмджей положил голову ей на плечо. В комнате было темно, лишь на тумбочке возле кровати горел светильник из «Звездных войн». Сын, в отличие от Лени, рос на популярной культуре. Лени понимала, что как бы ни устал Эмджей после пикника в парке и сегодняшнего веселья, но без сказки не заснет.
— Девушка, которая любила Аляску…
Это была его любимая сказка. Лени придумала ее давно и годами добавляла в сюжет новые и новые подробности. В сказке говорилось о племени, которое обитало в бирюзовой ледяной воде аляскинского фьорда; много лет назад их дома затопило после сильного извержения вулкана Аку. Это племя, клан Ворона, отчаянно мечтало вернуться на берег, выйти на солнце, но старший сын клана Орла наложил заклятье, которое обрекало их на муки в ледяных водах фьорда до тех пор, пока заклинательница не вызовет их на сушу. Заклинательницу звали Катяак. Молчаливая сильная чужестранка с чистым сердцем.
Неделю за неделей Лени каждый вечер рассказывала сыну продолжение истории, пока он наконец не засыпал. Образ Катяак она почерпнула из мифов народов Аляски, которые читала в детстве, да и сам этот суровый, прекрасный край вдохновлял ее. Юки, парень, которого любила Катяак, — из племени, что обитало на земле, — звал ее с берега.
Лени прекрасно знала, с кого списаны двое влюбленных и почему история их так печальна.
— Катяак осмелилась вопреки воле богов доплыть до берега. Любовь к Юки наделила ее особой силой, иначе ничего бы у нее не получилось. Она гребла, гребла, наконец вынырнула из воды и подставила лицо солнцу. Юки бросился в ледяную воду, звал любимую. Она увидела его глаза — зеленые, как гладь залива, на берегу которого некогда обитало ее племя, — его волосы цвета солнца. «Кат, — крикнул он, — хватай меня за руку!»
Лени заметила, что Эмджей заснул. Наклонилась, поцеловала его и осторожно встала.
В одноэтажном домике было тихо. Мама, наверно, в гостиной, смотрит «Династию». Лени прошла по узкому коридору съемного жилища, стены были увешаны фотографиями Лени и рисунками Эмджея. Когда-то в этом тусклом, обшитом якобы деревянными панелями коридоре ее охватывала клаустрофобия, но это давно прошло.
Свой неукротимый дух она смиряла так же упорно, как некогда покоряла дебри Аляски. Она научилась ходить в толпе, жить за стенами, останавливаться на светофоре. Вместо орлов привыкла смотреть на дроздов, рыбу покупала в магазине свежих продуктов и платила деньги за новую одежду из сетевых универмагов. Научилась укладывать кондиционером и сушить феном волосы — аккуратную стрижку каскадом до плеч, научилась подбирать одежду в тон. Теперь она выщипывала брови, брила ноги и подмышки.
Камуфляж. Она научилась не выделяться.
Лени ушла к себе в комнату, включила свет. За все эти годы она здесь ничего не поменяла, не притащила декоративных безделушек. Не видела смысла. Комната была голая, заурядная, вся мебель куплена на дворовых распродажах. Пристрастия обитательницы выдавало лишь фотооборудование — объективы, фотоаппараты, ярко-желтые катушки с пленкой. Стопки фотографий, кипы фотоальбомов. Отдельный альбом с фотографиями Мэтью и Аляски. Остальные — с недавними работами. В углу, на комоде, — фотокарточка бабушки и дедушки Мэтью. «ЭТО МОГЛИ БЫТЬ МЫ С ТОБОЙ». Рядом — первая фотография Мэтью на «поляроид».
Лени открыла дверь, которая вела на маленькую, мощенную кедром веранду, что тянулась вдоль дома. На заднем дворе мама разбила большой огород. Лени вышла на веранду и села в одно из двух деревянных садовых кресел, которые остались от прежних владельцев. Над головой раскинулось бескрайнее небо в россыпи звезд. Их небольшой участок был окружен прочным кедровым забором. Издалека доносился запах первых летних барбекю, бренчали звонки детских велосипедов, на ночь велосипеды убирали. Лаяли собаки. Отрывисто каркала ворона, словно кого-то ругала.
Лени откинулась на спинку кресла, уставилась в небо, стараясь затеряться в его бесконечном просторе.
— Привет, — послышался мамин голос. — Можно к тебе?
— Конечно.
Мама уселась во второе кресло, придвинулась к дочери. За эти годы они полюбили вот так сидеть на узкой веранде, выходившей в какое-то измерение, которое не было ни прошлым, ни настоящим. Порой, особенно в это время года, здесь пахло розами.
— Как бы я хотела увидеть северное сияние, — призналась Лени.
— Я тоже.
Они смотрели в необъятное ночное небо. Обе молчали, разговаривать не хотелось. Лени понимала, что каждая думает о том, кого когда-то любила.
— Зато у нас есть Эмджей, — наконец проговорила мама.
Лени взяла ее за руку.
Эмджей. Их радость, их любовь, их единственное утешение.
Двадцать восемь
Кора заболела воспалением легких. Что само по себе вовсе не удивительно. Она постоянно подхватывала все хвори, которые заводились в школе Эмджея.
Сейчас она, кипя раздражением, сидела в стерильной приемной. Ей не терпелось уйти.
Как долго пришлось ждать.
Нет, она, конечно, благодарна маминой знакомой-врачу, что та назначила все эти анализы, — на всякий случай, просто чтобы проверить, — но больше всего Коре хотелось получить наконец рецепт на антибиотики и уйти. Эмджей вот-вот вернется из школы.
Кора листала журнал «Пипл». («Тед Дэнсон[74] снова повеселится в “Веселой компании”» — что за дурацкий заголовок!) Попыталась разгадать кроссворд на последних страницах, но дело толком не пошло, так как в поп-культуре Кора не разбиралась.
Примерно полчаса спустя в приемную вышла медсестра с фиолетовыми волосами и отвела Кору в маленький кабинет, на стенах которого висели дипломы, награды и прочее в этом духе. Коре указали на жесткий черный стул.
Она села, скрестив ноги в щиколотках, как ее учили в те годы, когда она еще состояла в загородном клубе. Ей вдруг отчего-то пришло в голову, что это наглядный пример того, как на ее веку поменялось отношение к женщинам. Теперь всем безразлично, как ты сидишь.
— Видите, Эвелин? — начала доктор, строгая дама в жестких седых кудряшках, похожих на стальную мочалку, явно неравнодушная к туши для ресниц. Она была такая тощая, словно питалась только сырыми овощами да черным кофе, но если кто и осудит женщину за худобу, так точно не Кора. Позади стола на светящемся экране, словно из детского конструктора, висели рентгеновские снимки.
— И где же тут воспаление легких? — Кора с недоумением смотрела на снимки. Казалось, на них изображен осьминог, который что-то пожирает.
Доктор заговорила было, но замялась.
— Ну так что?
Доктор Прашер указала на один из снимков:
— Видите вот эти большие белые пятна? Здесь. Здесь. И здесь. И вот этот белый изгиб? Тень вдоль позвоночника? Все это очень похоже на рак легких. Разумеется, нам нужно будет сделать дополнительные исследования, чтобы удостовериться…
Стоп. Что?
Как такое возможно?
А, ну да. Она же курит. А это рак легких. Лени годами ругалась с Корой из-за этой дурной привычки, предупреждала как раз о таком исходе. Кора же в ответ только посмеивалась: «Ну да, конечно, а еще меня может сбить машина, когда я буду переходить через дорогу».
— На снимке компьютерной томографии видно новообразование в печени, то есть метастазы, — добавила доктор Прашер и продолжила объяснения.
Слова путались у Коры в голове: гласные и согласные, вдохи и выдохи.
Доктор Прашер все говорила, используя обычные слова в необычном, немыслимом контексте. Бронхоскопия, опухоль, агрессивная.
— Сколько мне осталось? — спросила Кора и с опозданием поняла, что перебила врача.
— Этого вам никто не скажет, миссис Грант. Но рак явно запущенный. Четвертая стадия с метастазами. Я понимаю, это нелегко принять.
— Сколько мне осталось?
— Вы еще довольно молоды. Мы применим агрессивную терапию.
— Ясно.
— Надежда есть всегда, миссис Грант.
— Неужели? — спросила Кора. — А еще есть карма.
— Карма?
— В нем был яд, — сказала себе Кора, — и я его выпила.
Доктор Прашер нахмурилась, подалась вперед:
— Эвелин, это болезнь, а не воздаяние и не кара за грехи. Что за дикость, в самом деле.
— Ну да.
— Что ж, — доктор Прашер нахмурилась, встала, — бронхоскопию я назначаю на сегодня. Она должна подтвердить диагноз. Быть может, вы хотите кому-то позвонить?
Кора поднялась, но колени у нее подкосились, и она ухватилась за спинку стула. Поясницу снова прострелило, больнее обычного, потому что теперь она знала, что к чему.
Рак.
У меня рак.
Она понятия не имела, как скажет это вслух.
Она закрыла глаза, выдохнула. Представила — вспомнила — рыжую девчушку с пухлыми ручками и веснушками, похожими на россыпь молотой корицы. Девочка тянется к ней, говорит: «Мама, я тебя люблю».
Кора через многое прошла. Она выжила, хотя не раз могла умереть. Она часто гадала, как сложится вторая половина жизни, придумывала тысячи способов загладить вину. Она представляла, как постареет, выживет из ума, будет смеяться, когда надо плакать, класть в еду соль вместо сахара. Она мечтала, что Лени снова влюбится, выйдет замуж, родит еще ребенка.
Мечты.
Миг — и вся ее жизнь съежилась и стала видна целиком. Все страхи, сожаления, разочарования улетучились. Важно было лишь одно: как же она сразу не догадалась? К чему ухлопала столько времени на поиски себя? Ей ведь давно следовало это понять. С самого начала.
Она мать. Мать. И теперь…
Моя Лени.
Хватит ли ей духу попрощаться?
Лени стояла у закрытой двери маминой больничной палаты, стараясь отдышаться. Вокруг, в коридоре, шумели люди, скрипели резиновыми подошвами по полу, возили тележки из палаты в палату, объявляли о чем-то по громкой связи.
Лени взялась за серебристую металлическую дверную ручку, повернула.
Вошла в просторную палату, разделенную на две части занавесками, которые висели на прикрепленных к потолку металлических карнизах.
Мама сидела в постели, откинувшись на гору белых подушек, и напоминала старинную куклу. Тонкая кожа слишком туго обтягивала ее точеные черты, над вырезом не по размеру большой больничной сорочки торчали остренькие ключицы, кожа над ними запала.
— Привет, — сказала Лени, наклонилась и поцеловала маму в мягкую щеку. — Что же ты меня не предупредила, что идешь к врачу? Я бы пошла с тобой. — Она убрала с маминых глаз пушистые светлые волосы с проседью. — У тебя воспаление легких?
— У меня рак в четвертой стадии. Причем какой-то хитрый, уже пробрался и в позвоночник, и в печень. И в кровь.
Лени в буквальном смысле попятилась от кровати, едва удержалась, чтобы не закрыть лицо руками. У нее перехватило дыхание.
— Что?
— Прости меня, родная. Я понимаю, хорошего тут мало. Доктор меня тоже не обнадежила.
«Хватит!» — хотелось крикнуть Лени.
Рак.
— Т-тебе больно?
Нет. Она не это хотела сказать. А что?
— А, — мама махнула рукой в прожилках, — я сильная, я же с Аляски. — И потянулась мимо Лени за сигаретами.
— Разве здесь можно курить?
— Нельзя, конечно, — ответила мама и дрожащей рукой зажгла сигарету. — Но у меня вот-вот начнется химиотерапия. — Она выдавила улыбку. — То есть меня ждет облысение и тошнота. Хорошо же я буду выглядеть.
— Ты же не сдашься, правда? — спросила Лени, смаргивая слезы, — не хотела, чтобы мама их заметила.
— Нет, конечно. Уж я этой гадине задам!
Лени кивнула, вытерла глаза.
— Ты обязательно поправишься. Дедушка найдет тебе лучших врачей в городе. Помнишь, у него есть друг в совете Центра Фреда Хатчинсона[75]. Ты непременно…
— Все будет хорошо.
Мама коснулась ее руки. Лени связывало с мамой это прикосновение, дыхание и любовь длиною в жизнь. Ей хотелось найти правильные слова, но какие? Да и что значит неуклюжая фраза по сравнению с раком?
— Я не могу без тебя, — прошептала Лени.
— Я знаю, родная, — ответила мама. — Я знаю.
* * *
Милый Мэтью,
Я писала тебе считаные дни назад. Забавно, как сильно может измениться жизнь всего за неделю.
Забавно не в том смысле, что смешно. Это уж точно.
Вчера вечером я лежала в удобной постели, в пижаме, купленной в магазине, и думала о том, о чем думать совершенно не хотелось. И поняла тебя.
Мы ведь почти не говорили о смерти твоей мамы. Может, потому, что были еще малы, а может, потому, что тебя это так ранило. Но обязательно надо было поговорить об этом потом, когда мы подросли. Я должна была сказать тебе, что готова слушать твою боль вечно. Мне следовало расспрашивать о твоих воспоминаниях.
Теперь-то я вижу: скорбь — как тонкий лед. Я еще не потеряла маму, но одно-единственное слово оттолкнуло ее от меня, воздвигло между нами преграду, которой прежде не было. Впервые в жизни мы врем друг другу. Я это чувствую. Врем, чтобы друг друга уберечь.
Но от этого ведь не убережешься, верно?
У нее рак легких.
Господи, как же мне тебя не хватает.
Лени отложила ручку. На этот раз письмо Мэтью ее не успокоило.
Ей стало только хуже. Еще более одиноко.
Как жаль, что ей не с кем об этом поговорить. Ведь даже лучшая подруга не знает, кто она на самом деле.
Она сложила листок и убрала в обувную коробку, к остальным письмам, которые написала за эти годы, да так и не отправила.
* * *
Тем летом Лени наблюдала, как рак уничтожает маму. Сперва исчезли волосы, потом брови. Потом пропали осанка и походка. И наконец рак ее обездвижил.
К концу июля, когда рак почти ее уничтожил, очередные снимки обнаружили правду: ничего из того, что они делали, не сработало.
Когда они узнали, что лечение не помогло, Лени молча сидела возле мамы и держала ее за руку. Рак был везде, наступал, как враг, пробивал себе путь в кости, уничтожал внутренние органы. О том, чтобы бороться и что-то еще пробовать, не могло быть и речи.
Вместо этого они переехали к бабушке с дедушкой, поставили больничную койку на застекленной террасе, в окна которой лилось солнце, и обратились в хоспис.
Мама боролась за жизнь, боролась отчаяннее, чем когда-либо, но раку ее усилия были безразличны.
Мама медленно-медленно, понемногу, поднялась и села, ссутулясь. В жилистой руке дрожала незажженная сигарета. Курить она, конечно, уже не могла, но ей нравилось держать в руке сигарету. На подушке остались пряди волос, точно золотые прожилки на белом хлопке. У кровати стоял кислородный баллон, в мамины ноздри были вставлены прозрачные трубки, которые облегчали ей дыхание.
Лени встала со стула возле кровати, отложила книгу. Налила воды, протянула маме. Та взяла из ее рук пластмассовую чашку. Руки так дрожали, что Лени обхватила ее ладони своими, помогла удержать поильник. Мама отпила чуть-чуть, как колибри, и зашлась кашлем. Птичьи плечики ее затряслись, и Лени была готова поклясться, что слышала, как под тонкой кожей гремят кости.
— Мне вчера приснилась Аляска. — Мама откинулась на подушки и посмотрела на Лени. — Не так уж там было и плохо, правда?
Лени изумилась, что мама так спокойно это сказала. По молчаливому соглашению они годами не упоминали ни об Аляске, ни о папе, ни о Мэтью, но, видимо, жизнь их стремилась к началу, поскольку был близок конец.
— Там много чего хорошего было, — ответила Лени. — Я любила Аляску. И Мэтью. И тебя. Даже папу, — тихо призналась она.
— Там было здорово. Я хочу, чтобы ты это помнила. Настоящее приключение. Я понимаю: стоит начать вспоминать, как тут же в голову лезет плохое. Как папа меня бил. Как я вечно его оправдывала. Как мучительно его любила. Но было в этой любви и хорошее. Помни об этом. Твой папа тебя любил.
Лени было невыносимо больно, но она видела, что маме необходимо это сказать.
— Я знаю, — проговорила Лени.
— Расскажи обо мне Эмджею, ладно? Что я вечно перевирала слова в песнях, носила короткие шорты и сандалии и выглядела сносгшибательно. Расскажи ему, как я училась быть сильной, как настоящая аляскинка, хотя мне этого и не хотелось, и что я никогда не унывала и не сдавалась. И еще скажи ему, что я полюбила его маму, как только увидела, и что я ею горжусь.
— Я тоже тебя люблю, мамочка, — ответила Лени, хотя разве словами выразишь эти чувства? Но ничего другого у них не оставалось. Так много слов и так мало времени.
— Ты хорошая мать, Лени, хотя ты еще так молода. Я никогда не была такой хорошей матерью.
— Ну, мам…
— Это правда, родная. У меня нет времени врать.
Лени наклонилась, чтобы убрать волосы с маминого лба. Тоненькие, легкие, как гусиный пух. Невыносимо было видеть, как мама тает. Жизнь как будто уходила из нее с каждым выдохом.
Мама медленно потянулась к тумбочке. Бесшумно, как свойственно дорогой мебели, выдвинулся верхний ящик. Дрожащей рукой достала письмо, аккуратно сложенное втрое.
— На.
Лени не хотела его брать.
— Пожалуйста.
Лени взяла письмо, осторожно развернула и прочла, что написано на первой странице. Почерк был такой корявый, что ей с трудом удалось разобрать:
Я, Коралина Маргарет Голлихер Олбрайт, застрелила моего мужа, Эрнта Олбрайта, когда он меня избивал.
Я надела трупу на ноги капканы и утопила его в Хрустальном озере. И скрылась, поскольку боялась, что меня посадят, хотя считала и по-прежнему считаю, что в тот вечер спасла себе жизнь. Муж годами меня избивал. Многие жители Канека об этом догадывались и пытались мне помочь. Но я отказывалась.
Я убила его своими руками, и его смерть на моей совести. Чувство вины превратилось в рак и убивает меня. Это кара Господня.
Я убила его и избавилась от тела. Я действовала в одиночку. Моя дочь не имеет к этому никакого отношения.
С уважением,
Коралина Олбрайт
Под маминой нетвердой подписью стоял росчерк деда, как свидетеля и адвоката, и печать нотариуса.
Мама кашлянула в скомканную салфетку. Вдохнула с хлюпаньем, посмотрела на Лени. На страшный, пронзительный миг время для них остановилось, мир затаил дыхание.
— Пора, Лени. Ты жила моей жизнью, доченька. Пора начинать свою.
— И с чего же ты предлагаешь ее начать? С того, чтобы выставить тебя убийцей, а я, мол, тут ни при чем?
— С того, чтобы вернуться домой. Папа говорит, ты можешь свалить все на меня. Сказать, что ты вообще ничего не знала. Ты ведь тогда была подростком. Тебе поверят. Том и Мардж тебя поддержат.
Лени покачала головой. Ее охватила такая грусть, что она только и сумела выдавить:
— Я тебя не брошу.
— Не надо, доченька. Сколько раз тебе приходилось повторять эти слова? — Мама устало вздохнула и печально посмотрела на Лени глазами, полными слез. Дышала она тяжело, с присвистом. — А я вот тебя брошу. От этого ведь не убежишь. Пожалуйста, — прошептала мама, — ради меня. Будь сильнее, чем была я.
* * *
Два дня спустя Лени стояла у двери на застекленную веранду и слушала, как хрипит мама. Она разговаривала с бабушкой.
Сквозь открытую дверь Лени услышала, как бабушка дрожащим голосом проговорила: «Прости».
Лени презирала это слово. Она знала, что за эти годы мама с бабушкой уже сказали друг другу все, что должны были сказать. О прошлом они говорили урывками. Ни разу не обсудили все и сразу — так, чтобы в конце концов выплакаться, обняться, — но время от времени упоминали то об одном, то о другом, переосмысливали поступки, решения, убеждения, извинялись друг перед другом, прощали. Все это приближало их к тому, кем они были и оставались всегда. Мать и дочь. Их жизненно важная, незыблемая связь настолько хрупка, что когда-то рвалась от резкого слова, настолько прочна, что переживет и саму смерть.
— Мамочка! Вот ты где, — воскликнул Эмджей. — А я тебя везде ищу.
Эмджей резко затормозил и налетел на нее. В руках он держал свое сокровище — книгу «Там, где живут чудовища»[76].
— Бабушка обещала мне почитать.
— Даже не знаю, сынок…
— Она обещала. — С этими словами он прошел мимо нее на веранду, точно Джон Уэйн[77], готовый к драке. — Бабушка, ты по мне соскучилась?
Лени слышала, как мама тихо рассмеялась. Потом раздался грохот и вопль Эмджея, который налетел на кислородный баллон.
Несколько мгновений спустя в комнату вышла бабушка, увидела Лени и остановилась.
— Она зовет тебя, — тихо сказала бабушка. — Сесил уже был у нее.
Обе знали, что это значит. Вчера мама несколько часов лежала без сознания.
Бабушка крепко стиснула руку Лени, бросила на нее последний, мучительно печальный взгляд, прошла по коридору и поднялась к себе — наверно, чтобы оплакать дочь, которую теряет, подумала Лени. При маме они старались не реветь.
Сквозь открытую дверь с веранды донесся пронзительный голосок Эмджея: «Бабушка, ну почитай мне», и мамин неразборчивый ответ.
Лени взглянула на часы. Мама выдерживала его счита-ные минуты. Эмджей хороший ребенок, но, как все мальчишки, вечно скачет, болтает и ни минуты не сидит спокойно.
Послышался тонкий мамин голос, и на Лени нахлынули воспоминания. «Однажды вечером Макс играл дома в костюме волка и немного озорничал…»[78]
Как всегда, мамин голос притягивал Лени, даже, пожалуй, сильнее прежнего, поскольку сейчас каждое мгновение было важно, каждый вздох — подарок. Лени научилась подавлять страх, прятать в укромном месте, прикрывать улыбкой, но все равно не могла отделаться от мысли: «Вдруг этот вздох последний? Вдруг все?»
Теперь, когда конец так близок, уже не верилось, что в последнюю минуту все как-нибудь обойдется. Да и мама так мучилась, что желать ей прожить еще день, еще час было бы эгоизмом.
Лени услышала, как мама проговорила: «Конец». Теперь в этом слове крылся двойной смысл.
— Ну еще одну сказку, бабушка.
Лени вышла на веранду.
Мамину больничную койку разместили так, чтобы на нее падал свет. Залитая солнцем кровать стояла словно в сказочном лесу, среди тепличных цветов.
Да и мама сама была Белоснежкой или Спящей красавицей: в лице ни кровинки, выделяются только губы. Такая маленькая, блеклая, словно таяла в белой постели. Петли прозрачных пластиковых трубочек уходили из ноздрей за уши, а оттуда — к кислородному баллону.
— Хватит, Эмджей, — сказала Лени. — Бабушке нужно поспать.
— Черт. — Он понурил плечи.
Мама рассмеялась. Закашлялась.
— Ну и выраженьица, Эмджей, — прошелестела она.
— Бабушка снова кашляет кровью, — сказал Эмджей.
Лени вытащила салфетку из коробки у кровати, наклонилась и вытерла кровь с маминого лица.
— Поцелуй бабушке руку и иди. Дедушка принес новую модель самолета, чтобы вы с ним ее собрали.
Мама с трудом оторвала дрожащую руку от постели. Вся тыльная сторона была в синяках от капельниц.
Эмджей наклонился, врезался в кровать, так что мама содрогнулась, и ударился коленкой о кислородный баллон. Осторожно поцеловал бабушкину руку.
Когда он ушел, мама со вздохом откинулась на подушки.
— Не ребенок, а лосенок. Отдай ты его в балет или в гимнастику, — проговорила она так тихо, что Лени наклонилась, чтобы расслышать.
— Ладно, — ответила она. — Как ты себя чувствуешь?
— Устала я, доченька.
— Понятно.
— Я так устала, но… не могу тебя бросить. Не могу. Просто не сумею. Ты же для меня… ты знаешь. Я люблю тебя больше жизни.
— Одного поля ягоды, — прошептала Лени.
— Два сапога пара. — Мама зашлась кашлем. — Как подумаю, что ты останешься одна, без меня…
Лени наклонилась и поцеловала маму в лоб. Она знала, что сейчас сказать, что нужно маме. Каждая из них всегда чувствовала, когда другой необходима поддержка.
— Я выдержу, мама. Все равно ты будешь со мной.
— Всегда, — еле слышно прошептала мама, протянула дрожащую руку и погладила Лени по щеке. Кожа у мамы была холодная. Было видно, каких усилий ей стоил этот жест.
— Я тебя отпускаю, — прошептала Лени.
Мама глубоко вдохнула. В этом звуке Лени услышала, как долго и трудно мама боролась. С глухим стуком она уронила руку на кровать. Ладонь раскрылась, как цветок; внутри лежала скомканная окровавленная салфетка.
— Лени, родная… я люблю тебя больше жизни… я боюсь…
— Я справлюсь, — солгала Лени. По щекам ее ползли слезы. — Я тебя люблю.
Мама, не уходи. Я без тебя не могу.
Мамины веки задрожали и закрылись.
— Я тебя… всегда любила… доченька.
Лени едва расслышала этот шепот. Мамин последний вздох она почувствовала так явственно, словно сделала его сама.
Двадцать девять
— Она просила тебе передать.
В дверях старой комнаты Лени стояла бабушка, вся в черном. Она даже в трауре ухитрялась выглядеть элегантно. Мама бы над этим точно посмеялась — она презирала женщин, озабоченных собственной внешностью. Но Лени понимала: порой хватаешься за что попало, лишь бы не утонуть. Траур, возможно, лишь щит, предупреждение всем: «Не заговаривайте со мной, не подходите ко мне, не задавайте свои заурядные обыденные вопросы. Мой мир рухнул».
Лени же выглядела так, словно ее выбросил на берег высокий прилив. За сутки, прошедшие со смерти мамы, она так ни разу и не помылась, не почистила зубы, не переоделась. Сидела в запертой комнате. В два часа дня она сделает над собой усилие и съездит в школу за Эмджеем. Пока же его нет, она с головой погрузилась в скорбь.
Лени откинула одеяло. Медленно встала, словно без мамы мышцы ее ослабли, прошла по комнате и взяла у бабушки шкатулку:
— Спасибо.
Они смотрели друг на друга — два зеркала, в которых отражалась печаль. Затем, не сказав больше ни слова, — что толку от разговоров? — бабушка развернулась и ушла, прямая как палка. Если бы Лени ее не знала, подумала бы, что бабушка — кремень, женщина с железными нервами, но Лени ее знала. На лестнице бабушка остановилась, оступилась, вцепилась в перила. Из кабинета вышел дедушка — ровно тогда, когда ей понадобилась его помощь, — и подал ей руку.
Они стояли, соприкасаясь головами. Воплощение скорби.
Лени злило, что она ничем не может помочь. Разве трое утопающих могут друг друга спасти?
Лени вернулась в кровать, положила на колени шкатулку розового дерева. Разумеется, она видела ее раньше. Когда-то в ней лежала колода карт.
Неизвестный мастер так отполировал шкатулку, что казалось, будто она не деревянная, а стеклянная. Давным-давно ее купили в сувенирной лавке — скорее всего, когда они жили в трейлере и на нем же отправились в Тихуану. Лени была тогда слишком мала, ничего не запомнила (это было еще до Вьетнама), но слышала, как родители вспоминали ту поездку.
С глубоким вздохом Лени открыла шкатулку. Чего там только не было! Дешевенький серебряный браслет с брелоками, ключи на кольце с надписью «Полный вперед!», розовая раковина гребешка, вышитая бисером замшевая монетница, колода игральных карт, фигурка эскимоса с копьем, вырезанная из моржового бивня.
Лени перебирала эти пустяки, пытаясь угадать, с каким событием в маминой жизни связан каждый из них. Такие браслеты с брелоками дарят друг другу подружки в школе, и это напомнило Лени о том, что она многого не знает о маме. Вопросы, которые она так и не задала; истории, которые мама не успела ей рассказать. Теперь уж этого не вернуть. Ключи Лени узнала — они были от дома в глухом переулке в пригороде Сиэтла, где они жили много лет назад. Ракушка напомнила о том, как мама любила собирать всякую всячину на пляже, а замшевый кошелек она, скорее всего, купила в сувенирной лавке в какой-нибудь резервации.
Была здесь и стопка из «Морского волчары». Кусок коряги, на котором было вырезано «Кора и Эрнт, 1973». Три белых шарика из агата. Фотография со свадьбы родителей в мэрии. Мама счастливо улыбается; на ней белое платье, юбка-колокол доходит до середины икры. Белые перчатки, в руках одна-единственная белая роза. Папа в черном костюме с узким галстуком с неловкой улыбкой обнимает маму. Они похожи на детей, которые нарядились взрослыми.
На следующей фотографии их «фольксваген» с коробками и чемоданами на крыше. Сквозь открытую дверь виден хлам на полу в салоне. Снимок сделан за несколько дней до того, как они отправились на север.
Они втроем стоят перед автобусом. На маме широченные джинсы-клеш и топик. Белокурые волосы собраны в хвостики, на лбу бисерная повязка. На папе светло-голубые синтетические брюки и рубашка с широким воротником в тон. Лени стоит перед родителями, на ней красное платье с круглым белым отложным воротником (такой воротник был у Питера Пэна) и кеды. Мама и папа положили руки ей на плечи.
Маленькая Лени лучится счастливой улыбкой.
Фотография расплылась, задрожала в руке.
Вдруг она заметила что-то красно-сине-золотистое. Отложила фотографию, вытерла глаза.
Военная медаль. Красно-бело-синяя лента, на заостренном конце — бронзовая звезда. Лени перевернула звезду, прочла надпись: «Героический или похвальный поступок. Эрнт А. Олбрайт». Под медалью — сложенная вырезка из газеты с заголовком «Военнопленный из Сиэтла освобожден» и фотография ее отца, который таращится в пространство. Тут он похож на труп, ничего общего с мужчиной на свадебном снимке.
«Жаль, что ты не помнишь, каким он был…» Сколько раз мама ей это говорила?
Лени прижала фотографию и медаль к груди, словно могла впечатать их в душу. Вот о чем ей хотелось бы помнить — об их любви, о его героизме, о том, как они смеялись, как мама собирала всякую всячину на пляже.
В шкатулке осталось два предмета. Конверт и сложенный лист бумаги.
Лени отложила фотографию и медаль, взяла лист бумаги, медленно развернула. Увидела мамин изящный почерк воспитанницы частной школы.
Любимая моя красавица-доченька,
Пора исправить то, что я натворила. Ты живешь под фальшивым именем, потому что я убила человека. Я.
Быть может, ты еще этого не осознала, но у тебя есть дом, а дом — это важно. У тебя есть возможность начать другую жизнь. Дать своему сыну все то, что не сумела дать тебе я. Но на это нужна смелость, а тебе ее не занимать.
Тебе лишь нужно вернуться на Аляску и отдать полицейским мое письмо с признанием. Скажи им, что это я его убила. Пусть расследование наконец завершится и мое преступление не ляжет на тебя пятном. Дело закроют, ты будешь свободна. Вернешь себе свое имя и свою жизнь.
Езжай домой. Развей мой прах на нашем берегу.
Я буду за тобой присматривать. Всегда.
Ты мать, и ты меня поймешь. Ты мое сердце, доченька. Ты — единственное, что мне удалось. Я хочу, чтобы ты знала, что я снова пошла бы на это, снова пережила все эти ужасные и прекрасные мгновения. Я бы снова терпела годы и годы ради одной минуты с тобой.
В конверте лежали два билета в один конец до Аляски.
* * *
В последнюю субботу июля на ухоженных улочках раскинувшегося на холме района Квин-Энн кипела жизнь. Соседи жарили на гриле мясо, купленное в магазине, смешивали в блендерах затейливую «маргариту», дети их качались на качелях, которые стоили как подержанный автомобиль. Заметил ли кто из соседей, что у Голлихеров закрыты жалюзи? Способна ли скорбь просочиться сквозь стекло и камень? Ведь на людях об этом горе нельзя было и словом обмолвиться. Как оплакивать смерть некоей Эвелин Грант, которой на самом деле и не существовало?
Лени вылезла в окно комнаты на крышу; за эти годы деревянные дощечки стали гладкими, оттого что на них так часто сидели. Здесь как нигде ощущалось присутствие мамы. Порой оно становилось настолько явным, что Лени казалось, будто она слышит мамино дыхание, но это всего лишь ветер шелестел листвой растущего перед домом клена.
— Когда твоей маме было тринадцать, я ее ловила тут с сигаретой, — тихо сказала бабушка. — Она думала, что если закрыть окно и сунуть в рот мятный леденец, то я ничего не замечу.
Лени не удержалась от улыбки. Эти слова, точно заклятье, на дивное, прекрасное мгновение вернули маму. Блеск белокурых волос, смех на ветру. Лени оглянулась и увидела бабушку у открытого окна комнаты на втором этаже. Прохладный вечерний ветер трепал ее черную блузку, шевелил кайму воротничка. У Лени в голове мелькнула мысль: наверно, бабушка до скончания дней будет ходить в черном, а если наденет зеленое платье, скорбь утраты просочится наружу из пор и она снова переоденется в черное.
— Можно к тебе?
— Да я сейчас залезу обратно. — Лени привстала.
Бабушка высунулась в окно, задев волосами раму и примяв прическу.
— Я понимаю, что кажусь тебе древней, как динозавры, но я еще способна перелезть через подоконник. Джек Лалэйн[79] в шестьдесят доплывал от Алькатраса до Сан-Франциско.
Лени подвинулась.
Бабушка вылезла в окно и села, прижавшись прямой спиной к стене дома.
Лени отползла назад, чтобы сесть рядом с ней. Шкатулку захватила с собой. Лени то и дело гладила ее полированные бока — с тех самых пор, как вчера взяла в руки.
— Я не хочу, чтобы ты уезжала.
— Я знаю.
— Твой дедушка не советует этого делать, а он знает, что говорит. — Бабушка помолчала. — Останься. Не отдавай им это письмо.
— Это ее последнее желание.
— Но ее больше нет.
Лени не удержалась от улыбки. Ей нравилось, что оптимизм каким-то непостижимым образом уживается в бабушке с практицизмом. Оптимизм помог ей почти двадцать лет ждать возвращения дочери; практицизм позволил забыть о той боли, которую пришлось испытать. За эти годы Лени осознала, что мама не только простила родителей, но научилась их понимать и сожалела, что в свое время была к ним так жестока. Наверно, каждый ребенок рано или поздно проходит тот же путь.
— Я тебе уже говорила, как благодарна вам за то, что вы нас приняли и полюбили моего сына?
— И тебя.
— И меня.
— Объясни мне, Лени, зачем ты хочешь уехать. Я боюсь.
Лени думала об этом всю ночь. Она понимала, что это безумие, что это просто опасно, но все же надеялась.
Она хотела снова стать Лени Олбрайт. Ей это необходимо. Жить собственной жизнью. Чего бы это ни стоило.
— Ты, скорее всего, думаешь, что на Аляске холодно и вообще жить нельзя, что мы там едва не пропали. На самом деле мы там нашли себя. Аляска здесь, в моем сердце. Там мой дом. Годы, проведенные вдали, не прошли для меня бесследно. К тому же Эмджей уже большой. Он быстро растет, он мальчик. Ему нужен отец.
— Но ведь его отец…
— Да. Я рассказывала Эмджею об отце все, что могла. Он знает и про травму, и про лечебницу. Но ведь одних рассказов недостаточно. Эмджей должен знать, кто его предки. Совсем скоро он начнет задавать настоящие вопросы. И имеет право на ответ. — Лени помолчала. — Мама во многом ошибалась, но в одном она была права: любовь не умирает. Она не проходит. Несмотря ни на что, вопреки ненависти, она не проходит. Я бросила парня, которого любила, больного и переломанного, и ненавижу себя за это. Мэтью — отец Эмджея, и неважно, понимает ли сам Мэтью, что это значит, сумеет ли когда-нибудь обнять сына, поговорить с ним или нет. Эмджей имеет право познакомиться с родственниками. С дедом, Томом Уокером. С тетей Алиеской. Я простить себе не могу, что они не знают про Эмджея. Они полюбят его так же сильно, как вы.
— А если они попробуют его отобрать? Родительские права — сложная штука. Ты же этого не вынесешь.
Об этом Лени и думать боялась.
— Дело не во мне, — тихо ответила она. — Я должна поступить правильно. В конце концов.
— Нет, Лени, это плохая идея. Просто ужасная. Неужели мамин пример тебя не научил, что жизнь — и закон — несправедливы к женщинам? Иногда от правильных поступков нет никакого толку.
* * *
Лето на Аляске.
Лени не могла забыть его небывалую красоту, от которой захватывало дух, и сейчас, в маленьком самолете, летевшем из Анкориджа в Хомер, почувствовала, как раскрывается душа. Впервые за многие годы ей было так хорошо. Она снова стала собой.
Они пролетели над зелеными заболоченными низинами за пределами Анкориджа, над серебристым простором Тернагейн-Арм, отлив обнажил серое песчаное дно. Здесь село на мель немало неосторожных рыбаков, а сказочные приливные боры такие высокие, что впору заниматься серфингом.
Показался залив Кука, синяя полоса, испещренная белыми рыбацкими лодками. Самолет заложил вираж к заснеженным горам, пролетел над голубым ледяным полем Хардинг. Над заливом Качемак земля снова стала ярко-зеленой, превратилась в скопление изумрудных холмов. Вода пестрела сотнями лодок, за которыми трепетали белые ленты кильватерной струи.
В Хомере они приземлились на гравийную посадочную полосу; Эмджей радостно вскрикнул и указал за окно. Когда самолет остановился, пилот открыл заднюю дверь и помог Лени вынести чемодан на колесиках, который казался неуместным, ведь у него даже не было лямок.
Лени взяла Эмджея за руку и покатила чемодан по гравийной посадочной полосе к маленькой конторе авиакомпании. Большие настенные часы извещали: уже десять часов двенадцать минут утра.
Она подошла к стойке и обратилась за справкой:
— Скажите, пожалуйста, где находится новый полицейский участок?
— Ну не такой уж он и новый. За почтой на Хит-стрит. Хотите, я вызову вам такси?
Если бы Лени так не волновалась, она бы рассмеялась: надо же, такси в Хомере!
— Э-э-э, да, спасибо. Это было бы замечательно.
В ожидании такси Лени разглядывала стену конторы, увешанную четырехцветными рекламными брошюрами для туристов: «Большая база отдыха на Аляске» в Стерлинге; «Гостиница и парк приключений в бухте Уокеров» в Канеке; коттеджи в горах Брукс-Рейндж, куда можно добраться на самолете; проводники, которых можно нанять на день для путешествия по рекам; охотничьи туры в Фэрбанксе. Аляска явно превратилась в туристическую Мекку, как и предполагал Том Уокер. Лени знала, что летом в Сьюард раз в неделю заходят круизные лайнеры с тысячами пассажиров.
Приехало такси, и вскоре они с Эмджеем очутились возле полицейского участка, длинного приземистого здания с плоской крышей, расположенного на углу улицы.
В участке горел яркий свет; стены недавно покрашены. Лени с трудом втащила за собой чемодан через порожек. За столом сидела женщина в форме, больше никого не было. Лени решительно направилась к ней, так крепко сжимая руку Эмджея, что он извивался, хныкал, пытался вырваться.
— Здравствуйте, — сказала она женщине за столом. — Я бы хотела поговорить с шефом полиции.
— О чем?
— Об… убийстве.
— Человека?
Только на Аляске могли задать подобный вопрос.
— У меня есть сведения о преступлении.
— Идите за мной.
Женщина в форме провела Лени мимо пустой камеры за решеткой к закрытой двери с табличкой ШЕФ ПОЛИЦИИ КУРТ УОРД. Громко постучала. Дважды. Услышав приглушенное «Войдите», открыла дверь.
— Шеф, эта девушка говорит, что у нее есть сведения о преступлении.
Шеф полиции медленно поднялся. Лени помнила его еще с тех пор, как погибла Женева Уокер. Высокая стрижка ежиком, густые рыжие усы, рыжеватая щетина, которая успела отрасти после утреннего бритья. Уорд выглядел так, словно в старших классах школы рьяно занимался хоккеем, а потом вырос и стал полицейским в маленьком городке.
— Ленора Олбрайт, — представилась Лени. — Дочь Эрнта Олбрайта. Мы жили в Канеке.
— Ничего себе. Мы думали, вас нет в живых. Спасатели вас долго искали. Когда это было — лет шесть-семь назад? Почему же вы не сообщили в полицию?
Лени усадила Эмджея в удобное кресло, дала ему книгу, раскрыла. Вспомнила совет деда: «Это плохая идея, Лени, но если уж ты решила, будь осторожна и веди себя умнее, чем мама. Ничего не говори. Просто отдай письмо. Скажи, что ты понятия не имела, что отец мертв, пока мама не дала тебе это письмо. Скажи, что вы от него сбежали, потому что он вас избивал, и прятались, чтобы он вас не нашел. Все, что вы сделали, — фальшивые документы, новый город, молчание — вполне укладывается в легенду о маме и дочке, которые прятались от опасности».
— Мам, ну пойдем! — Эмджей подпрыгивал на кресле. — Я хочу к папе.
— Сейчас, сыночек, потерпи чуть-чуть.
Лени поцеловала Эмджея в лоб и вернулась к столу шефа полиции. Их разделяла полоса серого металла, уставленная семейными фотографиями, обклеенная розовыми листочками с записками, заваленная журналами о рыбалке. Катушка спиннинга с немыслимо запутанной леской заменяла пресс-папье.
Лени достала из сумочки письмо. Дрожащей рукой протянула полицейскому мамино признание.
Шеф Уорд пробежал глазами письмо. Сел. Посмотрел на Лени:
— Вы знаете, что в нем?
Лени подтащила стул и села напротив Уорда. Она боялась, что у нее подкосятся ноги.
— Да.
— Значит, ваша мама застрелила вашего отца, избавилась от тела, и вы убежали.
— Вы же читали письмо.
— И где сейчас ваша мама?
— Умерла на прошлой неделе. Перед смертью вручила мне письмо и попросила передать в полицию. Так я обо всем и узнала. Ну то есть… об убийстве. Я раньше думала, мы сбежали из-за того, что папа нас бил. Он… нас избивал. Периодически. Тогда он очень сильно избил маму. И мы сбежали.
— Примите мои соболезнования в связи с ее смертью.
Шеф Уорд, прищурясь, уставился на Лени. Под его пристальным взглядом ей стало неуютно. Так и подмывало заерзать. Наконец он встал, подошел к шкафчику в глубине кабинета, порылся в ящике и вытащил папку. Бросил на стол, сел, открыл.
— Ну что ж. Ваша матушка, Кора Олбрайт, была ростом пять футов шесть дюймов. По описанию очевидцев, хрупкого телосложения. А в отце вашем было без малого шесть футов.
— Да, все верно.
— Однако же она застрелила вашего отца, вытащила тело из дома, потом — скорее всего — привязала к снегоходу, отвезла на Хрустальное озеро, прорезала дыру во льду, прицепила ему на ноги капканы и спихнула в воду. И все это в одиночку. А вы где были?
Лени молчала, сцепив руки на коленях.
— Не помню. Я ведь даже не знаю, когда это случилось. — Ее так и подмывало что-то добавить для убедительности собственной лжи, но дедушка советовал не болтать лишнего.
Шеф Уорд облокотился на стол и сложил домиком квадратные кончики пальцев.
— Вы ведь могли отправить это письмо.
— Могла.
— Но вы же не такая, правда, Ленора? Вы хорошая девушка. Честный человек. У меня в этом деле о вас исключительно хвалебные отзывы. — Он подался вперед: — Что же случилось в тот вечер, когда вы сбежали? С чего он так вспылил?
— Я… узнала, что беременна, — ответила Лени.
Уорд бросил взгляд в дело:
— Мэтью Уокер. Говорят, у вас был роман.
— Ага, — сказала Лени.
— Безумно жаль, что он тогда так пострадал. То есть вы оба пострадали, но вы-то поправились, а он… — Шеф Уорд осекся, и Лени стало стыдно, словно тот ее молчаливо упрекнул. — Я слышал, ваш отец ненавидел Уокеров.
— Это еще слабо сказано.
— И как же он себя повел, когда узнал, что вы беременны?
— Как с цепи сорвался. Начал избивать меня — сперва кулаками, потом снял ремень… — Воспоминания, которые она годами подавляла, вырвались на свободу.
— Да, я слышал, он был тот еще мерзавец.
Лени отвернулась. Краем глаза увидела, как Эмджей читает книгу и шевелит губами, словно проговаривает слова. Она надеялась, что сказанное не отложится у него в каком-нибудь темном уголке подсознания и не проявится однажды.
Шеф Уорд придвинул к ней какие-то документы. Лени заметила в углу надпись: «Олбрайт, Коралина».
— У меня есть письменные показания Мардж Бердсолл, Натали Уоткинс, Тики Роудс, Тельмы Шилл и Тома Уокера. Все они утверждают, что годами видели вашу маму в синяках. И я вас уверяю, на допросе многие из них заливались слезами и жалели, что ничего не сделали. Тельма призналась, что с радостью сама пристрелила бы вашего отца.
— Мама всегда отказывалась от помощи. Я до сих пор не знаю почему.
— Она кому-нибудь когда-нибудь говорила, что он ее избивает?
— Мне об этом ничего не известно.
— Если вы действительно хотите помочь, скажите правду, — посоветовал шеф Уорд.
Лени уставилась на него.
— Ну же, Лени. Мы оба знаем, что случилось в тот вечер. Ваша мама действовала не в одиночку. Вы тогда были совсем юной. Вы тут ни при чем. Вы выполнили мамину просьбу, да и кто поступил бы иначе? Вас любой поймет. В конце концов, он вас избивал. Суд это учтет.
Он был прав. Она действительно тогда была совсем юной. Перепуганной беременной девочкой восемнадцати лет.
— Позвольте мне вам помочь, — настойчиво произнес Уорд. — Сбросьте это ужасное бремя.
Лени понимала, что и мама, и бабушка с дедушкой предпочли бы, чтобы она соврала, сказала, что не видела ни убийства, ни как мать поехала на Хрустальное озеро, ни как пошел ко дну в ледяной воде труп отца.
Чтобы она сказала: это не я.
Свалила все на маму, стояла на своем.
И навсегда сохранила эту страшную темную тайну. Солгала.
Мама хотела, чтобы Лени вернулась домой, но ведь дом — не просто хижина в тайге над тихой бухтой. Дом — это состояние души, умиротворение от того, что ты верен себе и живешь честно. Нельзя вернуться домой наполовину. Нельзя строить новую жизнь на шатком основании лжи. Больше она так не может. Тем более дома.
— Правда вас освободит, Лени. Ведь вы именно этого хотели? Поэтому вы здесь? Расскажите же мне, что на самом деле произошло в тот вечер.
— Когда он узнал, что я беременна, так мне врезал, что распорол щеку и сломал нос. Я… помню не все, только то, как он меня ударил. Потом я услышала, как мама сказала: «Не трогай Лени», и раздался выстрел. Я… увидела, как рубашка его пропиталась кровью. Мама ему два раза выстрелила в спину. Чтобы он меня не убил.
— И вы помогли ей избавиться от тела.
Лени замялась, но шеф Уорд так сочувственно на нее смотрел, что она прошептала:
— И я помогла ей избавиться от тела.
Шеф Уорд с минуту молча смотрел на документы, лежавшие перед ним на столе. Казалось, он собирался что-то сказать, но потом передумал. Скрипнул ящиком стола, достал лист бумаги и ручку.
— Напишите обо всем.
— Но я же вам все рассказала.
— Мне нужно письменное признание. И тогда мы с этим покончим. Ну же, Лени, не сдавайте позиции, осталось совсем чуть-чуть. Вы же хотите об этом забыть?
Лени взяла ручку. Уставилась на пустой лист бумаги.
— Что, если я попрошу вызвать адвоката? Дедушка наверняка бы мне это посоветовал. Он юрист.
— Пожалуйста, — согласился Уорд, — виновные так и делают. — Он взял трубку. — Ну так что, позвать?
— Вы мне верите, правда? Я его не убивала, мама тоже не хотела его убивать. Закон же теперь защищает женщин, пострадавших от домашнего насилия.
— Конечно. Тем более что вы сказали мне правду.
— То есть мне нужно лишь все это записать и вы меня отпустите? И я смогу поехать в Канек?
Он кивнул.
Что изменится, если она обо всем напишет? Лени начала медленно, слово за словом, восстанавливать события того ужасного вечера. Как отец набросился на нее с кулаками, как взял ремень, как хлынула кровь, как собралась в лужицу на полу. Дорога по морозу на озеро. Последний взгляд на папино лицо цвета слоновой кости в лунном свете — перед тем как он скрылся под водой. Стук льдинок, выплеснувшихся из проруби.
Лени умолчала лишь о том, что им помогала Мардж Берд-солл. Об этом она словом не обмолвилась. Не упомянула ни о бабушке с дедушкой, ни о том, куда именно они с мамой уехали с Аляски.
Закончила она так: «Мы улетели из Хомера в Анкоридж и уехали с Аляски».
Подвинула листок Уорду.
Шеф полиции вынул очки из отвисшего нагрудного кармана, пробежал глазами ее признание.
— Мам, я дочитал, — подал голос Эмджей.
Лени поманила его к себе. Он захлопнул книгу и кинулся к ней со всех ног. Забрался на колени, как обезьянка. Он был уже крупноват, но Лени не стала его прогонять. Обняла сына. Эмджей болтал худенькими ножками, пинал кроссовкой металлический стол. Бум-бум-бум.
Шеф Уорд посмотрел на Лени и объявил:
— Вы арестованы.
У Лени земля ушла из-под ног.
— Но… вы же говорили… что если я напишу, то мы на этом закончим.
— Мы и закончили. Теперь вами займутся другие. — Он запустил руку в волосы. — Зря вы сюда пришли.
Ее ведь годами предупреждали. Как же она забыла? Но потребность в прощении и искуплении победила здравый смысл.
— Что вы имеете в виду?
— От меня теперь ничего не зависит, Лени. Вами займется суд. Я посажу вас под арест — по крайней мере, до тех пор, пока вам не предъявят обвинение. Если у вас нет денег на адвоката…
— Мам! — нахмурился Эмджей.
Шеф зачитал Лени по бумажке ее права и добавил напоследок:
— А сына вашего передадим в социальную службу — если, конечно, его некому забрать. В опеке о нем позаботятся. Обещаю.
Лени диву давалась: как она могла оказаться такой глупой и наивной? Почему сразу не догадалась? Ее ведь предупреждали. А она все равно поверила полицейскому. Хотя знала, что к женщинам закон жесток и несправедлив.
Ее так и подмывало разразиться руганью, завизжать, заплакать, расшвырять мебель, но поздно. Она допустила ужасную ошибку. Второй не будет.
— Позвоните Тому Уокеру, — сказала Лени.
— Тому? — нахмурился шеф Уорд. — С какой стати я должен ему звонить?
— Позвоните, и все. Скажите, что мне нужна помощь. Он за мной приедет.
— Кто вам нужен, так это адвокат.
— Ага, — согласилась Лени. — Вот и про адвоката тоже ему скажите.
Тридцать
До этого дня слово «производство» ассоциировалось у Лени скорее с огромными заводами или какими-то фабриками, где продукты менялись до неузнаваемости, превращались во вредные. Типа плавленого сыра.
Теперь же это слово обрело совершенно иное значение.
Отпечатки пальцев. Фотографии крупным планом анфас и в профиль. «Пожалуйста, повернитесь вправо». Ее обыскивают.
— Прикольно! — Эмджей бегал туда-сюда по камере, водил рукой по решетке. — Я как вертолет. Послушай. — И он снова припустил вдоль решетки, со стуком пересчитывая пальцем прутья.
Лени не сумела выдавить улыбку. Ей не хотелось смотреть на Эмджея, но и отвернуться тоже не могла. Чего ей стоило уговорить полицейских, чтобы позволили взять его с собой в камеру! Слава богу, они в Хомере, а не в Анкоридже, уж там-то для нее не сделали бы послабления. Тут же, видимо, уровень преступности невелик. В камеру сажают разве что пьяниц по выходным.
Тук-тук-тук.
— Эмджей, — рявкнула Лени и только по лицу сына — в зеленых глазах страх, рот открыт от удивления — поняла, что кричала. — Прости, — сказала она. — Прости, сынок.
Настроение Эмджея — что море: посмотрел — и сразу все ясно. Вспышка Лени его обидела, может, даже напугала.
Теперь она будет казниться еще и из-за этого.
Эмджей пересек крохотную камеру, специально шаркая подошвами кроссовок.
— Я катаюсь на коньках, — пояснил он.
Лени выдавила улыбку, похлопала по бетонной скамье. Эм-джей уселся рядом с ней. В камере было так тесно, что он едва не упирался коленкой в унитаз без крышки. Сквозь железные решетки Лени видела почти весь участок — стойку дежурного, приемную. Дверь в кабинет шефа Уорда.
Она еле удержалась, чтобы не обнять Эмджея крепкокрепко.
— Нам надо поговорить, — сказала она. — Помнишь, я рассказывала тебе о папе?
— У него повреждение мозга, но он все равно будет меня любить. Какой противный туалет.
— Папа живет в лечебнице, там за ним ухаживают. Поэтому он нас и не навещает.
Эмджей кивнул:
— Тем более что он все равно не говорит. Он провалился в дыру и разбил голову.
— Ага. Он живет здесь. На Аляске. Где выросла мама.
— Ну, мам, чего ты, я знаю. Поэтому мы и приехали. Пойдем гулять?
— Пока нельзя. Но… у тебя еще есть дедушка. Он живет здесь. И тетя по имени Алиеска.
Эмджей наконец перестал стучать пластмассовым трицератопсом по скамье и посмотрел на Лени.
— Еще один дедушка? У Джейсона их три.
— А у тебя теперь два, разве не здорово?
Она услышала, как отворилась дверь участка, донесся шум проехавшего по улице автомобиля, скрип гравия под колесами. Гудок.
В участок вошел Том Уокер. В линялых джинсах, заправленных в сапоги, черной футболке с огромной разноцветной эмблемой «Гостиницы и парка приключений в бухте Уокеров» и грязной бейсболке, надвинутой на глаза.
Остановился, огляделся.
Заметил ее.
Лени не усидела бы на месте, даже если хотела бы, а она не хотела. Она отстранилась от Эмджея и встала.
Волнение мешалось в ее душе с радостью. Она только сейчас осознала, как соскучилась по мистеру Уокеру. За эти годы он для нее превратился в мифического героя. И для мамы тоже. Для мамы он олицетворял упущенную возможность, для Лени — идеал отца. Поначалу они с мамой часто вспоминали о мистере Уокере, но обеим это причиняло боль, и со временем они перестали о нем говорить.
Мистер Уокер направился к Лени, стянул бейсболку, смял в руках. Он переменился — не постарел, но как-то поблек, словно от непогоды. Светлые с проседью волосы забраны в хвост. Он явно работал в лесу, когда позвонил шеф Уорд, — к фланелевой рубашке пристали сухие листья.
— Лени. — Мистер Уокер подошел к самой решетке. — Я не поверил, когда Курт сказал, что ты тут. — Он обхватил прутья широкими, покрасневшими от работы ладонями. — Я думал, отец тебя убил.
Лени вспыхнула от стыда.
— Нет, мама его убила. Когда он набросился на меня с кулаками. Нам пришлось бежать.
— Я бы вам помог. — Он придвинулся ближе, понизил голос: — Мы все помогли бы.
— Я знаю. Мы потому и не попросили.
— А… Кора?
— Умерла, — хрипло ответила Лени. — Рак легких. Она… часто о вас вспоминала.
— Ох, Лени, прими мои соболезнования. Она была…
— Да, — мягко перебила Лени, стараясь не думать о том, какая мама была замечательная и как горько, что ее не стало. Прошло не так много времени, и Лени еще не научилась говорить о потере. Лени посторонилась, чтобы мистер Уокер увидел сидевшего за ее спиной мальчика.
— Эмджей, Мэтью-младший, это твой дедушка Том.
Мистер Уокер всегда казался сильным, как супермен, но, увидев мальчика, так похожего на его сына, утратил самообладание.
— Господи боже мой…
Эмджей, сжимая в кулачке красного пластмассового динозавра, вскочил на ноги.
Мистер Уокер присел на корточки и сквозь прутья решетки посмотрел внуку в глаза.
— Ты так похож на другого мальчика со светлыми волосами.
Держись.
— Я Эмджей! — Мальчик подпрыгнул, расплылся в улыбке. — Хочешь, покажу динозавров? — И, не дожидаясь ответа, принялся одного за другим вытаскивать из карманов пластмассовых динозавров и с гордостью демонстрировать мистеру Уокеру.
Мистер Уокер сказал, перекрывая рычание («так делает Ти-рекс, ррррр»):
— Как же он похож на отца.
— Да.
Прошлое пробралось в настоящее. Лени потупилась, не в силах поднять глаза на мистера Уокера.
— Простите меня, что я вам ничего не сказала. Нам пришлось уехать быстро, и мне не хотелось, чтобы у вас были неприятности. Я не хотела, чтобы из-за нас вам пришлось врать, и не могла допустить, чтобы маму посадили в тюрьму…
— Ох, Лени, — мистер Уокер выпрямился, — ты всегда была ответственна не по годам. Кстати, если Эрнта убила твоя мама, почему ты здесь? Да Курт вас обеих наградить должен, а не в камеру сажать.
Во взгляде мистера Уокера было столько тепла, что Лени едва не расплакалась. Неужели же он нисколечки на нее не злится? Ведь она бросила его больного сына, годами скрывалась, украла у него несколько детских лет внука. А теперь еще и намерена попросить об услуге.
— Я ей помогала после всего, что случилось. Ну… избавиться… от тела.
Мистер Уокер подался к Лени:
— Ты им об этом рассказала? Но зачем?
— Шеф меня перехитрил. Ну и ладно, может, так и надо. Мне нужно было сказать правду. Я устала притворяться. Ничего, как-нибудь разберемся. У меня дед юрист. Мне просто… нужно знать, что… пока я тут, с Эмджеем ничего не случится. Не могли бы вы его забрать?
— Ну разумеется, но…
— Я понимаю, что не имею права просить вас об этом, но, пожалуйста, не рассказывайте Мэтью о сыне. Я хочу сделать это сама.
— Мэтью ничего не…
— Да, я знаю, что он ничего не поймет, но мне нужно самой рассказать ему о сыне. Так будет правильно.
Бренча ключами, к ним направлялся шеф Уорд. Он прошел мимо мистера Уокера и открыл дверь камеры:
— Пора.
Лени наклонилась к сыну.
— Ну что, сынок, — Лени изо всех сил старалась держаться, — ты сейчас поедешь с дедушкой. А у мамы… еще дела. — Она легонько вытолкнула Эмджея из камеры.
— Мам, я не хочу уходить.
Лени с мольбой взглянула на мистера Уокера. Тот положил широкую ладонь на плечико Эмджея.
— Сейчас сезон лосося, Эмджей, — проговорил мистер Уокер так же неуверенно, как чувствовала себя Лени. — Река буквально кишит рыбой. Мы с тобой сегодня поедем рыбачить на Анкор. И ты поймаешь такую рыбину, какую не ловил ни разу в жизни.
— А можно мама с папой поедут с нами? — спросил Эмджей. — Ой, нет. Мой папа не может ходить. Я забыл.
— Ты знаешь о папе? — спросил мистер Уокер.
Эмджей кивнул:
— Мама любит его больше всего на свете. Как меня. Но у него разбита голова.
— Мальчику пора уходить, — вмешался шеф Уорд.
Эмджей посмотрел на Лени:
— Значит, мы сейчас с новым дедушкой поедем на рыбалку? А потом снова поиграем в тюрьму?
— Ну конечно.
Лени едва не расплакалась. Она учила сына всегда и во всем ей верить, и он ей верил. Лени обняла Эмджея, словно хотела запомнить его на ощупь. Ей потребовалось немало смелости, чтобы вернуться домой, сказать правду, позвать Тома Уокера, но расстаться с сыном оказалось труднее всего. Она улыбнулась; у нее дрожали губы.
— Пока, Эмджей, слушайся дедушку. Смотри ничего там не ломай.
— Пока, мамочка.
Мистер Уокер подхватил Эмджея, посадил к себе на плечи. Эмджей радостно засмеялся:
— Смотри, мама, смотри! Я великан!
— Ей здесь не место, — сказал мистер Уокер шефу Уорду, но тот лишь пожал плечами. — Буквоед ты хренов.
— Решил меня оскорбить? Молодец, хорошо придумал. Лучше суду объясни. Мы с ней быстро разберемся. В три часа. К четырем судья планировал быть на реке.
— Прости, Лени, — сказал мистер Уокер.
Он произнес это с такой теплотой, что Лени поняла: он хочет ее подбодрить. Лени не отважилась протянуть ему руку. Одно доброе слово — и она с собой не совладает.
— Берегите его, Том. В нем вся моя жизнь.
Лени смотрела вслед сыну, которого уносил на плечах дед, и думала: «Пожалуйста, пусть все будет хорошо». Дверь камеры со стуком закрылась.
Время тянулось медленно. Изредка звонил телефон, открывалась и закрывалась дверь, заказывали и привозили готовую еду, топали сапоги.
Лени, ссутулившись, сидела на жесткой бетонной скамье у холодной стены. В маленькое окошко лилось солнце, нагревало камеру. Лени откинула влажные волосы с глаз. Последние два часа она плакала, обливалась потом и ругалась сквозь зубы. Она вся взмокла. Во рту отдавало прелыми стельками. Она подошла к крохотному унитазу без крышки, спустила штаны и села, молясь, чтобы никто ее не увидел.
Как-то там Эмджей? Найдет ли мистер Уокер в чемодане мягкую игрушку-касатку (которую почему-то звали Боб)? Эм-джей ведь без нее не заснет. И как только она забыла предупредить мистера Уокера?
Дверь участка открылась. Вошел мужчина. Сутулый, волосы дыбом, словно его воткнули в розетку. На мужчине были рыбацкие ботфорты, в руках — обшарпанный зеленый нейлоновый портфельчик.
— Привет, Марси, — прогудел он.
— Здравствуй, Дем, — откликнулась дежурная за стойкой.
Он покосился на Лени:
— Это она?
Дежурная кивнула.
— Ага. Олбрайт, Ленора. Суд в три. Джон приедет из Солдотны.
Мужчина направился к камере, остановился у решетки. Со вздохом достал папку из замурзанного нейлонового портфельчика и погрузился в чтение.
— Что ж, весьма подробное признание. Вы что, телевизор не смотрите?
— Кто вы?
— Демби Коу. Ваш адвокат. Меня суд назначил. Значит, сделаем так: вы заявите, что невиновны, и дело с концом. Лосось идет. Договорились? Все, что от вас требуется, — подняться, когда вызовут, и сказать: «Невиновна». — Он закрыл папку. — Есть кому внести за вас залог?
— Вы разве не хотите услышать, как все было?
— У меня же есть ваше признание. Успеем еще наговориться. Честное слово. И причешитесь.
И был таков. Лени даже не успела толком осознать, что он вообще приходил.
* * *
Зал суда больше напоминал кабинет врача в маленьком городке, нежели храм правосудия. Ни полированного дерева, ни скамей, как в церкви, ни большого стола. На полу линолеум, ряды пустых стульев, прокурор и адвокат за обычными письменными столами. Впереди, под портретом Рональда Рейгана в дешевой рамке, дожидается судью длинный стол, крытый формайкой; возле стола пластмассовый стул для свидетеля.
Лени села рядом с адвокатом, который, навалившись грудью на стол, изучал карты приливов и отливов. Напротив сидел прокурор, тощий, с густой бородой, в рыбацком жилете и черных штанах.
В зал вошел судья в сопровождении стенографистки и пристава. Длинную черную мантию дополняли резиновые сапоги. Он сел, взглянул на часы:
— Ну что, давайте побыстрее, джентльмены.
Поднялся адвокат Лени:
— Уважаемый суд…
Дверь зала распахнулась.
— Где она?!
Этот голос Лени узнала бы и через сотню лет. Сердце трепыхнулось от радости.
— Мардж!
Марджи-шире-баржи бросилась вперед, звеня браслетами. Ее темное морщинистое лицо испещряли черные родинки, перепутанные пушистые дреды перехвачены свернутой в ленту банданой, чтобы не лезли в глаза. Джинсовая рубашка была маловата и туго обтягивала большую грудь, на заправленных в резиновые сапоги штанах синели пятна от ягод.
Мардж вытащила Лени из-за стола и сжала в объятиях. От нее пахло самодельным шампунем и древесным дымом. Летней Аляской.
— Черт побери! — Судья ударил молотком. — Что происходит? Эта девушка обвиняется в серьезном уголовном преступлении…
Марджи-шире-баржи выпустила Лени из объятий и усадила на стул.
— Джон, да ты никак рехнулся? Преступление — это ваш суд. — Скрипя сапогами, Мардж подошла к скамье судьи. — Девочка ни в чем не виновата, этот идиот Уорд вынудил ее сделать признание. И в чем же? В том, что она была соучастницей преступления? Или покрывала убийцу? Господи боже мой. Она этого говнюка, отца своего, не убивала; мать перепугалась, сказала ей, что надо бежать, вот она и сбежала. А ей всего-то было восемнадцать, отец их избивал. Тут любая сбежит.
Судья еще разок ударил молотком по столу.
— Ох, Мардж, язык у тебя хорошо подвешен, но теперь помолчи. Здесь я хозяин. Тем более что мы сейчас не приговор выносим, а только предъявляем обвинение. Придет время — дашь показания.
Марджи-шире-баржи повернулась к прокурору:
— Сними с нее обвинения, Эйдриан. Если не хочешь до конца сезона проторчать в суде. В Канеке, да и на нефтепроводе каждая живая душа знала, что Эрнт Олбрайт бьет жену. Я тебе кучу свидетелей приведу. Начиная с Тома Уокера.
— Тома Уокера? — повторил судья.
Марджи-шире-баржи повернулась к судье и скрестила руки на груди, словно хотела продемонстрировать, что пробудет здесь хоть до ночи, но все равно настоит на своем.
— Его самого.
Судья взглянул на тощего прокурора:
— Эйдриан?
Прокурор уткнулся в лежавшие перед ним документы. Постучал ручкой по столу.
— Не знаю, ваша честь…
Дверь открылась, и вошла дежурная из полицейского участка, нервно вытирая руки о штаны:
— Ваша честь…
— Чего тебе, Марси? — рявкнул судья. — Не видишь, мы заняты.
— Губернатор на проводе. Хочет с вами поговорить. Немедленно.
* * *
Только что Лени стояла у стола рядом с адвокатом, не успела оглянуться — и вот уже выходит из зала суда.
Снаружи возле большого пикапа ее ждала Мардж.
— Что случилось? — спросила Лени.
Марджи-шире-баржи бросила ее чемодан в ржавый кузов пикапа.
— На Аляске все как везде. Здесь тоже не помешают знакомства в высших сферах. Томми позвонил губернатору, и тот настоял, чтобы с тебя сняли обвинения. — Она коснулась плеча Лени. — Все кончено, девочка.
— Не совсем, — возразила Лени. — Надо еще кое-что сделать.
— А, ну да. Том ждет тебя дома. Он отведет тебя к Мэтью.
Об этом Лени запрещала себе думать. Она подошла к пассажирской двери пикапа и уселась на покрытое одеялом сиденье.
Марджи-шире-баржи села за руль, поерзала, устраивая свое грузное тело поудобнее, завела мотор.
Заиграло радио. «Возьми еще одну частичку моего сердца»[80], — донеслось из динамика. Лени закрыла глаза.
— У тебя такой вид, словно ты вот-вот сломаешься, — заметила Марджи-шире-баржи.
— Сломаешься тут. — Лени подумала, не спросить ли у Мардж о Мэтью, но, если честно, она так вымоталась, сейчас любая мелочь могла вывести ее из равновесия. Лени уставилась в окно.
Они подъехали к пристани, и Лени с восхищением оглядела залитые солнцем окрестности. Казалось, мир светится изнутри — со всеми его яркими красками, волшебной позолотой, острыми заснеженными вершинами гор, сочной зеленой травой и синим морем.
У причала стояло множество рыбацких лодок. На пристани было шумно: верещали морские птицы, урчали моторы, изрыгая клубы черного дыма, в воде между лодок скользили выдры, болтали друг с другом.
Они сели в «Честную охоту», большую красную рыбацкую лодку Мардж, и полетели по голубой глади залива Качемак к уходящим ввысь снежным горам. На воде играли солнечные блики, и Лени прикрыла глаза ладонью, но сердце-то не прикроешь. На нее нахлынули воспоминания. Она вспомнила, как впервые увидела эти горы. Могла ли она тогда подумать, что Аляска завладеет ее сердцем? Настолько ее изменит? Она не знала, не помнила. Казалось, это было так давно.
Они обогнули мыс у бухты Сэди и юркнули меж двух холмистых зеленых островов, берега которых были усеяны серебристыми корягами, бурыми водорослями и галькой. Лодка замедлила ход, обогнула каменный волнорез.
Вот и пристань, а над нею — ютившийся на сваях Канек. Они привязали лодку и направились по причалу к забору из рабицы, отделявшему пристань от города. Мардж вроде молчала, хотя Лени и не поручилась бы. Она сейчас слышала лишь свое тело, словно ожившее в этом месте, которому всегда будет принадлежать, — стук своего сердца, дыхание, шаги по гравию Главной улицы.
За эти годы Канек разросся. Дощатые фасады лавок и закусочных были выкрашены в яркие цвета, как на фотографиях скандинавских городков по берегам фьордов. Вдоль всего берега шла новехонькая деревянная набережная. Фонари вытянулись, точно стражи; на их железных перекладинах висели кашпо с геранью и петуниями. Универмаг стал в два раза больше прежнего, внутрь вела красная дверь. Вдоль улицы вереница магазинчиков и кафе: «Закуснасти», магазин пряжи, закусочная, сувенирные лавки, киоски с мороженым, магазины одежды, конторы гидов, аренда каяков, новый салун «Маламут» и гостиница «Женева» с раскидистыми белыми оленьими рогами над входом.
Лени вспомнила, как в первый их день в Канеке мама, в туристских ботинках и легкой «крестьянской» блузке, заметила: «Не очень-то я доверяю тем, кто украшает фасады мертвыми животными».
Лени не удержалась от улыбки. Да уж, тогда они были совершенно не подготовлены к здешней жизни.
Туристов много, вперемешку с местными (впрочем, одних от других по-прежнему было легко отличить по одежде). У тротуара возле салуна «Маламут» выстроились несколько вездеходов, мотоциклов, два пикапа и лаймово-зеленый «форд-пинто» с кое-как приделанным крылом.
Лени уселась в «Интернэшнл Харвестер» Мардж. Они проехали мимо универмага, пересекли прозрачную, как хрусталь, реку по прочному мосту (по обеим сторонам стояли рыбаки с удочками) и съехали на гравийную дорожку, вскоре сменившуюся грязной грунтовкой.
Повсюду встречались приметы цивилизации: в высокой траве виднелся припаркованный трейлер; рядом с ним ржавел трактор. Пара новых подъездных дорожек. Передвижной дом. У канавы — старый школьный автобус без колес.
Лени заметила у поворота к дому Мардж новый знак: АРЕНДА КАЯКОВ И КАНОЭ!
— Люблю я восклицательные знаки, — пояснила Мардж.
Лени хотела что-то сказать, но показался участок Уокеров.
Гостей «парка приключений» встречала арка, сулившая «рыбалку, катание на каяках, воздушные экскурсии и возможность полюбоваться на медведей».
Когда подъехали к повороту, Мардж сбросила газ и посмотрела на Лени:
— Ты точно готова? А то можно потом.
Мардж произнесла это с такой нежностью, что Лени догадалась, о чем именно та спрашивает: готова ли Лени встретиться с Мэтью.
— Готова.
Они проехали под аркой Уокеров и покатили к дому по ровной гравийной дорожке. Слева среди деревьев виднелись восемь новых деревянных домов; из каждого открывался отличный вид на залив. На берег вела извилистая тропа с перилами.
Дом Уокеров теперь стал частью гостиничного комплекса. Это по-прежнему была самая красивая постройка на участке — двухэтажный бревенчатый дом с просторной верандой, окна смотрели на горы и на залив. Во дворе уже не было ни ржавеющих машин, ни мотков проволоки, ни штабелей поддонов. Теперь двор разделяли деревянные перегородки, сулившие укромность. На веранде — деревянные шезлонги. Загончики для скота перенесли вглубь участка, к лесу.
У причала рядом с тремя алюминиевыми рыбацкими лодками был пришвартован гидросамолет. По участку ходили люди, рыбачили на берегу. Персонал гостиницы в коричневой форме, постояльцы в дождевиках и новеньких флисовых жилетках того же цвета.
Из дома Уокеров выбежал Эмджей, проскакал по веранде, обогнул шезлонги и, размахивая руками, бросился к Лени. Она наклонилась и так крепко его обняла, что он принялся вырываться. Лени только сейчас осознала, как боялась его потерять.
К ней подошел Том Уокер вместе с красивой широкоплечей эскимоской; в ее черных, спускавшихся до бедер волосах виднелась одна-единственная широкая седая прядь. На эскимоске была линялая темно-синяя джинсовая рубаха, заправленная в штаны цвета хаки, в ножнах на ремне висел нож, из нагрудного кармана торчали кусачки.
— Привет, Лени, — поздоровался мистер Уокер. — Знакомься, это Атка, моя жена.
Атка протянула Лени руку и улыбнулась:
— Я много слышала о вас и вашей маме.
У Лени перехватило горло; она пожала шершавую ладонь и ответила:
— Приятно познакомиться. — Потом перевела взгляд на мистера Уокера: — Мама была бы очень рада за вас. — Голос ее осекся.
Повисло молчание.
Эмджей упал на колени в траву и принялся играть: его синий трицератопс боролся с красным тираннозавром и страшно рычал.
— Я хочу его видеть, — сказала Лени. Она чувствовала: мистер Уокер ждет, когда она сама скажет, что готова. — Если не возражаете, наедине.
Мистер Уокер повернулся к женщинам:
— Ну что, Атка, Мардж, присмотрите за мальцом? Я на минутку.
Атка улыбнулась, перебросила длинные волосы через плечо.
— Эмджей, помнишь, я рассказывала тебе про морскую звезду? Мой народ зовет ее «юит», борец с волнами. Хочешь, покажу?
Эмджей вскочил на ноги:
— Да! Да!
Лени скрестила руки на груди и проводила взглядом Марджи-шире-баржи, Атку и Эмджея, которые направились к лестнице на берег. Высокий звенящий голосок Эмджея постепенно смолк вдали.
— Это нелегко, — заметил мистер Уокер.
— Простите, что я вам не написала, — ответила Лени. — Я хотела рассказать вам с Мэтью про Эмджея, но… — Она глубоко вздохнула. — Мы боялись, если вернемся, нас арестуют.
— Надо было обратиться ко мне, мы бы вас защитили, ну да что уж сейчас прошлое ворошить.
— Я ведь его бросила, — тихо проговорила Лени.
— Он так мучился от боли, что самого себя не помнил, а уж тебя и подавно.
— Думаете, мне от этого легче? От того, что он мучился?
— Ты тоже мучилась. Пожалуй, сильнее, чем я могу себе представить. Ты ведь знала, что беременна?
Она кивнула.
— Как он?
— Нам пришлось нелегко.
Лени стало неловко. Ее терзало чувство вины.
— Пойдем. — Мистер Уокер взял ее за руку, они прошли мимо бревенчатых домов, мимо того места, где раньше располагались загоны для коз, пересекли скошенный луг. У рощи черных елей мистер Уокер остановился. Лени ожидала увидеть пикап, но машины не было.
— Мы разве не поедем в Хомер?
Мистер Уокер покачал головой и повел ее дальше в лес. Наконец они дошли до дощатого настила, по обеим сторонам которого тянулись сучковатые перила. За настилом, на полянке в окружении деревьев, стоял бревенчатый дом, огромные окна смотрели на залив. Старый дом Женевы. От настила к входной двери шел широкий деревянный мост. Нет, не мост. Пандус.
Для инвалидной коляски.
Мистер Уокер с топотом прошел вперед по мостику-пандусу, постучал в дверь. Из домика донесся приглушенный голос, мистер Уокер открыл дверь и пропустил Лени вперед:
— Не бойся. — Он мягко подтолкнул ее внутрь.
Первым делом Лени заметила большие картины. На мольберте стоял недописанный холст с каким-то взрывом красок. Капли, брызги, полосы напоминали полярное сияние, хотя Лени и не понимала почему. На красочном холсте виднелись странные, уродливые буквы, Лени почти их разобрала, хотя не поручилась бы за точность прочитанного. Кажется, там написано: ОНА. Картина вызвала у нее бурю чувств. Сперва Лени ощутила боль, потом в ее душе зародилась надежда.
— Не буду вам мешать, — проговорил мистер Уокер, вышел и закрыл дверь в тот самый миг, когда Лени заметила сидевшего к ней спиной человека на инвалидной коляске.
Он медленно повернулся, проворно перебирая колеса заляпанными краской руками.
Мэтью.
Он смотрел на нее. Лицо покрывала сетка бледно-розовых шрамов, из-за которых он выглядел странно — так, словно его сшили из лоскутов. Нос приплюснут и свернут чуть набок, как у старого боксера, рубчатая звездочка на правой скуле оттягивает вниз краешек глаза.
Но его глаза. И в этих глазах она увидела его, своего Мэтью.
— Мэтью, это я, Лени.
Он нахмурился. Она ждала хоть какого-нибудь ответа, однако он так ничего и не сказал. А ведь когда-то они не могли наговориться.
Лени почувствовала, что по щекам потекли слезы.
— Это я, Лени, — повторила она нежнее.
Мэтью молча смотрел на нее, словно она явилась ему во сне.
— Ты меня не узнаешь. — Лени вытерла глаза. — Я так и думала. И про Эмджея ты не поймешь. Я так и знала. Я все знала, но… — Она попятилась. Что ж, значит, время еще не пришло.
Она попытается позже. Подберет слова. Объяснит все Эм-джею, подготовит его. Времени у них много, и ей хотелось сделать все как следует. Лени повернулась к двери.
Тридцать один
— Подожди.
Мэтью сидел в инвалидной коляске, сжимая в руке липкую кисть. Сердце колотилось.
Ему говорили, что она придет, но он забыл, потом вспомнил и снова забыл. С ним такое порой случалось. Слова терялись в спутанной схеме мозга. Сейчас уже реже, но все же бывало.
А может, он просто не поверил. Или подумал, что ему это показалось, или они так сказали, только чтобы он улыбнулся, надеясь, что он забудет.
Порой он целые дни проводил точно в тумане, и невозможно было различить ни слова, ни мысли, ни предложения. Только боль.
Но она здесь. Он годами мечтал, чтобы она вернулась, снова и снова прокручивал в голове, как это будет. Представлял, перебирал образы. Подыскивал слова для этого момента, для нее, когда они останутся вдвоем в этой комнате, он не будет волноваться, нервное напряжение не лишит его дара речи, здесь он сможет притвориться, будто к такому, как он, стоило возвращаться.
Он старался не думать о своем обезображенном лице и ноге, которая так и не восстановилась. Он отдавал себе отчет, что порой у него путаются мысли и слова разбегаются от него, точно непослушные животные. Он слышал, как его некогда уверенный голос осекается, выговаривает идиотские фразы, и думал: «Не может быть, это не я». Но это был он.
Он уронил мокрую кисточку, вцепился в подлокотники каталки, заставил себя подняться, застонал от боли, устыдился собственного стона, но сдержаться было невозможно. Заскрипел зубами, переставил ногу. Он слишком увлекся картиной, той самой, что звалась «Она», — о ночи на берегу, которую помнил, — вот и засиделся без движения.
Он неуклюже поковылял вперед, припадая на ногу; наверно, она подумала, что он того и гляди рухнет. Он и правда частенько падал, но вставал еще чаще.
— Мэтью? — она устремилась к нему.
Она была такая красивая, что он едва не расплакался. Ему хотелось сказать ей, что когда рисует, то чувствует, помнит ее, что рисовать начал в лечебнице, для реабилитации, и увлекся не на шутку. Порой, работая над картиной, он забывал обо всем — о боли, о том, что было, об утрате; представлял себе будущее с Лени, их любовь, как солнце и теплую воду. Представлял, что у них дети, что они вместе стареют. Проживают общую жизнь.
Он отчаянно пытался подобрать слова, будто вдруг очутился в темной комнате. Вроде и знаешь, где дверь, а найти не можешь.
Дыши, Мэтью. Когда нервничаешь, становится только хуже.
Он вдохнул, выдохнул. Прихрамывая, подошел к тумбочке, вытащил коробку с письмами, которые она прислала ему давным-давно, когда он был в больнице, и другими, теми, которые она отправляла убитому горем мальчишке в Фэрбанкс. По этим письмам он заново научился читать. Он протянул ей письма, не в силах задать вопрос, который не давал ему покоя: почему ты перестала писать?
Лени потрясенно смотрела на письма.
— Ты их сохранил? После того как я тебя бросила?
— Твои письма, — произнес он. Слова растягивались. Ему надо сосредоточиться, чтобы составить из них нужные сочетания. — Так я. Снова научился читать.
Лени не сводила с него глаз.
— Я молился. Чтобы ты. Вернулась.
— Мне и самой этого хотелось, — прошептала она.
Он улыбнулся, чувствуя, как ползет вниз краешек глаза, и зная, что из-за этого выглядит еще более жутко.
Она обняла его, и он удивился, до чего они подходят друг другу. После того как его вернули к жизни, свинтили, перетянули, они все равно друг другу подходят. Она коснулась его обезображенного лица:
— Ты такой красивый.
Он крепче обнял ее, стараясь успокоиться. Его вдруг отчего-то охватил испуг.
— Что с тобой? Тебе больно?
Он не знал, как объяснить, что чувствует, а может, боялся, что если признается, то разочарует ее. Все эти годы без нее он тонул, она была берегом, до которого он стремился доплыть. Но она, конечно же, посмотрит на его изувеченное, лоскутное лицо и сбежит, а он снова погрузится в темную пучину одиночества.
Он отстранился, проковылял к каталке и сел, закряхтев от боли. Зря он ее обнял, почувствовал, как она прижалась к нему. Как теперь об этом забыть? Он пытался вернуться в привычную колею, но заблудился. Его трясло.
— Где. Ты была?
— В Сиэтле. — Она подошла к нему. — Долго объяснять.
Она прикоснулась к нему, и его мир снова треснул — или разбился. Как-то так. Ему хотелось упиваться этим мгновением, зарыться в него, как в груду мехов, согреться, но это неправда, это опасно.
— Расскажи.
Она покачала головой.
— Я тебя. Разочаровал.
— Ну что ты, Мэтью, вовсе нет. Если уж кто и обманул мои ожидания, так это я сама. И всегда обманывала. Это ведь я тебя бросила. Тогда, когда больше всего была тебе нужна. Если ты не сумеешь меня простить, я пойму. Я и сама себя не прощаю. Я это сделала потому, что… в общем, хочу тебя кое с кем познакомить. А потом, если захочешь, поговорим.
Мэтью нахмурился:
— Кое с кем. Познакомить?
— Да, он на улице с твоим папой и Аткой. Пойдем.
Он.
Его охватила такая глубокая досада, что пробрала до скрепленных болтами костей.
— Не хочу я знакомиться. С этим твоим.
— Ты сердишься. Я понимаю. Ты всегда говорил, нельзя бросать тех, кого любишь, а я тебя бросила. Сбежала.
— Замолчи. Уходи. Пожалуйста. Уходи.
В глазах Лени стояли слезы. Она была такая красивая, что у него перехватило дыхание. Ему хотелось плакать, кричать. Сумеет ли он ее отпустить? Он так ждал этой минуты, ждал все годы, которые помнил, несмотря на боль, от которой плакал во сне, каждый день просыпался с мыслью: «Она» — и пытался жить дальше. Миллион раз представлял себе, как они встретятся, но такое ему в голову не приходило. Что она вернется, чтобы попрощаться.
— У тебя есть сын, Мэтью.
Порой с ним такое случалось. Он слышал не те слова, верил в то, чего на самом деле не говорили. Его травмированный мозг. Не успел он подготовиться, прибегнуть к привычным средствам защиты, как на него обрушилась боль этих слов. Ему хотелось объяснить ей, что он просто ее не понял, но он сумел лишь завыть, протяжно зарычать от боли. Слова его покинули, остались голые чувства. Покачнувшись, он поднялся с кресла, попятился и врезался в кухонный стол. Поврежденный мозг говорил ему то, что он хотел слышать, а не то, что она на самом деле сказала.
Лени подошла к нему. Он видел, как ей больно. Наверно, считает его совсем идиотом. Ему стало стыдно, и он отвернулся.
— Уходи. Если собираешься. Уходи.
— Мэтью, пожалуйста. Хватит. Я знаю, что причинила тебе боль. — Она потянулась к нему: — Мэтью, прости меня.
— Уходи. Пожалуйста.
— У тебя есть сын, — медленно проговорила она. — Сын. У нас есть сын. Ты меня понимаешь?
Он нахмурился:
— Ребенок?
— Да. Я его привезла, чтобы вас познакомить.
Сперва он почувствовал огромную радость. Сын. Его ребенок. Их ребенок. Мэтью едва не расплакался, не в силах стерпеть скорую утрату.
— Посмотри на меня, — негромко попросил он.
— Смотрю.
— У меня такой вид. Словно меня сшивали по частям. На паршивой машинке. Порой больно. Так, что не могу говорить.
Я два года не мог перестать. Мычать и кричать. И сказать первое. Настоящее слово.
— И?
Он вспомнил, как когда-то мечтал научить сына всему, что умел; теперь же все эти надежды рухнули. Он сломлен, где же ему удержать другого.
— Я не смогу взять его на руки. Посадить. На плечи. Он испугается. Такого отца.
Он знал, что Лени услышала тоску в его голосе. Отец. Вселенная в слове из четырех букв.
Она коснулась его лица, провела пальцами по шрамам, заглянула в зеленые глаза.
— Знаешь, кого я вижу? Человека, который мог умереть, но не сдался. Я вижу человека, который переборол себя и заново научился говорить, ходить, думать. Каждый твой шрам разбивает мне сердце и собирает снова. Ты боишься того же, чего все родители. Я вижу человека, которого люблю всю жизнь. Отца нашего сына.
— Не знаю. Как.
— Никто не знает. Поверь мне. Ты же сможешь взять его за руку? Научишь рыбачить? Сумеешь сделать ему бутерброд?
— Он будет меня стесняться, — ответил Мэтью.
— Дети крепкие, как и их любовь. Поверь мне, Мэтью, ты справишься.
— Не в одиночку.
— Не в одиночку. Мы с тобой вместе, как и должно быть. Вместе мы справимся. Да?
— Обещаешь?
— Обещаю.
Она обхватила его лицо ладонями, привстала на цыпочки и поцеловала. С этим поцелуем, так похожим на другой, давний поцелуй, вечность тому назад, когда два подростка верили, что все будет хорошо, он почувствовал, как восстанавливается его мир.
— Пойдем, я вас познакомлю, — прошептала Лени, не отрываясь от его губ. — Он похрапывает совсем как ты. И вечно налетает на мебель. И обожает стихи Роберта Сервиса.
Она взяла его за руку. Они вышли из домика. Мэтью прихрамывал, крепко опираясь на руку Лени, она его поддерживала.
Молча прошли через рощицу, мимо дома, который превратился в первоклассную базу для рыбалки, к новой лестнице.
На берегу, как всегда, толпились постояльцы в новехоньких дождевиках, купленных специально для Аляски. Гости рыбачили у кромки прибоя, над водой с криками вились птицы в ожидании поживы.
Одной рукой Мэтью сжимал ладонь Лени, другой опирался на перила и медленно, прихрамывая, спускался по лестнице.
Справа на берегу пила пиво Марджи-шире-баржи. Алиеска в заливе учила туристов управлять каяком. Папа с Аткой стояли рядом с ребенком, белокурым мальчишкой, который сидел на корточках над большой фиолетовой морской звездой.
Мэтью замер.
— Мама! — крикнул мальчишка, увидев Лени, вскочил, и лицо его озарилось улыбкой. — Ты знала, что у морских звезд есть зубы? Я видел!
Лени посмотрела на Мэтью.
— Это наш сын, — сказала она и отпустила его руку.
Он поковылял к мальчишке, остановился, хотел наклониться, но рухнул на одно колено, скривился и застонал от боли.
— Ты рычишь, как медведь. Я люблю медведей, и мой новый дедушка тоже. А ты?
— Я тоже люблю медведей, — неуверенно ответил Мэтью.
Глядя в лицо сына, он видел собственное прошлое. Он вдруг вспомнил все, о чем забыл, — как лежит в ладони лягушачья икра, как порой зайдешься от смеха, затрясешься всем телом; вспомнил истории, которые читали у костра, вспомнил, как играли на берегу в пиратов, как строили крепости на деревьях. Все, чему он мог научить сына. На что он только ни надеялся за эти годы, во что ни стремился верить даже тогда, когда было нестерпимо больно, но о таком не осмеливался и мечтать.
Мой сын.
— Я Мэтью.
— Правда? А я Мэтью-младший. Но все зовут меня Эмджей.
Мэтью охватило незнакомое чувство. Мэтью-младший. Мой сын, подумал он опять. Как ни силился, но улыбнуться не смог, и почувствовал, что плачет.
— Я твой папа.
Эмджей взглянул на Лени:
— Мам?
Лени подошла к ним, положила руку на плечо Мэтью, кивнула:
— Да, Эмджей, это он. Твой папа. Он давно мечтал с тобой познакомиться.
Эмджей ухмыльнулся, обнажив щербины вместо двух передних зубов. Бросился к Мэтью и так сильно его обнял, что оба рухнули на землю. Эмджей расхохотался. Наконец они сели, и Эмджей спросил:
— Хочешь, звезду покажу?
— А то, — ответил Мэтью.
Мэтью попытался встать, оперся рукой о землю. К ладони прилипли осколки ракушек, больная нога подкосилась, и он упал. Лени взяла его за руку и снова помогла встать.
Эмджей несся к воде и на бегу что-то тараторил.
Мэтью не мог сдвинуться с места: ноги не шли. Он стоял, учащенно дышал и немного боялся, что все это разобьется, как стекло, от малейшего прикосновения. От дыхания. Мальчишка, так похожий на него, стоял на берегу, светлые волосы его золотились на солнце, края штанин промокли в соленой воде. Он смеялся. В нем Мэтью увидел всю свою жизнь: прошлое, настоящее, будущее. Такие минуты — блаженные мгновения в сумасшедшем, порой невозможно опасном мире — меняют жизнь.
— Лучше иди к нему, — сказала Лени. — Если уж наш сын чего хочет, то не может потерпеть ни минуты.
«Господи, как же я ее люблю», — подумал Мэтью, взглянул на Лени, но промолчал: голос пропал, исчез в этом новом мире, где все переменилось. В котором он стал отцом.
Давным-давно, когда все только начиналось, они с Лени были просто подростками, каждый со своим горем. Быть может, все случилось так, как должно было, и каждый из них переплыл собственный океан (она — утраченной любви и потери, он — боли), чтобы снова встретиться там, где их дом.
— Зато я могу.
Он заметил, какое впечатление произвели на нее эти слова.
— Я хотела остаться с тобой. Я хотела…
— Знаешь, за что я люблю тебя больше всего, Ленора Олбрайт?
— За что?
— За все.
Он обнял ее и поцеловал. В этом поцелуе слились и его чувства к ней, и надежды на будущее. Наконец он неохотно ее отпустил, отстранился, они молча смотрели друг на друга и понимали без слов, по вдохам и выдохам. Это начало, подумал он, начало в середине, неожиданное и прекрасное.
— Иди уже, — наконец проговорила Лени.
Осторожно ступая по гальке, Мэтью направился к мальчишке у кромки прибоя.
— Давай скорее, — махнул ему Эмджей; у его ног лежала большая фиолетовая морская звезда. — Она тут. Смотри! Папа, смотри.
Папа.
Мэтью подобрал плоский темно-серый голыш, крохотный, как новое начало, отполированный морем. Весит ровно столько, сколько нужно, и размер подходящий. Он протянул камешек сыну:
— На-ка. Сейчас я тебе покажу. Как пускать. Блинчики. Это здорово. Твою маму я тоже научил. Их пускать. Давным-давно…
* * *
— Он всегда верил, что ты вернешься. — К Лени подошел мистер Уокер. — Говорил, что если бы ты умерла, он бы это понял. Почувствовал бы. Первое его слово было «она». Мы догадались, что это ты.
— Как мне искупить вину за то, что я его бросила?
— Ну что ты, Лени. Это жизнь. Не всегда выходит так, как ожидаешь. — Он пожал плечами. — И Мэтью это знает, пожалуй, лучше всех.
— Как он все-таки себя чувствует?
— По-всякому. И больно бывает, и трудно. Когда нервничает, ему нелегко сформулировать мысли, но он самый лучший проводник по реке, и туристы его обожают. Работает волонтером в лечебнице. Ну а картины ты видела. Наверно, такой вот дар послан ему в качестве компенсации. Конечно, жизнь у него необычная, не как у всех. Не такая, как вы мечтали в восемнадцать лет.
— Мне тоже бывает трудно, — тихо ответила Лени. — Да и потом, тогда мы были детьми. А сейчас уже взрослые.
Мистер Уокер кивнул.
— Я тебя хочу спросить вот о чем. Остальное потом. — Он повернулся к ней: — Ты приехала насовсем?
Лени выдавила улыбку. Она и не сомневалась, что он подошел к ней, чтобы спросить именно об этом. У нее тоже сын, так что она понимала Тома. Он не хотел, чтобы Мэтью причинили боль.
— Я понятия не имею, как сложится моя новая жизнь, но да, я приехала насовсем.
Он положил ей руку на плечо.
Эмджей подпрыгнул:
— Ура! Получилось! Я пустил блинчик! Мамочка, ты видела?
Мэтью обернулся к Лени и улыбнулся. Как же они с сыном похожи! Стоят бок о бок и улыбаются ей, а над головой у них — васильковое небо. Одного поля ягоды. Два сапога пара. Начало новой жизни, полной любви.
* * *
За эти годы она так часто думала об этом, что воспоминание практически превратилось в миф, однако только сейчас Лени осознала, что совсем забыла, как на самом деле волшебна летняя ночь, когда не заходит солнце.
Она сидела за столом для пикника в бухте Уокеров. Сладковатый запах печеного маршмеллоу мешался с соленым ароматом беспечных волн, омывавших берег. Эмджей у кромки прибоя закидывал спиннинг, крутил катушку, подтягивал леску к себе. По одну руку от него стоял мистер Уокер, подсказывал, как правильно закидывать, помогал, если леска путалась или за что-то цеплялась. По другую руку рыбачила Алиеска. Лени догадывалась, что Эмджей уже спит на ходу.
Как ни было приятно здесь сидеть, упиваясь картиной новой жизни, Лени понимала, что надо собраться с силами и сделать кое-что важное. Она чувствовала это каждую минуту, точно руку на плече, которая мягко напоминала: не уклоняйся.
Лени вылезла из-за стола. Она совсем разучилась определять время по цвету неба — ярко-аметистового, усыпанного звездами, — а потому взглянула на часы: двадцать пять минут десятого.
— Ты куда? — спросил Мэтью, взял ее за руку, но она мягко отстранилась, и он ее отпустил.
— Хочу проведать старый дом.
Он поднялся, наступил на искалеченную ногу и поморщился от боли. Лени понимала, что ему трудно провести целый день на ногах.
Она погладила его по испещренной шрамами щеке:
— Ну, я поехала. Я видела у дома велосипед. Мне просто хочется там постоять. Я скоро вернусь.
— Но…
— Я сама справлюсь. Я же вижу, тебе больно. Останься с Эмджеем. Вернусь, и мы его уложим. Я тебе покажу игрушки, без которых он не засыпает, и расскажу его любимую сказку. Про нас.
Она чувствовала, что Мэтью хочет ей возразить, но это ее прошлое, ее бремя. Она отвернулась, подошла к лестнице и поднялась на лужайку. На веранде дома еще сидели постояльцы, громко разговаривали и смеялись. Наверно, оттачивали рыбацкие байки, которые потом повезут домой.
Лени взяла велосипед из стойки у дома, оседлала его, медленно покатила по топкой торфянистой тропинке, пересекла главную дорогу, повернула направо, к концу дороги.
Показалась стена. Точнее, то, что от нее осталось. Доски разрубили на куски, сорвали со столбов; куча потемневших от времени и непогоды обломков поросла мхом.
Марджи-шире-баржи и Том. Может, Тельма. Лени представила, как они пришли сюда, не помня себя от горя, и топорами разнесли забор в щепу.
Она свернула на подъездную дорожку, которая по колено заросла травой и сорняками. Тьма насосом откачала свет; тишина стояла такая, как бывает лишь в лесу и заброшенных домах. Лени пришлось налечь на педали.
Наконец она выехала на поляну. Слева показался дом. Время и непогода его не щадили, но он устоял. Рядом виднелись пустые, с просевшими крышами загоны для скота; калиток нет, забор сломали хищные звери, внутри, скорее всего, поселились какие-нибудь грызуны. Брошенный во дворе хлам порос высокой травой, пестревшей ярко-розовым иван-чаем и колючей заманихой; там-сям валялись груды ржавого железа и трухлявых дров. Старый пикап осел, припал к земле, точно дряхлый конь. Пирамидой торчала коптильня, серебристые плесневелые доски завалились друг на друга. А вот бельевые веревки, как ни странно, уцелели, и висевшие на них прищепки прыгали на ветру.
Лени слезла с велосипеда, осторожно положила его в траву и направилась к дому, не чувствуя под собой ног. Вокруг зудели комары. На пороге Лени остановилась, подумала: «Ты справишься» — и открыла дверь.
Казалось, она вернулась в прошлое, в первый их день здесь. Тогда пол тоже был усыпан дохлой мошкарой. Все как прежде, только покрылось пылью.
В памяти всплыли слова, голоса, образы из давних лет. Хорошее, плохое, смешное, ужасное. Все молниеносно пронеслось перед глазами.
Она сжала висевшее на шее костяное сердечко, свой талисман, и острый кончик впился в ладонь. Лени бродила по дому, гремела кислотными бусинами, дарившими родителям иллюзию уединения. В их спальне обнаружилась пыльная груда вещей, напомнивших Лени о том, как они когда-то жили. На кровать свалены в беспорядке шкуры. На крюках висят куртки. Стоят ботинки с отъеденными носами.
Лени заметила старую папину бандану с двухсотлетним человеком, сунула в карман. Мамину замшевую ленту для волос повязала на запястье — вместо браслета.
На полу чердака валялись книги с объеденными пожелтевшими страницами, в них явно поселились мыши, как и в ее матрасе. Воняло пометом. Затхлый, противный запах.
Запах забвения.
Лени слезла по лестнице с чердака, спрыгнула на грязный пол, огляделась.
Сколько воспоминаний. Наверно, ей жизни не хватит их перебрать. Она пока не понимала, каково ей здесь, но знала, верила, что сумеет вспомнить и хорошее. Плохое не забудет, но и цепляться за него не станет. «Там было здорово, — сказала мама. — Настоящее приключение».
Дверь за ее спиной открылась, послышались неровные шаги. К ней подошел Мэтью.
— Нечего тебе одной, — только и сказал он. — Хочешь. Отремонтируем? Будем здесь жить?
— Почему нет. Или сожжем и выстроим новый дом. Зола — отличное удобрение.
Она и сама пока не понимала, чего хочет. Знала лишь, что после стольких лет разлуки наконец вернулась в тайгу, где обитает диковатый стойкий люд, в края, не похожие на другие, к величественной красоте, которая ее сформировала. Давным-давно она переживала из-за того, что исчезали девушки немногим старше ее самой. В тринадцать лет ей из-за этого снились кошмары. Теперь же она поняла, что существует масса способов пропасть, но куда больше — найтись.
* * *
Прошлое от настоящего отделяет тончайшая пелена, они живут в душе бок о бок. В прошлое перенестись легко — достаточно запаха моря в отлив, криков чаек, бирюзовой реки, что течет с ледников. Ветер доносит голос: правда или обман чувств? Здесь возможно и то и другое.
Жарким летним днем полуостров Кенай поражал буйством красок. На небе ни облачка. Горы — волшебная смесь бледнолилового, зеленого и голубого, как лед: долины, скалы, пики; там, где кончались леса, снег еще не сошел. Залив — лазурное зеркало, по которому лишь изредка пробегала рябь. По воде сновали десятки рыбацких лодок, каяков, каноэ. В такой день аляскинцам не сиделось на берегу. Лени знала, что весь Би-шопс-Бич, прямой песчаный берег под русской церковью в Хомере, сегодня запрудят пикапы, пустые лодочные прицепы, а некоторые безмозглые туристы будут гулять по берегу, искать съедобных моллюсков и так увлекутся, что угодят в приливную волну.
Есть вещи, которые не меняются.
Лени с Мэтью постояли на заросшем дворе ее старого дома, потом вместе вышли на травянистый холмик над берегом, здесь их уже ждали мистер и миссис Уокер, Алиеска и Эмджей. Алиеска улыбнулась Лени приветливо и тепло, словно хотела сказать: «Теперь мы вместе. Мы семья». За последние два дня, в вихре возвращения Лени на Аляску, им некогда было поговорить, но обе знали, что еще успеют пообщаться, сшить ткань жизней воедино. Это будет несложно, ведь их объединяют любимые люди.
Лени взяла сына за руку.
На берегу ее ждала толпа. Лени почувствовала, что на нее смотрят, отметила, что при ее приближении все смолкли.
— Мам, смотри, тюлень! Там рыбка выпрыгнула из воды! Ух ты. А мы сегодня с папой поедем на рыбалку? Тетя Али говорит, что лосось еще идет.
Лени оглядела друзей на берегу. Здесь собрался почти весь Канек, даже отшельники, которые заглядывали только в салун да изредка в универмаг. При ее появлении никто не проронил ни слова. Все расселись по лодкам. Лени слышала, как плещет волна о борт, как захрустели ракушки и галька, когда лодки спихнули в воду.
Мэтью подвел ее к плоскодонке. Надел на Эмджея яркожелтый спасательный жилет, усадил его на носу вперед спиной. Лени расположилась на корме. Они поплыли к остальным. Мэтью сидел посередине, на веслах.
Ясным солнечным ранним вечером в заливе стоял штиль. V-образный фьорд казался величественно-прекрасным в этом свете.
Лодки вышли из бухты и плыли рядом, порой стукаясь бортами. Лени огляделась. Том с новой женой, Аткой Уокер; Алиеска с мужем Дэрроу и сыновьями, близнецами-трехлетками; Марджи-шире-баржи, Натали Уоткинс, Тика Роудс с мужем, Тельма, Малышка, Тед, все Харланы. Лица ее детства. И ее будущего.
Лени почувствовала, что все взгляды обращены к ней. Она вдруг подумала, как счастлива была бы мама, если бы знала, что столько людей захотят с ней попрощаться. Догадывалась ли она, как они ее любят?
— Спасибо, — произнесла Лени, но неловкое это словцо затерялось в плеске волн о лодочные борта. Что же сказать? — Я не знаю, как…
— Просто расскажи о ней, — негромко посоветовал мистер Уокер.
Лени кивнула, вытерла глаза и заговорила так громко, как сумела:
— Пожалуй, не сыщешь другой женщины, которая приехала бы на Аляску настолько неподготовленной. Мама не умела ни готовить, ни хлеб печь, ни варенье варить. До приезда на Аляску ее навыки выживания ограничивались способностью приклеивать накладные ресницы и ходить на каблуках. Она даже привезла сюда крошечные фиолетовые шорты.
Лени вздохнула.
— Но она полюбила Аляску. Мы обе ее полюбили. Перед смертью мама мне сказала: «Возвращайся домой». И я поняла, что она имела в виду. Если бы она увидела, что вы собрались здесь ради нее, улыбнулась бы своей ослепительной улыбкой и сказала бы: лучше идите пить и танцевать. Вручила бы Тому гитару, спросила бы Тельму, каких глупостей та наделала, а Мардж задушила бы в объятиях. — Лени осеклась и огляделась, вспоминая. — Она была бы счастлива, что вы нашли время и собрались здесь, чтобы ее помянуть, оставив все дела. И попрощаться с ней. Она мне однажды сказала, что чувствует себя пустым местом, отражением других людей. Она так и не научилась себя ценить. Надеюсь, сейчас она смотрит на нас сверху и наконец понимает… как сильно ее любили.
Все согласно забормотали, несколько слов — и снова тишина. Глубокая скорбь молчалива и одинока. Отныне Лени будет слышать мамин голос лишь в воспоминаниях, мыслях, что текут в сознании, снова и снова пытаясь нащупать связь и смысл. Как все девушки, потерявшие мать, Лени будет копаться в душе, стараясь найти утраченную часть себя — мать, которая носила, кормила, любила ее. Лени станет и матерью, и ребенком. В ее душе мама доживет до старости и не умрет, пока Лени ее помнит.
Марджи-шире-баржи бросила в воду букет.
— Нам тебя не хватает, Кора, — сказала она.
Мистер Уокер бросил в море букет иван-чая. Тот ярко-розовым пятном проплыл мимо Лени.
Мэтью поймал ее взгляд. У него в руках был букет люпинов и иван-чая, который они утром собрали с Эмджеем.
Лени достала из коробки банку с пеплом. На одно прекрасное мгновение мир расплылся перед глазами, ей явилась мама, улыбнулась лучистой улыбкой, толкнула дочь бедром и сказала: «Давай танцуй».
Лени окинула взглядом лодки — яркие пятна на сине-зеленом фоне.
Открыла банку и медленно высыпала пепел в воду.
— Я люблю тебя, мама, — проговорила Лени, чувствуя, как в душе пускает корни печаль; теперь она так же неотделима от нее самой, как и любовь.
Они с мамой были не просто друзьями — они были союзниками. Мама говорила, что любит Лени больше всех на свете. Наверно, все родители так любят детей, подумала Лени. Она вспомнила, как мама ей сказала: «Любовь не тускнеет и не умирает». Она тогда говорила о Мэтью, но то же самое можно сказать о детях и матерях.
Она любила маму, сына, Мэтью и всех, кто сейчас собрался вокруг нее, крепкой и долговечной любовью, безграничной, как здешний простор, неизменной, как море. И чувство это было сильнее времени.
Лени наклонилась, бросила в воду розовый иван-чай; волна понесла букет к берегу. Лени проводила цветы взглядом. Она знала, что отныне будет чувствовать мамину ласку в дуновении ветерка, слышать ее голос в плеске прибоя. Быть может, порой расплачется, когда пойдет за ягодами, когда будет печь хлеб или почует запах свежего кофе. До конца своих дней она будет поднимать глаза в необозримое аляскинское небо, говорить: «Привет, мам» — и вспоминать.
— Я всегда буду тебя любить, — прошептала она ветру. — Всегда.
МОЯ АЛЯСКА
4 июля 2009 года
Ленора Олбрайт Уокер
Если бы в детстве мне сказали, что в один прекрасный день ко мне придут из газеты, чтобы побеседовать об Аляске в честь пятидесятой годовщины признания ее штатом, я бы рассмеялась. Кто бы мог подумать, что мои фотографии так полюбятся людям? И что мой снимок нефтяного пятна из танкера «Эксон Вальдес» попадет на обложку журнала и изменит всю мою жизнь?
Вообще-то вам лучше было бы пообщаться с моим мужем. Вот уж кто сумел преодолеть все трудности, на которые щедр наш штат, и остаться в живых. Он как те деревья, что растут на отвесных гранитных скалах. Ветер, снег и морозы могли бы их повалить, однако ж деревья не падают. Держатся, несмотря ни на что. И цветут.
Я самая обычная мама и жена и горжусь в основном своими детьми, а также тем, что сумела обустроить жизнь в здешних суровых краях. Однако моя история глубже, чем кажется на первый взгляд, — впрочем, как у любой женщины.
Семья моего мужа — фактически здешняя знать. Его дед с бабкой обустроились в глухой тайге; у них не было ничего, кроме топора и мечты. Настоящие американские первопроходцы, они освоили участок в сотни акров, основали город и поселились в нем. Мои дети, Эмджей, Кенай и Кора, четвертое поколение семьи, которое живет на этой земле.
Моя семья была совсем другой. Мы приехали на Аляску в семидесятых. Время было неспокойное: демонстрации протестов, теракты, похищения людей. То и дело пропадали студентки. Война во Вьетнаме разделила страну.
От такой вот жизни мы и бежали на Аляску. Как многие чи-чако до и после нас, подготовлены мы были плохо. Ни денег, ни подходящей одежды, ни припасов. Мы толком ничего не умели. Перебрались в хижину в отдаленном уголке полуострова Кенай и быстро поняли, что совершенно не приспособлены. Даже машину (у нас тогда был микроавтобус «фольксваген») выбрали неудачно.
Мне как-то сказали, что Аляска не воспитывает характер, а выявляет.
Как ни прискорбно в этом признаваться, но здешний мрак выявил мрак в душе моего отца.
Он воевал во Вьетнаме, был в плену. Тогда мы не понимали, что это значит. Теперь знаем. Наука не стоит на месте, мы научились помогать таким, как мой отец. Мы понимаем, что война способна сломить даже сильных духом. Тогда же помощи ему ждать было неоткуда. Впрочем, как и женщине, которая стала его жертвой.
Здешняя глушь с ее темнотой и морозами ужасно повлияла на отца, превратила его в дикого зверя, как те, что обитают в тайге.
Но тогда мы об этом и подумать не могли. Да и откуда нам было знать? Мы, как и многие другие, мечтали, прокладывали маршрут, потом прикрепили на автобус плакат с надписью «Аляска или смерть!» и отправились на север, совершенно не подозревая, что нас там ждет.
Этот штат, этот край не похож ни на один другой. Он прекрасен и ужасен, он и губит, и спасает. Здесь, где снова и снова приходится выбирать, жить или умирать, в самом глухом уголке Америки, на окраине цивилизации, где вода во всех своих формах может тебя убить, понимаешь, кто ты такой. Не кем хочешь быть, кем себя считаешь или кем тебя воспитали. Все это уничтожат месяцы леденящей темноты, когда в подернутое инеем окно толком ничего не разглядеть, мир сжимается, и ты вдруг постигаешь истину о себе. Понимаешь, на что способен, чтобы выжить.
Этот урок — это откровение, как мама мне когда-то сказала о любви, — великий и ужасный дар Аляски. Тех, кто приехал сюда исключительно за красотой, за какой-то выдуманной жизнью, тех, кто ищет здесь убежища, неминуемо ждет разочарование.
На необозримых просторах здешней непредсказуемой тайги люди либо открывают лучшее в себе и расцветают, либо с воплями сбегают от мрака, холода и трудностей. Третьего не дано. Здесь, в бескрайней глуши, о безопасности не может быть и речи.
Для нас, тех немногих, кто крепок и силен, для мечтателей Аляска раз и навсегда становится домом, песней, которую слышишь, когда все вокруг замирает и затихает. Ты либо становишься частью этой земли, такой же дикий и неукротимый, как она, либо нет.
Я стала.
Благодарности
В роду у меня немало искателей приключений. Мой дед в четырнадцать лет уехал из Уэльса в Канаду и стал ковбоем. Отец всю жизнь ищет диковинное, необычное, далекое. Он бывает в таких местах, о которых многие лишь мечтают.
В 1968 году отец понял, что в Калифорнии становится слишком людно. И они с мамой решили: надо что-то делать. Сели вмести с тремя детьми, двумя друзьями и собакой в микроавтобус «фольксваген» и жарким летом отправились в дальние края. Мы проехали по Америке, через дюжину с лишним штатов, присматриваясь, где можно обосноваться. И нашли такое место посреди голубой и зеленой красоты на северо-западе, на берегу Тихого океана.
Много лет спустя отец снова отправился на поиски приключений. И нашел их на Аляске, на берегах величественной реки Кенай. Там мои родители познакомились с поселенками Лорой и Кэти Педерсен, матерью и дочерью, которые много лет управляли гостиницей на этих несравненных берегах. В начале восьмидесятых годов два наших семейства первопоселенцев объединились и основали компанию, ныне известную как Great Alaska Adventure Lodge. В этой гостинице работали и работают три поколения моей семьи. Все мы влюбились в Последний рубеж.
Мне бы хотелось поблагодарить Джонсов: Лоренса, Шэрон, Дебби, Кента и Джули, а также Кэти Педерсен Хейли — за безграничный энтузиазм, талант и мастерство, которые позволили создать это волшебное место.
Мне также хотелось бы поблагодарить Кэти Педерсен Хейли и Аниту Меркес за профессионализм: именно они помогли мне воссоздать мир жителей Аляски и залива Качемак семидесятых-восьмидесятых годов и при необходимости меня редактировали. Ваша прозорливость и поддержка очень много для меня значат. А если в книге и остались ошибки, так это исключительно моя вина.
Также я хочу поблагодарить моего брата Кента (он тоже любит приключения), который отвечал мне на нескончаемый поток самых неожиданных вопросов об Аляске. Ты, как всегда, рок-звезда.
Спасибо Карлу и Кирстен Диксон и волшебной команде гостиницы Tutka Bay Lodge в заливе Качемак за гостеприимный прием в их дивном уголке мира.
Также хотелось бы поблагодарить тех замечательных людей, которые оказали мне неоценимую помощь в работе над романом, особенно в самые трудные времена, когда я была готова все бросить. Мой блистательный редактор Дженнифер Эндерлин терпеливо ждала, при необходимости давала советы и снова терпеливо ждала. Я невероятно признательна вам за поддержку и за то, что дали мне дополнительное время. Спасибо Джилл Мэри Лэндис и Джилл Барнетт, которые поддерживали меня, когда я в этом особенно нуждалась, спасибо Энн Пэтти, которая научила меня доверять себе, спасибо Андреа Чирилло и Меган Чанс, которые всегда готовы мне помочь, спасибо Ким Фиск, которая с самого начала верила в эту историю и в то, что она должна разворачиваться именно на Аляске, и ни разу не побоялась мне в этом признаться.
Спасибо Таккеру, Саре, Кейли и Брейдену. Вы расширили мои границы любви, открыли для меня новый мир в середине жизни.
И наконец, спасибо моему мужу Бенджамину, с которым мы живем вот уже тридцать лет. Ты поддерживал меня с тех самых пор, как я решила стать писателем, без твоей помощи и любви у меня ничего не получилось бы. Лучшее, что я сделала в жизни, — это влюбилась в тебя.
Примечания
1
«Обитатели холмов» (Watership Down) — роман-сказка Ричарда Адамса. — Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
ЭСТ-тренинг (от англ. Erhard Seminars Training) — экстраординарные 60-часовые групповые семинары по личностному переосмыслению, разработанные американцем-самоучкой — продавцом книг и автомобилей Вернером Эрхардом (р. 1935). Проводились с 1971-го по 1991 гг., в том числе за пределами США.
(обратно)3
Унитарианство — движение в протестантизме, отвергающее догмат Троицы.
(обратно)4
«Частичка моего сердца» (Piece of My Heart) — популярная песня, которую впервые исполнила в 1967 г. Эрма Франклин, а через год — Дженис Джоплин.
(обратно)5
«Синоптики» (Weatherman) — леворадикальная террористическая группировка, которая действовала в США в 1969–1977 гг.
(обратно)6
Патрисия Кэмпбелл Хёрст (р. 1954) — внучка Уильяма Рэндольфа Хёрста, миллиардера и газетного магната.
(обратно)7
Симбионистская армия освобождения — леворадикальная организация, действовавшая в США с 1973 по 1975 г.
(обратно)8
«Зов предков» — роман Джека Лондона.
(обратно)9
Прозвище штата Аляска.
(обратно)10
«Помешан на чувстве» (Hooked on a Feeling) — популярная песня, написанная Марком Джеймсом.
(обратно)11
В США в 1970–1976 гг. продавали браслеты в память о тех, кто попал в плен или пропал без вести во время войны во Вьетнаме. На браслете гравировали имя, звание и дату, когда исчез военнослужащий.
(обратно)12
«Полночь в оазисе» (Midnight at the Oasis) — популярная эстрадная песня авторства Дэвида Нихтерна. Исполняла американская фолки блюз-певица Мария Малдор.
(обратно)13
Традиционное лакомство из печенья, шоколада и маршмеллоу, запекается на костре.
(обратно)14
Лора Инглз Уайлдер (1867–1957) — американская писательница, автор книг для детей о первопоселенцах на Диком Западе.
(обратно)15
Джонни Эпплсид (настоящее имя Джонатан Чепмен, 1774–1845) — американский первопоселенец и христианский миссионер, чей образ вошел в фольклор.
(обратно)16
Так на Аляске называют 48 континентальных штатов и федеральный округ Колумбия.
(обратно)17
«Партия черных пантер» — афроамериканская леворадикальная организация, боровшаяся за права чернокожего населения США. Действовала с середины 1960-х по 1970-е годы.
(обратно)18
4,27 на 4,27 м.
(обратно)19
Речь о продаже Аляски. От США договор заключал государственный секретарь Уильям Сьюард, и критики вменяют ему в вину, что приобретение в дальнейшем не окупилось и в целом было бесполезным.
(обратно)20
Франклин Патрик Герберт-младший (1920–1986) — американский писатель-фантаст, автор цикла «Хроники Дюны».
(обратно)21
«Чужак в чужой стране» — фантастический роман Роберта Хайнлайна.
(обратно)22
Героини романа «Энн из Зеленых крыш» канадской писательницы Люси Монтгомери.
(обратно)23
Герои романа «Изгои» американской писательницы С. Е. Хинтон.
(обратно)24
«Еще одно развлечение у дороги» (Another Roadside Attraction) — юмористический роман американского писателя Тома Роббинса.
(обратно)25
Чугачские горы, или Чугач, — горный массив на Аляске.
(обратно)26
«Король дорог» (King of the Road) — песня американского кантри-певца Роджера Миллера (1936–1992).
(обратно)27
Имеется в виду английский король Иоанн Безземельный (годы правления — 1199–1216), подписавший Великую хартию вольностей.
(обратно)28
Песня американского фолк-рок-певца Джона Денвера (1943–1997).
(обратно)29
Имеется в виду популярная песня Get Happy композитора Гарольда Арлена. Была музыкальной темой сериала «Семейка Партридж».
(обратно)30
Роберт Уильям Сервис (1874–1958) — британско-канадский поэт и писатель, которого часто называют «бардом Юкона».
(обратно)31
Имеется в виду стихотворение Роберта Уильяма Сервиса «Убийство Дэна Макгру».
(обратно)32
Строки из стихотворения Роберта Уильяма Сервиса «Закон Юкона».
(обратно)33
Маркировка гвоздей в Англии и Америке.
(обратно)34
Глория Мари Стайнем (р. 1934) — известная американская феминистка, журналистка, социально-политическая активистка.
(обратно)35
Лени имеет в виду акцию протеста против конкурса «Мисс Америка» в 1968 году. На самом деле феминистки ничего не сжигали, они всего лишь демонстративно выбросили лифчики в мусорный бак.
(обратно)36
То есть предпоследнем (по американской системе обучения).
(обратно)37
Чаудер — густой суп, обычно из рыбы или моллюсков, с молоком или сливками.
(обратно)38
Речь о катастрофе, которая произошла 8 сентября 1974 года: самолет Boeing 707 авиакомпании Trans World Airlines (TWA), выполнявший рейс Тель-Авив — Афины — Рим — Нью-Йорк, взорвался над Ионическим морем, потому что террористы заложили бомбу в хвостовую часть судна.
(обратно)39
ООП — Организация освобождения Палестины.
(обратно)40
Здесь и далее температура приводится по шкале Цельсия.
(обратно)41
«Дневник Алисы» (Go Ask Alice) — скандально известный дневник 15-летней наркоманки, вышедший в 1971 году. Автор — предположительно Беатрис Спаркс.
(обратно)42
Имеется в виду маунтинмен, охотник с Дикого Запада.
(обратно)43
Мак-Карти — статистически обособленная местность в зоне переписи населения Валдиз — Кордова на Аляске.
(обратно)44
Эли Макгроу играла главную роль в фильме «История любви» (1970).
(обратно)45
Легкий одномоторный транспортный самолет. Выпускался в 1947–1967 гг.
(обратно)46
Энни Оукли (1860–1926) — знаменитая женщина-стрелок.
(обратно)47
Песня американского фолк-рок-исполнителя Джима Кроче.
(обратно)48
Карточная игра. Победившим считается тот игрок, который первым избавится от своих карт.
(обратно)49
Речь о Трансаляскинском нефтепроводе в боро Норт-Слоуп, который называется так потому, что расположен на северном склоне горного хребта Брукс-Рейндж.
(обратно)50
Американский производитель сельскохозяйственной техники и грузовиков.
(обратно)51
Малая лига бейсбола и софтбола — некоммерческая организация, которая организует бейсбольные и софтбольные команды в школах США и всего мира. В Малой лиге играют, как правило, дети 9—12 лет.
(обратно)52
«Аляска Эйсез» — профессиональный хоккейный клуб.
(обратно)53
Перестрелка у корраля О’Кей (26 октября 1881 г.) на территории (тогда еще не штата) Аризоны — один из самых известных эпизодов в истории Дикого Запада.
(обратно)54
Строка из песни Эрика Клэптона Lay Down Sally.
(обратно)55
Шесть футов два дюйма — 188 см.
(обратно)56
Песня группы Eagles.
(обратно)57
«Конец детства» — научно-фантастический роман Артура Кларка.
(обратно)58
«Трехпенсовыми» называют гвозди длиной 1 и 1/8 дюйма.
(обратно)59
Здесь: лекарством.
(обратно)60
Уорд Кливер-младший — герой популярного американского ситко-ма «Проделки Бивера» (в другом переводе — «Предоставьте это Биверу»), хрестоматийный «правильный отец», добропорядочный буржуа, который читает детям нотации.
(обратно)61
Дж. Р Толкин. «Властелин колец». Перев. М. Каменкович и В. Кар-рика.
(обратно)62
Акутак — блюдо, которое называют «эскимосским мороженым»; холодный десерт на основе животного или растительного жира с добавлением ягод или фруктов.
(обратно)63
День труда празднуется в США в первый понедельник сентября.
(обратно)64
Имеется в виду герой одноименной повести Айзека Азимова.
(обратно)65
Строка из стихотворения Роберта Сервиса «Убийство Дэна Макгру».
(обратно)66
Ночной клуб в Анкоридже.
(обратно)67
Водный путь в северо-западной части залива Кука.
(обратно)68
Игра с мячом.
(обратно)69
Хэнфордский комплекс — завод по производству радиоактивных материалов, расположенный на реке Колумбия в штате Вашингтон. В настоящее время не работает.
(обратно)70
Джон Мьюр (1838–1914) — американский натуралист, писатель, защитник дикой природы.
(обратно)71
Илиамна — действующий вулкан на Аляске.
(обратно)72
Ивонн Уонроу (р. 1943) — индеанка, которая в 1972 г. убила человека, пытавшегося изнасиловать ее малолетнего сына.
(обратно)73
«Интервью с вампиром» — роман из цикла «Вампирские хроники» американской писательницы Энн Райс.
(обратно)74
Эдвард Бридж «Тед» Дэнсон III (р. 1947) — популярный американский актер, исполнитель главной роли в ситкоме «Веселая компания».
(обратно)75
Центр исследований раковых заболеваний, расположен в Сиэтле.
(обратно)76
«Там, где живут чудовища» — популярная книга американского писателя и художника Мориса Сендака.
(обратно)77
Джон Уэйн (1907–1979) — американский актер, играл во многих вестернах.
(обратно)78
Перевод Т. Майсака.
(обратно)79
Франсуа Анри «Джек» Лалэйн (1914–2011) — американский диетолог и натуропат, пропагандировал здоровый образ жизни. С 1951 по 1985 г. вел телешоу о здоровье.
(обратно)80
Строка из популярной песни Take Another Piece of My Heart, авторы Джерри Раговой и Берт Бёрнс.
(обратно)

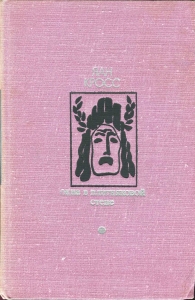
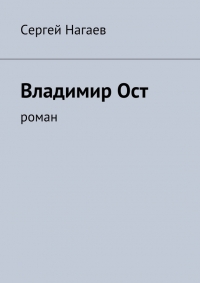






Комментарии к книге «С жизнью наедине», Кристин Ханна
Всего 0 комментариев