Вячеслав Борисович Репин Хам и хамелеоны Роман. Том II
© Вячеслав Борисович Репин, 2017
ISBN 978-5-4485-1480-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ТОМ II
Часть третья НОХЧИ
…Инарк родил Идриса от Миндос, Идрис родил Дуку и Хожу от Айны, Хожа родил Умалта от Рахимат, Умалт родил Дэни от Рахимы, Дэни родил Кади от Палады, Кади-Хаджа родил Алавди от Хавы. Алавди Кадиев родил сыновей Лечу, Бувади и Дато Кадиевых…
Инарк, седьмой предок рода Кадиевых из энгенойцев, родом был из самого Энгеноя, но полжизни провел в Сванетии, куда родители бежали с детьми, спасаясь от кровной мести, объявленной роду из-за проступка дальнего родственника. Ружейных дел мастер, в родной Энгеной Инарк вернулся с многочисленным потомством. Инарк прожил семьдесят шесть лет и первым в роду принял ислам.
Один из сыновей Инарка, Идрис, занимался пчеловодством, разводил скот, а под конец жизни держал табун лошадей и поставлял скакунов воюющим на стороне Шамиля. Старший сын Идриса, Дуку, стал приближенным имама. Служить Шамилю Дуку пошел как самый старший и самый крепкий из сыновей по решению старейшин рода, выделявших на борьбу с казачьими поселениями по одному сыну от каждого семейства. Дуку погиб в 1839 году в ауле Ахульго во время осады русским экспедиционным корпусом укреплений Шамиля. Младший сын Идриса Хожа, проживший до шестидесяти пяти лет, жизнь свою отдал тому же Шамилю: он стал доверенным лицом Идиля Веденского, одного из ближайших наибов имама. Оставив после себя многочисленное потомство, Хожа закончил жизнь на сибирской каторге, куда был сослан после пленения Шамиля, обвиненный в сговоре против русских властей.
Сын Хожи Умалт жил восемьдесят пять лет. Многие годы прослужив смотрителем мечети, он до конца своих дней оставался приближенным муллы Ташу-Хаджи. У Умалта было два сына и две дочери. Дэни, младший сын, принимал участие в Турецкой войне. Старший сын, ученик дагестанского шейха Апти, погиб при покушении на муллу Ташу-Хаджи. Одна из дочерей Умалта вышла замуж за известного и правоверного мусульманина, правую руку Ташу-Хаджи…
У Дэни было четыре сына и пять дочерей. Двое сыновей умерли в отроческие годы. Третий сын завербовался на службу в английский флот и на родину не вернулся; он служил на английском крейсере и погиб в морском сражении у Ревеля. Младший сын Кади, впоследствии Кади-Хаджи (до войны, уже в советское время, он совершил паломничество в Мекку), в сорок четвертом году был депортирован в Северный Казахстан, провел в ссылке более десяти лет, а по возвращении на родину занимался разведением скота, как и его предки.
Сын Кади-Хаджи Алавди, единственный мальчик из пятерых детей, стал судебным экспертом. Алавди Кадиев женился на терской чеченке из рода кей и всю жизнь провел в Притеречье. Его старший их сын Леча родился в 1963 году. Жена умерла при родах второго сына, Бувади. Третий сын появился на свет позднее… Трагическое невезение в браке преследовало Кадиева-старшего всю жизнь. Он женился трижды. Одна за другой его жены уходили из жизни, не дожив до сорока. Вне брака Кадиев-старший прижил еще одного ребенка, тоже мальчика. Матерью его была Майсет Ахобадзе, чеченка из бацбийцев — чеченского рода, проживающего в Грузии…
Глаза не успевали привыкать к неумолимо быстрой смене красок. И эта вечная картина — вечернее отдохновение природы — всегда почему-то завораживала с прежней силой. Ночь в горах надвигалась, как занавес. На западе склоны еще омывали лучи предзакатного солнца, день еще держался, на последнем дыхании окрашивая багрянцем контуры миров — видимого и невидимого, а на востоке всё неудержимо поглощала непроглядная мгла. В какой-то момент очертания лесистых сопок начинали проступать отчетливее, как будто попадали в фокус, и горы вырастали в размерах, а затем буквально за секунды темнело. Лес, горы и небо — всё заплывало фиолетовой мутью. Занавес падал…
Годы назад, Леча Кадиев имел возможность наблюдать нечто подобное в лондонском «Ковент-Гардене». Едва лишь в сознание вкрадывалась догадка, что освещение в зале меркнет, как под ногами уже начинало плыть. С непривычки казалось, что накатывает обморок, и не сразу удавалось взять себя в руки. Хотелось сорваться с места и броситься к выходу. Но удерживала какая-то уму непостижимая внутренняя потребность быть как все, страх оказаться отбившимся от стада. Откуда в душе эта мякоть?.. Есть в толпе что-то подавляющее, нечто парализующее волю к сопротивлению. Но именно поэтому, попадая в нее, иногда быстрее трезвеешь…
Еще студентом Северного лондонского университета, в те времена, когда весь досуг сводился к кино да джазовым пабам, посещать которые доводилось раз в полгода, поскольку шиковать особенно не приходилось, Леча Кадиев единственный раз на своем веку попал на балетный спектакль. Друзья англичане, уговорившие его раскошелиться за компанию на привозную «Спящую красавицу», пообещали показать Лече живого Нуриева и на протяжении всего спектакля не переставали удивляться парадоксам эпохи, а заодно подтрунивали над неотесанностью выходца из бывшего Советского Союза… Взгляни, мол, Леча, на фамилии, которыми пестрит программка! Ты только посмотри, что творится при всем честном народе: какой год отмечен в календаре, а русские по сей день платят дань инородцам! Вчера — понятное дело: попробуй не отдай последнее, когда над душой стоит монгол с секирой. Но сегодня — и уговаривать никого не приходится. Без иноземцев, без их вклада в «литературу и искусство» шестой части суши, не было бы, дескать, в России культуры. Народ здесь по сей день водил бы хороводы, распевая «ай-люли-ай-люли». Так что пора, мол, называть вещи своими именами. Чеченцы, русские, монголы, татары, чучмеки… — все вы одна компания. Все одним лыком шиты. Только вот понять этого не хотите, а уж тем более — смириться со своей судьбой, как с данностью. Вчерашние варвары, вы, дескать, вылезли со дна одной компостной ямы, на которую, хочешь того или нет, похожа вся мировая история…
Знаменитый его «земляк», как назвали Нуриева лондонские друзья Лечи, действительно сидел в соседней ложе, да еще и время от времени на него поглядывал. Ты чего, мол, уставился? Прославленный на весь свет артист выглядел больным. Вряд ли только он приходился Лече земляком, на этот счет друзья заблуждались. Внешностью — вылитый тат, правда, вскормленный на чужбине, да и породистый. Но попробуй объясни слепо-глухо-немому, что чеченец — другого поля ягода и что при всем желании не может он, выходец из рода кей и Кадиевых, полюбить эту плоскую, как лепешка, страну, в которой все равны — и таты, и чеченцы, — заселенную будто бы великим, а в действительности закомплексованным, меркантильным, мелочным народом, эксцентричность которого прямо пропорциональна чопорному менталитету его самых типичных представителей…
Что-то предначертанное, судьбоносное чувствовалось в то время даже в лондонском смоге. Хотя спектакль для Лечи только начинался. Помесь не культур и не традиций, а как бы одних поверий. Отсутствие корней, безродность, бескровие… — в Англии это воспринималось как никогда остро. Поэтому и жить в этой стране было в общем-то сложнее, чем принято считать. Объединяло здесь всех разве что единообразие серости, общая на всех, замешанная на культе вещей усредненная культура: не выше, не ниже, не больше, не меньше — этакая нива не ахти какой урожайности, но ни в коем случае не бесплодная. И вот вопрос: нуждается ли мир чем-то большем?..
Каким образом именно магометане, единоверцы Лечи, умудрялись вносить в эту культуру столь весомый вклад, ведь она была им абсолютно чужда? Сколько раз Леча не задавался этим вопросом, столько раз он поражался всё тем же парадоксам: вносили и еще какой! В том, что это действительно так, легко удостовериться, даже будучи Фомой неверующим. Вот хотя бы — глядя на «земляка», пусть забывшего, кто он и откуда. Каким образом магометанам это удавалось? За счет свойственного им от природы «абсолютного слуха»? За счет врожденного эстетства, корнями своими уходящего на Восток, который одних облачает как аура, помечая печатью аристократизма, на других же бросает тень, выделяя в человеке неискоренимую чернь его плебейской природы? Разве не примесь восточных кровей вознесла на вершины мировой славы культуру многих христианских стран, в том числе русскую?
Мир действительно живет парадоксами. Кровь инородца, в которой и эллин, и воинственный ариец не прочь были бы, вернувшись из похода, попарить ноги, спасала мир от затхлости, от скапливающейся в нем гнойной порчи, от кровосмесительного греха, от вырождения…
Впрочем, сегодня в реальность мог воплотиться любой самый умопомрачительный миф. Даже собственная жизнь, каждый прожитый день, походила на какое-то платное зрелище с закрученным сюжетом. О финале приходилось лишь догадываться. Это входило в стоимость. И чем дальше, тем всё более мутной представлялась перспектива благополучной развязки. Да и бывает ли у таких историй счастливый конец? В таком случае, зачем ждать занавеса? Побыстрее вырваться из замкнутого круга, исчезнуть — не самый ли разумный это выход? Но и тут что-то останавливало. Ноги, тело, сам разум не давали выбраться из какой-то вязкой тины всё того же загадочного менталитета толпы: вроде бы невозможно смириться со своей участью и в то же время невозможно бороться… Сдерживало не бремя инертной массы людской, этой протоплазмы покорившихся своему жребию. Парализующее действие оказывал даже не отрицательный заряд безысходности и не потребность разделить судьбу с родом своим, из лучших патриотических побуждений: ничего стимулирующего в отстое коллективной судьбы нет и никогда не было, инстинкт самосохранения в человеке всегда сильнее… Останавливали не запертые двери, даже если сегодня не вызывало сомнений, что забаррикадировали их снаружи и что на этот раз в заложниках оказались все: зрители у актеров, актеры у зрителей. Сам постановщик — как в том проклятом театре с сортиром на месте оркестровой ямы, который едва не превратился в облако, где жертвами сделали палачей, а палачей прочили в жертвы, — даже он стал заложником собственного безумия, так что ничего другого впоследствии не оставалось, кроме как выдавать умопомешательство режиссера за неудержимую творческую фантазию…
Но выбор всё же пришлось сделать. С прошлого года, как только стало ясно, что уехать с родного Кавказа предстоит нескоро, Леча Кадиев внял наконец и разуму, и сердцу одновременно: бороться с судьбой бессмысленно. И сразу всё встало на свои места. Сразу стало ясно, что пора покончить с конспирацией и жить под своей настоящей фамилией. Кличка Англичанин — недаром проучился в Лондоне три года — за это время приросла к Лече намертво, она и фигурировала в федеральных картотеках. Лишь немногие знали, что Кадиев и Англичанин — это одно и то же лицо. Но если уж воевать — то с открытым забралом, чтобы противник видел не маску, а лик человеческий. Воюющий без имени немногим отличается от собаки в наморднике…
Шел пятый год со дня приезда Лечи домой в Чечню на похороны отца, которого, по официальной версии властей, «сдуру» пристрелил русский солдатик. О смерти отца говорили всякое. Не верить вроде было невозможно, а верить — не хотелось. Поговаривали, что расправу над стариком учинили свои же — чеченцы. Машину изрешетили из автоматов будто бы боевики, а не отмороженный призывник с блокпоста. «Инцидент» произошел на выезде из Ярышмарды, в тот момент, когда, возвращаясь в город из села, отец пересек заграждение федералов. Нападавшие использовали калибр федералов 5,45. У моджахедов такие автоматы пока водились редко. Убили же старика, как поговаривали, «для профилактики», слишком открыто заигрывал в миролюбие и чтобы другим местным «миротворцам» было неповадно кичиться доморощенным пацифизмом, — пора, мол, понять, кто теперь в республике хозяин…
Могила отца, наспех сооруженная родственниками, выглядела убогой. На ней даже не поставили памятника. В последние годы в Чечне такое встречалось сплошь и рядом. Да и где теперь настоящие кладбища? Погосты разрастались на отшибе от бывших мест захоронения.
Смерть отца не была концом всех бед. Чашу горя и зла предстояло испить до последней капли. Холмик на могиле не успел осесть, как грянула новая трагическая весть: погиб Бувади, младший брат. Через неделю после ареста в Грозном родне вернули тело, попавшее в больничный морг из «фильтра». Труп семье продали: сделку предложил нечистый на руку капитанишка, промышлявший на «похоронных услугах» между Моздоком и местной комендатурой. Фильтрационный пункт возле станицы Ассиновская уже тогда снискал себе дурную славу, и Кадиевым недвусмысленно посоветовали поменьше докапываться.
В который раз Леча Англичанин слушал подробности гибели брата, и в который раз он чувствовал, как внутри у него отнимаются все внутренности. От гнева и бессилия. От неукротимого, адского желания мстить — всем и за всех… Зачистку проводила солдатня с размалеванными черной краской физиономиями — судя по форме, вэдэвэшный спецназ. Всех задержанных мужчин согнали к грузовикам и, связав им руки, заставили влезть в КамАЗ. По рассказам, федералы набили в кузов тридцать человек. Везли лежа. Для троих дорога на «фильтр» стала последней. В их числе оказался и Бувади. Брат задохнулся под кучей тел. Ему едва исполнилось двадцать пять…
Сознание отказывалось мириться с реальностью происходящего. Мир вывернулся наизнанку. Или, как какой-то грязный пузырь, просто лопнул. Сатана творил свое дело, и преградить ему путь не мог уже никто…
Тлен и прах, зловоние, груды щебня, металлолома, тучи пыли и дыма, сиротство, голод, нищета… — вот что осталось на месте дома, родной школы, дворовых площадок. Масштабы катастрофы, представшей глазам, превосходили всё, что о ней писали и говорили.
Спасения не было нигде и ни для кого. Все, кто мог, уезжали, даже не страшась вертолетной пальбы и слухов, что с воздуха расстреливают всё, что движется. Кто сидит в наземном транспорте: дети, женщины, старики — на это сверху не смотрели, да и не могли оттуда ничего увидеть. Люди уносили ноги в Москву, в Штаты, на край света, к черту на кулички. Но большинство не имело ни средств, ни возможности уехать.
Какой выбор оставался таким, как он, Леча Кадиев? Опомниться и бежать, пока не поздно, подальше от увиденных ужасов? Если уж такова судьба чеченца, с которой он безуспешно пытается смириться, — бежать куда глаза глядят? Попытаться жить во имя чего-то большего, чем дележ малыми народами несчастного клочка загаженной земли? Вот это и был, пожалуй, самый разумный выход. К тому же отец хоть раз на своем веку отличился практичностью, которой, как и все в роду, чурался, потому что ничего не умел делать наполовину. Какое ни есть, но имущество — сначала грозненское жилье, а затем и московское — с помощью родственника отец смог продать, средства сберег на счетах — частично в Москве, частично за границей. На первое время этих денег было достаточно, чтобы, предав проклятию нелюдей и весь тот ад, который они сотворили совместными усилиями, попытаться зажить как все нормальные люди. Однако это означало бросить своих на произвол судьбы, смириться с пожизненным бесчестьем, к высшей мере наказания приговорить свою душу…
Кто и над кем одержал победу? Чеченцы над русскими? Чеченцы над самими чеченцами? Русские над чеченцами? Русские над другими русскими? Где пролегла граница лицедейства, подлости и бесчестья? Ведь и тех и других еще с начала первой войны отоваривали оружием с одних и тех же моздокских складов. Предательство, издревле презираемое на горящей земле, стало нормой. Жизнь человека теперь ценилась не выше жизни бездомной собаки. И что ужасало больше всего — зло сеяли все в одинаковой степени. С русской солдатней всё обстояло просто. Люмпены сроду. Слуги дьявола, имя им легион. Склонявшие голову под знамя сатаны получали по заслугам. Этой братии мстит обычно сама история, не одну великую нацию она привела к плачевному финалу — к тлену, к праху, к руинам. Но только ли от русских страдали чеченцы? Кто же теперь вознамерился сжить их со свету? Опять судьба? Свои же выродки? В таком случае получалось, что они тоже вершат волю Аллаха… Не верилось. Страшно было даже пытаться поверить в это. Как мог человек, живший на одном клочке земли со дня окончания потопа, генетически лишенный способности пресмыкаться и смерть почитающий выше бесчестья, — как он мог не держаться зубами за этот клочок земли?
Продавшийся нохчо — нет существа более падшего. Но имя и таким — легион. Подлость некоторых, помноженная на всеобщую родовую наивность, — вот что привело к трагедии. Большинство таким образом оказывалось приговоренным к тому, чтобы жить в заблуждении. Ничуть не меньше, однако, заблуждались узколобые русские военачальники, отрицавшие явное. Заключалась же явь в том, что методом кровопускания старый одряхлевший организм не вылечить. Нет тот организм. И не тот век на дворе. Да и что осталось от вчерашней империи, учрежденной сатаной и его сподручными, во имя которой по сей день совершалось столько зла? Прах один, одно название… Это был мир, лишенный настоящего, потому что не было настоящего у империи зла. Мир без Бога и без смысла, потому что у падших, лишенных всего, в том числе будущего, нет нужды ни в Боге, ни в смысле…
Ненависть к «русской гадине», в обесчещенной чеченской душе воплощавшей антимир, оказывалась превыше всех чувств человеческих, превыше родовой гордыни, превыше жалости к вымирающим родным и близким, превыше инстинкта самосохранения. Эта ненависть была не совместима с жизнью. Именно поэтому сопротивление принимало формы массового самоуничтожения…
Стемнело в считаные минуты. Ночь стояла безлунная. Завьюжившая, было, на закате метель стихла. С верховьев гор потянуло холодом.
Дожидаясь возвращения группы снабжения, которая ушла в соседний лагерь и, по сообщениям выдвижных дозоров, уже двигалась в обратном направлении, Кадиев примостился на бревне у костра и, протянув руки к огню, с наслаждением вдыхал ароматную гарь: дежурный истопник, заметив Лечу у костра, подбросил в огонь валежника и заодно насыпал ведро еловых шишек.
Мимо штабного блиндажа, по тропе, огибавшей масксетью укрытые УАЗы, прошла, скрипя по снегу ботинками, группа дозорных — все четверо в новом обмундировании, в маскхалатах и с коротенькими автоматами за плечами.
Пару минут назад Кадиев приказал выслать в предгорье «делегацию» в четыре штыка навстречу троице каких-то чудаков, которых с аванпоста заметили на дороге. Загадочные путники уже вторглись в неконтролируемую армией зону, куда даже федеральные спецназовцы не совались без серьезной поддержки. С аванпоста видели, как утром над дорогой зависал вертолет. При появлении федералов троица рванула в лесную чащу. Улепетывая, они истоптали снег. Пилот следы заметил и еще минут десять обшаривал местность, пытаясь, видимо, определить, в каком направлении компания скрылась и сколько человек насчитывала.
Путники искали выход на лагерь — на этот или на соседний, — сомнения на этот счет отпадали. Но после того как федералы их спугнули с дороги, пробираться к лагерю троица могла еще целые сутки, разгребая снег руками и ногами, а он доходил до пояса. Короткий подъем с северо-западного склона вообще исключался, дорогу уже месяц как замело. Сведений о том, какой подъем путники выбрали, пока не поступило. Дозору должны были передать уточненные данные уже в пути. Ему надлежало выяснить, кто эти люди и откуда, но ни при каких обстоятельствах не вести чужих в лагерь…
О том, с чего начинать, когда вернется в лагерь от соседей группа снабжения, об этом даже не хотелось думать. Одна мысль, что предстоят разбирательства, вызывала отвращение. Сколько это может продолжаться?.. Сдерживать в себе эмоции, руководствуясь трезвым холодным расчетом, — это само собой разумелось. Однако, чем больше Кадиев размышлял над тем, что решение придется принимать, действуя по обстоятельствам, тем яснее отдавал себе отчет в своей неготовности рубить с плеча. Фактически — проявлял слабость. Так расценивали это соратники.
Причиной разногласий явился недавний инцидент, произошедший во время отсутствия Кадиева. Арабы-наемники, хозяйничавшие в соседнем укрепрайоне, с некоторых пор начали относиться к Кадиеву и его людям как к своим денщикам. Отношения стали накаляться после того, как под командованием «эмиров» — так прозвали в лагере заграничных командиров из наемников — прошло несколько совместных операций. Затем в результате внутреннего маневра моджахедам удалось прибрать к рукам контроль над снабжением обеих баз.
В «денщиках» у «эмиров» оказался целый батальон людей Кадиева. Часть подразделения перебазировалась к соседям, хотя никто не отдавал такого приказа. Двоевластие привело к тому, что люди не знали, кому подчиняются. Меры требовались неотложные. Простые доводы уже не действовали.
Воспользовавшись тем, что группа снабжения уходила по графику к «эмирам», Кадиев передал письменное требование — выпроводить обратно некоего Адама по прозвищу Вареный, который самовольно застрял в соседнем лагере с конца прошлой недели. Кадиев считал, что для начала необходимо поставить точку в разборе нашумевшего инцидента. Речь шла о гибели пленницы. Зачинщиком и главным виновником случившегося был Вареный. И от того, какую позицию займет сегодня Леча, его непосредственный командир, зависели не только будущие отношения с соседями, раз уж они оказывали Вареному покровительство, но и порядок в своих блиндажах.
Жена русского офицера в лагерь к Кадиеву попала через «эмиров», а в их руки угодила минувшей осенью в ходе грозненской операции. Муж пленницы служил в войсках в звании капитана. Сама она работала в штабном хозяйстве. С первого дня пленницу рассматривали как «соискательницу на премию» — так называли тех, кто имел хоть какую-то цену в операциях по обмену пленными. Когда же выяснилось, что бартер вряд ли состоится, судьбу пленницы выпало решать настоящей братве, которая еще недавно отсиживала сроки по колониям и изоляторам. С того дня, как женщину перевели на довольствие в лагерь, ее опекала группа из бывших уголовников, которая формально находилась под командованием Кадиева, но на деле не подчинялась никому.
В ближайшем окружении Кадиева торговлей людьми никто себя не запятнал. Поставив перед собой цель — создать боевое формирование, а не банду, он с первого дня вычищал из своих рядов мусор, и принимать те или иные меры приходилось постоянно — мусор скапливался. Однако серьезных разногласий при решении этих вопросов не возникало, пока в лагерь не влились остатки батальона уголовников, сформированного из бывших местных зэков. Эффективно бороться с их «понятиями» не мог никто.
Окончательно же тупиковой ситуация становилась из-за тех, кто поставил работорговлю на поток и ни в какую не хотел поступиться прибыльной статьей доходов. Обмен пленными подразумевал возобновление контактов с представителями федеральных служб. Чаще всего контакты оказывались непродуктивными. В таких случаях операция приостанавливалась, а доделывать начатое предлагалось братве, — всё же возможность дать ей подзаработать. Иногда братве доставался лакомый кусок. Что примечательно, стоило ее привлечь, как КПД бартерных операций сразу возрастал, от проваленных операций вдруг появлялась отдача. Одна беда: на столь поздней стадии результат больше не интересовал первичных инициаторов, «материал» расценивался как отработанный. В этот момент процесс обычно и выходил из-под контроля.
Если армейское начальство и в ус не дует, когда в плен попадает числящийся в штате военнослужащий, то пусть его выкупают родственники — такова была логика тех, кто считал себя вправе прибегать к любым методам. Первейшая обязанность мужчины — обеспечить пропитание семьи. Святым долгом это считалось не только на Кавказе… Что ответить на этот аргумент? И потом разве речь идет не о кэ́фирах, которые пришли топтать чужую землю? Почему в таком случае не пустить в дело их самих? Почему не торговать неверными, ради собственного выживания?
Кадиев вполне отдавал себе отчет, что расплачиваться за грехи оборотистых собратьев приходилось всем вместе, даже тем, кто никогда не держал в руках оружия. Именно поставленный на поток «живой» бартер, пусть этот адский механизм и запустили изнутри самой России, был одной из главных причин ожесточения российского населения. По природе своей всеядный, подслеповатый, сентиментальный и безвольный, русский обыватель — как, впрочем, и любой другой — отказывался открыть глаза на бесчинства своей армии на Кавказе. О деятельности спецслужб и говорить не приходилось. Выстраивалась простая логическая цепочка: если армия встала на защиту униженных и оскорбленных, чего же вы от нее хотите? Правильно делает! Пусть доведет начатое до конца, а потом и поговорим о методах. В результате кавказская земля как была, так и оставалась наковальней. Молот продолжал долбить, корежа всё на свете.
Разорвать порочный круг было необходимо любой ценой. Мнение Кадиева разделяли многие. Но ровно столько же имелось противников, причем самых непримиримых. Традиции, какие ни есть, тоже, мол, заслуживают уважения. Если уж требовать соблюдения правил игры от людей, взявших в руки оружие, то закон должен быть один для всех, будь то шариат, хоть в арабском варианте, хоть в шамилевском, или кодекс государства Российского — уголовный или военный. Да и вряд ли русских спецназовцев удастся разжалобить показным великодушием. Азарт войны и выгоды, повсеместно извлекаемые из незатихающей бойни, давно затмили цели, изначально поставленные перед федеральными войсками — приструнить баламутов и покарать нечисть, разбежавшуюся из тюрем по лесам. Что еще делать с теми, кто не хочет жить ни по каким законам?
À la guerre comme à la guerre[1], чистых войн не бывает. А если так, то какой смысл трястись за свою репутацию? Сторонники жестких методов террора — и он должен вершиться от имени всех чеченцев! — никому не давали отмежеваться. Несогласие с радикализмом проще простого выдавать за трусость, за отказ от борьбы из принципа, то есть фактически за измену. И это обвинение могло пасть на кого угодно, даже на самого ярого патриота. Картина глазам представала всё более безнадежная: находившиеся под опекой спецслужб заправляли всеми, навязывая тотальную истребительную войну малочисленному, измученному народу, заставляя брать в руки оружие даже тех, кто сроду не умел им пользоваться. Спецслужбы своего добились…
Промежуточная задача заключалась в том, чтобы урегулировать проблему там, где это еще возможно, и сосредоточиться на главном — тактике ведения боевых действий. На том, например, как перенести военные действия на территорию противника. Ведь до сих пор в руины приходилось превращать собственные города и села. Так не могло продолжаться до бесконечности…
Захват людей в заложники в «русской» России, который мог бы продемонстрировать полную незащищенность завоевателя под его же собственной крышей, — вот это уже походило на настоящую игру, и она стоила свеч. Но чтобы вести ее, требовалось разрешить принципиально важное противоречие. Факт оставался фактом: бартер — вовсе не изобретение вайнахов. Изначально заказы хлынули из самой России. Кто еще сомневался в этом сегодня? Следовательно, подтасовка фактов, на основе которых делались главные, целеобразующие выводы, на поверку оказывалась немаловажной частью всё той же игры. Сама возможность торговать заложниками возникла не столько по причине искусственно нагнетаемого спроса, а из-за разницы в цене на жизнь, которая где-то упала до предела, а где-то подскочила, причем в рамках одной рыночной системы, в одной и той же стране. А значит, чтобы надломить этот процесс, нужно было выровнять цены на жизнь или развалить «рынок», то есть саму страну.
Признание легитимности бартера людьми было равнозначно признанию неизбежности жертв среди мирного населения. Любого, кто придерживался радикальных позиций, этот принцип ставил перед четким и однозначным выбором: воевать по самым жестким правилам, то есть фактически без правил, или уж вовсе не бряцать оружием, смириться с непобедимостью врага и откровенным непротивлением попытаться спасти очаг от полного разорения.
Аргументам сторонников жесткой войны было трудно что-либо противопоставить. Федеральные силы весьма своеобразно заботились о детях, женщинах и стариках, будь то исконное население или уже позднéе приросшее, колониальное. На большее, чем разбить очередной лагерь для сирот и бездомных, нагородив ночлежек из списанных армейских палаток, в тени которых людям предстояло прятаться от солнечного удара, а потом тут же и зимовать, да пару раз в день накормить всех горячей баландой, хлебать которую не каждый согласится даже в тюрьме, у миротворцев из Москвы милосердия не хватало. А что, мол, поделаешь: лес рубят — щепки летят. Вот щепки и летели.
В итоге российские следственные органы, пытавшиеся наводить порядок в подконтрольных районах, против него, Кадиева, и выдвигали обвинения в том, от чего он отбивался руками и ногами. Его обвиняли в торговле людьми.
Грубый стиль игры говорил сам за себя. Так нагло в России действовала только одна сила. Партия разыгрывалась шахматистами из контрразведки. Кадиев не исключал также, что участником этой игры мог стать и кто-то из своих, позарившись на тридцать сребреников. Федеральные службы не брезговали сливать в СМИ муть полуправды, отстой никому не нужной правды, а то и заведомую ложь. Старый, веками проверенный способ. Кадиев не исключал и того, что спецслужбы делали это с далеко идущей целью: несправедливо очерненный непременно попытается смыть с себя грязь. И ради этого выдаст подлинную информацию, — вполне предсказуемо, что она будет на вес золота.
Для начала кто-то в России попытался взвалить на него ответственность за похищение и последующее убийство чиновника в Назрани. Стиль распространения информации говорил о том же: невидимый махинатор отрабатывал версию планомерно и расчетливо, запустив типичную «утку», — на этот счет сомнений не оставалось. Но цель такого хода оставалась Кадиеву непонятной. Облить грязью просто так, чтобы не зазнавался? Неубедительно: хорошо дозированных слухов для этого обычно достаточно. Спровоцировать ответную реакцию? Если учесть, что в ход пущен метод пониженной эффективности, — не слишком ли много усердия?.. Через некоторое время всплыли новые факты. Кадиеву вменялся в вину еще более тяжкий грех: совершенное в Москве похищение и удержание в заложниках офицера ФСБ…
Список рос… Взятие в заложники двух иностранцев в Ставрополе. Похищение бельгийского подданного. Похищение англичанина, за которого непонятно кто, но по-прежнему с территории республики, требовал баснословный выкуп — семь миллионов долларов…
Создавалось впечатление, что кто-то методично отрезает ему, Англичанину, пути отступления. С такими обвинениями границу не пересечешь даже под вымышленной фамилией и даже если удастся пришить себе чужую голову, оторвав ее у какого-нибудь мерзавца. Дорога в Туманный Альбион ему уж точно была заказана и надолго. По сведениям, которые Лече удалось добыть, используя параллельные каналы, все инкриминируемые ему похищенные прошли через руки урус-мартановских братьев, известных специалистов по живому бартеру. Кадиева явно подталкивали к каким-то действиям.
На него «вешали» заложника, захваченного вымогателями аж в самом Новосибирске. Ему приписывали похищение врачей, датчанина и россиянина, в Грозном. Последние обвинение сводилось к похищению, совершенному опять-таки на территории «русской» России, какой-то молодой женщины, очередной русской «сучки», как теперь выражались в лагере все подряд, слишком заразительный пример подавали урки. Он, Кадиев, в глаза несчастную никогда не видевший, якобы гноил ее в яме на территории своего лагеря.
Именно по поводу последней заложницы Кадиев смог собрать более или менее подробные сведения. В руки «попечителей» женщина попала у себя дома, в России. Пока не удавалось выяснить, кто по-настоящему стоял за похищением. Этот факт настораживал. Для выявления исполнителей или заказчиков обычно не требовалось больших усилий. Кадиев понимал: если он всё же надумает ввязаться в игру, то решительный ход ему предстоит сделать сразу, не откладывая, инициативу необходимо держать в своих руках.
Напрашивались два варианта возможных действий. Первый: покончить с поисками очернителей и сосредоточиться на том, чтобы снять с себя обвинения. Однако результат мог быть самым непредсказуемым. Кроме того, казалось унизительным лезть из кожи вон, чтобы отмыться от клеветы, попытаться обелить себя перед теми, кто отправил на тот свет отца и брата, да еще сотни, тысячи других ни в чем не повинных людей. Второй вариант: пойти ва-банк, попытаться ухватить за хвост стоящих за всеми этими махинациями, дотянуться до «опекунов» заложницы. Только отыскав концы, можно было думать о том, как надавить на слабое место и заставить действительного виновника взять на себя ответственность. Обвинения, скорее всего, просто улетучились бы. Но что, если офицеры ФСК, просчитав и этот вариант, готовятся разыграть новую комбинацию, стоит ему допустить малейшую ошибку?.. А может, вообще всё упростить? Чем мудрить, сомневаться, высчитывать, не лучше ли сдать федералам тех же самых братьев-акробатов, слава о которых облетела весь мир? Ни один вайнах не помянет их добрым словом. Оставалось хорошенько взвесить, насколько этот шаг будет целесообразным, если речь идет о заведомой клевете? Что, если и братьев, татов-разнофамильцев, подкармливает ФСК, о чем давно ходят упорные слухи?
В декабре Кадиеву опять довелось вести переговоры с майором федеральных сил, игравшим роль официального посредника в операциях по обмену и выкупу, а затем и со своим московским родственником, который снабжал его ценнейшей информацией. Переговоры с майором зашли в тупик. И, видимо, неслучайно. Однако через землячество в Москве кое-что прояснилось. Сведения обескураживали, при этом за достоверность их ручались головой. Свои, чеченцы, к затеянной игре будто бы вообще не имели отношения. За махинацией стояла питерская группировка, возглавляемая русской братвой из Тамбова, недавно перешедшей с уголовщины на более гигиеничную недвижимость. Каким-то образом братве якобы удавалось оказывать влияние на градостроительную политику мэрии города, и какого!
Первоисточником этой информации был чеченец из татар, некто Салавди Тахаев, проживавший в Выборге. Вор в законе, Тахаев промышлял сбытом краденых автомобилей. К живому бартеру отношения не имел. Сведения от него получили «мимоходом». Информацию Тахаев слил, намереваясь откупиться от своих, когда его решили завербовать и попытались прижать, в обмен на гарантию, что его оставят в покое.
Тахаев утверждал, что русские задумали подставить вайнахов. В декабре он будто бы получил пять тысяч долларов только за то, что согласился встретиться в городском парке с родственником похищенной женщины и оттарабанить ему наизусть заученный текст. Прибегая к нехитрой тактике, похитители пытались направить семью по ложному следу, хотели выиграть время. Сам факт, что русские заказчики — питерская братва — заплатили Тахаеву столь приличную сумму за несколько минут сотрудничества, говорил о масштабе операции.
Речь шла о молодой матери с ребенком, которую к этому времени уже успели вывезти в Западную Европу — подальше от ГУБОПа и московской родни. И родня — понятное дело — теперь рвала и метала. Но как сообщали Кадиеву, существовали улики, свидетельствующие о том, что «опекунство» над женщиной установили уже в Европе. Последнее обстоятельство усложняло дело, отыскать концы становилось сложнее в разы. В Москве, в землячестве, предлагали перестраховаться: расследование лучше было довести до конца. И Кадиев понял, что пора брать ситуацию под контроль, а для этого необходимо самому во всем досконально разобраться. Он попросил собрать всю ключевую информацию и по возможности запечатлеть на пленку и тамбовских уголовников, и питерскую братву, с тем чтобы эту пленку передать потом по назначению. За работу Кадиев обещал крупную сумму…
В это самое время в лагере произошел новый инцидент. Жена офицера, которую эмиры отдали уркачам, погибла. Этому предшествовала вполне обычная история. Ставка, сделанная на родственников пленницы, живших в Орле, не оправдалась: им предлагали расшибиться в лепешку, чтобы собрать затребованную сумму, а в результате взять с них оказалось нечего. Откуда миллионы у войскового офицера? Власти же на выкуп ссуд не выделяли.
Между тем посредники засветились. Контакты с родственниками становились всё более рискованными. При малейшем недосмотре под ударом могли оказаться все, даже лагерь. Взвесив все «за» и «против», Кадиев принял нелегкое решение: несмотря на то что такой приказ выходил за рамки его обычных полномочий, он распорядился о прекращении переговоров с родственниками жены офицера.
Приказ проигнорировали. В атмосфере двоевластия и напряженных отношений с «эмирами» по-другому и быть не могло.
Вскоре Кадиеву доложили: торг продолжается с санкции «эмиров». И не успел он до конца разобраться в происходящем, как созрело решение, и опять без его ведома, — избавиться от пленницы. Предлогом послужила ее попытка к бегству — неудавшаяся.
Кадиев понимал, что свои же водят его за нос. Как поверить, что женщина могла отважиться на подобный поступок — бежать зимой? Вокруг — горы, непролазный снег, безлюдье на многие километры. Куда она могла податься? Но, даже если бежала, что это меняло, раз ее удалось вернуть назад в лагерь?.. Так или иначе, начальник штаба Абдул-Вахаб Айдинов, совмещавший должности командира штурмовой группы и инструктора по натаскиванию новоприбывших, и вместе с ним Сайпуди Умаров, командовавший мобильной группой, — оба ставленники соседей, на время вынужденного отсутствия Кадиева они оставались в лагере за командиров, — сообща распорядились о том, чтобы заложницу отдали уркачам на потеху.
Бывших уголовников в лагере насчитывалось пятнадцать человек. Готовые воевать с кем угодно, лишь бы им платили, с некоторых пор они стали задавать в лагере тон. Инцидентам не было конца. Если бы костяк этой гоп-компании не пользовался поддержкой соседей по лагерю и покровительством Умарова, зачислившего всех к себе в мобильную группу, на них давно бы удалось найти управу.
Уркачи над женщиной надругалась. Изнасилование длилось двое суток. Пленница не вынесла издевательств. По рассказам одного из участников, под конец отморозки «развлекались» уже чуть ли не с трупом. В их числе был и Вареный. Кадиев давно его держал на примете. Вареный отличался необузданным нравом и еще в прежнем отряде прославился своими садистскими выходками.
Наказывать? Всех скопом? По одиночке? Решение требовалось жесткое. Речь шла о поддержании дисциплины во всем лагере, не только среди зарвавшихся уголовников. Тем более что пример уркачей, издевавшихся над пленными, оказался заразителен. Над «рабами», жившими в лагере, стали измываться все кому не лень. Пленных держали на тяжелых работах. И Кадиев не мог добиться, чтобы их кормили сколько-нибудь сносно. Некоторые из них были истощены до предела и с трудом держались на ногах…
Группа, вернувшаяся от соседей, вошла в лагерь около десяти вечера. Как только о ее прибытии доложили, Кадиев потребовал к себе Вареного.
Коренастый, рыжеволосый, с неопрятной бородкой, Вареный сухо поздоровался и застыл на пороге блиндажа, всем своим видом давая понять, что делает большое одолжение, явившись по приказу.
— Один вернулся?
— Пятеро нас.
— Остальные где?
— На дворе… Ждут. С утра не ели ничего… — Вареный смерил командира взглядом.
— Пусть уходят, скажи им.
Вареный помедлил, переминаясь с ноги на ногу, но потом всё же высунулся на улицу и крикнул, чтобы его не ждали.
Кадиев разглядывал подчиненного как некую диковинку. Пересилив себя, он поинтересовался, как обстоят дела у соседей. Вареный отвечал нехотя. Всё, дескать, нормально, а не веришь — сходи проверь. С трудом сохраняя самообладание, Кадиев спросил, откуда тот родом.
Поколебавшись, Вареный ответил, что до войны жил под Гудермесом, а родом был из Нажай-Юртовского района, из села Замай-Юрт, где работал трактористом на табачных плантациях, пока не сел за решетку.
— Где же ты в зверя-то такого превратился, а, Вареный? — устало спросил Кадиев.
В желтоватых глазах появились злобные огоньки.
— Правду говорят о том, что вы вытворяли? — спросил Леча.
— А что говорят?
— Как вы над женщиной издевались?
— А чего их щадить, падаль! Наших много щадят?
— Это кто, женщины к тебе, что ли, беспощадно относятся?
Вареный молчал.
— Другие в курсе?
— Насчет чего?
— Не придуривайся… Мне тут сказали, что ты добивал ее?
— Я не один был.
— А приказ?
— Какой?
— Договаривались же, без меня не решать эти вопросы.
— Я не договаривался, — ответил Вареный с гонором.
Кадиев усилием воли подавил гнев.
— Сидел за что?
— Коммерция.
— Только это разве?
— Ну, еще бабу одну израсходовали… Разыграли ее с ребятами. Шутили, значит… А эта русская сучка… если б живучая была, так и не сдохла бы, — добавил Вареный, показывая в усмешке почерневшие зубы.
— Похоронили ее где?
— А, где всегда.
— Мне сказали, что камнями и снегом забросали.
Вареный молча топтался на месте.
— Значит так. Под трибунал пойдешь, это я тебе обещаю. А пока…
Оглядевшись, Кадиев выключил радиоприемник, из которого доносилась английская речь, накинул на плечи камуфляжную куртку и приказал Вареному взять стоявшую слева от входа лопату. Вид замайюртовца говорил о том, что он на грани срыва. Но требованию Вареный подчинился. Вместе они вышли на мороз, поднялись из окопа на заснеженную тропу. Кадиев шагал впереди. Вареный недовольно плелся следом, не переставая озираться по сторонам. Над лесом едва заметно порошило. Сквозь макушки деревьев светил месяц, окаймленный ровным ореолом. Влажный холод обжигал щеки.
Через сотню метров после блиндажей Кадиев показал в темноту, в сторону светлеющего сугроба, за которым начинался спуск к водостоку и темнела протоптанная в снегу дорожка. Сквозь ночную темень со дна оврага доносился шум воды, ручей всё еще не замерз.
Вареный помешкал, но опять подчинился. И с презрительной миной на лице он пошел в указанном направлении.
Через несколько минут перед чернеющим впереди пролеском Кадиев остановился:
— Так где засыпали?
— А вон там, справа… Не видно, снегом завалило.
— Иди копай! Похорони как следует, — приказал Кадиев.
— Слушай, командир… Да пошел ты знаешь куда! — вспыхнул Вареный. — Не буду я копать!
— Пристрелю за невыполнение приказа, — пригрозил Кадиев.
Вареный сорвал с плеча автомат.
Но Кадиев уже выхватил из-за пояса пистолет Макарова. Едва замайюртовец успел передернуть затвор, как пистолет Кадиева дважды изрыгнул пламя…
На выстрелы сбежался весь лагерь. С автоматами наперевес несколько десятков боевиков обступили труп Вареного и разглядывал пулевые отверстия во лбу и в щеке. Под ногами мерцал забрызганный кровью снег. Объяснений от командира не ждали. Ситуация — яснее ясного. В напряженной атмосфере уже витал вопрос о кровной мести.
Кадиев держался уверенно. Заткнув пистолет за пояс, он холодно объяснил, что пытался обсудить недавнюю историю с доставкой амуниции. И как только он, мол, затронул тему, Вареный схватился за автомат. Пришлось применить оружие. Историю о доставке слышали все: группа и в ее составе убитый, ездила за амуницией и на обратном пути попала под огонь спецназовцев, в результате погибли все, кроме Вареного…
С какой стати командиру вздумалось выяснять отношения ночью на краю оврага? Почему выстрел пришелся прямо в лоб? Скупые объяснения, на которые Кадиев расщедрился, прозвучали неубедительно. Но и особых эмоций вид окровавленной туши Вареного ни у кого не вызывал. Отпетый уголовник, в боях не отличавшийся ничем, кроме кровожадности, бить врага предпочитавший в упор и на рожон никогда не лезший, разве что в лагере, среди своих, — никто не питал к нему особых чувств. Убитого попросту боялись.
Кадиев приказал предать тело земле, заодно перезахоронить и труп женщины. Двое абреков из группы Умарова отправились выгонять на работу пленных. По лицам не торопившейся расходиться братии Кадиев понял, что своего добился. Уркачам был преподан наглядный урок.
Двое взрослых и с ними подросток в дорогу отправились из Мескер-Юрта и уже вторые сутки покрывали километры пешком, огибая блокпосты, патрули и, где возможно, изъезженные участки дороги.
Старший из них, тридцатилетний Арби, по прописке числился в Грозном, хотя его чаще видели у родственников в Мескер-Юрте. Он давно поддерживал связи с теми, кто с января, после того как федеральные войска взяли под контроль городские районы, на время растворились в селах, а частично оттянулись в горы и отсиживались там в ожидании лучших времен. Арби Ахматова в горы звали свои дела, но на эту тему он обычно не распространялся. Дело осложнялось тем, что сам Арби понятия не имел, как добираться на новую базу, которую в начале зимы перенесли выше в горы. Связь зависла с декабря, с тех пор информации с гор не поступало.
Вместе с Арби в горы решил податься его брат Халид с намерением остаться там «до победного конца». В свою бытность таксистом в Грозненском Черноречье он подвернулся спецназовцам внутренних войск под горячую руку, загремел в комендатуру, поплатился за бесшабашность двумя сломанными ребрами и теперь был готов на всё, лишь бы не пережить подобное еще раз. К тому же и перебивался теперь без паспорта. Документы пришлось оставить при проверке на блокпосту, за ними просили прийти на следующий день, но так их и не вернули. Как жить без «основного документа»? Рано или поздно это обернулось бы каталажкой, «фильтром» и еще неизвестно чем.
Арби, как мог, отбивался от предложения младшего брата взять с собой соседского юношу. Пятнадцатилетний Дота жил с матерью у родни в соседнем дворе. Братья знали, что подросток, родом из бацбийцев и наполовину грузин, приходится Кадиеву племянником; как раз к Кадиеву, одному из командиров укрепрайона в горах, им и предстояло добираться. Родственная связь с таким человеком, как Леча Англичанин, не афишировалась. Ею не кичились ни мать, ни сам Доди — так Доту прозвали в округе. Но неусыпную опеку и даже молчаливую поддержку со стороны соседей такое родство всё же гарантировало.
Когда же паренек принялся слезно умолять, чтобы его взяли с собой, раз была возможность податься в горы, уверяя, что у него, мол, есть с дядей такая договоренность: если никто не приедет за ним в намеченный срок, он должен сам найти способ добраться до лагеря, — братья не знали, что и думать. Верить ли в слова парнишки? В то же время точно такие же инструкции имел Арби, исполнявший функции информатора: если связь обрывается, независимо от того, по какой причине это может произойти, инициативу должен проявить он сам.
Однако Арби уперся. Не столько из опасения, что в горах могли взгреть за инициативу, сколько из понимания, что предприятие сопряжено с риском. Дорога предстояла тяжелая. Арби не хотел взваливать на свои плечи дополнительную ношу.
Паренек, видя сомнения взрослых, выложил на стол свою козырную карту. Прошлым летом он побывал на запасной базе дяди Англичанина в верховье, куда в январе передвинули укрепрайон, после того, как потрепанным остаткам отряда его дяди удалось уйти из-под Ведено. И теперь он мог показать дорогу к базе…
Тут он добил братьев последним аргументом. Из ватина телогрейки Доди выпотрошил скомканную бумагу. Развернув ее, он продемонстрировал свои художества. На двух листках из школьной тетрадки были начерчены какие-то заграждения, пунктирные дорожки, окружавшие квадраты с изображением артиллерийских орудий. Доди уверял, что зарисовал расположения почти всех русских баз, находившихся на участке между Шали и Сержень-Юртом, в том числе расположения недавно переброшенных под Старые Атаги подразделений десантников, — в этот район они с матерью ездили на Новый год.
Сообщение, что его ждут не дождутся в лагере и что добираться в горы он должен своим ходом, дядя передал ему якобы через посыльных, побывавших в Мескер-Юрте сразу после Нового года. Доди уверял, что эти люди получили приказ забрать их с матерью и вывезти за пределы республики, чтобы уберечь от репрессий, поскольку родство с дядей Англичанином для федералов давно перестало быть секретом. Но им с матерью не удалось вернуться к назначенному дню в родное село…
В россказни паренька братья и верили и не верили. Любой на месте Кадиева поступил бы точно так же — попытался бы вывезти семью за пределы страны, в надежное и безопасное место. И тем более горькое разочарование обрушилось на братьев в конце всех ожиданий, когда выяснилось, что сопляк всё же умудрился обвести их вокруг пальца. Правда вылезла на свет божий уже в дороге…
Никаких разведывательных поручений мальчишка не получал. В «помощники» дяди он зачислил себя самовольно. Да и в горах его, похоже, никто никогда не видел и не ждал, но этому как раз не стоило удивляться: там не до воспитания малолетних. Ни на какой горной базе Доди сроду не бывал, дороги не знал, о новом местоположении дядиной базы имел такие же смутные представления, как и братья…
Почти до самого Урус-Мартана удалось добраться на попутной машине. Затем шли пешком, старясь не светиться на дорогах. Из-за снегопада походные условия оказались гораздо более тяжелыми, чем братья предполагали. Ходьба по свежевыпавшему снегу изнуряла. Несмотря на то что удалось без приключений одолеть главный отрезок пути к предгорью — обойти урус-мартановский гарнизон, — радоваться было нечему. Из-за многокилометровой петли, которая не входила в «генеральный» план старшего брата, окончательно выбились из графика. К окраинам Гехи-Чу добрались уже с наступлением комендантского часа. Но старший брат предусмотрел эту задержку.
У родственницы в Гехи-Чу пришли в себя от усталости, обогрелись и заночевали. Однако на следующий день погода выдалась ясная, округа могла на километры просматриваться в оптику. И пришлось ждать до вечера. В дорогу двинулись только в пятом часу, на ночь глядя.
Ближе к горам продвигались по бездорожью, стараясь не отдаляться от трассы — она оставалась ориентиром. Снег здесь лежал еще более рыхлый и глубокий. К полуночи все трое едва волочили ноги от усталости. А до лагеря оставалось еще километров десять.
Арби предложил сделать перекур. В лесной чаще развели костер, перекусили, подсушили обувь, по очереди вздремнули. Короткий сон еще больше давал почувствовать усталость. Предрассветное время было самым мучительным. Со стороны гор несло холодом. Тропы практически не просматривались, а подъем становился всё круче. В довершение ко всему со стороны предгорья послышался нарастающий стрекот вертолета.
По пояс утопая в снегу, все трое бросились к лесистой лощине. И едва удалось скатиться в рытвину у подножия леса, как из-за скал показалась армейская «восьмерка». Отсвечивая блистером, вертолет сделал круг, обогнул снежные гребни по периметру леса и завис над дорогой. Следы, уводившие к чаще, не могли сверху не видеть. «Восьмерка» зависла еще ниже; пилот даже не опасался, что его могут подвергнуть обстрелу… Однако пронесло и на этот раз. Сделав контрольный круг, вертолет стал удаляться в обратном направлении…
Арби не мог скрыть беспокойства. Вряд ли федералы ограничивались облетом предгорья и осмотром склонов с воздуха, для чего-то же велось наблюдение. Координаты, скорее всего, уже передали наземному подразделению. Старший брат не сомневался, что их еще раньше где-то подловили в оптику. Надежды на непогоду, на метель, начавшуюся с рассветом, оказались тщетными. Уже через час снегопад утих, и вереница следов, которые они оставляли за собой, вполне могла просматриваться в обыкновенный бинокль.
По мере того как поднимались в горы, мороз усиливался. С хребтов тянул ледяной ветер. Холод обжигал щеки и глаза. Когда позади остался перевал, за которым предстояло сделать окончательный выбор маршрута, изнуренные путники сбросили под елью рюкзаки, дружно завалились в сугроб и некоторое время, пытаясь отдышаться, молчали.
Дальше предстояло подниматься либо по дороге, уводившей вправо через ельник, которая едва-едва угадывалась под волнистой гладью снега, чтобы затем уже перелесками продолжать восхождение до самых гор. По всем соображениям, этот маршрут был наименее рискованным, но ходьбы получалось на несколько километров больше. Либо оставался второй вариант, позволявший срезать дорогу, — взяв левее. В этом случае примерно в течение часа пришлось бы подниматься вверх по открытой местности. Риск обнаружения существенно возрастал, голое пространство при ясной погоде могло просматриваться с большого расстояния.
Халид предлагал продолжать восхождение коротким путем. Но старший брат упорно стоял на своем: никакого лишнего риска. Он принял решение продвигаться лесом: тише едешь, дальше будешь. К тому же шансов выйти на своих больше, да и безопаснее. Но прежде чем продолжать путь, Арби предлагал основательно просушить обувь. И у Доди, и у Халида ботинки промокли насквозь. В дневное время костер, конечно, могли заметить, дым виден за многие километры, но еще опаснее было отморозить ноги. И Арби показал рукой на ельник, взбегающий вверх над лощиной. Оставалось там подыскать подходящую расщелину.
В лесу стояла безжизненная тишина. На ветвях уютно обступивших опушку пихт лежали пышные шапки снега, ветра не чувствовалось. Подходящего углубления не нашлось, и костер пришлось разводить в яме, предварительно выкопав ее в снегу. Дым, конечно, могли заметить. Но выхода не было, не обмораживать же ноги.
Стараясь хоть чем-то искупить свою вину, Дота трудился, не жалея сил, то и дело бегал в чащу, пытался набрать валежника посуше. Около спуска он даже наткнулся на куст боярышника. Ободрав его чуть ли не по самый ствол, он притащил к яме целую кучу веток. Костер затрещал сильнее. Края снежной ямы быстро оттаивали и чернели. Арби был прав: боярышник почти не дымил.
Халид и Дота развесили сырую одежду и обувь на воткнутых в снег палках, по примеру Арби подгребли под босые ноги хвои и, тесня друг друга локтями, придвинулись поближе к огню. Халид повеселел. Морщась от жара, он принялся разогревать на краю костра консервы.
Две банки перловой каши из солдатского сухого пайка — это всё, что осталось от запасов, не считая луковицы и последнего энзэ, горсти сухарей и плитки шоколада, которые припрятал на дне своего рюкзака старший брат.
Арби приноровился выковыривать кашу расщепленной палочкой. Примеру последовал младший брат. Дота, не отрывавший глаз от перловки, нерешительно выжидал. Арби, всё еще смотревший на паренька с упреком, сунул ему под нос всю банку.
Вдруг раздался треск ветки. Тотчас еще один. Все трое будто окаменели. Халид испуганно уставился на брата. Боясь пошелохнуться, тот обводил глазами чащу. Сомнений не было: в лесу они не одни.
Еще несколько секунд гнетущей тишины — и с обратной стороны поляны, там, где ельник обрывался в низину, послышался осторожный металлический щелчок.
По лицу Арби, который сидел напряженно вцепившись руками в колени, пробежала тень улыбки. Спецназовец не допустил бы такой оплошности. Переводить рычаг предохранителя на автоматический режим бесшумно, оттянув его за ушко от корпуса автомата, в спецподразделениях федеральных войск обучали в первую очередь, даже прежде, чем давали пальнуть по мишени, — Арби знал это от инструктора, вчерашнего моджахеда, «законсервированного» в родном селе до нужных времен и кое-чему обучавшего желающих.
Дота схватил свои бесформенные сырые ботинки и стал торопливо их натягивать на красные босые ноги. Арби жестом остановил его и гортанно крикнул в сторону леса.
— Хьо мила ву?[2]
Прошло несколько секунд.
— Со вайнеха ву![3] — раздался ответ.
Собравшись с духом, Арби крикнул снова:
— Хьо мичара ву? Тайпана мила ву?[4]
— Со варандо ву, Чечанара![5] — был ответ.
Нерешительно помедлив, Арби крикнул:
— Саид-Селим войзи хьуна, ойла йистехь йижаршца ашверг?[6]
После продолжительной паузы от черной стены леса отделилась фигура в маскхалате. Тут же стал различим и ствол АКМа. Фигура не двигалась с места и чего-то выжидала.
— Аллах Акбар! — крикнул Арби.
И из-под пихт выбрались четверо, все в безразмерных, но добротных белых балахонах, будто привидения.
Не надевая ботинок, Арби поднялся во весь рост и на всякий случай назвался — по имени и фамилии. Но двое из четверых чеченцев и так уже узнали «почтальона» из Мескер-Юрта, связь с которым оборвалась два месяца назад.
Разглядывая друг друга, боевики обменялись приветствиями и, расстегнув промокшие маскхалаты, плотным кругом расположились у костра.
Дота сиял от радости и, поминутно утирая пот с распаренной физиономии, не переставал подбрасывать в костровую яму валежник. Один из гостей, немного обогрев руки, отправился присматривать за спуском к дороге. Другие дали братьям хлебнуть по глотку водки из фляги и стали расспрашивать о вертолете, который с утра кружил над дорогой.
Потом включили рацию и доложили о встрече. Тщательно запаковав аппаратуру, радист объявил, что ему приказано вести всех в лагерь. Кадиев выслал встречную группу для подстраховки. Сверху предупреждали, что в горах опять идет снег. При хорошей погоде на восхождение могло уйти от двух до трех часов, но при снегопаде до аванпостов укрепрайона можно было не добраться и к концу дня. В лагере предлагали переждать какое-то время в лесу. Неподалеку в горах находилась сторожовка, используемая как укрытие и приспособленная к ночлегу. Ходьбы до нее всего час, в худшем случае — два.
Кадиев не видел Доту с конца октября, практически с того самого дня, как мальчугана загребла комендантская рота. Тогда после нападения на армейскую колонну федеральные службы, подозревавшие местных жителей в причастности к теракту, перетаскали всё население района в комендатуру. Военные вместе с контрразведчиками не один дом перевернули верх дном. Перекапывали даже грядки в огородах. На этом Дота и погорел. Сопляк умудрился закопать в огороде АКМ с боекомплектом, укутав автомат в полиэтиленовую пленку, которую содрал с парника.
О задержании сорванца стало известно в тот же день. Увезли его не военные, а комендантские. Никаких иллюзий у Кадиева не было: судьба мальчишки находилась в руках офицеров УВКР[7], и имелись все основания за нее опасаться. С такими, как Дота, не очень-то нянчились, уводили за забор и уничтожали как чумных дворняжек; раз есть улики, еще год-два, и такой всё равно пойдет воевать на смену братьям и дядьям, так зачем самим вскармливать смену?
Больше всего Кадиев опасался не коварства контрразведчиков и неопытности Доты, а какой-нибудь роковой случайности, пресловутого армейского головотяпства, опасался всех тех непредвиденных обстоятельств, на которые так любят ссылаться русские военачальники. Жертвой случая мог стать кто угодно, в любой момент, и в первую очередь беззащитный. За язык же Доты Кадиев особенно не переживал. Ума не занимать, закален войной, — таких, как Дота, расколоть не так-то просто. Да и рассказывать мальчугану толком было нечего. Несколько запротоколированных фамилий (где нужно, давно известных), прошлогодний адрес базирования уже не существующих на сегодня подразделений — это всё, что из него могли выжать. За последние месяцы лагерь пришлось перебазировать дважды, при этом каждый раз новое место дислокации становилось известно войскам уже через неделю. А с нанесением удара на Ханкале опять тянули. Возможно, не видели смысла в таких мерах. Ведь понимали генералы, не дураки, что достаточно перенести дислокацию в другое место, и всю работу нужно начинать сначала — выяснять, отслеживать, брать кого-то в ежовые рукавицы, гонять по горам личный состав.
Оставалось надеяться, что среди офицеров попадется такой, кто не будет пороть горячку, разберется, что к чему, и уделит пареньку внимание. В качестве родича воюющего амира Дота вполне такой чести заслуживал. Но даже среди тех, кто по долгу службы мог иметь доступ к нужным картотекам и разбирался в родословной своих подопечных, мало кто имел представление о действительном положении вещей. Мало кто знал, что Дота не племянник, как все считали, а сводный брат Кадиева. Легенда, что Дота племянник, была одним из изобретений самого Кадиева. Сам же он и пустил ее в ход, чтобы не разглашать подробностей жизни покойного отца: будучи уже немолодым, тот прижил ребенка вне брака. В данной ситуации липовая легенда могла сработать против Доты. Правда могла спасти ему жизнь. И с трудом удавалось представить себе, что в окружении генерала Агромова и его сподручных из местной ФСК ничего не знали о настоящем родстве Доди и Англичанина. Достаточно подвесить верх ногами одного-другого мескерюртского чучмека, чтобы вытряхнуть из упрямца всю подноготную; в Мескер-Юрте немало проживало людей, лично знавших и Кадиева-старшего, и все его семейство. В этом случае участь Доты была бы предрешена, его не могли не взять в разработку, и ждать неизбежного пришлось бы недолго. Выход на него, Англичанина, обеспечен.
Развязка оказалась совершенно неожиданной. Несовершеннолетний арестант отделался парой пинков под зад да строгим отеческим напутствием: ходи, мол, теперь по струнке, не то схлопочешь по всем статьям, в следующий раз поблажек уже не будет. Доту отпустили на все четыре стороны, что давало повод к опасениям, как бы ему не вшили в одежду какой-нибудь микроскопический приборчик. Неужто не было желающих проследить за перемещениями сорванца? С другой стороны, станут ли контрразведчики выслеживать местную пацанву? Для подстраховки Кадиев всё же дал особые распоряжения: мальчишку тщательно осмотреть, одежду уничтожить…
Когда двое чернобородых парней в маскхалатах ввели в натопленный блиндаж лохматого и лопоухого Доту, тот застыл у входа как провинившийся школьник, вызванный к директору на ковер. Но едва Дота встретил взгляд брата, как лицо его осветила бесхитростная улыбка.
Кадиев схватил юного родственника за плечи и смял в объятиях. На сердце сразу отлегло, а в следующую секунду его как тисками сдавила еще большая тяжесть, чем прежде. Затем Кадиев вышел поздороваться с братьями Ахматовыми, распорядился, чтобы, перед тем, как усадить троицу за стол, им согрели воды и дали вымыться…
До отвала накормленного пловом с тушенкой и наряженного в камуфляж с чужого плеча, Кадиев повел подростка показывать свое хозяйство. Леча водил его по лагерю, словно по зоопарку, — показывал лошадей, собачий питомник, где сиротливо метались две тощие овчарки. Когда они обогнули восточный «котлован» и вышли к гротам, их нагнал посыльный. Люди из лагеря «эмиров» были на подходе. Начальник штаба Айдинов звал к себе. У него уже все собрались.
Оставив мальчугана у питомника в компании веселящихся на морозе молодых абреков, Кадиев ушел встречать «эмиров». Опять предстояли обсуждения. Совместные действия на юго-западных подступах к Грозному были запланированы еще на прошлый месяц, но из-за непогоды отложены. Душа не лежала к болтовне. Эти сборища, в узком кругу, Кадиеву давно претили. Однако и увернуться от них не было никакой возможности.
Сайпуди Умаров в новом сером камуфляже уже разместил гостей в штабном блиндаже. «Эмиров» поили зеленым чаем. Со вчерашнего дня, после того что произошло с Вареным у оврага, Кадиев Умарова еще не видел. Как только он поймал на себе его мрачно-сдержанный взгляд, а затем и взгляд начштаба, Кадиев понял, что объяснений по этому поводу не будет. Тема была закрыта. Молчаливый нейтралитет стал для Лечи Англичанина полной неожиданностью: среди уркачей Умаров пользовался авторитетом, в обиду своих не давал. Оставалось предположить, что «эмиры», — им не могли не донести о случившемся, — слишком рьяно относились к готовящимся операциям, чтобы придавать значение междоусобице, она шла вразрез с их планами. Но это означало и другое: выяснять отношения предстояло позднее…
Когда стемнело и моджахеды отбыли к себе, в блиндаже Кадиева собралась обычная для этого часа компания. В низком, жарко натопленном помещении стоял тяжелый кислый запах прелой одежды и немытых тел. В ожидании ужина почти все курили.
Дота притулился в дальнем углу блиндажа и как завороженный следил взглядом за взрослыми, глотая каждое их слово. Молодой чеченец, только что вернувшийся после обхода внешних постов, обрадовал всех сообщением, что наткнулся на след кабана. Зверь прошел краем леса, и не один, с целым выводком. Следы уводили выше, в сторону западного аванпоста. Но не идти же по следам на ночь глядя, и он обещал попробовать выследить зверя утром.
Кадиев, сидевший у печки в компании «почтальона» Арби, с которым весь вечер, едва проводили «эмиров», обсуждал свои дела, идею охоты одобрил. Просил только не стрелять без глушителей. По лицам собравшихся чувствовалось, что желающих попасть в команду охотников больше чем достаточно.
На входе в блиндаж показался начштаба Айдинов. Коренастый, бородатый, но без усов, амир поздоровался с теми, кого еще не видел, прошел к печке, где ему сразу освободили место, расстегнул добротный камуфляж на меху и, чему-то улыбаясь, одобрительно закивал. Затем начштаба разговорился с краснолицым и от печного жара разморенным Арби, за весь день у них еще не нашлось времени пообщаться. Начштаба расспрашивал Ахматова о том, как тот умудрился выйти на лагерь, минуя русские посты, и как он вообще нашел дорогу. Арби уверял, что им просто повезло, брели наугад, пока не наткнулись на своих, вот и вся премудрость…
Арби жаловался на всё более трудное положение в селах. Народ перебивался кто чем мог, многие жили впроголодь. От внутренних войск и армейских подразделений не было спасения: везде облавы, зачистки. Спецназовцы не церемонились ни с кем. Но и за безропотное повиновение безоружных жителей сегодня никто не мог поручиться, бунт мог вспыхнуть в любой момент, в любом месте. Особого впечатления сетования Ахматова на сидевших в блиндаже не производили.
А затем, вклинившись в дискуссию молодых чеченцев, один из которых рассказывал о паломничестве родственницы в Мекку, Айдинов заговорил на свою излюбленную тему: единственный путь к спасению сородичей начштаба видел в возвращении к «чистому» исламу с его кровнородственными порядками и традиционно семеричным укладом. Не только вайнахский, но и весь исламский мир живет не по закону, не по правилам, твердил Айдинов своим деревянным голосом, — не по тем правилам, которые могли бы гарантировать ему самосохранение. Потому что в основу нынешнего государственного правления повсюду заложена порочная система, навязанная исламским странам извне и якобы наихудшая из всех, с какими им пришлось столкнуться за всю их историю. И всё это вместо кровно-родовой системы. И всё это вместо «коренного», проверенного уклада жизни и правления, который испокон веков был присущ исламским странам. Вот за ним и будущее. Вот только распадутся неправедные государства и наступит хаос. За хаосом великим — и новый порядок. Кровнородственный. От единого предка в седьмом колене. Вот тогда-то весь мир, и не только мир нохчей, очнется от дремы и наконец-то пойдет по правильному пути…
Айдинов поносил своих же, чеченцев. Для наглядности еще и ссылался на Коран, который живущим неправедно предрекал якобы тягчайшие кары. Аллах, дескать, спросит с них по всем статьям, причем обуздает отступников руками сородичей и судьями назначит наихудших и наипадших из них.
Слушали Айдинова с каким-то онемением. И он продолжал проповедовать свое тем же непререкаемым тоном.
Рабская природа — вот и весь он, русский, как на ладони. Раб понятия не имеет, что такое ответственность. На то он и раб. Униженный и оскорбленный, он унижает и оскорбляет в свой черед. На судьбу свою он ропщет не только для того, чтобы вызвать жалость к себе. Думать по-другому он давно не способен. Поэтому он разрушитель от природы, причем любой системы, своей или чужой — это не имеет значения. Нет на свете такого порядка, который бы его устраивал. Не в пример этой бестолочи — хозяин раба, аристократ. Аристократ готов чинить сломанное. Готов убирать и мыть за другими. Аристократ даже чужому человеку протянет руку помощи. На грубость он ответит вежливостью. На зло и жестокость — добром. На растерянность и недоумение — поддержкой. Порядок он будет создавать своими руками, своим кропотливым трудом. Поэтому он и есть истинный хозяин положения. Но, увы, сегодня таких людей днем с огнем не сыщешь. Огнем и мечом всех их свели в могилу. И всё потому, что не больше не признавались кровнородственные узы, которые аристократию породили и благодаря которым она испокон веков существовала…
Однако вывод из речей Айдинова оставался непонятным: не призывал же он к восстановлению рабства в каком-то модернизированном варианте.
О действительных причинах внезапной взвинченности Айдинова большинство присутствующих догадывались и без цитат из Корана. Причиной было присутствие Кадиева. В переговорах о совместных действиях, затеянных «эмирами», оба командира расходились практически во всем. Спор вспыхнул и сегодня при «эмирах». Кадиев считал, что главное сегодня — беречь живую силу, стоять за каждого чеченца, будь то боевик или мирный житель. Он призывал к тому, чтобы избегать баталий, брать оккупанта измором, выживать. Не так уж непосильная задача — довести врага до нужной кондиции. Достаточно теребить его и жалить одновременно со всех сторон. По мнению Кадиева, тактика «наступательного вытеснения» являлась куда более эффективной, чем лобовые столкновения, за которые ратовал Айдинов. В здравой осмотрительности проку всегда больше. Напрасными казались Лече Кадиеву и упования фанатично настроенных моджахедов на СМИ, будь то свои, ичкерийские, или международные. Уже не один год бойня продолжается безо всяких правил, а по-прежнему находятся умники, питающие иллюзии, что у кого-то там, в далекой загранице, к происходящему на Кавказе появится интерес. В ожидании призрачной помощи из-за рубежа приходилось ежедневно воевать с регулярной армией — с танками, пушками, самолетами…
Проповеди Айдинова вызывали у Кадиева не меньшее отвращение. Он с трудом это скрывал. Ваххабитские идеи успели расползтись по всему Кавказу, а начштаба нахватался их в бывших лагерях в Автурах[8]. Эти идеи и фанатизм, которым Айдинов подзарядили уже соседи, упорно подливающие масла в огонь, довели беднягу до крайности: он даже одевался теперь соответствующим образом, ходил в нелепых обрезанных подштанниках, носил бороду, но сбривал усы.
Айдинов Абдул-Вахаб звал за собой, как в ад — громить федералов, денно и нощно, и чего бы это не стоило. Когда зверь прет прямо на тебя, бегством-де спастись невозможно. Единственное средство — пристрелить его. Или вогнать кулачище в пасть, да поглубже, в самую глотку, чтобы не смогла бестия ни глотать, ни дышать, чтобы дьявол захлебнулся собственным бешенством…
«Эмиры» внимали речам Айдинова с таким видом, будто и сами удивлялись, насколько в унисон их собственным умозрениям мог разглагольствовать чужак, по сути самозванец. Они во всем с ним соглашались, и обычно дружно кивали. Однако на деле судьбы чеченцев мало что для них значили, и именно это Кадиев пытался растолковать приближенным. Воевать в Чечню «эмиры» ехали не за маленький народ, а за ислам. Поэтому и действовать предпочитали по старинке. То есть медленно да уверенно, прибегая к тактике рассредоточенных диверсионных ударов — к тактике самого пророка Магомета, как «эмиры» любили поучать. В Айдинове их привлекала слепая преданность. В подходе Кадиева — как-никак, все жё трезвость. Отчасти по этой причине разногласия с Айдиновым не вылились в открытый раскол, хотя он давно казался неизбежным.
— С армией сладить невозможно, нечего людей кормить байками, — спокойно прокомментировал Кадиев поучения Айдинова, как только тот заговорил о более насущных проблемах лагеря. — Голыми руками?.. Расхлебывать будут не они, не «эмиры», а мы. Хлебнуть грязи мы их заставим, федералов. А чтобы всё вернулось назад, чтобы к власти допустили моджахедов…
— Допускают, когда им надо. Когда приспичит — допустят.
— Бред, не таким способом.
— Заставить русских собак нюхать говно… Заставить их жрать блевотину, которой они кормили нас столько времени! Столько веков! — твердил Айдинов свое, оставаясь глухим к приводимым доводам. — А в рабы будут проситься — не каждого возьмем… Только мужиков. Да только черненьких. А сучек в живых оставим — только беленьких. Остальных — на заводы, в шахты, за колючую проволоку…
Сморщенный старик в облезлой ушанке, телогрейке и разлезшихся валенках внес в блиндаж черную от копоти кастрюлю со щами.
Взгляды устремились на Кадиева. Тот кивнул. На столе появилась бутылка самогона. Все молча сели за стол и принялись за еду…
После ужина Кадиев вышел с братом на улицу. Над лесом прояснилось. Бездонное ночное небо, простиравшееся над лесом, резко контрастировало с духотой блиндажа, в которой они провели весь вечер. Ударил настоящий мороз. Вид заснеженных деревьев, которые искрились в лунном свете от инея и снега, напоминал другую жизнь, и в ней не было места войне. От этого чувства каждый раз становилось не по себе.
Кадиев спросил о матери. Рассказ Доты не радовал. Мать, как и все на их улице, приторговывала бензином у дороги. Если бы не помощь Лечи, которую мать принимала скрепя сердце, так как осуждала всех воюющих, неизвестно, на что они жили бы. Больная мать по-прежнему не могла попасть к хорошим докторам. До больницы своим ходом теперь вообще не добраться. Общественный транспорт — редкость. Приходилось обращаться к соседям. Те всегда помогали, отвозили. В Ханкале, у военных, где ей удавалось летом проходить хоть какие-то лечебные процедуры, нужных врачей не осталось; в госпитале сократили прием гражданского населения. Ехать нужно было в Нальчик или во Владикавказ. Или еще в Ростов, как советовали, — там находился филиал медицинской академии. Но мать решила ждать до весны…
Кадиев слушал молча, не прерывая. От юноши скрывали всю серьезность заболевания его матери. Лимфогранулематоз, злокачественная опухоль средостения, развивался вроде бы медленно, и где-нибудь в Швейцарии жизнь ей могли бы продлить еще не на один год, но не в Чечне, не в военных условиях. Еще с лета Кадиев обещал жене покойного отца принять все меры для переправки ее и Доты за границу. Он планировал вывезти их в Турцию через Дагестан и уже оттуда в Швейцарию. Под Сионом, где осел родственник, для мальчика уже подыскали место в частном коллеже-интернате. Имевшихся у Лечи личных сбережений родным должно было хватить как минимум на год, а дальше будет видно. Однако договоренность о переправке в Турцию внезапно лопнула. Кадиев попытался организовать отъезд заново, но пока его усилия не давали нужного результата…
От московского источника поступали всё более странные сведения. Месяц назад соседи по лагерю встречались с людьми генерала Агромова, главой ФСК. Встреча состоялась в Панкийском ущелье, в Дуиси. В обмен на лояльное отношение к новым ставленникам федеральной власти, нараставшее неприятие которых привело наконец к единству в стане воюющих, «шахматисты» из контрразведки предлагали гарантии безопасности всему укрепрайону в горах — и тому лагерю, и этому. Суть сделки заключалась будто бы в следующем: «эмиры» нуждались в гарантиях, без которых акции по вербовке в предгорных селах новых партий молодежи были поставлены под вопрос; без минимальной свободы действий осуществить такое невозможно. Период затишья был также необходим в связи с ожидаемой партией оружия и денег, по сведениям — небывало крупной. Груз доставлялся морем в Грузию, а оттуда вьючным способом через Панкисию всё это добро предполагалось переправлять в укрепрайон.
Федералы со своей стороны нуждались в затишье для перегруппировки сил и как всегда рассчитывали на денежный откат. На этих условиях стороны якобы и ударили по рукам. Однако точных сведений о сроках перемирия Лече Англичанину получить не удалось. Поговаривали, что «мораторий» продержится до весны.
Все эти сведения выглядели донельзя правдоподобно, но чем-то всё же напоминали ширму, необходимую для прикрытия более серьезных действий, — данная мысль пришла Кадиеву в голову сразу же, как только ему стали известны подробности. Его мнение разделял и московский источник. Настораживал уже сам факт, что о доставке крупной партии оружия и казны знают все. Попахивало приманкой. Офицеры ФСК любили выдавать себя за коррупционеров, без колебаний вступали в меркантильные переговоры. На деле — стремились завязать контакты, чтобы через живую связь прощупывать (корова, и та мычит и просит, чтобы ее подоили…), кто чем дышит в стане противника. Это позволяло наперед просчитывать ходы. А когда в результате шантажа или подкупа цемент схватывался, «клиента» было уже нетрудно подтолкнуть к принятию нужного решения. При грамотном психологическом подходе метод работал безотказно. Ведь при данной тактике получалось, что истинная лояльность продажного лица не поддавалась никакой проверке, а сама продажность еще и превращалась в алиби.
Что поражало в сообщениях из Москвы, так это то, что федералы имели самые доподлинные сведения не только о путях обеспечения лагеря провиантом и амуницией, как через Панкисию, так и через Джайрахское ущелье, но и о каналах связи, составе соединений, их численности и вооружении; имелась информация даже о пленных, живших в лагере. Сливать сведения могли, конечно, и сами «эмиры», дозированными порциями выцеживая информацию, которую считали не очень ценной, в обмен на какие-нибудь мелкие услуги или чтобы задешево приобрести кредит доверия, — на него дефицит никогда не падал. Но столь серьезные обвинения требовали веских доказательств. Ведь именно «эмиры» больше всех тряслись за соблюдение конспирации и постоянно висели над душой со своими наущениями: слишком, мол, много людей (неконтролируемых ими), курсирует между лагерем и равниной.
Утечки шли явно из лагеря, это казалось очевидным. Через кого-то из рядовых боевиков? Едва ли. Через командиров? Сайпуди Умаров? Сам начштаба — верный наиб «эмиров»? Если так, то ждать можно вообще чего угодно. Но тогда неожиданно зависало всё сразу: каналы связи с равниной, каналы связи с Москвой. Зависали, в конце концов, и сами операции. Если за спиной велись переговоры о «моратории», то о каком согласовании действий с соседями могла идти речь и какие вообще операции можно проводить совместно?
Перебирая имена, фамилии и подноготную всех и каждого, Кадиев не мог прийти к какому-либо однозначному заключению. Ошибку мог совершить кто угодно. А если уж смотреть на вещи совсем трезво, то предателем мог оказаться чуть ли не каждый третий. В такой каше, которая варилась здесь сегодня, и при такой безысходности, от людей можно было ждать чего угодно. Из списка подозреваемых Кадиев исключал только людей из своего подразделения, тех, кто находился в его непосредственном подчинении.
Начштаба Айдинов — вот к кому в глубине души Кадиев испытывал настоящее недоверие. О прошлом начштаба слухи ходили разные. Послужной список — длинный, путаный. Бывший офицер еще союзного МВД, он успел побывать «ичкерийцем», оппозиционером, одно время прислуживал во Временном совете, пока «шахматисты» не добрались и до оппозиции, пока не скомпрометировали Совет и фактически не развалили его, как только надобность в нем отпала. Затем, уже после лагерей в Автурах, Айдинов примкнул к моджахедам. И вот сегодня, матерый ваххабист, он годился на любую роль, мог прислуживать и «восточному альянсу», и пришлым воинам Аллаха, и иорданцам, и саудитам. Поговаривали, что еще во времена Временного совета Айдинов путался со спецслужбами. Но кому удавалось избежать этого в те годы, если сам Совет являлся детищем «темной силы»? С другой стороны, так долго оставаться в автономном управлении и не всплыть на поверхность? Это казалось тоже маловероятным.
Однако стоило дать этой версии шанс на существование, и многое тотчас прояснялось. Становилось понятно, почему федералы, раз уж для них не было никаких секретов, вот уже столько времени не наносят по лагерю ударов, хотя бы с воздуха. Если и так всё можно держать под контролем, зачем транжирить бомбы? Пальнуть из хорошей пушки — и все разбегутся. На месте разбежавшихся появятся другие, неконтролируемые. Больше не выглядел загадочным тот факт, что самыми большими потерями оборачиваются наиболее просчитанные операции. Находило объяснение и пристрастие Айдинова, шатойского горца из рода хакхой, к радикальному исламу, завезенному на его родину как раз «шахматистами», той самой «темной силой»…
Вкупе с дурными новостями пришла и хорошая. В результате многомесячных усилий удалось нащупать потенциальный контакт среди генералитета, среди тех, кто не запачкал руки кровью, нефтедолларами или просто деньгами. Поиском таких контактов Кадиев занимался второй год и едва не скомпрометировал себя в глазах собратьев. До сих пор поиски ни к чему путному не приводили. И вот наконец — удача!
Речь шла о петербургском генерале, начальнике оперативного отдела штаба округа. Выросший в Казахстане, куда сослали когда-то его отца, генерал-майор воспитывался мачехой-чеченкой. Перед началом первой кампании, как и многие, кто понимал, что происходит, он подал рапорт на увольнение. В войска вернулся со сменой верховной власти в стране. Через брата, который служил в Администрации, у него имелся выход на нужные круги, фактически минуя «темную силу». Более подходящего кандидата для переговоров с высшим военным руководством, с теми, кто способен принимать хоть какие-то самостоятельные решения или просто влиять на процесс их принятия, вряд ли можно было отыскать во всей России. Фамилия генерал-майора была Окатышев. В Москве советовали ждать, пока не будет найден ключ к ситуации. Но что-то требовалось предпринять и у себя в лагере.
На учебные сборы, которые проводил начштаба, Доди бегал на правах вольного слушателя вместе с другим подростком по прозвищу Гай. Занятия проходили на стрельбище, в «мертвой» зоне, начинавшейся за блиндажами. В одном из этих блиндажей оба подростка и обитали. Лес отсюда расступался к оврагу широкой падью, образовывая просторную, наглухо закрытую со всех сторон расщелину. Место для стрельбы выбрали идеальное. Эхо выстрелов гасло между скалами и стеной ельника. Уже с другого конца лагеря пальба из АКМа едва слышалась.
Айдинов не брезговал при обучении молодняка ни муштрой, ни хамским окриком. Всякий раз начштаба выстраивал «абитуриентов» в шеренгу и, заставляя по колено стоять в снегу, не спеша обходил строй. Презрительно всматриваясь в физиономии молодых абреков, он для профилактики, чтобы раньше времени не возомнили себя воинами Аллаха, яростно всех облаивал и только после «разминки» давал конкретные установки, от исполнения которых зависел последующий ход занятий. Упор в обучении делался на способы передвижения и маскировки. Подрывному делу будущих боевиков обучал молодой русский инструктор Мирон, завербованный совсем недавно.
Осмотр «войска» закончился. По команде «разойдись» шеренга рассыпалась по сторонам. По примеру Доди и Гая стайка новобранцев расчистила себе место на бревнах. Троица парней помоложе, проваливаясь в рыхлый снег, стала спускаться в низину, чтобы расставить мишени вдоль противоположной скалы…
Разыскивая Доди, Леча Кадиев пришел на стрельбище в тот самый момент, когда начштаба, пересыпая свою речь отборной руганью, заставил четверых парней переползать через поляну «тигром». Разгребая локтями снег, все четверо зарывались в него чуть ли не по шею — именно так учил Айдинов день назад.
— Глаза должны в морду смотреть… Да не на него, в морду противника! А автомат — на спине! Куда ты им тычешь, баран?! — орал Айдинов. — А ты, позор своего рода, автомат в руки возьми! В расположении противника, если автомат будет болтаться возле одного места, пулю в лоб получишь!..
Затем начали отрабатывать кувырки через голову в сочетании со стрельбой. Главная сложность заключалась в том, чтобы в момент кувырка, нажимая на спусковой крючок, не запутаться в направлениях. Сухие короткие очереди с резким треском рассыпались над лесом. С заснеженных елей вспархивали птицы. На головы падали комья снега. Но это было лишь разминкой по сравнению с тем, что ученикам предстояло проделывать дальше, исполняя всё более заумные команды свирепевшего на глазах начштаба.
— Когда отстреляться хочешь быстро, падаешь с перекатом. А когда упал, нужно два или три раза поменять место. Перекатом, чтобы сбить прицел копра… Ты, как тебя… а ну, бегом сюда! — прикрикнул Айдинов на молодого азербайджанца, Гомера Алхазова, который как зачарованный следил за каждым жестом инструктора, явно не чувствуя себя способным на такой акробатический трюк. — Да морду, морду не выставляй! Язык откусишь и сожрешь. Шевелись, болван!..
По вчерашнему занятию начштаба знал, что этот номер неплохо получается у племянника Кадиева. Доди проделывал всё с обезьяньей ловкостью да с таким старанием, что на лицах взрослых появлялись улыбки. Айдинов подозвал подростка. Тот сорвался с места и подлетел к инструктору. По первому зову готовый идти за наставником в огонь и воду, Доди схватил протянутый автомат со сложенным прикладом, присел на корточки и стал проворно, опираясь на кулаки, немного боком перемещаться вперед по утоптанной дорожке.
Заметив у бревен Кадиева, Айдинов кивнул ему. Они обменялись подобием улыбки — впервые за всё время лагерного сосуществования. Леча — откровенно лицемеря. Айдинов — не меньше. Кадиев не мог не почувствовать фальшивость чужого радушия.
В тот же миг начштаба достал из кармана что-то круглое, размером с булыжник, и запустил в сторону сидевших на бревнах парней.
Те как ошалелые бросились в снег. У бревен остался стоять один Кадиев.
— Бараны! Бараны! — заорал Айдинов. — Трупы! Все вы безногие, безголовые трупы! Сколько можно объяснять, бестолочи, что к гранате залегать башкой надо, а не яйцами! Башку нужно закрывать руками и рот открывать! Почему? Я спрашиваю — почему?! Что языки проглотили, собачье отродье?
— Чтобы, ну это… «мертвая» зона. Осколки мимо пролетят… Даже если метр от гранаты, — испуганно протараторил парень, которому Доди вернул его автомат.
— При стрельбе то же самое. Если по тебе палят с близкого расстояния, закрывайся, чем можешь. Бумагой, тряпками, одеждой… Или вот этим дураком, который встал рядом как осел… Почему? Почему, я спрашиваю!
— Пуля… ну это… теряет силу. Ранение нетяжелым будет, — донеслось из строя.
— Повезет — контузией отделаешься. Пуля калибра пять сорок пять если задевает тебе череп, она рикошетом уходит…
Продолжая наблюдать за Айдиновым, Кадиев поймал себя на неожиданной мысли: в глубине души он давно знает, кто этот человек, но всегда почему-то лукавит сам с собой. Правда была написана у начштаба на лбу. Если кому-то и досталось умение с выгодой для себя послужить хозяину, да не одному, а сразу нескольким, если кто-то и был способен подрабатывать на две стороны, на оба лагеря, то тень подозрения в первую очередь падала именно на этого человека. Нечасто, но и среди своих, чеченцев, встречался этот особый тип человека-лакея, которого отличала необычная, в сущности, черта — психология врожденного раба. Корнями своими этот менталитет врастал в безродность и неизбежно приводила к погоне за чинами, за положением, а там и к низости, к отречению от своих, потому что своими они являлись просто в силу обстоятельств.
Вопреки неодолимому чувству гадливости, Кадиев испытал некоторое облегчение. Окажись догадка верной, из-под подозрения сразу выпадали другие, те, кто ничем себя не запятнал. Кадиев тут же принял внутреннее решение сделать всё от него зависящее, чтобы Дота, всеобщий любимчик Доди, больше ни разу не попал к начштабу на занятия…
Несмотря на разноречивые сведения из Москвы, неистовые поборники джихада продолжали требовать учащения диверсионных вылазок, и в первую очередь на своей законной территории, в предгорных районах, где федеральным силам удавалось держать всё под контролем. По крайней мере, в дневное время. Зима стояла снежная, погодные условия не благоприятствовали использованию авиации, но федералы смогли пристрелять даже подступы к тропам, многие из которых оставались проходимыми. Округа находилась под прицелом. В двух селах, в рамках кампании по борьбе с «привозной ваххабитской заразой» (так говорилось в листовках, разбрасываемых с воздуха), спецназовцы чуть ли не в упор перестреляли мужское население, схватившееся за оружие от страха, что чумазая солдатня опять разгуляется или, того хуже, решит увезти мужчин с собой для продолжения «разбирательств» в другом месте — до полного удовлетворения своим геройством.
Требовалась как никогда согласованная тактика. Но «эмиры» придерживались всё менее ясных позиций, Кадиев начал замечать это еще с лета. С одной стороны, требовали более тесных контактов, с другой — чего-то выжидали, тянули кота за хвост. На взаимодействии они открыто настаивали только тогда, когда припекало их самих. И вот в разгар зимы именно они стали взахлеб агитировать за активное координирование операций и каждодневный обмен информацией. По их мнению, создание общей цепи сил поддержки могло быть единственной гарантией боеспособности на зимне-весенний период. Чем объяснялась столь резкая перемена в настроениях? Истинные намерения «эмиров» оставались для Лечи загадкой.
В результате многодневных дебатов в лагере Кадиева наконец приняли предложение создать мобильную группу связи, в которую вошли по три человека от каждой из сторон. Что же касалось тесного взаимодействия, тут Леча Кадиев иллюзий себе не строил. Он всё больше склонялся к мысли, что главная цель, которую преследовали в соседнем лагере — это получить максимальный контроль над его людьми. Ведь ничего нового предлагаемая тактика не подразумевала. Предстояло принять твердое и бесповоротное решение, но какое? Пойти на обострение отношений с соседями? Раз и навсегда расставить точки над «i»?
Для многих, кто воевал под его началом, война стала кровной. Счета федералам давно предъявлялись личные. Но стоило ли направлять энергию людского гнева в то или иное русло и пытаться притормаживать набирающее обороты противостояние, выгадывая наиболее удобный момент для сфокусированного воспламенения копившейся таким образом ненависти? Пользы в кровопролитных столкновениях Кадиев по-прежнему не видел.
Вместо того чтобы устраивать «показательные набеги», которые пусть и оборачивались для федералов десятками трупов, пусть и заставляли одутловатых армейских генералов во всеуслышание оправдываться перед ошарашенной российской общественностью за неоправданно тяжелые потери, Кадиев предпочитал проводить свою обычную линию, но отныне ее не афишируя. Суть отработанной уже тактики сводилась к нанесению внезапных ударов. Хаотичным действиям довольно трудно противопоставить методичный отпор, и именно такие схемы разрабатывались в штабных кабинетах.
По настоянию Кадиева, одним из пунктов окончательно согласованного с «эмирами» плана явилось решение продолжать рассредоточенные удары по автоколоннам. По войсковым же частям федералов в местах их дислокации предлагалось наносить удары сконцентрированные и выборочные. Бить там, где спят, едят, справляют нужду… Деморализующий эффект таких операций даже трудно переоценить.
Именно в штабе Кадиева к началу февраля созрел план, согласно которому сводной ударной группе из тысячи активных штыков предстояло тремя автономными клиньями врезаться в расположения российских баз близ Аргуна, ввести федеральные силы в заблуждение (с этой целью предполагалось имитировать прорыв в ложном направлении), а затем нанести удар, что называется, под дых. В соседнем лагере поторапливали, обещали всестороннюю поддержку, какая до сих пор и не снилась — людьми, оружием, экипировкой, деньгами.
Для Кадиева оставалась нерешенной одна проблема. В том случае, если намеченную операцию удалось бы осуществить по расписанной схеме, итог ее мог привести к полному переформированию подразделений и частичному роспуску личного состава. Были шансы, и немалые, что большинству из тех, кто будет вовлечен в операцию, уже не придется возвращаться на старую базу. Привести обратно планировалось только часть отряда. Остальным предстояло слиться с другими группами и частично рассеяться, уже до весны.
Кадиев не знал, как быть с Дотой. Оставлять паренька в лагере со столь туманными перспективами он не мог. Да и не на кого было оставить. Через Дагестан и Азербайджан переправить Доту в Турцию, а оттуда в Швейцарию — план идеальный, но в ближайшее время неосуществимый. Реальных личных связей за пределами Кавказа практически не осталось. Взрослого можно заслать хоть на край света. А вот как быть с подростком? Прямиком из Чечни в дальнее зарубежье Доту можно было переправить только через соседей. Там регулярно принимали вертолет, курсировавший между укрепрайоном и Ахметским районом Грузии. Этим путем мальчугана могли доставить только в Поти. От Поти до Турции рукой подать… Ну а дальше что? Просить в соседнем лагере о содействии? Но ведь речь шла о переправке не в Иорданию или Пакистан, а в Европу, к «неверным», против которых «эмиры» ехали сюда воевать — по крайней мере на словах, теоретически. Можно ли этим людям вообще доверять? И что в таком случае делать с матерью Доты?
А может, отправить их окольным путем? Сначала поездом на Назрань, а оттуда в Москву? Составы вроде бы не проверяют. А в Москве сдать обоих на попечение землячеству, чтобы дальше их вывезли цивилизованно, через Шереметьево? Пока же не оставалось ничего другого, как отправить Доту домой, чтобы дожидался решения своей судьбы вместе с матерью…
Что же до остального, то многое зависело от развития событий в предгорье, где несколько чужих подразделений, выбитых федералами из Завадского района, продолжали отходить к горам, чуть ли не ежедневно попадая под обстрел. Одна из групп, которую преследовали части горно-стрелковой бригады, второй день уже сообщала о своем продвижении в южном направлении от Бамута. Группа просила принять ее в лагере…
Остатки отряда, двадцать восемь человек, из них семеро раненых, вошли в лагерь в четыре часа утра. Среди ночи пришлось расселять измученных, голодных, грязных и обмороженных людей по блиндажам.
Один тяжелораненый отдал душу Аллаху еще в дороге; тащившие его на себе даже этого не заметили. Другой дотянул до утра; прооперировать его ночью было некому. Кадиеву сообщили, что один из пленных, которого отправили копать могилы, подвернулся уркачам под горячую руку, и его зарубили лопатами.
Седьмого февраля сводная подвижная группа в тридцать штыков, сколоченная из людей разведывательно-диверсионного батальона Кадиева и пополненная тремя снайперами, связистом и двумя опытными саперами из лагеря «эмиров», получила приказ спуститься в предгорье, проделать марш-бросок в район Ермоловки и занять заранее подготовленную позицию на Грозненской трассе для нанесения удара по тыловой армейской колонне.
Колонна, вышедшая из Моздока, направлялась в гарнизон под Урус-Мартаном через Братское, Кень-Юрт, станицу Первомайскую и Завадский район Грозного. Она должна была пересечь Ермоловку в утренние часы. По имеющимся данным, серьезного сопровождения колонна не имела. Но данные вызывали некоторые сомнения, поскольку выезд из города через Алхан-Калу федералы никогда не считали безопасным; перепроверить сведения не представлялось возможным…
Группа поддержки Айдинова, набранная на две трети из «абитуриентов», к месту нападения выдвинулась с юга, через Мартан-Чу. Цель, поставленная перед его группой, заключалась в подстраховке отхода Кадиева на Катыр-Юрт и Шалажи, откуда главное подразделение заходило на Ермоловку, если оно вдруг завязнет в перестрелке. Однако предполагалось, что необходимости в участии штурмовой группы Айдинова не возникнет; группе поддержки предписывалось не обнаруживать себя без крайней надобности. Заодно в обязанности Айдинову вменялись проводы Ахматова и юного родственника Кадиева домой. Повод для проводов представился не самый подходящий, но тянуть с решением Кадиев не хотел больше ни дня. Арби Ахматову так или иначе предстояло вернуться домой, и это позволяло вместе с ним выпроводить Доту. Другой такой возможности в обозримом будущем не предвиделось. В задачу Айдинова входило оставить путников на трассе, по дороге в Старые Атаги, чтобы дальше они шли своим ходом, уже знакомым им маршрутом…
В назначенный час, незадолго до рассвета, успев под покровом ночи совершить тяжелый переход, группа Айдинова вышла к заданной возвышенности с юга от трассы. Как Кадиев проинструктировал Айдинова, тот не стал отпускать Арби и подростка сразу, поскольку обстановку на дороге не удавалось выяснить до конца. А потом оказалось поздно, время было упущено: от места операции путники уже не успевали отдалиться на достаточно безопасное расстояние.
Еще в темноте, с интервалом в полчаса, по трассе прошли две колонны. Первая — вроде бы комендантская. За ней — армейская радиоразведка, с утра, как положено, осматривавшая обочины. Наблюдалась аномально повышенная эфирная активность — как раз на участке запланированного удара.
Как только занялась заря, из развалин домов, в которых укрылась группа поддержки, открылся хороший обзор. Трасса тянулась прямо перед глазами. Уготованную в жертву колонну ждали не раньше чем к десяти утра. Всё шло по плану. Отряд Кадиева тоже уже занял позиции. Даже зная о его местонахождении — между катакомбами и лесопосадкой — визуально не обнаружишь. Когда на спуске показались первые машины федералов, часы показывали половину одиннадцатого.
Семь тентованных «уралов», автобус и бензовоз еле-еле ползли. По-видимому, из-за гололеда. Броневого сопровождения, как и предполагалось, колонна не имела. Верным оказался и расчет на то, что в непосредственной близости от расположения своих баз армейцы не ждали серьезных неприятностей.
Как только головной «урал» выехал на сигнальный поворот, прогремел первый взрыв. Машина вспыхнула, как спичечный коробок. Из гранатомета тут же подбили второй «урал», а из стрелкового оружия открыли огонь по высыпавшим на дорогу фигуркам. Не успели федералы залечь вдоль обочин, как их выкосило плотными очередями пулеметов и автоматов.
Кто-то из гранатометчиков угодил наконец по бензозаправщику. Цистерну вмиг разнесло. Взметнулся огненный факел. Его раздувало в кривой столб копоти, черным сапогом возносящийся над дорогой. И только через двадцать минут с другого конца трассы показалась помощь. На полном ходу шли три бронемашины.
Группе Кадиева следовало отходить, не ввязываясь в бой. Айдинов приказал двоим гранатометчикам спускаться к дороге, наперерез бронемашинам, а остальным ждать, не обнаруживая своего присутствия. Один из гранатометчиков смог приблизиться к противнику на расстояние выстрела. Первая БМП, начавшая, было, наугад палить по лесопосадке из башенного орудия, лишь успела вытолкать с проезжей части догорающий головной «урал», как была подбита с первого же выстрела. Затем опытный гранатометчик угодил и во вторую бронемашину, но она оставалась на ходу. Продолжая вслепую перепахивать снарядами пустошь по сторонам, вторая БМП отползла назад.
Стрельба стихла. Радист Кадиева передал Айдинову, чтобы тот оставался на взгорке до тех пор, пока группа Кадиева не отдалится от трассы на пару километров.
Собравшиеся вокруг амира абреки возбужденно следили за дорогой. Операция прошла успешно. Для многих парней она представляла собой боевое крещение. Теперь все молча передавали друг другу бинокль. Боевики поочередно разглядывали дорогу, по обочинам которой лежало десятка полтора солдат. Некоторые еще шевелились. От машин остались одни обугленные и всё еще тлевшие каркасы.
Один из молодых абреков, которому бинокль достался в последнюю очередь, показал перчаткой в поле, далеко за дорогу. На белом фоне ослепительно отсвечивающей заснеженной глади отчетливо просматривались две чернеющие фигурки. Фигурки барахтались почти на одном месте. Беглецы, видно, понимали, что их могут взять в оптический прицел, и улепетывали в направлении солнца. То и дело залегали, выжидали, вскакивали вновь и постепенно отдалялись от пепелища.
Айдинов подозвал снайпера. Выбрав удобное место на выступе в стене, тот припал к прицелу, но амир остановил его:
— А ну, зовите сюда Доди!
Тот пулей подлетел к командиру.
— Хочешь попробовать? — спросил Айдинов.
— Я… Я не промажу! — лицо подростка запылало от возбуждения.
Мальчишке протянули обмотанную тряпьем винтовку с японской оптикой.
— Только не торопись, целься хорошо, — подбодрил Айдинов. — Всё равно не удерут. Дай подняться, потом стреляй. В голову… или в жопу. Между ног целься! Между ног! Сам жить не захочет. Найди упор, вон там, на окне.
Дота перебрался по кирпичному лому, пристроил винтовку на выступе, проверил затвор и стал целиться. Обе фигурки вновь отделились от снега и побежали, петляя по голому пространству в направлении возвышенности, за которой рассчитывали, по-видимому, укрыться; до холма оставалось метров двести.
Прогремел выстрел. Одна из фигурок взмахнула руками. Обе фигурки упали.
Айдинов приставил бинокль к глазам и несколько секунд всматривался.
— Один готов. Молодец! — похвалил начштаба. — Теперь второго… Вот сейчас, смотри — вскочит! Целься!
Раздался второй выстрел. Упала и вторая фигурка.
— Первого прямо в темечко. А другого… Точно — в жопу! Ай да Доди! Ай да молодчина!
Подыгрывая командиру, наблюдавшие передавали друг другу бинокль с таким видом, будто участвовали в азартной игре.
— Сбегаю проверю? — предложил снайпер, доверивший мальчугану свою винтовку.
Айдинов остановил взгляд на подростке. Трясясь, как в лихорадке, тот хотел что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни слова. Начштаба ответил на вопрос отрицательным жестом и приказал оттягиваться к лесу: вертолеты могли появиться с минуты на минуту…
Первое, о чем подумалполковник Майборода при виде доставленного к нему худосочного местного паренька, который шнырял глазами по углам, как загнанный звереныш, это о безвыходности своего собственного положения. Сколько не перечитывал он накануне записи допросов, в голове у него по-прежнему что-то не укладывалось.
В представлениях военного человека с опытом, видавшего виды, которому довелось участвовать в реальных боевых действиях, противником может быть кто угодно — регулярная армия, повстанческая, наемная, в иных случаях даже своя, родная, — можно вообразить себе и такое. Разве не с этой реальностью воюющие стороны сталкивались в республике вот уже несколько лет? Но как воевать с дремучим лесом, с нечистой силой, с самой стихией? Объявлять ей войну было бы так же абсурдно, как попытаться бороться с ураганом или остановить землетрясение. Этнос — разве не является он этой стихией? И будь этот этнос приговорен иноплеменниками к прозябанию и вечному рабству, будь он обречен на исчезновение в силу исторических или еще каких-либо причин — он выживает, подобно плющу, цепляющемуся за голые скалы. Как воевать с людьми, считающими себя прямыми потомками всех племен и народов, в том числе тех, что сегодня пришли их порабощать? Как быть, если даже желторотые представители этой народности, наподобие заморыша, приведенного на допрос, голодную собачью жизнь предпочитают протопленному дому, школе, спортплощадке? Природа мальчугана, какой-то невидимый червячок, вгрызшийся в его ДНК, не давала ему возможности стать другим. Как не могли быть другими его сородичи, чеченцы, шесть тысяч лет, если им верить, прожившие на одном клочке земли — несчастной, сто раз истоптанной сапогами чужих солдат.
Этнос не мог быть воюющей стороной. Потому что войны, которые ведутся с таким противником, выходят за рамки государственности и потому что они толкают людей в ветхозаветную безысходность взаимоотрицания по крови. Эта проблема неразрешима в рамках одной человеческой жизни. Выход из такой ситуации возможен только с исчезновением одной или всех сразу противоборствующих сторон.
В поведении паренька, в мотивировках его поступков Майбороде виделось что-то нечеловеческое. Дело было не только в возрасте. Сопоставляя два природных типа — чеченца и русского, — полковник давно уяснил себе следующее: чеченцы по-другому относятся к крови, и не только тогда, когда свежуют барана, не только в вопросах родства и брака. В этом идеально скомбинированном, уникальном составе белков и эритроцитов чеченец инстинктивно чувствует особый смысл. Чаще всего, даже сам не сознавая, он подчиняет этому ощущению свое мировоззрение. О русском человеке такого не скажешь. Майборода, сколько бы ни старался, не смог бы убедить себя в том, что в крови есть что-то такое, что требует от человека сверхъестественных усилий, жертвенного выворачивания себя наизнанку, сверхотдачи. Как и поголовное большинство русских людей, он умел отдавать должное наследственности, родству. Но никаких таких ощущений, а тем более убежденности, что кровь — начало всему, у него не было, да и быть не могло. Слишком чуждо это природе русского человека…
В кутузку сопляка загребли повторно. Но, как и в прошлый раз, выходило, что по чистой случайности. Налицо был следующий факт: в первый арест паренька, датированный октябрем, в комендантской роте, которая вела дознание, просто не потрудились согласовать имеющиеся сведения с УВКР, не проявили должного усердия, пренебрегли инструкциями, а возможно, поленились тряхнуть арестанта подобающим образом. Законы не предусматривают адекватных мер в отношении несовершеннолетних. Но именно поэтому такие вот арестанты, удравшие от папы с мамой, и заканчивали жизнь в канавах; война всё списывала. Выявление связи, причем родственной, между подростком и его сводным братом — именно братом, а не дядей, за которого тот выдавал себя среди однополчан и сородичей, пытаясь запутать свои биографические данные, поскольку давно числился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях, не представляло трудности еще тогда, в октябре, если бы люди должным образом относились к своим обязанностям. Расплачиваться за халатность пришлось как всегда другим…
В местной администрации хорошо знали и мать мальчугана, и его самого. Местные служащие утверждали, что Леча Кадиев, с тех пор, как поехал учиться в Англию, в родном селе не появлялся. Единоверцы, конечно, лукавили. Мать паренька, прописанная в Грозном, в прошлом врач, а теперь сама сраженная тяжелым недугом, в свои неполные пятьдесят выглядела старухой. С отцом парнишки, с покойным Кадиевым-старшим, она рассталась еще до того, как тот погиб у блокпоста под Ярышмарды. История по местным меркам самая прозаическая. Но именно за счет таких вот чеченских семей местные моджахеды и пополняли свои ряды.
— Теперь тебе так просто не отделаться, — устало пригрозил юному арестанту Майборода, сев на стул перед Дотой. — Это тебе понятно?
Подросток презрительно сверкнул глазами.
— Тебя что, не кормят? Почему худой такой?
Ответа не последовало и на этот раз.
— Кто ты по национальности?
— Дзурдзук, — буркнул мальчишка.
— Это кто такие?
— Чеченцы мы, из Грузии.
— Бацбиец, что ли? Очень интересно… И брат твой, он тоже бацбиец?
Подросток молча супился.
— Ты когда его видел в последний раз, брата?
— Нет у меня братьев, — отрекся паренек.
— Неужели? Или ты предпочитаешь, чтобы я дядей его называл? Как все?.. Хорошо, с дядей когда ты виделся? Где именно?
— Давно уже, — ответил паренек.
— Когда?
— Осенью.
— Где?
— Да там.
— В горах?
Паренек молчал.
— Где, я спрашиваю? Язык проглотил?
— В лесу.
Полковника удивляло, что чеченский паренек, наполовину грузин, по-русски говорит без малейшего местного акцента. Но Майбороду предупреждали об этом и офицеры, проводившие первые допросы. Чистая русская речь подростка вызывала у всех какую-то досаду. В этом проглядывало что-то несуразное, не вписывающееся в стереотипы.
— В лесу, говоришь… — повторил полковник. — Это в каком же?
— Я хотел домой уйти, не отпускали… Заставляли работать. Стирал, воду носил.
— Тебя заставляли? Брата самого Кадиева? Да кто ж тебя мог заставить? — усмехнулся Майборода.
— Заставили.
Паренек твердо придерживался своей первоначальной версии, уже не раз запротоколированной.
— Откуда воду носил? Из реки? Из ручья? Или, может, там краны с горячей водой, получше, чем у нас здесь? Ты так объясни, чтобы я понял. А то сидим здесь, круглые идиоты, воображаем непонятно что! Чего ж ты тогда удрал? Ночью, говоришь? Что, вот так прямо собрался и деру дал? Всю ночь, что ли, по лесу шастал?
— Да, всю ночь, — подтвердил подросток.
— И дорогу, понятное дело, не помнишь.
— Темно было.
С минуту Майборода перебирал на столе бумаги, а затем без напора, спокойным тоном поинтересовался:
— А пришлые ваххабиты что такое, слышал?
— Слышал.
— И что ты думаешь о них?
— Ничего. Ненавижу их.
— Это еще почему?
— Не наша это религия.
— А чья?
— Ваша.
— Моя, что ли? — удивленно спросил Майборода.
— Арабская. Это вы их сюда привезли. Раньше их здесь не было.
— Это мнение дяди твоего, так я понимаю?
— Все так думают.
Полковник задумчиво произнес:
— А мне так казалось, что и до арабов здесь была эта религия. Это сегодня вам мозги запудривают. И ваши, и наши…
— Не знаю.
— Дениев Адам, слышал о таком?
— Нет, не слышал.
Майборода помолчал.
— Чеченцы — это ладно, своих ты покрываешь. А наемников? Много их в лагере? — спросил полковник.
— Не знаю, — повторил мальчуган.
— Видел хоть одного?
— Вообще, видел, — нехотя признался Дота, понимая, что если будет упорствовать и молчать, ему вообще перестанут верить. — Двоих видел. Но они ушли потом.
— Откуда? Кто такие?
— Не знаю.
— Арабы? Иорданцы? Китайцы, может быть?
— Может, арабы. А может, нет.
— А ушли куда?
— В горы куда-то.
— А ты хоть знаешь, дырявая твоя голова, против кого они воюют? — допытывался полковник.
— Против вас.
— Зачем?
— Религия у них такая.
— Какая?
— Ислам.
— И чтó, что ислам?
— С неверными надо воевать.
— Это по исламу?
— По исламу.
— А говоришь, что ненавидишь их…
Настороженно посапывая, паренек опять замкнулся в себе.
— А если сам пулю подловишь? Не страшно? Неужели сытым быть не хочется, пожить в тепле, в школу ходить? — поинтересовался Майборода.
Юный нохчо, не реагируя, косился в сторону. Полковник поднялся из-за стола и стал вымеривать шагами цементный пол.
— Ну ладно… Ты вот что мне скажи. Там, под Ермоловкой через оптику ты стрелял? — заговорил он о другом. — Да или нет?!
— Нет, не я, — с тем же холодным упорством ответил Дота.
— А кто?
— Не знаю.
— А знаешь, что ждет тебя за убийство двух человек? Знаешь или нет?!
Парень настороженно молчал, старался делать вид, что испуган.
— Или ты думаешь, что тебя в пионерлагерь отправят с каким-нибудь особым режимом? Нет таких лагерей, это я могу точно сказать! Ты понимаешь, что будет, если я отдам тебя ребятам, которые ездили тебя забирать? Пристрелят ведь, как паршивого пса… Если этого еще не случилось, то только потому, что я этого не захотел, понял?… Так кто стрелял, я спрашиваю?
Дота и бровью не повел.
— Или тебе привести одного из твоих друзей, прямо сюда? С вами у трассы, когда вы колонну обстреляли, был еще один подонок. Он тут рядом сидит, подловили касатика… Привести?
Майборода прекрасно знал, о чем говорил. По сведениям, полученным при допросах одного из боевиков, воевавшего в отряде Айдинова, месяц назад раненого и задержанного под Ханкалой, несовершеннолетний родственник Кадиева, оказавшийся в тот февральский день в числе нападавших, выстрелом из снайперской винтовки уложил наповал двоих, пока они пытались спастись бегством: водителя интендантской службы и прикомандированного к колонне фельдшера из Моздока.
— Так привести? Или сам расскажешь? — подстегнул полковник.
— Давай, приводи, — огрызнулся подросток.
Майборода и сам не знал, что на него нашло, но приблизившись к подростку, он вдруг размахнулся и съездил ладонью ему по лицу. Из ноздрей арестанта брызнули алые сопли…
В середине февраля «грозненский косяк» — так федеральное командование окрестило штурмовой чеченский батальон после его обнаружения на территории бывшего гарнизона, — был выбит из сектора английских коттеджей, с 35-го участка. «Косяк» оттянулся к холму с телевышкой и, повернув на восток, в поглотивший его лесной массив, смог ускользнуть из-под удара. Теперь бандформирование пыталось пробиться в горы. Вдвое поредевший, батальон следил недобитыми ранеными и, будто загнанный зверь, чувствовавший, что уйти от преследования уже не удастся, вслепую тыкался из стороны в сторону. По имеющимся данным, не меньше половины бандформирования составляли арабы-наемники.
Маршрут продвижения боевиков был зафлажкован на карте неточно. Это стало ясно к утру 20 февраля, после того как на южной окраине Аргуна нападению подверглась тыловая колонна 5-й бригады ОМОНа. Ударом по колонне батальон обнаруживал свое местонахождение. Но на крайнюю меру боевики пошли не просто так, не потому, что позарились на легкую добычу. Офицеры, имевшие возможность проследить за маршрутом их продвижения по карте, не могли не удивляться бесхитростному маневру. Иных путей продвижения, кроме как на юг от Аргуна и на Мескер-Юрт, у «косяка» не было. Но именно это и настораживало.
Имитировался ложный выпад. Дальнейший маршрут оставался непредсказуемым. В любом случае гнойник мог лопнуть гораздо южнее, чем предполагалось. Всё говорило о том, что это произойдет на восточном направлении от Шали…
73-й Майкопской гвардейской бригаде предстояло отсечь коридор выхода к горам с юга-запада. Во взаимодействии с мотострелками гатчинским подразделениям питерской бригады было приказано выйти на след «косяка» и, согласно расписанному в штабе сценарию, сесть боевикам на хвост. При первой же возможности разведподразделениям предстояло вступить в огневое соприкосновение с противником и удерживать отступающих боем до тех пор, пока не будут стянуты силы для замыкания линии блокирования и пока не удастся снять координаты для работы артдивизиона, который находился на плато близ Маиртупа и со своей позиции мог вести обстрел всей зоны. Если и на этот раз удар получится «размазанный», если остаткам отряда удастся ускользнуть, командование грозилось поснимать головы…
Согласно разведданным, «косяк» пополнился свежими силами, пришедшими со стороны гор, и повернул к высоте 101–5, на которой находился чеченский ретранслятор. Здесь же окопалась перевалочная база. О местонахождении базы на этой высоте знал любой местный. Но с нанесением ударов командование тянуло. Сровнять логово с землей можно было одним авиарейдом, но, для того чтобы выкорчевать его с корнем, со всеми побочными инфраструктурами, требовалась более тщательная и продуманная операция с привлечением наземных подразделений. Считали, видимо, и более целесообразным дать поднакопиться данным. И вот этой-то орде, искавшей выхода из «мешка», командование приказывало «сесть на хвост» силами обычных разведподразделений…
В район операции группа капитана Рябцева выехала ночью. Места высадки колонна должна была достичь до рассвета. Под покровом ночи предстояло совершить первый марш-бросок и уже на заре, до выхода к главной точке развертывания операции, прочесать и обезопасить остающиеся позади лесопосадки и овраги.
Второй колонне — резервному подразделению майора Голованова — предписывалось отойти в укрытие. На майора возлагалось взаимодействие с мотострелками. Он имел приказ в случае необходимости перегнать укрытую в низине технику на возвышенность и поддержать главную группу фланговым огнем…
Высыпав из бронемашин, обе роты растворились в обступавших дорогу заснеженных перелесках и заняли круговую оборону.
Голованов еще с вечера был не в духе. В подчинение ему вверили «пожарную команду» — так он окрестил резерв, укомплектованный из остатков рот. Не меньше нареканий у всех вызывал со вчерашнего дня и тот факт, что буквально накануне операции, за двое суток до ее начала, на ревизию в Моздок приказали отправить все имевшиеся в батальоне рации, работающие на закрытых частотах. Предстояло довольствоваться старенькими войсковыми Р-108 и обычными каналами радиообмена без «изолянтов».
Недовольно поглядывая по сторонам, майор прогулялся по дороге взад-вперед и вернулся к десантному отсеку БМП. Выпотрошив подсумок, Голованов достал карту и подошел к Рябцеву. Понимая друг друга без слов, вдвоем они направились в темноту, дошли до изгиба заледенелого шоссе. Если верить карте, за дорогой должно было простираться голое заснеженное поле… Взгляд упирался в стену непроглядной темени. Сверить с картой удалось только две близлежащие полосы лесопосадок: они едва отслаивались от темноты правее, клином удаляясь в сторону. Но ориентира всё же хватало, чтобы удостовериться в правильности маршрута выдвижения главной группы — в обход лесопосадок с севера. После чего Голованов обнажил голову, крепко пожал пятерню капитана, пожелал ему ни пуха ни пера, сплюнул и приказал колонне разворачиваться.
Утробным гулом и копотью заполняя предрассветный мрак, колонна выстроилась в обратном порядке и двинулась к развилке главной трассы.
Рябцев разослал дозоры. Через четверть часа поступило донесение, что лесопосадка пройдена до самого поля. Снег там вчерашний, девственно чистый, следов нет. В более тщательном прочесывании квадрата вряд ли есть необходимость.
По команде капитана группа растянулась, и в полном безмолвии, ступая след в след за саперами, первым из которых шагал Анохин, втянулась цепочкой в лес…
Когда отделение Дивеева, открывавшее дорогу через лес, вышло к первой просеке, начало светать. Распахнувшуюся снежную целину удалось пересечь по лощине, которая огибала всё поле. Через пару минут, как только «хвосты» подтянулись и как только все собрались в дубовой роще, от головного дозора, а затем и от левого поступил предупредительный сигнал. Последовала команда укрыться и ждать уточнения обстановки.
По проселочной дороге, в пятистах метрах к юго-востоку, газовали два стареньких тентованных УАЗа и за ними полуразбитый джип.
Появление машин в столь ранний час, да еще на бездорожье — само по себе уже ЧП. Тем более что на карте в трех местах стояли обозначения, указывающие на нерасчищенные минные поля, и они перекрывали передвижение по полевым дорогам практически по всей округе. Сквозь предрассветный сумрак через оптику удавалось разглядеть даже лица водителей. По возрасту — не более сорока, как будто местные. Рядом с водителем джипа мелькало лицо укутанной в платок женщины. Ехавшие явно знали, что не рискуют нарваться на мины.
Группе предстояло еще долго продвигаться по открытой местности почти вслепую. Выдать свое присутствие именно сейчас — означало поставить под угрозу всю операцию. Риск казался слишком неоправданным, и машины решили пропустить…
Не прошло и получаса, как от правого дозора поступил сигнал обнаружения объекта. Впереди вышли на искомый след. Лейтенант Островень, впервые со дня прибытия в часть командовавший ротой — точнее тем, что осталось от второй сборной роты, состав которой проредел до тридцати двух человек, — подозвал к себе радиста и вместе с ним отправился выяснять подробности.
Лейтенант пропал на двадцать минут. Вернувшись назад и перебарывая одышку после быстрой ходьбы по глубокому снегу, Островень стал объяснять, что по дну балки, где тянулась проселочная дорога, снег утоптан и укатан. Словно прошел целый обоз. Дно исполосовано колесами машин. Судя по рисунку шин, в обозе шли УАЗы и джипы. Вместе с машинами ночью по балке протопало сотни две человек, и это только по самым скромным оценкам. Просматривались также ослиные следы и колеи от лошадиных повозок, тащившихся в хвосте, — вероятно, с ранеными. По оценкам лейтенанта, обоз миновал балку пару часов назад и высокой мобильностью не отличался.
Сам факт, что не придется часами бродить по снежной целине в поисках остатков батальона, вызвал облегчение. Но теперь оставалось выяснить главное: в каком направлении обоз двинется дальше. Черневшую впереди сопку с ретранслятором боевики могли обогнуть двумя путями — по западному периметру, либо с востока. В любом случае уже теперь следовало принять окончательное решение, по какому из четырех накануне проработанных курсов продолжать выдвижение…
В безразмерном маскхалате выглядевший белым медведем, старший прапорщик Бурбеза вытаптывал снежок возле капитана, всем видом давая понять, что с чем-то не согласен. Как обычно в такие минуты, Григорий ждал инициативы от Рябцева.
Островень водил пальцем по топографическим узорам и бубнил, что, раз «косяк», будучи на подходе к высоте 101–5 с ретранслятором, двинул по балке, то он не может не повернуть в обход холма вдоль западного склона. А дальше, уже вдоль поймы реки, маршрут неизбежно должен пролегать мимо кошары — она была отмечена на карте в центре небольшой возвышенности. Решись моджахеды огибать высоту вдоль восточного склона, то есть по левую сторону от сопки, им пришлось бы тащиться по старой проселочной дороге. В зимнее время, да еще столь снежное, на такой дороге мог сесть на брюхо не только джип, но и вездеход. Боевики не могли этого не понимать…
— Если наверх пойдут, наши вот тут их застопорят. Но они ж могут и в обход двинуться. Выйдут к реке. Вот тут, за высотой… Перейдут на другую сторону, и там… Да там уже горы! — хлопнул ладонью по карте лейтенант.
План операции требовал пересмотра. Голованову следовало срочно менять позицию, поскольку первое запланированное укрытие резерва, в пяти километрах ниже по дороге, идеально отвечало его задачам лишь в том случае, если «косяк» решил продвигаться через поле. Стоило же боевикам выйти к кошаре, и Голованов со всей его «пожарной командой» и бронетехникой оказывался отгорожен холмом от зоны неизбежного огневого контакта. Из четырех заранее просчитанных вариантов работал только третий, да и то лишь наполовину.
— Ты вот что, лейтенант… Давай поконкретней, что ты предлагаешь? — Бурбеза развернул к себе карту.
— Второй и третий вариант. Одновременно. Расколоться на два клина… Я с ротой действую по третьему варианту. Сажусь им на хвост… до огневого соприкосновения. Заодно имитируем ложное выдвижение. Вы идете по второму варианту. Голованов перегонит колонну. Вот сюда… Чтобы встретить их вот тут. — Островень показал место на карте.
— А если они развернутся и на тебя попрут? Если контратакуют в балке? — усомнился Рябцев.
— Не попрут. Отойдем, если что. Придержим. А там…
— Да сколько ты их продержишь тремя-то отделениями?
— Не пойдут они назад! Лишний час здесь проторчать — для них это смерти подобно. Не станут канителиться… — Островень стоял на своем. — Наши подойдут. Да и вы сможете поддержать. Товарищ капитан, если вы зайдете вот отсюда… — лейтенант обвел пальцем седловину гор к северо-западу от высоты. — Кошара им нужна. Проход вдоль речки. Если они там пролезут, предгорье начинается. Потом ищи-свищи.
— Афанасьич, что ты думаешь? — подстегнул капитан старшего прапорщика.
— А что тут думать? Ноги в руки — и дуть к кошаре. Прав лейтенант, — признал Бурбеза. — Будем резину тянуть, и к ночи не доберемся.
Голованову передали сообщение о том, что группа вышла на след «косяка» и что дальнейший маршрут продвижения соответствует третьему варианту, а весь ход операции разворачивается одновременно по второму и третьему. Голованову необходимо перегнать свою колонну в дальнее укрытие, восточнее кошары.
В полученной информации майор, как и предполагалось, усомнился и принял ее к исполнению только после подтверждения.
Островень собрал свое подразделение, бегло объяснил обстановку, и не прошло минуты, как последний силуэт жиденькой группы лейтенанта скрылся в заснеженной ложбине, уводившей к самому лесу, по направлению к дожидавшемуся в балке правофланговому дозору…
В десять утра с небольшим группа стянулась к ельнику. За лесом простиралась снежная целина, просматривающаяся не менее чем на два километра. Лица солдат лоснились от пота. От расстегнутых под маскхалатами бушлатов шел пар.
Прошло еще полчаса. От отделения Дивеева, которое было выслано вперед и уже полностью обогнуло голую низину, поступил сигнал о приостановке продвижения. Прямо в лесу, там, где деревья взбегали на невысокий пригорок, обнаружена свежая лежка — мусор, окурки, затоптанный костер. На перекур останавливалось человек пять. Судя по всему — ночью. Из чего следовал вывод: боевики рассылали сторожевое охранение по периметру. Продвигаться дальше предстояло с максимальной осторожностью.
На пересечение низины, в обход впадины по правому краю, где в рельеф врезалась заваленная снегом проселочная дорога, потребовалось еще около часа. А когда основная группа вышла к лесу и к обнаруженной лежке, перед глазами зарябили снежные хлопья. Местность едва просматривалась в бинокль. Впереди на возвышении вырисовывался взгорок с кошарой. Ходьбы до нее оставалось часа два, не меньше, и времени на отдых Рябцев выделить не мог. Он приказал не расслабляться, продолжать движение… В этот момент с запада, со стороны поля, раздался перестук автоматных очередей, а следом за стрельбой сухие разрывы подствольных гранат.
Капитан приказал стянуться к краю леса и залечь вдоль поля. Разглядеть хоть что-нибудь сквозь пелену усиливающегося снегопада не удавалось. Как назло, не отвечала и рация лейтенанта.
Когда зуммер наконец ожил, Рябцев выхватил у радиста тангенту и наушники. В эфире звучал голос Островеня. Лейтенант пытался объяснить что-то совершенно сумбурно, изъяснялся бессвязными фразами — то ли не мог отдышаться, то ли паниковал. Наконец Рябцев понял, что группа лейтенанта наткнулась на сторожевое охранение и приняла бой. Островень передал свои точные координаты и дважды повторил, что справится своими силами.
Автоматная стрельба на время утихла. Но не прошло и пяти минут, как она возобновилась с еще большим ожесточением. Опять стали слышны хлопки подствольных гранат — с ровными интервалами, будто на учебном стрельбище. В бинокли по-прежнему ничего не удавалось рассмотреть. Пелена висела перед глазами и раздувалась, будто простыни на ветру. Снегопад усиливался.
Радист Островеня, вновь вышедший в эфир, вдруг сообщил, что всё кончено, сопротивление было сломлено.
— Чье?! Спроси — чье?! — закричал ему капитан.
Радист переспросил. И только после двукратного подтверждения все вздохнули с облегчением.
«Косяк» оставил в снегу четырех убитых и трех раненых. Несколько человек смогли отойти к основному отряду, который продолжал двигаться вперед. У Островеня — двое раненых. Обоих нужно было эвакуировать. Чтобы действовать по намеченному плану, лейтенант намеревался следовать по балке дальше, не дожидаясь эвакуационной группы и оставив при раненых охрану.
Распоряжение лейтенанта Рябцев поддержал не сразу. Он понимал, что именно теперь, в ближайшие полчаса, должна проясниться обстановка в балке: будет ли контратака или «косяк» решит не терять времени. Требовалось также подтверждение от Голованова — вышел ли он на заданную позицию.
Кособокое кирпичное сооружение на пригорке имело надстроенный из досок чердак. Нижние ворота были настежь распахнуты. Кошара выглядела заброшенной. Вокруг — ни души. Над голой заснеженной целиной, которую предстояло преодолеть одним марш-броском, по-прежнему порошило. Чуть дальше и левее, где протекала речка Гумс, на взгорке виднелись развалины. Поросшие ивняком и кустарником, руины давних жилых построек полностью занесло снегом. От развалин к луговой пойме сбегал молоденький лесок. За зарослями проглядывала и сама речка — черная и извилистая, как змея.
Кьоса-Корт (Голая горка) — эта высота с ретранслятором была помечена на карте номером 101–5 и походила на лохматую, а на самой макушке облысевшую голову. Холм покрывало густое полесье. Позиция выглядела идеальной во всех отношениях. Единственным недостатком ее была незащищенность с тылов; в случае необходимости холм легко отсекался по всему периметру, и оставалось лишь удивляться, почему именно это место выбрали под перевалочную базу…
В дубовой роще устроили первый привал. Завалившись в снег, изнуренное воинство сидело спина к спине в полнейшем изнеможении. Осмотрев в оптику край леса, капитан несколько минут провел в уединении, а затем подозвал к себе Бурбезу. Передавая друг другу бинокль, они разглядывали лес. Снегопад поутих. По глазам понимая друг друга, они молча пробрались сквозь кусты на взгорок, чтобы осмотреть кошару и лес более тщательно.
Грозно маячивший впереди Кьоса-Корт и лесистые гривы, волнами разбегавшиеся к северу, тихо погружались в вечернюю мглу. День истаивал на глазах. Из-за хмури, которая наплывала с запада, смеркалось быстрее обычного. При спуске от кошары к югу просматривался вытянутый дугой глубокий овраг. По краям смешанный лес взбегал на небольшие холмы. Внизу чернела густая непроглядная чаща. Если бы оборону пришлось протягивать перед оврагом, возникла бы необходимость прикрывать подходы к лесу, поскольку тут простирались обширные «мертвые» зоны, недоступные для обстрела. Линия обороны слишком растягивалась. Людей явно не хватало.
— Здесь они и решили стать на ночлег, в овраге… Местечко что надо, ничего не скажешь, — проворчал Григорий.
— Не уверен… что они решили останавливаться, — Рябцев продолжал рассматривать местность в бинокль. — А если за речку перемахнут, как лейтенант говорил? Вон там, за горкой, видишь?
— И бросят машины?.. Нет, они дальше будут переправляться. Может, даже по мосту, — старший прапорщик ткнул пальцем в сторону юго-востока, туда, где находился резерв Голованова. — А чего, запросто! Ведь обнаглели, черти! Целые блокпосты покупают…
— Лобовой засадой не обойдешься, — заключил Рябцев.
— Хорошо бы с трех сторон загородиться, — Бурбеза показал вправо, на лес, сливающийся с холмами, а затем левее, на реку. — Только людей у нас и на две стороны не хватит.
— Лобовую будем укреплять здесь, где гребень обходит овраг, по краю, видишь? — принял капитан решение. — Другую засаду организуем ближе к реке, ты прав. Вот здесь… Только не думаю, что они берегом полезут.
— Попрут по дороге, ясное дело. Вон там, перед лесом. Вот она и дорога. Прогалину видишь? Просто замело, — рассуждал Бурбеза. — А у реки, если что не так, вклиниваться будут. По берегу их не остановишь.
Капитан продолжал присматриваться к позиции перед оврагом, изучая лес, прямо впереди расступавшийся небольшой вытянутой опушкой.
— Перед лесом и оврагом наворочено что-то, не пойму, — показал он вперед. — Перед просекой, видишь?
Бурбеза взял бинокль.
— Сбоку от зарослей?.. Жбаны какие-то. Из-под солярки небось.
— Убрать бы.
— Нет, трогать нельзя. Натопчем, снег взрыхлим…
— Вот что, Афанасьич… отлеживаться будем после. Позицию лучше занять засветло, — поторопил Рябцев.
Оставив капитана на взгорке одного, Бурбеза сполз на животе вниз. Выставив охранение, он приказал подкрепляться. У всех имелись брикетики спирта для разогрева грибного супа из кубиков — провиант скудный, но оказавшийся как всегда очень кстати.
Когда перекусили, Бурбеза увел саперов к реке, заодно он хотел проверить сектор обстрела. Вернувшись через полчаса, когда лес уже почти погрузился во мрак и холма впереди больше не было видно, он стал объяснять капитану, что сигнальные мины придется ставить и за спиной, в овраге.
— Проход у реки наглухо не закроем. Благо, бугорок вот этот есть, с развалинами. А так и уцепиться не за что. Если в тыл залезут, хоть знать будем, услышим…
Стараясь не выдавать волнения и тревоги по поводу того, что времени на всё не хватит, Рябцев послал саперов доделывать начатое — ставить сигнальные мины с флангов, чтобы оградить периметр оврага, а к Голованову отправил двух связных с нарисованной на бумаге схемой позиций, занимаемых на ночь, и возможными ориентирами для обстрела.
Окапываться в лесу перед оврагом оказалось не таким простым делом. Снег лежал метровой толщей, а под ним — суглинок, камни, сплетение корней.
— Грунт что надо, не соскучишься, — бурчал Бурбеза.
Рябцев приказал рыть окопы какие получатся, если надо — просто закапываться в снег, но главное — не соваться на опушку и не сводить глаз с местности впереди. Обоз был на подходе. Из леса или с самой сопки за кошарой уже могли вести наблюдение…
Последние отблески солнца погасли. Лес заполнился матовой мглой. Усыпанное звездами, небо казалось бездонным и дышало вечным холодом. С наступлением темноты стало еще и подмораживать. Над оврагом то и дело раздавался крик какой-то ночной птицы, похожий на уханье совы. Он разносился по лесу с жутковатой отчетливостью и звучал как предостережение.
Капитан передал по цепочке приказ не курить, не расслабляться. Бурбеза в который раз обходил позицию, вдалбливая в головы солдат инструкции. При появлении «косяка» — никакой паники. И не дай бог, кто-нибудь начнет стрельбу без сигнала. А уже потом, если бой завяжется, огонь вести только по реальным целям и только короткими очередями, чтобы не пришлось через час оголтелой пальбы воевать с лопатами в руках.
В ожидании прошло еще около часа. Продолжая поглядывать в сторону леса, Бурбеза с наслаждением цедил из кружки остатки супа. Вдруг он замер. Попросив у капитана бинокль и не сразу попав окулярами в нужное место, старший прапорщик уже, было, решил, что ему померещилось. Но не прошло минуты, как сигнал поступил от наблюдателя, окопавшегося в кустах левее. В трехстах метрах впереди, в гуще перелесков, которые просматривались даже сквозь темноту, действительно кто-то появился.
Бурбеза поспешно вернул бинокль капитану и указал рукой немного правее того места, куда тот всматривался. Теперь и Рябцев отчетливо различил на фоне сугробов два силуэта в маскхалатах: осторожными перебежками они перемещались по краю леса. Секунду назад принимаемые за стволы деревьев, силуэты словно отслаивались от темноты.
Тени быстро перемещались вперед, след в след, лишь на секунду-две останавливались за деревьями вдоль занесенной снегом дороги. Затем перед чащей, в том месте, где обе фигуры отделились от лесного мрака, на черном фоне замельтешили еще несколько силуэтов. И они тоже без промедления стали продвигаться вперед, но с другой стороны просеки.
Тени замерли, едва над оврагом раздался очередной душераздирающий крик птицы. Расстояние, отделявшее их от первого бруствера у сосен, не превышало ста метров. Затем тени опять двинулись вперед, прямо к оврагу.
Четыре одинаковые фигуры в маскхалатах были в шестидесяти — семидесяти шагах от условной линии обороны, когда Бурбеза по сигналу Рябцева нажал на спусковой крючок.
Тишину расколол оглушительный залп. Темнота словно лопнула от удара. Грохот и треск сопровождались слепящим, как электросварка, сверканием.
Не сразу, но всё же удалось определить, что ответный огонь открыли из рощи, справа от опушки. Позади над оврагом в клочья рвались воздух, снег, земля, деревья. На голову сыпались комья мерзлого грунта вперемешку с крошевом веток, коры, щепы. Снег взбрызгивался фонтанчиками прямо перед лицом.
Тени на просеке исчезли, но на фоне лесной чащи вновь началось какое-то мельтешение. Выступившие из темноты, не то отделившиеся от снега тени возникли одновременно справа и слева от опушки. Три пригнувшихся силуэта пересекли просеку, укрылись за упавшим деревом недалеко от лобового бруствера. Со слепым бесстрашием, вполроста высунувшись из-за ствола, один из боевиков стал целиться из гранатомета.
Земля дрогнула. Мощным ударом разнесло пригорок в двадцати метрах от Рябцева, прямо у подножия сосен, где окопались Анохин со снайпером. В ушах у капитана стоял свист. Свист перешел в знакомый шелест, сливающийся с отдаленной, пронизывающе-ровной и мягко удаляющейся в пустоту нотой. В висках стучало, а во рту появился соленый привкус не то пота, не то крови…
Как только взрывы умолкли, Рябцев закричал не своим голосом в сторону Анохина:
— Живы там? Анохин?!
Из-под сосны выплеснулась ругань. А вслед за матерщиной опять раздались очереди. Над развороченным взгорком ослепительно сверкало.
Бугорки перед лесом, секунду назад неразличимые для глаз, вдруг начали оживать. С обоих флангов доносились более короткие, чем минуту назад, очереди. Бугорки придвигались ближе и ближе. Некоторые замирали, но на их месте сразу же появлялись другие.
Затем взрыв сотряс темноту ближе к пролескам, у реки, где никого из своих быть не могло. Сработала первая растяжка…
Белая ракета, выпущенная из леса, от резкого света которой на миг повисшая тишина как бы выросла в размерах и стала казаться оглушительной, еще пенилась и шипела в низком черном небе, а стрельба внезапно стихла. Судя по перебежкам сгорбленных силуэтов вдоль опушки, боевики ретировались. Атака, начатая нагло, в лоб, откатилась, и в лесу, по-видимому, теперь совещались, что делать дальше.
Разгребая локтями снег, в яму к капитану скатился Григорий Бурбеза, после первых залпов исчезнувший на левом фланге. От его бушлата шел не то пар, не то дым. Оторванный воротник болтался на спине. Крепление бронежилета было распущено до предела. Старший прапорщик вытер с лица грязный пот, но не мог вымолвить ничего внятного, потрясенно бормоча замысловатые ругательства.
Схватив капитана за рукав, Бурбеза потащил его к оврагу. Они скатились в глубокую рытвину. Стряхнув с лица снег, Рябцев увидел перед собой своего радиста в изодранном маскхалате.
Странно скалясь, радист схватил за ствол свой автомат и отполз в сторону, уступая место перед аппаратом. Бурбеза подсунул Рябцеву тангенту и наушники.
— Убирайся к черту!.. Ты в каком звании, командир? Слышишь меня, барбос?! Зови командира! — доносился из эфира развязный гортанный голос; говорили на русском.
Рябцев не сразу понял, что обращаются именно к нему.
— Или будем давить вас, гадов, до последнего! Мокрого места не останется! Даю тебе пять минут. Слышишь?! Эй, командир, нас много, а ты один. Уводи своих сосунков к кошаре! Тихо будете сидеть, пройдем мимо, не тронем. Ты понял меня?! Вы оглохли там, что ли?! Прием!..
Окопавшиеся напротив пользовались нужной частотой. Радиообмен с Головановым, а возможно, и раньше, еще с Островенем, они перехватывали.
Рябцев приказал Журавлеву при выходе на связь с майором перейти на запасную частоту. И кодировать весь разговор.
— Прямым текстом ничего не передавать! Это приказ! — прокричал Рябцев радисту. — Приказ! Ты понял?!
— Так точно! Всё… понял! — ответил радист и тоже криком добавил: — Вас понял!
Со стороны опушки раздался новый шквальный залп и вслед за ним уже отдаленная ответная стрельба из нескольких десятков автоматов.
— На голоса не отвечать! — кричал капитан. — Делай вид, что не слышишь.
— Так точно! — повторил радист.
Рябцев и Бурбеза вылезли наверх, к укрытию на горке. Стараясь сориентироваться, оба всматривались в темноту, озаряемую беспорядочными вспышками. Но движения на просеке больше не было.
Всё опять стихло. Затем вдали раздалось что-то похожее на хлопок, как будто кто-то ударил веслом по воде. И над лесом тут же послышался перемещающийся шелест.
— «Василек»… да не один! — Бурбеза с отвращением сплюнул. — Нет, это уже стодвадцатимиллиметровый… Ну теперь держись!
Взрыв мины прогремел далеко позади. Но второй удар разворотил землю и снег уже рядом; рослая раскидистая сосна, отсеченная взрывом от земли, с треском завалилась в десяти метрах справа, обдавая терпким запахом смолы.
Минометный расчет находился за лесом, у реки. Возможно, даже за холмом. Огонь не был плотным. Но взрывы перекапывали лес и снег вокруг горки капитана и оврага, как раз возле рытвины, где укрылся радист. Обстрел велся из двух минометов: «Василек» и «Сани». Бурбеза был уверен, что огонь еще и корректируется. Но Рябцев и сам уже это понимал, мины ложились слишком близко. Единственным местом, откуда главный заслон перед оврагом мог просматриваться, были лесопосадки, темневшие справа за полем. Но с тем же успехом корректировку могли вести и с самой сопки.
Бурбеза пополз назад к Журавлеву, чтобы передать Голованову ориентиры для обстрела. Вскоре он вернулся и заверил, что майор понимает всю срочность и уже выгоняет свою технику для обстрела лесопосадок. Прошло несколько минут, взрывы минометных мин продолжали крошить лес уже в позиции правого фланга, а огня от Голованова всё не было.
Радист вдруг передал, что Голованов боится напутать и просит пометить цель трассирующими пулями. Стрелять просили одиночными, по три пули подряд. Рябцев приказал Бурбезе ползти, несмотря на взрывы, к правому флангу и пометить трассером нужную зону, но так, чтобы ответный удар, если увидят, откуда стреляли, не пришелся в самую гущу позиции.
Силуэт прапорщика быстро исчез в темноте. И уже через пару минут одиночные трассирующие пули прочертили темноту в направлении лесопосадки. Тут же вслед за выстрелами забили пушки БМП. Вдоль лесопосадок потянулась череда вспышек и взрывов.
На какое-то время обстрел позиции капитана прекратился. Но через несколько минут мины опять захлюпали прямо над головой и стали ложиться с еще большей точностью. Взрывы, вперемежку с ожесточенной стрельбой с просеки, не давали оторвать головы от земли. С правого фланга передали, что двое контужены. Но пока ни одного убитого. Это казалось чудом.
Минометный огонь переместился к пригорку у реки. Как и предполагалось, «косяк» намеревался прорываться поймой, там шло прощупывание местности.
Огонь из леса тоже продолжался не утихая, особенно справа, где оборону держало отделение Дивеева. Сквозь треск и грохот удавалось различить хлопки ручных гранат… Оттуда вскоре и приполз рядовой Вялых в прожженном маскхалате, с окровавленной и черной от гари физиономией. Сверкая белками глаз, Вялых кричал, видимо не слыша себя самого, что любая новая волна атаки может смять позицию отделения, до развалин уже долетали гранаты.
Капитан приказал Вялых ползти назад, к Дивееву, и передать всем, кто находился на левом фланге, чтобы немедленно оттягивались к оврагу. Бурбезу же Рябцев опять послал к радисту, чтобы тот вызвал огонь Голованова ближе к кошаре, отсекая возможность прорыва в этом направлении.
— Справа в чалмах прут! Наемники!.. Про Аллаха визжат… Ничего не боятся! — кричал вернувшийся от радиста Бурбеза и после радиста уже успевший побывать у Вялых; Бурбеза не замечал, что щека у него рассечена осколком или пулей и что по ней течет кровь.
Когда заработали башенные орудия Голованова и плотной полосой вспышек и взрывов БМП стали перекапывать подход к кошаре со стороны поля с лесопосадками, Рябцева вновь позвали к радисту. Он сполз в яму. Майор кричал в эфир открытым текстом:
— За развалинами у реки, метров триста впереди, твои «глаза» светятся?
Голованов имел в виду приборы ночного видения.
— Какие, к черту, глаза! Я на первой, второй, третьей позиции! На первой, второй и третьей! — кричал Рябцев. — «Глаза» не наши! Бейте по «глазам»! Бейте!..
Усилия атакующих сосредоточились на просеке. Темнота здесь шевелилась. Два выстрела из гранатомета раздались почти одновременно. Одна граната разнесла холмик справа и образовала яму в снегу. Другая разметала кустарник над оврагом в нескольких шагах от Рябцева. Ноздри забило гарью. В ушах звенело. Словно сквозь ватную пелену до капитана доносилось нереально-размеренное постукивание очередей. Шелест подствольных гранат сливался с шумом в голове. Собственных очередей, сухих и коротких, выпускаемых с равными промежутками, Рябцев не слышал, лишь по вздрагиванию автомата чувствовал, что стреляет.
Капитан заметил, как белая тень метнулась туда, где валялись присыпанные снегом проклятые бочки. Мрак озарился вспышками очередей. Оттуда, из-за жбанов, теперь и полосовали длинными очередями. Позиция, на которой обосновались фигурки, прикрытая со всех сторон, позволяла простреливать всю линию обороны.
Рябцев вогнал в подствольник гранату и нажал на спусковой крючок. Светящийся шлейф провел черту к кустам. Взрыв разнес часть зарослей слева. Рябцев сделал второй выстрел. На этот раз попал точно в цель: яркий огонь полыхнул прямо над бочками. И еще через мгновение он увидел, как в том самом месте, где бочки разметало вместе с кустами, от снега отделилась охваченная пламенем фигура.
Издавая истошный визг, живой факел быстро перемещался вдоль опушки. В жбанах оставалось горючее? На краю леса человека, охваченного языками пламени, подкосили короткой очередью. Стрелял не то Анохин, не то сами моджахеды. Но и упав в снег, фигура продолжала дрыгаться в огне.
Рядовой Коновалов, окопавшийся на пригорке справа от капитана, под наиболее удобным углом для простреливания низины перед опушкой, прицельными очередями вел огонь по переднему периметру просеки, не давая теням с гранатометом высунуться из-за ствола поваленного дерева. По Коновалову палили со всех сторон. Поединок не мог продолжаться долго.
Оставив за своим бруствером Бурбезу, который стрелял с левой руки, Рябцев прихватил с собой двух солдат и полез низом к Коновалову. Они были уже рядом, автомат Коновалова озарял темноту сверканием уже в каких-нибудь пяти-шести метрах впереди, как прямо перед насыпью взметнулся взрыв.
Коновалова отбросило. Привалившись к дереву спиной, он с неестественной медлительностью ощупывал руки, плечи, бока. После чего вдруг принялся хлопать ладонью по правому уху, не замечая, что пулеметные очереди обрубают ветки прямо у него над головой.
Капитан кричал, чтобы он прильнул к земле и полз назад. Коновалов не реагировал. А затем, вместо того чтобы залечь, укрыться за деревом, поднялся во весь рост, прошагал к своей сумке с гранатами, перекинул ее через плечо, всё так же, не пригибаясь, вернулся назад, вогнал в подствольник гранату и, уперев пистолетную рукоятку в плечо, произвел неторопливый прицельный выстрел.
Пулеметная стрельба из-за ствола прекратилась. Коновалов вскочил и попер вперед, перебегая от дерева к дереву. Уже в пролеске он укрылся за деревом прямо напротив лежащего ствола, откуда выглядывали головы гранатометчиков. Коновалов зарядил подствольник и чуть ли не в упор выпустил гранату.
Взрыв разнес дерево в щепки. Вокруг всё замерло. Рябцев вернулся к своей яме. От повисшего безмолвия у него распухала голова. И внимание его не сразу привлекло странное зрелище впереди за просекой. В чаще появился яркий фонарный свет совершенно непонятного происхождения. Медленно, без малейшей маскировки свет передвигался по лесу к реке. Не машина, не прожектор, не фонарик… На мгновение приостановившись, свет стал передвигаться в обратном направлении.
Затем справа и посредине, там, где окопался костяк штурмующих, возникло еще несколько аналогичных очагов света, которые тоже перемещались в разных направлениях. Моджахеды прекратили огонь. Повсюду происходила непонятная возня.
В яму к капитану свалился Бурбеза. От Голованова тоже передавали, что наблюдают непонятную игру со светом. Не то лампы, не то фары. Сначала всего с десяток, потом уже около двадцати, а затем насчитали больше тридцати. В хаотичном беспорядке свет постепенно приближался. Наибольшее скопление световых очагов просматривалось справа. Там и нужно ждать прорыва? Чтобы обойти кошару с северо-востока, моджахеды решили огибать правый фланг по полю, край которого с лесопосадками только что вычистил Голованов?
— Они отрежут нас от Островеня! — закричал Бурбеза. — Голованов инструкций просит! Вызывать будем артиллерию?
Из-за опушки раздался новый залп. Шквальный огонь открыли со всех сторон и из всех видов оружия. Над головой шелестели мины с ясно различимым похлюпыванием. Странный свет теперь передвигался быстрее, чем раньше, во всех направлениях. Несколько источников света быстро приближались.
— Пусть вызывает! — крикнул в ответ капитан. — Пусть вызывает!
Бурбеза перекатился к соседнему дереву и исчез. Еще минута оголтелой стрельбы, и земля дрогнула от первых мощных артиллерийских ударов. С равными полусекундными промежутками снаряды ложились прямо за опушкой. Ни их воя, ни залпов орудий слух не улавливал. Огневой налет производился, судя по всему, из-за Кьоса-Корта. Майор смог согласовать координаты, обещанная батарея заработала.
Темноту вспарывали ослепительные вспышки, сопровождаемые мощным, сотрясающим лес грохотом. Взрывы перекапывали поле, пролесок и быстро перемещались к сопке. Столь же скученные удары стали разносить и лес у реки на задних позициях «косяка»; там, видимо, и находились минометные орудия, потому что огонь их сразу же захлебнулся. Затем взрывы передвинулись по лозняку к развалинам. После чего огонь резко перенесся ближе к кошаре. Дивизион работал на редкость профессионально.
Радист передавал, что Голованов выслал весь свой резерв для блокирования поймы, где всё еще предпринимались попытки пробить брешь. Огонь удавалось теперь корректировать, минуя Голованова, выйдя на прямую связь с маиртупской батареей. Размеренно и точно снаряды разносили пролески над поймой реки. Однако тени по-прежнему копошились вокруг развалин, уже метрах в пятидесяти, словно рассчитывали укрыться в руинах от снарядов вместе с обороняющимися, поскольку по своим артиллерия стрелять бы не стала.
Грохот неожиданно стих. Взрывы прекратились. Не слышалось и автоматных очередей. Впереди — черным-черно. Бегающий свет в лесу исчез. Вглядываясь в неподвижную мертвую темень впереди, капитан Рябцев не сразу заметил, что вокруг все курят. Никто не прятал сигареты в кулаке. В ушах у капитана стоял ровный, непрекращающийся гул. А над головой простиралось распахнутое во всю ширь звездное небо…
После полуночи к позиции капитана Рябцева пыталась выйти группа лейтенанта Островеня. Группа продвигалась к кошаре через седловину, по восточному периметру сопки, чтобы к утру оказаться в удобной позиции для прикрытия правого фланга основного подразделения, которое пришлось стянуть к самому оврагу. Но около двух ночи лейтенант сообщил, что вынужден остановить продвижение. Снег был слишком глубоким, а люди — измучены. После двухчасового отдыха лейтенант намеревался возобновить марш-бросок и выйти к кошаре до рассвета…
С первыми проблесками зари над лесом вновь завыли мины. Обстрел велся из двух стодвадцатимиллиметровых минометов. Взрывы разносили лес по краю ровно вдоль линии обороны, которая с наступлением дня отчетливо угадывалась по количеству вывороченных из земли деревьев.
Рябцев изучал в бинокль левый фланг. Рельеф перед рекой стал неузнаваем. Берег перерыт воронками. Прямо впереди, на опушке, глазам открывалось и вовсе странное зрелище. От лесной чащи, вдоль просеки обступавшей дорогу и за ночь почерневшей, медленно расползалась дымовая завеса. На земле валялись трупы каких-то животных — то ли лошадей, то ли ослов.
Завесу применили с непонятной целью. Едва ли дым мог помешать видимости надолго. Тянул легкий ветер. Солнце всё настойчивее пробивалось сквозь пелену низких серых облаков. Дым лишь подмешивал серости в предрассветный полумрак, размывал его.
О том, что делать дальше, капитан не имел понятия. Приказов не поступало. Оставалось просто ждать. Тело ломило от усталости и окоченения.
Бурбеза, сидевший на переговорах с Головановым, доложил, что обещанная бронегруппа выходит на позицию прикрытия. За правый фланг можно не опасаться, даже если Островень завяз, как сообщалось, в перестрелке, звуки которой, едва забрезжил рассвет, начали доноситься с северо-востока. Туда успели стянуть достаточно сил для отпора самой отчаянной атаки.
Через несколько минут выяснилось, что бронегруппа в боевой порядок так и не развернулась. Дорогу танку отсекли гранатометчики, засевшие в черте леса западнее от поля. Выкурить их пока не удавалось. Один из БТРов, шедших за танком, горел. Пострадал экипаж.
Майор Голованов пообещал поддержку. За ночь резерв пополнился свежими ротами. Командование операцией перешло самому Волохову. По сведениям майора, держаться под кошарой оставалось недолго, задействованные подразделения к утру перегруппировались, мотострелки заблокировали «косяк» как с запада, так и севернее сопки… Голованов выкладывал всё это в эфир открытым текстом. Другие подразделения Майкопской бригады заняли противоположную сторону речки, юго-восточный берег, для отсечения отхода к горам. Зимнее русло обмелело. Проходу транспорта мешали только валуны. Было непонятно, как машины могли остаться целыми после ночного артобстрела…
Новая атака так и не началась, когда с востока послышался гул вертолетов. Две тени, выпорхнувшие из-за холма, метнулись низко над землей и исчезли за сопкой с ретранслятором, но вскоре показались уже слева у самого подножия холма. Заходя полукругом, тяжелые «двадцатьчетверки» выпускали по лесу залпы.
Дымовая завеса впереди как раз начала расступаться, и было хорошо видно, как с земли по вертолетам всё еще полосуют трассирующими очередями. Но огонь с воздуха велся настолько мощный, что уже через пару минут, как только оба вертолета в сильном крене ушли в сторону, чтобы зайти на новый круг, близ опушки всё стихло, а дальше над лесом появились исполинские клубы дыма и снежной пыли, разраставшиеся вширь и вверх и медленно парящие в мертвой тишине.
Над головами опять загудели снаряды. Обстрел велся уже не с Маиртупского плато. Сокрушительные взрывы продолжали разносить лесную чащу как впереди, так и на пригорке справа от кошары, где ночью предпринимались попытки обойти блокирующую оборону Рябцева. Впереди снова всё горело. Но пожары не успевали разрастись, их тушило ударной волной и взметнувшимся в воздух грунтом от новых взрывов.
Майор Голованов, за ночь охрипший, продолжал кричать в рацию. Слов разобрать не удавалось. И только через пару минут, когда в рации послышался другой знакомый голос, самого командира, который находился где-то рядом, до сознания Рябцева дошел смысл распоряжений:
— Отходите! Отходите! Всё кончено! Их взяли в кольцо! — надрываясь, повторял подполковник. — К кошаре! Как поняли?.. Вы что там, дрыхнете, черти?!
Вид на лес, открывавшийся от кошары, куда группа понемногу оттянулась, изменился до неузнаваемости: вместо девственно чистого зимнего ландшафта, каким он предстал глазам накануне, когда подразделение вышло к опушке и когда было решено окапываться, взгляду теперь открывалось сплошное месиво гари, лома, грязи и праха. Лес будто разорвали в клочья. Левее холма, над чащей, раскатывались плотные клубы ядовитого белого дыма от реактивных снарядов, похожие на кучевые облака. Досталось даже развалинам на берегу реки — в который уж раз на их веку. Вокруг холмика стало черным-черно. Вывороченный и смешанный со снегом грунт был усыпан бурым кирпичным крошевом. За развалинами по-прежнему что-то коптило. И ни одного уцелевшего деревца! Не осталось следов и от кустарника вдоль берега, сквозь который впотьмах лазил Бурбеза, пытаясь заминировать подходы к левому флангу, — лозняк попросту сровняли с землей. Но самое дикое зрелище представляли собой трупы, реже людей, чаще животных, разбросанные повсюду и все с вывороченной требухой. Откуда столько?..
На дорогу, выводившую к кошаре, за выгоном, там, где с рассвета оборону держал Дивеев и на снегу валялось несколько тел убитых, выполз грязный танк, обвешанный коробками активной брони, и сразу за ним — другой. Танкисты газовали напрямую, и даже если они старались огибать траками трупы, казалось непонятным, откуда им известно, что тел своих на дороге нет. Второй танк, однако, резко вывернул с дороги в сторону, делая не совсем понятный маневр…
Когда группа собралась в сарае, все молча уселись кто где. Некоторым удалось примоститься лежа. Не хватало сил встать и набросать себе под спину соломы, хотя многих знобило. Костер пришелся бы сейчас очень кстати. Но заниматься разведением огня никто был не в состоянии.
Бурбеза куда-то запропастился, по-видимому, продолжал проверять перевязки и выяснять, кому и сколько перепало лиха. Основные подсчеты вроде бы оставались в силе: в отделении Дивеева двое контуженых и двое раненых; их сразу эвакуировали; ранен, причем дважды — в лицо и в руку, — сам Бурбеза; у сапера Анохина отморожены ноги — насколько серьезно, пока неясно; а Коновалову, после всех его подвигов, уже под утро осколком задело ухо, точнее, ушную раковину отсекло под корень, но эвакуировать его с первыми ранеными не удалось. В изодранном и грязном от крови маскхалате, с обмотанной бинтами окровавленной головой Коновалов сидел как истукан на копне сена в дальнем темном углу сарая, боясь шелохнуться. На коленях в комке бинтов он держал собственное ухо, не теряя надежды, что его смогут пришить. Случаются ли чудеса в условиях санчасти? Вряд ли в местном госпитале руки у медиков доходили до пластической хирургии. Но безухого героя все подбадривали.
В пересчете на реальные потери — убитых в подразделении не было — итог операции казался неправдоподобным. Самим не верилось. На лицах нет-нет да и проглядывало недоумение. Не верилось в конец ночного ада. В собственное спасение. В спасение вообще…
Расположившись у входа на бревнах, Рябцев отмякал от ночного кошмара, слепо уставившись прямо перед собой на проломанную кирпичную стену. Сил не было даже думать. Единственное, в чем он отдавал себе отчет, так это во всепоглощающей потребности в тишине и одиночестве. Таком, которое не может нарушить ничто — ни голос подчиненного, ни шум ветра, ни собственные мысли. Смотреть в стену — даже это требовало усилий. Хотелось закрыть глаза и больше их не открывать. Но как только он смыкал веки, перед ним всплывала одна и та же картина: живой факел, быстро перемещающийся по ночному лесу. Даже чудилось, что он слышит крик, который обреченный издавал — последний на своем веку. Капитана передергивало, била дрожь. Кто стрелял? Кто поджег боевика? На дне сознания шевелился ужас, он овладевал им еще сильнее, чем за всю минувшую ночь. А затем спасительное безразличие опять накрывало словно ватным одеялом.
Подавая всем пример, Вялых раскурочил тесаком банку «шрапнели» — перловку на воде — и принялся ковырять еще и пайковую банку «красной рыбы» — кильки в томатном соусе. Ефрейтор Дивеев, сидевший у входа, весь черный, в обгоревшей одежде, тоже зашевелился, достал провиант…
Переминая гусеницами взбитые траками танков комья земли и обломки кровли, перед входом в сарай развернулась БМП. В самую грязь у входа в кошару соскочил Голованов. На лице майора сияла широкая улыбка. Она и привела Рябцева в чувство.
Приблизившись, майор присел рядом на корточки, положил капитану руку на плечо и крепко сжал. Обдавая пространство вокруг себя вонью солярки, Голованов рассказал, что уже эвакуировали всё, что осталось от группы Островеня, на помощь которой под утро, во тьме кромешной, пришлось бросить первую роту. Лейтенант понес потери. За лощиной при выходе в поле на рассвете его группа попала под прицел пулемета. Трое погибли на месте. Шестеро получили ранения, в том числе тяжелые. Сам лейтенант ранен в бедро и грудь.
Потом Голованов сообщил об итогах операции. Уцелела немногочисленная горстка самых отчаянных. Им удалось форсировать Гумс на уровне запруды. Вырвались четыре машины. Ближе к предгорью их должны были перехватить; весь район с ночи перекрыт мотострелками. Остальные недобитые боевики рассеялись по лесу вокруг холма. Судя по уже осмотренным телам убитых, чеченцев среди них единицы. Мотострелки вычищали лес и готовились брать смешанный с землей ретранслятор… Даже из недомолвок Голованова становилось ясно, что охотиться по лесным массивам за рассеявшимися моджахедами или кем бы они ни являлись в действительности — чеченцами, саудитами или просто чертями, сбежавшими из преисподней, — всё равно что искать иголку в стоге сена. Вывороченный и выжженный снарядами лес, реактивным ядом отравленная земля — вот и все итоги. Что же касалось ночного светопреставления, которым сопровождалась последняя атака, выяснилось, что это были просто лампы. Моджахеды обвешали ими обыкновенных ослов, экспроприировав скотину дорогой по селам. Очумевших от страха животных они просто разогнали по сторонам. Получалось, что маиртупская батарея разнесла в щепки пол-леса из-за разбежавшегося ослиного стада…
Раскидывая грязь и снег, на полном ходу к кошаре вывернул очередной БТР, за ним с утробным завыванием полз санитарный вездеход с зажженными фарами. Из БТРа вылез Волохов. Заросший щетиной, с воспаленными глазами, тоже в рваном камуфляже, подполковник прошел ко входу в сарай и, бегло оглядев полуживых от усталости людей, с удивлением, не в силах скрыть его, вымолвил:
— Неужто все целы? Поверить не могу… После такой-то мясорубки.
Рябцев потупился и промолчал. Мысли и слова вдруг словно слиплись во что-то бесформенное и тяжелое. Силы иссякли, да и уцелеть удалось далеко не всем: подтвержденных данных о потерях в группе Островеня пока не поступило.
Из дальнего угла сарая вдруг донеслись всхлипывания и стоны. К диковато звучавшим бабьим причитаниям примешивалась икота.
— Что там у вас еще? — спросил Волохов у старшего прапорщика, который, пошатываясь от усталости, вытянулся перед командиром.
— Стошнило одного. Трупы полез с дороги оттаскивать… когда танки подкатили, — пояснил Бурбеза. — У одного череп лопнул. А его и забрызгало…
С досадой отвернувшись, подполковник сунул Рябцеву фляжку со спиртом. Капитан передал ее Бурбезе. Тот пустил посудину по кругу…
В воскресенье двадцать пятого февраля, незадолго до отбоя, из Ханкалы передали сообщение о назначенной на утро штабной проверке. Московская комиссия намеревалась объехать с утра Старые Промыслы. В батальоне штабную свиту ожидали к обеду.
Понедельник Волохов объявил авральным парко-хозяйственным днем. С шести утра подполковник не переставая отдавал всё новые распоряжения и мало-помалу терял надежду на то, что территорию удастся привести за утро в пристойный вид. За напускной строгостью командир тщетно пытался скрыть перед подчиненными неловкость: разве не тупая показуха, да еще в условиях реального военного времени?
Личный состав, перед рассветом выведенный на улицу, метлами и лопатами месил на аллеях лед, грязь и снежную кашу: приказано было вылизать начисто, до асфальта, хотя бы центральную аллею. С неба сыпал снег. Лопат не хватало, чтобы поспевать за снегопадом. Две роты тем временем отправились чистить технику, а когда рассвело, еще двум отделениям пришлось заняться покраской дверей и подоконников в казарме.
Когда к одиннадцати утра с уборкой было покончено, из Ханкалы вдруг дали отбой. Проверка отменялась — поджимало время обеда, как по дружбе сообщил дежурный по штабу. Не кормить же генеральскую свиту кашей из полевой кухни, окажись комиссия в подразделениях в обеденное время. Тут Волохов и сорвался.
Заливаясь краской, подполковник устроил взбучку явившимся докладывать об окончании работ в ротах. Чтобы не пачкать запасное обмундирование, прибереженное для строя перед штабной делегацией, офицеры вырядились кто во что горазд. Как за день до этого, когда, взбеленившись из-за пустяка, командир стал читать мораль личному составу и угрожал трибуналом за малейший проступок, если не дай бог кого-то потянет на мародерство, — так и теперь он вновь пугал разжалованием и полевыми судами, но уже за нестираные воротнички и «чумазые рожи».
Ответ на ругань последовал адекватный — «непротивление злу», как за глаза язвил заместитель комбата Голованов. От вспышек командир легко отходил, к ним давно привыкли. И как всегда, после раскаиваясь и стараясь чем-то загладить свою вину, подполковник распорядился об отправке личного состава в баню вне графика. Сам пошел звонить соседям и договариваться о помывке, поскольку в расположении батальона своей бани не было. На операцию «Мойдодыр», как пошучивали довольные «подневольные», командир отвел всю вторую половину дня…
Перед закатом над городом просветлело. С лоснящимися после парной щеками, в чистом, но еще сыром от банных паров обмундировании, группа офицеров, устроившая перекур на узком пятачке двора за казармой, где после обеда пригревало солнце, шумела, обступив молодого штатского с бородкой, который три дня назад прилетел из Москвы служебным бортом и уже успел нахвататься впечатлений от посещения частей в Моздоке и в самом Грозном. Вот ими-то новичок взахлеб и делился, не замечая, что над ним подтрунивают.
Чуть в стороне капитан Веселинов устроил нагоняй солдатам, напортачившим при укреплении забора по периметру части. Солдатики в мешковатых тельняшках выглядели не столько изнуренными, сколько пристыженными.
— Во народ… во народ! Ни бельмеса не понимают… Я ж вам русским языком объяснил, как надо сделать было! Надо ж, тупицы! Вот подойдет какая-нибудь сволочь, пнет сапогом, и забор ваш повалится. Три поросенка, ё-мое! И что делать будете, если это прямо сейчас случится? Врукопашную полезете? — отчитывал капитан, впрочем, без особого металла в голосе. — Руки-то откуда у вас повырастали? Я вас спрашиваю?!
— Да не копается там. Камни одни, и всё! — огрызнулся один из солдатиков.
— Ты мне не всёкай, умник! Я тебя три дня назад предупреждал! Было дело?
— Так точно, — обреченно согласился рядовой.
— А раз было, мотай на ус! И на этот раз я закрою глаза. Но имей в виду… ты на карандаше у меня теперь… А сейчас живо за работу! Даю десять минут. Вон как раз прется один, полюбуйтесь на него! Представитель миролюбивого народа… — Веселинов кивком показал на приближавшегося к колючей проволоке ингуша, который жил рядом с частью, сразу за оградой. На дому у себя сосед приторговывал водой, водкой, сигаретами.
— Салам алейкум, джигит! — поприветствовал гостя один из офицеров. — Ты чего такой черный, Вахид, как черт? Укусил кто?
Привыкший к насмешкам, ингуш подступился к проволоке, взялся за нее руками и гортанным голосом крикнул штатскому:
— Эй бородатый, а ну, иди сюда! Ты это… Говорят, священник?
Штатский, под камуфляжной курткой действительно носивший подрясник, не спеша приблизился к заграждению и счел нужным поправить:
— Во-первых, не священник, а дьякон. А во-вторых, ты чего не здороваешься?
Ингуш по-бараньи уставился на дьякона.
— Как жизнь, Вахид? — спросил штатский.
— Сам видишь… Жизнь называется! — Ингуш смачно сплюнул. — Поговорить надо.
— Со мной?
— С тобой. Ты только это… Им не говори, — ингуш показал взглядом на вновь загалдевшую офицерскую братию. — Им бы только ржать да ржать… Придешь?
— О чем ты хочешь поговорить, Вахид?
— Про ислам, — совершенно серьезным тоном ответил ингуш.
— Не сильно я разбираюсь в исламе… Что за срочность такая?
— Не хочешь?
— Не сегодня.
— Отказываешься?
— Не отказываюсь, а не могу… Ты как маленький. Да и запрещено нам за ворота выходить, как будто не знаешь…
— Очень нужно, — стоял на своем Вахид. — Съем я тебя, что ли? Чего боишься?
— Правило такое. Не я порядки устанавливаю. Послушай, Вахид, давай вот как поступим. С утра завтра приходи на КП, — предложил дьякон. — Меня вызовут. Никого не будет, не волнуйся. Только ты и я.
Ингуш безнадежно отмахнулся и стал удаляться прочь…
Два дня спустя, за ужином, офицер инженерной службы из Ханкалы, по распоряжению из своего штаба вынужденный остаться на ночь в казарме, после первой же рюмки стал рассказывать сидевшим за столом о местном торгаше, чеченце, которому ни с того ни с сего взбрело в голову поговорить по душам с заезжим русским батюшкой. Чеченец вознамерился просветить православного священника насчет ваххабизма, который завезли в Чечню якобы сами же русские, а заодно решил исповедоваться, при этом и слышать не хотел, что в православной церкви с некрещеными таинство совершать не принято.
— Батюшка послал его, сами понимаете… Ну и что вы думаете? Чеченец с горя запил. Два дня не просыхает. Наши вынуждены спирт друг у друга выклянчивать. Водки днем с огнем не сыщешь.
Рассказ гостя вызывал на лицах улыбки. Инженер говорил, конечно же, о Вахиде — второго такого не было во всей округе. Батюшкой же был не кто иной, как дьякон, сидевший тут же, за столом; смутившись, он уставился в тарелку. Но откуда инженер мог знать, что из батальона, где его приютили на ночлег, тоже все кому не лень бегали за покупками к тому же торгашу — не к чеченцу, как он утверждал, а к ингушу, который в назначенное дьяконом время у КП так и не появился. Инженер говорил правду: ингуш с тех пор как в воду канул.
— Так это про меня, — признался дьякон.
— Про вас? Это в каком смысле? — растерялся инженер.
— Это вы про Вахида рассказывали… Было дело. Подошел к проволоке и давай просить… — Дьякон обвел взглядом присутствующих, словно искал защиты.
— Вахидом зовут, точно, — не без конфуза подтвердил инженер.
— Да уж, знаменитость, — поддержал Бурбеза.
— Так это вас он за священника принял? — инженер оторопело уставился на сотрапезника. — Так бы и сказали… Ну, Вахид! Ну, дает! Им какая разница. Раз подрясник — значит, поп…
С утра Бурбеза отправился проведать ингуша и подтвердил сказанное вечером инженером. Вахид даже не удосужился выйти поздороваться. По словам жены, которая встретила гостя на пороге с новорожденным на руках, муж затаил обиду на весь белый свет. Поэтому и не просыхал. А пил по-черному: запой мог длиться и неделю, и две. Вернувшись на территорию части, Григорий рассказал, что Наталья, молодая жена Вахида, чуть ли не в ноги ему кланялась, умоляя передать офицерам, а с некоторыми из них ее муж поддерживал дружеские отношения, чтобы все, кто может, пришли вечером в гости отметить рождение их третьего сына…
Уже стемнело, когда вчетвером — Веселинов, взводный Белощеков, Бурбеза и капитан Рябцев — поднялись на крыльцо ингуша.
Вид у хозяина был жалкий, но через четверть часа он начал оттаивать. Впрочем, на водку, принесенную гостями, Вахид даже не хотел смотреть, прихлебывал чай без сахара, что не мешало ему произносить тосты и то и дело всех благодарить. Смущаясь, Наталья пыталась одергивать расчувствовавшегося супруга, но безуспешно. Разомлевший Вахид вспоминал довоенную жизнь в городе, говорил о прошлом таким тоном, будто не знал, смеяться нужно над ним или оплакивать.
После всего, что пришлось здесь пережить со времен первой войны, уже немногие его знакомые верили, что являются гражданами той же самой страны, в которой жили годы назад. Этим якобы и объяснялось полное безразличие людей к тому, кто теперь хозяйничал на их земле. Покоя и добра не видно ни от одних, ни от других. Соседи, все кто смог, поразбежались, бросив разгромленные дома и квартиры, редко кому удавалось их продать. От большинства соседних дворов остались одни развалины. Последний двор, через забор от Вахидова дома, бросили прошлой зимой. Хозяин, хохол с судимостью, живший тут с женой, с советских времен промышлял знахарством. Было время, хохол принимал у себя всю местную знать — в погонах и штатском. В кабинете украинца, который, помимо всего прочего, врачевал гипнозом, можно было застать начальника отделения милиции при всем параде; в окаменевшей позе он сидел верхом на стуле с поднесенной к козырьку пятерней. Это и превратилось в одну из излюбленных забав теснившейся в очереди клиентуры: Вахид, на правах соседа, даже созывал знакомых, чтобы показать им выставленных на посмешище местных начальников, чтобы дать людям возможность подивиться безобидности грозного пару минут назад представителя власти, не привыкшего отираться в очередях и даже не помышлявшего, в каком свете он предстает глазам публики…
В первую войну в дом соседа попал танковый снаряд. Вахид уверял, что снаряд залетел в форточку. Жена соседа, в тот момент отлучившаяся из дому, не пострадала, а вот останки мужа собирала по развалинам, в которые превратилась большая часть двора. С тех пор, кое-как восстановив крышу из обломков шифера, она так и жила, ютясь в уцелевшей части дома. Дотянув до прошлой зимы, она тоже наконец уехала к родственникам…
Шел девятый час, когда за Веселиновым пришел посыльный. Командир требовал капитана к себе. Веселинов снял с посыльного стружку: выходить по одному за ворота части запрещалось. В оправдание рядовой бормотал, что не хотел капитана подводить, ведь и его могли взгреть за отлучку с территории, в той же степени самовольную, — выходить за КП без особого распоряжения офицерам в этот час тоже не разрешалось. Капитан нехотя распрощался и нехотя же удалился вместе с солдатиком…
В начале одиннадцатого подвыпившая компания вывалила на улицу. Ингуш проводил офицеров к калитке, сопровождая прощание объятиями и добрыми напутствиями.
После духоты, табачного дыма и водки голова на воздухе у всех шла кругом. Бездонное звездное небо неудержимо кренилось и уплывало в сторону, туда, где над черными контурами полуразрушенных зданий, зияющих дырами безжизненных окон, висел остроконечный серп — четкий и, казалось, добела раскаленный, такой, какого никогда не увидишь в небе Центральной России. Даже в форме месяца проступало что-то угрожающее. На юго-востоке ночной горизонт то и дело озарялся беззвучными всполохами, как будто кто-то пытался раздуть в темноте тлеющие угли. Если бы не зима и не мороз, вспышки могли сойти за грозовые молнии, рассекающие ночь где-то очень далеко, откуда раскаты грома не долетают. Тишину, висевшую над городскими развалинами, нарушало разве что лязганье гусениц, периодически доносившееся со стороны соседнего блокпоста. И эта тишина задворок — без собачьего лая, без шума машин — удручала своей неестественностью. Не меньше, чем иллюминация над горизонтом, в десятках километров в стороне, где рвались снаряды. Странно было даже подумать, что по ночам землю и воздух где-то совсем недалеко разносит и рвет на куски.
Старший прапорщик, поторапливая остальных, шел впереди. Рябцев со старшим лейтенантом с трудом поспевали следом. Из-за гололеда приходилось хвататься друг за друга. Бурбезу пытались придержать, но он лишь настойчиво прибавлял шагу…
Часть четвертая ХАМ И ХАМЕЛЕОНЫ
Аз же глаголю вам не противиться злу…
Матерьялист Диалектович, как Фоербаха прозвала клиентура, съезжавшаяся в его клуб на ночные партии покера, порцию любимой гречневой каши доедал на одном дыхании. Отослав официанта, Фоербах внимал болтовне присевшего рядом гостя без видимой реакции, не отрывая глаз от тарелки.
Перевалило за час ночи, когда Поздняков Андрей Николаевич, состоятельный завсегдатай клуба, никогда не пропускавший пятничных партий, последовал за хозяином заведения в диванную, где тот устраивал себе перекуры, подальше от игрального зала и от назойливых картежников, и в который раз заговорил о Коле Лопухове. Аналогичную попытку Поздняков уже предпринял неделю назад, но в тот вечер Фоербах так и не понял, чего от него хотят. И опять Андрей Николаевич говорил о всякой всячине, и вот опять имя Лопухова всплыло как бы между прочим. Обсуждали совершенно отвлеченную тему — задолженность одного из игроков, с которым Поздняков поддерживал личные отношения вне клуба и ночных сборищ на Остоженке. Какое, спрашивается, отношение Лопухов имел к долгам Гришина? Да никакого.
От дружеских отношений с задолжавшим Гришиным Поздняков отрекся без зазрения совести. Но вдруг предлагал содействие в покрытии долга. Бессмысленно выбивать из человека деньги, которых у него нет. Прежде чем прибегать к жестким мерам, Андрей Николаевич советовал запастись сведениями о реальном положении дел у Гришина…
Тон гостя раздражал хозяина безмерно. С каких это пор гости стали поучать его, Петра Фоербаха, как ему жить и что делать с должниками?
Тут Поздняков хлопнул себя ладонью по лбу и заявил, что знает человека, на которого можно возложить столь деликатную миссию. Вытащив из кармана телефон, Поздняков покопался в меню «записной книжки» и дал Фоербаху номер некоей Варвары.
Выпускница закрытой спецшколы, из органов уволенная из-за какой-то корпоративной заварушки, за то, что вынесла сор из избы, Варвара нажила себе репутацию мастерицы на все руки. Равного ей виртуоза не было во всей Москве. Какой ни есть, но тоже дар — уметь раскалывать заядлых умников, уметь вить веревки из мужчин, а ведь не из всякого рванья это удается. Настоящая фамилия — Залесская. Большинство из тех, кому приходилось иметь с ней дело, знали Варвару как Мадлен — под таким псевдонимом она работала.
Поздняков сообщил, что две недели назад аналогичной услугой он удружил Аристарху Ивановичу, когда тому приспичило. В клуб Вереницына привел Лопухов, а Лопухова… он и не помнил, кто именно, но, как ни крути, все знали друг друга, поэтому требовалось проявлять осмотрительность.
Разговор продолжился возле буфета, когда накрыли ночной стол и официант позвал обоих перекусить. Посыпав солью надвое разрезанный свежий огурчик, Фоербах не без удовольствия схрумкал половинку и совершенно незаинтересованным тоном осведомился, чем могла помочь Вереницыну эта самая Мадлен. Поздняков рассказал, что Вереницына вынудила обратиться к нему, Позднякову, нелегкая. Всех подробностей Поздняков не знал, да и знать не хотел. Но если верить тому, что говорилось во всеуслышание, то что-то неладное творилось с девушкой, которая вот уже год жила с Аристархом Ивановичем. Старик он, мол, стариком, но крутого замеса. За благодеяния сожительница платила ему то ли изменами, то ли воспользовалась его доверчивостью и впутала в историю с деньгами, с долгами и черт знает чем еще. По натуре очень обидчивый, Аристарх Иванович не хотел пускать дело на самотек. Он твердо вознамерился вывести на чистую воду всех, кто строил козни — ему и подруге. Но что ему прикажете делать? Обращаться в частный сыск? Аристарх Иванович не хотел доверяться чужим людям. Вот ему и посодействовали. Мадлен предоставила обслуживание по классу VIP, да еще и со скидкой…
Еще через пару дней, когда разговор опять возобновился, Фоербах уже не сомневался, что его взяли в разработку. Кто и чего от него добивается, какую роль играет во всем этом Поздняков, понять пока было невозможно. Сам Поздняков прекрасно понимал, что поведение его вызывает вопросы, никак его не комментировал, да еще зачем-то продолжал делиться с Фоербахом новостями о делах Вереницына. По его сведениям, полученным от всё той же Мадлен-Варвары, Аристарх Иванович решил нанять ее, для того чтобы она «обработала» жену Коли Лопухова. В задачу Мадлен входило выяснить, не падка ли мадам Лопухова на слабый пол.
Главное было произнесено. В тот же миг осознав, что где-то здесь и запрятана ключевая информация, к которой заодно предлагали если не ключ, то отмычку, Фоербах выжидающе уставился на словоохотливого Позднякова, но так и не задал ему ни единого вопроса. Не положить откровениям конец — означало сдаться, означало позволить водить себя за нос. Конфликтовать с Поздняковым ему не хотелось. Согласно неписаному внутреннему кодексу заведения, выяснение отношений тут допускалось только с должниками.
Поздняков продолжал в том же духе. Он объяснял, что операцию Мадлен провернула с блеском. Единственная загвоздка вышла в тот момент, когда в нечистую лапу проводника (происходило всё в поезде) потребовалось сунуть долларовую банкноту, дабы тот уважил прихоть обворожительной пассажирки. Внешностью своей Мадлен вгоняла людей в такой транс, что для приведения их в чувство приходилось пугать народ иногда собственными женами — понятное дело, похожими на кикимор. Еще до отправления поезда она попросила проводника перетасовать пассажиров в нужной ей комбинации, чтобы оказаться в том купе, которое больше соответствовало ее прихотливому нраву и настроению. Благо, пассажиров оказалось немного — мягкий вагон не каждому по карману… Надежды Аристарха Ивановича так и не оправдались. Мадам Лопухова оказалась нормальной гетеросексуальной особой. Что примечательно, за свои труды Мадлен недополучила: Вереницын счел результат настолько неудовлетворительным, что решил зажилить, старый скряга, половину обещанного гонорара… Поздняков с укоризной качал головой, а на губах его играла с трудом скрываемая ухмылка…
Во времена Советского Союза офицер Морфлота, а затем совминовский работник, Поздняков жил на доходы от нефти. Во всяком случае, такое мнение бытовало о нем в клубе на Остоженке. Правда, никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть разноречивых сведений. Неоспоримым был лишь факт, что в покер Поздняков мог просадить любую сумму. При этом его нельзя было счесть ни ветреным, ни слишком азартным: отец двух взрослых дочерей, которым он любил названивать прямо из-за игрального стола, в самое неподходящее время, — этим он частенько бесил партнеров, — Андрей Николаевич был рационален до мозга костей, никогда и ничего не совершал без дальновидного расчета, об этом знали все, кто садился с ним играть…
Из всего этого Фоербах сделал простой вывод: его пытаются использовать. Хотят слить какую-то информацию? Или дэзу? Оставалось непонятным, кто настоящая мишень. Под прицел попала явно не жена Коли Лопухова и не подруга жены. Сам Николай? Но стоило ли прибегать к столь изощренным методам? Опорочить такого человека, как Коля, — чего проще? Ну, оказалась бы его жена бисексуалкой — и что? Сейчас это даже модно. И тем не менее его, Фоербаха, подробностями снабжали явно только для того, чтобы вся эта история дошла до Лопухова. Другого объяснения Петр не видел. И он не исключал, что Поздняков оказался в той же неприглядной роли, в том же безвыходном положении, что и он сам: позволял принимать себя за дурака из чистой любезности.
Подозрения вскоре подтвердились. Накануне Нового года к Петруше Фоербаху обратились посторонние люди, к клубной тусовке не имевшие никакого отношения. Вышли на него на этот раз через посредничество друга детства, и тоже за сведениями о Лопухове. Некто очень сведущий предпочитал оставаться в тени, но проявлял активный интерес к недавней сделке Лопухова, о которой Фоербах уже слышал краем уха. Сделка была заключена около года назад то ли самим Николаем, то ли совместно с компаньонами — Фоербах не знал точно. Речь шла о приобретении в Подмосковье то ли поточной линии, то ли целого ликероводочного завода.
Твердая хватка и стиль воздействия, искусное умение вывалять клиента в грязи, прежде чем раскрыть перед ним все карты, — всё это свидетельствовало о том, что на Лопухова, одного или вкупе с компаньонами, наезжали люди опытные и не робкого десятка. Настораживал и тот факт, что ставка делалась на его, Петрушину, покладистость. Всё клубное окружение прекрасно знало, что никаких личных отношений с Лопуховым у него нет. Знали друг друга много лет, но ко многому ли это обязывает? Жену Лопухова Фоербах видел один раз в жизни, в тот день, когда они повздорили прямо у него в клубе. Общих знакомых — раз-два и обчелся. Общих интересов нет и подавно. Вне стен клуба они с Лопуховым не встречались. На несколько лет вообще потеряли друг друга из виду. Когда же отношения возобновились, Лопухов держал дистанцию. Не он один чурался публики, съезжавшейся по ночам на покер. Клиентура захаживала всякая, так что обижаться тут было не на что.
Посредник, он же друг детства, через которого из Фоербаха выкачивали сведения, был вовлечен в переговоры человеком, жившим в Швейцарии и имевшим какое-то отношение к банковским кругам Цюриха и Женевы. Это всё, что было известно. Чьей именно поддержкой швейцарец пользовался в Москве, информации не было. И, наконец, последнее, чего не скрывали от Фоербаха, это то, что запрос исходит не от своих, не от россиян, а от иностранцев…
После новогодних праздников Николай улетел во Францию, где вместе с Грабе ему предстояло принять окончательное решение о покупке небольшой французской фирмы, на чем тот настаивал еще с осени. Ласло приехал в Париж скоростным поездом из Лондона, куда отправился незадолго до этого. В тот же день, едва прилетев в Париж, Филиппов отправился в Женеву, где собирался вести переговоры с местной полицией насчет Маши. В результате его настойчивых просьб в Женеве пообещали предоставить нужные сведения. Решение о том, нужно ли будет делать запрос по всей форме из Москвы, Филиппов намеревался принять на месте…
Сделку с парижской фирмой, которая занималась разработкой компьютерных игр и мелкого корпоративного софта, удалось заключить на оптимально выгодных условиях. Фирму купили, что называется, с потрохами — с апартаментами, всем хозяйством, сотрудниками, подрядчиками и клиентурой. Хозяин бизнеса, предприимчивый молодой француз, продавал свою долю только потому, что срочно нуждался в наличных, в течение года согласился оставаться исполнительным директором и потребовал довольно скромный оклад — восемь тысяч евро… Однако мысли Николая занимало другое. По дороге домой он даже не помнил точной суммы, в которую обошлась сделка, несмотря на то, что отчаянно торговался за каждую копейку. Грабе от души обижался на безразличие Николая к их совместным делам…
Вернувшись в Москву, Николай чувствовал себя как никогда разбитым. Всё валилось из рук. Любой пустяк вызывал раздражение. Дорожное переутомление, какая-то похмельная усталость после праздников да и от зимней непогоды, установившейся в холодном и грязном городе, преследующее по пятам уныние, от которого он уже не мог избавиться, и уж особенно черным всё казалось после разговоров по телефону с отцом, потому что тот как всегда выговаривал ему за необязательность, обвинял в постыдном безразличии к судьбе сестры и ко всему на свете… Николай был на пределе душевных и физических сил. Что он мог ответить на упреки? Лучше помолчать. Крахом обернулась и поездка Филиппова в Женеву. Ожидаемые переговоры так и не состоялись. Филиппов сетовал, что швейцарцы принялись «обхаживать» его будто виноградный куст, ожидая от него какой-то небывалой отдачи, при этом «заранее знали, что все гроздья пропадут при первом же морозе». Такое поведение явно объяснялось тем расчетом, как полагал Филиппов, что из него смогут выудить что-то связанное с его прежней службой в ФСБ, о которой в Швейцарии прекрасно знали — к немалому удивлению самого Филиппова. В Женеве потребовали официального запроса…
Небритый обрюзгший тюфяк в бюргерской пижаме затравленно глазел на Николая Лопухова из глубины зеркального омута, на который по утрам становилась похожа не только ванная, но и весь окружающий мир. И Николай не переставал удивляться: что связывает его с этим неудачником в зеркале? Чего он ждет, этот тюфяк с виноватыми глазами? Чем же он так проштрафился? Чего он ждет от жизни, от людей? На что он, собственно, так обижен?
Их было двое. Николай Лопухов № 1, загнанный в угол, совершенно беспомощный и окончательно утративший вкус к жизни, всё еще сохранял способность относиться к себе критически. Николай Лопухов № 2, практичного склада сангвиник, по-прежнему уверенный в себе, вовлеченный в круговорот каждодневных забот, живущий по инерции и по правилам того мира, в котором, как ему казалось, очутился по чистой случайности, едва ли отягощал себя моралью и вряд ли жил по совести. Но тут в силу вступали уже нюансы, не обобщения.
Николай Лопухов № 2 преспокойно ухмылялся в глаза первому, своей понурой копии, которую сам же ни во что не ставил, продолжал беззаботно чистить зубы, сплевывал в раковину розовую пену и делал вид, что ему всё нипочем. Чувство раздвоения напоминало о себе привычной ноющей болью где-то в области средостения и становилось особенно мучительным, когда он одевался во всё чистое, отутюженное и садился завтракать у окна на свое любимое место, когда, смакуя ароматный кофе с рогаликами, испеченными Тамарой, он перебирал в уме, какой будет лучше повязать галстук, если опять уделает тот, что уже надет, и одновременно принюхивался к запаху меда или земляничного варенья. Как тривиально, но как безотказно это скрашивает жизнь! Чувство раздвоения постепенно становилось привычным. Еще не покончив с завтраком, он звонил шоферу, лишь затем, чтобы проверить, стоит ли тот уже у подъезда в прогретой и чистой машине, или опаздывает? Глеб Никитич опаздывал редко. Однако Николай, руководствуясь правилом «доверяй, но проверяй», проверял, делал это уже чисто машинально. И за это начинал тихо себя ненавидеть. Тягостное чувство нереальности происходящего, чувство чего-то лишнего, но неизбежного не отпускало ни на миг, мертвой хваткой держа за горло, когда, позавтракав, Лопухов-первый спускался на улицу и куда-то ехал, боялся опоздать, внушив себе давным-давно, что человек воспитанный не может себе этого позволить, но всё-таки опаздывал и — удивительное дело — безболезненно прощал себе. Впрочем, не только это. Что поразительно, он ни на минуту не становился при этом Лопуховым-вторым. Не слишком ли велика была между ними разница?
Мириться с раздвоением в душе приходилось годами. Иногда Николая охватывало такое чувство, будто он испытывает себя на прочность. Чтобы не казаться себе слишком мягкотелым, приходилось даже раздвигать внутренние рамки терпимости. Но одна часть его натуры не выносила одних вещей, а другая — совсем других. В результате у него ничего не выходило. Николай даже замечал, что невольно тянется к людям, чуждым по духу, — из соображений прагматичных. Чем больше, мол, узнаешь нового, чем больше познаешь окружающих, тем глубже и интереснее для познания становишься ты сам. Разве любознательность — не залог живучести? Хотя некоторые пословицы утверждают обратное. Пословицы… В этой логике и особенно в путанице, которой она обязательно оборачивалась, сквозило нечто мазохистское. Лопухов презирал себя не только за излишнюю практичность, но и за ежеминутное отступничество от правил, которые считал обязательными для себя и вообще для порядочного человека. Он не мог, в конце концов, смириться с приобретенным цинизмом, эдакой всеядностью в себе, в чем обвиняли его и брат, и жена, и Николай Лопухов номер один. Не мог Николай смириться и с самим образом жизни, который вынуждал себя вести, утоляя ненасытные запросы этой всеядности. Не презирал ли он саму свою жизнь — с ее вечным раздвоением? Не относился ли он к ней как к чему-то временному, пробному?..
Вот и за игральным столом на Воздвиженке, в глубине шумного под выходные заведения, его охватывало то же омерзительное чувство «двуединства». Всё здесь казалось зыбким, нереальным. В то же время привычный дух мужского товарищества, основанный на общности простейших интересов, с которыми любой мужчина рождается и умирает, отсутствие обременительных внутренних обязательств друг перед другом, возможность появиться не здороваясь и уйти не прощаясь, атмосфера какой-то простительной вседозволенности… — всё здесь было и просто и ясно. Попадая в этот теплый мирок, он достоверно знал, кому и какое место здесь отведено, какое место отведено лично ему. Как это, опять же, упрощало жизнь! Не меньше, чем добротная одежда, чем знание этикета, понимание своих недостатков, не меньше, чем умение себя ограничивать. Как мало людей это понимают!
Когда Фоербах позвонил Лопухову и позвал вечером в клуб, Николай отказался не раздумывая. Хотелось выспаться. Приятно бывает посидеть дома без всяких дел и забот, побездельничать на диване, хорошо пообедать, покопаться в газетах, а потом, позднее, полежать в ванной с открытым окном, выкурить хорошую сигару, болтая по телефону. Однако уже к вечеру, изнемогая от скуки, Николай передумал: решил поехать, проветриться. Да и Грабе нужно было чем-то развлекать. Не могли же они просидеть весь вечер перед телевизором в домашних халатах и тапочках, которые Нина, словно издеваясь, подарила обоим на старый Новый год. Лучше уж показать компаньону ночную жизнь Москвы, тем более что Грабе давно об этом просил…
Отдельный широкий стол, высившийся в конце балюстрады в глубине полупустого зала с парадной хрустальной люстрой, был озарен бесцветным и бестеневым светом, как в операционном блоке.
«Синий» игральный зал, в котором по пятницам устраивались «большие» партии, был огражден от рядовых посетителей двойным фейсконтролем и чем-то напоминал комнату ожидания для особо важных персон в аэропорту. Заросли искусственных пальм, плюща и фикусов, пышная обивка диванов, приветливый и молчаливый персонал, сытые физиономии разношерстной публики, барствующей в этой отштампованной фальши… — всё здесь должно было напомнить гостю о том, что он не такой, как все, и в то же время ничем не лучше других. Будь, мол, собой и знай, что другим до тебя нет дела. Бери — и помни…
Николай курил на диване озирался по сторонам с рассеянной ухмылкой. Помимо ощущения, что он попал в свою законную и всё же необычную среду, каждый раз, когда его сюда заносило, его охватывало и другое, уже вязкое ощущение: вдруг казалось, что жизнь утекает, как песок сквозь пальцы, и что это не так уж страшно. Иногда то же самое испытываешь в поликлинике или больнице, дожидаясь приема у врача и не чувствуя себя больным… Неужели роскошь настолько расхолаживает? Разве отличалось Петрушино заведение чрезмерной роскошью?.. Однако ничего не поделаешь: попадая в ее распростертые объятия, к тому же не бесплатные, а оплаченные из собственного кармана, как любовь проститутки, идешь вдруг почему-то на поводу, раз заплатил — нужно доедать, и вот уже вскоре не остается ни сил, ни воли на то, чтобы стряхнуть с себя дурман и положить конец добровольной пытке. Лучший выход — действительно быть, как все. Иди и играй на здоровье, пока не надоест, да постарайся не оказаться последним простофилей…
Время близилось к полуночи, а игра всерьез еще не начиналась. Как водится по пятницам, играли в закрытый покер. От настоящих ставок пока воздерживались. Чтобы растормошить игроков, за стол сел сам хозяин заведения. Фоербаху уступили место, он положил перед собой крохотный серебристый телефон, пачку слабеньких сигарет и старался делать вид, что ничего особенного не происходит.
Сидевшие за «синим» молчаливо Фоербаху подыгрывали. После того как в декабре Матерьялист Диалектович спустил за одну партию тридцать тысяч долларов, которые ему пришлось вынимать не из кассы клуба, а из собственного кармана, он во всеуслышание зарекся никогда впредь не играть в ночное время. К лицу ли проигрывать собственной клиентуре? О решении патрона все были осведомлены. Но страсть Фоербаха к игре давно стала легендой. Недаром же он столь успешно реализовал себя в этом качестве. Большинство любителей азартных игр на страстях деньги теряли, а он — зарабатывал. Этот человек в буквальном смысле слова состоялся, ему мог позавидовать кто угодно. Уже по этой причине в стоические обеты Фоербаха никто не верил.
Девушка, обслуживавшая стол, вернулась из кассового зала и сложила перед патроном стопку фишек. Началась раздача карт.
Отойдя к окну-аквариуму, выходившему в зимний сад, Николай наблюдал за ажиотажем у стола и вполголоса посвящал Грабе в обычаи заведения. Как вдруг он замер, оборвав фразу на полуслове, и уставился на вход.
В дверях показался адвокат Шпанер, на днях позвонивший Николаю, чтобы передать привет от Аристарха Ивановича. Шпанер объявлялся редко, не чаще, чем раз в полгода, и всегда по делу. Николай воспринял звонок как дурное предзнаменование, и в данный миг уже ничему не удивлялся — даже появлению Вереницына, Змея Горыныча, силуэт которого маячил за спиной Шпанера. Фоербах не мог не знать о приезде такого гостя, его всегда предупреждали. Тогда почему утаил это, когда сам звонил и приглашал?.. Его охватило чувство досады.
Шпанер и Вереницын подошли к Николаю. Смерив взглядом Грабе и сделав вид, что не узнает его, Вереницын предложил позднее сыграть в покер. Николай принял вызов без колебаний, натянуто улыбнувшись Аристарху Ивановичу. Вереницын сказал, что вернется, и отошел с адвокатом к столу, где как раз подали чай.
С левого края стола на привычном месте сидели двое итальянцев, зачастивших в клуб с лета. У обоих был довольно замученный вид — от Москвы ли, работы, ночных ли бдений. Итальянцы играли вдвоем за одного. Посасывающий сигару вел игру. Напарник помоложе заглядывал в карты товарища и постоянно что-то нашептывал ему на ухо, — делился бесценными соображениями? Третьим за столом сидел завсегдатай ночного покера Вольдемар Галкин, которого в клубе прозвали Волгой. Внушительной комплекции, узколобый, с приплюснутым боксерским носом, Волга травил душу мелкими ставками и непоседливо тряс ногой под столом.
Несмотря на попытки Волги набросать в банк фишек — он проделывал это осторожно, будто пытался развести костер и подкармливал огонь понемногу, чтобы не сбить занявшееся пламя, — партия оставалась неинтересной, на лицах лежала печать скуки. Волга изнывал от нетерпения. Он походя обсуждал что-то с вертевшейся у стола подругой, стройной девицей лет тридцати с худым грубоватым лицом, без которой в клубе вообще не появлялся, но обычно она редко приближалась к игрокам. В выражении ее глаз, стоило ей показаться у «синего» стола, появлялось что-то печальное, как у породистой собаки, ожидавшей от хозяина знака внимания или команды.
Приехал и Поздняков. Пока он лишь прогуливался в отдалении от стола, раскланивался с присутствующими, кому-то звонил, улыбался. Он ждал своего часа…
Зал обслуживала стайка девушек. Все невысокие, с правильными фигурами, в черных чулках и в одинаковых шелковых блузках, они суетились вокруг игроков, меняя пепельницы, разнося выпивку и легкую закуску.
Андрей Николаевич, севший наконец играть, попросил порцию гречневой каши и чашку чая с молоком. Фоербах, задержав на нем участливый взгляд, последовал его примеру — попросил каши и как всегда погорячее и с двойной порцией сливочного масла. От спиртного все отказались. Рюмку коньяку попросил лишь один из итальянцев: в отличие от русских завсегдатаев, во время игры не бравших в рот ни капли, он любил взбодриться рюмашкой-другой натощак. Волга предпочел дождаться ужина; после полуночи тут же, в зале, на длинном столе накрывали настоящий обед с несколькими холодными и горячими блюдами, с винами, водкой и коньяками.
Прошло полчаса. С головой погрузившись в игру, Фоербах не обращал внимания на остывающий чай. Он проигрывал. Горка принесенных ему фишек таяла на глазах. В ней уже не хватало двух или трех тысяч долларов. В этот момент и обнаружилось, что в колоде не хватает тузов.
Скандалом, однако, дело не обернулось. Игроки лишь возбужденно заерзали на местах, теша себя надеждой, что, после того как причину неумолимо скучной игры удалось выявить, всё должно пойти как по маслу.
Обслуживать стол пригласили нового крупье — небезызвестную публике Марию, только что заступившую в ночную смену, — ей обычно и перепадало наибольшее количество фишек на чай от выигрывавших. Мария принесла нераспечатанную колоду карт. Прежде чем она села метать, Фоербах уступил свое кресло, решив не отыгрываться.
За стол сел Шпанер. Адвокат с трудом скрывал охвативший его азарт. Шпанер прекрасно знал, что приглашение дает ему право на получение взаймы из клубной кассы тысяч пяти, если не больше. В этой привилегии Фоербах отказывал ему с прошлого месяца, настаивая на том, чтобы он рассчитался с уже имевшимся долгом. Играть изъявил желание и Аристарх Иванович — игрок упрямый, увлекающийся, но не любивший проигрывать.
С грациозной ловкостью Мария сдала карты. Держа свои веером, Шпанер изучал расклад с вопросительной задумчивостью и выглядел уже не таким окрыленным, как еще минуту назад. Аристарх Иванович смотрел в свои карты с веселым недоумением. На лице Волги, которого вроде бы удалось раскачать недоразумением с недостающими тузами, перемена в составе игроков не отразилась никак.
Через несколько минут он признал вслух очевидное для всех:
— Нет, не завязывается. Вон и хавку принесли! — Волга кивнул в сторону накрываемого стола.
— Я попросил бараньи ребрышки приготовить, — услужливо обронил Фоербах, тоже топтавшийся у стола.
Официанты, которых хозяин то и дело пришпоривал, вносили блюда с заливным, с тушеными и свежими овощами. Фоербах знал по опыту, что при обслуживании состоятельных клиентов скупиться не стоит, с них всё одно взыщется, и стол накрывал щедрый, как можно более домашний, даже если картежники часто предпочитали просто чашку чая прямо за столом, чтобы не прерывать хорошую игру.
Через несколько минут Волга отшвырнул свои карты и вылез из-за стола. Шпанер тоже решил сделать перерыв. На место Галкина пригласили Грабе.
Всё это время молча цедивший виски с содовой за спиной у компаньона, американец сверил по глазам Николая реакцию того на приглашение и кивнул в знак согласия. Николай без энтузиазма дал ему половину своих фишек, которые купил еще на входе, и отложил свою горку фишек на цветочный столик в стороне…
Грабе играл расчетливо и для неопытного игрока, за которого выдавал себя, сверх меры осторожно. К стакану с виски он больше не притрагивался. Раз за разом Грабе выигрывал небольшие суммы. Партнеры посматривали на новичка с иронией. Благодушная бесшабашность американца, впрочем, действовала на нервы. Но именно благодаря невозмутимости Грабе, человека, вне всяких сомнений, везучего, атмосфера и потеплела.
Выиграв около двух тысяч долларов сверх того, что дал ему Николай, Грабе решил остановиться. Виновато улыбаясь, он рассовал отыгранные фишки по карманам пиджака и, тут же вернув Николаю его долю, уступил ему кресло…
Только к двум часам ночи за столом наметился первый серьезный перелом. Проигрывали Николай. Аристарх Иванович отставал не намного. Оба обменивались такими взглядами, будто подозревали друг друга в каком-то подвохе, а других — в сговоре. Но это не мешало обоим продолжать игру с тем же бездумным упорством. К столу подошел Волга. Опять с тарелкой в руках, он без стеснения обгладывал бараньи косточки, поднося тарелку близко к лицу.
Метала Мария. Николай продолжал проигрывать и делал это почти умышленно. Стартовый расклад опять и опять получался вроде бы неплохим: как можно остановиться с такими картами? С детства знакомое чувство, от которого ломило в еще не выпавших зубах, когда терпения не хватало дать пломбиру оттаять, неотложная потребность, неизжитый ребяческий кураж, заставлявший испытывать себя на прочность, — противоречивое и в то же время родное чувство безответственности, которое так иногда упрощает жизнь, не давало ему сказать себе «нет», принуждало продолжать в том же духе…
Было около четырех утра, когда и Николай и Аристарх Иванович окончательно проигрались. Вереницын, дважды подряд решивший дожидаться следующей раздачи, сделал перебор, когда в банке накопилось около двадцати пяти тысяч долларов. Николай, с самого начала пренебрегавший своим железным правилом — воздерживаться от игры на крупные суммы, если есть хоть капля сомнения или плохое предчувствие (в большинстве случае это и останавливало), позволил банку вырасти до предела и, подсчитав, что риск проиграться вчистую соответствует десяти шансам из ста, проиграл старшей карте, когда в банке лежали почти все его фишки.
Итальянцы, обложенные кучами отыгранных фишек, шушукались, как школьники перед экзаменационной комиссией. Андрей Николаевич — ему везло сегодня не меньше — бросал на проигравших укоризненные взгляды, явно не одобряя чрезмерный азарт игроков, не сумевших остановиться вовремя. А затем он же, Андрей Николаевич, сделал обоим предложение сыграть на всё.
Как всегда, когда кто-нибудь из гостей крупно проигрывал, Фоербах кружил вокруг стола и брюзжал на персонал. Вереницын тактично ждал решения хозяина. Играть он мог только в долг.
Николай попросил принести сигары. Незнакомая ему худенькая девушка с коленками олененка поднесла ему, словно приговоренному, имевшему право на исполнение последнего желания, деревянный ящичек с сигарами. Николай долго выбирал, мельком поглядывая на Позднякова. Тот ждал ответа на свое предложение и безмятежно прихлебывал чай с молоком.
Вереницын дал согласие первым. Своей решимостью, которой за игральным столом отнюдь не славился, Змей Горыныч обескураживал не только Николая.
Фоербах курил сигарету за сигаретой, сосредоточенно уставившись сквозь витраж в «питомник», как он называл свой зимний сад. Отказаться дать в долг в такой момент он не мог, игроки были слишком разгорячены.
— Господа, деньги же не мои, — наконец пробормотал Фоербах, обводя присутствующих виноватым взглядом. — Я же не один тут распоряжаюсь… Один и не один.
Однако сочувствия к себе он не вызвал.
Облизав толстую сигару, Николай кое-как раскурил ее. И только после нескольких минут курения взгляд его смягчился, и он махнул рукой — была не была.
Деваться было некуда, Фоербах кивнул. Но тут же, при всех, он попросил, чтобы должник внятно, во всеуслышание назвал срок, в который намерен рассчитаться с долгом.
Случай был беспрецедентный. Розовея по самый галстук, Вереницын сухо произнес: «Неделя…» По мрачной нерешительности, которую Фоербах не мог в себе перебороть, чувствовалось, что в обещание Змея Горыныча он не верит. Но Фоербах всё же распорядился, чтобы клиенту принесли необходимую порцию фишек.
Николай снял пиджак, достал из бумажника отложенную пачку долларов и, подсчитав, что в случае нового проигрыша, играя на предлагаемых условиях, одалживать у Фоербаха ему придется всего шесть тысяч долларов, положил деньги перед собой.
В этот момент дело и приняло неожиданный оборот. Поздняков предлагал упростить взаиморасчеты: коль скоро Аристарх Иванович не может выложить на стол «живых» денег, Андрей Николаевич согласен предоставить Аристарху Ивановичу «льготу». Если он, Вереницын, и на этот раз проиграет, вместо того чтобы рассчитываться деньгами, он должен согласиться «спустить права» на кое-что действительно «живое» — на Адель Геккер, которую прибрал к рукам год назад, лишив братию свободного доступа к общению с прелестницей…
Над столом повисло гробовое молчание.
Аристарх Иванович снял очки, положил их на стол и, как будто всё еще не понимая, что происходит, флегматично рассматривал свои руки, не отвечая ни да, ни нет. Он попросил официантку принести ему рюмку ледяной водки, простой, русской, и к ней кусочек черного хлеба — обычай давно производил на всех впечатление.
— Шли бы вы домой… с выигранным, — отечески посоветовал Вереницын. — Столько денег…
— Да я и еще выиграю, — прихвастнул Андрей Николаевич.
— А если я итальяшкам проиграю? — вполголоса уточнил Вереницын, так, чтобы итальянцы его не услышали.
Андрей Николаевич понимающе кивнул.
— Я расплачусь за вас деньгами, — сказал он. — А вы со мной — на моих условиях. По рукам?
— Ваша взяла… согласен, — вымолвил Вереницын таким тоном, будто не мог взять в толк, как так получается, что серьезные взрослые люди — и докатились до такого безобразия.
Обведя сидевших за столом недоуменным взглядом, Поздняков уставился на Николая.
Не совсем понимая, что происходит, Фоербах озабоченно всматривался в лица. Подлинные намерения Позднякова оставались вне его разума.
— Его возьмем в свидетели, — кивая на Фоербаха, сказал Андрей Николаевич. — Чтобы диалектика хоть каплю была материалистичной.
Все тактично пропустили мутный юмор мимо ушей.
— Я согласен… быть свидетелем, — пробормотал Фоербах с таким видом, будто его приглашали в секунданты. — Только давайте без крайностей, прошу вас… Час уже поздний. Поиграли — и хорошо. Лучше давайте поужинаем как следует. Я попрошу вина французского открыть. Да у нас и молдавское есть такое, что…
Предложение Фоербаха не вызвало энтузиазма. Тут Поздняков и Николаю сделал не менее неожиданное предложение. В том случае, если тот проиграет, то обязан будет в счет долга урегулировать давнее разногласие, подпортившее их отношения: продать Позднякову ценные бумаги, дававшие право на получение доходов с заводика, который Лопухов и компания приобрели около года назад. В то время и он, Андрей Николаевич, нюх на рентабельность имевший незаурядный, порывался с выгодой вложить свободные средства, но никто не захотел пойти ему навстречу.
Забытая история всплыла в ярком свете, при всех, хотя никто из присутствующих понятия не имел, что между двумя игроками существовали какие-то деловые отношения, да еще и обернувшиеся распрей. Николай боролся с переполнявшим его отвращением.
— Сколько бы я ни проиграл сейчас, это и десятой доли не составит того, что принадлежит мне по бумагам, — сдержанно ответил он.
— Я не собираюсь тебя грабить. Отдашь долг, а остальное выплачу деньгами. Наличными. Еще и заработаешь…
Николай выждал и, посмотрев на стоявшего в стороне Грабе, который ничего не понимал в их разговоре, равнодушно произнес:
— Нет, эта тема здесь обсуждаться не может. Если на деньги играть, я еще могу подумать. На всё, но за деньги, — повторил Николай.
— Хорошо, согласен, — сдался Поздняков.
Фоербах сделал нужные распоряжения. Первым делом проверили, включена ли над столом видеокамера. Хозяин поинтересовался, все ли согласны, что будет вестись запись. Возражений не последовало. В зал вызвали нового крупье из общего зала. Изящными и точными движениями проворных пальцев девушка принялась разбрасывать карты по столу. Они ложились ровным веером…
Вскоре у стола толпились все присутствующие в «синем» зале, следя за тем, как Вереницын проигрывает последнее, да еще чуть ли не в считаные минуты.
— Сколько набежало? — спросил он Фоербаха, поднимаясь из-за стола.
Поздняков вскинул на него непонимающий взгляд.
— Мы же договаривались? — пробормотал он.
Чувствуя, что попахивает неприятностями, хозяин заведения суетливо топтался в стороне, но не хотел вмешиваться.
— Я думал, вы пошутили, — ответил Вереницын.
— Нет, за столом я никогда не шучу, — холодно сказал Поздняков. — Да и свидетелей сколько.
Вереницын жестом поманил к себе Фоербаха. Тот скрепя сердце приблизился.
— Составьте мне счет, пожалуйста, — попросил Вереницын хозяина.
— Я тоже подумал, что вы согласились, — произнес Николай, прекрасно понимая, что проигравший лжет. Как и все, минуту назад он был свидетелем того, что Вереницын дал согласие отдать за проигрыш «права» на Адель Геккер; теперь же тот просто пользовался своим статусом неприкосновенности, причем самым наглым образом.
С безучастной миной, постаревший на глазах Аристарх Иваныч отошел к столу с закусками, накрытому во второй раз за ночь, и что-то обсуждал с хозяином. На его место, чтобы напоследок разрядиться, сел Волга.
Лопухов с упорством продолжал партию. И не прошло еще четверти часа, как, начав, было, отыгрываться, он спустил все фишки. Николай грохнул кулаками по столу, так, что опрокинулась чашка с остатками чая, и теперь сидел опустошенный, уставившись почему-то на Волгу. Проигрыш был немалый: за какие-то минуты улетело больше пятидесяти тысяч долларов…
Вереницын не прощаясь уехал. Вслед за ним домой отправился и Грабе. Николай сидел один в небольшом прохладном тихом холле при входе в диванную, где перед стойкой бара с пустующими зеркальными полками теснились приземистые столики и за ними прятались два пухлых канапе, на которых завсегдатаи уединялись, чтобы отойти от застольных эмоций, покурить, позвонить, а иногда и обсудить что-нибудь такое, чего не должны слышать другие. Николай держал в руке восемнадцатилетней выдержки «Лагавулин», курил, той же рукой разгонял сигарный дым и чувствовал себя в состоянии какой-то потусторонней анемии. В голове дым и пустота. После случившегося домой не тянуло. Особого расстройства от проигрыша он не испытывал. Переполняло нечто большее — чувство гадливости. К заведению, к собственным слабостям, ко всему на свете. Вместе с тем не хотелось смириться с усталостью. Усталость уличала в очередной слабости. Или опять в малодушии?
В диванную приплелся Петруша Фоербах. Уже по одной его мине Николай понял, что услышит что-то неожиданное, и не ошибся.
— Надо ж, устроили… Рабовладельцы хреновы! Баб в карты разыгрывать! — заворчал Фоербах, всё еще бледный от пережитого только что стресса. — Вы что, с ума посходили? Да меня за решетку упекут за ваши фокусы, Коля!
Посмотрев на него слезящимися от усталости глазами, Николай молчал, мусоля во рту сигару.
— Сказал бы «нет», на этом все бы и разошлись. А теперь? — попрекнул Фоербах.
— А ты? Ты-то сам почему молчал? Не я ж в твоем клубе правила устанавливаю.
— Да какие, к черту, правила?! — запротестовал, было, Фоербах, но тут же виновато смолк; а потом продолжил с каким-то рассеянным видом: — Я хотел поговорить с тобой, да ты… Меня попросили. Ты должен выслушать. Речь идет как раз об этом заводике…
— Да что вы все сегодня заладили одно и то же?.. Что за чепуха? — пробормотал Николай.
— А сестра твоя какое имеет отношение к этому? — спросил Фоербах.
— Моя сестра?.. При чем здесь моя сестра?
— Ко мне обратились с просьбой… меня тоже, поверь, в тупик она ставит… И почему ко мне обратились — тоже не понимаю, — Фоербах предпочел сделать паузу.
— Что за просьба? — недоумевал Николай. — Кто к тебе обратился?
— Меня попросили передать тебе, что если вы не утрясете эту неразбериху с заводом… Я уж не знаю какую, и не хочу знать, если хочешь знать… — Фоербах выставил вперед ладонь, словно отгораживаясь от нападок в свой адрес. — Дела сестры твоей не будут улажены. Не бу-дут, — как автомат, повторил он. — Какие, я даже спрашивать не буду…
Николай потер рукой лицо. Охваченный хаосом эмоций, путаницей в мыслях, он не мог выдавить из себя ни слова. Мир, казалось, опрокинулся с ног на голову. Или он опять в чем-то лгал себе?
— Ты… какое отношение ты имеешь к этой банде? — вполголоса спросил Николай, как будто опасаясь, что их могут услышать.
— Я?! Да никакого! Я ни к кому не имею отношения.
— А Поздняков? — настаивал Николай.
— Коля, я тебе говорю, как есть… Меня только просили передать, вот и всё… — так же тихо отвечал Фоербах. — Я готов помочь тебе. Вот только чем?! Во что ты вляпался?.. — Фоербах беспокойно заглядывал Лопухову в глаза, на лице его появилась беспомощная улыбка. — Мы ж не чужие люди, а, Коль? Столько лет знаем друг друга… Во сколько оценивается этот чертов заводик?
— Не знаю, — сказал Николай.
— Миллиона два?
— Больше… А может, около этого. Не знаю.
— Завод или два миллиона. И у сестры твоей всё решится, — сказал Фоербах.
— Тебе что, и цифру назвали? — спросил Николай, холодея.
Фоербах кивнул.
— Петруша… Маша, сестра моя… ей всего двадцать четыре года… Двадцать пять, — через силу выдавил из себя Николай. — Она… ты не в курсе… но она пропала, да еще с грудным ребенком. Здесь криминал. Тебе и не снилось такое… Ты хоть понимаешь, во что лезешь? За нее выкуп просят!
Фоербах смешался.
— Какой еще выкуп? — пробормотал Фоербах.
— Кто эти люди? — спросил Николай. — Кто именно обратился к тебе? И при чем тут Поздняков?
— Да он тут, по-моему, и ни при чем… Я тоже ни при чем… Мне передали. Через знакомого… Всё что знал — сказал, — испуганно посмотрел на Лопухова Фоербах.
— Мне нужен этот контакт! — не своим голосом выдавил из себя Николай. — Вот так нужен! — Он провел ребром ладони по своей шее.
— Ладно, выясню, кто да что, и позвоню тебе… — Фоербах встал и, развернувшись, быстро пошел прочь.
…День спустя, утром в воскресенье, Николай был дома один, когда на столе ожил его телефон, и на дисплее высветился незнакомый «кривой» номер.
Мужской голос с едва заметным акцентом, не здороваясь и не называясь, холодно произнес, что Мария Лопухова домой вернется только после того, как семья возместит «ущерб» в два миллиона долларов на условиях, которые будут предъявлены позднее.
Чувствуя, как сердце медленно поднимается к горлу, Николай не смог произнести в ответ ни слова.
Тем же тоном голос высказал требование не обращаться ни к кому за помощью и не искать «обходных путей». Их, мол, не существует. Несоблюдение требования ставило жизнь заложницы под угрозу.
— А ребенок? — выдавил из себя Николай.
Связь прервалась.
Через полчаса на Солянку приехал Филиппов. Он уверял, что случившееся не было концом света. Потому хотя бы, что вносило наконец какую-то ясность. И главное, давало возможность работать по более жесткому сценарию. По какому — он не объяснил.
Попыхивая сигаретой в опущенное окно, знакомый силуэт сутулился на заднем сиденье черного автомобиля с четырьмя олимпийскими колечками на задке. Уже издали, едва свернув от метро на свою улицу, Адель узнала машину Вереницына.
— Это что еще за пикет? — бросила она, приблизившись к «ауди».
Вереницын снял очки и улыбнулся одними губами. Маленькие глаза остались холодными.
— Хоть я и Змей Горыныч, а всё ж таки… — миролюбиво проворчал он. — Не звонишь, что мне остается? Решил вот заехать. Это я тебе…
Он что-то сгреб сбоку на сиденье и просунул через окно небольшой букет белых роз.
Адель не обратила на цветы ни малейшего внимания.
— Адрес этот откуда у тебя? — холодно спросила она.
— Адочка, возьми цветы, ну пожалуйста… Не могли бы мы вообще поговорить где-нибудь?
— О чем нам говорить, Аристарх?
— Не кипятись, ради всего святого. Сядем и спокойно побеседуем. Но не на улице же… К тебе нельзя подняться? — Аристарх Иванович кивнул в сторону ее окон. — Возьмешь ты цветы или нет?
— Убери, ради бога… Ко мне мы подняться не можем, — не допускающим возражений тоном сказала Адель.
— Вот так, значит… А я хотел предложить тебе… — Аристарх Иванович сделал попытку выбраться из машины. Но Адель подперла коленом дверцу.
— Не надо тебе выходить, — сказала она тихо.
Исказившееся было гневом лицо Вереницына тотчас же расплылось в удивленной улыбке. Аристарх Иванович медовым тоном произнес:
— Мороз-то какой на дворе, Адочка. А у тебя зимних вещей нет. Не хочешь забрать? А книги? А музыка?
Адель мешкала.
— Как устроилась? Квартира хоть ничего? Чем-то, может, помочь тебе смогу?
— Спасибо, помог уже… Я тут скоро околею на тротуаре, действительно, какая холодина, — сказала Аделаида.
— Если хочешь, заходи сегодня… за вещами. Заодно поговорим… в привычной обстановке.
— Хорошо, я приеду, — неожиданно согласилась она. — В девять устроит?
— Конечно, конечно, Адочка… Я пришлю за тобой машину.
— Нет, спасибо, я сама доберусь.
— На этом месте он будет стоять в восемь тридцать, — настоял на своем Аристарх Иванович. — Потом назад отвезет. Вещей-то много, на себе, что ли, тащить?..
В атласной домашней куртке и при шейном платке, Аристарх Иванович кинулся помочь гостье снять тонкое пальто, чего прежде никогда не делал, и, обдавая алкогольным амбре, засуетился, будто одинокий старик, отвыкший от визитов. Он провел ее в гостиную, предложил присаживаться, извинился за царивший вокруг беспорядок, хотя квартира выглядела скорее прибранной, сам уселся на диван, положил руки на колени и с любопытством взирал на гостью. Адель повернулась спиной к расшторенному окну и, уставившись в пол, медлила, не решаясь начать разговор.
В углу гостиной высилась новогодняя елка — уже осыпавшаяся, но на голых ветках ее всё еще помигивала разноцветная гирлянда; в доме пожилого холостяка эта праздничная елка выглядела совершенно несуразно. Из-за полуоткрытой двери кабинета доносилось сопрано Элизабет Шварцкопф — «Das verlassene Mägdlein», Адина любимая песня Вольфа. Надрывно-печальная родная музыка в чужой обстановке звучала неожиданно, парализовывала; хозяин прекрасно знал, какую нужно завести пластинку.
Зазвонил телефон. Встав с дивана, Аристарх Иванович прошел к аппарату, с минуту бубнил что-то в трубку, после чего недовольно прервал разговор. И уже совсем другим, вкрадчивым тоном он поинтересовался у нее:
— Ты ужинала? А то я тут каши гречневой сварил. Чайку поставлю… Да, знаешь ли, когда один живешь, мельчают запросы.
Адель отвернулась к окну, плечи ее затряслись.
Аристарх Иванович сначала не понял, что происходит, а затем вдруг догадался, что ее разбирает смех. Он покружил по комнате, грузно застыл на месте, хотел еще что-то сказать, но Адель опередила:
— Я ненадолго.
— Ты вот что, Адочка, чем горячку пороть, лучше присядь, не суетись, — сдержанно предложил хозяин дома. — Давай разберемся во всем. Другого случая, может, и не будет.
— Вы предложили мне забрать вещи, — сказала она.
— Ай-яй-яй. На «вы» уже, значит… — пристыдил Аристарх Иванович. — Адочка, если я обидел тебя — скажи. Человек я прямой, ты ведь знаешь. Люблю ясность. Что смогу, сделаю. Всё поправлю. Или ты из-за мальчика своего? Так бы и сказала! Как он, кстати?
Адель молчала.
— Я ведь сам отец. Пятерых на ноги поставил, знаю, каково это — с ребятишками возиться… А то сразу переезжать, вещи перетаскивать с квартиры на квартиру. Да ведь так всю жизнь можно пробегать, и что толку? От себя не убежишь.
— Мне нужны только мои вещи, вы мне предложили, — напомнила Адель. — Будьте хоть в этом порядочны.
— Я?.. Да ты хоть понимаешь, что я… — Задыхаясь от возмущения, Аристарх Иванович уселся на прежнее место. — Разве я хоть в чем-то был с тобой непорядочен? Или я… как вы там меня еще обзываете? Змей Горыныч? Это я-то? Ай-яй-яй… И это после всего… После всего, что было?
— После чего?
— Ну как же? Ведь у нас с тобой… Право слово, ты меня расстраиваешь.
Адель застыла на краю рыжего ковра с замысловатым узором, лесенками разбегавшимся по всей комнате, и спокойно произнесла:
— Вы пользовались мною. И моим положением. Без зазрения совести. Вы не выполнили ни одного своего обещания! Вот и всё, что было… — сказала она. — Вы хотя бы представляете, что чувствует женщина, оставаясь с вами наедине? Вы когда-нибудь спрашивали себя об этом? Вы же… Да вы в зеркало на себя посмотрите!
Окинув гостью всё тем же снисходительным взглядом, хозяин взял со столика сигареты, закурил, выпустил в потолок клуб дыма и, пригладив на голове пушок, усмехнулся:
— Что верно, то верно — насильно мил не будешь. Но ведь и меру надо знать, матушка. Понапичкала тебя эта блондинка передовыми идеями. Чует мое сердце, непросто нам теперь будет найти общий язык.
— Кто и чем меня понапичкал?
— Да наркоманка эта, подруга твоя закадычная! За квартиру, небось, тоже она платит? Мадам Лопухова?
— Так вы об этом хотели поговорить… О моих подругах?
— И о них тоже… Ишь, подружки — не разлей вода! Интересно, ей богу… — желчно бормотал Аристарх Иванович. — А наедине-то с подругой чем вы занимаетесь, интересно, в дочки-матери играете?
Откинув с лица тяжелые пряди волос, Аделаида ошеломленно уставилась на бывшего сожителя.
— Правильно, правильно, что ты молчишь. На твоем месте я бы тоже язык прикусил. Муж-то подругин… в курсе он или так, тоже в облаках витает? А то ведь черт знает что получается. Один Аристарх Иваныч, видите ли, виноват во всем на свете! Один Змей Горыныч! Эх, матушка, устроила ты мне жизнь. С мужиками-то, ну ладно, это я мог бы еще понять. Но с девками!.. Не могу я этого позволить. Ну никак! Так что вот так… Любишь кататься, люби и саночки возить.
Не чувствуя под собой ног, Адель молча исчезла в своей бывшей комнате, откуда только что доносилась музыка, распахнула угловую нишу, отведенную под ее вещи, вернулась в коридор, вытащила из кладовой пластиковый чемодан, затем другой, поменьше, втащила в комнату самый вместительный и дрожащими руками стала сбрасывать в него всё подряд.
Когда чемодан был заполнен доверху, она прижала коленями крышку, кое-как защелкнула замки, взяла чемодан поменьше и стала укладывать стопками свои компакт-диски, хватая их с книжных полок.
Тень хозяина выросла на пороге.
— Я вот что подумал… Если разобраться, какая разница, здесь ты живешь или там? — сменил он гнев на милость. — От квартирки избавлюсь. Давно пора что-то решить. Мне-то она вообще ни к чему, для тебя снимал. Живи на здоровье, где тебе нравится. Только неудобно. Далековато получается… — рассуждал он о чем-то своем, непонятном. — Человек я не злопамятный, как ты знаешь. Согласен махнуть на всё рукой.
Адель не повела бровью.
— Ради тебя, ради твоих коленок, я готов…
— Хватит! — крикнула она.
Аристарх Иванович окинул ее холодным взглядом и предупредил:
— Могу ведь и обидеться. Сколько сил угробил на тебя, времени, средств. Да-да, и средств тоже. А ты будто не знаешь… Люди мы взрослые, так что давай называть вещи своими именами. Пока мил да хорош — так и деньги не грех поклянчить. А теперь, когда не нужен стал, на свалку? Чтобы по усам текло, а в рот не попало?.. Нет, так не бывает. В жизни за всё приходится платить. Долг платежом красен.
— Что-то не улавливаю… Нельзя ли попонятнее? — Адель воинственно развернулась к Вереницыну.
— А всё и так ясно. На нет — и суда нет… — бормотал Аристарх Иваныч. — Только ты, учти, так просто ты не отделаешься.
Вновь зазвонил телефон, и хозяин на этот раз трубку снял в коридоре со спаренного аппарата. И вновь принялся что-то обсуждать, периодически запуская руку в стоявшую на комоде открытую коробку конфет. Когда он той же рукой почесал толстую шею, покрытую серой порослью, Адель охватил какой-то страх. Глядя на сутулую широкую спину вчерашнего сожителя, она вдруг поняла, что совершила непростительную ошибку, и не сегодня, не вчера, а гораздо раньше.
Раз и навсегда забыть о вещах, о барахле, и никогда, ни под каким предлогом больше не появляться в этом доме, обходить этого человека за километр. Не мог он поступиться своими интересами. Не мог отказаться от того, что считал своей собственностью, такова его природа: хищнический инстинкт довлел над рассудком. Это показалось вдруг столь же очевидным, как и собственная недалекость, приведшая ее сюда, скорее, тоже врожденная. В следующий миг Адель осенила паническая мысль: нужно что-то предпринять, срочно, немедленно, чтобы исправить свою ошибку. Угрозы, прозвучавшие из уст Вереницына, не были просто словами…
Взгляд Аделаиды машинально остановился на открытом бюро, которое хозяин успел перетащить сюда за время ее отсутствия, — он держал в нем канцелярский хлам, рабочие и личные бумаги. В верхнем левом углу, над полочками, под кипой папок виднелся край кожаного портфеля, который хранился здесь месяцами. Хозяин открывал его время от времени по каким-то особым случаям. Пока Адель жила здесь, она неоднократно это замечала и привыкла думать, что в портфеле лежат документы, что-то ценное.
Вереницын еще продолжал говорить по телефону, но, судя по тому, что голос его теперь доносился издалека, отошел в конец коридора.
Аделаида бесшумно метнулась к секретеру, вытащила портфель и, вернувшись к вещам, осознала, что не сможет унести его, бросив здесь чемоданы. Она упрятала портфель на дно чемодана и принялась укладывать сверху компакт-диски.
Телефонный разговор закончился, и Аристарх Иванович опять возник на пороге комнаты.
— Управу на тебя я найду, это ты сама понимаешь. Но пока даю тебе три дня, чтобы одумалась, — сказал он таким тоном, словно продолжал говорить по телефону. — Три дня, слышишь? А потом… Пеняй на себя. Всё уяснила?
— Да пошел ты знаешь куда… филин старый!
Адель выволокла в переднюю чемоданы, сорвала с вешалки пальто, кое-как выбралась с вещами на лестничную площадку. Уже на улице, отказавшись от услуг водителя, который дожидался в машине перед подъездом, она покатила чемоданы вверх по переулку, направляясь к арке, выводившей на Тверскую улицу.
Всё дневное время Нина посвящала дочери, ходила с ней на тренировки в спорткомплекс, в бассейн при Хаммеровском центре. А вечерами не удавалось освободиться Аделаиде. Лишь к концу недели они смогли переговорить, и Нина узнала, что у Ады уже третий день гостит старшая сестра из Смоленска. В Москве та находилась проездом: направлялась в Ригу, откуда через месяц должна была вернуться с сыном Ады.
В пятницу договорились поужинать вместе в ресторане на Новокузнецкой, где однажды уже обедали с маляром Саввой. Нина приехала к Аде в Старомонетный переулок на полчаса раньше. Аделаида познакомила ее с сестрой, почему-то представив ту по имени-отчеству — Полина Петровна, после чего заметалась по квартире, не зная, что надеть. Нина ждала не снимая пальто.
— Зачем тащиться по морозу, когда всё есть дома? — понаблюдав за суматошными перемещениями Ады, спросила Полина. — Я видела у тебя муку… Напеку блинов. Тут была икра красная…
На десять лет старше, полноватая и белокурая, простовато накрашенная и одетая в невзыскательное шерстяное платье, старшая сестра почти не обнаруживала сходства с изящной грациозной Аделаидой. О том, что они сестры, напоминала лишь молочно-белая кожа Полины и виноватые глаза с поволокой такого же, что и у Адели, шоколадного цвета.
— С тобой все планы рассыпаются в пух и прах, — упрекнула сестру Адель и сдалась: — Дома так дома! Всё равно не знаю, что надеть. Блины так блины…
Нина с облегчением сняла пальто. Быстро переодевшись в домашнее, Полина засуетилась на кухне, доставая муку, яйца, масло, долго не могла найти соду… Нина предложила свою посильную помощь, но та решительно отказалась и, неожиданно смутившись, сообщила, что всегда рада немного побыть шеф-поваром.
— Я никогда не была в Смоленске, представляете? — оживленно заговорила Нина. — Настоящий старый русский город, наверное. И зимы не то что у нас.
— Да, зимы у нас такие, что… — ответила Полина, и по тому, с какой ловкостью она завязала на спине фартук в голубую клеточку, было ясно, что на кухне она не новичок.
— У вас сейчас морозы, наверное?
— Нет, в этом году не очень. Зато снега столько, что… Гребут с утра до вечера тракторами — выгрести не могут… Мы не в квартире живем… Ада не говорила вам?.. А в доме с приусадебным участком. В валенках по двору ходим. Да и в доме… Печка, вода из колодца. Когда замерзает — хоть плачь, — буднично рассказывала Полина, улыбаясь и демонстрируя точно такие же, как у сестры, обворожительно-симметричные ямочки на щеках. — Река в двух шагах, источник, монастырь… Красиво, но зимой ни пройти, ни проехать. Муж даже машину не выгоняет. Трактор нужен, чтобы до дороги добраться.
Полина Петровна скользнула по гостье осторожным взглядом, будто не веря, что всё это может кого-то интересовать.
— Монастырь действующий? — спросила Нина.
— Древний, но недействующий. Сейчас кинулись, правда, восстанавливать. А раньше тюрьма была или спецлечебница для психбольных… слухи всякие ходят. Монахи стали приезжать. Кто-то даже поселился.
— Давно вы в Смоленске живете?
— Двадцать лет скоро. С тех пор как мужа работать туда послали. Так и застряли… В большом городе я не смогла бы жить. Устаю. От езды, от толпы… Я в детдоме работаю, — добавила она. — Когда вернемся, Сережу с собой буду брать. Оставлять-то всё равно не с кем. Там у нас все такие — без пап да без мам. Вот уж где ему не скучно будет, так это у меня на работе…
— Сережу в Смоленск заберете? — удивилась Нина.
— До весны только. А там будет видно. Я сама предложила. У Ады сами видите, какая жизнь. А она всё порывается малыша к себе забрать. Где здесь, скажите пожалуйста, место ребенку?
Полина приготовила тесто в большой миске и принялась печь блины. Они у нее выходили тонкие, кружевные. С завораживающей ловкостью орудуя над плитой красноватыми руками с массивным обручальным кольцом, успевая пользоваться двумя сковородками, она перебрасывала блины на блюдо, промазывая каждый в отдельности кусочком масла.
Раскаленное на сковороде масло чадило. От дыма пощипывало глаза. В кухне становилось душно. Полина приоткрыла форточку и выпроводила Нину и Адель в комнату. Когда они оказались вдвоем, Нина заметила на лице Адели какую-то тень и спросила:
— Что-то опять случилось?
Аделаида отвела глаза.
— Я хотела поговорить с тобой, но потом… — Адель выразительно показала взглядом на дверь кухни.
Нина достала из сумки конверт.
— Вот, возьми. Потом еще принесу, — тихо сказала она. — Это на квартиру и еще немного, чтобы тебе хватило до конца месяца.
— Я же просила тебя… Не нужно! — Адель отрицательно замотала головой.
— Возьми, прошу тебя, — настаивала Нина.
— Деньги твоего мужа?
— Общие. Мы же договаривались с тобой… я в долг даю, — еще тише прибавила Нина.
Полина накрыла стол в кухне и постелила белую скатерть. В обществе сестры Адель держала себя скованно, была молчалива. Полина разлила по бокалам белое Пуи, которое Адель покупала для Нины, иногда на последние деньги.
Разрезав ножом сложенный конвертом блин с красной икрой, Нина поднесла его к губам и, распробовав, похвалила:
— Удивительно вкусно. Никогда не ела таких блинов.
Полина, зардевшись, потупилась.
— По этой части она у нас специалист, — улыбаясь, сообщила Адель.
— Я могу еще что-нибудь приготовить, — сказала Полина. — Там есть еще…
— Да нет, что вы! Всё и так просто чудесно, — остановила ее Нина. — У вас так уютно, тепло… Я рада, что мы никуда не пошли… и что у Адели такая сестра, — оживленно прибавила она. — Я всё время переживаю за нее. Как жить одной, без никого, в таком городе? Ведь это просто невозможно. А оказывается…
Все трое сконфуженно умолкли. Полина вышла в комнату, чтобы позвонить в Ригу. Адель, проводив ее взглядом, спросила:
— Ну как тебе моя Полина Петровна?.. Я с детства ее немного побаиваюсь. Больше даже, чем маму. Она вся такая… правильная, что ли.
— Настоящая старшая сестра, — согласилась Нина. — Я знала, что так не бывает, чтобы человек один был на белом свете. Ни братьев, ни сестер… Одни вымогатели вокруг.
Адель вскинула на нее виноватый взгляд.
— Да это же прекрасно! — с настойчивостью заверила Нина.
Адель не шелохнулась. Нина подлила себе еще вина, отпила глоток и спросила:
— Что всё-таки случилось?
— Ты не поверишь… но меня продали, — помолчав, сказала Адель.
— В каком смысле?
— Как вещь, безделушку… Он просто взял и передал меня другому, — прошептала Адель.
— Кто? Кто он?
— Да Змей Горыныч. Звонит день и ночь… Его знакомый. Какой-то Николай Андреич или Андрей Николаевич — не могу запомнить… Требует, чтобы я…
— Чтобы ты что?! — всё еще недоумевала Нина.
— Чтобы я спала с ним! Потому что я теперь его! Ты не представляешь, что они за свиньи, эти люди. Они способны поделить женщину между собой. Горыныч, когда понял, что от меня ничего не добьется, просто перепродал меня. Какая тварь! — процедила Адель с такой ненавистью, что у Нины сразу отпали все сомнения в достоверности сказанного. — Он был у меня… Три дня прикатил прямо сюда, караулил под домом. И я поехала забрать вещи.
Адель виновато посмотрела на подругу.
— К Вереницыну? — изумленно уточнила Нина.
— Да. Он уговорил меня. Заботу проявил: холодно, дескать, забери теплые вещи — ни дать, ни взять Мороз Иванович с подарками… Я и купилась, идиотка. А там, у него уже, он мне угрожать начал. Ты же знаешь, он умеет… И я поняла, что надо что-то делать. Пока собирала барахло, забрала у него одну вещь… портфель. Так, на всякий случай просто. Для перестраховки. Там всякие бумаги. Я хотела показать тебе. Некоторые такие странные.
Нина какое-то время обдумывала новость, затем прошептала:
— Покажи…
Адель принесла из коридора на кухню целлофановый пакет, достала из него рыжий портфель, расстегнула его и, прислушиваясь к звукам в комнате, извлекла папку синего цвета.
— Вот смотри. Чего тут только нет. Но вот это… — Ада выбрала несколько листков и протянула их Нине.
Та рассеянно пробежалась глазами по бумагам, один раз, потом еще…
— Тут написано о Коле?.. — ошеломленно сказала она.
Не сводя с нее глаз, Адель кивнула. Нине стало не по себе.
— О нем тут много, но есть и еще. Подожди… — Адель торопливо перерыла бумаги, но не смогла найти нужную.
Нина взяла всю пачку и стала ее просматривать. На одном из листков она задержала взгляд:
В результате следственных действий установлено, что перечисленная сумма в размере двести тридцать шесть тысяч долларов на текущей отчетности компании не отражена, но примерно эквивалентная сумма в совокупном исчислении под видом различных платежей растеклась по личным счетам компаньонов Н. А. Лопухова на Кипре. По имеющимся сведениям, сам Н. А. Лопухов счетами на Кипре не обладает. Это обстоятельство вызывает особый интерес, в связи с тем, что взаиморасчеты между компаньонами…
— Что это? — спросила Нина.
— Компромат.
— На Колю?
В другие подробности, изложенные в отчете, подписанном каким-то Петровым-Сидоровым, об инвентаризации банковских счетов, которые Николай держал чуть ли не в пяти московских банках, в США и на Багамских островах, Нина даже не могла как следует вникнуть: слишком всё это казалось новым и слишком не укладывалось в голове. Имя и фамилия мужа фигурировали еще в одной бумаге, судя по всему, это было решение пятилетней давности, вынесенное судом Центрального округа Москвы по иску незнакомых, опять же, людей, которые обвиняли Николая в подкупе чиновника. Об этом Нина тоже слышала впервые. Она вчитывалась в написанное вновь и вновь, но не могла уяснить главного.
— Там полно всяких бумаг… полно! — шептала Адель. — Не только на Николая. Фотографии, какие-то счета. Вот смотри…
Не замечая побледневшего лица подруги, Адель выложила из пачки еще несколько листков. Судя по всему, это были ежемесячные выписки из личных счетов клиентов, выданные американским банком с адресом в Нью-Йорке. На двух последних бумагах стояли реквизиты банка в Монако. Cчета, все до одного, были оформлены на русские фамилии. И ни одна из них, кроме собственной, Лопухов, Нине ни о чем не говорила.
— Всё это компромат, вот что это такое, — повторила Адель. — Даже письма тут есть какие-то… Как ты думаешь, это очень серьезно?
Нина не знала, что ей ответить.
— Чем он точно занимается, этот Змей Горыныч?
— Никто точно не знает… Да чем они все занимаются, эти скоты?.. Нина, я не знаю, что мне делать.
— Пропажу он уже обнаружил?
— Нет, наверное. А то бы уже примчался… Я хотела иметь под рукой что-то такое… чтобы отвязаться от него, понимаешь? — полушепотом объясняла Адель. — Когда до меня дошло, что он так просто не отпустит меня.
Еще раз быстро пробежав глазами первую бумагу, в которой речь шла о муже, Нина решительно сложила листки в папку. Открыв портфель, она попыталась запихнуть ее внутрь, но что-то на дне мешало.
Она сунула в портфель руку и извлекла увесистый предмет, завернутый в большой носовой платок.
— Пистолет, — прошептала Адель. — Настоящий!
Брезгливо морщась, кончиками пальцев Нина развернула платок и, взглянув на темное, аккуратной формы оружие с коричневой рукоятью, упрятала и его, и папку обратно в портфель.
— Всё это нужно вернуть, немедленно! — зашептала она. — За этим что угодно может быть. Тот, кто звонил тебе, чего он добивался?
— Встречи.
— Для чего?
— Он сказал, что роль Змея Горыныча… так и сказал, роль… будет теперь играть он.
Нина растерянно молчала.
— Сестра в курсе? — спросила она.
— Что ты?!
Силуэт Полины, как по волшебству, возник на пороге кухни.
— Привет вам ото всех, — виновато сказала она, по лицам Нины и Адели догадавшись, что появилась не вовремя.
— Как они там? — потеплевшим тоном спросила Адель.
— Дождь полощет. А в остальном всё в порядке.
— Чай, наверное, тоже можно приготовить? — Адель пыталась отвлечь внимание сестры, пока убирала портфель в целлофановый пакет.
— Я уже заварила. Вон, под салфеткой… — Полина мельком взглянула на пакет в руках сестры и ничему, вроде бы, не удивилась.
— Она варенье привезла… Малиновое, со своего огорода. Вкусное убийственно… — постаралась Адель совсем сменить тему.
Когда сестра вновь оставила их вдвоем, Нина судорожно перевела дух:
— Какая он всё же сволочь…
Пообещав приехать в Старомонетный переулок в понедельник к семи вечера и сильно опаздывая, Нина понапрасну пыталась предупредить Адель, что попала в пробку на Ленинградском шоссе. Домашний телефон Ады был занят, а сотовый выдавал унылую фразу: «Абонент не отвечает или временно не доступен». Шел уже девятый час, когда Глеб Тимофеич высадил ее из «вольво» на Полянке.
Не дожидаясь лифта, Нина взбежала на третий этаж и позвонила в дверь. Адель долго не открывала. Нина вдавила кнопку звонка еще пару раз, а затем достала свои ключи. Пересиливая внезапное волнение, от ощущения которого слабость сразу стала растекаться по рукам и ногам, Нина открыла дверь и шагнула в переднюю. В квартире свет не горел. Стоял странноватый запах. Пахло чем-то едким, незнакомым, наподобие грубого обувного крема.
— Адель, ты дома? — произнесла она в темноту.
Ответа не последовало. Но из комнаты доносились какие-то звуки. Нина хотела тотчас выйти на лестничную площадку, но, пересилив себя, всё же прошла в направлении комнаты и увидела Аделаиду.
Полуобнаженная, в разодранной малиновой блузке та сидела в кресле перед окном в необычной позе. Руки плетьми свисали между колен; со странным безжизненным выражением Ада смотрела в пол, никак не реагируя на Нинино появление. В ногах Ады валялась юбка и еще что-то. А затем от еще большей неожиданности Нина пошатнулась, в полумраке комнаты увидев фигуру мужчины. Тот полулежал на диване — и тоже в неестественной позе.
— Что здесь… что происходит? — с трудом выговорила она.
Пошевелившись, Адель закрыла лицо руками и немо вздрагивала, издавая звуки, похожие на икоту. Нина приблизилась к ней и отвела ее руки от лица. Адель вскинула на нее невидящий взгляд. Лицо было всё в черных разводах от растекшейся туши. Губы с размазавшейся помадой шептали:
— Я ничего не хотела… Ничего… я не хотела…
Нина почему-то сразу всё поняла. Обняв Адель за голову, она тихо произнесла:
— Успокойся… Это он?
Нина развернулась к туше на диване. Сидевший придерживал руками живот, квашней вываливавшийся из-за ремня. Галстук петлей болтался на шее. Задранные до колен штанины и вывернутые полы пиджака придавали туше жертвенный несчастный вид. Крохотные стопы при этом нервически подрагивали. Глаза Вереницына были прищурены. Нина хотела что-то сказать ему, но не смогла произнести ни слова. Она присмотрелась к лицу внимательней и с облегчением перевела дыхание: жив!
— Он ворвался… Хотел бумаги свои… Я думала, убьет меня… Он так орал, угрожал, ударил меня, — захлебываясь, лепетала Адель. — А я, дура… Я даже не знала, что он заряжен… Эта штуковина… в портфеле. Он угрожал… Ёжиком…
Вдруг успокоившись, Адель посмотрела на подругу вполне ясными глазами и хотела еще что-то добавить, но тут она перевела взгляд на диван. Каким-то бабьим жестом прикрыв ладонями рот, она издала пронзительный долгий визг.
Нина прижала ее голову к своему животу и не двигалась.
— Не страшно… Он живой, — сказала она. — Живой, слышишь?! Это самое главное… не страшно, — твердила Нина, чувствуя, что у нее вот-вот отнимутся ноги.
С холодной расчетливостью глаза ее обшаривали скудно освещенную комнату. Взгляд наткнулся на брошенный пистолет с коричневой рукоятью и еще что-то мелкое, блестящее, рассыпанное по полу на паркете возле батареи.
Туша на диване пришла в движение.
— Ада, сиди тихо! — приказала Нина подруге и, переборов мучительное оцепенение, заставила себя приблизиться к дивану.
Глаза Вереницына приоткрылись. Исподлобья и как будто с удивлением глядя на нее, он зашевелил пальцами на животе и судорожно, по-рыбьи раскрыл и закрыл рот. На его губах появилась розовая пена. Нижняя часть рубашки и пола пиджака лоснились от крови. По полу растекалась темная жижа.
Нина протянула руку и тронула Вереницына за плечо:
— Аристарх Иваныч?.. Вы слышите меня? Аристарх Иваныч!
Тот едва пошевелил губами. В углу рта вздулся и лопнул очередной кровавый пузырек, а из правой руки вывалился черный аппаратик — сотовый телефон со светящимся дисплеем; он хотел, судя по всему, им воспользоваться, но не смог.
Нина подобрала телефон с пола. Но тут же бросила его на пол: корпус был весь покрыт какой-то слизью. Она повернулась к подруге, судорожно соображая, что им делать. В руках у Аделаиды тоже появился телефон. Она набирала какой-то номер.
Нина подлетела к ней и вырвала трубку из рук.
— Сначала объясни толком, что у вас произошло! — потребовала она.
— Надо позвонить… Пока не поздно, в «скорую», — с запинкой выговорила Адель.
— Нет, сперва расскажи мне всё… Всё!
— Он пришел… Набросился на меня прямо в дверях, повалил, ударил… Он хотел… Стал требовать портфель свой, — скороговоркой шептала Адель. — Сел на меня сверху. Этот урод! — Адель дрожала всем телом. — Я не смогла. Вырвалась — и… в комнату. Он за мной погнался… Пистолет… Я достала и… Нет, я не знала, что он заряжен, я только хотела напугать, остановить…
Нина бросилась к своей сумке, достала телефон и исчезла на кухне…
Не прошло и двадцати минут, как Николай — без пальто, в одном костюме — появился на пороге квартиры. Нина бросилась к мужу. Не произнося ни слова, он испытующе уставился ей в глаза. За его спиной маячил Филиппов. Бесцеремонно отстранив обоих, Филиппов проник в квартиру, быстро обошел ее всю, после чего приблизился к фигуре на диване и без малейших эмоций, словно ежедневно сталкивался с подобными ситуациями, приложил пальцы к горлу раненого, прощупывая пульс, наклонился, оглядел пропитанную кровью рубашку и похлопал Вереницына по плечу.
Белее простыни, Николай то изумленно глазел на полураздетую хозяйку квартиры, которая сидела в кресле и безразлично смотрела в стену, то на жену. Но Нина словно не замечала его.
— «Скорая помощь»… Надо вызвать «скорую», я же просила! — спохватилась она.
— Вызвали. Уже едут, — сухо сказал Филиппов.
Продолжая внимательно осматривать комнату, он подобрал с пола складной зонт, валявшуюся под ногами книгу…
— Вы когда сюда приехали? — спросил он.
— Во сколько?
— Да. Точное время назовите.
— Не знаю. Тридцать — сорок минут прошло.
— Видели, что произошло?
— Я Коле сказала… Он ворвался, этот человек. Она… она выстрелила случайно. Не знаю, как это было. Меня еще не было. Я пришла, всё уже было так. Она сидела… как сейчас сидит, а он…
— Вы что-нибудь трогали, перемещали?
— Где?
— В квартире.
— Нет. Я взяла только его телефон, но сразу же бросила.
— К оружию прикасались? — Филиппов показал в угол.
— Нет-нет… — Нина испуганно замотала головой.
Что-то быстро обдумывая, Филиппов обходил шагами комнату, разглядывал каждый угол.
— Откуда пистолет, вам известно? — спросил он.
— Это его… — Нина кивнула на раненого Вереницына. — Она жила у него и, когда переезжала, с вещами, кажется, пистолет попал к ней.
— Николай Андреич, можно вас… — Филиппов глазами указал на дверь в кухню, увлек туда ошарашенного Николая, прикрыл за собой дверь и что-то вполголоса объяснял ему.
Вернувшись в комнату, Филиппов произнес:
— Ну вот что, Нина Сергеевна… Вы здесь вообще ни при чем. А подруга ваша защищалась. Да и не помнит она ничего. Всё очень быстро произошло… Барышня, можно вас попросить! — обратился Филиппов к Аделаиде.
Та встала и, словно в помешательстве, медленно приблизилась к нему. Филиппов схватил ее за руку и, не церемонясь, втащил в кухню. Перегородив спиной вход, он резко спросил:
— Кто стрелял и зачем? Говорите начистоту! Кто и зачем?
Адель что-то испуганно зашептала. Потом из груди у нее опять вырвался визг. Развернувшись, Филиппов вдруг размахнулся и с силой ударил ее ладонью по лицу.
Удар был такой силы, что Адель отлетела в сторону. Послышался звон посуды.
Нина влетела в проем двери:
— Вы что… что вы делаете?! — закричала она.
— Николай Андреич! Ради бога, уведите ее… Пусть не кричит, — холодно потребовал Филиппов и, схватил Адель за запястья, выворачивая ей руки.
Вырвавшись от него, Адель вновь закрыла лицо руками. Из носа у нее текла кровь, левая сторона лица на глазах стала опухать. Но она вдруг успокоилась.
— И, чтобы всё было ясно… Сожитель ваш рукоприкладствовал, угрожал вам и вашему сыну, пытался изнасиловать, разорвал на вас одежду. Вы не знали, как спастись, — продолжал Филиппов. — И, главное, никакой отсебятины. Излагайте всё, как есть, — обращался он уже к обеим. — Оружием огнестрельным пользовались когда-нибудь? — спросил он Аду. — Отвечайте, нет времени ждать! Нюни потом будет распускать…
— В школе, — произнесла Адель.
— Что в школе?
— Из винтовки стреляла на НВП.
Лицо Филиппова перекосилось от отвращения. Казалось, еще слово, и он бросится на Аделаиду с кулаками.
— Как вы смогли выстрелить, если не знаете, как пользоваться пистолетом?
— Я не знала, что он заряжен… Схватила, держала в руке… А он полез.
— Вы воспользовались оружием в целях самообороны. Так это и есть, я уверен. Вам всё ясно?
— Я должна еще что-то сказать, — произнесла Нина и замолчала.
— Говорите! — подстегнул Филиппов.
— Ада, когда переезжала от него, забрала одну его папку. Он угрожал ей, шантажировал. Она думала, что так сможет защититься.
— Какую папку?
— С бумагами.
— Что-то важное?
— Кажется да.
— Украла, что ли?
— Просто взяла, с вещами.
— Он пришел за этими бумагами, так?
Нина ответила молчанием.
— Где они?
— Ада, где папка?
— В морозилке, — насилу выговорила Аделаида.
Филиппов исчез на кухне и тут же вернулся в комнату с покрытым инеем целлофановым пакетом. Выпотрошив из пакета содержимое, он уточнил:
— Это?
Адель закивала головой.
Филиппов сел и стал сосредоточенно просматривать бумаги, поднося листки к настенному бра. После чего, спрятав отобранные бумаги за пояс брюк сзади, он повторил только что сказанное:
— Он приехал и требовал своего. Полез с кулаками, ясно? Так и скажите… Что всё это даст, не знаю, — добавил он, встретив взгляд на Николая. — Но это единственный выход. Я хочу, чтобы все это зарубили себе на носу.
Николай и Адель согласно кивнули. И словно спохватившись, Николай презрительно отвернулся в сторону.
— Нина Сергеевна, она приехала позднее. Она здесь ни при чем, — инструктировал Филиппов Аделаиду. — Пистолет Вереницын хранил в ваших вещах, когда вы еще жили у него. Зачем, вы не знаете. Сказал, пусть лежит… Давно он у вас, пистолет? Здесь, в квартире?
— Несколько дней, — ответила Адель.
— Скажите, что даже не помните, как он попал в ваши вещи. При переезде, наверное, случайно… А потом вы неожиданно обнаружили. Всё ясно?
С лестничной площадки донесся топот и голоса. Филиппов шагнул в прихожую, чтобы открыть дверь. Квартира заполнилась людьми в штатском и в форме. Двое врачей занялись раненым. Тем временем молодой оперативник в джинсах и в кроссовках, нисколько не стесненный обстановкой, да и возней над полуживым пострадавшим, щелкал фотоаппаратом со вспышкой — снимал саму тушу, валяющиеся на полу гильзы, расположение мебели.
Нина сидела рядом с Аделью, держала ее за руки и твердила:
— Ты только не волнуйся… Я не оставлю тебя. Не оставлю…
Немигающими глазами взирая на происходящее вокруг, Николай крутил в руках необрезанную сигару и с идиотским видом улыбался. Поэтому его поначалу и приняли за главного виновника происшедшего…
Произошедшее всплывало в голове капитана Рябцева какими-то кусками, и их никак не удавалось собрать во что-то целое…
Он хорошо помнил, как после застолья у ингуша Вахида все вместе шли по улице вдоль безжизненных развалин брошенных дворов. Помнил, как, не дойдя сотни метров до КП, они с Бурбезой, как по команде, развернулись на вздох за спиной и увидели двоих незнакомцев в нелепых скрюченных позах. В руке у одного блестел нож, а на гололеде бился в агонии старший лейтенант Белощеков. Капитан помнил, что вместе с Бурбезой попытался рвануть в сторону, но в этот миг мир вдруг перевернулся…
А затем всё в памяти превратилось в сплошное месиво. То он вдруг слышал отдаленный, едва уловимый гул, который сливался с журчанием и ровным потоком несся откуда-то сверху, время от времени нарастая и опять уплывая в невидимую даль. Тогда как из пустоты, которая распахивалась подобно ящику фокусника, поочередно с разных сторон начинал доноситься мерный, едва уловимый шумок, похожий на шелест тополиной листвы, когда она оживает под порывами ветра. Именно звуки память удерживала почему-то с особой ясностью.
Откуда листва зимой? Почему перед глазами кромешный мрак? И почему голову сдавливает какой-то железный обруч? Что произошло? И сколько всё это уже длится?..
Только позднее Рябцев стал припоминать и другие подробности: ослепительно-яркий, заостренный серп в ночном небе и еще что-то вязкое, тяжелое, нагнетавшее ощущение мучительной скованности, с которым невозможно было бороться. Это ощущение и заставило его прийти к выводу, что пустота, дышавшая сыростью, на дне которой он находился долгое время, представляла собой тесное и замкнутое пространство — вероятнее всего, погреб…
И вот опять картины становились конкретными, различимыми: время от времени мрак оживал и казался одушевленным. Рядом отчетливо слышались шорохи. Слух как будто бы улавливал и голоса. Они доносились сверху. Волнами всплескивался смех. Он, Рябцев, попытался, было, ощупать окружавшее пространство. Но останавливала ломящая боль в затылке. Голова казалась закованной в свинцовый панцирь. По окаменевшей шее боль распространялась ниже и между лопаток ломила невыносимо. Что-то липло к вороту и к горлу. В какой-то момент ощупав шею, затем грудь и плечи, он попробовал пальцы на вкус. Пальцы оказались солоноватыми. Догадки рассеялись: кровь. Много ли крови? Где рана? Почему так обжигает глаза чем-то белым, разъедающим?
Затем зрение позволило различить наверху квадрат, а слух — что-то свистящее. Капитану припоминался чей-то голос. Помнил он и то, что не понимал ни слова. Вновь долетел какой-то шум. Сделав над собой дополнительное усилие, Рябцев начал различать голоса, бубнившие где-то рядом, и до него внезапно дошло, что говорят по-чеченски.
— Ишь, разлегся… шакал! — ворчал тот, кто корпусом загораживал собой почти весь белый квадрат.
Железный обруч будто спружинил, и Рябцев не сразу понял, что на голову ему что-то упало. Веревка? Кто-то слез к нему в пустоту, налег на него, чтобы причинить дополнительную боль?
Его вроде бы перекатили на бок. Яркая слепящая боль сковала всё тело, глаза заволокла тьма. Пошевелиться не давали запястья, оказавшиеся за спиной. Руки были чем-то обмотаны. И тем не менее, раскачиваясь, будто мешок, который набили чем-то деревянным, угловатым, тело Рябцева подалось вверх.
Теперь он видел себя в луче невыносимо ослепительного света. Свет смешивался с болью. Боль — с пустотой. И с этой пустотой не хотелось расставаться. Как только железный обруч разжался, капитан с удивлением обнаружил, что сидит на стуле в освещенном помещении. А перед ним возвышается грузный силуэт, от которого разит перегаром.
— Вы кто? — вроде бы спросил Рябцев.
— Никто. Друзья твои… с того света.
Тишина.
— Сам ты чей будешь, командир? — хрипло прокашлявшись, спросил равнодушный голос откуда-то сбоку.
Рябцев пытался ответить, но не мог. Язык не подчинялся. Маячивший прямо перед ним взял что-то в руки. Да не что-то, а АКМ. Силуэт отвел приклад автомата в сторону и с размаху нанес удар…
После вспышки, сквозь ломоту в затылке, еще более невыносимую, капитан почувствовал во рту тот же знакомый солоноватый вкус и на миг пришел в себя. Он увидел, что в тесной комнате замусоренной сельской хибары кроме него находятся несколько бородачей. На всех неопрятное зимнее обмундирование. За окном — непроглядная чернота. В углу на ящиках — хрипящий радиоприемник. Справа — черный квадрат, отверстие погреба. Оттуда его и вытащили?
— Чего молчишь? Язык проглотил? Или он тебе не нужен, язык?.. Так отрежем.
Чтобы хоть что-то произнести, но всё еще не в состоянии выдавить из себя ни слова, он мотал головой. От боли в затылке опять всё стало крениться, соскальзывать набок. Новый провал, и вновь ощущение сырой спасительной темноты…
Позднее, по-видимому вечером, корявые и жесткие, будто крючья, руки вновь подцепили за плечи и ноги. В лицо ударила морозная свежесть. Над головой поплыло звездное небо. В морозном воздухе стоял запах печного дыма, и он догадался, что его несут через огород. За калиткой тело свалили в какой-то ящик, в котором тошнотворно воняло бензином, и до него не сразу дошло, что он оказался в багажнике легкового автомобиля. Голоса стихли. Мысли мало-помалу стали более связными. Тесное ледяное пространство, в котором он скорчился, покачнулось, затем тяжесть тела отозвалась болью в голове. Автомобиль тронулся с места.
Когда в лицо опять дохнуло морозным воздухом и кто-то темный, в шапке, наклонился над ним, загораживая собой звездное небо, Рябцев вновь утратил чувство времени. Силуэт в шапке плеснул ему в лицо чем-то пахучим, забивающим ноздри едкой знакомой вонью. Облизывая губы, сквозь муть возвращающегося сознания он, Петр Рябцев, понял, что это был спирт или водка…
Низкий свод над головой едва заметно раскачивался. В узкую щель между потолком и тяжелым грязным навесом просачивался дневной свет. Выход? Потребовалось время, чтобы глаза привыкли к темноте. Окон нет. Стены земляные, проложенные фанерой и досками. Выход из ямы завешен рваным одеялом…
По-видимому, обыкновенная землянка. Этим и объяснялся промозглый холод… Тело всё также ныло от боли, трудно было пошевелиться. Благодаря свету, который пробивался в дыры одеяла, удавалось разглядеть, что изо рта выходит пар. Пол завален ветками, тряпьем. Тряпьем с ног до подбородка был укрыт и он сам, лежащий на жестком топчане у стены…
Вдруг появилось привидение. Кто-то бесформенный, в белом сверху донизу, загородил туловищем квадрат ослепительного света. Убрали навес? Открыли дверь? В глазах, в голове, во всем теле опять невыносимо заныло. Привидение молча нависло над его головой. Глаза кое-как привыкли к новому ощущению, и стало различимо лицо. Привидение протянуло к нему руку. Что было в ней? Рука нетерпеливо дернулась: на, мол, бери.
Он, Рябцев, попытался потянуться, но тело парализовало болью. Привидение что-то положило рядом с его головой и исчезло. Резко запахло чем-то знакомым, хорошим. И только через минуту-другую, вновь оказавшись в полной тьме, Рябцев понял, что это запах печеной картошки. От острого чувства голода всё поплыло в голове…
Капитан лежал на спине неподвижно, стараясь восстановить в памяти хоть часть того, что с ним произошло, и почему-то догадывался, что время сейчас утреннее. Боль в затылке, как самое яркое воспоминание последних дней, немного притупилась и лишь отдаленно напоминала о себе железным обручем. При малейшем движении он стягивал голову на уровне висков, лба и затылка. Мысли же становились вдруг прозрачными и ясными.
Из темноты и сырости в землянку вновь просунулась чья-то голова, но уже другая, вполне человеческая: небритая и по щеки обмотанная тряпьем.
— Очнулся? Слышишь меня? Эй, капитан!
Голос был незнакомый, но доброжелательный. Из-за ощущения железного обруча Рябцев не решился повернуть голову ко входу, лишь повел в сторону глазами, как можно сильнее, чтобы тот, кто обращался к нему, это заметил. Он хотел сказать, что да, слышит, но язык прилип к гортани. Что-то твердое и колючее во рту мешало говорить.
— Сержант Федоскин я, Николай… — назвалась голова. — Коляном звать… Войска МВД. В Грозном подзалетел… Ну, в плен попал в Грозном, — добавил Федоскин таким тоном, будто наперед был уверен в том, что ему не поверят. — А это ихний приходил. Апти звать. Чеченец вроде. Единственный тут нормальный человек…
— Это что за… яма? — спросил Рябцев.
— Не зиндан, не волнуйся. Землянка… Лагерь это… — ответил голос с той же приветливостью. — Сыро — околеть можно. Замерз небось? В горах тут холодрыга. А где в горах — не могу сказать. Бамут вроде на севере. Но ты, капитан, не переживай, — загадочно подбодрил сержант Федоскин.
Рябцеву хотелось спросить, что за горы сержант имеет в виду? Но язык не слушался. В следующий миг, припоминая вонь гнили и бензина, которая стояла в багажнике машины и которую он чувствовал теперь на себе, похоже, пропитавшись ею, Рябцев вдруг понял смысл сказанного и уставил взгляд в покачивающийся брезентовый потолок. В ушах появился отдаленный шум, похожий на шелест тополиной листвы. Или ему опять мерещилось?
— Укол тебе вкололи. Боль пройдет… — услышал капитан из мрака голос того, кто назвался сержантом Федоскиным. — Ты чем им так насолил-то? Надо ж, как ухайдокали… Ты лучше не двигайся. Потерпи маленько. Дядя Степа скоро придет.
Кто такой дядя Степа? Зачем он должен прийти? По интонации говорившего Рябцев чувствовал, что это должно сулить ему облегчение от телесных мучений. И он стал молча ждать…
Сколько прошло времени — полчаса, час или полдня — Рябцев не знал, но когда снаружи, за одеялом послышалось топанье (кто-то обивал от снега обувь?), он невольно обрадовался. Одеяло отдернули. По глазам полоснул свет, и капитан зажмурился. Глаза он смог приоткрыть лишь некоторое время спустя.
Неимоверно грязный беззубый старик разглядывал его слезящимися глазами. Судя по лицу, изрезанному глубокими морщинами, и иссохшей, как пергамент, коже, беззубому было никак не меньше семидесяти. Одет он был в изношенную телогрейку, а голову украшала бесформенная фуражка, подмотанная чем-то вроде шарфа.
Старик протянул алюминиевую кружку. Из кружки шел пар. В другой руке старик держал миску.
— Кипяток… и чуток сахару, — сказал беззубый на очень понятном, необычно чистом русском языке и расплылся в морщинистой улыбке. — Ты голову-то приподними!
Рябцев попытался. Но не то чтобы сесть, даже оторвать затылок от подложенного под голову комка из тряпок он оказался не в состоянии. От боли мутнело в глазах.
— Значит так… лежи! Не надо тебе самому садиться, — распорядился старик.
Бесформенная фигура сержанта Федоскина, с ног до головы обмотанная тряпьем, с какими-то узлами по бокам, подлезла к Рябцеву с другой стороны. Капитана подхватили под плечи, подтянули вверх, и когда цветные круги перед глазами разошлись, Рябцев почувствовал, как под голову ему подложили еще более мягкий ком, а под спину натолкали чего-то шелестящего.
Разболтав в кружке сахар, сержант поднес ложку с кипятком к губам капитана. Рябцев вздрогнул от резкой боли и сам удивился своему стону.
— Ты что вытворяешь? Надо ж, руки-то у тебя… из одного места выросли! — обругал старик сержанта. — Ложка-то раскаленная. Себе засунь в рот! Тьфу ты, черт!.. Не торопись… Вот так, — приговаривал старик, пока сержант подносил к губам капитана ложку за ложкой, обдувая кипяток. — Пей, не бойся, пей. Да не спеши! Спешить некуда… — бормотал старик. — А потом каши я тут принес. Харчи — одно название. Но мы привыкли. А тебе полезно. Ты ешь, ешь…
Острый металлический вкус кипятка растекался по всему телу капитана. Боль, появившаяся в груди, стала отступать.
— Капли воды даже не дали, во сволочи! — выругался Федоскин. — Тут есть фельдшерица. Эмма… Из наших она. Ты отдохни, полежи, а Эмма тебя потом посмотрит, — посулил сержант.
После кипятка с сахаром мысли стали тягучими как сироп. Сквозь мутноватую пелену, застилавшую и глаза, и сознание, капитан видел — но опять урывками — то темную шоссейную дорогу, то подвал, в котором что-то копошилось, то опять звездное небо над головой. Всё остальное казалось как бы отгороженным, подвешенным в пустоте и медленно парящим. Связать концы с концами по-прежнему не удавалось.
— Свою порцию принес тебе… Раб-то… молодчина, — прозвучал где-то рядом голос Федоскина.
— Кто? Какой раб? — не понял Рябцев.
— Да дядя Степа. Это он был, Степа. Бывший хозяин его… ну тот, который выторговал его… он командует здесь, — ответил Федоскин. — А дед… на побегушках он. Восемь лет так живет, и ничего — хоть бы хны. Раб! — смачно повторил сержант.
Рябцев хотел что-то уточнить, но молчал, берег силы.
— Эмма говорит, пневмония у тебя, — сообщил Федоскин. — Уколы ставить разрешили, а на довольствие не ставят. Так что держись! Это зимой кашей решили кормить да лепешками. А то вообще баланду давали — вода да комья муки. Мы их клецками называем. Клецками… Сволочи! — выругался сержант. — Я бы их препарировал, как насекомых. Держал бы в стеклянной банке, по одному бы вытаскивал… Сначала ножку, потом крылышко… Как они нас. Как они… — бормотал сержант.
Федоскин отполз в угол и оттуда еще долго неслись его диковатые угрозы. На некоторое время он умолк, а затем членораздельно произнес:
— Чем больше ты пролежишь, капитан, тем лучше. Над новенькими любят издеваться. Нас-то ничем не удивишь. То сами, то шпане дают развлечься. Есть тут два паренька. Звереныши! Отмутузят так, что… Вместо утренней зарядки. Выстраивают и делают перекличку. А когда все пересчитаются, тут и начинается. Деда нашего, Степана, не трогают. Он хозяйский раб! Мы — хуже рабов, хуже собак. Ты, главное, подольше лежи, — повторил Федоскин. — А там, может, и наши очухаются…
— Где остальные? — спросил капитан.
— Кто — остальные?
— Со мной было… Трое, — сказал капитан.
Федоскин, будто не услышав вопроса, молча пошмыгивал носом в своем углу. Но тут и до него, очевидно, дошло, что именно об этом накануне говорила фельдшерица Эмма; она понимала чеченскую речь и иногда рассказывала о том, что слышит в лагере из разговоров хозяев. Ему и Степану Эмма рассказывала о ссоре, произошедшей между чеченцами из-за того, что двое офицеров, на днях попавшиеся боевикам в руки — и, если Эмма правильно поняла, произошло это прямо в Грозном, — были насмерть забиты прикладами по дороге в лагерь. От офицеров решили избавиться, потому что они не помещались в багажнике одной машины…
Воспаление легких, перелом запястья левой руки, вывих голеностопного сустава и отек лица, кроме того, ушиб затылка, полученный от удара прикладом, ссадины, синяки по всему телу и, судя по другим симптомам, которые подмечала Эмма, еще и сотрясение мозга — на его теле не осталось живого места. И тем не менее все вокруг, в том числе фельдшерица, считали, что капитан еще легко отделался.
Кости черепа не были повреждены. Несмотря на головокружение, шум в ушах и неровный пульс, при нормальном постельном режиме, при минимальных дозах мочегонных средств — других препаратов на лечение в лагере не отпускали, — последствия сотрясения должны были свестись к минимуму. Гораздо более серьезные опасения у Эммы вызывало запястье Рябцева. Лагерный «интендант» поскупился на гипс, на руку пришлось наложить шину, примотав бинтом обычную дощечку, и кость могла срастись неправильно…
По зрительным ориентирам, а также из всего того, что он уже слышал за эти дни, пытаясь высчитать в уме местонахождение лагеря, капитан Рябцев не мог прийти к однозначному выводу. К югу от Бамута, где-то в среднем поясе гор… — с этим была полная ясность, это знали все пленники. Но где именно? К востоку от Джайрахского ущелья? Рядом с Ингушетией? На границе Сунженского и Назрановского районов?
Ни Эльбрус, ни Казбек с территории лагеря не просматривались. Правда, с восточной стороны виднелись покрытые снегом склоны. Но это могло быть что угодно. Не отроги ли хребта Цорилам? Однажды доводилось разглядывать этот хребет на карте: он находился к юго-западу от Грозного, и название почему-то запало в память. Цориламская горная гряда могла проходить действительно недалеко. Не исключено, что южнее. Возможно, что грузинская граница тоже в двух шагах. Тянулась где-то здесь и настоящая дорога, поскольку, несмотря на снежную зиму, в лагере принимали машины с повышенной проходимостью. В отдаленной высокогорной местности автотранспорт вряд ли смог бы перемещаться в зимнее время: проселочные дороги давно завалены снегом. Где-то поблизости должны были находиться и населенные пункты, и сектора, контролируемые федеральными войсками, — неслучайно территорию столь тщательно маскировали. Однако сотовая связь в лагере не работала, мобильными телефонами никто не пользовался.
Большая часть укреплений была отстроена на отлогой стороне лесистого склона и, судя по трудозатратам, еще в «ичкерийский» период, когда на строительные работы выделялись средства. Фортификационно-земляные сооружения, окаймлявшие лагерь по периметру, жилые блиндажи и хозяйственные постройки, врытые в землю укрытия для машин, конюшня, вольер для собак и даже оборонительные сооружения, ходы сообщения с обшитыми стенками, снабженные трапиками, да и наблюдательные сапы, выходившие к краям леса и обрывам… — повсюду, где возможно, укрепления даже обнесли сетью. В некоторых местах масксеть лежала в несколько слоев. Присыпанные снегом и кое-где не выдерживающие тяжести и обваливающиеся искусственные навесы покрывали практически всю жилую территорию.
Как Рябцев вскоре вывел для себя, особенно тщательной маскировке подвергалась северная и восточная зона лагеря — там находились гроты и блиндажи командиров. Меры безопасности строго соблюдались во всем. Топили осторожно. Дым развеивали. В дневное время перемещения по территории ограничивались до минимума. И хотя это внешнее «вымирание» сковывало хозяйственную деятельность, бывали дни, когда из землянок, сообщавшихся меж собой траншеями, вырытыми в полный профиль, никого не выпускали до наступления темноты. Сами хозяева по лагерю разгуливали в белых балахонах. Правило соблюдалось жестко. Некоторые чеченцы носили чистые армейские маскхалаты.
Обнаружить такое зимовье наугад было бы сложно. Съемку с воздуха пришлось бы рассматривать через лупу. С другой стороны, казалось очевидным, что местонахождение столь обжитой зимовки не могло оставаться вне ведения федеральных служб разведки и топографии…
За первые дни пребывания в лагере вертолетный гул капитан слышал всего один раз. Отдаленный шум вертолетных турбин раздался с юго-востока, откуда-то снизу, из-за полога леса; в ясную погоду оттуда открывался вид на горные кряжи. В считаные секунды пленных загнали в землянки. Сам факт, что хозяева лагеря запаниковали, свидетельствовал о том, что вертолет подлетел на критически близкое расстояние. Судя по гулу винтов, вертолет шел на безопасной высоте. По всей видимости, огибал кряж, который просматривался южнее…
В общей сложности человек пятнадцать — двадцать пленных, вперемешку с заложниками, жили в крохотных блиндажах и землянках неподалеку от кухни. Рядом, в котловане, где маскировочная сеть провисала от навалившего сверху снега в некоторых местах настолько низко, что не позволяла перемещаться в полный рост, были припрятаны два УАЗа. Здесь же, на поляне, между столетними дубами разводили костер, над которым готовили пищу для пленников. Для рассеивания дыма пользовались металлическим корытом.
Большинство пленников жили в лагере с осени. Некоторых пригнали из соседнего лагеря, находившегося в нескольких километрах. Держать всех старались по пять человек, редко — более многочисленными группами. Общаться между собой не давали, на работу «пятерки» выводили в разное время, и если пленные из разных групп оказывались рядом, переговариваться им запрещалось под угрозой избиений или лишения еды, чем нередко и заканчивалось.
Скупые сведения друг о друге просачивались через фельдшерицу, поваров и Степана. Степан был личным имуществом Сайпуди Умарова, одного из тех, кто хозяйничал в северной части лагеря. В руки Умарова, который слыл работорговцем со стажем, Степан попал, по рассказам, то ли на Терском хребте, когда там возводились оборонительные сооружения, не то уже под Итум-Кале, тоже в послевоенный период, когда сразу после окончания первой кампании руками застрявших в республике пленных, да и штатских невольников, наподобие самого Степана, новые власти прокладывали в горах дорогу. До того как попасть в лагерь, Степан жил возле Ведено, тоже в отряде боевиков. Они и отконвоировали его сначала в соседний лагерь, а через какое-то время сюда, под начало нынешнего хозяина, здесь, в лагере, командовавшего мобильным батальоном. Статус раба гарантировал старику некоторые привилегии. Он мог свободно разгуливать по территории, жил как вольнонаемный при воинской части…
Федоскин, сосед капитана по землянке, считавший своим долгом поскорее ознакомить новоприбывшего с мрачной картиной лагерных нравов, поведал Рябцеву, что до того, как выпал снег, пленных солдат поднимали ни свет ни заря и заставляли проделывать многокилометровые марши. Всех гоняли выше в горы. Там возводились еще какие-то оборонительные рубежи. Поздней осенью, как только осыпалась листва, изнурительные этапы прекратились, но жизнь не стала легче. Теперь и в лагере приходилось долбить ямы под новые блиндажи или рыть новые углубленные окопы. А почва была здесь хуже некуда — сплошной камень. Когда землю прихватил еще и мороз, труд стал просто каторжным. Тем более при скудном питании: одна баланда да хлеб. С наступлением холодов от недоедания страдали поголовно все. Тех, кто не выдерживал, переводили на более легкие участки: заставляли пилить лес, таскать воду, чистить оружие. Отдельную группу пленников, пятерых солдат и двух офицеров, держали особняком и водили на земляные работы в северную зону лагеря. Там, в углублении с обратной стороны холма, который взбегал кверху сразу от землянок, находились обжитые гроты. Вокруг них хозяева лагеря не переставали разветвлять сеть подземных укреплений, не менее просторных, как поговаривали, чем сами блиндажи. В нижней зоне и были расквартированы главные подразделения боевиков. Жить приходилось по принципу: кто не работает — тот не ест. Будь ты больной, хромой, раненый или полуживой — ты должен работать, если хочешь жить. Кормить просто так, за то, что попался, моджахеды никого не собирались. А от доходяг избавлялись. Полежит человек пару дней не вставая — и попросту исчезает. Никто из пленных не верил в заверения хозяев лагеря, что дохляков сплавляют на руки федералам в обмен будто бы на какие-то товары: «мешок дохлятины в обмен на мешок макарон». Расчет не требовал объяснений: будешь, мол, трудиться в поте лица, и тебя ждет та же счастливая участь — ногами вперед, зато к своим…
Уже на четвертый день капитана отправили на работы. На пару с Федоскиным они пилили бревна. Пытаясь работать одной рукой в сидячем положении, Рябцев быстро терял силы. Пот заливал лицо. Не зная, как ему помочь, сержант то и дело предлагал сделать передышку, пытался орудовать двуручной пилой за двоих, пихая лезвие в паз распила с силой, как ножовку, отчего пила то и дело «заседала». Конвоиры — братья Гога и Магога, как их звали в лагере, — курили в стороне и время от времени подбадривали пленников веселыми репликами.
Минут через сорок капитан выдохся до такой степени, что не мог поднять руки. Обессилев, он сидел на бревне, примостив больную ногу повыше, и пытался прийти в себя. Гога, старший, заметив, что пленный слишком долго прохлаждается, выплюнул окурок и нехотя приблизился. Наказания он мог назначать по своему усмотрению. Гога какое-то время раскачивался, не знал, что предпринять, — простоватый и черствый паренек, он не мог не упиваться властью. Однако измываться над больным и беспомощным было как-то не с руки. И для начала он нехотя отшвырнул ногой служившую капитану костылем рогатину, но так и не успел покуражиться. Со стороны кухни на тропе замелькала фигурка. Белобрысый мужичок, частенько крутившийся возле землянок, тыкал на бегу прикладом АКМа в сторону обрыва и подавал какие-то знаки.
Братья одновременно подскочили и бросились к бревнам. Поддавая пленникам в бока стволами АКМов, они погнали их к окопу. Рябцев полез за рогатиной, без которой не мог передвигаться. Но братья заставили его скакать к окопу без костыля.
И едва все забрались в яму, по пояс утопая в пышном, как пух, свежем снегу, как справа из-за леса раздался перекатывающийся грохот, а еще через несколько секунд сквозь лес над обрывом стали видны две беззвучно парящие тени. Два штурмовика, судя по всему Су-25, огибали гору на низкой высоте.
Плотный навес над лесопильной мастерской едва ли позволял разглядеть что-либо с воздуха. Но молниеносная реакция хозяев говорила сама за себя: обнаружения боялись. Подходы к лагерю, без сомнения, охранялись. Видимо, и вправду наблюдения велись не из сап, а, как уверял Федоскин, с разбросанных по широкому периметру передовых постов. Не вызывало сомнений и другое: любая отчаянная попытка выбежать на открытое пространство и замахать руками закончилась бы расправой. Охране не пришлось бы даже стрелять. Понадобились бы всего секунды, чтобы настичь смельчака и без лишнего шума забить лопатами…
Кроме сержанта Федоскина, в плену находившегося с декабря, в южной зоне лагеря, за кухонным хозяйством, откуда брала начало проезжая дорога, в зиндане будто бы держали летчика и вместе с ним нескольких солдат. Федоскин уверял, что среди пленных одно время видели иностранцев. Француза и двоих австрийцев. Подловили их якобы не в Чечне, а в Ставропольском крае. Иностранцев пытались сбыть с рук за барыши. Всех их куда-то вывозили, но потом привозили обратно. А после Нового года все они разом исчезли. Сделка увенчалась, видимо, успехом.
За время своего пребывания в лагере Федоскину выпало стать свидетелем расправ… Он рассказывал всё это капитану вечером, когда они вернулись в землянку из лесопильной мастерской и впервые по-настоящему разговорились.
Уже стемнело, и в лесу морозило. Согреться в сырой землянке не удавалось. В ожидании Степана, который давно уже должен был принести ужин, сержант возился с огнем у печки, матерился, злился на холод, на задержку с едой. Котелок баланды старик приносил обычно до наступления темноты. Ожидание казалось вдвойне невыносимым из-за того, что последние дни, после первого же хорошего мороза, пленных кормили лучше обычного. Из костей зарезанной старой кобылы, из очисток мерзлой картошки и кукурузной муки, из всего того, что перепадало с кухни хозяев, повар Иван, еще один «кавказский пленник», варил мясной суп. Несмотря ни на что, жижа была съедобной и даже ароматной. Кроме костей, разварившихся макарон и крупы, в ней попадались даже куски мяса. В придачу к наваристой баланде раздавали лепешки.
— Этот, который прибегал про самолеты предупредить, наш он, русский, зараза, — буркнул сержант, как только пламя в металлическом жбане ровно загудело. — Если б раньше кто сказал, не поверил бы. Наших среди них несколько человек. Сам видел, вот клянусь… Дезертиры или нет, кто их разберет. Только понять не могу, как их уламывают? А, капитан? Даже бороды носят, не отличишь… Этот, который прибегал, Мироном его зовут. А фамилия — Одинцов. Одиночка — кличка у него такая. Говорят, в саперной роте служил, вояка! Вот и заправляет, гад, минным делом. Учит шпану фугасы мастерить. Ходит на мокрые дела. Не человек — бестия. Боятся его все… Ты садись ближе к печке, капитан. Тянет уже теплом-то…
Рябцев перебрался к огню, подсунул к раскалившемуся жбану ноги и руки и, стараясь плотнее укутаться в обноски одежды, поинтересовался:
— Ты тоже?.. Тоже боишься его?
— Боюсь, — выдержав паузу, признался Федоскин. — Когда чеченцы — это еще ладно… А когда свои… — Федоскин принялся ворочать дрова в жбане.
— О чем я хотел спросить тебя… — сменил капитан тему. — Назову три фамилии. Может, знакомы? Только сосредоточься… Может, слышал об этих людях: Лисунов, Ферапонтов, Кузьмин.
Федоскин отрицательно покачал головой.
— Не знаешь их?
— Нет, никогда не слышал… Первая фамилия, как ты сказал? — переспросил сержант.
Рябцев повторил все три фамилии.
— Все трое пропали без вести, осенью, — добавил он. — Но, говорят, их видели в плену. Что с ними, где теперь, — никто не знает.
— Нет, не слышал, — повторил сержант.
— Лисунов — он невысокий такой, белобрысый, а глаза голубые. Картавил сильно. Чудаковатый очень. Над ним даже потешались, — добавил капитан. — Чудаковатый…
— Картавил? Вообще был здесь один такой, всё хихикал, как ненормальный. Помню, был… — Федоскин призадумался. — На нервной почве, вроде бы… Говорили, контуженый. Или побили сильно.
— Белобрысый?
— Белобрысый.
— Где ты его видел? Когда?! — обомлел капитан.
— Да как сюда привезли… Меня, я хочу сказать. В самом начале… Невысокого роста? Ну, малахольный чуточку? Контузило его, точно… Он всё хихикал… — повторил Федоскин. — Абреки дубасили его, чтоб не хихикал. Думали, что над ними посмеивается. Ранен он был, ногу хотели ампутировать. Гангрена началась. Если б не Эмма, руки у нее золотые…
— Так это он, Лисунов! — взволнованно заключил Рябцев. — Это когда было?
— Месяц назад.
— И куда он делся?
— А черт его знает. Жил внизу. Нас туда не водили, — пожал плечами сержант. — Его «пятерка» лес таскала… Под Новый год увезли его. По-моему, к арабам, ну к соседям… Целую группу тогда погнали. Может, и не он это, а, капитан? Может, ошибка? — усомнился сержант.
Снаружи донесся скрип шагов по снегу. В проем всунулась физиономия Степана. Ощерившись беззубым ртом, старик пробрался внутрь, споткнулся и, едва не опрокинув армейский котелок, в котором приносил горячее на двоих, от души выматерился.
Бережно передав котелок Федоскину, Степан вытащил из-за пазухи половину лепешки и положил на печку рядом с котелком.
Сержант потеснился, освободил Степану место у раскаленного жбана и приподнял крышку с котелка. От вырвавшегося пара, от запаха пищи у Рябцева свело внутренности. Недоедание не так вроде бы сильно сказывалось на нем, как на других, но он осознал вдруг, что от предвкушения еды у него дрожат кончики пальцев.
Степан молча боролся с одышкой, следя за тем, как изголодавшиеся подопечные, будто многоопытные зэки, повынимали невесть откуда алюминиевые ложки и принялись дружно и громко вычерпывать ими бурду из котелка, обжигая рты и чуть не сталкиваясь лбами.
— Удружил… ну удружил, Степан, — приговаривал сержант. — Если бы каждый день такой суп приносил, да я б тебя…
— Ты ешь, ешь, потом хвалить будешь, — прошамкал Степан. — Завтра опять на кашу посадят. Наедайся, пока дают.
— А лошадь? — Федоскин от неожиданности даже прервался. — Ведь лошадь же зарезали…
— Да сожрали уж давно всю. Лошадь! Вас сколько ртов-то по землянкам. Один ты чего стóишь, кашалот!
Федоскин хмыкнул и вновь склонился над котелком.
— Дядя Степан, я тут капитану про Одиночку рассказываю, про Мирона, — больше не отрываясь от еды сообщил он. — Ты скажи вот, наших, которые на их сторону перешли, сколько их здесь?
Степан прошамкал себе под нос что-то невнятное.
— Во сволочи. Я бы их всех… — крякнул Федоскин, пряча свою порцию лепешки за пазуху.
— Это кто, Мирон-то — сволочь?.. Дурак ты, сержант, вот и всё… ни дать, ни взять, — оскорбленно проворчал старик.
— А кто ж он, если не сволочь? Говорят, кровь на нем, сколько наших погубил…
— Говорят… А ты уши-то и развесил. Слушай больше! — Степан подслеповато щурился.
— Врут? Да кому толк с вранья-то такого, а, дядя Степ? На своих наговаривать кому охота?
— А может, и не свои наговаривают, ты откуда знаешь, умник?
— Эх, дядя Степа… Я, вон, ребят из той обвалившейся землянки спрашивал. Они тут два месяца маются… Да ведь он с ними по неделям пропадает где-то. Что они там делают, в лесах? За зайцами гоняются? — не унимался Федоскин.
— Да за такими, как ты, дурья башка, и гоняются! И три шкуры со всех дерут… — огрызнулся старик. — Что ходит он с ними — ну так и что? Может, и не на зайцев… — помолчав, добавил Степан. — Но ты откуда знаешь, на кого он ходит? Одно дело — зайца убить, другое дело — человека, и уж тут десятое дело: русского или не русского. Ишь, русский нашелся! Трепло ты, это уж точно…
Перебранка доходила до сознания Рябцева сквозь мутную пелену. Давала о себе знать горячая жирная пища. Дурман окутывал толстым ватным одеялом. Одолевала сонливость. Точку зрения Степана Рябцев не совсем понимал, но чувствовал, что не вправе, да и не в силах навязывать свое мнение.
Степану не было шестидесяти, но выглядел он хорошо за семьдесят. По рассказам Федоскина, родом нынешний раб был из Ярославской области. В Чечне Степан жил еще с советских времен, приехав в свое время на заработки. Оставалось непонятным, как мог человек провести вдали от дома столько лет, да еще и живя в скотских условиях, добровольно или по принуждению — это уже не имело значения, — и не испытывать желания вернуться домой, на родину. Степан даже не скрывал этого. От старика так и веяло чем-то аномальным. Однако стоило Рябцеву встретить на себе его взгляд, а глаза Степана всегда слезились, как ему становилось совестно за свои домыслы.
— Дядя Степа, вон, говорит, что фундаменталисты, некоторые… лучше даже к нашим относятся, чем эти отморозки… — продолжал развивать тему Федоскин. — Или я вру, дядя Степа?
— Врешь.
— Ну вот, опять. Ты послушай его, капитан… Дядя Степа, он говорит, что, по их вере, человек не должен боль причинять другому. Только когда ему совсем невмоготу, только тогда можно. Так, дядя Степан?
— Может, и так… — Бесцветные глаза старика заблестели.
— Даже барана, и того режут так, чтоб не мучился. Это по исламу, правильно? — настаивал сержант. — Чего молчишь, а, дядя Степа?
— Ты меня за идиота не принимай. Не дорос еще…
— Да перестаньте вы, — попросил Рябцев. — Тебе сколько лет, сержант, и сколько ему?
— Эх, Степан… Эх, дядя Степа… — оставаясь при своем мнении, вздыхал Федоскин.
Утром на рассвете двое уже знакомых капитану чеченцев, оба в скроенных из простыней белых балахонах, растолкали его и приказали идти вместе с ними. По свежевыпавшему снегу конвоиры повели его в обход холма и сосновых пролесков. Тропа вскоре завернула в северную зону лагеря. От долгого передвижения с помощью рогатины капитан вспотел и всё время спотыкался. Подгоняя его, грозясь отобрать костыль, если не будет пошевеливаться, конвоиры повернули на дорожку, уводившуюся вправо, с ночи уже утоптанную множеством ног и углублявшуюся в тенистый ельник. Тропа вывела в низину, которую обступали скалы.
В северную зону лагеря Рябцев попал впервые. За поляной, по периметру которой размещались тщательно замаскированные блиндажи, капитана заставили лезть в траншею, огибавшую скалистый утес, и уже по ней его гнали до самого входа в блиндаж. Дверь уводила прямо в гранитную твердь. Вход был снабжен дощатыми ступеньками. В лицо ударило запахами кухни. В теплом просторном блиндаже, стены которого были облицованы кирпичом, а пол устлан досками, горел электрический свет.
Конвоиры обменялись непонятными Рябцеву репликами с рослым сутулым боевиком в камуфляже и удалились. Обитатель протопленного блиндажа чего-то ждал. Потом он, не разворачиваясь, жестом подозвал капитана к столу с настольной лампой.
Громыхая костылем, капитан приблизился. Скользнув по нему взглядом, рослый чеченец средних лет с черной короткой бородой и темными равнодушными глазами продолжал неторопливо затягиваться сигаретой и явно со знанием дела рассматривал лежащий на столе раскуроченный механизм, похожий на внутренности радиоприемника.
— В каких частях служил? — не глядя на Рябцева, спросил чеченец.
— Меня уже спрашивали, — помедлив, ответил капитан.
— И что ты ответил?
Рябцев молчал. Чеченец развернулся, упер в пленника холодный оценивающий взгляд, потом взял со стола что-то мелкое металлическое и подошел к нему вплотную. На шнурке свисал армейский прямоугольный личный жетон с буквами «ВС» и шестизначным номером.
— Твой?
Капитан качнул головой, а глаза его уперлись в связку других таких же жетонов, висящих на деревянной опоре сбоку от стола. Среди жетонов были не только прямоугольные, но и овальные.
— Родом ты откуда? — тем же надменным тоном спросил чеченец. — Папа-мама есть у тебя? Чем занимаются?
— Родители тут при чем? — Рябцев пытался не выдать своего волнения.
Чеченец вновь смерил пленника взглядом, раздавил в банке окурок и, отвернувшись, принялся что-то молча перебирать на столе.
— Родня твоя живет в Петербурге, — ответил он за капитана, не глядя на него. — Папаша в гостинице работает. Менеджером по кадрам. Зарплату иностранцы платят. Хочешь, скажу какую? А проживает на Мойке… Если ошибаюсь в чем-то, поправь… — Чеченец вперил в капитана испытующий взгляд. — А до этого? Кем папаша твой до этого был — вот это уже интересно.
Перебирая в уме возможные варианты реакции на сказанное и уже умозрительно систематизируя в уме всё то, что будет сказано дальше, Рябцев выжидающе молчал, старался не дать выхода переполнявшему его удивлению.
— Папаша тоже, оказывается, служил родине-матушке… Но где именно? В каких войсках?.. Я задал тебе вопрос, вояка!
— Отец — бывший кадровый военный… Если вы это имеете в виду… Откуда такие подробности? — не удержался Рябцев.
Чеченец апатично закивал и с презрением ответил:
— От верблюда, болван… Вопросы здесь задаю я. И на них обычно отвечают. А не будешь отвечать — позову эту парочку, которая тебя сюда привела, дам им по лопате и попрошу показать тебя уже обрубленным. Понял? Одно тебе скажу… Отсюда если кто-то живым выбирается, то не просто так. Продавать тебя я не собираюсь. Людьми не торгую. Да и кто тебя купит? Кому ты нужен на фиг? Генштаб ваш не выделяет денег на выкуп пленных. Мамаши, вон, одни разъезжают. Зарплаты свои предлагают. А что ты думал? Есть такие, что не брезгуют и зарплатами мамаш. Здесь всё возможно… — Чеченец помолчал, а потом добавил: — С тобой другое. Мне помощь твоя нужна. Фамилия моя Кадиев. Слышал такую?
Рябцев никогда этой фамилии не слышал, в чем и признался.
— Если согласишься на мои условия, гарантирую тебе жизнь. Папаше твоему вреда не причиним. А тебя обменяю… Но если только начнешь героя из себя корчить, закончишь смертью храбрых. Прикажу распилить, как бревно. Доходчиво объясняю? Просто так держать тебя здесь никто не будет.
— Чего вы хотите? — спросил Рябцев.
— Мне нужные связи твоего папаши, — с ходу ответил Леча Кадиев.
— Какие нужные вам связи могут быть у моего отца? — помедлив, сказал Рябцев. — Связи с кем?
— С той сволочью, которая вас, бестолковых, сюда посылает. С командованием. Где он служил, твой папаша?
— Мой отец — офицер запаса, тысячи таких, как он… Был обыкновенным военнослужащим, — после долгой паузы ответил капитан. — Он служил в другой стране, до того как всё развалилось. Поэтому и не служит больше… Какие связи могут быть у военного пенсионера с командованием вооруженных сил? — добавил он.
— Если точнее, с Главным разведывательным управлением, — поправил Кадиев. — Если нет связей… ни у него, ни у тебя, — ничем не смогу помочь тебе, капитан. Ничем… — пригрозил Кадиев.
— Вы путаете что-то… Или обманываете себя, — сказал Рябцев.
— Может быть. А может быть, и нет. Что я теряю?.. У тебя двое суток на размышление. Это твой последний шанс, капитан.
Кадиев шагнул к выходу и позвал конвоиров…
Обоз с ранеными, состоявший из нескольких автомашин, которые тащили за собой на буксире еще и сани, въехал в лагерь под утро.
Лагерь подняли на ноги. Один из командиров, Айдинов, вызвал к гаражам подразделение молодых абреков и погонял на разгрузке. Сюда же пригнали табун сонных, еле плетущихся пленных. Всех их прикладами отогнали к гаражу, где были спрятаны два УАЗа. На этот раз их даже не разбивая на обычные «пятерки» заставили убирать во тьме наваленные горы снега, чтобы до зари расчистить площадку вширь, завесить ее дополнительной масксетью и упрятать под навесом прибывший транспорт.
Обозленные абреки долго выгружали из машин раненых боевиков. Полуживых людей, обмотанных окровавленными бинтами, тут же осматривал и сортировал пожилой врач-чеченец в армейском бушлате нараспашку. Рядом с ним, на подхвате, мельтешила Эмма. После осмотра раненых уносили на самодельных носилках и спальных брезентах в северную зону, где находился лазарет. Неспособных передвигаться насчитали больше десяти человек. Один из тяжелораненых скончался, едва его вынесли из машины.
Из молчаливой толчеи пленных, сгрудившихся возле гаража, Айдинов выбрал троих, чтобы отправить их рыть в овраге могилу для умершего, самолично отвесил каждому по пинку и тем самым подал заразительный пример. Рисуясь друг перед другом, чеченцы принялись мутузить нерасторопных прикладами. Крепкий удар достался и Рябцеву, прямо между лопаток. От второго, направленного в голову, он успел закрыться локтем. Вовремя подлетела фельдшерица. По-чеченски пытаясь угомонить разбушевавшихся боевиков, она подхватила капитана под руку и помогла доковылять в сторону…
Днем избиения продолжались. Сбывались мрачные прогнозы Федоскина, которыми он запугивал с ночи. Обкуренные молодые боевики гурьбой обходили землянки, всматривались в голодные физиономии оставленных без обеда пленников и некоторых выборочно выгоняли на улицу. А затем стали выгонять на улицу всех без разбора.
Полураздетых пленников снова согнали к гаражу, вокруг которого ночью разгребали снег. Прибывшие автомашины успели замаскировать, они стояли в стороне, а предназначение площадки, размером с волейбольную, оставалось непонятным. Протянутая масксеть успела побелеть от снега.
Продолжая размахивать прикладами, несколько боевиков, а с ними и уркачи пригнали сюда же еще одну группу пленных из тех, что селились внизу за кухней. Невольники брели плотной гурьбой, все как один изнуренные и оборванные, чем-то действительно похожие на бурлаков со знаменитой картины, — эта шутка была у чечен в ходу. Процессию возглавлял молоденький ефрейтор, повар Иван. На костлявом небритом лице были видны свежие следы побоев. Ссадины еще кровоточили. За ефрейтором плелось трое солдат в летнем армейском рванье, очень молодые и тоже исхудалые. Физиономию одного из троих пересекал уродливый подживающий шрам. В хвосте на самодельных костылях ковылял офицер в засаленной зимней форме летчика — судя по полуоборванным отличительным знакам, подполковник.
На вид крепкий, коренастый, подполковник едва держался на ногах. Под его небольшой двухмесячной бородкой угадывалось еще молодое лицо с правильными чертами. Шея и кисть правой руки были забинтованы.
На вытоптанной площадке собралось около десяти человек пленных. Тут же топтался и Степан. Будто арестант, наравне со всеми, Степан выжидающе щурился. Безмолвная суета боевиков явно не предвещала ничего хорошего. Двое чеченцев отогнали подполковника в сторону. Перед строем, который другие конвоиры всё еще пытались выровнять прикладами, вытолкали молоденького ефрейтора Ивана.
— Полюбуйтесь на эту гадину! Проворовавшуюся… Вы все гады и воры… Сейчас он будет искупать свою вину, — по-русски, но с резким, неприятно гортанным выговором объявил строю один из молодых боевиков, которого Рябцев видел впервые.
Другой чеченец, низкорослый и черноволосый уркач, чем-то похожий на перса, подлетел к подполковнику и пнул его сзади под колени.
Ноги летчика подкосились. Отойдя в сторону, уркач спустил на него собаку. Бросившись на подполковника, овчарка повалила его в снег и стала рвать на нем бушлат, хватала пастью забинтованную руку.
Чеченцы хохотали. Пленники боялись поднять глаза.
— Я тебе дам автомат. Если выпустишь в него очередь, будешь жить, — сказал ефрейтору боевик с орлиным носом, по-видимому, тоже из уркачей. — И тоже давай на колени, собака! А ну живее…
Ефрейтор не расслышал требования или не понял. И его тоже сбили с ног.
— На колени, шакал! — орал низкорослый.
Обреченно глядя в снег, ефрейтор, тоже оказавшийся на коленях, распрямил грудь. Низкорослый передернул затвор АКМа и, ухмыляясь, протянул его пленнику.
— Бери, стреляй! Всего одна очередь, и будешь жить…
Ефрейтор не двигался. Выхватив из-за пояса пистолет, низкорослый приставил черное дуло к виску ефрейтора.
Тот медлил. Странновато, как обреченное животное косясь на силуэт карателя, боясь пошевелить головой, ефрейтор всё же взял протянутый АКМ.
Подполковник не отрывал глаза от снега. Руки его дрожали. В следующий миг стоявшие напротив увидели, как между ног жертвы, вдоль штанин, стало разрастаться темное раздваивающееся пятно. По лицу подполковника потекли слезы. Но он не издавал ни звука, обреченно смотрел в снег и ждал расправы.
— Надо ж, обоссался! — проговорил низкорослый, не отнимая пистолета от головы ефрейтора. — Стреляй! Или я тебя пристрелю! Считаю до трех. Раз, два…
Ефрейтор вдруг вскрикнул, отшвырнул автомат в снег. В тот же миг раздался выстрел. Тело несчастного завалилось на бок. Кровь и жижа мозгов забрызгали снег.
— А ты вставай, собака! Твой час еще настанет, — скомандовал низкорослый подполковнику.
Тот не двигался. Он продолжал стоять на коленях, не смея поднять глаза на людей. Плечи его тряслись. По лицу бежали слезы. Но он по-прежнему не издавал ни единого звука.
— Вставай, баран, кому сказано? — поторопил молодой чеченец и, вразвалку приблизившись, стал прикладом дубасить летчика. — Завтра твоя очередь будет. Мы вон того посадим перед тобой. — Чеченец наугад показал стволом в строй. — Тащи вниз эту падаль! Что ты встал как пень! — приказал чеченец Федоскину, стволом указывая на труп ефрейтора.
На помощь сержанту поспешило двое солдат, из тех, кого привели вместе с подполковником. Подхватив тело за ноги и за руки, стараясь не слишком раскачивать, они бережно понесли погибшего за гаражи в указанном направлении.
Степан тем временем собирал по снегу разбросанные вокруг алеющих пятен ошметки плоти, голой рукой выбирал кусочки мозга, стряхивал их с пальцев в замызганный целлофановый пакет. После этой процедуры, бережно припорошив пятна крови и брызги чистым снежком, Степан поплелся за уносившими труп солдатами, бормоча себе под нос нечто невнятное…
Пленники на миг приостановились и смотрели вслед уркачам. Дорогу им преградил тот самый Апти Якубов, который иногда раздавал пленным печеные картофелины. Апти размахивал шапкой и, вне себя от гнева, поносил уркачей на своем языке, много раз повторял незнакомое слово «гяур» и угрожал лопатой овчарке, свирепо рвавшейся с поводка в его сторону. В ответ неслась ругань. Чеченцы в открытую ссорились…
И в лесу, и в землянке вечером стояла гробовая тишина. Федоскин раскис, нервы у сержанта сдавали на глазах. Забившись в свой угол, он подолгу не подавал признаков жизни, а затем начал издавать едва слышимые звуки, шепотом матерился, и иногда казалось, что скулит собака. Сержант не мог прийти в себя после увиденного, да и после встряски, которую всем пришлось пережить сразу после расправы над ефрейтором.
Казнью повара пьяные уркачи не удовлетворились. В тот же день, под вечер, они набросились с лопатами на других пленников. Лишившись самообладания, Федоскин впал в непонятный транс. Описать свое состояние он не мог и позднее. Очутившись перед уркачами на коленях, он не мог выдавить из себя ни звука и бился в немых судорогах. Как он объяснял потом, уже в землянке, ноги у него просто подкосились, но не от страха, парализовавшего всё тело и вызвавшего потемнение в глазах, — он даже не помнил, что потом произошло, всё было как в тумане.
Боевики давились от хохота, крыли друг друга отборным русским матом. Лопаты они прихватили с собой, чтобы опять заставить пленных рыть снег и долбить грунт до самой ночи…
На следующее утро Федоскина в землянке не оказалось. С улицы доносился непонятный шум, какие-то вопли. Капитан выбрался наружу из промерзшей за ночь темени и, борясь с ломотой в глазах, высунулся из траншеи.
Уже совсем рассвело. Федоскин стоял полураздетым на морозе, рвал на себе одежду, что-то выкрикивал по-чеченски и целился в сгрудившихся перед ним боевиков черенком лопаты. Трое конвоиров, топтавшихся под навесом с овчаркой, которая яростно лаяла на буяна, с утра пораньше давились от смеха. Еще один чеченец, с автоматом наперевес, семенил по тропе в сторону шумного зрелища, судя по всему, не понимая, что происходит. По колено увязая в снегу, на выручку Федоскину бежал Степан. За ним торопливо ковыляли два солдата из третьей землянки. Нарушая предписания, втроем они приблизились к сержанту и наперебой стали уговаривать его угомониться. Степан умолял Федоскина отдать ему лопату.
Но вместо этого Федоскин отвел лопату в сторону и со всего маху нанес удар Степану. Схватившись за плечо, едва не потеряв равновесие, старик продолжал топтаться перед ним и даже не пытался защититься от новых взмахов лопаты, мелькавшей прямо у него перед лицом. Он продолжал уговаривать сержанта:
— Коля, ты чего, а, Коль? Рехнулся, что ли? Ты успокойся… Давай поговорим спокойно… Слышишь, что я говорю? Это я, дядя Степа…
Один из боевиков приказал Степану отойти в сторону. Степан будто не услышал приказания. Тогда боевик спустил с поводка овчарку. Собака сразу поняла, кто жертва. В два прыжка она подлетела к полуголому сержанту. Но в последний момент, непонятным образом изловчившись, Федоскин успел нанести удар и собаке. Раненый пес отлетел в сторону и, жалобно скуля, катался теперь в снегу, забрызгивая его кровью.
Конвойные защелкали затворами автоматов. Наперебой горланя, они приблизились к сержанту.
— Пусть сдохнет как собака, — сказал по-русски чеченец, прибежавший последним. — Веди, веди быстрее… — поторопил он самого молодого абрека.
Степан и тут соображал быстрее всех. Догадавшись, к чему всё идет, он кинулся абрекам в ноги.
— Ребята, не надо! Чокнулся он. Дурачок он! Не надо, — уговаривал Степан по-русски. — Ум у него за разум зашел… Чего с него взять-то? Не надо…
— В сторону, старый кобель! — один из боевиков навел на Степана дуло АКМа.
Степан застыл в нерешительности, но тут же опять принялся уговаривать.
Федоскин швырнул в абреков лопату и как ни в чем не бывало направился по тропе в сторону кухни, продолжая выкрикивать ругательства.
Справа у пихт появились те двое, что отправились в питомник за собаками. Они спустили овчарок с поводков. Сбив сержанта с ног, псы валяли его по снегу, таская за руки и за ноги. Пару минут Федоскин продолжал вскрикивать и отбиваться. Но затем тело его безжизненно обмякло, что не мешало разъяренным псам терзать голые, истекающие кровью конечности.
Пленных разогнали по землянкам. И только вечером Эмма сообщила, что сержант скончался…
Не блиндаж, не землянка, не зиндан — обыкновенная яма, обшитая по откосам накатником, и накатником же заложен был ее верх с утеплением из еловых веток, а поверх — толща снега. Новое обиталище, в которое Рябцева переселили в тот же вечер, выглядело добротнее первого, но оказалось очень тесным.
В яме уже ютилось двое солдат. Капитан знал обоих в лицо, однажды встречал их у гаража, когда пленных согнали на построение. Из одного десантного полка, правда, из разных подразделений, в плен солдатики попали вместе под Гудермесом, и оба носили на себе стигматы увечий. У одного было изуродовано лицо, другой припадал, как и Рябцев, на правую ногу из-за неправильно сросшегося перелома. Единственное, в чем солдатикам повезло, так это в том, что их не разлучили.
Днем они работали в северной зоне, долбили ямы для блиндажей. В одной с ними бригаде вкалывала «пятерка», ютившаяся в аналогичной яме за кухней. С работы пареньков приводили затемно, всегда измученными. Какое-то время они отсиживались молча, даже не раздеваясь. Поскольку капитану запрещали разгуливать по территории, кому-нибудь из них приходилось вскоре тащиться на кухню за ужином. Баланду, распределяемую по землянкам в котелках, солдатики дружно выхлебывали ровно до половины, до отметины, прочерченной гвоздем на внутренней полости посудины, ровно половину они оставляли капитану. Жизнью были научены? Дедовщиной? Щедрость изголодавшихся парней Рябцева поражала. Ком застревал в горле. Он понимал, что эти мальчишки жертвуют ему свою кровную пайку, и иногда чувствовал себя каким-то лагерным старостой, чуть ли не паханом, но сколько ни настаивал, не мог заставить ни того, ни другого съесть хоть на ложку больше.
Прихрамывающий солдатик — звали его Емельяном — в свободное время возился с печкой. Жестяной жбан из-под солидола, служивший топкой, был более объемным, чем в прежней землянке, и вечерами, если при раздаче ночных дров Степану удавалось подбросить охапку хороших поленьев, в яме становилось тепло. Напарник Емельяна, Володя, не снимавший с головы косынку из армейского тряпья, относил на кухню пустой котелок, после чего занимался уборкой, но чаще всего просиживал часы напролет в своем углу, не произнося ни слова…
На второй день после гибели Федоскина Степан появился в землянке раньше обычного. Мучаясь одышкой, он свалил принесенные дрова в угол, вытащил из-за пазухи пол-лепешки, разорвал ее на три части и сунул каждому по куску. Сухо поблагодарив, солдатики молча принялись есть. Рябцев отложил свою порцию на печку и, по лицу Степана догадавшись, что тому не хочется уходить, предложил посидеть, погреться. Старику уступили место рядом с печкой.
Емельян запалил лучину. Четыре исхудавших, заросших щетиной человека обменивались взглядами. Степан снял фуражку, обхлопал ее об колено, со стоном вздохнул и извиняющимся тоном прошепелявил:
— Во как оно, разгулялись! Дурак был, конечно, а жалко… Жалко сержанта, — повторил Степан. — Слабонервный был. Я сразу и не понял.
Рябцев задумчиво смотрел на вырывавшиеся из приоткрытой топки языки пламени.
— Ты чего не ешь, капитан? — Степан показал взглядом на котелок, стоявший на краю раскаленного жбана, к которому Рябцев после солдат еще не притрагивался. — А ну поставь нормально, чего уставился? — бросил Степан Емельяну. — Разогрей! Поди, остыло уже.
Емельян расторопно выполнил требование. Когда баланда закипела, Рябцев взял котелок на колени, разболтал ложкой содержимое и стал медленно есть. Уже несколько дней пленников держали впроголодь, кормили разведенной в воде мукой. Разве что Апти изредка приносил немного хлеба, а как-то раз — даже пачку аспирина с витамином С. Недоедание давало о себе знать. Согреться не удавалось, всё время клонило в сон. Капитан изо всех сил пытался преодолеть неотвязное, ни на минуту не дававшее забыть о себе чувство голода. Поэтому никогда не набрасывался на еду сразу, как бы ему того ни хотелось. Первыми всегда ели солдатики, а когда очередь доходила до него, он старался есть как можно медленнее.
— Тут ведь главное как… лишь бы калории набрать, — понимающе забормотал Степан. — А то ведь как получится? Пока мы тут сидим, казематы им роем, переморят всех голодом. Или перебьют… по очереди.
— Скажи-ка, Степан, а сколько их здесь всего? — спросил капитан, лепешкой подобрав со дна котелка остатки баланды.
— Бандюг-то наших, в лагере? А кто ж его знает… Со счета можно сбиться. Вчера, вон, опять пополнение прибыло. Человек пятьдесят вошло. Своими глазами видел. Да не молодь, как абреки наши, а матерые. Слышал, вроде масхадовские… А так, если чужих никого нет, — сотня внизу будет. Да еще по холмам блиндажики все заселены. Там еще сотня наберется. Человек двести. Ну, триста, когда есть кто на постое. Может, и больше. А уж вооружены! Чего там только нет у них! Труб этих… гранатометов — блиндажи завалены. Кормежка тоже что надо. Это нас морят, как в Освенциме. Мясо у них, консервы, водка. Перебои бывают, но редко.
— Почему тебе разрешают свободно ходить по лагерю? — спросил Рябцев.
— Повсюду не пускают. Это я здесь, вокруг кухни, как пуп земли. А там, в котловане, куда пацанов водят, не дай бог туда нос сунуть. Прикладом промеж глаз — бац, и поминай как звали… За дурака меня принимают. Ни дать, ни взять старый шелудивый пес… А я и не говорю, что не дурак. Дурак и есть… раз попался. Знают, что идти мне некуда. Сколько лет просидел на их баланде… Вот и не чешутся.
— Умаров, кто он такой?
— Приезжий… из татар вроде, — с живостью отвечал Степан. — Сайпуди его зовут. В первую войну как занесла сюда нелегкая, так и воюет. А меня в Грозном приобрел… у милиции.
— Купил, что ли, у милиции? — не поверил Рябцев.
Степан долго щурился, а затем прошамкал:
— Кровельщик я вообще-то. Приехал шабашничать. Надоумили на заработки податься. Аж из-под Ярославля… Все мои там и проживают и горя не знают. Ну, приехал я. Не один — много нас было, желающих. Нанялся. Взял меня один чеченец из Шали. Три месяца вкалывал на него, а он не заплатил. Я от него — в Аргун. Там та же история. Я — назад, в Грозный. Прихожу в милицию. Вроде свои там, русские. Так, мол, и так, спасайте, ребята, домой хочу… Они поулыбались, и в спецприемник меня. Ты, мол, бродяга. А оттуда и продали. Таких, как я, вылавливали и продавали. Так я и стал рабом-то… — расстроенный Степан засопел, некоторое время сидел молча, глубоко задумавшись, а потом стал рассказывать дальше: — Дом я ему строил… хозяину… отары пас. Сначала обещали заем дать, скот выделить. Ты, мол, повкалывай, заработай свое, так и сам хозяином станешь. Я и верил, во дурак! А потом, когда понял, что к чему, поздно было. Так и застрял. Убежишь — поймаем, говорят, и башку отрежем, без башки будешь бегать. Я как-то попытался, бежал. Так поймали, измудохали… А там пошло. Кормили как собаку. Кусок лепешки сунут да воды кружку… Сил не то чтоб удрать, ходил еле-еле. А не поработаешь, и того не дадут… Потом в горы погнали, на серпантин… У Итум-Кали дорогу строили, слышал? Много там наших согнали. Рабы да пленные. Колыма Колымой. Если не хуже. А наши, в России… власти-то… и в ус не дуют. А может, и не знали, кто их разберет? Некоторых, говорят, выкупали оттудова. Ненужных масхадовцы к стенке ставили. Часть с собой увели… по лагерям. Это когда наши войска опять вошли. Да и своих, чеченцев, расстреливали… Поздно наши опомнились! Порядок решили наводить! Это в который раз… Постреляют и опять войска выведут. А нам куда деваться? У себя б сначала порядок навели. В войска-то брать стали погань всякую. Чуть не каждый второй — зэк бывший. Это в армии! Что здесь уркачи заправляют, что у наших. Какой же порядок может быть? Да ведь и не нужен он никому, порядок-то. Продали нас, всех продали… — обреченно подвел Степан черту под сказанным. Он ненадолго умолк, затем, всё же пересилив себя, спросил: — Куда наши смотрят, а, капитан? Или совсем с ума посходили? Что это за армия такая? Ведь им что свой, что чужой. Рот открыл — очередь. Не откроешь — по зубам. Разговор короткий. Что свой, что чужой, какая им разница, всех к стенке ставят. Сам видел. Даже старух столетних… Да наших, русских, которые осели здесь давно… сами наши и палят по ним. Бабки к ним с хлебом-солью. А те сразу за автомат. Вмажут прикладом, чтоб под ногами не путалась, да очередью ее… Разговор короткий. Меня ведь самого чуть к стенке не поставили…
Рябцев оставался задумчив, но затем перевел разговор в другое русло:
— Кто в лагере за командира? Кадиев?
— Вроде он. Англичанин. Кличка у него такая… — Степан еще раз вздохнул. — Не дурак человек. Семи пядей во лбу, я считаю. «Эмиры» не любят его. Он свое гнет, они свое. Грызутся — жуть! «Эмиры» больше этому лбу доверяют… Абдул который… Вахаб. Он народ к ним водит. Да и сам инструктирует. Обученный, тот еще вояка. До войны в МВД, говорят, работал, пока не вытурили. Вот он и пошел к ним, к ваххабитам. Но идейные — они не самые матерые. А самые — это которые мстят. Остальные — за деньги воевать пошли. Денег дай — кому хошь голову оторвут. Не все, конечно. Тут ведь как получается… На их место тоже надо встать. Вон Апти, посмотри. Ничего не могу сказать плохого про него. Добряк человек и не дурак. А ведь тоже намазов не пропускает. Только что он может один? Хороший человек Апти, — с убеждением повторил Степан. — Семьи нет. Всех на тот свет спровадили. Куда таким деваться? А некуда. И те прибьют, и эти. Война-то везде! Уехать? Куда? К нам, в Россию? Так ведь не пустят. Кому ты там нужен? Своих ртов сколько… А еще если рожей кавказец… А здесь — разруха. Ни больниц, ни школ, ни работы нет. Один грабеж. Резня одна. Не одно, так другое. Людям куда деваться?.. Это я тебе говорю, как знаю. Всякие есть среди них. Вот только наши, жалко, не разбирают. Чешут всех под одну гребенку. Так и наживаем себе врагов… Кто заварил всё это? Разве они? А ты говоришь… Не согласен со мной?
— Не знаю, — чистосердечно признался Рябцев.
Они переглянулись.
— А в соседнем лагере ты никогда не был? — спросил Рябцев.
— Нет, не был.
— Много их там?
— Говорят, тьма. Не лагерь, а крепость. Наши, поди, ждут, чтоб они совсем в землю зарылись?
— Неужели ни разу не бомбили?
— Ни разу, сколько я здесь. Вертолет покрутится рядышком, посмотрит — и всё. К лесу не приближается. А вдруг пальнут? Ну, из этой, из трубы… На это они мастера. А чтоб бомбить — нет, не было… Не хотят наши их выкуривать отсюдова, вот мое мнение… Должен я идти. Искать начнут, спохватятся. — Степан закряхтел, заворочался. — А насчет Англичанина… Зверь он, может, и не зверь, но ты с ним поосторожней. Самый он матерый. Боятся его все. Почему — не знаю… — Степан нахлобучил на голову кепку и, чем-то вдруг растроганный, полез к выходу, но остановился и добавил: — Ты, главное, не убивайся, капитан. Терпи и всё. Если б не русский я был… Жизнь — она везде жизнь. Тут, главное, привыкнуть. И терпеть, слышишь, капитан? На рожон не лезь. Шутки с ними плохи, особенно с уркачами — сам видел…
Блиндаж стал похож на оружейный склад. Вырубленные в боковой скале штольни доверху заставили штабелями «цинков» с амуницией. Тут же были сложены несколько «Мух», гранаты к РПГ-18, несколько винтовок с оптическим прицелом, рация и, что особенно неожиданно, — реактивные снаряды к «Граду». На столе стояла разобранная радиостанция. Перед рацией сидел Мирон. За свисающими патлами не было видно лица. Мирон держал в руке паяльник и курочил что-то в схеме, но, увидев на пороге приведенного пленного, он показал Кадиеву на механизм с микросхемой, отодвинул свое хозяйство в сторону, встал и вышел.
— Ну, высидел что-нибудь? — спросил Кадиев.
— За то, что здесь происходит, вы… вы будете отвечать, — с запинкой проговорил Рябцев.
Кадиев понял с полуслова. Не глядя на пленника, он продолжал перебирать на столе электродетали, но вдруг предложил сигарету.
Капитан не отреагировал.
— Гордый, да?.. Ну, так что? Что будем делать, капитан? Обдумал ты мое предложение? — Леча Кадиев смотрел на пленника спокойным взглядом.
— После того, что устроили ваши каратели… не понимаю, на что вы рассчитываете, — борясь с волнением, сказал Рябцев.
— Лично я ни на что не рассчитываю… Да и не видел ты ничего такого, чтобы волосы на себе рвать… Ты насчет шаромыги с кухни, которого пристрелили? Так за дело! За воровство. По нашим законам знаешь, что за это бывает?..
— За то, что ел отбросы? От голода?
— Да за любое!
— Ни одна армия в мире не прощает издевательств над пленными, — сказал Рябцев. — С кем вы собираетесь вести переговоры? Переговоры ведут с противником, не с бандитами.
— Два дня назад твои друзья, армейцы, два поселка сожгли. И всё население перебили. Со страху. Поддатые были, шарахались от каждой тени… — невозмутимо продолжал Кадиев: — Какой спрос с них — можешь мне объяснить?
— В голову, в лицо российская армия пленных не расстреливает.
— И в голову, и в лицо… И бабам беременным в животы стреляет. И детей сжигает живьем. Ты как с луны свалился… — Кадиев поднялся и принялся шагами мерить тесное пространство.
Оба выжидательно помолчали.
— Будь моя воля, всё было бы по-другому, — неожиданно произнес он. — Но, ты прав, пол-лагеря — уголовники, шпана, — он вскинул на капитана вопросительный взгляд. — Сам-то ты что об этом думаешь?
— К чему этот разговор? — помедлив, поинтересовался капитан.
— Хочу понять, действительно ты тупой такой или прикидываешься. Кажется мне, что прикидываешься… Садись, капитан, вон туда… — Кадиев показал на табурет перед столом и продолжил: — Демократия не принесла здесь людям ничего, как видишь. Кровь, грабежи, одно варварство. В общем, ничего нового. Такой народ, как наш, не может жить без твердой власти. Вот люди и выбирают из того, что осталось. Здесь, на Кавказе, шариат — это вековой, опробованный опыт. Все знают, что от него ждать. Соответственно — и от ислама. Единственная религия, которая на сегодняшний день отвечает духу этого народа, — ислам, нравится это или нет твоим начальникам… Поправь, если я что-то не так говорю…
— Даже Шамиль завещал горцам жить в мире с Россией, служить ей, — проронил Рябцев.
— Да что ты знаешь про Шамиля? Шамиль — предатель. Так считают у нас на Кавказе… Слугами быть, верноподданными? Так ты встань на место того слуги! Представь, что от тебя требуют рабского повиновения! Служить? Да ради бога! Только дурак никому служить не хочет! Но кому именно? Какой России? Вашим сегодняшним прохиндеям? Которые вас самих обобрали до нитки? Рабами быть у бывших рабов? Да никто нам не завещал такого! — с отвращением заверил Кадиев. — Ослепли вы! И от других того же хотите. От вас скоро одна Пальмира Северная останется… на болотах… где яблока кислого не вырастишь. Ну и пара загаженных портов за Полярным кругом, через которые вся эта мразь, которая села вам на шею, будет выкачивать сырье из страны. А вы, такие как ты, псы дрессированные… вы будете воевать на окраинах, чтобы они могли спокойно грабить вас и ваши семьи. Вы даже Москву не удержите. Если так пойдет, опять в ней татары будут править!..
Дверь с шумом распахнулось, и в землянку ввалилось трое парней в белых куртках. Втащив внутрь тяжелый армейский ящик и взглядом сверив по лицу Кадиева, можно ли говорить в присутствии пленника, они наперебой затараторили по-чеченски. Кадиев отрицательно качал головой. Все трое ему возражали. Но Кадиев пресек дебаты решительным жестом. Чем-то озадаченные и недовольные, парни торопливо удалились.
— Вот этим энтузиастам… — Кадиев кивнул вслед вышедшим, — свобода не нужна. Они не знают, что это такое. Не знают, что нет ее вообще, свободы… Я жил в Петербурге, когда-то учился там, — прибавил Кадиев. — До всех этих дел еще. Русская культура — великая культура, потому что умеет заимствовать. Но она не самостоятельна. Только слепой может не видеть этого. И что бы ваш спецназ здесь не вытворял, Россия, хоть и развалили ее, может быть, еще способна развиваться, идти своим путем, если вы возьметесь за ум. Но здесь, в республике, этого никогда не будет. Кто-то подомнет всё под себя. Это неизбежно. Хотя Кавказ может обойтись без заимствований. Получается всё наоборот…
И не дождавшись возражений, Кадиев продолжал:
— Русские русским тоже рознь. В том-то и беда. В этом и корни сепаратизма. Какой ненормальный захочет отделяться от государства, если оно несет мир и благополучие? Вся мразь, которая вас самих растоптала и вываляла в грязи… та же мразь тянет лапы и сюда. Мало там награбили, мало горя наделали дома у себя, мало вырвать последние крохи изо рта у своих. Так теперь к другим надо залезть. Сегодня сдохни ты, а завтра, может, и моя очередь наступит… Принцип-то у уркачей позаимствовали. Но не всё так просто. Стадо можно перерезать. Из человека можно мыло сварить, из человечьей шкуры можно сумок нашить. Но не станет никогда человек добровольно чистить сапоги губителю своему… Вот и объяснил бы ты мне, что делать в такой ситуации? Сидеть сложа руки? Или самому схватить тесак и идти кромсать налево и направо? Как не бороться с гадиной, которая несет смерть и разрушение? Как и о чем можно говорить с рабами? Ведь рабы ничего не решают. Рабы служат хозяину. Вот с чем я имею дело. Народ русский — рабский народ, — изрек Кадиев; не глядя на капитана, он ждал реакции.
Которой опять не последовало.
— Газават, знаешь, что это такое?.. Это война, которая объявляется священной, когда твоему народу угрожает погибель, а земле порабощение. Война не на жизнь, а на смерть. Веками всё это распухало здесь, веками разрасталось. Сколько времени Россия на нашей земле воюет? Сколько веков? А ведь по сей день никто не объявлял русским газават на Кавказе. Никто! А кто-нибудь из вас задумывается об этом? Один, вон, нашелся умник, впервые за всю историю. Так вы его сразу нашим президентом решили сделать. Понимаешь ты, что это значит? Это значит, что твои правители за дураков вас держат… Ненависть к вашему иудо-христианскому миру, который разжирел за счет других, столетиями здесь копилась, — продолжал Кадиев гнуть свое. — Несмотря на принципы, которые вы провозглашаете, полужидовский ваш мир никогда не мог отмыться от грязи, она разъедает вас изнутри… Когда видишь хари ваших генералов, их отвисающие курдюки, рассуждать не хочется. Раз пришли воевать против людей, которые готовы не просто жизнь отдать за родственников, а каждый кусок тела своего, каждую клетку по отдельности — что ж, воюйте! Но пеняйте на себя! Этой шпане… — Кадиев ткнул кулаком на выход, — большинству из них наплевать на ислам. Они не за ислам воюют и даже не за Ичкерию. Братьев их и отцов поубивали, и всё, что осталось у них из имущества, — это автомат. Вот поэтому в такой войне невозможно победить. Это война тотальная. Можно стереть с лица земли аул, можно сровнять горы с землей, но победить — невозможно!
— Войска вошли в Грозный, чтобы бандитский разгул остановить. Не для того, чтобы горцев в рабов превратить, — через силу произнес Рябцев.
— Да болтовня всё это… Идеалист ты или просто наивный. А может, и то и другое одновременно. А весь этот разгул кто здесь устроил? А Дудаева к власти кто привел? А кто его убрал? Кто моджахедов вербовал? Кто саудитов сюда привел?.. — Кадиев уставил на Рябцева гневный взгляд. — Ладно, теперь слушай меня внимательно… Война, конечно, закончится. Скоро вы опять будете всё контролировать. Начнется мирный процесс. Так будем это называть. Но со шпаной, которая повара вашего на тот свет отправила, никто не захочет дела иметь… Тогда они наплачутся… Теперь о другом. Мне нужно войти кое с кем в контакт. В Петербурге. Я готов обменяться информацией… А заодно и пленными, — глядя на капитана в упор, сказал Кадиев. — Не время выяснять отношения. Ситуация изменилась. Мне нужно войти в контакт с теми, кому осточертели резня и грабеж, кто понимает, что войсковой операцией ничего не добьешься. Почему к тебе обращаюсь? Отвечу… Старые каналы будут работать на тех, кто всё это развязал, кто набивает себе карманы с бойни. И если война им нужна только для того, чтобы укрепить свои позиции, бесполезно к ним обращаться… Понимаешь меня?.. Я готов тебя отпустить. При условии, что ты поможешь мне. Мое условие… За тобой явится твой отец. Сам. Отдам тебя лично в руки ему. Но папаша твой привезет с собой пару человек… Из тех, кому пушечная канонада еще не заложила уши.
— Бред какой-то! Да это же невозможно! — не сдержался Рябцев. — Никто сюда не поедет. Да и зачем вам приезжие? Военных и здесь пруд пруди.
— Со здешними иметь дело невозможно, я тебе только что объяснил. Они заказ выполняют, поставленные задачи.
— Мой отец — гражданский человек. У него нет никаких связей и не было никогда, я уже говорил.
— Фамилия Белех тебе что-нибудь говорит?.. Генерал-полковник Белех? — спросил Кадиев.
Чеченец назвал фамилию бывшего начальника штаба округа. Рябцев отрицательно покачал головой.
— А Окатышев?
Рябцев вскинул на чеченца недоуменный взгляд, опять сделав вид, что слышит фамилию впервые.
— На нет и суда нет. Не сегодня, так завтра тебя здесь ждет то, что ты видел. Один раз смогу этому помешать, а в другой раз ситуация выйдет из-под контроля. Мне терять нечего. Подумай… Я не предлагаю тебе присягу нарушить, подлость какую-нибудь совершить против своих. Я предлагаю честную мужскую сделку… Сделаем видеозапись. Ты и я, вдвоем, — чеченец ухмыльнулся. — Ты всё объяснишь. Я передам запись. Всё просто.
Рябцев безнадежно покачал головой:
— Что вы собираетесь объяснять?
— Всё, что я только что сказал. Я изложу свои условия… с твоей помощью.
— Это нереально.
— Отец твой разберется. Не такой глупый, как ты, надеюсь. И объяснит кому надо. Согласишься — поможешь всем. Мне, своим и себе самому. А нет… — Не договорив, Кадиев пожал плечами и вновь заходил по блиндажу. — Меня обвиняют в торговле людьми… Меня и еще кое-кого в Москве. Но я не имею к этому отношения. Я хочу, чтобы там знали правду. Это будет первое, с чего мы начнем… — Кадиев достал какой-то листок и, обойдя вокруг стола, положил его перед Рябцевым. — Вот список. Никого из этого списка я никогда не видел и не знаю. Мои люди тоже… Кому-то хочется свалить на меня ответственность.
Рябцев пробежался по списку глазами. Значилось шесть фамилий. Две женские. Одна из них показалась знакомой.
— Лопухова? — спросил капитан.
— Да, из Москвы.
— Имен не вижу, — сказал Рябцев.
Чеченец достал другой лист и зачитал имена и фамилии вслух. Лопухова Мария значилась в списке последней. Стараясь не думать о неожиданном совпадении, Рябцев отрешенно кивнул.
— Я должен подумать, — сказал капитан. — Встречное условие… В ноябре трое моих подчиненных пропали. Хочу знать об их судьбе.
— При каких обстоятельствах пропали?
— При нападении на колонну.
— Почему ты решил, что я должен знать о них?
— Одного из них видели в лагере.
— Напиши фамилии, выясним… — без особого энтузиазма пообещал Кадиев и через стол подсунул школьную тетрадку с карандашом.
Рябцев вывел три фамилии.
Кадиев мельком взглянул на список, вырвал из тетради лист и спрятал его в нагрудный карман.
— Объяснять, думаю, не нужно, что всё это должно остаться между нами. Не все здесь захотят нянчиться с тобой, как я… — предупредил Кадиев. — Всё понял? Если что, расплачиваться придется жизнью. На раздумья у тебя нет времени. Завтра вечером — крайний срок. Я должен знать, да или нет…
Хаос и непредсказуемость, непролазная грязь, зловоние и нищета, целенаправленное и бессмысленное уничтожение всего живого, обесценивание жизни, и в то же время неодолимый, инстинктом диктуемый страх за свою шкуру… — вот и все, что скрывают под собой военные сводки и оперативные данные, вся та дымовая завеса, которая колпаком висит над театром военных действий и не позволяет увидеть действительность такой, какая она есть…
Прибегая к радикальным мерам, сгребая мусор в кучу, чтобы уничтожить всё то, что уже отжило или является уродливым с рождения… — только таким нехитрым способом можно расчистить место под что-то более жизнеспособное… Логика как будто бы железная. Однако, глядя на вещи со стороны, трудно бывает вникнуть в их суть. Это правило тоже было железным. Так уж устроен человек: своя рубашка всегда ближе к телу.
Зло навязывает непротивление и повиновение — как себе, так и вообще. И понять, что оно иррационально и разрушительно, осознать все ужасающие последствия безграничного господства зла можно, лишь испытав его воздействие на собственной шкуре. Зло с начала времен навязывает себя как законную и единственно возможную форму бытия. Но, в отличие от добра, своей противоположности, оно почти всегда безлико. Некоторые даже сомневаются в том, что эта древняя, могучая, мощная сила — и есть зло. Открыть глаза сомневающемуся в реальности зла может только прямое столкновение с ним. Потому что одно дело — знать, что так было и что так будет еще не раз. Другое дело — оказаться соучастником, собственными глазами заглянуть в ад, стать свидетелем того, как адские жернова перетирают судьбы людей в порошок, но при этом не быть в состоянии что-либо изменить…
Личный предел лишений всегда кажется пределом абсолютным. Видимо, поэтому до сознания с трудом доходит, что кто-то другой, оказываясь в аналогичной ситуации, может быть в равной степени восприимчив к боли. Еще труднее представить страдание другого уровня, превышающее твое собственное. Где-то здесь, по-видимому, заложен предел, переступить через который большинству простых смертных просто не под силу…
День назад, когда Степан по привычке пустился в свои рассуждения, и Рябцев слушал его в пол-уха. Но его неожиданно как ошпарило: Степан говорил о том же! Чем-то напоминая бездомного пса, которого жизнь приучила довольствоваться малым, старый «раб» умел пригреться где угодно, лишь бы не гнали.
— Весна будет ранняя. Я всегда заранее чувствую. Когда кровь во рту из десен… весна скоро, оттепель. Потом черемша пойдет. Снабжение получше станет. Не так голодно будет, заживем. Всё будет нормально…
Отогревая покрасневшие от холода руки об обжигающие стенки жбана и едва не обнимая печку, второй вечер подряд Степан рассуждал об одном и том же. Понять его было очень трудно. Что могло быть нормально? Но невозможно было не слушать.
— Ты, главное, не это… не расстраивайся. Ты не один, даже если совсем один. Я тоже так думал сначала. Всё настоящее… кажется, что оно где-то там, далеко, где нас нет. А когда привык, открываю глаза, смотрю — как стоял мир на месте, так и стоит. Ничего не изменилось! Птицы поют, лес, сосны, небо. Красотища! Такое же всё, как было. А что, хуже разве стало? Ну, хорошо, погань вокруг, зараза, гады всякие. А лесу какая разница? Ему всё равно. Ты только послушай. Я их все тут наперечет знаю, деревья! Они даже шумят по-разному.
Последние слова заставили Рябцева на миг задуматься.
— Ну, ты слышишь? — спросил Степан.
— Тихо вроде, — проронил Рябцев.
— Тихо… Эх ты! — Степан чуть, было, не сплюнул. — Не понимаешь ты ничего. И за что вам только звания дают? Попал в переплет и думаешь: да за что мне всё это? Сердце, небось, сжимается от жалости к себе… Там, небось, из настоящих тарелок едят. Спят в кроватях. А я тут мыкаюсь, неизвестно за что… А ты не думай про то, как там. Жизнь — она везде жизнь. Везде можно быть человеком. Везде! — Степан убежденно кивнул головой. — Слышишь, капитан? Я же не просто так, чтобы потрепаться. Чувствую, бродит у тебя вот здесь… — ткнув себя в грудь, Степан продолжил шепотом, чтобы не мешать солдатикам, затихшим по своим углам: — Тут ведь как чуть сдашь — и поехало вкривь и вкось, уже не остановишь. Так что давай, подтягивайся…
Через минуту Степан, покряхтывая, встал, взял пустой котелок и хотел, было, идти, но замешкался.
— Жизнь, она, конечно, одна, зато длинная, — добавил он. — Ты посчитай, сколько дней, часов, минут. У тебя сейчас одно на уме: все они черти, душегубы. Разве нет? Я тебе скажу так: они тут ни при чем. Всё дело в нас. А у них традиции такие — лихачить, задираться, верхом ездить. На таких, как ты да я. Невесело, конечно. Битый небитого везет, так получается. Но не виновата лошадь, что четыре ноги у нее… Жизнь продолжается. Деревья шелестят. Утро наступает. Птицы щебечут. Понимаешь, что я хочу сказать?
— Кем ты раньше был? — впервые спросил Рябцев Степана о его прошлом. — Не всю ведь жизнь шабашил?
Степан опустил котелок на землю, сел на прежнее место, сложил на коленях свои тяжелые корявые руки и ответил:
— Дураком был.
— По профессии? — Губы Рябцева тронула улыбка.
— Может, и по профессии, кто его знает? Зато теперь — раб… Раб Божий. Вот тебе и профессия. Это состояние такое, понимаешь? Что дальше будет — не знаю. Ну и ничего, Ему виднее.
— Кому ему, дядь Степ? — раздался из угла басок Емельяна. — Хозяину твоему, что ли?
— А кто его знает? Говорю — Ему! Ты б не умничал, ишь нашелся… Мир, небось, не мы с тобой придумали. Кто ж его сделал, если не Бог?.. Деревья, вон, шелестят — не каждое само по себе, а как в хоре. Кто их заставляет? Ветер? А он кто такой, ветер? Да никто! Раб он! Такой же, как ты и я. Все мы — рабы! А хозяин один на всех… — Дядя Степа замолчал и насупился, но затем всё же пояснил: — Ну а когда совсем невмоготу становится, они мне и говорят: эй, Степа, кончай дурака валять. Смотри по сторонам! И терпи! Вот я и терплю.
— Кто? Кто говорит? — опять не удержался Емельян.
Степан поморщился:
— Не знаю я, кто. Голоса…
— Какие еще голоса?
— Ну, голоса я слышу… Вот как тебя. Сижу и слышу. Если голос говорит: не делай этого, я и не делаю. А если совет дает какой, я всегда делаю, что он говорит.
— Да чей голос, Степан?
— Не знаю, говорят тебе! Бестолковый ты какой, просто сил нет!
— Что они тебе говорят, эти голоса?
— Твое место здесь, говорят. Здесь и живи, как человек. А завтра — то будет завтра… Может, и не будет завтра никакого. Так когда же человеком становиться, если не сегодня?
С минуту все молчали.
— Всё ясно с тобой… Поехала у тебя крыша, дядь Степ, вот мое мнение, — разочарованно заключил Емельян. — Не слушал бы ты их, голоса эти, да и всё.
Степан сощурился, многозначительным молчанием давая понять, что не нуждается ни в чьих советах.
— Может, и поехала. А может, и нет. Только ты сам не знаешь, что говоришь. Мели Емеля — твоя неделя! Сколько лет я живу среди них. А ты вон всего ничего, и уже — посмотри на себя — в дохляка превратился! А чего ты хотел? Ведь не веришь ни во что…
— Ну вот, давай теперь сразу оскорблять… — обиделся Емельян. — Я рехнуться не хочу. Потому что тогда конец вообще.
— Может, и конец. Но я говорю, что думаю. Еще поймешь, вспомнишь меня, еще благодарить будешь, — проворчал Степан и, с трудом переводя дыхание, полез к выходу…
Часть пятая ЧЕРНЫЙ, КАК АНТРАЦИТ
Сесть в тюрьму на пятнадцать лет только за то, что хватило мужества восстать против распоясавшегося хама и попытаться отстоять собственное достоинство, а ко всему еще и оказаться в застенках бывшего ГУЛАГа, где узников по сей день травят тухлой селедкой… — такое в страшном сне не каждому приснится, и именно с кошмарным сном Нина сравнивала свою жизнь, с тех пор, как ее подруга находилась в следственном изоляторе…
Едва разговор заходил об Аделаиде, как она теряла самообладание, срывалась с места, металась по квартире. Николаю иногда казалось, что еще одно слово, и она набросится на него с кулаками. Единственным виновником всех бед был он и никто другой. Сам обидчик, и тот ворвался в ее жизнь по его вине, ведь Вереницын принадлежал к кругу его деловых знакомых. В глубине души Николай, пожалуй, соглашался и с этим упреком. И он призывал на помощь всё свое терпение. Впрочем, Нина казалась ему настолько изменившейся за последнее время, что иногда он спрашивал себя, может быть, он вообще плохо знает свою жену? Ведь он считал ее человеком безвольным, теперь же был вынужден констатировать, что заблуждался по всем статьям…
Следователь уверял, что Аделаида Геккер получит срок в пятнадцать лет, если пострадавший, вот уже две недели пребывавший в коме, не встанет на ноги. Если выживет — восемь лет. Но не исключено, что всё может обойтись шестью или даже четырьмя годами. А если крупно повезет, то отсидеть придется каких-нибудь два несчастных года.
Что два, что десять… — Нина разницы не видела и оставалась глуха к доводам адвоката, сколько тот не старался ей внушить, что в прокуратуре с первого дня отказывались рассматривать версию, согласно которой огнестрельное ранение Аделаида Геккер нанесла сожителю в целях самообороны, а если и превысила допустимые пределы, то будто бы из-за угроз пострадавшего, приведших ее в состояние аффекта. Отказываясь смотреть правде в глаза, Нина по-прежнему тормошила его, Николая: стоит, мол, как следует надавить, не пожалеть усилий, и можно будет добиться полного оправдания подруги. В этой стране, мол, всё возможно.
Молодой адвокат, которого Николай нанял при посредничестве Шпанера, продолжал «просеивать мусор», как он уверял, всё еще пытался найти со следователем общий язык. И одно время тот действительно шел на переговоры, но затем отношения разом охладели. Вскоре и адвокат пошел на попятную: дело раздувалось неспроста. Откуда-то поступил заказ. К материалам дела в прокуратуре теперь категорически отказывались относиться критически. Направленность умысла и мотивы, которыми Геккер якобы руководствовалась, истолковывались превратно и пристрастно, упор делался сугубо на тяжесть вреда, причиненного пострадавшему. Следователь твердил одно и то же: превышение пределов необходимой обороны, то есть статья… Перспективы для Аделаиды вырисовывались всё более мрачные.
Николай с самого начала понимал, что на следователя будет оказываться давление, слишком хорошо он знал и самого Вереницына, и его окружение. Не мог же человек с таким социальным статусом не иметь заступников и доброжелателей. Догадки Николая вскоре подтвердились в полной мере: в прокуратуре объявили о решении продлить предварительное следствие с трех месяцев до шести. Докапываться до причин такой рьяности не имело смысла. Снять обвинение с Геккер — и получится, что пулю в живот бедняга Аристарх Иванович получил за дело. Но тогда возникал вопрос: за какие такие заслуги?
Хитросплетение статей, подпунктов, сроков и всевозможных юридических тонкостей, о которых не переставал говорить адвокат, Николаю всё больше казались непролазным темным лесом. С покорностью обреченного, который устал верить в химеры о спасении, он выполнял все требования жены. Пообещав ей перетрясти все имеющиеся у него столичные связи и найти способ влияния на следователя, чтобы добиться хотя бы законных уступок, в том числе разрешения на свидания, Николай обзванивал всю Москву. И сам немало удивился, когда после недели бесплодных звонков вдруг обнаружилась ниточка: один из однокашников работал в городской прокуратуре, где велось следствие по делу Геккер…
Через однокашника стали доходить кое-какие сведения. Подтверждались изначальные гипотезы. Дело кто-то держал на контроле. Буквально на днях из Генпрокуратуры наводили справки о том, кто и как ведет расследование. При таком раскладе однокашник не мог содействовать всерьез. Николай проявлял настойчивость. Он понимал, что время уходит впустую: пока они ищут управу на зарвавшегося следователя, тот мог успеть наломать дров, после чего уже никто не смог бы спустить дело на тормозах…
С того незапамятного вечера, когда всей компанией, вместе с Ниной и подругой, они были доставлены на Якиманку и по горячим следам допрошены, а затем все, за исключением Аделаиды Геккер, отпущены по домам, не загремев в кутузку лишь благодаря Филиппову, Николай жил в каком-то нереальном мире. Отчасти поэтому он и старался вести как можно более обыденный, рутинный образ жизни. С утра ехал в офис. Вечером, по возвращении домой, он не всегда мог вспомнить, на что потратил день. Обзванивал полгорода. Потом часами дискутировал с братом (благо, застрявшим в Туле). В промежутках — газеты, сигары, виски. Чтобы восстановить утраченный сон, Николай старался ограничивать себя в еде, и днем, и за ужином. Но в постель укладывался с ясным чувством, что ночь будет такой же нескончаемой, как и предыдущая. А когда среди ночи до него доходило, что нужно встать и принять снотворное, он ленился вылезти из-под одеяла и к утру, как всегда, жалел об этом.
Выходные дни Николай посвящал дочери. Но отцом себя не чувствовал. Голова была забита чем угодно, только не мыслями о ребенке. Когда он всё же отправлялся с дочерью в бассейн, в кино или по магазинам, чувство вины заставляло его просто сорить деньгами, без всякой меры. Что удивительно, в этом состоянии внутреннего разлада он всё же умудрялся любоваться зимой, утренним морозом, да и самой Москвой, хотя уже давно привык, как, впрочем, и все, поливать ее грязью. Теперь Николай вполне сознавал, что делал это только потому, что поддавался, опять же, как все, какому-то изнаночному суеверию — на всякий случай поносить всё то, без чего фактически невозможно представить себе жизнь.
Первое же свидание с Аделаидой, которого с трудом удалось добиться, оказалось для Нины еще более тяжким испытанием, чем недели ожидания. Из изолятора на улице Шоссейной — от одних названий улиц у Николая свинцом наливался затылок — она вернулась невменяемой, около часа сидела, уставившись в стену перед собой, а затем, когда вышла из транса, ее опять, как прорвало. На его голову посыпались старые упреки и обвинения.
В камере, где содержали Аделаиду, заживо «гноилось» еще двадцать женщин разного возраста. Вонища. Дым коромыслом, потому что курить разрешалось прямо в камере. Кормили какой-то немыслимой селедочной похлебкой. Передачи приносить разрешалось, пожалуйста, и даже до сорока килограммов в месяц: продукты, чай, сигареты. Стол в комнате для свиданий, перегороженный стеной из оргстекла, был размалеван такой похабщиной, о существовании которой Нина даже не подозревала…
Слушая жену, Николай чувствовал себя хамелеоном, который на глазах меняет цвет, чтобы слиться с окружающей средой, во всяком случае, с цветом своего любимого кожаного кресла, в котором он молча утопал всей своей мощью. Обволакивало чем-то давним, жутковатым. Не по себе вдруг становилось оттого, что все эти беспросветные стороны жизни он привык считать небылью. Сероватые советские будни давненько уже канули в Лету и окончательно вроде бы в ней растворились. Возможно, что отголоски громогласной эпохи, на закате своем мрачной до безнадежности, всё еще где-то напоминали о себе. Где-нибудь на Дальнем Севере, у черта на куличках. Иной раз обломки недавнего и, по меркам Николая, бесславного прошлого всплывали откуда ни возьмись на экране телевизора или бросались в глазах на улицах индустриальных провинциальных городов. Да в той же Туле, зачем далеко ходить! Но в Москве об этом все давно забыли. Столица отстроилась, отмылась от прошлого, перекрасилась. К тому же не все придерживались столь оптимистичного взгляда на вещи: старикам хуже казался день сегодняшний. Но как бы там ни было, зловонный отстой провалившегося в тартарары режима, от которого в воздухе нет-нет да и распространялся запашок сортира, по-прежнему, как выяснялось, наполнял жизненное пространство, причем даже здесь, в Москве, а отнюдь не за полярным кругом…
Прошлое всё-таки нагнало. Нагнала мгла. И в непроглядной темноте, как в бредовом сне, настоящее, прошлое и будущее — всё сливалось в одно сплошное месиво. Сквозь эту мглу мерещились какие-то проблески. Но настолько мимолетные, что хотелось проверить себя на вменяемость. Подставить голову под ледяную струю воды? Попросить кого-нибудь надавать оплеух? Что еще могло привести в чувство?.. Иногда Николаю чудилось, что до него начинает доходить какой-то глубинный смысл происходящего. Не может же так быть, что смысла нет вообще? И тогда он понимал, что первый шаг, с которого жизнь его покатилась по наклонной плоскости, — шаг, который привел к круговой поруке зла, постепенно опутавшей его с ног до головы, когда-то давно совершил он сам. Чувство вины перед дочерью и женой, поначалу абстрактное, немое, размытое, на время обретало четкие контуры; оно росло внутри, распирало, разъедало. Вину Николай испытывал даже перед подругой жены. Да что говорить — перед всеми на свете. Но объяснить, в чем конкретно его вина заключается, не мог бы… А потом всё возвращалось на круги своя: виноватыми снова казались другие, а не он сам. Или он опять кривил душой, опять обманывал себя?
Томик Евангелия в черном переплете с позолоченным крестом, который принадлежал когда-то матери и достался ему в октябре, когда он ездил на похороны, Николай начал листать вечерами с некоторой опаской. Во-первых, нелепо как-то констатировать: опомнился! А во-вторых, не хотелось признаваться в своей слабости и беспомощности. В его-то годы? Когда же он всё-таки отдавался бессознательному внутреннему порыву и начинал вроде бы вникать в содержание, то не мог сосредоточиться и читать подолгу. А позднее не мог опять не возвращаться к чтению. Прочитанное слишком западало в душу, и что неожиданно, — исподволь. Какое-то глубокое недоумение, до изнанки выворачивавшее нутро сомнение — сомнение в себе самом, — вновь и вновь заставляло его брать этот томик в руки, особенно по ночам, когда не удавалось уснуть и не хотелось маяться в постели наедине с собой, борясь с неудержимым потоком мыслей.
Львиная доля того, что он читал, вызывала одни вопросы. И чем дальше, тем — больше. И чем проще и яснее ему удавалось сформулировать их самому себе, тем всё более бездонными представлялись ему темы, которых они касались. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его?.. Да неужто не объяла? Как избавиться от разъедающего душу недоверия к своим чувствам? Где здесь крылись домыслы, вызванные неверием, каким-то незамеченным отравлением, медленно, но уверенно усугубляющимся от мизерных доз, получаемых годами и теперь дающих знать о себе? А где здесь настоящие мысли, те самые драгоценные крупицы истины, с которыми предстояло не просто считаться, а пересчитывать их, собирать их одну к одной, как те самые «зерна»? Жить с этим предстояло отныне, как с чем-то неотъемлемым, само собой разумеющимся.
Тот, кто делает злое дело, свет ненавидит и не тянется к нему, чтобы не вскрылись на свету дела его, потому что дела его злые… Не о нем ли сказано? Это и ошеломляло. Когда же он перечитывал притчи, некоторые по многу раз, то его преследовало чувство, что они непосредственно иллюстрируют его жизнь, но в то же время заставляют взглянуть на нее с какого-то нового, непривычного ракурса. Эпизод со слепым, притча о богатстве и деньгах… — разве всё это не случилось с ним самим? Чуть ли не буквально. И в то же время дух Нового Завета, особенно Евангелие от Иоанна, в чем-то глубоко иудейский, как казалось Николаю, потому что речь шла в конце концов о дилеммах иудеев, для него чуждых, которые вряд ли отзывались каким-либо рикошетом в его сознании… — в целом дух Евангелия приводил в растерянность. Он понимал, что с этим чувством нужно бороться, но не знал, как именно. Он старался внушить себе, что воспринимает что-то не так, как нужно. Но не знал, как научиться читать таким образом, чтобы смысл становился прозрачным и чтобы извлекать из прочитанного ответы на вопросы, а не наоборот. Николай ничего не мог с собой поделать…
Почему ученики, обращаясь к Нему, говорили Раввú? Не свидетельствовало ли это о том, что Христос был раввином, как утверждают иудеи? Однажды Николай где-то читал об этом… Зачем столько чудес на каждой странице? Почему в ответ на вопрос, прямо и однозначно заданный Ему, Христос ли Он вообще, действительно ли Он тот, появление которого предсказывают еврейские книги, — Он топит истину в аналогиях и в примерах? В то время как от Него все ждут одного — простого «да» или «нет», большего не требуется. Каким вообще образом сочетать христианство и иудейство? Могло ли христианство быть не иудейским? Почему все эти дилеммы должны сегодня раздирать на части именно его, Николая Лопухова? Ведь все эти противоречия не имели для него ровно никакого смысла? Не навязывают ли ему ответственность за чужие проступки и не заставляют ли его тем самым отдуваться за чужие грехи, рыться в чужой истории и ее черных страницах?
Хотелось простой и однозначной правды. Но правда предлагалась сложная, многогранная, нецельная, в каком-то смысле заумная и по сути бесполезная из-за несметного количества оговорок и поправок к ней, будто проект закона, необходимость которого очевидна любому идиоту, но перспектива утверждения сводится к нулю, потому что всяк хотел бы пользоваться этим законом по-своему. Зернышки правды приходилось выбирать из кучи плевел. Как перебрать вручную, да еще в одиночку, такое количество зерен? Бери — и помни…
Как пользоваться такой правдой? Где смысл? Где оно, то прозрение, которое якобы снисходит на человека, открывающего всё это впервые?.. Ничего такого Николай и близко не испытывал. Никакой сусальной радости и даже ничего похожего. Он чувствовал в себе одну горечь, одно недоумение. И еще, пожалуй, какое-то новое, всё нарастающее внутреннее ускорение, которое лишь усугубляло и обостряло потребность в остановке, в подведении итогов…
Филиппов, с первого дня не веривший в то, что следствие может быть объективным, отделывался одними рекомендациями, советовал побыстрее избавиться от школяра-защитника и найти «взрослого» адвоката. Помочь подследственной можно, мол, одним-единственным способом: методом давления на самого пострадавшего. Шума, разговоров, огласки такие, как Вереницын, стараются избегать. Бумаги же, попавшие в их руки в тот роковой вечер, представляли собой самый что ни на есть реальный компромат. Имя Николая фигурировало в документах неспроста. Хотя по этим бумагам не удавалось составить даже приблизительного представления о том, кто и на кого собирался наезжать. В чем сегодня не приходилось сомневаться, так это в том, что Вереницын был не тем, за кого себя выдавал. Он имел доступ к конфиденциальной информации, служебной и закрытой, но намеревался использовать эту информацию во внеслужебных целях. Этой картой Филиппов предлагал воспользоваться. Он ждал решения от самого Николая, надеялся, что тот опомнится, начнет думать о себе, о жене, о собственных неприятностях, ведь просвета и здесь пока не наблюдалось…
Николай второй месяц платил Филиппову двойную зарплату и разве что в ноги при всех не кланялся за преданность, равной которой не встречал за многие годы. После случившегося, раз уж Нина оказалась впутанной в темную историю, встал вопрос о пересмотре всех дальнейших действий в отношении сестры. «Кустарные» силовые меры, к которым по настоянию Николая прибегал Филиппов, впредь исключались. Он был убежден, что единственный здравый ход в сложившейся ситуации — официально обратиться в правоохранительные органы. Это позволило бы, на его взгляд, хоть частично легализовать их собственные шаги. Филиппов даже успел переговорить с сотрудниками следственной группы, и, как рассказал задним числом, приняли его там не без удивления.
В Московском ГУБОПе в буквальном смысле обиделись на то, что он столько времени занимался «самодеятельностью». О петербургских переговорах на ту же тему в Москве ничего не знали. В ГУБОПе советовали не тянуть с заявлением, предлагали помощь, гарантии, но никаких заслуживающих доверие сведений сообщить не могли. Кроме одного, но и оно кое-чего стоило: здесь, в Москве, имя Марии Лопуховой фигурировало в параллельном расследовании, которое было связано с похищением людей.
Поскольку в женевской полиции, с которой Филиппов вступил в январе в переговоры, с нескрываемой сдержанностью восприняли тот факт, что инициатива исходит от частного лица, а не от правоохранительных органов страны, тогда как речь шла о тяжком преступлении, о похищении человека, сотрудник Московского ГУБОПа придерживался твердого мнения, что Филиппов должен сразу задействовать Интерпол, и тут они могли вполне рассчитывать на поддержку. И пока Николай раскачивался, не зная, на что решиться, Филиппов поторопил события. Он связался с русско-швейцарским охранным обществом в Женеве, чтобы попытаться навести справки о паре, о которой говорил Четвертинов.
Вознаграждение за услуги, сразу перечисленное Николаем на счет охранного общества, оказалось прекрасным стимулом: уже через несколько дней из Женевы начали поступать нужные сведения. Подтверждалось, что пара живет в Женеве. Отец Мариуса Альтенбургера, еще недавно возглавлявший небольшой семейный банк, специализирующийся на промышленном инвестировании в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, проживает в Цюрихе. Семья состоятельная, на виду.
Подтверждались и сведения насчет ребенка. Недавно усыновленный парой, малыш жил с родителями в Женеве, на Плас Перрон, 7. Мариус Альтенбургер с женой и ребенком регулярно навещали мать и отца в Цюрихе…
Из всех этих сообщений, передаваемых устно через сотовую связь, вытекало, что о «силовых мерах», к которым Николай тяготел по природе своей, надлежало забыть раз и навсегда. Филиппов ждал дополнительной информации. Со дня на день ему обещали передать новые сведения…
Однажды поздно вечером в конце января позвонил из Тулы Иван. Почтальон принес им с отцом бандероль, надписанную незнакомым почерком и отправленную с незнакомого московского адреса. В коробке оказалась видеокассета. На пленке — множество непонятных кадров, отснятых в Москве и в Петербурге, а также за границей, похоже, во Франции. Мелькавшие в кадре лица — незнакомые. За исключением двух — Маши и Четвертинова.
Машу кто-то заснял в Летнем саду с детской коляской, затем входящей в подъезд жилого дома, прогуливающейся по Невскому проспекту с ребенком, которого она несла на груди в «кенгурушнике»… На Четвертинова же явно делался какой-то особый упор: для полной ясности его фотографию поместили отдельно в конце видеозаписи. Заснятый на видеокамеру фотоснимок лежал на раскрытой финской газете сбоку от небольшой статьи. И насколько Иван мог понять из ее контекста и других снимков, речь в заметке шла о каком-то необычном, чуть ли не сенсационном ДТП, которое произошло на юге Финляндии и повлекло за собой человеческие жертвы: нетрезвый водитель, российский подданный, на полной скорости врезался в бензоколонку. В числе жертв значился Четвертинов. Оставалось догадываться, какое это имело отношение к Маше…
Николай приехал в Тулу во вторник тридцатого января, первым утренним поездом. Стоял десятиградусный мороз. День выдался ясный. По лазурно-чистому небу медленно плыли ослепительно белые кучевые облака. В воздухе остро попахивало угольной гарью. Уже несколько лет ему не приходилось бывать в Туле зимой, и он был буквально околдован будничностью залитого солнцем и словно остекленевшего от мороза провинциального города.
Хотелось пройтись. Николай отправился коротким путем по знакомой улице, через которую отец обычно выруливал к вокзалу на своей «ниве». Город казался неузнаваемым. Повсюду мелькали незнакомые вывески. Вдалеке громоздились какие-то новостройки. Тротуар то тут, то там перекрывали незаконченные строительные работы. В глаза бросалась бедность — другая, не такая, как в Москве, слишком откровенная, обнаженная. Во всем проглядывало что-то безвременное и беспросветное. Осенью, когда весть о смерти матери свалилась как снег на голову, он не обратил на это внимания…
Ноги несли с трудом. Несмотря на то что сон свалил его вечером без таблеток, с середины ночи Николай не спал и теперь чувствовал себя на пределе сил, физических и душевных. Даже на минуту не удавалось собраться с мыслями, взять себя в руки. Он не мог избавиться от тоскливо-безысходного предчувствия, сосущего под ложечкой, которое сразу же и окончательно завладевало им, вопреки усилиям не распускаться, что дома у отца он услышит что-нибудь несусветное. От этого внутренности у него немели, а сердце поднималось к горлу, мешая дышать, смотреть, видеть и чувствовать. Он пытался направить мысли на что-нибудь отвлеченное, постороннее, но ничего не получалось. Опять и опять подкрадывался мучительный страх. Николай старался гнать его от себя, но безуспешно.
На всякий случай он решил позвонить отцу и вынул мобильник. Пришлось ждать, пока мимо проползет монстр-снегоочиститель, с ревом выгребающий грязный снег вдоль обочин. Мужества, однако, хватило признаться себе, что звонок с улицы — уступка малодушию. И пока он обозревал проезжую часть в поисках брода, не зная, как перейти через свеженавороченный вал из грязи и снега, не увязнув по колено, в нем проснулось новое неожиданное ощущение, от которого стало вдруг совсем не по себе.
Он был рад приезду. Вопреки всему на свете. Ничего роднее, чем эти залитые солнцем закопченные зимние улицы, он не знал. О себе заявила вдруг простая, чуть ли не бытовая правда о жизни, поистине сермяжная и звонкая, как удар ложкой по лбу. Та, что вселяется в душу безо всякой причины, и тогда даже всё самое худшее, самое беспорядочное и беспроглядное кажется мимолетным и надуманным.
Выбравшись-таки на проезжую часть, Николай опустил сумку на снег и махнул рукой, останавливая попутку…
Братья сидели перед телевизором в большой комнате и смотрели злополучную кассету на допотопном видеомагнитофоне, который Андрею Васильевичу одолжили соседи. Сам он, едва поздоровавшись с Николаем и не зная, как успокоиться, натянул свой рабочий офицерский бушлат и отправился во двор чистить снег.
Николай попросил брата еще раз перемотать кассету назад и внимательно, уже без пауз, просмотрел ее от начала до конца.
— Да, мне кажется, что тот, кто за всем этим стоит, решил идти ва-банк, — нарушил молчание Иван.
Николай долго раздумывал.
— Нет, на пушку нас брать перестали. Тут что-то другое… — произнес он наконец. — В каждом кадре названия улиц… Это чистая информация. Номера машин видны. Для чего-то всё это подсовывают. А эти морды?
Николай имел в виду то и дело мелькавших на пленке парней, причем одних и тех же. Одежда на них менялась. Это означало, что съемки велись с перерывом, в разные дни. Всего парней было четверо. Во всяком случае, заснятых специально. Всем — до тридцати. На вид — русские. Поочередно они появлялись в кадре в разные дни и в разных местах: на улице, перед подъездами жилых зданий. О том, что их снимают, они явно не подозревали. Съемка велась скрытой камерой. Место действия — то Москва, то Петербург, то незнакомые заграничные города. И Иван был, по-видимому, прав: если судить по названиям улиц, попадавшим в кадр, снимали, вероятнее всего, во Франции. По крайней мере, во франкоговорящей стране. Однако ни Николай, ни Иван не помнили точно, как выглядят такие вывески с названиями во Франции и в Швейцарии. Если же верить датам, которые просматривались на экране, съемки велись на протяжении примерно месяца: с конца ноября по конец декабря. То есть совсем недавно.
Два фрагмента привлекли особое внимание Николая. Просмотрев их несколько раз подряд, он пришел к выводу, что в первом эпизоде, который был датирован ноябрем, один из молодчиков выходит из подъезда Машиного дома в Сокольниках. В эту квартиру сестры Николай и ногой не ступал. Но он был уверен, что не ошибается. Тут же будто бы случайно демонстрировался подхваченный камерой кадр с Машиной улицей, название которой сфокусировали явно намеренно. Такие аккуратные новые вывески красовались теперь на каждом здании Москвы. Оставалось показать пленку Филиппову. Николай нисколько не сомневался, что Филиппов подтвердит его выводы, как только просмотрит всю «хронику». Второй фрагмент начинался с кадра, наведенного на подъезд дома, и, судя по аналогичной видеоподсказке, съемка велась уже в Петербурге, на Карповке, куда Филиппов поехал однажды, чтобы тайком осмотреть Машину квартиру.
— Если узнать, кто эти люди, будет понятно, зачем прислали кассету, — заключил Николай.
— И кто стоит за шантажом из твоих клубных знакомцев… — добавил Иван. — Хотят, чтобы мы быстрее шевелились?
— Не знаю… Не думаю, что что-то станет ясно. Хотя, черт его знает… — Николай растерянно умолк.
— А этот тип… Четвертинов, в конце?
Николай рассеянно посмотрел на брата и произнес:
— Вот что, Ваня, давай не будем зря время терять. Всё это должен увидеть Филиппов. Пообедаем, и я возвращаюсь.
За обеденным столом всё больше молчали. Николай попросил водки. Иван принес графинчик, но сам, по примеру отца, от водки отказался, предпочитал вино. После обеда Николай принялся названивать Филиппову. Тот мотался по Подмосковью, и телефон его был недоступен, но Лопухов не оставлял попыток дозвониться. Иван вышел во двор помочь отцу распилить бревно, еще с лета заготовленное на дрова. Они выкатили его из-под толевого навеса за сараем и, дружно подсадив на козлы, стали ловко орудовать двуручной пилой. Сосновые чурки отскакивали в сторону одна за другой.
Посасывая сигару, Николай наблюдал за братом и отцом с веранды. Он видел, что их объединяет теперь что-то новое, чего он не замечал прежде. И это почему-то раздражало. Николай еще острее чувствовал натянутость своих отношений с отцом. Они не могли смотреть друг другу в глаза. Отец считал его болтуном, корил за невыполнение обещания, которое чуть ли не под пытками вырвал из него осенью. Получалось, что он, Николай, опять кругом виноват. И тут же, не раздумывая, ему хотелось всё исправить, попытаться нагнать упущенное. Но как он мог теперь что-то отцу обещать?
Вечером братья уехали в Москву. Кассету просматривали на Солянке уже втроем, вместе с Филипповым. Прихлебывая красноватый «Эрл грей», Филиппов долго отмалчивался, много раз отматывал пленку назад, внимательно разглядывал отдельные фрагменты записи и наконец высказал свое мнение. Как и Николай, Филиппов считал, что всё это «кино» предлагалось Лопуховым не для того, чтобы их шантажировать, а с целью обличить тех, кого сняли на пленку. Одна из физиономий, мельтешивших в кадре, была Филиппову знакома. Именно этого субъекта он «проводил» до Карповки в тот день, когда Маша назначила им первое и последнее рандеву на Миллионной.
— Меня волнует во всей этой истории только Маша, — гневно произнес Николай. — Бегать за этими ублюдками я не хочу, постарайся это понять…
— Всё это подтверждает мою первую версию, — сказал Филиппов, не реагируя на раздражение босса. — Тогда нас пытались пустить по ложному следу. Разве это не было ясно с самого начала? Так что в принципе ничего нового.
— Для чего пленку в Тулу посылать? — недоумевал Николай. — Почему, если эти люди так информированы, мне ее в Москву не отправили, может мне кто-нибудь объяснить?
— Есть наверное причина. Но сейчас это не имеет значения, — ответил Филиппов. — Это тоже косвенно указывает на информированность. На месте автора пленки я тоже постарался бы выглядеть всезнающим. Иногда, к примеру, бывает проще указать на настоящих виновников преступления, предъявив доказательства их вины, чем оправдать себя. Возможно, это как-то связано с выбором адреса передачи пленки.
— А обратный адрес? Может, всё-таки проверить? — спросил Николай.
— Липовый… Но я проверю.
На взгляд Филиппова, вся съемка, хотя она и представляла собой беспорядочную нарезку кратких эпизодов, была сделана чисто, без монтажа и купюр. Снимал профессионал. Во всяком случае, человек, обученный скрытой съемке, поскольку эта непростая работа требует определенных навыков и даже мастерства. А в данном случае съемка велась любительской камерой и, если присмотреться, зачастую из машины…
Филиппов пытался дозвониться знакомому подполковнику из Петербургского ГУБОПа. Но тот уехал в командировку и передал, что вернется только к концу недели. Задействовать Глебова? Кто, как не Дмитрий Федорович, мог получить сведения о похождениях Четвертинова в Финляндии, о которых шла речь в конце записи? Обращение к Глебову за помощью Николаю казалось естественным. Но младший брат наотрез отказывался звонить ему сам. Филиппов встал на сторону Николая. Данный шаг мог многое ускорить. Скрепя сердце, Иван сдался… Однако найти Глебова не удалось. Всё, что смог пообещать секретарь, так это передать ему сообщение.
Дмитрий Федорович позвонил через день. Он находился за границей, в другом полушарии, как он туманно пояснил. Внимательно выслушав Ивана, воздерживаясь от комментариев, да и ничего толком не обещая, вместе с тем ничему вроде бы и не удивляясь, Глебов попросил, не откладывая дела в долгий ящик, передать кассету в Петербург лично в руки Рябцеву, с которым Иван познакомился в храме на Пушкарской. Глебов пообещал предупредить его, а затем дать знать, как только сможет что-нибудь выяснить…
Ничего другого не оставалось, как отправить копию кассеты с Ниной. Как раз утром она собиралась везти дочь на занятия в Питер. Однако Николай запаниковал. Как можно отпустить их в Петербург с таким посланием? Филиппов предлагал не пороть горячку. Зачем впутывать Нину? Он и сам мог успеть на ночной поезд и лично отвезти кассету. Препроводить обеих в Петербург мог и Андрюша, помощник Филиппова. Немного успокоившись, Николай решил, что не будет ничего страшного, если кассету отвезет Нина…
Михаила Владимировича Рябцева Нина на месте не застала. Служба уже закончилась, но посетители не расходились, многие продолжали толпиться перед алтарем. Не зная, к кому обратиться, Нина решила выйти на улицу к Андрею, который дожидался их перед входом, и попросить его позвонить мужу. На выходе она всё же поинтересовалась у одной из прихожанок, с которой многие здоровались, не знает ли она, как найти Рябцева. Та пообещала выяснить.
Нина вернулась к дочери. Некоторое время они продолжали стоять возле свечного ящика, с растерянностью наблюдая за очередью, которая быстро продвигалась к аналою с иконой. После прихожане подходили приложиться к кресту. Крест держал перед собой более чем преклонных лет священник с длинными седыми волосами. Вид у батюшки был измученный.
Уткнувшись взглядом в группу детей, отходивших от креста, Нина словно опомнилась. Она направилась в конец очереди и, маня за собой дочь, как и все, подошла к кресту, а после того как приложилась, решила задержаться еще немного. Кивком она опять позвала Февронию (Нина неожиданно для себя подметила, что, когда дочь была ребенком, она никогда не отказывалась подойти к кресту, это произошло впервые…), и вместе они отошли в уединенный левый придел. Оттуда и наблюдали, как другой священник, молодой, направился к аналою в приделе напротив. Под низкими, слабо освещенными сводами его дожидались человек тридцать. Как один священник мог обслужить такое количество прихожан за вечер? Как принять исповедь у такой толпы?
Очередь у креста постепенно рассосалась, и престарелый батюшка, тяжеловато шаркая ногами в войлочных тапочках, направился к дьяконским вратам и исчез в алтаре. Вскоре его опять вызвали. В двух шагах от Нины двое бородачей и группа молодых людей о чем-то с ним договаривались. Старый священник кивал, задавал вопросы. В его речи чуткий слух Нины уловил легкий акцент. Разговор шел о погоде, о зиме где-то на севере, о каких-то еще пустяках. Вдруг Нину осенило, что этот старик с белоснежными волосами и есть тот самый владыка Ипатий, с которым Иван недавно познакомился и о котором как-то ей рассказывал.
К Нине приблизилась знакомая прихожанка и указала на одного из мужчин, стоявших перед владыкой. Это и был Рябцев. Рослый, чернобородый, непритязательно одетый, Рябцев, предупрежденный о появлении Нины в назначенное время, как только понял, кто перед ним, тепло поздоровался с ней и Февронией и теперь не сводил с обеих вопросительного взгляда.
— Вот. Это вам… — спохватилась она и протянула Рябцеву сверток; что именно в нем находится, она не знала.
Михаил Владимирович взял пакет и пригласил их с дочерью на чай в трапезную. Нина поблагодарила и отказалась.
Закончив беседу с молодыми людьми, владыка Ипатий направился в алтарь, но вскоре вернулся и стал исповедовать лысоватого мужчину средних лет, по виду иностранца. Преклонив перед священником колени, тот быстро и тихо говорил что-то, склонив голову. Владыка внимательно слушал. Получив прощение и благословение, иностранец встал с колен, поблагодарил и направился к выходу.
Нина и сама не знала, что ее подтолкнуло. Воспользовавшись тем, что владыка был один, она шепотом попросила дочь ждать ее на выходе, а сама подошла к Ипатию, извинилась и спросила, не может ли он ее исповедовать.
— Могу, — ответил тот, взглянув на нее пытливо и добродушно.
Нина невольно отметила про себя, насколько усталым выглядит владыка: худое бледное лицо с правильными чертами осунулось, под глазами пролегли глубокие тени, лоб покрывала испарина.
— Вы извините… Я бы очень хотела… — смущенно вымолвила она. — Вы наверное устали?
— Устал, — признался владыка, не сводя с неизвестной просительницы приветливого взора. — А вы готовы?
— К исповеди? — Нина окончательно оробела. — Не знаю…
— Вы лучше завтра приходите, прямо с утра, — сказал владыка. — Я отдохну. А вы сможете приготовиться.
— Я даже не знаю, вправе ли я просить об этом… К вам столько людей обращается, могу представить.
— Не так уж и много, — ответил владыка. — Вы пораньше приходите. Чтобы нам не мешали…
В восемь утра, несмотря на то, что до начала литургии оставалось около часа, в храме было довольно людно. Волнуясь еще больше, чем накануне, потому что уверенности в том, что она действительно готова к исповеди, у нее — как не бывало и, кроме того, заранее стыдясь, что придется раскрыться перед совершенно незнакомым человеком и говорить о вещах в основном неприглядных, а значит, и неминуемо уронить себя в его глазах, Нина предпочла написать всё на бумаге, — именно такую рекомендацию давали в маленькой православной брошюрке, которую она однажды купила для дочери.
Список изначально занимал страницу. Она решила переписать его, сократить. Но ясности от этого нисколько не прибавилось. В конце концов Нина остановилась на том, что ей казалось наиболее важным, а точнее, наиболее неприятным в ее собственных глазах, и переписала всё начисто крупным и аккуратным почерком…
Владыку Ипатия она ожидала увидеть в правом приделе. Но там исповедовал другой священник, молодой и краснолицый. В полной растерянности Нина осталась стоять в стороне. Вдруг вышедший из алтаря молодой человек в стихаре направился прямо к ней.
— Здравствуйте! Владыка предупредил, что вы придете, — сказал он. — Он вас ждет. Подождите минутку, он сейчас выйдет.
Как незнакомый человек мог ее узнать? Это казалось слишком необычным. Мучила неловкость, что пожилой священник вынужден уделять особое внимание ей одной. С какой стати? За какие заслуги? В следующую секунду из дьяконской двери вышел сам владыка.
— Ну вот, — сказал он приблизившись. — Хорошо, что пришли…
— Вы ради меня… одной? — окончательно смутилась Нина. — Извините… Я не знала.
— Вы подготовились? — серьезно спросил владыка. — Пойдемте в левый придел, там поспокойнее.
Почти в полной темноте там тоже стоял аналой для исповеди. На аналое лежали крест и Евангелие. Здесь не было ни души.
Владыка спросил, как ее зовут. Нина назвалась.
— Как давно вы исповедовались в последний раз?
Нина ответила, что исповедовалась всего три раза в жизни, а в последний раз два года назад и с тех пор в церковь не ходила, только заглядывала, как все, на Пасху, чтобы освятить куличи и яйца.
Владыка выглядел расстроенным. Он произнес начальную молитву и, увидев в руках Нины листочек, который она не решалась протянуть ему, попросил ее прочесть вслух, так как плохо видел при слабом освещении… Она стала читать, стараясь не торопиться, но поневоле задыхаясь от волнения и от подступавших к глазам слез. Возможно, именно от волнения Нина вдруг забыла о бумажке и, вместо того чтобы читать, полушепотом заговорила по памяти, тихо и внятно пересказывая свой список. Она говорила с такой откровенностью, какой никогда еще не позволяла себе с посторонним человеком.
Владыка внимательно слушал и ни разу ее не перебил. И когда она умолкла, он взял ее за руку и тихим голосом, с каким-то особенным выражением произнес:
— Мне всё понятно. Вы совершили ошибку, грех. Но ведь грех греху рознь. Чувства свои вы направили не туда, куда сами хотели. Подарили их не тому. Мне кажется… — владыка помедлил и даже вроде бы задумался, стоит ли продолжать. — Мне кажется, вы извратили, по слепоте душевной, свою любовь к Божьей Матери.
Сформулировано это было настолько однозначно и откровенно, что Нина на миг опешила. Она в отчаянии закивала головой, давая Ипатию понять, что сознает это, и замолчала, до глубины души пораженная. Слово «извратила» с трудом удавалось переварить, но боль, названная своим именем, вызывала такое чувство, будто ее можно смять в комок и отбросить от себя подальше, как нечто инородное, ненужное.
— Плохо, это всё очень плохо, — подытожил владыка. — Однако поправимо.
Нина сказала, что, в общем-то, не знает, как ей быть. Исповедоваться в перечисленных грехах ей хотелось не для того, чтобы быть прощенной, чтобы избавиться от них и забыть об их существовании. Совсем наоборот. Она предпочла бы даже носить грехи эти в себе непрощенными, в напоминание, настолько глубокий внутренний разрыв она чувствовала в себе по отношению к содеянному. Она не хотела безнаказанности.
— Вы мне грехи отпýстите. И на этом всё закончится. А я предпочитаю жить с этим, с правдой. Чтобы помнить о том, что было, — добавила Нина, в медлительности владыки угадывая несогласие.
Владыка грустно покачал головой.
— Есть правда, а есть истина. Не путайте эти понятия. Самобичеванием вы себя только измучите. Сначала нужно освободиться от неправды, и истина сама откроется. Всякий, творящий грех, есть раб греха. Понимаете это?
— Да… кажется, понимаю.
— Вы молитесь?
— Редко.
Владыка понимающе кивнул, по-прежнему ни в чем ее не осуждая. Она это чувствовала, и это было совершенно ново и неожиданно.
— А Божьей Матери вы когда-нибудь молились?
— Нет, никогда.
Владыка помолчал с таким видом, будто размышлял над чем-то, даже для него самого неоднозначным и требующим усилий памяти или воли.
Нина боялась пошелохнуться.
— Вы попробуйте, — попросил он. — Боль ваша утихнет. Доброта Ее безгранична. Милосердию Ее нет предела. Сам я в этом столько раз убеждался.
— Обязательно… попробую, — задумчиво ответила Нина. — Я хотела вас спросить… У меня бывает, я не знаю, как это объяснить… Я редко читаю молитвы, но когда читаю, я постоянно плачу. Ком появляется в горле, и плачу. Что это значит? Ведь это не просто нервы? Что делать?
— Вас захлестывает волна сожаления?
— Не знаю… Что-то такое, я не могу удержаться. Я и в храм заходить боюсь, потому что непременно расплачусь на виду у всех.
— Вы чувствуете, что, когда вы просите, вы получаете всё сразу и больше, чем просили, и вам совестно?
— Да, больше, чем я прошу! Да! — подтвердила Нина. — Хотя… не знаю, — тотчас же отреклась она от своих слов.
— Вы в монастырях бывали когда-нибудь? — помолчав, спросил Владыка.
— Нет, по-настоящему нет. Заходила, но так… из любопытства.
— В Петербурге?
— В Москве… Я в Москве живу.
— Съездите в Оптину Пустынь… Есть такой монастырь под Калугой. А рядом, неподалеку, и Шамординский, женский.
— Просто так? Приехать и что?
— В Шамордино спросите матушку Амвросию, игуменью. Скажите, что я вас послал…
Владыка говорил медленно, речь его лилась спокойным прозрачным ручьем. Теперь он рассказывал о вещах скорее незначительных, как Нине казалось. До ее сознания долетали лишь обрывки фраз, и у нее появилось чувство, что обращаются вообще не к ней, а к кому-то другому. В голове стало гулко и пусто. А в душе опять поднималась какая-то гарь, опять что-то тлело внутри от жгучего стыда. Стыдно было даже не за то, что она не в состоянии сосредоточиться и заставляет пожилого человека делать над собой усилия. Неловко было за свою внутреннюю грязь, к которой пришлось прикоснуться постороннему человеку. Стыдно было за всё. Новое, какое-то всеобъемлющее чувство вины и сожаления охватило ее с необычайной силой.
— Главное, не волнуйтесь, — сказал владыка, опять улыбаясь одними глазами. — Всё будет хорошо. Главное, не обманывайте себя… Не греши больше! — повелительно провозгласил он и, накинув Нине на голову епитрахиль, дал ей опуститься на колени и стал читать разрешительную молитву…
Поездом она доехала до Калуги. От вокзала добиралась на автобусе. О ее приезде в Свято-Амвросиевскую пустынь — девичий монастырь под Шамордино, — куда она отправилась через неделю после возвращения из Петербурга, никто не был предупрежден. Но как только она спросила на входе, как найти мать Амвросию, настоятельницу, и объяснила, что благословение на поездку получила от владыки Ипатия Величкова, ее сразу же провели по длинной аллее вглубь огромного, как Нине показалось, старинного монастыря.
Две женщины в платках шли навстречу с подносами, несли свежий хлеб. Когда они приблизились, от буханок пахнуло терпким, кисловатым духом дрожжевого теста, напомнившим что-то давнее, хорошее, размывшееся в памяти.
Светлые лица монахинь, провожавших Нину к настоятельнице, тоже удивляли своим спокойствием и беззаботностью. В их обществе она сразу почувствовала себя легко. Но подстегивал стыд. Всё тот же зудящий стыд за себя и за всех, кто жил вне этих стен. Ей вдруг казалось, что она в чем-то обманывает этих женщин, воспользовавшись их простодушием. И неожиданно для себя она подумала: а что, если бросить всё и поселиться здесь, и быть как они, как эти монахини? Есть каждый день монастырский хлеб. Жить в простоте, в чистоте, без этого липкого налета, от которого в привычном, нормальном мире всё равно не отмоешься. В грязи придется сидеть всегда. В Москве, дома, везде… И действительно, как ни всматривалась она в себя, она вдруг не находила ни единого незапачканного уголка в своей душе. Внутри налета было даже больше, чем снаружи. Что-то навсегда утраченное, не такое чистое, как прежде, она угадывала даже в жизни дочери, в ее детском секретничании, в их изменившихся отношениях, и в то же время — о, парадокс — что могло быть для нее дороже на свете?..
Мать Амвросия, настоятельница, встретившая Нину на крыльце, оказалась довольно молодой женщиной, не больше сорока. Высокая и синеглазая, с головы до пят в черном, с той же, как у монашек, молочной бледностью лица, — на нее сразу почему-то хотелось смотреть не сводя глаз.
Она пригласила Нину пройти вовнутрь. Миновав тихий душный коридор, они вошли в тесное, скромно обставленное помещение. Не то личный кабинет, не то келья. Настоятельница предложила присесть. У стола стоял единственный в комнате венский стул.
— Ничего, я не устала, — сказала Нина, благодарно улыбаясь, и вдруг добавила: — Мне вдруг подумалось, что хорошо бы жить, как вы… — Переведя дух, она от смущения потупилась.
Мать Амвросия посмотрела на нее с удивлением.
— Мне тяжело жить… там. Я всегда это чувствовала. Я всегда боялась признаться себе в этом, не знала, как быть… — без преамбул заговорила Нина. — С чего начинать? В моей семье… Нет, этого нет… Вы извините меня… Это правда, в душе я всегда мечтала о такой жизни, — сбивчиво продолжала она. — Но я ничего о ней не знаю.
— Вы наверное поэтизируете нашу жизнь, — предостерегла настоятельница. — Жить в монастыре нелегко, это труд, большой труд. Не все на это способны. Даже если кажется, что хорошо было бы так жить. Не каждый человек способен полностью отрешиться от внешнего мира, несмотря на искренний порыв своего сердца.
— Вы считаете, что я… — Нина осеклась, понимая, что ждала каких-то других слов; мягкий голос игуменьи звучал как-то слишком буднично. — Тогда что мне делать?
Игуменья на миг придержала ее теплым сочувственным взглядом:
— Буду откровенна с вами… Разве это ваш мир? — спросила она.
Казалось странным, что игуменья могла сделать столь категоричный вывод сразу, даже не углубляясь в разговор, не дав сказать всего.
— Тогда… можно я тоже буду откровенной?
Игуменья одобряюще смотрела ей прямо в глаза.
— Тот мир тоже не мой. Там… там нечем дышать. И не к кому обратиться. А когда я всё же пытаюсь, все не так меня понимают.
— Нужно найти этот мир в себе. Если вы сможете изменить свою внутреннюю жизнь, мир вокруг тоже изменится.
— Да, так говорят… Я читала об этом, — Нина разочарованно вздохнула. — Якобы это типичная ошибка многих людей. Даже тех, кто ищет выход… по-настоящему. Уделять внимание только себе — это просто. Но под предлогом своего… своего спасения многие забывают о спасении других… недостаточно об этом думают.
Игуменья сразу согласилась с ней:
— Правда, это распространенная беда. Но всему свое время. Ребенок, до того как он начинает носить обычную одежду, спит в пеленках.
— Вы хотите сказать, что я еще не доросла?
— Я этого не сказала… Решение, настоящее решение, приходит к человеку само. Нам дана свобода выбора, возможность решать, что для нас лучше, если хотите, — с заминкой добавила игуменья. — Но сами мы решения не принимаем.
В голове у Нины была теперь еще большая путаница. Прямота и особенно тон, которым столь важные вещи говорились как нечто само собой разумеющееся, — всё опять казалось слишком непривычным.
— На этом я далеко не уеду, — вновь вздохнула Нина.
— Я почему-то уверена, что, когда вы вернетесь домой, в душе у вас что-то прояснится. Само собой. Так часто бывает, — подбодрила игуменья, и лицо ее озарилось теплой, женственной улыбкой. — Главное, не бояться совершить первый шаг, набраться мужества. Перед лицом такой безысходности, которую вы чувствуете и описываете, и лед трогается.
— Сейчас всё прояснится? Когда я вернусь в Москву? — удивилась Нина.
— Так часто происходит.
Нина изучала игуменью с некоторым недоверием, словно боялась поверить ее прогнозу.
— Но ведь у человека… у такого человека, как я, на душе столько, столько всего наросло, — пересилив себя, произнесла она.
— Бог милостив. И у Него своя мера… Главное, не забывать об этом. Жить чисто не сложно, это только кажется. Достаточно захотеть этого… У вас получится, увидите. А к нам обязательно приезжайте. Можете даже пожить несколько дней. Только позвоните заранее, чтобы мы могли приготовить место. Сейчас я вам запишу телефон… Или вы сейчас хотели остаться?
— А вы как считаете? — помедлив, спросила Нина. — Что лучше?
— Можете остаться на пару дней… — Мать Амвросия на миг в чем-то усомнилась. — Подождите, я позвоню…
В воскресенье рано утром Николая разбудил звонок отца. В Тулу только что позвонила Маша. Откуда именно — отец не понял. Разговор длился две-три минуты, и от растерянности он даже не успел ее ни о чем расспросить. Всё, на что его хватило, это записать номер телефона, по которому Маша просила ей перезвонить — сотовый, нероссийский, с международным кодом. Попросив передать номер срочно Николаю, Маша пообещала перезвонить в течение дня или, в крайнем случае, на следующий день…
Дозвониться сестре Николай так и не смог. Голос-автомат, отвечавший по-французски, предлагал оставить сообщение. А номер телефона оказался вовсе не французским. Филиппов, сразу же предупрежденный Николаем о происшедшем, перезвонил вскоре на Солянку и сообщил, что SIM-карта, с которой Мария звонила в Тулу — швейцарская, равно как и международный код, который Маша продиктовала отцу…
Сомнения разом рассеялись. Другого выхода не осталось: следовало немедленно обратиться в полицию, будь то в Швейцарии, во Франции или вообще на краю света, — это казалось теперь очевидным.
Но как это осуществить? Звонить в справочное бюро, чтобы перенаправили на телефонную службу какой-нибудь централизованной штаб-квартиры? В какую именно звонить полицию? С ходу в криминальную? Куда именно — в Париж, в Женеву? Рыться в Сети и искать порталы силовиков?.. Всё воскресенье Николай обзванивал знакомых в надежде, что удастся прийти к какому-нибудь решению.
Помог в конце концов Мачабели. Его двоюродный брат жил в Париже и был женат на дочери отставного французского чиновника, всю жизнь проработавшего в Renseignements Généraux — нечто вроде охранного отделения при французском МВД, как объяснял Мачабели. Это отделение специализировалось на подпольных рейтингах, массовых беспорядках и надзоре за доморощенным экстремизмом. Мачабели заверял, что через кузена и его тестя сможет получить как минимум дельный совет. И к концу дня ему действительно удалось кое-чего добиться. Кузен поговорил со своим французским родственником. Тот согласился сориентировать, к кому обратиться, но нуждался в дополнительных сведениях.
В тот же вечер Филиппов смог переговорить по телефону с неким Жан-Пьером. Француз отрекомендовался помощником начальника Центральной криминальной полиции Парижа, некоего Вердавуана, и уверял, что уже успел поговорить с патроном. Комиссар Вердавуан проявил готовность встретиться с родственниками разыскиваемой и обсудить всё детально, поскольку же был очень занят, просил заранее назначить дату и время встречи…
Николай прилетел в Париж во вторник утром. Филиппов его сопровождал. Комиссар назначил им встречу в кафе на бульваре де Гренель. Вердавуан приехал со своими помощниками — тем самым Жан-Пьером, жизнерадостным бритоголовым атлетом в джинсах и кожаной куртке рокера и рослым сенегальским негром по кличке Вендреди, то есть Пятница. Последнего оба француза третировали как могли.
Комиссар изложил прилетевшим свой план действий: он брал на себя проверку полученных от Лопухова и Филиппова сведений, а также «сбор» нужной информации, которой предлагал обмениваться с ними во время регулярных встреч в городских кафе. Николай ответил согласием, выбора им всё равно не предлагали…
Каждая такая встреча длилась, как правило, не больше часа. По-английски Вердавуан говорил бегло, но с французским выговором. Чуть больше пятидесяти, с глазами настоящего трагика былых времен, печальными, влажными, с поволокой, Вердавуан разглядывал их каждый раз каким-то новым взглядом. Его особенно интересовали поездки Марии в США и круг ее знакомых. Профессионал, — Филиппов сразу отдал этому должное.
Еще в первую встречу Вердавуан пообещал без проволочек и без официального запроса провести небольшое предварительное расследование и, судя по количеству подробностей, которые где-то добывал к каждому новому рандеву, даром времени не терял. Однако тот факт, что видеться с ним приходилось в уличных забегаловках, «без галстуков», как пошучивал Филиппов, повергал Николая в сомнения. Ему казалось, что их просто обрабатывают как неких заезжих оппозиционеров, от которых непонятно чего хотят добиться в обмен на ничего не стоящие услуги. Поэтому Вердавуан и соблюдал конспирацию? Что, если прав Филиппов? Еще в Москве, пытаясь его растормошить, Филиппов убеждал, что никакая полиция не начнет чесаться, пока не будет официального запроса; повсюду им будут просто морочить голову, не зная, как отвязаться, и этим всё закончится.
Не до конца полагаясь на энтузиазм Вердавуана, Филиппов успел увидеться с русскоязычным адвокатом на Фобур Сент-Оноре. Адвокат Мендельсон предлагал свести их с кабинетом частного розыска, которым руководил русский эмигрант и бывший спецслужбовец. Но Николай предпочел повременить с этой мерой, опасаясь, что Вердавуан — его нельзя было не поставить в известность о предпринимаемых шагах, — решит, что ему просто не доверяют и, чего доброго, обидится и растеряет весь свой пыл…
В субботу утром комиссар позвонил по гостиничному номеру необычно рано, еще не было половины девятого. Он попросил Николая приехать к часу дня в брассерию напротив центральной префектуры, ему хотелось еще кое-что уточнить. Перед тем как положить трубку, Вердавуан прибавил, что рассчитывает на присутствие Филиппова. Напоминание показалось странным: на встречи Лопухов с Филипповым всегда ездили вдвоем.
Комиссар и помощник Жан-Пьер только что пообедали. Пожилой официант в белом до пола переднике убирал со стола посуду. Вердавуан предложил всем выпить кофе. Вдогонку гарсону Николай попросил рюмку коньяку, лимон и щепотку соли. Официант так и не понял, для чего нужна соль, с соседнего стола он переставил столовый прибор с солонкой, перцем и горчицей и уже через минуту вернулся с заказом.
Заинтригованно проследив за тем, как Николай, залпом вылив в рот коньяк, посыпал лимон солью и с хрустом, даже не поморщившись, разжевал дольку как есть, с кожурой, комиссар извлек из конверта стопку фотографий размером с лист бумаги и стал их раскладывать как пасьянс. Зачем комиссар заставлял разглядывать каких-то заморенных жизнью молодых особ? У всех вид преступниц. Каждой не больше тридцати. Лица незнакомые, но бросалось в глаза что-то схожее, всех их роднившее.
Наконец до Николая дошло, что отсутствие резкости на снимках объяснялось тем, что они пересняты с фотографий, вклеенных в паспорта. На некоторых отчетливо просматривались кругляши печатей. Штампы получились такого размера, будто их отбивали стаканом для виски.
Николай, сделав глоток кофе, бросил взгляд на очередной снимок и окаменел. Филиппов, в неменьшем замешательстве, едва заметно отпрянув, вопросительно уставился на французов. Николай поставил чашку на стол и не отрывал глаз от снимка сестры.
— Я знал, что это Мария, — сказал Вердавуан таким тоном, будто только теперь мог позволить себе говорить с ними как с нормальными, вменяемыми людьми. — Пожалуйста, не обижайтесь за этот театр, — извинился он по-английски. — Нужно было проверить, вы понимаете?..
— Откуда это? Из ваших картотек? — выдавил из себя Николай.
— Я дал ребятам поручение проверить, и вот… — Вердавуан кивнул на своего атлета, с отсутствующим видом разглядывавшего стайку женщин за окном. — Мадемуазель Лопухова пересекла границу в декабре, — сказал Вердавуан. — На этот счет нет никаких сомнений.
— Какую границу?
— Нашу.
— В Женеве? — уточнил Филиппов.
— Да, в Женеве. Швейцарской визы у нее не было. Только наша.
— Объясните, не понимаю, — вымолвил Филиппов.
— В Женевском аэропорту есть два выхода. Один на швейцарскую территорию, другой — в наш сектор, к нашей таможне. По прилете можно попасть сразу на французскую территорию, а можно на швейцарскую. Очень удобно… для тех, кому нужна виза на въезд в Швейцарию. Не исключено, что мадемуазель Лопухова всё это время находилась здесь, во Франции, — подытожил комиссар, — а не в Швейцарии, как вы думали.
— Почему вы говорите находилась?
— Находилась или находится… Что это меняет?
— Я, в общем-то, тоже так думал, — неожиданно поддержал Филиппов комиссара.
Окончательно теряя нить разговора, Николай не успевал следить за реакцией собеседников.
— С номера, который вы мне дали, сделаны звонки в Москву, Лондон, Нью-Йорк, — сказал Вердавуан. — Но уже три дня с этого телефона не звонили.
— И у вас есть номера? По которым звонки сделаны? — спросил Филиппов.
— Я не говорю, что звонила именно мадемуазель Лопухова, — предостерег Вердавуан. — Поймите меня правильно… Это же нелегально. Абонент швейцарский. Я по дружбе попросил проверить. Но не могу же я выдать вам досье на руки.
Филиппов что-то молча обдумывал. Судя по виду, он не до конца верил комиссару.
— Могли бы вы съездить с нами в одно место… для опознания? — спросил Вердавуан. — Процедура не из приятных. Но это совершенно необходимо. Многое тогда упростится. Тело в больнице.
Николай непонимающе уставился на Филиппова.
— Труп? — переспросил тот.
— В больницу привезли в коматозном состоянии. Сделать ничего не смогли. Тело в морге, — сказал Вердавуан.
— Прямо сейчас? — спросил Филиппов.
— Суббота, пробок нет. Ехать минут двадцать, не больше. А потом Пьеро вас отвезет, куда скажете.
Николай хотел возразить. Филиппов жестом остановил его.
— Мы согласны, — сказал он.
— Тогда не будем терять время…
Жан-Пьер — Пьеро, как называл его комиссар, — сел за руль серебристого «пежо». Машина вырулила на правый берег Сены.
— Тело обнаружили в «Новотеле», рядом с Руасси. Я имею в виду аэропорт. В гостинице решили, что у клиентки припадок, что она в обмороке, — стал объяснять Вердавуан, вполоборота повернувшись к заднему сиденью. — Билета при ней не нашли. Что делала в гостинице — не очень понятно. В таких отелях останавливаются в основном транзитные пассажиры. Вселилась накануне. Следов насилия не обнаружено. Причина смерти — передозировка. Довольно гремучая смесь на базе амфетаминов и экстази. Следственную группу это и навело на мысль, что нужно искать восточный след.
— Это почему — восточный? — встрепенулся Николай.
Кашлянув в кулак, комиссар объяснил:
— При осмотре тела обнаружены следы недавней операции… Покойная перенесла операцию, — повторил он. — Примерно две недели назад. Не хватает почки. Правую почку забрали.
Стараясь незаметно справиться с накатывавшей изнутри дурнотой, Николай отрешенно глазел на плывшие мимо тротуары, на сероватые пятиэтажные здания эпохи барона Османа. Миновали подобие крытого рынка с причудливой кровлей, которая придавала зданию сходство с миниатюрным вокзалом. Пьеро мастерски гнал машину по узким улочкам.
— Личность погибшей установить не удалось, хотя при ней был русский паспорт. Светланà Белощековà, — на французский манер произнес комиссар. — Семьдесят пятого года рождения. Паспорт фальшивый. Сработан у вас, в России, нам такие уже попадались. Одна из следственных версий — расправа над проституткой, — вернулся комиссар к тому, с чего начал. — Прямо напасть какая-то последнее время. Едут в основном из стран восточного лагеря. Не из России, правда. А таким вот образом избавляются от строптивых, бывали случаи. Но данная версия зашла в тупик. Единственное, что пока известно достоверно: в среде, с которой была связана покойная, русскими девушками заправляет кавказский клан. Вот, собственно, и всё.
— Откуда известно про среду общения, если личность не установлена? — усомнился Филиппов.
— Наследил паспорт и пластиковая карточка на ту же фамилию.
— Вы чеченцев имеете в виду? — уточнил Филиппов.
— Ну вот, сразу чеченцы… — вздохнул комиссар.
— Просто это первое, что приходит в голову, — ответил Филиппов.
— Я не сказал, что чеченцы. Хотя, кто их знает? Не исключено, что к гибели девушки имеют отношение албанцы, — добавил Вердавуан. — Но это вообще отдельная статья.
— Почему тогда утверждаете, что кавказцы? — не удержался Николай.
— Недавно у нас раскрутили целую группировку. В Париже. Подумать жутко, что они вытворяли.
— Видите, вам жутко, а Евросоюз всё нашим функционерам головы морочит с правами малых народов, — проворчал Николай. — Что Бен-Ладен, что Албания — одна язва. Вас бы туда отправить на недельку, к этим малым народам. Коллега ваш там и дня головы не сносил бы, — Николай повел глазами на бритый затылок Пьеро. — Отвинтили бы и родне прислали в обувной коробке.
— У нас не принято так относиться к этой проблеме, — слегка ухмыляясь, заметил Вердавуан. — Сколько я ни имел дел с выходцами из Чечни, так и не смог поверить в их кровожадность.
— Я о чем и говорю. Наши бы ему голову отвинтили. А отдувались бы чеченцы, — сумрачно добавил Николай. — Ваше правительство правильно делает, что протестует. Проблема не в тех, кто воюет, а в тех, кто развязал войну. Правду нужно говорить. И писать. Ваши газеты пишут правду?.. Если о людях судить по правительству, которое сидит у них на шее, неизбежно приходишь к выводу, что мир сплошь заселен идиотами. Но ведь это не так…
— Вы необычно рассуждаете, — помолчав, заметил комиссар. — Русские обычно патриоты.
— Я тоже патриот, — сказал Николай. — Поэтому и говорю, чтó думаю. Кашу в Чечне заварили наши, русские. Ну и еще кое-кто подвизался. Из ваших уже, чтобы Россию развалить. Всё остальное — болтовня.
— У нас была своя Чечня. В Алжире. Ад кромешный. Политики могут что угодно говорить, но люди знают, как там всё было. Воевать-то приходилось людям, — вздохнул Вердавуан.
С минуту все молчали.
— Знаете, что про французов говорят? — нарушил Николай молчание. — Что вы не способны отстаивать свои принципы. Только свое благополучие. После нас хоть потоп… Поэтому и живется вам хорошо. Но это так, на время…
Комиссар не обижался. В английской формулировке фраза прозвучала мягче.
— Франция — крохотная страна. Чего ж вы от нас хотите? — развел руками комиссар. — Насчет этой истории… У нас есть еще одна следственная версия, — перевел он разговор в прежнее русло. — Я имею в виду операцию… Удалили орган не у нас, во всяком случае, не в больнице. Мы проверяли по всей Франции…
Николай безучастно смотрел в окно. Филиппов выразил недоумение:
— Границы прозрачные. По соседству нигде не могли сделать?
— Вот и гадаем, — закивал Вердавуан. — Граждане Молдовы, да и не только они, продают свои органы за деньги. Туркам, например. Знаете, сколько им дают за почку? Три тысячи долларов. А оперировать в Турцию увозят… Неужели не слышали никогда? У малоимущих покупают органы. У вас в Молдове полно калек, добровольных.
— Чудеса какие-то… Лично я никогда не слышал ничего подобного, — пробормотал Николай. — И потом, Молдова — это давным-давно не Россия. Органы покупают для пересадки, что ли?
— В Европе доноров не хватает. Где брать? Один из таких каналов в Румынии мы как-то раскручивали. Но у нас во Франции такого еще не было, — ответил Вердавуан.
Николай рассеянно что-то обдумывал.
— Есть основания предполагать, что орган у покойной забрали, — продолжал комиссар в том же духе. — Совместимость между донором и реципиентом — большая редкость. Один человек на пятнадцать тысяч. И вообще, само изъятие донорских органов — очень сложная процедура. Без руки специалиста не обойтись. Такие специалисты, естественно, на виду. Поэтому сколотить большой капитал на таком бизнесе практически невозможно. Вот мы и ломаем голову. Меня это заставило провести параллель. Мы проверили…
— Я могу окно приоткрыть? — спросил Николай, заметно побледнев.
Он распустил галстук и теперь с жадностью глотал врывавшийся в машину ветер. Он выглядел растерянным, губы приобрели синюшный оттенок, что не ускользнуло от внимания комиссара.
— Сердце у вас не шалит случайно? — поинтересовался он.
— Слава богу, — пробормотал Николай.
— Вид у вас, прямо скажем… Вы бы проверились… Приехали, — объявил Вердавуан, глазами показав на тянувшуюся слева больничную ограду.
Пьеро развернул машину и подрулил ко входу. Комиссар, Николай и Филиппов вылезли на тротуар. Пьеро остался за рулем. Комиссар направился к выложенной ракушечником дорожке, сквозь заросли мокрого остролиста выводившей к каменному крыльцу.
Звонить в дверь пришлось несколько раз. Наконец высунулась физиономия. Чернокожий мужчина в белом — не то привратник, не то санитар — без вопросов пригласил всех войти; его, видимо, предупредили о визите.
Николай не тронулся с места. Побледнев сильнее прежнего, он облокотился о выступ крыльца, не в силах сделать ни шага.
— Сделайте одолжение, — окинув его внимательным взглядом, попросил комиссар. — Мы всего на пару минут…
Проследовав за санитаром в конец длинного коридора с мертвенным неоновым светом, они попали в просторный зал. Всё тот же африканец, худосочный, но стройный, как незнакомое экзотическое дерево, провел их дальше, в глухое помещение без окон. Вдоль стены тянулись рядами металлические дверцы. Стоял необычный запах.
Вердавуан кивнул. Санитар подошел к одной из дверец, открыл ее и выдвинул на себя подобие носилок. В пластиковом чехле угадывалось тело человека. Санитар расстегнул молнию и сдвинул в стороны края чехла, чтобы стала видна голова.
Николай опять заставлял себя ждать. Затем всё же подошел. Увидев лицо женщины, он на мгновение отшатнулся, но потом приблизился к телу, как-то странно всхлипнул и положил ладонь на лоб покойной.
Это была Маша. Но он понял это еще в машине — почувствовал по необычной и немного жутковатой достоверности происходящего; мир показался Николаю каким-то невероятно реальным в тот момент, когда Пьеро подрулил к ограде морга, и на дне глаз француза промелькнула тень не то вины, не то жалости, хотя в ту минуту Николай вряд ли мог знать, что его ждет.
Округлый родной лоб был ледяным и твердым. Веки сомкнуты неплотно. Шатеновые волосы, длиннее, чем Николай представлял себе, уложены неестественно аккуратно. На бледной шее блестела змейка цепочки со съехавшим набок золотым крестиком, который он сам когда-то подарил сестре, поскольку увиделись в канун Пасхи. Почему-то запомнилось, что этот крохотный и по форме не очень-то православный крестик достался ему за восемьсот рублей. Он даже помнил, что в момент покупки усомнился: не слишком ли дешево для настоящего золота? — но потом решил, что это не имеет значения: какая разница, из чего сделан крестик.
Безмятежное выражение лица сестры, лица не девочки, какой она всегда представлялась Николаю, а молодой женщины… Правильные черты и особенно выпуклый, воском отсвечивающий высокий лоб, такой же, как у матери, — всё это имело лишь отдаленное сходство с той Машей, какой она оставалась в его памяти.
Николай вновь пошатнулся, опустился на колени перед выдвинутой полкой. Уткнувшись лицом в Машины сложенные на животе руки, он издавал какое-то невнятное бормотание и трясся всем телом.
Комиссар перевел сконфуженный взгляд на Филиппова. Но тот, уставившись на труп с каким-то беспощадным ожесточением в лице, не обращал на француза внимания.
Вердавуан сделал шаг вперед и мягко произнес:
— On y va, monsieur, je vous en priе…[9]
Позвонив в гостиницу в одиннадцатом часу вечера, комиссар сообщил, что формальности с вывозом тела удалось утрясти. Оставалось кому-то из них двоих съездить с утра в российское консульство.
Филиппов, ответивший на звонок комиссара, не сразу смог объяснить, что есть некоторое затруднение. Николай с самого возвращения не вставал с постели — похоже, было плохо с сердцем. Комиссар будто накаркал.
Вердавуан всполошился. Не обращая внимания на возражения, он заявил, что немедленно посылает в гостиницу Пятницу, которому приказал отвезти обоих в военный госпиталь Валь-де-Грасс, поскольку в обычных городских больницах на выходные остается только дежурный персонал, а у специалистов эти дни — выходные. Пятница еще не успел доехать до гостиницы, когда Вердавуан перезвонил во второй раз и сообщил, что в госпитале как раз дежурит его знакомый кардиолог.
Через двадцать минут Пятница забарабанил в дверь. Николай отказывался впускать его в номер. Необидчивый негр стоял на пороге, уговаривал. Филиппов топтался тут же, у двери, ожидая, пока босс сменит гнев на милость. Пятница уверял, что в госпитале предупреждены об их визите, их ждут, и нужно ехать. К тому же кардиолог, которого специально ради месье Лопухова оторвали от домашнего обеда, уже мчится-де в госпиталь на мотоцикле. Эбеновый полицейский даже изобразил для наглядности руками, как это происходит.
Николай, упиравшийся с необъяснимым упрямством, сдался только потому, что окончательно обессилел. Филиппов, всё это время молча соглашавшийся с Пятницей, помог шефу переодеться, и они спустились к машине…
В ожидании результатов анализа крови невысокий худощавый врач, назвавшийся другом Жоржа Вердавуана, долго и тщательно прослушивал стетоскопом волосатую грудь пациента-россиянина, то и дело проверял пульс и всё это проделывал с таким видом, будто отказывался верить своим глазам — тому, что видел на распечатанной ленте с зигзагами ЭКГ. Одновременно он расспрашивал Николая о его состоянии — сегодня и в прошедшие дни.
Николай и сам не знал, почему ему казалось столь важным с точностью описать свои ощущения. Он объяснял по-английски, что боли практически не чувствует. Гораздо мучительнее было чувство, периодически накрывавшее волной, словно он падает в яму и у него захватывает дух. Руки и ноги мгновенно леденели, поле зрения сужалось, появлялось ощущение, что он смотрит на происходящее через трубу, а сердце в этот момент как бы поднималось к горлу. Что-то похожее случалось с ним и раньше, однако впервые это ощущение было таким долгим. Прежде появлялись и боли, чаще всего отдававшие в шею, но он не обращал на них внимания: бока и шея болеть могут от чего угодно.
Вдруг осознав, что все эти подробности абсолютно излишни, Николай попросил объяснить ему просто и ясно, что с ним.
Гийом Жо, старший врач отделения, профессор, категорично заявил, что не может отпустить его из госпиталя.
Николай, явно не ожидавший такого, приподнялся на кушетке и, путая французские слова с английскими, запротестовал:
— Non! Non… Je ne peux pas. I cannot, really! Can you call my friend, please? He is my bodyguard. He is waiting in the hall…[10]
— Your bodyguard?[11] — удивился врач.
Отрицательно мотая головой, давая понять, что, кем бы ни приходился ему дежуривший в холле сотоварищ, к решению вопроса о том, останется он в больнице или нет, это всё равно не имеет никакого отношения, Жо выглянул в коридор и попросил, чтобы того пригласили в палату, а затем стал объяснять Николаю, что анализ крови с использованием так называемых маркеров, которые позволяют воссоздать достаточно точную картину, однозначно указывал на то, что Лопухов перенес инфаркт. Скорее всего, небольшой и не сегодня. Но невозможно обойтись без лечения, причем неотложного. Последствия грозят вполне серьезные, причем в самое ближайшее время. Возвращаться в гостиницу Гийом Жо не советовал. Зачем нужен этот лишний риск?
Вошел Филиппов. Будучи в курсе намерений медперсонала, он, видимо, еще не решил, какого мнения придерживаться…
На ногах перенесенный инфаркт, что свидетельствовало о плохом состоянии коронарных артерий, — был только первой частью оглушительного диагноза. Аневризма восходящей аорты, обнаруженная в том месте, где на выходе из сердца основной артериальный ствол поднимается к дуге, грозит «рассечением». Расширение аорты успело наделать бед: в работе аортального клапана появились сбои. Из-за этого вкачиваемая в аорту кровь возвращается назад в сердце, что приводит к чрезмерному переполнению левого желудочка. Сердце «захлебывается», работает с перегрузкой. Рано или поздно это приведет к самому плачевному исходу… Врач спокойно и даже с некоторым цинизмом, как Николаю показалось, объяснял всё это уже за полночь, после того как, сделав ему эхокардиографическое обследование и томограмму и так и не дав строптивому пациенту встать после процедур с кресла-коляски, санитары прикатили его в палату.
Палату выделили просторную, двухместную. Вторая кровать, стоявшая ближе к выходу и отделенная пластиковой ширмой, пустовала. За большим низким окном с приспущенными жалюзи даже с кровати хорошо просматривались освещенный парк с исполинскими деревьями, коробки современных строений и спортивные сооружения — не то баскетбольная площадка, не то теннисные корты.
Расположившись за столиком у окна, Филиппов пребывал в раздумье. Кардиологу он внимал с таким видом, будто перед ним не человек, а автомат, который работал просто потому, что был включен, без всякой надобности.
У Жо не вызывала сомнения необходимость в скором хирургическом вмешательстве. При диаметре расширения аорты в семь сантиметров, вместо положенных двух с половиной — максимум трех, рассечения или расслоения ткани аорты можно ожидать в любой момент. И не дай бог это случится. Сложную операцию, которая требует специального оборудования, пришлось бы делать срочно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь не в любой больнице есть кардиохирургическое отделение, да еще и с нужной для такой операции аппаратурой. В госпитале, где они находились, такого отделения так и не открыли. Но в одном только Париже имелось, по словам Жо, несколько кардиоцентров, в которых подобные операции проводились в рутинном режиме. Методику освоили лет десять тому назад, и она непрерывно совершенствовалась.
— What kind of operation? — изумленно переспрашивал Николай. — On my heart, you mean?[12]
Кардиолог, помедлив, кивнул.
— На закрытом сердце оперируют только аневризмы брюшного отдела аорты, и то не всегда, — пояснил врач.
Есть ли смысл собирать чемоданы и ехать домой, в Москву, поинтересовался Филиппов. Жо отрицательно покачал головой. Госпитализация неминуема. Именно сейчас, сегодня. Это следовало принять как непреложный факт.
С видом не больного, а провинившегося Николай продолжал глазеть в окно, в подкрашенную фонарным светом нерусскую ночь и вдруг заметил, что на улице очень тихо и пасмурно. Перебирая в голове события дня, он боролся с мучительным ощущением, что не может восстановить их последовательность. Впрочем, и сам не знал, почему это вдруг стало иметь значение.
Профессора позвала медсестра. Он вышел в коридор и о чем-то тихо с ней переговаривался. В этот миг Николай вдруг почувствовал, что не хочет остаться в палате один на один с тем, что ждет его теперь неминуемо. Раздражало всё: чужая обстановка, холодный свет больничных ламп, неудобная кровать, непривычно застеленная — одними простынями, без пододеяльника — постель, и даже тишина. Но не жаловаться же вслух на неудобства?
Филиппов молча крутил в руках свой телефон и словно телепат, привыкший к тому, что не может не читать чужие мысли, но при этом тактично утаивающий от окружающих этот редкостный дар, смотрел в окно и ехать в гостиницу не торопился…
Потребовалось приложить немалые усилия, чтобы переговоры с заведующим отделением, пожилым врачом с внешностью не военного, а художника с Монмартра, который навестил Николая в палате еще перед завтраком, увенчались его согласием на выписку под расписку. Во вторник, прямо из госпиталя, Филиппов отвез Николая в аэропорт Шарль-де-Голль и посадил на московский рейс. Сам он планировал вернуться в Москву с телом Марии через пару дней…
Утром следующего дня до необычного молчаливый Глеб Никитич вез Лопухова в ЦКБ. Несмотря на желание Нины проводить его на консультацию, Николай предпочел поехать один. Боясь шокировать домашних убийственным диагнозом, по приезде домой он ограничился минимальными объяснениями, и Нина не вполне понимала, насколько положение серьезно.
Весь центр перекрывали дорожные пробки, машины едва продвигались. За час еле добрались до Русаковской улицы, затем потянулась Стромынка. Серым загазованным улицам не виделось конца. Снег на обочинах лежал черный от копоти и грязи. И чем дальше от Садового кольца, тем всё более невзрачными и чужими, какими-то постылыми в своей повседневности выглядели улицы. Именно эта будничность производила самое гнетущее впечатление.
В Париже возвращение домой, в родную стихию, казалось спасением от всех бед. Но как только это стало реальностью, всё опять стало таким, каким было всегда — обыденным и никаким. Ничто здесь не сулило ничего особенно плохого или хорошего. Единственное, что представлялось новым и неожиданным, так это потребность бежать от всего, причем как можно быстрее. Подальше от обыденности и хаоса, в котором на родине жили все поголовно, настолько сросшись с этой жизнью одним днем, что даже не замечали этого… Спасения дома не было. Вместо спасения ощущалось какое-то неодолимое центробежное ускорение, от которого распирало грудь, какое-то соскальзывание в никуда.
Николай сознавал, что поддается пустым мимолетным эмоциям и не может добиться от себя внутренней собранности, крайне необходимой именно сейчас, какие бы усилия он ни прилагал и сколько бы ни внушал себе, что самоконтроль — первичное условие выживания в новой ситуации, в противном случае выкарабкаться не удастся. Рассчитывать он не мог ни на кого. Выход предстояло искать в одиночку. Но для того, чтобы хватило на это сил, нужно было держать себя в ежовых рукавицах…
Горностаев, с которым удалось переговорить еще по дороге из Шереметьево на Солянку, договорился о консультации. Визит к врачу назначили на утро. К пожилому профессору в очередь записывалось полгорода — московские сердечники отнюдь не преклонных лет, что называется, в полном расцвете сил. И к ним Лопухову отныне следовало относить себя на общих правах. Вся эта орда неонеудачников, променявших на высокие доходы всё, вплоть до здоровья, теперь рвалась к пожилому профессору, будто к святым мощам, с тех пор, как по Москве пронесся слух, что именно Николай Николаевич лечил, ставил на ноги (и таки поставил!) своего тезку по отчеству, тоже Николаевича — бывшего президента…
Полчаса Николай просидел у закрытой двери, пока его наконец не пригласили в ординаторскую. Профессор, добиравшийся на работу на своей машине, застрял в пробке, но позвонил в отделение и распорядился, чтобы за пациентом присмотрели.
Женщина-врач, сидевшая за соседним столом, молоденькая, мило курносая и близорукая, писала что-то в толстенной истории болезни и изредка поглядывала на заждавшегося пациента. Затем она вдруг стала рассказывать о своей поездке во Францию. Кто и зачем посвятил ее в то, что он только что из Парижа? Врач этим летом ездила отдыхать на Лазурный Берег, откуда вернулась, по ее словам, выжатой, как лимон. И страшно разочарованной. Что за мелочные и меркантильные люди!.. Имелось в виду французское семейство, пригласившее ее на побывку? Или вся Франция? Николай слушал в пол-уха и отстраненно думал: существует ли хоть одна страна на белом свете, о которой нельзя сказать всё то же самое? От болтовни докторши, уследить за смысловой нитью которой он не мог, Николай чувствовал себя укачанным, захмелевшим, будто опрокинул натощак пару стопок водки.
В приоткрытую форточку доносилось карканье ворон. Резкие, разлетающиеся клочьями звуки ассоциировались с чем-то до боли знакомым. Ассоциация оставалась зыбкой, неуловимой. Карканье слышишь в парках, возле больниц, на кладбище… — перечислял Николай в уме. Или еще в Александровском саду, в школьных дворах, возле старых монастырских стен… Есть в этих звуках что-то душераздирающее. Но не отталкивающее. Не потому ли, что эта очень русская уличная какофония знакома с первых дней жизни? Весенний свежий ветерок, врывающийся в форточку. Резкий запах водочных компрессов, при помощи которых в детстве его выхаживали от ангины. А еще это напоминает о вкусе разжеванного аспирина, въедающегося в десны, всю ту еще не начавшуюся жизнь, которая даже сквозь непреодолимую толщу прожитого продолжает манить к себе. Как манила когда-то пахучая новизна только что купленной книги с картинками. Захватывающие, печально переменчивые и непрерывно рассыпающиеся на дне памяти узорами, как в детском калейдоскопе, эти картинки придавали той, прошлой, жизни какой-то перпендикулярно-простой, геометрический смысл, которого в ней никогда уже не будет. Будет, разве что, ощущение этого смысла. Будет уверенность в том, что это что-то правильное и, может быть, главное… Увы, навсегда ушедшее.
Стараясь не обидеть невниманием словоохотливую ассистентку профессора, Николай отделывался молчаливыми кивками, памятуя о недавно данном себе слове: не проявлять мелочную нетерпимость к людям.
Наконец в ординаторскую вошел невысокий пожилой мужчина в белом халате. Это и был Николай Николаевич, профессор.
Вопросительно оглядев друг друга, они обменялись рукопожатием. Молоденькая докторша, перемолвившись с Николаем Николаевичем парой слов о каких-то своих проблемах, попрощалась с обоими и, захватив с собой стопку бумаг, покинула ординаторскую.
Николай Николаевич, кого-то сильно напоминавший Лопухову, сел за большой письменный стол, сложил перед собой маленькие, почти женские руки и кивнул на папку, лежавшую у Николая на коленях:
— Ну, рассказывайте… Что за обследование проходили во Франции?
— Не знаю, как и рассказать. Для меня это — филькина грамота, — беспомощно улыбнулся Николай, извлекая из конверта стопку бумаг.
— Ну, давайте будем смотреть… — доброжелательно предложил врач и, взяв кипу бумаг, стал не спеша их перебирать.
Задержав внимание на страничке с комментариями к томографическому обследованию, к которому прилагался CD-диск, Николай Николаевич похвалил французскую медицину за основательный подход и взглянул на Николая с каким-то неделовым прищуром, словно проверял, как у него обстоит дело с чувством юмора. Кого же он так мучительно напоминал?
Николай приказал себе терпеливо ждать заключения. Не отпускали навязчивые мысли: «Если откажется, придется ехать непонятно куда. Кому я здесь нужен? Здесь никто никому не нужен… Опять лететь во Францию?»
— Да, бывает и так. Несколько лет ходит человек, и хоть бы что, — сложив документы Лопухова аккуратной стопкой, произнес наконец профессор. — Но редко. Николай… как вас по отчеству?
— Я как-то привык, чтобы меня… Колей меня зовут, — солгал Николай, опасаясь, что при обмене любезностями, то и дело употребляя «Николай», они станут похожи на гоголевских персонажей.
— Одышки нет, по голосу слышу.
— Я даже не знаю, что это такое, — признался Лопухов и встревоженно спросил. — Правду мне сказали в Париже, что времени у меня мало? Сколько, на ваш взгляд?
— Вам не объясняли?
— Объясняли. Но я не до конца понимаю. Аннуло-эктазия, аневризма аорты… Названия красивые. По-русски что это значит?
— Аневризма — значит расширение сосуда. Аорта — это главный сосуд. При разрыве, сами понимаете, что может произойти… «Аннуло−» — значит клапан, эктазия — расширение…
— Я должен знать, сколько у меня времени, — настойчиво повторил Николай.
— Этого вам никто не скажет. Может, год проходите, может, месяц, а может — всего неделю. Если аорта лопнет, оперировать будет очень сложно. Шить будет не на чем… Такого больного чаще всего даже не успевают довезти до операционного стола. Вся кровь выливается в брюшную полость, и всё.
— Год? — словно торгуясь, переспросил Николай.
— Я же вам объясняю… Проблема не только в аорте. Если верить тому, что здесь написано, у вас и левый желудочек расширен. Будете тянуть с операцией, окончательно загубите сердце. Аортальный клапан пропускает кровь в сердце, а не должен. Желудочек, который гонит кровь в аорту, из-за этого раздувается, гипертрофируется… — Николай Николаевич стал перебирать бумаги в обратной последовательности. — У вас он расширен примерно на треть. Это много. И еще будет расширяться. В конце концов, мотор будет работать вхолостую… Два-три месяца, не больше, вот мое мнение. Это максимум, — заключил врач. — Как вы их проживете, трудно сказать. Я бы не рисковал. И инфаркт тоже надо лечить.
— Вхолостую — что это значит? — выпытывал Николай.
— Задыхаться начнете. Лежать не сможете. Жить придется в сидячем положении. Даже ночью. Легкие начнут отекать. С определенной стадии левый желудочек не сможет вернуться к исходным размерам. И тогда ничего другого вам не предложат, кроме пересадки.
— Сердца? — удивился Николай.
— Чего же еще?
— Операцию делают на открытом сердце? — помолчав, спросил Николай.
— Только не надо драматизировать. Такие операции сегодня делают хорошо. Важно кто делает. От рук многое зависит.
— Риск есть какой-нибудь?
— Риск всегда есть. Даже когда вы через дорогу переходите. При такой операции — процентов пять. Ближе к трем.
— Хорошо… Ваш совет к чему сводится? Что делать? — спросил Николай, словно всё еще не мог уяснить себе главного.
— Как можно быстрее оперироваться.
— У нас?
— Да без разницы в принципе. Я позвонил с утра, узнал. Ваш друг настаивал… У нас за такие операции трое берутся. Методика та же, что и на Западе, — Николай Николаевич озадачивал своей предусмотрительностью. — Отсекается часть восходящей аорты, пришивается искусственная трубка из дакрона. Это материал такой износостойкий, синтетический, наподобие велюра плотной вязки… Аортальный клапан, если есть недостаточность, убирается. Искусственные клапаны сейчас стали делать отличные, из углепластиков. Износ — нулевой. Сама операция проводится по методу Бентала-Каброля. Бентал — англичанин. Каброль — француз. Вместе разрабатывали. Делают и клапаносохраняющую, но единицы. Заранее трудно предсказать, можно ли сохранить клапан. Нужно проводить дополнительное обследование. Или уже во время операции принимать решение.
— Дорого?
— Насчет цен не могу ничего сказать… Если обычный вариант, операция по Бенталу, то у нас могут попросить… тысяч двенадцать долларов.
— А если клапан не убирать?
— Вот тут не знаю. Дороже, конечно. В разы… Клапаносохраняющую операцию делают по методу Якуба. Маджи Якуб, английский хирург, разрабатывал. Метод и у нас освоен. Но берутся, кажется, только двое. Слышал, что в институте Петровского делают… Можем попробовать позвонить им…
— А другие как выходят из положения? У кого нет денег? — спросил Николай.
— Умирают. В вашем случае придется делать еще и шунтирование.
— Это что-то меняет?
— Нет, многого не меняет. Просто вы сильно запустили здоровье. Если не шунтировать, вас ждет новый инфаркт. И тогда уже легко не отделаетесь. Разденьтесь, посмотрю вас. Вон там… — Профессор взглядом указал на узкую дверь справа от входа.
Николай прошел в кабину и через минуту появился по пояс раздетый, бледный и волосатый, стесняясь своей наготы и некоторой упитанности.
Николай Николаевич усадил его на застеленную простыней кушетку и, предлагая то лечь, то опять сесть, долго прослушивал его грудь и спину, а затем стал пальпировать брюшную полость и даже бедра.
— Значит так… Пока ни вина, ни водки. Для аппетита рюмку коньяка можете выпить, но хорошего. С курением сразу завязывайте… Ведь курите, по запаху чувствую. Всё равно придется бросать. И вообще, постарайтесь не переутомляться, отдыхайте побольше.
Профессор еще продолжал давать наставления, но Николай не слышал его, лишь молча со всем соглашался; уставившись в окно, он глядел на небо, вдруг просветлевшее и ясное…
В начале марта, за несколько дней до начала весенних каникул, Николай забрал дочь с занятий и, проводив ее с Иваном в Тулу, улетел с женой во Францию. Гийом Жо, которому Николай несколько раз звонил из Москвы, лично побывал в институте сердца при больнице Ля-Питье-Сальпетриер. Там Жо показал его историю болезни главному хирургу центра, профессору Олленбаху, о котором Николай слышал еще во время госпитализации в Валь-де-Грассе. Олленбах согласился прооперировать русского пациента лично, что и сделал шестого марта…
С кислородной трубкой в носу, которую медсестры называли почему-то «очками», les lunettes, необыкновенно бледный, осунувшийся, став вдруг разительно похожим на своего отца, чего раньше Нина никогда не замечала, муж следил за ней благодарным взглядом и виновато улыбался. Обычно словоохотливый, Николай теперь всё больше молчал. А если говорил, то всегда об одном и том же: что поставил «счетчик на ноль», решил начать всё с начала. Что именно он собирался начать с начала — не уточнял. Лечащий врач Мари-Пьер, как она представилась Нине, объясняла, что безудержный оптимизм — обычная реакция на инъекции морфина, отказаться от которых пока было невозможно, поскольку боль давала бы никчемную сейчас нагрузку на сердце. Но оптимизм Николая всё-таки заражал…
Как только из палаты забирали обеденный поднос, он погружался в сон. Наблюдая за спящим мужем, Нина нет-нет да и ловила себя на мысли, что перед ней тот самый человек, каким она знала его годы назад. Чувство нереальности происходящего становилось вдвойне мучительным, стоило ей вспомнить о том, что пришлось пережить за минувшие недели. Не верилось, что хватило сил. Не верилось, что главное позади. Поездка в Тулу на похороны Маши, тело которой предали земле рядом с прахом матери. А затем — нескончаемая беготня по врачам. Все, кто мог это себе позволить, уезжали, как выяснялось, оперироваться за границу… Николай решил последовать их примеру. Ежедневные звонки во Францию, переговоры с врачом госпиталя и с самой больницей, бесконечное собирание документов…
Во Франции, где за один день, проведенный в отделении кардиохирургии, предстояло платить более полутора тысяч евро, операция обходилась в общей сложности дешевле, чем в Москве. Потому что в Париже ни с кем не приходилось торговаться, никому не нужно было класть в карман. Никто не требовал дополнительных подношений, хотя на базе государственных медучреждений, как Николаю объясняли еще в госпитале, вполне официально практиковалось и получастное обслуживание. Однако дополнительные гонорары не превышали нескольких тысяч евро.
C его диагнозом обычный срок госпитализации составлял не более десяти дней. И даже в случае осложнений госпитализация не могла, будто бы, затянуться более чем на три недели. Из расчета трехнедельного срока и предлагали внести предоплату в кассу больницы, с тем чтобы при выписке вернуть лишнее…
Иногда поздно вечером, когда заканчивался обычный рабочий день, на пороге палаты вырастала фигура профессора Олленбаха. Но лишь на секунду. Выдав непонятную подбадривающую реплику, профессор тут же исчезал — казалось, из опасения, что пациенты бросятся ему в ноги благодарить за чудеса, которые он с ними совершал. Осмотр больных Олленбах обычно возлагал на молодую черноволосую врачицу-ассистентку с профилем Нефертити. Присаживаясь к Николаю на край кровати, та быстро прослушивала стетоскопом его грудь, заклеенную по вертикали рыжим от йода прозрачным пластырем, и умоляла его не двигаться. Но Николай, улыбаясь, всё равно старался подставлять свои бока, чтобы хоть чем-то помочь…
Нине порой казалось, что все здесь играют в какую-то непонятную игру. Реальность заявляла о себе жестко и неумолимо, когда сквозь приоткрытые двери соседних палат глаза внезапно упирались в тяжело больных, в ожидании пересадки сердца прикованных полураздетыми к громоздким аппаратам. Как Нине по-английски объяснила одна из медсестер, у этих людей сердца не было вообще, его удалили и временно заменили машинами.
О результатах операции Нина не думала. Главное позади — твердила она себе. Всё остальное — мелочи. Лишь через неделю, уже в Валь-де-Грассе, куда мужа перевезли на долечивание, Нина узнала, что результат операции был не таким, как всем хотелось.
Олленбаху удалось сделать пластику по методике Якуба. Аортальный клапан он смог сохранить. Но оставалась недостаточность, при таких операциях якобы вообще неустранимая полностью. Зато отпадала необходимость в пожизненном приеме антикоагулянтов. Поврежденную часть аорты заменили трубкой-протезом около десяти сантиметров длиной, которую вшили на место удаленной аневризмы. Кроме того, как и предполагалось, пришлось делать шунтирование. Правда, прошунтировать удалось не все артерии.
Нина не совсем понимала, что всё это означает на деле. Заведующий отделением уверял ее, что операцию нужно считать успешной. Сделать ее лучше не смог бы никто. При хорошей реабилитации, на которую могло уйти два-три месяца, а затем наблюдаясь у хорошего врача и, главное, соблюдая правильный образ жизни, больной имел все шансы забыть о своих проблемах с сердцем на долгие годы…
На ноги Николай поднялся на вторые сутки, еще в реанимации, как Нине рассказывали, чтобы пересесть в передвижное кресло, в котором его привезли в палату. Но поправлялся он медленно. Держалась температура. По нескольку раз в день у него брали кровь на анализы. Появилось осложнение, хотя и не опасное, на легкие.
И только на десятый день произошла заметная перемена. Улучшение было резким и уже окончательным. От анальгетиков Николай отказывался, уверяя, что боли его практически не беспокоят. Он с аппетитом ел, с еще большим наслаждением пил красное вино, которое в госпитале ему давали на обед и на ужин, опустошал по утрам баночки фигового варенья, самостоятельно мылся, брился и не переставал улыбаться медсестрам и санитаркам, особенно двум чернокожим девушкам в белоснежных одеяниях, которые учились на военных медсестер и проходили в отделении практику. От их лучезарных улыбок и шоколадных лиц Нина тоже не могла оторвать взгляда. Одевался Николай только в белые рубашки и джинсы, которые не носил уже много лет…
Цюрихское правобережье как на ладони просматривалось с высоты Линденхофа. Город утопал в белесой дымке. Дождь лил вторые сутки. Для ведения наблюдения приходилось постоянно отклоняться от тщательно продуманного сценария. Окна в «опеле» запотевали. Чтобы подсушить салон, приходилось запускать двигатель, включать вентиляцию.
Улица лучше просматривалась из гастхофа на углу, окна которого выходили к Лиммату и на сами виллы с их летними садами и раскисшими от непогоды газонами, — на приусадебных газонах никто никогда не появлялся. Однако в уютном теплом зале гастхофа невозможно было торчать целыми днями. Как только наплыв утренних посетителей спадал, в заведении становилось безлюдно, и засидевшийся незнакомец не мог не привлекать к себе внимания…
Буркхард Блюмляйн, тридцатилетний профессиональный вор, после учебы в семинарии проживавший в Кёльне, выдавал себя за художника-концептуалиста с уже завидным творческим стажем и узкой специализацией. Сам он постулировал ее как «реконструирование поврежденных объемов» (достаточно грохнуть об пол более-менее ценную вазу и попотеть день-другой, чтобы склеить посудину по кусочкам эпоксидкой, и детище можно было отдавать местным коллекционерам за несколько тысяч евро)…
Сегодня Буркхарду стало наконец ясно, что программу нужно перекраивать, причем не согласовывая с заказчиками. Твердая договоренность с ним — ни на шаг не отступать от заранее продуманного плана — могла теперь лишь навредить делу.
Подкачала сообщница. Хрупкая веснушчатая Моника подхватила простуду и то и дело бегала в туалет гастхофа по-маленькому, каждый раз что-нибудь заказывала, лишний раз светилась на людях. Так не могло продолжаться. Буркхард отправил напарницу в Винтертур, в гостиницу, где вот уже третьи сутки они выдавали себя за германских туристов-молодоженов, помешанных на Швейцарии и восторгающихся местными достопримечательностями. Наблюдение за домом Буркхард намеревался довести до победного конца без Моники. К вечеру он собирался принять окончательное решение, что делать дальше.
Из наружного наблюдения так и не удалось почерпнуть ничего нового. Подтверждалась исходная информация, полученная от заказчика предстоящего киднэппинга. Но Буркхард и не ждал ничего другого, картина ему была ясна, и он просто перестраховывался. Уверенность в успехе дела в него всегда вселялась сразу, едва он вникал в суть заказа, а если этого не происходило, если оставалась хоть капля сомнений, он всегда отказывался от предложения, это давно стало святым правилом, от которого он никогда не отступался. Однако в данной ситуации успех можно было гарантировать только при условии, что проникнуть в дом удастся без дальнейших проволочек…
Пожилые Альтенбургеры прислуги дома не держали. Одна и та же домработница обслуживала их через день, приезжала на «ситроене», парковала машину на улице перед воротами, в доме у стариков оставалась с девяти утра до четырех пополудни. Сложнее дело обстояло с няней, которая жила при ребенке постоянно.
Обедали хозяева в дорогих ресторанах, один и тот же не посещали чаще, чем два раза в неделю. Спать ложились в половине девятого. Их спальня располагалась на том же этаже, что и все остальные спальные помещения, в том числе и детская. К задней стороне дома примыкал парк, по периметру обсаженный стеной туи. На внутренней территории росли елки, кедры, ухоженный чубушник. С соседнего перекрестка отлично просматривалась веранда — просторная, заставленная плетеной мебелью, цветами в горшках. Над верандой нависал балкон в стиле модерн, на который и выходили окна спальни стариков. Детская находилась справа, в противоположном конце коридора, — там в окне постоянно мелькал силуэт няньки. Стриженая, с толстыми руками швейцарка начинала укачивать младенца сразу же после того, как хозяева укладывались сами.
После отъезда родителей малыша — пары средних лет — гостей на вилле больше не появлялось. Для Буркхарда оставался нерешенным вопрос, где проводила ночь сама нянька. В той же комнате, с ребенком? В смежной?
О проникновении в дом с улицы через главный вход не могло быть и речи. Чтобы аккуратно вскрыть дверь, понадобилось бы несколько минут. Пришлось бы маячить на виду, на высоком крыльце, верхняя площадка которого достигала уровня ограды, и вечерами на нее падал свет уличного фонаря. Не ставить же ширму. Хотя поначалу Буркхард обдумывал именно этот вариант.
Намного проще ему теперь представлялось начать вторжение в безоблачную жизнь старичков со стороны сада. Ночи стояли пасмурные, безлунные. Сделав заход с тыльной стороны, можно был без спешки, без малейшего риска, вскрыть любой замок и любое окно. Оставалось бесшумно проникнуть в дом и забрать чадо. В случае непредвиденных обстоятельств, если обнаружится, что нянька спит в комнате с младенцем или где-нибудь рядом, нейтрализовать ее заказчик потребовал с минимальным ущербом для ее здоровья: не дать дурехе проснуться, всадить укол в одно место, но такой, который смог бы свалить с копыт любую швейцарскую корову — и будьте здоровы.
После чего, уже не возвращаясь в гостиницу, заранее рассчитавшись за проживание и уничтожив все, что могло бы их с Моникой скомпрометировать, они должны были выехать из города в направлении французской границы. «Кордон» Буркхард планировал пересечь не сразу. Разумнее было скоротать денек в Швейцарии, на свежем воздухе, и подъехать к пропускному пункту только часам к пяти вчера. В часы пик гораздо легче слиться с потоком французских машин, с теми, кто ездил в Швейцарию на работу и возвращался к себе домой. На Монику возлагалась, что ни говори, ответственная роль: в течение дня заменить ребенку няню. Впервые на своем веку ей предстояло нянчиться с грудным младенцем, и она немного паниковала, боялась не справиться…
К концу дня Буркхард связался с напарницей и дал ей указание дозвониться с резервного сотового телефона заказчику, чтобы поставить его в известность о принятом решении: главный этап будет завершен этой ночью. Заказчик должен был успеть организовать встречу — через сутки после контрольного звонка и уже на французской территории, — это входило в «сценарий». К девяти часам Буркхард просил Монику рассчитаться в гостинице, уложить вещи в багажник машины и ждать его в ресторане на Бюрклиг-плац. Он не хотел идти на дело без своего ритуального Röschdi — любимого еще со времени службы в армии блюда из картошки, грудинки и плавленого сыра…
В глаза бросалась какая-то заторможенность и неловкость в движениях, Буркхард подмечал это в Монике еще с утра: у нее всё валилось из рук, она всё делала не так, и отставали по графику уже на двадцать минут. Сам он уже пересек голую площадку перед кустами, а силуэт Моники, с ног до головы в черном, но с очень заметными прорезями для глаз, всё еще выделялся в темноте на фоне ограды. Наконец и она, прошуршав кроссовками по гальке, укрылась в тени балюстрады.
Прошло с полминуты. Вместе подобрались к веранде и выждали еще мгновение. По знаку Буркхарда насадили на глаза инфракрасные очки. Моника бесшумно перемещалась первой, просматривая внутренние помещения через окна, выходившие в сад.
По ее сигналу Буркхард уцепился за стенной выступ, подтянулся на одних руках и перемахнул через перильца. Моника последовала его примеру. Комнаты и здесь обследовали через очки. Нужная оказалась за вторым окном от угла дома.
Действуя уже более синхронно, вдвоем проскользнули к единственной стеклянной двери на балкон и, разложив на полу тряпичный чехол, разобрали инструменты: клейкая лента, большая круглая присоска, стеклорез. Опустившись перед дверью на колени, Буркхард приступил к взлому. Вскоре тишину раскроил резкий короткий скрежет. Кругляш стекла, удерживаемый присоской, был аккуратно извлечен и передан в руки Монике, которая подстраховывала каждый жест. Просунув руку через отверстие, Буркхард в считаные секунды справился с замком. Дверь беззвучно поддалась. Быстро собрав инструменты, оба проскользнули в дом…
Пока Буркхард осматривал комнату няни, проникнув в нее из детской через приоткрытую дверь, Моника прошмыгнула к кроватке.
Раскинув ручонки, младенец лежал на спине и крепко спал. У изголовья кроватки зеленым огоньком светилась включенная радио-няня. Приемный аппарат находился в спальне у няни настоящей. Моника прикрыла одеялом спавшее ребенка и, осторожно укутав его с боков, одним движением вынула его из кроватки вместе с одеялом.
Тем временем Буркхард, маячивший около няни в соседней комнате, вздрогнул от хрипа, который вырвался из принимающего устройства на стуле. Моника что-то опрокинула.
Голова на подушке пришла в движение. Не теряя ни секунды, Буркхард извлек из нагрудного кармана приготовленный шприц, снял с иглы колпачок, а другой рукой обхватил няню за шею и зажал рот. Та судорожно трепыхалась и утробно мычала. Тщетно. Отбросив одеяло, Буркхард всадил женщине в плечо иглу и впрыснул содержимое. Тело обмякло…
Легкую седативную инъекцию сделали уже в машине и ребенку. Моника всё еще держала его укутанным в одеяльце. Младенец, было, заворочался, закряхтел, но быстро утих, спокойно засопел.
Буркхард стащил с головы черную маску-чулок и, повернувшись к заднему сиденью, широко улыбнулся Монике, сквозь темноту угадывая, что в глазах ее заиграли живые огоньки.
– Ça jout…[13] — выдал он одно из немногих швейцарских выражений, которым успел научиться за эти дни.
Он запустил двигатель, и они вырулили по спуску вниз…
К вечеру следующего дня, после трехчасовой езды по автостраде, Буркхард свернул с трассы под указатель «Бардонэ» и встроился в поток машин с французскими номерами, медленно продвигавшийся к границе. После хлопотливой процедуры кормления, которой Моника отдавалась с самозабвением — настоящая молодая мама, от умиления так и таявшая, — и после нового укола, сделанного малышу в подопревшую попку, тот вновь заснул крепким сном.
Дорожная пробка и контрольно-пропускной пункт вскоре остались позади. Машина плавно неслась по французскому автобану. Прошло еще минут тридцать, они покрыли еще около пятидесяти километров, и Буркхард выехал на Ля Рош-сюр-Фэррон. Автонавигатор сразу вывел на узкое шоссе, которое пересекало безлюдные окрестности.
Предгорья медленно погружались в вязкие альпийские сумерки. До места встречи оставалось несколько минут езды, и Буркхард старался не выдать своего волнения, — на его взгляд, все прошло слишком гладко.
Невзрачный французский населенный пункт Аманси, вопреки инструкциям Буркхарда не делать никаких письменных пометок, был обведен у Моники кружком на дорожной карте. Но выговаривать ей не хотелось. К тому же сам он нарушил инструкции: чтобы не надрывать глаза над картой впотьмах, он заранее установил в навигаторе маршрут до Аманси. Угадывая мысли Буркхарда, напарница виновато поглядывала на него в зеркало заднего вида.
С того момента, как машина стала петлять по узкой трассе и чадо опять начало покряхтывать, требуя, чтобы его покормили, лицо Моники приобрело такое выражение, будто ей досталась доля чужого счастья, о котором сама она не смела и мечтать. Иметь собственных детей, вместо того чтобы промышлять кражей чужих, разъезжать с младенцами, накачанными снотворным, по диковатым заграничным дорогам — вот что стоит жертв и мучений! Что неожиданно, роль няни, а то и мамы, Монике действительно была к лицу. Вновь поймав на себе взгляд подруги, Буркхард тоже догадался, что они думают об одном и том же, и ему стало не по себе…
Впереди показалась площадь. На ней высилась церковь. Буркхард подрулил поближе к паперти и затормозил неподалеку от «вольво» серого цвета. Машина стояла припаркованной слева от кафе «Де-ля-Буль», вход в которое озарялся сиреневым неоновым светом. В салоне тоже сидели двое, мужчина и женщина.
Буркхард осмотрелся, тронулся с места и припарковался на другом конце площади. В «вольво» включили габаритные огни. Из-за руля вылез хлыщеватый парень в зеленой парке. Парень направился к кафе и исчез за стеклянной дверью. Краем глаза посматривая на шоссе, Буркхард последовал его примеру.
Через несколько минут оба показались на выходе. Буркхард прошел к своему «опелю», распахнул заднюю дверцу и взял из рук Моники чадо.
Молодой человек в зеленой парке, которого Буркхард видел впервые, изъяснялся по-немецки с саксонским выговором. Женщина, по виду русская, сидела на заднем сиденье как в рот воды набрав. Буркхард забрался на заднее сиденье «вольво», бережно передал малыша незнакомке в руки и застыл в позе ожидания.
Улыбаясь краем глаз, женщина помяла крохотные кулачки младенца, пощупала пульс, прикоснулась губами ко лбу, потрепала его за щечки и так же молча кивнула. Ее напарник протянул конверт:
— Fünfzisch.[14]
Это была вторая половина обещанной суммы в евро; первую часть они получили авансом в Кёльне.
— Wie heiβt der Knabe?[15] — спросил Буркхард.
Пара, ухмыляясь, промолчала…
Часть шестая ТОТ ЕСТЬ ТЫ
…Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень…
Псалом 90В истрепанной форме, с какими-то лохмотьями на груди, обросший и до неузнаваемости исхудалый, сын сидел в глубине мрачноватого помещения, затравленно поглядывал в камеру, в правый верхний угол кадра, где, по всей видимости, прятался от объектива режиссер этого странного «репортажа с места событий», и рассказывал, что попал в плен в Грозном, называл точные даты, утверждал, что находится в горах, но не знает точно, где именно…
На видеосъемку Рябцев согласился не из шкурных соображений. Как он объяснял, после долгих размышлений, он пришел к убеждению, что обязан пойти на этот шаг по долгу службы… С этого места смысл речи Петра становился не совсем понятным. Вопросительно поглядывая за кадр, откуда ему, похоже, делали знаки, он объяснял, что инициатива исходит от полевого командира Кадиева, известного так же по кличке Англичанин. Пересылая видеокассету, Кадиев намеревался выйти на контакт с армейскими кругами Главного управления для проведения сепаратных переговоров. Цель переговоров — ни много ни мало — прекращение боевых действий. Кадиев требовал предоставления ему гарантий, что переговоры будут проходить в режиме строгой секретности, а в качестве посредников между ним и Главным управлением будут привлечены «правообладающие» лица, имена их предстояло согласовать позднее. Предложение обменяться военнопленными, в числе которых Кадиев готов был выдать и его, Петра Рябцева, являлось поводом для установления первого ключевого контакта. Пленник подчеркивал, хотя его использовали как обыкновенный громкоговоритель, что он не считает себя вправе отвергать эту инициативу. При этом предупреждал открытым текстом — и ему не пытались заткнуть рот, — что не может поручиться за подлинность фактов, которые будут изложены в видеозаписи, и не знает, в каком виде пленка дойдет до адресата.
Далее шел перечень сопутствующих условий. Прежде всего — приезд в республику Рябцева-отца. Он должен лично присутствовать при установлении первых контактов с «правообладающими» представителями Главного управления. Кадиев называл это условие «предопределяющим». И неслучайно Петр особенно членораздельно прокомментировал именно это требование Лечи Англичанина, добавив к сказанному, что сам он не давал координат ни своего отца и ни кого бы то ни было вообще. Кадиев пользовался собственной информацией. Все перечисленные в списке армейские чины — из петербургского кадрового отстойника. Их приезд также оговаривался как обязательное условие для проведения переговоров на месте, в республике или, в крайнем случае, на нейтральной территории. Петр монотонно зачитал фамилии. Некоторые он знал, но произносил их таким тоном, будто они ничего ему не говорили.
Затем шел перечень требований организационного характера. Для человека непосвященного ясно становилось одно: обращение адресовано не просто к военным чинам Ленинградского военного округа, а к конкретным лицам, которых чеченец либо знал лично, либо отобрал по какому-то четкому критерию и, судя по всему, действительно был неплохо информирован, поскольку в списке значились фамилии не только бывшего командующего округом, но и теперешнего, а также начальника оперативного отдела и его заместителя.
Под конец записи Петру дали зачитать список людей, в похищении которых Кадиева обвиняли правоохранительные органы России. Кадиев отводил от себя эти обвинения и брал обязательство предоставить новые доказательства непричастности к инкриминируемым ему фактам. Называлась фамилия офицера ФСБ, русского, год назад похищенного в Москве, фамилия гражданского лица, жителя Новосибирска, фамилии еще двух мужчин, похищенных в самом Грозном, один из которых, иностранец, работал в британской гуманитарной организации. Кадиев также «снимал» с себя обвинение в похищении чиновника-ингуша из Назрани (фамилия прозвучала нерусская) и его последующем убийстве, совершенном год назад. Петр зачитал еще один список: Кадиев требовал снять с него ответственность за похищение ряда лиц на основании того, что обвинения его в этом являлись обыкновенной клеветой. В последнем перечне и была названа Мария Лопухова, братьев которой Михаил Владимирович знал лично, через них кассета и попала к нему руки. На первый взгляд связь казалась непонятной.
«По долгу службы…» — фраза сына не выходила у Рябцева-старшего из головы. Сын так и выразился. Черный юмор? Дошутились все… Из всего сказанного в кадре, не только по тону, но и принимая во внимание тот факт, что снимавший сына на пленку действительно не потрудился подвергнуть его слова цензуре, Михаил Владимирович сделал для себя вывод, что Петр решился на данный шаг не потому, что оказался в безвыходном положении и не потому, что ему угрожали. Речь шла о серьезной игре. Что же касалось сути оглашаемых намерений — поиска контактов с военной контрразведкой через армейские круги, заинтересованные в урегулировании конфликта в республике, причем в обход других служб, таких, как УВКР, в обход главы ФСК Агромова, — Михаил Владимирович не знал, что думать. Конкуренция между оперативными службами и даже между их отдельными подразделениями возникла не сегодня и не вчера. Об обострении противоречий, которые давно уже стали каждодневной реальностью работы этих служб, его предупреждал и Окатышев. Именно этим, по словам генерала, объяснялись недавние кадровые перестановки. Но как-то с трудом верилось в саму схему. В войсках будто бы больше сторонников урегулирования, потому что воюют и лишаются жизни на поле брани именно те, кто служит в армии. А армейские спецслужбы будто бы не очень стремятся к урегулированию, потому что каша заварена не просто так, но с конкретными целями, которые всё еще не достигнуты. И не последняя роль в их достижении отводится, разумеется, ФСБ и соподчиненным ей службам…
Всё здесь казалось писаным вилами по воде. Ведь дураков давно не держали в своих рядах ни с той стороны, ни с этой. На всю Чечню не нашлось бы сегодня и одного простофили, который бы не понимал сути проблемы. Стоглавая гидра гнездилась в том самом Главном управлении, к которому пытался апеллировать Кадиев. Пробирочный сепаратизм, клон чудища, каким бы скрещиванием его ни выводили, смешав в одной колбе все, что попалось под руку — доморощенный ислам, чернобородую спесь чучмека, розничное достоинство Масхадовых и иже с ними, продажный патриотизм басаевцев и завезенную иорданскую чернь Хаттаба… — этот клон смог дорасти до многоклеточного зародыша, но тут и случилось непредвиденное: его бросили на произвол судьбы. Стоило ли удивляться теперь, что подросший клонированный змий посрывал замки с клетки и, как в фильме ужаса, пошел топтать живых человеков. Сегодня он не поддавался укрощению. Лжесепаратисты басаевцы и прочие, вполне понимавшие, какая роль на них возложена, всё крушили направо и налево от имени всех чеченцев, они никому не давали выйти из игры. Протестовать, не соглашаться — всё равно что ставить себя под еще более целенаправленный удар, поскольку возможной становилась любая спекуляция: предатель Басаев, находившийся на прикорме у спецслужб и предающий интересы всех поголовно, мог запросто обвинить в измене и трусости кого угодно, даже Масхадова, независимо от того, являлся тот настоящим патриотом или всех водил за нос. Таким образом Басаеву удавалось управлять не только Масхадовым, но и остальными, навязывая всем «точку зрения» войны без правил. В результате, от начатого никто не мог отступиться. Необратимым стал сам процесс. Оставалось непонятным, на что рассчитывает Кадиев, обращаясь непосредственно к тем, кто змия клонировал.
С другой стороны, демагогией ведь было и мнение, что, не будь всех этих под-клонов: Басаева, Масхадова, Хаттаба и прочих, всё обернулось бы еще более тяжелыми последствиями, потому что вместо них пришлось бы иметь дело с никому не известными и не подконтрольными моджахедами родом из аравийских пустынь, которые заняли бы их место. На данном этапе ситуация вполне поддавалась контролю. Если бы не вербовка и не продажность главарей, то среди воюющих нашлось бы немало таких, кто занял бы более здравую позицию, а это позволило бы чеченцам спастись от геноцида, который на сегодняшний день стал неотвратимой реальностью…
С того дня, как видеозапись с кадрами, запечатлевшими Петра Рябцева, аналогично первой кассете пришла по почте на адрес отца братьев Лопуховых в Туле и была ими передана в руки офицеров оперативного отдела штаба округа, генерал Окатышев периодически звонил Рябцеву-отцу и обнадеживал: для освобождения его сына делается всё, что в человеческих силах. Уже к середине апреля в Чечне удалось провести детальные переговоры об обмене. Анализ ситуации и всей сопутствующей информации, которая стекалась из разных источников, позволял надеяться на успешное завершение операции.
Вопрос решался напрямую. Посредник на месте смог вступить в переговоры с самим Кадиевым, отправившим видеозапись. Генерал признавал ошибочность некоторых действий, предпринятых на начальном этапе, — немало времени было упущено. Он объяснял это тем, что командование поначалу склонялось к версии, что за предложением Кадиева — обменяться пленными — стоит замысловатый маневр с целью оказать влияние на высшие военные круги, помешать генералитету принять решение с непредсказуемыми для соперника последствиями, тогда как действия предсказуемые с любой точки зрения предпочтительнее, — такова природа боевой стратегии и тактики. Но Окатышев просил не драматизировать. Серьезных срывов пока не произошло. Его люди понимали степень ответственности, которая на них возложена. После завершения консультаций в Грозном оставалось согласовать решения на других уровнях, уже у себя дома. Именно этим генерал и занимался в настоящее время.
Окатышев не скрывал, что есть разногласия не только с ФСК, но и с офицерами Генштаба в Москве и что эти разногласия нелегко утрясти. Отчасти поэтому генерал настаивал на том, чтобы разрубить надвое гордиев узел. Операцию по обмену пленными он не хотел смешивать с переговорами, которых добивался Кадиев, поскольку исход игры, затеянной обеими сторонами, не поддавался прогнозам. Именно поэтому «обменную» составляющую операции и ставили под вопрос московские оперативники из ФСК.
При личной встрече, в ходе длительного разговора, генерал поделился с Рябцевым-старшим и другим соображением, тут же пояснив, что оно сугубо личное. Обстоятельства, при которых Петр Рябцев попал в плен, вызывали немало разнотолков. Случайность, непредвиденное стечение обстоятельств — это тот узловой элемент, с которым принято считаться в любой ситуации, требующей просчета. Но до определенной степени. Специфика работы разведывательных подразделений в Чечне, переплетение интересов различных соподчиненных служб, что не всегда поддавалось жесткому согласованию, не могло не приводить к эксцессам, несмотря на все усилия фильтровать информацию через единый армейский канал. Тут не всегда удается разобраться даже в том, кто напутал, кто напортачил и с кого снимать стружку. Увы, бывало и такое. Генерал не исключал, что ЧП с Рябцевым-сыном могло произойти по недосмотру. Капитана могли сдать свои же. Доходило и до такого абсурда.
Высказанная гипотеза на глазах стала обрастать ошеломляюще реальными контурами, как только генерал попытался обрисовать ситуацию с положительной стороны в свете этих новых, по сути, шокирующих предположений. Если его версия верна, то оптимистический прогноз в отношении развязки ситуации сразу набирал очки. К такому выводу неизбежно подводила логическая цепочка анализа. Если кому-нибудь из оперативников и могло взбрести в голову «сдать» своего офицера, то только с одной-единственной целью: запастись нужным количеством «разменной монеты» для проведения какой-нибудь «бартерной» операции. А стало быть, пленник имел в глазах моджахедов определенную ценность. Стало быть, его держали «на выдачу», берегли. А значит, имелись рычаги, была возможность действовать. Ситуация в таких случаях, как правило, проясняется довольно быстро…
Всё это плохо укладывалось в голове у Рябцева-старшего. Стоило задуматься о происходящем, как голова шла кругом. Неужели армия могла докатиться до таких крайностей? И если это так, неужели существует выход из положения?
Еще в середине апреля от офицера, контролирующего контакты с Кадиевым на месте, Окатышев получил подтверждение о том, что принципиальная договоренность об условиях выдачи капитана Рябцева достигнута. Но буквально вслед за этим чеченская сторона всё переиграла. План, согласование которого потребовало стольких усилий, расползался по швам по причине новых непредвиденных обстоятельств. Всё, что удалось сделать, пошло насмарку.
Обстоятельства же были таковы, что в руки федеральной контрразведки в Ханкале попал пятнадцатилетний родственник Кадиева. Подростку предъявлялось обвинение по стандартной статье: «Участие в незаконных вооруженных формированиях». Более конкретно — на руках у юнца явно была кровь российских военнослужащих. И тем не менее вопрос стоял о включении молодого преступника в список на обмен, — этого требовали сподручные Кадиева. Дать на это согласие Окатышев не мог без согласования на всех уровнях.
Ситуация осложнялась еще и тем, что Кадиев настаивал на передаче капитана лично в руки родителя, тем самым преследуя не совсем понятную цель. Как поверить, что опытный полевой командир может тешить себя иллюзией, что присутствие отца пленного капитана, кем бы он сегодня ни был по его представлениям, послужит гарантией, что переговоры с «правообладающими» лицами не будут сорваны в последний момент?
Попытки убедить Кадиева отказаться от неадекватного требования ни к чему не приводили. По словам порученца на месте, полковника Майбороды, который непосредственно курировал контакты с Кадиевым, свою несговорчивость тот мотивировал всё тем же: отказывался иметь дело с посредниками от спецслужб и перестраховывался на случай искажения информации местными «стратегами», прежде чем эта информация дойдет до тех, кто принимает реальные решения и кто действительно стремится найти выход из тупиковой ситуации.
Полковник Майборода, летавший с докладом в Петербург и уже вернувшийся в Ханкалу, считал, что у Кадиева связаны руки. Самостоятельных решений чеченец будто бы не принимает. Подобно тому, как это было с другими, он вынужден лавировать между своими частными интересами, противоречивыми настроениями однополчан и общепринятыми позициями чеченского воинства в целом, если о таких позициях вообще есть смысл говорить, принимая во внимание борьбу за власть и бесконечную подозрительность друг к другу. Российские круги, заинтересованные в ведении военных действий, еще с дудаевских времен научились обострять противоречия на ровном месте, манипулируя всеми без исключения — когда-то самим Дудаевым и оппозицией, а сегодня, с неменьшим мастерством, моджахедами и прочими воюющими. На доверие к армейским разведотделам в стане Кадиева рассчитывать не приходилось. Именно по этой причине самый сложный вариант обмена пришлось утверждать как рабочий, хотя любой оперативник с самого начала счел бы его малопродуктивным из-за непомерно раздутого риска…
Кроме несовершеннолетнего родственника Кадиева в список выдачи чеченцам внесли еще две фамилии. Их обладатели находились в Москве под следствием. Вместе с капитаном чеченская сторона должна была выдать и других российских пленных. Но список всё еще согласовывался. Как объяснял Рябцеву Окатышев, порученец из Ханкалы сообщил, что Петр Рябцев самостоятельно добился от чеченцев согласия на выдачу своих бывших сослуживцев. Речь шла о рядовом Лисунове и о старшем сержанте Ферапонтове. Оба — из бывшего подразделения Рябцева. И тот и другой в плену находились с ноября, официально числясь без вести пропавшими. Каким образом капитан смог принудить моджахедов разыскать своих людей, которых по имеющимся у Майбороды сведениям развезли в разные концы республики, — об этом оставалось только догадываться. Но сам факт, что, находясь в горах, в совершенно бесправном положении, капитан Рябцев всё же смог выдвигать какие-то условия со своей стороны, говорил о том, что в окружении Кадиева на операцию делалась серьезная ставка. Генерала это обнадеживало. Правда, эти сведения требовали дополнительной проверки.
Так или иначе, расстановка сил свидетельствовала о том, что Кадиев, со дня установления первого контакта добивавшийся гарантий, что операция будет проведена аккуратно, в режиме максимальной закрытости, теперь и сам нарушал этот принцип. Новые требования, внесение в список выдачи сидевших в Москве под следствием боевиков, ставили Окатышева перед необходимостью согласовывать операцию с московскими инстанциями — главным образом с ФСК, с людьми генерала Агромова. До сих пор этого удавалось избегать, справляться своими силами. Теперь же, едва прошли первые консультации, в Москве стали настаивать на прямом выходе на чеченского посредника, как минимум, по мобильной связи…
Близился конец апреля. Сам генерал Окатышев вылететь из Питера в Моздок не мог, он направил в Чечню группу из трех офицеров — полковника Однораза, подполковника Белощекова и майора по имени Сулейман, чеченца по национальности. Рябцев-отец вошел в группу четвертым.
В подмосковном Чкаловске, где предстояло пересесть на спецборт до Моздока, состоялась контрольная встреча с московскими офицерами, которые приехали в аэропорт освежить инструкции.
Из разговора с московскими контрразведчиками выяснилось, что разногласия, о которых Окатышев старался не распространяться, явно отравляли отношения между службами. В Москве настойчиво цеплялись за идею выхода на связь с посредником. Офицеры, как и Окатышев, не хотели вдаваться в подробности. Но даже из поверхностных сведений, которыми они делились, не стоило труда прийти к выводу: если что-то сорвется теперь, разрешение на следующую подобную операцию пробить удастся не скоро. Неслучайно два дня назад в Моздок вылетел полковник Шерстобитов из ФСК, в обязанности которого входило курировать операцию в Москве: Шерстобитов нуждался в каких-то дополнительных подтверждениях, собирал их по своим каналам. Новость выглядела неожиданной. Петербургскую сторону даже не посчитали нужным проинформировать об этой «миссии», сведения поступили уже из Грозного…
Всматриваясь в лица заместителя Шерстобитова и его помощника, которые приехали в Чкаловск для последних согласований и явно чего-то недоговаривали, Рябцев-старший ловил себя на мысли, что не может не испытывать к этим людям доверия. Не оставляла мысль, что если бы ему довелось служить в окружении таких, как они, то он и по сей день носил бы, наверное, погоны. Несмотря на профессиональную манеру уходить от прямых ответов на вопросы, в их личном позиционировании по отношению к задаче Рябцев не видел и тени какой-либо двусмысленности. Они просто делали свое дело, работали не за страх, а за совесть, хотя вполне отдавали себе отчет, что от их поступков зависит очень немногое. Однако в том малом, что они брали на себя, они намеревались идти до конца. Эти люди были на стороне таких, как пленный сын, на стороне конкретного живого человека, и не скрывали этого, хотя жалованье получали от тех, кто по статусу, да и физически, не мог принимать в расчет судьбу каждого пострадавшего военнослужащего.
Оба офицера с крамольной откровенностью говорили о замалчиваемых с начала второй кампании потерях среди военнослужащих и мирного населения. Пятизначные цифры не очень-то удивляли. Те же данные Рябцев слышал от Окатышева. Но тот высказывался куда резче и откровеннее: интерес высших военных кругов к закулисным играм с главарями сепаратизма объяснялся не только непредвиденно большими потерями, которые несли в Чечне федеральные силы — цифры были заложены в план кампании и соответствовали предусмотренной «минимизации потерь», — и не только стремлением командования спасти честь воинства, в очередной раз поруганную, потому что оно в очередной раз провалило ряд ответственных операций. Но тем, что воинство, да и страну, снаряжавшую рать свою в поход, пора вообще спасать, как утопающих. И всё это вопреки басням, которыми пичкали весь мир правительственные чиновники, неспособные оказывать влияние на ход событий, неспособные отступиться от вчерашних бредовых решений, а еще меньше — отвечать за них. Хотя за любое из таких решений следовало нести ответственность не только перед своей совестью: за такое отвечают собственной головой…
Размышляя над тем, что ему приходилось слышать от Окатышева, Рябцев не мог иногда удержаться от предположения, даже если в него и закрадывалось что-то граничившее с искушением: а что, если в недрах армейской машины созрел какой-то негласный консенсус, причем без заговора, сам по себе, без нарушения людьми присяги?
Здравый смысл, безусловно, требовал от людей информированных, способных на реальные поступки делать всё от них зависящее, для того чтобы армия, ее структуры смогли сохранить дееспособность, уже потому, что она является частью фундамента, на котором держится любое общественное здание. Но более конкретно — они должны были делать всё необходимое, для того чтобы отстоять честь людей, которые доверили армии свои жизни, а таких людей насчитывалось даже не тысячи, в общей сложности счет следовало вести, наверное, на миллионы. И это общее настроение умов не могло не перерасти в организованные действия — рано или поздно. Вот и напрашивался вывод: что, если молчаливое большинство смогло сгруппироваться вокруг общих ценностей и на основе этих ценностей объединиться в мощную и до поры до времени невидимую силу, которая пока не успела заявить о себе во всеуслышание?
Несмотря на то что в своих размышлениях Рябцев чувствовал что-то и вынужденное и, как бы то ни было, неопределившееся, зыбкое, он понимал, что сама логика, которую он нащупывал в себе, не обманывает его. Миром правят не люди, а Бог. Бог правит всем, в том числе властью. Которая правит людьми… Чем это можно опровергнуть? Кому не хотелось верить не в абстрактную силу добра, которую сама якобы Природа закладывает, как фундамент, в души некоторых людей, но в силу осознанную, рациональную. Ведь только так она способна что-то созидать, а не только скапливаться в массу, не только удерживать мир от полнейшего краха, до тех пор пока эта масса не станет критической.
Именно так устроен мир: всё возможное со временем становится необходимым, спрос порождает предложение. В этом смысле миром правит именно необходимость. А если так, то консенсус людей здравомыслящих давно должен привести к формированию реальной силы, причем спонтанно, сам по себе. Это неизбежно. Что, если эта организованная сила уже давно существовала в России и незримо удерживала под своим контролем глобальные процессы, происходящие в стране? Эдакое братство воинов-монахов, но в русском варианте? Что, если это братство сумело себя замаскировать и настолько изощрилось в искусстве лицедейства и мимикрии, что истинные его цели не поддавались анализу и любое соперничество с ним оказывалось заведомо обреченным на провал? Но тогда стоило ли относиться к этому однозначно?.. Всё тайное чревато тем, что так же тайно над ним можно взять контроль. Тайное созидательно в Божьих промыслах. В помыслах людских тайное разрушительно. Потому что человек, по большому счету, созидать не способен. Он может только пользоваться созидаемым Богом. В этом и просчитались в свое время тамплиеры — прародители современных тайных братств… В таком случае подход чеченца был не таким уж абсурдным, каким казался на первый взгляд. Не эти ли круги пытался расшевелить Кадиев?
В конечном счете, всё упиралось в тезис, от которого многие шарахались еще во времена службы Рябцева-старшего: Россия — страна, мол, особая. В силу своей исторической идентичности, в силу менталитета ее народа она, мол, способна мобилизовать свой потенциал только в экстремальных условиях. Русские не способны на поступательные половинчатые действия…
Однако это не избавляет человека от заложенного в его природу наследия — наследия Хама, как объяснил однажды владыка Ипатий. И если верить Книге книг, если вообще есть смысл в опыте прошлого, то это наследие — при проекции данного принципа на современную Россию — сегодня сводится буквально к надругательству над авторитетом, пусть и бессознательному, пусть без злорадства. Хотя и он, авторитет, не является зачастую столпом нравственности. Хотя и он не есть однозначно производное от добра, как и бездействие. Но вывод всё же напрашивался однозначный: воля, проявляемая в земных делах, замыкается на зле. Вот тут-то и заявляло о себе что-то надродовое, разуму недоступное… Увы, в стране, в которой он жил, непротивление злу вело к преумножению зла.
Но ведь и злом выкорчевать зло тоже невозможно. Тогда где же выход? В полном отмирании и в полном возрождении заново, на других началах и в обновленной репликации всего, что уже было или просто могло бы быть? Но не начнется ли всё сначала? По тем же законам отрицания, которые приведут всё к тому же надругательству?..
Вместе с возвращавшимся в подразделения военным людом разных родов войск и званий «зондеркоманду», как пошучивал над своей миссией полковник Однораз, по прилете в Моздок в тот же день переправили в Грозный. Расквартировали группу на территории подразделения ГРУ в Старых Промыслах. Офицерам отвели две полуподвальные каморки. Здесь и пролетели трое суток в полнейшем бездействии.
Новостей не поступало ни от Майбороды, ни из округа. Полковник Однораз теребил по телефону Шерстобитова, который всё еще находился в Моздоке, по каналам закрытой связи вновь и вновь выходил на Окатышева. Но в Петербурге твердили одно и то же — сидеть и ждать.
Полковник Майборода дал знать о себе только на третьи сутки. Он приехал вечером, к ужину, привез бутылку московской водки, котелок котлет и канистру питьевой воды, заверив, что от местной «радоновой» воды пользы столько же, сколько и от прославленного кавказского климата.
Небритый и заметно недосыпавший, полковник производил впечатление обидчивого добряка. Он напропалую острил, но по его усталым глазам Рябцев-старший понимал, что история с обменом — лишь одна из его неисчислимых забот и, скорее всего, не главная.
Дни стояли уже теплые, но в помещениях топили, как зимой. Дорогой полковник успел продрогнуть и теперь придвинулся ближе к отопительному агрегату, сетуя на то, что в горах еще зима зимой, снега столько, что ни пройти ни проехать. Потом говорили о боях в Аргунском ущелье, о кровопролитной заварухе под Урус-Мартаном. Когда же офицеры пропустили по третьему разу, полковник вдруг перестал улыбаться и, вопросительно вглядываясь в лица, стал излагать схему обмена, выработанную совместно со специалистами ФСБ. Обмен предстояло проводить по «хитроумной» схеме — синхронно, в двух разных точках. Майборода не скрывал, что план Шерстобитова ему не по душе. Но он ничего не мог изменить.
— Местонахождение вашего сына известно. На карте могу показать… Это не так далеко, — объяснял Майборода, задерживая на Рябцеве-старшем оценивающий взгляд. — Горы, снег… Окопались капитально. Наших там человек десять, не считая рабов. Бомбить не стали, хотя давно можно было вычистить логово и дезинфицировать… Вашего сына держат в самом расположении отряда Кадиева. Условия содержания… — полковник пожал плечами. — Кинотеатров там нет, сами понимаете. Так что главное развлечение — самосуд. Одному из наших пальцы отрубили лопатой, а потом нож бросили, чтобы сам дорезал ошметки.
— Откуда такие подробности? — помедлив, спросил Михаил Владимирович.
— Попался нам один молодчик, поделился… Сам Кадиев — редкая птица. В разработку мы давно его взяли. Легализации вроде не добивается — так здесь говорят о таких, как он. О тех, кто не прочь рвануть на нашу сторону. На деле, сами понимаете: одна рука дает, другая забирает. Возьмите хоть меня… Разве я могу что-то гарантировать лично? Всё, что им предлагают в Москве, так это объективное и непредвзятое рассмотрение их участия в бандформированиях… — Полковник усмехнулся. — Таким, как он, некуда деваться. Если бы он нам поверил, думаю, сложил бы оружие… Чеченцы — народ гордый и в принципе порядочный. Но у них плоховато с тормозами. Да и в исламе учение о грехе — другое. Ислам не ставит вопрос ребром. Он проблему нюансирует. Отсюда разный тип поведения, непонимание… — Дожидаясь реакции на сказанное, полковник замолчал, но, поскольку реакции не последовало даже от Сулеймана, Майборода сообщил главное: — Что же касается вашего присутствия, то я принял решение вас не впутывать. Получите сына, и на этом — баста. Дальше сами будем разбираться…
После визита в часть порученца Окатышева глаз сомкнуть ночью вообще не удалось. Мысленно перебирая увиденное и услышанное за день, вновь и вновь прокручивая в голове слова полковника, Рябцев-старший, не переставая, копался в своем прошлом. Ему все чаще казалось, что где-то там и таилась разгадка всего, что происходило в его жизни сегодня… Перед тем как лечь, они долго дискутировали с Сулейманом.
Нормы шариата тот не считал ни абсурдными, ни отжившими. Согласно практиковавшимся некогда правилам, пощечина, лишавшая человека чести, при нанесении ее открытой ладонью наказывалась тремя, как говорил Сулейман, верблюдáми, обратной стороной ладони — шестью верблюдáми, за убийство же предписывалось отдать шестьдесят и более верблюдóв, в зависимости от жестокости убийства.
Сулейман уверял, что более сбалансированной система наказаний стала с первой половины девятнадцатого века благодаря Шамилю, который привнес в нравы горцев смягчающие нормы. Тогда и были отменены «кровожадные» классические положения шариата, такие, как отсечение руки, головы. Кару заменили на штрафы и отсидки в ямах-зинданах. Поблажки стали неизбежными ввиду затянувшейся войны. Тогдашним властям горцев приходилось беречь жизни чеченцев и дагестанцев, в противном случае их силы редели бы быстрее, чем на поле брани. Поскольку же к Шамилю на Кавказе относились скорее как к отступнику, а не как к национальному герою, — сдавший сородичей врагу, кто же он еще? — то во введенных им новшествах многие и тогда, и позднее видели причину всех бед, обрушившихся на регион. Сулейман же считал вполне приемлемым и даже тонко отточенным инструментом именно традиционную систему наказаний, но при условии «правильного» применения.
Это и поражало в толкованиях Сулеймана — не столько терпимое отношение к кровожадности, сколько формальное отношение к греху как таковому. Тут попахивало каким-то формализмом. Странным, стерильным формализмом являлся, в конце концов, даже сам принцип возмездия — око за око, зуб за зуб — и неизбежно вытекающий отсюда ответный грех. Сулейман уверял, что этот принцип не имеет отношения к исламу, что он пошел гулять по миру еще из Хамурапии, то есть со времен Вавилонского царства. Сулейман признавал, что ислам почти не уделяет внимания учению о первородном грехе, несмотря на то, что Коран, как и Ветхий Завет, описывает сцену искушения, — правда, не яблоком, а зерном, — но этому не придается большого значения. Вероятно, здесь и крылся ответ на многие вопросы…
Михаил Владимирович слушал Сулеймана в пол-уха. Он думал о своем. Чем дальше, тем всё больше Рябцева-старшего мучили сомнения. По поводу былой службы. По поводу всего на свете. О грехе чужом и грехе собственном. О взятии на себя чужого греха… Разве не к этой простой несократимой дроби сводились все формулы? Разве не в этом заключалась парадоксальная суть самого понятия «чужой грех»? Что поразительно, столько тысячелетий проносившись с этой идеей, люди так ничего путного из нее и не вынесли. Лишь не переставали идею извращать. Раз оружие — значит сила. Раз сила, армия — значит власть. Раз власть — значит любой ценой, любыми средствами…
Самоограничение — основа добродетели. Армия — предельная форма самоограничения. Но самоограничение претит разуму, потому что усекает свойственную ему автономность. Если же исходить из того, что разум — начало и мерило всего, тогда как самоограничение — единственная система координат, в которой всё стоящее обретает конкретную сущность и становится приложимо к реальной жизни, то выбор между самоограничением и разумом, навязываемый жизнью, оказывался, увы, невыносимым…
Встреча с Кадиевым состоялась в пятницу в Ермоловке. Арби Ахматов не сразу согласился на ее проведение в доме главы местной администрации. Присутствия Рябцева-отца Кадиев потребовал с такой категоричностью, что Майбороде пришлось отступиться от своего намерения оставить Михаила Владимировича в стороне.
По сообщению с дорожных постов, Кадиев ехал со стороны Сталинского озера в старенькой «волге» с шашечками такси.
Рослый, длинноволосый, бородатый, с породистым лицом, которое, как и на фотографиях, показалось Рябцеву-старшему до странности знакомым, Кадиев был одет в добротный чистый камуфляж, поверх него — в потрепанный офицерский бушлат советских времен. Чеченец производил двоякое впечатление. Обращала на себя внимание его полная уверенность в себе. Что это — демонстрация силы, циничная убежденность, что в сложившейся обстановке ему ничего не грозит и что он может позволить себе всё что угодно? Или самоуверенность человека, которому нечего терять? Но в темных глазах Лечи-Англичанина, где-то в самой их глубине, отец Петра Рябцева всё-таки заметил растерянность. Заметил и не удивился.
По-русски изъясняясь чисто, без малейшего акцента, Кадиев с порога начал гнуть свое, не давая себя перебить.
Майборода оставался непробиваем, непоколебимо хладнокровен. Достаточно тщательно изучив подноготную Кадиева, полковник держал себя так, будто общался с боевиками с утра до вечера.
Встреча продолжалась около двадцати минут. Суть ее свелась фактически к передаче окончательного списка лиц, всего около двадцати человек, реабилитации которых Кадиев добивался с последующими гарантиями, а также к отказу — уже после остающегося в силе освобождения капитана Рябцева в обмен на несовершеннолетнего родственника и еще двоих боевиков — вести какие-либо дискуссии со «стряпчими из спецслужб», которых Кадиеву навязывали. Только с самим генералом Окатышевым, и ни с кем другим.
Уверенность, с которой Англичанин отстаивал свои условия, объективно неисполнимые, не могла не вызывать удивления. Он никого не принимал всерьез из их делегации, за исключением Рябцева-отца. В глазах чеченца сразу появился тщетно скрываемый интерес. Но согласно инструкции полковника Майбороды, за время встречи Рябцев-старший не произнес ни слова…
Его переполняло мучительное чувство, что не только чеченец, но и сам он, оба они в равной степени, стали жертвами какой-то непростительной в их положении наивности. Разве можно было не понимать, что никто и ничего здесь не контролировал, все только делали вид, что за что-то отвечают. Этого требовали инструкции и должностные обязанности. Только и всего. Паническое чувство неуверенности во всем, сопровождаемое полным разбродом в мыслях, сдавило сердце Рябцева холодными тисками, когда уже на выходе, с порога, Кадиев повернулся к нему, окинул его своим тяжелым взглядом и, обращаясь к нему одному, пообещал:
— Я передам его лично в руки. Даю слово…
С этого момента ни минуты сна, ни минуты покоя Рябцев и подавно уже не знал…
По договоренности, достигнутой при посредничестве Арби Ахматова, двух боевиков из окружения Масхадова планировалось доставить из Лефортовского изолятора в Грозный за двое суток до обмена.
В Московском ФСБ особых результатов от операции не ждали, резонно подчеркивая, что «двойной замес» чреват сюрпризами, хотя именно люди генерала Агромова, начальника ФСК при ФСБ, разработали эту запутанную схему, а затем настояли на ее утверждении. Но приказ есть приказ, его и выполняли.
После отъезда Шерстобитова в Москву полковник Мельников, координатор оперативных служб в Чечне, помимо своих обычных обязанностей, взялся официально представлять еще и интересы «московских следственных органов». Он сообщил, что ФСБ отказывается доверять конвой другим структурам. Там решили сопровождать арестантов силами лефортовских «безопасников». Третьим в списке обмена фигурировал Дота Ахобадзе по кличке Доди — пятнадцатилетний родственник Лечи Кадиева. Капитана Рябцева и отдельно от него еще двоих военнослужащих федеральных сил Кадиеву предписывалось выдать в другом месте, но в то же утро, практически в одно и то же время. Там же он должен был забрать своего Доту…
Как только родственная связь между задержанным пятнадцатилетним бандитенком и Кадиевым была установлена и как только выяснилось, что в сети УВКР подросток попал по чистой случайности, Майбороде не оставалось ничего другого, как заново просчитывать возможные последствия нового поворота событий. Вновь перекраивать операцию было уже поздно. В то же время в разыгрываемой комбинации подросток мог стать значимой фигурой, возможно, даже ключевой. И полковник делал всё, чтобы этого не произошло.
Меры предосторожности приходилось принимать и в отношении капитана Рябцева. До последней минуты не оставляли опасения, как бы в стане Кадиева опять что-то не переиграли. Не ровен час там решат, что армейское командование не в меру печется о судьбе капитана. В таком случае почему не взвинтить ставки?
Информация, которой располагал на сегодня полковник Майборода, уже не подлежала сомнениям: вместе с Рябцевым полевой командир Кадиев готов освободить рядового Лисунова и старшего сержанта Ферапонтова. Одно это приравнивалось к победе. Не так часто удавалось вытащить солдатиков из плена. О том, что должны испытывать сами пленники, если их, конечно, посвящали в планы о возможном освобождении, и говорить не приходилось. В случае благополучной развязки речь могла идти не просто об удачно проведенной армейской операции, но и о спасении солдатских жизней.
О точных координатах рокировки предстояло условиться в последний момент по сотовой связи. Однако заранее было обговорено, что выдача пленников, и с той и с другой стороны, состоится на блокпостах в пригороде Грозного. В обмен на Рябцева Майбороде предстояло выдать подростка. Поменять бандитенка на капитана и его сослуживцев предстояло по всем законам жанра, — именно такие сценарии еще недавно разрабатывались для обмена шпионами на пограничных кордонах, и это нагромождение благоглупостей, противоречащих оперативной логике, Майбороду бесконечно раздражало, да и настораживало.
В который раз перестраховываясь, полковник настаивал на жесткой синхронности обмена и наотрез отвергал идею, исходившую от посредника Ахматова, по сигналу ехать и подбирать освобожденных пленников на дороге в указанном по телефону месте, после того как их отпустят на все четыре стороны. И хотя сторонам удалось договориться, не всё обстояло так просто, как могло показаться на первый взгляд. Иногда Майбороду одолевало сомнение: что, если никаких серьезных переговоров с чеченцами никто вести не собирается? По крайней мере, там, в Москве, в кругу генерала Агромова. Созвать парламентеров за один круглый стол, да сделать так, чтобы побольше съехалось, чтобы места хватило всем желающим, и долбануть по консилиуму из орудия «цветочной» серии. Не этот ли сценарий отрабатывали люди Агромова? А если и продолжали морочить всем голову, то лишь потому, что боялись спугнуть дичь. Где, опять же, гарантии, что всю поголовно чеченскую нечисть удастся собрать в одной точке координат, чтобы разукрасить их требухой близлежащие лесопосадки, подкорректировав выпущенный снаряд лазерной подсветкой? В самом деле, не лучше ли первыми пойти на крайний шаг, чем дожидаться, пока чеченцы, окончательно очумев от войны, ринутся толпой в шахиды или поднатаскают на эту роль обездоленных, пущенных по миру вдов и детишек из-за соседнего забора.
Посредник в очередной раз перетасовал все карты. Он требовал перенести обмен с понедельника на воскресенье… Информация от Арби Ахматова поступила в субботу поздно вечером, практически среди ночи, то есть за несколько часов до нового срока, на котором он настаивал: выдачу родственника Кадиева в обмен на капитана Рябцева требовали произвести на рассвете.
Требование было принято. Майбороде вновь пришлось всё координировать с офицерами ФСК в Моздоке. Самого Мельникова на месте не оказалось. Вслед за Шерстобитовым Мельникова вызвали в Москву, и он улетел еще днем, не посчитав нужным предупредить об отъезде. Но для его заместителей новость многого не меняла. План оставался в силе. Какой смысл перекраивать сценарий? Днем позже, днем раньше — какая разница?
Местом обмена капитана Рябцева на Доди Арби Ахматов назвал блокпост № 11 по Старопромысловскому шоссе — фактически на окраине города. Разумеется, сам Ахматов с этой минуты ничего не решал: он лишь передавал инструкции, которые ему диктовали по телефону.
Новое требование ставило Майбороду в уязвимое положение, но он понимал, что не время торговаться. И он принял решение. Среди ночи Майборода выслал к блокпосту рекогносцировочную группу, поставив перед людьми задачу — тщательно осмотреть бугристую и испещренную пролесками местность хотя бы через приборы ночного видения. Две группы прикрытия отправились для скрытого наблюдения за местностью с запада и с северо-востока. На дорогах было приказано выставить усиленные посты и контролировать любое передвижение…
Через час после прибытия групп в район операции полковнику доложили: ничего подозрительного не обнаружено. По соседству базируются мотострелки. Квадрат они излазили вдоль и попрек. Видимость с блокпоста хорошая. На случай осложнения обстановки имеются необходимые укрепления. Западнее, за дамбой, тянется заминированное несколько месяцев назад поле — с использованием самоуничтожающихся мин. Сектор контроля и наблюдения таким образом значительно сужался.
Местоположение блокпоста, добротно отстроенного из бетонных плит, тоже выглядело вполне подходящим. Брошенный жителями аул, на который осенью кто-то из летчиков по ошибке «разгрузился», вывалив на дома весь боекомплект, лежал как на ладони. От ближайших развалин аула блокпост отделяло бывшее четырехполье с холмиком посредине. Расстояние — не более пятисот метров. Снег с развалин уже стаял. По периметру рос бурьян. За дальними остовами домов начинался спуск в низину, на дне которой текла речушка, летом высыхающая, по весне полноводная. Влево по берегу тянулся овраг. Он сворачивал за лесопосадки. Чтобы остановить размывание почвы, здесь когда-то посадили лес. Тогда же проложили и дорогу, уходившую вправо, ее легко можно было отсечь. Рядом с дорогой, сразу за полем, высилось несколько полуразрушенных домов: торчали одни стены, чернели провалы окон. А перед домами виднелись старые боевые укрепления и осыпавшиеся, бурьяном заросшие окопы. В оптику удавалось рассмотреть даже некое подобие блиндажа, покрытие которого разворотило взрывом…
Поспать полковнику так и не дали. Шел третий час ночи, когда из Моздока позвонил заместитель Мельникова. Лефортовские арестанты в Моздок не прибыли. В последний момент в Москве тоже вдруг решили «перетасовать карты» — выдачу одного из лефортовских кандидатов попросту аннулировали. Кого угораздило принять такое решение? По какому праву? Объяснения заставляли себя ждать. Вместо запланированного арестанта предлагали «пустить в ход» другого, не менее «достойного», освобождения которого люди Кадиева добивались на начальном этапе переговоров. Нового кандидата якобы «пригрели» у Майбороды под рукой: он кормил вшей в Моздокской каталажке.
Полковнику предлагалось принять решение на свой страх и риск. Он не верил своим ушам. Но сюрпризам не было конца и края. Прежде чем поставить в известность Майбороду, заместитель Мельникова — якобы точно выполнявший полученные инструкции — успел обменяться новостями с Арби Ахматовым. Мельниковский заместитель попытался обговорить с Ахматовым идею выдачи нового кандидата, да еще уверял, что делалось это с благим намерением — выгородить Майбороду, чтобы на случай обострения ситуации оставался хоть кто-то, не скомпрометировавший себя в глазах кадиевцев, ведь никаких гарантий, что новые предложения там примут, никто не мог на этот час предоставить.
Ахматов ответил руганью и даже не гарантировал, что передаст информацию в течение ночи. Сотовый телефон Ахматова с этой минуты перестал отвечать, хотя и оставался включен. Операция была на грани срыва. И в этой неразберихе люди Агромова умудрялись настаивать на соблюдении всего сценария! Горе-заместитель уверял, что приказ исходит не от Шерстобитова, а от самого Агромова, и даже выше.
— Это от кого еще? От Всевышнего, что ли?! — кричал Майборода в трубку. — Вы мне объясните, расхлебывать кто будет всё это? Опять Господь Бог? Да когда вы там очнетесь?
Больше всего полковника коробил тот факт, что переговоры с Ахматовым велись за спиной у него, Майбороды. Кто руководит операцией? Кому впоследствии предстоит отдуваться? Майборода отказывался с этим смириться и продолжал требовать немедленной связи с Шерстобитовым. Безрезультатно. Перезвонив ему через десять минут, заместитель заявил, что шеф вообще «недосягаем». Полковник окончательно вышел из себя. Оборвав телефонную перепалку на полуслове, он вызвал Однораза. Вместе они пытались выйти на свое оперативное руководство в Петербурге, чтобы уточнить инструкции. Но среди ночи и Окатышев оказался недоступен: генерал уехал в Москву. Единственное, что пообещали, так это проинформировать его в течение ночи.
Майборода поднял на ноги группу оперативной связи, потребовал от подчиненных разбиться в лепешку, но найти способ выхода на связь с Ахматовым, не дожидаясь утра. И через полчаса Ахматов действительно позвонил сам. Его заставили воспользоваться связью комендантской роты.
Ахматов невнятно бормотал в трубку, что последнюю информацию, полученную от людей Мельникова, он отправил по адресу. Выдвигалось встречное условие. При обмене у блокпоста непременно должен присутствовать Папаша — такое условное прозвище прилепили Рябцеву-старшему кадиевцы, и теперь им пользовались обе стороны. Лично Папаша, и никто другой, должен был передать подростка кадиевскому конвою, только таким образом он мог рассчитывать получить в обмен сына. А ответным ходом было неожиданное согласие Кадиева выдать всю русскую троицу «в одном кульке» — всех сразу. Раньше от этого упорно отказывались.
Майборода приказал выехать на час раньше намеченного времени при усиленном сопровождении. Доди он посадил к себе в БТР. Конвоировали паренька двое контрактников из комендантской роты с обычными в таких случаях «почестями» — в наручниках и подбадривая пленника пинками, от которых паренек чуть ли не взлетал на воздух. Неуместные издевательства действовали полковнику на нервы, но выяснять отношения теперь еще и с комендантскими ему не хотелось. Громадный ефрейтор Илья едва умещался на узком сиденье бронетранспортера. Левым боком, будто стеной, он подпирал сверкавшего глазами узника, водрузив ему на колено свой внушительный кулачище. К руке исполина Доту приковали наручниками. И он едва дышал.
Рябцев-отец, сидевший напротив полковника, выглядел задумчивым и невозмутимым.
Непредвиденный чужой конвой, в последний момент навязанный комендантом, лишние люди, проволочки на дороге, на каждом шагу безалаберщина, а затем еще и требование ефрейтора остановиться, чтобы узник смог оправиться, — Майбороду воротило от всего. Тщательно просчитанная операция оборачивалась умопомрачительной самодеятельностью.
— В штаны пусть делает, — обронил полковник.
— Ему-то что, товарищ полковник… Хоть бы хны, а мы… — замялся ефрейтор. — Пронесло его. С вечера бегает.
Майборода приказал остановиться.
Из головного БТРа, тыча в ночь автоматами, на дорогу высыпало всё отделение десантников. Там не совсем понимали, что происходит. Майборода загнал всех обратно и дал ефрейтору ровно минуту.
— Наручники снять? — спросил громила Илья.
Полковник только вздохнул. Ефрейтор шуганул паренька к обочине.
Колонна опять тронулась. Но не прошло десяти минут, как на связь раньше времени вышел дежурный. Капитан объяснял, что около двух часов назад на территории к югу от Урус-Мартана комендантская рота подобрала три трупа. Российские военнослужащие. В темноте напоровшись на банду, которая катила с выключенными фарами в сторону Бакинской трассы, комендантский патруль был вынужден открыть огонь. По всем признакам трое погибших — пленные. На трупах изношенное обмундирование. Лица небритые, исхудавшие. Поэтому дежурный и посчитал нужным выйти на связь. Все трое расстреляны фактически на глазах у своих. В ходе завязавшейся перестрелки боевики избавились от пленных из опасения, что их отобьют. Такой версии придерживался комендант.
— Опознание провели уже? — спросил Майборода.
— Нет, пока нет, но обещают.
— Рябцева нет среди них? Запрос ты сделал? — спросил Майборода.
— Не подтверждают. Лет под двадцать всем. Офицера среди них нет, — ответил дежурный.
— Насколько точна информация?
— Абсолютно точная, товарищ полковник…
На блокпост прибыли за сорок минут до контрольного времени. Обменявшись рукопожатиями с молоденьким старшим лейтенантом, который командовал дежурным подразделением, Майборода приказал развести прибывших с ним людей по помещениям, а сам проинструктировал снайперов. Он вышел на улицу и, по щиколотку утопая в холодной жиже, горько матерясь, пробрался к месту стоянки «шилки»[16], которую ночью пригнали на блокпост и успели загнать в открытый капонир. Полковник потребовал, чтобы аул и все подходы к развалинам «шилка» держала на прицеле: открытый капонир это позволял.
Затем Майборода позвонил моздокскому заместителю Шерстобитова. Тот заверил, что под Урус-Мартаном всё идет по плану. Однораз, отправленный со второй группой, успел прибыть на место. Группу ФСБ, конвоировавшую арестантов к месту второй рокировки, только что высадили из вертолета перед комендатурой. Ждали Ахматова. За ним послали машину с вооруженной до зубов охраной.
Над полем начинало светлеть. Из-за облачности рассвет был поздним. Майборода больше не отходил от амбразуры. В главном помещении блокпоста дверь хлопала из-за сквозняков и беспрестанной ходьбы туда-сюда, и было холодно. Всматриваясь в синеватую дымку, которая на глазах становилась прозрачной и наливалась живыми утренними красками, полковник месил ногами опилки, насыпанные на грунт вдоль окон.
Наблюдение за аулом на всякий случай велось перекрестное — как с левой стороны от развалин, из обступавшего рощу орешника, так и с холма, в который дамба врастала на севере. Оттуда в который раз передавали, что вокруг мертвым-мертво. И это казалось странным. Ведь не мог конвой кадиевцев окопаться в домах до того, как к блокпосту выслали рекогносцировочную группу. А впрочем, родной рельеф позволял чеченцам маневрировать со звериной сноровистостью.
Впереди, ближе к гриве малых холмов, видневшихся немного правее, стелилось неровное четырехполье. За полем местность ограждала дамба. Контролировать подходы к ней Майборода поручил своему подразделению. Еще правее, перед самой дамбой, петляла проселочная дорога. Она уходила за овраг и где-то там, взбегая вверх, уже со стороны реки подбиралась к аулу. С правого края села три дома были почти целы: повышибало лишь окна, двери и посносило крыши. В одном из этих домов и ждали появления эскорта Кадиева. Майборода не сомневался, что сам Англичанин будет присутствовать при обмене, раз уж так пекся о судьбе сродника. Связь с его командой заранее условились вести через эфир. И одно то хорошо, что не по-вайнахски, не по-саудитски, не по-китайски, на чем зарвавшийся посредник запросто мог бы настаивать, — в сложившейся обстановке пришлось бы удовлетворить любую прихоть…
За четыре минуты до контрольного времени полковник подал знак лейтенанту Голенищину, сидевшему у рации. Тот буднично затараторил в эфир на условленной частоте. Запрос был тотчас принят.
— Слышу хорошо. Прием, — ответил хриплый голос.
— Всё идет по плану. Машина отъезжает ровно через четыре минуты, — сказал лейтенант в эфир. — За рулем водитель. Папаша сидит справа. Как поняли? Прием.
— Пусть выезжает, — ответил голос с мягким выговором чуть ли не самого Басаева. — Всё по плану. Прием.
— Пленные доставлены? Можете подтвердить? — сказал лейтенант в пустоту, не сводя глаз с полковника. — Прием.
Последовала пауза.
— Слушай, не морочь голову! Сказали да, значит да. Прием! — прозвучал раздраженный ответ.
— Вы должны показать пленных, — потребовал лейтенант. — Прием.
Опять повисла пауза.
Полковник взглянул на Рябцева-старшего.
Папаша, стоявший у амбразуры, морща лоб, всматривался в дома за полем. На его лице застыло то же каменное спокойствие, что и раньше.
— Значит так, ни шагу в сторону от плана. Как договорились, так и делаем, — напомнил Майборода. — Майор останавливает машину перед мостиком. Вы ждете команды. А ты, майор, ты сидишь на рации.
Майборода попросил Сулеймана проверить включение карманной рации с закрытой частотой, которой тому предстояло пользоваться для связи с блокпостом. Сулейман просьбу выполнил, после чего сунул рацию за пазуху и не без сочувствия произнес:
— Не волнуйтесь. Всё будет по инструкции…
— Если что, рвите когти задним ходом, — напомнил Майборода. — Если стрельба начнется, укроетесь вон там. Низину видите? — Полковник пальцем указал вправо. — Это ж надо было придумать такое кино! Тьфу ты, черт! — в сердцах сплюнул Майборода.
— Появились, товарищ полковник! — взволнованно сообщил старший лейтенант, командовавший блокпостом.
Не подходя к стереотрубе, которую сам же и попросил установить в другом месте, Майборода выхватил из рук старлея бинокль и навел окуляры на дома.
В одном из чернеющих оконных проемов отчетливо виднелся силуэт, по пояс выставившийся как напоказ. Блокпост тоже разглядывали в бинокль. Полковник выждал секунду и передал бинокль Рябцеву, а сам шагнул к стереотрубе.
— Смотрите внимательно, — распорядился он. — Узнаете кого-нибудь?
С комом в горле, из-за дрожи в руках крепко сдавливая бинокль, Рябцев-отец долго смотрел в указанном направлении.
В черном проеме окна теперь показалось три силуэта — худые, оборванные, взлохмаченные. Бинокль в руках подрагивал. Разобрать черты лица не удавалось: все бородатые, изможденные. Непонятно почему, но чувствовалось: все трое русские.
— Ну что, видите вашего? — поторопил полковник.
— Бороды у них…
— Давайте отсюда посмотрим! Идите скорей!
Рябцев встал на место Майбороды и долго смотрел в стереотрубу.
Все напряженно ждали.
— С полной уверенностью не могу сказать, — произнес он.
— Смотрите, смотрите внимательней! — потребовал Майборода. — Не торопитесь…
Понимая, что пленников разглядывают, всех троих заставили повернуться в профиль. Голову одного из них покрывал бинт. Тот, что стоял крайним справа, невольно приковывал к себе внимание Рябцева. Осанка, высокий лоб… Как будто Петр. Однако полной уверенности не было.
— Мне кажется… Если он, то третий справа, — сказал Рябцев.
— Ну-ка… — Майборода оттеснил Рябцева от стереотрубы, долго и упорно разглядывал дом, после чего металлическим голосом спросил: — Еще раз спрашиваю, уверены?
— Не знаю.
— Петрович… — обратился полковник к лейтенанту на рации. — Скажи, чтобы дали сказать слово капитану.
Лейтенант передал в эфир требование.
— Не хочет. От страха язык отсох! — прозвучал издевательский ответ с другой стороны. — Теперь нашего покажите! Прием.
Майборода медлил, не знал, что делать, и не хотел показать этого подчиненным. Но внезапная несговорчивость удивляла не только его. Полковник кивнул ефрейтору Илье, который сидел над пареньком в дальнем углу, за горой ящиков. Тот подтолкнул подростка к амбразуре, подхватил за тощие бока, физиономией сунул наружу и так держал его с полминуты.
— Они согласны, — сказал лейтенант, приняв по рации ответ.
— В общем так, канителиться не будем, — вдруг принял решение полковник. — Выезжайте!
Рябцев-старший с Сулейманом вышли на улицу и забрались в расчехленный и прогретый УАЗ. Майор сел за руль. Папаша — справа. По сигналу тронулись, медленно вырулили на глинистую проселочную дорогу и на второй скорости покатили в направлении аула…
Из блокпоста было хорошо видно, что УАЗ уже проделал полпути, как вдруг от второй группы, находившейся под Урус-Мартаном, поступило требование придержать операцию на двадцать минут. Там опять что-то не могли увязать с Ахматовым, хотя в целом всё шло вроде бы по плану. Майборода приказал Сулейману остановиться посреди поля, сидеть и ждать очередной команды, а лейтенанту поручил передать информацию, полученную из-под Урус-Мартана засевшим в домах.
Затаив дыхание, весь блокпост застыл в ожидании.
— Товарищ полковник… — промычал вдруг громила-ефрейтор. — Я выведу засранца. Опять приспичило гаденышу.
Смерив подростка взглядом, полковник покачал головой и, обращаясь к командиру блокпоста, спросил:
— Отхожего места у вас нет, конечно?
Тот отрицательно замотал головой и самолично повел обоих на улицу.
Вернувшись, старлей застыл у входа. А вслед за ним, не прошло и минуты, дверь выбил ногами ефрейтор.
— Гад… сорвался! — громогласно объявил он.
— Кто?
— Да гаденыш этот!
— Удрал, что ли? В наручниках? — Полковник остолбенел. — Наручники кто снял с него?
— Понос у него… Я и отстегнул, — бормотал великан ефрейтор. — Наделал гаденыш лужу, штаны натянул и лапой… зачерпнул и мне в лицо…
— В лицо… В харю твою тупую! — Полковник побагровел. — Да я тебя, мордоворота… Я тебя собственными руками…
— Вон он! — показал старший лейтенант в поле.
Полковник прилип к амбразуре. Фигурка подростка в черном ватнике отчетливо выделялась на фоне пожелтевшей с рассветом луговины. Паренек со всех ног бежал в сторону своих. Расстояние, отделявшее его от блокпоста, быстро сокращалось.
— Вызывай, живее! — прикрикнул Майборода на Голенищина.
Лейтенант-связист оторопело уставился на полковника, не понимая, что от него хотят.
— Скажи всё как есть! Как есть! — гаркнул Майборода.
— Смена плана… Непредвиденные обстоятельства… Как поняли? — забормотал лейтенант в эфир. — Мальчик вырвался. Как поняли? Прием!
— Пусть бежит. Прием, — прохрипел в эфир тот же голос.
— Пусть отпустят наших! Пусть все трое выйдут на дорогу! — прокричал Майборода. — Или я всё отменяю!
— Отпустите наших пленных… Как поняли? — передал Голенищин в эфир.
Ответ заставлял себя ждать.
— Повторяю: пусть выйдут на дорогу… Навстречу машине, — четко произнося каждое слово, выкрикнул лейтенант. — Прием!
С другой стороны тянули резину. Майборода подлетел к рации и, выхватив у связиста гарнитуру, заорал:
— Я остановлю его! Если вы не выпустите наших! Прием!
— Ты кто такой? Прием… — прозвучал неторопливый вопрос.
— Майборода! Прием.
— Пусть бежит, Борода! — повторил голос. — Прием.
— Кто бы ты ни был, свяжи меня с Кадиевым! Сию же минуту! — потребовал полковник. — С Кадиевым… как понял? Прием.
— Послушай, Борода… — канителился голос. — Нет у меня связи с Кадиевым. Прием!
— Я остановлю его! Я открою огонь! Прием.
С той стороны не отвечали.
— Снайпера! — вернувшись к амбразуре, приказал Майборода, не отрывая взгляда от поля. — Снайпера! — гаркнул он с такой силой, что старлей пулей вылетел на улицу.
Через несколько секунд он вернулся с приземистым десантником. Увешанный подсумками сержант вопросительно глазел на офицеров.
— Встань к амбразуре, сделай предупредительный выстрел, держи его на прицеле, — скомандовал Майборода. — Кому говорю-то?!
Сержант подскочил к окну, уткнулся в окуляр прицела. Через две секунды раздался глухой выстрел.
— Это предупреждение, — сказал лейтенант в рацию. — Мы откроем огонь. Прием!
— План остается в силе… Как поняли? Прием… — настаивал голос с другой стороны, словно не понимая обращенных к нему требований.
Майборода выругался, схватил карманную рацию для связи с Папашей и Сулейманом, протараторил в нее приказ не двигаться с места, ждать и быть готовыми дать газу назад.
— Метров триста осталось, — сухо отмерил старший лейтенант. — Так драпает, во гад!
— Даю пять секунд! — прокричал Майборода в рацию Голенищина. — Потом открываю огонь на поражение. Предупреждений больше не будет! Прием.
— Если с мальчиком что случится, твоим ребятам воткну в зубы по гранате… с вынутой чекой, — монотонно пригрозил голос. — Ош-ш-ша-ду биллях! Прием.
— Целься в ноги… Не выше задницы! — бросил Майборода снайперу. — Стрелять только по моему сигналу. И только промахнись! Сам будешь бегать как заяц, понял?
Сержант не отрывал глаза от прицела, не двигаясь, ждал…
Темную фигурку, появившуюся на насыпи справа от блокпоста, Рябцев-отец сначала принял за одного из десантников, зачем-то выбежавшего в поле. Но в тот же миг, как только фигурка быстро двинулась по перекатистому полю, до него дошло: по полю бежит чеченский подросток.
Почему паренек оказался на свободе раньше времени? План опять изменили? Опять под нажимом?.. Инструкций по рации долго не давали. Сулейман, не понимавший, что делать, непрерывно вызывал блокпост, а затем стал изучать поле в бинокль.
Наконец Майборода дал о себе знать. Он приказал не двигаться с места и ждать.
Фигурка подростка тем временем быстро продвигалась к насыпи перед аулом. Паренек летел со всех ног. На мгновение он исчез из виду за откосом. Майор-чеченец, стреляный воробей, инстинктивно пригибал голову, разглядывая поле в бинокль. Затем Сулейман поспешно передал бинокль Рябцеву и проговорил в рацию, что требует немедленных указаний.
В этот момент и раздался первый выстрел. Стреляли с блокпоста. Силуэт паренька вынырнул из ложбины. Он продолжал петлять по полю. Прошла минута, и раздался второй выстрел.
Стрелял снайпер. Мальчик-чеченец упал. Потом шевельнулся, но, видно, не смог подняться.
Не слыша криков в рацию, не слыша требований укрыться в низине, как было условлено, Рябцев впивался в окуляры бинокля. Зачем стреляли? Кто мог дать такое распоряжение? Неужели мальчика подстрелили? Фигурка его отчетливо виднелась на земле, метрах в ста пятидесяти от домов, и больше не подавала признаков жизни.
Рябцев перевел бинокль на окна дома. Силуэтов как не бывало. В долю секунды сознание его пронзила невыносимая мысль. Что теперь будет с теми, кто ждет развязки там, в развалинах? Как с той стороны должны отреагировать на случившееся? С этой секунды все его действия были машинальными.
Не успел майор дослушать распоряжений Майбороды — полковник криком приказывал бросить машину, залечь и ждать подхода подразделения прикрытия, как Рябцев выскочил из машины в грязь и во весь рост, прямой походкой, не пригибая головы, двинул по полю к раненому подростку.
Повисла тишина. И майор Сулейман, и те, кто наблюдал за полем с блокпоста, в равной мере сбитые с толку непредвиденным поворотом событий, ждали…
Не прошло и пары минут, как Рябцев приблизился к мальчику, присел над ним, и всем хорошо было видно, как он приложил руку к шее раненого. Поднявшись в рост, Рябцев сделал неуверенный жест, обращенный к тем и к другим одновременно. Из жеста трудно было понять, жив паренек или ранен. В следующий миг Рябцев вновь присел над телом, подхватил мальчика на руки, с секунду потоптался на месте, будто не зная, в какую сторону его нести, а затем, кивнув головой, загашал к аулу.
В домах царила тишина. Но когда Рябцев, выйдя на дорогу, приблизился к мостику и от развалин его отделяло уже не более сотни шагов, Майборода увидел в бинокль, как из затылка Папаши вдруг вылетели брызги.
Стреляли из бесшумного оружия. Вполоборота к блокпосту, не выпуская паренька из рук, Рябцев рухнул наземь.
Еще секунда замешательства, и из развалин открыли беспорядочную стрельбу. Два мощных взрыва, один за другим, разнесли насыпь перед самым блокпостом. Стреляли из РПГ. Стрелки обнаружили себя прямо на краю лесопосадок, которые чернели слева от аула. Огонь они вели оголтелый, беспорядочный…
Полковник сообщил под Урус-Мартан о срыве операции, запретил открывать ответный огонь и дал приказ о немедленной высадке десантной группы, которая ждала распоряжений с обратной стороны реки. Десантникам надлежало заблокировать отход вдоль реки, а экипажу «шилки», несмотря на огонь из гранатометов, выгнать танк на открытую позицию, чтобы иметь более широкий сектор обстрела и держать дома под прямой наводкой. Но затем полковник распорядился прислать к нему командира «шилки» и стал тому объяснять:
— Отрежь мне их по периметру. Ни одна душа не должна выйти! Ни одна! Вот здесь, левее — мои люди. Справа вторая группа прикрытия, — полковник водил пальцем по карте. — Сядешь на связь, они подкорректируют. И чтобы ни одна живая душа не вышла… Это последний шанс… Пока всё не прочешем, не уйдем, ясно?
Слева от поля из лесопосадок, сбегавших в низину, которую по плану уже должны были контролировать десантники, опять выстрелили из РПГ. Из правого окошка было видно, что взрыв разнес землю в нескольких метрах от танка. Затем раздался еще один взрыв. Как только пыль и грязь осела, стало видно, что земля взрыта у самой гусеницы. Полковник подошел к рации, перестроенной на запасную частоту, и хладнокровно проговорил:
— Откройте огонь по указанным целям. Не заденьте дома. Повторяю, там могут быть наши люди.
Мощный треск заставил всех заткнуть уши. Огонь снес дальнюю крышу. Столб дыма и пыли стал передвигаться к дороге, туда, где находился Рябцев с пареньком. Тут же появились и неповоротливые фигурки в камуфляже. Огибая брошенную на дороге машину, короткими перебежками десантники приближались к тому месту, снизу от мостика, где лежали Рябцев и подросток. Через несколько секунд командир группы прикрытия передал, что необходимости в медпомощи нет.
Воздух раскалывался от пальбы 23-миллиметровых скорострельных пушек. Часть села на спуске домов к речке затянуло облаком дыма и пыли. Через пару минут, когда огонь прекратился, в просветах дыма появились изменившие форму дома, ставшие еще дымящимися горами щебня и обломков…
Как было установлено впоследствии, конвоировавшая пленных группа боевиков, численность которой не превышала двенадцати человек, пошла на отход по заранее подготовленному коридору. Боевики оттянулись не к реке, как предполагалось, и не к роще, а именно в направлении контролируемой десантниками равнины.
Конвой Кадиева смог ускользнуть из-под огня по водостостоку. Труба, проходившая под дамбой, не попала не на одну армейскую карту. Диаметр ее едва-едва позволял протиснуться человеку. Но ею и воспользовались. Боевики ушли под самым носом у десантников, буквально по краю занятой ими позиции, а затем обогнули и сам блокпост в какой-нибудь сотне метров. При этом они еще успели заминировать отход на целых полкилометра. Именно по этой причине эффективное преследование оказалось невозможным.
Тот факт, что отец пленного был расстрелян снайпером, Майборода объяснял в своем рапорте безвыходностью положения, в котором кадиевцы оказались в результате собственного подлога, пытаясь предложить в обмен не тех лиц, что входили в список. Полковник был убежден, что речь шла о подлоге вынужденном. Кадиевцы не могли не понимать, что, как только их уличат в обмане, тут же начнут преследовать, и уйти с раненым Доди на руках, даже если допустить, что подросток был еще жив, им всё равно не удастся…
На краю поселка, на выводившей к дамбе тропе нашли три трупа моджахедов. Один из них был обезглавлен. Боевики унесли голову с собой, чтобы затруднить опознание. И только через три дня выяснилось: тело принадлежало самому Лече Кадиеву.
Команда сопровождения, набранная из людей Айдинова, на базу вернулась к концу пятых суток. Походные дни прошли в мучительном ожидании. До самой последней минуты Рябцев не мог поверить, что его и «компаньонов» доконвоируют до лагеря. Не прекращавшиеся всю дорогу избиения в любой момент грозили обернуться фатальным самосудом. После провалившейся операции в глазах у конвоиров застыла жажда крови. Но был, видимо, приказ доставить пленных назад живыми, и его не могли нарушить.
Двоих не знакомых Рябцеву солдат, которых боевики планировали обменять вместо востребованных им Лисунова и Ферапонтова, на обратном пути увели в неизвестном направлении, когда на полдороге команда боевиков разделилась надвое. Ни с тем, ни с другим так и не удалось обменяться даже парой слов. При малейшей попытке заговорить боевики дубасили прикладами всех троих…
Увиденное перед блокпостом плыло перед глазами Рябцева как кошмарный сон, сумбурные подробности которого никак не удавалось объединить в целое. От истощения, которое к концу пятидневного похода всё больше давало о себе знать, картина промерзшего зимнего леса начинала срастаться с бредовыми видениями. Они вторгались в сознание днем и ночью и разрастались в адские антимиры.
Поле перед блокпостом. Фигура мальчика, который бежит со всех ног, как пугало размахивая руками. Вдруг мальчика уложили выстрелом. К нему направилась фигура бородатого мужчины в штатском… Что-то знакомое почудилось в походке — с характерной для отца манерой наклонять корпус немного вперед. Фигура быстро приблизилась к тому месту, где упал на землю подстреленный паренек. Бородач поднял мальчика и понес его к домам. Именно в этот момент Кадиев, стоявший с биноклем у окна, издав по-чеченски непонятный клич, дал неожиданный приказ стрелять на поражение. Выстрел произвели из соседнего дома. У мужчины, похожего на отца, подкосились ноги. Бородач упал на колени и еще пару секунд продолжал держать паренька на руках. А дальше всё смешалось: грохот, паника, беспорядочная пальба со всех сторон, суматошный отход…
Решение об отходе боевики приняли еще до того, как с блокпоста заработала «шилка». Этот маневр заранее предусмотрели и подготовили. Оставалось загадкой, куда исчез сам Кадиев, почему застрял где-то позади и почему не примкнул к группе позднее.
След в след ступая за сапером, десятеро хорошо обученных боевиков прогнали пленников чуть ли не под самым блокпостом, поддавая им в зад штык-ножами. Приказ получили не церемониться, чуть что — резать горло. Первые триста метров, которые пришлось преодолевать из последних сил, проталкивая обмотанное веревкой тело через трубу под дамбой, где было не продохнуть от смрада, пока сзади, из той же трубы, пихали в гениталии стволами. Это было лишь началом долгой и мучительной пытки. Затем еще столько же пришлось волочить ноги по канаве к оврагу, там и начиналась чаща. Все задыхались. Спина капитана задубела от ударов. Не чувствуя ни ног, ни плеч, он твердо знал: одно лишнее движение — и всё будет кончено…
В лагере ждали перемены. Володя, один из солдатиков, с которым раньше ютились в одной яме, за прошедшие дни сильно сдал, и его забрали в лазарет. По рассказам Емельяна, все эти дни за его напарником присматривал лагерный санинструктор. Раз в день он приходил делать укол и всё время канючил: дескать, ценные медикаменты приходится переводить на «дохлятину». Фельдшерица Эмма больше вообще не появлялась. Пленными теперь занимались люди Айдинова, и это не сулило ничего хорошего.
С хромоногим Емельяном капитана и поселили в пустующую землянку, находившуюся рядом с кухонным блиндажом, а через день, после того как Емельяна измордовали за провинность — он споткнулся и пролил на землю котелок, пока нес бурду в землянку, — вместе их перегнали в другую яму. Степан называл это место карцером. Стены здесь были земляные.
Рябцев чувствовал себя на последнем издыхании. Больная нога распухла, едва сгибалась в колене. В голове гудело. Шум нарастал в ушах волнами и если исчезал, то на очень короткое время. В те редкие минуты, когда гул стихал, Рябцеву с трудом удавалось отличить остающийся в ушах волнообразный шум, наплывавший сразу со всех сторон, от шума ветра или лесной чащи. Когда по деревьям прогуливался ветер, пихты издавали звук, похожий на шипение. Звук нарастал ровно, будто дыхание, и сопровождался едва-едва уловимым похлестыванием. А потом из глубины шума начинало слышаться какое-то райское журчание, как ему чудилось. Постепенно это журчание начинало разливаться во все стороны, заполняло всё вокруг, и в какой-то миг возникало очень острое чувство, что лес и кроны деревьев — будто сети, улавливающие из воздуха растворенное в нем время…
Утром десятого мая впервые с начала весны выдался ясный день. Солнце еще не вышло из-за хребтов, а небосвод вдалеке с медленно плывущими по нему облаками розовел, подрумяненный весенним теплом.
Сонная беготня по лагерю не прекращалась с ночи: хозяева ждали возвращения очередной мобильной группы, но обоз задерживался. Незадолго до рассвета пришло известие, что уже на подходах к укрепрайону он попал под обстрел. И с этой минуты по всей территории начались непонятные приготовления. Штурмовая группа Айдинова, с начштаба во главе, загрузилась в машины и отбыла из лагеря в полном боевом снаряжении. Оставшиеся боевики бегом стаскивали ящики с амуницией к блиндажам возле стрельбища и гаражам. Косяки обвешанных оружием абреков отправлялись навстречу обозу. Отдельный отряд ушел нагруженным в соседний лагерь. Мимоходом моджахеды щедро раздавали пинки рабам и пленникам, которых выгнали на улицу ворочать бревна и таскать целые ворохи непросушенной прелой масксети…
Был примерно полдень, когда со стороны восточных кряжей послышался нарастающий гул вертолетов. В считаные секунды всех загнали в землянки и траншеи. На какое-то время гул отдалился к югу, но затем послышался вновь и стал быстро усиливаться. С деревьев взмывали стайки птиц. Воспользовавшись тем, что охрана разбрелась по укрытиям, капитан выбрался в примыкавший к его землянке окоп и стал всматриваться сквозь лес в межгорную пустоту, которая распахивалась сразу за чащей, и вдруг обмер: со стороны обрыва под небольшим углом приближались две армейские «восьмерки», а за ними два тяжелых Ми-24 с подвешенным боекомплектом. Качаясь в кильватерном строю, вертолеты шли прямо на лес…
Прошло несколько секунд, и гул двигателей заполнил небо над головой. Вертолеты ушли к северу, на низкой высоте обогнули холм, едва не задевая мордами макушки пихт, а затем в сильном крене стали заходить на новый круг.
Первый удар, мощный и раскатистый, сотряс воздух в восточной зоне у гротов. Раз за разом удары разрастались, пока не превратились в сплошной поток оглушительного грохота. Реактивные снаряды разносили в пух и прах лес и укрепления по всей территории лагеря.
Пулеметной пальбы, разрывавшей воздух, капитан даже не слышал. В ушах стоял ровный, пронизывающий всё нутро и уже знакомый гул, в унисон с которым что-то протяжно и настойчиво ныло в груди. Взрывные волны налетали по-прежнему из-за холма, из «мертвой» зоны. А затем Рябцев увидел, как у котлована, где прятали машины, от земли целиком оторвался дуб, тот самый, ветви которого обгорали от костра, когда кашеварили на улице. Дуб вертикально приподнялся над землей и стал медленно заваливаться, кроша своей необъятной кроной соседние деревья.
Горело всё, что могло гореть. И тем не менее, стоило присмотреться к тому, как взрывы перепахивают лес, и нетрудно было заметить четкую последовательность: цели отработаны, летчики старались не задеть кухню и близлежащие укрепления, их явно проинформировали о том, что по соседству находятся землянки пленников, — одно это казалось невероятным.
Именно там, возле землянок и в пролесках, затемняющих пространство между кухней и лесопильной мастерской, обитатели лагеря шныряли роем, даже не прячась. Следя за ними, с трудом удавалось устоять перед паническим порывом последовать всеобщему примеру.
Прямо на Рябцева в окоп свалился Степан. Щурясь и утирая окровавленную физиономию, пятерней прижимая к голове бесформенную кепку, он ошалело улыбался. Черный рот открывался в крике. Капитан не слышал его. На миг грохот расступился. Тишина стала похожа на огромную яму без краев.
— А ты спрашивал, капитан…
— Чего?! Не слышу!
— Ты спрашивал про вертушки, говорю! — кричал Степан. — К оврагу надо пробираться! Глубже там. Здесь не высидишь!
— Лучше здесь! Не надо к оврагу! — проорал в ответ Рябцев и сам удивился своему голосу. — Землянки рядом. Они знают, куда нельзя стрелять… Летчики!
Степан не понимал его.
— Они знают, где пленные! — крикнул Рябцев что есть силы, показывая себе в грудь, а потом на небо.
Степан, словно обезумев, улыбался беззубым ртом и кивал в знак согласия. На миг в чем-то усомнившись, капитан по самые плечи приподнялся над бруствером. Пытаясь разобраться в суматохе, он упорно смотрел в то место у кустов за траншеей, огибавшей лесопильную мастерскую, где только что мелькали головы Мирона и азербайджанца Гомера.
Вдруг головы появились правее. Русский абрек Мирон и азербайджанец, с раннего утра приставленные караулить пленников, тоже, по-видимому, пытались высчитать, где лучше укрыться, если при новом заходе взрывы начнут перемещаться к их траншее.
Емельян, всё это время прятавшийся на дне окопа, стряхнул с головы крошево веток и, поймав на себе неподвижный взгляд капитана, понял его невысказанный вопрос. Емельян медленно помотал головой.
— Если б не нога, я б не раздумывал, — сказал он. — Тут уж если бежать, то так, чтоб пятки сверкали.
Рябцев перевел взгляд на Степана и, подавшись вперед, встряхнул старика за плечи:
— Степан, а ты? Ты слышишь, что я говорю?!
Степан не понял или опять не расслышал.
— Ухожу я… В лес! — сказал Рябцев, показав в сторону кухни. — Пойдешь со мной?
Степан в отчаянии замотал головой:
— До опушки ноги не донесут… Раб же я, куда мне бежать? Раб я… Петь, ты давай, дуй, раз решил… пока утихло, ведь повылазят, — заторопил Степан. — Ты вдоль окопчика к кухне, главное, проберись… — Степан уставился Рябцеву в глаза и вдруг перекрестился. — А там, перемахнешь в лесок, и можно драпать, пока попрятались, а, Петь?..
Поймав руки Степана, Капитан обнял его, хлопнул по плечу помрачневшего Емельяна и, пригибаясь, бросился по дну траншеи в сторону кухни.
Окоп завернул вправо. От кухонного блиндажа отделяла только поляна. Дальше начинался лес, и там уже ничто не смогло бы его остановить. Но как пересечь пустошь незамеченным? Рябцев осторожно высунул голову над бруствером и осмотрелся. Собравшись с духом, он уже хотел, было, махнуть наверх, как вдруг слева, в угловой перекрытой щели, куда при объявлении тревоги скопом гоняли пленных, работавших у кухни, он увидел Мирона. А тот увидел его.
И для обоих всё стало ясно в долю секунды. Выждав мгновение и не сводя вопросительных глаз с капитана, Мирон передернул затвор АКМа.
Рябцев не двигался.
— Послушай, солдат… сейчас я вылезу и перебегу к лесу. Придется тебе стрелять в меня, — проговорил Рябцев не своим голосом.
Тот навел на него дуло автомата.
— Ты можешь со мной уйти… Выбирай. Только быстро, — подстегнул Рябцев.
— Да пошел ты… Пристрелят, и ста метров не пробежишь.
— Кто пристрелит? Ты или они?
— Не я, болван!
— У тебя нет выбора. Присягу ты кому давал?
Абрек Мирон с отвращением замотал патлами.
— Вертолеты пойдут на новый круг, я встаю и ухожу… лесом к ручью, — механически объяснял Рябцев. — Быстрее шевели мозгами!
Мирон шарил глазами по сторонам. И вдруг принял решение. Откинув автомат за спину, он на четвереньках пробрался к капитану и замотал вывалившимися из-под косынки русыми патлами:
— Мины там. Тропы заминированы.
— Обязательно идти по тропе?
— Если не по тропе — вообще не пройти.
— Лучше, чем сидеть и ждать, пока пулю всадят в затылок. А если к воде спуститься, по речке идти?
— Единственный вариант. Там есть тропа… Не главная, которая по ручью тянется, а другая. Они для себя ее оставили, — нерешительно заговорил Мирон. — Пометили ветками. Ну, вдоль тропы… ломаными. Сам помогал минировать. Если ветка сломана — можно идти. Если сломанных веток нет — мины. Только когда это было? Когда таять начало, они без меня ходили новые мины ставить.
— Нет выбора, — повторил Рябцев.
С востока нарастал вертолетный гул. И не прошло минуты, как раздался новый залп, еще более мощный, чем все предыдущие. Вокруг всё затянуло дымом. На голову сыпался щебень, ветки, клочья сетки. Снаряды перекапывали стрельбище и расположение батальона Айдинова. Отдельные взрывы ложились рядом с кухней.
Время было упущено. В тот же миг на дно траншеи — в десяти метрах правее — свалились еще две туши. Боевики. Оба в изодранном камуфляже. Они подобрали свои автоматы и сели спиной к стене окопа. Рябцев не сразу узнал напарника Мирона Гомера Алхазова и одного из братьев, как будто бы Магогу. Азербайджанец держал в руке саперную лопатку.
Смерив Мирона недоуменным взглядом, Алхазов что-то выкрикнул ему по-чеченски. Боевики переглянулись. Азербайджанец потянул к себе АКМ.
В следующий миг, сделав непонятный жест, Мирон вскинул свой автомат и пришил очередью обоих абреков к стене окопа.
Не сразу определив, кто выпустил очередь, Рябцев ощупал свой живот, грудь, плечи и, словно очнувшись, вскочил на колени, вскарабкался к краю окопа и осмотрелся. У подножия пихт догорали машины. Вокруг не было ни души.
Не обращая внимания на Мирона, Рябцев пробрался на четвереньках к пристреленным боевикам и забрал автомат из рук азербайджанца. Тот был еще жив. Держась за черенок лопатки, Алхазов подергивал головой. На губах его пузырилась кровь.
Очнулся и Мирон. На четвереньках подобравшись к своим жертвам, он сорвал с Алхазова подсумок, хотел высунуться наружу, но мощный взрыв, раздавшийся за кухней, заставил обоих укрыться на дне траншеи.
Армейский подсумок оказался набит рожками. В придачу к рожкам Мирон вывалил на землю три гранаты, одну из которых запихал в карман, а две другие протянул Рябцеву…
Первые пятьсот метров бежали сломя голову. Мирон знал, что лес, спускающийся к реке, не заминирован. Стремясь максимально увеличить запас времени на случай преследования, оба летели напролом, сминая кустарник. Оба то и дело падали, кубарем скатывались под уклон, но вскакивали и неслись дальше. Рябцев не поспевал за Мироном. Грудная клетка разрывалась от недостатка воздуха, в ушах стучало, перед глазами плыло.
Вместе упав на крутом склоне, они внезапно скатились к ручью. Распластавшись на гальке, пытались отдышаться. Сотрясающее лес уханье снарядов и ответные раскаты автоматной стрельбы остались далеко позади.
— Я не Одинцов… Морокин я, — сказал Мирон, отдышавшись. — Рядовой Морокин… Тридцать второй воздушно-десантный полк… из Перми. Мирон Морокин… Тридцать второй, говорю, запомнил?
— Морокин? — словно не веря, переспросил капитан.
— Если что не так, и вообще…
Рябцев понимающе кивнул.
— В Аргуне замели меня, в августе… На жизнь своих не покушался. Честное слово даю, — поклялся Мирон.
— Я понял, — сказал капитан.
— Бомбить скоро перестанут. Хоть немного надо оторваться. Бежать нужно, капитан, — поторопил Мирон. — Дорога одна. Они это знают. Вдоль ручья. Но есть еще две тропы.
Рябцев обессиленно смотрел на поток воды, с шумом уносившийся влево, в том направлении, куда показывал Морокин.
— Лучше разделиться, — предложил Мирон. — Ты пойдешь лесом. Может, его и не минировали вообще. Тропы параллельно тянутся. Через километр-полтора твоя тропа повернет к берегу. Увидишь меня, — продолжаешь идти своей дорогой. И с того места бежать больше не надо… Понял? Смотри в оба. Если увидишь голые палки, обглоданные ветки, сучки — значит, чисто, можно идти быстро. А лучше не по тропе, а рядом идти, метрах в пяти справа. Понял?
— Понял, — кивнул капитан и устало улыбнулся.
— Если всё нормально, через пять-шесть километров речка налево повернет… Начнется лес… Там и встретимся. Если раньше меня выйдешь к лесу, жди под соснами. Если я раньше доберусь, буду я ждать… Если пронесет, к ночи выйдем к дороге. А пока вон до той запруды вместе пойдем, по воде…
Выйдя из ледяного потока, после которого ноги стали бесчувственными и не слушались, одеревенев по самые ягодицы, беглецы вновь нырнули в лесную чащу. Морокин застыл в растерянности. Тропы разветвлялись в нужном месте, но по какой тропе идти, он не знал. Сломанных веток, которые должны были служить ориентиром, при углублении в чащу не попадалось.
Морокин попросил капитана подождать и углубился в лес. Вскоре он вернулся и заверил, что всё в порядке. Метров через двести, там, где тропа уходила на изгиб вдоль первого овражка, пошли сломанные ветки…
После первой же сотни метров Рябцев осознал, что тишина вокруг стояла не такая, как все эти месяцы. Сквозь приглушенный гул, всё еще нывший в ушах, пробивалась птичья трель. На свободе даже воздух обрел другой привкус. Ни грохота взрывов позади, ни стрельбы больше не доносилось. Над горами стояла первозданная тишина.
Несмотря на предостережения, Рябцев покрывал маршрут почти бегом, дорогу через чащу прокладывая себе руками, головой, всем корпусом. Тропа всё сильнее углублялась в лес. Что-то не совпадало. И он уже спрашивал себя, не сбился ли он с нужного направления, как ноги вдруг вынесли его на поляну.
Отсюда просматривался берег. Вторая параллельная тропа желтой змейкой завивалась левее по пустоши вдоль молоденького леса. Припав к земле, Рябцев отдышался. Морокин должен был появиться именно здесь, на этом изгибе. И вскоре знакомый силуэт действительно замельтешил правее, за бугорком, по краям которого белели остатки снега.
Рябцев вскочил, огляделся и замахал руками над головой. Заметив его, Морокин подал знак, что тоже видит его, и продолжал продвигаться вперед. На некотором расстоянии друг от друга они продвигались еще около двадцати минут, пока тропа не вывела к берегу.
Морокин тут же замедлил шаг, стал отставать. Пренебрегая мерами предосторожности, он что-то упрямо высматривал на земле. Наконец двинул дальше, но уже не бегом, а вымеривая каждый шаг.
Капитан намеревался перебежкой пересечь прогалину, поскорее выйти навстречу Морокину, там, где луговина, окруженная зарослями, не подпускала лес вплотную к берегу. В этот миг и раздался взрыв. Как раз со стороны берега, где только что маячил силуэт Морокина.
Эхо взрыва было продолжительным и раскатистым. Время словно остановилось. Но до сознания Рябцева это дошло не сразу. Обесцвеченный хаос, обжигающий как кипяток, понемногу упорядочивался, но не давал сосредоточиться. Взорваться могла только растяжка. От одной попытки представить себе чужую боль не удавалось разомкнуть глаза. Мир стал вдруг матовым, невидимым, как будто зеркало, в которое только что проваливался взгляд, лопнуло и рассыпалось, и на месте отражения выросла бетонная стена. От ощущения слепоты стало вдруг жутко. Страшен был даже не хаос, а сам страх. Человек замыкается в малодушии, когда теряет себя в пространстве. И если он не может нащупать пространства внутри себя, то он чувствует себя одиноким, как последний грош на дне копилки. Откуда начинается боль? Куда потом всё исчезает?..
Ноги несли сами. Он побежал. Потом он наткнулся на человека без ноги, распластанного на земле, лицом в воду. Лежавший был его напарником? Оторванной взрывом правой ноги не было ни на земле, ни в воде. Из обрубка била неровная струя крови, а по воде расходилась красная муть…
Схватив напарника за плечи, Рябцев выволок бесчувственное тело на камни, придавил обрубок коленом и, пытаясь остановить кровотечение, лишь размазывал по одежде склизкую багровую жижу. Кровь продолжала раскрашивать воду. Стянув с себя полуистлевшую тельняшку, он разодрал ее и перетянул бедро раненого. Тут он заметил и второе ранение — в грудь, от которого тоже расползалось жирно лоснящееся пятно. Взгляд машинально обшарил местность и вдруг уткнулся в подсумок, отлетевший к кустам. Руки сами вытрясли на гальку его содержимое. Подобрав один из шприцев-тюбиков, он всадил раненому через одежду укол промедола. После чего, разодрав зубами перевязочный пакет, стал накручивать путающийся бинт на жутковатый обрубок ноги. Собственные движения казались чужими, странными…
Что теперь делать, он понятия не имел. Взрыв не могли не услышать. Если из лагеря выслали погоню, бежать дальше было бессмысленно.
Разбудил не рассвет, а холод. Они лежали на дне ямы в устроенной на ночь лежанке, под толщей сырой листвы. Как и когда они очутились в яме, он не помнил. И едва ему удалось разглядеть лицо напарника, как он сразу понял, что тот доживает последние минуты.
Ни страха за умирающего, ни сожалений он не испытывал. Со дна сознания всплывала лишь муть смертельного изнеможения. Ноющая боль сковывала при малейшем движении. Боль заполоняла тело до последней клетки. От притупленного, но неотступного ощущения, что однажды, в другое время, в другом измерении или в другой жизни всё это уже случилось, боль как будто бы отпускала, становилась отдаленной, чужой, но совершенно отстраниться от нее удавалось только на короткие мгновения. В голове всё дробилось. Мысли, чувства и слова крошились, как яичная скорлупа. Но без скорлупы, без оболочки любое, даже самое простое ощущение, обретало адскую, запредельную глубину. Боль звала за собой в бесцветную бездну. Стоила ли жизнь всех этих мук? Стоили ли эти мучения жизни?
Окоченевшие руки не слушались. Отекшие ноги лежали бревнами. А в голове стоял гулкий неубывающий шум.
Он понимал: нужно что-то делать. Нести на себе? Как справиться с такой тяжестью? Сомнения тоже ничего не решали. Лучше пробовать, лучше двигаться. И он скинул с себя лиственный саван и встал на колени. Чтобы расшевелить свою плоть, вернуть ее к жизни, он зачерпнул руками листвы и окунул в нее лицо. Резкое соприкосновение с колючей сырой листвой заставило почувствовать обжигающую свежесть земли, леса, жизни. А затем, уже не раздумывая, он выволок напарника из ямы, взвалил его на спину, поднялся и смог сделать первые шаги по хрустящему сухостою.
Через сотню метров колени стали подгибаться. Легкие разрывались на части. Пришлось сгрузить раненого на землю. Дороги не было — ни вперед, ни назад. Не лучше ли идти в горы? Где оно — проклятое пространство, свобода? В какую сторону двигаться? Можно ли освободиться от себя самого, да и от жизни? Можно ли подчинить всё воле? Скоро ли конец мучениям? И что будет потом, когда им настанет конец?
Мирон открыл глаза. Они казались стеклянными. Затем зрачки всё же пришли в движение. Раненый недоуменно осмотрел свою культю, жутковато распухшую выше бедра, и перевел взгляд в поднебесье. У него начался бред. Разобрать удавалось лишь отдельные слова.
«Гнать, держать, смотреть и видеть… дышать, слышать, ненавидеть… и обидеть, и вертеть, и зависеть, и терпеть…»
Он повторял одно и то же, к тираде школьных глаголов прибавляя что-то еще, о чем-то просил, но невозможно было понять, о чем именно…
«Гнать, держать, смотреть и видеть… дышать, слышать, ненавидеть, и обидеть и вертеть, и зависеть, и терпеть…»
И вдруг всё опрокинулось. Рябцеву стало ясно, что он видит себя самого. Именно он, а не Морокин, склонившийся над ним и чего-то ждущий от него, смотрит на мир ошалелым, беспомощным взглядом и бормочет что-то бессмысленное, успокаивающее. Всё, что он до этой минуты видел и чувствовал, было зеркальным бредом. Безногое тело принадлежало ему, — не Морокину. Это удивляло и в то же время казалось совершенно нормальным. Чужая боль воспринималась более естественно в себе самом.
На какой-то миг в душе проснулась смутная тревога, что-то близкое к сожалению. Или это была жалость к себе? К чему всё-таки этот обман? Почему не тот, не он? Какая всё же глупость, а именно: нарваться в лесу на мину. Какая глупость бродить по незнакомому лесу, нести в себе весь этот бред, не отпускавший от себя ни на миг. Какая глупость разрываться на куски от боли, страдать, но молчать и делать вид, что так и должно быть, что ничего страшного не происходит. Видеть то, чего нет. Видеть то, что могло бы быть, и ради этого жить… Морокин, смотревший на него выжидающе, всё равно бы не понял. Кто может понять человека, у которого впереди нет ничего.
С этой секунды мир наполняла только боль, и больше ничего. Но разве мир не был таким всегда? И разве сама жизнь не сводилась к отрицанию мучений, к преодолению боли и времени, которое замыкалось на ней, как звенья одной цепи, и тем самым приковывало к бытию. В небытие был покой. В нем было разрешение, освобождение от всего…
— Нужно принять решение… решение. Слышишь, капитан? Решение…
«Да, нужно, — подумал Рябцев. — Но разве оно еще не принято?»
— Ранение в ногу и еще в грудь… Нужна помощь, — бормотал Морокин.
Ранение в ногу? Но ведь ноги вообще нет, ее оторвало, и она потерялась.
— Ты должен идти один, — подумал или сказал Рябцев.
Он понимал, что не хочет этого. Но это было необходимо. Почему — себя он больше не понимал.
— Так есть шансы. Иначе никаких. Иди… Время не ждет.
Морокин стал рыться в подсумке, бормотал что-то невнятное, что-то совал Рябцеву в руки, под ноги, под голову. Затем он в чем-то клялся. Но с таким видом, будто и сам не верил в то, что говорил.
— Даю слово… Всё будет нормально. Надо терпеть… терпеть.
Голоса Морокина не стало. Над головой возник шепот. Шепот перерос в шелест. Шелест сросся с тишиной. А потом зашумел лес. И шум стал поглощать в себя боль. Небосклон вновь просветлел и наполнился ослепительной синевой. Исполинская гряда облаков медленно меняла форму, вырастая из себя самой и разворачиваясь на гигантских размеров «подошве», подпиравшей небосвод. Облака окрасились в неисчислимое множество свинцовых оттенков.
«Ты умрешь… — услышал он в себе хорошо знакомый и совершенно спокойный голос. — Умирать не больно, не бойся. Всё будет хорошо… Хорошо…»
Измерения смещались. Жизнь продолжалась. Она продолжалась в мыслях, которые разбегались, как рябь по воде. В сознание вкрадывались тишина, строгий порядок и покой. Покой особый, безупречный, чем-то и вправду напоминавший водную гладь, в которой так чисто и так ясно отражается небо. И больше не хотелось этот покой нарушать…
К концу дня тропа вывела на проселочную дорогу, развороченную колесами бронетранспортеров. Дорога уводила в северно-западном направлении. Из последних сил прибавляя шагу, стараясь не запутаться в направлениях и удерживать в памяти хоть какие-то ориентиры, Морокин шел куда глаза глядят — туда, где нарастал, как ему чудилось, гул, напоминавший вой ветра в дымоходе. Время от времени далеко впереди мерещилась загадочная точка. Точка передвигалась между горными откосами слева направо, периодически исчезала, потом вновь вплывала в поле зрения, но, как мушка в глазу, начинала сползать в сторону, стоило попытаться в нее всмотреться.
На исходе дня точка появилась над почерневшей кромкой леса впереди и стала увеличиваться в размерах. Набухал и гул, минуту назад совсем, было, растворившийся в сумеречной пустоте. И вдруг до Морокина дошло, что прямо на него низко над лесом летит не стрекоза, а вертолет.
Свой или чужой? Мирон вылетел на открытый изгиб проселочной дороги и замахал руками. Стрекоза резко сменила курс, сделала широкий полукруг и, потыкавшись мордой по сторонам, исчезла за лесом.
Гул быстро удалялся. Вокруг опять воцарилась тишина. Не понимая, что произошло, Морокин взобрался назад к пролеску, следил за дорогой и ждал, что будет дальше.
Прошло около двадцати минут, и гул возник снова. Он доносился всё более отчетливо и мало-помалу переходил в завывание. Однако стрекоза не появлялась. Но с другого края голой равнины, уже тонувшей в сумерках, на дорогу вдруг вылетела раскачивающаяся на скорости бронемашина. За БМП шло несколько бронетранспортеров.
Выскочив на дорогу, Морокин хотел закричать, но голос не слушался. Тогда он сорвал с себя камуфляжные обноски и стал размахивать ими над головой.
БМП сбросила скорость и, клюнув носом, застыла на месте. Шедшие следом БТРы веером разъехались в стороны и тоже остановились. Из люка БМП высунулась голова. Смотревший в бинокль медлил, вновь и вновь обводил окулярами окрестный лес…
Ведущая бронемашина резко тронулась с места и, раскачиваясь как лодка на волнах, поплыла через поле навстречу…
Эпилог
Вернувшись домой через две недели после операции, Николай поселился на даче. Нина тоже переехала в Кратово, но она почти ежедневно отлучалась в город. Пару раз Николай выбирался к кардиологу Николаю Николаевичу. Результаты операции тот считал оптимальными, а о самом профессоре Олленбахе, с которым был знаком лично, поскольку годы назад ездил на стажировку в его центр в Париже, говорил как о человеке выдающемся, почти гениальном: больной, прошедший через его руки, мог ни о чем не беспокоиться.
Массажистку и молодого врача, которые проводили с ним реабилитационный курс лечебной физкультуры, Николай вызывал в Кратово, отправляя за ними Глеба Тимофеевича. С завидным упорством занимаясь гимнастикой и дыхательными упражнениями, Николай пытался убедить себя, что сможет восстановить силы без стационарной опеки и не за шесть месяцев, как утверждали врачи, а за месяц-два. Во всяком случае, до лета. Потому что летом он решил вывезти семейство на отдых. И не за границу, не в Куршевель, не на австрийские курорты и не в Шотландию, куда упрямо зазывал Грабе, а на Сочинское побережье; Николай еще ни разу в жизни не проводил отпуск в этих местах. Компаньон Гусев, пообещавший устроить места в санатории Генштаба, куда сам ездил сгонять жирок диетой, клялся и божился, что, несмотря ни на что, санаторий еще тот, «наш», «советский». Лучших условий для восстановления сил душевных и телесных нет, мол, на всем белом свете.
Все надежды начали рушиться с началом оттепели. Лопухов вновь почувствовал себя слабым, разбитым. Николай Николаевич настаивал на настоящем санаторном лечении. Под Санкт-Петербургом, недалеко от Репино, находился известный кардиологический санаторий, одним из отделений которого заведовал давний знакомый Николая Николаевича. По заверениям профессора, условия в санатории идеальные, не хуже чем в какой-нибудь швейцарской богадельне на Волшебной горе. На этом варианте и остановились. Нет худа без добра: как-никак всё поближе к дочери…
Жизнь вроде бы не изменилась, но что-то безвозвратно ушло в прошлое. Теперь Николая чаще прежнего одолевали сомнения в самых простых вещах. Любил ли он жизнь? Не ту, которой жил, но жизнь вообще? Николай даже в этом не был вполне уверен. Способность человека к адаптации казалась невероятной, он мог привыкнуть к чему угодно. Голод и холод, лишения и тут же достаток, который иногда противоречит не только нуждам, но и здравому смыслу. Сытость, довольство и в то же время болезни, внезапные и нескончаемые болезни. Угар эмоций, пена у рта и в то же время пресыщенность чувствами, удушающая скука. Грехи, отступничество и прежде всего от себя самого… Какое всё же немыслимое количество мерзких дел и поступков совершаешь ежедневно сам или позволяешь совершать другим по отношению к себе!.. А то и просто химеры, полужизнь, ненастоящее, какое-то виртуальное существование, заполненное пустейшими, заведомо несостоятельными надеждами на завтрашний день. Надеждами, которые ничего в жизни не меняют, но лишь окончательно отравляют ее, потому что реализовать их не удается… Человек может мириться с этой действительностью годами, десятилетиями. Годами он может рассказывать себе басни. На протяжении десятилетий он может разочаровываться в себе, в людях, во всем роде человеческом. Но при этом он продолжает тянуть лямку. Как ни в чем не бывало. И даже если давно очухался, протрезвел, даже если не рассчитывает на передышку или на компенсацию за приносимые жертвы. И так — до бесконечности. До гробовой доски. Немыслимо! Откуда такой запас жизнелюбия? А впрочем, жизнелюбие ли это? Что, если необоримый оптимизм — самонадувательство, показуха? Что, если за показухой скрывается обыкновенное отвращение к жизни, в котором невозможно признаться даже себе, потому что сразу же рухнет всё вообще? Что, если именно отвращение и приводит ко всеядности? В противном случае не смог бы никто хлебать эту грязь до бесконечности. Не стал бы…
Именно к таким безутешным выводам приходил Николай, давая волю мыслям и чувствам, как только сознавал, что время подгоняет к принятию решений. Исправить хоть мизерную часть содеянного, дабы придать существованию хоть какой-то смысл, — это казалось новым, почти роковым предусловием бытия вообще. Вне всякой логики и вне каких-либо расчетов прежняя жизнь представлялась невозможной, она казалась бессмысленным мытарством. А будущая жизнь — вообще иллюзией. С этим и приходилось сегодня считаться… Наконец-то для него всё стало просто и ясно.
Иван приехал в Петербург не столько по просьбе Нины, сколько торопясь выяснить подробности какого-то смутного «семейного» дела, о котором Николай говорил по телефону. Брат мельком обронил, что им нужно обсудить нечто архиважное, и Иван понял: встречу нельзя откладывать.
Николай один занимал двухместную палату с окнами в парк. Телевизор в палате не включали. Зато он с интересом листал книги, газеты, подолгу выискивал что-то в Интернете, пользуясь своим ноутбуком. Нередко в руках у него видели Евангелие. Когда к нему кто-нибудь входил, он прятал его под подушку, а если и продолжал читать, то редко перелистывал страницы.
Иван наведывался в Репино ежедневно, приезжал на сереньком «опеле», который брат списал с баланса конторы и предложил ему в пользование еще в Москве; на «опеле» Иван и приехал из Москвы, чтобы не ездить за город на такси, автобусах и электричке. Раз в два дня Нина приезжала в Репино вместе с ним. Втроем они проводили здесь остаток дня. На выходные Нина привозила дочь. Но Феврония не могла высидеть в палате больше двадцати минут. На отца она смотрела обреченным, по-детски проницательным взглядом. Болезненная реакция дочери Нину настораживала. Иногда она спрашивала себя, не басни ли им рассказывают об успешной реабилитации мужа? Не принимает ли она желаемое за действительное? Выздоравливающий человек и выглядит, и живет совсем по-другому. Но она тут же суеверно упрекала себя за черные мысли.
На взгляд заведующего отделением, несмотря на исключительно хорошо сделанное шунтирование, следовало смириться с фактом, что состояние венечных артерий оставляет желать лучшего. Заменить их на новые не смог бы ни один хирург в мире. Еще в Париже Нину предупреждали, что в сосудах у Николая осталось немало узлов закупорки. Отчасти поэтому реабилитация якобы и затягивалась. К тому же наблюдались перебои сердечного ритма.
Самого Николая в такие подробности не посвящали, хотя он упорно настаивал. Из-за одышки ему не удавалось осилить всего того, за что он с рвением брался; теряя терпение, он впадал в состояние мрачного бессилия. Врач уверял, что наплывы депрессии для таких больных — обычное дело. Не веря никому, Николай продолжал звонить в Париж. Тамошний лечащий врач Мари-Пьер, ассистентка хирурга, уверяла его, что всё вписывается в обычную картину выздоровления, это мнение разделял будто бы и профессор Олленбах. Восстанавливать силы придется постепенно. На реабилитацию может уйти не три месяца, как она прогнозировала поначалу, а шесть месяцев, для некоторых больных бывает и этого мало…
За городом зима держалась долго, хотя морозы стояли, очевидно, уже последние перед весенним потеплением. После четырех вечера в палату вливался золотистый свет послеобеденного солнца. Солнечный диск вдруг словно зависал над лесом и над горизонтом, прояснявшимся в той стороне, где по цвету неба угадывалась ширь Финского залива, и в течение нескольких минут всё окрашивалось вокруг столь характерными для Петербурга жжеными красками, после чего парк заливала волнующая воображение зимняя синева. Иван тешил себя надеждой, что по окончании холодов, как только весеннее тепло переломит сопротивление зимы, брату станет легче. Мнение разделял и заведующий отделением: так будто бы обычно и происходит с тяжелыми больными. Но в то же время Иван не мог не видеть, что брат сдает буквально на глазах.
Говорить о своем состоянии Николай не хотел. Когда он подолгу глядел в окно, на лице его появлялась мечтательная отрешенность, особенно в те минуты, когда за окном воцарялись сумерки. Иногда он незаметно погружался в дремоту или просто лежал с закрытыми глазами. Но как только Иван поднимался со стула, брат открывал глаза и, с усилием откидывая одеяло дремы, просил не уезжать, посидеть еще…
В пятницу Иван заговорил о том, что было бы неплохо, как только это станет возможно, съездить на неделю-две к отцу. Николай, обиженно помолчав, пробормотал:
— Вань, ты что, не понимаешь, что ли? Как я туда поеду? На носилках? Я же чувствую, что-то со мной не так… Что-то не так, — повторил он. — Подождем еще пару дней, потом буду принимать меры… А вообще, странно, как быстро ко всему привыкаешь, — добавил он. — Скажи здоровому человеку, что завтра он останется без ног — не поверит. А случись такое, уже через неделю будет думать, как скрасить свою жизнь безногого… как сделать так, чтобы удобней было двигаться? Человек готов жить без рук, без ног…
— После этой поездки во мне что-то изменилось, — с напускным равнодушием вернулся Иван к разговору о Туле. — В Москве пребываешь в подвешенном состоянии, живешь, как невменяемый. Проходит месяц, оглянешься назад — непонятно, на что ушло время. А в Туле неделя — целая эпоха, столько происходит всякого. — Заметив, что брату импонирует этот тон, Иван шутливо стал перечислять: — У соседа собака ощенилась. На перекрестке пьяного чуть не задавили… Так изо дня в день. И по хозяйству дел — не продохнуть.
— Да, в последний раз я тоже это чувствовал, — согласился Николай. — Впустую как-то прошло столько лет. Оттуда это виднее. И по папиной физиономии прямо-таки читать можно… — помолчав, Николай спросил: — У тебя никогда не бывает такого чувства… с детства помню, когда я болел, у меня всегда появлялось ощущение… даже не знаю, как описать… Всё пространство превращается в теплый пластилин. Липким всё становится, вязким. Время, оно как бы растягивается. У меня всегда появляется «чувство пластилина» за пару дней, перед тем, как заболею. Даже перед обычным гриппом. Закрою глаза, и сразу всё становится тягучим…
— Точно, помню, — подтвердил Иван с некоторым удивлением. — Растягивается время…
— Значит, понимаешь. Когда кому-нибудь говорю об этом… ну, про время… на меня вот такие шары выкатывают… — Николай удовлетворенно заключил. — Это у нас в крови.
— Почему ты заговорил об этом? — спросил Иван.
— Раньше такое со мной редко случалось. А теперь постоянно. Такое чувство, что пространство… что всё вокруг — оболочка. Упругая и растягивающаяся. Время течет не так, как раньше… Послушай, а вдруг я здесь застряну? Ну если трезво, без эмоций? — спросил Николай, повернув лицо на брата.
Разубеждать его не хотелось. Сердце Ивана сдавила холодная тяжесть. Честнее было молчать, в противном случае пришлось бы лгать и себе самому.
— Я где-то читал, не помню где… что неверие, неверие в Бога — это разновидность безумия, — сказал Николай. — А я вот думаю, что еще безумнее знаешь что?.. Верить наполовину. Вот это уже — полное безумие. Крыша совсем может поехать… Потому что это в принципе невозможно. И верить и одновременно не верить. И быть и не быть… А ведь так большинство живет. Большинство этим довольствуется. И — хоть бы хны. Как это возможно?
— Получается, мы с тобой безумцы законченные? — через силу усмехнулся Иван.
— Тебе смешно… А ты лучше задумайся. У меня от мысли об этом мурашки бегут по спине. — Николай отвел взгляд на окно и, переборов одышку, продолжал: — Большинство людей живут по инерции. Во всяком случае, старается не сойти с дороги… с накатанного пути. И вранья о себе им вот так хватает, — Николай провел ребром ладони по горлу, — большего и не нужно. А куда он ведет, этот путь?.. Ты правильно сделал. Правильно выбрал.
— Что ты имеешь в виду? — не понял Иван.
— Правильно, что решил уйти от этого. От беготни, от материализма. Правильно, что выбрал книги, литературу, — пояснил Николай.
— Я ничего не выбирал. Чушь! Как я мог сознательно выбрать нищету?
— Не прибедняйся. Сами собой такие решения не принимаются.
Чтобы не перечить друг другу, оба некоторое время молчали.
— Тебе по снегу не хочется походить? — сменил тему Николай. — Может, поможешь мне завтра? Если погода будет хорошая после обеда? Пораньше сможешь приехать?
— Приеду, конечно, — пообещал Иван.
— Не позднее двух.
— Договорились.
С утра день выдался морозный и солнечный. Но после обеда небо над парком опять затянули облака. Иван предлагал перенести прогулку на следующий день.
Николай настаивал на своем. Он возбужденно объяснял, что все эти дни звонил в Москву, отправил компаньонам десятки писем по электронной почте, улаживая свои финансовые дела. Николай твердо решил продать свою долю акций, о чем говорил еще как-то в Кратове, но тогда никто не принял его слов всерьез. И вот выяснялось, что он настроен вполне решительно.
С компаньонами возникли разногласия. Предлагаемые условия выхода Николая из бизнеса, как выяснилось, никого не устраивали. А ведь еще недавно все били себя в грудь: мол, не будем жить по волчьим законам! На поверку вышло, что не может и поклявшийся не воспользоваться беспомощностью слабого; он, Николай, стал слишком легкой добычей. Реальной цены за его долю компаньоны давать не хотели, настаивали на формальном перерасчете стоимости компании и совокупностей всех долей из расчета годичной прибыли. На размышления они затребовали месяц. Один Грабе протягивал руку и предлагал выкупить долю Николая на одного себя по реальной цене. Но и это грозило обернуться дележом с самыми непредсказуемыми последствиями, поскольку никто не позволил бы американцу завладеть контрольным пакетом. Николая выдавали глаза: все эти новости его и удивляли, и угнетали.
Иван не сразу распаковал дорожную сумку. Решив сделать брату сюрприз, кроме мандаринов, которые Николай попросил привезти, чтобы держать их на столе для запаха, Иван вытащил из сумки объемистый пакет и, с шумом распотрошив бумагу, выставил перед братом пару валенок из светло-рыжего войлока. Именно такие валенки, светлые и легкие, носил иногда отец. Оказалось, что их нелегко найти. Ольге Павловне пришлось обежать весь Санкт-Петербург.
Николай сидел на кровати в новых валенках и любовался обновой, как мальчишка.
— Вот это вещь! Чудо, Ваня… В жизни не носил ничего удобнее. А легкие какие… Ты не примерял? Елки зеленые… Спасибо! — сиял он. — Небось дорогие?
— Копейки.
— Сколько?
— Не знаю. Ольга Павловна покупала. Сказала: в подарок Коле, пусть нос не вешает.
— Надо же… Передай ей спасибо.
Они вышли на улицу. Очищенная от снега аллея уводила вглубь заснеженных сосен, откуда Николаю хотелось взглянуть на зимний лес, но не успел он сделать и сотни шагов, как ему стало трудно дышать. Он выглядел удрученным. На лице застыло отрешенное выражение. Даже медленная ходьба в обратном направлении потребовала от него больших усилий.
Присели на скамью. Сунув руки в карманы старенькой дубленки, Николай погрузился в задумчивость.
Немного отдохнув, он внезапно оживился:
— А знаешь, у меня получается… Попробовал, и получается, — Николай улыбался.
Иван опять недопонял.
— Молиться… Раз сто повторю одну и ту же молитву и замолкаю, — пояснил Николай, кивая. — А она сама продолжается, внутри.
— Нина говорила, что ездила в Шамордино, в монастырь… Ты в курсе?
— Да, так всегда и происходит. Один просит — другой получает. Один праведник, но везет другому, — сказал Николай и, посидев еще пару минут, поднялся, чтобы идти дальше.
— Как всё-таки красиво. Мир потрясающе красив! — бормотал он, борясь с одышкой и обводя взглядом заснеженные сосны. — Если бы вопрос встал ребром… о жизни и смерти… я наверное не очень бы переживал… об утрате жизни… Невелика ценность!.. А вот всего этого не видеть… И даже думать об этом как-то жутко… Нина тут книжками меня снабжает всякими. Апостол Павел говорит, что, когда болеешь телом — грешить перестаешь. Очень верно, знаешь ли, подмечено. Убеждаюсь в этом на собственной шкуре. Осознанных грехов стало мало. Почти не осталось. Остаются наросты, настоящие наросты неосознанных грехов. Они — самые въевшиеся. И еще чувство страха появилось. Страх оказаться совсем без греха, представь себе…
— Не представляю, — удивился Иван.
— Очистившись, уже не можешь быть таким, каким был раньше, а кем именно станешь — еще неизвестно, — серьезным тоном объяснил Николай. — И знаешь, что главное?.. Главное — любить неближнего своего, как себя самого. — На лице Николая проступило выражение удивления. — Научиться этому, и можно было бы… мы смогли бы небо взглядом перекрашивать… в другой цвет.
Уже в палате, после того как Иван помог брату раздеться и лечь, Николай загадочно произнес:
— Тебе не кажется, что мы вымираем?
— В каком смысле? Ты и я, что ли?
— Мы, Лопуховы.
— Не знаю… Не думал об этом.
— Я, вот что… Не стоило, конечно, сегодня говорить об этом, — тянул Николай. — Да уж ладно, что теперь… Хотел новостью одной поделиться… Только прошу, сначала выслушай, не спеши реагировать.
Николай быстро взглянул на брата и отвел взгляд.
— Насчет ребенка, что ли? — осторожно осведомился Иван, сразу догадавшись, что Николай надумал наконец заговорить о том, ради чего он фактически и приехал в Петербург. — Только не говори, что… Выкрали, что ли?
Брат просиял как мальчишка. Иван смотрел на него с изумлением.
— Чуть что, сразу — выкрали. Слова-то какие употребляешь… Аж мурашки по спине, — пробормотал Николай. — Представь себе…
— Мальчика стащили? У швейцарцев?
— Я обратился к людям. Мне помогли всё провернуть. Наняли двух немцев. Они увезли ребенка из Цюриха… — полусерьезно и словно сам себе не веря, объяснил Николай.
— Немцев… Какие еще немцы? Что ты мелешь?
Посмотрев на брата внимательным, до необычного ясным взглядом, Николай твердым бесцветным голосом произнес:
— Машин сын никогда не будет жить с чужими. Я давал слово.
— Ты, Коля, больной… Ей-богу, больной! Это же называется… Это же киднэппинг! Да ведь за это…
— Что — за это? — Лицо Николая расплылось в обезоруживающей улыбке.
Иван отрицательно качал головой, больше не находил слов.
— Пока он во Франции. В надежных руках, — сказал Николай. — Ни в чем не нуждается. У него есть няня, врач, ты не переживай.
— Ну хорошо. А дальше?
— Считай, что у тебя появился племянник, вот и всё. Мальчик вернулся к своим, чего тут сложного. Ты не рад? Ну если честно?
Поймав на себе самодовольный взгляд брата, Иван смятенно качал головой.
— Ребенка похитить… Да кому ты обещал?! Кто тебя просил об этом?
— Папе обещал, тебе, всем… Я обещал не оставить Машу одну… свое дерьмо нужно уметь расхлебывать, — сухо напомнил Николай. — Мальчонку теперь могут вывезти куда угодно, — добавил он. — Хоть в Москву. Хоть в Лондон. От меня ждут решений. Я всё оформил, все бумаги. Всё оплачено.
— Что оплачено?
— Оформление, документы… Прицепиться не к чему… Мне кажется, первое время ему лучше пожить не здесь… а в Англии. Ты как думаешь? — Николай выжидающе смотрел на брата. — Ты бездетный. Может, никогда и не будет у тебя детей… с твоим-то образом жизни. Дети ж так просто не появляются, как грибы в лесу. Может, тебе взять его на воспитание? О том, что произошло, никто никогда не узнает. Кроме тебя и меня — никто.
Задумчиво уставившись в окно, Иван по-прежнему молча переваривал услышанное.
— Ну придется папе кое-что растолковать. В общих чертах, — добавил Николай. — Да и то еще надо подумать… Дай мне слово, что ты возьмешь его… И не молчи, ради бога! Мне тяжело всё это говорить. Ты представить себе не можешь, как я мучился, как трудно такое решение принять.
— Хорошо… Обещаю, — вдруг сказал Иван и, словно сам себе удивляясь, ошарашенно умолк.
— Ну вот, гора с плеч долой, — Николай с облегчением перевел дух, но дышать ему не стало легче, грудь резко вздымалась при каждом вдохе.
— Ты хоть знаешь, как его зовут? — спросил Иван.
— Как его Маша назвала?.. По швейцарским бумагам — Базиль. Я оформил бумаги на Василия… Вася — отличное имя для пацана. У Вани появился Вася. Всё просто. А что мудрить-то? Люди мы простые, русские… Вот как эти валенки… — улыбался Николай. — Вообще-то, это надо отметить. В холодильнике бутылка внизу. Достань!
Иван прошел к холодильнику и вернулся с бутылкой «Моет и Шандон».
— Открывай… — храбрился Николай. — Вообще это только сначала трудно, а потом ничего, наладится… Представляю, что будет с папой. Не переживет.
Иван тихо, с чуть слышным хлопком откупорил бутылку и наполнил шампанским два пластмассовых стаканчика.
— Пей за двоих. Я не буду… Отличный брют, специально попросил купить, — подбодрил Николай и, дав брату сделать пару глотков, принялся объяснять всё по порядку: — Когда вернешься в Москву, позвонишь Филиппову. Он в курсе, всё контролирует. Можешь положиться на него. Во всем. На редкость верный человек. Я даже не предполагал. Он тебе всё объяснит. Тут, главное, что… Принять минимальные меры предосторожности. И всё будет в порядке. Через некоторое время всё отстоится, все о нас забудут. И всё будет нормально, поверь мне…
Братья долго молчали.
— И еще одно… Нина и Феврония… У них теперь никого практически. Если со мной что-то произойдет… — осторожно сменил тему Николай.
— Я отказываюсь об этом говорить, — осадил его Иван. — Тебе уже объясняли, что многое зависит от тебя самого. От того, на что ты сам настроен.
— Всё правильно. Всё зависит от меня. Но дай мне договорить… Я должен объяснить, мне будет спокойней. Мы так давно по-настоящему не говорили, что прямо не знаю, с чего начинать… Я попросил Грабе помочь мне купить дом в Англии. Это на юге где-то, на море. Брайтон — знаешь такое место?
— Ты дом купил? В Англии? Но зачем, Коля? Зачем тебе дом в Брайтоне?
— Не в Брайтоне, а рядом, в деревне небольшой… Ты же не можешь оставаться бездомным. Всю жизнь так будешь жить? А так решены все проблемы, и точка! Не такие это большие деньги. Вон там, на тумбочке, папка лежит, ну-ка подай…
Иван протянул брату зеленоватого цвета папку. Николай достал из нее цветные фотоснимки.
— Фото — дрянь, не пугайся. Жалко, что вокруг не сняли. Я просил всё сфотографировать, внутри, снаружи, а они, дармоеды… Да в агентстве, в Лондоне… Везде одно и то же. Не заставишь людей работать. Где могут урвать, там урывают, — ворчал Николай. — Но даже по фотографиям — не дом, а сказка. Настоящий камень. В деревушке находится. На отшибе. Detached — так они это называют. Чуть ли даже не character. Два акра земли. Это около гектара, чуть поменьше. Море в двух километрах. Всего триста тысяч фунтов с хвостиком. Я внес задаток…
Иван молча и быстро перебирал снимки. На лице у него проступило выражение равнодушия и брезгливости.
— Ну что ты как в рот воды набрал?! — подстегнул старший брат. — Эта наша хватка… практицизм, который я даже в папе раньше замечал… я всегда стыдился в себе этого, этой оборотистости. Честное слово! Потому что не знаешь, чего здесь больше — протестантского духа или иудейского. Странно, что нам, русским, это так свойственно… Фарисеи считали, что по заслугам человеку воздается уже на земле… Вот и допрыгались! А в тебе этого нет. Вот и прими как компенсацию… Отверни взгляд твой от греха други твои… — улыбаясь, цитировал кого-то Николай. — Ты же всё равно не виноват…
Лечащий врач, еще пару дней назад уверявший, что серьезных осложнений быть не может, в канун Пасхи стал менее оптимистичен. Он просил Нину поменьше сидеть в палате и не обзванивать всю планету в поисках несуществующих решений и директив, поскольку она названивала Николаю Николаевичу в Москву и в парижскую больницу, где Николая оперировали, после чего мчалась обсуждать услышанное с санаторными врачами. Говорила же по большей части банальности. На нее обижались. Заведующий отделением скрепя сердце всё же согласился на визит пожилого коллеги из Военно-медицинской академии, которого Нине порекомендовал Николай Николаевич.
Ничего нового старичок-кардиолог не обнаружил. Пересмотрев кипу электрокардиограмм, он пришел к заключению, что аритмия выраженная, с отрицательной динамикой. Всё, что он мог предложить, это забрать больного к себе в стационар — на всякий случай, чтобы понаблюдать его подольше и провести дополнительное обследование. Переезд назначили на начало пасхальной недели. Вышло иначе…
За два дня до этого, в ночь с понедельника на вторник, на Гороховую позвонил дежурный врач и сообщил, что ему только что пришлось отправить больного в ближайшую больницу с очередным инфарктом…
Ранним утром Иван появился в больнице в Озерках, на далекой городской окраине, куда Николая доставили ночью. Больница выглядела обшарпанной, убогой. Многоместные палаты. Вонь лекарств, хлорки и столовой. Не приходилось жаловаться разве что на чистоту. Молодая уборщица трудилась не покладая рук.
Всю первую часть дня Нина провела в телефонных переговорах, а затем в разъездах между Озерками и Военно-медицинской академией, куда пыталась перевезти мужа. Для того чтобы разобраться в том, что с ним произошло, требовалось провести новое обследование, в частности коронографию. Отделение в Озерках такой аппаратуры не имело. Однако Нину в один голос отговаривали от поспешных действий и в академии, и в Озерках. Советовали подождать пару дней: переезд мог только навредить больному.
Более полную информацию о состоянии брата Иван получал через медсестер. Одна из них, молоденькая Вера Павловна, которая выделялась среди своих коллег какой-то еще девичьей застенчивостью и добродушием, объясняла ему, теряясь от смущения, что положение пациента серьезное, что при подобных инфарктах некроз тканей миокарда, несмотря на все меры предосторожности, представляет угрозу для жизни. Но в то же время старалась успокоить Ивана, уверяя, что даже за время ее работы в больнице она немало повидала случаев, когда больные полностью выздоравливали.
Николай пребывал в полубессознательном состоянии. Изредка на мгновение приоткрывал глаза, узнавал брата, пытался улыбнуться, после чего вновь погружался в тяжелый полусон…
Последний разговор с Николаем состоялся в среду. Иван приехал с Ниной и Февронией. Николай спал, и уже другая медсестра, сменившая молоденькую Веру Павловну, сообщила, что с утра он практически не приходил в себя. Лицо брата с впалыми изменившимися чертами лоснилось. Руки едва заметно теребили край одеяла. Он никого не узнавал. Сознание возвращалось к нему всё реже, и, когда он приходил в себя, во взгляде его появлялись то глубокое удивление, то испуг, а глаза слезились.
Феврония была не в состоянии смотреть на отца раздавленного болезнью, непохожего на себя, неспособного шутить и подбадривать. В палате находилось еще двое больных, оба с инфарктами. Воздух стоял затхлый, тяжелый. И Нина вскоре вывела дочь в коридор.
В отделении начался вечерний обход. Группа молодых врачей вошла в палату, и Иван, когда очередь дошла до Николая, уступил место у кровати заведующему отделением. Брат обводил всех недоуменным взглядом. Через минуту, как только палата вновь опустела, глаза его как будто по-прежнему следили за происходящим, но Ивана он не узнавал. Николай уснул.
Дежурная медсестра, стараясь подбодрить Ивана, уверяла, что больному хотя и тяжело физически, но совсем не больно. Глядя на спящего брата, Иван и верил и не верил ей.
Прошло около часа. Николай открыл глаза и устремил прямой неподвижный взгляд на брата:
— Это ты?
— Я… Иван, — зачем-то уточнил Иван.
— Что ты тут делаешь?
— Сижу. Рядом с тобой.
— Ах, да. Надо ж, не повезло… — пробормотал Николай. — По-моему, финиш. Вот теперь я чувствую.
— Что ты чувствуешь? — помедлив, переспросил Иван.
Уставившись в потолок, Николай только громко вздохнул и не ответил.
Иван следил за бегающими по одеялу костлявыми пальцами брата и думал, как он похудел за последнее время.
— Представляешь, звери не знают, что умрут. Где-то читал об этом, — сказал Николай. — Как это много меняет, не согласен?.. Нет, это не страх. Как-то всё зависает. И там, и здесь. Это всё, всё это… — теряясь в словах, Николай умолк и теперь лежал с таким видом, будто что-то прощупывал внутри себя. — Но это не может исчезнуть. Или всё-таки может?
— Не может, — убежденно сказал Иван.
— Ты ведь остаешься. Всё остается. Это тоже многое меняет… Я всегда любил ясность, конкретику… Вот она и нагнала меня. Конкретика эта… Смешно, конечно. Больше всего нам достается от своих главных принципов. Последний толчок всегда отсюда — и делай с этим, что хочешь…
Николай следил глазами за братом. Губы его кривились в какой-то умоляющей полуулыбке, но взгляд постепенно становился отчужденным и холодным.
— Нину не оставляй. Она такой человек… Ей нужен кто-то рядом. Постоянно нужен. Иначе она теряется, всё теряет. Мы все теряем. Глупо, конечно. Еще бы пару лет. Я на балет всегда хотел пойти. С Февронией. Дурак я… Глупо… Дворяне не отдавали детей танцевать. Понимаю их. Правильно делали. Красоваться голенькой перед мужиками… такими, как я. Она нимфетка. Будь осторожен…
Позднее, когда вернулись Нина с дочкой, Николай опять стал бредить, и Февронию снова пришлось увести из палаты.
В бормотании брата Иван улавливал лишь некоторые членораздельные фразы. Смысл их оставался непонятен.
— Жизнь сжимается в точку… Что такое точка? Ты понимаешь, что это? Я не понимаю, нет… почему-то не понимаю, — бормотал Николай. — Мир единичен. Всё началось с ноля. Но ноля нет. Значит, он был всегда. Смерть, это не опасно. Нечего ее бояться… Нечего…
В шесть утра на Гороховую позвонил дежурный врач и сообщил роковую весть.
Как он рассказал позднее, ту самую молоденькую медсестру, Веру Павловну, заступившую на дежурство в ночную смену, Николай под утро вызвал к себе в палату. Он попросил включить свет, открыть окно и помочь ему сесть. Она беспрекословно выполнила всё, о чем он просил. Брат посидел на кровати около минуты и спросил, почему вокруг так тихо, а затем странным тоном попросил ее сесть рядом. Удивившись, но не решаясь отказать ему, она повиновалась.
Просидев с медсестрой бок о бок еще около минуты, Николай потерял сознание, уронив ей голову на плечо.
Медсестра позвала на помощь. Его пытались реанимировать. Но подтолкнуть сердце так и не удалось…
Прошло уже двадцать минут; ночной поезд гремел по рельсам, отбивая колесами какой-то знакомый однообразный ритм, а за окнами всё еще мелькали дачные полустанки.
Спать не хотелось. Приткнувшись поближе к ночнику, Иван листал газету. Нина сидела напротив и невидящим взглядом смотрела в темное окно, где отражалось само купе и выход из него в тускло освещенный коридор. Бездонное отражение то и дело менялось, наполняясь то островками весенних пригородов Москвы, то скудными россыпями фонарных огней, которые выплывали из ночного мрака…
Мысли витали в далеком далеке. Она думала о покойном муже, о дочери, которая была ей бесконечно близка, а сейчас — как никогда. Но о таких вещах даже говорить невозможно. Слова искажают мысли, мысль изреченная есть ложь. А раз так, без толку пытаться довериться словам. Ей вдруг припомнилось, что эту мысль внушил ей однажды муж. И на душе сразу стало странно, вязко. Удивительно: теперь она часто слышала его голос, но не таким, как прежде. И когда это происходило, он всегда говорил о чем-то таком, о чем она не задумывалась при его жизни.
После Тулы, после похорон Николая отправлять дочь в Петербург уже не пришлось. И это казалось первой реальной победой над неудержимым потоком событий, во власти которого все они находились вот уже столько месяцев подряд. Отчисления из Академии удалось избежать. Ректор подписал заявление о предоставлении Февронии академического отпуска. Иван пробыл в Туле до девяти дней и, когда появился в Москве, уже вместе они с Ниной решили поехать в Петербург на время майских праздников, чтобы собрать вещи Февронии и разобрать чемодан Николая, который всё еще загромождал закрытую комнатушку в квартире у Нининой матери; сама Ольга Павловна не хотела притрагиваться к этим вещам…
Отложив газету, Иван вполголоса попросил Нину внимательно его выслушать. Он рассказал ей о ребенке Марии.
У нее, у Нины, появился племянник. Мать малыша — Маша, сестра Ивана и Николая. Еще в Туле Иван начал говорить о покойном брате как о временно отсутствующем, отчего Нине становилось жалко его, жалко их обоих, и немного жутко… Ребенок находится в Англии, однако расти и воспитываться мальчик должен в родной среде. А провернул эту немыслимую операцию покойный Коля, причем втайне ото всех. На авантюру он отважился сразу же после последней поездки во Францию. Нарушив все писаные и неписаные законы, какие только существуют в цивилизованном мире, Николай добился своего. Что-либо изменить уже невозможно. Сам он, Иван, должен немедля ехать в Лондон, чтобы заниматься ребенком…
Глядя в окно, Нина долго молчала. Почему ее не посвятили во всю эту историю раньше? Почему все молчали столько времени? Теперь-то ей стало понятно, почему младший брат, отныне бывший и за старшего, и за младшего, казался ей каким-то закрывшимся в себе. Понятно стало, почему так нянчился с ним Филиппов, и почему они последнее время меняли тему разговора при ее появлении, даже если видеть их вместе доводилось редко, поскольку много времени уходило на поездки в изолятор с передачами для Адели.
— Ну и слава богу, — вздохнула Нина. — Это самый настоящий поступок за всю его жизнь.
Иван уставился на нее непонимающим взглядом. На какую реакцию он рассчитывал?
— Не представляю, как я один буду им заниматься, — виновато проронил он.
Нина опять погрузилась в задумчивость. Глаза у нее блестели.
— Как все… Ничего сложного, — сказала она.
— Что, если вам со мной поехать? — спросил Иван. — Поживете в Англии несколько месяцев, смените обстановку. Оттуда на всё смотришь как-то по-другому.
— Мне теперь только Англии и не хватает… для полного счастья, — чуть не простонала Нина. — Один у тебя выход на все случаи жизни, драпать, да?.. От себя не убежишь.
— Коля просил меня об этом…
— В Англию нас увезти?
— А почему вам, собственно, не поехать? Или ты из-за подруги? — спросил Иван. — Ты очень привязана к ней?
Нина не отвечала.
— Коля говорил, вы очень сдружились.
— И что мы лесбиянки он тоже говорил? — Нина бесстрашно взглянула ему в глаза. Ее взгляд показался Ивану бесконечно усталым.
— Нет, этого я не слышал.
— Так думают все. Следователь, адвокат, свинтус этот недобитый… Живучий оказался, гад! — с ненавистью выплеснула из себя Нина и сразу побледнела. — Извини… Я не могу бросить человека, который ни в чем не виноват. Но никому здесь, похоже, ничего не докажешь.
— Я бы никогда не общался с мужчинами. Здесь, в России… если бы мог, — понимающе сказал Иван. — Только с женщинами. Вся эта грязь… Есть в ней что-то сивое, мужицкое. Женщины в России чище и интереснее мужчин, — добавил он.
— Каждая вторая — истеричка. А каждая третья — с отклонением, — усмехнулась Нина. — А ведь ты собирался здесь жить, среди этого хамья? Чем меня уламывать, ехал бы ты сам в Англию, Ваня. Писал бы книжки, устраивал бы свою жизнь. Ведь ты теряешь время. Пора поставить крест на всём этом.
— На России?
Нина молчала.
— Невозможно всю жизнь кресты ставить… — сказал Иван и вдруг стал удивительно похож на брата. — По-моему, я уже не смогу жить за границей.
— Сам не хочешь, а меня зовешь… Ты никогда не сможешь здесь жить, не строй себе иллюзий, — жестко сказала Нина.
— Кто-то должен жить здесь. Муравейник разрушен, — сказал Иван. — Но рано или поздно появится новый.
— Муравейник?
— Не знаю, как это назвать… Через несколько месяцев, как только буря с мальчиком утихнет, я вернусь в Тулу. Отец всё равно не сможет жить один. А вы бы остались там ненадолго. Со временем всё устоится, утрясется, — уговаривал Иван.
— Тула, сугробы, русская зима… Ты как иностранец рассуждаешь. Но ведь ты совсем не приспособлен к такой жизни, — твердила Нина свое. — Ты бы видел, что происходит там, куда я езжу.
— В изоляторе?
— Если бы не этот Петренко, с которым Коля договорился, свиданий нам с Адой вообще бы никто не дал… Ты бы видел, с кем там приходится иметь дело! — В лице Нины появилось что-то умоляющее, но упрямое. — В этой стране можно жить по-разному, как и везде. Можно ничего не видеть и как сыр в масле кататься. Вот как я жила до сих пор. А когда глаза открываются, становится страшно. Жизнь начинает казаться наказанием. И это тоже правда. Эта страна… Они здесь такого понаплодили! Столько лет, столько десятилетий разводить мразь, мрак! Как в колбе какой-то. Куда ни сунься, поближе к кормушке — одна мразь! Одни мутанты, выродки! — Помолчав, Нина добавила уже другим тоном: — В начале недели я была в Смоленске, у Аделиной сестры. Она предложила мне участвовать в одном деле. Наверное, соглашусь… Они детский дом с осени открывают. Не могу же я ничем не заниматься. Детей я всегда любила. Своих вот только… Так что всё само собой сходится…
Жизнь на Солянке текла без видимых перемен. Вечерами наведывался Грабе, каждый раз с букетом любимых Ниной полевых цветов, и непонятно где он их находил. Американец заваливал подарками и мать и дочь, чуть ли не в открытую ухаживал за обеими.
Грабе разделял мнение Ивана о том, что всем им неплохо бы уехать на время в Англию, и обещал всестороннюю помощь, в том числе при устройстве Февронии на дальнейшую учебу в Лондоне.
Внимая посулам мужчин, Нина впадала в прострацию, кормила их ужином, заставляла Тамару сесть за стол вместе со всеми. Грабе уезжал далеко за полночь с таким видом, будто ожидал чего-то другого. Уходя, он заверял, что в Москве ничего нет сравнимого с кухней Тамары и что готов ужинать здесь каждый вечер, да боится надоесть; он теперь тоже совершенно не знал, куда деваться по вечерам…
Временно отданный на попечение платных воспитателей, французской пары из Антиба, вместе с которыми жила и русская няня, ребенок находился в Ницце, где пришлось снять загородный дом. В середине мая Ивану довелось побывать с Филипповым в Провансе, взглянуть на будущего воспитанника. После этой поездки все его мысли были поглощены одним — скорейшим отъездом в Брайтон, где предстояло обустраивать дом. Ребенка планировали привезти в Лондон к концу мая. Иван собирался прожить в Англии около полугода. Подстраховывая его на каждом шагу, Филиппов придерживался именно таких сроков; только по истечении «карантина» в несколько месяцев он допускал возможность переезда мальчика на родину…
Нина предлагала Ивану забрать «вольво» брата. Она всё равно не водила, а старенький «опель», на котором он ездил с марта, что ни день ломался; машину заездил еще водитель компаньона Николая. Ивану казалось маловероятным, что в Англии можно будет разъезжать с московскими номерами. Документы на машину, уже переоформленные на имя Нины, так или иначе пришлось бы переделывать; канители, теперь еще и с машиной, не хотелось. Нина кое-как собрала сведения о том, какие требования к автомобилям с иностранными номерами предъявляют в Великобритании, особых трудностей не обнаружилось, и она предложила ехать вместе на машине. Из Петербурга в Финляндию, из Финляндии в Швецию, и паромом уже до Англии. Судоходное сообщение было с Харвиджским портом, что неподалеку от Колчестера, где Иван когда-то преподавал, — места ему знакомые…
Из Петербурга выехали в пять часов вечера. На выезде из города вышла задержка. Начиная от Литейного моста и вплоть до Выборгской набережной поток машин еле-еле продвигался, в пробке потеряли около часа.
Неприятности преследовали всю дорогу. Перепутав указатели, поскольку той же дорогой приходилось ездить к брату — санаторий находился в той же стороне — Иван по привычке вырулил на дорогу в Репино, и потеряли еще полчаса. А затем, уже в нескольких километрах от Выборга, пришлось выяснять отношения с милицией из-за превышения скорости. Откупиться — что могло быть проще? Но Ивану претила сама мысль, что из страны придется выехать со взяткой на совести; в заурядности столь классического решения было что-то неприятное, граничившее с чистоплюйством. Дебаты с дородным взмыленным гаишником обернулись лишением водительских прав. Британское водительское удостоверение после уплаты штрафа предстояло забрать через сутки в отделении, которое находилось где-то на перепутье между Выборгом и Петербургом…
Иван планировал остановиться на ночь в окрестностях Хельсинки, чтобы на следующий день без спешки пересечь всю Финляндию. Паром отходил вечером, и в расписание они уже не укладывались. Выход один — искать ночлег сразу после российской границы. Или ехать после границы без остановки, нагоняя километры среди ночи, насколько хватит сил; одно хорошо — ночные дороги свободнее. В этом случае остановиться на ночлег предстояло только тогда, когда будет полная уверенность, что прибыть к парому удастся вовремя. Нина предпочитала ночную дорогу…
Утомленная ездой Феврония еще до Выборга устроила себе ложе на заднем сиденье и спала беспробудным сном. Да и сама Нина, сидевшая на переднем сиденье, вскоре притихла. Ее первоначальное дорожное оживление сменилось сонливостью. Неподвижным взглядом она провожала плывущий за окном живописный и до странности родной ландшафт.
Дорога убегала под колеса ровная и прямая, как логарифмическая линейка. Справа тянулась бесконечная гребенка леса. Пóнизу, у подножия деревьев еще белел снег. Слева — поля, потом опять леса и розоватый, как кисель из малины, мутно тающий горизонт с вертикально громоздящимися над ним балтийскими облаками.
То же захолустье, щемящее своей безликостью, словно забытая и вновь повстречавшаяся родня, поджидало на улицах вечернего Выборга. Ни машин, ни пешеходов. Сиротливо-безлюдные улочки казались тупиковыми из-за перекрывших их длинных вечерних теней от домов. Покатая разбитая дорога долго петляла, пока не вывела к вокзалу с колоннами, похожему на театр. Иван притормозил возле машин, припаркованных на стоянке такси, и спросил, в каком направлении ехать до границы. Ему показали не на дорогу, а на улицу впереди — ту самую, по которой он ехал. Контрольно-пропускной пункт находился совсем недалеко.
Еще через несколько минут, миновав высокий узкий мост, под которым мерцали в воде красные и зеленые огоньки, и крепость, что высилась слева вдоль шоссе, они выехали к очередному мосту. Метров через двести Иван остановил машину перед опущенным шлагбаумом.
К водительской дверце подошел молоденький солдат в пятнистом бушлате и с кортиком на поясе. Паренек жестом попросил опустить стекло.
— Паспорта пожалуйста.
Иван протянул документы.
Пока солдатик разбирался, кто есть кто, Иван вчитывался в указатель, висевший впереди над развилкой. На нем значились два направления. Налево — Хельсинки, направо — Брусничная. Чуть ниже, под теми же надписями, латинским шрифтом было выведено непонятное, но притягательное название Lappeenranta[17].
— В каком направлении лучше ехать, посоветуйте, — обратился Иван к солдатику.
— Можно по трассе налево. Но граница не сразу будет, — охотливо отвечал тот. — А на Брусничную если поедете — тут рядом.
— Очередей нет?
— Не-а, очередей теперь нету. Бывают, но редко… на выходных только, — сказал солдат. — А чего это у вас паспорт не русский?
Иван замешкался.
— Так вышло, — сказал он.
— И визы нет на въезд к нам.
— Я въезжаю по русскому паспорту.
— Есть он у вас?
— Показать?
— Не надо. Дальше будут смотреть. Сами-то русские? — полюбопытствовал паренек.
— Русские.
— Счастливо вам! Скорость не превышайте, дорога извилистая, — посоветовал солдатик. — А то вчера один поспешил, да людей насмешил… Ездили из кювета вытаскивать…
Солдатик с кортиком на боку поднял вручную допотопный шлагбаум. Иван включил скорость, тронулся, но тут же дал по тормозам. Прямо на машину неслась корова. Он вдавил педаль и выкрутил руль, чтобы свернуть в сторону, но корова, за которой гналась огромная лохматая овчарка, шарахнулась к обочине и едва не налетела на капот машины. Обогнув шлагбаум по канаве, корова продолжала путь по центру проезжей части.
— Зорька, ты куда?! — услышал Иван окрик солдата, открывшего им шлагбаум — Ты что, как чумная?
Солдат улыбался, растянув рот до ушей. Растерянно глядя на прыщеватое мальчишеское лицо, Иван помахал ему на прощание.
Почти стемнело. Округу с каждым мгновением всё плотнее окутывала черно-синяя дымка. Теперь пришлось показывать паспорта рослому финскому пограничнику с томным взглядом; финн был одет во что-то пестрое, мешковатое и больше смахивал на спортсмена-горнолыжника, чем на блюстителя порядка.
После границы машину вынесло на гладкое черное шоссе с ярко-белой разделительной полосой. От белизны убегающего под колеса «шва» становилось больно глазам. По бокам от дороги стоял первозданный карельский лес. Чаща неохотно расступалась лишь перед зубьями скалистых отрогов, исполинские силуэты которых неожиданно вырастали над головой то с одной, то с другой стороны.
На душе стало тихо и безмятежно. Со дна сознания поднималось смутное ощущение, что кто-то невидимый, упрямый и воистину безграничный больше не желает ни во что вмешиваться, поэтому предпочитает оставаться в стороне, но тем самым оставляет за собой последнее слово…
Через полгода Иван в Россию так и не вернулся. Нина побывала в Москве в августе и присутствовала на суде Аделаиды Геккер — ее приговорили к двум годам лишения свободы, — а затем перебралась на постоянное жительство в Петербург, поселилась у матери на Гороховой.
Прилетавшую к ней на время дочь Нина водила на занятия по классике к новому преподавателю, а с октября собиралась отпустить ее обратно в Лондон, где Февронии предложили продолжать учебу при Ковент-Гарден. Сама же носилась по Петербургу в поисках средств и «сообщников», как отшучивалась по телефону в разговорах с Иваном, в которых нуждалась для открытия сиротского приюта. На пару с Геккер-старшей она самозабвенно посвящала себя новому делу…
Вместо послесловия
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем…
Экклезиаст, 1, 9…Полуразрушенный и безлюдный, город-призрак простирал свои омертвевшие щупальца на многие километры. В результате многочисленных перемен и реформаций он давно утратил свое название. Не имели имен и фамилий и оставшиеся жители, которые по-прежнему занимали уцелевшие дома. Они знали, что живут в стране с необозримыми границами и что эти границы пролегают далеко за пределами суши, вмещая в себя практически весь мир, видимый и невидимый.
В этой стране говорили на разных языках, на несметном количестве языков. Великая многоликость лишь усугубляла блуждавший по улицам ее городов дух отчуждения и смутного, немного печального ожидания перемен. Так бывает в лихолетье или в тот промежуточный период войны, когда защитники города, зная, что защищать его уже бесполезно, эвакуируют всё, что можно, и оккупация — это лишь вопрос времени, но завоеватель еще не подошел к городским стенам или, попросту сбитый с толку возможностью нежданно быстрой победы без усилий и потерь, не решается на последний шаг, на последний бросок…
Лишь изредка из приоткрытого окна или сквозь ставни доносились звуки радио или чья-нибудь речь на незнакомом языке. Реже — смех и обычно женский. Детских голосов не было слышно никогда. Ветер разносил по улицам запах гари. А в ранние утренние часы, когда с пустынных земель, окружавших город и окрестности, наползал туман, смог от пожаров усиливался до такой степени, что даже ко всему привыкшим старожилам становилось не по себе. Казалось, так не может дольше продолжаться. Но унылые дни сменяли друг друга, и ничего не менялось, — жизнь шла своим чередом…
Как ни странно, мир виделся ему сегодня именно таким, каким казался в юности. Необъятным, безграничным. В каком-то смысле — бездонным и в то же время совершенно понятным. Это лишь усугубляло неясное, но, опять же, печальное чувство отсутствия смысла в происходящем, а возможно, и отсутствие смысла в самом существовании мира сего, каким он представал глазам сегодня…
Поселившись здесь, как и все, годы назад, он никогда не задавался вопросом, как и почему это произошло. Так распорядилась судьба — чего же боле? Эту участь приходилось делить с тысячами, с миллионами таких же, как он. И если от этой констатации не становилось легче, то многое всё же упрощалось, поскольку сглаживалось другое трудное для восприятия чувство — чувство вины. За что? За то, что мир подчас убог, а ты живешь в нем, не прилагая ни малейших усилий, чтобы хоть что-то изменить в нем к лучшему? Но если речь идет о беде всеобщей, что может изменить один человек?..
Так все и жили. В безвременье. Так живут, когда знают наперед, что бессмысленно принимать решения, когда уже никто не верит, что можно хоть как-то повлиять на ход событий, когда не остается ничего другого, кроме как ждать, что решение в очередной раз будет принято судьбой, этой незримой, но всесокрушимой силой, вторжение в жизнь которой тем легче воспринимается, чем оно неудержимее. Люди ели, пили, некоторые даже продолжали ходить на работу. Благодаря существованию элементарно необходимых общественных структур их мир продолжал худо-бедно функционировать. Но люди не знали толком, как всё это организовано. Всё текло, казалось, само собой. Люди утратили интерес друг к другу. Сосед не знал соседа и, уж тем более, не мог знать, чем тот занимается и чем живет. И в то же время все чего-то ждали друг от друга. Ждали всё тех же перемен. Хотя никто не верил, уже исходя из личного опыта, что мир когда-либо изменится, что он вообще способен измениться к лучшему…
Разноязыкие горожане по вечерам собирались в зрелищных клубах. И это было единственным общедоступным развлечением. Для многих оно стало смыслом существования. В клубах шли одни и те же спектакли. Нередко с участием самих зрителей. Впрочем, погоня за эмоциями, поиск их в ритуальных зрелищах давно перестали быть развлечением в обычном смысле слова. Они стали частью жизни всего сообщества. Реальность и вымысел самым непосредственным образом сливались в целое. И если бы происходящее можно было оценить более объективно посторонним взглядом, то пришлось бы, видимо, признать, что здесь происходит нескончаемое, реальное, живое действо, к которому человек стремился всегда, во все времена и эпохи, и которое испокон веков являлось чуть ли не самоцелью его существования. Просто люди, за редким исключением, этого не сознавали. Мир пришел к тому, к чему стремился, — но как бы сам того не заметив, — и вот теперь смог реализовать свое самое заветное желание — стать воистину иллюзорным.
Вымышленная реальность обратилась в единственную реальность. Виртуальность как противопоставление материальной действительности осталась уделом другого мира, давно канувшего в Лету. Но некоторые по сей день жили в нем и бредили прошлым. Действо было главной целью всех приходивших сюда, всех, кто жил в городе-призраке. К этому, собственно, и сводилась здесь жизнь — к коллективному зрелищу, которое ни на минуту не прекращалось. В том всеохватывающем действе мог принять участие кто угодно, любой желающий.
…Огромный зал с никогда не зажигавшимися люстрами и с длинными балюстрадами, которые возвышались над многоярусными помещениями с высокими потолками и окнами — их, впрочем, скрывали от глаз плотные гардины, — вмещал в себя множество сценических площадок, как просторных, так и совсем небольших, рассчитанных всего на одного исполнителя. Во время спектакля по залу разрешалось прогуливаться, чтобы выбрать себе более подходящее место или «мероприятие по душе», как здесь выражались. Но если у кого-то возникало желание просто обойти и осмотреть зал, то это удавалось сделать далеко не сразу, настолько он был необъятен…
В бродившей здесь толпе очень редко, но всё же попадались знакомые лица. Тот факт, что завязать настоящее знакомство практически никогда не удавалось, объяснялся тем, что люди, попадавшие сюда, никогда подолгу не оставались самими собой. Они преображались и, играя какую-нибудь роль, настолько глубоко вживались в образ, что становились неузнаваемыми. Живой речи, помимо обычных приветствий и дежурного обмена любезностями, здесь было не услышать. А если кто-то и пытался обратиться к другому, то оставался непонятым, говоря на незнакомом языке…
…Он ходил на эти представления с соседкой по улице, зеленоглазой девушкой с льняными волосами, у которой, как у и него, не было в городе ни близких, ни друзей, ни даже знакомых. Жила она через два дома от него, а познакомились они случайно, при входе в Зрелищный зал, просто потому, что оказались рядом в вестибюле. И вдруг выяснилось, что они говорят на одном языке. Это их и объединяло. И как ни удивительно, именно потому, что говорить им было, как вскоре выяснилось, ровно не о чем.
Человек привыкает ко многому. Он во всем стремится найти смысл, а если не сам смысл, то хоть какую-то пользу для себя и, не в последнюю очередь, удовольствие… Вот и ему приятно бывало прийти в клуб в какой-нибудь обнове. Как в годы отрочества, удовольствие доставляло лишь одно осознание того, что вокруг тепло и уютно, что очень мало нужно, если рассудить, для ощущения полноты жизни и благополучия, для чувства удовлетворенности самим собою.
Из высоких дверей, распахивающихся в зал, в лицо бил поток звуков, запахов, теплого сладковатого духа нарядной людской толпы. Происходило то же самое, что и вчера, и позавчера. Но, странное дело, почему-то каждый вечер вновь и вновь хотелось сюда вернуться. Только ради того, чтобы стать свидетелем уже сто раз виденного? Чтобы однажды стать наконец участником?
Для этого надлежало совершить известное усилие, сделать определенный шаг. Какой именно — никто и никогда не объяснял. Это происходило непроизвольно, когда человек внутренне созревал и когда в один прекрасный день он вдруг ощущал себя готовым к роли участника. И каждому предстояло дорасти до этого самостоятельно, без посторонней помощи.
Единственное, что ни от кого не скрывалось, так это то, что прежде необходимо порвать с реальностью в привычном буквальном понимании этого слова, порвать с внешней дневной жизнью в городе-Вавилоне и навеки смешаться с представлением, с реальностью действа, поверив в игру. Но тем труднее было на деле провести границу между реальностью и вымыслом, между грандиозным шоу, а оно денно и нощно разворачивалось перед глазами, и своим внутренним миром, который опирался, несмотря ни на что, на очень конкретные, осязаемые понятия.
И вот что оставалось неясным до конца: а существовала ли эта граница? В нее можно было верить или не верить, окончательное решение зависело от последней дистанции, которую человек способен «воздвигнуть» в себе по отношению к окружающему миру. Многое зависело от него самого, от его природных дарований…
Никто и никогда здесь не обращался к нему по имени. Его настоящего имени никто не знал. Его звали просто Scriptor. Звучало совсем неплохо. Имелось в виду латинское «пишущий»? Он не был в этом полностью уверен. Спросить же не удосуживался. Как-то не принято здесь было спрашивать. Иногда это прозвище звучало как невинная насмешка, а иногда даже как издевательство, тем более что никто не произносил его серьезным тоном. Впрочем, расплывчатость клички его устраивала. Анонимность приходилась кстати. Потому что и сам он никогда не относил себя к гильдии пишущих. Потому что понимал, что это не профессия, а скорее внутренне состояние, немногим отличающееся от болезни. И когда, в силу обстоятельств, ему приходилось отвечать на вопрос: «Каков род ваших занятий?» — он делал это не иначе, как с заминкой. Появлялось неодолимое чувство, что его заставляют лгать, причем во всеуслышание, но просят делать это так, чтобы слова звучали искренне, от всей души.
К его зеленоглазой знакомой все обращались со словами «ваша честь». Почему именно так — не знал, по-видимому, никто. Но он и на этот раз не задавался вопросами. Он начинал постигать науку: принимать условности, как есть. Ведь нормы, как самые простые, очевидные, так и сложные, непонятные, присущи любой действительности, даже самой что ни на есть абстрактной, вымышленной. Без них земля, реальность, мир… — всё готово лопнуть в любой миг и исчезнуть как мыльный пузырь…
С началом очередного зрелища по залу начинал шнырять коротконогий, преклонных лет человечек, похожий то ли на перса, то ли на таджика. Его звали Канцеляриусом. На голове старичок носил тюбетейку. Говорили, что он представитель какого-то очень древнего еврейского рода. В роль Канцеляриуса входило встречать новоприбывших и раздавать им тексты. То одному, то другому зрителю он протягивал тетрадку. Так выглядела церемония посвящения. В следующий миг Канцеляриус уже семенил по своим делам. Но потом всегда неожиданно появлялся опять…
Все здесь чувствовали себя и вместе, и врозь. Все говорили об одном и том же. На разных языках, но давно не придавая этому значения, не стремясь понимать друг друга. Отойдя в сторону на пару шагов, собеседник терял смысловую нить, и это считалось вполне естественным, нормальным, пристойным и даже общепринятым. Едва ли не с суеверием все соблюдали этот давно вошедший в обиход принцип легкого, безболезненного неверия ни во что — ни в реальность происходящего, ни в то, что всё это являлось нереальным. Это была та изотропная в своем роде модель людского сообщества, на которую походила — если для однородности всё смешать: имена, эпохи, верования и судьбы — вся человеческая история. Без низов и без верхов. Без разделения темпераментов, характеров и даже помыслов на положительные и отрицательные. Без разделения людей по качествам, полезным для общества и вредным, без разделения их на левых и правых, на тех, кто должен править, и тех, кто должен подчиняться правящим. Любые обобщения здесь казались бессмысленными. В обобщения никто давным-давно не верил…
«…Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется!» — провозглашал выходивший на сцену ведущий. И действие начиналось…
Два молодых человека во фраках выкатывали на сцену подобие платформы на колесах, на которой стоял пухлый и по виду тяжелый мешок. Развязав мешок, молодые люди вываливали на сцену кучу зерна. А затем, хватая его пригоршнями, начинали швырять зерно в зрителей.
Зрители же вели себя так, будто только того и ждали. Весь зал с улюлюканьем приходил в движение, все пытались поймать зерна на лету. Зачем — вряд ли кто-то понимал. Но все знали, что зерен нужно нахватать как можно больше.
Подойдя к микрофону, ведущий прокашливался и, становясь немного похожим на героя Чарли Чаплина, только повыше ростом, начинал читать что-то несуразное, непонятное. Однако непонятным это казалось лишь в первый миг. Когда до сознания вдруг доходило, что звучит святой текст, всё тут же становилось на свои места. И уже хотелось участвовать в массовом действе наравне со всеми.
Что-то тем не менее не позволяло подражать толпе. Святые слова призывали к чему-то другому. Как и большинство понятий, которые были даны людям как есть, без разъяснений. Понимайте, мол, как хотите. Поступайте, мол, как вам заблагорассудится. А прорастет из этого что-то или нет и что именно — вам виднее. Людское общество — это мешок с зерном. Всего-навсего! И плевелы, смешанные с зерном, ничем от него не отличаются. Пока не прорастут зерна…
Всё вставало на свои места. Тон ведущего вдруг становился внятен. Понятными становились намерения молодых ассистентов во фраках. Непонятным самому себе оставался только сам человек. В его голове набатом начинали звучать вопросы… Чего ты ждешь? Чего ты хочешь от жизни? Что ты здесь делаешь?
Действо продолжалось…
Какой-то невзрачный худощавый молодой человек с сальными волосами и глазами безумца взахлеб пересказывал в сторонке притчу о свиньях, знакомую по смыслу и тону, но в то же время звучавшую в данной обстановке совершенно по-новому. К тому же молодой человек сильно перефразировал текст Писания:
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее…»
Какая взаимосвязь существовала между только что сказанным и притчей о том, как Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы «прилепились они друг к другу, и стали одной плотью» — эту притчу оратор также пересказывал собравшимся, — оставалось загадкой… Худощавый меж тем исступленно выкрикивал: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его… Вырви! Вырви, не раздумывая!..»
Подальше, в той стороне зала, где было светлее, разыгрывались «сцены греха».
«Во имя любви и плодородия!» — провозглашал очередной ведущий.
Но даже смотреть туда и то давалось с трудом. Хотя именно туда и стекалось наибольшее число зрителей… Душу вдруг разъедала сама идея греха, который можно демонстрировать перед толпой как нечто зрелищное, драматургическое. Такой грех, лишенный оболочки, удерживавшей его в некой компактной, ограниченной форме, казался, в сущности, страшным. В таком виде его даже невозможно было примерить на себя. Где-то здесь наступал предел понимания…
…Он видел, как мать, дородная красавица, у которой вместо лица была морда волчицы, кормила с ложки взрослых чад своих, пока они, озорничая, хватали друг друга за галстуки, связанные из волчьей шерсти.
…Он видел, как сухощавый, в летах мужчина в форме армейского генерала (о чем свидетельствовали лампасы) и с короной Российской империи под мышкой объяснял собравшимся ротозеям, что люди — это запрограммированные роботы, что все они, и даже стоящие сейчас перед ним, — гуманоиды, которых послали на землю для реализации никому не ведомой программы. Поэтому-де они ограничены в своем знании и не понимают главного. Чего именно — генерал тоже не объяснял. При этом он не переставал кому-то подмигивать, хотя, возможно, это был просто тик.
После чего он достал откуда-то икону Владимирской Богоматери, повернулся к стене и стал заколачивать в стену гвоздь — прямо иконой. Гвоздь согнулся. Он попросил другой. Ему предложили просверлить дырку дрелью и ввернуть шуруп. Кто-то уже пытался протянуть удлинитель. Но оратор настаивал на своем: гвоздь нужно именно вбить, и непременно иконой… В конце концов ему это удалось. Повесив на изогнутый гвоздь икону и показывая на образ ладонью, он выкрикнул:
— Все грехи беру на себя! Все! Вы безгрешны… Все безгрешны…
…Он видел, как предавались забаве полтора десятка мужчин. Некоторые лица казались ему знакомыми. Обступив плотным кольцом низкорослого малого в истрепанном костюме, компания потешалась над ним, развлекаясь тем, что дружно его щекотала. Измученный смехом, несчастный из последних сил голосил: «Я не американец! Не американец я! Венгр я! Потомственный венгр с чисто русской дворянской фамилией! Не боюсь щекотки!..»
«Тогда чего орешь как резаный?.. Заткнись, Гробастый! Заткнись! — заходился от хохота толстяк, щекотавший беднягу с особым тщанием. — Из венгров, удравших на чужбину, у нас даже корм для собак не делают, одни удобрения. Один компост, Грабе! На котором не вырастишь и огурца. Только цветы! Цветы зла! Цветы зла!» — верещал толстяк.
«Ой, не могу! Ой, не могу!» — голосил венгр, называвший себя американцем…
…Он видел, как чья-то мать вытирала слезы чужому ребенку, принимая его за своего собственного. В то время как отец ребенка — это почему-то было хорошо известно всем — в чем мать родила, бледнотелый, обросший по всему телу волосами, с вертикальным шрамом через всю грудь, скакал по залу, прикрывая гениталии пятерней, в поисках какого-нибудь тряпья, чтобы прикрыть наготу. Зал взрывался от смеха. Все показывали на него пальцами и кричали ему вслед: «Хвост-то, хвост себе оттопчешь!»
…Он видел, как какой-то чернобородый мужчина, наручниками приковав светловолосую девушку к черному железному столбу, подпирающему потолок, сбросил с себя штаны и стал вшивать в свой фаллос блестящие металлические шарики. Левой рукой придерживая фаллос, правой рукой он орудовал иглой с ниткой. Наложница не сопротивлялась. Но было видно, что страх переполняет всё ее существо и парализует настолько, что она даже не может позвать на помощь.
…Он видел, как другой оратор, забравшись на трибуну с надписью «Peret mundus et fiat justitia»[18], вещает перед аудиторией:
— Это и есть катарсис! Мы не знаем, реально всё это или нет! В этом и заключается хамство. Хамство автора и хамство вообще. А именно: мы не можем, мы не имеем права описывать всё, что хотим. Художник, как и любой другой человек, не вправе просто констатировать факты. Он не может видеть всё. Он должен смотреть на мир через призму. В противном случае он становится соучастником происходящего. И речь идет не только о призме его таланта, но о чем-то более насущном для мира и людей…
Он видел, как зверь, ряженный в человека, облизывает младенцам животы…
Он видел, как люди, не зная, как избавиться друг от друга, выгрызают друг другу глаза…
Он видел деву в темной мантии, стоявшую на невысоком пьедестале и обращавшуюся ко всем, кто был готов ее слушать. У него было такое чувство, что обращается она к нему одному и что это — сама Богородица. Эта дева тихо молвила ему:
— Тебе не нужна операция. Ты спасешься благодаря протеинам… Ты спасешься благодаря протеинам… Ты спасешься…
…Однажды к нему подошел Канцеляриус в тюбетейке.
— Теперь ваша очередь, Scriptor! — с усмешкой сказал старик на непонятном языке; но он почему-то понял его. — Возьмите!
Он застыл в нерешительности. Взглянув на свою зеленоглазую соседку, которая стояла рядом и с любопытством следила за его реакцией, он вдруг понял, что и она заодно с низкорослым, что все здесь с самого первого дня заодно.
— Жутко интересная вещь, — утвердительно кивнула соседка.
— А вы откуда знаете?
— Уже прочла одну такую… вещицу.
— Понравилась?
— Тот, кому не нравится, сюда больше не возвращается, — ответила она и звонко расхохоталась.
Девушка от всей души заливалась смехом, показывая розовое нёбо.
— Вам понравится, — заверил коротышка в квадратной тюбетейке, еще раз тряхнув перед его лицом кипой листов:
— Берите…
Слова низкорослого прозвучали, как раскатившиеся по каменному полу стеклянные шарики. Язык оставался непонятен. Но смысл слов — ясен. И от этого ясным становилось всё.
Он взял протянутую кипу пожелтевших страниц. Они выглядели донельзя истрепанными, их читали, видимо, уже не одну сотню раз. На титульной странице выделялось название: «Глаголица».
Соединив ладони, Канцеляриус отвесил свой обычный ритуальный поклон, как уже не раз проделывал у него на глазах перед другими, и засеменил своей дорогой…
Первая подглавка, «Ъ. Глаголица I», казалась знакомой. Это было что-то библейское, переписанное новым современным языком, без прописных букв и знаков препинания. А дальше текст становился малопонятным, но прервать странное чтение не хотелось. Даже в голове текст звучал подобно какому-то моторчику, хотя и с легкими перебоями.
Ъ ГЛАГОЛИЦА I
«…сыновья ноя вышедшие из ковчега были сим хам и иафет хам же был отец ханаана сии трое были сыновья ноевы и от них населилась вся земля ной начал возделывать землю и насадил виноградник и выпил он вина и опьянел и лежал обнаженным в шатре своем и увидел хам отец ханаана наготу отца своего и вышедши рассказал двум братьям своим сим же и иафет взяли одежду и положив ее на плечи свои пошли задом и покрыли наготу отца своего лица их были обращены назад и они не видали наготы отца своего ной проспался от вина своего и узнал что сделал над ним меньший сын его и сказал проклят ханаан раб рабов будет он у братьев своих потом сказал благословен господь бог симов ханаан же будет рабом ему да распространит бог иафета и да вселится он в шатрах симовых ханаан же будет рабом ему и жил ной после потопа триста пятьдесят лет всех же дней ноевых было девятьсот пятьдесят лет и он умер […] на всей земле был один язык и одно наречие двинувшись с востока они нашли в земле сеннаар равнину и поселились там и сказали друг другу наделаем кирпичей и обожжем огнем и стали у них кирпичи вместо камней а земляная смола вместо извести и сказали они построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по лицу всей земли и сошел господь посмотреть город и башню которую строили сыны человеческие и сказал господь вот один народ и один у всех язык и вот что начали они делать и не отстанут они от того что задумали делать сойдем же и смешаем там язык их так чтобы один не понимал речи другого и рассеял их господь оттуда по всей земле и они перестали строить город по сему дано имя ему вавилон ибо там смешал господь язык всей земли и оттуда их рассеял господь по всей земле…»
…Он хотел было отложить тетрадь в сторону. Читать дальше не удавалось. Текст был слишком однородным, густым, слишком наперекор звучал ритму сердца. Но, перевернув страницу и наткнувшись на новый заголовок: «Песни умерших душ, или Книга откровений», он всё же решил читать дальше.
Это были столбики не то каких-то ритмичных текстов, не то стихов, написанных теперь уже с использованием привычных правил…
Песни умерших душ КНИГА ОТКРОВЕНИЙ
I
Аэрóполь померкнет… Пройдет тридцать вех, И мрак отступит. Рассвет окрасит горизонт Погаснет россыпь звезд. Алькор засветится в зените Мицар ослепит, Как сапфир. И псы созвездья Волопаса Исчезнут пред затменьем… И станет чёрно. Мир замрет. Средь бела дня Проступят астры. Так саван времени Затмит небесный купол.II
Свет низойдет, Но черный чад Затянет поднебесье. И пламя вырвется из недр Вселенской прорвы. И над веками миг зависнет. Тогда в объятиях огня Крушенье гор и небосвода Напомнит бренность мирозданья. Так звезды падают сквозь ночь В межгорной бездне.III
И возопят младенцы В предчувствии погибели Миров и матерей своих, Восприять не способных Раны чад новорожденных И конец времен и света. И воцарится страх Перед огнем всесущим, И возликуют одни, Род людей прельстившие: Да будет погибель всем! Да не станет мира сего! Да завершится все, что начато.IV
И прометнутся по небу Искусственные птицы Из жидкой стали. И канет Город на воде, Отстроенный в честь Падения и Пришествия. Да исчезнет всё! Да не будет ничего! Одна кривизна и мнимость…V
В падении провиден будет Час, смысл и срок Великого распада Европы, Тогда огни пылающих столиц, Золой мерцающих в ночи, Сольются с россыпью созвездий.VI
Тогда опять наступит ночь… И двадцать шесть лет пройдет, Пока пробудятся народы От исчадного дурмана. И когда очнутся семь наций, Не будет ни дня, ни ночи, Но грядит жизнь вечная Без людей-уродов И без ползучих тварей.VII
И там, где сады цвели, Ковыль прорастет. Там, где моря простирались, Иссохнет всё, как в Захарии. Песчаные недра заполнятся Окаменевшими гадами. А мир не будет знать Ни тепла, ни холода. Лишь ночь без света С запахом олова.VIII
И взойдут два поколенья Людей без роду и племени, Без света рожденных, От племен покоренных. На них весь род людской Возложит много надежд И премного добра получит.IX
От белой расы всход взойдет, И покорит она древний род. Чтобы, исчезнув с лица земли, Когда поднимутся воды морей, И будут размыты границы Иверии и Седьмины, Очистить мир от Ирода, Человек тогда станет птицей. Информация станет кровью. И не нужна станет земля. И не нужен будет Кордон.X
Скороплод колена Адамова Падет на землю раньше срока, И собранный урожай Покажется горче серы. Мужам воюющим в назидание, Отца узревшим в пылу отчаяния Нагим после страды.XI
И восстанет отец на сына, А сын уличит отца и братьев. И изведут братья детей своих И жен детей своих, Изогнав их на чужбину. И в бездны ада земного Океан разверзнется На острове Анемона, Там, содрогаясь в пламени, Прóклятые мужи сойдутся В ожидании дня и отмщения.XII
И станет мир бесплоден, Воде предав заряд семени И заложив в океаны Пространства безбрежие Тленных отбросов разума, Не сможет человек отныне Дать жизнь другому человеку. Одна земля сможет плодить Растенья с красными шипами. А те, кому дано будет Возрождать свой род В чаду кровосмешенья, Родить будут зверей и птиц С лицом и гласом человеков, Но с плотью тварей.XIII
И будет поедать Геенна Края небес опаленных, Миры и свет покрывая Фиолетовой гарью, И будет дым пахуч, Как миндаль и ладан. И отравит дым тот Гадов, птиц и людей, А всё живое сгонит В хрустальные замки, Знаменуя начало начал И зарю новой эры, Чтобы плодилось в них Новое племя существ В огне и воде сущих.XIV
Один из замков сгинет Под кору земную. Другой, стрелою синей Пронзенный и обожженный, Обратится в пепел. А третий, после двух лет Мирового удушья, Даст свет и воздух Новым метрополиям Из руин восставшим.ХV
Волк агнцем подавится. Леопардова чета, На заре совокупившись, Львиной плотью Не насытится боле. И будет отдан ей И человек и зверь На убиение и откормление…XVI
Алтарь будет разрушен В ряд с горящим троном. И млеко матерей Обернется ядом. Звон колоколов огласит Возврат с чужбины. А набат с небес Oзнаменует миру Начало конца И исход ложной веры. Тогда Человек Высокий, Вспорхнув, что птица, Над бездной обрыва, Станет летать над бездольем, Несомый ветром антитворенья В миры без имени.XVII
Шатер церковный станет Тенью над властью Ирода. И не будет семьи и рода, Но плач полетит окрест Тяжкий и безутешный По сынам рано усопшим Народа падшего и избитого, Носить имя которого Смерти будет подобно. Сироты мира зримого Без границ и наций Возопят о страхе Церковной власти, Отдавшей имя и скипетр Поработителю из ада. И будет дым стоять Над океаном жара. Над куполами из огня Возникнет лик нечеловека. Но мир не станет чист И безгрешен с верой.XVIII
Нечеловек прийдет из мрака, Всех век единственный преемник. К небесной прорве обратясь, Он будет звать к борьбе за род Последних выживших династий. Во имя высшего родства Всех человеков без царя У алтаря последней веры Он соберет и единит, Но горе принесет всем вскоре.XIX
Тогда настанет день и час, Когда помазанник из ада Стрелу ухватит на лету, И в ухо сам ее вонзит. Он исцелением чудесным Докажет праведному роду, Что вождь духовный, лжепророк, Готов вести он всех с собою. И не поверят только псы, И стаи волчьи затянут песни, И на Востоке не взойдет Впредь солнца и дня. Впредь не станет Ни зари, ни света. Но будет ночь и чернь, Тишь, бездна и мрак.XX
Мир восстанет из пепелищ. Но не будет в нем впредь Низших тварей, Ни умных, ни глупых, Ни мужей, ни жен, ни гадов. Но лишь Человек Высокий, Взглядом способный Горы передвигать И освещать поднебесье.XXI
Тогда потечет вспять время, И лопнут узды, Державшие своды мира. И будет мир день ото дня Светлее и проще. И всё будет парить В пространстве и в ночи, Где нет ни конца, ни края. Но есть лишь начало всему В потоке времен и рождений, Лишь бесконечно малый сгусток Мира сего и человека.XXII
С новой верой в сердце И подчиненный замыслу, Дом Человека Высокого Станет ульем созидания, Обжитым мириадами пчел, Над которым бдит и радеет Пчеловод из избранных.XXIII
Зла не будет отныне, В утихшем мире, Где семя проросло, И ничего больше не будет. Один камень и свет, Одно слово и дух, Одно пространство и бездна, Бездна и смысл.XXIV
И не будет отныне Присный враг миров, Пространств и духа, Бога и человеков Сеять сныть окрест. Сеять смерть, Сныть и смерть, Смерть и сныть.Ь ГЛАГОЛИЦА II
Гнать, держать, Смотреть и видеть, Дышать, слышать, ненавидеть, И обидеть, и вертеть, И зависеть, и терпеть. Брать, ронять, Просить и мерить, Рвать, выламывать, лелеять, И загладить, и болеть. И не верить, и радеть. Бить, стонать, Глушить и бредить, Выжимать, сличать, кромсать. Издеваться и молчать, И божиться, и мельчать. Грабить, мучить, истязать, Отнимать, дрожать, громить, Резать, склеивать, рубить, Жечь, губить, Душить, вздыхать. Млеть, блудить, Болеть и спать. Жалить, гладить и стяжать, Утешать, толочь, молиться И замерять, и скроить, И страшиться, и убить. Искушать, будить, злословить, Изрыгаться и дичать. Истекать и порываться, Отвечать, стонать, сжиматься. Дрогнуть, биться, отнимать. Заикаться и мечтать, Поглощать и воплощаться, Множить, медлить и гадать. Отвергать, любить, смеяться, Убиваться и страдать. Наживать, зачать, бояться, Пеленать и зарывать. Источать, членить, сживать, Отрекаться и ласкать, Отдаваться, лгать и сеять, Измываться и сливать. Бить, гноить, Искать, гнушаться, Хапать, чтить, Твердить, пытаться, Отрицать и восторгаться, Забываться и смиряться, Избегать и появляться, Относить и изымать. Издыхать, повиноваться, Удручать, топить, ковать. Петь, глумиться, предавать, Жить, копить, опохмеляться, Гадить, требовать, бежать, Вожделеть и исцеляться. Получать, прощать, крошить, Чтить, хамить и причащаться, Чистить, веровать, чернить, Упразднять и удручаться. Убиваться и стенать, Проливаться, рухнуть, сжиться, Обнаруживать, сжигать, Отниматься и прельщать. Ублажать, зачать, взорваться, Разъерошить и прорвать. Унести и разменять, Съесть, узнать и оглашать…конец романа
Подробнее об издании
Хам и хамелеоны, роман, 2010
Примечания
1
На войне как на войне (франц.).
(обратно)2
Кто ты? (чечен.)
(обратно)3
Чеченец я (чечен.).
(обратно)4
Откуда? Родом откуда? (чечен.)
(обратно)5
Варандой. Из Чечен-Аула (чечен.).
(обратно)6
Саид-Селима знаешь? На окраине живет с сестрами? (чечен.)
(обратно)7
Управление военной контрразведки ФСБ России в Северо-Кавказском регионе. — Примеч. ред.
(обратно)8
Имеются в виду школы по изучению ислама в селах Автуры и Сержень-Юрт; открытые на территории бывших пионерских лагерей, эти школы существовали задолго до первого ввода федеральных войск и позднее превратились в центры подготовки боевиков. — Примеч. ред.
(обратно)9
Идемте, прошу вас… (франц.)
(обратно)10
Нет! Нет… Я не могу. Действительно не могу! Вы не позовете моего товарища? Он мой телохранитель. Ждет в коридоре (франц., англ.).
(обратно)11
Ваш телохранитель? (англ.)
(обратно)12
Что за операция? На сердце, вы хотите сказать? (англ.)
(обратно)13
Всё класс… (франц. — швейц. диалект)
(обратно)14
Пятьдесят (нем.).
(обратно)15
Как зовут мальчика? (нем.)
(обратно)16
Самоходная установка, фактически четырехствольный танк — мощное скорострельное и мобильное зенитное средство с четырьмя спаренными стволами. — Примеч. ред.
(обратно)17
Лапиенранта — город в Финляндии. — Примеч. ред.
(обратно)18
Правосудие должно свершиться, даже если погибнет мир (лат.).
(обратно)


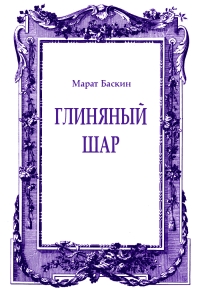
![Воспарение [= На подъеме]](https://www.4italka.su/images/articles/604428/primary-medium.jpg)
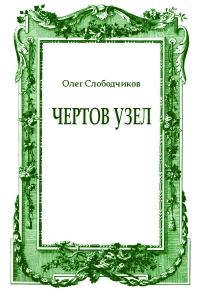

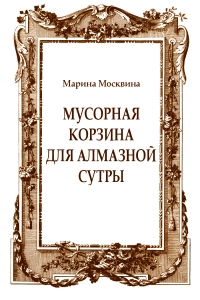
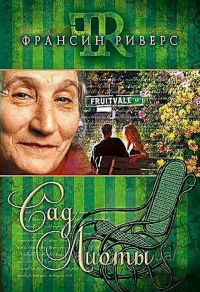
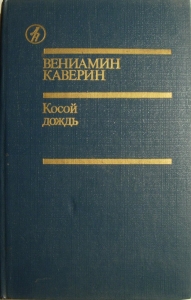
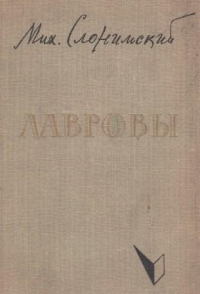
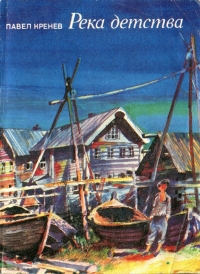
Комментарии к книге «Хам и хамелеоны. Том 2», Вячеслав Борисович Репин
Всего 0 комментариев