Вячеслав Борисович Репин Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа Роман. Том II
© Вячеслав Борисович Репин, 2017
ISBN 978-5-4485-1197-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Paris 1992‒1998
ТОМ II
Часть третья
Глубокие перемены назревали в жизни Мари Брэйзиер не первый год, но сама она уже не могла разобраться, где конец, а где начало всей той путаницы, мало-помалу скопившейся в ее жизни и в один прекрасный день сросшейся в мертвый узел. Она старалась видеть во всём лучшее. И в результате, перестав видеть худшее, потеряла связь с реальным миром. Реальность вдруг как волна накрывала ее с головой. Боль сегодняшняя казалась сто раз знакомой, вчерашней. Незажившая рана вновь и вновь напоминала о себе. Заживают ли такие раны вообще? На этот вопрос всё труднее становилось ответить…
Трещина в отношениях с мужем давала о себе знать не первый год. Но в настоящий тупик отношения зашли только сегодня, когда дети разъехались. Равновесие удавалось сохранять в себе лишь в силу какой-то внутренней инерции, черпавшей себя, как ни странно, в благих намерениях: как сделать так, чтобы не наломать дров и не усугубить? как не стать причиной еще большего зла?.. Иллюзий от этого не убывало. Но со временем появившееся ощущение, что перелом в личной жизни, обычно врывающийся в жизнь внезапно, это в действительности нечто постепенное и длительное, наполняло душу уже не апатией ко всему, а настоящим ядом…
Чувство душевного истощения и опустошения, постоянные сомнения в себе, в своем прошлом, в отношениях с близкими, сомнения в самих своих ощущениях… — Мари зачастую не знала, где заканчивается граница ее впечатлительности, а где начинаются ее реальные жизненные невзгоды. Когда душевный спазм немного отпускал, когда с приливом новых сил она могла копнуть в себе поглубже, то перед ней, с какой-то нарастающей беспощадностью, громоздились еще более мучительные вопросы.
Только ли сегодня она открывала для себя всю эту безысходность? Как всё это могло длиться годами? Ведь еще задолго до отъезда детей она констатировала в себе утрату интереса к совместной жизни. Не было ли это отчуждение каким-то обязательным уделом, который рано или поздно уготован каждому? Просто у одних хватает в себе внутренних ресурсов, чтобы перенаправлять свои жизненные интересы на что-то новое. А другие борются с неотвратимым и тем самым отравляют себе жизнь до конца. У других почему-то вдруг не хватает мужества сказать себе всю правду — что жизнь просто-напросто не удалась? Почему же, собственно, не удалась, если это происходит с большинством людей…
Зимой Мари предстояло пережить новую встряску, которая подвела под всем неожиданную черту. Незадолго до Рождества соседка по дому, Матильда Глезе, вдруг заговорила с ней о ее муже, и так уж было, видимо, суждено, что из этого разговора Мари узнала об Арсене больше, чем за все годы их совместной жизни.
Поговорить с Мари Глезе попросили ее давние знакомые, известное в городе семейство, проявлявшее озабоченность по поводу отношений, которые связывали мужа Мари с их двадцатидвухлетним сыном. «Приличный, но безголовый молодой человек» — так Глезе отрекомендовала своего протеже — учился в столице менеджменту, собирался идти по стопам родителя, тулонского дельца, подавал, как все считали, немалые надежды, хотя и постоянно порочил репутацию семьи кое-какими «грешками», и не самыми безобидными: парень отличался «известными наклонностями».
Наведываясь к родным на выходные, «приличный молодой человек» оставался в родном городе на виду не только из-за состоятельного отца, а еще и потому, что нисколько не комплексовал из-за своих наклонностей, да еще и любил гульнуть на людях. Беспокоил семью, собственно, не сам факт его «близких» отношений с Арсеном, мужем Мари, а то, что эти отношения перестали быть секретом для кого бы то ни было. Махнув рукой на «пристрастия» отпрыска, семейство не хотело распространения порочащих слухов и пеклось, попросту говоря, о своем добром имени, на что имела законное право…
Внимая жалобе, Мари ловила себя на ощущении, что удивление, от которого на сердце у нее леденело, не может взять верх над неверием в то, что всё это происходит с ней наяву. Она старалась не упустить ни одной детали, изо всех сил пыталась собраться с мыслями, понять, чего от нее, собственно, хотят. Однако главное из того, что Глезе тактично старалась донести до ее понимания, нечто расплывчатое, так и попахивающее скандалом, от нее всё же ускользало. Или просто не укладывалось у нее в голове? Вникнуть в суть мешало и недоумение по поводу роли, которую взяла на себя соседка. Почему Глезе или семейство не обратилось с претензиями прямо к мужу? Зачем понадобилось впутывать кого-то еще, если дело имеет столь деликатный подтекст?
Очередные новости не заставили себя ждать. С глаз Мари словно спала какая-то пелена. В прошлую пятницу мужа видели возле офиса с очередным «молодым человеком» в фетровой шляпе. С ним же, по всей вероятности, муж появился в субботу в загородном гольф-клубе. А еще через два дня соседские дети случайно проболтались, что в выходные видели мужа в дискотеке для школьников: Арсен якобы танцевал рок-н-ролл с подростками.
Венцом всему стало известие, окончательно выбившее Мари из колеи, что муж будто бы проиграл в Ницце крупную сумму. Речь шла о трехстах тысячах франков. Но поражена Мари была не тем, что муж скатился, вернулся к своей стародавней страсти, принесшей ему когда-то столько бед, и даже не величиной проигрыша, а тем, что это дошло до нее через ее же родителей.
Подозрения о том, что муж ведет двойную жизнь, преследовали Мари не первый год. Игнорировать это сегодня было бы самообманом. Человек по натуре страстный и безвольный, в полном физическом здравии, в расцвете сил, муж не мог вести бесполый образ жизни, а именно это стало реальностью их отношений. Охлаждение, наступившее годы назад, кое-как вошло в норму. У них давно не было общей спальни. Они давно довольствовались «дружескими» отношениями, сами не очень веря, что они возможны. Все попытки вернуться к близости оборачивались крахом, унизительным разочарованием, которое приходилось еще и скрывать друг от друга. И при всей былой откровенности, с некоторых пор они даже не могли больше обсуждать эти темы.
Но привыкнуть, видимо, можно ко всему. Данное положение вещей со временем Мари перестало коробить. А с какого-то момента она стала платить мужу той же монетой…
Жан-Шарль Парис, или просто «Шарли», как Мари прозвала своего тренера по теннису, дававшего ей уроки при местном спортклубе, был уроженцем Ледевы, небольшого местечка под Монпелье. В свои тридцать пять лет Ж.-Ш. Парис оставался бессемейным и неустроенным. Помимо тренерства, ему приходилось зарабатывать на хлеб самыми неожиданными способами. Главное же свое призвание он видел в литературе и, несмотря на то, что ему еще не удалось опубликовать ни строчки, он свято верил, что это только вопрос времени и что именно так складываются судьбы всех «стóящих» писателей. Звезд с неба никто из них не хватает. В этом якобы и состоит их главное отличие от толпы процветающих бездарей, работающих на всё ту же серую толпу, а не на время. А именно время всё и расставляет однажды по своим местам.
Несостоятельность Шарли на литературном поприще объяснялась, по его мнению, нехваткой в нем тщеславия, да и отсутствием уверенности, без которой вообще, мол, не стоит соваться в мир издательств и толпящихся там знаменитостей, что он достиг предела своих личных возможностей и что завтра из-под его пера не народится на свет еще что-то более стóящее. Заявлять о себе, мол, нужно громогласно. Иначе просто не услышат. Шарли не хотел размениваться…
Уже немолодой, крепкого сложения, ростом выше среднего, скуластый, с правильными и немного простоватыми чертами лица, с волевой ямкой на подбородке и, главное, умевший преподнести себя, особенно слабому полу… — Парис чем-то напоминал Мари последнего исполнителя роли Бонда из знаменитого сериала. Самые идиотские приемы, позаимствованные у актеров бульварного театра, действовали самым безотказным образом. И если первое время он покорял ее в первую очередь своими мускулистыми икрами, разглядывать которые ей приходилось через черные очки, чтобы не выглядеть уж совсем полной дурой, то позднее она стала подмечать в нем и другие достоинства, как и в любом «настоящем» мужчине незаметные с первого взгляда. Но Шарли действительно учил ее чему-то новому: не шарахаться в сторону от прямого удара и от условностей, брать все мячи подряд, не только те, которые ей казались посильными. Он учил ее брать всё в кавычки.
Может ли человек с такой внешностью писать рассказы и романы, спрашивала себя Мари. Парис уверял, что не только может, но и посвящает этому всё свое свободное время. Откуда оно у него, если он весь день проводит на кортах? В его молчаливом позерстве на площадке, подчас явном, подчас непроизвольном, в манере прятать кулаки в карманы шорт, которые сидели на нем не по моде в обтяжку, и даже привычка сутулиться, не будучи сутулым от природы, — во всех этих позах и повадках проступала ранимость, которая обычно несвойственна мужчинам его возраста. И это не могло не брать за живое.
На корты при новом клубе, открывшемся неподалеку от дома, Мари ходила уже около трех месяцев. В начале лета, когда истек первый цикл занятий и нужно было внести плату за следующий месяц, кроме чека, причитавшегося клубу, Мари вручила Парису личный презент.
Изящное издание «Дон Кихота» она преподносила ему в знак личной симпатии, с благодарностью за «долготерпение», проявляемое к «бестолковой» ученице. На свою «бестолковость» Мари сетовала уже не в первый раз, но на этот раз она внезапно порозовела.
Парис опустил глаза. И не замедлил истолковать происшедшее на свой лад.
Когда через четверть часа, переодевшись, Мари вышла с кортов и, пересекая газон, спустилась к проезжей части, перед автостоянкой она увидела «опель» Париса.
Сидя за рулем многократно перекрашенного рыдвана с усеченным задом, который пятнадцатью годами ранее сошел бы за вполне пижонский спортивный автомобиль, Парис, кого-то дожидаясь, в такт джазовой музыке, доносившейся из радиолы, покачивал свешенным через дверцу локтем.
— Вас подвезти? — предложил он, когда Мари поравнялась с машиной.
Мари остановилась, машинально обернулась к зданию клуба. И вдруг вспомнила, что забыла в раздевалке очки от солнца, да и всю свою сумку с деньгами и документами, которую зачем-то взяла сегодня с собой. Переведя взгляд на Париса, она вдруг поняла, что возвращаться в помещения клуба ей не хочется, даже если казалось очевидным, что завтра можно чего-нибудь недосчитаться в сумке.
Тренер продолжал сверлить ее полусерьезным, каким-то помутневшим взглядом. В следующий миг Мари что-то быстро произнесла, обогнула «опель» вокруг капота, распахнула дверцу и плюхнулась на сиденье рядом с Парисом.
— Что же вы не заводите? — спросила она после заминки.
— Я хотел сказать… Тут немного не убрано, не взыщите, — пробормотал тот.
Связь тянулась больше года. Здоровая, плотская привязанность, лишенная крайностей, иллюзий, прошлого и будущего, всей той возвышенной мишуры, которая чаще всего и мешает людям находить общий язык, когда речь идет о самых простых вещах. Но именно благодаря своему полному отмежеванию от реальной жизненной почвы и от житейской рутины, эта связь позволяла целиком воплощать себя в жизни каждого дня, позволяла нагонять упущенное… Такими Мари виделись отношения с Шарлем после того, как буря первоначальных сомнений в ней приутихла.
Было ли это очередным самообманом? Было ли в этом что-то столь непостижимо пошлое, как ей казалось первое время, рано или поздно грозившее обернуться опереточной развязкой? Являлась ли такая жизнь, замешенная на мелочном, унизительном обмане и как бы то ни было на неудовлетворенности, уделом всё того же подавляющего большинства людей, к которому она себя относила? Или эта участь поджидала лишь некоторых, менее везучих?.. Ответов на эти вопросы у Мари не было. А поскольку она не могла удовлетвориться двоякими половинчатыми выводами, которые рано или поздно заставили бы вновь истязать себя поисками каких-то решений, опять что-то перекраивать в себе, опять чувствовать себя жертвой очередных заблуждений, она пыталась убедить себя, что попытки найти какое-то радикальное внутреннее решение — это пустая трата времени. Ни прихотью своей, ни даже усилиями воли человек вообще, как ей казалось, не способен разрешать подобные дилеммы…
За год изменилось очень многое. С утратой прежних иллюзий собственная жизнь стала казаться более заурядной, немного стандартной и как бы не такой чистоплотной, как прежде. Но в то же время в ней стало меньше безысходности и однообразия. А временами у Мари даже появлялась уверенность — не менее настойчивая, чем другая, подстегивавшая ее недавно к смирению с неизбежностью смены жизненных вех, смены всего… — что к пониманию этой простой правды жизни не может не прийти любой здравомыслящий человек. Вопрос в том, в какой момент и почему это происходит? Ведь даже слепой от рождения не может не видеть, что, несмотря на кошмарный поток перемен и встрясок, происходящих в окружающем мире, жизнь отдельно взятого человека по большому счету остается неизменной. Всё это как бы задано здесь изначально. И тем не менее Мари нет-нет да преследовало чувство, что она стоит на пороге чего-то нового и что это новое не сводится конечно же к отношениям с Шарли. В этом смысле Шарли воплощал для нее не перемены, а предчувствие перемен.
С коробившими Мари привычками Шарли расставался с легкостью, он словно сбрасывал с себя ненужные обноски. Он больше не подражал на кортах известному немецкому теннисисту, больше не старался имитировать его прославленные на весь мир повадки — не сходившее с лица выражение ленивого раздражения, манера обивать ракеткой кроссовки или еще привычка раскачиваться перед приемом подачи в присогнутых коленях, прикусив правую щеку. Шарли больше не норовил прокатиться на своем «опеле» перед воротами ее дома и больше не носил ярких носков. Но в ответ на притеснения своей свободы Шарли умудрялся тут же восполнять утраченные привычки новыми и не менее обезоруживающими. Чего стоило одно его пристрастие к шейным платкам, которыми он стал вдруг щеголять, заправляя их под ворот рубашки. Мари не удавалось ему внушить, что такими галантерейными аксессуарами пользуются разве что престарелые комики или провинциальные нотариусы. В конце концов, Мари не смогла добиться от Шарля понимания главного, того, что сама она знала, как ей казалось, с пеленок: хороший вкус зиждется на чувстве меры. Отсутствие чувства меры особенно подводило Шарля в его отношении к тем сторонам ее жизни, доступ к которым был для него закрыт на семь замков. Это выражалось в его нездоровом, день ото дня обострявшемся интересе к ее мужу, в непрекращающихся расспросах о ее домашней жизни, о детях. В сложный хаос чувств Мари повергала и неудержимая потребность Шарля «проверять на деле» обуревающие его сексуальные фантазии. Злоупотребляя вседозволенностью отношений, в своем экспериментаторстве Шарль не доходил разве что до кандалов и избиений, что не мешало ему тут же признаваться в своем очередном разочаровании. «Простота — закон природы, и от нее никуда не денешься… — делился он своими впечатлениями. — Беда в том, что мы часто путаем простоту с однообразием. Это как в стилистике: самое простое — всегда самое долговечное…»
Чистый сердцем вечный недоучка, Парис принимал ее за благовоспитанную гусыню, готовую в любую минуту растаять в мужских объятиях как мороженое, привыкшую растворяться в служении возвышенным чувствам, простым, но утонченным удовольствиям. Развеивать заблуждения на свой счет Мари не хотелось. А иногда ей казалось, что так это и есть в действительности.
Кем Шарли Парис был в душе, неудачливым литератором или доморощенным спортсменом, — это не имело для нее большого значения. Даже если ей и приходилось с некоторой тоской в душе констатировать, что несоответствие между устремлениями в человеке и его истинными дарованиями, проще говоря, расхождение между желаемым и действительным, оказывается куда более неискоренимой чертой людской природы, чем принято считать. На первых порах Мари могла лишь догадываться, какому виду сочинительства Парис предавался, уединяясь у себя в мансарде, которую он снимал под крышей старинного, не очень опрятного здания в старом городе, неподалеку от фонтана «Трех дельфинов».
Показывать свои рукописи Шарль отказывался, заверял ее, что предпочитает щадить ее, не хочет разочаровывать. Мари же казалось, что разочарований боится он сам, что он просто не доверяет ее оценкам. Только со временем, да и то лишь в минуты пресыщения плотскими утехами, когда Мари удавалось ненадолго окрылить Шарли томными уговорами, он вдруг сдавался, расщедривался и зачитывал вслух одну или две короткие новеллы. Читал он завывающим голосом, задыхаясь и едва не всхлипывая от волнения в тех местах своего текста, где речь шла о чем-нибудь вполне забавном или даже банальном.
Новеллы были написаны одинаково кратким, велеречивым слогом. Сами по себе искренние и даже сентиментальные, тексты Шарли имели, казалось бы, более непосредственное отношение не к литературе, а к чему-то театральному, сценическому, но в каком-то упраздненном сегодня понимании этих понятий. Больше всего Мари поражала неточность психологических оценок, совершенно неестественное для пишущего человека непонимание людей и, опять же, заблуждение насчет себя самого. Эта черта казалась Мари вообще одним из самых загадочных и распространенных людских изъянов. Ее поражало полное отсутствие в Шарли чувства юмора, его примитивная, а иногда даже грубоватая чувственность.
Все его герои представляли собой полную противоположность его самого. Шарли описывал жизни, как правило, немногословных, обеспеченных мужчин в галстуках, коммивояжеров, страховых агентов, частных детективов, которые бросали семьи, находили себе новых жен и начинали «все с нуля». Тут же, в духе Бальзака, откуда ни возьмись, появлялись незаконнорожденные дети, которые переплевывали в своих пороках неблагочестивых родителей. Не обходилось, разумеется, и без спорта, без его закулисных сплетен. На взгляд Мари, это и было единственной увлекательной стороной его сюжетов. Здесь-то Шарли знал, о чем говорит. Здесь он легко избегал дешевых приемов и идеализации. Голая суть как бы сама по себе брала верх и спасала автора от безвкусицы, которой неизбежно попахивает от общих рассуждений. Шарли описывал запах пота, едкий головокружительный аромат, исходящий от подстриженных газонов, южную природу с ее вечерним благоуханием, приносимый ветром терпкий настой полевого тмина, как аэрозоль от комаров, пахнущую цитрусовыми ночь, закаты «апельсинового» цвета и т. д. Не забывал он, конечно, пройтись и по своим вислозадым клиенткам, вроде соседки «Глезехи», как он ее называл, которые появлялись на кортах в дорогостоящей экипировке и в считаные минуты начинали лосниться от пота. В то время как какой-нибудь заезжий злоумышленник втягивал их худосочных и состоятельных мужей в темные сделки, буквально не сходя с места, прямо в буфете того же спортклуба…
В Шарле всё было расплывчато. Слова расходилось с делом. Жизнь — с тем, как он ее описывал. Планы на завтра — с его реальными материальными нуждами. Всю свою жизнь он делал ставки на что-то недостижимое — то на теннис, то на литературу, теперь вот и на нее, хотя и утверждал, что у него всегда были какие-то «свои» планы на будущее, которые он собирался воплощать в жизнь любой ценой и независимо от того, как сложатся их отношения.
Меры предосторожности становились тем временем всё более неизбежными. Но к удивлению Мари, не требовали от нее больших усилий. Если промахи и случались, то всегда по вине Шарли.
Как-то раз Мари пригласила его домой на аперитив, он давно хотел взглянуть на ее дом, обстановку. И в тот самый момент, когда, развалившись на диване со стаканом виски, Шарли начал восторгаться исполинским платаном за окном, на проеме веранды вырос силуэт Матильды Глезе. Соседка не могла взять в толк, что здесь делает тренер. Или просто сделала вид, что не понимает. Сцена закончилась обменом любезностями, приглашением на бесплатный урок, но уже на других кортах, находившихся в двух минутах езды на машине, где Шарли вел занятия с отборной клиентурой. Пустив в ход всю свою деревенскую смекалку, Шарли пытался притупить бдительность соседки скидками, подкупом. И своего, пожалуй, добился…
Еще как-то раз, опять после перерыва, домой к Мари заявился курьер, посланный тренером Парисом справиться, не больна ли «мадам» и не желает ли она внести изменения в «график занятий»… Муж, присутствующий при сцене, не мог не выразить недоумения по поводу столь необычной щепетильности со стороны клуба по отношению к своим членам.
— Какие почести!.. Наверное дорого берут? — с усмешкой заметил Арсен, как только курьер удалился.
— Не говори… То есть нет… Я пообещала быть на одном матче, и вот… — Мари запуталась. — Они заманивают народ турнирами… с судьями и всё такое.
Ответ привел мужа в еще большее недоумение. Он впервые слышал о том, чтобы в новом теннисном клубе, открывшемся в двух шагах от дома, проводились теннисные турниры, да и вообще впервые констатировал, что в ней проснулась страсть к теннису — в кои-то веки?
Теннисные занятия при клубе становились всё более зыбким предлогом для свиданий, и вскоре с этим пришлось покончить. Причиной тому была не только врожденная неспособность Шарли владеть собой. Он так и не мог отучиться провожать ее ненасытными, плотоядными взглядами, на что теперь обращали внимание партнерши Мари. Отпадала, собственно говоря, необходимость в поводах для встреч. Они стали ежедневными…
Всё подытожилось в конце года, перед Рождеством. Вскоре после знаменательного разговора с Матильдой Глезе Арсен уезжал в Лондон, намереваясь взять на себя хотя бы часть хлопот, связанных с затеянной им тяжбой. Он должен был вернуться через неделю, к праздникам…
Накануне отъезда мужа Мари попросила у него ключи от дома в Рокфор-ле-Па, куда намеревалась заехать после Ниццы, после поездки к приболевшей тетке, у которой она не могла не побывать перед праздниками; и она предпочитала сделать это сразу же, не откладывая, опасаясь, что, когда съедутся дети, на этот визит ей уже не удастся выкроить времени. В Рокфор-ле-Па ей нужно было забрать забытую там две недели назад сумку с бумагами. Особенно срочная нужда возникла в договоре, присланном ей на подпись редактором женского журнала, мелкие заказы которого, сводившиеся к написанию статей по краеведческой тематике, вряд ли заслуживали того, чтобы их называть работой, но которые приносили Мари определенное удовлетворение.
В ответ на просьбу муж стал сетовать на рассеянность. Он опять забыл заказать запасные ключи. Одна связка оказалась утерянной, другая оставалась с лета у Вертягина. Выхода не было: муж предлагал дождаться его возвращения, тем более что на Рождество они планировали ехать в Рокфор-ле-Па всей семьей.
История с ключом — имевшая самые неожиданные последствия — давала Мари возможность в очередной раз убедиться в том, что именно чрезмерные предосторожности могут обернуться самыми плачевными промахами. Насчет своих ключей от дома в Рокфор-ле-Па Мари успела позаботиться: тайком от мужа она давно заказала себе запасные. О ключах она заговорила лишь для того, чтобы ее остановка в Рокфор-ле-Па, вместе с Шарли, не оказалась ни для кого неожиданностью…
Когда после визита к тете в Ниццу (Шарли тем временем дожидался рядом с домом, заказав себе бифштекс с картошкой на террасе кафе) они приехали в Рокфор-ле-Па, уже смеркалось.
Они въехали в тихий, безжизненный и на глазах темневший парк и уже выруливали к дому, огибая выцветшую клумбу, когда Мари вскрикнула.
Шарли дал по тормозам. Уставившись прямо перед собой, оба тупо смотрели на знакомый «крайслер-чероки» темно-серого цвета, стоявший перед крыльцом дома. В первое мгновение Мари даже не поняла, что это машина мужа. Уезжая, он обычно оставлял ее на автостоянке в аэропорту.
В ту секунду, когда Шарли стал подавать назад, от волнения пробуксовывая по гальке, на крыльце показался мужчина.
Это был муж. В бордовом домашнем халате он стоял, сунув руки в карманы, и смотрел в их сторону. В черном проеме дверей за спиной у него вырос еще кто-то, тоже мужчина — в пижаме, с белым узким лицом.
Узнав, разумеется, машину, муж стал что-то быстро говорить в сторону. Человек исчез. В безмолвии прошла минута. Затем Мари тихо приказала Шарли ехать к дому.
Подкатив под сень олеандра, Шарли остановил машину перед лестницей, на которой стоял муж Мари.
Сверкая влажными глазами, Мари опустила стекло, выбросила наружу едва прикуренную сигарету и хотела что-то сказать. Но не могла выдавить из себя ни слова.
Брэйзиер проследил взглядом за выброшенным окурком и странным жестом хлопнул себя по бокам.
— Поразительная чушь! — произнес он. — Поздравляю, Мари…
Мари сгорала от стыда — какого-то адского и даже не внешнего, внутреннего. От стыда перед Шарли и перед собой — за то, что была замужем за гомосексуалистом и умудрилась игнорировать это столько лет. Но Шарли едва ли был в состоянии вникать в такие тонкости. Держась за руль, он уставил тяжелый взгляд перед собой, туда, где перекатывались за пригорок свежие, зеленые газоны, а за ними, в тени столь же свежих невысоких елей, начинала сгущаться вечерняя синева.
— Я знал. Но всё-таки… — примирительно вздохнул Брэйзиер.
— Что ты знал? — Мари подняла на него умоляющий взгляд. — Скотина! — добавила она.
— Мари! — вмешался было Шарли; больше всего он боялся скандала.
— Да нет, Мари… Я не скотина, — промолвил Брэйзиер. — Знаешь, мы ведь не дети малые… Я уже встречал этого господина?
В проеме двери, на фоне неосвещенной прихожей показалось молодое лицо небритого мужчины. Тот, кто минуту назад вышел к Арсену на улицу в пижаме, скрывался, судя по всему, в полумраке всё это время.
Движимая безотчетным порывом, Мари толкнула дверцу, выскочила из машины и, не глядя на мужа, засеменила вверх по ступенькам. Брэйзиер, а за ним и незнакомец, оба отшатнулись, давая ей дорогу.
— Мадам… — учтиво кивнул незнакомец; его нечисто-бледное, но правильное лицо поразило Мари до содрогания.
Влетев в комнатку, расположенную сразу за прихожей — это был небольшой, отведенный в ее личное пользование кабинет-библиотека, заставленный книжными шкафами, — Мари упала в кресло у стола и, вслушиваясь во враждебную, от неподвижности почти вязкую тишину, вдруг поняла, что не знает, зачем вообще сюда ворвалась.
Схватив с письменного стола полупустую пачку сигарет, она придвинула к себе настольную зажигалку с мраморной подставкой, прикурила сигарету и, свесив с кресла руки, разведя колени врозь, сидела неподвижно, уставившись в настенное зеркало в старинной дубовой раме, поставленное в рост, прямо на пол.
Из зеркала на нее смотрело незнакомое, немолодое женское лицо с узкими черными глазами: ввалившиеся щеки, грязный зигзаг растекшейся туши, что-то изношенное, нечистоплотное в лице, но и сама поза — нелепая, неизящная, с белеющим из-под задравшейся юбки бельем, — Мари испытывала к себе отвращение.
Когда через четверть часа она вышла из комнаты и, прикрывая платком глаза, направилась к выходу, перед лестницей ее нагнал муж.
— Мари, только не стоит раздувать из мухи слона, — произнес он виноватым голосом. — Давай обсудим всё это дома. Я буду в Тулоне завтра.
Ответив покорным кивком, Мари спустилась к машине. Шарли стал делать разворот…
Они молчали всю дорогу. Приехав в Тулон за полночь, Шарли остановил машину перед воротами Мари и вышел. Он предпочитал добираться к себе в центр своим ходом.
Сцена полуночных «адье» вышла такой же молчаливой. Стараясь не смотреть друг другу в глаза, они расцеловались в щеки. В этот момент Мари еще не знала, что видит Шарли в последний раз. Бесповоротное решение она приняла только утром, проснувшись на рассвете.
Жан-Шарль Парис больше не вписывался в новую, по-новому усложнившуюся схему ее жизни. Ей хотелось очищения. Хотелось не то стереть случившееся со счетов, не то начать всё сначала. О самом Шарле она как-то и не думала…
О приезде матери в Париж, который с праздников откладывался на неопределенный срок, Луиза сообщила Петру в начале февраля, как только они вернулись из Бретани.
Ехать встречать мать на вокзале Луиза отсоветовала, поскольку та собиралась остановиться у знакомых и ее должны были встретить. Останавливаться у пожилой бездетной пары, жившей возле Люксембургского сада, Мари любила, потому что круг общения, в который она попадала, даже отдаленно не соприкасался со средой мужа и с ее обычными семейными заботами. Петр знал пару лишь заочно. Мари давно порывалась их познакомить, но случая не представилось. И тем большее недоумение он испытал на следующий день, в среду, когда узнал, что Мари поехала с вокзала в гостиницу…
Мари позвонила ему только в пятницу. Немного храбрясь перед ней, да и перед самим собой, Петр с ходу поинтересовался, что за конспирацию они с дочерью устроили по поводу места ее проживания.
Замешкавшись, Мари с прямотой ответила, что приехала в Париж, чтобы побыть одной и отойти от «всего». Поэтому и остановилась в гостинице, а не у знакомых, как планировала поначалу. Мари стала сетовать на дочерин «длинный язык», спешила сразу расставить все точки над «i», Петр это понимал, сразу же пыталась перечеркнуть всё то, что он слышал о ее домашних перипетиях. Но он не мог взять в толк, чего она этим пытается добиться. Они договорились, что он заедет в гостиницу на рю Сен-Сюльпис в половине шестого, чтобы на месте решить, где и как провести вечер.
Предстоящая встреча с Мари не могла не вызывать у Петра мучительного внутреннего напряжения. Час объяснений пробил, он это понимал. И он готовился к ним, как к страшному суду. Выбора не оставалось: объясниться по поводу Луизы нужно было при первой же встрече. Однако стоило ему на миг представить себе саму сцену, как он впадал в настоящее оцепенение. Сколько раз, с какой достоверностью он мысленно раскладывал всё по местам, но результат — всё тот же.
Вот он прокашливается в кулак. Вот профиль его каменеет. Вот медленно набухают глазные яблоки… Этот физический изъян он замечал за собой в минуты раздражения или неловкости. После чего с подлой непосредственностью губы его должны были изречь: «Кстати, Мари, я хотел с тобой кое-что обсудить…»
Страх перед разоблачением Петр нагонял на себя не из-за Арсена, не потому, что опасался какого-нибудь провала с этой стороны, хотя с момента их разговора в Гарне прошло достаточно времени, чтобы Брэйзиер успел наломать дров. Интуиция подсказывала, что положение Брэйзиера-мужа стало настолько зыбким, что он будет проявлять маниакальную осторожность и уж тем более не осмелится нарушить данный обет молчания. Да и едва ли он пожелал бы оказаться в этой роли. Ведь в этом случае Брэйзиер получил бы все шишки на свою голову. Мучительную неопределенность вызывало у Петра понимание того, что ему предстоит подвести черту под многолетними отношениями с Мари. И он не знал, чем всё закончится.
Юношеские отношения между ними вылились в нечто большее, чем просто ухаживании. В пятнадцать лет родители забрали Мари из интерната, где она провела несколько лет на попечении у «сестер», и Петр не смог остаться безразличным к белокурой кузине-провинциалке, которая проводила досуг за чтением, умела просто, но хорошо одеваться, играла на фортепьяно, исполняя сонаты на радость рукоплескавшей родне из одних законченных мещан. На некоторое время отношения прервались. Они жили в разных городах. Но затем всё возобновилось с новой силой, уже во время учебы Петра в Париже, как только он переехал в столицу из Нанта. Мари к этому времени уже год как вышла замуж. Этот быстрый поворот в ее судьбе не одному Петру казался неожиданным. Все, кто знал Мари, сулили ей какое-то особое будущее. Почему-то для всех это всегда было очевидно. Однако все эти надежды, или просто иллюзии, никак не мог воплощать собой Арсен Брэйзиер — человек добродушный, но заурядный и во всех отношениях бесцветный.
Как получилось, что в одну из побывок Мари в Париже, после выгуливания провинциальной замужней кузины по улицам города, они оказались средь бела дня в дешевом отеле с кривой и затхлой лестницей, в приземистой комнатке с бездействующим камином, из которого несло свежей гарью, — этого Петр уже не помнил и, восстанавливая подробности, уже спустя, лишь с мучительным усилием пытался вывести себя из ступора нереальных, отвратительно-приторных ощущений, похожих на уже однажды испытанные в далеком детстве, когда его привезли на побывку к тетке и он без разрешения, тайком, съел один целую банку апельсинового джема, от которого болел потом двое суток…
Вечером они пошли в китайский ресторан. За ужином он ничего не пил, отказывался даже от вина, как и она, в то время не потреблявшая никаких других напитков, кроме своего ритуального «Евьяна» и апельсинового сока. Он чувствовал себя в ударе, испытывал к кузине нечто большее, чем просто физическое влечение…
На следующий день всё повторилось. В знобящем дурмане плотских терзаний и утех проходил день за днем, пока Мари не спохватилась. Внезапно, без предупреждения она села на поезд и уехала домой, по-видимому осознав, что стала жертвой даже не страсти, а какого-то наваждения.
Позднее Петру казалось вроде бы понятным, что с ней произошло: помимо давней привязанности к нему, настоянной на чувстве детской преданности, Мари поддалась внезапному отчаянию, которое не могла не испытывать из-за своего поспешного и неуклюжего брака, заключенного с человеком, которого она конечно же не любила…
И пришлось на отношениях поставить крест. Позднее никто из них не вспоминал о прошедшем. Такой радикальный выход из положения казался неожиданным. Реальность вряд ли может измениться от того, что закрываешь на нее глаза. Однако годами всё отстоялось. Расплатой за компромиссное здравомыслие стала утрата прежней душевной близости. Хотя на дне глаз Мари, еще в те годы и уже позднее, Петр улавливал упрек. Хотела Мари того или нет, она продолжала считать его виновником случившегося, а возможно, и чего-то большего, даже если и загнала эти чувства на дно души. В последующие годы Петр пытался загладить вину — мнимую или действительную, это уже не имело значения — услугами, оказываемыми ее мужу, по мере сил добрым отношением к нему, сколь бы Брэйзиер-муж ни казался ему чужим по духу человеком. Пытался загладить свою вину привязанностью к подрастающим детям… Петр даже не знал, посвящен ли Арсен в эту историю. Но со временем это тоже утратило всякий смысл.
Близоруко щурясь, какая-то крохотная и хрупкая, Мари сорвалась с дивана, скрытого за пальмой в глубине гостиничного вестибюля, когда в шесть часов Петр показался на входе, и бесшумно поплыла ему навстречу, пряча очки в лакированную сумочку.
— Петр! — бросила она, вопросительно скользя по нему робким взглядом.
Взяв ее за плечи, он хотел прильнуть к ее нарумяненным щекам, но Мари отстранилась:
— У меня грипп, заразишься.
— Температура?
— Нет, ерунда… Когда я в Париже, всегда начинаю с гриппа или с аллергии.
— Я попал в пробку, — проговорил он с робкой улыбкой. — Хотел выехать раньше, но не получилось.
— Ты из Версаля?
Он всё же прильнул к ней щекой и, пространно ухмыляясь, махнул рукой. Откуда же еще? Они прошли к пальме, Мари опустилась на диван. Он сел в мягкое кресло с деревянными подлокотниками, взвалил на стол пухлый портфель, заложил ногу на ногу и стал покачивать рыжим английским башмаком.
Разглядывая ее с интересом — ее светлые, пепельного оттенка волосы были аккуратно собраны под серым беретом, и оголенный, чистый затылок придавал профилю что-то трогательное, девичье, — Петр вдруг обратил внимание, что глаза Мари, красноватые от простуды, от природы серые и мягкие, с очень характерным для них сонно-вопросительным выражением какой-то врожденной беспечности, были поразительно похожи на глаза ее дочери. Этого сходства он прежде никогда не замечал.
— Ты стал какой-то не такой, — произнесла Мари.
— Ты тоже…
— В тебе появилось… по-моему, что-то русское.
— Русское? В чем же это выражается? — удивился он.
— Не знаю. В лице что-то есть…
— Нос картошкой?
— Вот именно — нос! Только не картошкой. Но правда, ты на отца стал похож как две капли воды.
На секунду задумавшись, Петр отстранено кивнул и произнес:
— Знаешь, как он выражался по этому поводу? Говорил, что, когда смотрит на себя в зеркало, видит провансальскую дыню. По-моему, был прав.
Справившись с мимолетным смущением, Мари расцвела в прежней, хорошо знакомой улыбке, обнажая ряд мелких, белых зубов. Напоминание о чем-то ушедшем, обоим понятном с полуслова, заставило ее вздохнуть и потупиться.
— Ты всё такой же… Такой же болтун, — сказала она.
— Ну, рассказывай! Что ты здесь делаешь? Надолго? — Сложив руки на коленях, он приготовился слушать.
— Приехала подышать городской гарью. — Мари уставила на него неуверенный взгляд. — Мы ведь там совсем одичали. И вот… Голова разрывается. Чудовищный воздух.
— А что в Тулоне?
— Ты имеешь в виду меня и Арсена?
Петр помедлил и кивнул.
— Луиза понаговорила, я представляю… Но зачем это обсуждать? Петр, сделай одолжение… — Мари хотела сохранить на лице прежнее непринужденное выражение, но в глазах у нее опять появилась нерешительность.
— Хорошо. Чтобы не возвращаться к этому… Арсен нанес мне визит, где-то в первых числах, — сказал он.
— Знаю… То есть знаю, что он в Париж ездил, но… Он не говорил, что вы виделись… У нас был разговор о тебе. Я просила его не донимать тебя. Ты ведь знаешь, чувство меры его иногда подводит…
— Сначала я был удивлен… да, это правда, — выжидающе закивал Петр.
— Это когда Луиза от нас вернулась?.. Я вспылила поначалу. Но теперь… теперь всё остыло. — Мари скользнула по его лицу недоверчивым взглядом. — От развода я отказываться не хочу. Просто не хочется кошмарных историй. У Арсена, конечно, свое на уме. Но куда он денется?.. Уладит дела, и всё — конец. С разделом будет нервотрепка… Но ты в курсе. Он наверное уже поделился… всё как попало было оформлено с самого начала. Но кто мог подумать?.. Ну и вот… Я уже обратилась кое к кому. Нашла адвоката, ты не беспокойся об этом. Ты здесь ни к чему.
— Ну предположим… А что потом? — помолчав, спросил Петр.
— Потом?.. Что может быть потом? Ведь это не просто: пожили и разъехались. Тут другое… Петр, я не знаю, всё ли тебе объяснила Луиза? Про Арсена?
— Что он за мальчиками приударяет?
— Тем лучше. Тогда ты не можешь не понимать, что жить с человеком, который… — Мари осеклась, видимо не ожидая, что разговор получится сразу откровенным. — Ведь не всё так просто. Столько всего накопилось… Ты, наверное, не понимаешь, как всё сложно и запутано…
— Всего никто не сможет понять.
— Бессмысленно искать правых и виноватых. Я тоже могла бы покаяться… — Сказав это, Мари помолчала. — Мне сорок исполнилось. И с того дня как я это поняла… Когда я поняла, что способна взять себя в руки, всё встало на свои места. Я начала дышать. Как все нормальные люди! Оказывается, можно жить по-другому. Можно чем-то заниматься… Ну, хотя бы можно стремиться к этому. Мне вдруг стало казаться, что всё еще возможно! Как я жила все эти годы? Во что я превратилась?.. Ну разве ты не видишь?
— Наивно думать, что для того, чтобы заниматься чем-то новым, нужно разнести в пух и прах то, что есть.
— Ты считаешь, что лучше терпеть этот обман?.. Но это так унизительно!
— Обманывать себя не обязательно, — ответил Петр. — Можно найти середину… и ничего не ломать, не усугублять.
— Это ты про себя говоришь. Но дело даже не в середине. Арсен ведь… Петр! — Мари осеклась и с каким-то новым упрямством смотрела ему в глаза. — Ведь это всё смешно. Ну согласись?
— Кому смешно? Тебе? Или кому-то там?.. Если кому-то, то какое нам дело? Черт с ним!
— Я не то хотела сказать… Это перечеркивает для меня годы жизни. Встань на мое место. Ну что мы заладили?.. Хватит на эту тему… Ты лучше о себе расскажи, — встрепенулась Мари. — Что в Гарне-то нового? Я слышала, и в кабинете у вас перемен полно?
— Всё по-старому.
— Говорят, разрослись. Это правда?
— Кабинет, ты имеешь в виду?.. Да, правда.
— Луиза столько рассказывала мне про твою новую работу. — Морща лоб в точности как дочь, Мари с веселой грустью закивала. — Ну о том, что ты стал помогать… Я была удивлена и очень… очень тронута. Но это не то слово.
— Больше разговоров.
— Слышала, что у тебя сейчас даже кто-то живет. Бывший военный?
— Что ты, какой военный! — отмахнулся Петр. — Легионер бывший… Я взял его садовником, а он мне всё перечинил. Золотые руки… Это началось осенью. Если честно, я просто увлекся. На какое-то время. Но иногда бывает стыдно. Стыдно отмывать грехи ценой чужих несчастий. Ведь всё равно ничего не изменишь.
В глазах Мари появился едва уловимый блеск. Она явно не хотела поверить в то, что подобные поступки можно совершать лишь для того, чтобы искупить собственные согрешения.
— Куда бы ты хотела пойти? — спросил Петр. — Можно поехать к Бастилии. Да и тут, неподалеку, я знаю одно место — рыба, устрицы… При простуде хорошо что-то легкое, но калорийное. А может, просто ко мне поедем? Не хочешь? Мой военный, как ты говоришь, обожает визиты… И на редкость хорошо готовит. Мари, ты могла бы, если серьезно, остановиться у меня на эти дни. Мы бы тебя подлечили как следует. У тебя будет спальня наверху. А мой легионер… Его даже не видно.
— Нет, что ты! Мне здесь очень хорошо. А потом, я так давно не жила в гостинице. Такое чувство, что попала на край света… Может быть, нам просто пройтись? Я почти не была на улице за весь день. И погода удивительная — ветер, тепло… Хотя эти улицы тебе наверное опостылели?
Быстро что-то обдумав, Петр одобрил идею прогулки и даже вдруг чем-то воодушевился…
На улицах было еще светло, но город уже погружался в вечернюю серость. Было тепло и вдруг ветрено. Сильные порывы ветра рвали над витринами маркизы. Грохот крыш угрожающе перекатывался над головой. Из-за непривычного для зимы потепления, которое установилось с начала недели, на закате небо приобрело опять необычный, темно-серый оттенок с синим подсветом. Облака, изъеденные оранжевыми пятнами, стали похожи на рваную апельсиновую кожуру. А город, черневший под ними, прорисовывался каждым своим штрихом и казался покрытым слоем свежего, еще не высохшего лака…
За Пантеоном на улицах было людно. Праздная людская толпа, вроде бы типичная для конца недели, переполняла узкие тротуары, и для того, чтобы разминуться с идущими навстречу, приходилось выходить на проезжую часть, выискивая просветы между плотно запаркованными машинами. Прогулка становилась утомительной. Оказываясь впереди, Мари не переставала оглядываться на Петра, словно боялась потерять его из виду.
Они вышли к Сене. Набережные оказались перекрытыми. Уровень воды поднялся до красной черты, и часть береговых аллей была частично затоплена.
Мари указала на группу людей, спускавшихся куда-то вниз по улице. Они прошли в ту сторону и обнаружили, что дальше, возле причалов с баржами, набережные всё же оставались открытыми. Спустившись к самой воде, они вдруг были поражены видом Сены. Стальная гладь воды, изрытая волнами, сплетавшимися в многочисленные косы, с устрашающей быстротой перемещалась влево по течению и лишь каким-то чудом не переливалась через каменные края.
— Когда попадаю в такой поток… в поток людей, я часто замечаю за собой одну странность… — заговорила Мари о чем-то другом, когда они, постояв у самого края набережной, двинулись дальше по безлюдному променаду вправо. — Из всех проплывающих мимо лиц, из ста, скажем, или из десятка, несколько уж точно покажутся понятными или даже близкими. Какой большой процент! Ведь в жизни за десять, за двадцать лет такого количества близких людей не встретишь.
— Смелое утверждение. — Петр улыбался углами рта. — Встречаясь с людьми на улице, ты просто не успеваешь понять, что между вами мало общего.
— Один мой знакомый говорит, что если взять и поставить в ряд десять человек, то из этих десяти случайных лиц получится самый полный портрет нации, какой только можно вывести даже при помощи статистических методов. А если поставить рядом двести, то получится просто какой-то отряд. Но есть народы, в которых эти десять — как двести, все на одно лицо. Это вроде бы признак древности народа. Так и у французов… Не обращал внимания?
— Нация — это ведь не только… рожи, а прошлое, неизбежность его, — сказал Петр. — Это как в людских отношениях. Если в них нет чего-то неизбежного, вынужденного, какой-нибудь круговой поруки, они всегда рано или поздно заканчиваются. Причем сами по себе, от нашего желания это даже не зависит.
— О, ты стал фаталистом.
— Да нет… Я просто всё меньше нахожу смысла в этом… вареве. Мне всё меньше верится, что от нас что-то зависит. А в то же время смысл есть во всем, это тоже очевидно. Вот и получается…
— Получается, что смысл нам непонятен.
Петр развел руками. Они дружно рассмеялись.
— Как же тогда принимать решения? — спросила Мари, возвращаясь, видимо, к прежнему разговору, начатому в холле гостиницы.
— А что толку их принимать? Жизнь всё равно по-своему распоряжается.
Какое-то время они шли молча и почти в ногу, наблюдая за баржей, которая непонятно каким чудом маневрировала в узких пролетах каменных мостов.
— Ты всегда точно знал, что хочешь, — сказала Мари. — И это замечательно. Вообще из всех, кого я знаю, ты, по-моему, единственный, у кого всё сложилось как-то логично.
— У меня? Какое заблуждение! Меня постоянно преследует чувство, что я занимаюсь не своим делом, что я ошибся профессией, что живу по ошибке. Честное слово!
— Что же тогда о других говорить?
— Заблуждение, — повторил он. — Если хочешь перейти на ту сторону, лучше подняться здесь. — Он показал на каменную лестницу, выводившую к улице.
Они поднялись на проезжую часть, направились к мосту и, перейдя на другой берег, прошли квартал в направлении Нотр-Дама, и Мари сказала, что у нее, по-видимому, опять поднимается температура; разумнее вернуться в гостиницу.
Петр остановил такси. Они доехали до гостиницы, распрощались, договорившись встретиться на выходные. Мари предложила увидеться в воскресенье, но не за ужином, а в обеденное время.
Поговорить о Луизе так и не удалось… Однако и встретиться в воскресенье им тоже не удалось. А в середине следующей недели Мари внезапно уехала домой, чтобы появиться в Париже лишь к концу месяца, но уже проездом. К удивлению Петра, она летела во Флориду, решив наконец навестить сына, и планировала пробыть в США три недели.
От Луизы Петр слышал, что у матери появились серьезные трудности с деньгами, вызванные очередной неудачей в делах Арсена, из-за которой семья лишилась наличных средств, а пустить в ход капитал, вложенный в ценные бумаги, Мари будто бы не хотела, опасаясь, что это может привести к разногласиям во время предстоявшего вскоре раздела общего имущества.
Однажды утром, еще в те дни, когда Мари Брэйзиер находилась в Париже, в Гарн позвонил приятель Луизы Робер Лесерф. Не здороваясь, ледяным голосом Лесерф потребовал немедленной встречи.
— Нет, Робер, не сегодня… До следующей недели не может потерпеть? — Голос в трубке завис, и Петр уточнил: — Что-то случилось у вас?
— Занят не занят, а придется освободиться.
— Робер, давайте обсудим всё как взрослые люди, по телефону, — предложил Петр. — И не будем морочить друг другу голову… Бегать, встречаться…
— Да не будет никаких обсуждений по телефону! Встреча в ваших интересах, — пригрозил тот.
— Хорошо. Я предлагаю увидеться послезавтра. В обед — подходит?
— Нет, сегодня вечером.
Петр помолчал и добродушным тоном произнес:
— Только не горячитесь, Робер… Мне кажется, что я вас понимаю.
Робер чего-то выжидал, видимо и в самом деле понимая, что его понимают, но затем стал опять гнуть свое:
— В шесть часов, на машине, на стоянке перед главным входом в Лувр… там, где улица отходит от набережной в сторону почтамта… Перед церковью…
Вечером Петр собирался встретиться с Луизой, обещал за ней заехать, чтобы забрать ее в Гарн. Но теперь пришлось менять на ходу все планы. Петр приехал на четверть часа раньше назначенного времени. Робера еще не было. Прождав в машине полчаса, Петр спрашивал себя, не ошибся ли он местом встречи, и уже хотел уезжать, как новенький «Мерседес-500» белого цвета остановился в полуметре от его дверцы.
За рулем сидел Робер с сигаретой во рту. Из-за опущенного стекла доносилась не музыка, а буквально грохот.
Петр кивнул в знак приветствия и не смог побороть улыбку.
Робер презрительно отвернулся. В молчании прошло несколько секунд.
Петр жестом попросил приубавить громкость в машине. Робер опять отвернулся, но просьбу выполнил.
— Что, так и будем сидеть? — спросил Петр. — Или вы решили гранату бросить мне в машину, как в фильмах про гангстеров?
Робер запустил недокуренную сигарету в воздух, убавил громкость и стал размеренно, взвешивая каждое слово, излагать всё то, что заставило его добиваться неотложной встречи прямо посреди улицы. Объяснения звучали еще менее вразумительно, чем по телефону.
Высказавшись до конца, при этом ни словом, ни жестом не упомянув имени Луизы, Робер выдержал паузу и набрался храбрости заявить главное: если Петр не отказывается от своих притязаний на нее, то он заплатит ему той же монетой, будет вынужден поставить мать Луизы в известность о том, какие отношения связывают ее с дядей.
— Вот это уже совсем некрасиво, милый друг. — Петр усмехнулся. — Я вас считал приличным молодым человеком. До чего вы докатились, даже не верится…
— Да брось ты мораль читать! — пробормотал Робер, впервые называя Петра на «ты». — Старый бабник…
— Не такой уж старый, — заметил Петр с улыбкой. — И не такой уж бабник… Вам должно быть стыдно, Робер.
Молодой человек на мгновение растерялся, а затем уже другим голосом стал объяснять, что Луиза измучена своим «двойственным положением», что она еще слишком «неопытна», что он, ее дядя, — «и черт с ним, что дядя!» — хотя и годится ей в папаши, хотя и является «отпетым эгоистом», «тоже неплохой парень», но что это не помешает ему, Роберу, добиваясь своего, пойти «на всё». Робер завершил свои доводы утверждением, что Петр сует свой нос в вещи, в которых «ни шиша не смыслит», и что даже о Луизе ему известно далеко «не всё».
— Заглушите, пожалуйста, двигатель, — попросил Петр. — Не слышу, что вы говорите. Или музыку уберите…
Робер выключил и музыку, и зажигание. На протяжении нескольких секунд они с удивлением всматривались друг в друга.
И вдруг Петр понял, что Робер действительно способен на многое. Он попытался на миг представить себе, что будет, если Робер приведет свою угрозу в исполнение — какова будет реакция Мари, когда из какой-нибудь анонимки, склеенной из газетных заголовков, она узнает о том, чего он не смог ей сказать с глазу на глаз.
И ему стало не по себе. Единственное, что его несколько успокаивало, так это здравое соображение, которым он и сам был на миг озадачен: Мари никак не могла получить такого письма сейчас, находясь в Париже. На такую подлость понадобилось бы время. Или Робер знал, что Мари в Париже? Что, если он знал, где она остановилась?
— Робер, неужели вы думаете, что таким способом можно завоевать расположение женщины? — вздохнул Петр.
— У каждого свои методы.
— С этим спорить не стану. Но ваш подход мне кажется опрометчивым. Хотите, скажу вам, как бы я поступил на вашем месте?..
Робер молча смотрел ему в переносицу.
— Женщины не терпят давления. С ними нужно обращаться…
— Ваша племянница — не женщина, а девушка! — криком перебил Робер.
— Допустим. Но завоевывать доверие и любовь всё равно невозможно грубостью. Нужно иметь хотя бы чувство собственного достоинства. Ну немного… А когда речь идет о таких девушках, как Луиза, тем более. Уж поверьте мне…
Враждебно насупившись, Робер вставил в рот новую сигарету.
— Ну хорошо… Что я могу для вас сделать? Дать вам денег? Чтобы действительно было как в кино… раз уж вам нравится играть в эти штуки. Только много я не могу. — На лице у Петра появилась брезгливость.
— Какое вы всё-таки дерьмо! — отрезал Робер. — Вы пользуетесь ею! Таким, как вы, на всё наплевать!
— Ну вот что, Робер… Сейчас мне некогда разбираться… Я предлагаю на этом разойтись и дома всё спокойно взвесить, — с твердостью в голосе сказал Петр. — А дня через два или три приезжайте ко мне. Позвоните вечером и приезжайте. Мы всё спокойно обсудим. Дорогу вы знаете…
— Три дня! — отрезал Робер. — Я тебе даю три дня и ни часа больше. А потом… Сам увидишь.
— Три дня на что?
— На последние «адье» с племянницей… Ты меня понял? А теперь будь здоров, дядюшка!
«Мерседес» взревел и рванул с места. Робер вылетел к перекрестку, не обращая внимания на красный свет, развернулся посреди улицы Риволи в обратную сторону, промчался мимо, и автомобиль исчез на набережной…
Мольтаверн жил в Гарне уже пятый месяц, но в его положении не произошло ни малейших сдвигов. Намерение Петра обучить его садоводству оборачивалось крахом.
Поначалу старик Далл’О обнадежил было Петра согласием прибегать к помощи Мольтаверна и давать ему простые задания, но затем стал делать всё, чтобы не подпустить его к работе в саду.
Как здоровый полноценный мужчина может жить в нахлебниках? Откуда он вообще взялся? Далл’О смотрел на Мольтаверна как на низшего. Беспримерная покладистость, рвение, готовность нести в саду дежурство с утра до ночи и даже демонстративный отказ Мольтаверна надевать рабочие рукавицы, отчего руки его по локти покрылись коростой и ссадинами, после работы в розарии требовавшими обработки, но он даже от этих процедур отказывался… — Мольтаверн делал всё, что мог, чтобы пробить эту стену недоверия к себе. Старик же оставался непреклонен.
Ремонтные, уборочные, слесарные и гораздо реже садовые работы, которые Петру удавалось с горем пополам подыскивать в округе через соседей и знакомых, не могли изменить положения в корне. Труд разнорабочего не стоил ломаного гроша. Перепадали лишь подачки, с которых не могло хватить даже на карманные расходы. И с каким бы пылом сам Мольтаверн ни хватался за любую возможность подзаработать, проявить себя, какое бы безразличие он ни испытывал к тому, что ждет его завтра, так не могло продолжаться до бесконечности.
Петр понимал, что не может ставить себе в вину неудачи с трудоустройством. Но от этого не становилось легче. И он удваивал свои усилия. Обзванивать всю округу и ездить по разным местным адресам он продолжал всю зиму…
Трудности с определением Мольтаверна на постоянную работу упирались не только в дефицит рабочих мест, который давал о себе знать, как и повсюду, но в его анкетные данные. Ничего неожиданного в этом вроде бы не было. Но поначалу Петр всё же недооценил ситуации. Хотя уже в декабре, при первых попытках подыскать что-нибудь через личные связи в муниципальных хозяйственных службах, ему пришлось констатировать, что далеко не все готовы ринуться на помощь не глядя.
Посвящать всех подряд в подробности биографии Мольтаверна, разумеется, не было необходимости, а тем более когда вопрос стоял об определении его на работу к частным лицам. Но с большинством из тех, к кому приходилось обращаться, Петр был знаком лично, и как-то не получалось не говорить всю правду. К тому же казалось естественным, что само отсутствие какой-либо корысти в его ходатайстве должно придавать его обращениям дополнительный вес. У нормального человека прошлое Мольтаверна не могло, казалось бы, вызвать сочувствия. Разве не так происходило с ним самим? Ведь, соглашаясь дать работу человеку бездомному, побитому жизнью, тот или иной потенциальный работодатель делал в итоге двойное приобретение: получал искомые рабочие руки, а заодно еще и удовлетворение от своего широкого жеста, раз уж отважился на благое дело. Но филантропический подход к делу других скорее настораживал.
Именно из-за судимости Леона отказались принять на работу в лесничество, а затем и на лесопильную фабрику, куда Петр обращался в декабре. Ни к чему не привели ни переговоры в клубе любителей собаководства, куда Петр ездил по рекомендации Сильвестра, ни в фирме по садовому обслуживанию, ни в местной строительной конторе, ни в дампиеррских бакалейных лавках, где всегда была мелкая работа — пусть даже просто доставщиком. Повсюду, где Петр успел побывать за зиму, как только до него доходило, что есть свободное рабочее место, всё происходило по одному и тому же сценарию. Сочувствие сменялось растерянностью. А почему именно я? Да неужели больше не к кому обратиться? Первоначальная отзывчивость и как будто бы готовность прийти на помощь в лучшем случае оборачивались добропорядочной болтовней на темы дня. Нет, мол, правды на свете. Как, мол, мир несправедлив… А через день от услуг Мольтаверна тактично отказывались.
Стоило ли удивляться такой реакции? Вряд ли. Для любого постороннего человека Леон не представлял собой ничего такого, что должно было заставить его жертвовать своими интересами и во что бы то ни стало идти ему навстречу. Тысячи и миллионы людей, подобных Мольтаверну, изо дня в день мыкались в поисках заработка и при этом часто даже не видели в своем существовании ничего анормального. Столь же глупо было бы схематизировать положение другой половины, даже с учетом того, что эта привилегированная «половина» представляла собой явное меньшинство, — а именно положение тех, кто может, кто хочет или должен разделить с менее имущими часть того, что имеет, но этого не делает. Привилегированность нередко оказывается тоже условностью и преувеличением.
Однако Петр выделял для себя еще один нюанс, и он представлялся ему самым важным. Ему казалось, что обобщения, да и вообще рассуждения о том, что кто-то, может быть, заслуживает тех невзгод, которые с ним происходят, а кто-то другой не заслуживает своего благополучия, — оставались голым допущением, домыслом. Это мгновенно понимаешь, когда оказываешься перед лицом реальной жизненной проблемы, решить которую невозможно одном голословием, просто копаясь в стерильных вопросах. На деле всё легко становится на нужные рельсы, выход из самой трудной ситуации не заставляет себя ждать при наличии у других пусть мизерного, но реально существующего намерения изменить что-то вокруг себя к лучшему. Ведь помощь, за которой в таких случаях обращаются, в конце концов, не столь значительна, чтобы усложнить жизнь того, кто на нее отваживается. Да и сами эти подразумеваемые «сложности», реальными они были или мнимыми, представляли собой, на взгляд Петра, прямое, хотя и не совсем явно, легко прослеживаемое последствие этого самого «обобщенного», схематизированного отношения к вещам. Обобщения лишь притупляли взгляд. Тем самым они усугубляли путаницу, а иногда делали ее беспросветной.
Следуя этой логике, он обнаруживал, что в его голове всё быстро сходится. Выявив для себя главную закономерность, Петр даже смог подогнать ее под некое житейское правило, пустил это правило в дело и старался твердо его придерживаться. Это правило заключалось в том, что предпочтение всегда следует отдавать конкретному, соразмерному с реальными личными возможностями, а не абстрактному, соизмеримому с голой истиной, выводимой из обобщений. И на какие бы достоверные сведения эти обобщения ни опирались, правда — в конкретном, ложь, заблуждения — в условном, абстрактном…
Самые большие связи в округе имел архитектор Форестье. Он был вхож в деловой мир департамента, знал лично кое-кого из муниципальных чиновников и при желании мог оказать настоящую помощь. Однако особого энтузиазма к просьбам Петра Форестье не испытывал. За два месяца, прошедшие с того дня, как он пообещал позвонить кое-кому и прозондировать почву, он так и не предпринял ничего конкретного. На филантропию соседа Форестье поглядывал косо, а если и делал одолжение, звонил кому-то и наводил справки, то лишь потому, что сдавался на уговоры своей жены. Элен Форестье Петру сочувствовала и, как могла, помогала.
В январе Форестье неожиданно заговорил о возможности пристроить Мольтаверна в конюшни, куда он возил дочь учиться верховой езде. Форестье-младший даже изъявил желание лично препроводить легионера на встречу с владельцем клуба. Встреча прошла удачно. Хозяин клуба как будто бы согласился взять Мольтаверна на испытательный срок. Но через несколько дней, как и все, ответил отказом, мотивируя это тем, что их «протеже» никогда не имел дела с лошадьми (это было ясно с самого начала), поэтому риск, мол, слишком велик, даже уборку конюшен он якобы не мог доверить человеку, не имеющему нужного опыта.
В те же дни стало известно о вакансии автослесаря в соседнем сервисе, где Петр иногда заправлял машину. Он свозил Мольтаверна на «прослушивание». Проэкзаменовав Леона, навыкам его удивились. Хозяин мастерской заверил, что ему нет дела до того, «кто где сидел, было бы за что…», пообещал не откладывать дело в долгий ящик и явно склонялся к положительному решению. Протянув с ответом неделю, хозяин сервиса позвонил сам и стал нести в трубку что-то невразумительное об условиях страхового полиса, об отсутствии сейфа и должности кассира, о каком-то родственнике-совладельце, которого ему не удалось уломать…
В конце концов, именно благодаря усилиям Форестье в феврале удалось найти подходящее место при муниципальном лесопарке, Леону было предложено работать в охране, одновременно исполняя обязанности дворника, а также иногда участвовать в садово-парковых мероприятиях.
От дома до лесопарка было пятнадцать километров езды. Мольтаверн уверял, что сможет добираться на работу на автобусе или даже на велосипеде. Вариант казался идеальным. О большем трудно было бы и мечтать. Петр решил приложить максимум усилий, чтобы не упустить такую возможность.
Когда они поехали на очередные смотрины, он предпочел не выкладывать всю подноготную, как это делал обычно. И вопрос был мгновенно решен. Трудовой договор предлагали подписать временный, всего на шесть месяцев. Но по истечении этого срока речь могла идти уже и о постоянном трудоустройстве.
В ознаменование столь долгожданного события Петр устроил вечером праздничную пирушку, пригласил на нее соседей. Мольтаверн приготовил на всех ростбиф и пирог с черносливом. Вечер вылился в настоящую попойку и закончился в третьем часу ночи на десятой бутылке шампанского — начиная с пятой, архитектор посылал Леона за шампанским в свой погреб, — в атмосфере бурных россказней о всевозможных доблестях времен беззаботной молодости, которую разогревал жар камина и дружный хохот…
Первое дежурство Мольтаверна в лесопарке выпало на понедельник.
Он встал чуть свет, приготовил на всех завтрак, накрыл стол в столовой и, сияя докрасна вымытыми щеками, приодетый, в шерстяном пиджаке и в галстуке с бежево-голубым узором — галстук был явно ни к селу ни к городу, — потчевал всех чаем и кофе, но при этом выглядел всё же немного подавленным. Он явно волновался.
Стараясь поднять в легионере боевой дух, Петр настоял на выдаче ему после завтрака аванса, заставил принять четыреста франков в счет будущей зарплаты, а затем для первого раза решил всё же отвезти его в парк на машине…
Домой Мольтаверн вернулся другим человеком. Но о самой работе он почему-то помалкивал. Ужин протекал в натянутой атмосфере. Тянуть его за язык Петр не хотел и терпеливо ждал, что Мольтаверн расщедрится на какие-нибудь объяснения. Луиза же принялась над ним подтрунивать: теперь он наконец может позволить себе обзавестись настоящим одеколоном, и от него больше не должно, мол, пахнуть «пятилетним медом», всякой дешевкой, которой он запасался в супермаркетах. А затем она стала бесцеремонно уговаривать его продемонстрировать свои бицепсы. Ей хотелось проверить, на сколько они «разбухли» за один «трудодень».
Не реагируя на колкости, с бесстрастным видом Мольтаверн продолжал обслуживать стол. Этакий обтекаемый мажордом, настоящий профессионал. Он не собирался ни перед кем отчитываться. Однако по его непроизвольной манере угождать в мелочах легко было догадаться, что всё прошло гладко. Может быть, даже слишком гладко для первого раза. И, видимо, поэтому за один-единственный день он настолько вырос в собственных глазах, что даже не знал теперь, как себя держать: я, мол, всё тот же вчерашний, да не совсем.
Уже на следующий день произошла новая неприятность. Она поставила Петра перед очередной проблемой. По дороге домой с работы — подробности случившегося стали известны позднее — Мольтаверн завернул в кафе. В ту самую местную забегаловку, находившуюся на перекрестке двух главных шоссейных дорог, в которой Петр покупал сигареты и иногда посылал за ними Мольтаверна. После восьми вечера здесь собирались местные рабочие и заодно всякий сброд. Мольтаверн принялся угощать всех пивом, решил таким образом обмыть свое трудоустройство.
Щедрый гость уже с полчаса казался всем поддатым, когда хозяин заведения, умевший избегать ненужных сложностей, отказался выполнить очередной его заказ — тот попросил еще одно пиво. Мольтаверн принял отказ за оскорбление и полез на рожон. По рассказам хозяина и его жены, помогавшей мужу обслуживать вечерами, буян перевалился через стойку, сгреб хозяина за шиворот, притянул к себе и дыхнул ему в лицо перегаром.
Хозяин постарался замять инцидент и пиво всё же подал. Однако, не удовлетворившись достигнутым и на глазах теряя над собой контроль, Мольтаверн продолжал куражиться. И дело неминуемо закончилось бы вызовом полиции или выяснением отношений на кулаках, если бы не жена хозяина. Она знала буяна в лицо, знала, где он живет. Отыскав в телефонном справочнике нужный номер, она решила позвонить в Гарн…
Не прошло и десяти минут, как Петр появился на пороге заведения. В кафе царил неимоверный тартарарам. Вглядываясь в душное, переполненное помещение, в клубы дыма, висевшие под низким потолком, Петр разглядел наконец и хозяина. Тот стоял за стойкой в дальнем углу и помахивал ему рукой.
В следующий миг он увидел и Мольтаверна. Непохожий на себя, какой-то окаменевший, с подслеповатой физиономией, Мольтаверн стоял тут же, в конце барной стойки, среди каких-то работяг в синих комбинезонах, сверкал белками глаз по сторонам, облокотившись о край.
Петр приблизился к компании. Рабочие расступилась.
— Хорош, нечего сказать… — Петр осмотрел Мольтаверна с головы до ног, перевел взгляд на рабочих, на какого-то старичка в фуражке, непонятно кому улыбающегося, обвел глазами молодых мужчин с раскрасневшимися лицами, которые выжидающе наблюдали за сценой через головы соседей, затем спросил: — Что здесь происходит, а Леон?
Мольтаверн наградил его пустым взглядом. Он не узнавал его, не то принимал за кого-то другого. Метнув взгляд в зал, Мольтаверн всё же выправился, еще одну секунду оторопело смотрел на Петра неприятным, мутным взглядом. Но затем убрал локоть со стойки и выровнялся, словно собираясь встать по стойке «смирно».
— Что происходит, я тебя спрашиваю? — повторил Петр свой вопрос.
— Эт-то вы?.. Что вы тут д-делаете? — с трудом пробормотал Мольтаверн. — Во-первых, здрассти…
— Рассчитывайся! — приказал Петр.
Хозяин, как и все, наблюдавший за происходящим из-за стойки, сочувственно закивал и сделал рукой отрицательный жест, давая понять, что заказ то ли оплачен, то ли вообще того не стоит, после чего, сложив волосатые руки на груди, радушно присовокупил:
— Щедрый парень. Опоил всю братию… А, пацаны?! Вы что, совсем сегодня обалдели все?
— Прошу извинить меня… и его, — произнес Петр, не совсем понимая, к кому хозяин обращается. — Спасибо, что позвонили.
— Вы не переживайте, — успокоил тот. — Мы и не таких видали… Хотя не понятно, что бы я с ними делал, если б вы не приехали?
Глядя на Мольтаверна, Петр только теперь осознал, что тот пьян вдребезги, хотя и умудрялся каким-то образом держаться ровно. Мольтаверн даже не шатался. Подступившись к нему, Петр тронул его за железный бицепс и чуть слышимо приказал:
— В машину!
— Вы, главное, не расстраивайтесь, а-спадин Вертягин, — забормотал Мольтаверн, брызгая слюной. — Я им покажу, этому быдлу!
— Покажешь… — Петр подталкивал его к выходу. — Шевели ногами.
Всплеснув руками, Мольтаверн стал проталкиваться к выходу, растопыренными пальцами придерживаясь за столы.
Они вышли на улицу. Уже совсем стемнело. Взяв Мольтаверна за рукав, Петр перевел его через дорогу, подвел к машине и открыл дверцу:
— Усаживайся, дружок, и поживее! Куда ты дел велосипед?
— Велосипед?.. Какой велосипед? Я где-то… Я, в общем, пьяный. Извиняюсь, конечно.
Втолкнув Мольтаверна в машину, Петр вернулся ко входу в кафе и сразу же увидел велосипед, прикованный тросиком к столбу с дорожным знаком. Ключ остался у Мольтаверна. Возиться с замком было не время, к тому же было непонятно, вместится ли велосипед в багажник машины. И Петр вернулся в кафе, попросил хозяина присмотреть за ним до завтра…
Наутро, проспавшись и абсолютно ничего не помня, Мольтаверн клялся и божился, что не возьмет впредь в рот ни капли. Петр потребовал от него предоставления счета за сабантуй. И оказалось, что тот пропил все деньги, которые получил день назад в виде аванса, все четыреста франков.
Инцидент кое-как удалось замять. Но в глубине души Петр не знал, как относиться к случившемуся. Поспешных выводов делать тоже не хотелось. Он предпочитал списать всё на срыв. На радостях бывает и не такое. В конце концов, длительные хождения по мукам — поиски работы, увенчались успехом. Мольтаверна можно было понять. К счастью, в тот вечер, когда всё случилось, Луизы не было дома, и поставить на истории крест было нетрудно. Но неприятности на этом не закончились.
Мольтаверн не проработал в парке и недели, как его уволили с работы. Это произошло в пятницу…
Уехав в этот день с работы раньше обычного, Петр приехал на Аллезию, назначив Луизе встречу в кафе рядом с ее домом, чтобы уже вместе ехать в Гарн. Дожидаясь ее прихода, он сел за столик на террасе у окон, чтобы присматривать за машиной, оставленной посреди пешеходного перехода, заказал стакан воды с мятным сиропом и стал листать «Монд». Когда Луиза вошла в кафе, опоздав почти на час — в джинсах и коротеньком пальто мышиного цвета, которое ей очень шло, — на улице уже смеркалось. Когда же они приехали в Гарн, было темно как ночью.
Еще издалека, на въезде на аллею с дороги, Петр с удивлением заметил в своих окнах свет. Мольтаверн должен был вернуться с работы позднее. Подкатив к ограде, Петр остановил машину и, не дожидаясь Луизы, гонимый каким-то неприятным предчувствием, первым заторопился в дом.
Мольтаверн сидел на диване не раздеваясь, в верхней одежде, и крутил в руках разобранный штепсель с проводами. При виде Петра он потупился.
— Здравствуй, Леон… Что это ты так рано? — спросил Петр, на ходу снимая верхнее.
Мольтаверн поднял лицо, но смотрел мимо. Поднявшись с дивана и шаря глазами по сторонам, он уничижительно, будто лакей, мотнул головой, прежде чем сделать шаг навстречу Луизе, которая тоже появилась на пороге, — он обычно забирал у нее верхнюю одежду. Вчерашний налет гордыни исчез с его лица как не бывало.
Петр и Луиза переглянулись.
— Давайте пальто, — предложил Мольтаверн. — Там некуда повесить.
— Леон, тебя же спрашивают? — потребовала ответа Луиза. — Ты что делаешь дома в такую рань?
— Списали, — буркнул Мольтаверн, и по лицу его расползлась глупая улыбка.
— Что значит, списали? — не поверил Петр. — Откуда списали?
— С работы, откуда…
— Как это? За что?
— А ни за что… Вам звонила Шарлотта, как ее…
— Нет, ты, пожалуйста, растолкуй понятным языком, — потребовал Петр. — Ни за что — так не бывает.
— Директор вызвал меня… Ну этот, помните, косоглазый тип? И спросил, есть ли у меня судимость.
— И что?
— Я сказал, что есть.
— Ты сказал, что есть… — Петр развел руками. — Мы же с тобой договаривались… что без меня ты ничего никому не будешь рассказывать. Да или нет?
Мольтаверн молчал.
— Хорошо. И что дальше? — подстегнул Петр.
— Ну что… потребовал справку о несудимости. — Мольтаверн опять глупо ухмылялся. — Ну а когда заполучил бумажку, говорит, забирай свои манатки и чтобы духу твоего тут не было… Ну что тут непонятного?
— Справку! И ты ему эту справку принес? Когда ты успел?!
— Да нет!
— Не понимаю… Какого черта ты отвечаешь на такие вопросы? Или тебя за язык тянули?
— Что же вы-то предлагаете? Врать без зазрения совести?
— Ну дает… И соврал бы, ангелочек! — попрекнула Луиза. — Тебя ж не на исповедь отправили, а работать… охранником, на хлеб зарабатывать.
Мольтаверн не знал, куда девать глаза. Предвидя, по-видимому, и не такую реакцию, явно приготовившись к взбучке, он, скорее всего, не ожидал, что это произойдет в столь резкой форме. На лице его появилось отрешенное и беззащитное выражение. Стараясь преодолеть неловкость, он глядел то в пол, то в сторону, а затем вдруг еще и покраснел, чего за ним не водилось вообще.
— Пожалуйста, Луиза… — проговорил Петр. — Ну что, так просто и выставили? — спросил он смягчившимся тоном.
Мольтаверн смотрел в окно и как ненормальный покачивался.
— Скоты… Я им устрою увольнение! — пригрозил Петр и прошел в свой кабинет, чтобы оставить там портфель и верхнюю одежду.
Мольтаверн оставался непробиваемым весь вечер. Но в то же время не мог скрыть своей подавленности, выдавал ее затравленной молчаливостью, выражением какой-то упрямой сосредоточенности, которая выступала у него на лице, когда он кромсал репчатый лук на кухонном столе, рукавом вытирая слезы, когда он тут же шинковал петрушку для салата, уставившись в стол бездонным взглядом круглого сироты и немо шевеля губами. Выдавала даже походка: Мольтаверн расхаживал по дому, как-то по-иному разводя колени и растопыривая локти — как будто для равновесия, словно под ногами у него был не паркет, а сплошные ямы.
Наблюдая за ним, Петр не мог не испытывать жалости, а то и вины за случившееся. Вины за свою неспособность помочь по-настоящему? Разве не он настоял на обмане, запретив говорить о судимости? В эти сомнения врывалось и другое неожиданное чувство. Едва ли это была просто жалость. Но что-то не переставало жечь его изнутри и становилось нестерпимым, как только он припоминал поразившую его деталь: реакцию на свои первые слова, произнесенные с порога, когда они вошли с Луизой в комнату и застали его на диване — униженный лакейский кивок Мольтаверна. Почему-то именно этот кивок так сильно бередил теперь душу…
После ужина он позвал Мольтаверна к себе в кабинет. Тот подробно рассказал, при каких обстоятельствах произошло увольнение. В момент оформления на работу — это происходило уже после того, как все условия были обговорены в присутствии Петра — административный служащий, занимавшийся наймом, добросовестно проэкзаменовал Мольтаверна по некоторым другим обычным вопросам, касавшимся его социального положения. И в этом не было ничего удивительного. Слишком явно Мольтаверн подпадал под категорию лиц «социально неустроенных». На этот раз, согласно наставлениям, полученным от Петра, свое тюремное прошлое Мольтаверн обходил молчанием. Петр считал, что позднее, даже если этот факт однажды и всплывет, он уже не имел бы существенного значения, так как Мольтаверн успел бы проявить себя в деле, как это и произошло при его появлении в Гарне. На черное пятно в его анкетных данных, скорее всего, закрыли бы уже глаза. В конце концов, ни один закон не запрещал брать на работу людей, отбывших тюремный срок.
Но как Леона угораздило хвастануть при собеседовании, что у него есть знакомый полицейский, который может отрекомендовать его по всем статьям, да еще и сообщить, в каком комиссариате тот служит? Этого объяснить было уже невозможно. Здесь проглядывало что-то иррациональное. Соблазн ухватиться за что-нибудь прочное, весомое в глазах обывателя? Чувство неполноценности, причем настолько глубоко въевшееся в подсознание, что Мольтаверн уже был не способен его в себе контролировать?
Стоило ли удивляться, что служащий не смог пропустить мимо ушей такое откровение. Ошибался Мольтаверн и насчет знакомого полицейского. Ничто человеческое не было чуждо, судя по всему, и полицейскому. Но казалось очевидным, что, добиваясь доверительных отношений с Мольтаверном, «друг-полицейский» преследовал в свое время простую цель — хотел ускорить процедуру дознания по делу, которое велось против Мольтаверна, и попросту втерся к нему в доверие. Но до этого Петр докопался уже позднее…
В комиссариате, куда позвонили с работы Мольтаверна, его отрекомендовали в таких терминах, что не всякая тюрьма обрадовалась бы его возвращению. Уже на следующий день от Мольтаверна потребовали справку о судимости. Мольтаверн тянул резину, отмалчивался, надеялся, что буря утихнет. Тем временем нужную справку запросили напрямую, в обход Мольтаверна. И таким образом в считаные дни о нем узнали всё необходимое. Неизвестно — всё ли до конца или только то, что касалось его последней эпопеи. Но этого оказалось достаточно, чтобы расторгнуть временный договор, на основании существующих «внутренних инструкций» и несуществующих законов об ограничении доступа к подобной работе определенной категории лиц. Оспаривать решение? Жаловаться? Судиться?
Было уже около полуночи. Сидя в своей рабочей комнате, Петр продолжал обсуждать с Мольтаверном случившееся, всё еще стараясь выяснить, имелись ли у него хоть какие-то шансы отстоять его права, когда за окнами раздалась грозовая канонада. Через минуту хлынул такой ливень, сопровождаемый ураганным ветром и градом, что вздрагивали стены и казалось, что кто-то ухватился мертвой хваткой за карниз и пытается оторвать крышу.
Луиза кинулась закрывать уличные ставни. Она сразу позвала на помощь. Они поспешили на террасу. Борясь с ветром и со ставнями, все трое вымокли до нитки. Спать все разошлись только после чая, который Мольтаверн принес к камину, когда уже пробило два часа ночи…
Ураган, не стихавший всю ночь, к утру спал, а к десяти часам даже распогодилось. Теплый весенний ветер преспокойно гнал по небу большие кучевые облака, над горизонтом всё еще налитые лиловой тяжестью. С неестественной быстротой облака плыли прямо навстречу взгляду. Со стороны холмов ветер приносил обжигающе свежие, насыщенные чем-то приторным запахи леса, сырой земли и прелой зелени.
Петр с рассвета хозяйничал в розарии. В джинсах, в старом ирландском свитере с косичками на рукавах, в сером парусиновом бобе, он возился в кустах, вычесывал из газона обкромсанные ветки, загружал мусор в тачку и свозил его в дальний угол.
К одиннадцати часам на террасе ударила дверь, и показалась Луиза. Всё сразу же пришло в движение. Утро было хотя и свежее, но столь ясное, что она попросила Мольтаверна, застывшего в дверях наготове, накрыть завтрак на улице. Мольтаверн исчез и через минуту стал носить в беседку под навесом посуду, горячий шоколад, кофе, поджаренный хлеб, банки с вареньем и фрукты.
Через несколько минут Петр поднялся к беседке, выпил за компанию со всеми чашку кофе, после чего вернулся к кустам и, перегнав тачку повыше, к самой террасе, продолжал начатое с утра. Из сада он слышал, как Луиза, едва проснувшись, уже вовсю отчитывала Мольтаверна за разбитый вечером фаянсовый горшок для цветов.
Выставив стул из тени на газон, Мольтаверн грелся на солнце и реагировал на всё стоическим молчанием.
— В мире, Леон… в том мире, в котором мы живем, люди больше ценят барахло всякое, вещи, а не друг дружку. На тебя всем наплевать. Поэтому ты должен хотя бы стараться показаться полезным, интересным.
— Это вы свой мир описываете, — сказал Мольтаверн. — Мой мир… он совсем не похож на ваш.
— Ну конечно!.. Ты хочешь сказать, что я, Пэ и все мы живем в этом реальном мире, а ты почему-то — нет? Что ты нашел себе теплое местечко, пригрелся и будьте здоровы?
Мольтаверн молча поигрывал коленями, отделывался одними ухмылками.
— За это тебе и достается… — заверила Луиза и стала размешивать какао ломтиком поджаренного хлеба.
— В волчьей стае надо выть по-волчьи… Вы это хотите сказать? — спросил Мольтаверн. — Эту школу я прошел, когда вас еще на свете не было.
— Если не хочешь выть со всеми, так хоть бы подвывал… так, для вида. Правила игры соблюдать нужно. Или не лезть в игру вообще, сидеть в стороне от всяких игр.
Обменявшись взглядами, они вдруг рассмеялись. На некоторое время в беседке воцарилась тишина. Панибратский тон и неведомо на чем замешенное единодушие, благодаря которому им удавалось понимать друг друга с полуслова, Петра удивляли уже не в первый раз, но теперь немного озадачивали.
— Хорошо, давай подойдем к этой проблеме с другой стороны, — продолжала Луиза. — Вот смотри: в нашем обществе… ну, в нашем свинском обществе, в котором нам приходится жить, деньги — это всё равно что кровь… Как кровь, которая течет по сосудам, чтобы организм, живые ткани могли получать вещества, необходимые для жизнедеятельности. Ведь так?.. Тогда ответь, пожалуйста, как вот ты к деньгам относишься, а Леон? Или тоже всё отрицаешь?
— А никак, — ответил тот.
— Что значит никак? Это не ответ… Богатым ты стать не хочешь, это и дураку ясно. А то ведь потом придется сторожить нажитое добро, как оружейный склад. Сохранить добро труднее, чем его нажить… Правильно я тебя понимаю?.. Но иметь что-то, как все нормальные люди, получать эти полезные вещества, о которых я говорю?
— Чтобы любить богатство, надо быть бедным, — ответил Мольтаверн.
— А чтобы любить бедность, надо быть богатым?
— Можно и так.
Луиза пригубила какао, обожглась. Отставив чашку, она неожиданно согласилась:
— Может быть, и так, конечно. Тебя не переспоришь. То же самое утверждает одна моя знакомая. Она живет на три тысячи в месяц. — Луиза принялась рассказывать Мольтаверну о том, как ее подруга Мона питается одним рисом и макаронами и этой суммы ей якобы хватает на удовлетворение всех ее запросов.
— Вот я и говорю, что счастливым можно быть без денег, — сказал Мольтаверн.
— Ты — наглядный пример… Этих перлов ты у Пэ, по-моему, нахватался.
— Ничего подобного! Я тоже так думаю.
— Тогда объясни… Каким же образом?
— Не тем богат, что есть, а тем, чему рад, — произнес Мольтаверн.
— Чего-чего?
— Человек, у которого есть деньги, не понимает, что почем. Ну что тут непонятного?.. Вот у вас хватает денег на новую машину, вы можете купить ее, когда вам захочется. Одна сломалась — купили другую, — быстро заговорил Мольтаверн. — Но вы уже не можете любить машины, они для вас ничего не стоят. Логично?.. Так — средство передвижения. Вот как для Пэ. Какая ему разница? А когда своя, единственная… Когда мучился, берег, сам ремонтировал — совсем другой разговор. Можно быть счастливым, когда хорошо поел. Когда на тебе новые джинсы. Или когда где-то рядом хорошо пахнет. Вы не понимаете… Если вам стоит только захотеть и у вас будет всё, что вы хотите, это непонятно. Вино окажется кислое. Шоколад горький. Всё не то, не то…
— Философия, Леон, — вздохнула Луиза, помолчав. — Когда человек хорошо ест, у него лицо подтянутое, кожа блестящая. Когда плохо — серое, опухшее. Какая между ними разница?.. Да огромная!
— Мы говорим о разных вещах. Я вот люблю, например, сушить одежду на улице, потому что она потом хорошо пахнет, — привел Мольтаверн еще один пример. — А другой даже не понимает, что одежда хорошо пахнет, если у него всегда был такой огород. — Мольтаверн показал в сад.
— Это не огород, а розарий… — поправила Луиза. — Но я поняла, что ты хочешь сказать. Какой ты всё же притвора, Леон! Ты ведь понимаешь больше чем десять адвокатов, вместе взятых! Не знала, что ты философ.
— Это не философия. Это опыт жизни, — изрек тот не без самодовольства.
С минуту они помолчали.
— Ну, раз ты такой опытный, такой умный, ответь мне вот на какой вопрос. Помнишь, мы с тобой говорили про армию, про жестокость и всё такое… Как ты всё это совмещаешь? Ты лев, по-моему, по гороскопу?
— Нет, я не лев.
— А похож… Так что я хотела спросить… Ты в Бога вообще веришь? Любой нормальный человек должен задумываться над такими вещами.
Задержав на собеседнице иронический взгляд, понимая, что такой вопрос невозможно задавать серьезно, Мольтаверн сложил руки на груди и, изображая из себя тугодума, ответил:
— А почему нет? Бог — это такое дело.
— Какое дело, Леон?
— В Святой Дух я верю, а в Отца нет.
— Чего-чего?.. Повтори-ка, не расслышала!
Мольтаверн, улыбаясь, отрицательно покачал головой, повторить сказанное отказывался.
— Ну ты даешь! Откуда же он взялся, Святой Дух? С неба, что ли, свалился?
— Он ниоткуда не взялся.
— Как это ниоткуда? Объяснил бы темноте!
— Объяснять нечего. Он всегда был, и точка.
— Послушай… Ты, случайно, не сектант? А то, глядишь, тебя в твоих крестовых походах завербовали грешным делом?
— Нет, крещеный и не сектант.
— Леон, а что ж ты тогда в эти войска полез, раз ты такой. Ну, как сказать…
— Так надо было, — ответил Мольтаверн без смущения.
— Я серьезно спрашиваю… Встань на мое место.
Мольтаверн нетерпеливо озирался по сторонам.
— Значит, ты и в вечную жизнь веришь? — продолжала Луиза донимать его.
— Верю.
— А вот я этого не понимаю… Что это такое? Как ты себе это представляешь?
Мольтаверн помялся, нарочито зевнул и, устремив взгляд вдаль, вымолвил:
— Душа не умирает… Ученые это давно доказали.
— Что-то не слышала таких доказательств.
— Я в журнале читал, — сказал тот. — Я вам дам — наверху валяется.
— В журналах чего только не пишут. Душа, говоришь… Мы же не про душу говорим, а про тебя. Ты, значит, умрешь, а душа останется. Где же тут вечная жизнь?
— Я — это только тело, оболочка. А душа…
— Ну-ну, — подстегнула Луиза. — Что дальше?.. Пэ! Ты только послушай, что он несет. Мы, говорит, — одна оболочка!
Остановив тачку неподалеку от беседки, Петр вытер лицо рукавом и рассеянно улыбался.
Мольтаверн, подперев себя кулаком в бок, продолжал смотреть вдаль.
— Удивил ты меня, Леон… — качала Луиза головой. — С оболочкой…
— Кукушка, слышите? — сказал Мольтаверн. — Обычно ее слышно немного левее. Новая наверное появилась.
— У русских есть такая игра, — сказала Луиза. — Мы же русские — на донышке, но всё-таки. Ты не знал?
— Нет, вот этого не знал.
— Ты-то небось француз потомственный. Тебя из соски красным вином кормили.
— Луиза, как можно говорить такие глупости? — вмешался Петр.
— Да он не обижается… Правда, Леон?
— Не из соски, а из миски, — сказал Мольтаверн. — Одну на всех ставили, и мы всей сворой бросались похлебать. Хвосты вверх и вперед! Смотрите, какой вырос… — И он дважды врезал себе кулаком в грудь.
— Остряк, подумайте… — Луиза сокрушенно качала головой.
За продолжением разговора в беседке Петр следил с напряжением, всё больше чем-то пораженный.
— Эта русская игра заключается в том, чтобы спросить кукушку, сколько человеку осталось жить. Сколько раз прокричит — столько лет и осталось… Повторяй за мной: кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? — Луиза подала пример.
Со стороны холмов почти сразу послышались отдаленные крики кукушки.
— Всего три раза! — встрепенулся Мольтаверн. — Что-то маловато.
— Ты за меня не переживай! Ты про себя спроси. Ну?
Мольтаверн медлил. Чувствуя, что забава к добру не приведет, он не хотел пасть лицом в грязь, но в то же время хотел угодить и, словно нерадивый ребенок, который не осмеливается идти наперекор до конца, странным голосом пробурчал:
— Кукушка-кукушка, сколько мне осталось?
Ответа не было.
— Громче надо спрашивать, сонная ты тетеря! — отругала его Луиза, и в тот же миг раздался один-единственный крик кукушки. — Всего один! А говоришь, маловато… Вот тебе и вечная жизнь! Еще раз попробуй! Ошибка, наверное.
— Кукушка-кукушка, — проговорил Мольтаверн уже нараспев. — Сколько мне осталось жить?
Луиза подняла в воздух указательный палец. Петр вслушивались вместе с ними. Кукушка опять прокричала всего один раз.
— Слышишь, всего один год?! Ну, Леон! Готовься к бане. Один год как миг пролетает, глазом моргнуть не успеешь…
После обеда Петр унес поднос с кофейником в свою рабочую комнату и сидел в кресле перед окном, просматривая альбом о местной флоре и фауне, чтобы научиться, если случай представится, отличить кукушку от перепела, а ими кишела, как он слышал, вся округа.
С радостным недоумением он открывал для себя, что эта птица ведет паразитический образ жизни, всегда приживается в чужих гнездах. Серую европейскую разновидность кукушки cuculus canorus из-за горизонтальных полосок на груди якобы путают обычно не с перепелами, а с ястребом-самцом. Что же касалось знаменитых криков этой птицы, раздающихся над лесом, то издавали их, как оказывалось, самцы, а не самки…
На пороге появилась Луиза. Она была босиком и в одном белье.
— Я забыла купить сигареты. Пошлем Леона?.. У-у, да у тебя здесь… как у черта за пазухой! — проговорила она, замечая, с каким комфортом он расположился возле книжного шкафа с включенным радиоприемником.
— Посиди со мной, — предложил Петр. — Ты кофе уже пила?
— Леон принес наверх чашку.
— Скажи мне… там, наверху, ты его принимаешь в таком виде? — поинтересовался Петр. — Не совестно тебе, Луиза?
— Да он внимания не обращает.
— Зря ты так думаешь. Я же вижу, какими глазами он на тебя смотрит. Демонстрировать перед мужчиной лучшие части своего тела… Нужно понимать такие вещи.
— Да какой он мужчина!
— Ты ведь знаешь, что я прав, — упрекнул Петр, не отрывая глаз от альбома. — И сама это замечаешь.
— Ну, хорошо, хорошо! Я скажу ему, чтобы он отворачивался, когда я прохожу мимо.
Заложив страницу книги засушенным листком платана, Петр поднял на нее глаза и вдруг понял, что просит ее о чем-то невозможном. Он не пользовался у нее ни малейшим авторитетом. В глубине души он был даже рад своему наблюдению — аналогично тому, как бывал иногда рад за Мольтаверна, замечая в его поведении нормальные, свойственные обычным людям реакции. Сам факт, что Луиза могла приводить того в смущение и что тот не мог оставаться к ней равнодушен — такая реакция казалась Петру вполне здоровой. Какой нормальный мужчина смог бы реагировать по-другому? Эта мысль даже вселяла уверенность, что в жизни Мольтаверна всё еще поправимо. Петр видел в этом собственную заслугу. И оптимизм опять переполнял его.
Вернувшись в середине марта из отпуска, Шарлотта Вельмонт обратилась к Петру с новой просьбой. Он мог бы оказать ей большую услугу, если бы согласился помочь в ведении двух не связанных между собою дел. А уже при встрече Петр был вынужден констатировать, что Вельмонт не рассталась со своими прежними иллюзиями на его счет. И то и другое дело были в духе ее прежних поручений. Вельмонт всерьез надеялась его уговорить…
Встреча произошла в городе, неподалеку от ее офиса, в уже знакомом ресторане. Вельмонт удивляла своим видом. Новая прическа. Новый наряд, пара из серой фланели, на ней сидел несколько чопорно. Заметно похудевшая, с втянувшимися щеками, она выглядела свежей, помолодевшей, и в этом было что-то неожиданное.
Заказав себе один зеленый салат, сыр, бутылку воды, но не отказавшись, как еще недавно, от вина, Вельмонт тараторила обо всём подряд: о своем отдыхе, проведенном в Альпах, где она каталась на лыжах, о замысловатой операции по удалению опухоли, которую перенес ее бедлингтон-терьер, о судебном разбирательстве, наделавшем шума в Германии, которое грозило, по ее мнению, расшевелить мозги законодателям и во Франции…
Петр кивал, сморкался в белый носовой платок, извинялся за насморк — вторую неделю он ходил с недолеченной простудой, — на что Вельмонт разразилась шквалом рекомендаций: советовала бросить, как и она, курить, принимать по утрам поливитамины, пить минеральную воду, не меньше чем по два литра в день. При этом она не переставала скользить по нему быстрым, внимательным взглядом.
— Попало ко мне одно дело… к сожалению, с запозданием. Девятнадцатилетнюю девчонку привлекают по совершенно ужасному делу… — перешла Вельмонт к сути дела. — Подождите, сейчас поймете, что всё это не так старо, как мир, — заверила она, уловив на его лице какую-то тень. — На редкость привлекательной внешности, почти сирота. Послужной список длиннющий: проституция, наркомания, за что давно состоит на учете. Мать, профессиональная проститутка, часто меняла сутенеров. Так что девчонка много чего повидала на своем веку. Один сожитель матери выставил ее из дому в двенадцать лет. Другой пытался изнасиловать, искромсал ей бедро кухонным ножом. Третий колошматил, и мать и ее, до потери сознания. А в прошлом году бедняжка дошла до того, что уговорила друзей, знакомую шпану, устроить темную очередному покровителю мамы. Банда подловила сутенера на улице, его скрутили, затолкали в машину, привезли в загородный подвал, и девчонка измывалась над ним всю ночь с паяльной лампой, добиваясь, чтобы он вернул пять тысяч франков, отобранные у матери. Сами понимаете — грязь непролазная… Следствие проходит вяло. Кому хочется ее преследовать? Но суд, конечно, состоится, и приговор будет. При нормальной защите девчонка отделается минимумом… Что еще сказать? Суд на следующей неделе, как раз в Версале… Вы можете взять дело?
Помолчав, Петр поморщился:
— Почему вы мне предлагаете?
— Не попадаю на слушание, долго объяснять… Больше некого попросить.
— Вы валите всё в одну кучу… Лыжи, паяльная лампа, пытки… Как можно помочь человеку в считаные дни?
— Возьметесь или нет?
— Она под арестом?
Вельмонт кивнула.
— Досье хорошее… Я всё подготовила, — заверила она и, сама себе подлив вина, всматривалась в Петра каким-то новым взглядом; после чего столь же внезапно, как начала этот разговор, перешла к другой теме: — Как у вас с Жоссами? Что там нового?
— Да ничего. Всё так же.
— А ведь вы обещали… обещали держать их в курсе, — упрекнула Вельмонт. — Они звонят мне, интересуются. Вас донимать стесняются. Догадываются, конечно, что вы к ним пылких чувств не питаете. Ну да бог с ним… Я хотела вас попросить вот о чем. Жоссы периодически участвуют в перепродаже ценных произведений искусства. В основном антиквариат, фигуратив, классика. Бывает — и современное искусство, но реже. Такими перепродажами занимаются многие владельцы галерей. Так им удается свести концы с концами, выставлять современных художников… Так вот, они попали в дурацкий переплет…
Вельмонт стала излагать запутанную историю. Проворачивая недавно обыкновенную «операцию» по купле-продаже, пара погорела на кругленькую сумму, доверившись знакомому, который выступал в роли доверенного лица. Знакомый оказался профессиональным аферистом. Американский подданный, состоявший в браке с внучатой племянницей одного из бывших президентов, Арчи Котсби разъезжал будто бы по всей Европе, жил с размахом. До того, как всё случилось, у Жоссов будто бы не было причин ему не доверять: несколько совместных сделок прошли удачно. При участии американца Жоссы готовили очередную посредническую сделку по продаже небольшого, но дорогостоящего рисунка Пуссена. Сделка провалилась. И с тяжелыми для них последствиями. Рисунок принадлежал швейцарскому коллекционеру и хранился в Женеве. Интерес к работе проявляли во Франции, с целью последующей перепродажи в Японии. Как только удалось достигнуть предварительной договоренности о покупке, американец доверил рисунок Жоссам, которые должны были показать его своему покупателю. В залог Жоссы оставили американцу чек на сумму в два миллиона франков, что составляло лишь незначительную часть от полной цены, которую просили за рисунок. Такая практика, хотя и не совсем законная, существовала повсюду и считалась общепринятой… В результате многодневных переговоров сделка в конечном счете провалилась. Жоссы вернули рисунок владельцу. Выписанный в залог гарантийный чек подлежал уничтожению — так это обычно происходило. Но они не удосужились проверить, уничтожен ли чек, постеснялись попросить Котсби сделать это в их присутствии, положились на его обещание. И вот, не прошло и месяца, как чек был предъявлен американцем к оплате, в самом что ни на есть законном порядке, через свой банк. Хотя американец конечно же не рассчитывал на то, что чек окажется необеспеченным. Он принимал Жоссов за людей состоятельных, а сами они эту легенду подогревали всеми силами из деловых соображений.
Далее история Вельмонт становилась уже совсем темной. Котсби, американец, имея, видимо, связи во французской полиции, нашел способ оказать на Жоссов давление. Да не просто давление. Ранним утром к Жоссам домой ворвалась бригада полицейских в штатском, которые перевернули верх дном весь дом. Затем обоих увезли в город для проведения обыска уже в галерее. К концу дня Сюзанну Жосс доставили в наручниках в участок — на чеке стояла ее подпись — и освободили только ночью после вмешательства Шарлотты Вельмонт. Однако палку полиция перегнула явно неспроста…
Давая Вельмонт высказаться и тем временем припоминая подробности своей первой встречи с парой, когда, приехав для знакомства с Мольтаверном и не застав хозяев дома, он был вынужден сидеть и ждать их в окружении домочадцев, вздрагивая от воплей попугая, оравшего человеческим голосом, — припоминая эту атмосферу какого-то коллективного помешательства и свои первые впечатления от крохотной докторши в мини-юбке и от ее молчаливого, худосочного мужа, предложение Вельмонт Петр спокойно, но с твердостью отклонил.
Она как будто бы не удивилась его реакции, но не могла скрыть досаду и замолчала. Он стал объяснять, что не может быть настоящим помощником в таком деле. На его взгляд, здесь нужен опыт, чем он не мог похвастаться. Подобные дела, если они и попадали в кабинет, их поручали Фон Ломову или, на худой конец, Клаудиусу.
Но Вельмонт и не думала сдаваться. Будучи в курсе того, что в кабинет и по сей день поступают дела, связанные с авторским правом — сам же Петр и говорил ей об этом, — она попросила поговорить с компаньонами и поспешила сразу пролить свет на вопрос с оплатой. Дело Жоссов не имело отношения к деятельности ее ассоциации. Поэтому услуга должна была оплачиваться как обыкновенная адвокатская работа.
В тот же день вечером, перейдя после ужина с Луизой из столовой в гостиную, чтобы дать Мольтаверну убрать со стола, Петр просматривал папку с делом, переданным ему Шарлоттой Вельмонт, время от времени недовольно мотал головой и вслух делился своими впечатлениями:
— Непостижимо!.. В двенадцать лет собственная мать выставила за дверь! А затем заставляла терпеть ухаживания всяких дальнобойщиков… Ты можешь себе представить? А еще раньше отчим укладывал спать с собой в постель… Вроде бы ничего нового, всё известно, а всё же странно думать о таких вещах. Я хотел сказать, страшно.
Луиза не оторвала глаз от сборника рассказов Карвера, с которым не расставалась второй вечер.
— Как зовут несчастную? — спросила она.
— Девчонку?.. Ее зовут Шарлей.
— Это еще что за имя?
— В простых семьях иногда дают детям имена голливудских звезд.
— Фотографии нет у тебя? — спросила Луиза, подставив голые пятки поближе к камину.
— Девочки?
Петр протянул ей два крупных, в страницу, черно-белых снимка, которые как раз разглядывал, удивляясь тому, что Вельмонт позаботилась даже об этом — о качественных фотографиях. На одном из снимков большеглазая, лет четырнадцати, но быстро повзрослевшая девушка, одетая в дамское платье, сидела на траве, обняв себя за колени. На другом снимке она была заснята крупным планом, с косящими в сторону смеющимися глазами.
— Ничего себе… Да она же красавица! Это ее ты собираешься защищать? — изумилась Луиза.
— Ну да.
— И когда это будет?
— Суд?.. В среду.
— Я пойду с тобой.
— Не знаю, возможно ли. — Петр медлил. — Зачем тебе в суд?
— Пэ, ну пожалуйста! Я ведь в жизни не видела, как это происходит. — Отложив книгу, сев в кресло с ногами, Луиза впилась в него умоляющим взглядом.
— Что ты там увидишь? Я же тебе всё рассказал.
— Она такая… Такая странная история. И на тебя заодно полюбуюсь… Мне ужасно хотелось бы, Пэ. Я же никогда еще тебя не видела в этом наряде. Вы же там в черные мантии одеваетесь, правда?.. У меня в среду свободный день. Ты обещаешь?
— Не обещаю, но посмотрим, — сказал он, понимая, что это желание должно, скорее всего, развеяться к среде само собой.
Какое-то время они молчали.
— Мне всё же бывает так странно иногда, так непонятно… — нарушила молчание Луиза.
— Что, Луизенок?
— Скажи, только честно, Пэ… Ты в Бога, конечно, не веришь. Я имею в виду в такого, который сидит на облаке или на троне, как Нептун с трезубцем. Но в какую-то силу, во что-то высшее, разумное?
Оторвав лицо от бумаг, Петр уставил на нее неуверенный взгляд. Аналогичный вопрос, или буквально тот же самый, он на днях уже слышал, но не мог вспомнить, где именно.
— Просто в силу не верю, — ответил он. — А в Нептуна… Если честно, не знаю. Но если я говорю себе, что Его нет, всё кажется бессмысленным… слишком мелким, что ли, одноразовым. — Он усмехнулся и замолчал.
— Значит, веришь, — заключила Луиза и, встрепенувшись, погрозила пальцем: — Скажи мне тогда, почему у одних людей есть все, а у других ничего? Ну вот посмотри на эту Шарлей на фотографии. Чем она хуже меня? Ему это что, безразлично? Это же несправедливо! А если он нас так любит, почему он допускает такую несправедливость?
Петр отложил папку в сторону и с какой-то неловкостью за необходимость отвечать на такой вопрос раздумывал.
— Не думаю, — сказал он. — Я не думаю, что Ему безразлично. Просто то, что мы считаем для себя несчастьем, бедами, не есть, наверное, несчастье в действительности.
— А что же это тогда?
— Наоборот — благо… — Он пожал плечами. — Но это трудно понять. Трудно этим проникнуться. Ну что мы себе обычно желаем? Всегда чего-то вещественного, чего-то ощутимого или даже плотского.
— Необязательно.
— Да, необязательно, — согласился он. — Но всё равно мы не можем понять. Нам мешает оболочка… всё то, что мы имеем.
— Значит, то, что какие-то дальнобойщики насилуют в двенадцать лет эту Шарлей — это для нее благо? Так получается?
— Мне это так же трудно понять, как и тебе, Луизенок, — сказал он после некоторого молчания. — Вроде бы нет, невозможно. А выходит, что да. Но как можно судить об этом сегодня? Такие вещи нужно рассматривать в протяженности всей жизни человека. Может быть, через десять, двадцать или тридцать лет ей всё зачтется.
На пороге гостиной появился Мольтаверн.
— Я там липу заварил. С медом принести или так?
— Леон, ну что ты постоянно пристаешь со своей заваркой?! — вспыхнула Луиза. — Не видишь, что люди разговаривают?
— Луиза! — попытался удержать ее Петр.
Но Мольтаверн уже успел обидеться и вразвалку поплелся к себе наверх, за рукав схватив со стула свитер цвета морской волны…
Намерение Луизы попасть на слушания в ней так и не перегорело, и Петр был вынужден взять ее в среду с собой в Версаль.
Начало судебного заседания было назначено на полдень. Они приехали к одиннадцати. Уже недалеко от входа в суд он усадил ее за столиком кафе, заказал ей двойной кофе с молоком и объяснил, как затем пройти в нужный зал. Сам же он, не теряя времени, отправился на встречу со своей подопечной, которая по его просьбе была доставлена из изолятора в суд с часовым запасом времени. В присутствии девушки он хотел просмотреть ее досье в заключительный раз, чтобы согласовать последние детали.
Едва ли Петр был поражен видом своей клиентки. Но в его лице всё же появилась тень озадаченности, когда ее ввели в комнату, отведенную им для беседы. Рассчитывая увидеть перед собой приблатненную девушку-подростка, лишенную, как бывает, собственного я, раздавленную тяготами своего положения или изображавшую из себя, что тоже нередкое явление, несчастного ребенка, попавшего в руки безжалостных взрослых, Петр увидел перед собой молодую женщину в скромном приличном платье. В руках — сложенный жакет. Слегка накрашенные губы, несколько детское выражение прилежания на лице, которое бросалось в глаза и на фотографиях, недоверчивый взгляд. В синих, упрямых глазах, с ходу провоцирующих на откровенность, отчетливо проглядывал тот беззастенчиво-наивный блуд, который поражает иногда в подростках. Впрочем, поражало Петра другое — насколько блудливый взгляд девушки напоминал ему некоторые выражения лица Луизы…
Заседание длилось полтора часа. И всё произошло именно так, как он планировал. Приговор не стал сюрпризом. Клиентка отделалась не столь символическим сроком, как ей хотелось бы: три месяца тюремного заключения, с условным отбыванием оставшегося срока до наступления совершеннолетия. На деле это означало, что девушке придется вернуться в стены камеры. Но, поручая Петру дело, Вельмонт на большее не рассчитывала…
В момент объявления приговора Петр заметил, что Луиза, сидевшая в одном из дальних рядов полупустого зала, пребывает под сильным впечатлением от происходящего. Вид у нее был растерянный или даже потрясенный. Он вдруг пожалел о том, что взял ее с собой. Мрачное выражение не сходило с лица Луизы весь день.
Вечер прошел на Аллезии. В этот день Петр помог Луизе перевезти из антикварного магазина небольшой секретер, купленный матерью, который та поручила ей забрать и временно подержать у себя. И уже дома Луиза приняла решение в Гарн не ехать. С утра ей всё равно нужно было идти на занятия. Они спустились поужинать и уже в ресторане заговорили о прошедшем суде.
— Я никогда не видела тебя таким… таким важным. Нет, правда, Пэ… Ты был — класс! В этом черном балахоне… А она… Говорят, что в курятнике так всегда происходит… — пыталась Луиза объяснить что-то непонятное. — В курятнике пощады не дождешься. Стоит одной курице заболеть, захромать, как все набрасываются на нее и заклевывают. Вот как мы живем! Она так была похожа на больную курицу, Пэ… видел бы ты со стороны!
— А я тогда на кого? — спросил он, радуясь ее оживлению. — На драчливого петуха?
— Да, было что-то от петуха… Как ты точно заметил! Только не от драчливого. Ты как-то странно топчешься, когда разглагольствуешь на публике.
Петр кивнул, пытался что-то припомнить, после чего с грустью добавил:
— Да, удивительно. Многим кажется, что если женщина наделена внешностью, то она не пропадет, что ей… как бы это сказать?.. Больше дано шансов. А видишь, что получается. То, что происходит в реальном мире, иногда даже трудно придумать. Мир гораздо беспощаднее, чем мы думаем… Да что мы о нем знаем? Что я о тебе знаю? Что ты знаешь обо мне? — рассуждал он уже шутливым тоном, следя за ее реакцией смеющимся, совсем другое выражающим взглядом. — Ну, скажи, Лисенок?.. Так вот и со всеми, наверное.
— Да, ты прав, — согласилась она с серьезностью. — Я об этом часто думаю. Что я про тебя знаю?
Внутри у него дрогнула какая-то струнка. Петр сделал вид, что не понял сказанного.
— Ну, кроме того, что живем вместе… — продолжала Луиза развивать тему. — Спим вместе, занимаемся всякими упражнениями, как в индийских брошюрах… А потом что? И страшно, знаешь, и тошно становится.
— Зачем ты так? — Чем-то вмиг напуганный, Петр даже отпрянул. — Это ведь разные вещи.
— Сам же только что сказал! Скажи мне… — Луиза в нерешительности медлила. — А нельзя для нее что-нибудь сделать?
— Для девчонки?
— Да! Что обычно делают?
— Не знаю… — Петр чувствовал, как его наполняет теплая волна благодарности. — Что же ты можешь сделать, душа моя?
— Какую-нибудь новую жалобу нельзя подать? Ведь не могут же они так…
— Это невозможно, — вздохнул он и продолжал изучать ее умиротворенным взглядом. — Всё закончилось не так плохо, поверь мне.
— Или послать ей что-нибудь… Посылку, например, или немного денег? Всё это, конечно, ерунда, но всё-таки? Кто-то вроде позаботился, понимаешь? Как только я пытаюсь встать на ее место, мороз так и дерет по коже.
— Денег? — переспросил он, подняв на нее удивленный взгляд. — Конечно можно. Но что это изменит?
— Да ничего не изменит! Но ты же понимаешь…
— Ты действительно хочешь, чтобы я это сделал? — спросил Петр.
— Пожалуйста, Пэ. Пошли! — взмолилась Луиза, вдруг сияя всем лицом. — Мы вместе это сделаем! Немножко, символически… Мне как-то тяжело обо всём этом думать. Дурно становится. Ну, понимаешь? Если бы я там, на суде, не присутствовала — это было бы другое дело. А я была, видела. Это уже не где-то там, за облаками… Ну как объяснить?
— Я понимаю, — сказал он.
— Какое-то гадкое, гадкое чувство… — Луиза показала себе в живот. — А мы сидим в ресторане и набиваем себе кишки всякой дрянью…
На следующий день Петр послал своей подопечной почтовый перевод, равный по сумме небольшому, но всё же причитавшемуся ему за работу гонорару, приложив к нему пятьсот франков, добавленные Луизой из своих личных денег. Луиза сопроводила свой жест короткой запиской:
«Дорогая Шарлей! Мы с вами не знакомы. Но адвокат, который защищал вас на суде в среду, он мой друг. Вместе с ним мы и решили послать вам эту скромную сумму. Мы в этих деньгах не нуждаемся. Примите их просто. Я всем сердцем с вами. Крепитесь, всё будет хорошо. Всего вам самого лучшего, Л. Б.»
Первые эмоции в адрес отца в Луизе вскоре перегорели. Уже по истечении нескольких дней все разговоры на эту тему и недомолвки стали ей казаться преувеличением. Зачем делать из мухи слона? Уже сами факты, инкриминируемые отцу, выглядели неправдоподобными или, во всяком случае, недостаточно весомыми для того, чтобы напрямую влиять на отношения между ними.
Отношения с отцом вернулись в прежнее русло. Но в них не было былой непосредственности. Прежняя растерянность захлестывала Луизу не меньше, чем прежде, и по-прежнему заставляла леденеть от своих сомнений. Больше всего сегодня удивляло то, что между ними появилась какая-то необъяснимая двусмысленность или даже фальшь. Луизе казалось, что отношения с отцом теперь подчиняются каким-то зыбким, невидимым ограничениям и что она вынуждена принимать чуть ли не меры предосторожности, чтобы не выйти за их рамки. Как это произошло? В какой момент? Кем эти ограничения были навязаны и для чего?
Разобраться в себе ей не удавалось. Хотелось поговорить с Петром, он худо-бедно понимал, что происходит. Но она откладывала этот разговор со дня на день, чувствуя, что всё еще не находит в себе нужных слов, чтобы объяснить всё то, что творится у нее на душе.
Безотчетность и противоречивость чувств к отцу тем временем повергали ее буквально в ступор перед принятием самых простых решений. А в какой-то момент путаница срослась в такой комок, что ей уже не верилось в возможность его распутать. Первое время мучило отвращение к нечистоплотности, к грязи, как ей чудилось, которую подразумевала под собой двойная жизнь отца. Чувство отвращения усугублялось еще и от смутного страха стать жертвой предательства, на которое близкий человек, казалось бы, не способен. Это был страх (и даже он казался немного предательским) лишиться той невидимой опоры своего существования, возможности опираться на естественное, казалось бы, ничем не обусловленное единство, существующее между близкими, чему они не придают значения, пока не получают как следует по голове, пока до них не доходит, что лишиться всего этого проще простого. Но в душе как-то не приживалось, не находило себе места сделанное Луизой открытие, что жизнь других людей, являющихся частью этого единства, тех, на ком держится кажущаяся гармония, в подчинении которой до сего дня протекала жизнь каждого из них, не ограничивается общими для всех интересами. Жизненные интересы у всех, оказывалось, свои. Каждый жил, оказывалось, своей жизнью. Ничего удивительного в этом вроде бы не было. И тем не менее какая-то прежняя правда о жизни, более непосредственная, чистая, оказывалась сведенной тем самым на нет. Всё разом превращалось в фикцию. Всё вдруг казалось каким-то примитивным и жестоким обманом.
И уже позднее, когда буря в душе утихала, верх в сердце брали, как всегда, не эмоции и не требования рассудка, а безрассудная внутренняя потребность верить в лучшее, на чем, вероятно, и зиждутся отношения между людьми вообще, не только близкими. Изначальная непримиримость уступила место всепронизывающей жалости к родителю. Неотвязные мысли о том, что он не может не страдать от тех же противоречий и от тех же сомнений, примиряли с отцом, а заодно и с грязноватой прозой жизни, с собой.
Отец сильно изменился. Это бросалось в глаза даже в его внешности. Он стал больше прежнего хлопотлив, проявлял болезненную щепетильность по каждому пустяку, завел привычку звонить ей чуть ли не каждый день, внезапно повысил ей содержание. Уже в третий раз отец переводил на ее счет в Париже вместо восьми тысяч, как делал прежде, двенадцать тысяч франков. И как Луиза узнала от брата — с приездом матери к нему в США брат тоже стал ей иногда звонить, — отец повысил содержание и ему.
Не совсем понятным оставалось отношение отца к Петру. Отец не переставал о нем расспрашивать. Но в тон вкрадывалась какая-то настороженность. Ворвавшись в жизнь Петра со своими домашними дрязгами, отец почему-то не считал нужным объясниться с ним теперь, после того, как всё утихло. Луизе иногда казалось, что, проявляя нерешительность или даже малодушие, — раньше этого за отцом не водилось, — он просто ждал, что она возьмет эти объяснения на себя. Поведение отца могло объясняться и тем, что он начинал догадываться, какие отношения связывают ее с дядей, и что он просто не знал, что делать в этой ситуации. Но эта мысль Луизе казалась невыносимой…
Когда в конце марта отец неожиданно вернулся к своей старой и, казалось бы, похороненной идее купить ей в Париже квартиру, раз уж появилась очередная возможность, Луиза приняла эти разговоры поначалу в штыки.
Дальний родственник отца по матери, его троюродный дядя, живший в Париже и имевший какое-то отношение к полиграфической промышленности, собирался продавать свои апартаменты на улице Нотр-Дам-де-Шам. Из-за многолетней, не поддающейся лечению астмы большую часть года ему приходилось проводить в Бернских Альпах, неподалеку от Интерлакена. И теперь он намеревался приобрести в тех краях постоянное жилье, чтобы больше не тратиться на аренду. С этой целью он планировал расстаться с квартирой в Париже.
По словам отца, квартира находилась в прекрасном районе, в двух шагах от бывшей мастерской Фернана Леже. Закрытый тихий дворик. Новое, небольшое четырехэтажное здание, построенное лет двадцать тому назад, но вписывающееся в стиль близлежащих старых строений. Терраса, две спальни, большая гостиная с двойной высоты потолками за счет убранного когда-то межэтажного перекрытия — просторное, полное удобств, первоклассное городское жилье. Родственнику принадлежала еще и часть крыши здания, где он устроил настоящий цветник. Цена квартиры переваливала за два миллиона. Но, по утверждениям отца, последнее слово оставалось за покупателем, то есть за ними. При соблюдении кое-каких условий родственник готов был снизить цену процентов на десять.
Луиза не понимала, из каких средств отец собирается раскошелиться на подобное приобретение. Ведь еще вчера, на день отъезда матери в Нью-Йорк, та не знала, где взять деньги на билет и на пропитание. Объяснения отца, что необходимая сумма может быть получена с продажи принадлежавших семье акций дочернего парфюмерного предприятия, которое приносило будто бы одни убытки и закрытие которого было якобы не горем, а спасением, звучали неубедительно уже потому, что мать всегда противилась «разбазариванию» тех средств, которые ей самой достались в наследство.
Как бы то ни было, казалось очевидным, что отец решил сделать широкий жест. Одним махом он хотел поправить свою репутацию, вернуть себе утраченную роль главы семьи. Тем труднее, однако, было его отговаривать.
Когда мать в очередной раз позвонила, Луиза поделилась с ней новостями насчет квартиры.
— Пусть покупает, конечно… Ты же не будешь жить вечно по квартирам родственников. — Мать с ходу всё одобряла, но с некоторой медлительностью, с заметным безразличием. — Нужно устраивать свою жизнь, Луиза… Не забывай об этом, ради бога… А что за квартира? Ты ее видела?
— Гигантская, как я поняла. Терраса, крыша… Ну знаешь, с собственным выходом наверх. На крыше оранжерейка — на велосипеде можно кататься.
— Обязательно сходи посмотри. А потом расскажешь… До моего возвращения это не может подождать?
— По-моему, нет.
— Луиза, ты же у меня взрослая девочка… Да или нет? — заговорила мать тем голосом, который обычно брал дочь за живое. — Так вот и прими решение самостоятельно. Тебе ведь там жить. А потом разберемся, что к чему…
Когда Петру стало известно о затее Арсена с квартирой, он занял позицию выжидательную. Недоумение вызывала не только горячка, с которой Арсен взялся провернуть сделку с недвижимостью. Даже если к делу и можно было относиться как к обыкновенному капиталовложению: покупка квартиры в этом смысле никого ни на что не обязывала, неожиданными были бы разве что растраты в счет общего имущества, которое еще вчера все собирались отвоевывать друг у друга через суды. Этот аргумент не имел в глазах Петра достаточного веса и по другой причине: будучи дельцом-профессионалом, Арсен умел размещать избыточную ликвидность во что-то более доходное, чем квадратные метры жилплощади.
Казалось непонятным, почему Арсен, добровольно затронув эту тему во время их прошлой встречи, вдруг перестал посвящать его в свои планы. Ведь он не мог не понимать, что всё, что связано с Луизой, отныне касается его непосредственно. Еще большее удивление вызывал тот факт, что Арсен в начале апреля наведывался в Париж и вместе с Луизой ходил осматривать квартиру на Нотр-Дам-де-Шам, но во время этой побывки даже не удосужился дать о себе знать.
Луиза уверяла, что не смогла предупредить о приезде отца. Тот нагрянул будто бы как снег на голову. Приезд выпал как раз на те дни, когда сам он оставался в Версале допоздна, работая над срочным досье, и они не виделись три вечера подряд. Она уверяла, что отец провел в Париже всего два дня и что он с утра до вечера пропадал по своим делам, прежде чем уехать в Бельгию. Объяснение звучало неубедительно: она сообщила об этом с недельным запозданием…
Квартира понравилась Луизе с первого взгляда. Высотой стен, застекленным потолком в главной комнате, белизной панелей, планировкой, чистотой и особенно современной комнатной печью с никелированным дымоходом, которая была установлена прямо посредине гостиной и в окружении диванов выглядела не просто уютно, а впечатляюще — прямо как за городом, а не в городской квартире. Да и к интерьеру руку приложил дизайнер-профессионал.
Всё решилось в считаные часы. Однако квартиру решили не покупать, а пока лишь снять ее, уже с текущего месяца, подписав договор на годичный срок, с тем чтобы Луиза пожила здесь какое-то время и осмотрелась, прежде чем придется принять окончательное решение.
В считаные дни были улажены формальности, Брэйзиер выделил дочери бюджет на покупку мебели, если ей захочется что-то сменить; до принятия ими окончательного решения родственник ограничился вывозом библиотеки и ценных вещей, всё остальное он оставил в пользование. И уже через неделю был назначен день для переезда на новое место…
Луиза предпочла приурочить переезд к субботе. Отец не мог задержаться в Париже до этого дня. И Петр пообещал взять на себя главные хлопоты. Но после отъезда отца Луиза отговорила Петра от участия в перевозе вещей. В его помощи больше не было необходимости. Американец МакКлоуз пообещал привести целую бригаду друзей и знакомых…
Дожидаясь прихода МакКлоуза, который пообещал взять напрокат мини-фургон и приехать с обещанными помощниками, Луиза открыла окна, обложила подоконник подушками и, забравшись на него с ногами, листала томик Мишимы, на днях подаренный одним из друзей американца. Поминутно отрываясь от книги, она спускалась босыми ногами на паркет, что-то вновь перекладывала и перепроверяла, опять крошила остатки белого хлеба голубям, которые целой стаей осадили соседский балкон.
Утро выдалось теплое, солнечное. Уезжать никуда не хотелось. И тем более очевидным казалось, что переезд не нужен, затеян зря. Еще с вечера ее одолевали сомнения. И не только в переезде. Путаница с отцом, с Петром, с друзьями, которые вечно чего-то не могли поделить, — всё это отравляло жизнь, а не только настроение. Думать обо всём этом не хотелось. Хотелось просто сидеть не двигаясь на солнце и смотреть в открытую книгу. Но читать тоже не получалось. Не удавалось запомнить содержание прочитанной страницы. Когда в дверь наконец позвонили, Луиза испытала некоторое облегчение.
На пороге вырос Робер. Уже по одному выражению его лица не трудно было догадаться, что он пришел раньше всех не просто так.
Луиза вернулась к окну, забралась на прежнее место и, не удостаивая гостя вниманием, стала что-то быстро штриховать карандашом в блокноте.
Разглядывая приготовленные для вывоза вещи — чемоданы, коробки, чехлы с одеждой, мелочи из мебели, сдвинутые к передней, — Робер прошелся по квартире. После чего решил приготовить себе кофе. Казалось, что он просто хочет удостовериться, что, несмотря на грядущие перемены, всё оставалось между ними по-старому, что перемена не упраздняет его прежних прав и привычек.
Робер внес в комнату поднос с чашками, опустился в свободное от вещей кресло, отшвырнул в угол чьи-то валявшиеся мокасины и, потрепав листья высокой, безжизненно обвисшей монстеры, томным голосом спросил:
— Цветы ты разве оставляешь?
— Там их целый ботанический сад. Если хочешь, забери себе, — ответила Луиза, не отрывая глаз от блокнота. — Где застрял МакКлоуз? Скоро двенадцать…
— В прокате теперь всегда надувают. Не хватило машин, и морочат ему голову… — высказал Робер злорадное предположение и, ударив кулаками по пухлым подлокотникам, прошелся взглядом по ее голым икрам. — А может, пробки в городе. Вообще жалко, что ты съезжаешь. Я любил эту квартиру. Целая эпоха для нас обоих.
Метнув в гостя презрительный взгляд, Луиза предпочла не отвечать.
— Да, представь себе… Мне грустно до слез. — Робер сцепил пальцы рук на животе и шнырял глазами по груде вещей. — Нет, скажешь? Было время, когда мы все…
— Давай о чем-нибудь другом…
— О чем о другом?
Луиза нахмурила брови и молчала, понимая, что Робер опять добивается своего, пытается «вывести ее на чистую воду», как он выражался, внушив себе, что последнее время она живет в чем-то мутном и небезвредном для нее, вплоть до ее здоровья. Уже на протяжении нескольких месяцев каждый раз, когда они оставались наедине, Робер не мог говорить ни о чем другом.
— Ты хочешь сказать, что было время, когда все мы спали кучей вот в этой постели? — с раздражением уточнила Луиза. — Что было, то прошло… Время групповухи прошло, Робер. Всё однажды проходит. И пора привыкнуть. Ну вот, смотри, что получается: ты приходишь ко мне, я тебе рада, а чем ты платишь? Опять и опять за свое. Как надоело, знал бы ты! Как надоело…
Стараясь не уронить своего достоинства, Робер вынул из кармана пачку «Кэмела» без фильтра, выудил короткую сигарету, постучал ею о помятую пачку, немного удивляя своей жестикуляцией, да и тем, что собирался курить, — до сих пор он был некурящим.
— Какой ты ребенок… — произнесла она.
— Ты очень, очень изменилась, — произнес Робер. — Да, Луиза. С тех пор как твой дядя-розовод…
— Вот на этом стоп! Остановись, пожалуйста, и больше ни слова! — пресекла Луиза; она свесила ноги с подоконника и, исподлобья уставившись на гостя, проговорила: — Ты за этим и явился?.. Я тебе не позволяю смаковать эту тему, слышишь? Если ты хочешь, чтобы мы остались друзьями, Робер… Хочешь или нет?
Робер вроде бы не обижался. Неопределенно поведя головой, он размял шею и вдруг на глазах помрачнел.
— У тебя нет зажигалки? — спросил он.
Она соскочила с подоконника, стремительно прошлепала ногами на кухню и вернулась в комнату с большим коробком хозяйственных спичек:
— На, кури на здоровье! И, пожалуйста, я тебя прошу, Робер, хватит! Ты ведь близкий мне человек… — Она умоляюще наклонила голову. — А кроме этого, ты, между прочим, еще и мужчина. Это тоже немного обязывает.
— Этого ты как раз и не понимаешь, — пробормотал Робер невнятным баском. — Луиза! — провозгласил он, задыхаясь от дыма, не то от наплыва бурных чувств.
— Ну что — Луиза? Что — Луиза?
Резко подавшись вперед, Робер ухватил ее за голые бедра, силой привлек к себе и уткнулся лицом ей в пах.
Чувствуя, как его рука всё выше подбирается по ее бедру под юбку, Луиза оставалась неподвижна, а затем, налившись холодной яростью, сдавленным голосом процедила:
— Убери сейчас же свои лапы… дурачок!
Робер замер и, еще крепче вцепившись в ее ягодицы, вдруг разразился рыданиями. Луиза сбросила с себя его руки, отскочила в сторону и вне себя от ярости проговорила:
— Я тебе запрещаю! Ты понял? Чтобы это было в последний раз! В следующий раз…
Не пряча лица, по которому скатывались крупные, мутноватые слезы, Робер откинулся на спинку кресла, вцепился кулаками за подлокотники и бормотал:
— Луиза… я ведь ничего, ничего от тебя не хочу. Только…
— Только что? Затащить меня в постель?.. Время от времени? По старой дружбе — это ты хочешь сказать?
— Нет, ты не понимаешь…
— К чему тогда эти лапания? Почему ты меня доводишь? Робер, ты прекрасный парень. Но я… я больше не отношусь к тебе как к мужчине, заруби себе это на носу!
Робер уронил глаза в пол, быстро, взбудораженно дышал, производя впечатление человека обреченного и невменяемого. Она впервые видела его в подобном состоянии.
— Чтобы это было в последний раз, — повторила она. — Ты понял меня?
— Я ему устрою… — пробормотал Робер.
— Что-что? Повтори, пожалуйста! Кому это ты устроишь?
— Твоему розоводу… Этой скотине дядечке. У тебя нет выхода.
Луиза застыла в оцепенении. Глядя на бывшего любовника и близкого, как она считала, «друга», она впервые отдавала себе отчет в том, что разговоры об их былых отношениях он заводил неспроста.
— По-моему, у тебя там что-то заскочило… Ум за разум зашел… — Обняв себя за локти, Луиза стала разъяренно расхаживать между чемоданами. — Нет, не ожидала от тебя такого…
Раздался звонок в дверь. Понимая, что нелепо открывать дверь, пока Робер сидит в кресле со слезами на глазах, Луиза медлила.
— Иди, пожалуйста, в ванную, — приказала она.
Робер покорно встал и, качаясь, заковылял из комнаты.
В переднюю с шумом ввалился МакКлоуз. За его спиной виднелось еще пять силуэтов, пять физиономий. Молодые люди все как один были в джинсах. Двое — в кепках, насаженных задом наперед. Все с любопытством глазели на хозяйку. Все вместе они, видимо, и приехали в арендованном фургоне.
— Знакомиться, думаю, не будем… Некоторых ты уже знаешь. Извини, что опоздали… — лопотал, улыбаясь, МакКлоуз. — Твой чек не хотели брать под мои документы, пришлось заплатить наличными. Машина под домом. Правда, посреди улицы, поэтому… — Быстро всё же представив ей двоих незнакомых парней, МакКлоуз принялся распоряжаться, но, поскольку роль была для него всё же непривычной, у него появился резкий американский акцент. — Начнем с крупных… Коробки потом… В лифт диван не влезет…
Двое незнакомых Луизе парней — один из них, блондин, был в шерстяном пиджаке, другой носил остроносые сапоги, черные круглые очки и вряд ли был французом — с готовностью принялись разворачивать диван, годы назад купленный отцом на аукционе еще для ее детской спальни, — Луиза не хотела с ним расставаться. Другие подхватили секретер, недавно купленный матерью, который она успела укутать в шерстяное одеяло. МакКлоуз, вдруг оказавшись лишним, стал готовить для выноса мелкие вещи, которые загромождали прихожую. Он подхватил столик с лампой, сумел водрузить на него еще и чемодан, коробку с книгами и стал протискиваться к выходу.
Когда Робер вырос на пороге ванной, МакКлоуз оглядел его, да и Луизу, с веселым удивлением, скорее всего догадываясь о том, что между ними произошло. Осветив свою скуластую физиономию молчаливой всепонимающей улыбкой, МакКлоуз поддал Роберу по плечу, многозначительно вздохнул и попросил его вынести к лифту коробки, мешавшие проходу.
Новой квартиры Луизы Петр еще не видел. В субботу, в день переезда, он приехал на улицу Нотр-Дам-де-Шам немного раньше, чем они условились, и был в легком, возбужденном настроении.
По-домашнему одетый в джинсы и свитер, с пышным букетом белой сирени в руках и с бутылкой шампанского, он топтался перед огромными запертыми воротами, не зная, как войти во двор. Луиза не предупредила его, что на входе во двор придется набирать код.
Ему удалось войти лишь через десять минут, раскланявшись с пожилым жильцом, который возвращался домой, выгуляв черного лабрадора.
Вымощенный и вытянутый вглубь обширный двор, наглухо замурованный со всех сторон стенами старинных зданий, выглядел на редкость ухоженным. Полностью изолированный от улицы, так что городской шум сюда почти не проникал, двор утопал в тени зеленых насаждений. По центру была разбита большая клумба. Несколько кадок с папирусами и фикусами были выставлены на улицу вдоль стены невысоких, видимо более поздних пристроек, в которых размещались офисы. Небольшой, аккуратный палисадник окружал и невысокое здание в четыре этажа, высившееся в конце двора особняком, — по описаниям нужный ему дом.
Вызвав лифт, Петр поднялся на последний этаж и позвонил в лакированную дверь, на которой уже красовалось имя: «Брэйзиер Л.», а под кнопкой звонка была приклеена временная картонка с надписью: «Просьба звонить долго и упорно!»
Дверь распахнул МакКлоуз.
— Питер! Сто лет, сто зим! — Американец выставил ладонь для пожатия.
— Здравствуй, Тимми… Переехали? Всё нормально?
— Да давно уже… Вы что-то исхудали. Заработались?
Петр протянул сирень МакКлоузу. Но и сам не знал почему.
— Сами отдадите, — сказал тот и посторонился.
МакКлоуз провел его в большую и, видимо, центральную комнату. Петр не ожидал застать здесь гостей в таком количестве. В высокой светлой комнате находилось человек пятнадцать молодых людей, парней и девушек, которые сидели кто на кожаных диванах, кто на стульях, расставленных вокруг длинного низкого стола. Ведущие на террасу раздвижные двери были распахнуты настежь. Там курили. В одном из молодых людей, вернувшихся с террасы в гостиную, Петр узнал своего шантажиста Робера. На молчаливый кивок Петра тот ответил презрительной усмешкой.
Луиза, не замечая его появления, копошилась над подносом с закусками, которые выкладывала на блюдо, стоявшее на низком столике. Какой-то незнакомый малый лет тридцати тут же откупоривал бутылку шампанского. Несколько уже оприходованных бутылок стояло под столом. Все наперебой тараторили, и казалось непонятным, как гости могли слышать и понимать друг друга в таком гаме.
Заметив Петра, Луиза подлетела к нему, схватила его за рукав, вовлекла в гущу гостей и громогласно представила его всем, кого он еще не знал, то есть большинству:
— Кто хочет, может звать его Питером! Кто хочет — Петром! — пыталась перекричать гостей Луиза. — Самый настоящий, самый лучший, самый порядочный адвокат всего Парижа!
Петр слегка поклонился. И не успел он получить в руки широкий, приземистый бокал с шампанским, как Луиза, снова растягивая рукав его свитера, повлекла его в соседнюю комнату, хотела сразу показать квартиру. Из смежной комнаты они попали в коридор, застеленный ковром и ослеплявший белизной своих стен со стеклянными фрамугами по всей длине потолка. С мягким упреком Петр спросил:
— Луиза, зачем говорить всякую чепуху… Что они все подумают?
— Не волнуйся… Что надо, то и подумают… — Она подступилась к нему вплотную и прильнула горячим ртом к его уху. — Я никогда не знаю, как тебя представлять… Да им же всё равно до лампочки, ты не переживай. Ну, скажи, что ты думаешь?.. Тебе нравится? Или всё-таки по-мещански?
Не успел он ответить, как Луиза толкнула дверь в ванную комнату, просторную, отделанную под потолок бледно-голубым кафелем. Ванная была столь же светлой, ослепительно-белой, как и вся квартира. После чего она провела его в спальню, затем в другую, более просторную. Слегка приперев дверь, она обвила руками его шею и разгорячено зашептала:
— Я бы их всех выставила к черту, Пэ… Давай выставим, чего нам стоит?
Он с трудом владел собой. Поймав ее за запястья — этот жест вошел в привычку, — он с усилием прижал ее руки к телу и с молчаливой строгостью глядел ей в глаза.
Луиза судорожно обмякла, и они вышли на террасу, которая сообщалась со всеми комнатами квартиры, а через террасу вернулись в гостиную.
Петр не ожидал увидеть подобных апартаментов, как не ожидал обнаружить в себе всех тех сложных, смутно-несправедливых и, в сущности, тяжелых чувств, которые вспыхнули в нем в первую же минуту, как только он переступил порог квартиры. Он только теперь с ясностью сознавал, что переселение Луизы на новую квартиру не входило в его планы. Ее независимость обретала отныне реальную почву. А комфорт нового жилья придавал этой независимости что-то вдвойне, как ему казалось, незаконное…
Теплые и ясные весенние дни стояли уже больше недели. Город менялся буквально на глазах. Стоило не побывать на знакомых улицах всего один день, как они становились неузнаваемыми. Повсюду распускалась листва. По утрам воздух оставался еще свежим, но к концу дня успевал разогреваться до духоты жарких летних будней. В атмосфере городских улиц наступление весны чувствовалось даже сильнее, чем в окрестностях города, хотя внешне перемены там больше бросались в глаза.
Занятия у Луизы шли с перебоями. Весенняя новизна чувствовалась даже в том, что добрая половина всего студенческого потока на лекции не являлась. В светлых, разогретых солнцем и безлюдных аудиториях царила атмосфера томительного ожидания, и это ожидание вливало в душу немое ощущение уюта и какой-то беспечной самотечности. Вырываться из этого состояния, оказывалось куда труднее, чем им проникнуться.
Из-за массовых пропусков назначенные на конец апреля практические работы едва не оказались сорванными. Занятия предполагалось провести в близлежащем парке, который только-только перестроили и наново озеленили, с тем чтобы студенты курса смогли «переснять» рельеф и предложить проект новой, более оригинальной реконструкции парка.
В учебную программу это практическое занятие не входило, оно было очередной новацией ассистента Бертоло, педагогические новшества которого удивляли не только штатный преподавательский состав, но подчас и самих студентов. Несмотря на свои громогласные заявления, что целью учебного процесса является слияние теоретических знаний с «потребой дня», со всей той демагогией, которая неизбежно сопутствует этим древним, как мир, профессорским притязаниям — демагогией по поводу специфических и без конца возрастающих требований к «современному искусству», — высший преподавательский состав давно оброс таким консерватизмом, что производил впечатление коллектива законченных неудачников, которых мирила между собой разве что всеобщая заинтересованность в своих рабочих местах и будущих пенсиях. Хоть под конец своей карьеры они начинали понимать, что зарабатывали на жизнь не так уж плохо, как им всегда казалось.
Бертоло был единственным на кафедре, кто не подпадал под эту категорию. И он не мог не снискать себе симпатий. Он умел, что называется, заинтересовать предметом, а точнее, умел искусно лавировать между инертными потребностями студенческой братии, частными нуждами профессоров и официальными требованиями к учебе. Любили его и за независимый тон, с которым он противостоял вышестоящей профессуре, за то, что он не стеснялся вставлять палки в колеса штатным преподавателям, конкурировал в авторитете с главой курса, чем и наживал себе частенько неприятности. Бертоло чтили и за то, что он постоянно расплачивался за всех в кафе, а также за вечеринки, которые он время от времени устраивал у себя дома.
Жил он в 20-м округе, в большом, полупустом, причудливо перестроенном лофте. В организации сабантуев на дому, которые не выходили за рамки передовой дидактики. Аапельсиновый сок на вечеринках лился рекой, а дым марихуаны, как Бертоло с ним ни боролся, бывал иногда гуще, чем предрассветный туман, — так отзывались о вечеринках злые языки. В вечеринках принимала участие и его жена, чистокровная японка, выросшая в Европе. Своим присутствием она иногда приводила студенток в отчаяние, тех, что посмазливее, поскольку была довольно красивой зрелой женщиной, словно живая картина воплощая собой тот особый восточноазиатский тип несовременной женской красоты, с чистым молочным лицом без всяких прыщиков, с тающими, но полными практичной строгости глазами, с кроткой непосредственностью в манерах, проявлявшейся в каждом слове и жесте, простота и отточенность которых не могли не подавлять своим неприступным превосходством.
Сецуко Бертоло работала в дизайнерском бюро. Заодно, как и муж, преподавала прикладное искусство, но не в Париже, а в Женевском университете. Этим и объяснялись ее частые отъезды. Обоих супругов отличала страсть к общению со студентами. По слухам, Бертоло попал в ассистенты после того, как, ринувшись отстаивать какие-то несгибаемые принципы, завалил блестяще начатую карьеру дизайнера, перессорился с какими-то боссами и оказался разочарованным во всём на свете. В результате бедняге пришлось искать более простой способ для самоутверждения, а без этого он жить не мог, — преподавание. И вряд ли он просчитался.
Эктору Бертоло было за тридцать. Он был крепколиц, скуласт, породист, с правильным мужским лицом, которое украшала вертикальная волевая ямка на подбородке. Ни для кого из сокурсников Луизы не было секретом, что Бертоло питает к ней слабость. Как, впрочем, и многие другие. Но это оборачивалось для нее не поблажками, а, наоборот, непомерными требованиями. Бертоло во всеуслышание утверждал, что у Луизы Брэйзиер «спящий талант», а талант человека, мол, обязывает. Как перед самим собой, так и перед другими. И под предлогом своих явных заблуждений на ее счет ассистент-преподаватель требовал от нее больше, чем от всех остальных.
Никакими особыми талантами Луиза не отличалась. Сама она это прекрасно знала, как это знает любая разумная женщина, привыкшая смотреть на себя в зеркало. Рядом учились и поталантливей. Что ее выделяло из общей массы, так это умение схватывать на лету. Но это оборачивалось другой проблемой: быстрый ум иногда лишает упорства, усидчивости. В итоге она хватала всё по верхам и не умела посвятить себя чему-либо до конца.
Однокашница Мона Розальба утверждала, что Бертоло законченный бабник. Ведь он столбенел при виде любой белокурой девушки. Иногда это якобы выражалось в патологической робости, в которую он впадал, как школьник, при виде особи слабого пола, которая чем-то привлекала его внимание. Чему и удивляться: «сублимация» подобных «комплексов» происходит через «вытеснение одного другим», поучала Луизу подкованная Мона. Это и приводило к ожесточению, к мании подтрунивать над всеми, особенно над девушками, которые умели за себя постоять. Мона могла обсуждать эти темы часами…
На знаки внимания со стороны Бертоло Луиза отвечала предписанным ей равнодушием и неприступностью. И едва ли отдавала себе отчет, что тем самым лишь еще больше разжигает чувства, не находившие себе выхода…
На май Бертоло готовил серию «культпоходов» в музеи современного искусства. Помимо выставок, планировались ознакомительные экскурсии в исследовательские лаборатории при научно-исследовательском центре. При каком именно, пока не уточнялось. На конец семестра Бертоло намечал проведение обзорного курса по основам фундаментальной физики и прикладной математики. И хотя никто и никогда не ставил под вопрос сами его педагогические таланты, студенческая братия ждала от очередных новаторств Бертоло какого-то провала, уж слишком бредовые он выдвигал программы. И никому не хотелось пропустить этот момент. Отчасти поэтому посещаемость на время улучшилась.
С началом весны Луиза тоже не пропускала ни одного занятия. Не понимая причин столь внезапной добросовестности, Бертоло подтрунивал и над этим…
Одним из излюбленных педагогических методов Бертоло, к которым он прибегал для поощрения в студентах «стадного инстинкта» — крайне необходимого для их креативного будущего, как он язвил, для их ориентации в тенденциях, которые движут «стадами людей в разных странах, в разные периоды их коллективного помешательства», — таким методом стали приглашения на всевозможные мероприятия, проходившие в иллюзорном мире дизайна и всё той же моды. Бертоло раздавал студентам приглашения в виде компенсаций за хорошую успеваемость. Сам же он бывал частым и званым гостем различных мероприятий, поскольку поддерживал отношения с несметным количеством столичного люда, занятого в самых различных отраслях, смежных с дизайном.
В первых числах мая Эктор Бертоло пригласил горстку своих подопечных на весенний праздник, устраиваемый известным рекламным агентством, с которым то ли его жена, то ли он сам состоял в профессиональных отношениях. В числе шести студентов, которым Бертоло выдал пригласительные на вечер, была Луиза и ее подруга Мона.
Приуроченное к юбилею агентства празднество происходило вечером в Венсенском лесу, в арендованном павильоне. Никто из молодых людей, приглашенных с курса Луизы, не ожидал увидеть ничего подобного — такого блеска, шума, размаха, да и разгула, который, казалось, витал в самом воздухе и которым дышала пестрая толпа. Никто не предвидел подобного столпотворения гостей, какое представало глазам еще на улице перед входом в павильон, освещенный ослепительно-ярким светом, а затем и в самом зале, в который вплывали толпы взбудораженной молодежи.
Просторный высокий зал был разгорожен на две половины. Слева от эстрады, загроможденной музыкальной аппаратурой, был устроен длинный буфет, который обслуживали немолодые официанты в белых пиджаках с бабочками. С другой стороны стояло несметное количество столов, накрытых белыми скатертями. Столы еще пустовали. Уже оживленная, но всё еще робкая, безлично гудящая публика теснилась у входа. Над людской толпой стоял душный, тяжелый сонм запахов, в котором ароматы женских духов и мужских одеколонов смешивались с сигарным чадом.
От пестроты кишащего, с каждой минутой всё более уплотняющегося месива людских лиц и от разнообразия женских нарядов — всех видов, на все вкусы — у Луизы рябило в глазах. Длиннополые яркие платья, переливающиеся перламутром мини, в которых проглядывало что-то не разбитное, а первобытное, повсюду обнаженные женские плечи…
Многие девушки поражали Луизу своей красотой. Молодые люди ее возраста были одеты проще, на некоторых были просто рваные джинсы, пожалуй чрезмерно рваные, чтобы это могло выглядеть естественно. Но была публика и постарше: морщинистые дельцы, одетые кто во что-то горазд — кто в светлое, кто в черное, кто в смокинг, кто в блейзер, кто в будничный костюм с жилетом в полоску, а кто, опять же, в джинсы, но «под шестьдесят восьмой год». Особенно выделялись двое лысоголовых мужчин, которые прохаживались по толпе стеклянными глазами и поневоле приковывали к себе внимание.
Всё это скопление людей сплачивало что-то неслучайное. Что именно, определить было трудно. Но мгновениями Луизе всё же чудилось, что она как будто бы узнавала некоторые лица, узнавала лица людей, которых никогда не встречала, и она не могла понять, чем было вызвано это новое ощущение.
Вливавшийся с улицы людской поток вносил новоприбывших в самую гущу зала. Окунувшись в толпу и тут же потеряв Мону, Бертоло и остальных сокурсников, Луиза чувствовала себя белой вороной. Туалет ее явно не соответствовал стилю вечеринки. Вернее было бы сказать — полному отсутствию каких-либо требований к стилю. Темно-серая габардиновая пара с короткой юбкой явно выглядела на ней слишком строго, слишком целомудренно, как отозвался бы о костюме Петр. И уж во всяком случае, этот наряд не был ни летним, ни вечерним, как на большинстве девушек. И чем больше она чувствовала себя потерянной в толпе, тем всё больший трепет испытывала при виде такого столпотворения незнакомых, красивых, как ей казалось, и бесцеремонно-раскрепощенных молодых людей.
Девушки казались ей уже не просто красивыми, а красивее ее во много раз. Этому чувству не могли помешать блуждающие мужские взгляды, которые она ловила на себе. Луиза вдруг ощущала в себе какую-то неуклюжесть, что-то нелепое, неприспособленное, граничащее с глупостью. Габардиновый костюм тянул в плечах. Испарина и влажность тела создавали ощущение несвежести и сковывали в движениях.
Из толпы вдруг вылетел Бертоло. Едва скользнув по ней взглядом, он мгновенно понял, в чем дело. Бертоло подхватил ее под руку и с этой минуты от себя больше не отпускал.
Официанты начали разносить шампанское. Толпа радостно взвыла и зашевелилась. Живые потоки начали перемещаться из одного конца зала в другой. Но большая часть всё же ринулась к буфету. Другие, поопытнее, предпочитали сразу занимали столики.
Бертоло галантно повел Луизу к столику, который показал ей в дальнем углу павильона, при этом останавливаясь на каждом шагу и приветствуя кого-то, а кое-кому отвешивая поклоны. Усадив ее рядом с собой в компании незнакомых и немолодых мужчин, Бертоло почему-то наблюдал за ней. И как только они встречались глазами, начинал странно таять в лице. Луиза даже не обратила внимания на то, что Бертоло знакомит ее с сидевшими за столом.
Официант в белом принес ведерко с шампанским. Другой обходил стол с подносом, предлагая закуски. Продолжая общаться с сидящими за столом, Бертоло подавал Луизе то бокал с шампанским, то крохотные птифуры в виде корзиночек и пирожков, каждый раз интересуясь у нее, с чем она предпочитает — с икрой, с мясом или с овощами, — при этом он скользил по ней взглядом, полным умиления. То ли резкая перемена, которой она не могла не замечать в его поведении, — Луиза привыкла к тому, что Бертоло держался с ней иронично, холодно, приправляя свой тон насмешками, — то ли всё большая растерянность, охватывающая от того, что ее все ели глазами, то ли выпитое на голодный желудок шампанское, — но она чувствовала себя обезоруженной, лишенной обычных в таких случаях рефлексов и позволяла за собой ухаживать.
К столу приблизилась новая мужская компания. Ее возглавлял как раз мужчина в блейзере с блестящим, жирным черепом и с совершенно безбровым, гладким лицом. Трудно было определить его возраст. Сбоку от него топтался немыслимо грузный, исходящий испариной толстяк в белом пиджаке с бабочкой, с густыми бакенбардами, с торчащими в стороны черными усами, кончики которых были чем-то подмазаны и завиты. Бертоло представил его фотографом. Потными, пухлыми лапами толстяк похлопал Бертоло по плечу — они были хорошо знакомы, — после чего, отделившись от своей компании, оба, и толстяк и безволосый, сели к ним за стол и принялись что-то обсуждать.
Луиза за разговором не следила. От шампанского у нее плыло перед глазами, она даже не заметила, как оказалась в гуще дискуссии.
Безволосый, куривший толстую сигару, поглядывал на нее с каким-то поощряющим любопытством. Но в глазах его не было ничего мужского, интерес его был холодным, рациональным.
Бертоло и толстяк с бакенбардами поднялись из-за стола, чтобы сходить к буфету за шампанским, которым официанты по непонятной причине перестали обносить стол. Не успели они отдалиться от стола, как безволосый в блейзере вкрадчивым, полушутливым тоном спросил Луизу:
— Скажите, вы не хотели бы сняться в журнале?
Луиза залилась краской. Внимание, которое ей уделяли, льстило, но она не знала, как реагировать, не понимала, что тот хотел от нее.
— В каком, простите, журнале? — вымолвила она через силу.
— Сейчас я вам всё объясню… — чуть ли не по слогам выговорил безволосый и, не договорив, развернулся в сторону Бертоло, который уже проталкивался назад к столу без шампанского, высоко подняв перед собой тарелки с закусками, чтобы не испачкать кого-нибудь из столпившейся перед их столом группы молодых людей.
Когда все уселись, безволосый поднял свой бокал перед лицом Луизы и загадочно, с бесцеремонной двусмысленностью, произнес:
— За наши будущие успехи!
Бертоло скептически усмехнулся, догадываясь о том, что произошло в его отсутствие. Он понимал то, чего не понимала пока сама Луиза.
— Ты согласилась? — спросил он. — Они, кстати, еще и платят, да недурно, или я ошибаюсь? — подстегнул он безволосого.
— Разумеется, я говорю о снимках в обнаженном виде, — сказал тот с наглой непринужденностью.
Поражаясь охватившему ее смущению, Луиза не знала, куда девать глаза.
— Ты не пугайся его прямоте, — пришел Бертоло на помощь. — Он, в сущности, равнодушен по женской части.
Безволосый одобрительно усмехнулся, окинул Бертоло ласково-безразличным взглядом, подтверждая миной сказанное, и, откинувшись назад, стал глазеть без улыбки по сторонам. Сделка, по-видимому, не стоила для него выеденного яйца.
— Об этом не может быть речи… — выжала из себя Луиза. — Не понимаю, как вы смеете! — Она всё же осеклась, понимая, что так вести себя нелепо.
Безволосый, словно предвидя ее реакцию, понимающе кивнул и сказал:
— Мне кажется, вы неправильно истолковываете. Речь идет о вполне приличных фото. Ни одна маменька не придерется. Но вы подумайте… — Он запустил пальцы в кармашек блейзера и плебейским жестом протянул визитную карточку. — А вообще Эктор — моя лучшая порука. Если надумаете, сообщите мне через него. Журнал хороший… — Безволосый стал нехотя объяснять что-то по поводу своего «хорошего» журнала, но Луиза была не в состоянии следить за объяснениями, и тот добавил: — Должен вам сказать, что масса девушек… — развернувшись в зал, он показал сигарой в толчею, поднявшуюся из-за рок-н-ролла, — всех этих девушек, я имею в виду… не отказались бы. Обычно мы не делаем таких предложений. Но вы… Вы исключение. Вы очень подходите. Вы француженка?
Бертоло пришел ей на выручку, стал что-то объяснять. А в следующий миг всё опять потонуло в бешеном гаме. Голос ведущего на эстраде, который делал очередное объявление, снова разнесся перекатами по всему залу. Толпа ответила ревом и аплодисментами.
К столу вернулся толстяк-фотограф с бакенбардами. Сидевшие стали подвигаться, чтобы поставить для него дополнительный стул, — его прежнее место уже было занято, — и Луиза отодвинулась, не вставая, от края стола. Толстяк, приветливо тряся щеками и ворча с непонятным юмором: «Благодарю-с, благодарю-с, предостаточно…» — вдруг поставил ножку стула ей на ногу, и не успела она высвободить ногу из-под стула, как тот облокотился на спинку.
Луиза вскрикнула. Толстяк, на миг остолбенев, странно изогнулся. Живот мешал ему наклониться. И он был вынужден расстегнуть пару пуговиц, чтобы его белый пиджак не расползся по швам. Побагровев от смущения, толстяк опустился перед ней на одно колено. Искренне обескураженный, громко сопя, он взволнованно выпытывал:
— Вам больно?
— Нет, ничего… Не страшно, — лепетала Луиза.
— Простите, ради бога. С моими габаритами лучше сидеть дома… — Вспаренный толстяк не знал, куда деваться.
Вновь согнувшись перед ней, фотограф быстро сорвал с ее ноги туфлю, так быстро, что Луиза не успела этому воспротивиться, смотрел в замешательстве то на стопу в чулке, то на продавленный и, вероятно, сломанный носок туфли.
— Я возмещу. Скажите, где вы купили обувь, — проговорил он.
— Не нужно. Ничего не нужно. Пожалуйста…
— Нет, даже разговоров быть не может, — пробурчал толстяк. — Для меня это… вопрос чести. Я всё сделаю через Эктора, хорошо? — Он взглянул, какой марки обувь, кивнул и был готов обуть ее, точно Золушку на сцене, но она успела отнять ногу…
Через час голос с эстрады объявил, что праздник переносится на улицу и что через четверть часа в парке начнется фейерверк.
Взбудораженная, охмелевшая толпа хлынула наружу. Бертоло, чувствуя себя повинным, предпочитал не оставлять Луизу одну ни на секунду. После того как часть толпы зал покинула, он вывел ее на улицу через боковую дверь.
— Идиотизм, надо же! — сказал Бертоло с улыбкой. — Не везет так не везет. Он лапоть еще тот. Я ему устрою…
— Никто не виноват. Случайность, — сказала Луиза, чувствуя себя не то охмелевшей, не то запутавшейся в своих чувствах и ощущениях.
— Я сожалею, Луиза. Он испортил тебе вечер, — сказал Бертоло, впервые обращаясь к ней на «ты».
— Я поеду домой, — сказала она. — Где тут можно взять такси?
— С такси будет сложновато. Я отвезу тебя. Ты можешь меня называть на «ты». Пожалуйста… — присовокупил Бертоло чуть ли не с мольбой.
Дышавшее ночной свежестью, черное, как дно колодца, небо раскроили ослепительные вспышки. Поднявшийся фонтан огней брызгал в стороны цветными россыпями искр. Резкие, но не громкие хлопки раздавались один за другим, сопровождаемые всё нарастающими и всё более разнообразными и причудливыми вспышками. Чуть поодаль из парковой аллеи взревел залп такого же брызгающего крика и свиста. А затем шум стал подниматься и нарастать сразу со всех сторон. Казалось, что толпа решила перекричать канонаду.
На стоянке, запруженной машинами, уже собирались группы отбывающих. В одной компании кто-то похохатывал громким, резким голосом, который показался Луизе знакомым. Одна из машин выруливала на улицу. Но Бертоло оказался прав: такси поблизости не было. Как выбраться из парка, Луиза не знала и решила дожидаться отъезда следующий машины, чтобы попроситься в попутчицы до первой стоянки такси.
Бертоло запротестовал. Он продолжал настаивать на том, чтобы отвезти ее домой на своей машине, и не желал слышать никаких отговорок. Оставаться он тоже не хотел, и Луиза наконец сдалась.
Они прошли к его машине, запаркованной в гуще стоянки под кронами исполинских деревьев. Это был помятый, темного цвета джип с хромированным буфером. Оказавшись с Бертоло наедине, в тесной темноте замкнутого пространства автомобиля, Луиза вдруг ощутила новый прилив скованности, еще более неодолимый, чем только что за столом. Ночная прохлада, не то возбуждение, всё еще не проходившее после шумного зала, толпы и фейерверка, которое она не могла в себе пересилить, вызывали в ней какое-то неприятное волнение и мелкую дрожь.
Не успели они вырулить на дорогу и проехать по темной аллее пяти минут, как Бертоло притормозил и съехал на обочину. Он не знал, в каком направлении ехать. По ошибке они, вероятно, поехали в противоположную сторону. В тот же миг он повернулся к Луизе всем корпусом и, задыхаясь, выговорил:
— Луиза… у меня больше… нет сил. Твоя близость — это пытка. Пожалуйста…
В следующий миг Бертоло проделал то, чего никогда не должен был делать ни под каким предлогом, — но этими заклинаниями Луиза мучила себя уже позднее. Он водрузил свою горячую, дрожащую руку на ее бедро.
Ей показалось странным, что Бертоло, любимый всеми преподаватель, кумир факультета, ратовавший за полную самоотдачу, за профессионализм в любом деле, мог оказаться таким беспомощным и неловким. Он яростно срывал с нее мешавшую ему одежду. Затем столь же яростно проделывал всё остальное, что мужчины проделывают наедине с женщинами, поражая своим животным пылом и уже вскоре глубоким, каким-то мертвым безразличием к ее безвольному дрожащему телу…
Уже через пять минут Бертоло рассыпался в извинениях. Но уже ничто не могло затушить в ней ощущения пустоты, немощи и досады, которые пылали в ней каким-то пожаром. Однако мучительнее всего было сознавать другое и уже позднее. Ей казалось, что, прояви он себя как настоящий мужчина, случись всё это не в машине, а в других условиях, вряд ли она пожалела бы о случившемся…
В понедельник Петр пытался дозвониться на Нотр-Дам-де-Шам с раннего утра, но телефон не отвечал. Недоумевая, не понимая, куда Луиза могла запропаститься на все выходные, он продолжал набирать ее номер на протяжении всей первой половины дня. Жест стал уже машинальным, как Луиза вдруг сняла трубку.
Было начало первого. Она только что встала, была не в духе. Она принялась сумбурно объяснять, что не смогла позвонить ему с вечера, казалась на что-то обиженной.
Не дав ей договорить, Петр попросил ее не уходить из дому, он хотел сразу приехать.
Уже через минуту он сидел в машине. Заранее чувствуя, что не удастся ее уговорить пойти обедать куда-нибудь вне дома, по дороге он остановился купить холодный обед — ростбиф, огуречный салат, дыню, бутылку красного «Макона» и мороженое…
Они не виделись с пятницы. Такие перерывы были редкостью, а тем более редко случалось, чтобы Луиза пропадала без звонка на все выходные. Петр знал, что в субботу вечером она собиралась пойти с сокурсницей на вечеринку, проходившую где-то в пригороде, на которую их пригласил преподаватель. Знал он и о том, что по возвращении с вечера она собиралась ночевать у родителей сокурсницы, тоже за городом — Луиза предупреждала его об этом еще за неделю, — но с субботы она уже не раз могла позвонить ему. И от этой неясности он чувствовал в душе неприятное брожение…
Луиза открыла дверь неодетая. Едва с постели, она выглядела заспанной, разбитой, и, как он и подозревал, ей нездоровилось.
Петр выгрузил покупки на кухонный стол и, вернувшись в гостиную, заставил ее померить температуру, а затем настоял на том, чтобы она выпила парацетамол с витамином С и потеплее оделась. Расспрашивая ее о том, как прошли выходные, он накрывал на стол. Для нее готовил завтрак, для себя уже обед.
— Так себе, ничего особенного… Не знала, как сбежать оттуда, — с безразличием отвечала Луиза.
Она объяснила, что вернулась из-за города только утром. Родители подруги, у которой она ночевала, заметили, что она простыла, и не захотели отпустить ее домой, с воскресенья оставили ее у себя еще на одну ночь, а сегодня утром отец подруги был вынужден отправиться в город по делам на машине, заодно и завез ее на Нотр-Дам-де-Шам.
Петр понимал, что простуда — отговорка. Причина крылась в чем-то другом. Но расспросы тоже были некстати. И он принялся разделывать дыню.
— Ты будешь удивлена, но вот что я решил на это лето… Почему не поехать в тропики? Ты ведь никогда не была на Сейшелах.
С полным безразличием ко всему Луиза продолжала смотреть в стол.
— А ты? Ты уже был? — спросила она.
— Мне было… Это было так давно, — сказал он. — Ты даже не знаешь, где Сейшельские острова находятся, могу поспорить… Можно поехать и в Гваделупу. Вот там я никогда не был. В первых числах июля — это было бы идеально. Когда у тебя конец занятий?
На миг подняв на него глаза, Луиза вновь погрузилась в прострацию, а затем всё же тихо произнесла:
— При чем здесь занятия. Я вообще их скоро брошу. Осточертело всё это…
— Ну вот… — Петр отложил нож, помолчал и налил ей чаю. — У тебя плохое настроение, Луизенок? Что-то нехорошее произошло? Я ведь чувствую, ты что-то скрываешь.
Внезапно соскочив со стула, Луиза отрицательно замотала головой:
— Да ничего не произошло, с чего ты взял… Ты же знаешь, у любой женщины есть такие дни… Ты, пожалуйста, ешь, не жди меня. У тебя ведь обед. Только у меня нет хлеба.
— Могу сходить, хочешь?
— Нет, никуда не уходи. Пожалуйста!..
Не притронувшись к еде, Петр позвонил Анне, секретарше, чтобы она перенесла одну из встреч, назначенную в Версале, на четыре часа. Тем временем Луиза, первым же прикосновением к своей чашке с чаем пролив ее на скатерть, с безжизненной сосредоточенностью на лице пыталась высушить салфеткой чайную жижу.
— Кстати! Я должна отдать тебе письма, — сказала она, когда он вернулся к столу; она поднялась, прошла к дивану и вывернула содержимое своего рюкзака. — В прошлый раз я забрала в Гарне почту и забыла отдать тебе. Прости, пожалуйста.
Взяв из ее рук несколько помятых писем, Петр мельком оглядел конверты. Одно письмо, в продолговатом конверте, было из Бельгии. На другом, потолще, с нестандартной зеленой маркой, стоял французский почтовый штемпель. Петр сунул письма в карман. Но, вдруг окаменев, он вынул пачку из кармана, вновь осмотрел конверт с зеленой маркой, надписанный знакомым почерком, перевернул его, взглянул на обратный адрес, быстро распечатал письмо и пробежал глазами по первой странице.
— Что случилось? — спросила Луиза.
— Черт знает что… — пробормотал он, бледнея. — Я знал.
— От кого?.. От кого это? Если бы я знала, Пэ! Столько дней провалялось.
— Не понимаю, — бормотал он. — Это… от Ломова.
— Который… пропал? Ну вот, а ты сочинял…
Письмо была написано в Москве и датировано двадцатым апреля. Кто-то, видимо, привез его во Францию, потому что на конверте стоял штемпель парижского почтового отделения.
Не удивляйся. Сначала смирись с фактом, а читать будешь потом. Или отложи, прочтешь позднее. Пытаюсь представить, какой удар тебе наношу, но как-то не получается влезть в твою шкуру. Такое чувство, что нас отделяет сегодня слишком большое расстояние…
Пишу из Москвы. Я приехал сюда в ноябре из Уганды. На один день завернул в Париж. Не смог тебе позвонить. Поверь, это было невозможно.
Весь этот год я так и просидел в Уганде, в миссии «белых отцов». Это на юге, неподалеку от озера Виктория. Знаю, что меня искали. Настойчивость поисков говорит сама за себя. Нетрудно представить, каких усилий всё это стоило. Не твоя вина, что поиски ничем не увенчалось. Я сделал всё возможное, чтобы меня оставили в покое и забыли. Каких усилий мне это стоило, не буду рассказывать. В миссию я попал после той истории с контрабандистом, о которой тебе, конечно, всё известно. Но чтобы развеять все легенды, должен рассказать тебе, как всё произошло.
Из Уганды в Найроби мне пришлось возвращаться не с дядей Леопольдом (он слинял по своим делам, довольно темным, ты наверное это понял), а вместе с бельгийцем, за которым я ездил в Уганду. Но ты, конечно, в курсе. Это было в январе, числа уже не помню. Неподалеку от кенийской границы нас нагнал «Пежо-204», в котором сидело трое черных как черти африканцев. Все что-то тараторили, улыбались, слепили своими белыми зубами. Там это умеют делать, ты наверное и в этом успел убедиться. Мой компаньон, бельгиец, соображал быстрее, чем я, и попросил меня приподнять стекло моей дверцы. Но было поздно. В окно что-то успели бросить. Помню, что он прокричал, мой бельгиец, — граната. Помню, что он попытался отстегнуть ремень безопасности и схватить эту штуковину с пола, чтобы выбросить ее из машины. В этот момент я, видимо, и выпрыгнул. В противном случае непонятно, как я остался жив. От бельгийца, по рассказам, осталась пара башмаков. Прости за натурализм. Я отделался легко — потерял два пальца на ноге, получил легкое ранение в плечо и контузию. Попал к местным жителям. Документов при мне не нашли, сообщить обо мне было некуда. В местной больнице прооперировали, вроде бы неплохо. Но антибиотики там дефицит. Начиналась гангрена. Если бы не случай, я бы наверное не выбрался оттуда никогда. Больницу случайно навестил миссионер-швейцарец, приехавший забирать детей. Пока полиция занималась выяснениями, он предложил мне уехать с ним на юг Уганды, в его миссию. Шансов встать на ноги в больнице всё равно не было. Я согласился. Дорогу в миссию я, кстати, не помню, говорят, что я всё время терял сознание.
Швейцарец Жан оказался человеком терпеливым, возился он со мной долго. Когда я очухался (прошло два месяца), мне стало совершенно ясно, что в моей жизни случилось что-то необратимое. Всё произошло к лучшему, в нужный момент. Только поверь мне, контузия здесь ни при чем. Так все и решили бы, если бы я заявил об этом в то время.
Я вдруг начал по-новому смотреть на всё, начал по-настоящему жить, дышать. Никогда до сих пор я не испытывал такой радости жизни. Радости, вызванной самой возможностью открывать по утрам глаза, смотреть на небо с постоянным ощущением какой-то полноты, о которой все мы давно забыли. Чувствовать, что принадлежишь чему-то целому, чистому и безграничному. Это что-то особое. Но я не знаю, какими словами всё это можно передать. Это необъяснимо. Надеюсь, ты поймешь меня. Если не ты, то кто же еще?
Не знаю, случалось ли с тобой что-нибудь подобное, но бывают минуты, когда в голове появляется невероятная ясность. Внезапно трезвеешь и понимаешь одну невероятную вещь — что в твоей жизни еще не было ничего настоящего. А если такая возможность представляется, нужно быть полным идиотом, чтобы ею не воспользоваться. Для этого нужен, конечно, внешний толчок, нужно пережить встряску, нужно очнуться, вот как я, в одно прекрасное утро на дне черной ямы (ямой и казалась мне вся прошлая жизнь). И всё понимаешь в одну секунду. В секунду сознаешь, что со старым покончено, что назад хода нет, что до сих пор всё было ошибкой, но что жизнь продолжается.
Я, кстати, не исключение. Такого отсева, как я, при миссии ошивалась целая компания: бельгийцы экспаты (навеки осевшие в Африке), белые «заирцы» (потерпевшие крах, уж не знаю, когда точно и отчего). Был среди нас бывший наемник и даже русская из Вашингтона, Ольга, попавшая сюда с мужем-американцем, каким-то люмпеном, завербовавшимся в гуманитарную миссию, с которым рассорилась, да так и застряла. Но благодаря ей я и оказался в России.
Трудно передать, в каком я находился положении. Возвращаться не мог. Куда? С прежней жизнью вроде бы покончено. Но как заявить об этом родственникам? Как сказать об этом вам, тебе? Кто из вас поверил бы, что я в здравом уме? Воля обстоятельств взяла бы, как всегда, верх над моей собственной волей. Я уж не говорю о том, что изменить, приостановить ход вещей в нашей стране трудно, неизмеримо трудно, что бы там ни говорили. Так устроен наш мир. Он превращает человека в раба. Какой груз условностей, действительных и мнимых, довлеет над людьми вроде тебя и меня. Какая всех связывает круговая порука профессиональных и личных отношений, вся эта бытовщина квартирных счетов, банковские, страховые обязательства и т. д. Этот мир держит нас при себе на правах вечных должников. Сначала вкладывает в нас, а потом требует отдачи. Беда в том, что на возмещение долгов и дивидендов уходит вся наша жизнь. Мы живем в стране, где больше нет истории, она в ней закончилась. Так вот, я решил, что проще ничего не ломать. Поставить точку одним разом и тихо уйти со сцены.
Поначалу я думал остаться в Уганде. Так делают многие. Это, в сущности, выход. Но не буду вдаваться в подробности. Тамошняя жизнь полна своих проблем. Есть и плюсы и минусы, как повсюду. Ольга, русская из Америки, с которой мы сблизились, должна была ехать в Москву к матери (мама ее болела и скончалась до ее приезда). Никакого решения я принять не мог. Но в конце концов всё решилось само собой. И всё произошло так быстро, сегодня даже могу сказать, что всё так удачно для меня сложилось, что я не могу не верить в помощь провидения.
Всего не расскажешь. В Москве у меня все, слава богу, благополучно. Думаю, что ты мог бы меня навестить. Вот был бы случай обо всём поговорить! Что же касается здешней жизни, то рассказывать нечего, ты всё знаешь. По большому счету здесь вряд ли что-то изменилось с тех пор, как ты сюда ездил. Да и сколько можно говорить об этом? В каком-то смысле везде происходит одно и то же. Россией правят те же, что и раньше, это факт. А кому, если не им? Об этом все почему-то забывают. Иногда я даже спрашиваю себя: как было обойтись без «прежних», без их наглого стремления к самообогащению? Откуда вообще берется «буржуазия», тот класс-катализатор, или компост — кому как больше нравится, — без которого в наши дни не может развиваться ни одно нормальное общество? Вот вопрос, на который пора найти ясный ответ. Кто, кроме буржуазии, кто, кроме отъевшегося мещанина, способен тратить неутомимую энергию на то, чтобы приумножать свои материальные блага, чтобы процветать гедонистическим способом? Единственное, о чем тут можно, конечно, сожалеть, это то, что всё было свалено в одну кучу, что сегодня невозможно разобраться, кто есть кто. Кто и каким образом, какой ценой приобщил себя к этому слою? Путем какого стяжательства, каких несправедливостей? Путем какого наконец кропотливого труда? Ведь и таких тоже немало. Четкая классификация, хотя бы в теории, была бы, мне кажется, полезным назиданием для всех. Но сводить счеты бессмысленно. Ста лет не пройдет, как все эти различия в достатке и в нравственных достоинствах, столь значимые в нашем представлении сегодня, будут смыты временем. Дети тех, кто сегодня кого-то обирает, станут однажды обыкновенными и, может быть, честными людьми. В таланты, в неравенство, в преимущество одних людей над другими в силу своих задатков, в труд как в добродетель — во все эти социальные «функции», достойные той формы организации бытия, которой подчинена жизнь любого муравейника, и на которых зиждется общественное устройство Старого Света, — в это я вообще перестал верить.
Я убежден, что обществом правят более низменные законы. Нам просто трудно это признать. Там, где отношения между людьми регламентируются денежной единицей или массой, правды нет. И искать ее бесполезно. А значит, в этом смысле ее нет вообще. И лучше оставить все эти разговоры. Уповать можно разве что на здравый смысл имущих, на инстинкт муравья, на то, что они не слишком отдалятся от правды — посредством искупления своих подлостей, посредством дележа, справедливого или мнимого, с другими, с теми, у кого меньше или вообще ничего нет. Но если смотреть на вещи спокойно, как всё становится просто! Зря мы себя терзаем. Всех людей, наверное, можно поделить на две группы: на тех, кто не мыслит своего существования без общества, и на тех, кто отказывается верить, что индивид должен и может развиваться внутри общества, кто верит в муравейник. Одни видят мир, скажем, по горизонтали. Другие — по вертикали. Кто прав — не имеет значения. Во все века проблема стояла одинаково.
Поэтому, пусть удивлю тебя, но я уверен, что всё здесь происходит так, как должно происходить. Мир опрокинулся, бутерброд упал маслом на пол. Но горизонталь осталась горизонталью. Вертикаль — вертикалью. К власти пришла та же самая каста «горизонтальных», как везде и всюду. Инертность сытых является, в конце концов, одним из факторов стабильности. Есть ли вообще другой способ удержать общество от «переворотов»? Ведь «вертикальные», при всей нашей симпатии к ним, править обществом не способны. Им было бы легче править целым миром, чем одной страной. Потому что в них не хватает заинтересованности в малом. Им не хватает чувства меры. Они слишком увлечены погоней за вечным, чего нет или очень мало в людской жизни. Об обществе я и не говорю. Всё же остальное, всё то, что пережевывается беззубым шамкающим ртом наших массмедиа, — это отдает старческим маразмом.
В общем, здесь тяжело, трудно. Но веришь в завтра. В Европе легче. Но не веришь ни в какое завтра, торопишься получить всё сегодня же. И в этом абсурде, в погоне за невозможным, проходит жизнь. Но что говорить…
Жизнь не стоит на месте. Возможно, со временем, лет через пять, десять, всё опять сдвинется с мертвой точки. Возможно, я буду смотреть на вещи по-другому. Пока же я не могу перебороть в себе чувства, что спасся от какого-то падения в пропасть. В этой истории одно ужасно — ваши переживания. Но они являются звеньями того же замкнутого круга. Поэтому я даже не прошу у тебя прощения за содеянное. Ты делал то, что делал бы я на твоем месте…
Напиши мне. Ты не можешь себе представить, с каким нетерпением я жду твоего разгрома. Что нового? Что в Версале? По-прежнему ли вся банда вместе? Не рассорились? Но боюсь спрашивать…
Пока прошу тебя ничего не предпринимать. Я уже пишу в Брюссель, в Париж и т. д.
P. S. Два слова о дяде Леопольде. Ему давно было известно, где я нахожусь. Одно время я надеялся, что он поможет мне, поставит вас в известность о том, что со мной всё в порядке. Но позднее я вычислил, методом дедукции, что заблуждаюсь. Дядя Леопольд был заинтересован в моем «временном отсутствии». Не удивляйся. Заинтересованы были те, чьи интересы он отстаивает в Африке. Тут целый клубок интересов крупных частных компаний, торгующих вертолетами, самолетами, пушками и т. д., и аппетитов государственных… Все ведь стараются идти в ногу со временем. Мой «карантин» всех устраивал, ведь никто не мог представить, как я буду вести себя по возвращении. А дело в том, что тогда, в январе, когда я поехал с дядькой в Кампалу, я стал свидетелем некоторых сделок. Там же, в Кампале, у меня открылись глаза на поездки Леопольда по Африке. На моих глазах происходила возня с «израильскими туристами». Но мало того, он пользовался мною и моей бесшабашностью. Словом, то, что произошло на дороге, — следствие. Я думал, что счеты сводили с бельгийцем (в Заире якобы не хотели его показаний). Но затем вывел, что случилось всё это из-за Леопольда. Просто вышла путаница — скорее всего, из-за шляпы и черных очков, которыми я снарядил в дорогу несчастного бельгийца. Покушаться на дядьку могли и ливийцы, и кто-нибудь из Руанды (он мудрил с заирцами, а тех поддерживали израильтяне). Но тут сам черт голову сломит. Я лоялен. Из-за войны в Персидском заливе в регионе всё, конечно, бурлит и бродит. Поэтому можно понять и наши власти. Но будь с Леопольдом осторожен: слишком свято он верит в «честь мундира» и в непогрешимость своих работодателей. Он обязательно тебе позвонит.
— Хорошо то, что хорошо кончается. А всё же невероятно… Какая невероятная история! Что еще за святые отцы? При чем здесь Москва? — недоумевал Мартин Грав, расхаживая по холлу и разводя руками. — Будь добр, Питер, объясни же нам, что всё это значит?
— Вот… Здесь всё написано… — Неловким жестом Густав Калленборн протянул Граву письмо.
Недовольно взяв листки, Грав сел на диван и невидящим взглядом уставился в написанное.
Все молчали.
— Дядьке в Брюссель звонил кто-нибудь?
— Лучше повременить. Он же просит в письме, — сказал Петр.
— С чем повременить?
— Он просит повременить какое-то время, не мутить воду, — повторил Петр. — Если у тебя есть другое предложение, то ради бога…
— Я всё могу понять. Это послание, кстати, тебе адресовано, тебе и решать. Но между нами говоря… Этот дядька, вертолеты, израильтяне… Как в Советский Союз его угораздило умотать?
— В Россию, — поправил Петр.
Но взгляды компаньонов всё же устремились на Грава, будто в этом вопросе и заключалась суть полученной новости.
— Он же русский, — сказал Бротте, переведя взгляд на Петра.
— Да ладно… Такой же, как я китаец! — бросил Грав. — Я как-то ехал в такси, меня вез африканец, черный как черт. Что-то балаболил, необычно рыкая, и я спрашиваю его: «Откуда у вас такой акцент?». «В России, — отвечает, — подхватил. Русский акцент. Я там учился». Так что…
— Смешно — дальше некуда, — сухо заметил Петр.
— Скажу откровенно, я больше ничего не понимаю… — подытожил Грав.
Своим скептицизмом Грав выражал между тем общее мнение. Петр чувствовал, что это настроение разделяет даже Калленборн, несмотря на то, что его первая реакция была совершенно искренней и даже бурной: тряся копной седых волос, Калленборн рыскал по кабинету, похожий на вставшего на дыбы медведя, и, не находя эпитетов, скалился, тряс лицом, костлявым кулаком больно поддавал Петру в плечо и не переставал бормотать: «Ишь ты, черт! А я-то думал. Бывают чудеса и в наше время…»
Дискуссия возобновилась на следующий день. Во мнениях произошел окончательный раскол. Секретарша Анна, Калленборн и по инерции Жорж Дюваль склонялись на сторону Петра. Но это не мешало Калленборну разводить руками и всё чаще смотреть в пол, как только Грав брал слово, пытаясь вывести всех на чистую воду:
— Я же не говорю, что не могу понять его… У каждого из нас найдется миллион причин, чтобы послать всех к чертовой матери. Но кроме нас с вами столько людей выбивалось из сил. Сколько сил потрачено! На что?.. Пока он там сводил счеты со своей совестью или вообще со всей всемирной историей… А эти десять тысяч, которые мы должны выкладывать в месяц, чтобы гасить его долги. Анна вынуждена экономить на каждой мелочи. В этом месяце мы тянем с оплатой стажерам. Я вынужден таскаться раз в две недели к этому типу в банк, заговаривать ему зубы.
— Ну при чем здесь десять тысяч? — перебил Петр.
— Да, действительно, не будем валить всё в одну кучу, — поддержал Петра Калленборн.
— Если бы мы заранее знали, что всё этим закончится, ты бы не согласился на выплаты? — задал Петр Граву прямой вопрос. — Мы же договаривались, что они пойдут в счет доли.
— Питер, ну чего ты от меня хочешь?! Я говорю о том, что каждому из нас понятно… что всему есть предел, что мы зря разбивались в лепешку, зря портили себе кровь! Пока он, видите ли, сводил счеты со своими идеалами.
— Я думаю, у него не было выбора, — сказал Петр.
— Ну хорошо, хорошо… — Грав на миг осекся и, отгородившись ладонями, добавил: — Опять мы говорим о разных вещах. А жаль.
— С его долгами всё можно будет уладить в ближайшее время, — сказал Петр. — И тогда я съезжу к нему.
— В Москву?! — изумился Грав. — Ну вот, вы видите?..
Ответное письмо Петр отправил через неделю. Поначалу он написал письмо длинное, в пять страниц, но затем переписал его, сильно сократив. Отправленное письмо содержало всего две страницы. Позднее он всё же сожалел, что не удержался заговорить в этом письме о долгах, предлагая решить эту проблему в корне, и дал волю другим мыслям, в которых и сам, как оказалось, не имел полной уверенности:
«Если у нас хватает ума или глупости рассуждать о таких вещах, как „жизнь“, „провиденье“, „история“… — то нужно, мне кажется, научиться избегать туповатого оптимизма, в который мы неизбежно впадаем, полагая, что она, то есть „история“, обязательно должна продолжаться и к чему-то стремиться. Эта идея нас настолько устраивает, что мы готовы на любой самообман, готовы проглотить любую чушь, лишь бы не усомниться в себе и в своих домыслах. Есть ли цель в эволюции вида бабочек? Дураку понятно, что форма и продолжительность жизни живого организма определяются свойствами, заложенными в его ДНК, свойствами его рода. Но никому не приходит в голову утверждать, что тысячелетний дуб как раз теперь, ни с того ни с сего, начнет расти быстрее, чем рос до сих пор, потому что нам так этого захотелось. Нам удается удерживать себя от крайностей и от самообмана, потому что в нас заложено чувство меры. Вот здесь я с тобой немного не согласен… Мы с абсолютной уверенностью чувствуем границу, которую не должны переступать. Это чувство и есть то самое чувство внутренней формы, заложенное в нас природой, без которого жизнь превращается в абсурд, в хаос. Бегать же отвсех этих низких истин и от себя самого можно до бесконечности…»
Следующее письмо от Фон Ломова, датированное двадцать девятым мая, пришло в считаные дни, тем же путем, что и первое, посланное, по всей видимости, с посольской дипломатической почтой:
«Спасибо за хлопоты и за взбучку! Мне кажется, что ты не совсем правильно меня понял. Ты не понял, Петр, что в моем положении невозможны половинчатые решения. Твое предложение продать мой пай кабинету и передать мне то, что останется после вычета долгов, не имеет никакого смысла. Есть вещи, которые невозможно перенести из одного измерения в другое. К тому же я неплохо теперь зарабатываю. Пусть всё останется как есть. Если это, конечно, вам не в тягость, если это не наносит никому ущерба. И незачем передавать деньги дяде Гаспару. Они ему ни к чему.
Кстати, есть другой вариант. Если ты считаешь, что высвободившаяся сумма может составить чье-то счастье, что ее можно пустить на что-то нужное, что это может изменить чью-то жизнь к лучшему — предложи ее. Я подпишу все необходимые бумаги. В этом случае у меня было бы одно пожелание: чтобы эта сумма пошла не просто на какие-то „благие дела“, а была бы передана в руки конкретному живому человеку, с его конкретной нуждой. Но ты понимаешь, что я хочу сказать. Прости за условие.
Ты опять спросишь — зачем? Но я опять не знаю, что ответить. Уезжая из Уганды, я спросил моего швейцарца, который вернул меня к жизни, чем я могу его отблагодарить за то, что он сделал для меня. Он ответил: „Сделайте то же самое для кого-нибудь другого…“ Так что выбора у меня нет…»
Идея поездки в Москву пришла Петру в голову не сразу. Но как только он внутренне принял это решение, многое сразу встало на свои места.
Планировать поездку на июнь — вряд ли это было разумно. Уже сегодня было ясно, что месяц, как всегда, будет загружен работой. Бросать же дела незаконченными, когда на носу лето, не хотелось. Стародавняя эпопея с гидростроительными работами, «Овернский криминал», медленно, но уверенно продвигалась к развязке. Несмотря на свой первоначальный отказ заниматься этим досье, Петр вносил, как и все, свою лепту и даже согласился поехать в Овернь, где проводилась очередная экспертиза, даром что не очень нужная, как ему казалось, формальная. Кроме того, он вел немного докучливое, запутанное дело по диффамации, успевал заниматься делом по авторскому праву, которое было начато недавно по иску книжного издательства, и вообще замещал Калленборна, уехавшего в Германию, по всем его текущим делам.
Петр выезжал из дому раньше обычного, старался добираться в Версаль до появления на дорогах пробок и возвращался домой не раньше половины девятого. Домашнее хозяйство и уход за садом пришлось полностью возложить на Мольтаверна, на старика Далл’О и даже на Луизу — с начала июня она жила в Гарне без перерывов. И сколько Петр ни винил себя в том, что уделяет ей слишком мало времени, изменить этот ритм жизни ему пока не удавалось.
В жизни Луизы как раз наметилась очередная черная полоса. Он не понимал до конца, чем вызван этот новый внутренний разлад, но склонялся к мысли, что дело не только в какой-то возрастной неустойчивости, которую он не переставал в ней подмечать на протяжении последних месяцев, выражавшейся в лихорадочной смене настроений, вкусов и желаний, но и в ее болезненной неспособности выносить даже малейшее однообразие, а этого было хоть отбавляй как в ее учебе, так и в гарнской жизни последнего времени. С начала июня еще и установилась жара. Луиза с трудом ее переносила из-за давней детской астмы.
Интерес к благоустройству апартаментов на Нотр-Дам-де-Шам у Луизы пропал быстрее, чем Петр предполагал. Временно поселив у себя в квартире Мону, сама она на Нотр-Дам-де-Шам почти не появлялась. Но больше всего настораживал ее отказ ходить на занятия. Луиза отлынивала от учебы уже третью неделю подряд. Пытаясь призвать ее к благоразумию, Петр прибегал к последним аргументам: устрашал тем, что, ступив на эту стезю, «на бездорожье», она имеет все шансы стать вечной недоучкой — нет, мол, ничего хуже, чем дилетантизм. Он даже стал обещать ей за успехи в учебе какое-нибудь вознаграждение, вроде летней поездки «на край света», в которую она начинала мало-помалу верить, еще не зная, что он имел в виду не только Сейшелы, но и Москву.
Петр убеждал ее — хотя и сам не всегда в это верил, — что даже если она не видит в учебе никакой явной пользы, она должна продолжать посещать занятия, потому что это открывает перед ней возможности выбора дальнейшего рода занятий, а главное, позволяет ей общаться со сверстниками, от которых он невольно отдалял ее своим присутствием. Этими уговорами он всё чаще приводил ее в такое раздражение, что подчас недоумевал ее бурной реакции и время от времени даже начинал себя спрашивать, не скрывает ли она от него какие-то настоящие неприятности. Луиза уверяла, что причиной всему — мертвейшая скука, «запах тлена и пыли», который она испытывает от одного слова «искусство».
Еще не отойдя от простуды, она заболела ангиной. Казалось непонятным, где и как она могла подхватить ангину в тридцатиградусную жару. Несмотря на температуру, она отказывалась проводить весь день в постели, и чтобы она не чувствовала себя отрезанной от домашней жизни, в дневное время Петр устраивал ей спальню в своей рабочей комнате: перенес сюда телевизор, установил рядом с кроватью лучший в доме радиоприемник, на место кушетки перетащил из гостиной диван, выделил полку для книг, которые Мольтаверн периодически приносил ей по ее спискам из верхней библиотеки, где хранилась самая легковесная литература.
Как-то вечером Луиза перебирала содержимое старинной шляпной коробки, в которой хранились семейные фотографии, и Петру взбрело в голову обратить ее внимание на снимок одной из его теток — тети Надежды из Биаррица, на которую Луиза, по его убеждению, была поразительно похожа.
— Неужели ты считаешь меня такой… уродиной? — удивилась Луиза, разглядывая фотографию.
— Тетя слыла красавицей, — сказал Петр тоном благодушного упрека, — причем неприступной. Поэтому и прожила всю жизнь одна. Бывают такие случаи. Но я понимаю ее.
— Да это же какая-то снежная королева! Ты только посмотри на нее!
В дверь постучал Мольтаверн. В этот вечер, для разнообразия, они решили ужинать вдвоем, не выходя из рабочей комнаты Петра, и Мольтаверн принес им ужин на подносах. В меню: ветчина, запеченное в духовке морковное пюре, на десерт — любимый Луизой карамельный крем.
Поставив поднос возле ее кровати, Мольтаверн вышел за вторым подносом, с приготовленным для Петра холодным мясом, тут же принес виски и вино в графине, составил всё на письменный стол и молча удалился.
Не притрагиваясь к еде, Петр продолжал сидеть у распахнутого в сад окна. Он подлил себе виски и стал перебирать стопку прочитанных Луизой книг. Авторов многих романов, которые она читала, он не знал. К ночи собиралась гроза. В комнате появились комары. Петр встал, зажег свечу, воткнул ее в пустую бутылку. Комната сразу обрела какой-то иной вид, уютный и даже праздничный.
Луиза к еде почти не притрагивалась. Что-то неожиданно проронив — слов ее он не расслышал, — она опустила свой поднос на пол, встала с дивана и с каким-то необычным лицом подступилась к письменному столу, рядом с которым он сидел. Не сводя с Петра глаз, она вдруг скинула с себя бязевую юбку, которую иногда надевала к ужину, и английский свитер. Оставшись обнаженной, в одних носках, она убрала руки за спину и выжидающе смотрела на него.
Блестевшими в свете свечи глазами Петр смотрел на ее небольшую грудь с острыми лиловыми сосками, на тонкие, синеватые, лишенные загара колени, покрывшиеся гусиной кожей бедра.
— Скажи правду, что ты думаешь обо мне? — спросила Луиза.
— В каком смысле, Лобызенок?
— Я красивая, по-твоему?
Петр отложил книгу и умоляюще проговорил:
— Ты не ангину схватишь, а воспаление легких, Луиза!
— Что — Луиза? Что ты смотришь?.. Сделай что-нибудь!
Петр снял ноги с подоконника, толкнул фрамугу, чтобы прикрыть окно, взял ее ладонь и мягко произнес:
— Ну что с тобой все эти дни? Ты ведь не просто болеешь, Луизенок… скажи мне правду?
— Я прошу тебя… Ты можешь делать со мной все, что хочешь, понятно? — У нее задрожал подбородок. — Чего еще никогда не делал.
— Леон в гостиной, — сказал Петр.
— Выгони!
Глядя на нее беспомощно-укоризненным взглядом, Петр оставался неподвижен.
— Или ты охладел? А может быть, ты просто стал ханжой? — процедила она.
— Что ты лопочешь, Лобызенок…
Он попытался привлечь ее к себе, но она резко вырвала руку.
— Или ты не понимаешь, что я женщина? Не понимаешь?!
— Я всё понимаю… поверь мне. Я понимаю тебя, как никто, — проговорил Петр, начиная отдавать себе отчет, что с ней творится что-то неладное. — Подойти ближе. Сейчас мы успокоимся и всё обсудим.
— Нет, ты ничего не понимаешь… Но сейчас я тебе всё объясню. Сейчас увидишь… — Она подступилась к столу, начала искать что-то среди книг и бумаг, роняя их на пол, но вдруг выхватила из бутылки горящую свечу и, разбрызгивая воск по комнате, ударом потушила ее об стол, а затем, продолжая немо трястись, в слезах, которые текли по щекам, вскинула правое колено на стол, воткнула свечу себе в вагину и стала проделывать ею конвульсивные движения.
Петр сорвался с места. Выхватив свечку, он взял ее на руки, усадил в свое кресло, сорвал с дивана плед и силился ее укутать.
Луиза дрожала. Она не могла вымолвить ни слова.
Петр стремительно вышел из комнаты, тут же вернулся с бутылкой воды, выплеснул виски из стакана в окно, налил в него воды и поднес к ее губам. Стуча зубами о край стакана, Луиза сделала несколько глотков и поперхнулась.
Он выждал, поднес к ее губам всю бутылку, попросил отпить еще глоток, а затем, гладя по взмокшим волосам, приподнял кончиком пальца ее подбородок и попытался заглянуть ей в глаза. Но Луиза, от неспособности что-то вымолвить, опять захлебнулась слезами.
— Нельзя же так, Луизенок… На что это похоже, — бормотал он.
— Мне плохо, — произнесла она. — Ты понимаешь? Мне ужасно плохо… Всё не так… Я так устала. Это было гадко, только что?
— Ничего нет в этом гадкого, — сказал Петр. — Уверяю тебя. Давай отдышимся, оденемся и пойдем на улицу.
— Это было мерзко… мерзко, — лепетала она.
— Ничего мерзкого.
— Ты не понимаешь. Я не об этом… — И она вновь разразилась рыданиями.
Петр наполнил стакан почти до краев и заставил ее выпить всю воду, после чего всё же догадался закрыть дверь в кабинет и, дав ей немного прийти в себя, заговорил быстрым шепотом:
— Мы всё изменим. Обещаю тебе. Мне тоже трудно. У меня тоже всё не так в этом году. Если бы не ты, я бы вообще не знал, что делать. Но всё уладится, я уверен! Если тебе надоела такая жизнь… деревня, однообразие… то я могу продать этот дом и купить что-нибудь в Париже. Да мы вообще можем переехать куда угодно! Ломов вон всё бросил. Все думают, что он рехнулся. Но он прав. Так больше жить нельзя. Ну ответь мне что-нибудь?
— Пэ, мне скучно жить… и неинтересно… Не здесь, в Гарне, а вообще! Ты понимаешь? Вообще скучно жить…
— Да… я понимаю. Всем скучно, — сказал он, помедлив. — Одни это чувствуют остро. У других шкура из толстой кожи, вот и вся разница… Не все признаются, вот и всё… Или вся беда в возрасте? Может быть, всё дело в том, что я старше тебя? Какую жизнь я тебе устроил?
— Нет, при чем тут это?
— Ты знаешь, что я хотел тебе предложить? Мне нужно ехать к Ломову в конце июня. Если хочешь, поедем вместе? Ты же никогда не была в России. Поедем в Петербург… да куда захочешь! Это покруче любых Сейшел… Что ты молчишь?
Зрачки ее дрогнули. Непонимающе всматриваясь в него, Луиза едва слышимо проговорила:
— Это возможно?
— Конечно возможно.
— Тогда дай мне слово.
— Решено!
— Скажи, Пэ… ты никогда не оставишь меня?
— Какой вздор!
— Мне иногда страшно, я сама не знаю отчего. Ну а вдруг что-то заставит тебя, ты понимаешь? Или меня?
— Ничто не сможет заставить.
— Такого не бывает.
— Бывает. Мне ведь не двадцать лет. В некоторых вещах я уже разбираюсь… Я нашел всё, что мне нужно.
— Однажды всё равно что-нибудь изменится. Ведь не могут чувства не меняться с годами, — усомнилась она, и в лице ее появилась холодная задумчивость.
— Так все говорят. Но зачем думать о том, что будет потом, когда неизвестно, что будет завтра. Потом это перейдет во что-то другое. Да и откуда в нас такая уверенность, что другое будет хуже? Давай договоримся: между нами больше не должно быть недомолвок. Если что-то не так, если тебе трудно, скучно, ты должна сказать мне об этом. Обещаешь?
Луиза кивнула, но по ее лицу вновь сбегали слезы. Вцепившись ногтями в его запястья, она потребовала, чтобы он больше не произносил ни слова.
Из-за ангины Луиза оставалась в Гарне безвыездно всю неделю. Дни напролет она проводила в обществе Мольтаверна, и тот всё охотнее делился с ней воспоминаниями о прошлом и о Легионе.
Что было правдой в его рассказах, а что вымыслом и хвастовством, разобраться было нелегко. Стараясь произвести на Луизу впечатление, он безусловно подмешивал в свои рассказы много такого, о чем некогда слышал от других сослуживцев. И всё же многое из того, что Луиза доносила потом до сведения Петра, его озадачивало.
Так, однажды Мольтаверн поделился с ней, что служил в Легионе под чужой фамилией. На службе он числился якобы не как француз, а как подданный Великобритании, что давало ему возможность сохранить британское гражданство после демобилизации. Оставалось гадать, для чего подобная конспирация могла понадобиться в боевых частях, в которых он служил.
Пытаясь удостовериться в том, что служба в Иностранном легионе давала человеку возможность выбелить свою биографию и даже изменить ее, Петр листал по ночам книги, которые не переставала заказывать для него Анна. А однажды, шутки ради, он проделал с Мольтаверном безобидный эксперимент. В ходе обычной застольной дискуссии он неожиданно обратился к нему по-английски, вскользь заметив, что если он выдавал себя когда-то за англичанина, то должен как минимум владеть английским.
От полученного ответа Петр буквально остолбенел. Мольтаверн совершенно свободно говорил по-английски. Он мог бы похвастаться своим выговором: в него лишь иногда закрадывались простоватые уличные интонации.
После этого случая Петр прислушивался к рассказам Мольтаверна уже по-другому — к тому, как он расписывал казарменную жизнь, службу в Африке, в Чаде, куда попал будто бы в восемьдесят четвертом году и откуда вернулся, переполненный леденящими душу впечатлениями. Мольтаверн подчас разглашал невероятные вещи. Так, например, однажды он вдруг стал рассказывать — если его рассказы, конечно, можно было принимать за чистую монету, — как легионеры злоупотребляли нищетой местного населения. Сначала соседи по дислокации — речь шла о батальоне морской пехоты, — а затем и некоторые его ближайшие сослуживцы, из его подразделения, опускались до такой низости, что выменивали на хлеб несовершеннолетних девочек. Нищие изголодавшиеся родители приводили дочерей на ночь, отдавали их в коллективное пользование как есть — голодными, чумазыми. Так что сначала малолетних «грязнуль» приходилось отмывать и откармливать…
Мольтаверн утверждал, что в самом начале военных действий в Персидском заливе, ровно через три дня после знаменитой бомбардировки, которую добрая половина человечества могла наблюдать по телевизору, не вставая со своих диванов, он разгуливал по окрестностям Багдада с голубым беретом на голове. В Багдад он был десантирован. Группа спецназа насчитывала около пятидесяти «бойцов-головорезов» из французского Легиона, но среди них были и американские военнослужащие. Задание заключалось в том, чтобы «стереть с лица земли» бункеры Хусейна и его вместе с ними. К выполнению «задачи» уже было приступили. Но «генералы» отозвали десант назад во избежание назревающего скандала. О спецоперации, которая являлась вопиющим нарушением полномочий, полученных от ООН американским контингентом, пронюхал будто бы кто-то из журналистов.
Одно из открытий, сделанных Луизой, заставило Петра вызвать Мольтаверна на серьезное объяснение. По утверждениям Луизы, Мольтаверн не был круглым сиротой, как все считали. У него будто бы была родная сестра. Жила сестра на юго-западе Франции, в Пиренеях.
Этот разговор состоялся вечером. Приехав в Гарн с наступлением темноты, Петр застал Мольтаверна в саду. Починив старый поливочный треножник, Мольтаверн начинал поливку газонов в нижней части участка, устанавливал треножник со шлангом на правой стороне газона, в придачу к двум другим, которые уже покрывали брызгами газон возле розария. Когда Петр, наспех переодевшись, босиком приблизился к нему по траве, Мольтаверн был вымокшим с ног до головы, а по локти еще и в чем-то черном.
— Леон, лучше перенести вон туда, левее! — на ходу попросил Петр. — Я вчера не стал всё поливать, поздно было… Тебе удалось починить эту штуковину?
— Я прочистил засор, — ответил Мольтаверн, вытирая лоб тыльной стороной руки. — И резьбу сорвало. Я хомут пока присобачил. Потом починю…
— Молодец, спасибо…
Оглядев политые кусты, Петр с наслаждением топтался босыми ногами по намокшему как губка, издающему хлюпающие звуки газону.
— Опять жарища стояла? — спросил он.
— Так себе, терпимо… Вы лучше отойдите к кустам, а то вас обольет.
Стараясь развернуть разбрызгиватель, Мольтаверн отшвырнул шланг ногой в сторону и сам оказался под струей воды.
— А в городе духота, невыносимо, — сказал Петр. — Еще неделя такой жары, и всё выгорит подчистую.
— На завтра дождь обещали.
— Леон, я хотел с тобой поговорить. Оставь всё на минуту… Но только переоденься, ты мокрый весь…
Мольтаверн не любил загадок. Мгновенно сникнув, он всадил ножки разбрызгивателя в землю, ополоснул под струей воды руки, по самые плечи, и неторопливо зашагал к себе.
Через несколько минут он вернулся в сухих джинсах и майке и приблизился к Петру. Вместе они пошли в обход розария.
— Ты прости меня за прямоту, но у тебя действительно есть родня? — спросил Петр.
— Луиза доложила? — Помедлив, тот усмехнулся.
— Ты же понимаешь, что это слишком неожиданно для меня.
Глядя себе под ноги, Мольтаверн шел молча. Петр остановился:
— Сестра, если я правильно понял? В Пиренеях?
— Не в Пиренеях… под Даксом.
— Леон, не вижу, что это может изменить в наших отношениях, — сказал Петр. — Но объясни, к чему такие тайны?
— Да нет никаких тайн… Вы как будто не понимаете, что родственников теребят первым делом, когда что-то не так.
— Да брось! Мы в свободной стране живем. Есть законы, нормы всякие… — отмахнулся Петр. — Родная сестра?.. Или еще кто-нибудь есть?
— Только сестра. Родная.
— Ты видишься с ней?
Мольтаверн отвел взгляд в сторону.
— Нет, что вы… После Легиона съездил, конечно. Прямо из Корсики… Из Кальви, к ней и поехал. В Кальви у нас казармы, — пояснил он. — Пока всё шло как-то, и деньги были… У нее ведь дочка, муж. Она совсем не такая, как я.
— Какие деньги, откуда? — спросил Петр.
— В Легионе платят. Тратить некуда, и накапливается. У меня была пачка денег. Тратил. Моя племянница — такое дитя!
— Сколько ей?
— Уже десять.
— А муж кто?
— Инженер. В связи где-то работает.
— В армии?
— Да почему в армии? На почте, кажется. И пьет как сапожник…
— Тогда почему ты не поддерживаешь с ней отношений? Почему, например, тебе не съездить к ней на день, два… Деньги на дорогу у тебя есть. Стыдиться тебе тоже теперь нечего… если тебя это останавливает. У тебя теперь всё нормально.
Переборов замешательство, Мольтаверн с апломбом переспросил:
— А что нормально?
Петр рассеянно смотрел в вечерний мрак, опускающийся над садом, и что-то обдумывал.
— Пойдем, сейчас стемнеет, — сказал он и направился вверх. — Я хотел вот еще что сказать… Только предупреждаю: насколько всё это реально, я пока не знаю, но у меня намечается возможность помочь тебе… обеспечить тебя жильем. Постоянным.
На шаг приотставая, Мольтаверн принял настороженный вид.
— Может получиться, что я смогу тебе что-нибудь купить. Безвозмездно, в твою собственность, — продолжал Петр. — Что-нибудь, конечно, очень скромное. Пока это так, на стадии проекта. Но мне хотелось бы знать, что ты думаешь об этом.
— На какие шиши?
— Деньги есть… Точнее, будут. Не мои, не волнуйся. Всего объяснить не могу. Но один близкий человек предлагает около двухсот тысяч.
— Просто так, что ли?
— Да, представь себе.
— Такого не бывает.
— Иногда бывает. Я совершенно серьезно говорю, Леон.
— Я не смогу принять.
— Почему?
— Да потому что не бывает такого.
— Вот что… Ты подумаешь, решишь сам, что ты хочешь… чтобы это исходило не от меня, а от тебя самого, договорились? А я тем временем всё выясню, и вернемся к этому разговору.
— Даже не думайте! Вы за кого меня принимаете?
— За кого бы я тебя ни принимал, так не может продолжаться! — осадил Мольтаверна Петр. — Ты не можешь всю жизнь жить в нахлебниках. Далл’О, может, и не очень тебя любит, но он прав… Что касается меня, то знай, я привык к тебе, ты всегда сможешь у меня работать, если будет желание. Но в главном пора определяться. Тебе же не двадцать лет. Ты не для того столько пережил и столько хлебнул в жизни, чтобы мыкаться теперь, в твои-то годы. Нужно уметь принимать помощь от людей. Иначе сам не сможешь никогда помогать другим. Есть такой закон… Понимаешь меня?..
Предложение, сделанное Мольтаверну в тот вечер, Петр обдумал заранее. Уже не первый день пытаясь взвесить все за и против, он не мог прийти к чему-либо определенному. Он не был уверен, что суммы будет достаточно для приобретения жилья, пусть самого скромного. После всех обязательных выплат от доли Фон Ломова должно было остаться, по его подсчетам, не более двухсот тысяч франков. Однако после разговора с Мольтаверном Петр неожиданно для себя утвердился в мысли, что идея сама по себе правильная. Теперь он был окончательно уверен в том, что если Фон Ломов будет настаивать на своем — а сомневаться в этом пока не приходилось, — то Мольтаверн окажется идеальным «кандидатом».
Неожиданным образом сходились все концы. Несмотря на то, что вопрос с продажей доли Фон Ломова в кабинете казался делом принципиально решенным, проблема использования этих средств могла быть окончательно урегулирована только с поездкой в Москву, и Петр пытался как можно скорее завершить свои текущие дела, чтобы ее ускорить.
В первых числах июня Петр направил в нью-йоркскую адвокатскую контору «Лоренс Юниор Лимитед», с которой кабинет поддерживал многолетние партнерские отношения, не совсем обычное поручение. Он просил навести справки о неком Арчи Котсби, подданном США, в связи с тем, что кабинет взял на себя защиту интересов французской пары, которую этот самый Арчи Котсби преследовал за неуплату долга. Пара собиралась подавать на американца встречный иск по обвинению в вымогательстве, в подлоге и т. д. В Версале нужна была информация, причем самая исчерпывающая, какую только можно было собрать, и желательно с какими-нибудь документальными подтверждениями из личного дела американца; такие данные, по сведениям Петра, имелись в картотеках американской полиции. Кроме того, он просил уже сегодня навести справки о платежеспособности Котсби…
Меркантильная тяжба Жоссов, которую Вельмонт буквально свалила на Петра, оказалась в духе тех стародавних эпопей, замешенных на уголовщине, которые попадали в кабинет при Фон Ломове. Заниматься этой тяжбой Петр поначалу отказался. Всё, что он пообещал, — это помочь паре советом, подстраховать, но без личных рандеву, по телефону, а также поговорить со своими компаньонами в надежде, что кто-нибудь из них проявит к делу интерес или хотя бы поможет подыскать в своем кругу кого-нибудь понадежнее, с опытом, кто не будет обирать Жоссов до последней нитки…
Компаньоны ничего определенного не обещали. И когда в начале июня Сюзанну Жосс в очередной раз вызвали к судебному следователю — дача показаний должна была состояться в присутствии «потерпевшего», за которого американец себя выдавал, с целью сличения показаний обеих сторон, — Петр согласился сопровождать Жоссов на эту встречу и попросил приехать накануне в Версаль, чтобы окончательно отработать вместе линию поведения…
Судебный следователь, который вел дело Жоссов, к этому времени уже не принимал их за злостных мошенников. Он понимал, что они стали жертвой обмана. По имеющимся у него сведениям, имя Арчи Котсби, подавшего на них в суд, уже не в первый раз фигурировало в аналогичных разбирательствах. Американец проходил по таким делам свидетелем или, как и в этот раз, «потерпевшим». В мошенничестве и в незаконных финансовых операциях Котсби уже не раз обвинялся за границей. С французским же правосудием он умудрялся оставаться в ладах. Но как бы то ни было, в данном конкретном случае обстоятельства складывались таким образом, что закон был не на стороне Жоссов.
Жоссы полагали, что на собеседование к судебному следователю сам Котсби не явится, под любым предлогом, в таких случаях обычно посылают адвоката. Каково же было их удивление, когда, приехав на встречу, они заметили в конце коридора силуэт американца. Супруги выглядели сраженными. Появление Котсби свидетельствовало о его полной уверенности в своих действиях.
Американец пришел не один, с адвокатом — рослой худой дамой за пятьдесят. Петр видел ее впервые. По сведениям Жосса, которые ему удалось собрать через свои каналы, защитница Котсби занималась делами самыми разнообразными — от бракоразводных до уголовных, имела большое личное состояние и была известна в среде торговцев антиквариатом, поскольку время от времени вела крупные дела, связанные с защитой наследственных прав членов семей покойных знаменитостей.
На протяжении всего допроса Петр отмалчивался, лишь вскользь вставлял короткие замечания, которые касались процедуры следствия, а не сути дела, и делал пометки в своем блокноте. Сюзанна Жосс отвечала на вопросы именно так, как он просил, она не допустила ни одного промаха. Когда же сама она мельком переводила на него взгляд, чтобы проверить его реакцию, ей казалось, что он чем-то раздосадован.
Петр попросил слова только под конец. Не давая себя перебивать, он заговорил непривычной для Жоссов складной речью, нанизывая фразы одна на другую, отчего сказанное как бы зависало в пустоте, но тем самым возникало ощущение, что суть не разматывается, как катушка ниток, а как бы разрастается сразу во все стороны. Петр располагал не менее полным досье на американца, чем следователь. Имевшиеся у него сведения можно было смело отнести к категории конфиденциальных, доступ к ним могли иметь только службы полиции, — этими документами удружил ему Мартин Грав, отважившись пустить в ход свои семейные связи. Следователь не преминул сделать замечание по этому поводу, однако не стал ничего опровергать.
Доводы Петра сводились к выявлению тех сторон дела, которые и так казались очевидными, без лишней аргументации, но еще никем не были высказаны вслух. Обвинение Сюзанне Жосс предъявлял человек, «по которому плачет не одна тюрьма Европы». Заключалось же это обвинение, по сути дела, не в мошенничестве, а в заурядной неосведомленности, в незнании законов и в неосмотрительности, которую Сюзанна Жосс допустила.
Следователь не отрывал глаз от вороха бумаг, которыми был завален его стол. Американец Котсби — степенного вида рослый блондин с рыбьим ртом, одетый в хорошего пошива серый костюм, но без галстука — время от времени откидывался на спинку стула и хватал ртом воздух, как бы переполняясь смесью негодования и вместе с тем восхищения, которое не мог не испытывать перед дьявольской изобретательностью своего оппонента, но при этом не терял самообладания. Его защитница тоже не считала нужным встревать в разговор, хотя он и принимал неожиданное направление. Она что-то шептала Котсби на ухо и продолжала следить за происходящим с явным оживлением в глазах.
Результат не заставил себя ждать. Следователь, хотя и неофициально, встал на сторону Жоссов, недвусмысленно заявив, что обвинение против них, скорее всего, не «выдержит испытания временем»…
Такой удачи Жоссы не ожидали. Пока все вместе они направлялись к выходу, сбитые с толку и взбудораженные Жоссы кружили вокруг Петра, наступая друг другу на ноги, и даже не слышали его объяснений. Он пытался их урезонить. Рано было ликовать. Дело только набирало обороты. По мнению Петра, американцу ничего другого теперь не оставалось, как ужесточить свои позиции. Он мог полезть на рожон. Петр советовал готовиться к новым ударам.
Жосс не мог взять в толк, с чего это их запугивают сложностями в такой момент, когда всё складывается так удачно. Однако затевать первым серьезный разговор о дальнейших совместных шагах не решался.
Остановившись посредине тротуара, Петр хотел было попрощаться. Но Жосс, озадаченный его поспешностью, предложил вместе поужинать. Они могли заказать стол в знакомом ему ресторане, находившемся как раз неподалеку. Достаточно было позвонить. Или в другом, рядом с галереей жены, где всегда подавали хорошие устрицы.
Вид пары, особенно мужа, брал за живое. Заискивающее лицо Жосса таяло от эмоций. Это была смесь добродушия, сожаления и даже доброты, обыкновенной, с трудом скрываемой, как казалось Петру, которой он не замечал у того прежде. А манера волочить ноги, подметая штанинами пол, придавала ему вид беспомощный и какой-то обреченный. Стоило остановить на нем взгляд, и всё казалось безнадежным. Что стоила одержанная только что победа? Она казалась бессмысленной.
Петр должен был вернуться в Версаль, домой тоже хотелось приехать пораньше. Приглашение он отклонил.
— Какой всё же неприятный тип, — виновато вздохнул он.
— Котсби? Мерзавец, каких свет не видывал! — встрепенулся Жосс.
— Не понятно, как таким удается околпачивать людей… Ведь на лбу написано, что прохвост… — Петр вскинул на обоих вопросительный взгляд.
— Вы не представляете… нет, вы не представляете! — подхватила Сюзанна Жосс. — Какая гора свалилась с наших плеч! Не знаю даже, как вас благодарить, какими словами… Я Бруно говорила: нам очень повезло, что вы согласились. А поначалу мы оба как-то… одним словом, мы вам обязаны, до конца дней.
— Сюзанна… — осадил жену Жосс.
Жосс поинтересовался делами Мольтаверна. В двух словах Петр изложил последние новости, обсуждать тему всуе, посреди улицы ему не хотелось.
Сюзанна Жосс с пониманием заметила, что им тоже пришлось помучиться с устройством Мольтаверна на работу, и тут же смутилась, понимая, что проговорилась: в свои неудачи Петр их не посвящал. Было очевидно, что сведения доходят до них через Шарлотту Вельмонт.
На прощанье пожимая руку, Жосс приглашал приехать на ужин к ним домой, в конце недели или в любой другой день. Заодно Жосс предлагал «прихватить с собой» Мольтаверна. И он и жена, а особенно дети были бы рады на него посмотреть.
Петр пообещал позвонить через день, чтобы условиться о встрече, он еще не знал своих планов на конец недели.
Не поверив ему и с трудом скрывая свое неверие, Жоссы направились к своей машине…
— Вы были правы. Он полез на рожон! — объявил Жосс, позвонив в Гарн два дня спустя.
Жосс принялся объяснять, что американец нашел нового «свидетеля». Им оказался пожилой куртье, некогда державший в Париже галерею, но обанкротившийся. Когда-то давно Жоссы даже водили с ним знакомство. И вот выяснялось, что тот готов давать показания в пользу американца, вероятно просто за деньги. Куртье без зазрения совести утверждал, что присутствовал при заключении «сделки» и что злосчастный «гарантийный» чек, выписанный истцу, был якобы первым взносом за покупку.
— Как вы узнали об этом? — спросил Петр.
— Позвонила его адвокатесса… которая приходила к следователю… Она послала мне его показания, хотела со мной встретиться. Я отказался… от встречи. Правильно сделал, как вы считаете?
— Разумеется, правильно. Только с какой стати она вам звонит? Почему не мне?
— Я вот тоже стараюсь понять.
Жосс настаивал на встрече, чтобы с глазу на глаз обсудить план дальнейших действий. Он не знал, как себя вести, к чему готовиться, считал, что пора обсудить накопившиеся вопросы «глобально».
Петр понимал, что Жосс имеет в виду их недавний разговор, собирается вновь просить и умолять о том, чтобы он взялся вести их дело. В очередной раз взвесив все за и против, в очередной раз махнув на всё рукой, Петр предложил Жоссу заехать в Версаль после семи вечера.
— Вы сказали Леону, что мы хотели его увидеть? — поинтересовался Жосс.
— Он позвонит вам. А я проверю… — Петр солгал; приглашение Жоссов Мольтаверну он не передал, забыл о нем.
— Сегодня мне трудно будет приехать в Версаль, — сказал Жосс. — Но, может быть, завтра вы всё же поужинаете у нас? Жена ждала вашего звонка.
— Нет, завтра никак не получится… — Петр раздумывал. — Сегодня, например… Мне было бы проще сегодня.
— Вот и отлично! Может быть, мне лучше самому позвонить Леону, как вы считаете? — спросил Жосс.
— Я постараюсь приехать с ним, — сказал Петр. — Если он сможет, конечно…
Было еще светло. Но вдоль набережной реки, тонувшей в ранней, уже густой и лохмами обвисшей листве гигантских ив, повсюду горели фонари. Остановившись перед оградой, которую указал Мольтаверн, они вышли из машины и позвонили в ворота.
Открывать вышел сам Жосс. Не по-летнему тепло одетый, в твидовом пиджаке и в темных фланелевых брюках, он спускался к воротам под конвоем своей собачей своры. При виде Мольтаверна он не смог перебороть наплыва эмоций. Лицо его наморщилось в улыбке.
— Бог ты мой, сколько же времени, Леон! — проговорил Жосс, разводя сухими руками и делая вид, что не ожидал этой встречи. — Что же ты не звонишь, не появляешься? Мы надеяться перестали.
Мольтаверн на миг смутился. По примеру Петра, но с показной решимостью он пожал Жоссу руку и стал озираться по сторонам, отбиваясь от лайки, которая, встав на дыбы, радостно обхаживала его со всех сторон черными от грязи лапами. Поймав пса за ошейник, Мольтаверн поцеловал его прямо в нос и произнес:
— Не забыла, дурочка? Ведь не забыла!.. Всё так изменилось. Я бы и не узнал.
— Здесь даже прохладно, — заметил Петр. — У нас вечера душные.
— Это из-за реки… Хоть одно преимущество, — сказал Жосс. — Но комаров полно. И иногда заливает.
— Весной?
— Да если бы только весной… После сильных дождей вода озером стоит… Вон там, где вы машину оставили. Или ты забыл, Леон?
— У них еще и фундамент никудышный, — пояснил Мольтаверн. — При наводнении вода просачивается и погреб заливает — на лодке можно плавать.
— Прошу вас, — пригласил Жосс и ударил в ладоши, в ответ на что свора собак рванула к дому, сбивая друг друга с ног.
Хозяин провел гостей через парадное крыльцо и террасу. Окна и двери на террасе были распахнуты. Они вошли в ярко освещенную гостиную. Здесь было тихо и прохладно. В атмосфере дома что-то изменилось. Чувствовалась какая-то перестановка или недавний ремонт. Стало намного светлее.
На полу у окна лежал некий массивный предмет черного цвета неправильной формы со сквозным отверстием. Петр провел рукой по его шершавой поверхности.
— Привезли на хранение, — сказал Жосс с усмешкой. — Но ни в одну кладовую не входит. И не скажешь, что это скульптура!
— Из полимера какого-нибудь? — поинтересовался Петр.
— По-моему, из гипса… А внутри пенопласт. Теперь многие работают с пенопластом. На весе большая экономия. Даже вы сможете поднять.
— И что это должно изображать?
— Автопортрет! Насчет сходства, правда, не ручаюсь. Я дал ему название «Душа наизнанку», — попытался пошутить Жосс; он взирал на Петра с откровенной, но серьезной улыбкой во всё лицо.
Юмор Жосса был не совсем понятен. Но Петр одобрительно кивал.
В дверях показалась Сюзанна Жосс, в черной блузке из прозрачного кружева на голое тело и босиком.
— Добрый вечер! — произнесла она низким, громким голосом.
Пожав гостям руки, хозяйка дома оглядела Мольтаверна с ног до головы и с ходу упрекнула:
— И не стыдно тебе? Хоть бы раз за всё время позвонил.
— То работа, то думал, вот завтра позвоню… — бормотал Мольтаверн.
— Так тебе и поверила! — отмахнулась Сюзанна Жосс. — Или правда на работу устроился? А ну, выкладывай!
Мольтаверн скользнул по лицу Петра виноватым взглядом, а затем принялся объяснять что-то невразумительное про парковую зону, откуда его давным-давно вежливо попросили, о том, как местная детвора поджигала в парке мусорные урны и бросала в них охотничьи патроны, — Мольтаверн то ли не понимал, что Жоссы в курсе его приключений, то ли, окончательно растерявшись, запутался и нес что попало.
— Всё ясно с тобой, — заключила хозяйка. — Кстати, ты в крышах что-нибудь смыслишь? Чинить умеешь?
— А что у вас с крышей?
— Да не у меня. Вообще.
— Смотря что за крыша.
— Один мой знакомый предлагает постоянную работу. Хотя, знаешь что, давай потом это обсудим.
В гостиную вошли двое юношей одного роста. Оба загорелые, в шортах, с мужскими, темными от волосяного покрова ногами, оба — вылитая мать. Петр не сразу узнал в юношах старших братьев, которые в первый приезд вышли встретить его к воротам. Поздоровавшись с непонятным подвохом, который угадывался в лицах обоих подростков, они собрали в углу какие-то вещи и увели Мольтаверна через террасу на улицу.
Когда они вышли, Сюзанна Жосс объяснила, что младших детей дома нет, всех отправили на выходные к родственникам, и она не может нарадоваться спокойствию; она словно оправдывалась за отсутствие привычного бедлама.
Жосс предложил аперитив.
— Я бы хотел сразу взглянуть на эту бумагу… с показаниями против вас, — сказал Петр, сев на диван со стаканом виски.
— Питер, вообще мы хотим сделать вам одно предложение, — членораздельно произнес Жосс. — Мы с вами уже говорили об этом, все прежние условия остаются в силе… Но мы с Сюзанной решили не терять времени, не дожидаться, как всё решится с чеком, а сразу же атаковать. Вы сами говорили, что это лучший способ защиты. Бегать и искать кого-то другого — всё равно что с нуля начинать. Вы же знаете, что значит найти хорошего адвоката.
— Я закончу начатое. Те два письма мог написать кто угодно, — заверил Петр. — Пойти к следователю — тоже.
— Так все говорят… А когда доходит до дела, то оказывается, что не всё так просто, — вмешалась жена.
Петр имел в виду свои письма, направленные в мае адвокату Котсби с запросом по поводу двух других аналогичного типа афер, оспариваемых Жоссами. Этими письмами он рассчитывал прозондировать почву и прощупать позиции Котсби, так как Жоссы уже тогда собирались дать ход этим делам. Как он и предполагал, адвокат Котсби отделалась формальными ответами — непризнанием претензий.
— Мы обязаны вам до конца дней, Питер! — провозгласила Сюзанна Жосс. — И не хотим никого другого!
— Я никого не найду в считаные дни, — подхватил Жосс. — Да и ваш корреспондент в Нью-Йорке уже проделал большую работу.
— Не стоит преувеличивать.
— Я не преувеличиваю. К нашей просьбе многие могут присоединиться. Ведь он стольких обманул. Кто-то должен положить этому конец.
— По-моему, вы просто недооцениваете, сколько вам, то есть нам с вами, еще предстоит хлопот с одним только чеком, — сказал Петр.
— Поэтому лучше не терять время… — Жосс смотрел на него с азартным блеском в глазах, чувствуя, что первая позиция уже отвоевана. — Подать встречный иск сразу — вот что я предлагаю. И прошу вас об этом! Это поможет отрезвить его и в деле с чеком. Ну посудите сами!
— Сомневаюсь. И не вижу, на что может опираться такой иск.
— Если бы у меня были доказательства, я бы просто в полицию пошел, — сказал Жосс. — Я об этом с вами и хотел поговорить.
— Это может тянуться несколько лет. И никто вам не даст никаких гарантий. Если Котсби вернется к себе, кто за ним будет бегать по Америке?
— Питер, на прошлой неделе мы узнали, что картина… ну, помните историю с акварелью Ватто? — затараторила Сюзанна Жосс. — Той, с которой он нас обвел аналогичным образом…
— Подожди, Сюзанна, подожди! — не утерпел муж и принялся объяснять всё по порядку: — Один мой знакомый, антиквар, рассказал преудивительную вещь. Этой акварели в действительности у Котсби никогда не было и быть не могло, потому что она принадлежит нью-йоркской галерее. Эта галерея акварель иногда даже выставляет. А сейчас она ищет на нее покупателя. Что получается?.. А то, что Котсби обзавелся фотографией и пытался продавать то, что ему не принадлежит. Он продавал воздух! Просто и гениально.
— Таких растяп, как мы, нужно еще поискать, — сокрушенно добавила Сюзанна Жосс.
Петр не понимал, почему Жоссы не удосужились рассказать ему об этом раньше, он был в некотором недоумении.
— И вот теперь, представьте, — продолжал Жосс, — что мы получим такое свидетельство, например, от этой галереи, которая, разумеется, и понятия не имеет, что какой-то Котсби торговал ее картиной. Мне кажется, это могло бы послужить основанием для иска.
— Вы не представляете всей сложности такого дела, — сказал Петр. — К тому же всё это требует проверки, подтверждений.
— Что Котсби торговал акварелью? Да я вам сколько угодно найду свидетелей! — заверил Жосс.
— Нет… подтверждение того, что нью-йоркская галерея была не в курсе.
— Да я уже пыталась ему объяснить… — вставила жена.
— Сюзанна, — тихо одернул Жосс. — Я уже проверял. Уверен, что иск возможен. Всех денег, которые он нам должен, мы, конечно, не отсудим. Но какую-то часть…
Тема Котсби не сходила с уст весь вечер. Черная служанка в белом фартуке, глаза которой таяли от беспричинного смеха, обслуживала стол с простодушной незатейливостью — передавала тарелки через стол, забывала принести хлеб, приборы. После овощного супа из порея был подан морской налим, затем сыр с салатом и на десерт черничный пирог, который Мольтаверн оценил первым, разве что нашел его немного «переслащенным». Жосс распечатал бутылку брюта «Вёв Клико», но Петр от шампанского отказался, он предпочитал на дорогу чашку кофе.
Твердого обещания Жоссы от Петра не добились. Но Петр всё же попросил несколько дней на размышления. Он хотел в очередной раз посоветоваться с компаньонами, а также связаться с корреспондентом кабинета в Нью-Йорке, чтобы уточнить, какова в таких случаях процедура привлечения к суду по американскому законодательству.
Когда на следующий день Петр позвонил Жоссам и дал согласие вести их дело, супруги ликовали, и ему не удавалось их убедить, что даже исходя из предварительных оценок и из тех сведений, которые ему удалось на сегодня собрать, успешный исход дела казался ему маловероятным. Позднее Петр не мог преодолеть в себе противоречивого чувства, что сдался под нажимом, дал согласие не потому, что чувствовал себя обязанным оказать услугу, и не потому, что это отвечало интересам кабинета, — компаньоны считали дело выгодным, — а просто потому, что испытывал перед Жоссами стыд за Мольтаверна. Стыд за то, что за всё время, прошедшее со дня его поселения в Гарне, он так и не смог ничего для него сделать.
Новости, приходившие от Ричарда Лоренса, были неутешительными. Негласную часть расследования Лоренс поручил знакомому детективу, некому Маджвику. И тот уверял, что «клиент» подпадает под категорию неплатежеспособных, хотя и живет на широкую ногу. Вся его недвижимость, за исключением небольшой вилы на западном побережье, цена которой якобы не превышала двухсот тысяч долларов, и даже его нью-йоркская квартира в Бронксе официально принадлежали жене, с которой он жил врозь. Счета в банке обеспечены были плохо. Получить сведения по другим счетам, которые Котсби будто бы имел в Европе и на Багамах, пока не удавалось.
Вывод вытекал однозначный: даже если какой-либо иск против Котсби в самих Соединенных Штатах мог привести к желаемому результату, получить с него сумму, превышающую стоимость виллы, было бы невозможно. К тому же в нужный момент тот мог позаботиться и о вилле. Руперт Маджвик советовал как следует подумать, есть ли смысл затевать дорогостоящую юридическую процедуру…
Бруно Жосс сведения детектива ставил под сомнение. Он отказывался верить, что человек, живущий с таким размахом, смог начисто отгородиться от правосудия. Жосс продолжал апеллировать к белому лимузину, в котором Котсби разъезжал по Нью-Йорку, к стодолларовым купюрам, от которых у того будто бы трещали карманы, — он мог лично это засвидетельствовать. Один из знакомых Жосса, парижский антиквар, прошлой весной встречавшийся с Котсби в Нью-Йорке, утверждал, что последнему досталось недавно большое наследство и что Котсби как раз занимается приобретением новых апартаментов, еще более роскошных, чем теперешние. Эта деталь не очень-то совпадала с данными детектива: никаких указаний на получение наследства в сведениях Маджвика не было.
Жосс стоял на своем: они с женой были загнаны в угол и готовы на любые жертвы. Продолжая настаивать на иске, Жосс клялся и божился, что выполнит свои обязательства и в отношении гонораров за услуги, и в отношении текущих расходов. Он обещал покрывать все издержки, во что бы то ни стало, даже если в итоге не сможет окупить своих затрат. Ответственность за неудачу Жосс брал на себя. Но его чрезмерно эмоциональное отношение к делу Петра как раз и настораживало.
Когда Жосс однажды заговорил о том, чтобы вместе поехать в Нью-Йорк и разобраться во всём на месте, Петр не придал разговору значения. Но, как вскоре выяснилось, Жосс всерьез ухватился за эту идею. Мало-помалу перспектива поездки — короткой, как Жосс уверял, всего на пару дней — стала обретать реальные очертания, во всяком случае, для самого Жосса.
Петр и думать не хотел ни о каких поездках теперь, в начале лета. Работы в Версале накопилось невпроворот. Он не укладывался в сроки. Растягивать график работы по другим досье тоже было невозможно. Не хватало времени на садовые мероприятия в Гарне, где забот прибавлялось изо дня в день. Не хотелось откладывать в долгий ящик и дела Мольтаверна. Но больше всего ему претила мысль, что придется оставить Луизу одну. Как раз теперь требовалось его присутствие. Поездка в Москву, намеченная на конец месяца, в этом случае никак не смогла бы состояться в нужные сроки…
Предложенный Жоссом выход на галерею на Ист-Сайд-авеню, которой принадлежала акварель Ватто, какое-то время назад предлагавшаяся Арчи Котсби на продажу, требовал, на взгляд Петра, более тонкого подхода. В таких делах не рубят сплеча. Казалось очевидным, что хозяева галереи не примут на ура обращение за свидетельскими показаниями, не захотят афишировать свою причастность к подобным аферам, ведь с их точки зрения это могло нанести урон их репутации. О даче прямых свидетельских показаний бесполезно было и думать. К тому же Лоренс, как и Петр, не был уверен в другом — что между галереей и Котсби не завязалось какой-нибудь «куртуазной» договоренности о содействии друг другу. Ведь тот вполне мог поставлять им клиентов, попавших в его сети, и получать таким образом свои проценты. И волки были бы сыты, и зайцы целы. Эта гипотеза казалась Лоренсу наиболее правдоподобной.
Понимая, что дальнейший ход дела будет зависеть от того, каким получится контакт с галереей, Жосс принимал меры со своей стороны. Ссылаясь всё на того же антиквара, некого Ломбера, снабжавшего его пикантными сведениями, который будто бы имел прямой «выход» на галерею, лично знал ее владелицу, поддерживал с ней многолетние дружеские отношения, Жосс уверял, что после первого же разговора по телефону с хозяйкой галереи знакомый начал его обнадеживать и даже готов был при необходимости сопровождать Жосса в эту поездку. От слов Жосс перешел к делу: он стал планировать поездку на двадцатые числа июня.
Лоренс одобрил и этот шаг. Он готов был присутствовать на встрече в галерее и присматривать за действиями Жосса, а в случае успеха мог помочь оформить показания в надлежащей форме, чтобы они имели реальную силу. Тем временем Лоренс предлагал разобраться с фотографией, которой Котсби пользовался в Париже. Фотография акварели, которую Котсби некогда вручил Жоссам, была сделана анонимным профессиональным фотографом. На снимке даже была видна рамка, в которой акварель вывешивалась в галерее. Поскольку же было решено исходить из гипотезы, что галерея к афере отношения не имела, получалось, что снимок сделан где-то вне ее стен. Необходимо было отыскать фотографа и выяснить, при каких обстоятельствах это произошло; его показания могли оказаться ценными.
За пять дней до отъезда Жосса в Нью-Йорк Петр получил известие, которое разом опрокинуло все планы.
В Версаль позвонила ассистентка Лоренса мисс Эразм. Она огорошила сообщением, что «шеф» прямо с каникул, которые проводил с детьми под Кливлендом, попал в больницу с пиелонефритом. Рассчитывать на Лоренса в ближайшие дни было невозможно.
В таких условиях поездка теряла всякий смысл. Необходимо было перенести ее на неделю или на две, до выписки Лоренса из больницы. Однако мисс Эразм не была уверена даже в этом — что всё обойдется одной неделей.
Петр не знал, какими доводами на Жосса воздействовать. Тот же не сомневался, что отсрочка может испортить всё дело. И по-своему был, конечно, прав. Но и позволить ему лететь на пару с антикваром, без поддержки на месте, Петр не мог, даже если бы был уверен, что в чем-то может помочь мисс Эразм да и сам Лоренс с больничной койки.
Выхода не оставалось. И он позвонил Жоссу и дал согласие. Он готов был сопровождать его куда угодно, хоть на край света, но просил об одном — сжать поездку по времени до минимума.
В тот же вечер Жосс заказал три билета на утренний рейс, вылетавший через день, забронировал номера в гостинице и даже позаботился заранее об ужине в одном из известных ресторанов Манхэттена…
Антиквар Ломбер производил впечатление компанейского человека, хотя и замкнутого, чем, по-видимому, и объяснялась его чудаковатая манера сводить любой разговор к шутке. Для собеседника это было скорее утомительно. Высокий, ладный, темноволосый, зеленоглазый, антиквар хорошо и просто одевался. Его инициалы J. L., вручную вышитые на груди рубашки в тонкую красную полоску, придавали его облику что-то непринужденно домашнее и, вопреки всему, располагающее к доверию.
Как только «боинг» набрал высоту и на борту стало солнечно, Жосс отключился. Накрыв голову газетой, он время от времени выглядывал из-под разворота на попутчиков, словно проверяя, все ли на месте, но взгляд его оставался стеклянным. А затем бортпроводница принесла ему тряпичную маску для глаз.
Просматривая американские газеты, Петр не делал над собой больших усилий, чтобы поддерживать разговор с антикваром. Тот не переставал балагурить и на невнимание к себе не обижался. Делясь своими планами на время пребывания в Нью-Йорке, Ломбер тоже жаловался на переворот в его планах (да ведь собирался лететь в Женеву, а не в Нью-Йорк!), взывал к сочувствию по поводу своего «катастрофического» безволия, поскольку недавно завязал с курением, но день назад опять не выдержал, сорвался, закурил, и вот теперь приходилось начинать всё сначала. После завтрака, после бокала шампанского, Ломбер окончательно расслабился и вовсю заигрывал с костлявой, как старушка, но миловидной бортпроводницей, в который раз подзывал ее, о чем-то на ухо просил, отчего та розовела, поводила бровями, становилась задумчиво-раздраженной, но старалась сохранить на лице улыбку. Затем Ломбер стал рассказывать о своем антикварном магазине, уверял, что настоящие знатоки, что-то смыслящие в антиквариате, давно перевелись и что большинство его собратьев по профессии давно не в состоянии отличить дешевки от подлинника. В подтверждение своих слов антиквар принялся рассказывать о недавно случившемся с ним лично:
— Заходит в магазин посетитель, всё пересмотрел и наконец садится. Мы вроде не знакомы, но по виду — клиент. Просидел минут тридцать, опять всё пересмотрел. «Возьму, — говорит, — вот эту. Цену снизить можете?» Я говорю, что могу. «Тогда я такси отпущу…» Вышел, вернулся назад: «У вас не будет пятьсот франков в счет покупки? Я такси отпущу…» Я даю ему пятьсот франков. Он уходит платить — и что-то нет его. Выхожу на улицу — ни души. Исчез! Ни его, ни денег. Ну разве не гениально?.. Таких я уважаю. Если бы все с такими усилиями зарабатывали себе на хлеб…
По прилете стояла испепеляющая жара. Все трое тут же расстались с пиджаками. Но пока вышагивали к стоянке такси, успели взмокнуть и в рубашках. Затем такси долго тащилось до гостиницы. Повсюду тянулись пробки. Жосс и Ломбер обкуривали пожилого, некурящего шофера со сморщенным в гармошку лысым затылком, который не осмелился запретить им курить, решив, видимо, что, побаловав немного троих мужчин-иностранцев в костюмах, получит от них неплохие чаевые, и теперь явно жалел о своем попустительстве.
Еще более взбудораженный, чем во время полета, Ломбер опять что-то объяснял, показывал то в одну сторону, то в другую, затем куда-то вдаль, за мост. Петр следил за его жестами, ловил себя на мысли, что с тех пор, как он побывал здесь в последний раз несколько лет тому назад, многое изменилось. Кроме мостов да общеизвестных видов на город городов он практически ничего не узнавал. Жосс, с сонной, застывшей улыбкой, какой-то оглушенный и шумом города и жарой, как и во время полета, к дискуссиям оставался безразличен…
В вестибюле гостиницы стояла спасительная прохлада. Чтобы не отстать от своих чемоданов, которые прислуга торопливо понесла в номера, в разные концы бесконечных коридоров, пришлось друг с другом расстаться.
Поднявшись в свой номер, Петр попросил открыть окна и около двадцати минут отлеживался в исполинских размеров ванне, наполнив ее холодной водой, а затем сидел перед окном, из которого тянул теплый ветер, разглядывал бескрайний вид на город, такой же, как и все города на свете, и ловил себя на странной мысли, что ветер здесь всё же не такой, как дома, в Париже или в Версале. Воздух был насыщен другими запахами.
Он еще не успел одеться, как в дверь постучали. Жосс звал к себе перекусить: он заказал в номер не то повторный завтрак, не то легкий обед.
Ломбер и Жосс, оба с красными, воспаленными глазами, принялись вяло за сандвичи. Подсев поближе к столику с откупоренной бутылкой красного вина, с посудой для чая и кофе, Ломбер отложил свой бутерброд и устало вздохнул. Жосс, тоже успевший переодеться в более легкую одежду, в светлые брюки и рубашку с короткими рукавами, прохаживался сутулясь по комнате, в одной руке держа чашку с чаем, в другой бутерброд. Бесконечный городской вид за окнами явно приковывал его взгляд, по лицу его блуждала улыбка смутного удовольствия. Петр, присев на край кровати, нацедил себе из кофейника вторую чашку кофе, но к сандвичам так и не притрагивался.
— Ни облачка… Чего не ожидал, так это попасть в пекло, — пожаловался Жосс, показав бутербродом в окно. — Перед вылетом узнавал, мне сказали, двадцать градусов.
— Это еще что! В последний раз было тридцать пять, — заметил Ломбер. — Вы представляете?
— Этим летом? — удивился Петр.
— Нет, прошлым. Вы перекусили бы что-нибудь… Нет аппетита?
— Жарко слишком.
— А я привык. В моей профессии есть одно преимущество — ко всему привыкаешь, как хамелеон. Когда только-только начинал, я и представления не имел, что придется столько мотаться по свету, ей-богу! — охотно делился Ломбер. — А теперь…
— Я и сегодня представления не имею, зачем вам нужно мотаться по свету, — немного в шутку заметил Петр.
Ломбер покосился на него одним глазом, дожевал и, опять вздохнув, согласился:
— Смотря кому, вы правы. Смотря чем торгуешь… Честное слово, не поверите: думал — покой, какая-то жизненная стабильность. Ничего подобного! — Антиквар взял с подноса еще один бутерброд, проверил начинку, как следует откусил от него и, не прожевав, спросил: — Вам, как я понимаю, тоже достается?
— Ездить? Нет, я редко бываю за границей.
— Да и потом, мне легче, я человек городской, — продолжал Ломбер. — Когда живешь или работаешь в городе, это не так тяжело выносить, вот как ему, например, а, Бруно?
— Я тоже городской, — сказал Петр.
— Вы разве не за городом живете, как Бруно? — спросил Ломбер.
— Да, но контора в Версале.
— Тогда конечно.
После некоторого молчания Ломбер вновь заговорил:
— Один мой клиент работает при статистическом агентстве. Он мне рассказывал, что имеется статистика, согласно которой поголовное большинство людей… точную цифру не помню, но что-то около девяноста процентов или больше… считают, что просчитались профессией. Но удивительно не это. Был сделан подсчет, и получилось, что если бы люди выбрали новые, называемые в момент опроса профессии, то полученная картина ничем не отличалась бы от уже существующей в конечном итоге. Получается, что от смены мест слагаемых сумма не меняется. Занятно, не правда ли? Жизнь играет людьми, как мячиками. Но в этом хаосе есть всё же поразительный порядок… — Ломбер победоносно сиял, чувствуя, что на этот раз своим балагурством озадачивает. — Скажу больше, сам я делал такое наблюдение: спросите у человека, кем он хотел когда-то стать… но уже будучи не ребенком, конечно, а взрослым… и вы поймете о нем больше, чем из всего того, чем он в реальной жизни, сегодня занимается. Не согласны со мной, Бруно?
Жосс смотрел на обоих с застывшей улыбкой. Как могла между ними завязаться дискуссия на такой почве?
— Мы и сами можем проделать простой эксперимент, — продолжал антиквар. — Достаточно каждому из нас чистосердечно признаться в том, кем он хотел когда-то стать, и вы увидите, как это будет очень неожиданно. Хотите попробовать?
— Начинайте первым, Жак, валяйте, — сказал Жосс, сдерживая улыбку. — Кем это вы хотели стать, да не стали?
Ломбер взял со столика бутылку бордо, налил себе полбокала, пригубил вино, как профессионал-дегустатор, сложил губы в дудочку, втянул щеки, после чего с серьезным видом ответил:
— Виноделом! После того как понял, что не стану пожарником, а в пять лет, как все мальчишки, мечтал об этом, понятное дело… У нас в семье, по линии отца, у всех были виноградники… — Дожидаясь реакции, Ломбер помолчал, а затем принялся объяснять: — Одно время я даже в специальную школу ходил, уже взрослым. А потом, позднее, хотел лошадей разводить. А стал вот… — Ломбер развел руками. — И знаете, как получилось? Я дал себе клятву: никакого бизнеса! Говорил себе, что, как только удастся наскрести на приличную яхту и иметь, конечно, небольшой доход, чтобы жить на воде, на плаву круглый год… как только смогу — всё брошу. Но все мы мечтаем! — Вздохнув, Ломбер отхлебнул вина и, с недоумением уставившись в бокал, задвигал щеками. — Черт знает что… Только в Нью-Йорке и подают настоящее бордо. Восемьдесят пятого года, а роскошь какая! Попробуйте… Ваша очередь, Бруно… Уверен, что огорошите.
Как-то неуверенно сжавшись, Жосс просиял до ушей инфантильной улыбкой и вымолвил:
— Я хотел стать автогонщиком… Да и был одно время. В чемпионатах в молодости участвовал. — Лицо Жосса приобрело такое выражение, словно он проговорился о чем-то сокровенном и от этого испытывал облегчение.
— Что я говорил! Автогонщиком! — Антиквар вознес руки к небу и сообщнически покосился на Петра. — А вы, Питер?
— Сначала хотел стать шпионом, — сказал Петр. — А потом…
— Подождите… Можно я попробую угадать?
С улыбкой на губах Петр ждал приговора.
— Писателем?
— Нет, я не пишу, — сказал Петр после секундного колебания. — Разве что в молодости… грешил немного.
— О чем я и говорю!
— И какими же вы руководствуетесь критериями… в ваших пророчествах? — спросил Петр.
Отмахнувшись от вопроса, антиквар стал разливать вино по бокалам:
— У меня жена пишет. В стол, правда. Но этот тип мне понятен, его я безошибочно распознаю… Питер, дайте мне сигарету, оставил свои в номере…
Протянув сигареты, Петр всматривался в балагура озадаченным взглядом. За минуту до этого Ломбер казался ему человеком понятным и прозрачным, не совсем, может быть, заурядным, но всё же типичным представителем своего вида, он даже немного отталкивал своей неоригинальностью, слишком был предсказуем в своих реакциях, из-за чего казался пустоватым. Но теперь Петр сознавал, что перед ним человек-загадка, и в очередной раз был поражен, насколько сам он неважно разбирается в людях…
Встреча в галерее на Ист-Сайд-авеню состоялась в тот же день около четырех часов.
Не успели все трое войти в небольшое, темноватое помещение и раскланяться с владелицей крохотного заведения, болезненно толстой миссис с отвисающим зобом, которая смотрела на гостей сквозь линзы очков немигающими глазами, и не успел Ломбер закончить свой ритуал любезностей, требующий от него заметных усилий, как за окнами раздался грохот — такой адской силы, что все переглянулись. Под громовой раскат пришлось раскланиваться еще и с двумя молодыми помощниками в белых брюках, в обязанности которых входило, по-видимому, одними взглядами, прямо с порога охладить в госте пыл или слишком большие ожидания. Еще миг — и разразилась настоящая гроза. Говорить стало невозможно. Но и враждебности в лицах больше не чувствовалось. Разгул стихии чем-то сразу всех сблизил.
Адская канонада сотрясала небо и город над самой головой. По витражам хлестал ливень. Струи воды водопадом стекали по стеклам на тротуар. Из-за пробки, образовавшейся на проезжей части, стоял бешеный шум, машины сигналили. Прохожие жались к витринам. Некоторые, чтобы укрыться от дождя, входили в галерею и все как один почему-то начинали расхаживать вдоль стен, с нелепой сосредоточенностью разглядывая странноватую выставку — ряды эротических рисунков, окантованных в траурные рамки.
Как только ливень стих, к неожиданности всех троих, владелица галереи без лишних вступлений согласилась засвидетельствовать факт своей непричастности к коммерческим начинаниям А. Котсби. По ее утверждениям, тот пользовался шапочным знакомством с ней, а если и умудрялся проворачивать какие-то сделки, сбывать ценные картины, не являвшиеся ее собственностью, то, разумеется, делал это у нее за спиной. Никто из сотрудников галереи не был в курсе его коммерческих начинаний.
Озвученная версия выглядела сомнительно. Ломбер скептически улыбался. Он явно припас еще кое-какие аргументы.
Владелица галереи поспешила выдвинуть свое условие: в том случае, если дело дойдет до суда, она ни при каких обстоятельствах не должна оказаться привлеченной к даче свидетельских показаний. Тем самым ее согласие дать показания против А. Котсби фактически теряло силу. Но Ломбер тут же шепотом объяснил, что уверен как раз в обратном. Ведь удалось добиться главного. И он просил довериться его тактике: он собирался возобновить разговор на следующий день, уже с другими аргументами на руках.
С утра на следующий день Петр побывал в кабинете Лоренса, вместе с мисс Эразм заново перебрал всё досье, дал ей новое поручение и перед уходом позвонил Лоренсу в больницу.
Лоренс принялся расспрашивать о вчерашней «мизансцене», устроенной им в галерее. Ничего нового Петр сообщить не мог. Мисс Эразм, с вечера посвященная в подробности, уже ввела его в курс дела.
Лоренс советовал брать показания в любом виде — пока дают. На ходу сменив тему, он заговорил о своей встрече с Мари Брэйзиер, которая недавно была проездом в Нью-Йорке, возвращаясь домой из Калифорнии. Лоренс стал было расспрашивать о ее домашних неприятностях. Но Петру не хотелось обсуждать эту тему всуе, вперемежку с делами…
Собираясь уходить, Петр уже стоял в дверях, когда мисс Эразм предложила ему задержаться еще на пару минут, выпить чаю. В приглашении было что-то необычное, непротокольное. Хрупкого сложения, в очках, с годами ставшая похожей на провинциальную учительницу по литературе из французской глубинки, откуда-нибудь из-под Мо, мисс Эразм вдруг показалась Петру каким-то живым воплощением противоположностей — между человеком с его обыденными запросами и адским городом, в котором ему приходится жить и работать. Впрочем, и сам город, вид на который открывался из окна тесного кабинета мисс Эразм, выглядел до странности провинциальным. И такой покажется, вероятно, любая мировая столица, когда от нее ожидаешь слишком многого.
Уходить из тихого уютного кабинета ему не хотелось. За чаем, хотя и неурочным, они провели около получаса, обсуждая русскую литературу прошлого века — мисс Эразм как раз зачитывалась Толстым…
В обед планировалась встреча с Рупертом Маджвиком, который к трем часам наметил у себя в конторе настоящий «консилиум» и во что бы то ни стало хотел познакомить Петра с неким Дональдом, по кличке Дон, и с другими «коллегами-детективами», бывшими полицейскими, перешедшими на работу в частный розыск. Перспектива такого знакомства Петра забавляла. Но с Маджвиком предстояло обсудить и другое дело, порученное ему компаньонами, так что не поехать на «митинг» он просто не мог.
До встречи с Маджвиком оставалось немного времени, и Петр вернулся в гостиницу. Войдя в вестибюль, он задержался у шкафчика с газетами, не мог вспомнить, зачем собирался утром просмотреть свежую прессу. Молодой курносый портье в белой рубашке протянул ему конверт с вензелем отеля. В конверт было вложено сообщение, переданное по телефону из Парижа. Составленная от руки по-французски, печатными буквами, телеграмма была подписана Калленборном:
Срочно позвони в Версаль или домой, в любое время.
Неприятное предчувствие вдруг не давало сосредоточиться. Петр не мог взять себя в руки. Звонить прямо из вестибюля? Что за срочность? Новости от Фон Ломова? Что-то стряслось в Версале? Он не решался подняться в номер.
В Париже время уже было позднее, и он позвонил Калленборну домой. Ответила его жена Марго. Едва поздоровавшись, она пошла звать мужа. После продолжительной паузы послышался сиплый голос Калленборна. Он что-то неразборчиво бормотал, откашливался и наконец членораздельно вымолвил:
— Питер, ты только не переживай… Ничего страшного не произошло, все здоровы. Но тебе лучше вернуться.
— Да что происходит, черт возьми?! Ты можешь изъясняться человеческим языком? От Ломова что-то?
— Да нет… — В голос Калленборна закралась нотка облегчения. — С Луизой…
Петр проглотил ком, сел на кровать, чувствуя, что голос его больше не слушается.
— Неприятность с Луизой, Питер, — тянул Калленборн. — Ты слышишь меня?
— Она здорова?
— Да, всё в порядке. Но у тебя жил этот человек… я уж не знаю кем… садовником или так просто…
— Что значит — жил?
— Он арестован… Мне позвонили твои соседи. Вроде как за… за изнасилование.
— Какое изнасилование? Что ты несешь?
— Всех подробностей я не знаю. Знаю только, что он надругался над твоей подругой… Только не волнуйся, с ней всё в порядке.
Петр медлил и не сразу осознал, что вникнуть в смысл сказанного ему мешали последние слова Калленборна: до сих пор весь кабинет считал ее не «подругой», а племянницей.
— Где она?
— Дома, кажется, у себя. Это все, что мне известно.
— Хорошо, я приеду…
Петр стал звонить в Гарн. Там никто не отвечал. Он набрал номер Форестье. Трубку сняла Элен. Она сразу же заверила его, что ждала его звонка, и опрокинутым, перепуганным голосом принялась повторять всё то, что он только что слышал от Калленборна, с несущественными дополнениями.
Всё произошло будто бы около девяти вечера. Из его окон доносился шум, и никто якобы не решался сходить узнать, в чем дело, пока на улице не появилась Луиза. В разорванной одежде, в слезах. За ней на улицу выбежал Мольтаверн. Но легионер сразу вернулся в дом…
Кто именно из соседей и в какой момент позвонил в полицию, соседка не знала. Но когда на место происшествия прибыл наряд из местной жандармерии, Луиза якобы уже успела дозвониться отцу — Брэйзиер как раз оказался в Париже… Незадолго до приезда полиции позвонив в ворота к Форестье, Луиза попросилась к ним в дом, хотела переждать у них, но явно была не в себе. Растерянные и ошарашенные, они с мужем усадили ее на диван, укутали в плед, но не могли из нее ничего вытянуть. Обхватив руками подушку, Луиза заливалась слезами и не могла выдавить из себя ни слова.
Мольтаверна задержали на месте. Когда полиция въехала на аллею, он был на улице. Увидев жандармов, Мольтаверн поднялся к себе наверх и заперся. Пришлось выламывать его дверь. Этим, однако, сопротивление и ограничилось. Пока жандармы выясняли на месте обстоятельства, по горячим следам пытались опросить соседей, Мольтаверн, уже в наручниках, был посажен в полицейскую машину. За Луизу объяснялся Жак. Тем временем приехал Брэйзиер. Не отпуская такси, он схватил на улице какую-то доску и полез к Мольтаверну в машину «объясняться», был невменяем, жаждал немедленной расправы, и его с трудом угомонили. Усадив дочь в вызванное такси, Брэйзиер наотрез отказался ехать с нею в участок для составления каких-то бумаг. Они уехали в город.
Для Петра оставалось непонятным, каким образом Брэйзиер оказался в Париже. Как вышло, что Луиза находилась в Гарне? В его отсутствие она должна была жить у себя. Сам же он и отвез ее накануне вылета на Нотр-Дам-де-Шам. Но труднее всего ему было поверить в «надругательство», в то, что Мольтаверн мог совершить такое, а тем более у него дома.
Мари Брэйзиер находилась в Тулоне уже почти неделю. Во Францию она вернулась неожиданно для себя, раньше намеченного срока. Она и сама не знала, каким образом заметка в местной американской газете о пожарах на юге Франции, на которую она случайно наткнулась, сидя в пляжном кафе, могла подтолкнуть ее к принятию решения. Но она словно очнулась. В один миг Мари вдруг осознала, что провела вне дома почти четыре месяца. К тому же вилла под Мельбурном, которую на время предоставили ей друзья, с конца июня должна была перейти в пользование родственникам хозяев, и ей пришлось бы искать себе другое жилье…
Собравшись за один вечер, Мари с утра пораньше объехала всех знакомых, чтобы попрощаться, и уже в обед вылетела в Нью-Йорк, где ей предстояла пересадка на парижский рейс: прямого рейса ни из Майами, ни из Нью-Йорка в Марсель не оказалось.
Звонить дочери из Парижа во время пересадки Мари не стала: одного часа всё равно бы не хватило, чтобы увидеться. Предупреждать мужа о возвращении домой ей тоже не хотелось, хотя что-то и подталкивало позвонить ему еще в Нью-Йорке, пока она ждала, когда объявят посадку. А затем чувство неизвестности, мучившее ее всю дорогу, уступило место прежней, хотя и притупившейся горечи. И вместо дочери, уже перед тем, как подняться на борт самолета, вылетающего в Тулон, она позвонила мужу и известила его о своем возвращении…
В голове стояла прежняя путаница. Всё опять казалось сотканным из одних противоречий. От мысли, что приходится возвращаться к разбитому корыту, на сердце у Мари немело. Состояние внутреннего разброда и неуверенности в себе ненадолго оставляло ее, когда она заставляла себя думать о детях или о том, как быстро и, если рассудить, впустую пролетели эти месяцы. А затем всё та же неуверенность, всё тот же панический страх вновь в себе запутаться настигали ее с какой-то другой, неожиданной стороны и опять подчиняли себе все ее мысли и чувства.
Мрачный сплин оставил ее уже в Тулоне, когда, выйдя в зал прилета, она увидела в группе встречающих круглое, озаренное радостной улыбкой лицо филиппинца Тома, прислуживающего у них по дому вместе с женой. Низкорослый Том подлетел к ее тележке, схватил чемодан и, немо сияя, повел ее чуть ли не бегом к машине.
Уже через минуту за окнами поплыли знакомые окрестности. Вскоре машину вынесло на плавный съезд с дороги. Замелькали перекрестки знакомых улиц, и сразу потянулась тенистая аллея, выводившая к родной ограде с кипарисами, за которой всё пестрело от цветущих флоксов и высился исполинский платан, издали похожий на слона с поднятым хоботом, а за «слоном» была видна распахнутая на улицу, утопающая в бархатно-черном сумраке парка веранда родного дома.
Внутреннюю сумятицу вдруг сняло как рукой. Чувство беспокойства растворилось в ватном дурмане усталости — той усталости, которая валит с ног только по возвращении к себе домой…
На улице показался Арсен. Еще издали он поразил ее своим невзрачным, каким-то нелепым видом. Наугад ступая по траве, муж пересек газон и застыл на месте, посреди аллеи, уставив на нее вопросительный взгляд. И он не смог побороть улыбку. Хотя чувствовалось, не знает, радоваться ему или плакать.
Мари выбралась из машины и подошла к мужу. Пряча в кулаке недокуренную, дымящуюся сигару, тот четыре раза прильнул к ней щекой и вымолвил:
— Ну вот и слава богу.
Заметно похудевший, с мягким морским загаром, муж был одет во всё вечернее, но плохо выбрит. И этот нетипичный для него, в глаза бросавшийся контраст заставил Мари подумать о том, что в ее отсутствие произошли какие-то перемены.
На улицу вылетела жена Тома, миниатюрная, хорошенькая азиатка, как всегда в белом фартуке и в белых кроссовках. Ликующе переминаясь на месте и едва не кланяясь хозяйке, она порывалась что-то сказать, но была слишком переполнена эмоциями или просто не знала, как лучше обратиться — «мадам», как было заведено, или всё же по имени. Том хотел отогнать машину под навес, и служанка, его жена, перехватив из рук Арсена чемодан, поволокла его ко входу.
Дома всё сверкало от чистоты. Стоял легкий запах цветов. Пышный букет, собранный из садовых роз и частично из полевых цветов, возвышался на столе в хрустальной вазе. Насчет перемен Мари ошибалась ненамного: всё было по-прежнему. Только стены в гостиной и на кухне слегка изменили цвет, их перекрасили. Давал знать о себе и ремонт, сделанный на ее половине. Вещи после ремонта были разложены по своим местам с такой тщательностью, что это придавало комнатам голый, нежилой вид. В ее спальне всё оставалось как в день ее отъезда.
Тонкий аромат чувствовался и здесь. У изголовья кровати стоял в вазе букет из свежей лаванды, которую Мари обычно развешивала у себя на стенах, пока она не высохнет, прежде чем отдать горничной, чтобы та набила сушеными цветами тряпичные мешочки, которые затем раскладывались по шкафам с постельным бельем. И тем радостней было сбросить с себя одежду на кровать. Тем радостней было найти свои вещи, свою библиотеку «НЗ», как Мари ее называла, большое количество сменной одежды в шкафах, несметное количество удобной и уже забытой обуви.
Для Мари на ужин готовили рыбу. Арсен предложил сесть за стол «в обычное время». Это прозвучало неожиданно. Но до ужина ему нужно было отлучиться в город. Он обещал вернуться к восьми и просил начинать без него, если он вдруг задержится. И это тоже прозвучало странно.
Муж уехал. Мари бродила по дому. Заглянув в детскую, она рассматривала содержимое шкафов. Из детской спустилась вниз и вышла в парк. Здесь всё выглядело ухоженным. Том трудился на улице, видимо, каждый день. Мари невольно подмечала, за что здесь предстоит взяться первым делом, и испытывала неожиданную грусть, оттого что оказалась дома одна и не способна заняться каким-нибудь домашним делом сразу…
За ужином Арсен расспрашивал об Америке, о сыне, о Лоренсе, с которым она виделась перед вылетом из Нью-Йорка, о мельбурнских знакомых. Что-то по-настоящему добродушное в его тоне, чего Мари прежде не замечала, сбивало ее с толку и даже чем-то отпугивало. Это было добродушие не мужа, а скорее старого друга, искренне сожалеющего об эпизодичности встреч, но на большее не претендующего из понимания, что дело не в равнодушии к нему, а в неумолимых законах людских отношений, сообразно которым жизнь рано или поздно разводит людей в разные стороны.
Больше всего Мари удивляло то, как плохо она себя знает. Ей казалось странным, как она могла думать еще недавно о том, что должна во что бы то ни стало изменить свою жизнь. Зачем вообще было уезжать? Нужно ли было мчаться в такую даль, чтобы понять одну простую вещь — что бегать от себя бессмысленно? Казалось вдруг очевидным, что попытки изменить жизнь простыми, общедоступными способами — сменив место жительства, круг общения и даже страну проживания, отказавшись от планов на будущее, от иллюзий… — в корне ничего решить не может. Для этого пришлось бы повернуть вспять время и изменить то, что уже было…
Ей вдруг казалось, что и это возможно. Чем больше она думала о том, каким способом этого добиться, тем сильнее ей хотелось окунуться в прежнюю жизнь, но избегая старых ошибок. Заключались же эти ошибки в безвольном, пассивном, как ей казалось, ожидании от завтрашнего дня чего-то невозможного. В то время как само это понятие — завтра — являлось полнейшей фикцией. Жизнь, чуть ли не по определению, сводилась к настоящему, к реально существующему сейчас, сегодня. Всё зависело от того, способен ли человек жить так, как считает нужным, сразу, сию минуту, не дожидаясь каких-то новых возможностей или поблажек от завтрашнего дня.
Лучше всего начинать с простого — с преобразований в доме. Некоторые изменения в планировке казались неотложными. Пора было сделать отдельный вход в ее спальню из сада, — но об этом она думала и раньше. Обе детские пора было превратить в отдельную квартиру, со своим отдельным входом, чтобы дети, приезжая домой, могли вести свой обычный образ жизни, не окунаясь с порога в семейный быт, от которого, конечно, отвыкали. Мари вдруг всерьез подумала о том, что могла бы помочь мужу провести ревизию финансового положения семьи и, если возникнет необходимость, даже помочь ему привести дела в порядок. Часть недвижимости следовало уже сегодня поделить с детьми. В том случае, если у мужа по-прежнему существовали трудности с наличностью, о чем она недавно слышала от дочери, домашнюю жизнь можно было обустроить на время попроще, экономнее, без прежнего транжирства, которое ей всегда претило. Она могла, в конце концов, серьезнее отнестись к сотрудничеству с журналом, на которое до сих пор смотрела лишь как на возможность оставаться на поверхности, на плаву. Ведь нет ничего проще, чем опуститься от скуки. Дно существовало и у семейной жизни.
Размышляя над своими отношениями с мужем, Мари пыталась сегодня взглянуть на них с другой стороны. Был ли ее брак с Арсеном столь ошибочным? Под каким бы углом она ни пыталась смотреть на вещи, теперь ей представлялось очевидным, что необходимо считаться с непреложным фактом: они прожили вместе двадцать лет, вырастили двоих детей, и если в итоге оказалось, что до конца не научились разбираться друг в друге, то в этом не было ничего невероятного или противоестественного. То же самое происходит со всеми. Просто большинство людей тешат себя иллюзиями. Разве не предоставлен человек самому себе с рождения и до конца дней своих? Почему это казалось понятным и даже приемлемым в молодости, но не теперь? Почему позднее, с приобретением настоящего жизненного опыта, понимание таких простых истин стало требовать столь непомерных усилий над собой? Одна или две случайные авантюры, в конце концов, не стоили того, чтобы перечеркнуть двадцать лет совместной жизни. Добиться в отношениях с мужем равновесия, на чем бы оно ни строилось, казалось Мари необходимым и возможным.
Новый, свежий тон отношений, который Мари незаметно, но настойчиво внедряла в домашнюю жизнь, Арсена заражал. Внешне он ничем не выдавал себя, держался с привычной сдержанностью, словно опасался, что любое излияние благодарности будет лишь напоминанием о недавних дрязгах, и, скорее всего, даже не сознавал, что преследовавшая Мари мания перемен стала поглощать в равной степени и его — с той разницей, что ему и в голову не приходило, что в жизни еще возможны какие-то перемены. Успев смириться с мыслью о разводе, Арсен не мог переделать себя в считаные дни.
В те же дни ему предстояла поездка в Париж. Поездка была некстати. Но сколько он ни звонил в Париж, чтобы отложить запланированные дела, перекроить планы не удавалось. Мари настояла на том, чтобы он оставил всё как есть. Муж уговаривал ее поехать вместе. Какой ни есть, но всё же повод навестить дочь и взглянуть на ее новую квартиру. Мари отказалась: ей не хотелось вновь собирать чемоданы, к тому же дочь скоро собиралась домой…
На второй день после отъезда мужа около девяти вчера в ворота въехало такси. Оно остановилась на площадке перед домом. Из машины вышел Арсен. Затем Мари увидела и дочь.
С радостным возбуждением она направилась к машине, и еще не успела пересечь газон, как по виду обоих поняла, что произошла большая неприятность.
Луиза понуро смотрела в землю. Казалось, что дочь не рада ни ей, ни приезду домой.
— Что случилось? Почему вы не предупредили? — проговорила Мари. — Да что произошло?!
И муж и дочь молчали. Мари схватила дочь в объятия. Прелый нездоровый запах волос Луизы поразил ее. Муж расплатился с таксистом, оттащил на траву чемодан и сумку Луизы и, развернувшись с какой-то решимостью, попытался что-то объяснить, но лишь взмахнул рукавами. На нем не было лица. Под глазами чернели круги усталости.
— Да что с вами, объяснит мне кто-нибудь?! Луиза, что с тобой? — Мари постаралась отнять голову дочери со своего плеча, но та вцепилась в нее изо всех сил и содрогалась в беззвучных рыданиях.
— Сейчас я всё объясню… Только не волнуйся, ради бога, ничего страшного… — Брэйзиер направился в дом.
Объяснять Луизе пришлось всё самой, поскольку отец опять не мог выдавить из себя ни слова, сразу же вышел из себя. Суть происшедшего стала Мари ясна в несколько секунд, и сколько бы дочь после этого ни говорила и ни объясняла, Мари не смогла бы почерпнуть из ее слов уже ничего существенного.
Потрясенная, Мари сидела какое-то время без движения, а затем, когда она всё же заговорила с мужем, голос ее не слушался, и ей пришлось замолчать.
Муж опять вскочил и, задыхаясь от гнева, стал расхаживать по комнате, но по-прежнему не мог произнести ничего членораздельного. Затем он вышел в сад и закурил сигару… Единственное, что Мари удалось выжать из него позднее, — это угрозы в адрес Вертягина.
Поздно вечером, когда Луизе уже постелили, Мари попросила Тома перенести кровать дочери из детской в ее спальню. Оставив дочь одну, она вернулась к мужу. Арсен как будто бы взял себя в руки и решил обсудить главное, то, что он считал главным, причем считал своим долгом сделать это уже давно, особенно после случившегося, но как-то не получалось… — с такого многословного вступления он начал.
— Арсен, я ничего не понимаю, ты же видишь…
— Я должен тебе кое в чем признаться, Мари.
— Ах, прошу тебя… — По лицу Мари прометнулся испуг. — До этого ли сейчас?
— Это касается не меня… Луизы, — пробормотал Арсен. — Я был вынужден скрыть от тебя одну вещь, когда у нас… Ну, ты помнишь, ты обращалась к Питеру с разводом… Так вот, у меня с ним вышел разговор тогда… По поводу Луизы…
— Что за моду вы все взяли вот так разговаривать? — взорвалась Мари. — Кружить вокруг да около… Объясни прямо, прошу тебя! О чем ты говоришь?
Арсен помусолил во рту потухшую сигару, плеснул себе в рюмку коньку, уже в третий раз за вечер, и, уставившись в пустоту, не своим голосом произнес:
— Она живет с ним, вот в чем проблема.
Мари смотрела на мужа сбитым с толку взглядом, после чего, переборов свое потрясение, спросила:
— Кто и с кем?
— Луиза с Вертягиным.
— С чего ты взял?
— Ну, я давно догадывался… И тогда, зимой, я решил поговорить с ним. Всё оказалось правдой, Мари. Все… Это уму непостижимо!
— Я не могу в это поверить!
— Я совершенно серьезно, Мари…
Мари изучала мужа с какой-то новой сосредоточенностью и постепенно менялась в лице.
— Ни ты, ни я, мы не смогли бы ничего изменить. Это было не в наших силах, Мари! Я старался смотреть на вещи здраво, вот и всё…
— Здраво… Да ты спятил, — обронила она.
Уставив на жену нерешительный взгляд, Арсен мотнул в знак согласия головой:
— Я предвидел такую реакцию. Поэтому и не хотел говорить… А теперь… Теперь убить его мало!
С видимыми усилиями пытаясь перебороть судорожные наплывы гнева, Арсен встал, залпом опрокинул остаток коньяку, но не успел взять себя в руки, как Мари поднялась с дивана, что-то быстро проговорила и вышла из комнаты. Выражение ее лица его поразило…
Первые двое суток прошли для Петра как во сне. Он вылетел из Нью-Йорка в тот же вечер и добрался до Парижа во второй половине дня.
Шел проливной дождь. Духота пасмурного летнего дня усугубляла усталость, вызванную бессонной ночью. Усталость растекалась по телу словно сильный, но медленно действующий яд. Петр с трудом соображал, что делать, с чего начинать.
Прежде чем идти к стоянке такси, он еще раз позвонил на Нотр-Дам-де-Шам. В который раз тот же голос-автомат ответил, что абонент отключен. Петр не понимал, действительно ли Луиза сменила номер телефона или линия оказалась отсоединенной по какой-нибудь другой причине. Когда он звонил на этот номер из Нью-Йорка, он успокаивал себя тем, что, видимо, совершает ошибку при наборе, хотя это и казалось маловероятным. Теперь же успокаивать себя было нечем.
В Версале ответила не Анна, а Калленборн. Удивившись его быстрому появлению, на следующий же день после его звонка, Калленборн будничным тоном поинтересовался, с какими результатами он вернулся. Имелись в виду дела Жоссов? Петр промолчал.
Калленборн поспешил заверить, что «по поводу Гарна» ничего нового сообщить не может, советовал не паниковать, ехать в Гарн, тем временем обещал справиться о последних новостях и позвонить ему домой как раз к его приезду. Но Петр не знал, зачем ему ехать в Гарн. Он не знал, куда ехать в первую очередь…
Решение ехать домой он принял уже в такси. Какое-нибудь сообщение могло ждать на автоответчике. Да и невозможно было приступить к каким-либо действиям, не разобравшись в случившемся…
Ограда оказалась запертой. Дом выглядел каким-то вымершим. Во дворе тоже ни малейших признаков жизни. На первом этаже в глаза бросался некоторый беспорядок. В камине оставалась неубранная зола. Поверх золы был набросан ворох газет. Но камин так, видимо, и не растапливался все эти дни. На кухонном столе валялась недочищенная луковица, стояла раскупоренная, едва начатая бутылка белого бургундского и тут же были брошены две грязные тарелки с остатками салата и сыра, а в гостиной по креслам была разбросана одежда: старый пиджак Мольтаверна, хозяйственные рукавицы, рабочий боб, заляпанные чернилами джинсы Луизы, в одном из карманов которых Петр обнаружил помаду без колпачка, смятую сигарету и ключи от квартиры на Нотр-Дам-де-Шам.
Дверь на террасу оказалась незапертой. Петр вышел в сад.
Пристально разглядывая мокрые, дымящиеся от пара газоны, он изучал их от края до края, просматривал каждый клочок травы, словно надеялся обнаружить в ней какой-то тайный знак, оставленный специально для него, а то и вещественное доказательство тому, что всё услышанное до сих пор не было просто бредовым сном. Потом он обогнул дом с тыла, подошел к лестнице, ведущей в комнатушку Мольтаверна, постоял, стряхнул воду с мокрых, ледяных перил и поднялся наверх.
Дверной замок был выломан. Внутри стоял спертый запах сырости и мыла. Постель Мольтаверна была разобрана.
Петр вернулся вниз, надел чистую рубашку, сходил к соседям, но никого не застал. Возвратившись к себе, он собирался звонить Калленборну, но вместо этого машинально набрал рабочий номер Шарлотты Вельмонт.
Сразу его узнав, Вельмонт едва не вскрикнула. Она была в курсе случившегося, но сохраняла какое-то странное спокойствие: изъяснялась медленно, взвешивала каждое слово. От Петра не ускользнула интонация не то изумления, не то негодования — понять было трудно. Казалось, что Вельмонт сразу же хочет расставить все точки над «i» и дать ему понять, что она, как и все, имеет право на собственное мнение. Вельмонт становилась на сторону легионера?
Она стала доводить до его сведения последние новости — уже из следственных кулуаров. После задержания Мольтаверна отвезли в какую-то временную каталажку, а минувшим утром доставили к судебному следователю, где тот сразу во всём «сознался». Расследование было поручено судебному следователю Берже, который пользовался репутацией добросовестного исполнителя, лишенного каких-либо личных амбиций. Уже от следователя Мольтаверна препроводили в камеру предварительного заключения. Анализы, которые были взяты у него и у Брэйзиер-младшей, давали якобы подтверждение всем уже собранным показаниям. Луиза Брэйзиер будто бы подала официальное заявление. Но с ней самой всё обстояло благополучно. Не считая каких-то «следов» на теле и «легкой спинной травмы».
При перечислении «следов», как и при слове «анализы», Петр чувствовал, что на голове у него шевелятся волосы. Столь подробными и, пожалуй, не очень легальными сведениями Вельмонт смогла обзавестись не через Шанталь Лоччи, как Петр сразу подумал, а через своего бывшего мужа, недаром тот был отставным судьей.
Он внимал ей с досадой. Своим тоном Вельмонт заставляла его признать очевидное — а именно то, что его тоже мучают сомнения насчет главного: кто виноват в случившемся? Впрочем, не торопилась ли Вельмонт с выводами, как всегда отдавая предпочтение тому, что оказывалось ей ближе по чистому совпадению, и не понимая, что тем самым опускается до принципа: своя рубашка ближе к телу.
Петр спросил, куда именно отвезли Мольтаверна. Вельмонт назвала не адрес, а знаменитую тюрьму в одном из пригородов Парижа…
Петр позвонил в Тулон. Домашний телефон Брэйзиеров изменился и там. Теперь он уже ничему не удивился. Искать новые номера телефонов через справочную службу было, конечно, бессмысленно. Не удивился он и тому, что, дозвонившись Брэйзиеру в контору и попав на секретаршу, с которой он был обычно накоротке, он не мог от нее ничего добиться. Секретарша уверяла, что «патрон» в отъезде. Однако отказывалась уточнить, куда именно Брэйзиер уехал, — явно имела какие-то инструкции на этот счет.
Вечером Петр съездил на Нотр-Дам-де-Шам, никого там не застал. После этого он окончательно утвердился в мысли, что Луиза находится у родителей. Отец, скорее всего, сразу же увез ее домой. Но на месте Брэйзиера он поступил бы точно так же…
Элен и Жак Форестье оказались дома в Гарне, с нетерпением его дожидались. Как только он вошел к себе, они позвонили в его калитку, молча прошли в гостиную и сидели как заколдованные на его грязных рубашках, вываленных из чемодана на диван, а затем стали переливать из пустого в порожнее уже известные факты.
Жак боялся поднять на Петра глаза. С безоглядной немужской логикой архитектор продолжал уверять, что ничего страшного не произошло. Главное, на его взгляд, что вся эта история не имеет последствий для самой Луизы. Что же касалось Мольтаверна, никто не мог помочь ему с самого начала. Для таких, как он, проще было бы родиться заново. Сосед заговаривался, его переполнял гнев.
Угадывая в лице Петра холодный отпор на каждое свое слово, архитектор терялся. И супруги уже наперебой пытались убеждать его, что теперь нужно думать о себе, о Луизе, о ее родителях…
По возвращении с дочерью из Парижа Арсен Брэйзиер по-настоящему пришел в себя только через день. В чувства его привел не столько вид жены, которая всё еще не могла оправиться от своего потрясения и выглядела немного невменяемый, сколько звонок шурина. Тот разыскивал Луизу.
Вертягин пообещал нагрянуть в Тулон. Брэйзиер не сомневался в том, что тот выполнит свою угрозу. Он был уверен, что Вертягин появится не позднее чем к обеду следующего дня, но, скорее всего, утром…
Никогда еще Брэйзиер не испытывал ни к кому подобной ненависти. Не находя выхода, эта ненависть выворачивала его наизнанку, душила до потемнения в глазах. Однако чувство гнева, от которого в горле у Брэйзиера ссыхалось, не мешало ему взвешивать положение трезво: выяснение отношений пока лучше было отложить. Но появлению шурина на пороге своего дома следовало помешать любой ценой.
Отправить дочь и жену куда-нибудь отдыхать, подальше от дома? Но не так-то это было просто. Жена отказалась бы собирать чемоданы. Любую его идею она приняла бы сейчас за очередную блажь. Предложить уехать всем вместе, например, в Рокфор-ле-Па? Но что это могло изменить? Вертягин мог заявиться и туда. Адрес ему тоже был известен. Да и вряд ли Мари согласилась бы ехать в «Бастиду». Следы недавней «эпопеи», произошедшей в Рокфор-ле-Па, оставались еще слишком свежими. Благоразумнее было избегать любых упоминаний об унизительной для обоих ситуации.
Другая идея, тоже довольно навязчивая (что, если уехать всем вместе в их семейный коттедж, находившийся в лагере «нудистов» в Ландах?), отпала уже последней, лишь после звонка местному психологу, к которому дочь наотрез отказывалась пойти на собеседование. После того, что она пережила в Гарне, тот не советовал везти ее в такое место, где ей пришлось бы смотреть на обнаженных людей. А в Ландах этого было бы не избежать: как на пляже, так и в самом лагере отдыхающие разгуливали в чем мать родила. Оставалось уехать куда-нибудь за границу. На морской курорт за пределами Франции? В Италию? В Испанию? В горы наконец? Куда-нибудь под Интерлакен? Но и за границу жена вряд ли согласилась бы ехать теперь, не успев прийти в себя после недавней поездки. Брэйзиер не знал, с чего начинать.
Решение родилось само собой. «Коллега» по бизнесу, известный в городе «парфюмерных дел мастер», как его некоторые называли, некто Жан Диарр держал в Ландах, выше по побережью, в Сулаке, загородный дом, который приобрел лет десять тому назад с его же, Брэйзиера, легкой руки. Брэйзиер вспомнил об этом, когда Диарр позвонил ему утром в понедельник по делу.
Пришлось, правда, наплести с три короба. После недавней болезни, которую перенесла дочь, ему якобы хотелось отвезти «своих» на отдых куда-нибудь в «родные края». Диарр, как всегда, был рад услужить. Он предложил свой дом до конца июля.
На всё остальное ушло не больше часа. Секретарша забронировала три билета на вечерний авиарейс. Брэйзиер тут же позвонил домой и бодрым тоном уведомил Мари, что в шесть вечера они вылетают втроем в Бордо. Он просил ее собрать вещи — свои, дочерины и его.
Мари начала было отчитывать его за «импровизацию». Однако в этот момент она еще не знала, что самым неприятным для нее окажется необходимость копаться в вещах мужа, в его нижнем белье, по мере сбора его чемодана. И уже почти отговорив его от этой затеи, она вдруг разом сдалась…
В конце концов, всё получилось с такой неожиданной оперативностью, что Брэйзиер, храбрясь, стал подумывать о том, чтобы растянуть поездку недели на две, на три, смотря по обстоятельствам. Сам он намеревался вернуться в Тулон через неделю. В этот период года он не мог пустить дела на самотек. Но ведь ничто не мешало ему опять поехать в Сулак на выходные?..
Дачный дом Диарра на окраине Сулака окружала настоящая сосновая роща. Многолетние рослые сосны издавали тихий ровный шум, на фоне которого даже собственная речь звучала как-то неестественно, слишком резко. А воздух казался настолько чистым и свежим, что не удавалось надышаться. Добротный кирпичный особняк с белыми ставнями, обнесенный кустами боярышника и металлической изгородью, изнутри весь белый и светлый, к прибытию Брэйзиеров был тщательно прибран и проветрен. Человек по натуре широкий, Жан Диарр успел распорядиться о найме горничной, причем за свой личный счет, о чем он сообщил Брэйзиеру в последний момент. Брэйзиеру не оставалось ничего другого, как с чистым сердцем принять дружеские благодеяния.
Элеонора, горничная лет пятидесяти, накрыла на стол в саду под елью. Вечер выдался тихий, теплый. Уже смеркалось. Прибранный, пустынный сад, видневшиеся над изгородью крыши соседних домов, обступавшие ограду сосны, сам воздух — всё быстро погружалось в вечерний полумрак. Небо же оставалось синим, чистым. На нем не было ни единого облачка. Контрастируя с блеклостью вечерних красок земли, небосвод приобретал какие-то бескрайние размеры. Над океаном, там, где еще минуту назад глаза ласкал алый диск солнца, налившаяся темной тяжестью фиолетовая гладь неба быстро затекала нежно-коралловыми разводами. А левее, примерно на юго-востоке, успела взойти луна. Полная и небывало большая, она еще до наступления ночи светилась так ярко, что взгляд, а возможно, какой-то внутренний нерв, оберегавший от чрезмерной восприимчивости, не выдерживал ее раскаленной белизны дольше секунды. Горький аромат сухой хвои и прогревшегося за день песка, ровный гул прибоя, доносившийся одновременно со всех сторон, теплыми волнами наплывающий юго-западный ветер — всё вдруг приводило в легкое оцепенение и едва не отчуждало друг от друга.
Брэйзиеры молча сидели за садовым столом, покрытым белой скатертью, по центру которого высился пышный букет бледно-лиловых георгинов, и ждали инициатив от горничной. Настоящая профессионалка в своем деле, она каким-то чутьем предугадывала все желания. Вмешиваться в ее ритуал не хотелось.
Элеонора поинтересовалась, какое лучше открыть вино. Мари было всё равно. Арсен предпочитал бордо. Горничная принесла местный «медок» пятилетней выдержки, аккуратно откупорила бутылку, предложила понюхать пробку и уже через десять минут, следуя каким-то своим обычаям, стала разливать по тарелкам холодный овощной суп, рассказывая о погоде и выдавая сводку последних известий.
Хорошая погода, наподобие сегодняшней, установилась всего три дня назад. Температура не превышала днем двадцати трех градусов. Море же осталось холодным, что для конца июня не совсем обычно. Лето же вообще пришло с запозданием. Отдыхающих пока мало. Туристический сезон грозил обернуться крахом для местной розничной торговли, которая в летние месяцы нагоняла обычно упущенное за предыдущие месяцы. Многие уже сегодня жаловались на убытки. Элеонора заверила, что комаров в доме нет, что окна на ночь можно оставлять открытыми, но на всякий случай она всё же оставила во всех спальнях по пузырьку лимонной эссенции — идеальное, на ее взгляд, средство…
В шортах и в белом шерстяном свитере, Луиза молча ковыряла свежий багет и к супу не притрагивалась, чем немного сбивала с толку щепетильную Элеонору. Мари не могла не заметить, как сразу же по приезде в Сулак в лице у Луизы произошла какая-то перемена. На душе у дочери что-то развязалось. В глазах даже появился неспокойный блеск, вызванный каким-то ребяческим возбуждением, который она испытывала, по-видимому, от одного вида знакомых мест — Ланды дети полюбили с детства. Как быстро летело время. Дочь стала уже слишком взрослой, чтобы делиться своими чувствами с ними, с родителями. Мари сковывала непонятная грусть. Минутами ей даже хотелось уединиться и просто, без всякой причины поплакать…
Муж ел за двоих, пил за троих и считал себя, несомненно, главной и единственной причиной свалившейся всем на голову благодати, сводившейся к простым, как всегда, житейским радостям, которыми так просто может одарить теплый приморский вечер, чужая заботливость и собственное здравомыслие, если уметь принимать себя таким, какой ты есть на самом деле. Утопая в своих ощущениях, муж, как всегда, не замечал, что эти простые радости в ней, в Мари, вызывают совсем другие мысли и эмоции.
От вина, как и от мяса, Мари отказалась. Она ограничилась одним супом. Несмотря на застывшую полуулыбку, она выглядела разбитой. Атмосфера застолья казалась ей фальшивой. Ужинать вместе за одним столом давно не удавалось. И может быть, поэтому давно не представлялось возможности убедиться в том, что идиллическое семейное прошлое кануло в небытие безвозвратно. Отношения, объединяющие их сегодня, держались на одной привычке, с которой никому не хотелось расстаться.
Попытки мужа изображать из себя главу семейства казались Мари пошловатыми. Мгновениями Мари казалось, что дочь не может не испытывать тех же чувств к отцу, и она спохватывалась. Но даже материнский инстинкт не мог притушить в ней нараставшего раздражения. Разве на это она рассчитывала три дня назад? Разве в эту жизнь она хотела вернуться? И разве не был муж прав, когда, пытаясь притупить ее бдительность, разглагольствовал дома о том, что несчастья сближают людей сильнее, чем «телячьи радости» совместного быта или принадлежность к стаду отборных животных? Если так, если не сближали больше и несчастья, то что могло заставить их теперь жить вместе?
Муж был ей неприятен. Отталкивала его манера нести за столом несусветную чепуху, причем с самым серьезным видом. Неприятно было употребляемое им, не новое, но с какой-то новой иронией выговариваемое обращение «дорогая». Неприятно было то, как он треплет дочь за волосы, обращаясь с ней как с маленькой или как с больной. Мари коробила его жестикуляция, слишком отточенная, но вовсе не рафинированная, как ей когда-то казалось. Это была самая что ни на есть типичная пластика гомосексуалиста. Теперь она не могла этого не видеть.
Она не могла смотреть, как муж промокает губы салфеткой, как он собирает на краю своей тарелки хлебные крошки, как, заглатывая пищу, шевелит кадыком и рыбьим ртом. Благодушно теша себя уверенностью, что ему удалось обвести всех вокруг пальца, что он опять стал хозяином положения, слепо веря в то, что всё на свете происходит именно так, как это нужно ему, он оставался слеп к главному. Муж был по-своему тонок, как все, на взгляд Мари, мужеложцы, но был катастрофически неумен. Он не понимал даже того, что нить его отношений с дочерью рвется так же необратимо, как порвалась с ней самой. Мари вдруг сознавала, что могла терпеть мужа в жалкой роли, в том невзрачном виде, в каком застала его в день своего возвращения в Тулон, но совершенно не может принимать его таким, каков он есть в действительности…
В последующие дни Мари дожидалась одного — чтобы муж поскорее уехал домой. Она планировала провести на море еще несколько дней, а затем собиралась ехать не домой, а в Париж. Кому-то же нужно было расхлебывать последствия случившегося. Кроме того, Мари всерьез подумывала заняться поисками регулярного заработка. С какой-то небывалой ясностью она понимала, что для достижения намеченных целей — каких именно, она и сама пока не совсем понимала — следовало всё делать спокойно и нельзя было торопить события. И это было, пожалуй, единственным настоящим уроком, который она вынесла для себя из событий последнего времени.
После отъезда мужа — он выдержал всего четыре дня — Мари предложила дочери переехать в их собственный коттедж, находившийся в Монталивэ, на территории лагеря нудистов; ей не хотелось оставаться в чужом доме. Луиза идею одобрила, и уже после обеда они обживались на новом месте.
В огромном лагере — он представлял собой отгороженный от глаз непосвященных прибрежный сосновый бор, тесно застроенный коттеджами, магазинами, кафе, ресторанами — было уже людно. Сезон был в разгаре. Несмотря на невысокую температуру воды, в первой половине дня пляж был переполнен обнаженными телами, молодыми и старыми, стройными и стареющими, обрюзгшими. Но чужая нагота приковывала к себе взгляд, как всегда, лишь в первые минуты.
Программа кинофильмов, показ которых проходил в летнем кинотеатре под открытым небом, катание нагишом на велосипедах, людные кафе, пиано-бары с какими-то ненастоящими, но оттого, пожалуй, и симпатичными музыкантами — как правило, это были французы, выдававшие себя за англосаксов, — прохладные вечера, терпкий запах соснового леса, а по ночам — тишина, в которую врывался гул прибоя, звездное небо, светлые лунные ночи, такие светлые, что облака на фоне озаренного снизу, как от рампы, неба казались черными, как на фотонегативе, словно их оконтурили флуоресцентным фломастером, — за годы здесь ничего не изменилось. Всё это быстро возвращало Брэйзиеров в привычное, но немного забытое отпускное настроение. В доме Диарров всё было по-другому.
С отъездом мужа дочери тоже стало легче, Мари не могла этого не замечать. Луиза больше не заставляла себя изображать жертву, что делала, скорее всего, безотчетно, в угоду отцу. Вид же обнаженных тел, в том числе мужских, не производил на нее того кошмарного впечатления, которое предрекал отец.
В день приезда в лагерь, вечером, они сидели вдвоем в ресторане, находившемся на территории лагеря. В обычные часы это был обыкновенный рыбный магазин, а в обеденное время — людная забегаловка, где можно было заказывать простые рыбные блюда, при этом неплохо, по-домашнему приготовленные. Мари испытывала неожиданную радость от возможности оказаться с дочерью в людном месте. Так случалось раньше, годы назад, когда Луизе было года четыре и они, бывало, шли по улице вместе, держась за руки. Давнее, забытое чувство близости с дочерью вливалось в нее теплыми волнами. Говорить ни о чем не хотелось. Когда же Мари, принявшись за принесенные им устрицы, невзначай завела разговор, который напрашивался с первого дня, но приступить к нему казалось ей непосильным, она и сама была удивлена своей решимостью.
— У нас с твоим отцом вышел один разговор… Мне бы хотелось кое-что спросить у тебя, услышать из твоих уст… — произнесла Мари непринужденным тоном.
— Ты о чем?.. О Пэ? — сразу догадалась дочь.
— Твой отец сказал мне, что… Ну, что у вас с ним другие отношения. Не такие, как я думала.
Луиза уткнулась глазами в стол. В лице ее появилось что-то прежнее, отрешенное и жесткое.
— Только прошу тебя… Если тебе неприятно, не будем об этом… — Мари вдруг усомнилась в своих намерениях.
— Нет, не волнуйся.
Мари не решалась начать расспросы, не решалась задать главный, мучивший ее вопрос.
— Ты хочешь знать, правда ли всё… Правда ли, что я с ним жила? — опять опередила ее дочь. — Мам… это абсолютная правда.
Мари и бровью не повела. Стараясь сохранить самообладание, она отвела взгляд в сторону и машинально следила за стариком в аллейке соснового парка, который отставил велосипед к сосне и зачем-то набирал в карманы куртки кусочки коры.
— Почему это вас так шокирует? — спросила Луиза.
— Не шокирует. Пойми меня…
— Потому что он дядя мне? Возраст?
Помолчав, Мари отрешенно произнесла:
— Это, наверное, не самое страшное.
— Мам, скажи прямо: что вы от меня хотите?
— Только не горячись, прошу тебя. И не вали всех в одну кучу. Мне абсолютно всё равно, что думает твой отец… Но ведь Петр… — Мари поймала на себе упрямый взгляд дочери. — У него своя жизнь. Он другого плана человек, Луиза. Ты многого еще не понимаешь и многого не знаешь.
— Ты меня что… презираешь? — вдруг спросила Луиза.
Пораженная этим вопросом, Мари взяла дочь за руку:
— Не выдумывай. Я не к тому спрашиваю. Давай-ка вот что… успокоимся и больше не будем об этом. Если захочешь… сама захочешь об этом поговорить, то мы продолжим этот разговор… в другой раз. А если тебе тяжело, то больше вообще никогда не будем обсуждать эту тему. Даю тебе слово… Ты согласна? Просто ты не должна носить это в себе… Это тебя разрушает… Обещай мне!
Луиза молчала. Но губы ее задрожали. Обслуживавшая их молодая официантка, вышедшая к столам что-то проверить, поймала взгляд Мари и ответила ей сочувственной улыбкой. Мари догадалась, что они говорят за столом слишком громко, в тесноте ресторана их мог слышать кто угодно.
— Мне только непонятна его реакция, — произнесла Луиза после молчания. — Или он не понимает? Почему он не хочет со мной говорить?
Луиза имела в виду утверждения отца о том, что Петр избегал объяснений. Дозвонившись к ним в Тулон, он будто бы отказался говорить по телефону и с ней, и с матерью.
— Не знаю, милая. Мало ли что может быть, — ответила Мари. — Но это не важно, поверь… Всё образуется… Я, кстати, вот что решила: ты поедешь домой без меня, а я уеду в Париж пораньше, хочу всё выяснить… Всё уладится, поверь моему слову. Ты веришь мне?..
Пожилая бельгийская пара, которой принадлежал соседний коттедж, не оставляла Мари с дочерью одних ни вечера. Одно из застолий, устроенное бельгийцами в субботу по случаю прибытия двух племянников, проходило в присутствии пожилой французской пары, отдыхавшей где-то рядом, вне лагеря, и другого бельгийца, сорокапятилетнего худощавого мужчины родом из Брюгге, но жившего в Париже, который оказался душой застолья и немного озадачивал своим бурным темпераментом.
Альфред Гварнерри был давним знакомым хозяев. Он проводил в лагере, как и они, всё лето, арендуя скромную, как уверял, «хижину» в северной стороне. Бельгиец утверждал, что годы назад они с Мари уже встречались — в то время он приезжал в лагерь не столько на отдых, сколько на заработки, заведуя литературными вечерами. Но Мари его не помнила. Теперь же хозяева отрекомендовали его как знаменитого автора детективов…
Наутро, проезжая мимо коттеджа на велосипеде, Гварнерри застал Мари на веранде и съехал с тропы, хотел поздороваться. Мари готовила завтрак, и бельгиец был приглашен на чашку чаю.
Без ложной скромности он попросил вместо чая кофе, с наслаждением выцедил чашку без сахара и, чему-то ухмыляясь, совершенно непохожий на себя вчерашнего, стал расхваливать опрятность их домика, жаловался на перепады атмосферного давления и на изнурительную скуку отпускной жизни.
Когда же к столу вышла Луиза — босиком, в шортах и в майке до колен, — гость стал разглядывать их обеих бесцеремонным мужским взглядом, словно сравнивая их между собой. Мари стала озадаченно морщить лоб.
— Я тоже не выношу долгих каникул, — сказала она. — Раньше как-то не замечала… Нужно чем-то заниматься. Не сидеть вот так, как мы, с утра до вечера.
— Не спасает… Поглядите на меня — живой пример, — заверил Гварнерри.
— Вам удается здесь писать?
Гварнерри отмахнулся:
— Удается. По книге за лето… Под диктофон довольно быстро получается. Но работой сыт не будешь.
— В такой праздной атмосфере, наверное, нелегко заниматься чем-то серьезным? — спросила Мари.
Не отвечая на вопрос, бельгиец уставил на нее насмешливый взгляд.
— Чем вы заняты после обеда? — спросил он. — На катере не хотите прокатиться?.. Настоящий морской катер, не резиновый матрас — не волнуйтесь… Ехать за ним, правда, нужно в Сулак. Здесь ведь нигде не пришвартуешься, одни дюны…
— Мы только что оттуда, — сказала Мари. — Мы провели в Сулаке несколько дней…
— А я хоть сейчас, — произнесла Луиза с показным безразличием. — Если вы маму уговорите…
Мари медлила.
— Вот и отлично! Я заеду за вами… Около двух! Что-нибудь теплое из одежды у вас есть, надеюсь?..
Прогулка получилась неудачная. Как только катер отдалился от берега, стала чувствоваться волна. Ветер усиливался, и Мари стало плохо. Но до нее не сразу дошло, что ее просто укачивает. А на обратном пути еще и полил дождь. Все трое вымокли до нитки. В крохотной каюте, где можно было укрыться, не удавалось выдержать больше минуты. Стоял невыносимый запах тухлой рыбы. Гварнерри уверял, что вонь осталась от прежней рыбалки, которая вышла «сказочной», просто, приплыв домой, он забыл в трюме наживку из кальмаров.
Через день Гварнерри предложил повторную прогулку, но на этот раз звал уже на рыбалку. Гварнерри опять сумел их уговорить, опять благодаря Луизе, и следующий выход в море, предпринятый втроем через день, стал для Мари самым памятным событием за всё время пребывания на море.
С этого дня отпускная жизнь вошла в новый ритм, и Мари откладывала отъезд в Париж со дня на день…
Оказавшись в камере тюрьмы, в небольшой, на двоих оборудованной комнатушке, больше всего Леон Мольтаверн был поражен тем, насколько пребывание в заключении и сама атмосфера тюрьмы казались ему привычными. Крохотное световое оконце, раковина, унитаз, отгороженный от общего жилого пространства перегородкой, — всё здесь было знакомо. Точно так же выглядели все прежние места отбывания заключения, в которых ему довелось побывать раньше.
Те же крашенные в желтый цвет цементные панели. Те же голые коридоры, в которых изредка просыпалось эхо голосов. Тот же запах, чем-то напоминавший школу. Те же невозмутимые, меланхоличные лица тюремщиков. Не удивляла ни духота в камере, ни запах мочи из сливного отверстия в умывальнике, ни резкий запах пота вперемешку с чем-то еще, не сразу понятным, но особенным, который исходил от сокамерника. Леон знал наперед, что через несколько дней от него точно так же будет вонять потом. Этого невозможно было избежать из-за спертого воздуха. Не мог не сказываться и неподвижный образ жизни, а также тяжелая тюремная пища.
С сокамерником скорее повезло. Им оказался рослый, сероглазый малый с прожженным взглядом каторжника, любивший расчесывать свои черные бакенбарды, которые идеально сочетались с преступной физиономией профессионала уголовника. Погоревший на мелком уличном разбое, но с применением огнестрельного оружия, тридцатипятилетний Эмиль дожидался суда второй месяц. Он отличался покладистостью, редкой для тюрьмы уступчивостью. В день появления Леона в камере он почему-то сразу предложил ему свою нижнюю койку, а сам перебрался на верхнюю. В меру разговорчивый, в меру молчаливый, за время пребывания в предварительном заключении Эмиль уже успел обрасти настоящим панцирем тюремных привычек, многие из которых при всей своей безобидности граничили с чудачествами. Но в следственном изоляторе это становилось общим уделом. Так, в часы досуга Эмиль занимался вязанием, и делал это с поразительным усердием, быстро постукивая спицами и причмокивая губами, будто бы от удовольствия. На протяжении всего дня он не переставал смачивать водой затылок — для свежести, как он уверял. За завтраком Эмиль подсыпал в кофе щепотку соли — для усиления вкуса. А когда наступала его очередь сидеть на унитазе за перегородкой, то он никогда не завешивал себя одеялом, как это делал Леон, и никогда не мыл рук после туалета. С отбоем забираясь к себе наверх, Эмиль подолгу шуршал страницами журналов, сопел, на всю камеру охал, ворочался, так что кровать, вмурованная в стену, ходила ходуном, и из-за стены начинали стучать чем-то металлическим.
Когда же однажды Эмиль предложил им свое чтиво, дал им «попользоваться», Леон обнаружил на глянцевых разворотах снимки писаных красавиц. Полуобнаженные рокерши были развешаны, распяты на бензобаках и на сиденьях мотоциклов, готовые прыснуть из-под шнуровок всеми соками. А одна из красоток, прикованная цепями к капоту рыжего от грязи пропашного трактора, позировала с таким видом, будто участвовала в каком-то кровожадном обряде и собиралась принести себя в жертву при всем народе. Разглядывая облезлые, засаленные картинки, Леон вдруг понял, что от его сокамерника воняет не потом, а прелой кожей…
Новичком в тюрьме Эмиль, однако, не был, и благодаря ему Леон быстро приобретал утраченные навыки. Эмиль охотно объяснил, что эпоха апельсинов, накачанных ромом, миновала. В ходу теперь другой способ проноса в тюрьму спиртного: купив, например, бутылку сорокатрехградусного анисового ликера, нужно слить его дома в кастрюлю, положить в ликер две-три футболки, затем, высушив их на воздухе, принести с бельем в очередной передаче. В камере оставалось проделать процедуру в обратной последовательности: отмочив майки в воде, удавалось получить два-три стакана терпимой анисовой субстанции, и даже с градусом. Леону метод показался и сомнительным, и дорогостоящим. Кому захочется переводить целую бутылку «Рикара» на три стакана сомнительного пойла?
Мир, в котором Леон очутился, казался ему во всех отношениях понятным и привычным. Это был мир, лишенный планов на завтра, лишенный времени как такового. Во всяком случае, на первое время от всего этого лучше отказаться. Это был мир, населенный мужчинами, существами ему подобными, который подчинялся очень простым принципам и простой иерархии, свойственной мужским отношениям от природы. Соблюдать эту иерархию было гораздо легче, чем все те условности и, в конце концов, всё ту же самую «иерархию», только гораздо более зыбкую и часто несправедливо навязываемую, которой жизнь таких людей, как он, подчинялась на свободе.
Ощущение отрезанности от мира Леона вскоре уже не тяготило и даже не вызывало в нем сожалений. По-настоящему в тюрьме не хватало лишь летнего воздуха, пространства, возможности разрядиться физически, на что-нибудь потратить свои силы, позаниматься домашним хозяйством. Полуторачасовых прогулок, на которые заключенных выпускали в утреннее и вечернее время, было недостаточно. Не хватало, наконец, шума деревьев, чашки настоящего кофе, свежей булки с маслом и хорошего, здорового сна.
О случившемся в Гарне Леон первые дни даже не думал, разве что мельком, когда его осеняло смутное сожаление о том, что он стал виновником умопомрачительного скандала, что он причинил боль Луизе, но самое главное — что она не поняла его. Сожаление о том, что он доставил неприятности Вертягину, казалось ему настолько невыносимым, что у него даже как-то не получалось думать об этом всерьез. Ощущение нереальности происходящего усиливалось еще и от какого-то парадоксального, задорного чувства, знакомого с детства, от которого Леон не мог избавиться, — что он отмочил нечто «крутое», во что никто наверное даже не верит. Мысли о случившемся, сами «факты», за которые ему предстояло отдуваться, вызывали в голове одну путаницу, здесь был сплошной туман. Переживания стали оформляться в нечто цельное и ясное лишь по истечении нескольких дней, когда Леон немного пришел в себя и начал пытаться заполнять, как его когда-то научили, нараставшую внутри пустоту, прокручивая в голове жизнь на воле. Он останавливался на некоторых эпизодах, просматривал их вновь и вновь и словно перематывал внутри себя видеокассету. В эти минуты он не мог не задавать себе вопроса: как всё это вообще могло случиться?
Ответа не было. Как не было ответов и раньше на все те вопросы, которые неизбежно вырастали перед ним в сколько-нибудь важные минуты его жизни.
Леону прекрасно было известно, что в определенных жизненных ситуациях он не способен держать себя в руках. Какая-то мощная, неукротимая сила, неспособность вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, какой-то неподдающийся контролю внутренний импульс заставляли его доводить начатое до конца. Иногда этой одержимости сопутствовало ощущение сознательного расчета (до странности отчетливое, это ощущение, однако, не помогало найти выхода из положения) или даже ясное представление о том, что он проделывает над собой эксперимент, стараясь проверить, насколько его должно хватить, где тот край, дальше которого он не сможет ступить больше ни шага, существует ли этот край вообще? А когда он достигал края — отступать было уже поздно.
Знал Леон и то, что наделен способностью оставаться на поверхности происходящего, страдая каким-то особым верхоглядством, — умел скользить по жизни одним местом, как масло по сковородке, как пропесочивал его капитан, командовавший его подразделением в Чаде. Врожденный дар идти напролом к поставленной цели часто оказывался для него спасительным, ограждал от еще более тяжких последствий. В Легионе без этого не удалось бы протянуть и одного пятилетнего контракта. Но это правило как-то само по себе распространялось и на жизнь штатскую, несмотря на то, что граница между возможным и невозможным на свободе оказывалась расплывчатой. Он не умел жить по-другому, потому что не находил того звена, в котором реальный, окружающий его мир смыкается с желанным, внутренним, с тем, в котором он мог бы считать себя хозяином положения, в котором поступками заправляла бы его собственная воля, а не чужая и не случай. Жизнь постоянно навязывала ему свои условия. В ее иерархически сложном, ступенчатом построении он занимал именно то место, которое и должен был занимать, которое ему было отведено с рождения. Хотел Леон того или нет, он ничего не мог изменить…
Но по-настоящему все эти мысли стали его преследовать в камере с того момента, как его начали вызывать на встречи с адвокатом. Ван Ден Берг, на которого была возложена его защита, молодой, благожелательно настроенный, но немного суетливый малый с холодными и мягкими руками, имел неприятную манеру беззвучно трястись от смеха по всякому поводу и без повода. Кто на этот раз проявил заботу о нем, кто послал ему платного адвоката, Леон не знал.
От назойливых вопросов Ван Ден Берг отмахивался, ограничивался расплывчатыми объяснениями, что следователя Берже настораживала поспешность его признаний и еще больше его полное непонимание последствий, которые из этих признаний вытекают. Вот поэтому, держась от греха подальше, тот и решил принять меры к тому, чтобы адвокат был привлечен к защите уже сейчас, в период следствия. Хотя следователь мог якобы проявить полное безразличие. Разве не за это он получал зарплату? По словам Ван Ден Берга, это говорило о том, что они имеют дело не с судебным молохом, а с «живым человеком»…
В это как раз и не верилось. Встречи с Ван Ден Бергом проходили в спешке. Он постоянно куда-то опаздывал. И поскольку Леон отвык от такого ритма общения, ничего серьезного из этих встреч не получалось — так, по крайней мере, казалось самому Леону. Второпях обрабатывая его своими советами и инструкциями о том, как следует вести себя на предстоящих допросах, Ван Ден Берг делал это с некоторой бестолковостью. Леон с трудом понимал, что от него требуется. Он не понимал, как и от чего он может себя выгораживать, какой смысл теперь валять дурака, если он уже во всём «чистосердечно» признался.
В одну из первых встреч Ван Ден Берг посчитал нужным объясниться с Леоном насчет Вертягина. Никакие эпитеты, по его словам, не могли передать «негодования» коллеги в его адрес — в адрес Леона. Ван Ден Берг, однако, сразу уточнил: Вертягин человек «не только порядочный, но и последовательный» и зла ему не желает. Он будто бы даже намеревался приехать в тюрьму на свидание.
В тоне объяснений Ван Ден Берга Леон улавливал какую-то фальшь. Какое дело Ван Ден Бергу до «порядочности» Вертягина? До его «последовательности» или «негодования»? Адвокат говорил не всё, руководствовался другими соображениями. Что именно он приберег за душой, понять не удавалось. Когда же Леон при очередной встрече спросил Ван Ден Берга в лоб, какое отношение Вертягин имеет к следствию, тот хотел было уйти от разговора, но суховато пробормотал, что, мол, никакого. И тут же проговорился: Вертягин якобы не прочь был получить его дело для защиты…
Через Ван Ден Берга доходили и другие неожиданные новости: небезызвестная Леону Шарлотта Вельмонт будто бы добивалась его перевода в одиночную камеру, опасаясь, что за время предварительного заключения он успеет обзавестись старыми тюремными привычками.
Эта хлопотунья, Вельмонт, не унималась. О переводе в одиночную камеру Леон и думать не хотел. Он отмел эту идею с ходу, как отмел бы любое другое предложение, замешенное на сердоболии. Кому-то действительно нечем больше заниматься. Добиваться, видите ли, улучшения условий содержания горемыки! Но сам-то он, горемыка, ни на что не жаловался. Он всем был доволен. Единственное, что Леона удручало, так это возможность появления в тюрьме Вертягина. Одна мысль о том, что такая встреча может состояться, опрокидывала всё его равновесие…
Мимоходом оброненная Ван Ден Бергом фраза о том, что Вертягин пытается заполучить дело в свои руки, не выходила у Леона из головы. С первого дня его преследовал страх, что им играют как мячиком, что с судьбой его проделывают какой-то эксперимент, вряд ли хитроумный, но всё же непонятный, и воспротивиться ему он бессилен. Но и в самом деле, не пытается ли Вертягин войти в доверие, чтобы затем, оказавшись в удобном положении, ведь с доброжелателя все взятки гладки, учинить расправу втихаря, без свидетелей?
Понемногу страх всё же стал уступать место более здравым размышлениям. Не абсурдно ли подозревать Вертягина в коварстве? Не лучше ли искать коварство на дне собственной души?..
Легче от этого не стало. Стоило Леону на миг представить себе, что Вертягину удается добиться своего, что дело всё же передают в его руки, как это заставляло его пересматривать многое. Под новым углом приходилось смотреть не только на их отношения, но и на всю свою жизнь, и на сегодняшнюю — тюремную, и на прошлую — на свободе. Леон не чувствовал себя к этому готовым.
Когда на очередном допросе следователь Берже заговорил о его отношениях с «хозяином» гарнского дома, в котором он жил до ареста, Леон впервые догадался, что позиция Вертягина сбивает с толку не только его. Из разговора с Берже Леон понял, что между следователем и Вертягиным состоялась беседа, в ходе которой они обсуждали как раз эту тему. Но Берже якобы до конца не понимал, чего Вертягин добивается. Его позиция, помимо того, что она не укладывалась ни в какие стереотипы, казалась какой-то вынужденной, обусловленной чем-то посторонним, не имеющим отношения к делу. А если принять во внимание тот факт, что самого Вертягина можно было считать косвенно пострадавшим, ведь потерпевшей была его родственница, и если считаться с другим, не менее важным обстоятельством, что Мольтаверн, которого он пригрел под своей крышей, самым низменным образом обманул его доверие, то отношение Вертягина к делу выглядело и вовсе странным. Как после всего этого Вертягин мог искать возможности смягчить углы или загладить вину Леона?
В этом якобы и заключалось всё недоумение Берже. Следователь не понимал, чем вызван такой альтруизм, усугубляемый явным «чувством вины». Берже не понимал, почему Брэйзиеры или, во всяком случае, отец «потерпевшей» начинал весь трястись, почему он бледнел и краснел, как только при нем произносили имя Вертягина, ведь они были родственниками и до этого поддерживали нормальные отношения. Берже казался посвященным во всю подноготную… Но те же самые вопросы задавал себе и Леон.
Чем больше Леон задумывался над всей этой путаницей, тем глубже он увязал в новом, неожиданном ощущении какой-то внутренней нечистоплотности. Помочь ему старалось сегодня столько людей. Мог ли он продолжать валять дурака? Мог ли он игнорировать эти усилия — мол, делайте со мной, что хотите?! Сам того не сознавая, Леон начинал искать в происходящем какой-то смысл и даже задумывался о том, что ждет его позднее, когда он вновь окажется на свободе. Какой будет его жизнь, если его вдруг оправдают и освободят?
Казалось очевидным, что если это случится, то измениться должно было очень многое. Если такой шанс у него действительно был, то им нельзя было не воспользоваться. Но не так, как раньше, а по-новому, по-настоящему. Ведь другого шанса можно было вообще не дождаться. Но важным казалось и другое: он должен был воспользоваться этим шансом не только ради себя самого, но и ради тех, кто пекся о его судьбе. Ведь никто из этих людей не преследовал никакой корысти.
А он сам? Жизнь ради себя одного рано или поздно приводила к утрате интереса к жизни вообще. Хотя бы потому, что сам он не имел больших запросов. Получалось, что жить становилось просто незачем… Что-то подобное однажды пытался ему внушить и Вертягин, но тогда он почему-то его не понял.
Внутренняя раздвоенность разрывала Леона на части. Днем голова была переполнена одними мыслями, ночью — совершенно другими. Утром, когда он просыпался и попадал в привычную атмосферу тюрьмы, планы на будущее, которыми он бредил с вечера, опять казались какими-то пустопорожними. Они отдавали той самой «мягкотелостью», которой он так суеверно боялся на протяжении стольких лет. Однако и на следующую ночь всё опять повторялось. Ничего пустопорожнего в этих планах опять вроде бы не было. Жизнь опять имела смысл. Уже потому, что она имела какую-то цену для других людей… Бессонница становилась мучительной, как и в первые дни. И теперь он бдел в темноте не с пустой головой, не просто пересчитывая овец, как его научили в детстве, а перебирая события прошлого.
Особенно часто перед ним всплывали картины армейской жизни. В этих картинах теперь не было ничего случайного или отталкивающего, как казалось раньше. Напротив, в этот период жизни во всём присутствовал какой-то простой, строгий порядок. Порядок не только внешний, обусловленный соблюдением правил армейской жизни, устава, а распорядок внутренний. Удивительно было и то, что раньше эти воспоминания заставляли копаться в мрачных и негативных сторонах прошлого. Сегодня же, в переосмысленном виде, всё это казалось лишенным негативного налета и даже виделось по-своему особенным, незабываемым. Прошлое казалось насыщенным такими событиями, о которых большинство людей не имеют и отдаленного представления. Но главное, оно обрело какую-то новую значимость. Оно казалось не жалким и ущербным, а насыщенным, правдивым, потому что подчинялось каким-то очень ясным принципам, о существовании которых Леон в то время не задумывался.
Эти принципы были ясны как божий день. Они строились на ясном понимании того, кто друг и кто враг, на понимании того, зачем прожит день и зачем должен наступить следующий…
Когда однажды утром Мольтаверна вызвали на очередную встречу с адвокатом, меньше всего он ожидал увидеть в боксе Вертягина.
Мольтаверн застыл на пороге, откашлялся. На его лице появилась неприятная улыбка.
— Ну что встал, шевелись! — подстегнул его молодой конвоир.
Мольтаверн не вошел, а ввалился.
Конвоир взялся за край двери, но медлил, не знал, запирать дверь или нет. В поведении адвоката ему почудилось что-то необычное. Тот вскинул на него вопросительный взгляд.
— Я за дверью — вызовите, — сказал тюремщик; и дверь бокса заперлась.
— Здравствуй, Леон, — произнес Петр.
— Здравствуйте, — ответил Мольтаверн, засунув руки в карманы.
— Садись… — Петр указал на вмонтированный в пол круглый табурет, а сам стал молча вышагивать между окном и дверью.
Мольтаверн опустился на сиденье, составил кулаки на поясе и шарил затравленными глазами по сторонам.
— Удивлен моим приходом?
— Сказали, что адвокат.
Пытаясь что-то перебороть в себе, Петр помолчал, после чего, отставив к окну свободный стул, швырнул свой портфель на стол и выговорил:
— А я кто, по-твоему? Дядя тебе? Благодетель? Дойная корова?
Мольтаверн вскинул удивленный взгляд, усмехнулся и промолчал.
— Ну, рассказывай, — подстегнул Петр, тоже чему-то усмехаясь. — Как тебе тут? Как содержат? Как обращаются?
— Нормально всё.
— В одиночку так и не перевели?
— Зачем?
— Я бы тебе объяснил — зачем… да предпочитаю, чтобы ты мне объяснял. Давай не будем тянуть резину. Рассказывай, как всё было. Только прошу тебя — всё начистоту…
— Вы же всё знаете.
— Нет, я ничего не знаю.
— Ну как же?! — Мольтаверн покачнулся, одна щека его дрогнула. — Нет, не могу.
— Можешь!
— Она была на улице… на террасе у вас, — заговорил Мольтаверн таким тоном, словно говорил о чем-то всем известном и неинтересном. — А я в розарии. Подпорки менял… Ну, помните, коротенькие, которые с краю в углу надо было заменить. Ну и вот…
— Что — вот?
Мольтаверн недоуменно напыжился.
— Зачем она явилась? — спросил Петр. — Зачем в Гарн приехала?
— Откуда я знаю? За какой-то книгой, кажется.
— За какой еще книгой?
— Ну эта… Про русские усадьбы, с фотографиями, которую вы купили… с портретом на обложке.
Петр вдруг не знал, что сказать. Он вынул из кармана пачку сигарет, постучал ею об стол и произнес:
— Ладно, про книгу позже. Что она делала на террасе?
— Обливалась водой.
— Обливалась? Из шланга, что ли?
— Да… Жара ведь стояла.
— Хорошо, ты… Допустим, ты не выдержал, подошел к ней. Что дальше? Что дальше, я тебя спрашиваю?!
— Да нет… Всё не так было, — уперся Мольтаверн. — Я вернулся, значит, в дом и позвал ее.
— Позвал?! — повторил Петр.
— Ну и всё.
— Что она сказала, когда вошла? Шевели языком!
— Она не говорила… Кричать стала.
Петр умолк, смотрел на него странным опустошенным взглядом.
— И давно это входило в твои планы? — спросил он спокойным тоном.
— Да вы что! Вы же знаете, как я к вам отношусь. И к ней… Как к собственной семье. Ребенком ее хоть и не назовешь. Нет, не думайте этого.
— Подлец ты, Леон… Про семью хоть бы не молол, — сказал Петр.
Проглотив упрек, Мольтаверн глупо улыбался. Казалось, что оскорбление доставляет ему удовольствие.
— Врать не хочу. Тебя упекут на годы. Можешь в этом не сомневаться. И когда выйдешь, тебе будет… Сколько лет тебе будет, ты считал?
— Не в первый раз.
— Что не в первый раз? Пятнадцать лет решетки? Да понимаешь ли ты, что это значит — пятнадцать лет? — Петр намеренно преувеличил срок, чтобы проверить, насколько Леон проинформирован о том, что его ждет. — Тридцать два плюс пятнадцать — будет сорок семь… Ну, спишут немного за примерное поведение. Считал ты или нет?! Отвечай мне, мерзавец!
— Не переживайте. Вы бы о себе лучше думали, — пробормотал Мольтаверн.
— Вот что, голубчик… Ты знаешь, зачем я к тебе приехал?
Мольтаверн поднял на него глаза и откровенно ухмыльнулся:
— Нотации читать?
— Нет, ошибаешься. Я принял одно решение. И поверь мне, не легкое для меня решение. Я буду защищать тебя на суде.
Мольтаверн приподнял плечи, сложил кулаки перед собой на столе.
— Час от часу не легче… — пробурчал он, делая вид, что слышит об этом впервые.
— Ты, пожалуйста, сосредоточься, и без этих штучек. Я предлагаю тебе, и даже не предлагаю, я настаиваю…
— Да бросьте вы! Что у вас за кавардак в голове? Даже не надейтесь! Я с Луизой… Я переспал с ней, понимаете вы или нет? Силой, понимаете?
— Нет, Леон! Не всё так просто… Я ее хорошо знаю. Будь на ее месте другая, ты бы…
— Вы ошибаетесь!
Петр взял со стола сигареты, закурил, швырнул пачку Мольтаверну, но тот к сигаретам не притронулся.
— Конечно, я знаю, что она не ангел. И в этой истории, и вообще, — заговорил Петр, не отрывая глаз от стола. — Такой характер… У каждого свой характер. Но чтобы ты не строил себе иллюзий! Я не собираюсь тебя выгораживать. То, что ты сделал, омерзительно, этому нет оправдания. Но я хочу тебе помочь, Леон. В последний раз. Я сделаю так, что ты получишь минимум… Что молчишь? Язык проглотил? Ты у меня в долгу — это ты понимаешь? А за долги надо рассчитываться! У тебя нет выбора! Моя система защиты будет строиться на том, что она спровоцировала тебя. Первое, что ты должен теперь зарубить себе на носу…
— Не рассчитывайте на меня, — перебил Мольтаверн. — Да вы рехнулись!
— Она тебя спровоцировала — ты меня понял? Повтори вслух!
— Дайте мне еще сигарет, если есть, и сваливайте, — сказал Мольтаверн.
— Леон, смотри мне в глаза! — прикрикнул Петр. — Я прекрасно знаю Луизу… живу с ней, жил, можно сказать. И, что тут из себя корчить, для меня нет никого дороже…
— Вот и не корчите.
— На, кури! — Схватив пачку, Петр высыпал на стол несколько сигарет и протянул зажженную зажигалку. — И шевели своими мозгами.
Мольтаверн всё же взял сигарету и закурил. Выпустив дым колечком, он медленно выговорил:
— И как вы всё это собираетесь…
— Что — как? — подстегнул Петр.
— Как она-то к этому отнесется?
— Ах, ты о ней забеспокоился… Это уже не твоего ума дело. Без тебя разберемся.
— Гнусное вы задумали дело.
— Вот что, сейчас у меня нет времени рассусоливать, — Петр открыл портфель, вынул лист бумаги, придвинул его Мольтаверну и швырнул ручку. — Нам нужно написать с тобой одну бумагу. Пиши же, что ты смотришь?!
Леон нехотя взял ручку.
— Я, такой-то, этим заявляю… — Петр стал диктовать текст заявления, согласно которому Мольтаверн выбирал его в качестве своего защитника.
Но Мольтаверн писать отказался наотрез.
Петр был вынужден написать Фон Ломову, что не может приехать в конце месяца, как планировал. Углубляться в объяснения он не стал, сослался на занятость по работе и просил ждать его теперь в августе или, в крайнем случае, в начале сентября, хотя и понимал, что самый подходящий момент для поездки был именно теперь. За время поездки в Москву всё могло отстояться, как в нем самом, так и в других. Более трезвый, холодный взгляд, несомненно, помог бы принять более адекватное решение в отношении Мольтаверна, да и Луизы. Но эти соображения всё же отошли на задний план.
Во-первых, Петр по-прежнему надеялся, что его отношения с Брэйзиерами утрясутся. Ему казалось, что для этого достаточно одного серьезного разговора, одной встречи, — как раз этого он и не мог добиться. Не хотел он отказаться и от идеи поехать в Москву с Луизой, — не беда, если это произойдет позднее. А во-вторых, он не мог не отдавать себе отчет, что эта поездка может обернуться обратным эффектом — она не только может помочь более здраво и отстраненно взглянуть на случившееся, но, наоборот, привести к окончательной утрате прежних ориентиров. Так случалось с ним всегда, когда он покидал Францию надолго…
Обзвонив в поисках Брэйзиеров весь юг Франции, Петр взял себя в руки и стал дожидаться развязки, будь что будет, урезонивая себя тем, что не сегодня-завтра Луиза объявится сама, позвонит ему. Наступившее затишье было мучительным. Гарн выглядел вымершим. Петр боялся ходить по аллее, слишком сильно хрустела под ногами галька.
Сильвестр дома не появлялся, все Форестье на неделю уехали под Бордо. Никто ему не звонил. Жоссы, по-видимому посвященные в его неприятности, перестали донимать его своими неурядицами с долгами. Но помог и Мартин Грав тем, что взял на себя временно координацию действий с Лоренсом и Маджвиком, чтобы дело не завалилось окончательно.
В Гарн изредка звонила лишь Вельмонт — якобы без определенной цели, но ее явно мучило чувство вины. В чем именно? Петра эти звонки тяготили.
Как-то в выходные позвонил и Робер Лесерф. Неведомо кем посвященный в подробности случившегося, Лесерф стал бормотать в трубку что-то невнятное. Это были очередные угрозы, но и половины его слов разобрать не удавалось…
Петр был вынужден констатировать, что за считаные дни жизнь его приняла новый и немного неожиданный поворот. Дело было не только в том, что всё опять валилось из рук и что он почти завалил кабинетную работу. Компаньоны на него не очень сетовали, как не сетуют на больного. Сам же он, особенно не злоупотребляя этим правом, в глубине души рад был констатировать, что может себе это позволить, что не утратил способности проявлять безответственность. Он исполнял свои обязанности с прохладцей. Он словно боялся растрясти в себе что-то ценное, неожиданно приобретенное. Главная же трудность заключалась в том, что он разучился жить в одиночку и не знал, как привыкать к новой жизни. В ней появилось что-то пустоватое, бессмысленное.
Ему казалось странным попадать в тишину чистого, просторного дома. Странным казалось сидеть в одиночку перед окном, распахнутым в залитый солнцем летний сад, и проводить наедине с собой целые вечера напролет, дожидаясь заката как некого финала, который каждый раз сопровождался одним и тем же зрелищем. И оно не приедалось глазам: огромный солнечный диск нежно-алого цвета плавно, но с какой-то равнодушной торопливостью опускался за крыши соседних домов. Эмоции, подступающие к горлу при виде этой вечной картины, не с кем было разделить.
Ему казалось странным, что он должен пользоваться всеми этими благами в одиночку. Старик Далл’О опять заболел, просил обойтись без него до конца недели и благо успел доделать самое срочное: выполол вьюнок, сгреб сено, в дожди уложенное под кустами, обработал пестицидом «Сальвию» и «Шизофрагму».
Интереса к работе в саду Петр не испытывал. Он пробовал заниматься сафрановой розой, которая цвела с горем пополам, пытался сменить подпорки, которые вставлял еще Мольтаверн. Но на большее его не хватало. От физических усилий охватывало одно уныние. Уныние вызывал даже не сад, не розы, а сама констатация, что он способен испытывать слепое, эгоистичное удовольствие от вполне тривиальных вещей.
Пытаясь садиться вечером за бумаги, Петр долго не выдерживал. Он не мог сосредоточиться. Одни и те же страницы приходилось перечитывать по нескольку раз. Но он всё равно не мог удержать в памяти прочитанного. Заканчивалось тем, что он бросал пустое высиживание, направлялся к книжным шкафам и снова перебирал свою библиотеку. А иногда рылся в фотографиях, часть которых сваливал обратно в коробки, а другие, чем-то привлекавшие к себе внимание, сортировал, чтобы позднее разложить по альбомам. Испытывая какую-то новую, острую потребность в чтении, он и тут не знал, с чего начинать.
Всё художественное почему-то отталкивало. Сосредоточиться на таких книгах ему было так же трудно, как и на кабинетных бумагах. Ему не удавалось проследить за повествованием дальше чем на полстраницы. В конкретности, в материальности художественных образов проглядывала неприятная размытость, текст казался как бы разбавленным. От этого возникало ощущение словесного транжирства. Пустословие с трудом поддавалось восприятию, потому что вся внутренняя мыслительная энергия оставалась направленной на что-то вполне определенное, цельное, концентрированное — так, по крайней мере, ему казалось. И это целое не нуждалось в образности и красочности. Больше того, ему казалось, что оно может уместиться в нескольких самых простых словах, лишенных субъективного и иллюстративного нароста. Хотелось одной обнаженной сути. Но художественная литература содержала ее в чрезмерно разбавленном виде.
Первое, что Петр прочитал до конца, причем запоем, были Притчи Соломоновы. Затем он наткнулся на старый толковый словарь французского языка и листал его несколько вечеров подряд, прежде чем перейти к статьям Поля Валери. После Поля Валери, в слоге которого, в самой его грамматической изысканности, было нечто захватывающее, акробатическое, но вместе с тем столь же утомительное, как и в полухудожественной прозе Борхеса, прежде всегда ценимого, Петр прочитал сборник статей знаменитого адвоката о судопроизводстве в военных трибуналах довоенных лет. Эту книгу он проглотил за ночь и был поражен, насколько прост и ясен автор с самим собой, насколько судьи описываемых им трибуналов, вопреки господствующим в сознании большинства людей мифам о грубости армейского судопроизводства, отличались профессионализмом, насколько тщательным был их подход к каждому делу. Сегодняшние судьи и следователи могли об этом только мечтать.
А на следующий вечер Петр случайно наткнулся на самую первую книгу матери, на небольшой потрепанный томик, за который вся родня когда-то приговорила ее к прижизненному забвению. Изданная по-английски в Лондоне десять лет тому назад, книга была подписана псевдонимом Гертруда Шейн. Перелистывая ее, Петр обнаружил, что никогда толком не читал этот текст, или читал по диагонали, старясь найти причину столь резкой реакции родственников, но только и всего. И теперь он испытал настоящее потрясение не только от изобилия эротических сцен, но и от парадоксальных аналогий с собственным внутренним состоянием.
«Л. поставила ногу на стул, — писала мать, — отвела колено, и сквозь ослепивший ее мрак, который заполонил всё ее сознание до последнего уголка, она почувствовала, как П. поднес свою холодную, твердую и острую как лопата ладонь к ее ягодице и как, дыша на нее смрадом сигары, медленно повел рукой выше, обжигая ее эпителий, вызывая в ней не трепет, а волну отчаяния, унижения и какой-то мучительной, неведомой доселе страсти, которая заполняла ее до последней клетки…»
Гораздо больше Петра поражали всё же другие строки, следовавшие ниже:
«Ей казалось, что у нее было две судьбы, что вся ее жизнь была рассечена на две равные половины. Одна половина всецело принадлежала ей и не вызывала ни у кого ни малейшего интереса — это была жизнь чужого ей человека, к которой она испытывала смесь жалости и симпатии, пусть даже с оттенком чего-то возвышенного и патетического. Другая половина принадлежала всем, кому угодно, любому, кто пожелал бы ею воспользоваться, но сама она не испытывала к ней интереса. Обе же части, совмещенные воедино, порождали странное ощущение взаимопоглощения, пустоты, отсутствия себя самой, ощущение какой-то изнанки, а не целого, колючее ощущение хаоса, бесполезности, чувство неверия ни в любовь, ни в то, что миром людей правит что-то человеческое, чувство, что во главе всего стоит попросту Случай.
Жить так дальше было немыслимо. С этим чувством невозможно было прожить и пяти минут. С этим чувством невозможно было ни пить, ни есть, ни ходить, ни сидеть, ни отправлять свои потребности. Не имея прямого смысла, не имея веры, что каждый прожитый день мог представлять собой что-то иное, помимо очередного, вычеркнутого из жизни куска времени, тогда как вести подсчеты приходилось уже не днями, а годами и даже десятилетиями…»
После сборника статей Вольтера Петр наткнулся на томик Николая Кузанского, который поначалу его очень увлек, но оказался настолько трудным для восприятия, хотя и по-настоящему захватывал, что пришлось его отложить и взяться за другой — за томик Плотина, которого Петр читал давно, в молодости.
Чтение Плотина, впервые дававшееся ему с подобной легкостью, тоже оказалось непростым. Без навыков к абстрагированию мысли, при постоянном приземлении мыслей на конкретный жизненный контекст, чтение такой книги могло навевать лишь тяжелые мысли, несвоевременно заставляло задумываться о том, что смысла лишено всё — знание и само чтение. Но всё же именно книги общего содержания, и необязательно философские, оказались наиболее адекватными его внутреннему состоянию.
Поначалу он едва ли по-настоящему вникал в то, что читал. Он опять и опять ловил себя на мысли, что только что думал о чем-то постороннем, и не мог вспомнить строк, по которым только что пробежал глазами, а бывало, что и понимал смысл каждой строки, но не мог ухватить умом главного, не мог обобщить прочитанное. Когда же он откладывал книгу, он не мог думать ни о чем другом, кроме как о прочитанном. Петр впервые читал все эти книги с таким увлечением и, как бы то ни было, всё же с легкостью, чему и сам не переставал удивляться. Он удивлялся тому, с какой легкостью глаза осиливали каждую строку текста, с какой легкостью удавалось мгновенно вникать в смысл написанного. Этот смысл раскрывался перед его глазами словно скорлупа спелого ореха от легчайшего нажима пальцев…
В те же дни прибавилась новая неприятность. Далл’О официально известил о прекращении своей садовнической деятельности. Старик решил уйти на пенсию, возраст позволял ему это сделать уже давно. Он работал еще в трех домах поблизости и у всех прекращал работу одновременно.
К этому дню Далл’О успел закончить всё самое срочное: закончил стрижку газонов, проветрил их почти по всему участку и даже успел подрезать у входа «Офелию» и чайную розу, которая цвела в этом году как никогда обильно и которой Петр обещал заняться сам, но так этого и не сделал. Далл’О назначил себе последний рабочий день. Они договорились, что он приедет в субботу, в свободный у Петра день, чтобы дать ему последний напутственный инструктаж…
Далл’О приехал в Гарн за полчаса до назначенного времени. Выглядел приодетым: на нем был темный пиджак, в котором Петр его еще ни разу не видел, светлая сорочка, черные туфли, в глаза бросались роговые очки, явно выходные.
Старик застал его врасплох — сидящим за чаем на теплой от солнца террасе и еще в пижаме. Далл’О был в некотором замешательстве. Чай он не любил, и Петр предложил ему кофе. Но гость отказался и от кофе.
Уже через пару минут одетый и причесанный, Петр шел рядом с Далл’О в направлении кустов шафрановой розы, замечая, что старик тоже успел переодеться: сменив обувь и пиджак, Далл’О был теперь в синей рабочей куртке и в резиновых сапогах.
Поглядывая на Далл’О сбоку, на его сморщенное, красное, покрытое старческой испариной лицо с крупными порами и бесформенным носом, Петр угадывал в нем какую-то неловкость. За то, что он бросал сад в неподходящий момент? За роль инструктора, которую ему предстояло играть и которой он всегда тяготился? За явную нелепость последних напутствий? Или, наконец, за неудавшуюся торжественность последнего визита?
Они остановились перед мускусными кустами возле «Пенелопки». Старик раздвинул секатором ветви и показал на следы тли. Ее было не так много. Кусты росли здоровыми. Бутоны получались хорошие. Но старик всё же посоветовал не откладывать с обработкой, чтобы не получилось нашествия, как в прошлое лето.
Далл’О отхватил секатором повисшую над дорожкой ветвь «Шизофрагмы», хотел показать, с какой решительностью теперь нужно действовать, и порекомендовал присматривать за бенгальской розой и за «Гвинеей». Тля могла перекинуться и сюда. Посаженная весной магнолия не требовала, на его взгляд, особенного ухода. Корни магнолия пустила нормальные. Достаточно было просто проверять время от времени почву на кислотность. Старик советовал не откладывать и с черенкованием, а затем уже совсем растерянно пробормотал:
— Но вот и всё… Внизу по кустам я тоже уже начал выравнивать. Закончить не успел. За лето вы и сами, думаю, справитесь, если не уедете никуда… С понедельника пришлю зятя. А там видно будет… — Далл’О имел в виду своего зятя, который, как и он, зарабатывал на хлеб садовыми работами, но состоял в штате местной фирмы садового обслуживания и подрабатывал на стороне лишь в особых случаях. — Руки — золото, — добавил старик. — Всё умеет делать. Методы у них поновее. Договоритесь… А вообще, смотрите сами. Мое дело предложить.
— Договоримся, — заверил Петр. — Жалко, конечно. Я вам буду звонить. Имейте в виду, если что случится…
— Пожалуйста, звоните.
— И заезжали бы иногда… Обещаете?
Старик скользнул по лицу Петра внимательным взглядом и спросил:
— Как у вас-то дела?
— Вы про Леона?
Далл’О снял очки и, скорчив гримасу, хотел что-то сказать, но промолчал.
— Всё образуется, — сказал Петр.
— Вы бы не ломали себе голову. Ему-то что? Хоть бы хны. Девчонку жалко.
Петр молчал.
— Да и вас… — добавил старик. — Ведь что рассусоливать в таких случаях? Будь моя воля, я бы этому мордовороту не то что руки… Кастрата бы из него сделал.
— Разговоров небось в округе? — спросил Петр.
— То, что говорят, — это ерунда. Мы же в деревне живем, — отмахнулся Далл’О. — У меня племянник был за решеткой — и ничего! Теперь женат, дети. Было бы у человека вот это… — Старик ударил себя в грудь. — А там… Всё зачтется и спишется. А то ведь как получается: бывает, посадишь человека за стол, а он и ноги на стол. А другой один за всех вынужден расхлебывать. Я вас за это уважал. Иногда, может, и говорил лишнее. Вы уж простите… Но каждому свое. На то воля Божья. Так что вот так… — Далл’О смутился.
— Спасибо, — поблагодарил Петр.
Старик скользнул по нему недовольным взглядом и сменил тему:
— А там лучше не затягивайте, режьте смело… — Он показал секатором в сторону дома. — И за июль лучше всё закончить.
Еще через пять минут, по-новому всматриваясь друг в друга, они распрощались…
После всего того, что Шарлотта Вельмонт слышала от Ван Ден Берга, она уже ничему не удивлялась. И когда ей позвонил Вертягин, требуя срочной встречи, ей не оставалось ничего другого, как согласиться.
Он хотел увидеться на следующий же день. Встреча нарушала все ее планы. Как раз в этот день Вельмонт планировала уехать по делам в Бретань; заодно был случай навестить сестру, жившую с мужем под Ла-Болем, которая приглашала ее на всё лето. И вот теперь планы пришлось перекраивать.
Ван Ден Берг не переставал на Вертягина жаловаться. Тот измучил его своими звонками. Заполучить дело Мольтаверна в свои руки Вертягин будто бы решил во что бы то ни стало и шел напролом, вырывал его буквально силой. Работать в такой атмосфере Ван Ден Берг отказывался. И поскольку в эту историю его втянула Вельмонт, у нее он и искал теперь защиты.
Поначалу Вельмонт даже не знала, как относиться к новостям. И если в глубине души она понимала и того и другого, тем более что поначалу тоже придерживалась не совсем четкой позиции, считая, что во всех спорных вопросах, связанных с защитой, превалировать должны интересы обвиняемого, — то упрямство и личные амбиции казались здесь всё же неприемлемыми. Не трудно было представить себе и другое — какой переполох вся эта неразбериха могла вызвать в судебных инстанциях, в адвокатуре и у следствия…
Позвонив в дверь в три часа дня, Вертягин выглядел раздраженным. Распаренный от жары, в белой, на две пуговицы расстегнутой рубашке, он едва не забыл поздороваться. Пройдя в комнату, он отказался сесть, лишь озирался по сторонам. Вельмонт сразу поняла, что серьезного разговора не получится.
— А где же пес?
— У Августины… Вы хоть понимаете, что вы мне поездку сорвали?
— Прошу прощения за вероломство, и не обижайтесь, ради бога… Опять в горы собрались?
— В Нант, по работе.
— Не помню, курите ли вы дома? — спросил он.
— Курите. И садитесь, а то стоите как…
Петр опустился в кресло, в котором однажды уже сидел, и старался отклонить лицо от солнца, которое било из-за портьеры прямо в глаза. Вельмонт устроилась на диванчике и смотрела на него таким взглядом, словно готовилась выслушать что-то оскорбительное.
— Кое-что до меня уже дошло, в общих чертах… — обронила она. — Так что можете без вступлений.
— Ван Ден Берг успел накляузничать? Тем лучше… Я, кстати, не скрывал от вас своего мнения о нем… с первого дня, — усмехнулся Петр. — Вообще откуда он взялся?
Вельмонт сделала неопределенный жест. То ли не удивлялась ничему, то ли не хотела это обсуждать.
— Задерганный весь какой-то. Он что, действительно так занят всё время, не дозвонишься? — спросил Петр.
— Что вы от меня хотите? — спросила Вельмонт. — Вы же прекрасно знаете, что я думаю о Ван Ден Берге. Он прекрасный адвокат. Добросовестно относится к поручению. За что вы на него взъелись?.. Беда даже не в том, что вас никто не поймет… с вашей затеей, что вам придется позориться… Допустим, что вам на это наплевать. Допустим, что вами движут… высокие помыслы. Такие высокие, что лично у меня голова идет кругом… — Вельмонт ударила себя в грудь, но тут же предпочла пояснить: — Сразу же оговариваюсь, я готова понять, что вас толкает на это… Не нужно считать меня за дуру… Но даже с этой точки зрения, с возвышенной, получается какая-то ахинея! Как адвокат… если вы вообще адвокат… вы не можете защищать этого типа. Это противоречит здравому смыслу.
— Это палка о двух концах, Шарлотта, — сказал Петр. — Если вы, конечно, это имеете в виду… Но тогда всё просто: из всех за и против, из всех зол я выбрал меньшее.
— Ах, слова… Пустые слова… А вы о вашей подруге подумали? Я вроде бы посторонний человек. Но даже у меня начинает ломить в затылке, знаете ли… когда я стараюсь посмотреть на всё это со стороны, когда я пытаюсь скомбинировать всю эту схему ваших за и против.
— Для Брэйзиер без разницы, кто будет адвокатом Мольтаверна, я или этот шут гороховый.
— За Ван Ден Берга я могу поручиться, как за себя, — сказала Вельмонт. — Да и не вижу, чем вы лучше.
— Я к вам пришел не за советом… За помощью, — сказал Петр. — И не обижайтесь… Вы правы, у меня был разговор со следователем. Рьяная личность. Ставить палки в колеса он мне, конечно, не сможет. Но найти с ним общий язык трудно.
— Мольтаверну повезло, что он попал на Берже, я вам это уже говорила.
— Предположим. Но в адвокатуре у меня тоже был разговор… Можно сказать, конструктивный, но неприятный. Все как сговорились. Теперь и вы туда же! И пожалуйста, не смотрите на меня такими глазами… Я пришел просить вас уладить через ваши связи, по крайней мере, этот момент. А если личные связи не помогут, то через ваш благотворительный… штаб, — с заминкой поддел Петр, прекрасно зная, что прямота была наивернейшим средством добиться своего.
— Я прекрасно знаю, что вы думаете о моем штабе, — сказала Вельмонт, с досадой качая головой. — И обо мне в том числе…
— Если знаете, нет повода обижаться. Я смогу настоять на своем и без вашей помощи. Никто не может запретить Мольтаверну выбирать защитника. Но я пытаюсь свести к минимуму… издержки. Неужели вы не понимаете? Ведь получается столько лома, столько ущерба для всех…
— Вы не можете его защищать. Я не могу вам в этом потакать, — с твердостью сказала Вельмонт. — Это вы тоже должны понять.
— Можно пытаться отговорить человека, когда вы знаете, что у него есть выбор. Я же не могу поступить по-другому. У меня нет выбора. Шарлотта, поймите такую простую вещь!
— Ах, опять эта ваша безысходность. Какой-то абсурд! Вы белого от черного не в состоянии отличить. У вас в голове всё уравнялось! Если вы так радеете за успех дела, встаньте тогда и на место Мольтаверна. В его положении человек нуждается в полной ясности, а не в путанице. Вообразите на секунду, что у него тоже есть капля совести. Чем в таком случае он будет расплачиваться за ваши деяния? Ну, предположим, что они чем-то увенчаются? Ну, чем, я спрашиваю?.. Тем же. Как он может стремиться загладить свою вину, выгораживать себя? Ведь он потом не сможет вам в глаза смотреть?
Некоторое время они молчали.
— Я устал плутать в дебрях, — сказал Петр.
— По-моему, вы от всего устали. В таком случае поехали бы отдохнули недельку, ведь лето за окном. Или вы действительно считаете Мольтаверна без вины виноватым?
Вельмонт задала главный и неожиданный вопрос, который Петр и сам не переставал себе задавать.
— Нет, я так не считаю, — помедлив, ответил он. — Да что бы это изменило? Вам нужно понять, Шарлотта, что я не собираюсь никого и ничего исправлять. Я просто не хочу, чтобы стало хуже.
— Одна сплошна философия! Причем беспросветная… — отмахнулась Вельмонт. — Вашу просьбу мне вряд ли удастся выполнить, но я попытаюсь. Только пеняйте потом на себя! И знайте мое мнение: вы зарвались. Вы думаете, что мир вращается вокруг вас. Но это не просто заблуждение. Это опасное заблуждение! С такими взглядами вы начнете скоро презирать всех. Посмотрите на себя: вы же законченный мизантроп. Ну разве я не права? Поэтому и мечетесь из угла в угол. Поэтому и не можете выбрать между вашей жалостью… какой-то ребяческой… к слабому, к хромой собаке, между верой в высокие принципы и отвращением, которое вызывают у вас конкретные люди. Но ведь отвращение к людям не может не обернуться отвращением к высоким принципам. Рано или поздно это произойдет… Конечно, останется чувство вины, угрызения, метания из стороны в сторону. Но что с них толку? Вот — противоречие, которое вас гложет. Оно в вашей уверенности, что всё зависит от поступков каких-то добрых или злых людей, что судьбами мира заправляют некие личности, выскочки. Получается, что вы слишком много ждете от всех. А конкретный человек, бедняга, он не знает, чем ответить на ваши ожидания. Он не способен удовлетворить такие запросы!
— Вполне может быть… Вы наверное правы, Шарлотта, — сказал Петр. — Только мне кажется, что всё проще, чем вы расписываете.
— Беда всех так называемых умных людей в том, что они не ум свой подчиняют реалиям жизни, а реалии жизни подгоняют под запросы своего ума.
— Это и о дураке можно сказать.
— Нет, о дураке этого не скажешь… Вы человек трезвый. Вы способны смотреть на вещи… здраво, с необходимой долей фатализма, способны болеть за всяческие неустройства, копаетесь в себе, сожалеете, что таков общий удел и что изменить его невозможно. Всё это прекрасно! Со стороны выглядит как будто честно, благородно. Но в действительности это вас заводит не туда… Вы начинаете забывать, что мы живем все вместе, что мы — толпа. Конечно, люди, исповедующие такие взгляды, не бывают пассивными, и я считаю это вашим большим достоинством. Но уж слишком часто это приводит… к цинизму, если хотите, к неспособности реализовать себя, к чувству бесполезности всего и вся…
— Вы, стало быть, за чувство меры? — спросил Петр полусерьезным тоном. — Тогда вы должны понимать, что изменить жизнь одного человека — значит ничего не изменить, а изменить жизнь всех невозможно. Что делать?.. Я отвечу: лучше воздержаться и заняться самим собой… Я реалист. Поэтому ваши обвинения… они не то что обидны… Хотя, знаете что, я с вами во всём согласен, — вдруг сдался он.
— Что вы от меня хотите?.. Чтобы Ван Ден Берг отказался? Чтобы в вашей адвокатуре закрыли глаза на то, что ваша племянница жила в Гарне не совсем как племянница и что вы будете защищать человека, который принес вам столько зла… чтобы поменьше летело щепок?
— Вот видите… А понадобилось столько слов… — Петр развел руками.
— Я вам позвоню… Через пару дней, — пообещала Вельмонт.
Петр встал, распрощался и вышел.
Очередное объяснение с главой адвокатуры завершилось нужной для Петра договоренностью. Все препятствия с этой стороны отпали. Было ли это результатом умелого влияния Вельмонт, удалось ли ей пустить в ход связи ассоциации или своего бывшего мужа, у которого имелись выходы на высшие судебные инстанции, или подействовало всё же вмешательство судьи Лоччи, мнение которой вполне могло перевесить чашу весов в нужную сторону, — Петр до конца этого так и не понял. Но он не мог не видеть, что его расчет уладить дело сначала за кулисами, через знакомых, вызвал в адвокатуре реакцию неодобрения. С другой стороны, это наталкивало его на мысль, что он добился своего в немалой степени благодаря собственной аргументации и упорству.
В те же дни он вновь встретился с судебным следователем Берже, но уже в качестве полноправного защитника Мольтаверна. По долгу службы Берже имел представления куда более ясные, чем все остальные, о том, чем была вызвана смена адвокатов и суета вокруг обвиняемого. Берже был в курсе того, какие отношения связывали Вертягина с потерпевшей. Знал Берже и то, что в своем рвении Вертягин руководствовался скорее запутанными и очень личными мотивами. Успев составить себе более или менее ясное представление о намеченной линии защиты, которой Вертягин собирался придерживаться — оспаривать всё в корне, — Берже понимал, что использовать факт его отношений с племянницей в интересах следствия невозможно. Если бы и пришлось оглашать всю подноготную на суде, в глазах присяжных такой факт мог лишь придать защите Вертягина еще большую убедительность, и не важно, что адвокат оказывался в странной роли: если человек, косвенно пострадавший или связанный с пострадавшим близкими отношениями, пытается помочь обвиняемому смыть с себя тяжкое обвинение, то как же могли настаивать на этом обвинении люди посторонние, не имеющие полного представления о случившемся?
Впрочем, важно было даже не это. Позиции, занимаемые Вертягиным, порождали в Берже некоторые сомнения насчет самой сути обвинения, выдвигаемого следствием. Поначалу дело казалось не стоящим выеденного яйца. Единственное, что могло настораживать, это легкость, с которой обвиняемый пошел на признания. Просто так подобных признаний не делает никто. И если бы обвиняемый не считался рецидивистом, Берже дал бы своим сомнениям полный ход. Стараясь лишний раз перестраховаться, Берже решил сразу же привлечь к делу адвоката. И он как в воду смотрел. Едва лишь Вертягин был приобщен к делу, как обвиняемый сразу изменил свои позиции, начал думать о своих интересах…
Расследование продвигалось быстро не столько из-за отсутствия каких-либо препятствий для следствия или в силу особого рвения, проявляемого следственными органами и самим Берже. Особого рвения Берже как раз не проявлял, он скорее шел на поводу у Вертягина, который просил не затягивать следственные процедуры и не превращать расследование в «детективный фарс». Расследование продвигалось быстро по причинам скорее административным. Как бы то ни было, Петр не ожидал, что очная ставка, на которой обе стороны, Мольтаверн и Луиза, рано или поздно должны были встретиться для сопоставления показаний, будет назначена в столь короткие сроки.
Это означало, что Луиза приедет в Париж и что конспиративные меры ее отца не смогут помешать встрече с ней. Однако не могла же встреча состояться у следователя в кабинете. От одной мысли об этом на душе у Петра леденело. Стоило Брэйзиеру проявить последовательность в своем намерении положить конец их отношениям, и можно было не сомневаться, что первым делом он позаботится о том, чтобы между ними не получилось контакта до визита к Берже.
Петр понимал, что Брэйзиеру, скорее всего, уже известно, что он взял на себя защиту легионера. В таком случае ответных мер с его стороны было не миновать. В то же время Петр сознавал, что допустил два серьезных просчета. Первый — о нем говорила Шарлотта Вельмонт — заключался в неимоверной запутанности его собственного положения, и это лишало его необходимой свободы действий, связывало его по рукам и ногам. Второй просчет заключался в том, что он делал какую-то ставку на Луизу, тешил себя уверенностью, что ему удастся оказать на нее влияние.
В своей полной уверенности, что при первой же встрече с глазу на глаз он сможет убедить ее, что он разуверит ее во всем и заставит поступить именно так, как это нужно ему, он не учел того, что им, возможно, вообще не удастся встретиться до решающей минуты.
Этот план и трещал сегодня по швам. Другого же у него пока не было.
Через американца МакКлоуза Петру удалось узнать новый номер телефона на Нотр-Дам-де-Шам. Но сколько Петр ни звонил по этому номеру, трубку никто не брал.
Он продолжал звонить в Тулон. Личный телефон Брэйзиера стоял на автоответчике. Но и в конторе, даже если ему удавалось дозваниваясь секретарше, он не мог добиться большего. Секретарше запретили сообщать о местонахождении семейства. Петр не переставал посылать Брэйзиеру факсы — с просьбами, с требованиями, с угрозами. И всё безрезультатно…
Петр едва не опрокинул телефонный аппарат на пол, когда накануне назначенной у следователя очной ставки, на которой Луиза не могла не присутствовать, — вопреки некоторым его надеждам затянуть сроки, дата была всё же назначена, — поздно вечером на Нотр-Дам-де-Шам внезапно сняли трубку. Женский голос звучал незнакомый.
— Передайте, пожалуйста, трубку Луизе Брэйзиер, — попросил Петр.
— Это я, Петр… Мари.
— Мари… Ты здесь?
— Как твои дела? — будничным тоном спросила Мари Брэйзиер.
— Мои дела?.. Что всё это значит, Мари? Или вы все спятили? Ты можешь мне объяснить, где Луиза?
— Дома.
— Где дома?
— Здесь.
— Вот что… Передай-ка ей трубку, — потребовал Петр.
— Я бы хотела с тобой поговорить, — произнесла Мари с колебанием.
— Сейчас, что ли?.. Мари, пощади меня!
— Я не понимаю, как ты можешь… Как ты мог так реагировать, — заговорила та холодным тоном. — Твое поведение равносильно надругательству. Двойному надругательству…
— То, что он мерзавец, — это всем понятно. Но я не могу бросить человека на произвол судьбы.
— Ты как раз бросил, — сказала Мари, но смешалась. — Не понимаю, о чем ты говоришь…
— Я говорю о легионере.
— А я о Луизе. О своей дочери, если позволишь! До чего ты ее довел? Ты мог хотя бы позвонить.
— Мари, я звоню вам каждый день. Я обзвонил всю Францию.
Вновь скованная нерешительностью, Брэйзиер молчала, что-то обдумывала, но затем произнесла:
— Это правда?..
— Правда ли, что звоню вам? Муж тебе не говорил?
— Я ему устрою…
— Опять муж… Сама ты куда смотрела? Или ты всю жизнь будешь думать башкой мужа? Да вы понимаете, что вы накуролесили? Что вы вытворяете с жизнью троих людей? Хорошо, пусть я не в счет. Этот подлец тоже. Но ваша дочь?
— Твой тон… Это обидно, Петр, прошу тебя… — проговорила Мари с усилием.
— Передай трубку дочери, — попросил Петр во второй раз.
— Петр, дело в том, что… Нам нужно увидеться.
— Хорошо. Потом решим, где и когда. А теперь передай трубку Луизе.
— Ты совершаешь большую ошибку, — сказала Мари; она опять было умолкла, но в следующий миг подчинилась: — Хорошо, сейчас…
Петр дожидался около минуты, вслушиваясь в доносившиеся с другого конца провода звуки: быстрые, звонкие шаги, непонятный гул. Затем что-то упало и разбилось. От напряжения он чувствовал, что задыхается, что не способен вымолвить ни слова и не может взять себя в руки. В трубке послышался знакомый родной голос:
— Это ты, Пэ?!
— Луиза! Наконец-то… Что ты со мной делаешь? Ты слышишь меня?
— Мама сказала, что… что он нас всех обвел вокруг пальца! Я ему этого не прощу! — Голос Луизы задрожал.
— Ничего страшного, Луизенок. Что теперь делать? Как ты? Где ты пряталась?
— Мы ездили на море. Только что вернулись. Как он мог так дурачить нас? И мы с мамой — две дуры…
— Не стоит об этом, — остановил Петр. — Как ты себя чувствуешь? Как твоя спина?
— Всё нормально. Мы с мамой черные от загара.
— Черные… Представляю, что ты пережила, Лисенок! Всё это ужасно… За это время я, кстати, понял, что, если ты меня бросишь… мне крышка.
— Если не брошу, тебе тоже крышка, — неожиданным тоном ответила Луиза. — Зачем ты всё это затеял? Зачем?
— Ты о Леоне?.. Из-за того, что я решил его защищать?
— Для меня он не Леон, а последняя сволочь!.. Того Леона я похоронила.
— Мы всё это обсудим… Увидишь, как всё будет просто. Тебе трудно понять вот так, с ходу, но я всё объясню. Ведь в жизни бывают ситуации, когда нужно быть выше… выше себя. Ну, хотя бы на полголовы, ты понимаешь?.. Я не могу поступить по-другому. Представь себе этого типа — полный недотепа, вся жизнь искромсана.
— Это ты должен себе представить, Пэ! — Луиза всхлипнула.
— Конечно, господи… Вот что, Лисенок, ты меня слышишь?.. Я сейчас приеду, и мы обо всём поговорим.
— Нет, Пэ, я не могу. Тут мама, и вообще…
— Что значит вообще? — растерялся Петр. — Хорошо, я подъеду и буду ждать тебя в машине перед воротами. Через сорок минут — договорились?
— Не знаю.
— Прошу тебя, Луиза. Ведь я всё равно приеду.
— Подожди минуту… — Луиза была в нерешительности, шепталась с кем-то в сторону, но затем сказала: — Хорошо, я спущусь.
Было уже около полночи, когда Петр въехал на улицу Нотр-Дам-де-Шам и на тротуаре, перед знакомой аркой с воротами, увидел силуэт Мари.
В сером демисезонном пальто дочери, с беретом на голове, невидящим взглядом Брэйзиер наблюдала за приближением машины, в темноте ее не узнавая.
— Что за конспирация? — бросил Петр, выбравшись из-за руля.
— Здравствуй, Петр. — Брэйзиер попыталась улыбнуться. — Ну вот и увиделись. У тебя такой вид… Мало спишь, наверное?
С блуждающей улыбкой на губах Мари уставила в Петра испытующий взгляд, и он вдруг понял, что больше не питает к ней ни малейшего раздражения, которое так распирало и мучило его дорогой.
— Луиза не захотела спуститься? — спросил он, щеками касаясь ее лица.
— Я попросила ее остаться… Чтобы мы могли поговорить… Это невозможно отложить.
Преодолев в себе сомнение, Петр распахнул перед Мари дверцу, предлагая ей сесть в машину.
Мари подчинилась. Обойдя капот, он уселся за руль рядом с ней и произнес:
— Слушаю тебя.
— Ты не против, если мы немного проедем?.. Тут рядом.
— К чему эти загадки? Между нами всегда всё было так просто.
— Тогда поехали, — попросила Брэйзиер.
Петр вырулил на середину проезжей части и молча вел машину в указанном направлении.
— На следующем перекрестке, если сможешь, поверни направо, — сказала Мари.
Петр свернул направо. Перекресток остался позади, и Мари попросила его повернуть на широкую, ярко освещенную улицу и ехать в направлении Латинского квартала. По твердости и решительности ее тона Петр чувствовал, что не должен противиться, даже если и отдавал себе отчет, что происходит что-то странное.
Через несколько минут они въехали на пустынную улицу с односторонним движением, находившуюся в седьмом округе, с правой стороны от Сен-Жерменского бульвара, проехали около трехсот метров, и Мари попросила его остановить машину.
— У меня такое чувство, что мы приехали кого-то грабить, — пошутил Петр, оттянув ручной тормоз.
Мари опустила стекло со своей стороны, достала из кармана сигареты, закурила и, глядя прямо перед собой, спросила:
— Ты не узнаешь?
Петр стал озираться по сторонам. Залитые желтым светом узкие тротуары. С обеих сторон улицы — массивные здания прошлого века, несколько витрин с нависшими маркизами… Улица как улица. Она ничем не отличалась от других.
Он взялся за руль и вопросительно развернулся к Мари. В тот же миг его осенило:
— Ах вот оно что… Конечно! Здесь я снимал квартиру. Точно! Вот в этом доме. — Петр показал на здание впереди и стал с любопытством осматривать фасад. — Двадцать лет назад… Или больше? Господи, как всё изменилось.
— Есть необычный тип мужчин… — произнесла Мари странным тоном. — Мне он встречался два раза в жизни. Необычность его заключается в том, что чувство внутренней ответственности, врожденное и глубоко укорененное, у этих мужчин преобладает над всеми остальными чувствами… такими же обязательными для нормального человека. В сложных жизненных ситуациях это приводит к сбоям… Стоит, например, такому человеку оказаться в экстремальной ситуации, которая вышла из-под контроля… Бывает такое?
— Что ты от меня хочешь, Мари? — спросил Петр с мягким упреком. — Уже первый час ночи, я устал и не в состоянии ломать голову над ребусами. В чем дело?
— Есть мужчины, которые, сблизившись с женщиной по ошибке, делают потом вид, что ничего не произошло, всё списывают со счета и могут валять дурака до конца дней, дожидаясь, что всё загладится само собой. Ты один из таких людей. Другой… Ну, это не важно.
— Я понимаю. Ты хочешь сказать, что мое молчание по поводу тех дней… что это было не по-джентльменски?
— Мы никогда об этом не говорили, и я это приняла… — уклонилась Мари от прямого ответа. — Я, как и ты, делала вид. Но, наверное, ты прав, другого выхода не было. Я всё время говорила себе: он умнее, он знает, что делает. Убеждала себя, что надо уметь очищаться от ошибок такими средствами, которые доступны, а не искать помощи на стороне, постоянно на кого-то рассчитывая… Надо уметь сохранять отношения с людьми, несмотря на скверну, в которой мы тонем, погрязаем. Необходимо сохранять отношения любой ценой, надо уметь отказаться от своего я, ведь оно поганит всё чистое, что в нас есть от природы… Я это приняла, — повторила Мари. — Ты помнишь, что когда я… когда я не смогла перебороть себя… двадцать лет назад, но я была очень молода, а после провинции, после жизни у родителей… Я хочу сказать, что когда двадцать лет назад я приходила к тебе… в эту квартиру… я ни о чем не жалела и сегодня не жалею… В отличие от тебя я никогда не могла распоряжаться своей жизнью вот так, как ты… и мне проще принимать всё как есть. А потом, я бы просто с ума сошла, если бы жалела о чем-то. Но этого не объяснишь, нет…
Окончательно запутавшись, Мари замолчала.
Петр озадаченно смотрел в сторону. Едва ли его удивляло услышанное. В словах Мари было немало справедливого. Но в то же время сказанное не содержало в себе ничего такого, что требовало переоценки сию минуту. Он никогда до конца не верил в то, что этот давний эпизод списан ему со счета. А иногда сознавал и другое: как бы они ни относились к этому теперь, своими отношениями, которые им удавалось сохранять столько лет, они были обязаны именно той давней близости.
— Почему ты сейчас об этом говоришь? — спросил Петр, включив в машине свет.
— Я не хочу, чтобы всё это повторилось… с Луизой… У тебя нет детей, тебе трудно понять… У Луизы совсем другая жизнь. Она живет в другое время, — произнесла Мари, словно угадывая его мысли. — Наверное, у нее другое будущее. Всё другое…
Кивнув в знак согласия, Петр опять медлил. Стараясь увязать в своей голове что-то новое и уже понимая, что в данный момент полная откровенность вряд ли будет на пользу им обоим, он чувствовал в себе какую-то неожиданную твердость. Проникнуться чужой болью вдруг не получалось.
Испуганная и немного птичья поза, угловатый профиль, затравленный блеск в глазах… — Мари на глазах подурнела и казалась жалкой, беспомощной. Один ее вид вызывал мучительное сочувствие. Вместе с тем он не мог справиться с новой, захлестывающей его волной сожаления или даже отвращения, от которого его мутило почти физически.
— Мари, ты, наверное, не понимаешь, почему я делаю всё это. Почему я пошел на это… — вздохнул он.
— Думаю, что понимаю… Я понимаю, что тебе очень тяжело. Но ты должен взвешивать… По сравнению с тем, что пережила Луиза, всё это ерунда. Ты должен всё оставить, всем пожертвовать и думать только о том, что она может навсегда стать несчастным человеком. У нее может быть поломана жизнь, ты понимаешь?! Вокруг нее одни ненормальные. Начиная с собственного отца и кончая…
— Мною.
— Нужно исправлять содеянное, — помолчав, ответила Мари.
— Я только об этом и думаю, Мари… Только об этом.
— Тогда… Что тебе стоит?
Петр медлил.
— Если бы я узнала обо всём тогда, когда вы с Арсеном договаривались… то всего этого бы не произошло, — добавила Мари с колебанием. — Я тебя очень прошу, умоляю тебя, оставь ее! Оставь всю эту историю! Пусть кто-то другой защищает твоего легионера!
— Бросить Леона? Но он же загнется, погибнет… Я не могу этого сделать, Мари… Это невозможно, — с твердостью сказал Петр. — Моя единственная цель — сделать всех, кто пострадал, как можно менее несчастными. И Луизу, и этого дурня… Пусть даже ценой моих отношений с ней. Я готов к этому…
— Тогда… Тогда не знаю, что будет… Зачем столько крайностей? Зачем столько несчастья? Зачем всё это?..
Уставив на нее непроницаемый взгляд, Петр молчал и, казалось, только теперь вникал в смысл сказанного. Это заставляло его реагировать немедленно и явно бессознательно: он пытался найти словам Мари какое-то оправдание или опровержение.
— Луиза придерживается того же мнения? — спросил он.
— Да какое у нее может быть мнение? Ты хоть понимаешь, что она могла оказаться твоей дочерью?.. От любви ко всему русскому ты… ты готов спать с родственницами, — добавила Мари не своим голосом. — Я читала, что так бываете… в природе. Она так защищается от вырождения…
— Что в ней русского? — спросил Петр.
— Лично я ничего не вижу.
— Какое страшное обвинение…
На процедуру сверки показаний, назначенную у судебного следователя на одиннадцать утра, Петр приехал с десятиминутным опозданием. К кабинету судебного следователя он поднялся не на лифте, а по лестнице. Когда же он вошел на этаж, когда оказался в коридоре, в конце прохода, заканчивающегося окнами, он увидел Мари с дочерью.
Заметив его, обе поднялись и выжидающе смотрели в его сторону. Мари что-то комкала в руках. Луиза, в черной, несколько траурной паре, с аккуратной, новой прической, сплела руки перед собой и следила за ним каким-то незнакомым взглядом. Арсена рядом не было.
В тот же миг к Мари приблизилась женщина. Петр не сразу узнал в ней Эстель Бланш, их адвоката, с которой он был знаком лишь вскользь, лицо ее припоминалось с трудом.
Адвокат стала что-то быстро обеим объяснять. И мать и дочь слушали ее, уронив глаза в пол. Петру показалось, что Луиза сделала попытку отойти от них, но ее удержали.
Отсутствие Брэйзиера — вот это было неожиданностью. Приготовившись к худшему, настроив себя на решительные действия, Петр в долю секунды осознал, что ему дарован новый непредвиденный шанс повлиять на Луизу, которым он не может не воспользоваться. Понимал он и то, что этим шансом он обязан Мари и никому другому.
Петр направился к Брэйзиерам. Но дорогу ему почти преградила распахнувшаяся дверь. В коридор вышел следователь Берже с двумя незнакомцами. Увидев его, Берже сунул одному из мужчин папку и приятельским тоном проговорил:
— Что же вы всех задерживаете?
— Прошу прощения, так получилось, — сказал Петр, остановившись перед дверью и через плечо следователя глядя на Брэйзиеров.
— Тогда начнем. Прошу… — Следователь с официальным видом показал к себе в кабинет. — Прошу вас, проходите! — позвал он всех.
Эстель Бланш и Брэйзиеры приблизились.
— Вы, пожалуйста, подождите здесь, — остановил Берже Мари Брэйзиер. — Мы ненадолго.
— Как же так? Я не понимаю… — засуетилась та.
— Прошу, прошу, — поторопил Берже и вошел в кабинет первым.
Эстель Бланш, жестом дав Мари понять, что лучше подчиниться и положиться на нее, сделала шаг вперед, чтобы провести Луизу за следователем в комнату, но Петр преступил им дорогу.
— Здравствуй, Луиза, — сказал он.
Луиза перебегала испуганным взглядом по лицам.
Чтобы отгородиться от следователя, Петр наполовину прикрыл за ним дверь и мягко добавил:
— Вот видишь, до чего мы докатились. Ты мне поможешь? Обещаешь?
Луиза покорно мотнула головой.
— Ну вот… Так будет лучше.
Со странным выражением на лице, отрицательно качая головой, Петр распахнул дверь, предлагая Эстель Бланш, так и не проронившей ни слова, и Луизе войти первыми.
Берже рассадил присутствующих по местам, обвел всех строгим озабоченным взглядом, сделал короткое вступление, а затем, когда ввели Мольтаверна, когда подследственного усадили на отдельный стул, когда Берже опять принялся для протокола что-то объяснять, Петр больше не смел поднять на Луизу глаз. В присутствии Мольтаверна это оказалось для него непосильным.
Обняв себя за локти, Мольтаверн сидел в развязной позе, но при этом не отрывал глаз от пола, корчил каменную гримасу — одну из своих худших гримас. И не успел он произнести ни слова, как Петру стало ясно, что всё будет провалено.
Всё шло по сценарию, отработанному следователем. Ход запланированной «конфронтации» сразу же вышел из-под контроля Петра. На все узловые вопросы Мольтаверн отвечал именно так, как это было необходимо обвинению, а не защите. В считаные секунды Мольтаверн отрекся от своих клятв, данных Петру накануне. Он не стал опровергать своих первоначальных показаний и по-прежнему признавался во всех инкриминируемых ему действиях — с дерзкой улыбкой, приправляя свои гримасы несусветными объяснениями о том, что так это и было на самом деле, что он просто не предвидел, что всё так плохо закончится. А под конец он еще и вслух извинился перед Луизой.
Сидя в оцепенении, вцепившись кулаками в края сиденья, Луиза боялась пошелохнуться. Она выдавливала из себя по слову и, казалось, с трудом понимала, где находится и что с ней происходит.
Повторяя свои вопросы, стараясь задавать их таким образом, чтобы не ставить потерпевшую в затруднительное положение, чтобы она могла отвечать на них однозначными «да» или «нет», Берже получил на всё нужные ему ответы и вскоре был вынужден процедуру подытожить.
Мольтаверна вывели. Луиза устремилась к выходу. Эстель Бланш проследовала за ней.
Петр, гонимый чувством, что потолок должен вот-вот обвалиться ему на голову, на миг всё же задержался, уже перед открытой дверью в коридор.
Выйдя из-за письменного стола, Берже направился к нему и выжидающе смотрел на него снизу вверх.
— Жаль. Я надеялся на более мягкий вариант, — произнес следователь. — Но это не в наших с вами силах, поверьте.
— Вы просто не понимаете, что вы творите, — сказал Петр. — Всё это рухнет на суде.
— Вы вправе думать всё, что вам заблагорассудится, — кивнул Берже.
— Для вас это пустые слова.
— Зря вы так думаете.
Выйдя из кабинета, Петр не застал в коридоре ни Луизы, ни Мари.
На лице Мольтаверна не было даже тени вчерашней мрачности. Он выглядел бодрым, каким-то воспрянувшим. Глядя на него, складывалось впечатление, что крушение, которое они потерпели день назад у следователя, обернулось для него какой-то долгожданной внутренней развязкой. А поэтому намерение Петра устроить ему разнос, когда они, по обыкновению, встретились в тюремном боксе, обернулось лишь долгим молчанием.
Мольтаверн не переставал ухмыляться, разглядывал свои кулаки. Петр глядел в одну точку, но наконец закурил сигарету и произнес:
— Теперь мы с тобой повязаны до конца, ты понимаешь?
— Против судьбы не попрешь.
— Я ведь пылинка в этом молохе, не больше. Я не умею делать чудес, ты понимаешь?
— Это дураку понятно.
— Почему же ты мне не помог, если ты не дурак… если ты всё понимаешь?
— Не мог. Ведь всё правда.
Петр обессиленно закивал.
— Потому что вы врете, — добавил Мольтаверн. — Себе самому и этому субчику.
— Это он, Берже, субчик? Да он тебя в порошок сотрет, если захочет.
— Пупок развяжется.
— Ты бы выбирал выражения, мы не в казарме.
— И вы меня заставляете басни рассказывать. Осточертело!
— На то я и адвокат! — Петр ударил кулаком по столу, но выйти из себя по-настоящему у него не получалось. — У всякой правды есть две стороны. В каждом из нас сидит и то и другое. Ты понимаешь это? Или опять честь солдафона взыграла в тебе?.. Перед кем? Да не перед Луизой ли?.. Ведь корчил из себя, блеснуть хотел — признайся?
— Если даже и так, — усмехнулся Мольтаверн.
— Тогда знай, что я о тебе думаю. Ты размазня, слюнтяй! Чувство собственного достоинства надо уметь дозировать.
— Хватит вам!.. Сколько можно мозги полоскать?
— Мозги полоскать? Вот как ты заговорил! А я тогда кто, по-твоему? Посмешище? У меня, по-твоему, нет чувства собственного достоинства?
— Вы же сами всё затеяли. Я вам говорил, что не надо этого делать.
— Я затеял? Леон, смотри мне в глаза! — потребовал Петр. — Не можешь? Вот цена твоему достоинству! А я тебе скажу, что человек… мужчина по крайней мере… должен уметь всё за собой чистить, вплоть до унитаза.
Не удержавшись от улыбки, Мольтаверн уставил взгляд в стол.
— Тебе смешно? А знал бы ты, чего мне это стоит. Ну вот что, я не за этим приехал. Теперь мы возьмемся за дело с другого конца. Ты мне как-то говорил, то есть не мне, а Луизе, что в Чаде с тобой случилась одна история…
Мольтаверн поднял на него удивленный взгляд.
— Теперь нам придется всё выкапывать в твоей биографии, всё до подноготной. Где, когда, почему… Суд присяжных — это тебе не субчик Берже. Я хочу знать следующее: правда ли то, что ты рассказывал Луизе о ваших проделках. Я имею в виду историю с малолетками, которых вам поставляли в обмен на кусок хлеба. Правда ли, что ты дал в морду офицеру, одному из зачинщиков этого свинства?
— Вот Легион оставьте в покое, — мрачно пробормотал Мольтаверн.
— Не тебе теперь решать, что я должен оставить в покое, а что нет. Это, может быть, единственное, что было достойного в твоей собачьей жизни! А поэтому… Поэтому я хочу знать, где правда, а где ложь… Дал ты в морду офицеру или нет?
— Да при чем здесь офицер!.. Офицеры были не в курсе!
— Кому в таком случае?
— Да был один…
— Рядовой? Со званием? Легионер? Кто именно?
— Не я один его мордовал.
— Он был из твоего отделения? Из твоего отряда? Как это называется там у вас? Ну? — подстегнул Петр.
— Полком называется. Он был из шестого… К нам перекинули полк морской пехоты.
Петр раскрыл блокнот и стал делать пометки.
— Про шестой писать не надо, — сказал Мольтаверн.
— Это мы потом увидим… Сколько ты там пробыл?
— Шесть месяцев.
— В каком году?
— В восемьдесят пятом. Нет, в восемьдесят четвертом.
— Будь точен.
— В восемьдесят четвертом.
— И как там было? Ну, вообще: джунгли там, пустыня? Я же не был в Чаде — встань на мое место.
— Ничего особенного… Жарища, как в преисподней, — сказал Мольтаверн, пожимая плечами.
— Это понятно, что жарища. Чем вы там занимались?
— Ходили уничтожать склады. Всякие гуманитарные акции на нас висели…
— Что за склады вы уничтожали?
— Противника.
— Стреляли, убивали кого-нибудь?
— Нет, обычно оглушали.
— Оглушали… Голыми руками? Кирпичом? Чем?
Мольтаверн оскорбленно уставился в стол.
— Ты-то кем там был?
— Снайпером.
— И что, ни разу не приходилось стрелять в кого-нибудь? Выстрелить в человека и уложить его? Да или нет?
Мольтаверн молчал.
— Хорошо, теперь меня вот что интересует: ты ведь не один с тех пор ушел из Легиона. Друзья у тебя там были? — Петр ставил вопросы, не дожидаясь ответа. — Кто-то из них уволился из Легиона за это время?.. Конкретнее: кто-нибудь из твоих сослуживцев, оставивших Легион, живет сейчас во Франции? Кто-нибудь может засвидетельствовать, что был мордобой из-за девочки?
— Нет, вот сюда не надо соваться! — запротестовал Мольтаверн.
— Я спрашиваю: есть ли такой человек или нет его? Есть ли он в природе? Без твоего согласия я ничего предпринимать не буду! Даю тебе слово!
— Ну, есть один, — сказал Мольтаверн с неуверенностью.
— Отношения поддерживаете?
— Одно время перезванивались, но редко. У него семья — сами понимаете.
— Пиши адрес. — Петр развернул перед Мольтаверном блокнот.
— Зачем?
— Пиши! Я не собираюсь тебя закладывать… за разглашение военной тайны. Мне нужно всё взвесить. Прежде всего, мне нужны все данные, чтобы всё взвесить как следует.
Мольтаверн покрылся испариной. Он тянул, не мог себя перебороть. Но наконец, на что-то решившись, он резко схватил ручку и набросал адрес сослуживца, после чего с испугом забормотал:
— Вы обещаете? Вы должны дать слово…
— Я тебя в чем-то уже обманывал? Да или нет?.. Даю тебе слово! Слово чести, если хочешь. В отличие от тебя, я таких слов на ветер не бросаю…
Брэйзиер не мог простить себе, что внял настояниям жены и согласился отпустить их с дочерью на очную ставку к следователю одних. Именно с этого дня он опять чувствовал полный разрыв с происходящим у себя дома. В семейной жизни всё опять покатилась по наклонной плоскости, и он ничего не мог изменить.
Брэйзиер решил перестраховаться. За несколько дней до возвращения жены из Ланд он съездил в Париж. Не ставя жену в известность, он связался парижским адвокатом, с некой Эстель Бланш, которую ему порекомендовал Жан Диарр. Самостоятельной практикой Бланш занималась не так давно, небольшой офис в шестнадцатом округе она занимала одна, без компаньонов, что само по себе было редкостью, но уже успела наловчиться в делах, замешенных на попрании женских прав. Диарр считал, что лучшего кандидата на роль защитницы его дочери не найти во всей Франции.
Встреча состоялась у Бланш в офисе уже в день приезда. Брэйзиер изложил, как умел, суть своего «семейного прошения». При этом он едва не наговорил лишнего, особенно о Вертягине, который, как он объяснил, взялся рьяно защищать обвиняемого, и о его взаимоотношениях дочерью. Сожалеть об этом пришлось уже по ходу разговора. Не успели они высказать друг другу главное, как вдруг всплыло, что Бланш знает Вертягина лично. Знакомство шапочное. Когда-то давно они сталкивались по работе, вот и всё. Кроме того, она поддерживала приятельские отношения с одним из его компаньонов. Брэйзиер был неприятно озадачен.
Пытаясь загладить свою оплошность, Брэйзиер настоял на немедленном внесении первого денежного взноса за услуги. Возражений не последовало. Брэйзиер настаивал на том, чтобы Бланш была с дочерью помягче. В ответ на что та с некоторой досадой заверила его, что защиту в таком деле — речь шла как-никак об изнасиловании — она берет на себя, увы, не в первый раз и поэтому просьбы такого рода казалась ей неуместными. Это он, отец, принялась Бланш вразумлять Брэйзиера, был обязан пересмотреть некоторые свои взгляды на вещи и, уж во всяком случае, должен был запастись терпением и проявлять к дочери максимальную мягкость. Психологическая неустойчивость, шаткость, чувство вины, неуверенность в себе — всё это являлось якобы чем-то типичным в таких случаях. С этим приходилось считаться всем психологам-криминалистам. И поэтому теперь девочка нуждалась в настоящей поддержке.
Брэйзиер урок намотал на ус и рандеву покинул с полной уверенностью, что дело, с которым он пришел, как ни крути идиотское, сдвинулось с места. Всё продвинулось в нужном направлении, по крайней мере на один шаг…
Когда накануне приезда в Париж жена позвонила ему из Монталивэ и в категоричной форме потребовала, чтобы он «прекратил мутить воду», заявила, что предпочитает заниматься всем сама, без его содействия, в первую минуту Брэйзиер даже не знал, как реагировать на вызов. Это он-то устраивает бурю в стакане воды? Да откуда вообще стало известно о его поездке в Париж? Бланш проговорилась? Какие-то слухи дошли до Вертягина? Через следователя? Через компаньона?.. Еще больше озадачивая своей непримиримостью, жена пригрозила ему, что, если он будет упорствовать, он сорвет встречу, назначенную у следователя. Мари грозилась помешать дочери на нее явиться — просто-напросто.
Брэйзиер взбунтовался. Избежать дальнейшего обострения отношений было невозможно. Чему бывать, того не миновать. Но и это ничего не изменило. Он лишь еще больше чувствовал себя выбитым из колеи. Жена же опять шла напролом, и он не знал, что делать. Впрочем, еще в момент отъезда из Сулака он не мог не почувствовать, что что-то опять между ними назревает. Уже тогда было ясно, что вскоре последует новая вспышка. Брэйзиер просто не ожидал, что это произойдет так скоро, да еще и на почве случившегося с дочерью.
Препирательство длилось двое суток. Решив, что не время всё усложнять, Брэйзиер поступился своей гордыней. Мари, со своей стороны, пообещала принять одно из его условий: она согласилась оградить дочь от посягательств шурина, о чем Брэйзиер просил и умолял, и даже запугивал. Вертягин, мол, предпримет всё возможное, чтобы заставить их забрать заявление. Нет заявления — нет никакого дела! Помимо этого, Брэйзиер настоял на том, чтобы на встречу к следователю они отправились с адвокатом, с Эстель Бланш, с которой он уже успел обо всём договориться.
Однако у Брэйзиера были и другие причины опасаться нового накала отношений с женой. Ровно за неделю до этого, в то время, когда жена и дочь находились на море, с ним случилась неожиданная неприятность: каким-то непостижимым образом он проиграл в Круазетте, каннском казино, двести пятьдесят тысяч франков. Проигрыш такого размера, всего на пяти ставках, не мог пройти незамеченным, и Брэйзиер не на шутку опасался, что слух может докатиться до жены. Такого она не простила бы ему до конца дней.
Вернувшись в Тулон, он жил прежней жизнью. Будучи не в состоянии повлиять на ход событий, Брэйзиер всё яснее сознавал, что в какой-то момент у него был, вероятно, шанс поправить положение. Но ему оказалось не до этого, он им не воспользовался. И вот теперь, сколько бы он ни тешил себя надеждой, что жена, помыкавшись в душной столице, вернется домой, как всегда, утихомиренной — парижская сутолока на некоторых воздействует будто смирительная рубашка, — он не знал, на что рассчитывать, с какой стороны ждать просветления.
Но и проигрыш в казино не был концом всех бед. В сбыте продукции завода с середины июля наметились непредвиденные задержки. Они были вызваны очередным сбоем в заказах. Собственных фондов для компенсации предполагаемых убытков не хватало. Приходилось всерьез думать о частичном сворачивании производства. Закрытие одного из небольших вспомогательных производств в сложившейся ситуации представлялось неизбежным. Потеря контроля над производством могла сказаться, в свой черед, на всём положении дел, не позднее чем через два-три месяца. Отработанную годами цепочку невозможно прервать без серьезных последствий.
Брэйзиер не знал, как вырваться из тисков невезения, а поскольку не мог предпринять ничего конкретного, еще больше пускал всё на самотек. Он снова проводил вечера в клубе «Геркулес», двери которого были открыты не для всех мужчин. Мужское общество, общество себе подобных, воздействовало на него благотворно. Он опять недосыпал, ночи напролет проводя у Диарра за игрой в покер, хотя и не позволял себе играть на большие ставки. Он снова и снова давал себе клятвы, что с завтрашнего дня, проснувшись, поставит на всём точку, положит конец беспутной жизни. Но наутро, как следует отоспавшись, придя в себя от черных мыслей и видя за завтраком то же, что и вчера, круглое, улыбающееся лицо филиппинца Тома, его охватывало пронзительное понимание, что все надежды на скорые перемены тщетны. Можно ли изменить мир в один день, одним усилием воли? В конце концов, за один день в нем всё равно ничего не изменится. Да и не мог он оставаться в проигрыше постоянно. Невезение не может и не должно преследовать человека всю жизнь — это противоречило законам природы…
Брэйзиер чувствовал себя зараженным мучительной, медленно пожиравшей его изнутри болезнью, от которой ничто не спасало и в которой трудно было бы признаться даже себе самому. Он всё чаще списывал свои недуги на утрату былого стимула: семья, дети, обязанности… Чем всё это возместить? А просто в свое удовольствие он жить не мог, не умел, — с этим тоже нужно было смириться… Вполне ясное, трезвое чувство, что не сегодня-завтра что-то должно случиться по не зависящей от его воли посторонней причине, не оставляло его ни на миг, и внутренне он не мог не дожидаться этой неведомой, пугающей перемены, как какого-то спасения, будто наркоман, нуждающийся в постоянном увеличении принимаемых доз и гонимый чувством, что хуже, чем есть, всё равно уже не будет, но тогда будь что будет…
О неприятностях мужа Мари не имела, как всегда, даже отдаленного представления. Но после бурных дискуссий с ним по телефону, чем-то ее встревоживших, она предпочла навести справки. Возможность подвернулась сама собой, как и в прошлый раз, благодаря соседке Глезе.
Будучи в курсе того, что несколько месяцев назад Брэйзиеры занимались поисками квартиры для дочери, Глезе пыталась связаться с Мари в середине августа, чтобы посоветоваться с ней по поводу аналогичной проблемы, возникшей у ее женевской племянницы, которая собиралась перебираться на жительство в Париж. Дозвонившись, Глезе попросила Мари и о другой услуге: служившая у Глезе домработница просила походатайствовать перед соседями о том, чтобы муж Мари не увольнял с работы ее родственника. Принадлежавшая Брэйзиерам лаборатория по изготовлению парфюмерных эссенций, в которой тот работал уже третий год, должна была перейти в собственность к новым хозяевам, в связи с чем выброшенными на улицу оказывалось около двадцати человек, в числе которых был и родственник домработницы. Глезе просила Мари о том, чтобы парня, по возможности, перевели на другую работу, без увольнения, оставив в той же компании; бедняга только-только женился, ждал ребенка, и увольнение грозило стать для семейства настоящим ударом.
Мари пообещала сделать всё от нее зависящее, просила Глезе уточнить, о какой именно лаборатории идет речь: она была не в курсе того, что муж готовит предприятие к продаже. Суть просьбы Глезе поняла с полуслова. Соседка пообещала навести справки в считаные дни и «вообще держать ее в курсе»…
По «оперативным данным», которые Глезе удалось собрать, причем без особых усилий, что лишний раз свидетельствовало о том, что доносимые ею новости давно превратись в секрет полишинеля, муж как будто бы искал возможности обналичить фонды лаборатории, с тем чтобы за счет извлеченной ликвидности спасти другое, более важное для производства предприятие, которое находилось на грани краха и требовало срочного увеличения собственных фондов. Дело было якобы решено бесповоротно. Но в городе поговаривали о том, что даже столь крайние меры не гарантировали дочерней фирме спасения от банкротства. Превентивная процедура в суде была будто бы уже запущена. О ней попросил сам Брэйзиер.
Позднее Глезе довела до сведения Мари и другое: муж будто бы опять играет. Матильде Глезе было также известно, что его компания замешана в новом судебном разбирательстве, уже в самом Тулоне, связанном с налоговой отчетностью, с неплатежами по контрактам, с чем-то в этом роде… — других подробностей никто не знал. Мари мгновенно догадалась, что эта неприятность и представляла собой наибольшую угрозу, потому что именно об этом муж ей никогда не говорил ни слова.
Как-то в субботу — муж звонил ей каждые выходные — он сообщил ей, что в этом месяце не в состоянии обеспечить ее и детей «пособиями» в обычном размере. Вместо двадцати пяти тысяч франков, которые по договоренности между ними он выделял Мари ежемесячно, Арсен предлагал ей всего десять тысяч.
— Временная мера, Мари. Я тебе уже говорил, что у нас трудности. Я вынужден затянуть ремень, — оправдывался он. — Но преувеличивать тоже не надо. В следующем месяце всё придет в норму.
— Совсем недавно ты утверждал, что в норму всё придет с продажей лаборатории, — заметила Мари.
— Всего не предусмотришь.
— Ты, кстати, выполнил мою просьбу насчет парня, которого собирались уволить?
— Насчет парня… Ах, черт! Завтра же. Попрошу завтра ему позвонить, — замешкался муж. — Обещаю…
— Я не понимаю, как ты мог забыть. Я ведь просила тебя. Сколько прошло времени?
— Вылетело из головы, ну что делать? У меня столько дел теперь. Опять сбыт покатился под гору. Опять эта нервотрепка. Спать некогда. Август — кошмарный период. Ведь в этой стране никого не заставишь в августе работать. Хоть плачь…
— Ты лжешь, — произнесла Мари.
— Мари…
— Ты мне постоянно лжешь. Ты закормил меня ложью… А не связаны ли твои трудности с тем, что ты опять проиграл деньги в покер?
Обескураженно помолчав, Брэйзиер спокойно произнес:
— Любопытно было бы знать, кто развозит эту грязь вокруг меня?.. Хорошо, если на то пошло, покер покером, Мари. Но, во-первых, не вижу, каким образом всё это тебя касается, а во-вторых, ты ведь не хочешь сказать, что я проигрываю в карты по двадцать пять тысяч ежемесячно?
— А по сколько?
— Не понимаю, кто снабжает тебя подобными гадостями? Я разберусь… Ты шпионишь за мной? Ты хоть понимаешь, что ты делаешь из меня посмешище?
— Что за история с налогами? — продолжала допытываться Мари.
— Ну, видишь ли… О чем я и говорю… — Арсен помедлил. — Неужто и сюда успели сунуть нос? Кто? Я спрашиваю — кто?! Мари, ты должна понять, что существует такое понятие, как коммерческая тайна. Эти вещи не обсуждаются с чужими людьми. Это может иметь самые печальные последствия… Для всех.
Муж умолк, о чем-то быстро размышлял. Мари чувствовала, что своей осведомленностью смогла произвести впечатление, что муж судорожно ломает голову над тем, через кого она могла заполучить такие сведения.
— Мари, я давно думал об этом… Не пора ли нам поговорить вот о чем. Если ты хочешь определиться с жильем, если хочешь купить себе квартиру или дом, где тебе пожелается, я возражать не буду. В конце концов, ты больше не живешь дома. Получается, что я один пользуюсь общим имуществом. Это несправедливо. У меня, конечно, уйма трудностей. Но, черт возьми, зачем нам, например, эта крепость под Каннами? Ведь всё равно не ездим.
— Не смей и думать об этом. Это все, что осталось от мамы, — отрезала Мари.
— Я о том и говорю… Ты вправе решить на свое усмотрение. С квартирой Луизы тоже ведь нужно что-то решать, пора подумать и об этом.
— Хорошо. Я подумаю…
В том же духе они проговорили еще несколько минут, обсуждая извечную тему — дочь. Арсен собирался съездить на несколько дней в Лондон и порывался взять дочь с собой, чтобы дать ей возможность «проветриться». Мари возражала. Они распрощались ни на чем, понимая, что больше вообще ни о чем не в состоянии договориться.
Одним из наиболее неожиданных выводов, которые Мари сделала для себя после встрясок последнего времени, и особенно после встречи с Петром у следователя, была ее глубокая убежденность в том, что жизнь ее дошла до крайней черты, до Рубикона, за которым ничто уже никогда не будет по-старому, стоит ей сделать последний шаг и переступить его. В личных неурядицах произошел какой-то качественный скачок, и все былые опасения, волнения и страхи по сравнению с сегодняшним положением вещей выглядели мелкими.
Оставшуюся часть лета Мари проводила в Париже, от каких-либо решений воздерживалась, планов не строила, не считая кратковременной, давно запланированной поездки на юг, но не домой, а под Грасс, где она собиралась заняться подборкой материала для репортажа о выращивании лаванды, о ее переработке и изготовлении парфюмерных масел. Заказ достался ей как бы по старой памяти, уж слишком явно тема соприкасалась с родом занятий ее супруга. Мари, впрочем, не знала, как выйти из положения. Отказаться она не могла, но теребить мужа ей тоже не хотелось, а обращаться за помощью к людям, которым он платил зарплату, в обход его — это казалось несуразным, да и могло привести к новым вспышкам гнева с его стороны.
Со дня приезда из Ланд Мари жила у дочери. И уже понемногу начинала испытывать неудобство от этого непредвиденного сожительства, даже если никаких видимых причин для этого вроде бы не было, помимо того, что дочь жила самостоятельной жизнью, имела свой круг знакомых-сверстников и материнское присутствие нарушало устоявшийся ритм ее жизни. Мари не могла не замечать, что многое в их отношениях изменилось безвозвратно. После пережитого дочь повзрослела буквально на глазах. Нужды в опеке над собой Луиза больше не испытывала, тяготилась малейшим проявлением подобных забот, и, как Мари казалось, опять становилась вспыльчивой, а иногда даже тяготилась ее присутствием, особенно при друзьях, — они стали появляться на Нотр-Дам-де-Шам всё реже.
Когда однажды, дней через десять после очной ставки у следователя, Мари завела с дочерью разговор о том, что, может быть, и в самом деле правильнее будет поступить так, как предлагал Петр — забрать заявление и забыть обо всем, — Луиза вспылила. Впервые повышая на нее голос, дочь отважилась упрекнуть Мари в том, что давно, по-видимому, ее мучило. Она, мол, не знает, чего хочет, живет «в свое удовольствие», на поводу у своих прихотей. И она и отец, мол, перестали понимать ее. И именно она, получалось, мать, сделала всё для того, чтобы ее отношения с Петром прекратились. Данный упрек Мари восприняла особенно болезненно, потому что это не было чистым оговором. И вот теперь, мол, «очухавшись», она шарахается из жара в холод, гонимая одним желанием — сделать что-нибудь наперекор отцу. Луиза упрекала мать за дрязги с отцом и, наконец, за то, что она не желает понять, что с ней в действительности произошло…
Объяснения, закончившиеся немедленным примирением, заставили Мари сделать для себя простой и важный вывод: дочь не знает, к какому берегу прибиться. Сама суть упреков имела второстепенное значение. Утратив прежнюю опору в семье и даже ту последнюю, которую она имела, безусловно, в Гарне, дочь искала возможности вновь на что-нибудь опереться. Мари вдруг осознала, что даже факт ее проживания на Нотр-Дам-де-Шам, ее повседневное присутствие являлись для дочери косвенным, но постоянным, назойливым напоминанием о случившемся и мало чем отличались от близорукой заботливости мужа, напоминавшей опеку над тяжелобольной, которую сама она столько раз ставила ему в упрек.
Всё это было наихудшей из терапий. Это соображение и было одним из главных, побудивших Мари в начале августа переехать в квартиру тетки, которую та предлагала ей с самого начала, узнав, что она поселилась в Париже. Квартира пустовала годами. Тетка в Париже не появлялась, но продавать квартиру тоже не хотела, держала ее на всякий случай, на семейные нужды. Вот случай и представился. Несмотря на все удобства, квартира была крохотной и на редкость неудобной. Но Мари полагала, что к осени примет какие-нибудь решения и на этот счет.
Как только она переехала, отношения с дочерью сразу же вошли в норму. Дочь стала мягче с ней и даже пыталась проявлять о ней заботу. Они словно поменялись ролями. Луиза требовала, чтобы мать переехала назад на Нотр-Дам-де-Шам, хотя бы на время ее поездки на море, куда собиралась с друзьями на две недели. Мари заверяла дочь, что предпочитает оставить всё как есть, что уже загружена работой, — так для нее будто бы лучше во всех отношениях.
Занятость, на которую Мари ссылалась, была отговоркой. Бесцельная, до неестественности пустая, бездеятельная жизнь в Париже ее угнетала. Лишь начиная с середины августа, когда город опустел, когда разъехались те немногие знакомые, с которыми она поддерживала отношения, и когда она почувствовала, что в новом быту у нее стали появляться первые привычки, мрачный занавес однообразных городских будней сначала словно лишь колыхнулся, а затем действительно стал медленно раздвигаться.
В городе установилась ясная, но не жаркая погода. Вставая по обыкновению рано, первую половину дня Мари проводила за чтением. После обеда она надевала кроссовки с толстыми хлопчатобумажными носками, как часто делала под Мельбурном, и, ощущая себя туристом, впервые очутившимся в Париже, обходила пешком музеи, парки, набережные, а по вечерам начинала испытывать нечто вроде нехватки общения. Видеться со старыми знакомыми ей было по-прежнему в тягость. Этот круг не вписывался в перемены, произошедшие в ее жизни. Но как-то после обеда Мари отважилась позвонить А. Гварнерри, который просил ее дать о себе знать, когда она будет в Париже. Она не сделала этого до сих пор, потому что идея встречи с бельгийцем из Монталивэ в Париже ее почему-то отталкивала.
Едва услышав в трубке ее голос, А. Гварнерри взревел от возбуждения. Прервав ее на полуслове, он потребовал, чтобы она сегодня же явилась к нему на ужин. У него собирались какие-то «друзья-товарищи». Он обещал Мари «занятное» общество. Мари пыталась отклонить приглашение. Она предпочитала встретиться днем в городе. Но тот и слышать не хотел никаких отговорок.
В половине девятого, опоздав почти на час, Мари поднялась по убранной ковровой дорожкой лестнице на пятый этаж старинного здания неподалеку от набережной Конти — адресок выглядел вполне солидно — и позвонила в дверь.
За дверью послышались отдаленные голоса. Или ей послышалось? Открывать не торопились. Со смутным предчувствием чего-то нелепого Мари нажала на кнопку во второй раз, и в тот же миг дверь распахнулась во всю ширь.
— Мари! — закричал Гварнерри.
От неожиданности она оцепенела.
— Входите же! Что вы застыли?!
Мари переступила порог и опять замерла на месте.
С широкой улыбкой на губах, Гварнерри бесцеремонно оглядел гостью с ног до головы и чему-то усмехнулся. Он был небрит, в белой рубашке, выглядел уставшим и казался на редкость взбудораженным.
Гварнерри указал рукой в раздвинутые стеклянные двери, из-за которых доносились голоса. И не успела Мари войти в комнату, как Гварнерри провозгласил на всю квартиру:
— Господа, хочу представить вам Мари Брэйзиер. Мой теплейший друг! Прошу любить и жаловать…
В ту же секунду, оставив ее наедине с гостями, бельгиец исчез в коридоре.
В небольшом, но от высоты потолков казавшемся просторным, ярко освещенном помещении находилось пять человек. Двое мужчин лет сорока сидели в креслах. Третий, в твиде, за пятьдесят, стоял посередине ковра, держа в обеих руках по стакану. Две женщины, одна из которых, с короткой стрижкой, в черном костюме, немного поражала своим правильным, на редкость красивым лицом, что-то обсуждали между собой, сидя на диване.
Мужчина со стаканами направился было к Мари. Но на пороге комнаты вырос Гварнерри. Он сам стал знакомить ее с каждым из присутствующих персонально. Никто не принимал ритуал хозяина всерьез, из чего Мари сделала вывод, что появление таких, как она, «теплейших друзей» здесь никого не удивляло.
Гварнерри опять куда-то исчез, опять вернулся. Подступив к Мари, он мягко взял ее за плечо, весело заглянул ей в глаза и несерьезным тоном произнес:
— Ну что вы пригорюнились?.. Располагайтесь. Хотя, знаете что, идемте на балкон. У меня там свой угол.
Они вышли на широкую лоджию с двумя старыми, низкими креслами, между которыми стоял застеленный белой скатертью круглый столик с бутылками и посудой. Гварнерри сел в кресло:
— Садитесь, что вы стоите?.. Виски вы наверное не пьете. Что вам налить?
— Спасибо, мне всё равно.
Гварнерри налил виски в два широких стакана, один из них протянул Мари. Она опустилась со стаканом в кресло напротив и стала смотреть через перила на освещенную желтым светом улицу.
— А вы неплохо обосновались.
— Не жалуюсь.
— Чудный вид.
— Да, чудный, чудный! — поддел бельгиец, скользя по ней ироническим взглядом; еще в лагере он имел привычку подтрунивать над некоторыми ее выражениями. — Какими ветрами вас сюда занесло? Ну, рассказывайте! Загорать-таки надоело? Не высидели?
Мари с грустью рассмеялась и сказала:
— Дочь приехала проведать. Вы прямо засыпали меня вопросами.
Отхлебнув из своего стакана, Гварнерри устало пожаловался:
— Если честно, в печенках у меня сидит этот вид. И вид города, и сам город. Иногда себя спрашиваю, как меня угораздило купить здесь квартиру. Да вы взгляните, взгляните вниз! Разве это не оперетта? — показал он на улицу. — Ну, что там, на вашем черном горизонте? Уладилось что-нибудь?
— Что вы имеете в виду?
— Да вашу дочь, что же еще… Ах, бросьте! — Гварнерри поморщился. — Нашего брата на мякине не проведешь.
Стараясь не досаждать своим недоумением, но всё же не совсем понимая, на что именно бельгиец намекает, Мари молчала, спрашивая себя, откуда ему могли быть известны такие подробности, не могла же дочь рассказывать о своих приключениях.
— Ну что тут такого? Сразу сжались в комочек, — упрекнул Гварнерри. — У меня двоюродную сестру в шестнадцать лет трое отделали… на дороге, знаете, как бывает?.. И что вы думаете? Сегодня трое мальчиков. И рада — не нарадуется. Четвертого хочет. И еще скажу вам одну вещь, но это, конечно, между нами: какой нормальный мужчина, глядя на вашу дочь, не откажется воспользоваться выгодными обстоятельствами?
Покраснев по самую шею, Мари уставила на бельгийца испуганный взгляд, не знала, как реагировать, не понимала, был ли этот тон опрометчивой шуткой или неприкрытым хамством. Но разум и чувство неуверенности в себе взяли верх: сказанное относилось больше к ней самой, чем к дочери.
— Какую вы, право, несете ахинею… — заметила она.
— Да будет вам! Нюни-то распускать… — осадил Гварнерри с той же фамильярностью. — Что мы с вами — несмышленые дети? С неба свалились на землю? В капусте родились?.. Добрая половина слабого пола тем только и бредит, чтобы кто-нибудь, простите за выражение, отделал без свидетелей. Да признаться в этом никто не может.
Окончательно растерявшись, Мари следила за бельгийцем краем глаз. Ей казалось, что она ослышалась. Стараясь скрыть свою неловкость, от которой внутри у нее что-то деревенело, Мари поднесла к губам стакан с виски.
В дверях на балкон показался один из гостей — самый пожилой из представленных Мари мужчин, тот, что был в твидовом пиджаке.
— Прошу прощения… — сказал он, наклоняясь. — Альфред, куда ты засунул тот томик? Тут пропасть разногласий…
Гварнерри с недовольством выбрался из кресла, прошел в комнату, но тотчас вернулся и пригласил Мари пройти вместе с ним: там завязалась бурная дискуссия.
Присев на край дивана, Мари пыталась уследить за разговором, но даже не понимала, о чем идет речь. Говорили о ком-то отсутствующем — общем знакомом. Затем дискуссия переметнулась на какую-то недавно вышедшую книгу, с автором которой все тоже вроде бы поддерживали личные отношения. Большинство книгу расхваливало. Гварнерри же упрямо не хотел согласиться с общим мнением. «Англосаксонская тягомотина с мелковатым подкопом под Пруста» — таков был безапелляционный вердикт хозяина. «А это всегда заканчивается обвалом, как на бирже, когда все думают только о спекуляции. Нельзя брать читателя измором. Шарлатан будет заживо погребен под обломками своего плагиата, поверьте моему слову!» — предрекал Гварнерри.
Единодушие, с которым гости предавались столь праздным темам, казалось Мари неестественным. Могут ли взрослые люди тратить время на обсуждение книги, пусть модной, читаемой, будто студенты на учебном семинаре? Она чувствовала себя всё более неловко, да и нелепо.
Гварнерри тем временем расхаживал по ковру, ухаживал за ней, совал ей в руки разные книги, пытался подлить ей в стакан виски, растормошить ее и вовлечь в дискуссию, — но безуспешно. Он держался с ней так, будто был знаком с ней лучше, чем со всеми остальными.
Мари это и удивляло, и сбивало с толку. Но не больше, чем вид красивой незнакомки в черном костюме, которая сидела рядом с ней на диване, скрестив стройные ноги в кремовых чулках. Всё это время гостья молча рылась в кипе бумаг, что-то подчеркивала карандашом и время от времени награждала Мари сочувствующим взглядом, словно хотела дать понять, что болтовня, в которую всех втянул хозяин дома, ей тоже скорее в тягость.
— Ну, что ты молчишь? Ты-то что думаешь? — обратился Гварнерри к стройной гостье.
— Не годится. Твоя просьба невыполнима, Альфред, — ответила та. — Ты понимаешь, дело ведь не в моих претензиях…
— Ну и ладно, — перебил хозяин. — В гробу я их видал! За этой кликой старых филинов я бегать не буду. Так можешь и передать.
— Да ведь не в этом дело, Альфред… — невозмутимо произнесла та, привыкшая, видимо, и не к такому тону. — Ведь сюжет разваливается! В каждом жанре есть свои законы. И потом, этот доктор-собачник, который разводит бульдогов… Какой-то он уж слишком литературный. Убил так убил! Зачем рассусоливать?.. Ты понимаешь, что я хочу сказать.
— В пух и прах… В пух и прах… — Качая головой, Гварнерри почему-то смотрел на Мари, словно рассчитывал на ее поддержку. — Видите, Мари, что происходит? А ведь это мнение собратьев по перу. Что о других тогда говорить — можете себе представить… Одни хотят с начинкой, другие с острым соусом, третьи со сладкой подливой. А основная масса вообще обожралась, от всего носом воротит. Я вам сейчас покажу, Мари, одну вещь… — Гварнерри прошагал через комнату к шкафам с книгами.
Женщина в черном костюме, наклонившись к Мари, сообщнически шепнула ей:
— Он их пишет за неделю. А потом жалуется.
Мари постаралась ответить понимающей улыбкой, но лишь порозовела. Гварнерри подсунул ей в руки какой-то том в твердом переплете, просил полистать книгу и сказать, что она о ней думает.
Не понимая, что от нее требуется, Мари с покорностью принялась перелистывать страницы — книга была страниц в триста, — стараясь вчитываться в начало глав, но не видя текста, не понимая ни слова. Она не заметила, как все одновременно встали и, неожиданно для нее, собирались расходиться. Мари была уверена, что компания, как и она, приглашена на ужин. Ей казалось нелепым встать и уйти в обществе чужих людей. Но еще более нелепым казалось остаться наедине с бельгийцем после ухода всех.
Она поднялась с дивана и приблизилась к остальным, стоявшим перед выходом.
— Да вы-то куда? — остановил ее Гварнерри. — Останьтесь, Мари… Ну вот, господа… Где дверь — вы знаете… — с бесцеремонностью выпроваживал гостей Гварнерри; не прощаясь ни с кем, он взял Мари под локоть и повел обратно на балкон.
— Видали, компания?! Вы что-то растерянны… Садитесь-садитесь… Мы спустимся ужинать чуть позднее. А можем и здесь что-нибудь приготовить… — Он изучал ее новым взглядом.
— Зачем же приглашаете, если они вам так неприятны? — спросила Мари.
— Господи, Мари! Я ведь холостяк! — взмолился Гварнерри; Мари чувствовала, что ему нравится повторять ее имя. — Живу один. Не выхожу из этой конуры неделями… Списывать же нужно с кого-то. Эта, например, молоденькая самочка в черном, которая вам так понравилась, промышляет чтецом в одной знаменитой шарашкиной конторе. Вы не поверите, если я вам скажу, что она, например, укокошила своего первого мужа. Не верите мне?
Мари рассмеялась:
— Не знаю даже, чему верить.
— Верьте всему.
— Я стараюсь, но не получается.
— А тот, в велюровых штанишках… Ах, да что мы о них! Рад, что вы зашли. Вам не холодно?
— Нет. Какие изумительные стоят вечера! Я много хожу, домой возвращаться не хочется.
— Изумительный… Чудный… — опять передразнил бельгиец. — Вы как из другого века, ей-богу. Только не краснейте, очень вас прошу!.. Вы где, кстати, остановились?
— У родственницы… пустая квартира.
— Ага, а потом?
— Потом не знаю, — Мари вскинула вопросительный взгляд. — Я ведь на время… Да вы вроде знаете.
— Всё — на время, — отмахнулся Гварнерри. — Быка надо брать за рога, Мари. Завтра ничего не бывает. Вы что-нибудь постоянное не хотите снять?
— Снять квартиру? Нет, пока нет… Поживу до осени, а там будет видно.
— Хотите, помогу?
Безвольно улыбаясь, Мари отрицательно покачала головой.
— Могу, например, сдать вам свою квартирку… Да не эту! У меня другая есть. Три комнаты. Жилье что надо. Я поселил туда товарища-писателя. Но такой оболтус. Не платит. Всё равно придется выгонять. Я дорого не возьму.
— Не знаю… — повторила Мари. — Пока не к спеху. Спасибо за предложение.
— А с журналом что? Ну, с этим… Вы же рассказывали?
Переведя дух и наконец немного расслабившись, Мари стала быстро говорить о том, что всё складывается не так, как бы ей хотелось. Она пыталась свести разговор к шутке, но Гварнерри перебил ее:
— Мари, вы приятнейший человек. Но только какой-то сонный! Всё у вас не так, как бы хотелось. Но это же нормально.
Мари подняла на него взгляд, полный не то покорности, не то безволия, словно стараясь уместиться в тот образ себя самой, который ей навязывали, но тон Гварнерри ее больше не шокировал.
— Чудак вы… — сказала она. — Наверное поэтому и всех остальных считаете чудаками.
— Так оно и есть, — подтвердил Гварнерри, изучая ее в упор веселым взглядом. — А насчет работы… Вам работа не нужна?.. По дружбе? Оплата, конечно, такая, что на бутерброды не хватит. Но вас, как я понимаю, заработки не волнуют. Вам свободу девать некуда… Ну так что? Хотите или нет?
— Выкладывайте… — сказала Мари и, начиная реагировать на тон адекватно, рассмеялась.
— У меня возникла такая проблема. Пишу я быстро, в основном наговариваю на диктофон, как я вам уже говорил, получается как попало. Набивать текст не люблю… Править нужно, вычитывать. Ничего особенного. Справитесь.
— Вы имеете в виду детективы?
— Да. Соглашайтесь! — подстегнул бельгиец. — Только набивать текст придется на компьютере. Я вам дам — у меня есть запасной. На «макинтоше» вы уже работали?.. Крохотный, но что надо… По рукам? Сотня за страницу. Сколько там получится? Считайте сами: двести страниц — выходит двадцать тысяч. Это не так мало, имейте в виду. На первый раз по сотне, а там разберемся. Неделю на двести страниц вам хватит?..
Работа по редактированию рукописи, предложенная бельгийцем, увлекла Мари, несмотря на то, что текст оказался совершенно черновым, а кроме того, из рук вон плохо был набран. Впиваясь глазами в строки, Мари иногда не могла вникнуть в суть написанного. Роль же ее заключалась в том, чтобы внимательно вычитать рукопись, по ходу чтения исправляя ошибки и косноязычие. Стиль, как Мари казалось, на этих страницах отсутствовал полностью.
В недельный срок исправления были закончены. Мари отдала Гварнерри диск с текстом. Разбудив ее на следующее утро — еще не было восьми утра, — Гварнерри потребовал немедленной встречи. Они встретились в кафе возле площади Пантеон. С необычной медлительностью в жестах Гварнерри достал из портфеля распечатанную с дискеты рукопись, над которой Мари работала, бросил кипу листов на стол и с искаженным лицом выпалил:
— За труды я вам заплачу! Наличными. — Бельгиец бросил на стол конверт, набитый купюрами. — Если это, конечно, можно назвать трудами! Но имейте в виду: эта галиматья дорого мне влетает! Вы что же, не знаете, что по экрану такая работа не делается? Или вы по-французски писать разучились? В школу-то ходили? Или, может, вам частных репетиторов на дом водили?
Мари обескураженно смотрела перед собой, на лице ее застыла растерянная улыбка. Ей опять казалось, что она ослышалась.
— Развезли непонятно что! С этими вашими «замечательно», «весьма», «довольно», по десять таких перлов на каждой странице… — продолжал бельгиец в том же духе. — Ведь я об ублюдках пишу, об отбросах общества! О тех, кто слово «весьма» слышал, может быть, раз в жизни. Вы этого еще не поняли?.. Одним словом, бред, Мари! Чистой воды бред…
— Прошу вас… Я могу понять… — проговорила она. — Но почему в таком тоне?
— А на какой тон вы рассчитывали?! — Бельгиец стал размахивать у нее перед носом рукописью с таким видом, словно собирался запустить всей кипой ей в лицо. — Кого вы корчите из себя? Раскрепостившуюся мещаночку, сбежавшую от мужа? Кисейную барышню? Недотрогу?
— Вы… Как вы смеете? — пролепетала Мари, не совсем понимая, что происходит. — Я не позволю. Вы понимаете… Да вы знаете, кто вы?
— То одно не так, то другое! Да я таких, как вы, дамочек нарумяненных…
— Вы… Это мерзко, в конце концов! — Едва договорив, Мари схватила конверт с деньгами, смяла его, швырнула бельгийцу в грудь и стремительно направилась к выходу, цепляясь одеждой за стулья…
Мучительнее всего было переварить сжигающий стыд, который она испытывала за свою беспечность. Что, если она чем-то обделена от природы? Не являлось ли всё это следствием какой-то ее исконной ограниченности, из-за которой она постоянно попадала в одни и те же ситуации, всегда почему-то безвыходные? Если так, то и пенять было не на кого. Но Мари всё же не могла себе объяснить, как ее угораздило так просчитаться. Как она сразу не догадалась, что имеет дело с человеком неуравновешенным?.. Занавес упал. Перед глазами у нее опять стоял плотный, непроглядный мрак.
Не успела она войти к себе, как раздался звонок. Услышав голос Гварнерри, Мари не могла вымолвить ни слова, хотела тут же положить трубку, но снова почувствовала себя безвольной, парализованной.
— Ну что, успокоились? — произнес бельгиец своим обычным голосом. — Я послал вам чек по почте, на адресок дочери. Другого вы мне не оставили… Сидите наверное и думаете: ну и влипла же я. Как это меня угораздило?.. Считаете меня ненормальным?.. Так вы, Мари, тоже не эталон. Все мы по-своему тронутые.
— Всё это гадко! — выплеснула она. — Боже мой, как гадко. Вы — хам! Вы отпетое ничтожество!
— Да бросьте… Что, я виноват, что не в состоянии изъясняться на вашем усадебном наречии? Работа есть работа, Мари. Давайте же не будем валить всё в одну кучу и превращать дело в балаган.
От горечи, да и от бессилия Мари молчала.
— Ну, давайте я попрошу у вас прощения, — предложил Гварнерри и тут же театрально продекламировал: — О Мари, прошу у вас прощения!.. Слыхали? Ну а завтра давайте, знаете что… Съездим-ка пообедать за город как благовоспитанные люди! Я знаю одну чудную дыру… — Он словно издевался над ней. — Машина у вас есть?
Мари молчала.
— Нет машины, — вздохнул Гварнерри. — Ну ладно, я что-нибудь придумаю… Я буду у вас под домом в двенадцать, если вы дадите мне ваш адресок. Так да или нет?
— Не понимаю вас… — произнесла она, колеблясь.
— Потому что не стараетесь, — упрекнул бельгиец. — Нет, не в двенадцать, а лучше в полпервого. А то я опять не высплюсь.
— В какое положение вы меня ставите? — пролепетала она.
— Все мы в одном положении, Мари. И вы, и я, и все остальные. Давайте оставим эту классовую рознь. Вы уж меня простите, но для людей вроде нас с вами все эти понятия — чушь собачья. Я записываю ваш адрес — диктуйте…
Подозрения Мари насчет ненормальности А. Гварнерри оказались не напрасными. Вскоре она уже не сомневалась, что имеет дело с человеком не совсем вменяемым. Вспышкам гнева не было конца. Но каждый раз бельгиец быстро сменял гнев на милость, и всё опять заканчивалось извинениями и самобичеванием. В этом было что-то отталкивающее. Однако к искренним ноткам раскаяния Мари не могла оставаться равнодушной. И она не знала, как так получалось, что в душе она опять прощала Гварнерри очередной срыв, хотя и клялась себе этого впредь не делать.
Ее услуги Гварнерри всё больше удовлетворяли. Он не переставал расхваливать ее работу. Продолжая оказывать Гварнерри редакционные услуги и получая от бельгийца «гонорары» наличными суммами, по десять тысяч франков за порцию текста, Мари нет-нет да задавалась вопросом, как автор рукописи может разбрасываться такими суммами, к тому же принимая работу, явно не доведенную до завершения, явно полупрофессиональную. Казалось очевидным, что его расходы не ограничатся половинчатым редактированием, книга в таком виде не могла быть изданной. Кое-что ей стало яснее после того, как однажды она сходила в крупный книжный магазин, который ей порекомендовал бельгиец, где будто бы продавались сразу все его книги.
Всех книг, список которых составил ей Гварнерри, там не оказалось. Но продавец действительно выложил перед ней чуть ли не с десяток подписанных им триллеров. Мари потратилась на два самых пухлых экземпляра. Дома пролистав купленные книги внимательнее, она пришла к выводу, что свою методику Гварнерри освоил давным-давно. Сегодня она нисколько не сомневалась, что все его книги писались под диктофон. Только потом кто-то работал с аудиозаписью, фактически переписывая всё набело, а то и подвергал всю «рукопись» настоящему рерайту. Следовало отдать Гварнерри должное: он был отменным сочинителем, мастерски владел сюжетом. Но в его текстах не чувствовалось главного — стиля. Проще говоря, писателем в привычном понимании этого слова Гварнерри не был.
Сомнения на свой счет Гварнерри улавливал с самого начала. И неслучайно он настойчиво пытался ей внушить, что не первый год работает над настоящим, «бумажным опусом» в восемьсот страниц. Работа над книгой будто бы отнимала у него все силы и не позволяла ему «транжирить» драгоценное время на вычитывание каждодневной «детективной халтуры», отказаться от которой он не мог по вполне понятным причинам. Триллеры приносили доход, и немалый.
Впервые в жизни Мари поддерживала дружеские отношения с мужчиной. И все те стандартные доводы, которые в обычной жизненной ситуации могли бы сослужить ей службу, в данном конкретном случае теряли всякий смысл. Вправе ли человек до такой степени выпадать из общей массы? Существует ли грань, которая отделяет оригинальность от отклонения? Можно ли прощать всё?.. К каким бы выводам она ни приходила, от этого всё равно ничего не менялось. Констатация приводила к оценке, но не к осуждению.
Прямота Гварнерри и откровенность, с которой он мог говорить обо всём на свете, отсутствие в нем ханжества и даже честолюбия свидетельствовали о его редкой внутренней свободе. Понимая это, Мари старалась гнать от себя предрассудки.
Как-то вечером дома у Гварнерри произошел разговор, который приоткрыл перед ней новую и менее всего ожидаемую сторону.
— Я, Мари, не только мазохист, но и отпетый женолюб. Увы, как и многие творческие люди… Только без заблуждений, умоляю вас… Совсем не в бытовом смысле. Нет-нет, я не имею в виду всю эту мерзость — плетки, кандалы, все эти штуки… А то подумаете бог знает что обо мне. Это не мое… Вам это будет, может быть, непонятно, но свои мужские потребности я справляю… я прибегаю к услугам платных женщин. Выбор — сами понимаете… — Гварнерри развел руками. — Мне так проще. Надеюсь, вы слышали, что всё это существует на белом свете?
Прекрасно отдавая себе отчет, что сказано еще не всё и что ей опять предстоит сделать какое-то неприятное открытие, в котором их отношения не нуждались, Мари следила за бельгийцем обреченным взглядом, глазами умоляя его побыстрее покончить с неприятной темой.
— Я еще ничего вам не сказал, а вы уже ошарашены… Ну что тут такого, спрашивается? — Гварнерри поморщился.
— Вы меня уже ничем не сможете… ошарашить.
— Тогда всё в порядке… — Гварнерри умиротворенно вздохнул.
— Даже не верится… Тогда уж рассказали бы, как всё это организовано, весь это выбор… — добавила Мари. — Клубы особые существуют? Специальные справочники?
— Вот видите, вы никогда ничему не верите. Вам всё надо доказывать. Такое впечатление, что вас кто-то всю жизнь за нос водил… Ну что вы мне прикажете делать — предъявить вещественное доказательство? Есть и клубы. Есть и справочники…
— Нет, доказательств не нужно. Верю на слово, но не понимаю…
— Только, ради бога, не думайте, что я от вас жду чего-нибудь в этом роде… Вы не мой тип, Мари. Внесем ясность раз и навсегда. Так проще. Я дорожу нашей дружбой. Со мной такого еще не было, честное слово. И не сердитесь на меня за откровенность. Я говорю иногда обидные вещи. Но мне не хочется терять время на сюсюканья, понимаете?..
— Понимаю.
— Я знаю, что вас всё шокирует. А в вас меня знаете, что подкупает? Ваша способность… к самоотречению. — Гварнерри твердо закивал. — Вас не пугает неведомое. Ваша душа открыта для нового, а стало быть, вы способны к развитию, вы обладаете умом… — с печальным благодушием перечислял он. — И каким умом! Да нет, я серьезно. Я, например, не способен вот так всё принимать, за здорово живешь. Хоть вы меня режьте на куски…
В октябре Гварнерри попал в больницу с небольшой грыжей и был прооперирован. Навестив его пару раз, Мари обнаружила, что она была его единственным посетителем; кроме нее, бельгийца никто не навещал. При несметном количестве знакомых, которые постоянно вокруг него кружили, это казалось непонятным.
Ему предстояло провести на больничной кровати еще неделю, и Мари стала навещать его ежедневно. Она появлялась к шести часам, оставалась примерно до семи, иногда до восьми вечера, если Гварнерри, стараясь хоть чем-то скрасить ей «тяготы» этих визитов, заказывал ужин в палату на двоих. Регламент больницы позволял делать выбор блюд на заказ, больным даже раздавали специальное меню. Он не переставал давать Мари поручения: сходить на почту, бросить письма в почтовый ящик, купить газеты или очередные книги, которые поглощал с поражавшей ее быстротой, по нескольку за день. Как только она появлялась в палате, он тут же, с обидной настойчивостью, возмещал ей все расходы. А в один из последних визитов, к большому ее удивлению, Гварнерри попросил Мари принести Библию и вечером на следующий день уговорил ее почитать вслух кусочки из Ветхого Завета. В тот же вечер он попросил ее приходить реже.
— А то у меня начнется путаница в голове, — объяснил он. — С вами хорошо, приятно, всё легко и нереально. Но вы начинаете занимать много места в моей душе, Мари. И имя-то у вас какое, прости, господи! Вы понимаете?
— Нет, есть вещи, которые я никогда не пойму, — сказала она. — Поэтому мне всё равно, что они для вас значат… раз я их не понимаю.
По достоинству оценив произнесенный каламбур, Гварнерри ответил несчастной улыбкой и не сводил с нее благодарного взгляда.
— Потрясающая вы женщина! И этого не знаете. Но в этом вся загадка, теперь я понимаю. Вот и слава богу… — смирился с чем-то бельгиец и опять уставил взгляд в потолок. — А я — ничтожный человек. Вы это знаете. Поэтому и нянчитесь со мной. Разве не так?
— Нет, вы необычный человек, — сказала Мари, помедлив. — Просто запутались. Я к вам привязана, как…
— Как к больному?
— И как к больному тоже. Если так, какая мне разница, каковы вы в действительности.
— Это вы запутались… — В глазах Гварнерри появился упрек, что-то жалкое. — Но теперь идите. Спасибо, что пришли. Я, знаете, люблю наблюдать за тенью жалюзи… вон там на стене. Но в одиночестве.
Мари была уже в дверях, когда Гварнерри остановил ее:
— Кстати, я хотел вам еще кое-что сказать… Вы бы попробовали писать сами. У вас такой тип, такое отношение ко всему, столько субтильности… А потом, вы теперь умеете запросто сшить из кучи отходов книгу. Истинно, истинно говорю вам… — Он то ли подсмеивался, то ли говорил всерьез. — Ну зачем вам сдались эти детективы? Кто-то кому-то выпустил кишки, обогатился. Кто-то разъезжает ночами по большим дорогам. Пьют, курят, совокупляются. Разве это жизнь, а, Мари? Я ведь не писатель. Был когда-то. А теперь… Надо уметь сразу делать настоящий выбор, не дожидаясь поблажек от завтрашнего дня. За всё приходится расплачиваться. За всё на свете. Поэтому не теряйте времени…
Часть четвертая
В последних числах августа Петру предстояла поездка в Лион в связи с возобновлением одного из недавних, уже свернутых дел по оспариванию родительских прав, которое он вел около двух лет назад в интересах немецкого гражданина. Отца, жившего в Берлине, теперь предстояло защищать не против матери его сына, француженки, которой ребенок был отсужен при разводе, а уже против ее родителей из Лиона. Новый толчок дело получило в связи с гибелью матери — она разбилась на машине. Осиротевший четырехлетний мальчик оказался на попечении не у отца, а у престарелых родителей своей мамы…
Ехать в Лион Петр решил не поездом, а на машине, надеясь, что несколько часов, проведенных в дороге, позволят немного отойти от августовской духоты. И он не раз пожалел об этом. В Лионе также стояла испепеляющая жара… К пяти часам вечера, когда дела в суде были завершены, Петр вернулся к автостоянке и собирался уже возвращаться домой, но вдруг почувствовал себя настолько разбитым, что не представлял себе, как сможет просидеть за рулем еще пять или шесть часов. По радио к тому же передавали, что в направлении Парижа на дороге возникли многокилометровые пробки из-за ремонтных работ.
Выехав из города, он остановился на автозаправочной станции, вошел в придорожный ресторан, чтобы скоротать здесь полчаса или час, и, заказав двойной эспрессо, разглядывал из-за столика сельский вид за окнами, уже окрашенный янтарным предвечерним заревом. Ловя на себе приветливый взгляд загорелого официанта, который слонялся по пустому залу плавающей походкой, точно гимнаст по пустой арене, Петр вдруг спросил себя, что заставляет его так суетиться? Зачем спешить домой на ночь глядя? Почему не вернуться в Париж на следующий день, выехав с утра пораньше, переночевав в пригородах Лиона, в какой-нибудь сельской гостинице?
И его осенила еще более неожиданная мысль: почему не выкроить себе несколько дней отдыха? В Версале наступило затишье. Лето почти пролетело. В отпуск он так и не поехал — не знал, как проводить его в одиночку. Другой возможности отдышаться от лета, проведенного в городе, в ближайшее время явно не предвиделось.
Из-под Лиона можно было податься в горы — под Женеву или даже в Верхнюю Савойю. Если правильно рассчитать время и избежать дорожных пробок, то на дорогу до Верхней Савойи ушло бы не больше чем три-четыре часа. В прежние годы он ездил в Савойю почти ежегодно, а один из уголков этой знаменитой горной местности, не доезжая Шамони, стал ему родным с детства, с тех пор как они с отцом наведывались с визитами к бабушке, проводившей в туберкулезных санаториях под Пасси по два-три месяца в году, заодно и устраивали себе зимние каникулы.
На несколько дней проще всего было остановиться, опять же, в гостинице. Но с тем же успехом можно было позвонить и по одному из старых адресов. Состоятельный фермер, неоднократно сдававший ему одну из четырех квартир трехэтажного шале, находившегося в районе Пасси, жил как раз неподалеку от Лиона. Можно было попробовать дозвониться и давним знакомым из Пасси — пожилому местному врачу с женой, с которыми до недавнего времени сохранялись теплые отношения. Известный в округе лекарь, вечный член муниципального совета, доктор был бы только рад звонку и в считаные минуты подыскал бы что-нибудь подходящее…
Петр спросил у официанта, в каком телефонном справочнике можно найти телефон абонента, живущего в окрестностях Лиона. Официант принес ему толстую телефонную книгу. Петр мгновенно нашел нужный номер.
Ему ответил женский голос. Выслушав объяснения, женщина огорошила новостью — не такой уж, получалось, свежей, — что хозяин шале скончался прошлой весной.
Петр извинился, хотел было попрощаться, но, осознав, что в его настойчивости нет ничего оскорбительного, поинтересовался, не может ли ему помочь кто-нибудь из близких.
Женщина представилась. Это была дочь покойного фермера. Проявляя такт, она принялась объяснять, что сезонной арендой домов — а семейству принадлежало несколько горных шале — сама она не занимается. По ее словам, после смерти отца и неизбежного раздела имущества в семье с этим покончили.
Петр продолжал настаивать, продолжал объяснять, что дом под Пасси он снимал много раз и что он просит, в конце концов, о настоящей услуге, ничего другого снимать в Пасси ему не хотелось…
И лед вдруг тронулся. Еще секунда, еще заминка, и дочь фермера, от чего-то расчувствовавшаяся, предложила ему обратиться к своему дядюшке, брату покойного, в собственность которого перешло шале под Пасси. Единственная сложность заключалась в том, что дядюшка жил не под Лионом, а в самой Верхней Савойе, но это как раз неподалеку от Пасси. Звонить следовало непосредственно ему.
Петр записал телефон, сверх этого получил еще два номера какой-то другой родни, жившей там же, в Савойе, — на случай, если дядюшку, человека хозяйственного, нелегко будет застать. И если уж искать его, то лучше сразу звонить по всем телефонам. В семье это было принято…
— Когда будете в долине, чтобы не запутаться после речки и моста… когда слева проедете водопад, съезжайте с автострады на Салланш… Когда въедете в Салланш, на площади с речкой поверните направо… — хриплым голосом объяснял по телефону уже сам горец, которому Петр дозвонился только через час; «дядюшка» был откровенно недоволен столь поздним приездом, но сдать шале согласился, правда, с условием, что ему самому не придется никуда ехать с ключами, он предлагал заехать к нему на ферму. — Ну а потом подымаетесь в Кордон… Когда будете наверху, проедете церковь с пикой… слева, да, слева… будет каменный крест. На первой развилке повернете не влево, не на лыжную базу, а направо… Всё поняли?.. Когда проедете дома, поляну, пихту и ручей, слева увидите дорогу. А там овчарка залает… Ее, эту бестию, все тут только и слышат…
Дядюшка Жан жил за Кордоном. Так называлось высокогорное захолустье, расположенное на противоположной стороне долины, напротив Пасси, и затерянное в серпантине горных дорог, как игрушка на новогодней елке. Само же место на карте, где находилась ферма, и вовсе не имело географического названия…
К тому участку автострады, где слева от дороги, после моста, должен был предстать глазам водяной каскад — первый ориентир горца, — Петр добрался только к половине одиннадцатого. Стояла черная, непроглядная ночь.
Глубокий мрак безлунной ночи усиливался из-за подавляющего, почти физического ощущения чьего-то невидимого присутствия. По обеим сторонам от трассы, и слева и справа, высоко над головой должны были вздыматься исполинские горные массивы, так называемые «ворота». Петр это хорошо помнил по прежним поездкам. Вид «ворот» бывал особенно впечатляющим после железнодорожного переезда, когда уже на подъезде к Салланшу горный рельеф вдруг поражал своей метаморфозой, чтобы тут же распахнуться гигантским видом на Монблан — на Белую гору. От этого вида захватывало дух. Зубья горы действительно бывали белыми, как сахар. В солнечные дни невыносимо ослепительные для глаз, сливающиеся с облаками и цветом своим и размерами, белые хребты вырастали в поле зрения всегда внезапно, но не впереди, на что был настроен взгляд, а гораздо выше — там, где не могло быть ничего, кроме неба и облаков.
Стараясь не запутаться в ориентирах, Петр съехал с автострады, как только фары высветили указатель на Салланш. До этого места всё сходилось. Спящий, едва освещенный город. Здесь же и площадь, обозначенная желтыми фонарями. Здесь же и мост. А за ним — вверх уводящая улица. Выехав по этой улице к последним жилым окраинам, машина вылетела на узкое шоссе, которое сразу же стало крутым и закружило петлями, ввинчиваясь во мрак так мягко и беззвучно, словно штопор в старую пробку.
По обочинам тянулись насыпи, какие-то бугры, криволесье, мелькали мрачноватые силуэты елей. И тут опять открылся ошеломительный вид. Справа на сотни метров вниз зияло нечто невообразимое. Усыпанная мелкими огнями пропасть напоминала гигантский костер — развороченный, но не потушенный. Картина выглядела настолько поразительной, реалистичной, что становилось трудно смотреть на дорогу.
После того как позади осталось какое-то хозяйство, черневшее на возвышении, о котором «дядюшка» по телефону не упоминал, Петр усомнился в том, что едет в правильном направлении. Не перепутал ли он указатели при выезде из Салланша? Что-то явно не вязалось с описаниями «дядюшки». Дорога тем временем вывела на перекресток. Он проехал бензоколонку и оказался на улицах еще одного крупного населенного пункта. А затем справа от себя Петр увидел и церковь со шпилем — с «пикой», как выразился горец. Это и был Кордон.
Правда, никакого «каменного креста» за церковью не оказалось. На выезде из Кордона, где стоял указатель на Салланш, заманивающий влево, Петр повернул направо, и дорога опять взяла круто вверх. С обеих сторон теперь виднелись респектабельные трехэтажные шале швейцарского типа. Миновав дома, все до последнего, он выехал на открытую местность, на голое взгорье, еще чуть выше замыкаемое неприветливо-черной полосой леса, по виду уже последнего перед альпийскими лугами.
Он остановил машину. Всматриваясь сквозь пахучую свежую темноту, он старался понять, в каком месте подъема перепутал направления. Пространство вокруг казалось каким-то вывернутым. Потом он вышел на дорогу, сделал несколько шагов вперед, чтобы взглянуть, куда заворачивает дорога после очередной насыпи, но всё же никак не мог понять, где находится. Разумнее всего было вернуться вниз к церкви, чтобы еще раз проделать весь маршрут вверх, внимательно присматриваясь к указателям.
На всякий случай он выключил зажигание и вслушался в ночь, пытаясь уловить шум ручья, о котором говорил горец. К его удивлению, до слуха действительно донеслось журчание, и как будто бы прямо под ногами, где-то сбоку от убегающей вниз дороги. Тут же чернела и пихта. А за ней и узкая неасфальтированная дорога, едва заметная между насыпями, которая поднималась влево к какому-то подворью, погруженному в непроглядный мрак.
Он сел за руль и подъехал к дому. Ни на дворе, ни в доме не чувствовалось ни малейших признаков жизни. Но возле подобия житницы, которая косо темнела слева, в темноте вырисовывался открытый джип армейского типа. Чтобы получше рассмотреть машину, Петр включил дальний свет. И в ту же секунду забухал собачий лай.
Лаяла овчарка. Ошибки быть не могло: он приехал на ферму, только дома никого не было. Петр развернул машину так, чтобы фары освещали ту часть дома, где мог быть вход, и, продолжая вслушиваться в темноту, вдыхал головокружительную прохладу, но больше не решался открыть дверцу, опасаясь, что собака могла оказаться непривязанной.
Через несколько минут, чтобы окончательно удостовериться в своем невезении, он осмелился выбраться наружу и с силой захлопнул дверцу. Собака не унималась, но лай доносился с того же расстояния. Он приблизился к порогу, взошел на крыльцо с навесом и позвонил в дверь. Собака залаяла уже в двух шагах, скорее всего из-за угла дома, стал даже слышен звон цепи.
Никто не отзывался. Петр направился было обратно к машине, но за дверью раздались скрип и ворчание.
Глухой мужской бас что-то бубнил через дверь с бессвязным, недовольным гонорком. Петр не мог разобрать ни слова. Но понимая, что ему, должно быть, задавали вопрос, кто он и какая нелегкая принесла его среди ночи, он стал кричать:
— Я — Вертягин! Я звонил из Лиона… Насчет дома в Пасси. Вер-тя-гин! — повторял он по слогам. — Вы слышите меня?..
Что-то лязгнуло, и дверь распахнулась. В свете фар Петр увидел изрезанное морщинами лицо. Хозяин был почему-то в шляпе, дышал в лицо перегаром, держал себя пятернями за живот и бормотал на каком-то диком наречии:
— Я уж спать завалился… Сейчас дам ключи… Приеду завтра. В восемь тридцать… Вы-то дома будете?
Пошарив за дверным косяком, хозяин включил свет. Теперь его можно было разглядеть получше. Это был невысокий, коренастый мужчина лет за сорок, неопрятный, в одной грязной майке, на животе разорванной. От света, падающего на лицо горца сверху, оно казалось каким-то полуживым. Но больше всего поражали его глаза — светлые, пронзительно-бесцветные.
Пробормотав что-то невнятное, горец протянул связку ключей. Взяв их, Петр пообещал с утра быть дома, пожелал спокойной ночи и решительно зашагал к машине…
В шале кто-то жил, по крайней мере в одной из его квартир. Крохотный черный «фиат» был запаркован на площадке у общего входа в дом, но свет в окнах уже потушили.
Стараясь не наделать шума, Петр выгрузил свой небольшой багаж — портфель, сумку со сменной одеждой, которую прихватил в дорогу на всякий случай, вдруг испортится погода. Обогнув дом по тропе, спускавшейся к въезду в гараж в нулевом этаже, которая была настолько крутой, что жильцы никогда ею не пользовались, он поднялся по деревянной лестнице на свою террасу, откуда имелся дополнительный вход в квартиру.
Квартира оказалась хорошо убрана и даже натоплена. За два года интерьер не изменился. Кровати в обеих спальнях были застелены свежим бельем из настоящей, на вид столетней холстины. От белья исходил запах деревянных шкафов. Хозяева позаботились и о мелких покупках: сыр, масло, копченая колбаса местного изготовления и коробка яиц были оставлены в холодильнике. На столе стояла бутылка савойского вина, лежала пачка кофе и завернутая в бумагу булка белого хлеба. Тут же был и список сделанных покупок с ценами и общей сметой. Традиция оставлять прибывающим квартирантам что-нибудь на ужин, если планировался их поздний приезд, существовала и раньше, но чем-то особенно восхищала именно теперь, в столь поздний час: в этом проглядывало умение жить, какое-то простое, деревенское благородство.
Выйдя на террасу, Петр закурил сигарету и в некотором оцепенении разглядывал беззвучный ночной двор. Сигарету пришлось сразу же потушить. Воздух казался настолько чистым и свежим, что дым вызывал отвращение. А в следующий миг — так всегда с ним и происходило в горах, — подняв глаза кверху, он буквально остолбенел.
Черное, бесконечно высокое небо во всю ширь усыпали звезды. Несметное количество яркого, в стекло измельченного крошева, едва заметно парило над головой. Прямо на уровне террасы, там, где за долиной, за десятки километров должны были находиться склоны Монблана, в ночной пелене действительно угадывалось еле-еле заметное просветление. Но сколько ни вглядывался, он не мог понять, что это в действительности. Облака? Спускающийся с гор туман? Или всё же горные склоны?
Еще ниже, под всей этой белесой массой, мерцала россыпь желтоватых огней и даже угадывался пунктир освещенного отрезка автострады. Левее, в сторону границы с Италией и знаменитого туннеля, чернела исполинская гора, сплошь покрытая лесом. Неслучайно она называлась Черной головой. На ее ровном, черном по самый верх склоне, за которым и скрывались подножия Монблана, в самом нижнем ее поясе выдавалась другая, более разбросанная, но более яркая россыпь бледно-голубых огней, похожая на знакомое, но не сразу узнаваемое созвездие. В ночи светилось горное местечко Шэдде? Или рядом находившийся комбинат? Какой именно, Петр уже не помнил.
Он вынес на террасу деревянное кресло и стул. Разложив на стуле ужин, колбасу, хлеб, сыр, он откупорил вино и, накинув на спину шерстяное одеяло, принялся за еду. Всё казалось необычайно вкусным, особенно вино.
Темнеющая напротив Красивая гора на среднем уровне то и дело озарялась загадочными вспышками. Яркие огоньки возникали то тут, то там, и каждый раз в новом месте. Что это могло быть? На таких диких высотах, ночью?.. Ответ на вопрос пришел не сразу. Вспышки возникали конечно же от перемещения автомобильных фар, которые случайно бросали свет в долину с извивов горного серпантина. Но казалось еще более странным, что кто-то может плутать среди ночи по горным дорогам.
Чувство внутреннего раздвоения, неодномерной реалистичности происходящего и какой-то засасывающей в себя безмерной пустоты наполняло Петра до последней жилки. Одна половина его была по инерции сосредоточена на плотских ощущениях — на удовольствии, получаемом от еды, на вкусе вина, на запахе воздуха, на ощущении ночной прохлады. По какой-то безотчетной внутренней логике эти чувства пробуждали побочные, ассоциативные вспышки воспоминаний о других незначительных вещах, о сущих пустяках. Но что-то всё же связывало все эти воспоминания воедино. Какая-то неуловимая связь придавала им весомость как чему-то цельному, неразрывному, наполненному внутренним постоянством. И чем более случайным, бесформенным нагромождением выглядела масса этих воспоминаний, тем более острым становилось чувство, что все они являются неотъемлемыми частями одного целого, тем более очевидным становилось, что закономерность упирается не в стечение жизненных обстоятельств, не в какой-то временной порядок, а во что-то внешнее, являясь результатом действия некой внешней силы.
Другой половиной ума он тут же, однако, восставал против какой-либо закономерности. Эта половина разрывала все концы. И появлялось неприятно одурманивающее головокружительное ощущение мимолетности, временности и случайности происходящего, что, как всегда, усугубляло чувство оторванности от реального мира.
И всё опять казалось не логичным, непреложным, а как бы просто возможным, вероятным. И простиравшийся у ног ночной вид. И то, что еще утром он находился в Гарне, а теперь вот где-то в горах. И то, что он смотрит отсюда на всё каким-то другим, отслоившимся от реальности взглядом.
Казалось вдруг невероятным, что всё вернулось на круги своя, что он обрел прежнюю свободу. Если, конечно, то состояние бродящего душевного хаоса, который он пытался вогнать хоть в какой-то видимый порядок, можно было называть свободой. Эта свобода казалась ненужной. Она чем-то напоминала пьянство без собутыльника…
Хозяин оказался на удивление пунктуален. Ровно в восемь тридцать его зеленый джип со скрипом притормозил на обочине дороги.
Через окно Петр наблюдал, как, насадив на голову кепку, тот спустился к дому. На ходу что-то недовольно рассматривая, хозяин повернул к его половине, намереваясь стучаться, видимо, со стороны террасы.
— Привет отдыхающим! — выкрикнул горец. — Выспались? А то я думал, может, попозже заехать…
— Да это я вам спать не дал вчера, — сказал Петр. — Спасибо за ужин.
— Не за что! — гаркнул тот, уставил на гостя благодарный взгляд белых бесцветных глаз; отчего-то оробев, хозяин поинтересовался: — Значит, у нас вы не в первый раз уже?
— У вас в третий или в четвертый… А в Пасси, наверное, в сотый. И поражаюсь, что всё по-старому. Ничего не изменилось, — объяснил Петр с каким-то тайным наслаждением.
— А что здесь может измениться… — Горец ткнул рукой в пустоту, странным движением передернул спину, словно хотел что-то сбросить с себя, и еще больше сконфузился.
Как и накануне ночью, он был одет во что-то затрапезное: штаны, куртка неопределенного цвета, старые резиновые сапоги и кожаная кепка, которую он считал, по-видимому, немаловажной составной частью своего облачения, что угадывалось по вопросительному выражению его морщинистой, морковного цвета физиономии, хотя выражение голубых, добела выцветших глаз оставалось совершенно неуловимым.
Петр пригласил хозяина подняться.
Взойдя на террасу, тот вдруг расхрабрился и повел гостя по всей квартире, показал электрощит, объяснил, как менять пробки и как регулировать отопление, хотя Петр и пытался заверить его, что летом топить нет нужды.
— А берем мы, значит, тысячу двести в неделю, — сказал горец, когда они вернулись на кухню. — Без электроэнергии.
— Я выпишу чек, — сказал Петр. — Сразу же, если хотите.
— Потом выпишете. Со счетчиком всё вместе подсчитаем. Если в овощах будет нужда, могу завозить. Салат есть, морковка, яйца… А хотите, курочку могу это… зарезать. Да и кролика… — Он уставил на гостя испытующий взгляд. — А послезавтра я собираюсь наверх съездить, за озеро, знаете?.. Если есть желание, могу прокатить… с ветерком. Небось не были ни разу?
— Был как-то раз, — ответил Петр.
Хозяин не смог скрыть своего разочарования.
— Спасибо за приглашение, — поблагодарил Петр. — У меня пока нет планов, но если могу вам позвонить насчет поездки… завтра, например…
— Можете позвонить, — буркнул горец и, тут же распрощавшись, гремя через пороги сапогами, отправился на улицу…
День хотелось начать с чего-нибудь привычного. Съездить в Пасси за покупками для дома? Или, еще лучше, сразу подняться на плато или даже поехать вниз, в Салланш? Там же, в Салланше, можно было и пообедать. Но в то же время совсем не хотелось попасть в толпу, в уличное движение, а в августе этого было не миновать. И он решил начинать с малого, с конкретного.
Во-первых, забыть о кабинетных делах и никуда не звонить, никого ни о чем не предупреждать. А просто-напросто ехать завтракать, да не куда-то, а в ближайшее кафе на плато д’Асси. После завтрака купить, если удастся, ботинки для ходьбы; без подходящей обуви соваться в горы всё равно бессмысленно. Купив ботинки, можно было сразу же подняться в горы и предпринять пешую прогулку как раз в ту сторону, куда хозяин приглашал через день прокатиться на джипе. Горная дорога, поднимавшаяся вдоль Антернского ущелья, доходила до высокогорной базы, где готовили простенькие обеды. На ходьбу в одну сторону могло уйти часа два или три, а с передышкой в час вся прогулка могла занять шесть или семь часов…
На плато за два года тоже ничего не изменилось. Почтовое отделение, безлюдная главная улица, уродливый бетонный монумент, инсценирующий не то вакханалию, не то коллективное совокупление акробатов, глядя на который совершенно невозможно было понять, как он мог стать предметом гордости местных жителей и значиться во всех туристических путеводителях как главная достопримечательность коммуны или что-то в этом роде; знакомые витрины магазинов, по которым невозможно определить, открыты они или закрыты, круто обрывающиеся в стороны боковые улочки, чистый прозрачный воздух, давящая на уши тишина, распахивающиеся во все стороны виды на исполинские горные массивы… — всё здесь казалось воздвигнутым на веки вечные, и всё поражало безмятежной отрешенностью от реальности суетного мира, который поджидал, казалось, где-то рядом как какой-то злоумышленник, выгадывая подходящий момент, чтобы навалиться на зазевавшегося, чтобы разом всё это поглотить и превратить в свой придаток.
Петр позавтракал в знакомом безлюдном кафе, разглядывая безлюдную улицу. После завтрака в одном из магазинов он приобрел дешевые горные ботинки (других просто не было), шерстяные носки и холщовые брюки с карманами вдоль штанин, по дороге к машине заглянул в небольшой супермаркет, но, не зная, что купить, ограничился бутылкой виски. В машине переодевшись, он выехал из поселка по направлению в горы и, минуя знакомые окрестности санаторной зоны, стал подниматься в направлении Зеленого озера.
На высоте, когда потянулась последняя полоса смешанного леса, сразу же посвежело. Узкое шоссе, обнесенное высокими насыпями, проделывало всё более частые витки, и следующие один за другим виражи становились настолько крутыми, что немело в затылке и нога поневоле отпускала педаль акселератора, хотя машина едва ползла по дороге на второй скорости.
Он миновал голую пустошь плато, где в зимние месяцы работала лыжная база, спустился по извивающейся лесной дороге к ее последнему отрезку, который тянулся изгибами уже по краю ущелья, и, обогнув постоялый двор, — оборотистый пастух переоборудовал пастушью хибару в питейное заведение, — где из-за деревянных столов на него, как и на всякого новоприбывшего, дружно глазело множество по-походному разодетого люда, вырулил на стоянку для легкового автотранспорта. Дальше проезда не было…
От вида, открывавшегося с плато, спирало дух. На высоте нижних предгорий долину затопило темноватым ультрамарином. Груда белоснежных облаков, непонятно каким образом вплывших в этот замкнутый колодец пространства, поражала своим бесформенным величием, какой-то бессмысленной, райской красотой. И если бы не горный кряж за спиной, отвесным карнизом нависавший над головой и придававший пространству хоть какую-то видимость земных пропорций, трудно было бы разобраться, что является действительно огромным по размеру, а что крохотным. Но не легче было бы сориентироваться, где здесь верх, где низ…
Не прошло и получаса, как прохлада, доставлявшая острое удовольствие в начале подъема, сменилась изнурительным зноем. Петр не чувствовал под собой ног. В голове стоял шум, ступни горели. Ботинки, хотя и кожаные, на гомме, оказались хуже некуда. Но возвращаться назад было поздно.
Время от времени он назначал себе какой-нибудь зримый ориентир — выступ в скале, зеленое пятно, образуемое скоплением кустарника, двух-трех овечек, если удавалось разглядеть их среди валунов, от которых доносился звон бубенцов, разливавшийся по горам тонким пронзительным журчанием. Ориентир худо-бедно, но помогал подниматься до означенного места без остановки. Каждый раз он всё же допускал просчет: дистанция оказывалась слишком большой для одного перехода.
На протяжении всего подъема впереди мелькали две яркие цветные точки — желтая и белая. По мере продвижения точки оставались всегда на одном и том же расстоянии, не приближались и не отдалялись. В этом было что-то пугающее, нереальное. Петр не сразу нашел объяснение таинственному явлению: кто-то, несомненно, проделывал тот же самый путь впереди, на расстоянии в два или три километра выше. Точно такие же перемещавшиеся цветные пятнышки стали появляться справа, на зеленом склоне с обратной стороны бездонного ущелья. Непонятным оставалось лишь то, как на такую крутизну могло занести людей. Утопающий в тени склон был сплошь покрыт темной растительностью и обрывался в бездну почти отвесной стеной…
На базе наверху оказалось людно. Почти все столы на улице были заняты. Обедающие наблюдали за молодой парой, обмывающейся у родника. Парень и девушка выглядели изнуренными и не замечали, что привлекают к себе всеобщее внимание. Сняв уродливые пластмассовые ботинки, оба намочили головы и подставляли под струю воды белые как мрамор босые ноги. По цвету маек — парень носил желтую, а девушка белую — Петр догадался, что именно этих молодых людей он и видел перед собой на протяжении всего подъема, поначалу принимая их спины за мистические пятнышки.
Когда пара отошла от воды, он в свой черед освежил лицо и руки в ледяной струе и сел за крайний стол. Пухлявая официантка в шортах, с бронзовыми, покрытыми блестящим пушком ногами, приняла у него заказ: омлет с картошкой, бутылка холодного пива. Когда девушка принесла заказанное на стол, Петр поинтересовался, кому принадлежат два джипа, «тойота» и открытый «ленд ровер», припаркованные на нижней площадке за домом.
Машины принадлежали хозяевам. По словам официантки, «наверх» после обеда никого не ждали, поэтому вряд ли у него был шанс напроситься к кому-нибудь в попутчики, чтобы спуститься вниз на машине. Не без сочувствия официантка сказала, что с другой стороны ущелья есть вторая тропа, которая сокращает спуск на час или на полтора, но она считается опасной, и не рекомендовала спускаться этим путем, если у него нет достаточного опыта. Петр уточнил, как выйти к тропе, и, посидев наверху еще с полчаса, решил спускаться, не теряя времени.
Обогнув озеро, лежавшее во впадине, словно вывалившийся из оправы камень яшмы, тропа вывела к крутому спуску и запетляла через густые заросли черники. Хватаясь за стланики, то и дело теряя тропу из виду и мало-помалу приходя в волнение от вида гигантского, адски бездонного пространства, которое всё шире и шире распахивалось под ногами, — волнение нагнетала и мертвая тишина, и раздающиеся время от времени вопли альпийских галок, похожие на крики попугая и оттого звучавшие в предвечерней тишине немного жутковато, — Петр продолжал с благоговейным ужасом спускаться по отвесному склону, но всё чаще спрашивал себя, каким образом он будет проделывать тот же путь в обратном направлении, если по какой-нибудь причине не сможет спуститься до конца.
Время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться, он садился, смотрел в долину, наполнявшуюся клубами неестественно крупных серых облаков, вслушивался в отдаленные раскаты грома и окончательно терял уверенность в себе. Лазить по горам во время грозы — это было полнейшим безрассудством. А еще через четверть часа он был вынужден признать очевидное: он совершил ошибку. Тропа оказалась не просто труднопроходимой. Она была предназначена для профессиональных скалолазов.
Вскоре тропа и вовсе исчезла. Очутившись на небольшой каменистой площадке, стиснутой с двух сторон утесами и обрамленной, словно для наглядности, кустиками черники, Петр приблизился к краю, глянул вниз и отпрянул. Внизу простиралась пропасть. На дне ее даже деревья выглядели едва различимыми штрихами. Выхода не было: после основательной передышки нужно было возвращаться, не теряя времени, наверх той же дорогой.
Он сел на камни и попытался выкурить сигарету. Но вкус ее опять вызвал отвращение. Набрав вокруг себя горсть крупной черники, он всыпал ее в рот и, спрашивая себя, является ли неожиданно мыльный привкус, который он ощутил, нормальным для зрелой черники, увидел слева от себя тонкий канат, прикрепленный к скале металлическими кольцами. Канат уводил куда-то вниз.
Он подобрался к нему поближе и тут же понял, что это и есть продолжение тропы. Держась за камни и за канат, можно было перебраться через расщелину и спуститься к другой площадке, видневшейся внизу, аналогичной той, на которой он находился.
Обхватив канат руками и для перестраховки сцепив их замком, он стал медленно съезжать по скале вниз и, когда спустился метра на три или четыре, действительно увидел продолжение тропы — с нижней поляны она уходила в сторону. Спуск оттуда терял свою крутизну…
Утром на следующий день, прежде чем опять подняться к Антернскому ущелью, чтобы, как и накануне, совершить прогулку к горной базе, но на этот раз начав подъем сразу с трудной тропы и с ночевкой, Петр спустился в Пасси за покупками.
Запарковав машину перед супермаркетом в тени шале «Глициния» с запертыми ставнями, он в считаные минуты купил всё необходимое и, выйдя на террасу, рассматривал цветные пакетики с рассадой, выставленные на вращающемся стенде. Глаза его вдруг уткнулись в знакомое женское лицо. В следующий миг Петр узнал жену местного доктора.
Попрощавшись со стариком в шортах, судя по внешности неместным, докторша стала подниматься на террасу, скользя перед собой непринужденным взглядом, каким рассматривают незнакомого человека, приковывающего к себе внимание. Докторша не узнавала Петра, но затем лицо ее исказилось от изумления.
— Пьер… Пьер Вертягин! — пролепетала она в нос звучавшим голосом. — Вот так встреча! Какими судьбами? Давно вы здесь?
Петр опустил на цементный пол пакеты с покупками и протянул докторше руку. Схватив его ладонь, докторша горячо потрясла ее обеими руками.
— А к нам почему не заходите?!
— Да я вот только… я здесь со вчерашнего дня, — сказал он.
— Ну и хорошо, что приехали… Правильно сделали! — заверила докторша. — Где вы остановились?
— Как всегда… — Петр показал на горный склон.
— Надолго?
— На несколько дней… — Теперь и он озирался по сторонам с некоторым удивлением. — Как ваш супруг?
— В это лето остался без отпуска. Он, кстати… — Докторша развернулась к площади. — Да вон он! Поль, а Поль! — окликнула она мужа.
Силуэт доктора действительно маячил возле мэрии под аркой, ведущей к пристройкам отеля. Не услышав оклика жены, доктор направился через площадь к машинам, с обычной гримасой усталости на лице и размахивая руками как плетьми.
— Поль, ты слышишь меня?! Ты посмотри, кого я тут встретила!
Аристократично-сухопарый, сутулый и седой, доктор застыл посреди тротуара, состроил кислую мину и двинул в их сторону.
Петр спустился навстречу.
Устремив на него напряженный взгляд и не сразу распознав в нем старого знакомого, доктор протянул руки и коротко, железной хваткой смял Петру пальцы, как и жена, обеими руками.
— Рад вас видеть! Очень рад! — сказал доктор, морща лицо в печальной улыбке. — Вы с супругой или так?
Доктор имел в виду Марту, как и жена, считая их женатыми, и Петр никогда не пытался опровергать этого заблуждения.
— Нет, я один, — сказал он.
— Да мы видели ее! — вставила докторша. — Когда же это было, постойте… Да этой зимой!
— Марта приезжала сюда… в Пасси? — удивился он.
Доктор скользнул по лицу жены укоризненным взглядом.
— Мы с ней больше не живем вместе, — прямо признался Петр.
— Вот оно что… Что же, бывает, — смутился доктор, но по лицам Петр понял, что в его сообщении не было ничего нового. — Что же, рад вас видеть, Вертягин! А то ведь… Сколько вы у нас не были?
— Два года.
— Так давно?
— Последнее время как-то не получается, не до отпусков.
— Да у нас тоже в этом году… Сами видите… Мы даже никуда не поехали… — Доктор состроил страдальческую гримасу.
— Вот что, Пьер… Чем вы заняты вечером? — спросила докторша, уставив на него живые карие глаза. — Не хотите поужинать у нас?
— Сегодня я хотел съездить на ту сторону… — солгал Петр, показав на долину. — Спасибо за приглашение.
— Да не выдумывайте! Завтра съездите, — отмахнулся доктор. — Сегодня давайте-ка к нам, а то ведь… Никаких отговорок!
Ссылаться на занятость во время отпуска было нелепо, отказ мог вызвать обиду, и Петр согласился.
— Дорогу к нам небось забыли? — Повернувшись лицом к церкви, доктор показал на проезд между домами: — Здесь налево. На повороте, где ряд сосен, дорожка вниз уходит.
— Да, теперь вспомнил, — сказал Петр.
— Вы где остановились? — повторил вопрос жены доктор. — У фермера, как в прошлый раз?
Петр кивнул.
— Шале теперь горцу местному принадлежит, — сказал он.
— Знаем, знаем… — вздохнул доктор. — Да, давно вы здесь не были…
В начале девятого въехав в глубь парка, Петр остановил машину под исполинским каштаном и, распахнув дверцу, с опаской следил за приближающимся к нему огромным, лохматым сенбернаром. Пес не то узнал его, не то с одинаковым великодушием привык кидаться на каждого встречного.
Петр потрепал собаку за уши. Встав на дыбы, сенбернар брызгал слюной, пританцовывал и, казалось, предлагал обняться. Он непременно уделал бы гостя черными от грязи лапами, если бы не окрик хозяина.
По усыпанной листвой тропе, которая уводила дальше в сырой тенистый парк, доктор не спеша поднимался к дому. Рядом с ним ковыляла незнакомая пара.
— Видите — не заблудились! — бросил хозяин издали. — А ты, дармоед, смотри у меня — дообнимаешься! Опять в канаву лазил? — Доктор пригрозил псу пальцем.
— Узнал — удивительно… — сказал Петр, с восхищением глядя на поджавшего уши сенбернара.
— Да какой там — узнал… Вчера заехал к нам один старый знакомый… — язвительно усмехнулся доктор. — Угораздило беднягу надеть белый костюм! Вы бы видели, на кого он стал похож, когда я вел его к воротам! Таксист отказывался сажать в машину — боялся испачкать сиденья.
Все обменялись рукопожатиями. Поблескивая скрытными выцветшими глазами, доктор представил Петра супружеской паре. Оба средних лет, принаряженные, оба работали в мэрии — на каких именно должностях, Петр пропустил мимо ушей.
Они прошли к дому. На пороге гостей ждала жена доктора в кружевном переднике, как всегда счастливая, когда к ним кто-нибудь приходил в гости. Однако в постоянстве домашних обычаев проглядывало что-то не менее печальное, чем в уставших от всего на свете глазах хозяина.
И не успели все войти в гостиную, как показался еще некто — приземистый старик в очках с изрытым морщинами лицом, — заглянувший судя по всему случайно. Доктор отрекомендовал гостя «коллегой, злостным конкурентом и главнокомандующим среди местных коллекционеров». Борясь с одышкой, старик-главнокомандующий оглядывался по сторонам и улыбался, демонстрируя желтые зубы.
Хозяева предложили ему остаться на ужин. Тот начал было отказываться, неуклюже топтался в передней, многозначительно, с понимающим видом кивая почему-то Петру, а не другим, — с вами, мол, всё понятно… — и, в конце концов, куда-то позвонив, приглашение принял.
Петр догадывался, что, несмотря на то, что возрастом своим он более чем уступает всем присутствующим, именно он и является почетным гостем, отчего впору было почувствовать себя нелепо. Однако после второй дозы дорогого виски, который хозяйка настойчиво пыталась подлить в его тяжеленный хрустальный стаканище, словно пыталась этим способом развязать ему язык, он почувствовал себя лучше и в душе даже упрекал себя за нерадивость. Хозяева, супружеская пара и корявый старик-доктор, нагрянувший без приглашения, дружно цедившие белый портвейн, — все они были добродушными, гостеприимными провинциалами, ничего не ждавшими в ответ на свое радушие.
Старик Обри — так звали пожилого доктора-коллекционера — поначалу сидел как воды в рот набрав, по-старчески пыхтел, обводил присутствующих тяжелым взглядом. Глаза его, сильно увеличенные из-за толстых линз очков, казались недобрыми. Петра сразу же удивила бесцеремонность, с которой старик уселся в кресло, стоявшее на самом видном месте салона, вцепился в подлокотники и пребывал в полном безразличии к болтовне хозяев. Он смотрел на них с таким видом, будто вот-вот встанет, пошлет всех куда подальше и отправится своей дорогой.
Когда же доктор-коллекционер взял слово, он без стеснения избрал себе в собеседники одного Петра. В его необычной манере изъясняться — анормально складно и совершенно не обращая внимания на реакцию собеседника — проглядывала какая-то одержимость. Старик плел что-то пространное о «чистом искусстве», о критериях в оценках, какими привык руководствоваться при выборе новых картин, об «универсальности» образа, основанной на «незавершенности» линий и на необходимости «оставлять образ открытым для толкования»…
Увлеченный не своей профессией — он как-никак был врачом, — а своим хобби, да еще и помешанный на современной живописи, доктор-коллекционер производил впечатление законченного оригинала и циника. Однако по лицам присутствующих Петр понял, что чудачества гостя никого здесь не удивляют.
Улучив удобный момент, докторша сорвалась с канапе и помчалась заниматься ужином. Хозяин, всё это время орудовавший щипцами в горящем камине, подлил портвейна паре из мэрии. И муж и жена цедили не столько портвейн, сколько саму, казалось, атмосферу, впитывая ее с наслаждением, буквально по капельке, но при этом они не могли скрыть своего недоумения: не всё здесь обстояло обычно и для них…
Старик Обри продолжал разглагольствовать и за ужином. Одолев кусок сочной ягнятины, которая, по мнению хозяйки, оказалась недостаточно хорошо пропеченной, он вернулся к тому, с чего начал — к своим картинам, но теперь решил взгреть за что-то хозяина. Он упрекал доктора в том, что, оказавшись зачинателем местного проекта по размещению монументальных скульптур вдоль автомобильных трасс района — дабы бетонный монумент на плато д’Асси, тот самый, изображавший вакханалию, что заставлял новоприбывших замедлять шаг от недоумения, не простаивал больше круглым сиротой, — доктор навязывает всем сомнительные принципы. Чихать, мол, я хотел на объективность в оценках! Лишь бы, мол, мне самому нравилось, а там пропади оно всё пропадом!
Хозяин недовольно косился на жену. Но и она не знала, как призвать к порядку распоясавшегося гостя.
— Где-то преобладает горный рельеф, где-то равнины, леса, — сказал Петр примирительным тоном, пытаясь разрядить атмосферу. — Язык и форма самовыражения не могут быть везде одинаковыми. Они должны быть разными.
— Разными?.. А кто же с этим спорит?! — с ходу осадил коллекционер. — Вот вы, например… Вы, кажется, русского происхождения?.. Объясните мне, в чем разница между мною и вами?
— Лично я не вижу разницы, — сказал Петр, зная, что польстит старику таким ответом.
— Пьер, берите-берите еще мяса! — обратилась к нему докторша. — А ты, Боб, — так они обращались к старику, — перестань мучить человека! Ну что ты, право, заладил?
— Я вас мучаю? — спокойно осведомился коллекционер.
— Нисколько, — заверил Петр.
— Насчет средств выражения — я согласен, ваша взяла… — успокоившись, продолжал Обри. — Талант — это целостное. Это не то чтобы — тут бугор вырос, а там, понимаете ли, впадина или яма… Есть, например, такое понятие, как гений, лишенный таланта. Да-да, и такое бывает!.. Но я вам скажу, в чем разница между талантом и гением. Талант нам понятен сегодня, а гений будет понятен только через сто лет. Вот и постарайтесь взглянуть на современность с этой точки зрения. Вряд ли это возможно… Когда мы сегодня что-то называем «новым», мы должны понимать, что в основе всего лежит принцип… даже не знаю, как это назвать… Принцип выпячивания… Выпячивание одной составной части того, что мы называем образом, над другими его частями. Но можно как угодно это называть — погоней за оригинальностью, отсутствием стремления к взаимопониманию, что во все века уродовало искусство. Я встречаю, поверьте мне, художников и навидался…
Устремив на Петра мрачный взгляд, коллекционер покивал головой, словно призывая его к согласию, и, казалось, сам готов был идти на мировую. Но Петр, чувствуя, что старик готовит новую порцию аргументов, предпочел не дать ему возможности продолжать:
— Выпячивание, о котором вы говорите, выражает новое отношение к действительности, перевес единичного над целым. Или просто новое отношение к пространству, что очень характерно для нашего времени… — Удивленный складностью, с которой ему удалось высказать мысль, бродившую у него в голове с начала дискуссии, Петр на миг осекся. — Мы же не можем относиться к пространству так, как век назад. Даже за последние двадцать лет взгляд на эти вещи изменился. Сегодня ребенок знает, что трехмерное пространство — это условность. Если допустить, что измерений не три, а больше и что пространство имеет бесконечное число измерений, то станет очевидно, что единица в математическом, абсолютном смысле — это целое и может с тем же успехом отображать бесконечность, потому что она — тоже бесконечность. В чем разница между двумя бесконечностями?
Обри опешил. Затем, тяжело переведя дух, он впервые улыбнулся.
— Слышала бы вас Роз, моя жена… — пробормотал старик.
Петр стал накладывать себе в тарелку салат.
— Что бы там ни говорили, в элитарность искусства я не верю, — опять стал развивать тему Обри. — Куда ни глянь, везде одна и та же дилемма. Возьмите книги… Не станете же вы утверждать, что книги пишутся для горстки критиков? Я даже не говорю — для интеллектуальной элиты. В таком случае лучше писать диссертации или, как флоберовский фармацевт, демографические отчеты. От них хоть какая-то польза будет. Это, конечно, не означает, что книги должны превратиться во что-то утилитарное, в обыкновенный товар, но они должны быть доступны не академической публике. Произведения искусства создаются на чердаках, в мастерских, а не в академиях. Изделие!.. Понимаете, что значит слово «изделие»? Да вы возьмите того же Флобера, того же Мопассана. Возьмите Селина наконец… Вы любите Селина?
— Селин — неудачный пример, — уклонился Петр от ответа.
— Чем он неудачный?
— Нетипичный.
— Тогда возьмите ваших же Достоевского, Толстого… — настаивал Обри на конкретном примере, вновь взывая к корням своего собеседника. — Всё это, конечно, разные вещи. Но всех их что-то объединяет. Я к тому это говорю, что…
— От первого и от второго отрекались, — заметил Петр. — Толстым детей пугали.
— Скажу вам одну вещь… — подвел Обри черту. — Всё большое, всё настоящее всегда начиналось с простого. Появлялось на голом месте, из ниоткуда. В этом качественное отличие классического искусства от сегодняшнего, и может быть, даже единственное. Классическое искусство выросло из простого смысла. И литература и вообще искусство зиждется на общечеловеческих, простых понятиях. Но простое не значит — пустое. Согласны со мной?
— Согласен с тем, что всё настоящее начинается на голом месте, — сказал Петр.
— Какой-то у вас гордиев узел получается, — вмешался хозяин.
— Никакого узла! — отрезал Обри.
— А мне кажется, что Пьер прав, — поддержала докторша не гостя, а мужа, но солидарно косилась всё же на Петра. — Сегодня всё так усложняют, всё так…
— Я как раз на то и сетую, дорогая, что усложняют, — не дал Обри хозяйке договорить. — Увы, культуру не мы с вами создаем. Мы ее потребляем, потрошим и в печку — вот как этого ягненка. Но начинается все, поверьте мне, с простого. Приобретается культура дома, корнями врастая в землю-матушку. Откуда бы взялся весь этот воздух, художественный сплин, слог, стиль? С потолка?
— Глупо сгущать прикрасы родословной, — вставил хозяин дома.
— Вы что думаете? — Обри требовал ответа от Петра.
Взглянув на хозяев дома, Петр предпочел промолчать, но затем всё же в шутку заметил:
— Всех нас в детстве учили снимать пенку с варенья, но не все мы стали кондитерами.
— Пенку с варенья!.. — Ответ пришелся Обри по душе. — Вы, значит, за случайность? За непредвиденность?
— Не знаю. А впрочем, как хотите, — уклонился Петр. — В жизни каждого из нас многое зависит не только от предначертанного, но и от стечения обстоятельств.
— Хорошо, вы согласны, что искусство — это, прежде всего, стиль, это искусство делать искусство? — продолжал Обри напирать.
— Не знаю, — повторил Петр, больше не следя за ходом разговора. — Я вам только что об этом говорил.
— Стиль, говорю я! И только он один! — яростно забормотал Обри. — Самое совершенное высказывание — это то, которое не нуждается в стилистике, в словесной шелухе. Самое совершенное движение — это неподвижность. Высшая мудрость всегда проста. Лучшее творчество — это ничего не творить!
Хозяин вытер салфеткой рот и с облегчением, словно ожидал именно такой нелепой развязки, произнес:
— Ну вот, договорились… Какой же ты, Боб, словоблуд!
Обри нервно взмахнул рукавами, но возражать не стал.
Хозяин предложил перейти из-за стола к камину. Он принес коньяк, от которого отказались все, кроме Петра. Но тяжелая застольная атмосфера разрядилась. Разговор опять кружил вокруг прежних тем, но, как это часто бывает после острых обсуждений, ни у кого больше не вызывал интереса.
Сидя в том же, что и по приходе, кресле, старик Обри, испортивший всем вечер, выглядел сонным и недовольным. Время от времени поднимая на Петра тяжелый взгляд, он апатично моргал и уже перед уходом — он внезапно вскочил и стал прощаться — задержал руку Петра в своей дольше положенного и сказал:
— Вы коллекцию мою не хотите увидеть?.. Знаете что, приезжайте ко мне завтра утром!
— Завтра я не смогу, — сказал Петр.
— Гулять собрались? Да еще нагуляетесь! — Обри снедал его из-под очков испытующим взглядом. — У меня завтра выходной. А то потом, знаете… Давайте, Пьер! Или как вас там… Так что?.. Приедете или нет?
От Петра не ускользнула недоуменная реакция хозяев. За годы знакомства старик, видимо, ни разу не удостоил их подобной чести. Наперекор нелепой ситуации Петр вдруг принял предложение коллекционера.
Остановившись на пороге, тот стал взволнованно объяснять, как к нему добираться:
— Отсюда, то есть от церкви, выезжаете из Пасси… Едете по главной дороге… На первом повороте — направо, затем налево, а когда начнутся развилки всякие… их там несколько… держитесь правого поворота и уже никуда не сворачивайте… Когда справа увидите пень, похожий на женские ноги. Ну, спереди, с дуплом…
— Нет-нет! Дайте мне просто адрес, ― попросил Петр. ― Я найду.
Обри вынул из нагрудного кармана визитку, удовлетворенно кивнул и, влепив сенбернару по боку, исчез в темноте двора.
Рудольф Обри, или проще Боб, как его звали в ближайшем окружении из-за того, что германский консонанс его настоящего имени чем-то его не устраивал, жил в большой, недавно отстроенной усадьбе, которая находилась при съезде с гор в долину, на краю поселка и немного на отшибе.
Перекатывающаяся волнами дорога врезалась в живописную местность. Резко нарастающее взгорье здесь опоясывал тенистый дубовый лес. Повсюду виднелись белокаменные шале старой застройки, все с большими участками. Сады тонули в яркой, еще свежей зелени.
Остановившись перед воротами с белыми столбами, слева от которых висела табличка «вилла охраняется», Петр выбрался из машины.
Ворота оказались незапертыми, и он хотел было проникнуть внутрь, но в глубине двора, под сенью дерева, он увидел собачью будку, на которой виднелась крупная надпись: «Вольф».
Он нажал на кнопку домофона. Аппарат захрипел, и раздался чей-то недовольный голос:
— Ну что вы не входите? — Это был Обри.
— Собака привязана?
— Да нет никакой собаки, входите! Это так… чтобы неповадно было тут всяким…
Петр вошел во двор и сразу же увидел хозяина, вышедшего навстречу. В желтом шерстяном джемпере, в белоснежной сорочке и в подвернутых джинсах, которые придавали его силуэту что-то и жалкое и нелепое, — Обри уже не удивлял своей эксцентричностью.
Возбужденно морщась, старик схватил ладонь гостя, энергично потряс ее. Он с явным нетерпением дожидался этого визита. В глазах всё же застыла тень удивления. Ему не верилось, что гость сдержит свое слово, приедет?
— Вот тут я, так сказать, и провожу большую часть своего бренного существования… — забормотал Обри, когда, обойдя бассейн с ярко-синей водой, они вошли на открытую веранду, заставленную белой соломенной мебелью. — Как мы их вчера с вами на пару… Странные всё же люди, не находите? А про пространство вы хорошо сказали. Мне очень понравилось.
— Я думал, у вас с ними дружеские отношения, — сказал Петр.
— Да у нас тут у всех дружеские отношения, — поморщился старик. — Морочит всем голову… Да ваш Поль — своими дорожными статуями! По блату, конечно, своих проталкивает. А сам — ни в зуб ногой… — Старик взъелся на коллегу за его деятельность при муниципальной комиссии, занимавшейся благоустройством коммуны, а может быть, просто ревновал. — Это называется злоупотреблять служебным положением… Но миримся — вы не переживайте. Живу я один. К людям я непривередлив… — беспорядочно бубнил Обри.
— Вы сказали, что с женой живете, — удивился Петр.
— Роз?.. Роз умерла… — На лице старика появилась жалкая гримаса. — Давно уже…
— Ах вот как… Я не понял, простите.
— Не извиняйтесь! Вы же не знали… С кем бы вы нашли общий язык, так это с Роз, — заверил Обри и растроганно мотнул головой.
Догадываясь, что подобное изъявление симпатии в устах хозяина должно звучать как наивысшее, какого только можно от него удостоиться, Петр хладнокровно озирался по сторонам, останавливал взгляд то на одной картине, то на другой. Холстами были завешаны все стены.
Обри тут же принялся показывать, быстро вел за собой вдоль стен. Картины были очень разных размеров и разного колорита, но в основном абстрактные. Некоторые всё же удивляли своим непомерным форматом. При первом ознакомлении коллекция выглядела довольно разнородной, даже эклектичной.
Для Петра всё это было неожиданным. Ему почему-то казалось, что старик должен собирать если не реалистичную живопись, то что-нибудь примитивистское, что без труда можно раздобыть на провинциальных аукционах, не гоняясь за известными именами.
Только один большой холст, висевший на стене слева от окон, изображал что-то реалистичное. Это был портрет немолодой, но стройной женщины. Высокий лоб, небольшой пучок волос, халат на голое тело. С приоткрытой грудью женщина сидела в кресле, сложив руки на коленях. Портрет был выполнен в натуральную величину. И не только в силу отсутствия яркой палитры, но и еще чего-то трудноуловимого, он поражал каким-то скрытым изяществом, хотя на первый взгляд картина могла показаться выполненной наспех уже потому, что краска повсюду подтекала. Холст был написан совершенно мастерски.
— Это она, — сказал Обри. — Роз!
Петр приблизился к картине и стал рассматривать ее с удвоенным интересом. Портрет брал за живое: замершим, сонным выражением лица позировавшей, выражением домашней рассеянности, какое бывает у женщин, когда они заняты каким-нибудь будничным делом и не замечают, что за ними наблюдают. Привлекал, безусловно, и большой формат, и полное отсутствие цвета.
— Для таких картин у меня, конечно, тесновато, — пробормотал Обри, словно извиняясь. — Да я один теперь живу. Строить что-то новое — глупо… А это вы знаете. — Старик показал на противоположную стену, где висел абстрактный холст большого размера, изображавший что-то монолитно-синее, выполненный в грубой, жирной палитре.
— Нет, не знаю… Кто это?
— Ранний период. По-моему, самое то… То, что надо… Два года назад смог вот обзавестись… — Имени художника Обри так и не назвал, думал уже о чем-то другом.
Не переспрашивая, Петр заметил:
— Должен признаться, что я полный профан в изобразительном искусстве.
Своим невозмутимым видом хозяин давал понять, что не верит в подобные признания, и, тыча пальцем с обручальным кольцом то в одну, то в другую сторону, продолжал комментировать:
— А вот этот у меня уже лет двадцать. И знаете, за сколько достался? — Обри показывал на яркую картину, разграниченную на ровные цветовые фрагменты. — За пять тысяч! Теперь сто пятьдесят предлагают. Я в общем-то начинал так, по чистой случайности. У нас в санатории часто лечились художники… в послевоенные годы. Денег у людей не было. И часто расплачивались за наши услуги работами. Ну а потом, когда начнешь, хода назад уже нет. Это ведь как наркотик… Позднее я стал покупать вещи и подороже. Кое-что досталось от отца, он собирал по мелочи. А теперь хранить негде, столько всего… Всё самое ценное приходится в банке держать. Со страхованием, сами понимаете, — одни мучения.
— В банке можно держать большие картины? — спросил Петр.
— Маленькие умещаются в сейфе. А те, что покрупнее, — в свернутом виде, трубочкой. Два Пикассо у меня в рулоне лежат. Есть Соня Делонэ… — У старика появилась одышка; покрывшись испариной, он опять шнырял глазами по сторонам и выглядел беспомощным.
Они вышли в коридор, который тоже был увешан картинами, но меньшего размера. В высоком углублении, в конце коридора, Петр увидел еще один крупный портрет жены хозяина. Как и первый, висевший в центральной зале, этот холст был выполнен в бледных, едва различимых, но всё же насыщенных тонах. Женщина сидела в плетеном кресле спиной к смотрящему. Было видно не лицо, а лишь затылок позировавшей с растрепавшимися волосами, собранными в пучок, голые плечи и голени. И снова удивлял размер. Именно это и казалось удачным — то, что автор, выбрав столь безликую позу, не поскупился на формат. Петру вдруг показалось, что он понял то, о чем старик говорил вчера в Пасси за ужином, — Обри отстаивал не что иное, как чистоту идеи.
— Мой любимый холст, — обессиленно вздохнул хозяин.
— Замечательный! — признал Петр. — Замечательно, что нет красок.
— У Роз был друг, он жил здесь неподалеку… Это его работы. И представляете, по сей день никому не известен.
— Откровенно говоря, я к фигуративной живописи равнодушен, — сказал Петр, — если, конечно, я вправе судить. У меня всегда такое чувство, что меня принимают за дурака… разжевывают перед тем, как положить в рот, когда, например, изображают бутылку, какой-нибудь предмет обихода, нос, рот, руки… ведь в этом нет никакой надобности. Но эта картина просто поражает. Удивительно!
— Я рад, очень рад… Не думал, что вам понравится, — суетливо забормотал старик. — А тут, смотрите! — Он энергично зашагал к противоположному углублению, расположенному симметрично по отношению к первому, включил там свет, и Петр увидел еще один портрет, небольшой, растекшийся по всему холсту и, пожалуй, агрессивный для зрительного восприятия тем, что был перевернут вверх ногами, точнее, книзу головой, поскольку изображение захватывало лишь торс.
— Этот я недавно купил… По-моему, чудесная вещь, — сказал Обри. — А как взаимодействуют между собой — смотрите!
Петр молча согласился.
— Его жена открыла, когда он еще совсем не был известен, — пояснил старик и, изучая Петра каким-то новым взглядом, пригласил спуститься в подвал.
Целое помещение было также завалено холстами под самый потолок. Старик объяснил, что хранит здесь работы второго сорта, купленные «на всякий случай», принадлежавшие руке малоизвестных или совсем безвестных художников.
Разбирая холст за холстом, Обри разворачивал их лицевой стороной и заставлял Петра разглядывать каждый по минуте, сопровождая показ очередными комментариями.
Автор пестренького холста с изображением улицы умер от рака почки. Автор черного холста с наляпанными кусками ткани лечился в клинике для душевнобольных. А автор «диптиха», состоявшего из двух досок, выкрашенных во что-то бурое, уже десять лет жил в США.
Замечая, что всё это не производит на Петра прежнего впечатления, Обри в оправдание себе бормотал:
— Когда просмотришь такое количество, глаза уже не воспринимают. Я, например, когда попадаю в музей, всегда выбираю себе что-нибудь одно… одну-две картины. Постою и ухожу… У меня еще наверху есть немного… — с неуверенностью сказал Обри. — Хотите взглянуть?
Отказаться Петр не осмелился. Сложив холсты прежней горой, они вернулись наверх. Войдя в одну из спален, Обри выволок из шкафа несколько толстых папок с бумажными работами. Это были рисунки всех видов, выполненные углем, карандашом, тушью. Раскладывая их сериями на ковре, старик любовался своим достоянием, становился опять странен, объясняя, что скупал такие работы «пачками» у самих художников, поэтому всё это и доставалось ему по «божеским» ценам. В отдельной черной папке хранилась проложенная калькой акварель Таль Коата, рисунок Дюбюффе, несколько небольших ярких гуашей Брама Ван Вельда. И эти небольшие работы Петру показались наилучшим из всего, что он увидел.
Когда они ввернулись в центральную комнат и Обри предложил выпить по чашке кофе, Петр спросил его:
— Вы, случайно, не знали такую Вертягину? Она бывала здесь в санатории… Как он называется, уж не помню — с такими оранжевыми тентами над окнами.
— Мартель де Жанвиль?.. Этот санаторий принадлежал раньше военным, — сказал Обри.
— Нет, я имею в виду гражданский. Она приезжала лечиться в пятидесятых годах, да и позже.
— Художница? — спросил Обри.
— Да. Она как раз лечилась от туберкулеза.
— Нет, не помню… — Обри отрицательно покачал головой. — Как вы сказали?
— Может быть, Крафт? Анастасия Крафт — это имя вам ничего не говорит? — переспросил Петр. — Русская.
Старик насупился, двигая в орбитах огромными глазами, делал над собой усилия.
— Скульпторша? — вдруг спросил он. — Почему вы говорите «художница»?
Петр едва не пролил на себя кофе. Ошеломленно уставившись на хозяина, он не знал, что сказать.
— Как же, помню. Она жила где-то… Где-то под Биаррицем, если я не ошибаюсь, — подтвердил Обри. — То есть нет, в Центральном массиве. Помню, конечно! Была такая. Сам я с ней мало общался. Это ваша знакомая?
— Бабушка.
— И дочь у нее была очень красивая… Жила тоже под Биаррицем? — уточнил Обри с удивлением.
— Моя тетя.
— Ну, мой друг… Так мы с вами… Чудеса! А вы говорите — профан. Да с такой бабушкой… — изумленно бормотал Обри. — Нет, сам я знал ее очень мало. Но Роз, моя покойная жена… Роз ведь тоже была из санаторных. Так мы и познакомились. Господи! — Обри трагично тряс щеками. — И что же она теперь, ваша бабушка?
Потрясенный или даже подавленный, но он и сам не понимал, чем именно, Петр молчал, о чем-то раздумывая, из чего Обри сделал свой вывод.
— Понимаю… Они с Роз очень дружили одно время, хотя и разница в возрасте между ними была большая. Сколько лет-то прошло? Роз ушла из жизни два года назад… Жизнь ведь, знаете, это как приговор с условным сроком, который, если судье того захочется, будет продлен, а если не захочется — укорочен… Так иногда шутила Роз. Она ведь тоже была художницей, но так — больше увлекалась. Я ей мастерскую построил… — Обри замолчал, но тут же спросил: — Да вон там, слева, вы видели?
— Стеклянный домик?
— Стеклянный домик. Хотите посмотреть? — Испытующе, с мольбой в глазах Обри пристально смотрел на гостя.
— С удовольствием…
Они молча вышли, обогнули дом с тыльной стороны и, пройдя через газон, подошли ко входу в строение, сооруженное наполовину из бетона, наполовину из стекла. Обри открыл ключом дверь, и они оказались в просторном помещении с высоким, полностью застекленным потолком. Вдоль стены стояло три мольберта и старое плетеное кресло, прикрытое чем-то бежевым, которое Петр мгновенно узнал. Это было то самое кресло, в котором жена хозяина позировала спиной для портрета, висевшего в коридоре.
В мастерской стоял спертый воздух. Полностью открытая солнцу комната в жаркие дни, видимо, сильно нагревалась. Приблизившись к витражу, который был обращен на ослепительно сиявшие кряжи Белой горы, Обри открыл щеколду, растолкал створки в стороны и, окатывая Петра взволнованными взорами, пробормотал:
— Вот здесь. Да, знаете… Всё как-то поздно приходит. Вам нравится?
— Не мастерская, а храм… — сказал Петр, чувствуя, что старик трепетно ждет похвалы.
— Так и Роз говорила!.. А это ее работы… — Старик ткнул пальцем на холсты, аккуратно составленные у стены слева от входа и запечатанные в целлофановую пленку. — На стенах их не могу держать, вы понимаете… Я бы вам показал… — Обри неуверенно оскалился.
— Картины не портятся от такой жары?
— Бывает, конечно, жарко. Но когда я дома, держу всё открытым. А на зиму подвел отопление. Всего шестнадцать градусов…
Не дождавшись ответа на свой вопрос, старик направился к холстам и стал разворачивать их лицевой стороной, как в подвале, разбирая всю стопку, один холст за другим. Картины трогали какой-то показной легкомысленной жизнерадостностью.
— Очень хорошие работы, — сказал Петр, но не знал, как лучше отреагировать, чтобы не нанести обиды.
— Да, знаете… Иногда я их разбираю, и часами могу разглядывать… — Старик отчего-то замешкался. — Вы сами-то, я понимаю, адвокат… Но никогда не увлекались?
— Живописью? Когда-то даже учился. Бабушка хотела, чтобы я стал художником, — сказал Петр.
— И что вам помешало?
— Когда попадаешь в такую мастерскую, невольно задаешь себе этот вопрос, — кивнул Петр. — Кажется, сел бы за мольберт и сам бы стал рисовать… Здесь изумительно.
И он нисколько не кривил душой. В мастерской действительно царила удивительная атмосфера. Мягкий дневной свет, падающий с потолка, сглаживал тени. За окном сочно зеленели ухоженные газоны. Стояла необычная тишина. Безукоризненная чистота чем-то манила к себе. А когда тяжеловатый внутренний запах выветрился, стал чувствоваться душок скипидара и чем-то приятный, на эссенциях настоянный дух масляных красок.
— Что же вам мешает? — спросил Обри. — Пожалуйста! Я вам дам ключи, можете приходить.
Петр развел руками.
— Ну а что?.. Раз уж отдыхать приехали! Что лучше — овец ходить разглядывать?.. Я днем на работе. Один будете. Тишина, покой. Тут есть всё, что нужно: краски, кисти… Роз любила запасаться. Одних холстов тут штук пятьдесят осталось, любых размеров… — Обри прошел в угол, распахнул дверь в небольшую чистую каморку, которая была заставлена подрамниками и готовыми, натянутыми холстами. — Не скрою от вас, мне было бы очень, очень приятно.
— Нет, что вы! — запротестовал Петр. — Я ведь совершенно далек от этого. Но спасибо за предложение.
— Соглашайтесь! — потребовал Обри со странной категоричностью.
Петр вынул из стоявшей на передвижном столике жестяной банки две новые кисти и, гладя ими внутренность ладони, неуверенно произнес:
— Переводить краски?
— Вот именно! Вот именно! — выпалил Обри. — Для меня это будет как… Да вы не понимаете! Роз была бы счастлива, уверяю вас! Я вам сразу дам ключи… — Обри ринулся к выходу, вырвал из замочной скважины связку с ключами и стал срывать нужный ключ. — Берите! Вы просто не представляете… От дома я вам тоже дам ключи, вдруг захотите отдохнуть, приготовить… выпить чего-нибудь.
Петр взял протянутый ключ, недоуменно разглядывал его и, подняв взгляд на старика, вдруг осознал, что довел его до такого же невменяемого состояния, как и вечером накануне.
— Я попробую, — сказал он. — Когда вы уходите на работу?
— Да какая вам разница, когда я ухожу! Приходите в любое время! Завтра же! — От возбуждения Обри кричал на весь двор. — Я в шесть тридцать уезжаю. А вернусь не раньше пяти. Да и не обращайте внимания. Ну вот…
Старик тяжело перевел дух и стал строить немые гримасы, боясь поднять на гостя глаза…
После заката, как только солнце скрылось, предгорья сразу же утратили объемность очертаний и казались теперь близкими, доступными, но не имели той притягательности, которая минуту назад была столь ненасытной для глаз и томительной.
Вглядываясь в тихую, серую дымку угасающего дня, Петр сидел в соломенном кресле, от усталости и от некоторого опустошения был не в состоянии вылезти из него, чтобы пройти к умывальнику и вымыть руки или хотя бы дотянуться до зажигалки и зажечь сигарету, хотя судорожно хотелось курить. День пролетел незаметно. Но он осознал это лишь в тот момент, когда с улицы донесся скрип ворот и послышался хруст гравия под шинами въехавшего во двор автомобиля.
Обри вернулся. С минуты на минуту хозяин должен был появиться на пороге. В один миг Петр вдруг почувствовал всю нелепость своего положения, словно был пойман с поличным: казалось вдруг ребячеством довести себя до такой степени усталости никчемным времяпровождением.
Он вылез из кресла, прошел к раковине, подставил голову под струю ледяной воды, вытерся и хотел выйти на улицу, но невысокая тень хозяина выросла на пороге.
— Принимайте гостей! — бросил старик, снимая очки и оскаливая желтые зубы. — Значит, приехали… Ну, что ж, очень рад.
— Уже шесть? — удивился Петр. — Я не думал, что так поздно.
— Восьмой час, мой друг! Ну-с, показывайте, чего вы тут понастряпали… — Красный как рак, весь в испарине, Обри шнырял глазами по сторонам. — А запах, боже праведный… Какой запах! — забормотал он, вдохновенно шевеля ноздрями. — Вы весь вымазались… Там же халаты висят, вы не нашли их?
Подойдя к мольберту, выставленному на середину мастерской, хозяин оглядел два небольших холста, прислоненных к нему на полу. Это были два синеватых этюда с пейзажами, сработанные мрачной и жирной палитрой. Развернув мольберт к окну, Обри поставил на него один из этюдов и принялся рассматривать холст в упор, после чего с тем же восторженным благоговением взялся за второй этюд. Насмотревшись, старик перевел взгляд на третий холст, самый большой по размеру, метра в полтора высотой, который был отставлен лицевой стороной к стене.
— Что-то есть, уверяю вас… — заключил Обри.
— По-моему, нет ни малейшего сходства, — сказал Петр.
— Сходство?.. С горами, что ли?.. Да какая вам разница? Мы с вами уже обсуждали эту тему. Зато нерв, ты посмотри… — Старик показал Петру кулак. — Плохой художник копирует, он всегда находится в состоянии уподобления, а хороший изображает вещи и находится в состоянии эквивалентности с ними. Это мнение Леже… Ну, пейзажики, это ладно — навазекали, так что ж теперь. А вот этот…
С неменьшей бережностью, обеими руками Обри оторвал от пола самый большой холст и развернул его лицевой стороной. Холст был однозначно абстрактным. Он изображал асимметричную композицию, некую темную, с серым отсветом массу, слегка завалившуюся к правому краю. Обри повернул холст к свету и долго, сильно скалясь, разглядывал его, меняя углы зрения.
— Что ж, недурно, — заключил он.
— По-моему, ужасно, — сказал Петр. — Адский труд, а видите, что получается?
— Совсем недурно, зря вы, — повторил Обри; тень интриганства, не сходившая с его лица, уступила место рассеянному умилению. — И фактура, смотрите-ка! Не богатая, но то, что надо. А эти ошметки по краям! Специально налепили?
— Куски краски? Нет. Я тут нашел баночку умбры, — сказал Петр, — почти засохшей.
— А край! Посмотрите край! Прелесть, какая прелесть… — Восхваляя, Обри причмокивал, безымянным пальцем проводил по правому краю холста, там, где жирный, черно-коричневый масляный тон оставался незаконченным и обнажал белую грунтовку. — Ну что ж, я от души рад, что мы с вами, так сказать… Вы во сколько приехали?
— В одиннадцать.
— Ели что-нибудь?.. Нет?! Сейчас мы что-нибудь сварганим. Мне тут стряпают по вечерам. Соседка… — Обри взглянул на часы. — Еще рано. Через час, дождетесь? Пока бутерброд могу сделать.
— Я бы лучше… выпил чего-нибудь, — сказал Петр.
— Виски?! — обрадовался хозяин. — Какого хотите?
— Всё равно.
— Сейчас вернусь!
Обри вылетел на улицу. Вернувшись через минуту с бутылкой «Чивас Ригал» и с двумя стаканами, он налил в каждый по тройной дозе и расхаживал по мастерской со стаканом в руке, озабоченно оглядываясь на последний большой холст и комментируя:
— Всегда поражаюсь, как так получается, что одним дано, а другим фига с маслом. Один может — сел и одной левой! А другой — хоть режь его на куски… Вообще-то я давно придерживаюсь мнения, что в каждом из нас сидит художник. Способность к художественному творчеству заложена в человека с рождения. Вопрос в том, как складываются жизненные обстоятельства. Тут даже дарование ни при чем. Тут что-то в психическом складе, в воспитании. А всё же страшная несправедливость. Страшная! Не согласны со мной?
После тихого дня Петр с трудом привыкал к столь бурной атмосфере.
— Ну что вы молчите? Не согласны?
— Есть несправедливости пострашнее, — обронил Петр.
— Например?
— Попробуйте объяснить голодному или нищему, что это так страшно, что ему не прожить без картин.
— Не знаю, не знаю… — завздыхал Обри. — Я придерживаюсь другого мнения… Попробуйте убедить человека имущего, который трудился в поте лица всю свою жизнь, что ему хорошо, а другому, у кого не получается так трудиться, что ему плохо… Можно и, как вы, в другую сторону развить, правда… — Обри осекся и что-то сверял по лицу гостя.
— Не всё же так относительно. Вы слишком обобщаете, — сказал Петр.
— Э-э, мой друг, это вы обобщаете. А вот представьте на миг, что тот, у кого больше, дает тому, у кого меньше, независимо от того, больше он трудится или меньше… сознавая, что тот, кому больше дано от природы, должен, в свою очередь, давать больше тому, кто получил изначально меньше. Что получится?.. Ну что, по-вашему?
— На земле наступит рай. Если главная цель достигнута — зачем продолжать? — ответил Петр несерьезным тоном.
Смерив его укоризненным взглядом, Обри затряс мясистыми щеками и категорично подвел черту:
— Значит, согласны со мной… Но я бы немножко по-иному сформулировал. Главным результатом было бы полное переосмысление всех целей… Цели жизни. Смотрите, как всё просто сегодня! Как просты цели! Наша жизнь проходит… ну, если не с целью извлечения выгоды или получения удовольствий лично для себя, то, скажем, с целью облегчения жизни близких. Благополучие заразительно. Оно увлекает за собой как горный обвал, — привел Обри неожиданное сравнение и тут же приобрел вид человека, который пытается скрыть распирающее его удовольствие от возможности высказаться, но не в состоянии этого сделать, потому что это просто выше его сил. — Что бы мы ни говорили, цель… и какая бы она ни была… необходима всем! И эта цель для нас, в конце концов, проста и ясна — уменьшить по мере возможности страдания, свои собственные и чужие… Смотрите, как в природе всё устроено… Как всё просто! Выжить, получить побольше солнечного света, потомство оставить… И за счет этой простоты всё как бы умнее, правильнее. На чем всё это замешено? Из чего сделан этот цемент? Этого нам знать не дано. Но наблюдать проявления этого механизма, любоваться готовым сооружением мы можем. Согласны?
— Согласен, — поспешил ответить Петр.
— В природе есть, по крайней мере, сдерживающее начало. Цемент, которым она пользуется, схватывает медленно, постепенно. А иногда он вообще не сохнет… — продолжал Обри объяснять. — Я, например, уверен, что в природе есть закон, который ограничивает власть людей бесчестных. Есть в ней какая-то сдерживающая сила. И эта сила мешает одним окончательно разбогатеть, а другим окончательно опуститься, чтобы одни не смогли безмерно властвовать над другими.
— Есть и другая теория… Согласно другой всё удерживается в состоянии равновесия благодаря противостоянию. Как у военных… На противостоянии зла.
— Вот это уже полная чепуха! Не верьте… Добро слабее зла по природе своей, — решительно возразил Обри. — Если принять вашу схему — черное давно бы поглотило белое.
— У зла тоже есть слабые стороны. Слабость зла хотя бы в том, что его энергия уходит на противоборство, — опять не согласился Петр. — Доброе же, хотя и пассивно, слабее, как вы говорите, но сила его в том, что его потенциал неизмерим. Благодаря этому и сохраняется равновесие. Добро погашает в себе всё разрушительное. Ударьте кулаком в подушку…
— Друг мой, да вы абсолютный идеалист!
Петр не возражал. Обри стал расхаживать по комнате. И оба молчали.
— Вы забываете об одном, что никто из нас не способен довольствоваться чувством выполненного долга, чувством жертвы, — сказал хозяин. — Человеку всегда нужна компенсация. Но не когда-то там, в роду, через пять-десять поколений, а немедленная, хотя бы прижизненная. О высших причинах мы только рассусоливаем. В реальных жизненных ситуациях мы о них забываем.
— Мне кажется, что людям не компенсация нужна, а надежда… И вера в завтрашний день, — сказал Петр.
— Скажу вам одну вещь… Нам трудно во всём этом разобраться, потому что мы лезем напролом. Голыми руками хотим потрогать сущность вещей! Когда нам дано лишь наблюдать внешние проявления, — вернулся Обри к своей прежней мысли.
— Игра в кошки-мышки, — возразил Петр. — Если всё сводить к каким-то скрытым сущностям, то это непременно подразумевало бы под собой нечто разумное. А если всё это разумно, то должно быть доступно пониманию. Как поверить, что разумное могло нагородить столько неразумности, такого уродства?
— Смотря что под разумным понимать, — проворчал Обри. — Посмотрите, как устроен муравейник. Смотришь и не можешь понять, куда они все бегут. Что им надо? Кто влево, кто вправо! Все что-то таскают, строят! Зачем?.. Чтобы муравейник вырос в размерах? Но было бы чистым абсурдом хвататься за такое объяснение. С таким подходом ни до чего не докопаешься. А заметьте: когда в лесу встречаешь муравьиную кучу, то кажется, что так и должно быть. Вопрос даже в голову не приходит. Нужен он здесь — и дело с концом!.. По наитию мы всё понимаем, пока не лезем в дебри. А непонятно всё становится тогда, когда мы перестаем себя ограничивать. Ведь тогда можно спросить себя: а зачем лес, в котором вырос этот муравейник? Зачем всё остальное, и так далее… Муравей не знает, что за лесом — луг ли, поле, огород, другой ли лес, но живет себе. Так же и мы с вами.
— Наверное вы правы, — сдался Петр. — Но мне кажется, что это вопрос масштаба, не больше.
Обри не понял его или уже не слышал:
— Эх, Питер, вы еще молоды. Вас еще гложет этот червячок. А с годами, когда приближаешься к барьеру, все эти головоломки… если они есть, конечно… ограничиваются рамками прожитой жизни. Она начинает казаться самодостаточной. В ней самой и то разобраться невозможно. В своем собственном муравейнике! Кто счастливый человек, по-вашему?.. Серьезно, кто?
— Тот, кого червь не гложет, — ответил Петр несерьезным тоном.
— Шутите… Но так оно и есть! Только я бы по-другому сказал. Счастлив тот, в ком потребность к пониманию не выходит за рамки его жизни, его возможностей. А там и разбирайте: бедный, богатый, умный или дурак. В этом смысле я человек счастливый. Да! Хоть вам и смешно… Я, например, не хочу того, что мне не по силам. Я четко сказал себе: «Вот это, Боб, твое… — Обри обрубил ладонями воздух вокруг себя. — А там, — он показал в окно, — чужое, непонятное!» Непонятное потому, что я вне этого. Почему так, а не по-другому? Это не имеет значения… Эх, да что я вам объясняю? Бросали бы вы вашу адвокатуру! — заключил Обри странным тоном, а затем, выставив на Петра мрачный взгляд, добавил: — Ну на кой черт она вам сдалась, если вы способны заниматься такими вещами? — Обри снял очки, с несчастным видом глядел на составленные в углу холсты покойной жены. — Время ведь летит! Глазом моргнуть не успеваешь. А когда очухаешься, вот как я, поздно, вспомнить нечего!
К началу сентября отпускной сезон практически уже закончился. С выходных в наплыве приезжих чувствовался заметный спад. Погода тоже мало-помалу портилась. Туман, застилавший по утрам дороги, на высоте не удивлял никого. Но теперь он стал всё ниже спускаться в долину и держался на дорогах до десяти утра, а иногда даже до обеда. Дождей всё не было, изредка моросило лишь на самой низменности, но прояснения становились всё более редкими. На опустевших дорогах встречался преимущественно люд пожилой — пенсионеры, постояльцы местных лечебниц. Более заметным стало разве что присутствие местного населения. Еще день назад оно ровно ничем не напоминало о своем существовании, лишь прилавками на базарах, которые ломились от привычного изобилия местной сельхозпродукции. И вот теперь этот люд колесил на старых джипах, фургонах и грузовиках по главным дорогам, не сбавляя скорости на разъездах, словно пытаясь нагнать упущенное.
Возвращаться вечерами от Обри Петр предпочитал дальней дорогой, которая тянулась сначала низом вдоль местной речушки, прорезавшей дно долины, и только потом поднималась в горы, пролегая вдоль водопада и минуя Шэдде, это небольшое, беспорядочно вросшее в лесистые склоны горное селенье. Четыре дня подряд проведя в мастерской, Петр в четвертый раз останавливался по дороге домой — ужинать на постоялом дворе, который знал еще с прежних приездов в Альпы.
Некогда преобразованный из фермы в таверну, с годами разросшуюся в гостиничный пансион, постоялый двор не переставал удивлять благоустройствами, которые обезоруживали своей безвкусицей. Клумбы вдруг покрылись анютиными глазками. Над уличными столами появлялись пестрые парасоли, разукрашенные рекламой мороженого, а вокруг — многочисленная пластмассовая садовая мебель, мусорные бачки в аллейках или страшненькие на вид садовые гномы. Всё здесь казалось пародией на образцовый сельский быт. Но место притягивало к себе. Что-то захватывающее было в самой перспективе на горы, которая открывалась при въезде во двор и напоминала в сумеречное время горные пейзажи Каспара Давида Фридриха. Подкупал и некий курортный сплин, который неизбежно охватывал гостя и не давал от себя избавиться. От глаз случайного посетителя подворье оставалось скрыто неприглядной стеной ореховых деревьев, из-за чего оно и напоминало загородную лечебницу, по непонятной причине опустевшую, персонал которой, изнывающий от безделья, готов был, казалось, встречать с криками «ура» любого простофилю, по ошибке свернувшего с дороги, перепутавшего лечебное заведение с увеселительным.
Именно это чувство охватывало Петра, когда хозяева, жовиального вида чета, появлялась на пороге ресторана, чтобы встретить очередную машину. Слабая половина — рыжая, костлявая особа средних лет — провожала гостей к столику в дальнем конце темного зала, стены которого были обшиты досками, как в финской бане, а для полного колорита еще и были обвешаны черными от копоти чугунными сковородками, обломками жерновов, ржавыми ружьями. Сбоку от окна даже экспонировались изношенные сапожищи серо-бурого цвета, словно в напоминание о каких-то давних доблестных временах, о том, что здешняя глухомань не так уж далеко отстоит от столбовых дорог мировой истории.
Каждый вечер Петр заказывал одно и то же местное блюдо — фондю из сыра, к нему зеленый салат и полбутылки бордо. Постоянные вечерние посетители стали редкостью. И хозяин, моложавый блондин, полжизни проработавший на должности крупье при казино в Шамони, время от времени подходил к его столу, чтобы одарить очередной любезностью и даже пытался завести разговор, но из этого ничего не получалось…
Добираясь в свое шале с наступлением темноты, Петр разводил огонь. Крохотный, как попало собранный камин соорудили, скорее всего, для декорации. Тяга получалась слабая. При малейшем ветре дым задувало в комнаты. И даже развести огонь не всегда удавалось. Когда пламя всё же становилось устойчивым, он откупоривал новую бутылку красного вина и, если на улице было не очень сыро, располагался на террасе, курил и цедил вино на воздухе, до тех пор, пока не выкуривалась вся сигара.
Внутреннее опустошение, которое к вечеру первого дня, проведенного в мастерской Обри, показалось Петру неожиданным, он испытывал теперь с такой силой, что иногда не мог не задаваться вопросом, как можно выносить это состояние больше минуты. Причина недуга крылась, конечно, не в возне с красками, хотя поначалу его и преследовало чувство, что это новое занятие, очень увлекающее, но непривычное, требует слишком больших внутренних усилий. Как-никак в этом явно было что-то целебное. Возня с красками притупляла мысли. Минутами она даже вселяла какую-то неожиданную уверенность в себе. Но на смену уверенности вскоре приходило ощущение еще большего внутреннего разлада. И если в итоге Петр по-прежнему тешил себя уверенностью, что с ним происходит что-то положительное, полезное, что весь тот внешний хаос, даже если его не становится меньше, всё же уступает место внутренней тишине, покою или обыкновенному опустошению, то это объяснялось, скорее всего, терапевтическим эффектом от самих «каникул», которые он незаконно, как ему казалось, себе устроил. Производимый эффект был совсем не тот, которого он ожидал. Горы не излечивали, не возносили над мишурой, а заставляли смотреть на всё второстепенное, приземленное с другой высоты.
Прежняя растерянность, прежний душевный сумбур, мешавший принимать решения, уступили место способности размышлять взвешенно. Однако от ясности в себе становилось вдвойне тяжело и немного муторно, как от взгляда с высоты куда-нибудь вниз, потому что мысли оставались сосредоточенными на том же: с чего начинать по возвращении в Гарн?
Иногда Петра охватывало чувство, что ясность, в которой он черпал свое равновесие, замешена просто на пустоте. Ощущение было странным. Могли ли мысли существовать в полном вакууме? Могли ли они оставаться мыслями, лишившись привычной речевой оболочки? Можно ли думать без слов?.. С тех пор как он начал ездить к Обри, его не оставляло ощущение, что именно так это и происходит, что он думает без слов. Мысли становились как бы немного голыми. Они словно лишались привычной шелухи, той словесной приблизительности, благодаря чему и обретали зыбкую, но всё же небывалую точность. И в то же время ими становилось тяжело управлять. Мысли всё меньше подчинялись волевым усилиям. Их больше не удавалось заставить взаимодействовать между собой и участвовать в том внутреннем процессе, который он не мог приостановить в себе ни на минуту.
В который раз перебирая впечатления от прошедшего дня, Петр приходил к заключению, что немой мыслительный процесс, в конце концов, мало чем отличается от того, как пишется картина. И в том, и в другом проглядывала одна и та же внутренняя логика. Эта логика, подобно мышлению без слов, упиралась не в ощущения, которые люди обычно ищут в живописи — острые или банальные, тонкие или грубые, приятные или отталкивающие. Она упиралась в строгие внутренние законы, присущие соотношению элементов неорганического и органического мира. Это открытие казалось почему-то неожиданным.
Грамотно написанная картина Петру виделась полной противоположностью всякой чувственности. Разве сама гармония не является результатом максимального слияния строгих норм и правил в одно целое? Разве не этим правилам подчиняется взаимодействие между смешиваемыми красками?.. Неслучайно при замешивании темной или черной палитры, при добавлении в сажу газовой умбры, церелиума и даже кадмия желтого, кобальта или кадмия зеленого, охры, венецианской красной между смешиваемыми красками возникает простое взаимодействие, а в других случаях — например, при соединении сажи черной с кадмием красным, со стронциевой желтой, с синей прусской, с ультрамарином, с капут-мортуумом или с сиеной — происходит «реакция», смешение неслучайно приводит к столкновению, к перерождению или даже к взаимоуничтожению цветов, в результате чего может получиться вишневый цвет, фиолетовый…
Петр замечал, что удачные наброски у него получаются именно тогда, когда он не заботится о смысле и целиком сосредоточивается не на тонкостях своего восприятия, а на материальности красок, на самом веществе, из которого они изготовлены. Но та же самая внутренняя упорядоченность, та же подчиненность законам материального мира присуща, по-видимому, любому процессу, который связан с преодолением материала. Только затем вступает в силу всё то, что опосредовано интеллектом, чувствительностью и т. д.
Стоило ему, однако, попытаться представить себе это воочию — что всё подчиняется железным внутренним законам или, наоборот, настолько внешним, что их невозможно объять ни умом, ни взглядом, — как простая, самоочевидная истина, от которой только что веяло свежестью, становилась вновь неприятно расплывчатой. Выводы, минуту назад казавшиеся значительными, рушились. Всё опять становилось приблизительным. И всё опять приходилось перекапывать с самого начала или с другого конца. Но к этому часу за окнами опять была ночь. Опять нужно было думать о сне, о планах на завтра. А утром, по возвращении в мир реальных вещей, верх вновь брала нужда в объективном, в чувстве реального, как и при смешении красок. Круг замыкался. Ответов не было. Так проходил день за днем…
Накануне отъезда Петр съездил с утра к хозяину шале, чтобы расплатиться за аренду, провел у горца полчаса. Тот сварил кофе и не хотел его отпускать, преграждал дорогу подносом с сырами собственного изготовления…
По дороге назад в Пасси Петр остановился в Салланше, чтобы подобрать какой-нибудь прощальный подарок для Обри. Войдя в книжный магазин, он с четверть часа протоптался у полок и в конце концов выбрал иллюстрированный альбом о Брейгеле-старшем. А когда он уже вернулся к себе, сворачивая с дороги на спуск к шале, он уперся капотом в пухлый черный «опель» Обри, который как раз пытался вырулить снизу на дорогу.
Оживленно замахав ему из окна перчаткой, Обри стал рывками подавать назад.
Обе машины дружно сползли вниз и разъехались в стороны. Оба вышли и, вопросительно глядя друг на друга, зашагали навстречу.
На Обри была теплая, елового цвета куртка-кабан с кожаными пуговицами. Успев запариться, он выглядел осунувшимся. Свинцовые глаза виновато шныряли из-под очков по сторонам.
Глядя на старика, Петру стало вдруг совестно, что он не предупредил его вечером о том, что, возможно, уедет. Словно опасался, что тот может чем-то этому помешать.
Петр пригласил его в дом. Спуск к террасе раскис. Обри с опаской обходил каждый камень. Петр хотел поддержать его, но побоялся обидеть.
— Внизу не облака, а манная каша — вы посмотрите, что творится… — ворчал и пыхтел Обри. — Не везет же вам с погодой… Когда солнце — это не места, а рай небесный. А как развезет — прям хоть в петлю, не раздумывая… У меня с давлением не лады, так что мучаюсь…
— Входите — дождь, — сказал Петр.
Обри грузно поднялся на террасу и, оставляя за собой жирные, рыжие следы грязи, прошел на кухню.
Петр указал на диванчик, сгреб с него ворох подушек и газет, сбросил с себя отсыревший пиджак, сходил в спальню и вернулся в шерстяном, кофейного цвета джемпере.
— Чаю приготовить? — спросил он.
— Спасибо, — поблагодарил Обри, — я чай не пью.
— С ромом.
— Ну, если с ромом… — Оскалив желтые, кривые зубы, старик добродушно прибавил: — А отказываетесь считать себя русским.
— Разве я отказывался?
— Отказывались, отказывались… — пожурил гость. — Да, отмахали домину, ты посмотри! — перевел Обри разговор. — Помню времена, когда здесь еще стояла хибарка замшелая. Жила вдова с внуком. Мужа молнией убило… Красивая смерть — не согласны? А ходила ко мне… постойте, с чем же?.. С менингитом, кажется. Дорого с вас дерут?
— За жилье? Тысячу.
— В неделю?
— В неделю.
— Дешево, — одобрил Обри. — Богатеет народ, а на чем — не понятно. Края-то наши… сами знаете. Работы нет. Каждый третий на пособие перебивается… — Мельком поглядывая на Петра, Обри словно приноравливался к его настроению.
— Чистый воздух теперь нарасхват, — признал Петр.
Вынув из кармана большой белый платок, Обри осушил лоб, не снимая очков, и спросил:
— Вы на сколько вообще решили остаться?
— Завтра утром должен уехать.
— Завтра?!
— Я бы сегодня поехал, но туман и, говорят, где-то завал, пробки.
— Что же вы молчали? — Старик казался расстроенным. — А с картинами что делать? Они же не высохли.
— Вы хотите, чтобы я их забрал?
— А вы мне хотите их оставить?
— Куда же я с ними потащусь?
— Э-э, друг мой, так нельзя. Сделали — значит, сделали. Раз уезжаете, давайте так поступим: вы же не в последний раз сюда приехали. Подсохнут — заберете. Я думаю, через месяц-два уже можно будет упаковать. Или я сам вам привезу. До зимы мне в Париже всё равно придется побывать. А просто оставлять нельзя, я против… Вообще, конечно, жаль. Я думал, вы пробудете еще какое-то время… — Держась за колени и покачиваясь, старик недовольно озирался по сторонам. — Питер, у меня к вам разговор… Я тут показал ваши работы одному приятелю…
— Ваши холсты? — изумился Петр.
— Не мои, а ваши, — поправил Обри. — И чтоб вы знали — картины что надо! Пусть мое мнение для вас не в счет. Но я не один придерживаюсь этого мнения. Я вот что хотел… У меня тут давненько возник один спор с одним знакомым. Местный собиратель. Ресторан держит. Если ехать из Салланша через Шэдде, он будет слева, с белой мебелью, может, видели? Коллекционер из него, прямо скажем, никудышный, хотя всю жизнь протирал штаны в Лувре. А спор у нас возник вот какой… Смеяться будете! Я… да вы же знаете мое мнение… я считаю, что искусство и живопись не для избранных, у всех есть к этому способности, просто мало кто на это отваживается. Мало кто сознает свои способности, чаще всего люди себе просто не доверяют. А мой знакомый, он человек такой… немного странноватыми понятиями живет… он утверждает обратное… Понимаете, что я хочу сказать? — Обри подобострастно тряхнул щеками и продолжал свои странные объяснения: — Один, мол, художником рождается, с молоком матери всё впитывает. А другой… хоть тресни над ним! Ну и вот… Мы с ним пари заключили, согласно которому я должен однажды показать ему десять работ неизвестных ему художников… профессиональных, как он их называет… и вставить в этот десяток один из холстов, написанный любителем… ну, полным дилетантом, и он должен безошибочно распознать этот холст. Если угадывает — я ему спускаю свою гравюру Жака Кало. Если ошибается — я получаю от него эскиз Джакометти… Есть у Джакометти такой период, с собаками, может быть, видели? Вещь ну просто замечательная… Но по желанию можно рассчитаться и деньгами.
Не понимая, к чему старик клонит, Петр разливал чай и почти не слушал его.
— История, конечно, хоть стой, хоть падай, — затряс щеками Обри. — Но мы с вами выиграли.
Старик казался и восторженным, и вдруг жалким. Плеснув в чай рому, Петр закурил сигарету и сказал не то в шутку, не то всерьез:
— Сказали бы раньше, мы бы его обчистили… Я бы постарался.
— Да мы и так… Что вы! — опомнился Обри в тот же миг, словно пойманный на слове. — Иначе не получилось бы. Ну, прикиньте… Вы меня за чудака, конечно, считаете?
— Не переживайте. Хорошо, что выиграли, — сказал Петр. — А девять остальных картин?
— Что за картины? Да всякая дребедень! Я насобирал с мира по нитке, — отмахнулся Обри, и по лицу его пронеслась тень облегчения; всё обернулось для него, видимо, не так плачевно, как он предполагал. — Я, конечно, предпочел не рисунок у него взять, а деньги, — невнятно прибавил он. — Нас же двое.
Обри полез за пазуху и, пыхтя, извлек белый помятый конверт.
— Сорок тысяч поделить на два — двадцать. Fifty-fifty, как говорится… — Старик протянул конверт. — Тут ваши двадцать тысяч.
— Да вы с ума сошли… Уберите!
— Нет, Питер, я… Поймите меня, — бормотал Обри, положив конверт на стол. — Я не для того, чтобы вас обидеть и не денег ради… Мне было бы стыдно по-другому.
— Возьмите у вашего друга рисунок, — сказал Петр. — С собаками.
— Да нет у него рисунка, — с отчаянием вымолвил Обри. — Продал, мерзавец…
Петр взял со стола конверт и протянул его старику.
Оскалившись, тот был вынужден принять конверт обратно, но, продолжая держать его в руках, нерешительно произнес:
— У меня к вам еще одна просьба. По условиям пари я должен, конечно, подтвердить, предъявить какое-нибудь доказательство. То есть вы сами, как автор. Надо написать две строчки, что это ваша работа, и указать ваш адрес. Вас не обидит, если…
— Я напишу, — заверил Петр. — Хотите сейчас?
— Я тут уже набросал что надо… — Обри с живостью вынул из кармана сложенный лист, развернул его и протянул. — Нужно только адрес вписать. И подпись, конечно, не помешает…
Взяв листок, Петр пробежался по нему глазами и, с трудом удерживаясь от смеха, направился в спальню за ручкой, вернулся, подписал бумагу и отдал ее Обри.
— Ну вот и слава богу! Хорошо, что не обиделись, — бормотал тот. — А то я, знаете, как-то… Глупо получилось.
— Победителя не судят, — заверил Петр.
— Только деньги возьмите! — повторил Обри; поймав взгляд Петра, он спрятал конверт в карман. — Мне приятно было с вами пообщаться… Поэтому я хочу сделать вам предложение: приезжайте, когда захотите. Мой дом — ваш дом. Зачем снимать? Денег каких стоит, да и хлопотно. Как надумаете, в любой момент, всегда милости прошу. Я один. Деваться мне некуда. Если я вам, конечно, не надоел…
— Спасибо. Мне тоже было приятно… Обязательно воспользуюсь вашим предложением.
— Ну вот и славно, — сказал Обри. — В гостях хорошо, а дома, как говорится… Поеду…
Гость встал, с жаром потряс Петру руку, насадил на голову кепку, перевел дух и суетливо удалился.
Через окно в спальне Петр наблюдал, как старик поднялся из-за угла к своему «опелю». Кончиками пальцев он нес свою кепку, стряхивая с нее не то воду, не то грязь. И брюки, и куртка, спереди и сзади, были покрыты яркими рыжими пятнами грязи. Он, видимо, успел поскользнуться при подъеме на тропе.
Обри долго и неуклюже усаживался за руль, долго не мог развернуть машину на узком пятачке между земляной насыпью и парадным. Когда «опель» наконец пополз по аллее вверх, Петр вернулся на кухню, хотел убрать со стола чайник и обнаружил под ним конверт со сложенными купюрами. В тот же миг он вспомнил, что забыл вручить старику альбом. Книга так и осталась лежать в машине.
В начале осени Мари Брэйзиер пришлось внезапно поехать в Ниццу к своей тетке, Мари-старшей. Мать сообщила ей, что у тети обнаружили рак легких, что та объезжает врачей, надеясь получить то ли опровержение диагнозу, то ли не решаясь с выбором клиники, в которую должна была срочно лечь на операцию, но при этом отказывалась от помощи близких. Ее четверо сыновей, годы назад перессорившиеся и не поддерживающие тесных отношений, будто бы даже не знали о том, что с матерью происходит. Мари вылетела на юг на следующий же день.
Уже на месте выяснилось, что диагноз поставили месяц назад, болезнь оказалась запущенной. По сведениям, которые Мари наспех удалось собрать через знакомых и врачей знакомых, положение тети было близким к безнадежному. Единственную, но очень небольшую надежду могла дать лишь срочная операция.
Пробыв в Ницце неделю, Мари вернулась в Париж. В атмосфере ежедневных звонков, волнений и ожидания прошел весь октябрь. Когда же операция была наконец сделана и, по утверждению врачей, всё прошло благополучно, через неделю, в ночь на второе ноября, пришла менее всего ожидаемая новость: тетя, не вставая с постели, скончалась. Причиной летального исхода явилось якобы обширное воспаление легких…
За один день съехалась родня. Помимо четверых сыновей покойной с женами и детьми, приехала ее младшая сестра с семейством, не таким многочисленным, но еще более разрозненным, чем семья покойной. Появилась и дальняя троюродная родня, которая жила, как оказалось, неподалеку в Провансе: это была одинокая, на вид недобрая старуха, с плотным, сиволицым сыном, отцом двух мальчиков-близнецов, походивших на бедных родственников. День спустя из Тулона приехали и родители Мари. Остановившись в гостинице, они в толпе родственников не появлялись.
Старший сын покойной, с которым Мари много лет не поддерживала отношений, сорокалетний делец с холодными серыми глазами, врачам не верил. Он не мог понять, как угораздило мать выбрать для столь серьезной операции государственную клинику, почему не частную? Он не понимал, почему решение такой важности мать принимала втайне от всех. Требуя объяснений по поводу причин «скоропостижной гибели», которая произошла якобы в результате воспаления легких, в то время как операция, по заверению врачей, прошла успешно, он угрожал больнице судебными преследованиями, а растерянным родственникам внушал, что причиной летального исхода явилась халатность, допущенная медперсоналом. На праздники Всех Святых в отделении не хватало персонала, чем якобы и объяснялся тот факт, что из операционного блока больную поместили не в послеоперационную палату, а в общее отделение для всех…
Большинство родственников склонялось всё же к позиции соглашательской, в немалой степени обусловленной здравым смыслом: какой резон затевать тяжбу с государственной больницей? Это могло тянуться потом десятилетиями. Хирург, на которого сыпались все шишки — пожилой старик с гасконским носом, носивший поверх белого халата жилет из заячьего меха и шокирующий пациентов привычкой хватать их на бегу за щеки, — свиданий с родственниками избегал всеми правдами и неправдами…
Накрапывающий дождь, тяжелая, серая погода, непроглядно темное, низкое небо, плывшее над кладбищем с неестественной быстротой, непрекращающийся кашель какой-то пожилой родственницы, едкий дым сигары, которую кто-то курил прямо в толпе… Всё казалось Мари уже где-то виденным. Двух сыновей покойной угораздило заявиться в некрополь с детьми. В беретах, в галстуках и бабочках, как и взрослые, в траурном, дети не выстояли до конца церемонии и унеслись гурьбой за склеп, видневшийся на углу аллеи, где швыряли камнями в ворон, заставляя своих родителей чопорно коситься по сторонам и переживать не столько за совершаемое кощунство, сколько за то, что на этот промах в воспитании могли косо посмотреть остальные.
На похороны приехал и муж Мари. Он приехал на машине к самому началу церемонии. С виноватой, не мужской улыбкой, которая больше ничем не отзывалась в душе Мари, кроме какой-то забытой жалости к самой себе, — узкоплечий, руки в брюки, с шарфом на шее, муж ходил за ней следом как неприкаянный, делал над собой усилия, чтобы соблюсти видимость приличий. Но что Мари поражало больше всего — он по-прежнему был накоротке с ее родителями.
И мать и отец, постаревшие за один день лет на десять, выглядели пожелтевшими, плохо выспавшимися и вряд ли способными что-либо понять в их теперешних отношениях, несмотря на то, что знали о неприятностях зятя, знали, что уже который месяц они живут врозь — она в Париже, а он в Тулоне. Мари видела, с каким радушием, как ни в чем не бывало, родители о чем-то разговаривали с мужем, как они ходили с ним под руку и до странности хорошо сочетались друг с другом. У Арсена был вид человека, который чувствует себя хозяином положения и сам этим несколько озадачен.
Самой Мари пришлось говорить с ним не больше минуты. Муж поинтересовался, всё ли обстоит благополучно в ее парижской жизни, заговорил об этом с робким недоумением, как бы не смея затрагивать тему, вслед за чем, стараясь заполнить паузу, поинтересовался о том, как дела у дочери, хотя вовсе не нуждался в получении сведений через Мари: он поддерживал с дочерью прямые отношения.
Муж снова хотел что-то обсудить. Едва заслышав об этом, Мари испуганно потупилась, чувствовала, что может в любой миг сорваться, боялась разразиться нервным смехом, который краше всего, конечно, подытожил бы комедию, разыгрываемую мужем, и всё то, что происходило вокруг нее последние дни. Эта внезапная реакция, потребность причинить кому-то зло ее испугала.
Арсен уехал домой в тот же вечер. Мари пообещала приехать в Тулон на следующий день, провести дома дня два, чтобы заодно уехать в Париж на своей машине, которой ей не хватало. А на следующий день, даже не позвонив в Тулон, она улетела в Париж…
В Париж Мари вернулась всё же с чувством облегчения, с ощущением какой-то новой внутренней свободы и даже с чувством приятной, внутренней опустошенности, от которой в голове что-то немело, как бывает от лишней рюмки вина за ужином. Она больше не видела ничего сложного в том, чтобы позвонить Вертягину и известить о кончине родственницы: Мари была уверена, что он, как всегда, не в курсе случившегося. Проще всего это было сделать даже не звонком, а просто написать в письме. Но можно было всё оставить как есть, поставить точку.
Не прошло двух дней, как всё вернулось на круги своя. После солнечных дней, выдавшихся на выходные, над городом стояла та же осенняя серость, как и перед отъездом на юг. В душе у Мари появилась прежняя путаница. Ее мучил прежний беспросветный разброд чувств и мыслей, который, как обычно, сопровождался неуверенностью во всем, за что бы она ни бралась. Вернулось прежнее состояние какого-то медленного душевного распада, утраты ориентиров. Опять было непонятно, с чего начинать. Преследовал всё тот же страх взяться за что-либо новое, то же неотвязное ощущение неправильности, ошибочности всех своих жестов и действий. Причем совершались эти ошибки на каждом шагу не по недоумию, не от душевной слабости, а от страха их совершить — от страха перед страхом.
С ноября Мари жила на улице Кассини, в пустовавшей квартире Альфреда Гварнерри. Несмотря на все заверения бельгийца в том, что она может пользоваться квартирой безвозмездно, Мари вносила за нее плату, по пять с половиной тысяч франков ежемесячно, платила за телефон, за электричество и с категоричностью настаивала на соблюдении этого принципа в дальнейшем.
Трехкомнатная квартира была почти не меблированной, не считая расстроенного рояля, который загромождал треть гостиной, новой двуспальной кровати, купленной бельгийцем за день до ее вселения, пары стульев и стола — единственного на весь дом. Светлая, просторная, переполненная ухоженными фикусами и пальмами, квартира подходила Мари по всем статьям, хотя она и не понимала, как прежний жилец, Гварнерри, мог обходиться столь скудной обстановкой.
Мари потратилась на покупку дешевой мебели: дивана, двух настольных ламп, письменного стола, дешевого канцелярского кресла — всё белого цвета. Когда она сказала об этом Гварнерри, он откровенно обиделся. Бельгиец возмущался не столько ее никчемными, на его взгляд, приобретениями, сколько ее тратами, считая, что с того момента, как она решила платить за квартиру на правах рядового квартиросъемщика, меблировка на его совести…
Продолжая заниматься редактированием рукописей Гварнерри — этот неожиданный род занятий превратился для Мари в источник хотя и небольших, но регулярных доходов, о которых еще вчера она не могла бы и помыслить, — Мари справлялась с заданиями бельгийца со всё большей легкостью, однако больше не испытывала первоначального увлечения.
Гварнерри назначал ей встречу в кафе возле Люксембургского сада или в самом парке, рядом с беседкой возле центрального входа. Там он вручал ей очередной «черновик» — надиктованную на магнитофон кассету. На предварительной стадии сочинительства бумагой Гварнерри не пользовался вообще. В обязанности Мари входило набрать текст с фонограммы. По ходу набора она же должна была сделать первоначальное редактирование. Связность и последовательность изложения, с которой текст был надиктован на пленку, несмотря на обилие сложных сюжетных ответвлений, Мари подчас поражали. В сочинительстве под диктофон Гварнерри достиг настоящих высот. Но в то же время в этой виртуозности проглядывало что-то противоестественное и ущербное. Вряд ли метод позволял развивать в себе другие, какие-то другие, изначальные писательские способности, необходимые в работе с бумагой, а ее не могло заменить ничто — ни магнитофон, ни секретари-редакторы, ни портативный «макинтош», хотя он и стал отменным помощником при редактировании.
По окончании работы Мари возвращала Гварнерри исправленный текст. Несколько дней у Гварнерри уходило на ознакомление с распечаткой. Он проходился по страницам карандашом. После чего она еще раз вычитывала текст, внося его новые исправления. Но иногда ей приходилось самой перерабатывать целые страницы. С предлагаемыми версиями Гварнерри обычно соглашался, но в завершение оттенял текст некоторой «контрастностью», как он объяснял, которая граничила скорее с вычурностью, впрочем вполне характерной для его письма в целом, и он упрямо не хотел с этим расставаться, — особенно сильно это качество или недостаток бросались в глаза в диалогах.
Что же касалось литературных достоинств рукописей, проходивших через ее руки, Мари уже не строила себе больших иллюзий. Детективная продукция Гварнерри отталкивала ее не только откровенным подражанием Сименону и не только сюжетным однообразием, характерным для всех его опусов, поскольку действие разыгрывалось всегда в одном и том же ключе: моросящий дождик, туман, куда-то мчащийся автомобиль, в свете фар вырастающий силуэт незнакомца или незнакомки… Гораздо больше Мари отталкивали авторские интонации, вполне типичная для мужского письма манера, коробившая ее когда-то еще в Шарли, скрывать свое истинное «я», прятать свое лицо под маской того или иного героя, отвлекая внимание читателя и, по сути, околпачивая его ложной наготой героев, многоликостью участников, мнимостью и в некотором роде непроглядностью всего маскарада. Весь это сумбур, какая-то внешняя показуха мало имели общего с настоящей литературой. Трюк изобличал свою ущербность на каждом шагу. Персонажи всех книг Гварнерри при сопоставлении оказывались сиамскими близнецами.
Проблески личного, сокровенного бельгиец позволял себе разве что в поверхностном слое текста. В манере того или иного героя поддерживать деловой разговор Мари всегда улавливала беспардонный тон самого бельгийца. Личное проглядывало и в особой, подаваемой как нечто закулисное, изнанке повествования, в специфическом сплине, на фоне которого фабула разыгрывалась, во второстепенных деталях вроде указаний при описаниях на фасон туфель, на покрой пиджаков, свитеров, на расцветку галстуков — всего того, во что бельгиец рядил своих героев. Но точно такими же аксессуарами мог похвастаться и он сам, из них состоял его личный гардероб. Мари приходилось лишь удивляться, как бывает бедна и истощена авторская фантазия.
Не меньше отталкивала и убежденность бельгийца в том, что истинное душевное состояние — будь то его собственное, будь то его героя — можно передать при помощи описаний пасмурной погоды, взывая к кичливой, рвущейся в доверие «объективности», которая никогда, на взгляд Мари, не оправдывала возлагаемых на нее надежд. Ни в жизни, ни в книгах. И сколько бы от литературы ни требовали душераздирающего служения правде и только правде. На основе немногих, но прочно сложившихся представлений об искусстве сочинительства Мари уже сегодня казалось очевидным, что пространство художественного текста, а тем более задуманное с размахом, в большом формате, должно представлять собой скрещивание различных измерений, вертикального и горизонтального, объективного и субъективного. Оно не могло сводиться к простому наложению одного на другое, как получалось у ее друга. «Объективность» не может произрастать на пустом месте. Сама по себе, в голом виде, она — как душа без тела. Секрет был вроде бы прост. Он заключался в умении смотреть на себя и на написанное глазами других людей. Беда лишь в том, что это требует почти шизофренической отстраненности, и от себя, и от своей жизни. В силу чего пишущий лишен возможности жить как все нормальные люди. Он живет ради чего-то другого. Впрочем, Гварнерри и сам отстаивал иногда нечто похожее.
Мари питала к бельгийцу двойственное чувство. Объяснялось ли это двоедушие действительным раздвоением его личности, тем, что, будучи автором популярных детективных романов, налево и направо афиширующим свою приверженность классическим вкусам, в реальности он вел совершенно противоположный образ жизни — образ жизни человека падшего, далекого от всего традиционного? Или в этом двоении воплощалось то самое alter ego, второе «я», в котором автор-сочинитель вольно или невольно сливается с живым человеком, которым он тоже не может не быть?
Чуткий, одаренный тонким умом, отдающий себя повседневной борьбе со сложными душевными переживаниями и искушениями, как человек бельгиец перевешивал, на взгляд Мари, автора посредственных книг. И от этого двоился, опять же, не он, не образ Гварнерри, а ее представление о нем… Разобраться в лабиринте своих умозрений Мари бывала не в состоянии. Но это не мешало ей делать простые и трезвые выводы: вся эта зыбкая аура, окутывающая личность Гварнерри, служила ему оправданием в его слабостях. Своим двойным дном, умением заигрывать с пороками он, безусловно, и брал за живое определенную категорию читателей. Что правда: читатель обычно ищет в книгах не разницы с собой, а сходства…
Когда в «заказах» бельгийца наступали перебои, вызванные очередным творческим застоем, когда Мари опять оказывалась не у дел, бездеятельная жизнь угнетала ее как никогда. Не зная, на что потратить свободные вечера, она наведывалась к дочери на Нотр-Дам-де-Шам, садилась за письма, пыталась читать.
Прочитав дневники Флобера, затем его переписку с Жорж Санд, а после этого несколько дней проведя за чтением Г. Джеймса — «Смысл прошлого», — Мари попробовала поддаться примеру великих, попыталась вести дневниковые записи. Но трезвое чувство, что рассказать о себе ей ровным счетом нечего, оказалось непреодолимым. Сосредоточенность на себе, необходимая для ведения дневниковых записей, требовала непомерного эгоцентризма, и это было не в ее натуре. Кроме того, это требовало и веры в необходимость выжимания из себя правды жизни, тогда как эта правда была, как Мари казалось, повсюду. Правда, но только никому не нужная, валялась буквально под ногами.
Мало-помалу всё же именно записи стали для Мари одним из обязательных каждодневных занятий, в зависимости от которого она строила свои планы на день. Мари начинала испытывать в записях потребность. На них уходило около часа-двух ежедневно. По истечении какого-то времени — Мари завела уже второй толстый блокнот, — если ей по какой-либо причине не удавалось уделить записям часть вечера, она испытывала душевную тяжесть, в нее врывался прежний внутренний беспорядок, и она старалась избегать многодневных перерывов.
С приобретением навыка — навыка общения с собой, который заключался в том, чтобы не лениться облекать в слова мимолетные мысли и ощущения, и как раз именно те, которым несвойственно задерживаться в голове дольше доли секунды, но особенно после того, как однажды, просмотрев свои ранние, первые страницы из всей кипы написанного, она обнаружила, что строки, казавшиеся ей в момент написания банальными и неинтересными, отлежавшись, обрели нечто совсем другое и теперь виделись ей не просто чего-то стоящими, но и захватывающими… — с приобретением навыка содержание записей перестало сводиться к сиюминутному, к событиям или переживаниям минувшего дня, как это происходило поначалу. Спектр их стал расширяться. И мир вдруг опять начал выстраиваться у нее прямо на глазах. Буквально из ничего. Новым смыслом наполнялись даже давние события прошлого, которые Мари не переставала ворошить в себе. Облаченное в слова и приобретшее благодаря им резкость, собственное прошлое больше не казалось ей ни жалким, ни заурядным, как еще недавно, когда всё ее восприятие выстраивалось только на чувственных эмоциях и приводило к тому, что всё казалось, в конце концов, беспрестанно размытым, ускользающим от понимания.
И уже вскоре Мари обнаружила в себе такие залежи, о которых даже не подозревала. Давние картины детства и юности всплывали со дна сознания, словно затонувший райский остров, поражая воображение неповторимыми по своей сочности и многообразию красками, поражая тем, что в них были заложены ответы на многие вопросы, мучившие ее сегодня, причем не в буквальном смысле, а в виде каких-то шутливых ребусов, сродни настоящим притчам.
Мари вдруг по-новому смотрела на свои первые юношеские увлечения, выпавшие на тот период ее жизни, когда родители отправили ее в католический пансион к «сестрам». Новый, конкретный смысл приобретали в ее глазах самые первые самостоятельные шаги в жизни, первые всерьез прочитанные книги и многое другое. Но и всё остальное, то, что пришло позднее, являлось неотрывной частью той же жизни. Глядя на всё новыми глазами, Мари замечала, что не менее яркими и насыщенными ей стали казаться давние отношения с Петром, ее многолетние сложности с мужем, и даже образ Шарли, тренера с тулонских кортов, который продолжал писать ей в Тулон открытки, оброс какими-то новыми контурами и оттенками, стал как бы рельефнее выделяться на фоне общей серости, поглощавшей ее в то время.
Бывали минуты, когда, глядя на минувшее с еще большим отстранением — благодаря словесному воплощению зримого в образ оно, прошлое, как бы обрастало материей, и взгляд уже реально возносился над зримым, как бы на высоту парения… — Мари проникалась пронзительным чувством, что спуститься со своей башни из слоновой кости она уже не сможет. И ей казалось до боли ясным, что там, внизу, осталось всё лучшее. Но больше всего Мари поражалась тому, что ей удавалось пользоваться словом как инструментом, острым и точным, как резец. И это оказывалось не сложнее, чем, например, управлять «фольксвагеном», когда она садилась за руль машины. Ее поражало то, что через слова смысл обретали даже такие понятия и события, которые вчера казались ей бессмысленными, чужими, вредными.
Мир слов был лишен сомнительных, двусмысленных категорий реальной действительности, всего того, что неизбежно оказывается замешенным на противоречиях, условностях, на поджимающей с боков морали, без которой вообще немыслима реальная жизнь среди людей. В мире слов не было ни правых, ни виноватых. В словах всё казалось допустимым. Они всему придавали одинаково насыщенное звучание и не требовали грубой категоричности в оценках. Всё, что требовалось, — это быть точным в подборе слов. И они тут же восполняли пробелы чем-то побочным, возвышающимся над голым содержанием того или иного описываемого факта или события, они подводили к истине с какой-то другой стороны. Казалось, что логика слова (от кого она уже слышала это выражение?..), благодаря которой зарождается и возникает текст, правит не только абстрактными образами, но и реальным миром.
Из нескольких блокнотов, которые Мари исписала от руки, один вышел более-менее законченным. Текст включал в себя три самостоятельных эпизода — все три из ее прошлого. В первом речь шла о пансионе, о жизни у сестер-монахинь, в двух других — о ее давних девичьих каникулах. Прекрасно понимая, что, не обладая строгой формой, чувственные описания явились бы галиматьей в чистом виде, и совершенно ясно чувствуя присутствие в себе этой формы, которая, словно что-то живое, выношенное в сроки, искала себе выхода наружу, Мари переработала все три куска в отдельные тексты, написанные от первого лица. По размеру и по композиции они были близки к новеллам.
На первый рассказ ушло три дня, на второй — неделя, на третий — две недели. Работа над текстом не преставала усложняться по мере возрастания требований к себе и опыта, накапливаемого с каждой страницей, но, несмотря ни на что, давалась всё же с необычайной легкостью. Вдохновение дилетанта несло ее будто на крыльях. Редактируя свои тексты прямо по экрану «макинтоша», аналогично тому, как она это делала с черновиками Гварнерри, Мари делала из полученной версии распечатку, еще раз проходилась по страницам карандашом и продолжала выбеливать написанное до тех пор, пока у нее не появлялось ощущение, что дальше стараться бессмысленно, что достигнут какой-то личный предел и что последующие исправления лишь навредят тексту или заставят переписывать его попросту начисто…
Двенадцатого декабря, в свой день рождения, Гварнерри пригласил Мари на ужин в загородный ресторан, куда имел обыкновение зазывать ее время от времени, приурочивая «выезды на природу» к поискам очередной «натуры», на фоне которой должны разыгрываться действия очередного криминального эпизода.
Гварнерри выглядел уставшим. Он почти не обратил внимания на ее подарок — дорогую перьевую ручку, в позолоте и с золотым пером. Весь вечер он говорил о том, что чувствует себя так, как будто приехал ночью в далекую незнакомую глушь, высадился на перрон со всеми чемоданами, но вокруг — ни такси, ни живой души и хоть глаз выколи…
В конце ужина, заказав себе вторую рюмку арманьяка, он уставил на Мари ироничный взгляд и спросил:
— Ну и как ваши пробы?.. Пера, я имею в виду… Только не делайте такие глаза! Этот литературный душок я за километр чую, меня на мякине не проведешь!
— В чем же он, по-вашему, заключается… этот душок?
— Когда вы едите, вы постоянно о чем-то думаете. Когда режете мясо, не видите, что у вас в тарелке. На вино в стакане смотрите не так, как все люди. Когда к столу подходит этот тип… метрдотель, вы завороженно вслушиваетесь в каждое его слово. Он говорит одни банальности, Мари, а для вас это как музыка. А когда он оставляет нас в покое, вы смотрите ему вслед: что за брюки, что за ботинки… Ах, Мари! — Уныло смерив взглядом принесенный ему десерт, Гварнерри с каким-то подвохом уточнил: — Вы ведь заметили, что он носит нейлоновые носки… прозрачные, как женские чулки?
Мари рассмеялась.
— Ах, Мари… Ах, эта музыка! Этот сладкий яд чужой речи! Как я вас понимаю… Или я не прав?
— Правы… На свой манер.
— Тогда дайте почитать. От меня-то почему прячете?
Не реагируя на вызов, Мари продолжала дымить сигаретой.
— Лучшего читателя, чем я, всё равно не найдете. Ну, между нами говоря?.. И даже если вам опостылели мои книжки. Что у меня есть, так это взгляд. Я всё вижу. Там, где запятая, — удар сердца. Там, где многоточие, — сердце в пятки уходит, мир рушится, канонада! Соглашайтесь, пока не передумал…
День спустя Мари принесла Гварнерри рукопись — все три новеллки, доведенные до завершения и переплетенные в красивую тетрадь с твердой обложкой. Четвертую — как ей казалось, наилучшую из всего написанного — она показывать побоялась.
На следующее утро бельгиец разбудил ее ранним звонком и потребовал немедленной встречи. Она понимала, что это связано с ее рукописью, и покорно приняла требование. Они встретились в обычном месте, в кафе возле Люксембургского сада. Непроспавшийся, с воспаленными глазами, опять чем-то недовольный, Гварнерри заказал себе двойной кофе с молоком, для Мари чай и долго изучал ее надменным взглядом, прежде чем объявить ей, что минувшей ночью он прочитал всю ее подшивку, от корки до корки. Ничего подобного он от нее не ожидал.
— Это отменная, стопроцентная литература… — добавил Гварнерри таким тоном, словно произносил что-то обидное. — Это выше всяких похвал… не считая кое-каких мелочей, которые вам придется, дорогая Мари, подправить. Особенно это касается последовательности изложения. А то ведь у вас текст — как бусы. Жемчуг вроде настоящий, а насажен… Я бы руки оторвал за такую работу. На Мартинике на базарах такие ожерелья гроша ломаного не стоят… Вы заметили, надеюсь, что в ваших рассказиках есть странное триединство? Небольшой монтаж — и получится что нужно. Ожерелье из бриллиантов, а не какие-то там рассказики…
Как всегда в момент удивления розовея, Мари комкала в руках пакетик от сахара и не смела произнести ни слова. Но ей вдруг показалось, что она научилась фальшивить, научилась с Гварнерри лицемерить.
— Только не нужно на меня смотреть таким взглядом. Ведь это только начало. Радоваться надо! — подбодрил Гварнерри. — Такую вещь можно предлагать, уверяю вас! Такого никто сегодня не пишет… Вы современную женскую прозу хоть иногда читаете? У всех одно на уме. Что не откроешь, всегда одно начало: «Вчера я затащила в постель свою лучшую подругу…»
— Какой же вы болтун, Альфред, — вздохнула Мари. — Я ведь не для этого вам дала почитать…
— А для чего?
Мари молчала.
— Одно могу сказать: мы должны это показать… — продолжал Гварнерри. — Как хорошо вы описываете стирку мужских трусов… Ну, когда она, ваша героиня, видит эти пятна и ее тошнит… А сцена на озере! Эти синяки на коленках у молоденькой «сестренки» из монастыря… которые наводили на вас такой ужас. Все эти охи, ахи…
Мари опять едва заметно покраснела.
— Да нет же! Нет! — едва не вскричал бельгиец. — Опять вы то бледнеете, то краснеете! Вам не за что краснеть. Это же замечательно! — Гварнерри произнес то самое слово, за которое столько раз упрекал ее. — Какой такт… Какая сдержанная, чуткая эротика… Вы там такого намешали — аж задыхаешься! Как же нас всех потом переламывает — господи, подумать страшно! Сидим потом, вот как мы сейчас, понимаем друг друга, но краснеем на каждом слове… Я могу это показать. Вы согласны?
— Нет-нет, вот этого не нужно… пока, — умоляюще остановила Мари. — Я думаю, что писать — это значит думать. Это, прежде всего, результат мысли. Это не картинки из прошлого. Ведь их-то в жизни любого человека — пруд пруди.
— Вы хотите сказать, что вы мало думаете?
— Нет… Я хочу сказать… то, что вы читали, написано под настроенье, вот и всё… И это совсем разные вещи.
— По-моему, вы всё еще идеализируете… Вот как меня поначалу. Писать проще, чем вы думаете. Когда вы дышите — это результат чего? Это как вкусная еда. Если ты голоден и тебе дают поесть — бери и ешь большой ложкой. Потом будет видно, что и зачем. Но вы правы, — поспешил оговориться Гварнерри. — Только думать можно и через образы, по ходу развития образа, через увиденное и пережитое. По-настоящему пишет не тот, кто выдумывает… как я, например… а тот, кому нечего выдумывать, за которого жизнь всё давно выдумала и решила… — Гварнерри наградил ее горьковатой улыбкой. — Это судьба. А судьбу не выбирают.
— Всем есть что рассказать, но это еще не значит, что любой человек способен писать книги, — неуверенно вставила Мари.
— Да, вы уже сказали… И это действительно так, — признал бельгиец. — Но дело не в голом перечне фактов. Такое письмо всегда выглядит… ну, пошловато, что ли. А в тоне, которым эти факты преподносятся, в особом освещении пережитого, в каком-то, если хотите, особом освещении всего вашего жизненного дворика, который неповторим, как неповторимо его освещение, да и не на каждом дворе оно бывает… Так бы все и ждали, пока их осенит свыше… Ну что я вам разжевываю? Вы же всё поняли… Знаете что, давайте сейчас распрощаемся. Хочу зайти к одной знакомой с вашей рукописью. Ей можно и так показать, без исправлений… А то ведь завтра мне в Брюссель. Позвоню вам.
Не успела Мари опомниться, как Гварнерри вскочил из-за стола и полетел к выходу, забыв, как всегда, рассчитаться за заказ…
Не прошло и недели, — Гварнерри еще не вернулся из Бельгии, — как Мари получила новости из Брюсселя. Сославшись на «Альфреда», звонивший представился Яном Мейером, издателем. Просмотрев ее рукопись и заручившись мнением еще трех рецензентов, он был согласен взяться за издание новелл, но одной книгой и при условии, что она не откажется от некоторых доработок. Он предлагал встретиться через несколько дней в Париже, куда он собирался приехать по делам, и обсудить всё «с глазу на глаз»…
Уже по возвращении Гварнерри аналогичное предложение Мари получила от одного из парижских издательств, настолько известного, что она побаивалась поделиться новостью с самим Гварнерри, который наконец признался ей, что перед отъездом в Бельгию разослал несколько копий ее рукописи «кое-каким знакомым», по разным издательствам, — впрочем, решил не уточнять, по каким именно.
Сотрудник парижского издательства считал рассказы неплохими, но просил что-нибудь пообъемнее. Мари была в растерянности. После встречи с ней в своем офисе неподалеку от Монпарнаса тот же издатель соглашался печатать и рассказы, и даже предлагал выпустить книгу уже к будущей осени.
Оба издателя настаивали на подписании эксклюзивных прав. Мари не знала, на что решиться. Гварнерри относился к новостям с каким-то бытовым безразличием, советовал принять предложение попроще, то есть издаваться поближе к дому, в Париже. Крохотное бельгийское издательство не шло с парижским ни в какое сравнение. Но Мари чувствовала, что Гварнерри чего-то недоговаривает. В правильности своего выбора Мари удостоверилась лишь позднее, когда сообщила Гварнерри о своем решении заключить договор в Бельгии, и заметила в его лице беспомощное усилие скрыть свое удовлетворение.
Когда однажды после обеда с улицы раздался звонок — с утра было пасмурно, и Петр взялся наколоть на террасе мелких дров для камина, — он меньше всего ожидал увидеть за воротами Луизу.
— Это я, Пэ! Не ждал?
В светлых джинсах, в голубой поплиновой куртке с подмокшим капюшоном, с коричневым беретом на голове, Луиза держалась руками за калитку, с утра незапертую, и не решалась открыть ее и войти во двор.
— По правде говоря… Что ты здесь делаешь?! — проговорил Петр, быстро подойдя к ограде и не чувствуя под собой ног.
— Можно к тебе?
Петр распахнул калитку. Она молча вошла во двор. Он же посторонился, жестом показал на дом.
Луиза вошла в прихожую и, развернувшись к нему, ждала, чтобы он закрыл дверь.
— Зачем ты приехала?
— Так и будем топтаться на пороге?
Петр закрыл входную дверь и прошел по коридору в гостиную. Войдя в ее полумрак, оба на миг застыли посреди комнаты. Здесь царил необычный беспорядок. Мебель была сдвинута с обычных мест. По центру гостиной на полу валялись газеты. На них стояли банки с красками и растворителями. Здесь же лежали кисти и испачканное в краске тряпье.
Луиза с изумлением обводила взглядом высокие, во всю стену холсты. Она стояли повсюду. Садовый столик, который был перенесен с улицы сюда же в гостиную, тоже оказался завален тюбиками с краской. Со стульев свисала разбросанная одежда.
— Твои? — Луиза показала на холсты.
Петр качнул головой, ни да ни нет, и не ответил.
— Пэ, ты что, совсем рехнулся?
— Зачем ты приехала? — повторил он свой вопрос.
Она сделала нетерпеливую гримасу, смахнула с головы берет, резко покрутила головой, чтобы растряхнуть волосы, и не знала, куда положить свой кожаный рюкзак.
Петр придвинул к ней мягкий стул.
Бросив рюкзак прямо на пол, Луиза опустилась на стул и продолжала с изумлением изучать обстановку.
— Всё так изменилось… — Она судорожно перевела дух. — Ну вот… Почему-то самое трудное — это тащиться пешком мимо этих заборов.
— Твоя мама знает, что ты здесь?
— Да пошли они все! Я приехала, потому что… — Луиза скомкала берет, помолчала и с твердостью добавила: — Забудем о них. Ну, пожалуйста… Я хотела поехать к Леону, в эту каталажку, и не могу.
Петр не сводил с нее глаз.
— Страшно туда ехать… Ты там уже был? Как там? На что это похоже?
— Тебя всё равно не пустят. Нужно разрешение… Зачем тебе это нужно?
— Мне так страшно, Пэ… Это как какой-то жуткий сон!
Петр опустился в садовое кресло, стоявшее у стены, и с ошеломленным видом молчал.
— Как он там? Ты был у него? — спросила Луиза.
— Всё нормально у него. Тебе действительно нечего там делать.
— Вообще я хотела тебе сказать, Пэ… Всё это получилось… Это было мерзко. Может, я была не в своем уме?
Петр развел руками.
— Тогда ты прав… Что теперь делать?
— Что было, то было. Если ты заберешь заявление, от этого вряд ли что-то изменится, — сказал он, помолчав.
— Во всём виновата я.
— Это не так. Ты ни в чем не виновата. Выбрось это из головы.
— Я приехала, потому что… Я не могу так жить. Я думала, что ты меня… ненавидеть стал. А когда узнала, что ты меня не ненавидишь, я всё поняла… — заговорила Луиза тихим, каким-то обнаженным голосом, не сводя с него вопросительного взгляда. — Вернее, наоборот… Еще больше запуталась.
Петр покачнулся, но по-прежнему молчал.
— Что с нами произошло, Пэ? Или всё обман? Или, может, всё дело в родителях?.. Ты думаешь, что это из-за них?.. Тогда я тебя прекрасно понимаю. Ты так не мог. А хочешь, поженимся? Мне всё равно. Если ты хочешь, я согласна.
Уронив глаза в пол, Петр неопределенно покачал головой.
— Не молчи… Подло так молчать, Пэ!
— Это невозможно… Совсем невозможно, Луизенок.
— Почему?
— Невозможно.
— Да почему?! — Луиза вскочила со стула. — Почему вы все такие сволочи?! С вашими «хорошо» да «плохо»! Как можно быть такими лицемерами?! Вот даже сейчас… Я пришла, я же понимаю, что тебе не хочется, чтобы я ушла, у тебя всё на лбу написано! А ты несешь какую-то чушь!
— Пожалуйста, успокойся. — Петр взял ее за руку и усадил на прежнее место перед собой.
Луиза уставила в него презрительный взгляд.
— Вы что же, с матерью не говорили обо мне? — спросил он.
— Да только о тебе все разговоры!
— Она тебе не говорила чего-то особенного? Что я… Дело в том, Луиза, что вышло недоразумение. У меня с твоей мамой когда-то были такие же отношения, как с тобой.
— С мамой?.. Ну вот, приехали. У тебя?
— Да, это так.
— Час от часу не легче.
— Да, Луиза, когда-то в молодости мы дружили с твоей мамой. И в то время…
— Только, пожалуйста, не надо мне ничего рассказывать! Что к чему, я и так понимаю — не дура. Только, Пэ… С мамой кто только не дружил! Она и сейчас не дает себя в обиду!
Подавшись вперед, Петр вновь взял ее за руки и, сжимая их, словно стараясь таким образом привести ее в чувство, странным голосом заговорил:
— Сама видишь, что получается… В какой я оказываюсь роли? Я подлец. Или сумасшедший, как ты говоришь? Твоя мама… Она была замужем, и я был к ней очень привязан. Больше чем привязан. Поэтому нет ничего удивительного, что когда мы с тобой встретились…
Вырвав руки, Луиза поднесла ладонь ко рту и стала звонко хохотать:
— По-моему… по-моему, вы все тронутые! — выдавила она из себя. — Начиная с мамы…
Тут она вдруг умолкла и уставила на Петра спокойный, ничего не выражающий взгляд. А затем по лицу ее покатились слезы. Давая им стечь к подбородку, Луиза шевелила губами, дрожала всем телом и, не издавая ни звука, продолжала сидеть в деревянной позе с мертво обвисшими по бокам руками и смотреть прямо перед собой.
— Прости меня! Я не хотел всего этого, — бормотал Петр. — Это ужасно… Ужасно.
— Какие же вы сволочи! Нет другого слова…
— Конечно… Но теперь нужно исправлять. Если всё это можно исправить. — Петр тряс побледневшим лицом и продолжал в чем-то клясться: — Я всё сделаю, что в моих силах. Обещаю тебе… Главное — не драматизировать.
Луиза немного успокоилась и теперь всматривалась в него новым, задумчивым взглядом.
— Какая теперь разница, что у тебя было с мамой? Что мне с этого? — отрешенно произнесла она. — Я не хочу ничего исправлять. Я же ни в чем не виновата.
— Но ты должна понять, что я не могу… что так не может продолжаться… У тебя всё еще впереди. У тебя есть будущее. А я… сама видишь.
— Какое еще будущее?! Наплевать мне на будущее! Что я с ним буду делать, с этим будущим? Выход есть!
— Какой?
— Очень простой… Ну разве ты не понимаешь? — Разглядывая его в упор, Луиза что-то поспешно обдумывала. — Мама заткнется. Папа даже не узнает. Все заткнутся как миленькие. И вообще, это не их ума дело… Всё так просто, Пэ!.. Или ты стал ко мне равнодушен? Мы можем спать вместе… Мы можем жить, как раньше… Это — главное! Всё остальное…
Откинувшись на спинку кресла, Петр уставил перед собой непонимающий взгляд. Затем он встал, потоптался на одном месте и вышел в свой кабинет. Тут же вернувшись с бутылкой коньяку и с рюмкой, он наполнил рюмку наполовину, заставил племянницу отпить глоток, и в тот миг, когда она, пригубив коньяк, закашлялась, он вдруг вспомнил, что всё это уже однажды с ними было.
— Всё просто, — повторила она. — Я тебе докажу…
Отбросив за плечи подросшие локоны, она вытянула ноги вперед, расстегнула на джинсах молнию и, подскочив на стуле, сорвала их с себя до колен.
— Луиза, прошу тебя…
Не договорив, Петр с выражением какой-то настоящей муки на лице прошел в ванную. Оттуда донесся звук чего-то упавшего и разбившегося. Вернувшись в комнату, он взял телефонный аппарат и стал вызывать такси. Машину пообещали прислать уже через десять минут.
Луиза не трогалась с места. Положив руки на голые бедра, она продолжала сидеть в прострации.
Петр собрал с пола ее вещи, помог ей надеть джинсы, сам застегнул на них молнию.
Луиза повиновалась, казалась вдруг успокоившейся или просто невменяемой. Он заставил ее встать и, придерживая под руки, глотая ртом знакомый запах духов, повел ее к выходу.
— Сейчас ты уедешь домой, Луизенок… Я к тебе скоро приеду… Я позвоню тебе, — объяснял он на ходу не своим голосом. — Главное — не усложнять ничего. Ты слышишь меня?..
Уже за воротами, стоя перед распахнутой дверцей такси, Луиза высвободилась из его рук и с твердостью произнесла:
— Нет, Пэ, так не пойдет… Я не уеду!
Он взял ее за плечи, мягко втолкнул на заднее сиденье и протянул таксисту купюру.
Луиза приказала таксисту стоять на месте, ждать, сделала попытку вырваться наружу, но Петр преградил ей дорогу.
Не зная, как реагировать — встать на защиту клиентки или сделать вид, что не происходит ничего необычного, таксист глухим басом пробормотал, что готов ждать столько времени, сколько понадобится.
Петр захлопнул дверцу и придерживал ее снаружи до тех пор, пока машина не тронулась.
Работа над делом Мольтаверна, которое Петр начал готовить к слушаниям сразу же по возвращении из Альп, в общих чертах была завершена довольно скоро. Однако даты судебного заседания по-прежнему оставались неназначенными. Судья Лоччи уверяла, что слушания могут состояться уже весной, поскольку особой загруженности в работе суда на период весенней сессии, по ее сведениям, не предвиделось.
Сам факт, что ждать суда долго не придется, Петр считал первым позитивным знаком. В ближайшее время он собирался съездить за показаниями к бывшему сослуживцу Мольтаверна, некому Дюмону, жившему под Лиллем. Больших надежд на эту поездку он не возлагал, но считал необходимым использовать все возможности и предвидеть все возможные ходы для отступления, поскольку казалось очевидным, что упор в таком деле не может делаться только на голые факты. Не менее важным было то, в какой форме они будут преподнесены.
С октября Петр ездил к Мольтаверну каждую неделю. Ему по-прежнему с трудом удавалось пересиливать в себе вспышки внезапной неприязни, которая охватывала его ни с того ни с сего каждый раз, как только они оказывались с Мольтаверном с глазу на глаз. Иногда Петру казалось, что это чувство, очень противоречивое, вызвано чем-то физическим. Но тем труднее было владеть собою. И тем сильнее его одолевали в такие минуты новые сомнения.
Когда после очередной встречи с Мольтаверном он выходил из бокса, его опять и опять сжигал непонятный стыд — за только что испытанную неприязнь, за то, что даже в такие минуты, когда соображения личного порядка должны, казалось бы, отступить на задний план, он не может преодолеть в себе какой-то внутренней шаткости. Она казалась ему въевшейся в самое нутро, неискоренимой.
Невольно прокручивая в голове подробности встречи, стараясь припомнить жесты легионера, его мимику и бросавшиеся в глаза, уже в заключении приобретенные новые повадки, Петр замечал, что наиболее отталкивающее впечатление на него производит именно уничижительный тон Мольтаверна, его приниженные, затравленные кивки. Впервые он заметил нечто подобное в день его увольнения из лесопарка, когда они с Луизой приехали в Гарн и застали его в верхней одежде на диване. Но тогда это вызывало просто жалость, а теперь — отвращение. Петр боролся с непонятными угрызениями совести. Они выворачивали ему душу наизнанку. Некоторые прозрения на свой счет, которые осеняли его минутами, казались тупиковыми. Честен ли с собой? Если нет или не до конца, то это значит, что он нечестен и с Мольтаверном?
В который раз задавая себе вопрос, в чем именно заключается эта нечестность или, возможно, просто двусмысленность, Петр не мог ясно сформулировать своих ощущений. Очевидно было лишь то, что ответ нужно искать в самом себе, что он кроется в самом внутреннем противоречии, которое не давало ему покоя. Когда он пытался уяснить себе с максимальной ясностью, какой тип человека ему ближе по духу — человек с однозначно положительным нутром, добрый, но ограниченный, чуждый по воспитанию и неумный, или человек, лишенный каких-то очевидных добродетелей, но одаренный умом, интеллектуальными способностями, воспитанный… — когда он заставлял себя сделать выбор между двумя этими типами, он не раздумывая выбирал первый тип — человека неумного, но доброго. Однако в реальной жизни всё происходило куда сложнее. Гораздо чаще получалось обратное: такого человека он не мог выносить долго, рано или поздно отгораживался от него, предпочитал, в конце концов, людей не идеальных, но более, что ли, похожих на него самого, да и просто более равных себе по социальному положению.
В таком случае не кривил ли он душой? Не принимал ли желаемое за действительное? Ведь получалось, что главная оценочная категория, которой он руководствовался, оставалась надуманной, условной. Кем в таком случае был он сам? К какому из двух типов он должен был относить самого себя?
Мольтаверн располнел, выглядел мешковатым, неопрятным и даже держаться стал неуверенно, неуклюже. Как только его вводили в бокс, в помещении сразу появлялся резкий запах пота и дешевого одеколона. И именно запах был почему-то особенно невыносим. Небольшая сумма, которую Петр вручил ему на приобретение в тюремном киоске туалетных принадлежностей, оказалась потраченной на что-то другое. Но не выговаривать же ему за это. Мольтаверн заверял его, что без физической нагрузки, к которой он привык вне стен тюрьмы, избавиться от потливости невозможно, однако на упреки особенно не обижался.
Его нагловатые ухмылки, вычурная манера беспрекословно со всем соглашаться и через пять минут делать всё по-своему — эта армейская привычка, водившаяся за Мольтаверном и прежде, в тюрьме превратилась в манию… — всё это приводило Петра в отчаяние. В таком виде Мольтаверн не мог предстать перед присяжными заседателями…
В пятницу двадцать седьмого ноября Петр приехал в следственный изолятор раньше обычного. Конвоиры запаздывали. Он молча расхаживал по крохотному боксу и ждал. К этой встрече он подготовил инсценировку опроса Мольтаверна, которого невозможно было избежать в суде, о его «истинных» отношениях с «потерпевшей». Петр собирался проверить его реакции, чтобы заранее выявить всё еще остающиеся слабые места в выбранной линии поведения.
Однако стоило ему увидеть Мольтаверна на пороге бокса, как он вновь почувствовал, что у него опускаются руки. Именно этот пункт в его защите был наиболее уязвимым. И к Мольтаверну он действительно испытывал мучительную жалость. Как избавиться от никчемных сантиментов? Как переломить в себе это ненужное, вредное противоречие?
— Ты опоздал? Или тебя привели поздно? — холодно спросил Петр.
— Нет, это они… Я ждал, давно был готов…
— Вот что, голубчик, так мы далеко не уедем. Всё это мне надоело до крайности… — Петр осекся, сел за стол и стал обхлопывать себя по карманам в поисках зажигалки, после чего, подвинув пачку сигарет Мольтаверну и глядя на него с холодным удивлением, добавил: — Я не могу таскаться к тебе каждые три дня как родственник с гостинцами. Мне нужен результат. Результат! Ты понимаешь меня? С сегодняшнего дня тебе придется взять себя в руки. Почему у тебя ногти черные? Ты что, не в состоянии отмыть свои лапы?
Мольтаверн безразлично осмотрел свои кулаки.
— Почему ты так распух? Ты посмотри на себя… Ты же на евнуха стал похож! Что ты сидишь, как воды в рот набрав?
— От еды… Так кормят… И двигаюсь мало, — ответил Мольтаверн.
— На работу попросись.
— В предварительном заключении это невозможно.
Петр опять замолчал. Он и сам это прекрасно знал, просто вдруг упустил из виду.
— Потом попрошусь… уже после… — добавил Мольтаверн.
— После чего?
— После суда.
— Если я тебя правильно понимаю, ты собрался сидеть за решеткой, так?.. Тогда позволь задать тебе другой вопрос: надолго ты планируешь загреметь?.. Я хоть буду знать, на что мне рассчитывать.
Мольтаверн не повел и глазом.
— Какого черта я тут нянчусь с тобой? Ты встань на мое место! — Поднявшись из-за стола, Петр вымеривал шагами бокс. — Леон, послушай меня… Мы должны с тобой договориться кое о чем… Мы должны хоть в одном до конца понимать друг друга… Нам нужно поставить перед собой одну общую цель и добиваться ее, верить, что она достижима… Ты понимаешь меня? Да или нет?
— Да, понимаю.
— Если понимаешь, то будь мужчиной, держи себя с достоинством! Я тебе говорил, что ничего не могу тебе обещать. Но у меня есть серьезные основания надеяться на то, что мы своего добьемся. Или ты меня за болтуна принимаешь?
— Да ладно вам…
— Что — ладно?
— Не надо меня успокаивать! Я ко всему готов…
— Вот эту готовность я прошу тебя вырвать из своих мозгов! С корнем! Посмотри на себя! На кого ты стал похож?! Ну на кого, по-твоему? На рецидивиста!.. Поверь мне, не ты первый, не ты последний. Присяжные, перед которыми тебе придется бледнеть и краснеть, не таких повидали на своем веку…
— Я и есть рецидивист, — заметил Мольтаверн, ухмыляясь.
— Ну вот что… Хамить ты — мастер, это я давно понял… — Петр что-то быстро про себя взвесил. — Но теперь ты должен быть готов выполнить то, о чем я тебя попрошу… Ты должен втемяшить себе, вбить себе в темя, что ты невиновен… Да! Невиновен! Даже если ты в этом сам сомневаешься. Без этого ничего не получится, ты понимаешь? У тебя на лбу должно быть написано: невиновен!
Стараясь перебороть наворачивающуюся на губах улыбку, Мольтаверн замер, не отрывал глаз от стола, понимая, по-видимому, что любой реакцией навлечет на себя новую бурю негодования.
— Я тебя попрошу сделать одну вещь. Когда будешь в камере, возьми фломастер и напиши на бумаге: «Я невиновен!» С восклицательным знаком! И повесь у себя над кроватью. У тебя есть фломастер?
— Скажете тоже… Подумают — крыша поехала… Я же не один в камере. Ведь не в гостинице живу…
— Хорошо, не обязательно вывешивать листочек на стену. Но ты можешь держать его где-нибудь под рукой, а перед сном смотреть на него и думать, почему ты невиновен. А еще лучше, напиши на бумаге то, о чем ты думаешь. Это тебе очень поможет. Да и мне заодно…
Подойдя к столу, Петр вынул из портфеля фломастер, бумагу, швырнул всё Мольтаверну в руки, спросил, сможет ли он пронести через контроль купюру в сто франков.
Заручившись положительным ответом, он всунул Мольтаверну деньги в кулак, пообещал приехать во вторник и вызвал конвоира…
В тот же день, около пяти часов, архитектор Форестье, находившийся на улице перед воротами своего дома, — он только что привез от брата дрова, уже успел перегрузить их к себе во двор и выметал оставшийся перед оградой мусор, — стал свидетелем озадачившего его происшествия.
Со стороны шоссе на аллею въехал грузовой фургон. Фургон остановился посреди дороги, и из кабины вылез молодой рослый негр.
— Я извиняюсь! Здесь где-то адвокат живет, вы не подскажете? — Разразившись внезапным хохотом, водитель пытался прочитать на клочке бумаги фамилию, но лишь коверкал ее до неузнаваемости.
Форестье указал на ограду за стоянкой для машин и поинтересовался:
— Зачем он вам нужен?
— Секрет фирмы! — гаркнул негр и, вновь разразившись хохотом, направился к кабине. — Спасибо большое!
Развернув фургон, весельчак негр подогнал его задним буфером к указанным воротам и позвонил в калитку.
Вертягин был дома. Выйдя к воротам, он принялся помогать что-то выгружать. Форестье наблюдал, как вдвоем с доставщиком они начали вносить в дом какие-то белые щиты и высокие деревянные каркасы, упакованные в пузырчатый целлофан.
Архитектор приблизился к фургону, намереваясь чем-нибудь помочь, но застал Вертягина уже в гостиной.
Комната была освобождена от мебели. У окон остался один диван. И окна, и дверь в сад — всё было распахнуто настежь. Пылающий ярким пламенем камин гудел из-за сильной тяги.
— Это что у вас тут за переворот? — спросил Форестье, глядя с удивлением на составленные вдоль стены панно, и вдруг понял, что перед ним обыкновенные холсты для живописи.
Петр ответил молчанием. Форестье, еще более озадаченный, подошел к холстам, с видом знатока провел рукой по ребру высокого подрамника, из которого выступали черные шляпки обивочных гвоздей, хлопнул по натянутой полости ладонью, на что холст ответил низким барабанным гулом.
— Вот это я называю качеством, ничего не скажешь. Это для кого?.. Пэ, ты никак картины писать собрался?! — вдруг догадался Форестье; пораженный собственным выводом, архитектор добавил: — А такие большие почему? Да-а, вот это новость… Поздравляю… Такое дело надо обмыть! Да, Пэ, удивишь так удивишь… Я у тебя газонокосилку вчера позаимствовал, ты видел?
Следом за негром-водителем, который вернулся в гостиную с двумя голыми подрамникам, на пороге появилась Элен Форестье. Обняв себя за локти, она неуверенно поздоровалась и вопросительно уставилась на мужа.
— Вот это сюда лучше поставить… — Петр показал доставщику на еще не занятое место у другой стены, ближе к камину. — А рулон можете оставить на входе. Я сам занесу.
— Пэ решил заняться живописью… — прокомментировал Форестье, как только доставщик удалился из комнаты. — Ну что я могу тебе сказать, Пэ… Ты прав! Я считаю, что если уж браться за такое дело… Или сегодня, или уж никогда. Десять лет назад я очень увлекался. Всё думал, найду время, займусь по-настоящему. Но радости семейной жизни поглотили с потрохами… А, Элен?.. Ты прав! — повторил Форестье и энергично кивнул головой.
— Ты, Жак, как пьяный, — сказал Петр. — Он не заболел, случайно?
— Опять с братом поругался, — вздохнула Элен Форестье.
Форестье сел на диван, свесил кисти рук между колен и, безвольно сутулясь, произнес:
— Дай-ка выпить чего-нибудь…
Петр постоял в раздумье посреди комнаты, прошел в свой кабинет и вернулся с бутылкой виски и стаканами, которые поставил перед Форестье на стул.
— А с кабинетом что, ты завязал? — спросил Форестье.
— С чего ты взял?
— Да как-то… — Стараясь не смотреть на жену, Форестье отмерил себе щедрую порцию виски, отхлебнул, поморщился и добавил: — Как-то всё же грустно… Как хорошо мы жили раньше, Пэ! Что с нами происходит?
В откровенный тон Форестье закралось что-то неискреннее или просто неуместное. Петр рассеянно молчал.
— Пэ, если хочешь, приходи к нам ужинать, — предложила Элен. — Сильвестры тоже обещали. Больше никого не будет… Я ростбиф поставила в духовку… Просто посидим, как раньше…
— Сегодня не смогу… Мне в город вечером, — сказал Петр. — Как они-то? Живы-здоровы?..
Из всего прочитанного за осень самое неизгладимое впечатление на Петра произвели два томика Николы Кузанского, или Николаса из Кузы[1], как значилось на титульной странице книги, немецкого теолога и мыслителя эпохи позднего Средневековья. Один из этих томиков попал ему в руки еще прошлым летом и поначалу увлек его, но книгу пришлось отложить. Без поясняющего контекста, без подготовки в содержание книги не удавалось вникнуть по-настоящему.
Петр вернулся к трактатам Кузанского после того, как пролистал однажды издание, посвященное современной астрофизике, а за ним еще одно, автором которого был немного забытый популяризатор философских и научных идей Александр Койрэ, — одна из глав книги Койрэ была посвящена именно Н. Кузанскому, — и уже после этих двух книг купил и в одном порыве осилил еще одну очень читаемую книгу, вышедшую из-под пера самого известного в мире инвалида, астрофизика Стефана Хокинга. Благодаря книге Хокинга всё как-то неожиданно для Петра подытожилось. Стало вдруг возможным вернуться к тому, с чего он начал.
Трактаты Кузанского теперь поглощали его с головой. Это происходило не только потому, что чтение, вскоре превратившееся в настоящее изучение, требовало сосредоточенности, да и попросту отдачи, усидчивости. Но это лишь частично объяснялось устарелостью перевода, вполне типичным недостатком стареющих книг, которые переводились слишком давно: лексика и особенно авторская терминология в таких книгах часто подкрашены непривычной семантикой, а это сильно мешает адекватному восприятию, пониманию изначальной мысли автора. Труднее всего давались, опять же, сами доводы, излагаемые на страницах опусов.
Вместе с тем это и захватывало. Приводил же автор свои доводы с целью какой-то неохватной и, по сути, немного абсурдной. Хотя бы потому, что подобными намерениями он противоречил сам себе, своей исходной задаче. Ведь автор видел эту задачу прежде всего в выявлении очевидных тупиков и парадоксов, всех этих неисчислимых изъянов в людском знании, в глобальном представлении людей о мире и о Боге. Гениальный теолог, похоже, полез в бутылку: Кузанский пытался доказать — ни много ни мало — существование Бога.
Многое из того, что открывалось Петру на этих страницах, шло по-настоящему вразрез с устоявшимися, общепринятыми понятиями и нормами. Но усилия, которые требовались для того, чтобы вникнуть в суть парадоксов и разобраться во всём самостоятельно, волей-неволей упорядочивали душевный хаос. Стройная мысль как бы намагничивала своим присутствием и тем самым упорядочивала всё то, что в душе оставалось несобранным и разрозненным…
Всё, что касалось пространства и в особенности космологии, больших и малых величин Кузанского, «максимума» и «минимума», а также метафизических превращений — «минимальной кривизны» в «максимальную прямизну», превращений бесконечной линии в треугольник, центра в окружность и т. д., — всё это вроде бы вписывалось в простые логические построения ума. Больших вопросов здесь не возникало. В мире конечных геометрических фигур, в котором круг, при увеличении его радиуса до бесконечности, становится бесконечной линией, — в такой системе, которую вполне можно было представить себе умозрительно, в голове, вещи подчиняются, в конце концов, обычной человеческой логике. И такой логикой можно оперировать.
Если бы мир имел «центр», то он обладал бы и «окружностью», он имел бы «начало» и «конец». И этот «конец» был бы чем-то конечным по отношению к чему-то внешнему, существующему вне, за его пределами. Поэтому мир неизбежно мог являться только сферой, центр которой находится повсюду и в то же время нигде, в которой нет ни низа, ни верха. В такой сфере всё однородно. Мир не может быть бесконечным. Но в то же время его нельзя рассматривать как конечный. Многих максимумов не может быть в одно и то же время, потому что в таком случае это уже не максимумы, а нечто другое. Существовать может лишь один единый максимум…
Вытекающий из этого вывод тоже выглядел донельзя просто, хотя и парадоксально: абсолютный минимум всегда совпадает с абсолютным максимумом. В абсолюте происходит полное отождествление противоположностей наибольшего и наименьшего, полное совпадение противоположностей. И такое совпадение понятий не может быть постигнуто при помощи понятий, относящихся к конечным объектам и величинам.
Идея релятивизма пространства и относительности понятия движения, которую Кузанский иллюстрировал на примере с кругом, — он изображал такой круг, в котором человек вращается как бы с распростертыми руками и ногами, в виде звезды, заключенной в обруч, в кольцо, — эта идея тоже вроде бы не содержала в себе ничего странного, невообразимого. Вполне очевидно, что при бесконечно высокой скорости вращения тело такого человека неизбежно оказывается в изначальном положении и одновременно во всех других положениях. Но как перейти от отождествления противоположностей в абсолюте к абсолютной необходимости существования Бога? А именно к этому и сводил свои доводы автор. Как перейти к совпадению всех противоположностей во вратах, ведущих к Нему, которые «охраняет ангел»? И вообще, являлся ли Бог, существование которого можно выявить с помощью доказательств, библейским, евангелическим Богом? Что это за «Сама Возможность»?.. Вот тут уже многое не укладывалось в голове.
Если не уяснить себе с полной ясностью всего того, что касается пространства, — но как бы внутри самого этого понятия, без костылей и без опор на внешнее, будь то Бог, к которому ведут «врата, охраняемые ангелом», будь то «Сама Возможность», будь то еще нечто надстоящее над всем, по отношению к чему пространство является конечным… — если не разобраться в этом до конца, то совершенно невозможно найти ответ на главный вопрос, это казалось очевидным. Однако, говоря о пространстве, Кузанский отказывался углубляться в суть самого этого понятия, не хотел разбирать его изнутри, продолжать свои построения. На этот раз сущность его интересовала лишь наружная, рассудочная. Автор книг довольствовался тем, что излагал доказательства, позволявшие утверждать, что существование пространства невозможно без совпадения всех его параметров в надстоящей над ним субстанции. Таким образом Кузанский пытался продемонстрировать «свертывание» мира в Боге…
Какая связь могла существовать между этой внутренней работой над собой, наверное не такой уж случайной, просто нахлынувшей как-то не вовремя, в которой любой нормальный человек мог бы увязнуть неожиданно для себя, и его новым внезапным увлечением настоящими красками, попытками написать настоящую картину при помощи красок на холсте, натянутым на подрамник, какими пользуются художники, вложив в этот процесс весь свой новый опыт, — а именно этому Петр и посвящал сегодня всё свободное время, — он и сам не смог бы всего объяснить.
Еще вчера всё это показалось бы праздной блажью. Но он чувствовал, что эта связь существует, прямая и неразрывная. Разве живопись, да и любой другой вид искусства, если речь идет конечно об искусстве, а не о жалких потугах дилетанта, возомнившего о себе непонятно что, — разве живопись не преследует ту же самую цель? Разве она не пытается найти ответы на те же самые вопросы? Разница, по-видимому, лишь в методе, в подходе, в ракурсе. Живопись, искусство опираются на другие, более интуитивные средства познания.
Однако простых, однозначных ответов здесь уже не было вообще. Да и вопросы, всё новые и новые вопросы, всплывали лишь для того, как ему иногда казалось, чтобы с максимальной четкостью очертить концы какой-то палки о двух концах — выявить границы не знания, как такового, а именно «незнания». И это уже совсем разные вещи…
Гостиная превратилась в мастерскую. Вся мебель, стоявшая здесь прежде, теперь была вынесена в другие комнаты. Оставшаяся теснилась по углам — стол, кресло, пара стульев, диван, сдвинутый к окнам и застеленный простынею. Однако не только гостиную, но и всю нижнюю часть дома теперь загромождали подрамники, голые и уже натянутые. По углам стояли рулоны грунтованного холста, коробки с красками и растворителями. Всем этим добром Петр обзавелся впрок, гонимый отчасти опасением, что если покупать всё это в небольшом количестве, то в магазине для художников его примут за дилетанта и не захотят доставлять громоздкие покупки в Гарн…
Мир гостиной, в котором он проводил большую часть дня, казался зыбким, временным, далеким от реального мира, который не переставал напоминать о себе. Но с другой стороны, всё здесь дышало каким-то новым конкретным смыслом. Смысл виделся ему во всем, что он делает. Этот смысл менял свои оттенки, минутами ослабевал и даже бывало улетучивался совсем, но ненадолго. Вскоре он вновь становился насыщенным, переполняющим. И всё это независимо от внешнего мира. Во внешнем мире, смотревшим в окна, тоже в общем-то похожим на изображение на картине, казалось, нет никакой нужды. Всего этого в жизни Петра прежде не было. А впрочем, даже чувство осмысленности происходящего становилось иногда невыносимым — именно потому, что заставляло ставить под вопрос всё прежнее.
Особенно часто это чувство преследовало по утрам, в минуты бодрости, когда, хорошо выспавшись — а он спал как никогда крепко, — Петр готовил себе кофе, приносил поднос в гостиную-мастерскую, дымил там первой с утра сигаретой и, разглядывая сделанное накануне, наслаждался блаженно-отравляющей вонью скипидара, запах которого из комнат уже не выветривался. Он как наркоман упивался своей дозой — тишиной, в которой тонул дом и сад, ощущением своих сил. И в то же время с какой-то панической трезвостью он вдруг сознавал, что, прожив на свете сорок лет, он потратил время на что-то такое, что никогда не являлось для него в жизни главным и что нагнать упущенное ему никогда уже не удастся, на какие бы перемены в своем существовании он сегодня ни отваживался, на какие бы жертвы ни шел. Жизнь дана человеку один раз, никому не дано прожить одновременно несколько жизней…
Петр писал темные, несколько мрачные картины с преобладанием в палитре черного или черно-коричневых тонов, которых он добивался почти как профессионал — посредством смешения сажи газовой с умброй и охрой. Обильной цветовой гаммы он избегал несознательно, просто потому, что чувствовал: броские цвета могут помешать сосредоточиться на главном, подобно тому как неточность слов или слишком большое количество порождаемых словами ассоциаций может иногда помешать выразить самую простую мысль, и уж тем более донести ее до кого-то другого. Ему казалось более важным добиться однотонного универсального цвета, но такого, который вмещал бы в себя все возможные оттенки и как бы больше не являлся тоном как таковым.
С первого же большого холста Петр погряз в бездонной неразберихе абстрактной композиции. При этом, как когда-то с ним уже случалось, он до глубины души поражался тому, как сложно перенести на поверхность натянутого загрунтованного холста простейшую форму, которая с такой ясностью может существовать в воображении.
Прямоугольные, неровные фигуры, отдаленно напоминавшие квадраты, которые в сопоставлении между собой, своими пропорциями должны были отображать «период», вычлененный из бесконечности самим форматом холста, — эти фигуры в воображении выглядели гораздо значительнее, даже изящнее. На холсте они превращались в нечто совсем плоское, чуть ли не банальное. Вся метафоричность, которая в них изначально вроде бы присутствовала, вдруг исчезала. Эта борьба с собственным воображением, постоянные сомнения, которые она вызывала в себе, бывала по-настоящему мучительной. Хрупкие решения приходилось принимать на каждом шагу. Внутреннее напряжение не выпускало из своих тисков.
Однако следующий холст давался уже легче. Для этого достаточно было сосредоточиться на исправлении допущенных ошибок. К этому, собственно, и сводилась работа над каждым последующим холстом. Все усилия были направлены фактически на слияние сделанного, на то, чтобы влить, перенести содержимое каждой отдельной картины, которая представляла собой своего рода фрагмент целого, в нечто общее, единородное и нечленимое, в какой-то единый воображаемый холст, в объединяющий образ, в одну сущность. Но он даже не знал, как это называть. При этом ему казалось важным сохранить «период» не как форму, а как содержание — примерно так же, как если бы из множества кирпичей пришлось бы выстроить форму, напоминавшую кирпич в увеличенном размере.
Каким образом на замкнутой, ограниченной плоскости — ведь холст являлся куском пространства, своего рода сечением — можно отобразить всю полноту бесконечности? Каким образом единичное может отображать целое? Эти вопросы тоже требовали определенной ясности. Ответ следовало искать конечно же в самом понятии «образ», в закономерностях, которым «образ» подчиняется. Но понятие «образ» — вещь скорее необъятная, да и явно другого порядка. Оно расплывчато в самой своей формулировке, является слишком обобщающим, чтобы привнести хоть какую-то ясность. Получалось ровно наоборот: стоило лишь попытаться углубиться в размышления об этом, как всё сразу же тонуло в еще большей путанице.
Игра воображение становилась по-настоящему захватывающей, когда она всё же приводила к каким-то констатациям и выводам. Петра поражало иногда такое неожиданное наблюдение. Живопись, искусство в целом именно этому и обязаны своим существованием — непостижимо-странной закономерности, согласно которой некая ограниченная часть пространства, условно говоря, более низкая по организации, чем вся окружающая действительность — этой частью мог быть, к примеру, кусок холста, на котором изображен лес, по отношению к самому лесу… — одна лишь эта часть, сечение, способна отображать всю полноту пространства со всем его объемом, со всеми его свойствами и параметрами, вбирая в себя всё, но как бы в более свернутом, скомпонованном виде, подобно тому, как живая клетка несет в себе полную генетическую информацию обо всём организме. Каким образом малое могло содержать большее во всей его полноте?
Нужно было отказаться рассматривать холст как замкнутое пространство и воссоединять его ограниченную плоскость с внешним, априорно бесконечным пространством. Этого можно было добиваться, например, путем построения композиции с опорой на те же «нормы», которые присущи бесконечному, изначально заданному пространству. Оставалось найти правильный метод. Но чтобы нащупать метод наиболее адекватный, необходимо было выявить структуру пространства, некий скрытый «каркас», лежавший в его основе. И это был единственный, на взгляд Петра, способ обращаться с пространством образно…
Первые пять холстов — Петр называл их «модусами» — так и остались незавершенными. Шестой, меньший по размеру — черная, выполненная в жирной палитре бесформенная масса была наложена на грязно-зеленый фон и перевешивала изображение холста в правую сторону — казался ему тоже не совсем удачным. Но если смотреть на картину долго, — только вот непонятно, можно ли такое детище вообще называть картиной? — то она начинала втягивать в себя, гипнотически к себе приковывала, вызывала какое-то внутреннее онемение, чувство чего-то ватного, притупленного, сравнимое, пожалуй, с болью, ноющей, но уже ставшей привычной.
Сочащийся, жирный слой масляной краски не давал глазам ни секунды покоя. Каждый мельчайший штрих фактуры при рассмотрении деталей в отрыве от целого казался опрометчивым, неправильным. Ошибки так и хотелось исправить. Но стоило попытаться что-нибудь изменить, как общий порядок на холсте нарушался, а где-нибудь рядом в глаза бросался другой неверный штрих, за ним другой и еще один, и так до бесконечности. Каждое очертание, каждая тень, каждый элемент материального мира — не только того, который отображался на холсте, но и внешнего, априорного, который представляла собой комната, — вызывали чувство отторжения и даже некоторого отвращения.
Когда недомогание, нагнетаемое нарастающим чувством бессилия и по ощущениям близкое, опять же, к болезненному онемению, которым сопровождается возврат к нормальной жизнедеятельности обескровленной части тела с бегущими по ней мурашками, — когда недомогание в какой-то момент достигало нестерпимого предела, все эти разнородные, разорванные ощущения превращались в нечто целое и сливались теперь в чем-то физически сносном и даже наверное приятном. Всё болезненное разом исчезало. От этого становилось неожиданно легко. В эту минуту Петр и приходил в себя. Он внезапно сознавал, что окончательное отторжение произошло и что холст закончен. Картина как бы просто отделялась от взгляда, от окружающего мира — отделялась в нечто самостоятельное…
За две недели до суда Петр наконец дозвонился Режису Дюмону, сослуживцу Мольтаверна, жившему под Лиллем, с которым планировал войти в контакт еще осенью, но всё это время свой звонок откладывал, надеясь на Мольтаверна. Тот обещал поддержать его обращение личным письмом. Это письмо так и не было написано. Однако с того дня как версальский суд присяжных вынес слушания по делу Мольтаверна на мартовскую сессию, дальше откладывать было уже некуда…
Была суббота, уже около двенадцати, когда главная шоссейная трасса района, по которой Петр ехал, почти не встречая встречных машин, начала рассекать на два неровных ломтя небольшой придорожный поселок, находившийся в сорока километрах от Лилля и застроенный блочными, стандартными домами «под ключ».
Петр запарковал машину перед одноэтажным павильоном с мансардой. Лицевая сторона дома выходила прямо на шоссейную дорогу. Такое расположение жилья казалось скорее недоразумением. Буквально в десяти шагах от входной двери на полной скорости проносились грохочущие фуры. С дороги летели брызги, грязь. Атмосферу какой-то безотрадной серости и уныния усугублял накрапывающий дождь.
В проеме двери показалась худощавая женщина средних лет в джинсах и кедах. Она подошла к машине и спросила, не он ли адвокат из Парижа.
Получив утвердительный ответ, женщина представилась женой Режиса Дюмона. Она приглашала в дом. Муж как раз уже вернулся из Лилля и ждал визита.
В тот же миг из дома выбежали две белокурые девочки лет десяти, наряженные в пестрые вельветовые платьица. Обе держали в руках по кукле. При виде незнакомца девочки смутились. Схватив мать за руки, они разглядывали представительного, рослого гостя, который сразу же, едва выбравшись из машины, угодил в огромную лужу.
Дюмон оказался темноволосым, невысоким, коренастым мужчиной южного типа. Петра немного поразило выражение его глубоко посаженных зеленых глаз. Он чем-то напоминал Мольтаверна. Та же смесь неуверенности в себе и недоверия к незнакомым людям. Та же беспричинная насмешливость и что-то непроницаемое в выражении лица. А вместе с тем какая-то великовозрастная наивность и даже упрямство. Но в отличие от Мольтаверна, Дюмон не пытался изображать из себя простака.
Хозяева провели его в тесную, незатейливо обставленную гостиную с печкой-камином и американским баром-стойкой, который отгораживал угол тесноватого, но, видимо, всё же главного помещения дома. У стены стоял древний кожаный диван. Над ним висели туристические плакаты, на которых были запечатлены пальмы и морская гладь купоросного цвета.
Девчушек побыстрее выпроводили в сад. Мадам Дюмон скользнула по лицу мужа вопросительным взглядом и предложила приготовить кофе.
Чтобы разрядить атмосферу, Петр похвалил участок, прилегающий к дому, который хорошо просматривался через веранду. За окнами внезапно прояснилось, и глаза вдруг резало от видна ярких и свежих газонов, по всему периметру засаженных елками. Петр поинтересовался, что за лес тянется вдоль дороги, мимо которого он только что проезжал. В ответ на скупые объяснения хозяина Петр признался, что каждый раз, когда ему приходится бывать в северных районах Франции, он не может налюбоваться местным пейзажем. Ландшафт здесь не такой броский, не такой картиночный, как в других живописных местах, но пейзаж чем-то берет за душу.
Так ему и поверили. Дюмон оставался скептичен. И Петр перешел к главному. Повторяя сказанное по телефону, он решил объяснить всё с самого сначала. Инициатива обращения за помощью исходила не от самого Мольтаверна, а именно от него, его адвоката, — Мольтаверн просил этого не скрывать. Однако от себя он считал нужным добавить, что именно дружеская помощь близких и друзей могла повлиять на исход дела сегодня. Ведь «неприятности», постигшие Мольтаверна, толковать можно было и так и эдак. Свидетельства людей, хорошо его знавших, могли сыграть решающую роль. Петр миг помедлил. От его глаз не ускользнуло, что он приводит пару в недоумение, особенно хозяйку дома.
Как тут же выяснилось, и к немалому удивлению Петра, Дюмоны впервые слышали о том, что у Мольтаверна были какие-то нелады с правосудием. В полнейшем неведении они пребывали и по поводу того, какой он ведет образ жизни. До сих пор они были спокойны за Мольтаверна, были уверены, что у него есть постоянная работа, хотя в силу своих заскорузлых холостяцких привычек он и не мог якобы определиться с жильем и был вынужден постоянно менять адрес местожительства. Точнее говоря — гостиницы, как объяснил Режис Дюмон. До сих пор он был уверен, что Леон снимает номера на постоянной основе и иногда даже с пансионом. Еще недавно Мольтаверн регулярно их навещал. В каждый свой приезд он заваливал всю семью подарками…
Все трое какое-то время молчали. Могли ли они доверять друг другу? Правда ли всё только что сказанное? С чего теперь начинать?
Прямота — это казалась Петру наиболее адекватной тактикой. И он заговорил об интересующем его эпизоде из прошлого Мольтаверна, который выпадал на период их совместной с Дюмоном службы в Легионе, когда их подразделение попало в Чад. Речь шла о случае с несовершеннолетней девочкой. Местный житель как-то предложил легионерам в обмен на армейский паек свою дочь, что привело к бурной ссоре.
— Да ничего подобного! Откуда вы всё это взяли?! — взорвался Дюмон. — Я отказываюсь говорить на эту тему…
— В этом нет ничего ужасного… — заверил Петр, удивляясь бурной реакции, но вместе с тем понимая, что это вызвано не просто нежеланием оказаться замешанным в какую-либо темную историю, связанную с Легионом, но какой-то более глубокой личной причиной; Мольтаверн реагировал точно так же — наотрез отказывался обсуждать жизнь Легиона с посторонними.
По лицу хозяйки опять прометнулась новая тень недоумения. И это опять не ускользнуло внимания Петра. Муж не всё ей рассказывал? Петр понимал, что допустил просчет. Такой разговор нельзя было заводить в ее присутствии.
Отступать было некуда. Он принялся объяснять, что присутствие Дюмона на слушаниях, его согласие рассказать об этой истории, старой, забытой всеми, прямым свидетелем которой он являлся, могло помочь в защите товарища, даже если факты, о которых идет речь, не имеют прямого отношения к случившемуся с Мольтаверном сегодня.
Петр сознательно преувеличивал: показания Дюмона вряд ли могли что-либо решить в корне. Но в выбранной им линии защиты он считал необходимым использовать все возможности.
Однако и Дюмон тоже понимал, что значимость его показаний утрируется. Возможность своего появления на суде он отмел сразу и безапелляционно. Чтобы хоть чем-то обосновать свой отказ, он стал объяснять, что за давностью происшедшего всех подробностей не помнит и прямым свидетелем инцидента не был. А к тому же все эти докапывания, по прошествии такого количества времени, могли обернуться обыкновенными неприятностями: он мог навлечь на себя немилость армейских инстанций…
Вся дальнейшая дискуссия сводилась к попыткам Петра развеять опасения Дюмона. Между судом над Мольтаверном и «армейскими инстанциями» он не видел никакой связи. Никто не собирался устраивать в суде разгон ни Легиону, ни военным ведомствам. Но добиться своего Петру уже не удавалось.
Мадам Дюмон должна была кормить дочерей. Она отправилась звать их за стол. А когда она вернулась с девочками, гостю вдруг было предложено остаться обедать.
Не успел Петр принять какое-либо решение, как хозяйка стала накрывать на стол. Упрекая себя за близорукость, за то, что он не удосужился рассчитать время своего визита так, чтобы не попасть к обеденному застолью, но в то же время понимая, что в приглашении на обед кроется, пожалуй, его последний шанс, Петр поблагодарил за гостеприимство и приглашение принял.
Мадам Дюмон принесла на стол запеченное мясо, фарфоровое блюдо с картошкой фри, зеленый салат, две бутылки кетчупа. Девчушки, получив каждая по бутылке, тут же забыли о госте и о мальчишеской забаве с арбалетом, который минуту назад матери не удавалось вырвать у них из рук. Переворачивая бутылки с кетчупом кверху дном, вращая и обстукивая их с разных сторон, обе ерзали, обе, ловя на себе укоризненные взгляды матери, робели, но больше секунды не выдерживали.
Мясо, поданное на стол, оказалось кониной. Петр постарался скрыть свое замешательство. Недопеченное и с кровью, блюдо отталкивало. Но он, как и всё семейство, приступил к еде, а через несколько минут даже попросил вторую порцию мяса, чувствуя, что непринужденность была наивернейшим способом укрепить в глазах хозяев свою репутацию. Впрочем, мясо оказалось действительно вкусным.
Погруженный в свои раздумья, Дюмон ел молча, сосредоточенно. Замечая в лице хозяйки какую-то беззащитность, не то пробудившуюся благосклонность в свой адрес, Петр начинал понимать, что решение мужа теперь зависит непосредственно от нее…
После кофе впятером они вышли в сад на узкий лоскут газона, простиравшийся в направлении безнадежно голых, невзрачных полей, изгородью которому служили елки и два куста рябины, увешанные гроздьями крупных оранжевых ягод. Здесь и произошло то, на что Петр рассчитывал, решив остаться обедать. Мадам Дюмон вдруг открыто встала на его сторону.
— Я не понимаю, чего тебе стоит поехать, — обратилась она к мужу; по тону чувствовалось, что она привыкла им верховодить. — Если твои показания могут помочь Леону… отпросишься на день и вернешься.
— Тебя еще здесь не хватало, — одернул ее муж, но уверенности в его голосе больше не чувствовалось.
— Не всё зависит от вас, но многое, — напомнил Петр. — Я, конечно, оплачу вам дорогу, расходы.
— Да бросьте! Какие расходы?! — Дюмон оскорбленно уставился в даль.
Наблюдая за девчушками, которые затеяли очередную непонятную игру и стремглав носились друг за другом по сырому газону, все трое с минуту молчали.
— Когда суд, вы говорите? — спросил Дюмон.
— Двадцать пятого марта, в четверг.
— Не понимаю, куда его опять черт понес?! — взорвался Дюмон.
Почувствовав, что с этой минуты на показания Дюмона можно рассчитывать, Петр поинтересовался датами и сроком их совместного пребывания с Мольтаверном в Персидском заливе.
— В каком еще Персидском заливе? Мы там никогда не были, — недовольно пробормотал Дюмон.
— Я почему-то думал, что Мольтаверн там был, — заметил Петр, стараясь скрыть свое удивление. — Вы уверены в этом?
— Конечно уверен… Вопрос вроде бы стоял о том, чтобы полк наш перебросить в Эмираты. Но там всё быстро закончилось…
Два дня спустя, приехав к Мольтаверну раньше обычного, Петр в раздражении вышагивал по боксу, стараясь перебороть в себе распиравший его гнев. Он вдруг не знал, с чего начать.
Мольтаверн посматривал на него безучастным взглядом, молча курил, но уже догадывался, что произошло что-то непредвиденное.
— Ответь мне на такой вопрос: когда именно ты был в Персидском заливе? — заговорил Петр.
Мольтаверн удивленно отпрянул и продолжал молчать.
— Бункеры Хусейна ты ходил взрывать с американцами?.. Ты же рассказывал Луизе… да с какими с подробностями!.. что вас высадили где-то там, на окраине Багдада, что вы окопались, обложили окопы мешками с песком. А потом вас будто бы отозвали, чтобы не получилось скандала… Был ты там или нет?
— Не был, — сказал Мольтаверн.
Петр развел руками и некоторое время опять молчал, а затем с искренним недоумением спросил:
— Зачем же ты молол всю эту чепуху? Может быть, ты и в Легионе не был? Может быть, этот Дюмон мне тоже навешал на уши всякой ерунды? Может быть, его там тоже не было? Сам посуди — ни тебя, ни его я в погонах не видел.
— Нет, это всё правда! Можете верить.
Петр долго над чем-то раздумывал, прежде чем заговорить другим тоном:
— А теперь вот что мне скажи, насчет твоей сестры… Она одна у тебя или еще кто-то есть?.. Опять молчишь. Или здесь ты тоже наплел… для красного словца?
Мольтаверн мотнул головой.
— У тебя есть мать и отец?
— Только мать. Отец умер.
— Умер?.. Естественной смертью?.. Тебя за что упекли в первый раз?
Мольтаверн не повел глазом, сидел как каменный.
— А не ты ли его укокошил? Да еще и собственными руками? Да или нет?! — прикрикнул Петр. — Хорошо… А кроме сестры и матери, у тебя есть еще кто-нибудь?
— Нас одиннадцать детей в семье, — спокойно отреагировал Мольтаверн. — Сестра у меня одна, остальные братья.
— Ты надо мной издеваешься, Леон?
— Это вы издеваетесь.
— Почему же ты молчал всё это время?
— Зачем говорить о том, чего не существует? Мы ведь отношений не поддерживаем.
Петр обессилено закивал, вдруг понимая, что ожидаемого опровержения своим сведениям он не услышит.
— Рано или поздно это всё равно бы вылезло на свет. Я не понимаю, на что ты рассчитывал?.. Леон, а может быть, ты просто ненормальный? Может, тебе врач нужен, а не адвокат?
— Да это вам нравится изображать из себя благодетеля, адвоката. А я ни на что не рассчитываю! Носитесь тут с вашими «правда или неправда»… Спасти решили всех несчастных и обездоленных?..
— Вот как ты заговорил… Ты хочешь сказать, что я еще и виноват в твоей подлой лжи?
— Если бы вы побывали на моем месте… Иногда я не знал, где спать. А когда на улице холодина… — Мольтаверн уронил глаза в стол и неуверенно добавил: — Это не вранье… Всё это правда…
Проведя в боксе около часа, Петр переписал со слов Мольтаверна личные данные о его родственниках — имена, фамилии, адреса, всё то, что Мольтаверн знал о своих близких. Тюремные стены Петр покинул с чувством некоторого облегчения. Появление новых лиц означало появление новых возможностей. Одно это могло сгладить, как ему казалось, долю его личной ответственности, которую он брал на себя, проявляя упорство в заведомо проигрышной ситуации. И тем не менее осадок оставался неприятный. Поделить вину на всех — и от нее не остается ничего… — не переставал он повторять про себя. Он чувствовал себя в чем-то уличенным.
В тот день поджидала очередная неприятность. В Версаль пришло письмо от Режиса Дюмона. Дюмон передумал. Ехать на слушания в суд он отказывался.
Петр вновь звонил ему и вновь настаивал на своем. Дюмон не хотел больше обсуждать эту тему. Исчерпав все аргументы, Петр решился на крайнюю меру: он предлагал ограничиться письмом. Взывая к совести Дюмона, к его ответственности за судьбу товарища, Петр просил написать заявление на имя суда с изложением всех тех фактов, которые они обсуждали с глазу на глаз. И чтобы не терять время, да и не рассчитывая на то, что Дюмон сумеет составить такой текст должным образом, Петр предложил взять это на себя. Всё, что требовалось от Дюмона, это проверить факты, внести в бумагу поправки, переписать всё своей рукой, поставить подпись и выслать заявление обратно в почтовом конверте.
Дюмон скрепя сердце сдался. Но в начале следующей недели, когда Петр получил от него уже переписанную набело версию заявления, он был вынужден констатировать, что все его усилия напрасны. Текст стал неузнаваем. Дюмон сохранил в своей версии лишь некоторые выражения. Всё остальное было приписано кем-то другим, вполне складным, но неестественным для автора слогом. Кто-то посторонний приложил к документу руку…
В день слушаний Петр приехал в Версаль в десять утра. Увидев его на пороге — он не появлялся в кабинете с января, — Анна суетливо выбралась из-за своей конторки и, испуганно улыбаясь, поспешила навстречу.
Они прильнули друг к другу щеками, чего прежде никогда не делали. Задержав взгляд на секретарше — лицо ее в чем-то изменилось и выражало непонятное сожаление, — Петр вдруг поймал себя на мысли, что ни разу даже не вспомнил о ней за всё это время. Забывчивость казалась тем более непростительной, что он всегда питал к Анне слабость, какое-то домашнее, как ему всегда казалось, родственное чувство, которое испытывают к слабому, и она не могла не вызывать этих чувств своим легким нравом и мягким характером, изобличавшим ее подчас в полной неспособности справляться с беспорядочными обязанностями, которые выпадали на ее долю.
Не зная, что сказать, и продолжая стоять посреди коридора, Анна с сожалением заметила, что в кабинете она сегодня одна, с утра все разъехались по делам. Искренний будничный тон и радовал, и озадачивал. Анна всё принимала как должное.
Петр благодарно кивнул, попросил не переключать звонки на его линию, если кто-нибудь будет его спрашивать, и прошел к себе. Анна хотела было успокоить его: ему давно перестали звонить. Но лишь всплеснула руками. Через несколько минут Петр вернулся и попросил приготовить ему кофе.
Уже через пару минут Анна принесла на его письменный стол поднос с кофейником. Но вместо того, чтобы вновь перелистать дело в привычной рабочей обстановке и попытаться проникнуться ролью, которую ему предстояло исполнить — ради «погружения» в нее он, собственно, и приехал в кабинет, — Петр цедил крепкий горький кофе, курил сигарету за сигаретой, перелистывал свежий номер «Монда», задерживая глаза лишь на рекламных объявлениях. Взгляд больше привлекал вид за окнами. Над бульваром просматривались макушки голых платанов. Только теперь он вдруг обратил внимание, что стоит ясная теплая погода. Таких солнечных весенних дней давно уже не было. По дороге из Гарна в Версаль он этого даже не заметил.
Просматривая дело в заключительный раз минувшей ночью, Петр так и не смог набраться оптимизма. И даже больше того, цель, которую он ставил перед собой, казалась ему всё более далекой, недостижимой. На что он рассчитывал? Вся его аргументация, стоило подвергнуть ее малейшему испытанию на прочность, рассыпалась на глазах. В ней было что-то трухлявое. И дело было даже не в corpus delicti[2], не в слепом и безоглядном желании отстаивать выгодную точку зрения. Дело было не в скудности самого материла, на который его защита опиралась. Не хватало чего-то второстепенного, как ему казалось, но важного. Не хватало какой-то последней, завершающей детали, как это часто бывает в таких случаях, которая должна была стать последней каплей, переполняющей чашу. Чашу терпения судей и присяжных? Чашу его собственной аргументации, которую он так и мог до конца заполнить? Как же она могла тогда переполниться?
Казалось очевидным, что если не сделать какого-то неожиданного, решительного хода, который заставил бы суд и присяжных взглянуть на суть дела с какой-то новой и неожиданной стороны, если не перенести тяжесть предстоящего решения из плоскости обычных судебных дебатов в реальную жизнь протагонистов, в чем-то всегда необычную, то разбередить умонастроения присяжных заседателей уже не удастся. В этом случае дело было бы проиграно однозначно. Это казалось ясным уже сейчас.
Судебную речь он проработал еще неделю назад. Уже тогда он разбил ее на три части. Первая, вступительная, сводилась к классическому приему разрыхления доводов обвинения, к тому, чтобы как можно глубже, под корень ослабить всю его аргументацию, и если не дискредитировать ее полностью, то хотя бы оголить ее слабые стороны. Главное — посеять в умах сомнения. Во второй части, для усугубления достигнутого эффекта, нужно было выставить портрет подсудимого в неожиданном свете. Для этого материла было как раз предостаточно. На третьем, решающем этапе тот же классический подход предписывал сосредоточить все усилия на том, чтобы завести обвинение в тупик, продемонстрировав несостоятельность пути, по которому оно пошло. Поколебать нужно было саму уверенность в непогрешимости обвинения, чтобы таким образом сломить волю всех, кто судит, — как волю индивидуальную, которая движет каждым присяжным, так и волю коллективную, без которой вынесение приговора становится невозможным. Патовая ситуация в этом случае приравнивалась бы к выигрышу…
Петр по-прежнему считал правильным свое решение начинать с отрицания вины как таковой, хотя и не мог не понимать, что это противоречит общепринятой здравой логике. Однако, делая ставку на идею круговой поруки и поголовной вины всех перед всеми, которую он собирался подспудно использовать, он не мог просчитать всего до конца, пока не знал состава жюри. Данный подход чреват был и другими трудностями: стоило защите недотянуть взятой ноты, и ее моралистические призывы могли вызвать обратный эффект, они могли обернуться раздражением и недоверием. Ведь присяжные попадали в суд не потому, что стремились замолить таким образом какие-нибудь собственные грехи, и не потому, что их преследовали угрызения за какие-то личные проступки. В суд они попадали, в конце концов, случайно.
С другой стороны, если предпочтение отдать всё же нормам и попытаться не выходить за рамки обычных судебных дебатов, чаще всего стерильных, то ситуация еще быстрее могла выйти из-под контроля, а вся его аргументация могла потерять свою главную опору. Всё могло пойти на самотек. Но тогда Мольтаверну грозил бы срок при любой развязке.
Петр вполне понимал, что главный изъян выбранной им системы защиты упирается именно в эту проблему — в отказ оценивать трезво имеющиеся шансы. Но как можно было их оценить трезво, если он в корне отрицал саму возможность получения срока? И делал он это потому, что был уверен, что Мольтаверн, несмотря на свое заведомое смирение перед любой развязкой, не примет такого исхода, сломится.
Во избежание ненужных встреч в коридорах суда, Петр постарался рассчитать время таким образом, чтобы, пешком прогулявшись до дворца правосудия, войти в здание суда со стороны «трех ступенек», через старый вход и уже перед самым началом. Но в холле суда он всё же оказался на несколько минут раньше. В тот момент, когда он поднимался по ступенькам старого входа, часы над головой показывали десять минут второго.
Миновав тусклый коридор, выводивший в новое крыло, чтобы оттуда повернуть в прилегающий корпус, где заседал суд присяжных, Петр вышел к лестнице с балюстрадой. В просматривающемся отсюда новом вестибюле он сразу заметил Шарлотту Вельмонт и Калленборна. Они сидели на красном диванчике под пальмами возле справочного бюро. Вельмонт копалась в своем портфеле. Калленборн апатично глазел по сторонам, состроив свою привычную гримасу, в которой было что-то безжалостное.
В группе людей, толпившихся по левую сторону от входа, промелькнул еще один знакомый силуэт. Брэйзиер?
Петр замедлил шаг, но так и не смог убедиться в том, что это был Арсен. Казалось непонятным, почему Брэйзиер разгуливает в этом корпусе, отдельно от дочери и жены, а не в здании суда присяжных, вход в который вообще с другой стороны квартала…
Заседание началось вовремя. В запертом, полупустом зале наступила первая минута затишья. За ней последовало некоторое оживление. Начался отбор жюри.
Состав присяжных заседателей — на две трети из мужчин — скорее обнадеживал. Для рассмотрения дел с подобной спецификой мужская аудитория считалась наиболее подходящей. Минуту спустя Петр всё же обратил внимание на одну из женщин, которая попала в жюри во время последнего розыгрыша жребия. Лет тридцати пяти, не красавица, но вполне привлекательной внешности — такой она должна была показаться подсудимому, Мольтаверну. И одно это не сулило ничего хорошего. Неравнодушный к слабому полу, Мольтаверн перед женщинами обычно бахвалился. Петр пожалел, что не отклонил эту кандидатуру сразу, когда это еще было возможно. Всё свое внимание сконцентрировав на отсеивании лиц преклонного возраста, он пропустил столь важный момент.
Несмотря на чувство нереальности происходящего, которое мешало сосредоточиться, сумбур в голове вскоре улегся. Привычная судебная атмосфера вновь стала казаться какой-то размытой, неправдоподобной лишь с того момента, как в зале появилась Луиза. В сером костюме, в светлых чулках, аккуратно причесанная, она приковывала к себе взгляды своей независимой манерой держаться на публике. Луиза сидела как неживая, уставив взгляд в пустоту. Вид у нее был неожиданно всепокорный, обреченный.
Чем-то поражал и вид ее отца, который занял место рядом с двумя военными в светло-серых кителях, один из которых был как две капли воды похож на Пикассо. Брэйзиер следил за происходящим с мрачным видом.
Петр старался не замечать его. Но время от времени они упирались друг в друга глазами. Лицо Брэйзиера каменело, наливалось кровью, и он поспешно отводил взгляд в сторону. Мари на суд не пришла. Петр не знал, что об этом думать…
С первой же минуты заседания Мольтаверн нарушил все предписания. Теряя над собой контроль, он не переставал ухмыляться, подпирал кулаками бока и даже искал кого-то в зале глазами. Когда же к нему обращались с вопросами, он отвечал на них тем самым вымученным тоном, от которого Петр так старался отучить его во время репетиций в боксе.
В красной мантии, с белым шарфом на плечах, моложавый, но представительный председатель суда производил впечатление человека, одинаково благосклонно настроенного ко всем, но не более, чем это необходимо для успешного исполнения своих обязанностей. Искусно направляя слушания в нужное русло, он прибегал к странноватой манере сверлить подсудимого пристальным взглядом, будто хотел дать ему понять, что попытки провести его на мякине безуспешны, поскольку мнение свое о происшедшем он давно составил, причем самое твердое, и всё, чем он теперь занимается, а с ним и суд, это сверкой каких-то деталей, подгонкой их к внешности, мимике, к чертам лица. Истину, мол, не спрячешь. Она написана у всех на лбу.
От замечаний председателя в зале раздавались взрывы смеха. Особенно часто это происходило при опросе Мольтаверна. Некоторые из реплик председателя действительно отличались остроумием. И это не мешало ему с должным вниманием выслушивать всех. Но только не прокурора. Каждый раз, когда тот брал слово, председатель подпирал щеку двумя пальцами и демонстративно углублялся в свои физиогномические эксперименты, даже не стараясь соблюсти приличия. Петра это скорее обнадеживало.
Рослый, с вьющимися волосами, по всей видимости эльзасец, прокурор утомлял зал плохой дикцией. Несмотря на хорошую акустику, за его бубнящей речью с заглатыванием слов приходилось следить с напряжением. И даже тот факт, что никаких особо тяжких обвинений прокурор не предъявлял, придавал его роли что-то неприятно-казенное…
Вечером, когда прения подошли к концу, чувствуя, что перевеса в позициях так и не произошло, Петр предпринял решительный шаг. Пытаясь в очередной раз подчеркнуть несостоятельность обвинения, к чему он всё и подводил с самого начала, он обратился к «потерпевшей» с прямым вопросом: хочет ли она того, чтобы подсудимый был приговорен?
Эстель Бланш, адвокат Луизы, запротестовала. Но Луиза успела произнести, что не хочет этого.
Председатель отвесил очередную остроту — на этот раз не очень понятную. В тот же миг Луиза выбежала из зала. Заседание пришлось прервать.
На следующий день, в пятницу, слушания завершились короткими дебатами и речью Петра, которая приводится здесь по стенограмме полностью:
Господа судьи и присяжные заседатели!
Вот мы и подошли к финалу. В отличие от меня, вам еще предстоит впереди нечто важное и сложное. Вам придется принять окончательное решение. Моя же роль через четверть часа будет закончена. И тем труднее, я бы даже сказал — тем абсурднее, задача, которая стоит передо мной.
Абсурдность ее заключается вот в чем. После всего, что здесь было сказано, после всего услышанного в этом зале роль защитника мне приходится исполнять с тем же чувством мучительного насилия над собой, которое не оставляло меня до прихода на заседание. Пока я слушал дебаты, мне всё время казалось, что я трачу время ни на что, и свое и ваше. Почему? Да потому что, если бы я не пришел на это заседание, его итог был бы тот же самый. Адвокату здесь, получается, нечего делать…
Не стану утомлять вас пересказом всей эпопеи. Для этого пришлось бы опять отталкиваться от обвинительного акта. Суть его мы поняли. Но как идти на поводу у обвинения? Ведь это всё равно никуда не приведет. И опять вопрос — почему? Я глубоко уверен, что, отвечая на этот вопрос, я выражу и ваши собственные сомнения…
Как ни вчитывался я в обвинительный акт, как ни пытался я найти в нем ответ на вопросы, которые интересуют нас с вами, сколько ни пытался я встать на место обвинения, чтобы таким образом разглядеть какую-то ускользающую от меня грань истины, — увы! Ничего нужного для себя в этом акте я так и не обнаружил. Эта бумага, обвинительный акт, ничего такого в себе попросту не содержит.
Или я преувеличиваю? Не стараюсь ли я нагородить побольше красивых фраз, как это любят делать профессионалы-защитники? Что остается адвокату, когда все его аргументы исчерпаны?!
Господи, если бы всё было так просто! Нет, здесь всё сложнее. Как и вы, я прекрасно отдаю себе отчет, что обвинение совершает нечто важное, необходимое. Оно делает работу трудную и подчас преступающую наше понимание, с нашими узколобыми житейскими представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Да, это так, с этим никто не спорит… Но как ни велика задача обвинения, закон ведь неслучайно ставит между ним и его побуждениями, его конечной целью, промежуточное звено — суд. Для чего это делается?.. Закон это делает для того, чтобы носителями власти была не бездушная машина, а живые люди — мы с вами. Казалось бы — как всё просто. Вот и решение всех проблем. Но возникает другой вопрос: как можно возлагать на людей такую ответственность, если всем нам свойственно ошибаться?
Чувство здравого смысла заставляет нас согласиться с тем, что преступление должно быть наказано. Хотя бы потому, что оно причиняет незаслуженное страдание жертве и вызывает страх, озабоченность у других членов общества. Преступление наносит вред всем. Тот же здравый смысл заставляет нас согласиться с тем, что само понимание греха, а как следствие греха — осуждение человека на страдания и, возможно, его покаяние, вызываемое преступлением, — всё это не должно быть мелочным, формальным. Мелкое преступление, по сравнению с большими преступлениями, которые нас окружают, — это, в конце концов, ерунда, формализм! И тут мы должны четко понимать: когда речь идет о преступлении, здесь не должно быть никакой бухгалтерии. Какой-нибудь преступник, например вор, должен быть пойман за руку и должен быть наказан таким образом, чтобы страдание, вызываемое наказанием, перевешивало в его представлениях удовольствие, форму прибыли, которую он нажил, совершая свое преступление. Если удовольствие перевешивает наказание, то этот вор никогда не остановится. Его будет преследовать соблазн нового преступления. Если страдание окажется достаточно сильным, если наказание будет суровым, то вор будет лишь чувствовать себя мучеником и бунтарем, несправедливо поруганным существом. Но тогда какой смысл говорить вообще об исправлении?
Я всё это говорю, чтобы напомнить вам, какие трудности кроются в этих вопросах. Сами мы всего решить, оценить не в силах — это факт. И мы в этом не виноваты. Но вот что очевидно для всех: при решении вопроса о степени преступления мы, конкретные живые люди, должны, по крайней мере, стараться не заходить в своем рвении слишком далеко. Как найти золотую середину? Чувство меры — что это такое? Какую шкалу к нему применять?.. Не знаю — говорю откровенно. Но я убежден, что после всего услышанного здесь вы проявите максимальную осторожность, максимальное чувство меры. Вы будете близки к истине лишь в том случае, если, вникая в суть дела, будете прислушиваться к своему сердцу, к голосу совести. Они нас подводят реже всего.
Рассматриваемое дело, при всей его кажущейся простоте, получается на редкость сложным. Обвинение тут постаралось, ничего не скажешь! Но даже если мы не вправе обвинять обвинение в ретивости, мы должны помнить, как сложна природа любого поступка, совершаемого человеком без намерения причинить зло другому человеку и тем не менее приносящего это зло.
Обвинитель и сам прекрасно понимает спорность обвинения. Поэтому он и пытается ссылаться на внешние факты, не имеющие к делу прямого отношения. Он ищет ответ на вопросы в прошлом моего подзащитного, он не перестает показывать пальцем на факт его прежней судимости. Обвинитель прекрасно понимает, что для приложения статьи закона фактического материала слишком мало. Обвинитель предвидел, что по ходу защиты нам придется пользоваться не фактами, а какими-то побочными доводами. Он предвидел, что мы будем ссылаться на жизнь подсудимого до обвинения, на его зыбкое социальное положение, и, пытаясь опередить нас — не в обиду ему сказано, — он просто перестарался. Он нагрешил похуже нашего.
Хорошо, допустим… Раз уж не удается разобраться во всём быстро, поверхностно, — допустим, что есть смысл копать под корень. Но в этом случае нужно быть еще более острожными! Потому что мы не имеем права заниматься голым перечислением фактов и событий, имевших место в жизни человека, подгоняя их под стереотипы, навешивая на всё ярлыки. Мне очень не хотелось бы останавливаться на этом еще раз, но многое из сказанного обвинением, особенно в отношении прошлой судимости моего клиента, заставляет меня подытожить все факты в заключительный раз. Я знаю, что не должен говорить об этом. Ведь прямого отношения к нашему делу всё это не имеет. Но прошу дать мне возможность ответить обвинению ясно…
Обвиняемый был судим в прошлом дважды. В первый раз, еще в несовершеннолетнем возрасте, он был судим за самое, пожалуй, страшное преступление, какое только может совершить человек. За покушение на жизнь своего отца! Всё это так! Но почему обвинитель не говорит всего? Обвинитель ни словом не обмолвился о том, что подсудимый родился в многодетной семье — одиннадцать детей! — в семье, в которой дети никогда не бывали сыты и подвергались жестоким физическим истязаниям со стороны отца-алкоголика. Обвинитель не счел нужным рассказать нам о том, как однажды мальчик был жестоко избит пьяным отцом. Но мало того — был посажен на цепь как сторожевой пес на виду своих сверстников, на виду у всего поселка, в котором он жил. Не сказал обвинитель и того, что свой страшный поступок наш обвиняемый совершил в тот день, когда его мать была избита до потери сознания, и он находился в состоянии, описывать которое… Я не имею морального права это описывать. Ведь мальчику было всего тринадцать лет! Кто из нас может постичь, какой груз, какой невыносимый камень должен носить с того дня этот человек на душе своей? Кто из нас может понять, что испытывает человек, зная, что будет ходить с этим до конца, до последнего дня своей жизни?
Меня обескураживает поспешность суждений, с которой обвинитель обрушивается на другой период жизни моего клиента, выпадающий на время его службы в рядах Иностранного легиона. Создается впечатление, что сам факт службы в этих войсках является доказательством какой-то изначальной порочности человека. Жестокость, грубость, неспособность считаться с нормами цивилизованного общества являются, мол, второй натурой обвиняемого. Но кто дал нам право говорить об Иностранном легионе в таких терминах? Кто нам внушил, что те, кто служит в его рядах, попадают туда прямиком из отбросов общества, что служат там одни головорезы, потенциальные или уже успевшие себя проявить?.. Не знаю, может быть, когда-то так и было. Но сегодня каждому, кто удосужился проявить к этой теме толику здорового интереса, известно, что Иностранный легион не имеет ничего общего с этими мрачными легендами. Сегодня туда идут служить не только малолетние преступники, безродное отребье, низы общества, но и люди вполне достойные, а бывает — даже имущие. Отребье туда просто не берут! Но вы были свидетелями того, как реагировал на эти выпады мой подзащитный — человек, прошедший через эту наковальню людских душ и характеров. Сам он пытается ответить нам на эти обвинения словами: «Нет, всё это не так!» Он говорит это с робостью, почти с самоотречением, свойственным человеку, который не верит, что может быть понят. Он говорит нам, что рядовой легионер — это не машина, предназначенная для физического истребления других людей, а обыкновенный военнослужащий, и прежде всего человек, способный чувствовать, страдать, сочувствовать другим, как и любой из нас. Но, может быть, не стоит относиться к его словам со слепой доверчивостью? Может быть, лучше внять холодно-профессиональной, неподкупной логике господина прокурора?.. Так кому же верить? Тому, у кого ответ готов на все случаи жизни? Или тому, кто не способен даже сформулировать звучной фразы, но кто испытал всё это на собственной шкуре?
Вторую, и последнюю, судимость мой подзащитный официально имел за оказание сопротивления представителям органов правопорядка и за хулиганство в общественном месте. Я не собираюсь устраивать тут новое разбирательство. Я не ставлю под вопрос компетентность судов и методы работы наших городских комиссариатов. Все мы прекрасно понимаем, что эти методы, регламентированные строгими рамками закона, часто страдают именно от несовершенства самих законов. Но законы и не могут быть идеальными, как не может быть идеальным общество. Тут ничего не поделаешь! Вполне очевидно, что на месте происшествия мой клиент проявил несдержанность в отношении своих обидчиков. Трое пьяных зачинщиков, попросту говоря хулиганов, угрожали ему расправой!.. Вполне возможно, что, несмотря на нанесенные ему оскорбления и угрозы, он должен был проявить выдержку и не придавать значения оскорблениям со стороны пьяных людей, ну а если уж не сдержался, то должен был, по крайней мере, отдавать себе отчет в своих физических возможностях, ведь он владеет техникой самообороны и рукопашного боя, и считаных секунд ему было бы достаточно, чтобы нанести этим лицам тяжелые увечья. Драка действительно произошла. Но обошлось без увечий. Ответная реакция Леона Мольтаверна была вызвана тем, что один из его обидчиков, к своему несчастью, опустил руку в карман, и жест был истолкован моим клиентом как намерение применить холодное оружие. Он попросту пресек опасное действие с целью самообороны.
Наряд полиции, прибывший на место происшествия, не сразу разобрался, кто есть кто… Представьте себе, что к вам пристают на улице хулиганы, и когда приезжает полиция, да еще и в штатском, она заявляет, что вы задержаны. Любой из нас попытается объяснить, в чем дело, попросит, наконец, у полицейских предъявить их удостоверения. А что делать в случае отказа?.. Мой клиент, прежде чем воспротивиться задержанию, к которому приступили двое представителей полиции — в штатском, напоминаю об этом, — попросил их предъявить служебные удостоверения. На лбу у людей не написано, что они служат в органах правопорядка, да и по закону полицейские обязаны удовлетворить такое требование. Но моему клиенту в этом отказали. Ты, мол, того не стоишь! Прежде чем дело дошло до оказания сопротивления — именно это инкриминировали моему клиенту на суде, — Леон Мольтаверн сделал всё, чтобы избежать физического противоборства. Действие, совершенное им в целях самозащиты — никому, подчеркиваю, оно не принесло прямого физического вреда, — конечно, заслуживает порицания. Он сцепил руки двум первым горе-полицейским их же собственными наручниками, вывел их в таком виде на улицу, где их дожидались другие коллеги… До этого надо еще додуматься! Не у каждого и получится. Конечно, картина унизительная. И за такое унижение нельзя не поплатиться… Как бы то ни было, Леон Мольтаверн отбыл свой срок и за эту провинность. Он был досрочно освобожден, поскольку при отбывании срока не имел взысканий.
А теперь я хочу привести новый пример из жизни моего клиента, имеющий непосредственное отношение к рассматриваемому делу. Я не сделал этого до сих пор, потому что не думал, что буду вынужден приводить такие аргументы, и предпочитал апеллировать к конкретным фактам по нашему делу.
В военное время, во времена смут, в сложных для человека ситуациях, с людьми происходит всякое. И то, как человек справляется с этими ситуациями, какой нравственный выход он находит для себя, обусловливает впоследствии не только его характер, но и его отношение к жизни в целом. Я зачитаю вам одно короткое письмо, автором которого является бывший сослуживец подсудимого, некто Режис Дюмон, проживающий в Северном департаменте. К моему сожалению, Режис Дюмон не смог явиться на заседание, потому что опасался, что навлечет на себя этими показаниями преследования военного ведомства, да и потому, что из чувства внутреннего долга, верности присяге не хотел стать виновником разглашения профессиональной тайны. Никакой, впрочем, тайны, а тем более военной, в его показаниях нет. Режис Дюмон, как и мой подзащитный, служил когда-то в Легионе, в одном полку с подсудимым. Сегодня это семейный человек, сумевший найти себе место в новой жизни, что не так просто после Легиона. В письме, которое я держу в руках, речь идет о событиях, происходивших в восемьдесят четвертом году на территории Чада, где оба они, наш подсудимый и господин Дюмон, находились в то время в боевом составе Иностранного легиона.
«Этим письмом я подтверждаю, что всё изложенное ниже ― абсолютная правда. В случае необходимости я готов изложить всё с дополнительными подробностями.
В 1984 году я находился в Чаде в составе контингента Иностранного легиона (имматрикуляция, звание, награды) вместе с Леоном Мольтаверном (имя, имматрикуляция, звание).
В том районе Чада, где мы базировались в 1984 году, местное население жило в большой нищете, в окрестных селах люди голодали. По вечерам местные жители приходили к нашему лагерю, чтобы попросить что-нибудь поесть. Очень часто родители приводили к лагерю своих дочерей, девочек 12‒14 лет, они предлагали их солдатам в обмен на паек, а иногда в обмен на кусок хлеба или на сигареты. Весь боевой состав нашего полка был настроен к таким вещам резко негативно. Но были отмечены случаи, когда некоторые легионеры отваживались на эти низости, обычно втайне от других, потому что, как только о подобном происшествии становилось известно, такому типу было несдобровать. Обычно его просто избивали. Иногда доносили капитану. Но офицеры были чаще всего не в курсе.
В нашем полку никто такими вещами не занимался. Но я помню один конкретный случай и хочу донести его до сведения суда. Этот случай характеризует моего сослуживца Леона Мольтаверна как человека порядочного и ответственного. Один десантник из соседнего полка, который был переброшен в район нашего дислоцирования за неделю до этого, выторговал в обмен на паек несовершеннолетнюю девочку, которой не было двенадцати лет. Когда его застали с ней, произошла ссора. При этой ссоре присутствовало пять человек, в том числе я и Леон Мольтаверн. Разбирательство было затеяно не Мольтаверном, а другим нашим общим сослуживцем. Но из-за девочки вышла драка, потому что десантник предлагал ее другим и наносил всем оскорбления за отказ последовать его примеру. Мольтаверн вступился за девочку первым. Позднее он и отвел ее к отцу. Инцидент был нами замят после того, как мы проучили виновного. Мольтаверн впоследствии пользовался за это уважением. Все считали его порядочным, щедрым, своим человеком. Я считаю своим долгом…»
И так далее…
А теперь, чтобы не терять время, подойдем к делу с другой стороны. Мы неоднократно слышали от пострадавшей, что она не может сказать точно, с какой целью она приехала на место происшествия в день случившегося. Заявление об изнасиловании она подала не по собственной воле, а под давлением отца, в чем тоже призналась.
Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Из практики известно, что женщина, ставшая жертвой насильственного сексуального акта, в большинстве случаев проявляет пассивность. Врачи-психологи объясняют это полученной в таких случаях психологической травмой. Но ведь та же пассивность, абсолютно та же позиция характеризует ее поведение и сегодня, когда ни о каком поспешном, необдуманном поступке, совершенном под горячую руку, уже не может быть и речи. Что это значит? Да то, что мы не можем подогнать поведение пострадавшей под стандартную схему криминалистов! Просто и ясно.
Что касается позиции отца потерпевшей, в ней-то тем более нет ничего удивительного. Кто из нас поступил бы иначе, пережив подобное потрясение? И кто из нас не пережил бы этого потрясения, оказавшись почти сразу же на месте происшествия? В этой связи очевидно и другое: когда поступками человека руководят эмоции, это может привести к самым непредвиденным последствиям, и уж во всяком случае, такие поступки не могут быть приняты в расчет при попытке пролить свет на само событие или на происшествие, реакцией на которое они являются. Мы не можем решать судьбу человека, обвиняемого в таком преступлении, основываясь на показаниях лица, которое не только не присутствовало при совершении инкриминируемого подсудимому факта, но которое изначально, по природе своих отношений с потерпевшей не может занимать объективную позицию в самом процессе дознания. На мой прямой вопрос, подала бы Л. Брэйзиер заявление без вмешательства отца, она дала однозначный ответ: «Нет, не подала бы!» На мой вопрос, хотела бы она сегодня возмездия, она также однозначно ответила, что нет, не хотела бы! Часто ли мы видим, чтобы женщина, ставшая жертвой надругательства, проявляла подобную снисходительность к своему насильнику?
Спешу оговориться: я вовсе не оспариваю право женщины, ее естественного права интерпретировать чужой поступок, непосредственно затрагивающий ее честь, да и здоровье, так, как она считает нужным это делать. Вполне очевидно, что сам характер такого отвратительного преступления — преступления против слабого, беззащитного лица, против самой природы человека — требует большой строгости в его пресечении. Скажу больше: наши суды нередко проявляют сомнительную лояльность в таких делах. Но следует отдавать себе отчет в причинах, которые так усложняют судопроизводство в делах данного типа: методы дознания, которыми мы располагаем, несовершенны. Поэтому мы вынуждены быть крайне осторожными. Поэтому мы должны проявлять гораздо большую осмотрительность, чем при рассмотрении обычных уголовных дел.
Если факт преступления — под вопросом, если насильственные действия со стороны обвиняемого тоже вызывают у нас сомнения, то должны же быть какие-то причины, которые привели бы всех нас в этот зал вместе с подсудимым. Иначе говоря, данное развитие событий должно скрывать под собой движущие мотивы.
Каковы они в нашем деле? Корысть? Расчет? Давайте это сразу отбросим. Это абсурдно… Тогда, может быть, мы имеем дело с оговором — с оговором со стороны потерпевшей? Тоже абсурдно! Потерпевшая действительно пострадала. Тогда, может быть, причиной всему — недоразумение, какая-то ошибка, ставшая следствием срыва, чьей-то неуравновешенности?
Хочу удержать ваше внимание на этом предположении. Что это значит — неуравновешенность? Временное помутнение рассудка? Разновидность умопомешательства? Неспособность отвечать за свои поступки? Но ведь перед нами нормальные, полноценные люди… Что, если мы всё же блуждаем где-то рядом с истиной, но проходим мимо нее? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, считаем ли мы эротическое нутро человека, проявление в нас вожделения, влечение к противоположному полу — нормальным состоянием или, наоборот, анормальным, болезненным.
На первый взгляд сказанное звучит странно. Но недаром же эта проблема занимала умы мыслителей на протяжении веков. Недаром же она является одной из древнейших дилемм и даже в философии, в науке о науках.
Мнения здесь, как всегда, расходятся. Существует лишь один более или менее ясный вывод, с которым согласны все: человек, пребывающий в состоянии переизбытка эротической энергии, человек, дающий волю своим половым влечениям, даже если он и сознает себя иногда больным — я ставлю слово «больной» в кавычки, — этот человек склонен считать свое состояние нормальным. Он не способен ему противиться. Он видит в нем высшее благо для себя. Другой человек, наблюдающий за этим со стороны, видит в подобном состоянии обычно проявление болезни. Наблюдающий со стороны воспринимает это как наваждение, как некий дурман, даже если и сам он будет вести себя точно так же в аналогичной ситуации. Вот и получается, что грань расплывчата. Она практически стирается. Получается, что, доискиваясь до истины в этом вопросе, мы вынуждены считаться с тем, что всё зависит от того, изнутри мы смотрим на факты или снаружи.
Снаружи мы всё осмотрели самым тщательным образом. Теперь, для полноты представления, взглянем на вещи изнутри. Для этого я предлагаю встать на место потерпевшей и попытаться вникнуть в ее душевное состояние… Давайте попытаемся понять молодую девушку со всей той неодолимой силой пола, заложенной в нее природой, которая непременно, во всех случаях жизни возносит человека над всеми противоречиями нашего повседневного существования. О предрассудках я и не говорю! В этом возрасте мы с ними не считаемся. Когда природа берет над нами верх, она обязательно навязывает нам непосредственность в поведении и в поступках, которую окружающие, менее непосредственные в своих реакциях и лучше себя контролирующие, могут истолковывать неадекватно. Неясность, девичья двусмысленность в поведении с окружающими являются вообще характерными особенностями этого возраста. Они же делают этот возраст столь замечательным, столь неповторимым, а вместе с тем столь сложным и подчас опасным. Поэтому легко понять, что стремление покорять окружающих, особенно тех людей, которые кажутся непокорными и равнодушными, таких, например, как мой подзащитный, а может быть, даже настоящее физическое влечение, пусть безотчетное, пусть необдуманное, пусть просто мимолетное, — всё это могло сыграть решающую и фатальную роль! Не потому ли мой клиент неправильно истолковал свое положение и невольно, как это случается однажды с каждым из нас, оказался в этом самом внутреннем полунормальном, если смотреть снаружи — в состоянии наваждения?.. Оно и помешало ему уловить тот момент, когда еще не поздно было всё остановить. Когда же сама потерпевшая убедилась в том, что достигла своего, когда она опомнилась и из состояния внутреннего, невменяемого, перешла во внешнее, созерцательное, трезвое, когда она попыталась повернуть всё вспять, — было уже слишком поздно. В эту минуту это могло привести лишь к недоразумению и даже к физическому противоборству. В этом я как раз не вижу ничего неожиданного. К тому самому противоборству, на которое делает свой главный упор обвинение.
Обвинитель резонно заметил, что двусмысленное поведение женщины, и даже откровенно обольстительное, никому не дает права на насилие. Отдавая должное справедливости этих слов, я замечу, что он был бы абсолютно прав, если бы речь шла действительно о насилии. Но как можно это утверждать, когда мы знаем, что всё подошло к добровольно начавшемуся половому акту. А в нем участвуют двое, а не один. И каждый из участвующих в половом акте отвечает за происходящее в равной мере. Почему в таком случае обвинение отдает предпочтение слову потерпевшей и не уравнивает показания в своей значимости?
Я отвечу: потому что, опираясь на готовые стереотипы, оно выводит методом грубой дедукции, что у девушки в возрасте потерпевшей меньше причин оказаться в подобной ситуации и что для удовлетворения своих влечений у нее больше выбора и возможностей. А у подсудимого будто бы выбора просто нет! У него даже нет собственной крыши над головой. Он, мол, столько хлебнул в своей жизни, столько потерял, что ему терять уже нечего!.. Но ведь всё это — голые гипотезы! Всё это — гадание на кофейной гуще!
Что мы знаем о другом распространенном явлении из области эротики — о потребности иных индивидов в самоунижении? Что мы знаем об удовольствии, которое некоторые люди могут испытывать от этого унижения? Всё это постоянно фигурирует в процессах, связанных с правонарушениями в данной области. Не пострадавшая ли в таком случае спровоцировала подсудимого на этот поступок — вольно или невольно? Да и вообще, можем ли мы вменять ей что-то в вину, если принять во внимание, что мы живем в обществе, которое исповедует самые неясные, до предела раскрепощенные и подчас просто расплывчатые взгляды на эти вещи?
Но довольно вопросов! Нам нужны ответы. Я отвечаю: потерпевших в нашем деле двое! Как обвиняемый, так и истец, никто из них не знает, что с ними произошло. Отсюда и раскаяние моего клиента. Отсюда же, господа присяжные, и раскаяние истца, которому мы с вами стали свидетелями.
И последнее… Нет ничего, казалось бы, похвальней людского стремления усовершенствовать, чем-либо улучшить окружающий мир. Но не будем забывать, что именно эти высокие порывы иногда приносят роду человеческому столько несчастий!
Означает ли это, что мы не можем улучшить то, что не нами создано? Кто может с твердостью сказать, что создано нами, а что без нас? Кто из нас с уверенностью может сказать, что ему удастся прожить отведенный ему отрезок жизни с наибольшей пользой для себя и для других, а что кому-то этого никогда не удастся. Как ответить на эти вопросы? Что это — просто пустое, бесполезное занятие?..
Выход из этой мучительной дилеммы — из дилеммы отнюдь не философской, а жизненной — существует. Чтобы не запутаться в вопросах, на которые нет ответа, мы должны поступать так, чтобы по крайней мере не навредить, не очернить этот мир еще больше. Ведь он и так достаточно черен! Мы должны поступать так, чтобы не испортить того, что уже существует. Если нам удастся хотя бы это — это уже очень много. Большего мы сделать всё равно не сможем. От нас большего и не требуется.
Развитие, импульс к самосовершенствованию, эволюция — можно называть это как угодно — заложены в саму природу и в том числе в природу человеческую. Поэтому остальное природа доделает без нас и справится с этим лучше, чем мы. Не помешать ей в этом, не отнять у жизни ни единого шанса — вот в чем наша задача. Я призываю вас, вдумайтесь в глубину этого простого подхода к жизни! Вдумайтесь, насколько простым становится выбор, стоящий перед вами, если это универсальное и по сути своей очень простое миропонимание превратить в житейский принцип.
Несчастные разошлись по своим углам и пытаются с горем пополам исправить последствия недоразумения, которое принесло им столько зла. Такая развязка дает нам редкую возможность разобраться во всём здраво. Иной раз при всей симпатии к подсудимому не можешь его простить, когда воочию видишь страдание жертвы преступления. Но тут сама судьба создала совсем иную ситуацию. Она сама указывает нам на счастливый выход из положения.
Если такие понятия, как правда и справедливость, для нас действительно еще что-то значат, мы не может не пойти по этому пути. Другого способа вернуть отбившуюся овцу в свое стадо не существует! Единственный способ — это разорвать замкнутый круг зла и скорби посредством милосердия, не прибегать к насилию там, где это еще возможно. При условии полного раскаяния другой возможности быть справедливым просто не существует…
Свежее безоблачное утро, выдавшееся в субботу, предвещало ясную погоду на все пасхальные выходные. В небольшое оконце, выходившее в замкнутое каменное пространство внутреннего тюремного двора, врывались теплые волны весеннего ветра. Еще не очнувшаяся ото сна четырехместная каморка наполнялась запахами улицы, тюремного хозяйства и в то же время незримым, но почти физически ощутимым присутствием какого-то другого внешнего пространства, которое вливалось сюда из уличного мира поблизости и которое даже сквозь каменные стены пропитывало лживо-беспечную атмосферу пересылочного централа чем-то родным, настоящим.
Проснувшись с первыми лучами солнца, Леон чувствовал в себе необычную заторможенность. Ощущение внутреннего разрыва со всем тем, чем он жил вчера, полное отсутствие желаний и еще непонятная внутренняя атрофия появились в нем впервые. Это чувство не было тягостным, да и мало чем отличалось от состояния опустошенности и безразличия к окружающему миру, которое преследовало его в заключении с первого же дня. Просто теперь это состояние казалось само собой разумеющимся, в нем было что-то неизбежное. И именно благодаря новым ощущениям многое должно было встать на свои места. Но в эту минуту Леон даже не отдавал себе отчета, что это и было началом адаптации к тюремной жизни.
За две недели, истекшие со дня суда, в сознании Леона мало что изменилось. Всей силой своего воображения он и сегодня не мог представить себе, что значит провести в тюрьме десять лет. Таков был приговор, вынесенный судом вопреки обещаниям Вертягина. Леону казалось, что даже одногодичный срок, насчитывающий всего триста шестьдесят пять дней, был чем-то более вообразимым, чем десятилетний. Десять лет — абстракция. Потому что за десять лет человек становится кем-то другим. А это значит, что для него, сегодняшнего, для того, кто пытается раздробить абстрактную, совершенно астрономическую глыбу времени на крохотные осколки дней, из которых и будет состоять его реальное существование, будущая свобода уже не имела никакого смысла. С вычетом времени, проведенного в предварительном заключении, а также учитывая возможное сокращение срока в обычном дисциплинарном порядке, реальный срок отбывания наказания мог быть сокращен почти до шести лет. Чуть ли не наполовину! Но это были уже зацепки, самообман, за которые так и хотелось ухватиться. Всю правду говорить себе не хотелось. Казалось непонятным, что с этой правдой делать.
Леон впервые осознавал, но не умом, а нутром, что смирился, что начинает привыкать к пересылочной тюрьме, к камере, к сокамерникам, к виду на тюремный двор, унылому нагромождению казематов из красного кирпича и серых построек охранной зоны, уродство которых скрашивал ряд пышных крон деревьев с еще не опавшей листвой, каким-то чудом продержавшейся всю зиму… За деревьями возвышалась стена. Над стеной торчала смотровая вышка, возведенная из бетона и похожая на водонапорную башню. И уже дальше худо-бедно проглядывал мир внешний, не тюремный, — тот жалкий кусочек бульвара со светофором, который в считаные дни превратился для Леона в наваждение. Чувство смирения со своим положением всё же с трудом уживалось с пониманием, что реальное положение вещей оказалось совсем не похожим на то, каким он его себе представлял.
В камере кое-как просыпались. Сокамерники Леона — после освобождения четвертой койки они уже неделю заселяли камеру втроем — выбрались из постелей, одевались, умывались. Со двора доносилось первое оживленное многоголосье. Первый этаж, как всегда, раньше всех выпустили на прогулку. Ощущение пустоты, сами мысли стали смешиваться с потоком начинающегося дня, со всем тем, чего не может лишить человека даже тюремная жизнь. Вид чистого безоблачного неба, врывающийся в окно ветер, предстоящий завтрак, планы на день и всё остальное, но, наверное, главное, именно то, чего невозможно предвидеть, — жизнь текла своим обычным руслом…
Один из сокамерников Леона, рецидивист Гронье по прозвищу Философ, с которым они сошлись с первой же минуты, вставал обычно после всех, но прогулок никогда не пропускал. Сорока лет, невысокий, крепкого сложения, чистоплотный, Гронье отбывал многолетний срок и чувствовал себя в тюрьме как рыба в воде. Кличка Философ ему досталась не столько за его «философское» отношение к жизни, — что правда, он никогда не сетовал на тюремные порядки, никогда никого не порицал и вообще не имел привычки жаловаться… — Философом Гронье прослыл за свои необычные дарования. Он не выносил безделья. От скуки занимаясь самообразованием, Гронье умудрился выучить в тюрьме несколько языков. Часы напролет он мог проводить с книгами, но не читал их, а просто перелистывал. У наблюдающего за ним со стороны могло возникнуть впечатление, что содержание страниц вливается в него какими-то невидимыми волнами. Что поразительно, он мог пересказать затем любую страницу. Даже среди надзирателей Гронье пользовался уважением.
Другой сокамерник по кличке Жозе-Жозе, неопрятный юнец с сальным загривком черных волос, прогулок избегал, потому что отсиживал длительный срок за изнасилование, отягощенное убийством, и имел все причины опасаться враждебных выпадов со стороны собратьев. Как раз непримиримое отношение тюремного люда к такого рода отклонениям и стало причиной его нынешнего этапа под Тулузу. Но уже и здесь, в пересылочной тюрьме, о нем бродили слухи один неправдоподобнее другого. Своей всеготовностью, с которой он горстями глотал выдаваемые ему транквилизаторы, или своей манией ни с того ни с сего твердить за столом, что свою жертву он утопил под воздействием телепатии, Жозе-Жозе больше походил на больного, причем с настоящими клиническими отклонениями, чем на преступника. Он заслуживал жалости и непременно снискал бы ее, если бы не его отталкивающий характер и крайняя, в чем-то даже омерзительная бедность, в которой он прозябал. Труднее всего для сокамерников было переносить его привычку вставлять в рот самокрутку, едва он продирал глаза ото сна, и травить окружающих невыносимым смрадом. Жозе-Жозе курил «второй отжим» — отвратительное месиво, изготавливаемое из чужих окурков, которую он держал в целлофановом мешочке. Даже в закрытом виде мешочек источал тошнотворный запах. Чтобы не дышать этой вонью, Гронье выдавал ему сигареты из своих запасов. Жозе-Жозе этим пользовался без зазрения совести…
В субботу на прогулку вышло всё отделение. В небольшом дворике негде было разминуться. Стоял гул мужских голосов. Всеобщая взбудораженность, вызванная ясной тихой погодой, которая невольно заставляла забыть о тюрьме и о личных проблемах, так и распирала всю толпу вышедших на прогулку. Весеннее настроение передавалось даже надзирателям. Выражение будничной скуки и нерадивости, без которой надзиратели давно не умели обращаться с заключенными, то и дело сменялась на их лицах миной ленивой рассеянности. А иногда, стоило нескольким надзирателям собраться вместе, их лица даже озаряли улыбки.
Через четверть часа, когда заключенные разбрелись по углам двора, стало свободнее. Имеющихся закутков не могло хватить на всех, но у каждой компании был свой, давно «забронированный» пятачок асфальта. Одни резались в карты. Другие играли в «теннис» и были похожи на великовозрастных бездельников. Игра заключалась в перебрасывании из рук в руки потрепанного теннисного мячика, который нужно было отбивать ладонью, заменяя рукой ракетку. Но азартного матча, как бывало в иные дни, сегодня не получалось. Забава привлекла лишь горстку ротозеев.
Уединившись на грязном от мусора, залитом солнцем пятачке, который как раз освободился под стеной возле двух пожилых заключенных в беретах, всем известной пары с первого этажа, которые копалась в газетах, сметенных сюда ветром со всего двора, Леон наблюдал за будничной жизнью и время от времени чему-то немо ухмылялся. Не успев сжиться с тюремной атмосферой, он держался по-прежнему особняком, с охотой делил лишь общество Философа.
Гронье это чувствовал и ценил. Выходя на прогулку, он начинал с обхода знакомых, обменивался рукопожатиями с доброй третью гулявших во дворе, так как за свои джентльменские манеры и за отсутствие нужды в деньгах пользовался всеобщим почетом. А затем, если ни одно из коллективных развлечений, душой которых он становился в считаные секунды, его не привлекало, если игра в карты шла на мелкие ставки и никто не соглашался играть на порции мороженого или на телефонные карточки, на что Гронье, как правило, соблазнялся, он направлялся к Леону, и остаток прогулки они проводили вместе.
В это утро Гронье выглядел, как и Леон, вялым, невыспавшимся. В его глазах угадывалась та же унылая задумчивость, как и у всех, вызванная расхолаживающей весенней погодой, которая всегда изобличает в каком-то самообмане. Представляя собою полную противоположность серости двора, тюремным стенам, уродливости зданий, солнечный свет придавал прогулке что-то поистине бессмысленное. Обреченность подобного образа жизни, который был здесь уделом каждого и с которым каждый стремился сжиться, а кое-кто даже умудрялся этого достичь, вдруг опять давала о себе знать. Вокруг — не весна, а клетка. И не золотая, а обыкновенная. Привыкнуть к несвободе, оказывалось, невозможно.
Посидев какое-то время молча, Гронье заговорил о недавнем инциденте с подкупом надзирателей, который для соседа по камере закончился внутренним изолятором. А затем, словно расщедрившись, он впервые стал рассказывать о своем этапе в Бретань, куда его переводили аж из-под Страсбурга. Ему удалось этого добиться. Поэтому он и находился здесь, в пересылочной тюрьме. Всего лишь транзитом, но транзит затянулся на два месяца. Рассуждая своим привычным тоном, как бы обо всём и ни о чем, Гронье нарушал свое железное правило, которое обычно соблюдал как заповедь — не быть навязчивым. Но ему просто хотелось потрепаться.
Леон не понимал главного: каким образом Гронье удается устраивать себе «путешествия» из тюрьмы в тюрьму. Что значит «добиваться», да еще и каждый год? Гронье уверял, что о своих переводах он «хлопочет» с одной-единственной целью — чтобы не засиживаться на одном месте и не взвыть от скуки. Всё в этом человеке казалось непонятным. Глядя на него со стороны (как заправский азиат, он сидел на корточках и мирно беседовал о всякой ерунде и тут же о чем-то важном…), глядя на его опрятную куртку из черной кожи и тщательно отстиранные джинсы, которые сидели на нем как униформа (другой одежды он не носил), наблюдая за его манерами, на каждом шагу выдающими в нем мягкость, добродушие, а в иные минуты непонятную по тюремным меркам щедрость (Гронье держал на свои средства телевизор, хотя смотрели его всей камерой, и даже нередко уступал право выбора передач сокамерникам), — невозможно было поверить, что этот человек попал за решетку за грабежи, что он принадлежит к настоящей преступной среде и что на протяжении лет он участвовал в вооруженных ограблениях банков, протекавших, если ему верить, не всегда без человеческих жертв. Как поверить, что этим промыслом он живет с юных лет?
Еще больше Гронье озадачивал Леона болтовней на тему смены начальника тюрьмы. Эта тема давно не сходила с уст тюремной братии. Гронье оставался к ней равнодушен — из верности своим «философским» принципам. Предыдущего начальника, имевшего скользкую репутацию карьериста и циника, выпроводили на пенсию. На его место выдвинули заместителя, человека помоложе, поэнергичнее и в целом подобросовестнее, — эту репутацию он снискал себе еще на прежнем посту. Новый начальник пообещал пересмотреть целый ряд тюремных правил и что ни день вводил то одно новшество, то другое. Но вопреки ожиданиям, в тюремных порядках наметилось не смягчение, а ужесточение. Всё то, что вызывало ропот заключенных, так и оставалось неизменным. Порядок посещения бани, в которую надзиратели могли вызвать в любое время дня, даже во время еды, никто менять по-прежнему не собирался. Цены на прокат телевизоров и электроплиток, выдаваемых администрацией, оставались грабительскими. Разнузданному хамству тюремного персонала всё так же не было пределов. По-прежнему не было видно конца и края бессмысленным ограничениям, которые одни люди придумывали для унижения других, словно пытаясь тем самым доказать и себе и другим, что от своей ненавистной работы они еще не отупели окончательно и всё еще способны относиться к ней «творчески», способны что-то придумывать, изобретать — новые графики работы, новые порядки и дисциплинарные взыскания, новые издевательства… — а по сему достойны своей зарплаты, ждущей их вскорости пенсии и вообще звания «функционера».
В нашумевшей истории с нововведениями срабатывал какой-то простой, старый и незыблемый закон, столь же незыблемый, как и архимедов: сколько ни лей, сколько ни отливай — в сообщающихся сосудах уровень воды должен выравниваться. По какой-то простой, но всё же непонятной логике это правило, отнюдь не ограниченное стенами тюремных казематов, — суть его заключается в том, что не человек меняет систему, а система меняет человека, — распространялось в тюрьме на всех поголовно, начиная от рядового заключенного, от опустившегося члена общества, от которого последнее отгородилось бетонными стенами и законами, от которого оно открещивалось день и ночь инструкциями и полным отсутствием таковых, и заканчивая высшими чинами администрации…
Леон слушал Гронье через пень-колоду, шарил глазами по залитым солнцем серым фасадам зданий, время от времени упирал взгляд в профиль разговорившегося собеседника, глядел ему в рот и отчего-то приходил в замешательство. Лицо Леона вдруг приобретало неприятное, заискивающее выражение.
Чувствуя, что сокамерник не в духе, Гронье на молчание не обижался. Сменив тему, он принялся пичкать Леона советами многоопытного арестанта о том, что не стоит, мол, травить себе душу впустую, что в пересылке, в которой они находятся, со всеми происходит «одна и та же катавасия» — все сходят с ума от безделья и от ожидания. Гронье был уверен, что поданное Леоном прошение об отправке в одну из юго-западных тюрем, поближе к Даксу, где жила его сестра, в котором на днях ему отказали, будет рано или поздно удовлетворено, тем более что в ходатайстве ему помогал адвокат. Сам он был наглядным примером того, что даже в тюрьме, не имея никаких прав, отвоевать можно при желании что угодно: ему удавалось добиваться переводов без адвоката.
— Ловить ворон, дружище — гиблое дело, — многозначительно добавил Гронье после паузы. — Чувство времени основано на событиях, которые с нами происходят. Они — как точки отсчета…
Гронье выдал очередную цитату, на которые вообще был непревзойденный мастер. Взвешивая сказанное, но, видимо, и сам не ожидая, что сможет выразить свою мысль с такой ясностью, он осклабился и добавил:
— Эта мысль принадлежит Артуру Кёстлеру, который написал «Испанское завещание». Был такой деятель… Нужно искать эти события и за решеткой. Просадил в карты — событие! Охаял тебя кто-нибудь — событие! Нового субчика в камеру подсадили — событие! А то ведь однажды обернешься назад — и уже пять столбиков долой из жизни, посмотреть не на что.
— Завещание не завещание, а до лета я здесь торчать не собираюсь, — пробормотал Леон и опять замолчал.
— Ну, до лета тебя еще сто раз отправят куда-нибудь, — успокоил Гронье. — Назад запросишься.
— Говорят, летом здесь жарища. Дворик — как колодец. Носа не высунуть.
— Лето! Ты по лету истосковался?.. А я вот лето не выношу. Зима лучше — дни короче…
Обед еще не закончился, когда в камеру вошел невысокий, корявый надзиратель по кличке Краб, славившийся не только своей кособокой походкой, беспримерным хамством, но и сговорчивостью в оказании мелких услуг.
Проговорив что-то невнятное, надзиратель сунул Гронье в руки какое-то объявление и вышел. Гронье пробежал по листку глазами и с удивлением на лице протянул его Леону.
Объявление извещало о благотворительном концерте с исполнением классической музыки, который должен состояться через полчаса. На такие подарки администрация расщедривалась не каждый день. Объявления делались обычно заранее, и тем более радостной для всех была неожиданная праздничная инициатива тюремного начальства.
Гронье стал суетливо собираться. Быстро умывшись, он долго, с наслаждением обтирал полотенцем лицо и волосатые руки. Последовав его примеру, Леон умылся, сменил рубашку. Гронье предложил ему воспользоваться своим одеколоном…
Актовый зал оказался битком набитым. Стоял напряженный гул голосов, шум шаркающих ног, передвигаемых скамеек. Но наибольший беспорядок чувствовался, как всегда, в левой половине зала, в так называемом «партере». Эту сторону отводили южному сектору тюрьмы, где содержалось мелкое хулиганье, те, кто отсиживал небольшие сроки. Кто в пестрой рубашке, кто в нательной майке, кто в уличной куртке, кто в кепке, хотя бы таким способом стараясь продемонстрировать свое пренебрежение к правилам и нормам, а то и просто из подражания другим… — вся эта общая масса, по преимуществу смуглолицая, состояла в основном из выходцев из стран Магриба, молодых и перевозбужденных.
В правой стороне зала, которая по традиции отводилась заключенным из северного сектора, долгосрочникам, царило спокойствие. Молодых лиц здесь почти не попадалось. Позади у стены теснились надзиратели. Рядом с ними отдельной группой стояло несколько мужчин в штатском, которые о чем-то переговаривались с начальником 2-го отделения. Несмотря на субботу, тот был на рабочем месте. Начальник этого отделения принарядился в костюм и вместо галстука даже нацепил бабочку, которой стал с недавних пор щеголять, словно из подражания новому директору, недавно назначенному. По этому поводу злые языки даже разносили слухи, что и он претендует теперь на директорское кресло и что порядки теперь вряд ли скоро смягчатся, на что делались большие ставки перед недавней сменой директоров.
Оказавшись в окружении соседей по камерам 2-го отделения, Леон занял место рядом с Гронье. Места достались хорошие — от сцены их отделяло не более десяти рядов. Сидевшая впереди братия возбужденно и вопросительно переглядывалась. Все с нетерпением изучали ярко освещенную сцену, на которой были расставлены струнные инструменты, контрабас и арфа. Незнакомец в костюме копошился возле микрофонов, никак не мог их укрепить в нужном положении. В его адрес доносились издевательские шутки. Тяжелый запах дешевого одеколона, потных тел, провонявшей от сигарет одежды наполнял помещение каким-то возбуждающим дурманом, хорошо знакомым каждому из присутствующих.
На сцене произошло движение. И из-за кулис вереницей вышли хористы. Одни женщины. Все немолодые, все как одна — в долгополых темных юбках, все как одна — с пресными, какими-то домашними и совсем не артистическими лицами.
Такого хора зал не ожидал. На несколько секунд повисла тишина. А в следующий миг зал взорвался бешеными аплодисментами — это была традиционная тюремная шутка. После того как к инструментам вышли оркестранты, на сцене показалась высокая и, к полной неожиданности зала, миловидная молодая женщина с распущенными каштановыми локонами. Устремленные на нее сотни глаз теперь следили за каждым ее жестом. Прошел миг, другой. И зал опять загудел, застонал. Но в этом шуме уже не чувствовалось предыдущего тарарама.
Начальник 2-го отделения чинно поднялся на сцену и, приблизившись к подобию рампы, притянул микрофон к себе. Выдержав паузу, дав залу успокоиться, он стал произносить вступительную речь, объяснял, что концерт благотворительный, что данный «эксперимент» — он так и выразился, — инициатором которого является «тюремное руководство», будет возобновлен уже в ближайшее время, если всё пройдет благополучно. Мягкой, какой-то театральной походкой начальник 2-го отделения удалился за кулисы.
Хор выстроился и, не давая зрителям ни секунды на раздумья, робко, непрофессионально затянул тихую мелодию, которая стала быстро разрастаться, словно увеличиваясь в объеме, пока не перешла в громогласное мощное пение.
От неожиданности зал замер. Поначалу аплодисменты были жидкими, неуверенными. Но после исполнения короткого хорала зал аплодировал уже с прежним жаром, разжигаемым, как всегда, на левом фланге.
Исполнение Бриттена и Вилла-Лобоса большого успеха явно не имело. Этот жанр вряд ли здесь могли оценить. Однако опять последовал взрыв аплодисментов. Хористы и музыканты казались озадаченными непредвиденной реакцией зала, но уже, видимо, начинали проникаться необычной атмосферой и испытывали нечто вроде удовлетворения просто от того, что приводили зал в столь непредсказуемое воодушевление.
Долгосрочники сидели молча, с видом какой-то коллективной неловкости за неприлично бурные реакции зала. Но мало-помалу, особенно после исполнения Моцарта — хор исполнил кусочек реквиема «Ля Кремоза», — обоюдный интерес друг к другу окончательно взял верх и со стороны тех, кто исполнял, и со стороны зала, который, даже если и не мог проявлять к жанру исполняемой музыки подлинного интереса, старался хоть как-то участвовать, старался слушать изо всех сил.
Леон сидел в каменной позе и после первой бури аплодисментов, в которой он участвовал наравне со всеми, больше не отрывал рук от колен даже в момент единодушного рукоплескания всего зала.
Гронье дружески подталкивал его в плечо каждый раз, когда высокая, красивая хористка исполняла короткие соло, вздымая свой бюст и широко раскрывая овальный рот, в котором становилось видно розовое нёбо.
В ответ на подбадривания Леон кривил лицо в неприятной, скованной ухмылке. Наблюдая за ним, Гронье не переставал себя спрашивать, действительно ли он раскусил Мольтаверна до конца, как ему до сих пор казалось. Хотя Мольтаверн и отсиживал не первый срок, в нем было что-то рыхлое, надломленное, а вместе с тем, несмотря на свою заискивающую мимику, в нем чувствовалось какое-то упрямство или даже жесткость. За свое пребывание в тюрьме Гронье не раз встречал бывших легионеров, но такого видел впервые…
Жером Леконт, заступивший в должность начальника тюрьмы всего месяц тому назад, был вызван с утра в пасхальное воскресенье с дачи, где отдыхал с семьей, уехав за город на все выходные еще в пятницу.
Произошло непредвиденное, то, чего Леконт ожидал меньше всего на свете. Самоубийство одного из заключенных во 2-м отделении — это случилось в ночь с субботы на воскресенье — вызвало бурю недовольства по всей тюрьме. Волнения распространялись как цепная реакция. События развивались с такой стремительностью, что ситуация грозила окончательно выйти из-под контроля тюремного персонала, и этого никак нельзя было допустить.
Около десяти утра Леконту доложили, что заключенные поджигают матрасы, подпаливают от зажигалок все, что попадается под руку, и выбрасывают горящие предметы во двор. Но более серьезные инциденты начались с того момента, когда несколько человек из 1-го отделения отказались вернуться с прогулки в блок, протестуя против того, что для утренней прогулки им отвели всего один двор.
Распоряжение открывать по выходным только один двор исходило лично от Леконта. Из-за сокращения численности персонала обеспечить нормальное наблюдение во всех прогулочных секторах, как в будние дни, было невозможно. Не вызывало сомнения и другое: площади одного двора могло оказаться недостаточно для утренней прогулки целого отделения. Стоило выпустить на улицу всех желающих, и в нем негде было бы сделать шага. Именно это и произошло…
Несколько человек умудрились взобраться на крышу центрального перехода между корпусами и отказывались спуститься вниз. Никаких требований бунтари не выдвигали. Но своим поведением в открытую провоцировали на применение силы.
Как только во дворе удалось навести порядок и заключенных развели группами по блокам, к протестующим на крыше присоединились другие. Целый этаж во 2-м отделении отказался от обеда и даже объявил голодовку. Требования, которые теперь уже выдвигались открыто по всей тюрьме, оказались заранее согласованными. Они были на редкость дерзкими, неисполнимыми. Заключенные требовали ни много ни мало как отставки самого начальника тюрьмы, смены части надзирательского состава, смягчения режима, улучшения всевозможных условий, разгрузки переполненных камер и т. д. Напрашивался резонный вопрос: в требованиях ли вообще дело? Инцидент принимал серьезный оборот, гораздо более серьезный, чем предполагалось поначалу. Леконт понял это не сразу.
Для наведения порядка в 1-м отделении уже к обеду пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Там была захвачена часть здания, и избежать вызова спецподразделений было уже невозможно.
Вмешательство подразделений быстрого реагирования Леконт считал крайней мерой и отодвигал ее на самый последний момент. Стараясь выиграть время и всё еще питая надежду, что к ужину, когда в животах начнет урчать, энергии у бунтующих поубавится и беспорядки утихнут сами собой, он пытался вести переговоры. Именно в таком духе Леконт отчитывался перед начальством, которое с полудня не давало ему отойти от телефона ни на шаг. В своих донесениях Леконт не говорил всего, в допустимых рамках лавировал, но и не видел другого выхода, поскольку понимал, что своими понуканиями начальство не сможет ему помочь. Заключенные преступили «границу терпимости». Беспорядки могли теперь обернуться чем угодно. Ситуация могла выйти из-под контроля в любую минуту.
Леконт понимал, что суицид не мог явиться достаточной причиной для таких волнений. Тот факт, что кто-то из заключенных наложил на себя руки, вряд ли мог вызвать подобную реакцию, даже если инцидент оказался приурочен к Пасхе, и истолковывать выходку следовало как выражение крайнего отчаяния и протеста. По этому поводу ему конечно же предстояли объяснения с начальством. Против чего был направлен протест погибшего заключенного? — вот в чем заключался вопрос, ответ на который помог бы сделать адекватный выбор репрессивных мер. Против тюрьмы? Против тюремного руководства? Против собственной судьбы?.. Ответить на это не мог, в конце концов, никто, кроме самого несчастного, кроме самих заключенных.
Стараясь сохранить в себе трезвое, ясное отношение к вещам, Леконт приводил себе и другие доводы. Дело было конечно же не в нем лично, не в его назначении на должность начальника тюрьмы и не в нововведениях, которые он проводил с первого дня. Ведь при этом соблюдались все необходимые меры предосторожности для того, чтобы перемены врастали в жизнь пересылочного центра постепенно. Он прекрасно отдавал себе отчет, что ему доверили хрупкий, живой организм и что весь тот сложнейший обмен веществ, благодаря которому этот организм и превращался в живое тело, невозможно приостановить ни на одну секунду.
Ставить под вопрос разумность проводимых преобразований Леконт не мог и сегодня. То, что они необходимы, казалось очевидным, даже принимая во внимание тот факт, что часть из намеченных «реформ» уперлась в неожиданные преграды со стороны самого персонала, а на реализацию другой части требовалось немало времени, да и дополнительные бюджеты, которых никто не обещал. Превращать тюрьму в санаторий Леконт не собирался. Но при этом он придерживался мнения, что сама пенитенциарная система, во многих отношениях устаревшая, могла быть усовершенствована простыми организационными методами, без парламентских дебатов. Эта позиция, вовремя высказанная перед министерскими чиновниками, и поспособствовала его новому назначению…
После объяснений с министерством Леконт счел необходимым связаться с адвокатом скончавшегося заключенного. Из очередного донесения, которое было сделано ему в подробностях, вытекало, что адвокат покойного проявлял к последнему не совсем обычный интерес: опекал, регулярно перечислял на его счет денежные средства, поддерживал его ходатайство о переводе под Биарриц на том основании, что в районе Дакса проживала сестра заключенного, а после получения отказа на это прошение даже подал жалобу по инстанциям и в министерство. Теперь эта жалоба была прекрасным поводом для раздувания шумихи. Могли полететь головы, причем без особых выяснений, кто прав, кто виноват. На кого-то же нужно было свалить всю вину.
Поставить в известность родственников погибшего секретариату тюрьмы так и не удалось. Не удавалось дозвониться и адвокату. Леконт дал распоряжение о том, чтобы тому звонили по всем имеющимся номерам непрерывно до тех пор, пока кто-нибудь не ответит, а сам отравился обедать…
К часу дня вернувшись домой с покупками, Петр нашел на автоответчике несколько сообщений.
Звонок от соседей. Его звали на ужин. Обычный воскресный звонок от Марго Калленборн. Калленборны тоже не теряли надежды заманить его к себе; сам Калленборн завел привычку подсылать к нему в нерабочее время жену, стараясь наладить личные, дружеские отношения вне кабинетных обязанностей, и делал это из самых чистых побуждений. Затем автоответчик воспроизвел незнакомый мужской голос. Звонивший назвался «господином Леконтом», начальником пересылочного центра, в котором Мольтаверн дожидался распределения в другую тюрьму, и просил срочно связаться с ним по телефону.
Петр прослушал сообщение во второй раз, списал оставленный номер телефона. В следующий миг осознав, что, отваживаясь позвонить ему лично, тот не мог не иметь каких-то серьезных причин, Петр почувствовал в ногах неприятную слабость.
«Удрал!.. Неужели удрал? — почему-то сразу пришло ему в голову. — Вряд ли… Не позвонили бы. Зачем в таком случае предупреждать его адвоката?»
Ему ответил бойкий женский голос. Петр представился. Едва он произнес свою фамилию, как ответившая что-то выкрикнула в сторону и попросила подождать «одну секундочку».
В следующий миг в трубке зазвучал уже знакомый, резковатый и немного официальный голос Леконта. Поблагодарив за звонок, тот стал бегло излагать нечто такое, из чего Петр никак не мог составить в своей голове общей картины. Леконт подчеркнул, что посчитал нужным поставить его в известность не откладывая…
— Я буду через сорок минут, — сказал Петр.
Ему не удавалось сосредоточиться, и он с трудом разбирал дорогу. Дважды сбившись с нужного направления, он был вынужден съехать с автострады, как только догадался, что влетел на нее по ошибке в противоположном направлении. А когда он съехал с трассы, то сразу попал в лабиринт пригорода с плотным нагромождением бетонных коробок, которое обвивал серпантин авторазвязок с еще более путаными указателями. И теперь он вообще не мог найти въезда на автостраду, чтобы вернуться по ней в обратном направлении.
Проплыли дорожные насыпи, облепленные ярко-желтым кустарником. По правой стороне пролетела россыпь домиков с красноватой кровлей и линия высоковольтной передачи, над которой медленно, тяжело всползал к облакам только что оторвавшийся от земли пассажирский «боинг». После очередного сплетения дорог он миновал площадь со старинной церковью, доехал до конца длинной улицы, свернул на знакомую аллею, тянувшуюся между особняками, которая выводила к тюремному шлагбауму, и тут увидел колонну полицейских автобусов с зарешеченными окнами. Колонна растянулась на всю улицу. Группы полицейских в темно-синей униформе, с ног до головы в каких-то боевых доспехах, толпились прямо на проезжей части.
Стоило ему назвать свою фамилию, и его сразу пропустили. Он миновал заграждение. Но на следующем контрольно-пропускном посту его попросили запарковать машину в стороне.
Петр спросил, что происходит.
— Беспорядки, — был лаконичный ответ. — Пытаемся народ утихомирить.
Доверительность, с которой были произнесены эти слова, на миг показалась даже оскорбительной. Но Петр подчинился требованию, свернул на указанную площадку перед зданием с зелеными воротами и запарковал машину в ряду с другими. Не успел он выбраться из-за руля, как к нему подлетел рослый молодой служащий. Дирекция послала его навстречу. Он должен был помочь найти дорогу.
Неторопливой вихляющей поступью тюремщик повел визитера обходным, незнакомым путем. Пахло чем-то едким, ядовитым — не то жженой резиной, не то горящей мебелью.
Войдя в высокий серый корпус, они прошли вдоль низких помещений с маленькими окнами, которые выходили во внутренний коридор. Внутри здания было также людно. Как и на улице, повсюду попадались группы полицейских и надзирателей. Пройдя через длинный, а затем через глухой проход, они оказались в знакомой Петру части административного корпуса и повернули в одно из помещений.
Рослая дама в кожаной юбке выскочила из-за письменного стола и молча засеменила к двери, которая вела, по-видимому, к начальству. На секунду скрывшись в кабинете, она вернулась и жестом пригласила войти.
Уже без сопровождения Петр вошел в ярко освещенную комнату. Невысокий, гладко причесанный на пробор мужчина в сером двубортном костюме с бабочкой стоял за исполинского размера письменным столом из темного дерева и озабоченно, с подчеркнутым радушием смотрел ему в глаза. В следующий миг, словно опомнившись, хозяин кабинета стал огибать стол, на ходу выставляя широкую ладонь.
— Леконт! Прошу, присаживайтесь… — Он указал на кожаное офисное кресло, придвинутое к столу, вернулся на свое место и уперся кулаками в стол.
Изменившись в лице, налившись серьезностью, Леконт принял вид человека, который сразу хочет дать понять, что привык к прямоте и предпочитает обходиться без вступлений, но вместо этого почему-то молчал.
— Прошу объяснить, что всё это значит? — произнес Петр, продолжая стоять.
— Вы понимаете, что в таких случаях мы всегда… Мы всегда задаем себе вопросы, — невнятно выговорил начальник тюрьмы.
Петр молча ждал продолжения. Ждал чего-то и Леконт.
— Жив он или нет?
— Нет.
На протяжении секунды Петр смотрел стоявшему перед ним в глаза, будто не понимая сказанного.
— Как это произошло?
— Ночью. Острым предметом рассек себе сонную артерию. В таких случаях мы абсолютно бессильны. Как оказать помощь? Ведь это происходит в такое время… Были найдены рваные простыни. Он пытался сделать веревку, но не доделал. Может быть, побоялся разбудить соседей по камере…
— Веревка зачем?
Леконт молча взял со стола кипу бумаг, выбрал из нее один листок и, подавшись телом через стол, вручил его Петру:
— Можете взглянуть. Это рапорт.
Петр пробежал глазами по бланку с печатями и произнес:
— Это случилось в камере?
— В камере.
— Я могу взглянуть?
— Тело увезли в больницу, — сказал Леконт, уставив перед собой неуверенный взгляд.
— Я имею в виду камеру.
Леконт замялся. Ткнув рукой в окно, он сказал:
— Вы видите, что там творится! В такой ситуации я даже не могу отвечать за вашу безопасность. Существуют определенные нормы…
— Я вас не прошу ни за что отвечать, — сухо заметил Петр; лицо его приняло непримиримое выражение.
— Хорошо. Вас проводят…
Сотрудник в штатском вывел Петра через длинный коридор на улицу. Миновав двор, они вошли в высокое, мрачноватого вида здание, задержались на пропускном пункте с окошком, а затем оказались в высоком холле с решеткой, которой было разгорожено всё помещение.
Запаха гари здесь уже не было. Вместо гари чувствовался едва уловимый аромат кофе и запах туалетного освежителя. Несколько человек в штатском разгуливали с видеокамерой вдоль решетки. Никто здесь не обращал друг на друга внимания.
Через минуту к ним всё же приблизились двое надзирателей — плотный, корявый, со шрамом на щеке и красавчик-креол с кремового цвета физиономией и бритой головой.
Обмениваясь стеклянными взглядами, оба надзирателя развернулись в сторону приближавшегося к холлу невысокого человека в штатском, по вине которого, видимо, и происходила задержка. С выражением добродушной беспечности на лице, врозь разводя носки черных английских туфель, начальник 2-го отделения прохаживался в обществе сухопарой дамы лет пятидесяти. Та что-то объясняла ему, но с таким видом, с какой-то застывшей улыбкой, словно пыталась убедить его в чем-то важном, заранее зная, что из этого ничего не получится.
Этим составом — начальник 2-го отделения, провожатый Петра в штатском и четверо надзирателей — они и поднялись на четвертый этаж. Вся группа остановилась перед дверью в одну из камер.
Низкорослый надзиратель открыл дверь. Первым вошел начальник 2-го отделения. За ним последовал Петр. Остальные остались за порогом камеры.
За небольшим столиком, приставленным к стене, сидел опрятной внешности мужчина в черной кожаной куртке и джинсах. Откинувшись на спинку стула, обитатель камеры окатил вошедших презрительным взглядом. Его спокойное лицо поражало своей суровостью. Несмотря на две пары двухэтажных нар, стоявших вдоль стен, заключенный находился в камере один.
Петр молча обвел взглядом помещение — небольшое, высокое, с решеткой на распахнутом окне, с зашарпанными панелями цвета охры, которые чуть выше, к потолку, переходили в нечто бурое. Из радиоприемника на столике доносился уютный, домашний говорок, передавали сводку последних новостей. Царившая здесь будничность совершенно не вязалась с общей атмосферой заведения.
— Камеру что, не освободили? — спросил Петр, кивнув на мужчину в кожаной куртке.
Начальник 2-го отделения принужденно наклонил голову.
— Где его кровать? — спросил Петр.
— А вы кто такой будете? — подал голос единственный обитатель камеры.
— Адвокат. Я адвокат Леона Мольтаверна.
Мужчина в кожаной куртке помедлил, усмехнулся и спокойно вымолвил:
— Вот и катитесь к чертям собачьим! Раз адвокат…
Начальник отделения не терял хладнокровия. Он ткнул пальцем на нижнюю кровать справа от входа, такую же прибранную и голую, как и две другие у противоположной стены, но так и не расщедрился на дополнительные объяснения.
Через окно донеслись непонятные звуки. Затем раздались крики и еще более беспорядочный шум. Шум нарастал сразу со всех сторон.
Петру была видна часть кирпичного здания и сбоку от него бетонная башня, в одном из окон которой стоял охранник, говоривший по портативной рации. Еще дальше просматривался город — дома, улицы, перекресток, несколько машин, остановившихся на красный свет.
На крыше здания, которое замыкало двор, вдруг показались двое мужчин. У обоих в руках было по металлическому предмету, которые ослепительно-ярко отсвечивали на солнце.
Начальник отделения, тоже обративший внимание на людей, появившихся на крыше, подозвал к себе одного из надзирателей, дожидавшихся в коридоре, о чем-то быстро распорядился. И тот исчез.
Двое парней на крыше — оба были одинаково одеты во что-то легкое, спортивное — приблизились к стене примыкающего здания и разглядывали кирпичную кладку возвышающегося над ними выступа, после чего, подобрав у себя под ногами что-то длинное, похожее на доску, уперли этот предмет в стену и начали взбираться наверх. Цепляясь за край крыши соседнего корпуса, один за другим они взобрались наверх, встали во весь рост и смотрели куда-то вдаль.
В тот же миг до Петра вдруг дошло, что блестящие предметы в руках мужчин — это обыкновенные ножки от стола. От такого же стола, как и в камере, где он сейчас находился. Смельчаки на крыше были такими же заключенными, как и сидевший в камере.
Теперь и другие надзиратели, толпившиеся за дверью, дружно ввалились в камеру и, обступив окошко, следили за происходящим.
Во дворе тем временем стоял уже не шум, а какой-то бешеный гвалт. Со всех сторон доносились крики, металлический стук, звон. В этот гам врывались неприятные трескучие окрики громкоговорителя, не то мегафона. Кто-то пытался вести переговоры? А в следующий миг на другом конце крыши, ставшей центром всеобщего внимания, глазам предстала еще более неожиданная картина. Несколько фигур, одетых во что-то черное, туго облегающее, с масками на лицах, сцепившись между собой канатом, словно семейный клан цирковых акробатов, стали медленно продвигаться в направлении бунтарей, держа на поводке огромного дога. Собака рвалась вперед, вставала на дыбы.
Прошел миг — и всё смешалось. Дог подмял лапами парней. В возникшей свалке трудно было что-либо разглядеть. Над головами лишь мелькала дубинка. Кто-то из штурмующей команды, самый долговязый, развернулся к окнам, откуда доносилось дикое улюлюканье заключенных, старавшихся перекричать еще более странно звучавшие со дна двора аплодисменты, и показал двумя обтянутыми в черную перчатку пальцами птичку — в знак, видимо, одержанной победы.
Петр вдруг заметил, что стоит в плотном кольце надзирателей. Начальника отделения и провожатого в штатском в камере уже не было. В тот же миг он услышал слова диктора, прозвучавшие по радио на столе у малого в кожаной куртке: «Оба заключенных препровождены в свои камеры… Силовых мер удалось избежать. Порядок восстановлен…» По радио в сводке последних известий, видимо, освещали происходящее в пересылочной тюрьме.
Отстранив от себя тюремщика-креола, поглощенного уличным зрелищем, Петр вышел из камеры…
В середине апреля Петр снял в Альпах то же самое шале, что и прошлым летом, одну из верхних квартир дома под Пасси, и планировал провести в горах около месяца или больше, в зависимости от того, как удастся устроиться. Дядюшка Жан, согласившийся сдать квартиру только на неделю, поскольку планировал капремонт перед вселением в нее постоянного жильца из местного санатория, предлагал спустя неделю переехать к его сестре на ферму, расположенную чуть выше, возле плато д’Асси, в местечке под названием не то Бэ, не то Кудрэ. Хозяин уверял, что у его сестры простаивает не дом, а целая «вилла»…
Был понедельник, около семи вечера, безоблачное, ясное небо еще не тронул багрянец заката, но предгорья уже подернулись голубоватой предвечерней дымкой, когда Петр въехал в долину и добрался до того места автострады, откуда окрестности, проселки и вид на горы стали казаться уже знакомыми.
Со времени его последнего приезда в Альпы здесь ничего не изменилось. Вот и мост через речушку Áрву, за которым ущелье распахивалось в долину и над трассой начинали нависать скалы. А дальше и всё выше — светло-серые, заснеженные очертания горных хребтов, подпирающие облака нереально исполинскими контурами. Совсем вдалеке, по левую сторону от дороги — водопад, спадающий с отвесного склона и разбивающийся на высоте птичьего полета с такой мощью, что от водяного потока, от целой горной реки, оставалось лишь облако водяной пыли, выпущенное, казалось, из какого-то исполинского оросительного агрегата, чтобы дать ему таким образом плавно и равномерно покрыть всё дно долины.
Высокогорья оставались еще совсем белыми. Массивы Монблана, разрастающиеся теперь уже вполнеба, становились нестерпимыми для глаз из-за белизны вечных снегов. Но в внизу, в долине, зима всё же отступила. Склоны при подъеме к Пасси успели позеленеть, а приусадебные сады утопали в пышном цветении.
Узкое горное шоссе, поднимавшееся к Пасси, съезд к шале за рыжей насыпью, сень гигантского орехового дерева, нависшая над террасами, и даже распухшая от пьянства, свекольного цвета физиономия хозяина, который дожидался в шале в условленное время… — штрихи реального мира врезались в сознание, притупленное многочасовым вождением, с нереальной болезненной отчетливостью. И ощущение постоянства, которое при виде знакомых горных массивов казалось пронзительным, почти странным, не сразу перерастало в состояние какого-то неожиданного, мучительно-радостного узнавания…
В верховьях гор, на ослепительно-белых прогалинах межлесья, удавалось по-прежнему разглядеть кабинки канатных дорог, едва заметно перемещавшиеся в ярко-синее поднебесье. В хороший бинокль всё еще можно было разглядеть едва различимые живые точки, чем-то напоминавшие мошкару, облепившую складки белой скатерти. И не сразу осеняла догадка, что это лыжники, несущиеся вниз по всё еще заснеженным горным трассам, ведь от них отделяли десятки километров прозрачной как стекло межгорной пустоты.
Тем временем в долине местный люд придавался уже совсем другим заботам. Здесь полным ходом шли приготовления к следующей лавине отдыхающих. Торговые ряды фермерских рынков, выстраивающиеся на подсохших тротуарах, уже вовсю предлагали прохожим прошлогодние яблоки и груши, привозную провансальскую клубнику, шерстяное и синтетическое тряпье, брючные ремни, кошельки, бусы, горную обувь, сотовый мед с местных пасек, сыры, цветочную рассаду…
Именно климатические контрасты и производили самое захватывающее впечатление. На пространственном протяжении в какие-нибудь несколько километров вкусить удавалось сразу всё: залезть по пояс в снег и тут же промокнуть, угодив в весеннее половодье, а еще через несколько минут, стоило остановить машину где-нибудь в предгорье, можно было очутиться среди лугов, по колено заросших разнотравьем. Зыбкость, а то и отсутствие временных ориентиров нагнетали чувство внутреннего дискомфорта, лишали чувства времени как такового, в то время как поток зрительных впечатлений, не прекращавшийся ни на миг, превращал каждый прожитый день в нечто настолько полное, самодостаточное, что после недели, проведенной в таком ритме, всё вчерашнее казалось уже чем-то прошлогодним, навсегда отжившим…
Петр находился в горах вторую неделю. Апрель подходил к концу. Но он по-прежнему не мог преодолеть путаницы в датах, преследовавшей его с первого дня. Каждый раз, когда ему было необходимо вспомнить, какой сегодня день недели и когда именно он приехал в Альпы, это требовало от него усилий. Думать же о планах, планировать дальше чем на полдня, он вообще был не в состоянии…
О переезде к сестре на ферму горец больше не вспоминал. Почти каждый день хозяин появляясь в шале, чтобы доставить очередную груду стройматериалов для предстоящего ремонта, он по-прежнему обещал «прокатить» наверх и показать «виллу» сестры, но то ли не успевал как следует договориться, то ли ремонт в шале уже не был столь срочным.
Однажды под вечер, заехав в шале по дороге откуда-то с верховий, хозяин попросил впустить его на минуту в одну из запертых комнат. Едва услышав, что он приехал забирать какой-то стол и намеревается тащить его в джип один, Петр предложил ему помощь и проследовал в закрытое помещение вместе с горцем. Центральная, самая просторная комната квартиры оставалась по сей день неоштукатуренной, была завалена хламом и в таком виде простаивала при запертых ставнях.
Старый дубовый стол был вынесен к машине. Они вернулись к террасе. Прежде чем подняться наверх, Петр спросил, не может ли он пользоваться захламленной комнатой как мастерской. Он стал объяснять, что хотел бы развлечься рисованием, точнее, этюдами: он собирался писать масляными красками и не хотел этого делать в жилых комнатах, боялся напачкать.
Бесцветные глаза хозяина недоуменно забегали по сторонам. Взрослый человек — и собирается «развлекаться», в полном уединении и не в сезон очутившись на краю света. Да еще и «этюдами»! Хозяину явно хотелось порасспросить, но он не решался.
Петр подкрепил просьбу предложением помочь с уборкой комнаты. Почесав затылок, хозяин сдался. Но решил не откладывать: уборка была назначена на следующее утро…
Еще не было девяти, когда, взявшись для начала за мелочи, они разгребли почти всю комнату. Часть хлама была упрятана по нишам и в кладовую возле ванной, всё нужное пришлось снести в гараж, а остальное добро хозяин загрузил в свой джип. Слаженность и быстрый ход работы, способность понимать друг друга без слов — это придавало бодрости. Но хозяин опять был чем-то озадачен. Воодушевление, вызванное возможностью потратить с пользой силы, обычно сопутствующее исконному трудолюбию, вскоре взяло верх и над сомнениями. Сияя своими варварски-прозрачными глазами, горец стал рассказывать о своей ферме, о последствиях засушливой погоды, которые в этом году всем казались неминуемыми, о каком-то родственнике, моряке с Мартиники, который приезжал к нему в этом году, чтобы покататься на лыжах, и уехал покалеченным — со сломанной берцовой костью.
Каждым взглядом и вздохом горец выдавал в себе переизбыток сложной, необоримой симпатии, которая взросла, казалось, на одних сомнениях. Но эта симпатия к своему жильцу снедала его с первого дня и не находила выхода, что выливалось в показную, почти дерзкую сухость, — этот тон горец считал, видимо, наиболее адекватным в отношениях между уважающими друг друга мужчинами.
Голое, нетопленое помещение с окнами во всю стену, обращенными к трезубцу Монблана, наполнял какой-то особый, немного первобытный уют необжитого, но добротного людского жилья.
Петр проводил в этой комнате дни напролет, несмотря на то, что даже при постепенном потеплении на улице, с каждым днем всё больше дававшем о себе знать, находиться здесь подолгу без отопления было трудно.
От перемен в обстановке в голове у него царила полная сумятица. Вырваться из немого, бессловесного хаоса, сотканного из одних ощущений, сомнений и борьбы с этими сомнениями, ему больше не удавалось. Но он больше и не старался с этим бороться. Купленные холсты, к которым он не мог подступиться в этом состоянии, были лишь постоянным, мучительным напоминанием о том, что для наведения в себе порядка придется начинать всё с нуля.
То, что в Гарне казалось важным, в горах утратило всякий смысл. Прежний пыл, прежнее вдохновение давали о себе знать разве что непреодолимым внутренним зудом, который охватывал при виде красок. Но кроме зуда осталось, пожалуй, и то плотское, немного наркоманское наслаждение, которого он не мог не испытывать, когда утром наливал себе первую чашку кофе и закуривал первую сигарету. Особенно сильным это наслаждение становилось, если к аромату арабики и английских сигарет примешивалась еловая вонь скипидара, а затем еще и приторный, отдающий рыбьим жиром запах льняного масла, терпкий, горчащий запах льняного холста, которым мгновенно наполнялась квартира, стоило содрать с холстов целлофановую упаковку.
Когда же Петр взялся наконец за холсты и краски — от длительного приготовления к этой минуте руки у него дрожали, как у алкоголика, — он был поражен еще более неожиданной метаморфозой в себе.
Темные и тусклые краски, которым он отдавал предпочтение в Гарне — умбра, охра, сиена и другие, — почему-то отталкивали, казались какими-то пресными. Но этому могло быть и другое объяснение, более простое. Возможно, что прежде тусклые краски представляли собой какой-то временный, компромиссный выход из положения, к которому он прибегал из страха перед цветом, не умея с ним обращаться. Однако теперешнее влечение к более сочным, живым тонам могло быть вызвано и подавляющим воздействием весенней природы.
Как бы то ни было, вернуться к гарнским «модусам» ему тоже не удавалось. В них вдруг проглядывало что-то надуманное. Само содержание понятия «модус» казалось вдруг неточным, приблизительным, условным, как это, впрочем, происходило каждый раз после длительных перерывов, стоило посмотреть на всё глазами постороннего человека. Но разве можно было всерьез заниматься абстрактным, чисто рассудочным моделированием каких-то формальных конструкций, голых конфигураций, рассчитывая на то, что они смогут с наглядностью, недоступной слову или мысли, отобразить содержание некой расплывчатой, отвлеченной идеи, ускользающей от понимания? Ведь форма сама по себе является производной и вторичной. Сама по себе она никак не может быть носителем идеи. Она не может быть двигательным механизмом. В лучшем случае она может быть лишь «емкостью», предназначенной для хранения свернутой информации об идее, являясь мизерной, строго ограниченной частью целого.
Помимо этих сомнений Петра неотвязно преследовала и другая странная догадка: ему казалось, что все формы, при всем их бесконечном разнообразии, являются производными от чего-то единого, изначального, что в основе всех пространственных понятий лежит какой-то один универсальный «модус». Ведь стоило подойти к окну и задышать в полную грудь, наполняя легкие весенним воздухом, перенасыщенным запахами талого снега, сырой земли, растительного тления, как сквозь головокружительное, подкашивающее ноги чувство ненасытности и одурения пробивалось ясное как божий день ощущение. Происходившее за окнами, то, что в иные минуты поражало и не уживалось в сознании неистовством своего непрерывного перерождения, самой масштабностью перемен, которым оно было подвержено, — всё это являлось не только более настоящим, более объективным, но и конечно же более приближенным к «универсальному модусу» и к истине, чем все абстрактные, вторичные формулы и выжимаемые из них тезисы, которые должны якобы привести к какому-то зрительно уловимому воплощению этой невидимой основной структуры, «каркаса»… — должны, но почему-то никак не приводят. Казалось ясным даже то, что сам этот невидимый «каркас» является, в конце концов, чем-то родственным понятию «максимума» Николая Кузанского.
Но если всё это действительно так, то получалось, что «максимальный модус» вообще не может быть отображен в чисто визуальном виде. Поскольку любой принцип отображения опирается на условно ограниченные, выборочные средства. В то время как «максимум» является противоположностью всякой ограниченности. Изобразить «максимальный модус» так же невозможно, как провести на листе бумаге бесконечную прямую.
Первые два холста, представлявшие собой, скорее всего, только попытку преодоления внутреннего барьера, Петр замазал позднее грунтом, считал их испорченными. Но третий холст, начатый уже после того, как он поставил перед собой цель не гнаться за неуловимым, не претендовать на проникновение в суть видимого, а просто постараться — прибегая к аналогиям — проследить за уже существующими взаимосвязями, явными для наблюдающего, — после этого уверенность в себе стала к нему возвращаться.
Немногим отличаясь один от другого, холсты, законченные с первого захода, причем всего за один день, напоминали узоры, выполненные укрупненной линией, в которых проглядывало отдаленное сходство с тенью дерева, отбрасываемой его голой кроной — в точности как на покатом склоне перед террасой шале. На холстах «узоры» получались разве что более угловатыми и более упорядоченными. А при более отстраненном взгляде они даже напоминали схематическое изображение лабиринта.
Эти холсты были выполнены не в черно-белой и не в зеленой палитре, как прежде, а в цвете, с наложением красок сразу же на цветной грунт, приготовленный на базе кадмия светлого. В цвете живопись приобрела насыщенность, но, возможно, по этой причине, глядя на законченные холсты, Петр испытывал смутное, необъяснимое, но мучительно-острое зрительное отторжение. По той же причине он, собственно, и не мог доводить холсты до завершения. Чувство исчерпанности начинало его преследовать каждый раз еще до того, как он успевал приблизиться к прообразу, существующему в воображении.
Небрежность в исполнении, характерная для этих картин, которая приближала, как ни странно, к завершенности, вызывала еще более неотвязное ощущение, что форма как таковая, а точнее говоря, строгое следование заданному образу существенной роли не играет вообще. Ведь число комбинаций неисчислимо, и та или иная форма может быть заменена любой другой формой без малейшего ущерба для целого. Но в таком случае, если произвольно взятая форма тождественна любой другой форме, такое тождество могло быть основано лишь на каких-то внутренних свойствах форм или даже на одном, общем свойстве, которое присуще каждой из форм.
Что это за свойство? Не является ли оно проявлением того самого дополнительного и неуловимого для глаз пространственного измерения или даже бесконечного количества пространственных измерений, что не может не приводить в итоге к тождеству, ведь бесконечность может быть лишь чем-то единичным? В противном случае, при допущении, что в одно и то же время возможно существование нескольких различных бесконечностей, это привело бы к отрицанию самого понятия «бесконечность». Но может быть, в этом и заключается свойство «максимума»?..
Получив разбег, его мысли уже не могли остановиться и на этом выводе.
Если все мы являемся частью бесконечного и не способны существовать в отрыве от него, довольствуясь осознанием своей ограниченности во времени и пространстве, то мы должны найти способ преодолеть в себе главное противоречие. Оно заключается в том, что мы способны одновременно сознавать себя частью низменного мира и мира высшего, наисовершенного и наигармоничного. Но для того, чтобы это противоречие могло найти себе разрешение в реальной жизни, необходимо прежде принять другое. То, что любая составная часть окружающего мира, любой камень, растение, каждая живая тварь являются в той же степени производным от бесконечного. Необходимо принять саму идею, что максимальное, абсолютное присутствует во всём и повсюду. Иначе говоря: во имя срастания с высшим смыслом нужно примириться с низшим. Нужно и в нем увидеть совершенство и необходимость, слить оба эти понятия воедино и рассматривать их как одно целое. Нужно рассматривать необходимость как одну из форм проявления совершенства.
Ферма, принадлежавшая сестре дядюшки Жана, находилась в самом конце извилистого подъема, на пологом, почти незаселенном плоскогорье, от которого начинался последний пояс соснового леса. Выше, над лесом, метров через пятьсот, нависали отвесные, покрытые снегом кряжи дикого высокогорья…
Дядюшка Жан съехал с шоссе и вырулил к массивным жилым постройкам фермы, под лицевым карнизом которых виднелась дощечка с названием «Эдельвейс». Подкатив джип поближе к внедорожнику «сузуки» с зачехленным верхом, Жан соскочил на землю и, вдруг оробев, чего-то сильно смущаясь, с многозначительно-горделивой миной стал водить рукой по сторонам:
— Это всё наше. То есть не мое, а сестрицыно, конечно… Она живет с мужем. Мы с ним не очень, если честно… А там… — Дядюшка Жан ткнул кулаком выше, где метрах в трехстах, перед лесом виднелось аккуратное белокаменное шале с коричневыми террасами. — Там соседи живут. Но тоже родственники. Мы тут все родственники…
Внимание невольно приковывала панорама. В долине уже смеркалось. Гигантская котловина, мерцавшая россыпями огней, едва заметно тускнела от бледно-голубых паров. Размеры пространства казались ирреальными. Долина простиралась под ногами на десятки километров. Здесь наверху держалась свежесть, хотя ни следов снега, ни зимы здесь тоже не было и в помине. Воздух был наполнен кисловатым запахом печного дыма, хвойного леса и жилья.
— На какой мы высоте? — спросил Петр.
— Да как на плато. Тысяча сто. Плато вон там, слева… — Горец ткнул рукой не влево, а себе под ноги, туда, где между некрашеным сараем с шиферным покрытием, елью и домом можно было разглядеть залесенный спуск. — Отсюда не видно. Вон там справа через рощу есть тропинка, даже пешком можно спуститься. Ходьбы минут на тридцать будет… А вон там — роща. Тоже наша, — добавил он и, самодовольно пришмыгнув носом, заковылял по цементным ступенькам в направлении обширного навеса, удерживаемого по центру белым столбом.
Навес представлял собой подобие риги. Всем своим тенистым пространством она была распахнута на улицу, ворота отсутствовали. Вдоль стен виднелись высокие поленницы дров.
Остановившись у небольшого окошка в тыльной стене, дядюшка Жан постучал костяшками пальцев в ставни.
Никто не отвечал. Жан стал спускаться дальше. Но не успел он дойти до следующего угла, как в темном проеме риги показался силуэт пожилой женщины, одетой во что-то голубовато-пестрое.
— Так ты дома сидишь! А я уж подумал, уехали, — выпалил дядюшка Жан преувеличенно удивленным тоном. — Эв, это мы! Приехали, значит, ознакомиться… С условиями и всё такое…
Не удостоив брата приветствием, хозяйка вразвалку, с видимыми усилиями, стала подниматься к машинам, устремив на гостя настороженно-вопросительный взгляд.
— Здравствуйте! — сказал Петр, сделав шаг навстречу и протянув руку. — Вы мадам Фаяр?
Вяло ответив на рукопожатие, та немо застыла на месте. Обняв себя за локти и глядя снизу вверх, хозяйка изучала незваного гостя голубыми, какими-то безропотными глазами.
— Да, Фаяр, — вздохнула она. — А что вы хотели?
— Я бы хотел посмотреть, что вы сдаете, — сказал Петр, благодушно кивнув на дощечку с надписью «Эдельвейс» и делая вид, что ничему не удивляется. — Виллу — говорил ваш брат?
— Да какие у нас виллы, бог с вами?! Вы его больше слушайте. Если он нижний дом имел в виду, так там занято.
Дядюшка Жан опустил голову и сконфуженно промолчал.
— Значит, я неправильно понял, — сказал Петр без всякого сожаления.
— Эв, ты же обещала, — пробормотал дядюшка Жан.
— Да люди приехали, говорю тебе! На месяц сняли. Что ты голову людям морочишь?! Не стыдно тебе?
Еще больше смутившись, дядюшка Жан проделывал плечами непонятные движения, словно хотел избавиться от какого-то груза.
— Вилла мне не нужна, — сказал Петр тем же благодушным тоном, но он и сам не знал, отчего испытывает такой прилив бодрости. — Я один. Что-то другое, может быть, предложите? Меня устроят самые скромные условия.
Еще раз окинув его деловитым взглядом, хозяйка покачала седой головой, словно давая понять, что предпочитает жильцов с более серьезными запросами, и уточнила:
— Надолго вам?
— На месяц человеку! — умоляюще выкрикнул дядюшка Жан.
— Замечательное место, — сказал Петр. — Я когда-то уже поднимался сюда. Несколько лет назад. Коровы были на дороге… вон там, кажется… — Он показал на спуск, откуда они только что приехали. — Нет, я наверное перепутал.
— Были и коровы, — произнесла мадам Фаяр. — Теперь скота не держим. Сил нет управляться. Я могу вам сдать внизу, если хотите, летнюю кухню, — предложила хозяйка, развернувшись к огородам, и пухлой как тесто рукой показала на кусок забетонированной террасы, которая уводила за угол дома.
— Без отопления?
— Да как же без отопления? Печка стоит… Дровами топить придется. Хотите посмотреть?
Они спустились вниз, прошли мимо риги, из которой пахнуло свежеиспеченным хлебом, вышли к углу дома и оказались на широкой, протяженностью во всю тыльную часть фасада, террасе, отгороженной сеткой от огородов, которые ступенями спускались вниз. С террасы открывался еще более захватывающий вид.
Застыв на месте, Петр обвел взглядом долину, затем саму террасу и дом. Над массивной дубовой дверью виднелся гранитный герб с высеченной под ним надписью: «1885, Grosset Joseph». Над гербом висело темное бронзовое распятие, прикрепленное к деревянному кресту из цельных круглых палок.
— Сторона южная, солнечная… А дрова прямо здесь, — сказала мадам Фаяр, показывая на отгороженный заборчиком отсек слева от двери.
Она открыла дверь, и они вошли. Просторное помещение с высокими потолками представляло собой кухню. Всю левую часть помещения занимала большая современная печь марки «franco belge» с чугунным верхом, рядом с которой виднелась и обыкновенная газовая плита. У дальней стены высился старинный ореховый сервант с застекленными створками, а в центре комнаты стоял массивный дубовый стол, окруженный стульями с кожаной обивкой. В безжизненно-холодном воздухе пахло свежими полотенцами.
Но везению Петра не было конца. То, что хозяйка называла «летней кухней», оказалось просторной пятикомнатной квартирой с центральным отоплением, которое нагревалось от печки, с гардеробной и даже с ванной, не говоря о террасе, вдвое или втрое просторнее, чем в шале у дядюшки.
Петр спросил о цене. Мадам Фаяр на миг замешкалась, не хотела, по-видимому, продешевить, и попросила за две недели полторы тысячи франков.
Заметив на лице гостя тень удивления, она прибавила к цене еще двести пятьдесят франков за дрова, но пообещала бесплатно снабжать углем, если вдруг ударят холода. Хозяйка заверила, что на ферме можно покупать овощи и яйца.
— Ну вот и прекрасно, — сказал Петр. — Меня всё устраивает. Все спальни мне не нужны. Одной достаточно.
— Оно и протапливаться будет лучше, если закрыто, — поддержала мадам Фаяр. — Посуда здесь у меня от матери. Вы уж сами понимаете…
— Не волнуйтесь, я ничего не разобью, — заверил Петр. — Или может быть, убрать ее?
— Нет-нет, вы пользуйтесь всем…
Он решил переехать на ферму в тот же вечер. Когда втроем они вышли к риге — из стоявшего в ней прицепа предстояло выгрузить какие-то ящики, — дядюшка Жан казался вдруг помрачневшим, не понимал, к чему такая спешка с переездом. А затем еще более странным тоном он стал уверять, что спать на ферме будет холодно, потому что «кухня» не отапливается с зимних холодов. Он предлагал дожить в шале оставшиеся пару дней, раз уж за них внесена оплата. Его снедала какая-то ревность.
Пока горец разгружал прицеп, сортировал, откладывал в сторону ящики, которые хотел увезти с собой сегодня же, Петр поднялся к джипу. Но даже оттуда до него доносилась перебранка между братом и сестрой.
Сестра опять ему за что-то выговаривала. Но и тот отваживался на упреки. «А я что, крохобор, по-твоему?!» — дважды повторил горец. Он упрекал сестру, по-видимому, в том, что она продешевила и этим поставила его в неприглядное положение, поскольку он брал за жилье гораздо больше…
Дом и двор всю ночь переполняли непонятные, едва слышимые шумы. Звуки доносились с улицы, из запертых спален, с кухни, из вентиляционных отверстий, шкафов, из-под кровати. Где-то рядом бухал собачий лай. Что-то скреблось в потолке, над самым изголовьем кровати… Поначалу Петр думал, что это мыши, пока не догадался, что звук доносится из голубятни. Именно на этом уровне верхней хозяйской террасы он видел по приезде что-то похожее на вольер.
Обклеенная светлыми обоями, которые изображали сплошное море фиалок, спальня была просторной и теплой. Мебель и здесь стояла старинная, добротная: ампирный платяной шкаф с ограненным фацетом зеркалом, овальный столик с бронзовой отделкой, две тумбочки с ночниками, а в углу, в дополнение к ним — торшер на черной чугунной ноге.
Усталость от бурного дня сковывала тело свинцовой тяжестью. Однако уснуть не удавалось. Стоило сомкнуть веки, как перед глазами всплывал вид на долину, каким Петр застал его, переехав на ферму затемно. Зрелище опять было незабываемым: рассыпанное в черной бездне марево бесчисленных огней, похожее на огромный тлеющий костер, напоминало что-то уже виденное, но поражало не меньше, чем в первый раз. Лежать в темноте с открытыми глазами оказывалось еще мучительнее. Тревожное ощущение чьего-то чужого присутствия поминутно нарастало…
Ему снилось, что кто-то стоит на пороге спальни. Высокий, в отсаженном набок отвислом берете, одной рукой облокотившись на длинную остроконечную палку, напоминавшую посох, а другой придерживаясь за косяк двери, этот кто-то осторожно заглядывал в спальню, как будто стараясь рассмотреть в темноте, кто лежит в кровати. Несмотря на свою загадочность, сон не был неприятен.
Когда на рассвете Петр растопил остывшую печку и, возвращаясь в спальню после горячего душа, задержался на пороге, внезапно осенившая его мысль даже не показалась ему странной. Тот, кто снился ему ночью, стоял на пороге именно в той же самой позе, в которой он сам оказался в данный момент — взявшись правой рукой за косяк и по пояс просунувшись в комнату. Вход в спальню получался как бы угловой. Пространство комнаты открывалось от входа вправо. И чтобы заглянуть к окну, в конец спальни, такая поза была наиболее естественной.
Петру не показалось странным и другое — то, что ночной силуэт был, видимо, исполинского роста. Заглядывая в спальню, приснившийся был вынужден пригибать голову; он же при своем росте метр восемьдесят три не доставал головой до верхнего косяка.
В следующий миг его взгляд остановился на двух небольших фотопортретах в застекленных коричневых рамках. На одном снимке был запечатлен мужчина в берете, лет сорока, с опущенными усами, одетый во что-то военное, судя по всему, в форму альпийского стрелка. На груди у него красовался орден в виде креста.
На другой фотографии — пара. Обоим лет по двадцать пять. Мужчина также в военной форме, но отличной от предыдущей. Шинель, на груди праздничный бант, на голове берет, горделивый, проницательный взгляд, те же усы, с броской прогалинкой на верхней губе, какие носил первый, на другом снимке. Женщина в свадебной фате поражала своим сонным, красивым лицом с тонким разрезом губ, с застывшей на них блаженной, но какой-то обреченной улыбкой, которая не вязалась с умным, спокойным взглядом светлых глаз. И именно по выражению глаз Петр узнал в ней свою хозяйку, мадам Фаяр.
Точно такой же берет, как и у мужчин на обеих фотографиях, был и у того, что заглядывал к нему во сне, с той лишь разницей, что был сдвинут набок.
В другой спальне стоял дубовый комод, на котором преследуемый волком фаянсовый олень был навеки запечатлен в фатальном прыжке через утес. Одна из картин в дешевой золоченой раме, висевшая над овальными старинными часами с инкрустированным циферблатом, приковала к себе внимание, да и показалась хорошо знакомой, — наверное, это была копия, — но Петр не мог вспомнить, где ее уже видел.
Голубоватая речушка, изображенная на переднем плане, уносила свои воды вдаль. Справа на берегу — девочка с корзинкой, сидящая верхом на лошадке. А рядом с ней, держась за седло, стоял мальчик, по несчастно-задумчивому виду которого было почему-то понятно, что он приходился девочке братом. Оба держали в руках по посоху. Оба обернулись на охотника с собакой — шляпа с пером, сюртук карминного цвета, ружье, голые икры под короткими панталонами, — который показывал им рукой в лесную чащу. По правому берегу виднелось спускающееся к реке пастбище, через которое пастух гнал на водопой двух коров и отару овец. Вдали чуть выше виднелся замок с терракотовой кровлей. А еще дальше, по левому берегу, на фоне горных склонов, просматривалось селение, над которым зависла стая птиц и плыли легкие светлые облака, окрашенные снизу предзакатной охрой…
Петр не мог оторвать от картины глаз. Всматриваясь в ее детали, он от души удивлялся тому, как на столь мизерном пятачке пространства могло уместиться такое количество всего. Пространство картины всасывало в себя, казалось, каким-то бескрайним миром, распахнутым в бесконечность, который не ограничен ни краями картины, ни, собственно говоря, замыслом автора. Поразительным казалось и то, что при взгляде на картину не возникало ни малейшей потребности искать в ней какую-либо скрытую символику. Полной значения она была и без этого, потому что достаточно было дать глазам немного времени, как взгляду открывались всё новые и новые подробности. А вместе с тем всё было насыщено каким-то простым смыслом, отличительным признаком которого и являлась, пожалуй, неспособность забыть увиденное изображение. В том, что забыть эту картину он никогда не сможет, Петр был уверен уже сейчас.
Аналогичное впечатление производила на Петра и другая картина, та, которая висела на кухне. Это был обыкновенный, непритязательно сработанный этюд, изображавший тот самый жилой дом, в котором он находился в данный момент. Вид открывался из сада, из точки, находившейся где-то за грядками, под тремя темными пихтами, возвышающимися за оградой. Картина была написана маслом и явно наспех, но выглядела как пастель, что, впрочем, не умаляло производимого эффекта. Проступала та же завораживающая простота и тот же естественный смысл, в каком-то первом значении, не требовавший от ума усилий, и забыть который было бы тоже невозможно…
Из-за ясной погоды прозрачный воздух был насыщен металлической, неприступной для глаз белизной и обжигал свежестью. Монблан открывался взгляду на фоне чистого, без единого перышка неба. Ослепительно-белые контуры исполина не умещались в поле зрения. Размеры его опять ошеломляюще увеличились, и, глядя на гору, охватывало странное чувство, что увеличилась она лишь в воображении. Поскольку, стоило установиться плохой погоде, стоило не видеть заснеженные склоны воочию день или два, как масштаб, в котором они открывались взгляду, слегка уменьшался, как бы сворачивался.
Соседние горные кряжи и даже склоны массива Черная голова, в обычные дни темные, проступали светло-серыми, нереальными контурами. Чистый бледно-голубой небосвод казался бездонным. Долина тонула в мутной дымке, словно на дне гигантского котла выпаривали остатки сошедших с гор талых вод. В зияющем пространстве мерцали крохотные вспышки. Подобно мелким алмазам они вспыхивали тот тут, то там у самого подножия склона, вдоль светлой полосы водоема. Левее пульсировала золотая цепочка. Она медленно передвигалась в направлении виадука. До сознания доходило с запозданием, что это всего лишь блеск стекол движущихся автомобилей…
В огороде Петр вдруг заметил незнакомого мужчину в джинсах и в голубом анораке. Стоя к нему спиной, незнакомец рылся в черной, свежевскопанной земле, но обходился таким скудным количеством движений, что его можно было принять за пугало, приходившее в движение лишь от дуновений ветра.
Петр решил, что это хозяин фермы, и хотел с ним поздороваться. Но стоявший на грядке повернулся к нему лицом, и Петр увидел мужчину средних лет с черной от загара физиономией и торчащим изо рта огрызком сигариллы. Вряд ли это был хозяин. Кто-то из домашних? Наемный рабочий?
Чернолицый малый тоже заметил чужое присутствие. Пробормотав что-то невнятное — в сказанном удалось разобрать лишь слово «болит», — он отвернулся и продолжал рыться в земле.
Через несколько минут в огороде появился некто пожилой, в одной клетчатой рубашке. С застывшей на лице вежливой миной старик прошагал к террасе, поднялся на нее как к себе домой и, с радостным предвкушением обтирая руку о выбившуюся из-за пояса рубашку, молча выставил перед собой ладонь для рукопожатия.
— Вы… глава хозяйства? — спросил Петр, приветливо глядя на жизнерадостного старика.
— Так точно. Глава всего! — с важностью ответил тот. — С печкой разобрались? Не холодно спать-то?
— Нет, отопление хорошее.
— Ну и слава богу… — Сверкнув железным зубом, старик усмехнулся. — Жанно тут не мешает?
Догадавшись, что так звали чернолицего малого, копавшегося на грядках, Петр вместо ответа улыбался.
— Жена попросила его прополоть сорняки, — добавил хозяин и уронил глаза в пол, словно в чем-то проговорился.
Это был невысокий, седой человек за шестьдесят, сухопарый и на вид еще крепкий, с маленькими светло-зелеными глазами. В его сдержанных манерах чувствовалась какая-то недеревенская ладность. Хозяин располагал к себе, казался на кого-то похожим.
— Топить печку по утрам — для меня удовольствие, — сказал Петр виноватым тоном. — Поразительная панорама! Лет десять в Пасси приезжаю, а такого еще не видел. Если бы знал раньше…
— Раньше мы здесь не сдавали, — сказал хозяин. — Не до этого было. Хозяйства побольше было, чем теперь… — Он смотрел перед собой мягким взглядом, явно хотел о чем-то спросить, но не решался.
— Ваш шурин говорил мне, что вы заготовкой леса занимаетесь? — спросил Петр.
— Да, леса у нас хоть отбавляй. Теперь и на лес нет времени. Мне скоро на пенсию. У нас же еще наверху сторожка. Всё лето там проводим, как-никак сорок кроватей… Вон там… — Хозяин показал пергаментным пальцем в горы. — Водопад, видите… правее? А чуть левее, повыше, там, где снег белеет — ма-аленькая желтая точечка. Это и есть сторожка.
— Так высоко? — удивился Петр.
— Да нет, там не высоко. Тысяча семьсот метров будет. На полтора часа ходьбы.
Радостно морщась от полуденного солнца, Петр продолжал смотреть туда, куда показал хозяин, и одобрительно кивал.
Отменив послеобеденные планы, Петр остался на ферме. Упиваясь теплым весенним днем, он сидел на террасе и просматривал книгу по истории Савойского графства, которая ему попалась в одной из тумбочек, когда из-за дома, со стороны курятника, раздался визг электропилы.
Петр отложил книгу и прошел в конец террасы. В тыльной части закрытого черного двора, о существовании которого, глядя с улицы, невозможно было бы и догадаться, слишком высокой была насыпь, он увидел хозяина с чернолицым малым за работой. Расположившись под небольшим покосившимся навесом, стенами которому служили поленницы дров, вдвоем они распиливали бревно. Старик Фаяр орудовал большой, тяжелой бензопилой. Жанно подтягивал бревно на себя, подставлял конец под жуткие на вид зубья, и перед тем как возобновить этот простой, удивляющий своей точностью жест, успевал подобрать и отшвырнуть в сторону отпиленную чурку, да так, что все они ложились одна к одной.
Заметив Петра, старик Фаяр вытер рукавом лоб и крикнул:
— Возьмите свежих дров! Лещиновые. У вас там одна сосна, она слишком быстро прогорает…
Сняв с калитки проволочный крючок, Петр прошел к навесу, но не за дровами, а просто так, словно боялся не воспользоваться таким приглашением, сулившим нечто большее, чем «свежие» дрова, но что именно, он и сам пока не знал. Пока хозяин допиливал с Жанно начатое бревно, он с восторженным видом разглядывал дырявую кровлю, сделанную из толи, сваленный как попало садовый хлам, другую пилу, лежавшую в углу, старую и поржавевшую.
— Хотите попробовать? — спросил Фаяр, когда Жанно выкатил из-под стены дома следующее бревно.
Петр снял темные очки и, близоруко щурясь — впечатление близорукости возникало от светлых кругов вокруг глаз, полученных от быстрого загара, — засучил рукава и взял в руки пилу.
— Нет, лучше вот так возьмитесь, как я… — Фаяр подтолкнул пилу ему под локоть. — Правее ручку прихватите, а то не удержите.
Жанно с видом не работника, а робота принялся толкать бревно под пилу, но для первого раза подтащил всё же бревно потоньше. Петр отхватил одну чурку, другую, а затем куски бревна стали падать на землю с той же ритмичностью, как и у хозяина. Помогая ему, хозяин не успевал складывать чурки сбоку от себя в новую поленницу, просил резать чуть длиннее.
На третьем бревне все трое окончательно выдохлись. Жанно едва двигался; слишком быстрый темп работы был ему явно не по душе.
Позднее, когда Петр пригласил хозяина к себе на чашку кофе — выставив на террасу столик и три стула, он принес кофейник, налил кофе в две чашки, хотя приготовил посуду на троих, но вдруг не знал, куда запропастился работник и придет ли он вообще, — Фаяр взирал на него всё тем же выжидающим взглядом зеленых глаз, слегка отстранившись и соблюдая дистанцию, всё с тем же веселым замешательством на лице, которое выдавало в нем противоречивую смесь настороженности, неизбежной в отношениях с незнакомыми людьми, и в то же время желания поговорить; к этому примешивалась, пожалуй, обыкновенная лень, которой он искал какое-то оправдание и которая мешала ему встать и идти заниматься своими делами после первой же чашки кофе.
— Захвати бутылку, Жанно! — бросил Фаяр, когда тот появился на террасе.
Поняв хозяина с полуслова, работник опять исчез.
— Ваш родственник? — спросил Петр.
— Жанно?.. Да какой там родственник! Подрабатывает у нас… — Фаяр посмотрел на огород и отмахнулся. — Хлопот не оберешься. То одно, то другое. Вот с ногой у него что-то случилось. Уже третий день жена не может заставить сходить к врачу.
Жанно вернулся с бутылкой. Следом за ним ленивым аллюром прихлестывали два фокстерьера серо-бежевой масти, у одного из которых была перевязана лапа. Оба пса стали юлить в ногах, привыкшие, видимо, к тому, что им что-нибудь перепадает со стола. Хозяин попросил Петра принести рюмки для дегустации сливового самогона.
Петр хотел было отказаться, но Фаяр робко, едва не с обидой заверил, что самогон на редкость хороший. И Петр принес три рюмки, а заодно тарелку с остатками сыра — его он бросил собакам.
Жанно от дегустации отказался с неестественной поспешностью. Окинув работника быстрым взглядом, но не оспаривая его решения, хозяин наполнил две рюмочки, взял из сахарницы кусок сахару, обмакнул его в жидкость, положил в рот и произнес:
— Вечером похолодание обещали. Не ровен час, снег пойдет.
— В этот период? Да уже высохло везде, — удивился Петр.
— Здесь быстро высыхает, мы же с южной стороны… — сказал Фаяр. — А еще три недели назад, вы бы видели, белым-бело всё было. В лес еще не ходили?
— Нет. Завтра собираюсь прогуляться.
— Если выше подыметесь, там еще снег лежит. Сходите! А вверху, у сторожки — аж два метра. Поздно что-то в этом году… — Держа перед собой чашку с кофе, Фаяр немного по-женски сложил губы дудочкой, наслаждаясь не то вкусом напитка, не то разговором, и пригубил кофе.
— Сногсшибательный самогон, — похвалил Петр. — Дух отнимает.
Фаяр блаженно сощурился, хотел подлить ему в рюмку еще немного, но Петр отказался.
— Сами перегонкой занимаетесь?
— Ну, не сам. Перегонять самим давно запрещено. Раз в год всех объезжает машина. Специальная такая… Дистиллятор. Мы приносим свои фрукты, они их пропускают. В прошлом году столько наварили, что не знали, куда девать. Жена летом в сторожке просто так раздавала — угощала после обеда, хотя и запрещено.
Они вопросительно переглянулись.
— Разрешается дистиллировать только по двадцать литров на человека в год, — объяснил хозяин. — Иногда приходится дальнюю родню на долю записывать — для отчетности. За услугу я всем предлагаю по литру. Желающих больше, чем нужно.
Петр воодушевленно кивал, но с таким видом, словно в чем-то сомневается.
— У меня внизу есть участок, возле Пасси. Там растут одни сливы, — продолжал хозяин, на глазах возбуждаясь. — Как пойдут — девать некуда! В прошлом году пятьсот килограмм слив собрали. Хватило на шестьдесят литров… А, Жанно, что скажешь?!
Жанно, сидевший как неживой, передернулся, блеснул глазами в сторону и вновь пробурчал что-то невнятное.
— Ты опять забыл кур загнать? — упрекнул Фаяр работника. — А, Жанно?! Я ж тебя просил… до обеда.
Тот махнул рукой в огород.
— Ястреб опять круги стал выделывать, почуял, гаденыш, — пояснил хозяин. — А стрелять не хочется.
— Над курятником?
— Да, вон там! — Фаяр показал на макушки трех пихт за огородом. — В прошлом году сколько кур перетаскал, вы бы видели! А осенью лиса передрала полкурятника. Только развел, только цыплят из инкубатора высадил. Вы бы видели, что за побоище было!
— Вы сами цыплят в инкубаторе разводите? — спросил Петр.
— Это я так называю свой парниковый метод. Инкубатор состоит из коробки с лампочкой. — Фаяр загадочно опустил глаза. — Лампочка служит для обогрева — может быть, слышали?
— Нет, никогда.
— Ничего сложного… Достаточно положить яйца в коробку — и вся премудрость. Только температуру постоянную надо поддерживать. Жена смеется. «Помешался, — говорит, — на старости лет!» А я… Ну знаете, когда вылупятся — смотришь и глазам своим не веришь! — Трясясь мелким, немужским смехом, хозяин пожимал плечами, словно и сам не понимал, как его угораздило стать жертвой такого увлечения. — В следующее воскресенье у нас будет шумно, — добавил он, уставившись в серую муть долины. — Дети съезжаются. На Пасху собрать всех не смогли, так хоть на день рождения…
— Ваш?
— Да, мой… — Фаяр отмахнулся. — Вы уж не сетуйте на шум. С детьми приедут, с женами. Двадцать человек ожидаем.
— Я почему-то подумал, что у вас должно быть пятеро… детей, — сказал Петр. — Три сына и две дочери.
— Три сына и две дочки, так оно и есть! — подтвердил хозяин, уставившись на него изумленным взглядом.
Но Петр и сам был в затруднении.
— Я наобум сказал, — заметил он.
— Все здесь живут, неподалеку, кроме двоих, — объяснил хозяин, успокоившись. — Только старший и младшая дочь, как вы, в Париже. А остальные давно вернулись… Вам если что надо, вы заходите… за яйцами, за овощами. Порею, кстати, не хотите? Отличный! Жанно только что насобирал.
— Не беспокойтесь. Я спрошу, если будет нужно.
— Жанно, принеси-ка нам порею!
Тот поднялся и, уводя за собой фокстерьеров, поплелся за угол дома. Через минуту работник вернулся с очищенной и даже подрезанной у корней связкой порея, наугад протянул ее перед собой, не зная, кому она предназначалась, и в этот раз Петру удалось разобрать его бормотание:
— Для супчика. Положите, поварится, и будет что надо…
Первый небольшой холст, который Петру удалось написать на ферме в Кудрэ, представлял собой заурядный натюрморт. На покрытом белой скатертью столе — голубое фарфоровое блюдо. В блюде — три румяных яблока. Рядом с блюдом — глиняный широкогорлый кувшин. Тут же на белой скатерти — грубый кухонный тесак с деревянной рукоятью…
Эффект немого упоения непритязательной простотой — таков был, на взгляд Петра, нехитрый подтекст этюда — вызывал сомнения. Немного дешевым, сомнительным он казался уже потому, что весь трюк упирался в столь же сомнительный тускло-размытый общий фон холста, который переходил из серого, блеклого намека на объем с едва уловимым фиолетовым подсветом в тон более теплый, почти реалистичный. Эта теплая доминанта, которую Петр привык именовать про себя «теплым подшерстком», начинала проступать отчетливее к вечеру, когда солнечный свет становился холодным и тяготел к красноватой, предзакатной гамме оттенков.
Холст менял оттенки, как хамелеон, на протяжении всего дня, отчего основной тон палитры трудно было запечатлеть с точностью, и это было единственным, что приковывало к себе внимание. В целом же натюрморт получился неудачный. Лишним оказался нож. Не было сходства с натурой. Слишком грубые нарушения глаз улавливал в перспективе. Объяснялось же это тем, что изобразить он намеревался каждый элемент в натуральную величину, не принимая во внимание перспективу. В результате весь натюрморт оказался немного наклоненным к переднему плану, хотя определенная фокусная точка, стягивающая к себе объемы, чувствовалась где-то справа, но это получилось случайно. Именно наличие этой собирающей точки справа и придавало композиции устойчивость, но не застывшую, а как бы непроизвольно возникшую в результате плавного, едва заметного парения с едва уловимой и неизменно ровной скоростью.
Второй натюрморт, немного крупнее по формату, написанный сразу вслед за первым, был тоже собран из яблок. Но теперь они лежали не в блюде, а были просто разбросаны по скатерти. Пара зеленых бутылок из-под вина, отставленная на правый край стола, придавала картине нечто надуманное. В холсте не чувствовалось непосредственности первого. Искусственность усугублялась тем, что при подготовке натуры получился какой-то перебор с «живописным беспорядком». Почти неуловимых оттенков палитра вышла пересветленной, отчего контуры яблок и бутылок едва вырисовывались на поблекшей белизне скатерти, а общий тон теперь тяготел не то к голубой, не то к розовой доминанте, но, как и в первом холсте, на протяжении дня менялся.
Третий холст представлял собой что-то и вовсе простенькое: три яблока в голубой салатнице, голый стол, робкий намек на тень справа. И сами яблоки, и блюдо, в котором они лежали, были увеличены в размере примерно вдвое по сравнению с их реальной величиной, что привело к неожиданному сходству с натурой. Образ казался наконец зафиксированным. Он уже не ловил взгляд смотрящего, а прочно приковывал его к себе…
Разложив краски и кисти на стареньком облезлом столике, вынесенном в конец террасы, туда, где росла глициния, и нависающий сверху балкон хозяев создавал во второй половине дня тенистый пятачок, Петр провел над этюдами три дня подряд, не давая себе ни минуты передышки, и уже чувствовал усталость, даже физическую, но продолжал испытывать всё то же лихорадочное, изнурительное удовольствие, как и в первую минуту, всё так же не мог им насытиться и остановить в себе зрительный поток образов, которые возникали один за другим как по цепной реакции. Не успевал он избавиться от одного, как возникал следующий, еще более настойчивый, яркий, еще более наглядный, чем предыдущий, и, скорее всего, представлявший собой просто разновидность предыдущего.
Живописный беспорядок, устроенный на террасе, вызывал у хозяев любопытство. Но они обходили эту сторону дома с таким видом, будто не могли перебороть в себе обиды за то, что их не удостоили хоть какого-нибудь самого скупого разъяснения на этот счет. А может быть, просто не хотели мешать.
Жанно на грядках больше не появлялся. Сама Эв Фаяр, с утра до вечера занимавшаяся хозяйством то в огороде, то в курятнике, то во дворике, теперь воздерживалась от случайных реплик, которыми они обычно обменивались на улице. Она лишь изредка выдавала свое присутствие каким-нибудь невольным шумом — звоном ведра, лязганьем лопаты, сапы, или когда вдруг начинала хлопать в ладоши, чтобы отпугнуть ястреба, парившего, хотя и высоко, но именно с той стороны двора, где находился курятник. С тем же благовоспитанным безучастием теперь держался и хозяин. В глазах у него появилась разве что замкнутость, выдававшая в нем человека упрямого, прекрасно знавшего цену себе, да и своему молчанию.
В субботу после обеда, когда Петр пригласил его на кофе — этот ритуал вошел в обычай, — Фаяр с каким-то двусмысленным оживлением заметил, что голубая салатница из лиможского фарфора, стоявшая на столе пустой, являлась частью сервиза — единственной за всю его жизнь покупки, сделанной им на аукционе; всё остальное поразбивали дети.
Чувствуя себя обязанным найти этому какое-то оправдание, Петр объяснил, что достал голубую салатницу из буфета, чтобы использовать ее в натюрморте, и что он уже дважды пытался ее изобразить, наложив в нее яблок, но так и не смог ничего добиться, потому что не умел замешивать синюю палитру.
Старик не повел и глазом. Гость опять изъяснялся одними загадками. В ожидании продолжения разговора Фаяр не переставал благообразно щуриться. Однако разговор опять пошел ни о чем, как уже не раз случалось.
С ног до головы в чем-то зеленом, военизированном, Фаяр собирался ехать с ночевкой в горы, в свою сторожку, но опасался, что до темноты может не успеть. А поэтому, не высидев и десяти минут, вскочил, поблагодарил за кофе и направился к курятнику. Открывая калитку, он зацепил боком фанерный щит, который прикрывал стол с красками, и повалил на себя установленный на нем свежий холст. Старик оказался испачканным в краске. Куртку его и брюки покрывали жирные разноцветные пятна.
Петр счистил с одежды краску и попытался смыть пятна скипидаром, но только втирал краску в ткань.
Фаяр, чему-то радуясь, уверял, что на нем «старое тряпье», просил не переживать по этому поводу. Стараясь хоть чем-нибудь помочь, старик окончательно вымазался в белилах и, наконец, похвалив испорченный холст, который изображал строй бесцветных бутылок, с испуганным видом, даже не вымыв рук, направился к своему джипу.
Глядя ему вслед, Петр вдруг поймал себя на странной мысли: «Не было бы Фаяра — не было бы фермы. Но тогда не было бы яблок, натюрмортов…»
Или всё это возникло бы в какой-нибудь другой комбинации? — спрашивал он себя уже позднее, размышляя о чем-то совершенно очевидном, но по-прежнему ускользавшем от понимания, что запало в сознание скорее всего как мимолетное ощущение, вне конкретной смысловой связи.
Если бы не было фермы «Эдельвейс», на ее месте была бы другая ферма, с другим названием? Но в этом предположении проглядывало что-то пустовато-логичное, поверхностное — наверное от неправильной постановки вопроса. Оно скрывало в себе шаткую бессмыслицу какой-то голой, холостой рассудочности. Мир фермы представлял собой нечто слишком реальное. Столь же реальное и завершенное в себе самом, как и всё то, что окружало его со всех четырех сторон. И от этого факта, от этого «всего», невозможно было бы отнять ни одного штриха. Двор, пролески за огородом, деревья, запах печного дыма и свежих опилок. Ночной костер, не дававший по ночам спать. Грохот поезда, в один и тот же час сотрясавший мертвую толщу бездонного пространства долины. Колокольный звон, доносившийся из Пасси, в котором в зависимости от погоды иногда звучало что-то похоронное, а иногда, наоборот, что-то беззаботное, бездумное. И даже силуэт хромого Жанно, которого легко было спутать с пугалом. И наконец, сами горы, погруженные в состояние безвременья, ослепительный трезубец Монблана. И сам небосвод, необъятный, каждое утро чистый, обновленный… Это были составные части чего-то целого, слитого между собой по форме, цвету, запахам, по своей неотъемлемости одно от другого. Всё здесь было взаимосвязанным. И никакого самого изощренного воображения не хватило бы, чтобы представить себе этот мир каким-то другим. Но тем сильнее становилось чувство собственной отчужденности от него…
Время от времени Петра охватывало мучительное чувство, что бесцеремонность, с которой он вторгается в этот мир — бесцеремонность крылась в самих этюдах, в попытке воспроизвести собственными руками что-то зримое, реально существующее, в самой неспособности довольствоваться ролью пассивного наблюдателя, — скрывает под собой что-то легкомысленное, а возможно, даже что-то недопустимое. Так как это приводило к противоестественному искажению во взгляде на всё — на себя, на окружающий мир, но еще больше на взаимоотношения с ним. Ведь так или иначе возникала иллюзия, лживая и неадекватная, что окружающий мир существует потому, что видим. Тогда как в действительности, сколь бы ни было острым испытываемое по отношению к видимому миру чувство инородности, именно он, наблюдающий, утопал в своем созерцании, именно он оставался каплей в океане. И вовсе не он впитывал в себя окружающий мир. А окружающий мир впитывал его, обладая непостижимым свойством поглощать и тут же ассимилировать всё, что бы с ним ни соприкоснулось. В сам его объем, казалось, заложена какая-то всепоглощающая потенция, и не просто каркас, не просто модус.
Что за модус заложен в яблоко, в кувшин или в салатницу из лиможского фарфора? Разве не существуют эти предметы сами по себе? Разве не подчиняются они внутренней организации, какой-то скрытой статичной силе, самой очевидности, заложенной в предметы?
Где-то здесь, видимо, и было главное объяснение. Если мир действительно столь целен и един, каким кажется, если вещи способны обладать собственной сущностью, а сами их названия — не более чем ярлыки, искусственные вывески, если в вещах действительно присутствует какой-то модус или каркас, то он должен быть один-единственный на всю природу, причем совершенно безмерный и всепроницающий…
Ночью Петру опять приснился незнакомец в берете. Этот сон его уже не удивлял, даже если финал с каждым разом становился всё более странным, по сути бредовым… Как только он заметил — во сне — незнакомца в дверях спальни, тот добродушно кивнул ему, погрозил пальцем, не то упрекая, не то подтрунивая над чем-то, и показал острием палки в окно.
Петр перевел взгляд в указанном направлении и увидел за окном четверых незнакомых мужчин, которые стояли на ярко-зеленой поляне, обступив большую, правильной формы конструкцию. С видом заговорщиков переглядываясь, все четверо грызли яблоки. Самый высокий из четверых, на голове у которого красовалось клетчатое шерстяное кепи, вдруг заметил, что в доме, за окном кто-то есть. И он энергично замахал рукой: подходи, мол, чего ты прячешься?!
Петр так и поступил, подошел.
— Как тебя зовут? — спросил высокий малый в кепи.
— Петр.
— Петр, хочешь попробовать? — спросил тот; оскалив зубы в лошадиной улыбке, он стал вдруг похож на Фернанделя.
— Нет, я не ем яблоки.
— Да я не про яблоки… Хочешь шарахнуть по этой бандуре?..
Долговязый постучал костяшками пальцев по круглой конструкции. Она ответила на это гулким, продолжительным звуком, похожим на гул, издаваемый колоколом после удара.
Разглядывая сооружение, которое его просили разбить, Петр не мог пересилить в себе чувства какого-то внезапного восхищения. Это был большой, удивительно правильной формы шар, изготовленный из стекла или из какого-то прозрачного пластика. В ту же секунду Петр увидел себя со стороны. То есть увидел, как сам он твердо, отрицательно качает головой, отказываясь от предложения разбить сферу.
— Тогда ты не Петр, — заключил долговязый и в следующий миг, взяв с травы деревянную чурку, размахнулся ею и одним махом разбил шар вдребезги.
Из-под множества осколков, усыпавших траву, выкатилось несколько шаров, точно таких же, как только что разбитый большой шар, но только меньшего размера — величиной с футбольный мяч.
Все четверо принялись собирать шары. Петр подошел к одному из шаров, выделявшемуся среди остальных, — этот шар оказался не совсем правильной формы, — поставил на него ногу в ботинке и, ловя на себе подбадривающие взгляды, раздавил его одним нажимом подошвы.
Среди осколков опять показалось множество шариков, на этот раз совсем крохотных, не крупнее теннисного мяча. И среди осколков опять замешался шар неправильной, почти овальной формы. Подобрав его, подбрасывая шар в руке, Петр отошел в сторону и раздавил его уже на деревянном садовом столе.
Всё повторялось до тех пор, пока извлекаемые шарики не стали настолько мелкими, что закатывались в щели стола, сыпались в траву, и собрать их уже не было никакой возможности.
Долговязый ел очередное яблоко и продолжал тыкать пальцем в траву, показывая троим мужчинам, ползавшим по земле на четвереньках в поисках шарика неправильной формы, то один, то другой сверкающий шарик. И вдруг Петр увидел рядом Мольтаверна.
Глупо хихикая, Мольтаверн участвовал в поисках наравне со всеми. Скованный этим внезапным присутствием, Петр был вынужден всё ниже и ниже склонять лицо к траве. От страха, что эта его уловка не спасет его и что его всё равно заметят, он и проснулся…
…А заснув, увидел продолжение сна. Ему вдруг захотелось показать остальным, что для того, чтобы посмотреть, что находится внутри сферы, нет никакой необходимости ее разбивать. Подступившись к сфере — откуда ни возьмись, на траве появился новый, точно такой же большой шар, как и самый первый, — он обхватил сферу руками, сделал какое-то простое и ловкое движение, и она плавно распалась на два ровных, полых полушария. Развалившись в стороны, полушария мерно раскачивались.
Один из мужчин, не веря своим глазам, подошел к полусфере и попытался заглянуть в нее. Но край оказался слишком высоким. Уцепившись за него руками, он подпрыгнул, потянул край на себя, и полусфера перевернулась, накрыла его.
Все бросились спасать товарища. Но сколько ни пытались сообща приподнять полусферу, так и не могли оторвать ее от земли даже на сантиметр. Ситуацию спас Мольтаверн. Молчаливым жестом он попросил ему не мешать, подошел к полусфере, нагнулся, ухватил ее за край и рывком оторвал от земли. Приподняв прозрачное полушарие настолько, насколько это было возможно, и поставив его ребром, Мольтаверн показал всем внутрь. Мол, смотрите! Зачем попусту надрываться?! Но там действительно никого не оказалось…
Утром в воскресенье на рассвете пошел снег. Белая пелена оседала на землю плавным волнистым покрывалом. И в тот момент, когда птичий щебет, в это утро едва уловимый, окончательно стих, снегопад сгустился, и погруженная в серую хлябь долина стала сразу же непроглядной.
Встав раньше обычного часа, чувствуя себя разбитым, невыспавшимся, Петр растопил печку и сидел не завтракая возле распахнутой топки. Он отогревал ладони о чугунную плиту, вглядывался в молочно-белую муть за окном и не верил своим глазам. Снегопад в начале мая! Глубокую тишину двора и квартиры, насыщенную чем-то непривычным, не домашним, нарушало потрескивание горящих дров робкий и еще пересвист какой-то одинокой птахи. Но и сама долина дышала сквозь белую толщу снегопада какой-то немой, омертвевшей утробой. Исчез и привычный мерный, гул, обычно доносившийся снизу, со дна долины. Редкие звуки словно завязали в снежном месиве. И даже грохот утреннего поезда, в этот час обычно заставлявший просыпаться, донесся как что-то нереальное, едва уловимое.
В Пасси прозвенели колокола. Дремотная тишина двора стала оживать. Послышался неуверенный крик петуха, который хрипло голосил, оказавшись где-то запертым. Необычный шум раздавался и от сараев.
Петр накинул на плечи пальто и вышел на террасу. Две малиновки с красными брюшками вспорхнули со стола, припорошенного снегом. Стол был изрисован мелкими крестообразными следами. Пройдясь до конца перил, Петр вдруг увидел в двух шагах от себя Эв Фаяр. Она копалась в клумбе, разрыхляя почву большим кухонным ножом и выкорчевывая из земли бледно-желтые нарциссы.
— Доброе утро! — сказал он.
Хозяйка разогнулась, с живостью оглядела его и ворчливо ответила:
— Что творится — вы только гляньте… Решила срезать, а то замерзнут.
— Жалко, так хорошо цвели… Вы думаете, что много наметет? В мае?
— Да еще как! У нас и не такое бывает… — Возможность чем-нибудь озадачить явно доставляла хозяйке удовольствие.
— Ваш муж не вернулся?
— Звонил час назад — спускается. Там тоже метет, похуже чем здесь.
— Как же он спустится… в такую погоду? — спросил Петр, поневоле воображая себе пышные, как пух, сугробы, непроглядную метель, что-то такое, чего ему никогда не приходилось видеть воочию.
— Не впервой ему! Ему хоть два метра, хоть пять… — заверила Эв Фаяр. — Если вам уголь нужен, я Жанно скажу, когда появится — занесет.
— Не нужно, у меня тепло.
К девяти часам утра, когда хозяин вернулся на ферму, снегопад стал настолько сильным, что белая пелена, вперемежку с туманом, как чудилось Петру, или с каким-то паром, шедшим от земли, уже полностью застилала спуск. Видимость была не больше чем на сотню шагов. Пихты за оградой, кусты и даже молодой дуб с узорчатой аурой из мелких коротких веток стояли как живые, словно из последних сил пытаясь удержать всю тяжесть, скопившуюся на их усыпанных снегом ветвях.
Затягиваясь сигаретой, Петр наблюдал с террасы за тем, как хозяин выбрался из джипа, зашел в дом, но жены там, по-видимому, не застал и теперь рыскал по всему двору в поисках не то жены, не то какого-то инструмента. Когда Фаяр исчез, а затем вновь появился в калитке, распахнутой в огород, по одному виду старика стало ясно, что ему не терпится поделиться впечатлениями от похода в горы. Петр поздоровался и пригласил его на чашку кофе.
Оживленно поднявшись на террасу, сияя раскрасневшимся от холода лицом, Фаяр остановился на пороге и тут же стал расписывать, как только что увязал наверху по пояс в снегу. Для наглядности он почему-то проводил ребром ладони себе по горлу. А с утра, проснувшись в сторожке наверху, ему пришлось буквально откапывать дверь, которая оказалась заметенной снегом по самую крышу…
Так и не успевая вставить слова, Петр всё же мельком заглянул в спальню, вынес откуда-то большой, правильной формы сверток, упакованный в золотистую бумагу, и протянул его старику.
Фаяр уставился на него с недоумением.
— Это вам подарок от меня… на день рождения, — сказал Петр. — Поздравляю. От всей души!
— Мне? Зачем вы… Вот этого не надо было делать, — пробурчал старик, принимая сверток.
С видом человека, который и рад, и вместе с тем удивлен, что смог заранее предугадать чужую реакцию, Петр вынес на холод террасы поднос с чашками, кофейником и сахарницей, поставил поднос на столик, разлил кофе по чашкам и, взяв одну из них, стал молча размешивать сахар.
На террасе показалась Эв Фаяр, видимо услышавшая голос мужа. Не успела она приблизиться, явно чем-то недовольная, как Фаяр горделиво показал жене подарок, а затем, словно осмелев в ее присутствии, разорвал пакет и застыл в нерешительности. В коробке была аккуратно сложена зеленая охотничья куртка на меховой подстежке, по виду добротная и дорогая.
— Я же вам испортил куртку краской… разве не так? — сказал Петр, чувствуя, что жест требует объяснений.
— На мне рвань была, я же вам говорил, а это… Разве можно так? — забубнил Фаяр. — Нет, я не могу принять.
— Не переживайте, обошлось в три гроша. Да честное слово. В Салланше была распродажа. Если вас это может успокоить… В магазинчике у пассажа — может, знаете? Насчет размера я не уверен. Но если не подойдет, можно поменять, я предупредил в магазине.
Фаяры продолжали растерянно переглядываться. Подарок казался им слишком дорогим. Скорее всего, они переоценивали его реальную цену. Куртка не была дешевкой. Петр заплатил за нее девятьсот девяносто девять франков. Но она могла стоить гораздо дороже.
— Вы меня в неловкое положение ставите. Ну, хорошо… Спасибо, — сдался Фаяр с мрачной нерешительностью. — Вы, надеюсь, с нами будете обедать? Наши все скоро съезжаются.
— Это сегодня? — удивился Петр. — Спасибо. Нет, я, пожалуй, не смогу. Я обещал обедать у знакомых сегодня, — солгал он.
— Вот это вы напрасно! Отказ не принимается, — пробормотал Фаяр и покраснел. — Подарками разбрасываетесь, а за стол сесть отказываетесь. Я ведь и вернуть могу, — добавил он не то в шутку, не то всерьез. — С детьми познакомитесь, да и вообще…
— Хорошо, я приду, — помедлив, сказал Петр.
Кивнув всем лицом, Фаяр направился следом за женой во двор, разглядывая меховую подстежку и сокрушенно качая головой.
К часу дня от риги стал доноситься собачий лай, разноголосые детские крики, а на этаже хозяев был слышен топот многочисленных ног.
В окошко ванной комнаты, выходившее на подъездную площадку, Петр увидел незнакомых мужчин и женщин, которым Жанно помогал принести из машин вещи. С огрызком сигариллы в зубах работник таскал то сумки, то пеструю детскую утварь. Разгружать ему приходилось чуть ли не целую автоколонну легковых автомобилей, выстроившуюся при въезде на ферму…
Еще через четверть часа взбудораженный, весь в испарине и непохожий на себя Фаяр водил Петра по кругу, знакомя с домочадцами. Не слыша друг друга из-за крика, поднятого детворой, приехавшие толпились на улице перед каменным крыльцом, ведущим в жилую часть дома, и, вопреки царившему здесь беспорядку, чувствовали себя уютно в полумраке высокой риги, переоборудованной в нечто промежуточное, полужилое. Это были не то сени, не то гигантский чулан, словно складское помещение по самую крышу заваленное ненужными вещами.
Старшая дочь, немного пышная, средних лет блондинка с алым ртом и нарумяненными щеками, оттягивала на себе края свитера, будто в гостях, перетаптывалась с ноги на ногу и держалась почему-то скованно рядом с мужем, простоватым фермером, который из вежливости улыбался всем бессмысленной улыбкой.
Рыжеволосая девушка по имени Лили, приехавшая из Парижа утренним поездом, приходилась хозяевам младшей дочерью. В отутюженных брюках, с насмешливыми синими глазами, лицом вылитая мать, младшая дочь перехватила у отца эстафету и ничуть не хуже исполняла роль главы праздника, которую тот играл как-то уж слишком неуклюже. Петра, столичного жителя, Лили принялась знакомить с остальными членами семейства, с каждым персонально, не то отдавая дань каким-то приличиям, не то решив всех разыграть. Однако соль шутки оставалась непонятной.
— Этот молодой человек — наш бывший чемпион по лыжам… И если бы он не устроил трамплин на крыше сарая и не свернул себе шею, он был бы сегодня мировым рекордсменом. Место жительства — Сикст. Так называется одна местная дыра. Место работы — лыжная база… — на все лады объясняла общительная Лили, представляя Петру высокого тридцатилетнего мужчину с доверчивым лицом юноши, который пытался починить раскуроченную деревянную конструкцию непонятного назначения, понадобившуюся детям для какой-то забавы. — А это наш передвижной музей… бэушной домашней утвари, правильно я объясняю? Отвлекись, милый, на минуту! Это мой старший брат… — Лили тронула за плечо коренастого, лет сорока брюнета, который в запале рассказывал группе других взрослых домочадцев о Монте-Карло, о налоговой инспекции, об охоте на кабана, в которой он недавно участвовал на юге Франции, и одной своей манерой изъясняться он приводил собеседников в повальный хохот. — Живет тоже в Париже. На работу ходит в Друо. Начал там многообещающую карьеру… при аукционе. Хотя по виду не скажешь, правда? Но у нас по одежке не судят…
Вздрагивая от хохота и шевеля двойным подбородком, старший брат развернулся и внимательно посмотрел на гостя, прежде чем подать руку для рукопожатия, но с таким видом, будто собирался пырнуть ею в живот.
— Вы ее не слушайте, — учтиво обронил он. — Для нее мы все комедианты. Начинающие или уже со стажем.
Средний брат и его жена — оба в лыжных куртках, с сосредоточенными лицами людей семейных, утративших способность думать о чем-нибудь другом, кроме как о своих домашних заботах — старались отчистить белый воротничок пятилетнего отпрыска от женской помады клубничного цвета, а заодно пропесочивали за что-то дочь, хорошенькую девятилетнюю девочку с кроткими, волоокими глазами, которую осоловелый Фаяр-старший держал на руках.
— Эту малютку, эту пугливую малютку зовут… Как тебя зовут? — продолжала Лили свой спектакль. — Ну, не прячься, не прячься!
Не желая ни с кем знакомиться, девчушка вырвалась из рук пьяного от счастья дедушки и помчалась к группе детей, которые скакали и визжали, увлеченные очередной забавой. Лили, откинув за плечи длинные рыжие локоны, бросилась за девочкой следом.
На семейное торжество пригласили и дядюшку Жана. С видом отверженного он переминался с ноги на ногу, сверкал сквозь полумрак своими призрачными глазами и всякий раз, когда ему удавалось вставить в разговор хоть словцо, не знал, куда деть свои руки, запихивал кулаки в карманы. Жан приходил в смущение от каждого взгляда. Когда Петр приблизился к нему и пожал ему руку, тот смерил его укоризненным взглядом и, как ужаленный, стал рассказывать племянникам о том, как неделю назад наткнулся на кабана около своей пасеки. Все с удивлением внимали рассказу.
— Да что твоя пасека! У нас вон в огород прямо залезают, — встрял в разговор Фаяр-старший. — В прошлом году прямо вдоль ограды разгуливали. Там, куда золу раньше ссыпали, не помнишь, что ли?
— Кабаны? Здесь? — изумился Петр.
— Да вон там! — Фаяр шагнул к свету и показал на улицу, за сараи. — Дуб видите? А потом вправо идет тропинка. По ней они и спускались. Там ниже ручей есть… Хоть бери ружье да стреляй с балкона. Я такого даже на охоте никогда не видел.
— Вы ходите на охоту? — вежливо поинтересовался Петр.
— Нет, теперь не хожу. А понаблюдать люблю… Когда знаешь, где они проходят, на дерево можно забраться. Они ведь нюхом чувствуют только понизу, по земле.
— Да осенью у меня тоже хороводами шлялись, — вставил дядюшка Жан. — А прошлым летом что устроили! Прямо на кукурузное поле за огородами выбежали. Пять зверюг — зараза! Прям за магазином… Ну, за этим, как его… — Заметив, что опять оказался в центре внимания, горец смутился, вставил правый кулак в карман и продолжал другим голосом: — Несколько наших пошли шугануть их, значит… Окружили, значит, поле… Один полез в кукурузу. И прямо на кабана! Тот его клыками — и в воздух! Распорол весь правый бок.
— Да не бок, — поправил Фаяр дядюшку Жана, — а бедренную артерию на правой ноге… Благо ружье из рук не выпусти, когда падал, смог выстрелить, — объяснил старик несведущим. — А так бы… До больницы, правда, еле довезли.
Эв Фаяр, в чем-то светлом, воскресном, вышла на крыльцо и потребовала, чтобы детей отправили сразу же за стол, — для них обед был накрыт на кухне. Пока детвору собирали по двору, Фаяр обносил своих гостей шампанским, красным мартини и портвейном.
Любимый семейный ритуал — дегустация родительских аперитивов — еще не закончился, как все стали подниматься по крыльцу в переднюю, оттуда направляясь в низкую, просторную столовую, перегороженную длинным столом. Все долго рассаживались по своим местам, тесня друг друга и гремя стульями, а затем с еще большим оживлением разбирали салфетки, прежде чем пустить по рукам блюда с паштетами, фаршированными яйцами, с мелко нарезанной холодной пиццей, заправленной анчоусами и маслинами.
Молодая девушка-служанка, которую Петр однажды уже видел во дворе, внесла в столовую два горячих блюда с ягнятиной. Хозяин торжественно объяснил, что мясо не просто запечено на древесном огне, но еще и выдержано в винном маринаде.
Весь стол взвыл от нетерпения. Старший сын, тот, что жил в Париже и работал на аукционе, вышел из-за стола и с выражением немного плотоядного удовольствия на лице принялся разделывать мясо, перекладывал тонко нарезанные ломтики в поочередно подносимые тарелки.
Оказавшись в торце стола, у самого окна, подобно главе семейства, который сидел напротив, через весь стол, Петр чувствовал себя нелепо. Роль почетного гостя он ничем не заслужил. Принимая приглашения Фаяров, он был уверен, что, кроме детей с женами, за столом будут другие приглашенные, но оказался единственным посторонним.
Дядюшка Жан, сидевший слева от него, молча налегал на ягнятину, обводил всех виноватым взглядом и не переставал подливать Петру красного «биологического» вина местного разлива, которым он снабжал, по его собственному признанию, всю семью, но ухаживал он за Петром лишь для того, чтобы не забывать себя, чтобы под шумок успеть наполнить и свой бокал, который осушал быстрее всех. По виду горца нетрудно было догадаться, что честь присутствовать на застолье у Фаяров ему выпадала не столь часто.
Самый младший из Фаяров, сидевший слева от дядюшки Жана, пытался вступить с Петром в разговор. Но горец одергивал его, на что тот покорно сиял улыбкой, немного стыдясь своего дяди за его неотесанный вид. Предложив Петру хлеб, младший назвал его в который раз «господином Вакагиным».
— Вертягин! ― ревностно осадил дядюшка Жан и, закатив глаза, влил в себя полбокала вина.
Мать семейства, сидевшая у выхода между дочерью и невесткой, к своей тарелке не притрагивалась. Озабоченным тоном она жаловалось одной из невесток на Жанно, работника, которого за столом не оказалось, и не замечала, что с какого-то момента, когда мясо всем роздали, внимание всего стола было обращено именно к ее словам.
— Нет, я ничего не могу поделать. Приходит утром, а в животе уже бутылка красного булькает, как в канистре. И за день еще литр сидра выпивает. Сестрам его звонить больше не могу. Они потом с ума сходят. Ведь его больше никто брать не хочет. Я еще так — махну рукой, — растолковывала Эв Фаяр оправдывающимся тоном. — Посылать тоже больше некуда. Везде побывал! А эта история с ногой! Попробуйте заставить его пойти показаться! В позапрошлом году я как-то послала его на сливы вниз к соседям. Так он поленился лестницу поставить и свалился — бултых, как мешок! Сломал четыре позвонка. Но мы, непонятно как, проморгали. Через десять дней я его заставила поехать со мной. Врач так и обмер! «У него, говорит, четыре позвонка сломано! Как он умудрился терпеть столько времени?» Теперь с пластинами на спине ходит… Работать не запрещено, но с предосторожностями. А вы его спросите, что это такое — предосторожности? Он вам ответит: «Белого не пить на голодный желудок…»
Фаяру-отцу тема Жанно, видимо, уже опостылела, и он заговорил с другим краем стола, где сидели с женами старший сын и средний. Он рассказывал о своей ночевке наверху в сторожке. По его словам, в доме осела левая стена. Стену, по всей видимости, подмыло, и до лета ее нужно было отремонтировать, причем не откладывая, сразу же, как только сойдет снег.
Средний сын, живший здесь же, в Верхней Савойе, внимал отцу с интересом, хотя сам продолжал отмалчиваться. Старший лениво блуждал взглядом по столу, чему-то ухмылялся. Затем, для полного счета, к разговору присоединился и младший, без сомнения специалист по вопросам выживания в условиях высокогорья, недаром он работал на лыжной базе. Он стал жаловаться на погоду, на убытки, которые понесли в этот сезон лыжные базы, — снижение доходов исчислялось в текущем году аж восемью процентами.
— У вас, что ли? Восемь процентов? — не поверил отец. — Шесть, я слышал.
— Везде по-разному. Пока шесть, но к весне набежит восемь. Год-то был неплохой. В феврале даже рекорд посещаемости побили. А следовательно, эксплуатация подъемников тут вообще ни при чем. В марте тоже было ничего, хотя выпадали облачные выходные. А апрель — ну просто полный финиш! Почти как на Рождество…
— Ну а чему ты удивляешься? — спросил отец. — В апреле люди думают уже о другом, не о лыжах.
— Смотря кто, — не согласился младший сын. — Ведь что странно, посещаемость в апреле выше, а от эксплуатации подъемников доходы падают. Как это объяснить?
— Дорого дерут, вот и объяснение, — ответил Фаяр. — Сколько у вас? Пятьдесят франков за полдня просят?
— Да нет, меньше. Кто же по полдня катается?
— Всё равно обдираловка… — Настроение у отца почему-то портилось.
— У папы всё всегда обдираловка! — пошутил старший сын, протягиваясь за бутылкой вина через стол.
Фаяр помолчал. Но затем, подняв на старшего сына уязвленный взгляд, тихо произнес:
— На твоем месте я бы помолчал.
— Надо идти в ногу со временем, — сказал старший, не замечая недовольства отца или стараясь не обращать на него внимания. — Ты знаешь, главное ведь не цены, а чтобы… Ну как сказать? Чтобы не было отлива денежной массы на сторону. Ведь те пятьдесят франков, которые человек платит, чтобы прокатиться наверх… в кресле или верхом, как ведьма на метле… всё равно в чьем-то кармане оседают. Для чего? Чтобы быть истраченными. На что? Да вон — у дяди Жана мед купят. Что скажете, дядя Жан? — крикнул он дядюшке через стол. — Я говорю, что чем дороже, тем лучше.
Дядюшка Жанн испуганно уставился на родственника, едва не поперхнувшись куском мяса.
— Не знаю я, в какое время ты живешь… Но такого не бывает, чтобы все покупали и продавали и никто ни черта не делал, — с сухостью заметил отец.
— Ну, знаешь… На купле-продаже мир стоит. Одни продают. Другие производят. Не всем же кроликов разводить… — Старший развернулся к служанке, которая убирала со стола посуду, и сказал: — Ты попроси, милая, Жанно, пусть сходит к машине, у меня в багажнике ящичек лежит с двумя бутылками, слева — он найдет…
— Никуда он не сходит! — с твердостью отрезал Фаяр-отец. — Сам встань и сходи! Жанно с детьми сидит. И этот твой комод, который ты приволок на хранение, чтоб Жанно не корчился, не таскал его! Ты что, не видишь, что он еле-еле ноги передвигает?
— Да что это вы заладили! — вмешалась мать семейства. — Хватит болтать непонятно о чем! Ты тоже мог бы помолчать, — одернула она мужа. — Ждал же всех, ходил как чумной, ночами не спал. Так и скажи всё как есть, велика тайна!
Над столом повисло гробовое молчание. Старший сын, оскорбленно уставившись в бокал с вином, играл желваками, шея его налилась кровью. Фаяр, опять покрывшийся испариной, похожий вдруг не на старика, а на старуху, болезненно щурился на жену и явно боялся вымолвить еще что-нибудь неуместное. Лишь дядюшка Жан продолжал озирать перессорившуюся родню веселым, немного надменным взглядом и даже не считал нужным прерывать трапезу. Он жевал с открытым ртом, время от времени вздыхая с таким видом, словно устал шевелить челюстями.
— Учиться уму-разуму никогда не поздно, — произнесла Лили с насмешкой, глядя снизу вверх на старшего брата, который наконец взял себя в руки и теперь хладнокровно кромсал в своей тарелке листья салата.
В следующий миг, не глядя на отца, старший раздельно произнес:
— Если тебе так тягостно слышать мое мнение, а может, и выносить само мое присутствие, я могу…
— Хватит! — Фаяр ударил кулаком по столу. — Можешь, конечно, закончить на кухне. Только молча… Встань и выйди!
Старший усмехнулся, промокнул салфеткой губы, поднялся и, багровея, неровной походкой вышел из комнаты.
— У папы страсть к выяснению отношений, — произнесла Лили, словно извиняясь перед всеми за отца. — Папа, ты бы хоть подумал, что здесь сидят чужие люди.
— Прошу извинить меня, я не хотел… — виновато пробурчал тот, не отрывая глаз от стола, и со звоном выронил нож в свою тарелку. — Ты, Лили, тоже не лезь, пожалуйста.
— Если ты считаешь себя вправе портить всем настроение из-за ерунды, я могу сказать, за что ты на него так взъелся. Потому что он привез тебе счет от адвоката. На двадцать тысяч! Ну что, я не права?.. Стыдно, папа.
— Не лезь, Лили. При чем тут двадцать тысяч, — пробормотал отец.
Эв Фаяр поднялась из-за стола, молча вышла на кухню. И в комнате воцарилось еще более тягостное молчание. Лили вспорхнула со своего стула, проплыла по комнате к отцу и обвила его руками вокруг шеи:
— Папа наш старенький! Мы ведь не ссоримся. Ну признайся?
Фаяр, не зная, плакать ему или смеяться, поймал дочь за руку и не то засиял, не то покраснел от внезапного, спасительного умиления.
— Он ведь вам главного не сказал, — провозгласила Лили. — Наш папа со следующей недели пенсионер! И собрал он нас… Вы нас простите за наши семейные квипрокво![3] — бросила она через стол, обращаясь к Петру. — Собрал он нас, потому что хочет делить имущество и не знает, с какого конца начинать.
— Все-то ей известно, — пробормотал Фаяр примирительно. — Эх, коза-егоза!
За столом возникло бурное, хотя и немного фальшивое оживление. Зазвенела убираемая посуда. Опять гремели отодвигаемые стулья. Когда служанка внесла на подносе две бутылки шампанского, приготовленные для десерта, все поднялись. Но в тот же миг в комнату вошла Эв Фаяр в сопровождении Жанно. Она усадила его рядом с дядюшкой Жаном, приказала резать пирог, и все с облегчением расселись по местам.
Дядюшка Жан извлек из нагрудного кармана толстую сигару, ухмыляясь, обнюхивал ее, но тут же достал вторую и предложил ее Жанно. Не поблагодарив, Жанно взял сигару, положил ее рядом с тарелкой, взялся за колени и быстро, как истукан забубнил:
— Большая сигара… Спички уронил в бочку… В субботу пойду к врачу…
С трудом дыша от сытного обеда, дядюшка Жан поддал Жанно между лопаток, да с такой силой, что бедняга вздрогнул, а затем, откинувшись на спинку стула, с покровительственным видом улыбался во все стороны, но больше всех Петру, как бы намекая на то, чего не смел сказать ему прямо: мол, останься он у него в шале, никаких «квипрокво» бы не получилось…
С утра в понедельник к ферме подъехала белая легковая «мазда». Из машины высадились трое мужчин. Один из них, в австрийском пальто елового цвета, обошел дом, вернулся назад к машине и, нацепив на глаза массивные черные очки, с серьезным видом разглядывал хозяйство — оставленные распахнутыми сараи, ригу с дровами, подсобные постройки.
Петр курил в этот момент в конце своей террасы, откуда просматривалась верхняя часть двора с подъездной площадкой, и, наблюдая за приехавшими, ждал, что кто-нибудь выйдет их встретить. Но из риги никто не появлялся. Тогда он накинул на плечи пальто и направился к машине. В тот же миг на улицу вылетел Фаяр.
Пробежав мимо Петра, не здороваясь, старик суетливо пожал приехавшим руки и отошел с ними к дорожной насыпи. Что-то торопливо с гостями выясняя, Фаяр отрицательно качал головой. Слушая его вроде бы без особого внимания, все трое продолжали озираться на ферму. Тот, что был в зеленом тирольском пальто — на него и была возложена, судя по всему, главная роль, — дважды всплеснул руками, распахнул папку с бумагами и что-то показал Фаяру, сопровождая свой жест объяснениями.
Хозяин выглядел испуганным. Вид у него был всё более мрачный. Даже издали было заметно, что на него обрушилась какая-то неприятность.
Оставив гостей, старик прошел в дом и через минуту вернулся с красной папкой в руках. Он забрался в свой джип и дал «мазде» развернуться. Обе машины двинулись к спуску…
— Сказать по правде, я и сам не понимаю, куда всё катится! Это же надо так влипнуть! В мои-то годы! — пытался Фаяр объяснить Петру случившееся после обеда.
Старик рассказал о том, что приехавшая утром «делегация» была послана службой судебных приставов. Точнее, приезжал сам старший пристав, и его пришлось сопровождать утром на «опись» леса, находившегося неподалеку от фермы, на съезде с дороги, которая выводила на плато. Дубовый лес с большой поляной, в центре которой стоял добротный дом, в летнее время сдаваемый в аренду, теперь могли продать за долги, и помешать этому было будто бы невозможно.
Внимая хозяину, Петр испытывал не сочувствие, а недоумение. Тот разливал по рюмкам свой пятидесятиградусный виноградный «мар», выглядел каким-то сжавшимся, почерневшим, блестел по сторонам остекленевшими птичьими глазами, и чем больше усилий делал над собой, чтобы взять себя в руки, тем всё больше терял самообладание.
— Вы представить себе не можете, какая это для меня неприятность! Когда делили наследство родителей, мне достался лучший участок. Я всем пожертвовал. Лес, понимаете, не то что дровяной был… ну, который на дрова идет… а высокоствольный, свежий стоял. Да и сейчас! Нет, теперь точно продадут… — Объяснения Фаяра становились всё более путаными.
— Почему именно лес? Что-то другое вы не могли бы продать? — поинтересовался Петр. — Вы говорили, что у вас внизу есть шале. Или какой-то участок под Пасси…
Старик скользнул по нему озадаченным взглядом.
— Нет, участка не хватит. Мне ведь нужно почти пятьсот тысяч. Да не старыми, а новыми деньгами. А у своих, у родственников, не могу я просить, вы понимаете? Да и у кого попросишь такую сумму?
— Мне казалось, что дома здесь стоят дороже чем полмиллиона.
— Нет, это невозможно, — уперся Фаяр, словно боялся поддаться какому-то соблазну; затем его опять сковала нерешительность. — Тут и другое… Я должен поделить всё между детьми. Вот и получается черт знает что…
После некоторого молчания Петр спросил:
— С чем связан долг, если не секрет?
Старик помолчал и, борясь с собой, ответил:
— Да сын напортачил… Старший. Ведь страшный оболтус! Вы же видели вчера, что за столом устроил… Он мне одним делом удружил. Я ему говорил: не морочь мне голову своим антиквариатом. Свой девать некуда! Да и жена не любит это старье. Но ему хоть кол на голове теши. Горе настоящее, а не сын… понимаете? Из троих один — ну просто горе! — Что-то про себя взвесив, старик сокрушенно закивал головой, а затем огорошил Петра неожиданной историей о том, как два года назад влез в безрассудную денежную авантюру.
Старший сын, тот, который работал на аукционе Друо в Париже, был якобы посвящен в планы отца разместить с выгодой свои сбережения, он и предложил вложить деньги в ценную ювелирную вещь, которая как раз проходила через его руки. Вещь была редкая. Работы Фаберже, она принадлежала ранее русскому императорскому дому, но не числилась ни в одном каталоге, а на рынок антиквариата попала из рук монакского коллекционера и продавалась якобы по баснословно низкой цене. По заверениям сына, достаточно было продержать ее у себя пару лет, чтобы затем продать и одним разом извлечь сумму, в два или в три раза превышающую вложенное.
Фаяр утверждал, что поначалу, как только сын одарил его этой идеей, он отказывался от всего наотрез, хотя бы потому, что однажды уже попал по вине старшего сына в историю. Однако позднее — подробности старик опускал — он всё же сдался, и покупка была сделана. Петр понимал, что старик, привыкший наживать добро в поте лица, просто не устоял перед соблазном легко и быстро подзаработать, но потому и прогадал. Не прошло двух месяцев, как обнаружилось, что вещь — подделка. Сын принимал меры, ездил в Монако, клялся и божился, что сможет сбыть злосчастное приобретение с рук бывшему владельцу, забрал безделушку в Париж, держал в сейфе, но уладить ничего так и не смог. Дело осложнялось тем, что Фаяр вложил в покупку вовсе не те сбережения, о которых говорил: он заложил земельный участок, который находился ниже фермы, и в результате, окончательно запутавшись, не смог рассчитаться в банке за полученную ссуду.
— Что это за вещь? Что вы купили? — спросил Петр.
Фаяр растерялся, казался окончательно смущенным.
— Да ничего особенного… Яйцо. На лапках, — пробормотал старик. — Открывается, закрывается… Облеплено ландышами… А сверху корона — вот такого размера! — Старик показал нечто крупное.
— Я не понимаю, почему вы не подали заявление? Ведь вас обманули? — спросил Петр.
— Мог бы подать… Но в том-то и беда. Сын, получается, тоже влип. Оказался замешан в сделке, негодяй… Яйцо проходило через контору его знакомого, точнее, без конторы, под полой. И чтобы сбить при оценке стоимость, чтобы одурачить бывшего владельца, который хотел продать яйцо, они намухлевали. Занизили! В два раза как минимум… Если исходить, конечно, из того, что яйцо не фальшивое. А если фальшивое, то сами понимаете. Но об этом я уже потом узнал. Что получилось бы, если бы я заявил? На кого? На собственного сына?.. Я, конечно, руки не опустил. Но теперь, после этой описи… Непонятно, что делать.
— Нужно попытаться приостановить процедуру, — сказал Петр после некоторого молчания.
— Какую процедуру?
— С описью и с продажей леса.
Фаяр с безнадежностью махнул рукой.
— Если вы не могли подать заявление, то могли бы обратиться к адвокату, — добавил Петр.
— Да обращались! И опять этот оболтус удружил. Есть у него в Париже друг. Но как вам сказать… Я бы таких друзей мордой и в дерьмо! Уже пятьдесят тысяч высосал из меня, да всё мало. Он же наперед просит. А толку как с козла молока. Теперь-то я и платить не в состоянии. Откуда деньги брать? Я ж их не печатаю. Ну и вот… Теперь этот мастак предлагает заплатить ему треть с выигрыша, если он что-то отсудит. Вы посчитайте, сколько получается? Адвокаты — гнилой народ. Языки у всех до пола висят, а как до дела доходит — не приведи господь! Шкуры продажные! Иуды!..
Вечером, вернувшись на ферму с плато д’Асси, куда Петр поехал поужинать, он заметил возле машины хозяина зеленый джип дядюшки Жана и при спуске к террасе, через окошко, приоткрытое на кухне, увидел его и хозяина сидящими за столом.
С какой-то свирепостью взгромоздив на стол кулаки, оба взъерошенные, с раскрасневшимися лицами, не похожие на себя, они сидели друг перед другом и злостно рядились.
— Ты мне зубы не заговаривай! Ишь, повадились все! Вечно прикидываешься туземцем! Спал, не видел ничего и не слышал! — кричал Фаяр на шурина. — Я всегда был с тобой, как и Эв, по-людски! Так и ты постарайся быть человеком! Или ты не человек?!
— А кто тебе тогда помог? Кто крышу тебе перекрывал?! — огрызался Жан срывающимся от злобы голосом. — Какой дурак будет возить твои столбы с утра до вечера!.. Ты сестру давай не впутывай. Она тут ни при чем!
— И ты не впутывай! Ты меня понял?! — покрикивал Фаяр.
— Нет, не понял!
— Ах, ты не понял! Тогда чтобы ноги твоей здесь не было больше!
Предмет ссоры оставался меж тем непонятен. Петр мог лишь догадываться, что она связана с утренним визитом пристава и что во время послеобеденного разговора, когда Фаяр рассказывал ему о своих невзгодах, он наверное многого недоговаривал.
Дядюшка Жан уехал. Препроводив его к машине, Фаяр тоже на время исчез. Но вскоре силуэт его замаячил возле сараев. Раздевшись до нательной майки, старик до темноты кромсал топором какие-то ящики, а затем, подогнав машину поближе к сараям, стал сваливать в нее хлам, какие-то электрические приборы, целую гору деревянных ящиков, наподобие тех, которые дядюшка Жан сгружал из прицепа в день переезда Петра на ферму. По виду — пчелиные ульи. Со стороны казалось, что он решил уморить себя непосильным трудом назло всему миру.
День спустя вечер выдался такой же тихий, свежий и прозрачный. Затопив печь, Петр сидел на улице и наблюдал за заходом солнца. Необъятный котлован долины быстро окутывали сумерки. Бесчисленные мерцающие огни на дне ее множились прямо на глазах. Даже при свете дня долина напоминала непотушенный костер.
Некоторое время он листал газеты, а затем взял в руки Библию и в Притчах Соломоновых, казавшихся вроде бы знакомыми, осевшими в памяти, сразу наткнулся на свежие для восприятия строки, в которых слово сравнивалось с золотыми яблоками. «Золотые яблоки в серебряных, прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично».
Пытаясь нащупать в себе какую-то мысленную параллель, смутную и ускользающую, он увидел в конце террасы дядюшку Жана.
— Куда он подевался… папаша наш ненаглядный? — выпалил Жан.
— Фаяр? Час назад был в саду, — ответил Петр.
Застыв на почтительном расстоянии, дядюшка Жан сунул руки в карманы и проговорил:
— Эв тоже уехала? Машины нет… Куда они умотали, вы не в курсе?
— Вы что-то не в духе… — Петр смотрел на горца невозмутимым взглядом.
Дядюшка Жан стал осматриваться, ища что-то глазами, и бормотал:
— Это уж точно, не в духе… Я ему устрою — пенсию! В богадельню… к маразматикам не возьмут!
Петр отложил Библию и продолжал спокойно взирать на горца.
— Вы-то как? Более-менее устроились? — бесцеремонно поинтересовался тот, словно они не виделись с того самого дня, как Петр съехал из его шале. — Не заморили они вас холодом? А то народ у нас такой…
— Выпить не хотите чего-нибудь? — предложил Петр. — Только у меня бурбон, ничего другого нет…
— Это что такое?
— Виски… американский.
Горец выругался. Но, тут же извинившись, покорно согласился и поблагодарил. Выпить так выпить.
Петр принес с кухни бутылку и два стакана, разлил виски и протянул стакан дядюшке Жану с таким видом, будто налил в него какое-то лекарство.
Залпом влив в себя поднесенную дозу, Жан мрачно забубнил, озадачивая каким-то нетипичным для него здравомыслием:
— Я ему устрою нотариальную контору! Пошел, старый хрыч, права качать! К нотариусу! А какие у него права? Да никаких! Кто его заставлял спекулировать? Никто! Не я же ему яйцо впарил! Нам с сестрой от родителей по ферме досталось — моя да эта. Ну и остаток кой-какой был. В облигациях… Сестра большую ферму взяла, а я облигации держал, выплачивал ей долю… Но кто виноват, что половина в трубу улетела? Сколько лет прошло, никто не вспоминал. А теперь — вынь да положь! Раз присвоил чужое, говорит, гони назад! — Выпустив пар, дядюшка Жан сверкал своими бесцветными глазами по сторонам и, видимо почувствовав, что для полного правдоподобия его объяснениям чего-то всё же недостает, продолжил: — Где справедливость, я вас спрашиваю? По-людски это, между родственниками?! Так мучить всех! Так шантажировать! Да если сестра узнает, что этот хрыч к нотариусу ездил, она же из дому его выгонит!
— Зачем вы мне это говорите? — спросил Петр.
— Он же вам тоже рассказывает.
— Нет, мне он ничего не рассказывает…
Дядюшка Жан насупился. Поверить в подобное было выше его сил.
— Да чего тут рассказывать! — передернулся он, но уже без озлобления. — Рехнулся ваш Фаяр… под старость лет-то. Шантажировать полез!.. Я ему устрою шантаж! Ложечкой будут с пола соскабливать. Или лес его куплю! Так и передайте… Куплю лес и на дрова пущу. В розницу и по дешевке! Весь район будет топиться зимой…
Не узнавая голоса и удивляясь самому звонку, доктор Обри наконец спохватился, поворчал на свою рассеянность, на непогоду и, продолжая делать длинные паузы, издавая сопение, предложил Петру приехать сразу же. Он был в отгуле. День у него был свободен.
Петр попытался перенести визит на другой день. Старик в ответ замолчал; настаивать казалось глупо, бестактно. Петр спросил, не могут ли они встретиться в послеобеденное время. Делая вид, что его уговаривают, Обри согласился на пять часов…
Пасмурная серость держалась весь день. На высоте туман застилал дороги даже в послеобеденное время. Ниже, при спуске с гор, сильно моросило. Но глаза всё так же ломило от ярких, свежих красок весеннего цветения, в котором приусадебные сады утопали как в пышной перине. Округа опять выглядела неузнаваемой…
Выехав из Пасси, Петр не заметил, как миновал перекресток с поворотом на шоссе, срезавшим дорогу через лес, по которому он ездил к доктору осенью, и теперь был вынужден проделывать крюк по спуску главной трассы в самый низ предгорья. Проехав мимо какой-то фермы ― в этом месте никакой фермы не припоминалось, ― Петр продолжал вести машину наугад по витиеватой черной дороге, разглядывал дома, прилегающие участки и уже собирался разворачиваться, чтобы ехать назад к перекрестку, как вдруг уперся глазами в знакомый раздвоенный пень с дуплом, напоминающий женский торс. По другую сторону от дороги виднелись знакомые ворота с белыми столбами.
Ворота были открыты. Звонить в незапертые ворота было нелепо, и Петр, запарковав машину, вошел во двор, прошагал по гравию к главному дому, повернул на аллею, ведущую к входной двери, и в этот момент в окне гостиной заметил силуэт хозяина. Доктор укреплял на стене какую-то картину. В холсте Петр неожиданно узнал одно из своих осенних детищ, оставленных доктору на хранение.
— Ну, какими ветрами?! — осадил Обри с порога.
В упор, тяжелым взглядом разглядывая гостя, Обри не мог или не хотел скрывать своего удивления. Вид у хозяина был враждебный. Да и выглядел он изменившимся: не то сдал, не то постарел, казался обрюзгшим, в лице появилась нездоровая желтизна.
— Я рано приехал, не ждали? — спросил Петр, пожимая хозяину руку.
— Входите. А то меня протянет.
В жарко натопленной передней тоже чувствовалась перемена. Петр с живостью изучал обстановку, но не мог понять, в чем дело. Доктор пригласил в гостиную. Здесь всё оставалось по-прежнему, не считая двух новых картин среднего формата, расстеленного на полу широкого ковра с ромбами и нового, холостяцкого беспорядка.
— С трудом нашел ваши ворота. Всё так изменилось, поразительно! — сказал Петр, озираясь по сторонам. — Только вы всё тот же…
— А каким я могу быть?.. Тянем понемногу… лямочку. Дряхлеем, — пожаловался Обри, оскаливая желтые зубы.
Петр вдруг опешил. Он наконец догадался, что за перемена бросалась в глаза во внешности хозяина: у него был бесформенный, синего цвета нос, весь покрытый красными рубцами.
— Что это с вами? Упали?
— Упал. Перерыли улицу — черти! Всех бы под суд отдать!.. В темноте на велосипеде катался и… брык! Сколько раз штопали, а очки вот уже месяц носить не могу.
— Как же вы на работу ездите?
— Да это еще куда ни шло… Старая ломовая лошадь конюшню с закрытыми глазами найдет… Что же не звоните, не появляетесь? Здесь-то давно уже околачиваетесь.
Петр кивнул и с прямотой, которую Обри умел ценить, спросил:
— Откуда вы знаете, что я здесь давно?
— Поль с женой засекли вас на машине… Две недели назад. И до смерти обижены! — Доктор расплылся в кисло-сладкой улыбке, словно был рад возможности поделиться чем-нибудь неприятным. — У меня-то почему не остановились? Я же предлагал.
— Я не знал, что здесь окажусь. Поездка неожиданная. Для меня так проще.
— Дело хозяйское. Там же, где осенью поселились?
— Нет, на ферме.
— Это на какой еще?
— Выше. По той же дороге… У Фаяров — может, знаете?
— При въезде в лес?
— Вы знакомы с ними?
— Как же… Знаменитый местный самогонщик. Гоняли прохвоста пару лет назад. Да что с них возьмешь?.. У них наверху сторожка для туристов. Да ему здесь пол-округи принадлежит…
— Фаяру?
— Не половина, так треть! — Обри упер в гостя тяжелый взгляд.
— Вы на меня тоже, по-моему, обижены, — сказал Петр.
— Обижен, — признался Обри. — Человек, не способный принимать то, что ему предлагают от чистого сердца, не способен давать. Железное правило. Да ладно… Что у вас-то? Всё судитесь? Нравится быть адвокатом?
Петр сел на диван и, всплеснув руками, обронил:
— Не совсем.
— Бросили?.. Правда, что ли?!
— Нет… Но почти, — двусмысленно ответил Петр, и на лице у него появилось вопросительное выражение.
Обри сокрушенно закачал головой:
— Чудак вы, ей-богу… Ушли из профессии? Завязали?! И что же, баклуши бьете? Или может, художничать начали?
— Всё вместе.
— А-а… Всё-таки! — Доктор на миг смешался, затем, погрозив пальцем и пыхтя, проворчал: — Честно говоря, не думал… Выходит, это я вас сбил с праведного пути?
— Выходит так. И не ровен час — будете расплачиваться, — отшутился Петр.
С новой недоверчивостью вглядываясь в гостя, доктор заметил:
— Вот видите, куда вся эта болтовня может завести… Про противостояние да про масштабы… Ах, чудак вы, ей-богу!.. А я вон не расстаюсь… — Обри ткнул пальцем на холст Петра, висевший возле окна, оставленный ему на хранение с прошлого раза.
Это был тот самый холст, с которым Обри выиграл осенью свое пари и которому позднее было суждено стать прообразом целой серии модусов. В этот миг холст показался Петру наиболее удачным из всех его картин.
— Вы же его только что повесили, — сказал Петр, помедлив. — Я в окно видел, пока шел к двери.
— В окно увидели?.. А почему это вы заглядываете в чужие окна?.. Ну и что с того? Если бы я не менял эту мазню каждый день, этот дом давно бы в склеп превратился… — Разоблачение всё же привело Обри в некоторую растерянность. — А я вон еще парочку приобрел, — недовольно показал он на пару небольших холстов, изображавших нечто абстрактное и выполненных один в ярко-желтой палитре, а другой — в темно-синей. — Что скажете?
Поднявшись с дивана, Петр приблизился к синеватому холсту, равнодушно осмотрел его и сказал:
— Жирно.
— Что значит — жирно? Фактура есть фактура, — пробормотал старик, но всё же вынул из кармана очки, поднес их к глазам и, держа оправу на расстоянии от лица, стал рассматривать картину с таким видом, будто видел ее впервые.
— Поначалу все этим увлекаются… фактурой. А потом проходит, — сказал Петр.
— Вы правы, — согласился Обри. — По дешевке предложили, я и позарился. Желтый тоже не нравится? — Обри нацелил линзы очков на второй холст.
— Не знаю. Нет, наверное… Вы будете удивлены, но я перешел на натюрморты, ― добавил Петр, ― с яблоками… И должен сказать, получаю удовольствие.
И вправду чем-то удивленный, Обри стал недовольно расхаживать по комнате.
— С яблоками?.. Вот уж неудивительно… Человеку со сложным внутренним устройством нужны простые развлечения. Пар из башки нужно выпускать, не то ее разорвет на части.
— Не знаю, в этом ли дело.
— А в чем еще? Творчество ― это бегство, мой друг, как ни крути. От себя самого, от внутренней или внешней несостоятельности, от сословной ущемленности, от жизненного однообразия… Через творчество человек воспроизводит то, чего у него нет, или то, чего ему не хватает. Разве не замечали за собой?
— Может быть.
— Говорите — может быть, а в душе не согласны.
— Невозможно всё сводить к терапии. Что мне, по-вашему, яблок не хватает?
— Важен результат. А кто и что вложил от себя для того, чтобы его добиться… всю свою душу или полдуши… какое нам дело до этого?.. Апельсин не хотите? ― предложил Обри.
Петр задумчиво молчал.
— Зря отказываетесь. А я возьму. Освежает…
Доктор вышел из комнаты, вернулся с блюдом, на котором высилась гора крупных апельсинов. Поставив блюдо на стол, он выбрал апельсин покрупнее, грузно завалился в кресло и с кислым видом стал счищать кожуру.
— Небось с компаньонами переругались?.. Вам чего-нибудь эдакого захотелось… Прав я или нет? — Старик покачал головой. — Вы максималист — каких свет не видывал! Да разве так можно?
— Старая история… Когда мы начинали, когда открывали кабинет, ладили. А теперь — кто в лес, кто по дрова.
— Когда компаньоны грызутся, это всегда объясняется только одним: доходы поделить не могут.
— Не всё так просто.
— Ваши хотят деньжат побольше зарабатывать, а вам дороже честь мундира — так?
— Что я, по-вашему, ненормальный, что ли?
— Нормальный или нет — вопрос не в этом… В какое время мы живем? Посмотрите вокруг!
— Вы правы. Иногда я не могу отделаться от чувства, что за последние годы вокруг что-то изменилось, — согласился Петр. — Люди вроде не те. Всё не так, как раньше. Странно, что этого никто не замечает. Наверное, мы живем в новую эпоху, но сами этого не понимаем.
— Эпоха — это не прихожая… Из одной двери вышел или вытолкали — ввалился в другую. В ваши годы мне тоже мерещилось, что мир не тот, что всё не то, что на пороге — новая эра.
— Вы жили в другое время… Вы сами говорите.
— Да нет, я не о том говорю…
— Иногда у меня бывает чувство, что все мы… как бы это сказать? Что мы находимся в каком-то в простенке, в прихожей ― с двумя дверями, как вы говорите, ― попытался Петр объяснить свою мысль. ― Представьте себе, что в этой прихожей должны обвалиться обе стены. И вот стоишь между ними и не знаешь, какая обвалится раньше, куда первым делом ставить подпорки.
— Если вы уверены, что обвалится, переждите в стороне. Зачем башку-то подставлять? ― по-своему рассудил Обри. ― Кому вы собрались этим удружить?
— Пережидать в стороне можно всю жизнь.
— Да сколько вам лет, голубчик?.. Зарвались вы просто, мой друг! И кто с вами не заодно, кто чего-то там не понимает, на ваш манер, вы того раз — и в черный список.
— Нужно быть ненормальным или полным идиотом, чтобы судить человека за то, что он в чем-то не похож на тебя самого, ― сказал Петр, имея в виду явно что-то другое или пытаясь уточнить неверно высказанную мысль. ― Нет, я никого не осуждаю.
— Идиотом тоже иногда полезно быть. А то потом удивляетесь, что всё у вас кувырком, что вот ― забрались к черту на кулички… к Фаяру!.. и яблоки малюете… Правда не хотите апельсин? ― Обри отобрал на блюде еще один крупный апельсин, вытер его ладонями, поднес к носу и блаженно зашевелил изуродованными ноздрями. ― Надо всегда дорогие покупать ― не ошибетесь…
— По-житейски вы, может быть, и правы. Но мы действительно о разных вещах говорим… — На лице Петра выступила слабая улыбка. — Вот недавно… Мне пришлось защищать в суде одно дело. Бывший легионер надругался над девушкой — таково было обвинение. Мне предстояло обвинение опровергнуть. Малый, конечно, загремел по всем статьям, хотя дело запутанное, сам черт голову сломит. А через месяц… взял и наложил на себя руки… — с живостью стал он рассказывать. — Я даже думаю, что за решеткой таким, как он, внутренне проще, спокойнее, чем на свободе. Кормежка, крыша над головой, работу искать не нужно… Вполне понятно. Есть такой тип людей… Почему он это сделал? Лично я уверен, что просто не выдержал внутреннего разрыва. Перед всеми он негодяй, даже передо мной, ведь я взялся его защищать и таким образом лишил его последней отдушины… Человек не может жить с чувством, что он законченный негодяй. Даже самому падшему нужна зацепка в себе, какой-то край, за который можно ухватиться. В противном случае — пропасть.
— Ну и что дальше? — подстегнул Обри.
— Дальше?.. Получается, что, даже не занося никого в черный список, даже прекрасно понимая, что ход вещей изменить невозможно, вы не можете оставаться в стороне. А пытаясь сделать хотя бы минимум того, что от вас зависит, чтобы не стало хуже, чем уже есть, вы обрекаете человека на мучения… Я сложно объясняю?.. Ну, представьте себе, что вы вынуждены лечить человека, который некогда, в прошлом сделал вам большую подлость, и вы, как врач, не можете отказаться лечить его. Ваш бескорыстный поступок ― это наисильнейший способ воздействия на человека. Если вам удастся такого пациента выходить, то вы ему возвращаете сразу все: здоровье, жизнь, возможность очистить свою душу от чувства вины, от угрызений совести, которые всё равно не дадут ему жить полноценно. Но если не удастся, то он не сможет вернуть вам долга, не сможет ответить вам тем же. Он уйдет на тот свет в адских душевных муках. Мой вопрос заключается вот в чем: если нет надежды на излечение, должны ли мы пытаться лечить?
— Ну и ребусы у вас получаются… Что вам сделал тот человек?
— Потерпевшая — моя племянница.
— И вы стали его защищать?! Против племянницы?.. Ну вы даете… Зачем?!
— Дело не в родственных отношениях… Если уж вы беретесь помогать, то помощь нужна тому, кто слабее, а не тому, кто прав.
— Вот не знаю… Не знаю… — Отложив на стол очищенный апельсин, старик вытер руки о брюки и проговорил: — Вы же прекрасно знаете ответ на ваш вопрос. Конечно — должны! На этом всё и держится.
— Это для нас с вами! А для того человека мир уже ни на чем не держится… Для него он развалился.
— Недавно я влип в одну историю. Очень занятная история, не поверите! ― заговорил Обри после некоторого молчания. ― У одного моего знакомого обнаружили злокачественную аденому простаты. Обходил, бедняга, всех врачей. Ездил, куда мог, лечился, и всё безнадежно. Тогда он приходит ко мне: «Я, мол, им всем не верю. Лечи, если ты мне друг! Но с одним условием: я тебе заплачу за лечение, сто тысяч сразу же, а остальное потом…» Сами понимаете — сделка с дьяволом. Какой врач пойдет на это? Я был против, но в конце концов был вынужден пойти навстречу, и даже деньги решил взять, чтобы ему было легче. Психологический момент в таких ситуациях тоже немаловажен, а интересы больного превыше всего. Деньги я собирался, конечно, отдать потом родственникам, когда он умрет… И лечил его. А через полгода он вдруг встает на ноги. Выкарабкался! Каким образом ― я и сам не знаю. Я предложил ему забрать деньги, которые он мне дал. Он отказывается и ставит меня, естественно, в идиотское положение. На этом всё закончилось. Но потом, что вы думаете, мой больной стал распространять слухи о том, что, дескать, если бы не деньги, он отдал бы концы, что, дескать, такова цена современной медицины… Людская природа непредсказуема. И с той минуты, как уважение к человеку, к человеческой личности, становится точкой отсчета, рациональные домыслы уже ни к чему не приводят… Смотрите! Гармония вокруг нас вроде бы есть. Смысл есть! Всё есть! А в то же время — какая потрясающая бессмыслица во всем! Какая дисгармония! Ведь так? Так… Смотрите, какой апельсин, сочный… А когда заплесневеет?.. Что это доказывает?
Петр с рассеянным видом молчал. Обри вроде бы понимал его, но как-то по-своему.
— Когда вы в дождь идете по улице и наступаете на червяка — это же не значит, что вы злодей и что в мире больше нет никакой гармонии, — продолжал напирать доктор, — а только одна низость и мерзость?
— Трудно сравнивать человека с червяком.
— Смотря какого!.. Ну, допустим, что трудно…
— Нет, это другое, — перебил Петр. — Но, если хотите, в том-то и дело, что с того момента, как кто-то начинает думать, что он вправе раздавить червяка, лежащего на дороге, ни о какой гармонии уже не может быть речи. Вместо гармонии — что-то другое.
— Да бросьте вы, в самом деле!.. Такие рассуждения простительны юноше! Вы же зрелый человек!.. Что такое зло? Я вам отвечу… Это — мираж! Если разобраться — его нет. Есть что-то другое, это вы верно подметили.
— Когда речь идет о конкретном, живом человеке, с его реальными нуждами и переживаниями, всё это болтовня.
— Хорошо, согласен… В этом и трудность! Поэтому и нельзя делать выводы на одном примере, на примере одного человека. В противном случае мы попадаем в такие дебри, что…
— Если человек пытается помочь другому и не может этого сделать, это означает, что в нашем мире что-то нарушено, — опять перебил Петр. — А такие ситуации происходят на каждом шагу. Было бы глупо делать вид, что всё это бредни, мираж.
— Это и дураку понятно, что законы, которые пытаются обойти… или встать еще выше, чем высшие, абсолютные истины, такие, например, как заповеди Моисея… только не кривитесь, не кривитесь! Что я сказал такого неприятного?.. В этих заповедях вся премудрость, нажитая людьми за всю историю… Так вот, я хочу сказать, что законы, не вписывающиеся в заповеди, гроша ломаного не стоят. Их вообще не должно быть! А их — сколько угодно, сами знаете! Так всегда было и будет. Людское общество по-другому существовать не может… Поэтому не в мире что-то нарушено, а в вас! Не в порядке тот, кто хочет исправить кривого, а потом прется со своими жалобами. С жалобами на весь мир! А мир… Он, в сущности, не так плох. Он — никакой! Это пустая посудина, которую можно наполнить чем угодно…
За ужином — пожилая горничная накрыла стол в просторной светлой кухне, обставленной грубой деревенской мебелью, и подавала отварную рыбу с соусом из оливкового масла и лимона, — Обри вернулся к прерванной дискуссии, но принялся излагать свои позиции с другого конца.
— Какая, к черту, разница, обо всех идет речь или об одном человеке? Это всего лишь разные степени, выводимые из одной величины! Не согласны со мной?..
Петр молчал.
— Но даже если это так, на этой математике всё равно далеко не уедешь. Что такое Промысел? Ну как он, по-вашему, проникает в нашу жизнь?! — Обри почти кричал.
— Да откуда я знаю! — От резкого движения Петр едва не опрокинул бокал с вином. — По-моему, вы надо мной издеваетесь.
— Нисколько! Через что именно Промысел проникает в нашу жизнь?.. Через окружающих? Через толпу? Через людскую массу, через всех?.. Нет, нет и нет! Не может он править массами! Массами никто не может править! Промысел доходит до нас через единичное. Через вас, через меня, через кого-то там еще. От единичного он идет к целому. От частного к общему. Промысел — это почти то же самое, что замысел. А если так, то зачем рассуждать про всех?! Вы не найдете здесь никакого промысла. Результат его воздействия на наши жизни вам, может быть, и удастся пронаблюдать, но сам промысел там искать бесполезно. Ну какой вам еще пример привести?.. «Фиесту Бабетты» Карен Бликсен вы не читали? Я вчера пролистывал перед сном…
— Читал, — вздохнул Петр. — Хороший рассказ.
— Вот и отлично, раз читали, — одобрил Обри. — Теперь скажите мне, чем этот рассказ хорош?.. Тем, что рябчиков на стол подают? Суп, приготовленный из черепахи?.. Тем, что действие происходит в какой-то там задрипанной Дании?.. Нет, друг мой! Хорош он тем, что эта история, повествующая о беглой француженке-эмигрантке, дает нам возможность проследить на конкретном примере нечто совершенно удивительное по своей глубине. Иногда людям на это целой жизни не хватает. А мы с вами можем это сделать за полчаса!.. Эта история с ужином дает нам возможность проследить за тем, что Бог, может быть, всю французскую революцию провернул только для того, чтобы спасти одного человека! И спас он, весьма вероятно, не французскую кухарку, как может показаться на первый взгляд, а еще кого-то, например этого генерала фон… не помню, как его звать… Ну, помните?.. А через него, через генерала, оказались спасены и другие! А мы будем надрывать глотки и вопрошать гласом вопиющего в пустыне — почему Он всех не спас? Почему столько крови? Зачем Он всё это придумал?.. Весь наш поганый мир!.. Он, может быть, и вас этим спас, и меня, и еще кого-то позднее спасет! Потому что дал возможность одному из человеков, авторше, описать эту историю, чтобы мы смогли ее прочитать. Понимаете, что я хочу сказать?.. Попытайтесь проследить всю цепочку! Ну хотя бы попробуйте, не отказывайтесь с ходу!
— Не могу… Вы слишком всё приземляете, — сказал Петр, делая над собой усилие. — При чем здесь мы с вами?
— Да не знаю я, при чем здесь мы! Я знаю, что невозможно проследить всё до конца. Да и незачем! Для нас должно быть важно только единичное! Всё остальное — не в счет! Да и не может быть по-другому. Потому что, если уж мы и начинаем рассуждать обо всём, мы не должны упустить ни одной детали. А то сядем в калошу! И вот это нам как раз и не по силам!.. Сколько миллиардов людей сегодня на планете? Вы хоть помните, сколько нулей в шести миллиардах? Не помните… А рассуждаете от имени всех!
— Ни мне, ни вам нет дела до шести миллиардов, — сказал Петр с прежней уверенностью.
— Неправда! Вы с ходу отрицаете, потому что вас нули пугают. Но существует очень простое средство лечения от этой болезни. От страха перед нулями! Если хотите сделать великое дело — не городите гор! Начните с простого. Что сможете — то сможете. И если вам удастся до конца сделать всё зависящее от вас в своем маленьком деле — это и есть великое дело! Остальное… — Старик разгневанно морщился, не мог чего-то додумать в считаные секунды, вслед за тем, грозя толстым пальцем, подытожил: — Главный вопрос, на который мы с вами ищем ответа, заключается в том, нужно ли вмешиваться в ход вещей, или лучше оставить всё как есть? Должно ли всё быть как есть, или всё должно стать лучше? Но как всё может быть лучше, если мир создан Богом, и создан именно таким, каков он есть — не хуже и не лучше?..
День ото дня пожилой Фаяр чувствовал себя всё менее скованным, рассказывая о своих неприятностях. Он не переставал извиняться за причиняемые неудобства, за визиты на ферму дядюшки Жана, которые становились всё более неожиданными и протекали бурно, а мимоходом извинялся и за собственную назойливость. Однако удержаться от разговоров было выше его сил. Что же касалось разногласий с шурином, у Фаяра, конечно, была своя точка зрения.
Вопреки выдвигаемым дядюшкой Жаном обвинениям в том, что он, Фаяр, отправился к нотариусу качать права по поводу денег — к тому самому нотариусу, в ведении которого находились стародавние наследственные дела семейства, — Фаяр, по-видимому, и вправду к нотариусу ездил, но не для того, чтобы вновь что-то выяснять насчет злополучного наследства, а совершенно по другому делу. Старик искал возможности проконсультироваться по поводу собственных финансовых неурядиц, и к шурину они не имели отношения.
Вопреки подозрениям дядюшки Жана, жена Фаяра, по-видимому, действительно оставалась в стороне от притязаний мужа — Фаяр утверждал, что жену в дрязги не впутывает, отдавая себе отчет, что ее отношения с братом могут испортиться окончательно, ведь они и без того «держались на одних соплях», как он едко подшучивал, уж слишком сентиментальной натурой Бог одарил жену и слишком неукротимым нравом наградил ее братца. Как бы то ни было, факт оставался фактом: доля наследства, причитавшаяся сестре, но доставшаяся дядюшке Жану, — на сохранение или во временное пользование, какое это теперь имело значение? — в один прекрасный день улетучилась, и пропажа этих средств была связана конечно же не с неудачным размещением капитала. Тот даром клялся и божился. Долю под вопросом дядюшка Жан себе попросту присвоил, воспользовавшись тем, что сестра не хотела копаться в грязном белье и предпочитала поставить на истории крест.
Петру казалось очевидным, что денежные разногласия, ставшие камнем преткновения в отношениях Фаяра с братом жены, были слишком давними, чтобы они могли стать причиной столь бурной ссоры сегодня. Оба чего-то недоговаривали.
Не зная, кому излить душу, и больше не страшась, как в первые дни, уронить себя в глазах чужого человека, Фаяр взахлеб объяснял, что он и не думал требовать от шурина возвращения в женину семью всего капитала в наличных средствах, равного той сумме, которую тот вложил когда-то в государственный заем, а затем объявил прогоревшей. Такое требование было бы невыполнимо. Но чтобы не выглядеть полным растяпой, Фаяр предлагал шурину компромиссную сделку: тот должен был вернуть ему не всю причитавшуюся долю, а только половину. Этой суммы Фаяру было якобы достаточно для того, чтобы рассчитаться с долгом, который висел над ним по вине сына. В противном случае, прояви шурин несговорчивость, Фаяр был готов дать делу ход, вплоть до судебного разбирательства, в результате которого он мог отсудить весь долг с процентами, набежавшими за годы. И он всерьез был намерен привести эту угрозу в исполнение, даже если и отдавал себе отчет, что процедура имела все шансы затянуться на годы…
В понедельник — было около десяти утра — Петр стал свидетелем нового инцидента. Заявившись на ферму с утра пораньше, дядюшка Жан собирался отбуксировать со двора грузовой прицеп, который много дней, никому не нужный, простаивал между машинами. Был ли прицеп его собственностью или не был, кто был прав из двоих, а кто виноват — Фаяр, решивший показать свой характер, или дядюшка Жан, решивший старику поднасолить, для чего и вознамерился завладеть прицепом и запугивал его своей бесшабашностью, готовностью идти ва-банк… — со стороны в этом трудно было разобраться. Но атмосфера во дворе поминутно накалялась.
Раскрасневшийся, с трясущимися губами Фаяр поедал шурина ненавистным взглядом. Он отказывался впустить Жана в ригу и, поскольку уже успел сорвать голос, был не в состоянии отстаивать свою честь одними устными угрозами. Фермер лишь издавал хриплые звуки, выглядел жалким, беспомощным, невменяемым.
Шурин же, не столько возбужденный, сколько преисполненный твердой решимости довести начатое до конца, крыл его в ответ отборной руганью. С видом разъяренного быка Жан кружил по двору и продолжал что-то выискивать по углам, пока наконец не вернулся к своему джипу. Но он и не думал уезжать. Забравшись за руль, дядюшка Жан стал сдавать задним ходом к прицепу. Затем он соскочил на землю и стал пытаться еще немного подтащить стрелу прицепа к буксирному крюку.
Фаяр подлетел к джипу и молниеносным движением вырвал из-под руля ключ зажигания.
Дядюшка Жан, будучи проворнее, да и комплекцией покрепче, успел выхватить у Фаяра ключ. Всё так же поливая старика отборной руганью, Жан вновь сел за руль, завел свой джип и стал маневрировать задом, чтобы стрела наконец легла как следует.
В этот миг Фаяр выбежал из дому с двустволкой наперевес. Подлетев к джипу, старик грозился прострелить колеса и непременно привел бы свою угрозу в исполнение…
Всё это время наблюдая за происходящим со своей террасы, Петр кинулся к спорщикам. Пора было их разнимать. Казалось очевидным, что если не вмешаться, то базар может обернуться несчастным случаем.
На повороте к ферме как раз в эту минуту показался «сузуки» жены Фаяра. В долю секунды сообразив, что к чему, Эв Фаяр резко остановила машину, выскочила из нее, подошла к мужу, выхватила у него ружье, ловким жестом инжектировала из затвора два красноватых патрона и стала загонять мужа в ригу, толкая его в спину прикладом, как пленника, а несчастного, тут же остепенившегося брата криками принуждала сесть в свой джип и убираться с фермы подобру-поздорову. Тот продолжал топтаться на месте, пытался выиграть время.
Фаяру удалось вернуться из риги к машинам. Эв Фаяр, недолго думая, перехватила ружье за ствол и со всего маху нанесла им удар по борту прицепа. Другой удар пришелся по лобовому стеклу джипа. Свои жесты Эв Фаяр сопровождала резкими возгласами, обращаясь ко всем без разбора, в том числе и к Петру, который вытаптывал кочки на траве перед ригой, не зная, что делать, кого защищать, кого оттаскивать в сторону.
Вид развалившегося надвое приклада привел Фаяра в чувство. Он испуганно глазел на разбитую двустволку. Дядюшка Жан остолбеневшим взглядом смотрел на обсыпавшиеся вокруг машины серебристые осколки лобового стекла. В следующий миг, сплюнув, он выдал очередное ругательство, вскочил за руль и, пробуксовывая по гальке, газуя так, что поднялся клуб пыли и выхлопов, вырулил со двора и унесся вниз по дороге…
Петр вернулся к себе. Не прошло и получаса, как фигура Фаяра выросла в конце террасы. Успев переодеться — фермер был в синих рабочих штанах, в голландской клетчатой рубашке и в зеленых кедах, — он с убитым видом, стыдясь своих трясущихся рук, принялся расшаркиваться в извинениях, при этом не мог смотреть в глаза и в то же время не мог удержаться и от новых сбивчивых объяснений.
Петр не вдавался в смысл его бормотания, но в какой-то миг всё же перебил:
— Ну давайте я съезжу, поговорю.
— Куда?
— К приставу… По-моему, единственное, что можно предпринять, это умерить его пыл, хотя бы на время. Я вам не говорил, но… Я ведь адвокат по профессии.
Фаяр казался оскорбленным.
— Вы?.. Адвокат? — проронил он не своим голосом. — Я думал, вы художник… — Старик уперся взглядом в цементный пол, его глаза затянулись непроницаемой поволокой.
— Адвокат, — подтвердил Петр. — Мне ничего не стоит съездить и поговорить… А вам нужно взять себя в руки.
— Да куда теперь ехать?.. Всё, приехали, — пробормотал Фаяр в еще большем замешательстве. — Видели, что творится?
— При правильном подходе, если объяснить, что ваша эпопея в Монако с этой фальшивкой еще не закончена, что дело не проиграно окончательно, можно попытаться приостановить процедуру… Я уверен в этом. На короткое время, конечно, но это уже что-то… Разумеется, нужны будут конкретные аргументы… В вашу защиту… Нужно будет чем-то подтвердить, что вы стали жертвой жульничества и так далее… Лучше это, чем ничего.
Шныряя птичьими глазами по сторонам, Фаяр затравленно молчал.
— А ваш адвокат за это время что-нибудь предпримет, — подбодрил Петр. — Я уверен, что вы зря так драматизируете.
— Мой адвокат?.. Да вы что! Ничего он не предпримет! Я же вам рассказывал… Вы что, действительно адвокат?
— Действительно.
— Ну, хорошо… Мы всё сделаем, как вы говорите, — забубнил фермер, словно речь шла о чем-то окончательно решенном между ними. — Но где я потом возьму сто пятьдесят тысяч, чтобы заплатить адвокату… моему… этому прощелыге?
— Сто пятьдесят тысяч — не полмиллиона, которые с вас требуют. Вам нужно взять себя в руки и взвесить всё спокойно, — сказал Петр.
— Если бы я точно знал, что для дела… я мог бы, конечно, попытаться, — растерянно бормотал Фаяр. — Вы меня, конечно, удивили. Почему раньше-то не сказали? А я плету вам, плету. Художник, думаю… Во, старый болван!..
От поездки в город по делу Фаяра у Петра остался неприятный осадок. И дело было не столько в легкости, с которой ему удалось добиться отсрочки процедуры покрытия долга, сколько в неожиданном радостном чувстве внутреннего удовлетворения, которое он не мог в себе перебороть, от возможности окунуться в привычную рабочую атмосферу.
Задним числом Петр даже упрекал себя в том, что смалодушничал, что не попытался воспротивиться почестям, которые так и пытались оказать ему сотрудники конторы пристава. Столичный бомонд всё еще пользовался здесь почетом. В провинции всё еще принимали по одежке…
Позвонив накануне в контору и согласовав время своего визита, Петр был принят с утра в просторном офисе, который занимал весь бельэтаж одного из самых приметных зданий на центральной площади Салланша.
Дверь открыла молодая секретарша с бледным правильным лицом, одетая в чесучовый костюм с короткой юбкой. Вышедший навстречу рослый, седоволосый клерк — тот самый, что приезжал на ферму с описью имущества — сдержанно пожал ему руку и пригласил на «свою половину».
Они вошли в большой светлый кабинет, обставленный старинной мебелью. Предложив ему кожаное кресло под сенью пышно разросшегося фикуса, аристократичный пристав распорядился о том, чтобы им принесли кофе, попросил разрешения курить, да еще и сигару, и для начала решил пофамильярничать. Он сделал экскурс в общую правовую обстановку в районе. Суды завалены делами. В таких условиях никого не заставишь работать на совесть. Вот некоторые и не просыхают. Пристав даже пустился в воспоминания. Сам он тоже много лет провел в Париже. Вся его родня имела прямое или косвенное отношение к правовой сфере, все жили в столице. Встреча началась в непринужденной атмосфере. Петр чувствовал себя пойманным в ловушку…
Недоумение пристава вызывал, конечно, сам факт появления адвоката собственной персоной. Раз уж адвокат не поленился проделать столь неближний путь из Парижа в Верхние Альпы только для проведения переговоров об отсрочке — одно это уже что-то да значило. С чего это тяжбой местного фермера решил заняться столичный кабинет, к тому же взявшийся за дело «под шумок», в разгар процедуры, когда «защищать было уже, собственно, нечего, кроме чести»?
Петр сдержанно пояснил, что если бы он разделял эту точку зрения, то он пожалел бы денег на дорогу.
Пристав вызов принял. От дальнейших объяснений можно было воздержаться. Браться за дело фермера Петр по-прежнему не собирался. Но вместе с тем казалось очевидным, что лучше воздержаться от громогласных заявлений по этому поводу. В противном случае визит потерял бы в глазах пристава всю значимость…
Через высокие окна в комнату вливался мягкий солнечный свет. Со двора доносился птичий щебет. Легкий сквозняк шевелил листья фикуса, приносил с улицы благоухание цветов, как будто бы даже сирени, к которому примешивался аромат арабики, кубинской сигары, да еще сладковатый флер духов секретарши, до странности знакомый и поневоле заставлявший оборачиваться в ее сторону, когда она появлялась… Это был хорошо знакомый мир. Нравится или нет — родная стихия. Окунаясь в нее, невольно норовишь расслабиться, можешь позволить себе не думать о неприятном. Но в то же время не можешь не задумываться над смыслом всех тех усилий, которые приходится проделывать над собой вне этого непроизвольно замкнувшегося круга. Как-то уж повелось в этой среде доверять друг другу, полагаться на слово, напрочь исключая из взаимоотношений даже намек на диковатые нравы и обычаи, которые считались вполне возможными, допустимыми в том, другом мире. И слава богу, что он остался за порогом. Ведь так проще. Общность интересов позволяла экономить время, нацеливать себя на главное, не озираясь по сторонам в страхе, что кто-то воспользуется твоей непрактичностью.
Однако теперь этот привычный мир заставлял почему-то насторожиться. В нем чувствовалась едва уловимая, со стороны незаметная, но в чем-то надменная оторванность от мира реального, без которого этот отлаженный привычный мир вообще не мог бы существовать. Сама атмосфера попахивала сговором, чуть ли не корпоративным. Взглянуть со стороны: люди добропорядочные и сведущие общими усилиями пытаются спасти людей слепых и падших. Причем спасать их приходится от себя самих, ведь те даже не знают, что творят. Но если задуматься, казалось непонятным, почему ради благой цели спасающие вынуждены уделять столько внимания совсем другому — выявлению собственных точек соприкосновения, того общего, то может их связывать?
В этой атмосфере и протекал разговор. Передавая друг другу бумаги, которые секретарша, хорошо знавшая досье, не спеша доставала из толстой подшивки, они проговорили в общей сложности около получаса. Пристав озадачивал своей манерой отвешивать одобрительные кивки, чем умело сбивал с толку. Трудно было понять, что у него на уме. Казалось, что он всё принимает за чистую монету. Но от заключений пристав воздерживался. Профессиональная привычка принимать решения в одиночку, в какой-то другой, нерабочей обстановке, вне эмоций и постороннего влияния, заслуживала уважения. Однако компромисс, устраивающий стороны, напрашивался сам собой.
На этом вскоре и порешили. Должник Фаяр должен был предоставить обещанные бумаги до конца месяца; адвокат брал на себя гарантии проследить за этим. В ответ на полученное обязательство пристав обещал повременить с «силовыми мерами» или приостановить их совсем, если предоставленные ему документы будут соответствовать тому, что ему пообещали…
Выйдя на улицу, миновав площадь и мост, Петр вдруг понял, почему ему не удавалось сосредоточиться, почему он не мог подытожить всё только что происшедшее и составить для себя ясный план действий. Он испытывал мучительное, одурманивающее чувство отвращения. Отвращение к ситуации, в которой он оказался, к тому, как ему удалось выйти из положения — по сути, сухим из воды…
Главная сложность, вытекавшая из договоренности с приставом, состояла в том, кто будет вести дело фермера дальше. Обиды Фаяра на адвоката, занимавшегося его тяжбой, имели под собой все основания. Чтобы в этом убедиться, достаточно было пролистать имевшиеся у фермера бумаги. За два года, истекшие с того дня, как Фаяр вверил адвокату дело, тот не предпринял ни одного сколько-нибудь серьезного шага. Экземпляр досье, имевшийся у Фаяра, оказался более чем неполным. Недоставало самых важных документов.
Фаяр утверждал, что недостающие бумаги держит у себя в Париже его проштрафившийся сын. Но Петр сомневался теперь и в этом. Советовать что-либо наугад, не ознакомившись с делом как следует, он отказывался. А вместе с тем он не мог не чувствовать, что Фаяр, невзирая на предостережения, начинает на что-то всерьез надеяться. Чтобы не вводить старика в заблуждение, Петр уже неоднократно его предупреждал, что заниматься его делом не сможет, и для убедительности даже не побрезговал невинным обманом, которого в глубине души стыдился: в горы он якобы приехал по настоянию врача, чтобы подлечиться, потому что страдал будто бы хроническим заболеванием легких, и поэтому в Париже в скором времени вряд ли мог оказаться.
Когда однажды они вернулись к разговору о сроках его проживания на ферме — Петр хотел просить Фаяра о продлении аренды на три недели, но предпочитал рассчитаться за прожитое время, — Фаяр покраснел и, опустив глаза, отрицательно покачал головой:
— Нет, вы мне ничего не должны… Теперь я ваш должник. Если хотите, я буду сдавать вам жилье бесплатно — на год. И за помощь готов платить — сколько скажете.
— Сдавать бесплатно — так не бывает, — упрекнул Петр. — И вообще, при чем здесь ваше жилье?
— Как при чем?.. Приедете, будете жить, раз вам нужно лечиться. Заодно и мне поможете.
— Я не могу заниматься вашим делом, — с твердостью сказал Петр. — По причинам, которые не зависят от меня. Если вы считаете, что это вызвано недостаточной личной заинтересованностью с моей стороны, то это не так…
— Я не то хотел сказать, — окончательно стушевался фермер. — Зачем обижаться?..
Вечером, когда Петр спустился на плато д’Асси поужинать, он всё же решил позвонить Г. Калленборну домой. Ответила его жена. Едва узнав его голос, она с поспешностью передала трубку мужу. Но и тот от изумления не мог взять в толк, откуда ему звонят, почему за всё это время Петр ни разу не дал о себе знать. Калленборн продолжал засыпать вопросами и не давал возможности толком ответить ни на один из них.
Когда Петр смог всё же объяснить, что никаких особых причин его «исчезновение» под собой не подразумевает, что у него «всё благополучно», Калленборн не смог скрыть досады. Недовольно помолчав, Калленборн стал перечислять всех тех, кто его разыскивал — соседи по Гарну, Шарлотта Вельмонт, Мари Брэйзиер, пожилой ирландский адвокат из Белфаста и другие, безвестные в кабинете люди. Не говоря о том, что и сами компаньоны не знали, что думать о его отсутствии.
Петр заговорил о деле фермера из Савойи. На его обращение оказать ему личную услугу Калленборн ответил еще большим недоумением. Однако догадываясь, что само обращение с такой просьбой свидетельствует и какой-то личной заинтересованности, Калленборн пообещал просмотреть досье, как только получит его по почте. Кроме того, Петр просил Калленборна о том, чтобы он сразу же, не теряя ни дня, запросил у адвоката, который вел дело фермера до сих пор, досье в полном комплекте.
Калленборн пообещал выполнить и это, записал все необходимые данные и после того, как сдал, казалось, все свои позиции, счел себя вправе напомнить, что в кабинете накопилось много срочной работы, с которой ни он, ни компаньоны не справляются. Петр воспринял это как упрек.
— Я редко обращался к тебе с просьбой такой важности, — сказал Петр.
— Я это понимаю, незачем объяснять, — с недовольством заверил Калленборн. — Только объясни мне… если это не секрет, конечно… Кем тебе приходится этот фермер?
— Да абсолютно никем. Знакомый… Какое это имеет значение?
— Понимаю, — протянул Калленборн. — Сам-то ты когда домой собираешься?
— Пока не собираюсь. Разберусь с этой историй, потом будет видно.
— Могу я задать тебе еще один вопрос?
— Разумеется.
— Ты думаешь возвращаться в кабинет?
— Нет, я же говорил… Ты уж, пожалуйста, Густав, внуши это всей компании. Лучше тебя это всё равно никто не сделает.
— Черт возьми! Да как можно обсуждать такие вещи по телефону? — возмутился Калленборн. — Приехал бы ты домой. Мы бы сели и всё обговорили как следует. За это время столько воды утекло! Столько всякого произошло, что я даже не знаю, с чего начинать… Послушай, сначала вот что… Марго хочет сказать тебе пару слов. Потом мы еще поговорим… Ты слышишь меня?
Калленборн передал трубку жене. Не своим голосом, слишком подобострастным, Марго Калленборн принялась объяснять, что одна ее знакомая, муж которой, американец, владеет судостроительной компанией, ищет по его поручению французского адвоката для работы на Мадагаскаре на год или на более долгий срок.
— Какое я имею отношение к Мадагаскару? — прервал Петр объяснения.
— Петр, мне кажется, что тебе было бы неплохо поехать куда-нибудь на время. Ты бы отдохнул, отошел бы от всего. Мы с Густавом столько об этом говорим, что…
— Твой муж и компания хотят отправить меня на безвременный отдых, правильно я тебя понимаю?.. Марго, я и так на отдыхе. Объясни это мужу. Мне он не верит, хотя и делает вид…
— Зря ты, Петр… По-моему, идея стоит того, чтобы подумать, — настаивала Марго. — У тебя всё нормально?
— Всё нормально… Скажи, пожалуйста, только откровенно, Марго… Они думают, что я тронулся?
— Зря ты так реагируешь, — повторила Марго Калленборн. — Все переживают за тебя, неужели ты не понимаешь?.. Густав просит… он хочет тебе перезвонить сам, у него очень важный к тебе разговор… Куда тебе звонить?
— Сегодня некуда, — сказал Петр. — Марго, скажи Густаву, что я позвоню завтра сам…
Утро двадцать девятого мая выдалось по-летнему солнечное и теплое. Двор фермы тонул в тишине. Лишь время от времени в нее вливался осторожный птичий щебет. И тишина как бы немного провисала, чтобы затем опять наполниться чем-то объемным, пустым и неохватным.
На хозяйской половине давно встали. Со стороны риги доносились будничные звуки домашней жизни — звуки радио, шум воды из крана, приглушенная речь и время от времени бой настенных часов…
Часы наверху еще не пробили десяти, когда со стороны подъездной площадки послышался шум подкатившего к ферме автомобиля. Ударила дверца. Послышался заливистый лай фокстерьеров. А вслед за тем стал доноситься мирный, бубнящий говор двух голосов, один из которых принадлежал хозяйке, а другой, низкий и медлительный голос мужчины, Петру казался незнакомым.
Пройдя в конец террасы, он наблюдал, как Эв Фаяр, одетая во что-то броское, малиновое, объяснялась с мужчиной в зеленой куртке, в черных очках и в кепи, не отходя от его темно-синего «фольксвагена», по самые стекла заляпанного рыжей грязью. Хозяйка сопровождала свои объяснения неспешными жестами, показывая то в сторону террасы, с которой Петр, сам не зная зачем, наблюдал за визитом постороннего, то на дорогу, ведущую к ферме.
В осанке гостя на миг почудилось что-то знакомое. Поймав себя на этой мысли, Петр принялся изумленно шарить по карманам, стараясь найти очки, а затем, не успев до конца осознать, что происходит, ринулся в направлении хозяйки и визитера. Гостем в зеленой куртке был Серж Фон Ломов.
— Серж?! — бросил Петр на ходу; не дойдя до сарая, он застыл на месте. — Это ты, что ли?! Вот это сюрприз… Ты что здесь делаешь?
Фон Ломов неловко оступился, сделал немой жест, извлек из салона «фольксвагена» какой-то предмет и с застывшей гримасой зашагал навстречу.
— Только не пугайся! Бога ради… Я не хотел обрушиться как снег на голову… Но не знал, как предупредить, — говорил Фон Ломов до странности обыденным голосом.
В твидовом кепи, в серой парке, с перевешенным через шею морским биноклем, совершенно неузнаваемый, Фон Ломов одолел оставшиеся метры разделявшего их пространства и резко остановился.
В недоуменном выжидании прошло мгновение. В следующий миг они обнялись. Когда взгляды вновь встретились, обоим стало не по себе.
— Я думал, мне померещилось… Черт знает что… — бормотал Петр. — Как ты сюда попал? Каким ветром тебя занесло?!
С задумчивым выражением на лице, цепким взглядом холодных глаз что-то оценивая, Фон Ломов молча покачивал головой:
— Лучше не спрашивай.
— Я не могу не спрашивать, — усмехнулся Петр.
— Ты прав… Я готов отвечать на любые вопросы… — По постаревшему и похудевшему лицу Фон Ломова прометнулась знакомая тень самоиронии.
Петр сделал упреждающий жест, хотел что-то добавить, но почему-то молчал.
— Нагулялся же я по этому серпантину! С семи утра за рулем. Остановился спросить дорогу, но попал на чокнутого. Послал меня дурень к туннелю… аж к итальянской границе, и я проехал на тридцать километров дальше… — Фон Ломов улыбался, чувствуя, что каждым своим словом приводит Петра лишь в еще большее изумление. — Да ты загорел! Давно здесь прохлаждаешься?
В вопрос закралась не то неловкость, не то фальшь. Возможно ли было предположить, что, приехав в Альпы, Фон Ломов не знал, сколько времени Петр уже находится в горах? Не зная, как ответить, Петр помедлил и глазами показал на бинокль:
— Далековато ты собрался меня разыскивать.
— Да, по правде говоря, я действительно был удивлен, куда тебя занесло, — признался Фон Ломов. — Какая-то ферма… Адрес немыслимый.
— Ты из Парижа?
— Ездил по делам в Женеву… Глупо было не заехать, ведь рядом… Утром проснулся, взял машину напрокат и поехал. Сколько здесь — километров семьдесят?
Петр изучал своего гостя рассеянным взглядом.
— А что в Женеве случилось?
— Ничего особенного. Я ведь в Москве… Работаю с русскими… Иногда я им нужнее здесь, в Европе, чем там, — расплывчато объяснил Фон Ломов, уставив на Петра внимательный взгляд.
— Что же, всё понятно… Да что мы стоим как истуканы? Идем же! Я вон там — в нижней половине обосновался.
Петр направился к террасе. Фон Ломов последовал за ним. Они вошли на террасу и у входа в квартиру, который был прегражден вынесенным на улицу столиком с неубранной чайной посудой, остановились, вопросительно глядя друг на друга.
Прикрыв глаза от солнца, Фон Ломов устремил взгляд в сторону Монблана, контуры которого растворялись в ослепительной белизне яркого солнечного дня.
— Невероятная картина! Теперь понимаю… На какой же мы высоте?
— Не так высоко, как кажется. Около тысячи метров.
— Снимаешь? Дорого?
— Аренда?.. Нет, недорого.
Петр вошел в квартиру. Пройдя за ним следом, Фон Ломов с любопытством осмотрелся по сторонам, снял с головы кепи, положил на стол бинокль, кожаную папку и уставил взгляд на висевший над столом этюд, изображавший саму ферму.
— Я так и думал, — многозначительно сказал он.
Петр не понял.
— Был уверен, что встреча получится вот такой… дурацкой и банальной.
— Одно время я перестал надеяться даже на банальную, — с грустью заметил Петр.
— Да, вам всем досталось… Когда я зашел в контору, братия набросилась на меня. Чуть не через лупу меня разглядывали.
— Ты был в Версале?
— Заходил.
Петр всплеснул руками и заметил:
— Я говорил с Калленборном… Он ни словом о тебе не обмолвился.
— Говорят, что тебе перепало… Из-за меня чуть все не перессорились?
— Преувеличивают… — Петр уставил взгляд на коричневые туфли гостя и вдруг подумал, что не помнит, на какой ноге Фон Ломов потерял пальцы при ранении. — И что Москва? Что ты там вообще планируешь делать? — спросил он с некоторым вызовом.
— Отсюда всё это кажется изнанкой, зазеркальем… Сам удивляюсь. Приходится много ездить. Повсюду.
— Всё удается? Как ты хотел?
— Разве бывает всё, как хочешь? — Фон Ломов поднял на Петра умоляющий взгляд. — Пожалуй, да… Жаловаться не на что… Первое время пришлось заниматься чем попало. Знакомые пристроили меня в университет. Но так, одно название — университет. На некоторое время я даже увлекся, читал курс лекций по истории западноевропейского права… А потом, когда разобрался, что к чему, вернулся к работе. Мне предложили место в американской юридической фирме. С тех пор и мотаюсь.
— Да, здесь тоже всё теперь по-другому… — Петр задумчиво качал головой. — Кстати, ты уезжал из Уганды с русской девушкой… Она-то где? Тоже в Москве?
— Да. Всё нормально… Но ей опять трудно… Опять куда-то рвется. Болезнь всех русских. Но ты знаешь…
— Ты женился?
— Собираюсь.
Они иронично переглянулись.
— В Альпах ты давно? — повторил Фон Ломов свой вопрос.
— Второй месяц.
— Калленборн рассказывал о твоем легионере… Хотя я так и не понял, каким образом ты умудрился вляпаться в эту историю.
— Я одного не пойму, почему Густав не сказал мне, что ты в Париже?.. Ей-богу, в нем появилось что-то неприятное… Да ведь ты в курсе теперь. Всё изменилось, — заключил Петр во второй раз.
— Да, планы у них наполеоновские, — согласился Фон Ломов. — Но их тоже можно понять. Они не знают, что думать о твоем исчезновении. Каких только гипотез я не наслышался. Но послушай… По-моему, глупо всё это обсуждать. Скажу откровенно: я ума не приложу, что тебе делать, но мне ясно одно… Ты ведь никогда не довольствоваться половинчатыми решениями. Доводить начатое до победного конца — вот уж идиотское кредо. Я, например, всегда страдал от того, что не умел ничего довести до ума, до конца. Но бывают ситуации, когда даже святое правило подводит… — На миг как будто бы усомнившись в сказанном, Фон Ломов добавил: — В теории всё это прекрасно, а на деле часто получается непонятно что.
Что-то про себя соизмеряя, оба опять молчали.
— Постой, так это здесь, что ли? Твой истец, о котором ты просил Калленборна, хозяин этой фермы? — спросил Фон Ломов.
Петр кивнул и тоже спросил:
— Калленборн бумаги хотя бы передал?
— Да, я привез бумаги… Но икру он всё же метал… Адвокат, к которому ты его отправил, плохо его принял. Насколько я понял, новый иск он может подать хоть сегодня, и даже экспертизу уже провел. Но есть загвоздка: бывший владелец фальшивки был готов всё уладить, предлагал забрать безделушку обратно и вернуть деньги, но твой клиент, как его…
— Фаяр?
— Ну да… То есть не отец Фаяр, а сын, с которым ты свел Калленборна… Он отказался идти на мировую, запросил у махинатора компенсацию за обман. А тот, от греха подальше, смылся… Честно говоря, я бы сделал то же самое.
— Странно… странно, что я не в курсе. — Петр задумался.
Подступив к столу, Фон Ломов расстегнул папку, извлек из нее другую, картонную, положил ее на стол и пояснил:
— Бумаги, счет за экспертизу — всё здесь. Калленборн просил передать, что было бы хорошо добиться приостановки требований о погашении и выиграть время, а следующим этапом… Получается, что сын отца объегорил?
— Получается, что так.
— Между нами говоря: что всё это за чушь? Зачем фермеру это яйцо? За такие деньги?
— Какое это имеет значение? — Петр помолчал, а затем, догадавшись, что именно к этому Фон Ломов и подводил разговор, добавил: — Лично мне это кажется полным идиотизмом… То, что старик, помешанный на разведении кур, вдруг покупает фальшивое пасхальное яйцо, под видом драгоценного, да еще и умудряется потратить на него все сбережения. Идиотизм! И что с этого? Поэтому я не должен помогать ему?
— Как я понял, Калленборну пришлось объясняться и с сыном фермера. Если принимать за чистую монету мнение Калленборна, то этот малый — еще тот пройдоха… — Фон Ломов продолжал излагать явно чужую, не свою точку зрения. — На словах Калленборн просил передать тебе просьбу братии. Если ты не захочешь вести это дело сам, то от него лучше отказаться. Они не хотят тратить на это время.
— Я так и думал. Болтуны, — вздохнул Петр.
— Я рассказываю это для того, чтобы ты понял… — Фон Ломов на миг помедлил. — Ты всё это хорошо, конечно, придумал, хорошо организовал… Но это ни к чему не приведет. Если сам ты не вернешься в Версаль.
— Да, глупо на них полагаться. Но я сам виноват. — Петр явно имел в виду что-то другое.
— Людей лучше принимать такими, какие они есть. Калленборн искренне верит, что выполнил всё, что пообещал тебе. На них даже пенять невозможно.
— Нет, всё же мерзавцы, — выругался Петр. — Ведь я их предупреждал… Что бы они ни говорили, я всех предупреждал, что в контору не вернусь.
— И чем ты собираешься заниматься? На что будешь жить?
— Господи… Как другие живут?
— Я понимаю… Ты оказался в дурацком положение. И было бы глупо лезть с советами… — заговорил Фон Ломов, когда они вышли назад на террасу и решили посидеть за столиком на улице. — Недавно я был в таком же тупике. Тогда в Уганде моя ситуация мало отличалась от твоей… Пытаться принять решение и в душе понимать, что это ничего не изменит… Для меня это было сущей пыткой. Недаром я наломал дров… Да нет, не спорь с этим! Сегодня можно называть вещи своими именами.
— Ты в Женеву должен вернуться? Или в Париж поедешь?
— Должен вернуться. Утром сяду на парижский поезд.
— Потом в Москву?
Помедлив, Фон Ломов утвердительно кивнул:
— Но уже из Лондона. А по дороге должен попасть в Брюссель… По правде говоря, куда угодно бы ездил, только не в Бельгию… Магритт прав. От скуки, от черного уныния в этой стране на ушах можно заходить. Одна отрада — бензин дешевый.
— Может быть, тебе завтра поехать? Оставайся на день.
— Нет, не получается.
— Вот что я предлагаю… Поехали обедать, — встрепенулся Петр. — Я знаю одну дыру… Да и в Пасси можно спуститься. Ты же проезжал площадь, церковь?.. Там и поболтаем…
Вскинув на Петра вопросительный взгляд, Фон Ломов с ноткой мольбы произнес:
— В самом деле, айда обедать… Есть хочется, аж голова кружится.
Один из столиков, особняком стоявший в дальнем углу, занимали двое рабочих, пришедшие обедать прямо в спецовках, и оба не отрывали глаз от газет. Тихое семейство, муж, жена и трое детей, дружным гуртом осадило столик перед табачной витриной. Молодая пара заказала на террасе кофе. Других посетителей в кафе не было.
Петр предложил пройти в пустующую половину зала, где было солнечно и за окнами открывался вид на весь городок — на площадь, главную улицу Пасси, на черепичные крыши соседних домов.
Они заняли стол у окна. Вплывшая в зал грузная официантка в белом переднике поспешила извиниться за скудное меню. Заболел повар, и уже второй день приходилось довольствоваться услугами случайного «кулинара», жившего через дорогу. Официантка советовала ягнятину или холодный ростбиф.
На двоих заказав одно и то же — паштет из дичи, ростбиф, к нему вареный картофель и зеленый салат, — Петр попросил, чтобы им сразу принесли на стол бутылку «Сент-Эстефа».
— Если честно, я поначалу недооценил всего этого… Думал: ну отойдет человек и всё вернется на круги своя, — сказал Фон Ломов. — Калленборн — как гипнотизер… умеет заражать своим оптимизмом.
— А теперь что ты думаешь?
Фон Ломов ответил не сразу:
— Когда ехал сюда из Женевы, было очень красиво по сторонам… Вдоль дороги плывут горы — красиво, потрясающая картина… Глядя на всё это, я думал: черт возьми, ведь они вечно здесь будут стоять. Или, во всяком случае, еще очень долго. А мы?.. Странное чувство охватывает… Это так ясно было в голове, таким очевидным всё казалось. А теперь даже объяснить не могу толком… Зачем добровольно выбирать несвободу? Тем более что никто не заставляет этого делать. По большому счету ты прав. Это главное. И никого не слушай. Даже меня… В такой ситуации, когда пытаешь принимать какие-то серьезные решения, обязательно чувствуешь себя у разбитого корыта, — помолчав, добавил Фон Ломов. — А по прошествии какого-то времени понимаешь, что зря утрировал. Всё проще в действительности… Жизнь в таких случаях лучше распоряжается, чем мы сами. Сколько раз в этом убеждался… Может, и в самом деле есть смысл продать твой пай? Это потребует усилий. Но если постараться, его можно продать неплохо.
— Я думал об этом. Этим нужно заниматься как можно быстрее.
— Если хочешь, я поговорю с ними… А что касается этой бредовой истории… с яйцом… не волнуйся… Я найду в Париже кого-нибудь. Да вот сразу, как только вернусь…
— Он откажется.
— Кто, фермер? Почему?
— Я пытался с ним говорить — бесполезно, — вздохнул Петр. — Да и поздно тратить время на болтовню. Завтра мне придется объясняться с приставом. И ему будет наплевать, что какая-то шарашкина контора большинством голосов решила, что лучше сплавить с рук невыгодное дело… на поруки безработному собрату.
— Оттянуть нельзя? Объяснения с приставом…
— На день-два — можно. Но что это изменит?
— Тогда объясни всё как есть. Бумаг на руках больше чем достаточно… Я понимаю, если ты дал слово, тебе трудно отказаться. Но ты должен понять, что в Версале всё это обсуждать теперь бесполезно. Там произошла смена власти.
Официантка принесла блюда, переставила с соседнего стола корзинку с хлебом, спросила, всё ли есть на столе, что нужно. Петр поблагодарил, и та удалилась. Похвалив вино, Фон Ломов выпил сразу почти весь бокал, налил себе еще. Они чокнулись и принялись за еду…
После обеда Петр пустился в расспросы о Москве, слушал с интересом, переспрашивал и при этом не выходил из глубокой задумчивости. А затем он вернулся к разговору о Версале, к тому, с чего начали.
На взгляд Петра, поиски подходящего кандидата на покупку пая лучше было начинать с Калленборна, с его окружения. Но это и так было очевидно. Петр просил передать компаньонам, чтобы они пока не предпринимали никаких самостоятельных шагов, обещал еще раз всё обдумать и в течение недели сообщить о своем окончательном решении.
Они вернулись на ферму. Уже совсем жаркий, по-летнему солнечный день был в самом разгаре. После улицы в доме казалось темно. На террасе, где в этот час еще не появилось тени, наоборот, пекло слишком сильно, на солнце невозможно было высидеть и нескольких минут. Петр предложил прогуляться по лесу. За фермой, прямо со двора, к лесу выводила дорога…
Они поднялись к площадке для машин, чтобы по насыпи выйти к сосновой чаще. Обочины дороги голубели от россыпей альпийского первоцвета. Выше над фермой сразу стал чувствоваться запах хвои. Воздух заметно посвежел. Несмотря на летнюю погоду, в лесных прогалинах еще виднелись остатки снега, покрытого темной коркой.
От энергичной ходьбы по крутому подъему на лицах выступила испарина.
— Знаешь, мне кажется, что с паем можно не торопиться, — сказал Фон Ломов, когда они поравнялись с кучей бревен, сваленных на обочине в конце разъездной площадки. — Если ты затеешь продажу пая теперь, Калленборн навяжет невыгодные условия. Он хороший малый, но в своих рамках, это нужно понимать. Немцы — практичные люди…
Рассеянно глядя по сторонам, Петр молчал.
— Нет-нет, представь себе: быть такой серостью, как он, и тащить на себе такую лямку, всю контору… По-моему, он просто влип. Как с ними можно работать, с этими тюфяками? Ты знаешь, что он мне рассказал недавно?.. Был, оказывается, семинаристом! Да-да, поверить трудно… Прежде чем поступить на юридический, наш Густав штаны протирал в семинарии. Ну а потом бросил, завязал. Понял, говорит, что зауряден, что не способен на такие жертвы… Люди, мне кажется, все одинаковые, по большому счету. Тот, кто рвется к каким-то деяниям, на первый взгляд благовидным, страдает, как правило, гордыней, которую не может в себе обуздать. Это болезнь. Но какая-то общепризнанная, узаконенная. Если такой человек вовремя не подпалит себе крылья, его заносит в невероятные выси. И вниз спуститься ему бывает очень трудно. Среди людей состоявшихся неиспорченный человек вообще, по-моему, редкость. Состояться — значит совершать компромиссы. Но ведь от них пачкаешься. Чистые, вымытые все мы только в пеленках.
— Ты в это веришь? — остановившись, спросил Петр.
— Что все чисты от рождения?.. Да, нелегко в это поверить. Но необходимо уметь это делать — уметь отделять зло, которое приобретается от соприкосновения с жизненной грязью и сидит в каждом, от самого человека. А как без этого?
Петр помолчал и согласился, хотя явно подразумевал что-то свое.
— Ты прав, я не в состоянии принимать человека как есть. Тем более порочного, — сказал он. — Не могу отцеживать из него зло. Не научился…
— С той минуты, как ты понимаешь, что не имеешь права судить человека, не имеешь на это права в принципе, всё остальное следует из этого само собой. Усилия будут даже лишними. Порочны все без исключения. Вот и вся азбука… И я, и ты. Все на свете.
— Согласен… Согласен с тем, что судить невозможно, — опять согласился Петр. — Но разве я сужу кого-нибудь? Я просто вижу, констатирую. Да и в общем-то остаюсь в стороне.
— Вот в этом я не уверен.
Оставаясь каждый при своем мнении, они пересекли поляну, усыпанную свежими опилками, поравнялись с пнем, спиленным под самый корень и привлекавшим к себе внимание своим белым срезом. Петр подобрал с земли длинную хворостину, оглядел ее, нагнулся за горстью пахучих, еще липковатых опилок и, отрицательно качая головой, подвел черту:
— Нет, это не для меня. Я не могу принимать человека как есть. Если он мне кажется ущербным, порочным, я не могу не пытаться воздействовать на него. Во мне возникает потребность переделать его, сделать немного лучше, что ли, правильнее, чтобы… Чтобы, я думаю, приблизить его к той норме, которая бы мне позволяла относиться к нему как к нормальному. Получается, я прибегаю к этому для того, чтобы иметь возможность относиться к нему по-человечески, чтобы было за что его ценить. Здесь нет ни осуждения, ни пренебрежения. Всё проще…
— Какая-то ерунда получается.
— Да почему?
— Это невозможно. Неосуществимо.
— Воздействовать на человека? Почему невозможно?
— Шлифовать зазубрины в каждом встречном, доводить его до нормы…
— Ну почему в каждом встречном? Только в ближнем… — усмехнулся Петр.
— Да кто ты такой, чтобы шлифовать его?!
— Тогда… Что делать?
Петр выглядел искренне растерянным.
— Ты как школьник… Который не хочет идти сдавать экзамен, обязательный для перехода в другой класс, и пристает ко всем с вопросом, как увильнуть от этого и всё же перейти на другой год… Проще научиться пользоваться уже установленными правилами, принимать их как должное, как необходимое зло, в конце концов. Другого выхода нет.
— Я не способен на это. Когда речь идет о себе самом, это несложно, — сказал Петр. — Сегодня потерял, завтра приобретешь в два раза больше… Но что делать, когда становишься свидетелем зла, совершаемого по отношению к близкому человеку или, скажем, к беззащитному? Когда видишь, что можешь что-то сделать, чтобы помешать этому… Нет, если ты нормальный, уравновешенный, а не помешанный, ты не можешь этого принять. С этим невозможно смириться.
— Труднее всего не это… — Фон Ломов приостановился и с видимым усилием пытался сформулировать свою мысль. — Самое трудное — тянуть лямку, жить как все, просто и заурядно. Но при этом чувствовать себя не просто пешкой в чьих-то руках, а составной частью всего, необходимым звеном. Отсутствие смысла и высоких целей — вот что труднее всего принять.
— С этим никто не спорит.
— Мне стало проще с тех пор, как я понял… даже не знаю, как это объяснить… Когда я почувствовал, как мир огромен. Но не в абстрактном смысле, а в буквальном. Когда я понял, что он разнообразен до бесконечности, что всё на первый взгляд кажущееся важным, в сущности, — ничто. Просто нужно вырваться из предвзятых, узких представлений о своей жизни, которые всё равно что замкнутый круг… Под каким бы углом мы ни смотрели на мир — с запада на восток, с востока на запад, вширь или вглубь, в нем есть всё, что угодно: грязь и чистота, добро и зло, свет и тьма… Не знаю, как объяснить это чувство. Оно дает нечто такое… Открываются какие-то новые внутренние возможности…
Глядя себе под ноги, Петр задумчиво ковырял хворостиной землю.
— Когда смотришь на мир как на что-то целое, однородное, видишь нечто такое… Главное — это достойно жить в любой ситуации, даже со связанными руками. Отсюда один шаг до понимания, что жизнь, замешенная на свободе, — это что-то варварское, дикое, — продолжал Фон Ломов. — Я не говорю, что счастливее дурака нет на свете. Но это почти так… Самый благополучный человек — этот тот, кто подчиняет свою жизнь необходимости, у кого нет возможности поступать по-другому. Такой человек избавлен от дилеммы, что выбрать, куда идти, с чего начинать. Дилемма выбора… Но ведь она и отравляет всё. Она превращает в раба, лишает главного — возможности найти равновесие и покой в рамках того, что есть. В конечном счете она лишает даже смысла. В лучшем случае смысл будет казаться далеким, недостижимым. Но тут-то как раз ничего нет нового. Высшая свобода сливается с необходимостью. Я в этом уверен…
— Я со всем согласен… Если ты чувствуешь, что в тебе это есть, тебе можно позавидовать, — помолчав, сказал Петр.
— Это на словах всё просто. Но мне повезло хотя бы в этом. Я понимаю, что мне некуда деваться и что в этом нет ничего страшного… Любой человек, перед которым открылся хоть какой-то смысл жизни, уже не может испытывать стимула от перемен внешних. В нем нет, например, стремления к смене местожительства. Он не может не понимать, что главное — внутри. А от себя можно бегать сколько угодно. Относительность умозрений… а мы в ней погрязли… это антипод абсолютному. А ведь это какой-то роковой закон, который распространяется абсолютно на всё. Посмотри вокруг. Как всё половинчато… Если вырваться из этого порочного круга, относительность рассыпается в пух и прах… Вот тогда и удается нащупать что-то определенное. Смысл всегда рядом, я уверен.
— Рад за тебя… Рад, что у тебя всё так сходится, — сказал Петр, — что тебе удается…
— Нет, ты чего-то не понимаешь, — перебил Фон Ломов.
— Обрыв необходим, это понятно. Без него невозможно… В этом мы все и заблуждаемся… — Петр жестом попросил не перечить ему. — Жизнь не такая, в сущности, короткая, если разобраться. В нее можно столько всего вместить. За одну жизнь можно прожить десять разных жизней. Только обычно почему-то об этом забываешь. Зацикливаешься на сегодняшнем, на том, что портит жизнь сегодня, или, наоборот, что дорого только сегодня, а завтра…
— Мне кажется, что обрыва как раз не должно быть. Я об этом и говорю… Какой в нем смысл? — возразил Фон Ломов. — Пустая трата времени и сил. Как ты не понимаешь? Поэтому я и считаю, что тебе пора взять себя в руки и возвращаться. Я приехал, чтобы сказать тебе это в глаза… А если не в Версаль, если обратного хода нет, если ты не хочешь жить, как раньше, то нужно начать новую жизнь. Вот и всё… Начав с того, что было. Без всякого обрыва…
С прежним недоверием на лице Петр чему-то кивал, молча шел вдоль обочины и, сдирая с хворостины пахучее лыко, любовался своей палкой. Слова, как всегда, всё искажали. Говорили вроде бы понятные друг другу вещи, но договориться ни о чем не удавалось…
По возвращении на ферму Фон Ломов наскоро собрался, расспросил, как самым коротким путем выехать на женевскую трассу, и в седьмом часу вечера уехал. Отъезд оказался таким же неожиданным, как и утреннее появление…
День подходил к концу, и Петр сидел на террасе, наблюдая за закатом. Бордовая кромка облаков раскраивала горизонт надвое, отчего закат надвигался быстрее обычного. Он цедил в кресле остатки бурбона и каким-то посторонним умом думал о прошедшем дне, странно начавшемся и так же странно, слишком быстро завершившемся.
Возможны ли между мужчинами полноценные отношения? Вряд ли. Это казалось вдруг очевидным как никогда. Отношения с Фон Ломовым оставались такими же, как и годы назад. Это казалось странным. Неужели они не должны были измениться? Ведь меняются же люди. Оба они тоже стали совсем другими…
Но он чувствовал в себе какой-то неожиданный сдвиг и волей-неволей пытался разобрать в себе это новое, еще не отстоявшееся. Разложить всё по местам, однако, не удавалось и позднее. При этом он с ясностью ощущал, что полностью поглощен новым ходом мыслей и своим новым состоянием, отчего еще больше усиливались сомнения — в произнесенных за день словах, в планах на будущее, в самом себе. Какой-то узел на душе, казалось, вот-вот должен развязаться…
Проснувшись на рассвете, Петр чувствовал себя разбитым, переполненным вчерашними мыслями. Душевный сумбур, с которым он буквально провалился в сон, едва почувствовав под собой кровать, за ночь так и не отстоялся.
Как обычно с утра, он растопил печь, заварил чай, но, забыв о завтраке, сидел перед выходом на террасу и всматривался в туман, застилавший двор и долину, вслушивался в потрескивание горящих дров, пытался слушать знакомую музыку, отдаленно доносившуюся из радиоприемника. Исполнялась «Свадьба Фигаро». Мало-помалу его наполняло ощущение, что брожение на душе утихает.
Ночью всё казалось безысходным. Но вдруг опять всё возвращалось на свои места. Какой-то узел действительно развязался. Внутреннее решение, принятие которого казалось в чем-то вынужденным, но нереальным, вдруг вселилось в душу само собой, помимо воли. И как только это произошло, его охватило ясное чувство, что с этой самой минуты внутри достигнуто что-то очень значительное, нечто такое, что вчера казалось совершенно недостижимым и непосильным. Единственное, о чем Петр не мог думать без прежнего волнения, это о том, что принятие данного решения означало возврат к прежней жизни, к чему и призывал его Фон Ломов.
Пытаясь воссоздать это прежнее в воображении, пытаясь представить себя в старой жизни теперешним, другим, с новым душевным настроем и с новым внутренним грузом, он не мог думать ни о чем другом, кроме как о Гарне, который с наступлением весны, несомненно, позеленел и обновился — в мае метаморфозы всегда поражали… — и он мгновенно впадал в отчаяние при мысли о розарии, который конечно же пребывал в плачевном состоянии. Когда же он пытался думать о Версале и восстанавливал в воображении лица людей, с которыми в нем ассоциировалось возвращение домой, в кабинет, к своим обычным обязанностям, он впервые, на удивление себе, чувствовал, что всё это стало для него далеким, казалось ушедшим в прошлое.
К восьми утра туман начал рассеиваться. За пихтами и дубом, крона которого на фоне светлеющей долины вырисовывалась измельченным, филигранно-четким узором, появился яркий просвет. А еще через минуту открылся вид в саму долину, точнее, на море облаков, буквально затопившее всё предгорье, безбрежное и равномерно взбитое бурунами, которые напоминали состриженное руно, ровным слоем покрывшее землю.
Монблан был по-прежнему скрыт за облаками. Но в западной стороне контуры горных массивов начали постепенно прорисовываться. Всё менялось с каждой секундой. Не прошло и нескольких минут, как по другую сторону долины распахнулась ясная, залитая солнцем панорама заснеженных вершин Красивой горы, а вслед за этим внизу раздался перекат гремящего по рельсам поезда. Было начало девятого.
Петр прошел в ванную, принял холодный душ, побрился, надел белую рубашку и пиджак, примерил перед зеркалом галстук с малиновым узором, но пришел к выводу, что правильнее обойтись без галстука — слишком официальный вид был бы некстати, — и, спешно перебрав бумаги Фаяра, направился к машине. Он предпочитал выехать в контору пристава с некоторым запасом времени, чтобы успеть позавтракать на плато и уже оттуда, как следует сосредоточившись на деле, позвонить и предупредить о своем визите…
При спуске к плато окрестные склоны застилал плотный туман. Туман был настолько непроглядным, что на каждом разъезде приходилось сбрасывать скорость чуть ли не до полной остановки и изо всех сил впиваться глазам в разметки на дороге, чтобы определить, куда ехать, куда сворачивать. Привычные ориентиры совершенно утратили свое значение. Обрывистый ландшафт, приковывавший к себе внимание то слева, то справа, там, где туман расступался яркими пустотами, словно парил вокруг шоссе и казался неузнаваемым.
Выше обычного нависали над дорогой скалы. До этого Петр их даже не замечал. Извилины шоссе, заставлявшие вновь и вновь тормозить, надвигались из тумана совершенно неожиданно. Вразброс теснящиеся дома и коттеджи, вросшие в землю на головокружительных откосах, выглядели тоже какими-то чужими, незнакомыми. Не менее неожиданное впечатление производили и пустынные улицы плато д’Асси, затянутые тревожной синеватой мглой. При виде безлюдных тротуаров охватывало такое чувство, что где-то рядом, в одном из переулков, начался пожар, дым от которого стелется по всей округе, но в вымершем поселке никому до этого нет дела. А целое облако оседающих над проезжей частью мыльных пузырей, с большим искусством выпускаемых с балкона санаторного корпуса, который нависал над проезжей частью справа, представляло собой и вовсе странное зрелище.
Один из мыльных шаров, величиной с мяч, заставил Петра сбросить скорость. Дрожащий, отливающий радужным перламутром, пузырь беззвучно лопнул на лобовом стекле. И это всколыхнуло в душе что-то хорошо знакомое, но он не смог вспомнить, что именно…
Неожиданная атмосфера царила и в полупустом кафе, куда он вошел минуту спустя, остановив машину перед зданием почты. За стойкой, у самого входа, сидел с бокалом пива дистрофически худой араб, который встречал входящих горестным взором и всех без исключения приветствовал фразой: «Добрый вечер!» Столик на веранде осадили монолитными тушами двое толстяков с мокрыми от пота лицами, мужчина и женщина, которые пили какао, оприходовали тарелку с круассанами и требовали подать им на стол недостающую часть заказа ― кувшин апельсинового сока…
В конторе пристава ответила секретарша. Патрон якобы ждал этого звонка. Приехать можно было сразу. Визит с утра приходился даже кстати, у пристава было свободное время. Секретарша переспросила, действительно ли он намерен приехать через полчаса.
Позавтракав, Петр предпочел спуститься в Салланш через Шэдде, таким образом рассчитывая укоротить хотя бы часть спуска: при столь густом тумане разумнее было проехать лишний километр по прямой дороге через долину, где туман вряд ли был таким плотным.
Как только он выехал из Пасси, туман опять стал настолько непроглядным, что ехать пришлось на второй скорости. Сквозь клочья серого месива фары высвечивали лишь белую разделяющую полосу и время от времени цветастые пятна дорожных знаков, которые предупреждали еще и о дорожном ремонте.
За ярко-желтыми зарослями кустов, которыми были обнесены обочины узкого, асфальтированного серпантина, показался поворот и за ним жилой островок из нескольких шале. Туман внезапно расступился. Глазам открылась ясная перспектива с видом на горные склоны. Под самый свод неба вздымался огромный, мрачный конус Черной головы. На крутом сине-черном склоне горы-исполина просматривался поясок виадука с ползущей по нему золотой цепочкой автомобилей. За развилкой, к которой сходилось три дороги, и за ручьем следовал крутой вираж, а еще метров через двести, напротив водопада, с шумом сбрасывающего талые воды с высоких скал, хорошо просматривался последний виток серпантина. Обочина дороги здесь круто обрывалась вниз, в покатые зеленые косогоры…
Но всех этих подробностей, которые позднее изучала дорожная жандармерия, пытаясь установить причину происшедшего, Петр Вертягин уже не помнил.
Серого цвета «БМВ» обнаружили около десяти утра, как только туман в районе Шэдде начал рассеиваться. Сильно помятый с боков, но с особенно сильными повреждениями в верхней части кузова, автомобиль был замечен местным фермером, который возвращался с базара. Застрявшая между стволами деревьев и буквально зависшая над дорогой, машина чудом удерживалась в полуподвешенном состоянии на краю утеса, стеной обрывавшегося вниз над очередной петлей спуска.
Водитель находился за рулем в бессознательном состоянии. С переломами ключицы, двух правых ребер, левого предплечья, пальцев на руках и с черепно-мозговой травмой, пострадавший был доставлен в коматозном состоянии в городскую больницу Салланша.
Перед тем как в конце лета переехать в реабилитационный санаторий близ Шамони, куда он был направлен из лечебного центра в Салланше, полтора месяца Петр провел в одноместной палате — в светлой комнате, скромный, но опрятный интерьер которой скрашивал телевизор и большое, полнеба вмещающее окно, обращенное к вечным снегам Монблана.
Доступ в палату первое время старались ограничивать. Но когда больному стало лучше, визитам не было конца. Петра навещали знакомые из Пасси, доктор Поль и его жена. Раз в три дня приезжал фермер Фаяр. Однажды визит нанес и шурин Фаяра, светлоглазый фермер из-под Кордона, который одарил дежуривших медсестер тремя килограммами майского меда, собранного у себя на пасеке, а своего больного — бутылкой сливового самогона, который одна из медсестер сразу упрятала в шкаф с его личными вещами.
В конце июня в Альпы вновь приезжал Серж Фон Ломов и с ним Густав Калленборн. Хлопотала вокруг больного и Мари Брэйзиер, но она появилась в Верхней Савойе уже позднее…
Одним из завсегдатаев палаты с первого дня стал доктор Обри. Он жил неподалеку от больницы, на велосипеде дорога отнимала у него не больше пяти минут, и таким образом ему удавалось «убить сразу двух зайцев», как сам он признавался. Он успевал как следует «почесать языком» в палате Петра и заодно мог заглянуть в отделение по своим врачебным делам.
В палате Обри проводил около часа, а по выходным просиживал здесь все вечера. Стараясь внести в лечение знакомого свою лепту, доктор с первого дня пытался помочь лечащему врачу привести Петра в чувство. Поудобнее усаживаясь, вплотную придвигая кресло к кровати, Обри пускался в одни и те же расспросы:
— Эх вы, такую машину угробили! Куда вас, спрашивается, понесло?.. Молчите. На вашем месте я бы тоже помалкивал. Но чтоб вы знали: я вам всё равно не верю! Не верю, что у вас память отшибло. Питер, ну ей-богу?.. Зачем вы им голову морочите? Пощадили бы медсестер. Они с утра до вечера на ногах, вы представляете? А зарплата? Сами знаете — кот наплакал. Так что давайте не будем усложнять людям жизнь… Ну, вспомнили что-нибудь? Как вас зовут, вы это хотя бы помните?.. — настаивал Обри. — Допустим, что нет, вышибло… А меня? Да неужто забыли? Боб! Обри! — кричал Обри не в первый раз, сильно выпучивая глаза; однако все усилия оставались тщетными. — Вы знаете, сколько стоит такая машина? За сколько вы ее купили, вы хоть помните? Ваша машина стоит сто тридцать тысяч! С учетом наезженных километров, конечно, уже подешевле. Но давайте подсчитаем… За год у вас на спидометре набегает тысяч по тридцать‒сорок. Вы же много ездите? Сколько лет назад вы ее купили? Опять не знаете… А я вам скажу сколько: у моего шурина точно такая же модель… Значит, вы свою тогда же и купили. Прав я или нет? Что было в этом году, когда вы вашу машину купили? Ну?.. — Поднеся очки к бесформенному носу, Обри держал их перед глазами на некотором отдалении, не прикасаясь оправой к лицу, чтобы проследить за реакцией больного, и снова был вынужден продолжать разговор сам с собой: — Американцы баню устроили арабам! В Ираке! Ну, вспомнили? Бум-бум?!
С того дня как в больнице стала бывать Мари Брэйзиер, Обри пришлось сократить свои визиты. Дважды застав старика в палате в тот самый момент, когда тот проводил очередной допрос, Мари обозвала его «старым шутом», выдворила за порог и ринулась объясняться с заведующим отделения. Мари требовала, чтобы полоумного старика перестали впускать к ее родственнику, и даже слушать не хотела лечащего врача, приглашенного для объяснений и пытавшегося убедить ее в том, что методика правильная, что доктор Обри, престарелый коллега, несмотря на свою эксцентричность, прекрасно знает, что такое «амнезия», и никогда не позволит себе ничего такого, что могло бы нанести вред больному, как раз наоборот…
В первые дни своего пребывания в Альпах Мари добивалась перевода Петра в другую местную клинику, которая находилась выше в горах. Она считала, что в частной клинике ему будет лучше. Однако через неделю, ближе познакомившись с молодыми санитарками, с медсестрами и с самим лечащим врачом, от своей затеи Мари отказалась. Лечебный персонал делал всё возможное, чтобы облегчить длительную госпитализацию. Условия провинциальной больницы были более чем приемлемыми.
От своих новых забот помолодевшая и румяная — горный воздух давал о себе знать — Мари не жалела денег на такси и продолжала объезжать все местные пансионаты, чтобы заранее подыскать подходящее место для последующего лечения и отдыха, предписанных Петру после больницы. По мнению врачей, отдых ему требовался в течение нескольких месяцев…
Послесловие
Весной девяносто четвертого года, в одну из поездок на юг Франции, я навестил Мари Брэйзиер, к этому времени уже окончательно переселившуюся в Рокфор-ле-Па. Она и попросила меня съездить в психиатрический центр, где Петр находился вот уже несколько месяцев.
Своей просьбой Мари ставила меня в затруднительное положение. Она делала на меня какую-то ставку, и вряд ли я мог оправдать ее надежды. Да и трудно было не задаваться вопросом, что думает об всём этом сам Петр, если с мнением его вообще кто-то считался. Горел ли он жаждой общения? Каково ему было представать перед вчерашними друзьями и знакомыми в роли душевнобольного?
Как объясняла мне Мари, с осени прошлого года, с того дня, как Петр находился на стационарном лечении, существенных сдвигов в его состоянии не наблюдалось. Посещения близких, друзей и знакомых в клинике будто бы принимали на ура. Врачи считали визиты частью терапии и чуть ли не панацеей. Лечащий врач, некто Пьер де Мирмон, неоднократно обращался к Мари с просьбой посодействовать ему хотя бы в этом…
Частная клиника находилась в окрестностях Монпелье, в довольно живописной местности. На юге стояла уже не весна, а настоящее лето. Пестрые цветущие косогоры дружно разбегались в разные стороны сразу на выезде из небольшого городка со старинной церковью, который надвое рассекала речушка. На узких улочках было ни пройти ни проехать от магазинов, торговых рядов и лавок. Торговцы заманивали к прилавкам фермерскими продуктами и какой-то местной мануфактурой. С туризма все жили и здесь.
От каменного моста, замыкавшего городскую черту, мне предстояло проехать еще несколько километров в направлении старинной обители, населенной монахами-бенедиктинцами, которая располагалась на возвышенности и на карте была отмечена как историческая достопримечательность. По соседству с монастырем и находилась клиника…
Въездные ворота оказались распахнуты. Трое рабочих в спецовках выгружали из автофургона ящики, выполняя указания долговязого мужчины в белом халате.
Я приостановился у ворот. Тот, что был в белом халате, подал мне знак, приблизился, спросил, с какой целью я пожаловал, и показал мне на аллею, углублявшуюся в объезд широкого газона с сиротливо расставленными на нем шезлонгами.
Обогнув газон и клумбы, я подкатил к главному корпусу и припарковался на усыпанной гравием площадке. На высоком крыльце, заставленном цветами в вазонах, показалась молодая медсестра. Тоже в белом, приветливая и на вид миловидная, она пригласила меня подняться. Мы вошли в высокий вестибюль с хрустальной люстрой, миновали теплую, залитую солнцем галерею и оказались в просторном, застеленном ковровой дорожкой коридоре. Медсестра указала на дверь в конце, сказала, что лечащий врач ждет меня, и исчезла.
Подтянутый брюнет лет пятидесяти с тускловатыми глазами орехового оттенка вышел из-за стола и подал мне руку, придержав мою ладонь чуть дольше, чем того требуют приличия. Руки по локти в брюки, в расстегнутом медицинском халате, он стал расспрашивать меня, откуда я и кем прихожусь его пациенту, выплескивая всё это одной тирадой и не давая ответить коротко.
Мои объяснения его чем-то озадачивали. После нескольких минут странновато протекавшей беседы врач куда-то позвонил и попросил вызвать к нему Вертягина. Пока мы дожидались его прихода, де Мирмон вернулся за свой стол из красного дерева и решил меня еще поэкзаменовать, чтобы, видимо, составить более полное представление о моих отношениях с Вертягиным и получше уяснить себе, на что рассчитывать от этого визита.
Затем он стал объяснять не совсем понятные мне вещи. Речь шла о каких-то центрах в коре головного мозга, о синдроме блокировки памяти, о парамнезии, псевдореминисценции. Единственное, что мне удавалось вывести для себя с ясностью, так это то, что память Петра претерпела серьезные нарушения и что дело не только в пробелах. Для неповрежденной части его памяти были также характерны нарушения «по времени и месту событий». Какую-то часть реальных событий, имевших место в его прошлом, Петр будто бы помнил, но не мог разложить всё это в голове, как все нормальные люди. Кроме того, положение его усугублялось синдромом частичной «переидентификации» личности. Де Мирмон почему-то подчеркнул, что устойчивость этого синдрома объяснялась другим сопутствующим недугом — не то неврозом, не то психозом.
— Если память нарушена по месту и времени, это значит, что всё может вернуться назад, в нормальное состояние? — спросил я.
Врач закивал.
— Если упростить, то да… Это чем-то напоминает компьютер. Память машины разбита на «живую» и «мертвую», — стал он объяснять. — Мертвая служит для хранения информации, фактически это просто шкаф. Живая память участвует в обработке информации. Благодаря взаимодействию между ними нужная информация вынимается из хранилища в нужный момент. Когда этот механизм не срабатывает, информация лежит мертвым грузом. С компьютером просто: если мы дорожим информацией, которая заложена в память машины, нам ничего не стоит снять копию и хранить, скажем, отдельно, в другом месте. При неполадках мы загружаем сохраненную информацию в другую машину или можем заменить, подчистить память. Что делать с памятью человека? Ее нужно восстанавливать, как есть. Этим мы и занимаемся…
Де Мирмон попросил меня, чтобы при появлении Петра я не вступал с ним в разговор. Он предпочитал подать мне знак в нужный момент, ему хотелось проделать какой-то тест. Но, видимо, этим и объяснялся его энтузиазм, с которым он отреагировал на мой первый звонок, когда я попытался назначить дату и время визита.
Теряя в себе уверенность, я пообещал выполнить просьбу.
Раздался стук в дверь.
— Войдите! — сказал де Мирмон.
В кабинет вошел высокий, худощавый мужчина с седой головой. В следующий миг я едва не сорвался с места.
Это был Петр. Не кто иной, как Петр Вертягин. Но его невозможно было узнать. Постаревший, он выглядел на все пятьдесят. В его сером асимметричном лице появилась что-то простоватое и аморфное. На нем были изношенные выглаженные джинсы, рабочая куртка из парусины. На меня он даже не посмотрел, как будто не заметил моего присутствия.
— Ну, как наши дела, Питер? Что нового? — заговорил де Мирмон с неестественным воодушевлением.
— Спасибо… Слава богу, — нерасторопно произнес Вертягин.
— Питер, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, — попросил де Мирмон и покосился в мою сторону.
— Здравствуйте, — кивнул мне Вертягин, едва удостоив меня вниманием.
— Присаживайтесь, у меня к вам дело… — Врач указал на обитый кожей стул перед письменным столом. — То есть разговор… Давайте кое-что уточним. Хотелось бы это услышать от вас лично. Скажите нам, кто вы, как вас зовут, чем вы занимаетесь?
— Что с вами, доктор? — удивился Вертягин; он сел на стул и прямо переспросил: — Зачем повторять всё это?
— Прошу вас. Чего вам стоит?
— Садовник. Крафт, — пробормотал тот и мельком глянул в мою сторону.
— Вы не помните этого господина? — спросил де Мирмон.
Петр смерил меня продолжительным взглядом и отрицательно покачал головой:
— Нет, не помню. А должен?
— Вы были когда-то знакомы.
— Вряд ли… Мы никогда не встречались… — Петр печально усмехнулся.
— Вы всё-таки постарайтесь вспомнить. Под Парижем, в Гарне… Вы же помните Гарн?
— В Гарне жил мой родственник. Но я… Я был там раз в жизни.
— Родственник… А кто именно? Вы не помните фамилии родственника? — спросил де Мирмон.
— Двоюродный… То есть даже троюродный, — флегматично ответил Петр. — А фамилия, если не ошибаюсь, Вертягин.
— Вы не находите эту фамилию немного… как бы это сказать… необычной?
— На французский слух все русские фамилии кажутся необычными… — Вертягин опять усмехнулся.
— Хорошо. В таком случае какое отношение эта русская фамилия имеет к вам, если вы Крафт? — спросил де Мирмон с подвохом.
— Затрудняюсь ответить.
— А вы постарайтесь. Напрягите память, Питер, прошу вас.
На миг оробев, Петр отрицательно покачал головой:
— Нет, не помню.
— Когда это было? Гарн, я хочу сказать…
— Несколько лет назад. Лет десять назад, — ответил Петр с поспешностью, которая показалась мне неестественной; и он не замедлил скользнуть по нам растерянным взглядом.
— Вы встречались с господином у вас дома, в Гарне. В Гарне жил не родственник, а вы сами. А до этого вы встречались в России, много лет назад. Он приехал вас навестить… — Де Мирмон перевел на меня настойчивый взгляд и многозначительно замолчал.
— Да, это правда, — с трудом вымолвил я; в горле у меня застрял ком, я вдруг не мог отделаться от ощущения, что происходит какая-то ошибка, и с этого момента я уже ждал одного: чтобы эксперимент побыстрее закончился.
Петр посмотрел на меня в упор. Его глаза вдруг показались мне ясными, до странности откровенными и вместе с тем полными снисхождения.
— Простите, я вас совершенно не помню, — сказал он, и на лице у него отразилось какое-то усилие.
— Ну да бог с ним, — свернул тему де Мирмон. — Как вам у нас? Вы всем удовлетворены?
— Здесь, в клинике?.. — вновь удивился Петр вопросу.
— Есть ли какие-то пожелания?
— Сколько раз уже говорил вам, что повара нужно гнать в шею. Совершенно не умеет готовить, — заговорил Петр с внезапной приподнятостью. — И розы под стеной пора пересаживать. Об орхидеях в кадках я не говорю… Вы обещали… Мне нужна земля, удобрения, пленка…
— Вам всё привезут. Думаю, на следующей неделе, — пообещал врач, скользя по мне беглым взглядом, и разочарованно прибавил: — Вы можете идти, Питер. Спасибо, что зашли. Кстати, у меня к вам будет поручение. Зайдите ко мне перед ужином.
Петр кивнул, уронил руки по швам и направился к выходу. На пороге он обернулся, наградил каждого из нас отдельным взглядом, усмехнулся и исчез.
— Вот видите… Хотя мне непонятно, почему он вас не узнает, — сказал де Мирмон. — Мари Брэйзиер он узнал мгновенно. Мужа ее тоже. А вот когда мать приезжала — как с вами, пустой номер.
— Давно она здесь была?
— Вы знакомы?
— Нет, но я много слышал о ней.
— Его мать приезжала дважды, осенью и зимой. Насколько мне известно, у них какие-то нетипичные отношения… Вообще говоря, посещений мало. Иногда приезжает некто Фон Ломов, знакомый его, живет где-то за границей… Вы его знаете?
— Да, мы знакомы, — ответил я. — Вспомнит ли Петр о том, что я сюда приезжал?
— Разумеется. В этом-то смысле он совершенно нормальный человек. Эти реакции давно восстановлены…
Нет смысла объяснять, какое я испытывал затруднение. Визит длился уже около часа, когда я спросил, не рисует ли Петр, есть ли у него возможность заниматься в клинике каким-нибудь хобби.
— Да, конечно. И должен признаться, это увлечение вашего друга нас очень интригует, — сказал де Мирмон.
— У вас есть его рисунки? Нельзя ли на них взглянуть? — спросил я.
— Да нет в них ничего особенного. Если хотите, могу показать…
Де Мирмон прошел к нишам в конце кабинета, открыл один из шкафчиков и вывалил себе на грудь толстую черную папку. Поднеся ее к круглому столу у окна, он стал выкладывать листы рядами.
Рисунки были выполнены на бумаге размером примерно в тридцать на сорок. Торопливо раскрашенные гуашью, все с одной и той же композицией, если, конечно, это можно было назвать композицией, поскольку во весь размер листа изображался лишь квадрат и ничего другого, — этюды представляли собой нечто пестрое, всех цветов радуги, но основных, не смешанных цветов. Большая часть рисунков была выполнена на бумаге с перфорированными краями, на каких-то служебных бланках. А под некоторые был использован настоящий рифленый торшон с отпрессованными краями.
— Бумагу я сам иногда ему покупаю, — пояснил де Мирмон, показывая на более яркие листы, которым он, по-видимому, отдавал предпочтение.
В этот момент я обратил внимание, что врач невольно сортирует содержимое папки на две части.
— Это всё старое… А вот эти теперешние, — продолжал де Мирмон раскладывать листы.
Врач заверил, что перед нами лишь часть всех рисунков, сделанных Петром за время пребывания в клинике. Он раскрашивал их будто бы сериями, по нескольку в день, и предавался своему хобби с неиссякаемым рвением.
Последняя серия этюдов заметно отличалась от общей массы. За хронологией нетрудно было проследить по датам, проставленным на каждом листе. Они были выполнены в смешанной, но при этом всё же монохромно-тусклой гамме цветов. Тон рисунков переходил из откровенно зеленого, елового цвета в неопределенно-серый или серо-зеленый. Выполненные с той же небрежностью, с обеих сторон бумаги забрызганные краской, этюды этой серии производили впечатление незаконченных. Но что-то необъяснимое приковывало к ним взгляд.
Трудно было судить о художественных достоинствах лежавших перед нами рисунков. Вряд ли всё это имело отношение к искусству. Но этюды не могли не производить впечатления. Поражало однообразие, какая-то идея фикс, совершенно явно проступавшая в повторяемости композиций. Глядя на них, у человека возникало ощущение, что всё загадочное и непонятное должно вот-вот рассеяться и что вдруг обнаружится какое-то простое объяснение.
Перед уходом, давая де Мирмону записать свой адрес, который он попросил у меня на всякий случай, я задал ему следующий вопрос:
— Скажите откровенно, вы думаете, что он серьезно болен? Я хочу сказать — действительно болен?
Де Мирмон помолчал, сделал непонятный жест и, холодно уставившись на меня, прочитал мне нотацию:
— Трудно смириться с такими вещами, когда это случается с близким человеком. Вроде бы не укладывается в голове. Я вас понимаю. Но нужно попытаться встать на место человека. Иначе мы не сможем ему помочь. А он нуждается в помощи…
В октябре того же года я получил через Мари Брэйзиер ошеломительное известие. Оно заслуживало того, чтобы она позвонила мне, что делала не так часто. И я не мог поверить своим ушам. Мари звонила, чтобы сообщить мне о том, что Вертягина больше нет в живых…
Он скончался в муниципальной больнице, в Монпелье. Смерть наступила в результате разрыва аневризмы. Как это нередко бывает в таких случаях, диагноз был поставлен с запозданием в несколько часов, поэтому предотвратить летальный исход не удалось.
День спустя, делясь подробностями, Мари рассказала мне, что среди личных вещей Петра найдены записи, часть из которых, первые несколько страниц, оказались написаны по-русски. Сама она бумаг не видела, но ссылалась на слова лечащего врача, с которым я однажды встречался. Обнаружив записи, де Мирмон будто бы показал их знакомому, преподававшему русский язык в университете, и тот сделал для него пробный перевод. Содержание записей де Мирмона якобы удивило. Помимо четырех страниц русского текста, в руки его попало еще два толстых блокнота, но они оказались исписаны уже ни на что не похожими каракулями. Обескураженный врач решил докопаться до какого-нибудь рационального объяснения. По словам Мари, «каракули» представляли собой целые страницы одинаковых завитушек, черточек и точек, сопровождаемых чем-то вроде пунктуации. Отдаленно «каракули» напоминали чуть ли не арабскую вязь…
Едва Мари заговорила о «каракулях», как во мне зародилась неожиданная мысль. Не были ли «каракули» русской стенографией, спросил я себя, припоминая, что когда-то в Москве Петр пытался изучать скоропись…
Мари пообещала поделиться этим соображением с врачом. И не прошло недели, как я получил от психиатра бандероль, содержавшую подшивку ксерокопий — копии блокнотов Петра.
Первые страницы были написаны действительно по-русски — ровным, правильным, ученическим почерком, при виде которого могло показаться, что сделавший записи лишь недавно научился писать. К бандероли Пьер де Мирмон прилагал обстоятельное письмо, в котором объяснял, что блокноты обнаружены в садовой каморке Вертягина, которую отводили ему под инструменты. В ближайшее время он намеревался передать все вещи Вертягина родственникам. А пока они оставались в его распоряжении, он считал себя вправе снять с бумаг копию и попытаться разобраться хотя бы в этом. Он надеялся, что мне удастся обрадовать его какими-нибудь «дельными соображениями» по поводу загадочных «каракулей». Но приведу последние строки этого письма:
«…Если помните, при встрече Вы задали мне вопрос, насколько реальной мне представляется болезнь Вашего друга. Я ответил тогда категорично, и нисколько не покривил душой. С тех пор я много раз просмотрел историю болезни и не могу не сказать, что прямых оснований ставить под сомнение прежний диагноз у меня нет и сегодня. Тот факт, что Ваш друг смог вести записи, вовсе не исключает амнезии. Что этот факт исключает, так это наличие в его болезни некоторых нарушений, в которых все мы были уверены.
Считаю своим долгом поделиться с Вами соображением, что речь может идти, как бы то ни было, об ошибке. В случаях с амнезией (как Вы наверное знаете, современная медицина вынуждена считать амнезию теоретически несуществующей болезнью) каждый уважающий себя врач в сотый раз вынужден задаваться вопросом, всё ли он сделал, чтобы помочь больному, а тем более при таком трагичном повороте в судьбе человека. Конечно, нужно отдавать себе отчет, что люди со здоровой психикой, или, уместнее было бы сказать, душевно здоровые, не идут на такие поступки. Я имею в виду добровольное желание попасть в руки врачей-психиатров…»
Я обратился к московским знакомым с просьбой прислать мне учебник по стенографии. Наука оказалась не такой уж непосильной, как это может показаться на первый взгляд. Уже через пару дней мне удалось расшифровать в «каракулях» несколько слов, и одно это сполна подтверждало мои догадки. А за три последующих недели я настолько хорошо освоил дело, что начал разбирать страницу за страницей.
Расшифровка согласных не представляла собой большого труда, если, конечно, не иметь в виду специальные сокращения. Но разобраться в гласных оказалось чрезвычайно кропотливым делом. Создатели скорописи, по-видимому, не гнушались заимствованиями из иврита, поскольку один из ее главных принципов заключается в том, что гласные в письме опускаются, а если и фиксируются (в редких, выборочных словах), то с одной-единственной целью — чтобы их невозможно было спутать с близкими по написанию. Вполне понятно, что лишь за счет упразднения гласных скорость письма может увеличиться как минимум вдвое. На практике это осуществляется посредством каллиграфической техники соединения согласных между собой, аналогично тому, как в иврите для этого используются дополнительные значки, так называемые «огласовки»…
Если завитушка последующей согласной слегка приподнята по отношению к предыдущей, то перед нами гласная «у». Если тот же самый штрих приопущен книзу строки — то это гласная «о» или «ь». Завитушка может отстоять от предыдущей или, наоборот, примыкать к другой завитушке-согласной вплотную, и так далее. Беда в том, что у каждого пишущего свой почерк. Уровень штриха у всех варьирует по-разному, а поэтому, если не имеешь достаточного опыта, бывает нелегко определить, какой уровень в почерке следует считать за нулевой.
Что же касается сокращений — вот здесь начинается уже непролазный лес. Дело в том, что стенографическая запись вообще не легко поддается прочтению для лица постороннего, потому что построена — на основе всё тех же принципов — не столько на упрощенной каллиграфии, сколько на сокращениях, причем таких, которые каждый «пользователь» призван изобретать на свой страх и риск. На деле, сокращения придумываются по ходу письма. В результате даже автор, если он не имеет многолетнего навыка или не помнит контекста написанного, может испытывать затруднения при прочтении собственноручно выведенных строк.
Таким вот образом в мои руки и попал дневник Вертягина. Текст охватывал временной отрезок в восемь месяцев — весь период его пребывания в клинике, в той самой клинике, где я навестил его весной девяносто четвертого года. Дневник оказался застенографирован действительно по-русски, хотя и с большим количеством галлицизмов и с некоторыми неверными, полурусскими оборотами, которые редактору пришлось подправить. Но нет смысла углубляться в комментарии. Этот текст говорит сам за себя. Не считая синтаксических, грамматических и некоторых стилистических поправок, дневник Петра прилагается здесь в нетронутом виде.
Дневники П. Вертягина
8 октября
На прошлой неделе от Мари пришел пакет с новой подборкой книг. Новеллы Борхеса, три тома Т. Манна, дневники Толстого, два романа и статьи Г. Джеймса (она и раньше была без ума от него, никогда этого не понимал, но что поделаешь…), переписка Флобера, зачем-то том Аристотеля… Вдобавок ко всему перьевая ручку «Шеффер» и два чистых блокнота. Точно такие черные блокноты, с красными уголками, в твердом переплете, наподобие готовых книжек, я любил покупать в китайских лавках.
«Посылаю блокноты, чтобы ты мог записывать все, что тебе приходит голову. Я знаю, что тебе необходимо общение. Знаю, что там, где ты сейчас, ты не можешь говорить… Попробуй. Я уверена, что в этом можно найти отдушину…»
В этих словах — вся Мари. Как так получилось, что я недооценил свою привязанность к ней? Сама она, правда, тоже кое в чем напортачила. Всю жизнь отгораживаться от мира и людей такой ширмой фальши! Этой своей ложной простоватостью она и вводила в заблуждение, и не одного меня.
Я, конечно, тоже отгораживался. Из страха наткнуться на непонимание. Мне казалось, что она никогда не сможет выбраться из своего обывательского кокона, в котором выросла, что она не способна понять такого изгоя, как я. Мне чудилось, что я вижу ее насквозь. Раз уж ни на какие высокие материи человек не посягает — чего тут мудрить? Вот и объяснение, почему все принимали ее за пустое место. И я в том числе. Никому даже в голову не приходило, что под личиной простодушия скрывается не просто чистое сердце, а незаурядный ум. Но не тот ум, грубый, такой, который можно, пожалуй, даже обрести, если добиваться этого в поте лица, а какая-то особая, самородная форма ума, производная от чувствительности и доброты. У таких людей нет нужды в том, чтобы изливать душу, они самодостаточны. И большинство из них даже не сознает своих достоинств, слишком всё это для них естественно.
Но что ни говори, ум и мораль плохо друг с другом уживаются. Поэтому, когда кому-то удается замкнуть на себе эти два полюса, со стороны это всегда поражает.
Вот такие наши дела, Мари. Последовал твоему совету. Пытаюсь найти «отдушину». И пока безуспешно. Совершенно отвык писать. Жалко, на редкость красивая ручка…
Странно думать обо всем, что произошло за последний год. В голове какой-то дым, сумятица. Всё как-то непостижимо. Нужно признать, что в голове у меня по-прежнему большие провалы. Смотрю туда — какая-то пропасть. Знаю, что придется ее преодолевать. Назад хода нет. Но как? Ведь даже противоположный край за обрывом не просматривается. Мучительное ощущение. Иногда ужасно хочется избавиться от всего этого. Опустить руки? Зачем мучиться? Так вроде бы проще. Но и это не так просто.
Де Мирмон, мой лечащий врач, утверждает, что еще недавно я был на сто процентов невменяемым. Ничего якобы не помнил вообще. Так что есть чему радоваться. Невероятно! А впрочем, так это и было. Теперь всё вроде бы вернулось. Сегодня я без особых усилий могу восстанавливать в голове удивительные вещи. Причем с какой-то небывалой точностью и даже яркостью. Пробелов осталось мало. Так, например, утром сегодня, когда я встал, перед глазами плыли какие-то знакомые и очень четкие картины, множество картин. И я не мог понять, откуда они во мне. Когда всё это было? Где я всё это видел?
И вдруг припоминались какие-то равнины, луга, еще зеленые, но уже начинавшие выгорать. А вдали виднелся лесок, речка. Помню еще небольшой вокзал. Весь перрон усыпан яблоками. Из-за яблок мимо вагонов невозможно идти. Приходится расталкивать яблоки ногами, чтобы не упасть. Странная картина… А еще помню какие-то шары. Тут же большая стеклянная колба, наполненная чем-то вроде жемчуга, что ли. Удивительно. И дрожащие мыльные пузыри, лопающиеся у меня перед глазами, от пристального наблюдения за которыми у меня начинает ломить в висках. Ведь я никак не могу заставить себя смотреть на эти пузыри не мигая. Когда очередной шар лопается, веки закрываются помимо воли.
Перед глазами стоит еще одна картина. Но тоже не могу понять, откуда она. Какие-то люди машут мне на прощанье. И все улыбаются. Одна из женщин, лицо которой мне кажется очень знакомым, белокурая, в чем-то красном, отделяется от группы провожающих и говорит мне: «Вам там будет хорошо, можете мне поверить…» Я хотел спросить ее, где — там? Но что-то удержало. Тут я понял, что должен ее чем-то успокоить, и я выдавил из себя: «Я и не волнуюсь, это вы волнуетесь…» И вдруг понял, что говорю не то, что думаю. Стало неловко, стыдно. Белокурая женщина в красном продолжала смотреть на меня с сочувствием. Такого сочувствия к себе я, кажется, никогда еще не видел. И мне вдруг стало грустно. До тошноты. До одурения. Почему — я понять не мог… Теперь только понимаю, что всем этим людям, провожавшим меня, было жаль, что такой, как я, «полноценный» человек мог загреметь в сумасшедший дом. Уже в тот момент, на перроне, я знал, что всё это неправда, знал, что морочу всем голову. Каким-то образом я догадывался об этом, хотя до конца ничего не понимал. Поэтому и сжигал стыд?
А случилось всё это, наверное, при отъезде сюда, на Юг. Никогда не думал, что попаду в эти места, под Монпелье. На вечное поселение? Боже праведный…
Когда гулял сегодня в парке, ко мне подошел лечащий врач и спросил, что я записываю в блокноте. Мой ответ его чем-то не устроил, и де Мирмон стал наседать. Нет-нет, пожалуйста, напрягитесь, мол, и скажите мне, Пьер, кто и когда научил вас писать?
Поразительно. Я не смог ответить на этот вопрос! Ясно понимая, что речь идет о чем-то очевидном, само собой разумеющемся, я в то же время был уверен, что все умеют писать с рождения. И был растерян, потому что по логике вещей-то понимал, что это невозможно.
Оказывается, нет, не все умеют писать! В эту минуту это кажется мне очевидным. Но откуда мне это известно, я понятия не имею. Всем кажется, что я ненормальный, что я просто страдаю от провалов памяти. Заблуждение. Подобную муку может испытывать кто угодно, задавая себе самые простые вопросы, по поводу самых обыденных вещей, которые окружают нас изо дня в день. Каждый из нас окружен огромным количеством предметов, о которых он никогда не сможет сказать с определенностью, где и когда научился пользоваться ими, когда узнал, как они называются…
9 октября
Хотелось начать эти записи сразу же, как только приехал сюда, но ждал какого-то толчка, события, перемены. И просчитался. Всё оказалось куда банальнее, чем я думал. Время идет, жизнь тоже. Всё, конечно, меняется. Но эти перемены замечаешь, к превеликому несчастью, задним числом, когда повлиять уже ни на что не можешь. Так со мной всегда и было. С той разницей, в сущности небольшой, что до того, как я впал в эту «забывчивость», мне удавалось сосредоточиться, легче было думать. Сегодня это требует неимоверных усилий.
Последняя попытка вести дневник, годы назад, оказалась пустой затеей. Порыв иссяк. А если прибавить к этому некоторую «нецензурность» содержания, чего избежать невозможно, то потребность изливать душу на бумаге в считаный миг может разбиться об извечные преграды…
Успокаиваю я себя вот чем — соображением, что каждому есть что сказать, просто большинство людей этого не сознают, не понимают. Большинство людей настолько свыклись с собственной жизнью, с собственной шкурой, что она кажется им неинтересной, пустой. И из этого ощущения они выводят, что для других их жизнь так же малоинтересна, как и для них самих. А это совершенно не так…
Сегодня пасмурно. На улице тихо, как-то темновато… Утро для меня началось с вопросов, с внутренней неразберихи. С тех пор как в голове начало выстраиваться хоть что-то упорядоченное, гнетущее состояние растерянности находит на меня всё чаще и чаще, и каждый раз как гром среди ясного неба…
Вывел эти строки — и вдруг вспомнил что-то давнее, как всегда с мучительными подробностями. Они были настолько конкретны, ясны в сознании, что некоторое время я был буквально опрокинут. В чем дело? Да в том, что я опять не могу понять, где именно это было, с кем и когда?
Помню длинные коридоры, опять что-то больничное, затем светлую палату с высоким тополем за окном, и даже лица каких-то девушек, суетящихся вокруг — видимо, медсестры. Молодую женщину, приходившуюся мне хорошей знакомой, ночью прооперировали, удалили аппендицит, и получилось осложнение. Помню, что мне позвонили и попросили сходить в больницу проведать ее. Как мне было страшно в этом стерильно-белом больничном коридоре, когда чернокожий санитар в голубом халате принес мне в пластиковом стаканчике кофе. Как было стыдно потом, сидя возле кровати, оттого что я не умел поправлять под ее головой подушку! Мне казалось, что в эту минуту я готов отдать всё, чтобы поменяться с ней местами, чтобы хоть чем-то облегчить ее мучения. Но что дальше — не понятно…
Вспомнил. Это было в Париже! Я даже помню, кто это был. Прооперировали Л… Боже праведный!
Это было в ту странную переломную эпоху, когда между нами еще ничего не произошло. И еще хорошо помню, что именно в этот момент, в больнице, в моем отношении к Л. что-то надломилось. Именно поправляя подушку под ее головой, я понял, что пропал. Хотя еще и не сознавал, в какой степени. Позднее я просто боялся сказать себе всю правду…
вечером
Весь день думал о том, что произошло сегодня утром, и не мог найти себе места. Во мне всё по-прежнему. Ничего не изменилось. Страшно.
А впрочем, как же любим мы щеголять своей впечатлительностью. Дабы этим возвеличить себя в собственных глазах. Дабы придать нашему существованию хоть какую-то значимость, а то и просто лоск, сочность, красочность, которых в нем не так много, если разобраться. Положа руку на сердце, это может сказать о себе кто угодно: жизнь не очень интересна, а во многих случаях просто скучнá. И вот мы начинаем изо всех сил протестовать против такой несправедливой доли. Почему нам так хочется жить? И почему это так часто граничит с полнейшей бессмыслицей? Мы, разумеется, понимаем, что всё закончится для нас ничем, одними впечатлениями, и пытаемся не оплошать хотя бы в этом. Но ведь там, куда мы попадем позднее, всё это не будет иметь ровно никакого значения. Шелуха, только и всего. Если там хоть что-нибудь от нас вообще останется, то только прожитое наедине с собой и наедине со своей совестью. Так-то…
10 октября
Встал, позавтракал и с самого утра думал всё о том же. Как тугодум, возомнивший, что ему удастся решить коварную математическую задачу с конца. А то и пустив в дело мнимые величины.
А думал я о том, что главным симптомом моей «болезни» и причиной моего нахождения здесь является утрата иммунитета… Всё то, что должно вызывать в человеке здоровый интерес и радость от возможности удовлетворить свои потребности, например, в уюте, во всевозможных удобствах, в пище, деньгах, сюда же можно отнести некоторые физические удовольствия, интеллектуальные и даже духовные… — всё это вдруг оказалось для меня потеряно. Как это произошло — непонятно. Ведь по натуре я человек «нормальный» во всех отношениях, даже немного «стандартный», и способен отводить этим вещам свое законное место, без пренебрежения ими и без переоценки. Отсюда и последствия. Отсюда чувство вины, с которым я встаю утром и засыпаю вечером. Отсюда вакуум вокруг, эта страшная пустота. Отсюда и странное существование. Ведь я немногим теперь отличаюсь от растения, которое прозябает под солнцем только потому, что какая-то сила, заложенная во всё живое, заставляет его высасывать из почвы необходимые ему алигоэлементы, аккумулировать энергию света. Откуда взялся этот мрак? Как случилось, что он объял меня со всех сторон? Когда именно это произошло? Как выкарабкаться из ямы?
Всё это время я ждал, что в одно прекрасное утро всё изменится, что мрак чудесным образом расступится. Так бывало раньше. Но на этот раз — увы. Чуда не происходит. Какой-то механизм просто перестал срабатывать. В один прекрасный день я был вынужден признать, что запас чудодейственных средств, к которым я привык прибегать, иссяк и что ждать больше нечего. Рано или поздно всё становится необратимым.
Всё это говорит о том, что выход нужно искать в себе, а не где-то там, как я всегда это делал. Но прежде чем искать в себе, нужно научиться обходиться тем, что есть. Это изначальное первейшее условие. Нужно научиться жить данностью — в том месте, где ты находишься в данный момент, в тех условиях, в которых ты живешь в данную минуту, не дожидаясь ничего от завтрашнего дня. Это единственное, в чем Фон Ломов был прав. Перед этой простой истиной не устоит никакая мудрость, ни одна система. Суть же премудрости предельна проста: блажены чистые сердцем, они и узрят Бога. И ничего нового здесь не придумаешь…
Ожидание поблажек — вот где начало всех недоразумений. Что удивительно, прекрасно отдавая себе отчет, что имеешь дело с самообманом и что он начинается с самого отказа жить на полную катушку, — ведь существование, при котором мы были бы лишены возможности уповать на манну небесную, потребовало бы от нас несравненно больших душевных усилий, чем прилагаемые тогда, когда у нас есть возможность выезжать на ничегонеделании, получать всё фактически задаром, — мы еще и умудряемся делать вид, что тащим на себе непосильную ношу, что нас наказали ни за что ни про что. Кто готов признаться в своем малодушии? Но ведь тем самым мы и становимся на сторону своей худшей половины. Тем самым мы обводим вокруг пальца себя самих, уподобляясь тому добросовестному арбитру, который начинает подсуживать чужеземной команде только для того, чтобы поверили в непредвзятость его судейства.
Стемнело. Из окна тянет свежестью. По вечерам здесь удивительный воздух. Сегодня прохладно. Холодно даже в комнате. Но нет сил встать и прикрыть окно. Как-то вдруг боязно двигаться, не хочется нарушить в себе равновесия. Такое внутренне затишье и согласие с собой слишком редко бывают. Какое мучительное желание завершить этот день хорошо и свежо.
Через стену слышно, как горничная, несмотря на поздний час, наводит марафет в соседней комнате и наедине с собой смеется. Я узнаю ее голос. Ей весело. Хочется рассмеяться вместе с ней. Вот кто довольствуется тем, что имеет. Как не позавидовать?
Что касается «чистоты» сердца, которая позволяет «узреть», тут явно есть какая-то загвоздка. Это одно из тех состояний души, одна из первичных истин, которыми невозможно проникнуться ни через знание, ни тем более эмпирическим путем, сколько ни старайся. Что, если это дается даром? Вот одни и получают всё, что им нужно, от рождения. А другие бьются хвостом об лед всю свою жизнь, и всё впустую. Третьи так даже не знают, что всё это существует. Главное, конечно, вовремя разобраться, к какой из трех категорий относишься ты сам. Это избавит хотя бы от никчемной траты сил и времени…
11 октября
Тихий, но отчего-то неспокойный вечер. Безделье, отсутствие обозримой перспективы, ожидание — всё это может быть настоящей пыткой. Привычка чувствовать себя занятым, постоянно чувствовать себя «при деле» или тем, что принято называть «делом», — это вросло в мою кровь и плоть. Отказ от этого состояния — настоящее самоистязание. Я, конечно, пытаюсь сдерживать в себе эти ускорения. Пытаюсь гнать от себя всё это подальше. На прошлой жизни нужно ставить крест. Это ясно. Но прежний «я», деятельный, неутомимый, не хочет быть похороненным заживо. Он вопиет, рвется наружу, чего-то еще требует. Я делаю вид, что глух к его претензиям. Заставляю себя браться за что-нибудь такое, чего не умею делать, на что раньше ни за что бы не отважился. Достаю, например, этот блокнот, вспомнив, что хотел записать что-то важное, осенившее меня среди ночи, но не успеваю сесть за стол, как появляется медсестра с какой-нибудь ерундой. Потом всё же заставляю себя вспомнить, что именно хотел записать. Да еще и с таким упорством, будто это грозит миру сему и всем моим потомкам чем-то невосполнимым…
Просмотрел вчерашнюю запись и обнаружил во всём новые неожиданные стороны. Думал об этом весь день… В моей жизни больше нет последовательности. Это факт. Я как мяч на футбольном поле: куда пнут — туда он и катится. Но если взглянуть на всё с другой колокольни, столь же очевидным кажется и обратное. Нет в моей жизни ничего случайного. Всё дело в дистанции, с которой оцениваешь происходящее. Например, то, что я подзалетел в Пасси на машине, — это не случайно. Всё взаимосвязано до парадоксальности. И в конце концов логично. Убедиться в этом довольно просто. Достаточно попытаться соединить пунктиром единичные жизненные события, связать их в одну общую линию на более или менее большом временнóм промежутке, и непременно получится кривая с плавным изгибом. А может быть, даже прямая линия.
Помню, как однажды в Гарне я шлялся по лесу. Пошел после обеда проветриться, поднялся вверх по песчаной тропе, ходить по которой мне так нравилось, и вдруг полил дождь. Я шел и думал, и помню — с какой-то поразительной внутренней ясностью, — что вот она, вся моя жизнь, лежит передо мной как на ладони, как эта тропа, петляющая впереди и позади. И в тот момент мне казалось, что достаточно одного взгляда, чтобы охватить жизнь полностью. Всё проносилось в сознании с небывалой скоростью. Во мне была полная ясность, то редкое, острое чувство, что я понимаю даже что-то такое, чего мне не дано понимать. Ради моего же благополучия. И так всю жизнь. Как так получается, что живешь, пичкая себя иллюзией новизны, изо дня в день, живешь с верой в то, что завтра произойдет какой-то переворот, благодаря которому всё встанет на новые рельсы, и при этом тешишь себя иллюзией, что всё будет лучше, чем было до сих пор? Но через год, через десять лет опять приходится думать о том же. Опять приходится удивляться, что и это всё уже было. А десяти лет — как не бывало…
Помню, что в тот день, когда я гулял в лесу, было очень необычное небо. В просвете между тучами, грозовыми, низкими, темными, виднелось большое сиреневое пятно. До этого весь день стояла жара, около 30 градусов, поэтому дождь, хлынувший после обеда, казался какой-то небесной наградой за перенесенные мучения. Помню, что мне хотелось промокнуть до нитки, до костей, но не получалось. Я вернулся к себе каким-то другим. И, не зная, что делать с этой переполненностью, метался весь вечер из угла в угол, пытался рубить дрова, садился читать газеты, а вечером чуть не напился.
Что-то в этом роде произошло вчера вечером. В меня вдруг вселилась тишина, и вмиг стало ясно, что всё, происходящее со мной в настоящее время — немыслимый санаторий, психиатр, который принимает себя за исповедника… — является недоразумением, ошибкой. В то же время осознание ошибки не гложет, как первое время. Даже наоборот. Понимание безысходности, понимание того, что хуже уже не будет (выходит, незачем мучиться в поисках выхода!), может, оказывается, привести к вполне здравому душевному удовлетворению, начисто лишенному какого-либо приторного мазохизма. Но это возможно лишь в том случае, когда речь идет о положении действительно безысходном. Это переживание какого-то духовного порядка. В конце концов сознаешь, что вокруг тебя созданы условия, позволяющие начать настоящую жизнь. Ведь безысходность — одно из первых условий для этого.
Мир гораздо проще, чем мы думаем. Всё в нем дается раз и навеки. Напрасно мечтать о чем-то таком, что тебе не дано, или, например, дано почему-то не тебе, а кому-то другому и по твоим представлениям — даже недостойному. Все те сложности и несовершенства, которые мы приписываем мироустройству, — это результат нашей же собственной внутренней несостоятельности. Мир ни плох, ни хорош. Он такой, как есть, всё просто…
Последняя мысль выражена как-то слишком приблизительно. Жаль. Главное, с чего я начал, растаяло по мере рассуждений в нюансах. Я вновь запутался и вновь плаваю в своих мыслях, как в чем-то теплом, вязком, болотистом. Дна под ногами нет. А вдали нет берега. Как и в дебрях моей памяти…
Можно ли думать без слов, без языка как такового? Вряд ли. Это кажется совершенно очевидным. Тогда каким образом такое количество мыслей может проноситься в голове в долю секунды? Или мы мыслим не словами, а чем-то другим? И даже не «понятиями», во множественном числе, а каким-то одним, всеобъемлющим Понятием, которому нет названия в нашем языке, но которое вбирает в себя все остальные?
2 ноября
Вчера было тяжело. Но сегодня, а точнее, еще ночью, проснувшись перед самым рассветом, я вдруг понял, что буря улеглась во мне. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень… Страх сгинул. Я окончательно помирился с собой…
Скоро месяц, как нахожусь в лечебнице. Но если называть вещи своими именами — в сумасшедшем доме! Трудно поверить. Пробелов в голове вроде бы не осталось. Сам я их, во всяком случае, больше не замечаю. Но от этого, как ни странно, не легче, а труднее. Я вынужден открывать в себе чужого человека. Иногда это превращается в пытку. Минутами ужасаюсь, да и не могу до конца привыкнуть к мысли: то, что заново мне открылось в моем прошлом, — это и есть моя жизнь? Непонятно, как я мог это выносить. Как можно было так жить? Что делать со всем этим теперь — вот вопрос, на который нужен ответ, причем немедленный. Ведь не носить же всё это в себе до конца дней, как порчу.
Позавчера, когда меня вызвал лечащий врач, сидя перед ним за столом, я вдруг задал себе вопрос: зачем всё это вернулось? И только выйдя в коридор, я со всей ясностью понял, что не должен пытаться что-либо изменить. На что я могу променять мою сегодняшнюю жизнь? На Гарн? Опять стричь кусты? Чесать языком с утра до вечера? В Версале? По судам? Рыться в чужом грязном белье?
Всё должно остаться как есть. Еще день назад было бы страшно подумать об этом, а сегодня это кажется единственно приемлемым выходом из положения.
Отсутствие выбора даже успокаивает. Недаром же прозрение наступило с такой легкостью. Стоило мне по-настоящему всё взвесить, и страх как рукой сняло, не страшно больше язвы, ходящей во мраке… Вместо этого — какое-то укачивающее чувство избавления. Теперь во мне полная ясность. Такая ясность, какой не было никогда. К такому жизненному итогу — а именно так это и нужно рассматривать — относиться можно по-разному. Будучи человеком «социально озабоченным», никогда не отвергая сам принцип неизбежного подчинения законам общества и заведомо приняв все правила игры, я оказался за бортом. Но разве был другой выход? Кто-то сказал, кажется, Блаженный Августин, что для христианина любое отечество — чужбина, а любая чужбина — отечество…
Де Мирмон, мой лекарь, — отпетый чудак, но добрый малый. Расхаживает в престранных английских туфлях. Рыжие, дешевые, с дырочками, но начищены всегда до блеска. А чего стоит его любовь к фортепьянным сонатам! Каждый раз, когда вхожу к нему, он вскакивает с кресла, чтобы убавить громкость (в рабочее время он слушает CD-диски прямо на компьютере, так, видимо, менее заметно для коллег), смотрит на меня такими глазами, будто я накрыл его с поличным. В отношениях со мной он, бедняга, проявляет осмотрительность. Трудно этого не замечать, как бы он ни был осторожен. Самодоволен, влюблен в свои запонки, в свою «благородную» профессию и, кажется, в секретаршу — в эту холодную статую с правильным греческим лицом и с несчастной, плотской улыбкой. А впрочем, не такой он простак, как я думал поначалу…
Вчера де Мирмон предложил мне, вполне по-дружески, не теряя надежды добиться доверия к себе, которого ему очень недостает, называть его просто Пьером — «раз уж мы тезки». Для убедительности он два раза подмигнул. Так, видимо, предписывают правила обращения с дебилами.
Кстати о лицах. Сегодня внезапно подумал о том, как иногда бывает кстати встретить на улице хорошее интересное лицо. При виде живого или просто красивого лица боль, ноющая внутри от изоляции, обязательно притупляется. Это происходит мгновенно, даже если знаешь, что видишь это лицо в первый и последний раз. Становится легче. Всё то, что минуту назад казалось запутанным и безысходным, вдруг обретает смысл и значимость. В нас всё же заложена какая-то «социальная программа». Как в противном случае объяснить тот факт, что нам всегда становится легче среди себе подобных? Несмотря на то, что именно в них причина большей части наших страданий…
3 ноября
Главная проблема существования даже в Боге не находит разрешения. Ах, прибежище мое и защита моя, зачем Тебе понадобилось даровать нам жизнь, в то же время приговорив нас к таким мучениям?
Если Он есть, то он не может быть к нам столь равнодушным. А если он не равнодушен к нам, то он не может попустительствовать такому количеству грязи, страдания, несовершенств, которыми мы окружены. Зачем Ему наши мучения, в таком количестве, ведь всё это выходит за рамки поучений?
Он сотворил не весь мир, а только часть его? Многое в окружающей нас действительности является не только творением рук его, но и князя мира сего? Этим и объясняются такие несовершенства, как беззащитность слабого перед хищником? Не мог же Он сам распорядиться о том, чтобы волк безнаказанно терзал ягненка, рвал его на части! А именно так это происходит на каждом шагу. Это одно из самых поразительных утверждений, приводимых в оправдание безгрешности творения мира Богом, которое мне когда-либо приходилось слышать. Здесь есть один парадокс. Кто же в таком случае сотворил князя мира сего? А если в момент творения Он не ведал, что творит, то почему позднее на князя мира сего не нашлось управы?
4 ноября
Солнечно. Синее, почти безоблачное небо. Сегодня совсем потеплело. С утра было 19 градусов. Утром почтальонша принесла письмо и очередную бандероль от Мари. В ней — опять книги. А в письмо она вложила страничку от моей матери. Мари недавно виделась с ней в Париже. Представляю, на что стали похожи их отношения с тех пор, как обе превратились в авторш, и им есть чем поделиться друг с другом! Мать жалеет, что наша встреча — она провела здесь час в середине октября — была столь «мимолетной», хочет опять приехать до рождественских праздников.
Думаю, что Мари начинает догадываться о том, что со мной «не всё так просто». Но поскольку до конца в своих догадках не уверена, она не знает, что делать, и предпочитает этот зыбкий статус-кво. Ее всегда отличала какая-то не людская интуиция, и я всегда недооценивал в ней этого редкого достоинства.
Письма от Мари приходят почти каждую неделю. Она пишет мне как «нормальному». Для обозначения того переломного момента, когда я покончил со старым, она прибегает к расплывчатому обстоятельству времени: «до твоего уединения». В нашу последнюю встречу, внимательно приглядываясь ко мне, Мари сказала, что в следующий раз непременно хочет навестить меня с дочерью. Я промолчал, проглотил… Она отвела взгляд. Но кажется, поняла меня.
Ее романы продолжают выходить один за другим. Тиражи вроде бы расходятся. Но трудно не замечать, что она не чувствует себя счастливее. Скорее наоборот. Ожидала, как все, другого — нового круга общения, новых друзей, новой жизни? А в результате оказалась в еще большей изоляции, чем прежде. Но и в самом деле, кому она нужна, когда есть ее книги? Такое происходит часто. Жалко ее. Мари этого не заслужила…
после обеда
Прочитал в газете об урагане, который все эти дни бушует на побережье. Его сравнивают с ураганом двухлетней давности, который я видел собственными глазами… Два года! А такое чувство, что было это вчера… Если предположить, что я проживу до шестидесяти лет — на больше вряд ли хватит, — то это значит, что с того дня, когда я видел ураган своими глазами, прошла уже тридцатая часть моей жизни! Ровно столько, сколько сутки представляют собой по отношению к месяцу. Но ведь это мгновение!
Я даже не могу вспомнить, как прошли эти два года. Оставшиеся пролетят, конечно, еще быстрее. К концу время имеет свойство ускорять свой ход, давно подмечено. Отец как-то говорил, не помню, по какому поводу, что с возрастом отношение к этим вещам всё же меняется. Лет в пятьдесят человек будто бы переступает возрастную черту, начиная от которой страх сгинуть постепенно угасает. Природа, видно, и здесь проявила предусмотрительность, припрятав на черный день обезболивающее средство, дабы хоть чем-то загладить свои изъяны в наших глазах.
Тот факт, что расставаться с телом душе придется под действием наркоза, многого, конечно, не меняет. Наоборот! Страшным кажется даже не то, что рано или поздно всем нам предстоит куда-то улетучиться, а то, что хорошо жизнь закончить невозможно в принципе, что покидать ее придется с коробом разочарований, всё оставляя незавершенным, недоделанным. Заранее вижу, что так будет… Страшным кажется то, что по большому счету всё пройдет даром. Но если жизнь невозможно закончить как хорошую книгу, с чувством хоть какой-то полноты и гармонии, то вся она кажется несуразной, от начала до конца.
А впрочем, неужели стоит биться об стену головой от мысли, что однажды придется оказаться перед необходимостью испытать на себе это простейшее, обязательное превращение. Переход из одной фазы бытия в другую… Как легко понять. Но как трудно принять… Никогда не испытывал ничего более странного, ничего более обжигающего, чем эти мысли.
Для полноты и, опять же, для гармоничности к сказанному хочется добавить, что никогда не испытывал и ничего более удивительного по своему очищающему воздействию, но это было бы ложью. Уверен, что, как и все, не задумываясь, променял бы это «очищение» на обещание отсрочки — самой мизерной! Сознавать это ужасно.
Каждый раз, когда я пытаюсь подтянуться и заглянуть через край, когда пытаюсь преступить в себе Рубикон, свой личный предел, что-то сразу мне говорит — но это уже не я, а проблески высшего сознания во мне, в поле излучения которого каждый из нас нет-нет да попадает, — что в действительности всё проще, что дело в переоценке себя самого и своих отношений с окружающим миром. По большому счету нет надобности ни в нас, ни в нашей маете. В абсолютном смысле мы не стоим выеденного яйца…
Что же… В таком случае не остается ничего другого, как взять себя в руки, взять себя самого за шиворот и ткнуть носом в эту инфернальную правду жизни, даже если четырехконечное существо — Вертягин и слышать не желает ни о какой правде и упирается лапами, как краб, которого пытаются вытащить из темной дыры на свет божий.
5 ноября
Просмотрел вчерашнюю запись. Какие нелепые вопросы лезут в голову! Но еще более нелеп я сам, не научившийся обходить их стороной.
Можно сколько угодно взывать к здравому смыслу, можно сколько угодно пытаться образумить себя, силой или увещеваниями, но в глубине души всё равно невозможно смириться с тем, что вся эта необъятная махина будет так же прочно, на протяжении веков стоять и после того, как тебя уже не будет. Что бы ни было сказано по этому поводу, слов всё равно не хватит, чтобы подавить, заглушить истошные вопли протеста и непонимания, раздающиеся со дна сознания, со дна души, которая чувствует себя попросту брошенной, забытой на дне бездонной, всепоглощающей ямы, каковой ей видится вечность. Душа не может с этим смириться.
Нам кажется очевидным, что мир, в котором мы живем, самим фактом своего бытия рассечен на две половины. Одна его часть предназначена для того, чтобы быть воплощенной в нас, быть вложенной в каждого из нас как в какие-то ячейки. Другая нас отторгает, отгорожена от нас прозрачной стеной, которую мы можем даже ощупать руками, но эта часть мироздания является для нас совершенно закрытой, герметичной… Как убедить в этом сознание? Оно никогда не удовлетворится одним объяснением. Оно всегда будет претендовать на соотнесение себя не с пределами — по справедливости они ему отведены или нет, это не имеет для него значения, — а со всем целым. Оно всегда будет стремиться завладеть всем. И действительно, как не впасть в отчаяние при мысли о том, что всё прожитое, сделанное за отведенный нам отрезок времени — ничто в сопоставлении с этим целым? Неужели даже и с этим можно смириться?
вечером
После обеда спал. Проснувшись, долго лежал и думал о странной закономерности, которую давно наблюдаю: суть в том, что любое по-настоящему важное событие, имеющее далеко идущие последствия, заявляет о себе всегда каким-нибудь пустяком. Судьба как будто пытается предупредить нас о своих намерениях заранее и, видно, проявляет к нам снисходительность. Хотя и требует взамен признания за собой исключительных прав — прав на принятие крайних мер. И мы вынуждены ей в этом отказывать — из недоверия, да и просто не веря в то, что являемся ее главной заботой.
Когда смотрю в прошлое, не могу не видеть, что я всегда спохватывался задним числом, в тот момент, когда уже ничего невозможно изменить. Но так, наверное, и должно быть. Жизненные обстоятельства, особенно неприятные, застают всегда врасплох. Наши мозги не приспособлены к тому, чтобы перерабатывать все те неисчислимые комбинации, из вороха которых судьба прокладывает себе кратчайший путь, от одной точки к другой, от рождения своего подопечного к его кончине. И воистину несчастен тот, кто попытается переработать все эти комбинации. Какой тщетный, напрасный труд!
Но как опустить руки? Одержимые упорством, мы всё равно будем пытаться размотать клубок. Нам всё равно будет казаться, что если мы не смогли доискаться до узелка, от которого пошла путаница, от которого начался обрыв, то лишь потому, что искали не там, где надо. Как не заблудиться в дебрях этой казуистики? Как не впасть в относительность представлений обо всём и вся? Как не впасть в бессилие перед этим плачевным методом познания, который ничего не может дать, кроме очередных вопросов, и лишь способен подпитывать душу ядовитой патокой сомнений?
Если в нашей жизни есть начало и конец, мы полагаем, что начало и конец, причина и следствие должны быть во всем. И упираемся, естественно, в тупик. Когда же мы отказываемся от упрощений — из понимания, что в мире бесконечных комбинаций и бесчисленных возможностей в сочетании элементов не должно быть столь однобокой линейности, — мы оказываемся в пустоте и больше не знаем, где верх, где низ, где лево, где право.
Есть следующий выход. Давно вывел его для себя, держал в запасе, но не умел им пользоваться: нужно довольствоваться достигаемым и посильным, невзирая на скудность средств, имеющихся в распоряжении, невзирая на неизбежную условность и иллюзорность достижений. Суть в процессе, в самосильном движении. Самоограничение — вот единственный выход из тупика, и ничего лучше никто еще не придумал.
Сколько, однако, людей, какое несметное количество душ прошло через этот опыт, но в мире ничего не изменилось. Сколько бы веков люди ни бились над этим, каждый смертный оказывается в своей последней «раздевалке» всегда один, и другого выхода, видимо, нет. Данный опыт не передается. Каждому приходится приобретать его заново. Всё вращается вокруг своей оси. И было бы глупо, да и действительно малодушно верить в то, что могло бы быть по-другому…
6 ноября, вечером
Дни становятся совсем короткими. А еще недавно стояло лето. Чувство уходящего времени, ощущение, что всё проносится быстро и бесследно, сегодня не гложет, как вчера. Даже напротив, сегодня это доставляет какое-то острое удовольствие, к которому примешивается легкое, воздушное чувство внутренней просторности, ничего не имеющее общего с испытанным два дня назад очищением — очищением огнем сомнений…
Странно думать о том, что я всю жизнь мечтал о кипучей деятельности, о чем-то полезном для окружающих, за что однажды вознаграждают лаврами, но при этом оставался вполне досужим человеком. Вместо того чтобы заниматься делом, я предавался мечтам о деле. Это замечание будет справедливо и в отношении людей, встреч с единомышленниками, которые мне всю жизнь казались неизбежными и которых не произошло, и в отношении стран, в которых я хотел побывать, но предпочитал возиться в своем саду, и в отношении женщин, с которыми я заводил шашни, втихаря думая о других… Поглощенный своими иллюзиями, я и пальцем о палец не ударил, чтобы чего-нибудь действительно добиться. Мечтая о встречах с «равными» себе, я людей не понимал, боялся или презирал, часто забывая, что и сам был таким же мелким, практичным, корыстным, каким мне казалось большинство окружающих, да еще и оправдываясь перед собой тем, что всё это якобы временное вынужденное явление. Лучший урок того, какими должны быть отношения с людьми, преподносит свой собственный эгоизм. Прекрасно зная по себе, что он собой представляет, прекрасно понимая, чем он вызван и на чем замешен, как легко, казалось бы, понимать окружающих, как легко прощать обиды! Но ничего подобного! А основан этот эгоизм на животном, иррациональном для разума стремлении доминировать над всем, даже если это стремление для нас самоубийственно.
Вот и полезная деятельность! Вот и далекие страны!.. Жизнь человека — это отнюдь не то, чем он заполняет свое воображение, чего он жаждет, и при этом, возможно, даже делая всё необходимое, чтобы желаемого достигнуть. Жизнь — это то, что окружает ежеминутно. Это реалии настоящего, текущего, не зависящие от желаний.
Всё, что я имел в жизни и чем пользовался, досталось мне за красивые глаза — и профессия, и безбедные условия существования, и даже Л., даже право, хоть и незаконно присвоенное себе, на совершение грехов, и мелких, и непростительных, страшных, счет за которые я и сейчас не в состоянии представить себе сполна, потому что в душе убежден, что у меня есть алиби, что меня не было на месте преступлений, которые мне инкриминируют, что не совесть меня судит, а инквизиция… Иные люди не натворили и десятой доли того, что я совершил, лишены и десятой доли того, чем пользовался я, но живут лучше. Можно ли после этого удивляться, что всё это оказалось для меня никчемным? Наверное этим и определяется та особая раса неудачников, к которой я принадлежу: ее представителям везет не меньше, чем всем другим, но они не умеют пользоваться дарованным, потому что всё принимают за должное, не имея чувства меры и утеряв точки отсчета, давно перестав задумываться над тем, что мир — это целое, что в нем всё взаимосвязано, всё до последнего атома.
То, что получено одним человеком, всегда отнято у другого — вот неоспоримая истина! Отвечать же приходится за всё — не только за отнятое, не только за потерю чувства меры. В большей степени перепадает даже за следствие этой потери — за утрату жизненных ориентиров, за душевную растерянность, за слепоту, за неспособность видеть красоту жизни, которая возвышается над всем и доступна каждому…
вечером
Мари была права когда-то. В любой зрелой культуре есть что-то кровосмесительное. Тяга к этому пороку возникает помимо воли наверное оттого, что это единственный способ сохранить себя, поделить приобретенное с себе подобными и с себе равными. Это и является пределом человеческих понятий вообще. Это и случилось со мной и с Л… Страшно!
7 ноября, поздно вечером
Если природа с такой удивительной тщательностью предусмотрела в нас всё до последней клетки, случайно ли то, что она наделила нас способностью понимать, что окружающий мир вечен, а сами мы временны?
Что может быть труднее, чем жить с этим пониманием? Но без него и вовсе было бы невозможно. Ответ на вопрос — зачем природа наделила нас чувством «временности»? — вроде бы напрашивается сам собой. Она ждет от нас чего-то другого, чем от растений и животных.
Но что бы ни говорилось по этому поводу, всегда останется загадкой, каким образом природа совершает среди нас свой отбор. У кого из нас больше шансов выжить в процессе эволюции — у того, кто страдает, или у того, кто наслаждается жизнью? При ответе на этот вопрос всё человечество распадается на два лагеря. И невозможно сказать, какой из двух возьмет верх. Это говорит о том, что мы совершенно не знаем, чего от нас хотят, и в том числе сам Бог, или же настолько погрязли в лукавстве, что не способны отличить белого от черного, истинных чувств от ложных, навязанных нам пороком.
8 ноября, утром
Как странно иногда видеть, что все ужасы, которые происходят в нашей жизни, всё то безбрежное море зла, в котором мы тонем, — всё это дело наших собственных рук, а не стихийных бедствий, не землетрясений и проч. Всё от самого человека. Всё изнутри него. При этом даже самое малое зло, у себя дома, не удается предотвратить, какие усилия ни прилагаешь. Даже целая жизнь, потраченная на противостояние этому, будет лишь каплей в море. За всем стоит какая-то адская сила…
9 ноября, утро
Всё написанное вчера неверно или неточно… Согласиться можно только с тем, что по-настоящему недосягаемыми для нас, закрытыми на десять замков являются две вещи и, возможно, единственные — то, откуда мы, или наша душа, приходит в мир, и то, куда она затем девается. Но если бы этих запретов не было, мы бы давно решили этот вопрос в удобной для себя форме, что открыло бы перед нами двери для вторжения в фундаментальные законы мироздания и для их ужасного искажения.
11 ноября
Проснулся с тяжелыми мыслями. Первую половину дня провозился в парке, а во время обеда — кормили телятиной с картошкой — испытал от еды какое-то необычное удовольствие. Со мной давно не было ничего подобного. И стало так неприятно от этого. Какое-то скотское, оболванивающее ощущение!..
Странно даже не то, что мы страшимся мысли о своем конце, и не то, что этот страх, те же самые вечные вопросы и то же отсутствие возможности чему-либо научиться у предшественников заново повторяется с каждым из нас. Самое странное в том, что понимание бесконечности и безграничности мира, данное нам как самоочевидность, претит самому факту нашего существования.
Но если бы не смерть, если бы не обрыв в конце, разве жизнь не была бы лишена смысла? Тот факт, что мы конечны, наделяет нас, наделяет тот объем мироздания, который в нас вложен, целостной и совершенно самостоятельной внутренней сущностью, независимой от реалий окружающего мира, которая помогает нам смывать с себя, как в бане, вину за мерзости, в нем творящиеся, т. к. наша вина за них становится искупима — смертью.
12 ноября
Мрачный, серый день. На улице холодно. Вчера же было солнечно, тепло. С утра раздавали письма и газеты. Немного читал, а потом опять возился с кустами. После обеда поеду в город…
Вряд ли страх смерти вызван только предчувствием физического распада, однажды предстоящего нам и противоестественного всему живому, чувством неизбежной утраты тела и вместе с ним утраты тех условных благ и удовольствий, к которым мы имеем доступ через физическое. Сама идея, что по ту сторону может не быть ни голода, ни холода, ни болезней и т. д., уже само допущение, что с той стороны что-то есть и что туда можно было бы попасть, говорит о том, что уже здесь, на земле, нам понятна цена телесному и что мы не строим на этот счет иллюзий. Гораздо более непонятным, мучительным оказывается другое, то, что сознание, которое мы воспринимаем в себе как высшее — и это высшее как бы даже не является нашей полноправной собственностью, а представляет собой нечто большее, преступающее нас, — что это высшее сознание в один прекрасный день может лопнуть как мыльный пузырь. С этим невозможно смириться, не будучи сумасшедшим.
Утверждение, что в нас гибельно только телесное, основано на гипотезе, цель которой перебороть в нас страх быть развеянными по ветру без следа, без остатка. Но, увы, это так навсегда и останется попыткой принять желаемое за действительное, попыткой перенести наши здешние представления на тот мир.
Если между этим миром и тем нет никакой взаимосвязи, если между ними нет ничего принципиально общего, то строить подобные гипотезы бессмысленно, они рассыпаются сами по себе. Если же этот мир является «проекцией» того мира — что, конечно, более вероятно, — то почему мы по аналогии не допускаем, что смерть существует и в том мире, как и в этом? Почему мы не допускаем, что и там есть верх и низ, земля и небо?
Но что говорить… То, что целое не обязательно должно равняться сумме своих частей, — это преподают сегодня в школе.
22 ноября
В Париже снег… Сегодня смотрел новости по телевизору, мельком показали белые крыши парижских зданий. Удивительное зрелище! Теперь это редкость. Была показана и та самая альпийская дорога, над которой возвышается военная крепость, старинный егерский форт, — по этой дороге я ехал в Пасси в последний раз. В Альпах снега по пояс. Странно было видеть, что ничего не изменилось с тех пор в этих краях. Мир всё тот же. А мне казалось, что прошла целая вечность.
На вторую половину дня наметил заниматься розами. Утром привезли наконец новые инструменты — всё, что я заказывал. Вид щипцов для проволоки, секатора и даже лопаты вызвал во мне какой-то зуд, волнение. Надо же…
24 ноября, 7 утра
Сегодня проснулся чуть свет, еще не было шести, от какого-то неприятного сна или от мысленного возбуждения — не помню. Уже не раз замечал, что во сне я постоянно думаю о том, что со мной происходило в течение прошедшего дня, но словно в другом временном измерении. Для более точного сопоставления мозг как бы приводит события одного дня к масштабу всей прожитой жизни, и это очень странно ощущать.
Проснувшись, лежал в темноте и думал о людях, с которыми когда-то был знаком, о том, какие странные у всех судьбы. И всё сжималось во мне в комок от понимания, поразительно трезвого, что жизнь у всех этих людей сложилась вопреки всему логично, предсказуемо и в определенном смысле даже правильно. Раньше я этого просто не понимал, потому что смотрел на вещи в другой плоскости. Думая об этом, вспомнил сон, от которого проснулся на рассвете…
Я вошел в какой-то вестибюль, отдаленно напоминающий холл здания университета, куда ходил когда-то на занятия, но только с неестественно высокими потолками и просторный, каких в реальности не бывает. В центре вестибюля — большая клумба, а по всему периметру клумбы — скамейки, наподобие парковых. Но на этих скамейках невозможно было сидеть, потому что сзади рос колючий кустарник, мешавший облокотиться на спинку — колючки кололи в затылок. Что удивительно: этот вестибюль мне уже когда-то снился. Обходя просторное помещение по всему периметру клумбы, которая была засажена пышными теплолюбивыми растениями, я был очень взволнован, старался взять себя в руки и уже почти пришел в себя, как вдруг увидел Фон Ломова. Он сидел на одной из скамеек, выглядел постаревшим, изменившимся, был чем-то удручен и моему появлению даже не удивился. Мы пожали друг другу руки. Он стал расспрашивать о том о сем. Я стал взахлеб бахвалиться своими успехами. Он слушал с грустной молчаливой улыбкой. Но я видел, что в ней не было ни малейшей зависти или недоверия к моим словам. Он был искренне рад за меня! Какое было наслаждение видеть, что человек способен столь искренне радоваться твоим удачам! Редкое чувство! С каким-то необычным хладнокровием я вдруг понял, что он меня просто любит. Именно любит! Никогда это не приходило мне в голову…
Я стал расспрашивать его о жизни. Он отмахивался, что-то нехотя отвечал. Я спросил, нет ли у него детей. Он ответил, что у него двое. «Любишь?» — спросил я. «Как не любить? Это же котята!» — ответил он и показал себе за пазуху…
Когда я встал, все еще спали. Выйти можно было только в парк. Теперь сижу у окна, разглядываю синеющий рассвет и думаю о том — но эта мысль и раньше приходила мне в голову, — что если человек считает, что может что-то доказать окружающим, если он живет этой надеждой и верит в то, что однажды теми или иными поступками он заслужит их понимание, получит вознаграждение, то в этом случае его жизнь превращается в кошмар. На каждом шагу она сулит одни разочарования. В основе всего лежит, видимо, некий закон необратимости — но я даже не знаю, как это назвать. Может быть, это и есть время? Ведь наш мир устроен таким образом, что всё проходит, всё стареет и меняется быстрее, чем мы сами. Всё стирается из памяти людской гораздо быстрее, чем успевает зафиксировать себя каким-нибудь отпечатком в реальном мире. Едва успеваешь вывести на песке рисунок, как волна размывает его. Ты воображаешь, что вот наконец-то добился своего и теперь всем станет очевидно, что это именно так, а не по-другому. Ты воображаешь, что это всем доставит какую-то радость, что это принесет кому-то пользу. А мир уже ушел дальше. Всё это его давно не интересует. В результате — ни пользы, ни радости. Поэтому подлинное возвышение над своим окружением — стремление не только само по себе бездарное и мелочное, но и мнимое, неисполнимое.
Мы склонны видеть в жизни ее внешний смысл, забывая о внутреннем, сокровенном. И что самое поразительное, не хотим понять, постоянно закрываем глаза на то, что именно от внутреннего и сокровенного наша жизнь находится в многократно большей зависимости, чем от внешнего.
Бог изваял нас из такого материала, что мы даже не можем вырваться из своей формы, в которую воплощены, из той данности, которую Он нам отвел. Поэтому нам не остается ничего другого, как состояться, найти смысл существования в заданных рамках, в уже существующей форме, даже если мы понимаем, что эта форма не единственно правильная и, возможно, не самая подходящая для нас. Жить полноценной жизнью нужно там, где находишься в данный момент, в том качестве, в котором пребываешь сегодня, а не в том, в котором хотел бы оказаться. Проще говоря, если Петру такому-то когда-то выпало на долю поселиться в Гарне, он должен намотать себе на ус, что для него это обязательно и неизбежно, даже если он не может понять, почему именно.
Я должен был «осмыслить» то, что меня окружало, а не искать новое содержание на стороне. Это, конечно, не означает, что на стороне содержания нет. Это означает, что там оно предназначено для кого-то другого. Да и нельзя забывать, что всегда найдется человек, который с удовольствием променяет свое «содержание» на твое, который не откажется пожить на твоем месте.
25 ноября
Сыро и холодно. С утра занимался розами. Пришло письмо от Мари. Она пишет, что видела Фон Ломова. Он опять в Париже. Дней через десять собирается побывать у меня на юге, но должен вроде бы сам сообщить мне об этом не то через врача, не то открыткой.
5 декабря
На днях опять начал возиться с красками. Поначалу захватывает, а затем вызывает отвращение и даже угнетает. В тот день, когда мы купили в соседней деревушке гуашевых красок и бумаги, мой попечитель, тезка «Пьер», был страшно заинтригован моим хобби. Всё время ходит вокруг меня на цыпочках, носит мне бумагу и никак не может понять, с какой стати я вывожу одни квадраты.
Чтобы подшутить над ним, я начинаю растолковывать:
— Это же один из основных принципов мироустройства.
— Четырехмерность? — допытывается он с умным видом.
— Нет. Полная симметрия и линейность, — отвечаю я. — В наших с вами представлениях, разумеется. Ведь совершенного квадрата в природе не существует. У большого квадрата нет углов, — добиваю я беднягу таоистским изречением.
Эффект не заставляет себя ждать. Де Мирмон уходит от меня взволнованный и нахохлившийся, словно кот, горделиво удаляющийся с куриной косточкой, которая перепала ему со стола хозяев.
После обеда опять рисовал. Но на улице опять что-то ремонтируют, было шумно, и я не мог сосредоточиться. В какой-то момент вдруг подумал, что страсть к искусству, которая передается часто как вирусное заболевание, является своеобразным страхом перед конечностью существования, своего рода потребностью отодвинуть время, расширить его рамки, потребностью постичь эту конечность с более выгодной стороны. Если смотреть на вещи с этой точки зрения, то какое можно испытывать отвращение — к искусству, к его обману, к его слащавой угодливости и к его зависимости от внешнего, от утилитарного. По ногам поднимается могильный холод от одной мысли, что даже такие, казалось бы, «чистые» по своей природе заблуждения являются столь тщетными!
вечером
Когда смотришь на движущийся поезд издали, кажется, что он ползет медленно. Но когда сидишь в вагоне и смотришь в окно, то кажется, что всё летит так быстро, что не успеваешь рассмотреть подробности ландшафта. Так и при взгляде на мир. Глядя на окружающий мир, мы чаще всего не учитываем в нашем восприятии этой очень существенной погрешности, которая неизбежно дает о себе знать между внутренним взглядом на вещи и внешним.
7 декабря
Проснулся свежим, полным сил и думал о том, что настоящее, глубоко вкорененное в душу чувство пессимизма невозможно объяснить, копаясь в психике человека, ни даже метафизически. Чувство пессимизма всегда социально, т. к. выражает отчаяние перед обществом, и только это. Во всяком случае, не перед законами природы. И в этом смысле оно целиком экзистенциально.
Гете говорил, что за всю свою жизнь не мог насчитать и нескольких месяцев полного внутреннего удовлетворения. Толстой говорил, что на гребне славы, когда был вроде бы счастливым, слыл богатым, имеющим всё, о чем может мечтать человек, он не мог отделаться от мыслей о смерти, и даже напротив — именно в эти минуты всегда тянулся, совершенно невольно, ко всему мрачному…
После обеда, перелистывал Екклесиаст, наткнулся на строки: «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву».
Не понимаю смысла этих строк. А если и понимаю, то он мне кажется приземленным…
10 декабря
Сегодня в памяти всплыл один давний эпизод из детства, произошедший со мной в возрасте пяти лет: я чуть не утонул, точнее говоря, уже утонул, но меня успели вытащить. Дело было летом, на речке. Помню, что отец заманил в реку мать (она терпеть не могла воды) и вместе с ней меня. Втроем мы зашли далеко в воду. Вода доходила мне до подбородка, и в какой-то момент — как это произошло, не помню — я стал возвращаться к берегу один, отталкиваясь от каменистого дна ногами, еще не умея плавать. Течением меня снесло, видимо, в сторону, в рытвину или в омут. До берега было совсем близко, когда дно стало вдруг уходить у меня из-под ног. А затем желто-зеленая муть выросла перед глазами. Отчетливо помню, что я сразу понял, что со мной происходит, понял, что я один, что дна нет, что глотаю воду, очень безвкусную, и не могу остановиться, отчетливо видел перед собой свои руки, проделывающие круговые движения. Но что удивительно, в какой-то момент я понял, что сопротивляться дальше бесполезно, что легкие уже наполнены водой, поэтому и перестал глотать воду. Но я не испытывал ни малейшего страха. Наоборот — поразительное состояние покоя и ясное осознание того, что мне предстоит умереть и что это совсем не так страшно, как все думают, что это произойдет легко и безболезненно. Совершенно отчетливо помню, что я удивлялся недетскости своих мыслей. А затем и вовсе успокоился. Руки замерли. Я видел перед собой стену зеленой воды и ждал конца. В то же время перед глазами проносилась вся жизнь, прожитая до той секунды, — с невероятными подробностями, неведомо каким образом вмещавшимися в столь короткий отрезок времени. Но не картины, как принято считать и описывать в бездарных книгах, не что-то визуальное, а чувства, пережитые в эти минуты, неудержимый поток неисчислимых чувств, очень отчетливо, до мельчайших подробностей, отпечатавшихся в сознании.
Потом мне рассказывали, что кто-то из посторонних заметил меня с берега, а точнее, увидел кепку, которая была у меня на голове — в жару мама заставляла меня носить тряпочную кепку с козырьком, чтобы не получить солнечного удара. Увидевшая оказалась профессиональной пловчихой… Когда я открыл глаза, надо мной каким-то адским огнем светило яркое, палящее солнце. Я лежал на песке, мучился от конвульсий, от холода, и первой мыслью, пришедшей в голову — помню это очень отчетливо, — было сожаление. Сожаление о том, что я понапрасну мучился под водой, что всё закончилось впустую и что я вынужден возвращаться в прежнее состояние физических мучений, сопутствующих жизни, от которых успел избавиться, — вынужден возвращаться из того удивительно легкого, взрослого и прежде мне неведомого состояния. Кроме того, мучило сожаление, что мне опять предстоит стать ребенком.
Удивительно то, что воспоминания об этом эпизоде всплывают в памяти всегда в особые минуты. И каждый раз ловлю себя на ощущении, неодолимом, что я обвел всех вокруг пальца, что с тех пор я ничему новому не научился. С тех пор, когда мне было пять лет! С поразительной отчетливостью помню то, что я чувствовал под водой в последний момент, прежде чем потерять сознание: я сознавал, что это был я, что мое «я» существует независимо от того, останусь я жив или отброшу коньки. Помню, что мне было легко от этого и радостно. Поэтому я и не испытывал ни малейшего страха. Поэтому никогда не считал детей несмышленышами… Чему их можно научить?.. Как держать вилку? Нет, душа не взрослеет. С годами ее можно только испохабить…
12 декабря
Упование на завтрашний день, так называемая «вера в будущее» — прямое следствие малодушия и внутреннего безволия. На этой почве и растут как грибы многие отвратительные заблуждения, с которыми мы привыкли жить и мириться. Надеяться, верить в лучшее… — это совсем другое. Завтра — это тот лакомый кусочек сала, используемый в крысоловке, заполучить который невозможно. Чтобы не попадать в сети, мало уметь себя ограничивать. Необходимо научиться жить таким образом, будто каждый день — последний. Долгое время я внушал себе, что только при таком подходе к жизни можно по-настоящему отвечать за всё, за все свои поступки и деяния и не списывать промахи на стечение обстоятельств, на безвыходность положения, на отсутствие выбора и т. д., как это обычно происходит.
А затем я умудрился внушить себе еще кое-что, с точностью до наоборот. Решил, что так рассуждать нельзя, что без идеала, без конкретной цели, отдаленной в завтрашний день, пусть даже на недостижимое расстояние, всё становится донельзя бессмысленным. Отказ от упований на завтрашний день всегда приводит к неожиданному результату, не к тому, на который рассчитываешь: вера в то, что всё конечно, вселяет в душу идею, по своей сути безнравственную, с которой живут многие агностики — что рано или поздно всё будет смыто. Сколько я с этим ни сталкивался, каждый раз это производило самое удручающее впечатление.
Какой бы уверенностью мы ни тешили себя, что всё, что с нами ни происходит, необратимо, что самый незначительный наш поступок, малейший шаг, совершается раз и навеки и где-то остается запечатленным, факт отрицания «завтра» открывает возможность для любых извращений. Если всё должно быть смыто, что можно требовать от слабого? Разве это не наделяет его законным правом на ошибку? Тем более что однажды, если действительно всё будет смыто подчистую, не останется следа ни от него, ни от его ошибок…
13 декабря
Пасмурно. Тяжелая чугунная усталость. Сел за стол, чтобы записать какую-то мысль, но вдруг всё вылетело из головы, да и не могу вдруг связать на бумаге двух слов. Как поразительно иной раз наблюдать, что для передачи мысли, которая проносится в голове в долю секунды, необходимы целые страницы…
14 декабря
Смысл таких вот записей — а казалось бы, что может быть более праздным и бесплодным? — да и смысл всего прожитого, сказанного, сделанного и даже недоделанного, по-настоящему становится понятен тогда, когда начинаешь понимать, что живущие с тобой рядом, в одном с тобой временном измерении, однажды сгинут с этой земли, как и ты сам, что другой мир, новый и неведомый, придет на смену существующему и что этот новый мир ничего не будет знать о нас, кроме того, что мы сами о себе захотим ему сообщить. До тех пор, пока не найдешь в себе мужества смириться с тем, что твоя жизнь — всего лишь штрих на безграничном узоре времени, всего лишь мизерная зарубка на тысячелетнем древе, до тех пор, пока не научишься жить с такими представлениями о себе как с чем-то естественным, врожденным и непреложным, до тех пор, пока не будешь исходить в отношении ко всему из понимания случайности своего появления на этот свет, — всё в жизни будет условностью и заблуждением…
15 декабря
Тяга к творчеству, к совершенствованию заложена в каждого, а разрушительные задатки, часто сопутствующие этой тяге, и даже способность к саморазрушению, которая иногда берет верх над инстинктом самосохранения, можно рассматривать и как одно из сильнейших вспомогательных средств, дарованных нам для воплощения своих «талантов». В этом смысле способность отдавать себе отчет в своей изначальной ничтожности — единственно действенная терапия, способная остепенять в нас разрушительные инстинкты. И вообще, лучше не упускать из виду эту простую закономерность: разрушителем становится не тот, кто унижен и оскорблен, а тот, кто ощущает себя в ничтожном положении и вместе с тем убежден, что это положение несправедливо, т. е. считает, что он заслуживает большего.
16 декабря
В унижении, в приниженном существовании, будь то обездоленность в любой форме, какая-либо ущемленность, бедность, есть, безусловно, своя радужная сторона. В этом состоянии чувство страдания сосредоточено не только на себе (эта-то чаша быстро переливается через край…), но на чем-то более общем, на всех живущих сразу. Если бы мы не знали, что такое унижение, наши «способности» к страданию и состраданию ограничивались бы только собственным опытом или, в лучшем случае, опытом близких нам людей, а все остальные оказались бы не в счет. В этом случае мы были бы лишены способности понимать, что за драму мы наблюдаем, да и живем в ней — в сущности, все вместе — от рождения и до последнего вздоха. Мы могли бы оставаться лишь посторонними наблюдателями, сосредоточенными на своих ощущениях, не более. Не говоря о том, что только в приниженном состоянии можно познать настоящее чувство внутренней свободы. А с ним ничто не может сравниться.
Впрочем, понимание драматизма, который заложен в жизнь изначально, каким-то парадоксальным образом граничит с ощущением ее гармонии. Между словами «драма» и «благо» можно поставить знак равенства. И по обеим сторонам этого равенства можно добавить почти всё, что угодно, — равенство не нарушится…
20 декабря
Погода улучшилась. С утра прояснилось. Рваные, низкие облака грузно, но всё же быстро плывут над горизонтом. Ветер юго-западный, с солоноватым привкусом. Проносясь над деревьями резкими порывами, он на время полностью утихает, и наступает мертвая тишина. Такая тишина, что каменеет в затылке…
Утром задал себе вопрос: существуют ли такие ценности и такие принципы, ради которых стоило бы жить собачьей жизнью, делая несчастным себя и окружающих? Не знал, что ответить. По большому счету никакие ценности, никакие принципы не стоят, конечно, несчастья. Проблема, видимо, в какой-то случайной не-сочетаемости, в несовпадении между духовным и телесным я, которые в наших представлениях беспрестанно смешиваются.
23 декабря
С утра опять моросит. На улице около десяти градусов. Небо серое. Весь день короткие просветления, но такие яркие, что в глазах ломит, когда смотришь в окно. Сегодня заметил в парке зимний жасмин, цветущий белыми соцветиями. Точно такой жасмин я когда-то хотел посадить у себя в Гарне, но другую разновидность — не с белыми, а с желтыми цветами…
Конец года. И какого года! Господи… Как приятно писать этой ручкой! Нужно попробовать фиолетовые чернила…
Приезжал Фон Ломов. Встреча вышла странной. В отношениях осталась прежняя прямота, искренность, но теперь нас разделяет какая-то пропасть. Молчать невозможно. Говорить трудно. Мы обсуждали садоводство. Даже не представляю, что он обо всём этом думает, хотя и говорит, что «всё» понимает. А что — всё?
11 января 1994
Не писал почти три недели. На Рождество приезжал А. Б.[4] Очень опасался его визита. Но всё получилось просто до нелепости. Он не изменился ни на йоту, даже трудно в это поверить. Отощал разве что бедняга — от своих нескончаемых неудач. Я был не то чтобы рад его видеть, а скорее удивлен, озадачен. Какая всё же запутанная личность.
С тех пор как я нахожусь здесь, под Монпелье, мне почему-то кажется, что жизнь тех, кого я оставил за оградой лечебницы, должна кипеть от нескончаемых перемен. Какое заблуждение! В жизни окружающих начинаешь хоть что-то понимать только с того момента, когда перестаешь верить, что с ними не может произойти чего-то нового и непредвиденного, когда уже не сомневаешься в том, что всё, чем бы они ни жили, написано у них на веку. Жизнь любого человека укладывается в простую схему, которую можно изложить в трех-четырех простых повествовательных предложениях. И если в большинстве случаев это бывает нелегко сделать, то только потому, что смотришь на людей изнутри, как бы со слишком близкого расстояния. Стоит отстраниться, как всё становится ясно, всё как на ладони…
Хотел сказать другое: поразительно, насколько внутренние перемены, происходящие в нас, опережают внешние, и как мало придают им значения окружающие. Этим же вызвана и та мучительная тоска, скрывать которую ото всех каждый считает своим долгом, зная, что ее невозможно никому объяснить. Этим же вызван немой собачий взгляд А. Б. Но ведь он не может знать, что я всё это понимаю…
По рассказам А. Б., с Мари они окончательно разъехались. С парфюмерным бизнесом он также порвал. Но, скорее всего, просто завалил дела и не знает, к какому берегу причалить. Говорит, что рад своей новой «свободе». Но по глазам видно, что жалеет о старом. Когда говорит о прошлом, глаза его чернеют, и он начинает подкреплять свою речь кивками, словно сам себя успокаивает…
Меня он принимает за полного недоумка. Но и слава богу! Даже кинулся помогать мне одеваться, когда я предложил выйти пройтись. Это, конечно, невыносимо. Но лучше всё оставить как есть…
Ничего не менять! Вот первое правило здравомыслящего человека. Не нарушать его ни при каких обстоятельствах! Но разве я уже не клялся себе соблюдать это правило любой ценой, в любой ситуации, чего бы это ни стоило? Не пытаться ничего «изменить к лучшему», а беречь, стараться не испортить, не сделать хуже того, что уже есть. Высшее духовное состояние всегда сливается с самым полным смирением — наука простая…
По заверениям А. Б., у Л. всё будто бы благополучно. Ее отправили под опеку дальней тетки в Англию, где она собирается продолжать учебу (в Оксфорде). Надоумил ее, конечно, А. Б. Но и к лучшему…
Даже не знаю, что об этом думать. По сей день мне становится, в сущности, страшно, когда я об этом думаю…
15 января
Пробую продолжать записи. Жизнь выравнивается. Чувствую себя в полной физической форме, и опять, не успел я очухаться, как меня неодолимо тянет чем-то заниматься. Не могу побороть в себе эту старую невыносимую привычку.
Солнце бывает только по утрам. После обеда держится серость. А впрочем, ужасные дни! Чем лучше чувствую себя физически, тем более глубокое опустошение накатывает изнутри, тем мучительнее хочется просто дотянуть до вечера, до ужина, до новостей по телевизору.
Вчера и сегодня читал попавшуюся под руки макулатурную книжонку. О Чайковском! И очень странное складывается впечатление. Неужели это и есть настоящая жизнь?!
Думаю, что музыка Чайковского мне понятна до последней ноты — она не сложна даже для такого неофита, как я. Но как она несовместима с образом автора, насколько она выглядит чище его самого! Хотя что тут странного? Со всеми происходит то же самое: если бы каждый из нас постоянно помнил о том, что всякий прожитый день «ближнего» состоит из мытья, бритья, чистки зубов, высиживания в туалете, из низменных забот, сводящихся к тому, чтобы набить брюхо «хлебом насущным», если бы мы отдавали себе отчет в том, что во всей деятельности «ближнего», на которую он оказался способен за минувший день, лишь сотая часть его мыслей достойна звания человека, а всё остальное — расчет, зависть, недоброжелательство, угождение плоти… — то, помня всё это, мы вряд ли смогли бы подличать по отношению друг к другу.
Да, так оно и есть: талант подобен айсбергу. Он может дрейфовать через целый океан, с видимой на поверхности одной лишь верхушкой. Творчество — это внешне упрощенный, схематический вариант личности, хотя и более глубокий и совершенно зашифрованный. Выводить из этого общее правило, впрочем, тоже трудно. Бывает и наоборот.
Как сказал Лао-цзы, истинные слова неприятны, а приятные слова не истинны. Он был прав тысячу раз.
17 января
Выйдя после обеда прогуляться, подумал вдруг о том, что главная ошибка, которую я всю жизнь допускал в отношениях со своим окружением, заключалась в переоценке своих возможностей.
Разве это не мания? Пусть притаившаяся в глубине и опосредованная стремлением к главному, к «большому». Но в этом случае благое — со стороны — намерение жить на повышенных скоростях, жить по большому счету и не размениваться на мелочи, обратно пропорционально боязни «малого» и в той же мере опосредовано тихом ужасом, который я всегда испытывал перед «малым». Отсюда и неспособность удовлетворяться жизнью каждого дня — такой, какая она есть. Отсюда неспособность находить в ней простой, первичный смысл. И это изначально порочно. Боязнь «малого» порождает непоследовательность в «большом». Именно поэтому я всегда и во всём оставался дилетантом — и в те времена, когда учился на юриста, и позднее, когда начал работать, зарабатывать, когда садовничал, когда возомнил из себя живописца. Но можно ли прожить жизнь, оставаясь вечным дилетантом?
Сомнения снедают только тогда, когда не сделано окончательного выбора. В результате оказываешься неспособным на настоящие жертвы, обойтись без которых невозможно, и тем более в творчестве. Когда есть чувство неизбежности — а на этом чувстве держится любое призвание, — конечный выбор, тот, который кажется таким непосильным, а иногда даже жутким, как образ пропасти, простирающейся под ногами, совершается сам собой, помимо воли.
позднее
Весь день было солнце. Закроешь глаза — и блаженно тонешь в какой-то яркой томительной темноте. Под веками плывут пятна. Как ни стараешься разглядеть эти пятна, они уплывают в сторону. Удивительно! А как я любил в детстве, когда болел и лежал в постели, разглядывать эти пятнышки — до одурения, до ломоты в черепе!
Сегодня опять пробовал писать квадраты. Плохо и скучно. Сразу же одолевают неприятные мысли.
Главная беда сегодняшнего изобразительного искусства в том, что оно лишено твердых, однозначных критериев. Всё держится на мгновенном эффекте. Всё построено на иллюзии новизны. Но как только этот эффект исчерпывает себя или изживает (а происходит это практически мгновенно), оказывается, что за ширмой новизны нет ничего — одна пустота. Господствующим же принципом, который вольно или невольно соблюдают все, является следующий: кто дальше плюнет, тот и рекордсмен. Этот принцип как нельзя более наглядно обличает западную культуру наших дней в очень характерной для нее слабости — в утрате иммунитета, в беззащитности перед любым веянием, перед любым вторжением, что конечно же свидетельствует о ее закате. Погоня за новым — это своего рода потребность развеять старческую скуку, это разновидность алчности, свойственной дряхлому организму, заканчивающему свои дни. По этой же причине сегодня днем с огнем не сыскать и настоящих ценителей. Всё стало условно, расплывчато. Ценителя, собственно, невозможно отличить от профана. Верно говорила Вельмонт: большинство выезжает на всеобщем невежестве, чуть что апеллируя к своим неприкосновенным правам, к «свободе», ко вкусам, о которых будто бы не спорят.
вечером
То, что мы называем в искусстве «авангардизмом», может иметь право на существование лишь в том случае, если новаторство нацелено на поиски новых форм, но никак не на поиски нового содержания. Культуры, которые позволяют своим «новаторам» вмешиваться в их содержание, или надеются, что благодаря им содержание будет чем-то пополнено, находятся в фазе упадка.
Дух как был, так и останется первичным. А оболочка, в которой он пребывает, всегда будет иметь вторичное значение. Изменить это невозможно. Даже если по ставшим привычными для нас представлениям одно без другого существовать не может…
20 января
Серое, нехолодное утро. Ветрено. В воздухе свежесть. Ветер сегодня как будто бы с побережья. Всю ночь на крыше стоял грохот, и я не мог уснуть, а затем будто в яму провалился. Несмотря на полнолуние, спал на редкость хорошо. Проснувшись, чувствовал приятное опустошение в голове, слабость, легкость, невесомость.
Уснуть не мог с вечера, думая вот о чем. Когда-то давно я прочитал — не помню, у кого, но очень часто позднее вспоминал об этом, — что память, воспоминание является неотъемлемой частью жизни и только жизни. После смерти памяти якобы нет, всё «стирается», как бы размагничивается, и для того, кто верит в потустороннюю жизнь, в этом полном отсутствии воспоминания о земном прошлом должно якобы заключаться вечное заоблачное блаженство!
Эта идея мне ужасно претила. Претила как-то безотчетно, по-детски. Не только потому, что из этого вытекало, что люди, мне близкие, уже ушедшие из жизни, и те, кто уйдет на моих глазах, оказавшись по ту сторону, не будут помнить о моем существовании и не будут иметь представления о том, что я существую. Какое одиночество охватывало от одной лишь попытки представить себе, что все те, кто жил, кого мы любили, в кого верили, кто был нам близок, — пребывают в этом растворенном эфире размагниченного неведения. Да и не только близкие, родственники. В тот же ряд можно поставить любимых писателей, того же Гете, Толстого и всех остальных — всех тех, благодаря кому наша жизнь обретает смысл, благодаря кому она получает на каждом шагу неизмеримую и очень реальную поддержку… И после этого представить себе, что все они пребывают в полном неведении о нас, ни о чем не помнят?!
Мы тащимся за ними по пятам, способны исковеркать себе жизнь для того, чтобы не утерять с ними связь. Мы принимаем их идеи и их жизни так близко к сердцу, что они кажутся нам более реальными, чем наша собственная жизнь. А они, видите ли, уже ни о чем не помнят! Растворились в вечном сиянии! Им дела до нас нет… Возможно ли такое?!
Как поверить, что человек «растворенный», его сознание и душа — как бы это ни называлось! — может пребывать в неком абстрактном блаженстве, не имея памяти, будучи лишен воспоминаний о своем прежнем существовании и не имея возможности сопоставлять оба мира. Что это за сознание? Что за вечное сияние и нирвана? Что за вечная размагниченность?
Благо не может, вероятно, существовать без своей противоположности, т. е. без зла, которое там, с другой стороны, надо полагать, не существует, а значит, может присутствовать только в воспоминании. Если всё это не так, то здесь кроется какая-то большая путаница. И не у меня одного…
Та «забывчивость», размагниченность, которой я страдал первое время после аварии, вовсе не была такой ужасной, как всем казалось. Иногда она просто порождала неприятные ощущения во взаимоотношениях с внешним миром. Неприятно было, например, брать со стола ложку и не знать, как она называется. Но это не мешало мне думать. Ведь думать можно, не зная названий предметов. Мозг мгновенно воссоздает недостающие названия, заменяет их другими: «блестящий предмет», вместо «ложка», становится новым названием. Но зато какое наслаждение последовало за всем этим — думать и вспоминать! Память превратилась для меня в своего рода цель жизни. Благодаря ей возникла видимая черта, раздел. Стало с чем сравнивать. Это дало мне возможность осознать, что нет ничего нужнее. Память — это единственное, что в действительности есть у каждого и чего не отнимешь ни у кого.
«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению… И любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем…» На эти строки я наткнулся в «Екклесиасте» и поначалу воспринимал их в буквальном смысле!
поздно вечером
Кто-то говорил — не помню, кто именно, — что на ту сторону не переносится с нами всё то, что связано со временем, как, например, большая часть нашей умственной деятельности. Но ведь в этой деятельности полно и вневременного. Таково интуитивное мышление. Оно прекрасно обходится без времени. Умирает в нас, судя по всему, всё временное и раздробленное в нашем сознании, противоречивое, оторванное от «всеединства», или то, что не заслуживает того, чтобы стать вечным — уродство, болезни и т. д. Всё это остается здесь, с этой стороны. Но что же тогда делать с воспоминанием об ушедшем, с воспоминанием о нас — оставшихся? Заслуживает ли наша здешняя жизнь того, чтобы быть увековеченной? Нет, конечно. Или только в исключительных случаях — лишь редчайшие, выборочные моменты нашей жизни…
В чем заключается в таком случае понятие воля? В отказе от мыслей о смерти?
21 января
Вечер. По всему югу разгулялся мистраль. Вокруг черным-черно. Всё гудит, бушует. Кто-то ломится к нам с того света…
От одиночества бывает иногда так страшно. Господи, не дай дожить до преклонных лет. Что же тогда меня ждет?
26 января
Ездили перед обедом в соседний городок, целым автобусом. Накупил газет, сигарет, запасся новой пижамой, мылом с магнолиевым ароматом. Как всё же славно сидеть на заднем сиденье машины и слушать дорогой, как впереди о чем-нибудь разговаривают! Обожал это с детства…
Годар, хоть и швейцарец, как-то заявил следующее (видел его интервью по телевидению): когда вы гуляете по Парижу и вдруг видите, случайно заглянув в окно, сидящую за столом женщину — это Анна Каренина. Какая точная метафора! Добрая половина человечества, возможно даже большая, самим фактом своей неудачной, зашедшей в тупик жизни постоянно молит нас о пощаде. Но мы слепы. Или боимся обратить на это внимание…
29 января
Суббота. Ходили гулять в соседний лес. С нами были две дочурки лечащего врача, которых он берет с собой по субботам на работу. Обе только что вернулись из Швейцарии, куда их возили в рамках какой-то школьной программы по обмену.
Я с ними разговорился. Одна из них утверждает, что хочет стать парашютистом, потому что всегда мечтала быть… птицей. Затем стала рассказывать, какие пакости они проделывали в Швейцарии в первую неделю пребывания.
«Ну а во вторую неделю?» — спрашиваю я.
«Пришлось всё начать сначала! — был лаконичный ответ. — Потому что переделали все, какие могли. А новых никто не мог придумать…»
1 февраля
Как получилось, что, прожив сорок лет, вдруг обнаруживаешь, что вся жизнь была полной противоположностью тому, чем она должна быть и чего сам хотел от нее? Может ли такое происходить независимо от воли человека?
Нет, конечно. Я всегда сознавал, что в моей жизни что-то не так. Всю жизнь я пытался всё переделать на задуманный лад, и он не вызывал у меня даже сомнения. Оттого я и жил как в клетке, будучи не в состоянии, проснувшись, думать о пробуждении, обедая, думать об обеде. Я постоянно всё соотносил с какой-то умозрительной чертой, фактически вымышленной. В этом, конечно, и кроется основное недоразумение.
Одна из главных ошибок тех, кто оказывается в моем положении, это непонимание, что многое в жизни человека зависит не только от индивидуальных усилий, прилагаемых для достижения своих целей, но и от воли обстоятельств, от случая. Случай — такой же реальный фактор в жизни, как и всё остальное. Как просто, казалось бы, и как важно не забывать об этом, но увы.
Так произошло в моих отношениях с Россией. Я всю жизнь считал ее какой-то землей обетованной и вроде бы не сидел сложа руки, пытался предпринимать конкретные шаги для того, чтобы эта земля была для меня не просто сладкой, иллюзорной грезой, а чем-то более реальным. Что из этого получилось? Ничего. Только ли по моей вине? Вряд ли…
4 февраля
Большинство людей нуждается не в истине, а в самооправдании. К этому и сводятся все их усилия, подчас самые отчаянные. Как странно, что мы постоянно об этом забываем.
7 февраля
Неточность слов мучительна, но в нее заложено какое-то непонятное благо, и его даже нетрудно бывает ощутить на себе, хотя очень трудно объяснить. Потому что объяснять приходится, опять же, словами?..
Не знаю, как именно, но это связано с первичностью слова. Разве не предшествовало Слово всему Творению… Или всё дело в роли слова в формировании мыслей, которые не могут и, по-видимому, не должны нести в себе абсолютного, не должны быть абсолютно точными? В противном случае это означало бы, что мы способны быть носителями абсолютного знания, что мысль и слово по сути одно и то же, что мысль замешена на смысле слова и что между ними нет принципиальной разницы.
Не будь слова, не было бы мысли — это кажется очевидным. Но почему не предположить, что, наделив человека способностью мыслить, дав ему возможность оперировать своими мыслями, причем такими, которые иногда даже могут вмещать в себя абсолютные понятия и величины, — Бог просто перестраховался на случай возникновения какого-нибудь соперничества, на которое человек так падок? Что, если Он просто обезопасил себя от того, чтобы человек однажды не попытался встать с ним на одну ногу? А для этого Он заставил нас думать посредством слова, лишив нас возможности оперировать своей мыслью вне словесных категорий. Разве не словесные категории, в силу своей неточности и переменчивости, предостерегают нас от абсолютного мышления, т. е. от знания?
Кто сказал, что человек, испытывающий отвращение к неясности слов, обречен жить вне общества и не может исполнять в нем какую-либо важную функцию? Он даже якобы не может толком верить в Бога, потому что слишком устремлен к абсолютной точности и слишком сосредоточен на недостижимом… Я же думаю, что верить такой человек как раз может. Ведь вера лишена четких контуров, в ней всё зыбко, и по-другому быть не может. Более того, вера является, возможно, единственным, что такому человеку осталось…
8 февраля, утром
Прочитал вчерашнее и подумал о том, что всё же недаром настоящей литературе чужд «абстракционизм». Она не желает размениваться на мелочи.
Серый, неприятно теплый день. Но и дождя нет. Проснувшись, долго лежал в постели, о чем-то отчаянно, с напряжением думал, но уже не помню, о чем именно…
11 февраля
Вчера пришел пакет от Мари — свитер, купленный где-то в Англии, судя по неоторванной этикетке, шерстяной плед, несколько книг по цветоводству, целая кипа статей о России, которые она собирала по разным газетам, «Мысли» Паскаля, религиозные брошюрки. Получил также по открытке от Арсена и от матери (она собирается заехать сюда до конца месяца). Сегодня мой день рождения.
День как день, ничего особенного. И слава богу.
13 февраля
Серый день. Свежо, но в воздухе мрачно, грязно. Возился с утра с розами напротив хозяйственной части. Кусты посажены неправильно и, конечно, пропадут. Прежний садовник, как и я, был сумасшедшим, только «неразмагниченным», и в отличие от меня не притворялся…
Вчера вечером видел пятерых из отделения для тяжелых. Их вывели на прогулку, а точнее было бы сказать, выпустили попастись. Глядя на них, даже трудно представить, что это люди, — нечто похожее на людей. Один из дегенератов, с лысой, вытянутой головой в форме груши — самый, кажется, бедовый из всех, судя по тому, что персонал не отходит от него ни на шаг, — подошел к караулившему его санитару, чернокожему здоровяку по кличке Рембо, который постоянно что-нибудь жует. Подступившись к нему, грушеголовый расплылся в улыбке и стал разглядывать этого колосса в стоптанных кроссовках снизу вверх, как что-то неживое, наклоняя лицо так да эдак. Затем он нагнулся к земле, набрал горсть песку и, продолжая сиять всей своей рожей, словно разыгрывая кого-то, поднес песок ко рту, набил им рот и стал песок пережевывать.
«Ну и как? — спросил санитар. — Съедобно?»
Грушеголовый принялся жевать энергичнее, словно опасаясь, что не успеет проглотить.
«Настоящую жвачку хочешь? — спрашивает санитар. — Сплюнь, тогда получишь».
Рембо вынимает из кармана упаковку жвачки, водит перед носом грушеголового, опасливо озираясь по сторонам, чтобы его не застукали — издеваться над больными запрещено.
Грушеголовый перестает жевать, пристально смотрит санитару в глаза и выплевывает песок. Затем хмурит брови, кривит физиономию в лукавой улыбке, складывает руки на груди, задирает локти и начинает раскачиваться из стороны в сторону, имитируя движения, которыми убаюкивают младенца. Жвачка и убаюкивание младенца — для него это одно и то же.
Санитар немо трясется от хохота. Обняв дегенерата за плечи, он шагает с ним по газону…
Наблюдая за ними, испытывал поразительное чувство, что, говоря на разных языках, они прекрасно понимают друг друга.
Кто же в таком случае я?.. Страшно подумать. Но нужно побороть себя! Обязательно нужно это перебороть…
У санитара на руках татуировка. У Леона была похожая. Стоило вспомнить о нем, и всё сжалось во мне в узел. Ничего, скоро увидимся…
Написал это и спохватился. А потом понял, что действительно в глубине души я жду этой встречи. И она не вызывает во мне страха. Скорее чувство облегчения и даже некоторого нетерпения. Когда Леон мне снится — в этих снах обычно присутствует что-то радостное, мы что-то вместе обсуждаем, вместе возимся на кухне. И у меня нет ни малейшего ощущения, что он совершил что-то подлое в отношении меня…
17 февраля
Изумительный день. Хотя трудно понять, пасмурный или солнечный. Ветер словно пастух, плетущийся где-то позади, отстав от стада, неспешно гонит облака в сторону побережья. Вокруг всё ходит ходуном, всё содрогается. От конвульсий, сотрясающих воздух, рябит в глазах.
Засыпая, думал о несметном количестве прелюбопытных вещей, но к утру всё вылетело из головы, или почти всё.
Поразительно, что для одних встреча с искусством выливается в настоящий недуг, заканчивается крахом и не сулит ничего, кроме разочарований (я лишь единичный случай). Для других же оно оказывается неисчерпаемым источником радости, превращается в новое жизненное измерение. Однажды открыв его для себя, уже невозможно жить без него, к тому же его невозможно приобрести никаким иным способом.
Искусство является одной из высших форм человеческой деятельности — от этого никуда не денешься. Но всё, что оно плодит, — это продукт людского сиротства, одиночества. А в высшем своем проявлении лучшее из художественных творений, созданных людьми, граничит еще и с крайней степенью отчаяния. Казалось бы! Творчество стоит того, чтобы быть сопоставленным с самим актом сотворения мира. Оно должно быть чем-то радостным, непроизвольным. Но увы! На деле это далеко не так.
Искусство разрушительно для тех, кто его боготворит (чаще всего это происходит по неосведомленности), ведь этот божок не терпит подобострастия. Благотворно же оно для тех, кто не ждет от него ничего сверхъестественного, кто воспринимает его как естественную жизненную среду, такую же естественную, как воздух, трава, небо, звезды…
вечером
Если видеть смысл жизни в ее усовершенствовании, то было бы невозможно принять идею смерти как таковую, — это подметил Л. Толстой, и как верно! Ведь совершенствование — это нечто такое, что не может обрываться. Всё то, что поддается совершенствованию, только видоизменяется, переходит в новую форму, и так до бесконечности. Непрерывность заложена в саму семантику этого понятия.
Но можно, разумеется, спросить себя, что, собственно, означают все эти ребусы? Что значит «принять смерть» и т. д.?
Предположим, что мы правы, отказываясь верить в абсолют, в достижимость предела и совершенства или, точнее будет сказать, вообще в усовершенствования. Но тогда будет естественным признать, что во всём есть предел, что за всем — конец. Несмотря на это, жизнь продолжается. Конечность не оказывается для нее «смертельной», и уже тем более не принуждает к «принятию смерти» — этой абсолютной, черной дыры. Ребус Толстого выливается в нонсенс…
Если что-то и поддается улучшению, так это сам человек и изнутри, но никак не окружающий мир, который, подобно безмерной, во все стороны растекающейся гидре, готов заполнить собой что угодно и всегда найдет способ перелиться в новую форму, в которой по-новому всё уравновесится, и подлое, низкое, и светлое. Лучше не путаться под ногами. Осторожно, незаметно способствовать, подстраховывать этот процесс можно. Мешать, вмешиваться — это глубочайшая ошибка, да и иллюзия…
Но главная путаница, от которой мне не удается избавиться, заключается в том, что я не в состоянии сделать твердого выбора между своей естественной, изнутри подпирающей верой в разумный ход вещей и приобретенным неверием в разумность поступков человека. Меня всегда останавливает соображение, что если исходить из того, что не человек создал мир, то как можно ждать от него, что он может создать новый, лучший… Единственное, что от каждого требуется, — это не быть участником сумасбродства, не быть звеном в круговой поруке зла. И это уже почти невозможно.
Примечательно еще и другое: стремление перекраивать мир, как правило, свойственно тем, кто не способен совершенствовать себя самого. Но поскольку творит человек по подобию своему — данное правило распространяется даже на тех, кто это сознает, — то категория одержимых преобразованиями — суть инвалиды, и они ужаснее всего. Беда в том, что имя им легион…
Другое замечание Толстого, тоже неожиданное, звучит примерно так: поступки, совершаемые с «оглядкой» на будущее, всегда были и всегда будут источником зла, даже с учетом того, что предвидение вросло в нашу жизнь как нечто естественное, жизненно необходимое, без него мы просто не можем существовать. Когда человек сеет хлеб, ему необходимо знать, в какое время урожай созреет, чтобы своевременно пожинать плоды своего труда, и для этого ему приходится принимать во внимание времена года, учитывать погодные условия и т. д.
Вот и получается, что одно из жизненно важных условий нашего существования одновременно является источником зла, которое отравляет нам существование. Примечательный парадокс! Окончательного ответа Толстой на это не дал. По крайней мере, в тех записях, которые мне попались. Впрочем, он вообще мало дал ответов на такие вопросы. Он просто умел их ставить… Я и подавно не знаю, что с этим делать. Упростив вопрос, его можно наверное задать следующим образом: как правильнее, как разумнее жить — одним днем или завтрашним днем, с упованиями на лучшее?
Жить одним днем наверное более разумно в корне и более нравственно, но это едва ли осуществимо. Когда предмет чаяний из недостижимого идеала превращается в реальность, то для идеалов не остается места, а стало быть, жизненный тонус, энергия устремления к цели утихают, и жизнь на шаг сдает свои позиции. Но если она будет сдавать их на шаг каждый день, то логично предположить, что на продолжительном отрезке времени жизнь просто угаснет.
Жить завтрашним днем — полнейшая иллюзия. Всё тут же упирается в старый неразрешимый вопрос: должно ли «завтра» представлять собой нечто лучшее, нечто более совершенное по сравнению с сегодняшним днем? Если да, то это, опять же, будет подразумевать под собой стремление к усовершенствованию. А оно тут же отбросит нас назад, к настоящей минуте, заставит жить, «оглядываясь» на завтрашний день, но сиюминутно.
К сожалению, плодами нашего понимания всегда пользуется кто-то другой, но не мы сами. Сказано же: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать».
18 февраля
Прочитал вчерашние записи и подумал вот о чем. Отвечать на вопрос, что правильнее — жить сегодняшним днем, тем, что есть, или уповать на лучшее, ждать чего-то от завтра, — трудно еще и потому, что будущее непременно сливается в наших представлениях с чем-то позитивным, с чем-то идеализированным, что само по себе показательно для всего нашего мировоззрения. Это вскрывает в нем один из типичных изъянов, а в нас самих какой-то атавизм: чтобы в нас сохранялся жизненный тонус, чтобы мы не опускали хвосты, нам необходимо, чтобы перед нашим носом водили чем-то вкусным. С такими представлениями из темного леса не выбраться, на чем бы ни были эти представления основаны — на сознательном заблуждении или на бессознательной убежденности — на убежденности в том, что всё должно быть именно так, как есть. Если на убежденности — слава богу.
Но предположим, что всё-таки на заблуждении… В этом случае главнейший импульс нашей жизни оказывается основанным на ложной гипотезе… Что и хотелось доказать. Из сказанного очевидно, что стремление к совершенству может быть только злом, как это ни странно.
20 февраля
С утра, еще в постели, думал о Брэйзиере, о его визите. Грустное воспоминание…
После всплеска приязненных чувств к людям — разве так было когда-то с Леоном? — после первоначального опьянения, лучше которого и чище которого я ничего не испытывал, я всегда мучился похмельным синдромом. И он бывал тем тяжелее, чем сильнее был предшествующий «взлет». Разочарование наступало уже двойное, вдвойне мучительное.
Как наглядно Шопенгауэр изложил это в притче об Иване и Марье: в момент любви к Марье Ивану мерещится, что она самая красивая женщина на свете, а когда он перестает любить, он вдруг ужасается ее изъянам, вдруг видит в ней одни уродливые черты, обнаруживает их на каждом шагу и не может понять, как он мог считать свою Марью когда-то писаной красавицей…
Я всегда старался себе внушить, что естественным, нормальным состоянием для меня было всё же первоначальное опьянение, а не последующее похмелье, но никогда не мог избавиться от противоречия, хотя и считал его глубоко порочным. Дело, наверное, в том, что всплески, воодушевление никогда не были во мне чем-то естественным, впитанным в кровь и плоть, как это должно быть. Они не стали «нутром», а вливались в меня лишь в минуты временного прозрения, вызванного либо угрызениями совести, либо реакцией на окружение, — при этом нисколько не нарушая глубокой порочности, в которой я жил годами и продолжаю жить. Просто сегодня я понимаю это, а тогда был глух и слеп. Чтобы такое отношение к жизни — вдохновенное — стало естественным, чтобы оно превратилось в привычку, оно должно быть обусловлено не временными величинами, не окружением, а соотношением с понятиями бесконечными, выявленными для себя с максимальной ясностью.
Жалость, испытываемая к отдельному человеку, имеет благородный оттенок только тогда, когда она является частью жалости ко всем, и лишь в этом случае она для него не унизительна и не вызывает еще более тяжелых угрызений совести в тебе самом…
Сегодня неприятно моросит. Всё неприятно тяжело. На душе сыро, неуютно. Всё опять кажется запутанным, двойственным, относительным, размагниченным… Опять вопросы, одни вопросы…
вечером
Самое трудное в отношениях с людьми заключается в том, чтобы научиться ценить людей средних, лишенных какого-либо явного таланта, коими и является поголовное большинство наших собратьев. Всегда понимал это, но почему-то никогда не воплощал этого правила в жизнь.
21 февраля
Не истина важна как таковая, а процесс постижения истины, не итог самосовершенствования, не планка, выше которой ты не можешь перемахнуть, а то вполне измеримое и преодолимое расстояние, которое отделяет от идеала. Важен процесс, по мере которого возносишься над самим собой. И в этом процессе, в этом разбеге перед главным прыжком не может быть просчета и пресыщения. Поэтому и измерять нужно всё же по максимуму, какие бы противоречия это иногда ни вздымало. Если этого не делать, сама мера вещей становится однодневной, прикладной, необязательной для всех, а процесс постижения — не более чем реакцией на несовершенство жизни и людей и тем самым перестает быть внутренней необходимостью, диктуемой врожденным чувством максимума.
Если ставить себе целью стремиться к пределу, к истине, то это так или иначе подразумевает под собой значимость процесса, на который уйдут, может быть, все силы, потому что предел всегда будет недостижимым. Но в процессе всё же можно увязнуть. Ум не выносит антиномии и слишком легко сдает свои позиции. Своей потребностью всё релятивизировать, которая вытекает из неспособности окончательно «регрессировать» в infinitum (это уже по Аристотелю, — что значит ненасытность интеллекта, его неудовлетворенность ограниченным, его постоянное «свертывание», стремление в бесконечность), ум обнаруживает свою полную беспомощность. И за какой бы ширмой он ни прятался, ум всегда будет искать опоры в частном, в сиюминутном, в одноразовом. Он всегда будет предлагать выход попроще, обещая человеку защиту от самого себя.
22 февраля
О смысле жизни легко рассуждать тем, у кого нет сомнения в том, что он есть. Для других же это пустой звук, игра слов, и только. Я ближе к первой категории, поскольку не могу не понимать, что этот смысл запрятан не в высоких материях, не в этой, например, болтовне, которую я опять затеваю сам с собой, а в чем-то более приземленном, в конкретном и даже во временном, в мишуре, в ежеминутном. Но поскольку я лишил себя этой мишуры, выходит, что я страдаю и одним недугом, и другим: вдохновенной слепотой, «ученым незнанием» первых, и черным «похмельным» отчаянием, глухонемотой вторых, как если бы был болен и знал бы, что болен, но считал бы свою болезнь настолько постыдной в глазах окружающих, настолько низменной, что предпочел бы всё, что угодно, вплоть до того, чтобы похоронить себя заживо, лишь бы не раздувать из этого истории.
поздно вечером
Болтовня о самосовершенствовании — всё это, конечно, пустые слова. Дело не в собственном «я» и в его возможностях. Дело не в том, какое место оно объективно заслуживает. А в том, какое место ему отводят окружающие в своих субъективных оценках, как это «я» уживается среди себе подобных, какое место оно само себе отводит. Исходить нужно, видимо, из того, что люди изначально равнодушны друг к другу. Только так можно оценить реальные возможности этого «я» по достоинству и его реальные границы…
Разговоры об индивидуальной свободе — в той же мере недоразумение. Свободным человека делают другие. Мир людей, при всём его несовершенстве, — это круговая порука не зла, а всё же добра, это постоянная, ежеминутная зависимость друг от друга, проявляющаяся в каждой мелочи, хотя бы потому, что все мы являемся участниками одной и той же драмы, все мы в той или иной степени не удовлетворены нашей жизнью и все мы однажды должны этот мир покинуть. В другом виде этот мир не только был бы лишен смысла, но и не мог бы существовать. Остается удивляться, как мы можем об этом забывать…
Удивительно, но факт: смерть — одно из самых банальных, казалось бы, явлений, с которым нам приходится сталкиваться на каждом шагу. Когда едем по шоссе в автомобиле, видим на обочине останки дворняги с выпущенными кишками. Зайдя в магазин, разглядываем мясо убитых животных, а дома делаем из него бифштексы. Включая телевизор, становимся свидетелями всей той умопомрачительной бухгалтерии мирового хозяйства, запись на приход и расход в которой ведется в пересчете на людские жизни, унесенные войнами, природными и техногенными катастрофами, несчастными случаями, старостью и т. д., но в глубине души мы остаемся к этому равнодушны. Тот факт, что, зная смерти цену, мы не устраиваем из этого мелодрамы, делает нас людьми, но в то же время приговаривает к феноменальному непониманию процессов, управляющих нашей собственной жизненной стихией. И неслучайно, человек, живущий с голым, непритупленным чувством присутствия смерти может быть либо душегубом, отрезанным от всего людского, либо совершенно астральным существом, достигшим редких высот внутреннего развития. Но думал о другом, о том, что жить в нашем подлунном мире с таким чувством совершенно невозможно. Видимо, поэтому мы и вынуждены постоянно «забывать» об этой не столь уж непостижимой истине бытия, осознанно или неосознанно отдавая себе отчет, что жить с этой истиной мы не сможем. В конце концов, мы исходим из ясного, рассудочного понимания своего истинного положения, которое заключается в полнейшей немощи перед жизненной стихией…
25 февраля
Вчера приезжала мать. Она оставалась допоздна, уехала после ужина. Мы ужинали вместе в соседнем поселке. Ели рыбу. Она попросила на аперитив рюмку коньяку, у нее что-то с давлением. Постарела. Было очень жаль ее. Говорили о пустяках. Кони чем-то серьезно заболел. Она пообещала прислать мне что-нибудь из английской литературы. Хочет приезжать чаще, но не может: они теперь безвылазно живут на острове.
вечером
Мать где-то писала, что самое сильное впечатление, перевернувшее ее жизнь, было связано с поездкой в Египет, с видом несметного количества пыли, в которой потонула цивилизация фараонов. Как хорошо ее понимаю! Самое большое искусство — это не то, которое оставляет после себя колоннады, надгробные плиты, пыль и горы щебня, а то, после которого остается какая-то неимоверная ностальгия, будоражащая разум потомков вековая пустота, то искусство, при столкновении с которым человек спрашивает себя, в свою ли эпоху он родился…
Часто спрашиваю себя: если бы выдающиеся умы нашего времени, все те, кто нам дорог — писатели, художники, и все те, кого мы почитаем, чьи судьбы, воззрения, жизненный опыт оказывают влияние на наши жизни, подчас более сильное и более реальное, чем мы думаем, — если бы однажды они смогли собственными глазами оценить результат своих творений и их воздействия на нас — не пожалели бы они о содеянном? Не окаменела бы вся эта плеяда от ужаса при виде того, сколь тщетными оказались все усилия?
Какое несоответствие в пропорциях — между душевными затратами, к которым принуждает себя человек, и их последующим использованием. Какой беспощадный парадокс! Если однажды всё будет смыто, и не только след одного человека, а следы всей людской цивилизации, нужны ли вообще эти затраты? Как можно, задумываясь над такими вещами, не верить в Провидение? Кто, как не Творец неба и земли, заложил в нас этот заряд, столь неудержимое стремление к жизни, к продолжению себя, к прохождению всего пути от начала до конца с совершенно ясным заведомым пониманием его бессмысленности и никчемности? Как не верить, что всё это упирается в высшие и недоступные нашему пониманию цели? Куда девается вся эта энергия, неизмеримое количество энергии, слагаемая из совокупности людских судеб и душевных затрат каждого? Не может же она кануть в никуда.
26 февраля
Чтобы любить людей простой, неразборчивой любовью, на которую способен глупец, умный человек обречен стать мудрым. Надкусив яблоко, он должен съесть его. Для него нет пути назад.
Для буддиста любить человека и дерево — одно и то же. На нашем христианском языке «любить людей» означает, в конце концов, любить землю, траву, кошек, собак, да и себя самого — и это одно и то же.
Разница между умным и глупым заключается еще и в том, что глупый не понимает, что есть умнее его. Вот как сказал об этом Аристотель, выписываю: «Людей великих отличает от простых смертных то же самое, что отличает людей красивых от некрасивых, что отличает творение, созданное рукой художника, от сотворенного природой. И это различие черпает себя в изначальном сходстве с одним и тем же прообразом, от которого каждому из нас что-то досталось…»
Не нужно много ума, чтобы понять, что такое плохо. Ум нужен, чтобы понять, что такое хорошо. Наглядный пример того, как одна из заданных, заложенных в природу пропорций может на глазах у нас перерастать в нравственный закон…
после обеда
В Притчах Соломоновых сегодня прочитал: «Начало мудрости — страх Господень…»
Бесстрашие якобы необходимо для противления злу, сатане и т. д., дабы не впадать при столкновении с ним в беспомощность. Недисциплинированный, бесстрашный вояка в деле, конечно, нужнее, чем преданный трус. На вояку можно положиться. Но слишком всё же по-земному поставлен вопрос. Богословие в панике пыталось подменить слово «страх» понятием «благоговение»… не следует, мол, истолковывать всё так буквально. Но внутренне я всё равно никогда не мог с этим согласиться. Умом понимал, но сердце отказывалось принимать… Почему — не любовь, если на то пошло, если уж нет более сильного средства воздействия, чем она?..
Не Он один создавал этот мир. В сотворении мира участвовал якобы и дьявол. Эту мысль вынашивает и богословие. Но это не объясняет того, зачем Он допустил столько страданий, причем самых немыслимых. Трудно поверить, что не было другой возможности внушить людям, что путь, по которому они идут, ошибочен.
Отец признавался, что по-настоящему «обмяк» к этим вещам сразу после войны — не потерял интерес, а именно «обмяк», — как и всё его поколение в общей массе, не вынесшее урока, не понявшее, с какой целью этот урок вообще был преподнесен. Но, глядя на страдания миллионов, действительно может показаться странным, что эти миллионы могли заслужить такую немилость к себе. Чтобы разобраться в этом, мало одной человеческой жизни. Впрочем, для этого и нескольких тысячелетий всей мировой истории оказалось недостаточно.
А вот еще строки, там же, в Притчах Соломоновых:
«Если будешь призывать знание и взывать к разуму… Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище… То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге… Ибо Господь дает мудрость; из уст его — знание и разум…»
27 февраля
Я никогда не был в состоянии испытывать страха перед Ним. Мог Его стыдиться — за многое. Но страха не испытывал. И это, конечно, очень разные мироощущения.
Думал о написанном вчера, и вот что пришло в голову — я где-то читал об этом, но где, не помню: страждущее человечество подобно толпе, в которой все орут, взывая о спасении, стараясь перекричать друг друга. А Он, сверху взирая на происходящее, слушает, всем хочет помочь, но в гвалте голосов слышит сначала тех, кто умеет правильно и ясно выразить свою просьбу, кто умеет говорить о своих страданиях и знает, чего хочет. Ведь помочь Он может в чем угодно!
Чтобы быть услышанным, нужно уметь, видимо, заявлять о себе таким образом, чтобы твой голос не тонул в страшных стенаниях людского страдания в целом…
Проснувшись, думал о том, какой всё-таки ошеломительно разрушительный заряд может нести в себе глупость и как часто мы этого недооцениваем. Человек не может быть глупым от природы, как, например, не может быть глупым дерево. Дерево может быть корявым или стройным, карликом или гигантом — это будет зависеть от его родословной, а в еще большей степени от условий, в которых оно произрастает. Как и человек! В нем всё тоже зависит от наслоений, от норм поведения, диктуемых обычаями стаи, в которую он попадает. Глупость — это разновидность мировоззрения.
Существует, впрочем, еще более резкое мнение: глупость — это якобы производное от греха, результат его накопления. Нет греха — нет в человеке и места для глупости. И это уже радикально…
Бывают даже руки умными, умнее любой головы. Таким был Далл’О, который работал у меня в Гарне. Долгое время я был уверен в том, что вся его «интеллектуальная деятельность» ограничивалась примитивными мыслительными функциями, на уровне, что ли, павловских рефлексов, и даже не удосуживался спросить себя, как эдакое млекопитающее могло обкорнать куст с таким искусством, каким он владел. Всё он прекрасно понимал! Он понимал такое, что большинству людей и не снилось. Рядом с ним я чувствовал себя корявым, как то дерево, — не карликовое, а именно корявое, и оттого еще более уродливое. Я чувствовал себя испорченным. Моя корявость выражалась в том, что я «взошел» на том месте, где никто ничего не сажал, в том, что я не был способен принимать себя за часть всего, за обыкновенный, как и всё на свете, растительный организм и, значит, часть целого. Я лез к макушке, стремился урвать себе побольше света, загораживая свет другим, нисколько не считал это зазорным и анормальным на том простом основании, что другие делают то же самое. И так я жил годами, пичкая себя иллюзиями, что приобщен к какой-то полезной деятельной касте, внушая себе, что так устроен мир и что нужно принимать его как есть. Разве не было сказано: «Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?..» И меня перемолотило. Не я изменил мир, а мир изменил меня. Но какая всё же наивность!
А впрочем, легко всё списывать на слепоту. Разве не боялся я оказаться в хвосте очереди? Разве не хотел я быть на гребне волны?
«Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника; то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростию и честию… Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого — на левую» — вот как мрачно толкует это Екклесиаст.
Вчера после обеда здесь был Фон Ломов. Очень изменился. Смотрит на меня с нескрываемой озабоченностью. Из его слов понял, что у Мари или у Л. опять какие-то трудности. Прощались так, как будто надолго…
28 февраля
Изменить себя к лучшему не так трудно, как кажется. Для этого достаточно побороть в себе сомнения в своих лучших качествах и, главное, сомнения в своей способности к доброте. А чтобы с этими сомнениями покончить, нужно сразу же, с той минуты, как это осознаешь, жить так, словно живешь свой последний день.
Лишь только преодолев свои сомнения в способности к доброму, начинаешь вырабатывать в себе чистое отношение к вещам, лишенное принижающего прагматизма. И как только делаешь малейший шаг в этом направлении, всё в мире сразу становится дорогим, хрупким, неповторимым. Становится бесценным даже то, что минуту назад казалось неприятным, мешающим жить, ненавистным. Попав в такой мир, и муху не сможешь обидеть…
1 марта
Добрые люди на первый взгляд всегда кажутся немного ограниченными. Но это происходит оттого, что они не нуждаются в самооправдании и не заставляют свой ум изощряться в выискивании аргументов в свою защиту. Более того: «Как только является умная дальновидность, то является великое лицемерие…» — как метко заметил Лао-цзы.
2 марта
Ясный, солнечный день. С утра был на улице, подкапывал землю под кустами у въездных ворот, но чувствовал себя разбитым. Ночью видел тяжелые путаные сны. А мысли всё о том же…
Не знаю, что такое Бог. Но без Бога, без вопросов о Нем и даже без сомнений в Нем жизнь кажется непонятной и уж, по крайней мере, бессмысленной, вегетативной. Что любопытно: сомневаться в Нем может лишь тот, кому известен предмет своих сомнений. Неслучайно эти сомнения оказываются столь мучительными. Ведь давно подмечено, что легко сомневаться только в чистой абстракции, а не в чем-то реально существующем…
позднее
Истина, по сути своей, не может быть чем-то просто истинным, так же как аромат не может быть просто пахучим. Истина — это категория иного рода. Но если возвести эпитеты в превосходную степень, то всё сходится: истина может быть самой истинной, как аромат может быть самым пахучим. В ней не может быть середины, лишь крайность и максимальность. А поэтому «золотая середина», в которой будто бы находит равновесие всё истинное, — это заблуждение или самообман, к которому мы прибегаем для того, чтобы преодолеть в себе мелкие противоречия. Крайность истины нам так же ясна и непонятна, как бесконечность звездного пространства, при этом мы вправе не знать, что оно собой представляет, где оно заканчивается и что находится за его пределами…
3 марта, утром
Проснувшись, думал о чем-то необычном, давнем, волнующем. Было так легко и свежо в голове!
Видимо, неслучайно нам во всём приходится убеждаться собственными глазами. С чужих слов мы ни в Бога, ни в черта не способны поверить. Беда в том, что данная привилегия — возможность удостовериться в таких вещах «собственными глазами» — выпадает лишь некоторым. Большинство из нас проживает жизнь в неведении — одни в блаженном, другие в мучительном.
Верить не у всех получается, даже если человек тянется к вере и имеет насущную потребность в этом. В конце концов, это не всем дано, и мы часто этого не учитываем. Это словно дар, талант, но высший, не имеющий практического применения.
Как бы кто ни относился к понятию «Бог», принимая его за реально существовавшее историческое лицо, за субстанцию или за субстрат душевной деятельности, — это не имеет принципиального значения. Конечно, вера в субстанцию — это скорее верование, нечто неполноценное, попытка выйти сухим из воды, не больше, при этом оставив за собой право на последний выбор — то самое право, в котором человеку отказано. Отсюда и проистекает весь тот фальшивый «гуманизм», которым кичатся развитые страны, основанный на очень однобоком и половинчатом представлении о правах, основанный на праве, которого индивидуум считает своим долгом добиваться за счет ущемления прав других, и добивается он этого путем регламентации прав, разделения и подсчетов долгов и обязанностей чисто арифметическими методами, которые разрабатываются в парламентах. Какая бухгалтерия! Какое невероятное изобретение! И какая иллюзия! Ведь пытаться решить эти вопросы подобным способом — значит принимать желаемое за действительное. Или действительное за желаемое, что еще хуже…
Элементарная логика говорит нам: тот факт, что мы не можем чего-то постичь своими мозгами, не является доказательством того, что сам предмет наших размышлений исчерпан, что постигать нечего. Всё это столь же реально в нашем сознании, как реально понятие души, ничем материально не обоснованное. Сам факт существования этих понятий уже не случаен. Откуда они могли взяться? Как мог человек выдумать такое, чего не существует в природе, чего нет на белом свете? В этом смысле, что бы мы ни подразумевали под понятием «Бог», и даже если мы отказываемся олицетворять Его, Его присутствие реально. Понимание этого дано нам с самоочевидностью. Об этом говорил, в частности, Кузанский. Но как я корпел когда-то над его текстами, как мучился! И как замечательно было впервые открывать такие истины. Как просто раскалывается спелый орех. В конце концов, всё просто даже у него, у Кузанского…
«Центр» мира, являющийся одновременно его «окружностью», и началом, и концом, и фундаментом, на котором он основан, и границей, за которой его не существует, и содержимым, которое он содержит, — центр мира нужно рассматривать как нечто абсолютное, как абсолютную сущность. В то же время абсолютный максимум есть не что иное, как одно из наименований Бога. Бога же нужно рассматривать как Что-то превосходящее любое человеческое понятие и в этом смысле как Что-то непостижимое, но в то же время данное нам с абсолютной самоочевидностью. В силу этого подлинное знание может заключаться действительно только в «опознанном незнании».
И действительно: как можно усомниться в том, что всё частное, ограниченное определяется своими границами по отношению к тому, что находится за пределами этого частного? Получается, что целое и всеединое первичнее, чем ограниченное и конечное. Но это всеединое или «абсолютно величайшее» не может не существовать, ведь возможность не быть — есть не что иное, как возможность быть замененным чем-то другим и, получается, логически применимо только к частному, к конечному, к ограниченному. То, что не имеет пределов, не имеет ничего вне себя. Оно всё объемлет в себе и уже ничем не может быть заменено. Поэтому оно и не может мыслиться отсутствующим, несуществующим…
поздно вечером
Раньше я над всем этим не задумывался. Точнее говоря, происходило всё это всуе, главные вопросы я всегда откладывал на завтрашний день, потому что, во-первых, надеялся, что самая болезненная часть из них рассосется сама собой — так и получилось, а во-вторых, тешил себя иллюзией, что еще есть время. И в этом, конечно, глубоко заблуждался. Времени как раз нет. На это даже целой жизни может не хватить… Боялся необратимости своих решений? Был уверен, что никогда не поздно будет к этому вернуться, что к той бессмысленной жизни, которой я жил, возврата быть не могло, стоит мне от нее оторваться, стоит оставить ее где-нибудь в хвосте?..
Потребность верить — как бы ни было странно сознавать это сегодня — возвращалась ко мне бумерангом, в виде тяжелого, неожиданного удара откуда-то сбоку. В виде неспособности верить ни во что, кроме как в себя самого. Да и в себя самого я верил не чаще, чем раз в неделю, когда удавалось как следует высыпаться.
4 марта
Почему не боишься идти по темной улице, но боишься верить в вещи, которые заведомо не могут причинить тебе никакого вреда?
В отношении себя я давно нашел ответ на этот вопрос, просто долгое время не умел это ясно формулировать. Всё дело в неудовлетворенности, в желании большего, в неспособности остановиться на достигнутом. Всё дело ну если не в примитивном материализме, то в максимализме, в погоне за максимумом, которая рано или поздно превращается в самоцель. Минимум же (иначе говоря, необходимость, а она и есть главное) становится в один прекрасный момент чем-то недостижимым. От общего не бывает возврата к частному. Всё всегда начинается с частного и идет к общему, как уверял Гете, и с ним трудно не согласиться. В несоблюдении этого простого принципа и заключается главное недоразумение моей жизни.
Нужно ли было так мучиться, чтобы прийти к этому заключению — к пониманию того, что ничего понять до конца невозможно…
Эйнштейн, например, придерживался другого мнения. Он утверждал, что самое непостижимое в мире то, что он постижим. Но это уже риторика…
5 марта
Страх толпы — это и есть настоящее горе от ума, это и есть агностика, философия тех, кто ни в Бога не верит, ни в черта, но в силу того, что не знает, как избавиться от своего неверия, мирится с ним и в лучшем случае воспринимает себя «без вины виноватым», этакой беззащитной овцой, отбившейся от стада. Только сегодня, когда толпа стала для меня действительно чем-то недостижимым, я понимаю это с такой ясностью.
Я боялся толпы, оттого что не хотел рассчитывать на поддержку со стороны, боялся своей потребности в авторитете, которую, наверно, испытывал, как и все. Я боялся воодушевления толпы, боялся почувствовать, что не могу без этого обойтись, что я такой же слабый и ничтожный человек, как и все, и без поддержки спрос с меня будет маленький…
вечером
Говорят, нельзя прощать нераскаявшегося. Мне всегда казалось, что это необходимо делать и что сам я на это способен. Но это как в людских отношениях: когда любишь человека, то его противоречивость относишь к душевной глубине или даже усматриваешь в ней тонкое проявление гармонии, во всей ее как бы антиномичной полноте. Когда недолюбливаешь, то любое подмечаемое в человеке «отступление» от эталона кажется изъяном, а то и подтверждением того, что он не достоин твоей любви. Пороком будет казаться даже то, что он не похож на тебя самого…
Был очень красивый, тихий вечер. Я заметил это, когда уже почти стемнело. Но так всегда: только стоит захотеть, и мгновенно замечаешь, что каждое растение, каждое дерево, каждое мельчайшее творение природы воплощает в себе уму непостижимые совершенства. Мы утопаем в абсолюте с утра до вечера и не замечаем этого, очень странно…
6 марта
Вера меня всегда загоняла не в схиму, а в угол, в какую-то почти метафизическую изоляцию. Когда должно быть, казалось бы, наоборот. Но главная сложность заключается даже не в том, делает ли вера из нас полезных людей или, наоборот, непригодных для жизни в обществе, а в том, намерены ли мы связать с ней всю свою жизнь, целиком направляя ее к этой единственной цели (если действительно веришь, то по-другому вроде бы невозможно), или просто готовы снять шапку… при ее появлении на улице, чтобы хоть этим поддержать самых смелых и отчаянных. Или помешать ее поруганию, которое всегда почему-то происходит прямо у нас на глазах.
Разрыв между двумя этими позициями огромен. Это такие же разные понятия, как любить самому и пытаться воспрепятствовать другим выражать пренебрежение к предмету своей любви или почитания. Если любишь, то другие не в счет. Чувство любви эгоистично. Но этот эгоизм в каком-то высшем смысле сливается с самоотречением и, наверное, близок к добродетели.
Бесплодность этих рассуждений обнаруживает себя в том, что я рассуждаю, какая модель лучше — с Ним или без Него, когда ответ ясен и последнему дураку.
7 марта
Тоскливо от написанного вчера. Тоскливо чувствовать себя столь беспомощным. Для того чтобы не страдать от чувства бессилия, необходимо обрести в себе совсем другое чувство собственного достоинства — даже не знаю, как это назвать точнее… Ведь хватило во мне силы воли принять теперешнюю жизнь и отказаться от прежнего. А воли отказаться от последнего, малого барьера — самомнения и бесконечного примеривания всего на себя — не хватает. Необходимо отказаться от домыслов о пользе и вреде, которыми якобы могут оборачиваться все эти вопросы. Таким путем здесь ничего не добьешься. Скорее наоборот. Только унизишь себя расчетливостью. Собственное я, стремление этого я вылепить окружающий мир по себе, по своему подобию, мгновенно обнаруживает свою ограниченность. В то время как всё — куда больше, куда неизмеримее!
Беда таких безбожников, как я, заключается в том, что мне понятен ход мыслей как тех, кто верит в Бога (ведь я верю в дух, в божественное происхождение мира и человека и даже в историчность Христа), так и тех, кто не верит в Бога — мне понятны причины, которые ими движут. Тем самым по недоразумению я оказываюсь в стороне и от тех, и от других, что идет вразрез с простым принципом познания, согласно которому постичь что-либо можно только изнутри, а не снаружи.
На деле всё проще. В вопросах веры гораздо нужнее оказываются не усилия, которые мы делаем над собой, а непосредственность. Это как в плавании: чтобы поплыть, незачем грести как сумасшедший руками и ногами. Достаточно дать себе почувствовать, что при определенных движениях рук и ног сам по себе остаешься на плаву, не тонешь…
поздно вечером
Самый неверующий человек тот, кто, приближаясь в темноте навстречу незнакомой группе людей, замедляет шаг от неуверенности или от страха.
8 марта, вечером
«Безбожник обречен на неведение и всегда несчастен. Ибо тот, кто хочет и не может, поистине несчастен. Любой человек хочет счастья, хочет уверенности в том, что ему открыта хотя бы крупица истины, но безбожник не способен ни на постижение истины, ни на отказ от жажды ее постичь. Он не может даже сомневаться», — это строки Б. Паскаля, со ссылкой на Екклесиаста. Прочитал их в «Мыслях» вчера вечером…
Конечно, я сомневаюсь в Его существовании, сомневаюсь каждой клеткой своего существа. Но в глубине души всегда понимал, что эти сомнения не так уж страшны, что я просто не успел преодолеть в себе промежуточного порога сомнений. Чувство веры, пусть даже полное противоречий, всё равно перевешивало.
Вот один из примеров подобного хода размышлений: с легкостью могу представить себе, что однажды буду в состоянии избавиться от сомнений, но, к каким бы усилиям воли ни прибегал, не могу представить, что однажды буду в силах полностью избавиться от веры. Чувство веры, стало быть, пересиливает чувство неверия.
9 марта
Наткнулся у Б. Паскаля на строки, в которых он говорит о том, что всех людей можно подразделить на три категории: на тех, кто живет с Богом и счастлив, на тех, кто ищет Бога и не может Его найти, отчего несчастен и безумен, и на тех, кто не живет с Богом, не ищет Его, в результате чего несчастен, но разумен.
Если под истиной понимать Бога как субстанцию, как Нечто, то Паскаль, скорее всего, прав. Но если под истиной понимать также фигуру Иисуса Христа, воплотившего в себе некую высшую форму существования на земле, доступ к которому для человека открыт и в то же время остается герметичным, непроницаемым в своей сути и непостижимым в буквальном смысле слова, на уровне ощущений человека, — то едва ли Паскаль будет прав. Он поспешил с выводами.
Богослов всегда поспешен в своих выводах по поводу безличного Бога, оттого что не желает считаться с абстракцией — она для него беспредметна и бездоказательна. А философ, как правило, опрометчив в своих суждениях о личностном Боге, коим и является Христос. Поэтому разговор между ними и похож на дискуссию между слепым и глухим.
На основе сказанного можно сделать смелый, хотя и неожиданный вывод, что интуитивное познание является, в конце концов, более рациональным, чем привычное логическое, основанное на причинно-следственных связях. Исходным условием для этого является, конечно, определенный уровень внутреннего развития человека. Как определить этот уровень — к этому и сведется вся проблема. Но если поразмыслить, то оказывается, что и это не так сложно.
Тот, кто считает, что достиг должного уровня, всегда заблуждается и к категории внутренне развитых отнесен быть не может. Как заблуждается и тот, кто думает обратное — что не достиг этого уровня. Разница между ними заключатся в том, что последний, сомневающийся, в отличие от самоуверенного обладает внутренним компасом, который безошибочно указывает ему верное направление в поисках. Потому что сомнение в себе — наивернейший признак духовной развитости. Это можно считать правилом, практически не имеющим исключений…
Бог даст — человек отнимет. Когда же дает человек — Бог никогда не отнимает. Это одно из проявлений Его реального присутствия в нашей жизни. Б. Паскаль утверждал, что Бог всё предусмотрел для того, чтобы в природе не было никаких доказательств Его существования. Сомнительный тезис. Даже с учетом соответствующих в Евангелии строк по этому поводу, которые трудно оспаривать, совершенно невозможно понять, зачем Ему мог понадобиться весь этот маскарад.
вечером
Вечером после новостей смотрел старый фильм Марселя Карнэ, снятый в годы войны, и вдруг подумал, что жить полноценной жизнью можно, как ни странно, только в условиях отживающей империи. Единственно настоящим контекстом для художника, позволяющим ему творить что-то подлинное, исходя из глубоких переживаний личного характера, отражающих всеобщие тревоги, является то особое мироощущение, которое может порождать только нечто уходящее и грандиозное, каковым и является любая отживающая империя, любая мощная культура на стадии отмирания. Только империям присуща столь высокая и чистая ностальгия по уходящему, а она является одним из самых надежных материалов для построения глубокого образа — даже в эстетическом смысле.
12 марта
Презирая себя, мы оскорбляем Бога в себе. Поэтому презрение к себе и приводит к отчаянию. Кто это сказал?..
На улице холодно, серо, неприятно.
1 апреля
С утра дождь. Послезавтра Пасха. С начала недели установились серые дни. Проснувшись, листал Притчи Соломоновы, и одна из них запала: «Не вступай на стезю нечестивых, и не ходи по пути злых… Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него, и пройди мимо…»
Почти что 90-й псалом, но как бы наоборот… Эти строки вдруг всколыхнули давние, мучительные мысли, которым я никогда не мог найти внутреннего разрешения. В дневнике Толстого наткнулся на строки на эту же тему. Толстой описывает разговор, произошедший между ним и крестьянином по поводу войны России с Японией. Крестьянин выразился в таком духе: когда замечаешь в кабаке драку, прибавь шагу, чтобы ее не видеть…
Идея фикс Толстого о невмешательстве и непротивлении, конечно, удивительна. Она не утратила своей притягательной ауры и по сей день — это факт. Но я, как и большинство, наверное, никогда не мог понять, каким образом осуществлять это в реальной жизни. Я всегда спрашивал себя: а если никто не остановится, если все пройдут, неужели от этого драка прекратится? Неужели весь мир сразу разделится на праведников и злодеев? Дело еще больше усложняется тем, что не всегда дерутся отъявленные негодяи. Гораздо чаще бывает — и тут всё сразу становится неимоверно сложно, — что дерутся люди не безнадежно испорченные, а просто находящиеся в затмении рассудка, в каком-то смысле не ведающие, что творят.
Эту тему мы часто обсуждали с Фон Ломовым. Помню, он ссылался на слова знакомого священника, какого-то родственника: помогая человеку испорченному из сострадания, мы якобы поневоле потакаем его порокам и лишаем последней возможности, перестрадав, вынести из своих бедствий настоящий, положительный опыт, а поэтому лучшее, что мы можем для него сделать, это оставить его выкарабкиваться своими силами, оставить наедине с его страданиями.
Умом я вроде бы понимаю, что такой подход не лишен смысла. Но сердце всегда было против. Сердце всегда говорило, что на такого человека можно воздействовать примером. Ведь человек так устроен, что не поверит на слово до тех пор, пока не найдет подтверждения или опровержения сам, пока не удостоверится собственными глазами. Не проявляем ли мы спешку? Не торопимся ли убедить себя в том, что не способны что-либо изменить из боязни вернуться к старой, уже разрешенной в нас дилемме и не делаем ли мы это ценой отказа от наиболее важных, непреходящих внутренних ценностей, которые достались нам ценой таких усилий? От этого и страх: мы не уверены, что у нас хватит сил еще раз проделать над собой усилие.
Потерять всегда легче, чем приобрести вновь. Здесь всё висит на волоске. Равновесия нет. Успокоения тоже быть не может. Каждый новый день вздымает со дна ту же муть вечных вопросов, вчера еще, казалось бы, разрешенных, но в какой-нибудь новой форме, и на них опять нужно находить ответы. Иначе жизнь — не жизнь.
Проблема в том, что дилемма «зла» рационально вообще неразрешима. Яснее не скажешь… Неслучайно многие подмечали, что сама эта постановка вопроса идет вразрез с понятием «всеблагости» Бога как первоосновы бытия, первоединства всего и в том числе реальности зла. Это признает, кажется, даже классическое богословие. Кто говорил, что, если бы в мире существовало хотя бы одно страдающее существо, пусть это всего лишь червяк, раздавленный пешеходом на асфальте, это всё равно перевешивало бы все аргументы, выдвигаемые в пользу мировой гармонии?
2 апреля
С раннего утра проливной дождь. И опять холодина. Со вчерашнего вечера даже включили отопление. После завтрака полило с такой силой, что дирекции пришлось отменить столь ожидаемую всеми прогулку, невзирая на риск, что народ взбунтуется…
Мы сетуем на то, что «аскетическая» направленность христианской идеи несообразна с реальным положением вещей в мире и что она не считается с нашими реальными взаимоотношениями с этим миром и тем самым отгораживается от нас стеной непонимания. Но это так и есть. И особенно сложно это воспринимать сегодня, когда все ценности, какие бы общество ни производило на свет, идут вразрез с этой идеей. Наиболее слабых эта «аскетическая» идея надолго отталкивает от себя некоторым голым формализмом, который в ней как-то слишком режет глаза.
Что же делать? Куда нам, неофитам, деваться, когда в мире, в котором мы прозябаем, даже правда может приносить вред, а истинное слово куда чаще приводит к розни и к разрушению, чем к пользе и созиданию? Как жить в мире, в котором наибольшую пользу — или, по крайней мере, наименьший вред — приносит тот, кто не стремится вообще ни к какой пользе? Загадка…
Консерватор — это тот, кто предпочитает неизменность перемене. Этой простой истине можно обучить и лягушку… В полемике консерватор всегда будет прав, пока его оппонент — тот, кто ратует за изменения — не поднимется в своей аргументации на голову выше. По этой причине и нужнее личности, а не крикуны. Нужнее те, кто готов посвятить свою жизнь «черной», неблагодарной работе, которой никто не хочет заниматься и к которой сегодня даже не принято проявлять нормального живого интереса. Заключается же эта работа в нахождении точек соприкосновения между этими двумя мирами, благодаря которому они могли бы сблизиться и слиться в нечто целое, взаимодополняющее. Но личности — редкость. Лишь одна на тысячу, если не на миллион. И об этом как-то легко забываешь. «Черную работу», в сущности, и делают личности и гении, но до других это доходит гораздо позднее… через сто, двести, триста лет. Большинство говорит, требует, доказывает. А гении берут и открывают новое, открывают новое в уже известном. И такие открытия оказываются самыми существенными — по той простой причине, что на отрицании вообще далеко не уедешь.
Чтобы какая-то большая, великая идея оставалась жива, говорят, что она должна быть «гонима», растоптана. Таков удел всякой праведности… То есть эта идея не должна быть признанной большинством людей. Тут-то и вступают в силу нюансы. Понимая это, крайне важно сохранять чувство меры. То есть, понимая, важно не отстаивать это как открытую позицию, иначе сразу оказываешься прибранным к рукам — совсем другими идеями, которые перемалывают в порошок любого человека и с любыми идеями.
Знание совершенное, высшее — это знание внутреннее, не стремящееся найти себе применения. В этом и суть «гонимости». Признание — всегда яд, признак вырождения, потому что на нем развитие застывает. Непризнание — это тоже сила. Просто человек, исходящий в своих действиях из потребности в «компенсации», не способен давать всего, не получая в обмен ничего, не способен понять этого своим разумом, слишком его разум и чувства вывернуты наизнанку.
позднее
Какое заблуждение кроется в утверждении, что историю делает толпа! Ничего подобного! Одни личности. И что еще полезно помнить — личности, объединяясь, могут тоже превращаться в толпу.
3 апреля
Вчера вечером был устроен «совместный» праздничный ужин для «вменяемых». Приехала жена лечащего врача. После работы остались медсестры. Собрались «нормальные» из пациентов. В мадам де Мирмон бросается в глаза тот особый бабский эгоизм, который я наблюдал иногда в М. — невнимательность к вещам, из которых невозможно извлечь немедленную выгоду. Во время застольных дебатов — манера не следить за речью говорящего… Чувствовал себя нелепо оттого, что меня принимают за чокнутого, но как бы отличающегося от других примерным поведением. Ну за кого же им меня принимать?
поздно вечером
Черная, бархатная ночь. На улице мертвая тишина. Какой странный был день… Опять с утра какие-то гости и родственники.
Сколько раз замечал за собой, что, когда в жизни что-то складывалось не так, как бы хотелось, мне становится легче среди людей, потому что иллюзии, которые они строят на мой счет, заставляют думать о себе лучше, чем думаешь о себе сам наедине с собой. Но страх пред ними всегда отталкивал меня, он что-то извращал в душе, вгонял в странную немонашескую схиму — с верой не в Бога, а в себя самого. В конце концов, нет более низменной формы эгоизма, чем бесформенная, расплывчатая любовь к людям как к «человечеству», словно к какому-то явлению природы, к безразмерной идее, которая украшает нашу жизнь и с которой просто невозможно не считаться. Человек становится собой только там, где он что-то представляет собой для других, где он чего-то стоит в их глазах. Накопление добрых чувств в себе делается исключительно через экономию душевных сил, через уменьшение затрат на борьбу с самим собой и с самомнением…
5 апреля
Вчера у меня в гостях был «соотечественник» В. Р.[5] Он выглядел растерянным и, кажется, был удручен нашей встречей, моим местопребыванием или тем, что ему пришлось тащиться сюда за тридевять земель, чтобы в очередной раз так сильно разочароваться во мне. Разговор получился нелепый, никчемный. Но я не мог по-другому. Господи, кому это объяснишь?
Не понимаю, что он здесь делает, что ждет от этого мира? На его месте я бы давно вернулся к себе в Россию, невзирая ни на что. Ведь здесь всё будет только размываться, медленно, но уверенно. И никаких «старых камней» здесь скоро уже не сыщешь днем с огнем…
7 апреля
Сегодня солнце. Всё утро просидел в шезлонге под каштаном. Он еще не распустился, но уже пробивается листва. На следующей неделе должен зацвести.
Пора идти за газетой…
8 апреля
Всё утро листал журналы; вчера попросил медсестру купить какого-нибудь свежего чтива, и она привезла мне их целую кипу. Чувство опустошения от прочитанного. Ощущение отупения. Уже с зимы я не в состоянии читать ни журналов, ни газет. От всех этих «последних новостей» охватывает мучительное чувство, что «информация», содержащаяся в них, да и вообще всё то, что преподносится средствами массовой информации, — какая-то мякина. Парадокс «информации» в ее отрешенности от материала, в чем так преуспевают англичане, на которых все средства массовой информации и равняются. Ради «объективности» информация готова быть поверхностной, а поэтому чаще всего черпает себя из внешнего, в то время как истина всегда кроется внутри, снаружи к ней даже не подступишься. Истина — в отношении к предмету, в интерпретации, в субъективном, — в этом я глубоко убежден. А поэтому и получается, что «информация» в том виде, в котором она преподносится сегодня, лишь усугубляет в человеке ощущение оторванности, нагнетает чувство затерянности в необозримом, бескрайнем море ему подобных и в бездонном вареве событий, от которых его жизнь совершенно никак не зависит. Не говоря о том, что подлинное «я» обычно кристаллизует себя совершенно в другой плоскости — всегда в чем-то конкретном. Это закон. Но это трудно объяснить даже самому себе…
Ограничение своего «я» подразумевает под собой глубокое знание об устройстве мира в целом и оберегает от самообмана, который кроется в поверхностно-объективном взгляде на вещи. Если этот опыт приобретен, хотя бы в малой степени, то он очень существен. Дальше этого понимать, собственно, нечего. Всё остальное приходит само собой…
Для людей с неизвращенным умом — и довольно часто это является привилегией тех, кто занят каким-нибудь реальным трудом, требующим настоящих навыков и знания своего дела, например трудом, связанным с землей, с механикой, — для этих людей ограничение своего «я», представление о себе как о рядовом человеке, ничем не выделяющемся из массы, является вполне естественным. Поэтому и ропота со стороны таких людей никогда не услышишь. По их представлениям, так и должно быть, по-другому быть и не может. Большинство из них вообще не выдвигает перед собой подобных дилемм и не страдает от них по каждому поводу и без повода, как остальные.
Остальным, тем, кто надкусил яблоко, рано или поздно тоже приходится мириться с признанием своей «незначительности». Знание неизбежно к этому приводит. Но для них этот момент оказывается жестоким переворотом, потому что в развращенном уме всегда остается сомнение: естествен ли такой итог, не могло ли случиться по-другому? В таких вещах лучше не знать, не иметь выбора вообще. Или даже не иметь представления о том, что он существует, ибо он превращается в постоянное искушение.
В этом и заключается парадокс: человек неискушенный обладает, в конце концов, тем же знанием, что и мудрец в итоге своих поисков. Разница между ними в том, что первый этого не сознает, а второй сознает, но предпочел бы остаться на месте первого…
9 апреля
Никакой объективности на свете нет и быть не может. Всё это выдумки. В мире людей всё условно, всё иллюзорно. Но строить иллюзии необходимо по поводу всего — по поводу самих людей, по поводу будущего, настоящего и прошлого, по поводу окружающей действительности. Ведь мир таков, каким мы хотим его видеть. Если нам хочется увидеть вокруг себя мрачное и негативное, мы всегда это увидим — и в любом количестве. Доброе и позитивное — невидимо или, по крайней мере, не бросается в глаза. Оно познается через эмоции. И результат познания будет всегда зависеть от чистоты сердца познающего. Поэтому прав будет всегда тот, кто, даже в чем-то заблуждаясь, своими иллюзиями приукрашивает действительность в пользу ее «отбеливания» от грязи людской и мирской. Недаром же сказано: изменись, и мир изменится вокруг тебя. Как это просто и ошеломительно верно. И в то же время как неимоверно, как непостижимо трудно следовать сему правилу.
позднее
Если все мы являемся частью бесконечного и не способны существовать в отрыве от него, довольствуясь осознанием своей ограниченности во времени и пространстве, то мы должны найти способ преодолеть в себе главное противоречие, которое заключается в том, что мы способны одновременно сознавать себя частью низменного мира и мира высшего, наисовершенного и наигармоничного. Но для того, чтобы это противоречие могло найти себе разрешение в реальной жизни, необходимо прежде принять другое, то, что любая составная часть окружающего мира, любой камень, растение, каждая живая тварь являются в той же степени производным от бесконечного. Необходимо принять саму идею, что максимальное, абсолютное присутствует во всём и повсюду. Иначе говоря: во имя срастания с высшим смыслом нужно примириться с низшим, нужно и в нем увидеть совершенство и необходимость, слить оба эти понятия воедино и рассматривать их как одно целое, рассматривать необходимость как одну из форм проявления совершенства…
14 апреля
Опять моросит. Всё утро провозился в садовой каморке… Проснувшись, прожег сигаретой дыру в одеяле. Вот и все мои новости.
Всю ночь читал «Волшебную гору» Т. Манна. Не мог оторваться, хотя на каждой странице испытывал угнетающее чувство раздражения. Не понимаю, за что в молодости так увлекался им? Чем он меня охмурил? Тем, что я чувствовал себя похожим на одного из его героев или хотел быть похожим?
Поразительно наблюдать, как всё великое часто пребывает на грани с элементарным плохим вкусом — именно на грани, эту грань никогда не преступая. А если оно и делает вид, что преступает грань, то лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы обворожить, удивить своей готовностью разделаться со стереотипами и чтобы затем тут же, на острие лезвия, переродиться в новое, по-новому совершенное качество.
Истина, как это ни старо и как это ни странно, всегда проста. Но чтобы к ней прислушивались, чтобы на нее продолжали обращать внимание, ей приходится беспрестанно сменять свою оболочку, как можно чаще менять форму…
16 апреля
Читая сегодня «Волшебную гору», невольно сопоставлял Т. Манна с Толстым. Что их так рознит? То же наверное что рознит потомственную аристократию от денежной буржуазии.
Одна из характерных черт выходца из буржуазной среды — материализм. Открытый или завуалированный, но этот дух пронизывает всю жизнь такого человека, подчас даже независимо от его душевных качеств. Бедность его чаще всего пугает. Ощущение состоятельности в таком человеке еще слишком свежо, чтобы он мог с уважением относиться к бедности или умиляться ею. Самая неприкосновенная святыня в нем — его гордость. А поскольку он всё же является производным от прибавочной стоимости, от города, торговли и т. д., то на пути у него настоящих людей чаще всего не попадается. Он чаще окружен себе подобными, ввиду чего принимает за эталон себя самого. Что особенно характерно — по этой черте данный тип можно распознать безошибочно: буржуа всегда распространяет вокруг себя неуловимый, в редких случаях утонченный, сплин скуки.
Аристократизм всегда и неразрывно связан с землей, которая диктует ему уважение к бедности. Он относится к бедности как к чему-то вполне серьезному. Материализм, если он и бывает присущ аристократу, скорее метафизичен, т. е. лишен социальной подоплеки, он скорее декоративен. И если аристократу еще дано чем-то гордиться, так это тем, что он может позволить себе обходиться без имитации под позолоту. Он может быть таким, как есть. В этом всё его достоинство.
Что касается Т. Манна, все блестящие куски его прозы, такие, например, как рассуждения о времени, о прямой зависимости наших представлений о времени от понятия пространства (даже часы, как он тонко замечает, есть не что иное, как физическое перемещение стрелки в пространстве), еще, например, его рассуждения о том, что глупость в человеке никогда не вяжется с болезнью и противоречит уважению, которое мы естественно испытываем к болезни, и т. д., — все эти блестящие куски его прозы не могут пересилить во мне неприятного впечатления от его неаристократичного самодовольства, да и рационализма, каким бы он ни обладал стилем и природным даром к анализу. Последнее качество было лучше развито у Р. Музиля, лишенного привилегий Т. Манна и оттого не успевшего заявить о себе в ту же самую эпоху…
Толстой о тех же понятиях заговорит как о чем-то необъяснимом, чудесном и для передачи своего ощущения находит поразительно точные образы. В рассуждениях о гибели французской армии в России в 12-м году, или, точнее будет сказать, о неспособности людей разбираться в многопричинности окружающих их явлений Толстой проводит такую аналогию. Задавая вопрос, почему яблоко падает с дерева, он отвечает следующим вопросительным рядом. Потому что зрелое? Потому что его червь подточил? Потому что ветер его срывает с ветки? Или потому что ребенку хочется его съесть?.. Он прежде всего заставляет увидеть невидимую, какую-то волшебную сторону вещей. Он прежде всего обращает внимание на красоту, нас окружающую, и только после этого отдает дань рациональному.
Т. Манн сведет тот же вопрос к какому-нибудь наглядному механическому процессу. От просветителей он нахватался веры в разум и лезет с ней повсюду, чрезмерно полагаясь на свою интуицию, на разум и не понимая, что если этот разум и должен что-то ставить под вопрос, то прежде всего интересы той среды, которая породила его на свет, ибо при всей ее пресловутой «открытости», либеральности и прочего — а обязана она этим не столько своей материальной обеспеченности, сколько возможности колесить по белому свету, — эта среда отстаивает только свои собственные интересы, повсюду одни и те же — интересы имущественные.
Завтра сюда должна приехать Мари. Почему-то боюсь этой встречи, боюсь ее вопросов, ее пристальных взглядов. Но предотвратить визит невозможно, не ставя себя перед угрозой разоблачения.
23 апреля
Сегодня «выездной» день. Меня возили в поселок на прогулку, потом гулял за оградой… Странно выходить за пределы клиники. Даже ноги немного подкашиваются.
Не мог писать на протяжении нескольких дней. Но теперь опять чувствую в себе некоторый подъем, потребность сесть за записи. Чтобы не мучиться над каждым словом, решил вести записи проще, просто перечислять то, о чем думал… Например, сегодня:
С утра думал о том, что нельзя иметь по утрам дурных мыслей. Гнать их от себя! А самый лучший метод избавления от них — это думать о близких, о тех, кто тебе еще близок…
Думал о Мари, о Л. — с ощущением удушья. Во мне всё по-прежнему. Я всё так же болен ею. Как ужасно это сознавать! Когда Мари неделю назад опять заговорила о дочери — Л. будто бы каждый раз напрашивается приехать сюда вместе с ней, но Мари ей отказывает, — поймав мой взгляд, она отвела глаза в сторону и едва заметно порозовела. Говорит мне об этом таким тоном, будто ждет от меня какого-то решения.
Я сказал ей, что мне трудно видеть людей, которых я не помню. Попросил Мари не настаивать. Кажется, всё она прекрасно поняла и даже, как мне почудилось, благодарна за отказ… Не знаю, что бы я делал, если бы Л. приехала сюда. От одной мысли об этом внутри трясется каждая жилка. И опять страшно…
Весь день разглядывал небо. Какие сегодня изумительные облака! Как горы возвышаются по всему небосклону. Сегодня небо очень свежее и от многочисленных бирюзовых оттенков — ослепительное… Глядел на всё это и думал о том, какое это поразительно красивое зрелище и как бесполезно пытаться понять, почему оно доставляет глазам такое удовольствие. Как бессмысленно пытаться воссоздать что-либо отдаленно равное этому по красоте! Возможно ли хоть на ступеньку подняться до этого совершенства? Конечно нет. Но не к этому ли стремлению подсознательно сводится вся наша жизнь?
Сегодня наблюдал за двумя молодыми парнями, которые ловили на удочки плотву в небольшом пруду на краю леса. Оба были в высоких сапогах, кажется, военные с местной базы. Глядя на них, думал о том, что даже эта крохотная серебряная рыбешка, которая болтается у них на крючке, несет в себе неповторимое совершенство. Трудно передать это чувство. Но в тот миг, когда она трепыхалась, сверкая чешуей на солнце, каким бесконечно сложным и точнейшим творением она казалась. Красоту ее можно ставить под вопрос, можно допустить, что это, так же как с небом, вызвано субъективностью нашего восприятия, которое опосредовано самой нашей природой. Но что может сравниться с совершенством, с каждой чешуйкой этого творения? Постижимо ли это? Какая гениальная бессмыслица!
Не странно ли в таком случае наше намерение ставить на кон всю нашу жизнь, пытаясь соперничать с природой, когда наши руки никогда и близко ничего подобного сотворить не смогут? Хотя бы потому, что всё, что делается нами, оказывается в результате неживым.
Думал о том, что такие вещи могут оставлять равнодушным только настоящего сумасшедшего. У нормального человека они должны захватывать дух…
Думал о том, что все эти тщетные вопросы, которые мы не можем не задавать себе, конечно, тоже «запрограммированы» в нас и, может быть, являются таким же признаком совершенства для того, кто наблюдает за нами со стороны, как я наблюдаю за плотвой, болтающейся на леске, восхищаясь блеском ее чешуи. Вполне очевидно, что до меня эти же вопросы задавал себе кто-то другой — века назад, тысячелетия назад, и с тех пор от него и праха не осталось. Его для меня смыло, размагнитило. Так же как меня когда-то смоет для кого-нибудь следующего. Страшно подумать! Страшно представить себе на мгновение, насколько всё тщетно…
Войдя сегодня за газетой в магазинчик, где всё так буднично и так хорошо пахнет новыми журналами, думал о том, что невозможно любить страну, не любя людей, которые в ней живут…
Думал о том, как неизмеримо важно и радостно открывать для себя новые, незнакомые предметы в материальном мире, нас окружающем, как это было с каждым из нас в детстве. Такие открытия происходят с возрастом всё реже и реже. А какой это наполняет радостью, силой, желанием и потребностью всё изменить вокруг себя!.. Дело же в том, что в витрине молочного магазина я вдруг впервые в жизни увидел настоящие гусиные яйца — белые, похожие на куриные, но огромного размера…
Думал о том, что если буду продолжать жить так, как теперь, то непременно заболею чем-нибудь серьезным. Разрешение этой ситуации, выравнивание противоречий должно будет обязательно произойти. Природа не терпит принужденности…
Думал почему-то еще и о том, что все писатели сначала становятся известными, а потом хорошими. И верно подметил Р. Музиль по этому поводу: «Гений Наполеона начал развиваться лишь после того, как он стал генералом…» Довольно странная закономерность. И очень жаль, что это так…
ночью
Любовь к природе — проявление часто неосознанной любви к Богу, а равнодушие к ней — апофеоз безбожия, являющийся уделом людей мелких, черствых, в силу различных обстоятельств отторгнутых от настоящего, обманутых или просто потерявших смысл жизни.
Таков был я сам, когда любил жизнь подобно тому, как любят кусок сочного мяса, когда любил ее за непосредственные материальные блага, которые она мне преподносила — за комфорт, за красивую одежду, за красивые ноги женщин, окружавших меня, за любимые напитки и тому подобное, при этом не понимал, что всё главное у меня уже было, что оно было дано мне даром и что я тратил время впустую на приобретение второстепенного, годного только во временное пользование. Чего мне не хватало — так это конкретных «предпосылок», благодаря которым это главное могло бы стать сутью жизни, средоточием ежесекундного знания о себе настоящем.
Что же… Явления ценятся нами, когда они уже состоялись, когда представляются нам приложимыми к нашему аршину. Но истина в абсолютном. И она начинает излучать свой свет до того, как мы успеваем о чем-то подумать. Проникнуться этим — значит родиться заново. Причем с очень немалыми шансами прожить жизнь счастливую, лишенную больших разочарований.
26 апреля
Поздно. Открыл окно, и из парка пахнуло резким свежим воздухом. День был теплый, почти летний. По улице разносился тополиный пух. Персиковые деревья осыпались, земля под ними розовая — это удивительно красиво.
Продолжаю писать по тому же методу…
С утра опять думал о Л., о том, что однажды придется ей написать, и было ужасно неприятно от этих мыслей. Они доказывают, что я по-прежнему не освободился — ни от нее, ни от себя самого. А был уверен, что покончено.
Вспоминал, как до покупки дома в Гарне, когда жил еще в Париже, не переставал спрашивать себя: белить или не белить потолок, благоустраивать или нет квартиру? Какой несусветный вопрос! И так тянулось годами. Только теперь, годы спустя, услышал в себе ясный ответ: конечно, нужно было белить, даже если бы пришлось пользоваться этим всего одну неделю, всего один день. Потому что окружающий мир от нашего присутствия не должен становиться грязнее, чем есть, чем был до нашего прихода, — очень простое правило…
Я жил всегда на износ. Но не на износ себя самого, а на износ своего окружения. Теперь даже подумать гадко о том, насколько я был не способен посвящать себя столь простым вещам. Теперь получается наоборот: сам живу на износ, а мир окружающий как бы застыл на мертвой точке. Но такое положение вещей мне кажется более естественным…
Когда смотрел сегодня телевизор, меня охватило жуткое, какое-то неестественное отчаяние. Показывали нечто страшное, тошнотворное. Летучие мыши с лягушачьими мордами обсуждали между собой проблемы цивилизации! Как бездарно, как мерзко… Откуда такой разгул ничтожества? Наверное, если бы не чувство собственной несостоятельности, растерянности и беспомощности, — это стучит в ушах обвинительным актом, — я бы с кем-нибудь подрался сегодня от злости.
Думал о том, что мне уже сорок два, а я ничему не научился за это время, разве только тому, как во всём сомневаться. Но что не банально в этой констатации: всё это происходит со мной независимо от того, знал я об этом заранее или не знал. Удар приходится, как всегда, не с того бока, с которого ожидаешь, и он во сто раз больнее, чем ожидаешь…
Все плоды чужого знания, чужих прозрений, какими бы сладкими они ни были, безвкусны. Чужая мудрость ни на что не годится и быстро теряет свой магнетизм при непосредственном соприкосновении с нею. Оказывается, что за любым знанием, сколь бы ни казалось оно кристально чистым, отвлеченным, кроется страдание, и страдание, как правило, большее, чем ожидаешь.
Вот я и попался на своей болезни! Болит куда больше, чем думал, чем планировал. Иногда кажется, уже нет живого места, и хочется прежнего, в том числе прежнего незнания. Что угодно — лишь бы не это!..
Лао-цзы, конечно, не зря морочил всем голову своими перлами: «Знать, что не знаешь, есть высшее. Не знать, что не знаешь, есть болезнь». Но с этим высшим жить невыносимо.
позднее
Метод познания, построенный на отрицании, — наихудший из всех существующих. Он безотказно срабатывает лишь до того момента, пока есть что отрицать. Когда же отрицать нечего, когда уже всё отброшено, перечеркнуто, забраковано, он начинает работать вхолостую.
В таком случае лучше заблуждаться в каких-либо частных утверждениях — лучше увлекаться и ошибаться, лучше любить ограниченными чувствами, чем заблуждаться в принципиальном отрицании. Если жить по этому принципу, меньше оставишь после себя развалин. К тому же на крайний случай всегда остается убежище, в котором можно укрыться.
А впрочем, хотел сказать что-то другое… Нельзя отрицать вокруг себя — всё. Так же как нельзя жить в грязной комнате — ни при каких обстоятельствах. Комнату нужно убрать, сделать чистой. Это правило нужно соблюдать независимо от того, имеет ли это значение лично для тебя или не имеет, видишь ли ты в нем какой-то смысл или нет.
27 апреля
Почему ребенку всегда претит идея совокупления родителей? Потому что он испытывает неосознанное отвращение к греху и подсознательно не хочет жить как взрослые? Или потому что ему претит случайность своего появления на свет, проступающая в половом акте, в его конкретности, материальности, в его зависимости от стольких обстоятельств, от такого хитросплетения различных условий?
Как поверить, что, усевшись утром за руль машины, доберешься вечером домой только потому, что по счастливой случайности с тобой не произойдет по дороге аварии, потому что в тебя никто не врежется? Гораздо случайней всё же кажется авария… Так и ребенок.
Верно ли в этом смысле утверждение, что эстетические пропорции человека и природы всегда совпадают? Не уверен…
поздно вечером
Тихая ночь. Весь небосвод, весь купол усыпан звездами. Дух захватывает!
Эстетичное всегда параллельно истинному. То, что красиво, всегда истинно. Вопрос в том — что красиво?
Ответ, однако, не так сложен: мы всегда с точностью знаем, что некрасиво. Получается, что всегда можно вывести — методом исключения, от противного. Единственный изъян, который здесь проглядывает: метод от противного строится, в конечно счете на отрицании. Можно ли им так злоупотреблять? Но тогда пришлось бы поставить под сомнение и апофатичный метод, используемый богословами, что, в сущности, то же самое…
28 апреля
Машина, врезавшись во что-нибудь на большой скорости, разбивается всмятку. А вот муравей, упав с третьего этажа, почему-то жив. Он переворачивается на лапки и бежит дальше. Разве не загадка?
Будет ли эта закономерность наблюдаться постоянно, в прогрессии от малого к большому?
Бревно упадет на человека — он мертв. Соломинка упадет на муравья — он жив. Но есть в этом и что-то объективное: бревно может убить и человека и муравья. Означает ли это, что человек, по своему масштабу, в котором природа произвела его на свет, ближе к объективному, на ступень выше — к абсолюту?
12 мая
В этот день, 12 мая, умерла бабушка, мама моей мамы. Помню, как однажды утром, когда мы еще жили в Нанте, мама тихо сказала мне об этом за завтраком, пока я ел яйцо, и впервые расплакалась у меня на глазах…
21 мая
Отличная погода. Сильный ветер, сухость, а небо голубое, с ультрамариновой синевой. От вида этой синевы сразу что-то начинает уплывать из-под ног. Облака высокие, диковинной, почти геометрической формы. В парке постоянно, не умолкая ни на миг, шумит всё от ветра. Удивительно!
Писать не получается. Слово — серебро. Молчание — золото…
9 июня
Сегодня в парке весь день стоит шелест деревьев. Удивительный шум. Он наплывает волнами. Вокруг поднимается взволнованный шепот. А затем опять наступает тишина, слух тонет в ней, а дух замирает. Небо бледное. Облака словно размазанные.
10 июня
С утра теплый, но облачный и серый день. Ветер за ночь стих. Проснулся около пяти часов утра и не мог заснуть. Открыл окно и ахнул от увиденного. На востоке небо розовело, а на западе оставалось еще серым, с густой синевой. Вдалеке кричала кукушка. И повсюду — оглушительный щебет птиц. Свежесть в воздухе…
Думал о вчерашнем. Как так получилось, что такая страна, как Франция, сотворена таким народом? Загадка. Где-то в ней, в загадке, и ответ. Что, если большие идеи не всегда и не всех ведут к величию?
Ксенофобия живет, конечно, в каждом из нас, это разновидность ревности. А ревность почти всегда верный спутник комплекса неполноценности, который, если он есть, всегда пробивается наружу, в том или ином виде. Одни способны это в себе контролировать, другие — нет.
30 июня
Вчера и позавчера опять просматривал дневники Толстого, его автобиографию. И опять был потрясен. Особенно тем местом, где он рассказывает об одной из своих тетушек, которая под старость лет жила у него в Ясной Поляне. Однажды он отказался дать ей денег на сладости, которые она любила покупать — просто пожадничал, как сам в этом признается. И он пронес это в себе всю жизнь! Да и сказал об этом во всеуслышание!
Иногда всё же кажется, что он борется с мельницами, чрезмерное внимание уделяя чувству любви или нелюбви к себе. В конце концов, Толстого окружали люди не столь дурные, не самые худшие и не самые чуждые, как это бывает с другими, — по крайней мере, не враги. У других бывает гораздо больше причин испытывать чувство нелюбви к окружающим, и уж куда труднее перебарывать его в себе. Когда есть настоящие враги, когда есть настоящие материальные лишения, для этого приходится иногда жертвовать не частью себя, как это происходит в Ясной Поляне, а буквально всем…
В страдании нет ничего относительного. Все люди страдают одинаково тяжело. У страдания нет границ или степени.
Запала еще одна запись: Толстой говорит, что когда страдаешь и чувствуешь в себе злобу, ее нужно просто взять и заменить на любовь, и страдание мгновенно проходит. Метод поразительно прост и всегда срабатывает! Я уже попробовал — получается…
1 июля
Получил от Мари новую порцию книг, среди них зачем-то Набоков.
С него и начал. Вглядывался в эту «кунсткамеру» прямо-таки с упорством, но всё же не смог осилить и в конце концов бросил. Яркие краски, пестро, вкусно, иногда приторно — как жирный торт с кремом, но зачастую пошло. Он поразительным образом вытягивает на языке, но в определенный момент его захлебывающийся тон становится неприятен. Возникает такое чувство, словно тебя уговаривают не уходить из зрительного зала, посидеть еще немного, в награду обещая продемонстрировать новый, неслыханный трюк, который явится примером циркового мастерства.
Странное дело: последнее время я читаю как будто лишь затем, чтобы убедиться в очередной раз, что большинство знаменитых книг неинтересны и плохо написаны. Прекрасные уроки того, как нельзя писать, дает Флобер и даже Бунин, которого в Европе почти не знают. И у того, и у другого изумительный язык, а сюжетного смысла недостает. Именно по этой причине Толстой притягивает больше — содержанием. Но к сожалению, у меня почти нет его книг.
Отец интересовался Набоковым как феноменом. В молодости был даже знаком в Англии с сокурсником Набокова по Кембриджу, который рассказывал о нем много любопытного. Да и вообще, отец всю жизнь интересовался им, сильно его при этом недолюбливая. Его рознило с Набоковым что-то кровное.
Отец считал, что при всём своем презрении к массовой культуре, к шаблонам плебейской культуры и ко всякого рода «австрийским религиям»[6], Набоков пропитан вполне шаблонным индивидуализмом, в самом невысоком смысле слова, слишком верит в концепцию индивидуальной свободы, основанную на чисто западных, голо-материалистических доктринах «равенства» (перед законами, на страже которых стоит армия сытых чиновников-трутней, но не перед властью денег) и т. д. Отец даже говорил, что в ратовании Набокова за всё аристократическое проглядывало некоторое позерство, что он был пропитан филистерским духом и что до аристократии ему дела не было. Недаром же Набоков-старший служил Временному правительству и иже с ним, которое арестовало Николая II. Невозможно служить и вашим и нашим…
Мать категорически с этим не соглашалась. На выпады отца против Наб., иногда бурные, она отвечала следующим образом: он (Наб.) выводит вас из себя своей независимостью и тем, что он не такой ханжа, как вы все. На школьниц в белых носочках вы тоже таращитесь, только раскаиваться бежите к батюшке. У вас даже это организовано: после преступления следует наказание.
Я почти цитирую. Как странно, что помню эти слова матери едва не дословно. Это было в Нанте, уже после их развода. Отец только что купил новый «ситроен». Мы куда-то ехали все вместе, машина забарахлила, и они стали ссориться прямо посреди дороги — из-за Набокова! Причиной их стычек всегда была какая-нибудь ерунда.
Всё же непонятно, как удавалось Набокову с такой легкостью, под такие рукоплескания печатать свои первые опусы, ведь они были очень мелкими. Либо на безрыбье действительно и рак рыба, либо он просто подавлял всех, особенно соотечественников, своей приспособленностью к западной жизни, своей способностью быть независимым от эмигрантской среды и тем самым вызывал у них чувство неполноценности в сравнении с собой — своим Кембриджем, своей громкой фамилией, да и своей спортивной ловкостью в обращении со словом, которая в устах любого отдает врожденным, попросту говоря, нахальством. Ведь неслучайно люди больше доверяют на словах косноязычным.
Русских всегда отличала эта смесь внутренней «расовой» гордости за свое происхождение и одновременной неполноценности перед Европой — перед холодной, лощеной логикой европейца. Как в России любили превозносить Париж, его бульвары, совершенно слепыми оставаясь к пошлости, которая царила над всем этим, которая краше всего характеризовала саму эту «бульварную» эпоху. Это заметно особенно сегодня, когда, попадая в эти районы Парижа, вдруг понимаешь, что они воплощают в себе всё худшее, что может вобрать в себя этот город, а то и вообще вся нация. Страшное зрелище.
Но всё это старо как мир. В свое время, когда я ездил в Москву, меня это чрезвычайно поражало в людях. Никогда не мог списать эту черту русских на «советизацию» русского общества, на его люмпенизацию, произошедшую благодаря большевикам, падению страны и культуры в двадцатом веке. И как бы Фон Ломов сегодня ни расписывал, это более давнее и более глубокое явление. Мне оно всегда безумно претило…
5 июля
Пишу, сидя у себя в «палате». На улице с самого утра стоит жара. Дал себе слово вести записи ежедневно, но не получается. А необходимо. Ведь это единственный способ не потерять связь. С чем именно? С действительностью? С самим собой? Последнее время чувствую, что эта связь опять висит на волоске. Происходящая на бумаге отфильтровка скомканного конгломерата мыслей и чувств действительно помогает. Всё путаное, кашеобразное, утопающее в бесконечных полутонах и нюансах приобретает, какую ни есть, но всё же форму. Язык — как вязальный клубок. Стоит ухватить его за один конец, как он начинает разматываться. А если иногда и наступает немота, если иногда и хочется разорвать себя на части, то это происходит оттого, что в какой-то момент нить обрывается, потому что перестаешь доверять внутренней логике языка, присущей слову и запрятанной в нем наподобие невидимой и очень хрупкой структуры, которая не выносит даже малейшей тяжести. При малейшем нажиме на нее нарушается идиоматический строй мысли, без чего мысль становится непередаваемой, логика слова обрывается. Идиома — как кирпич, из которого вырастает кладка. При нарушении идиомы никакой кладки не получается или она выходит столь неровной, что выправить ее невозможно. Всегда обнаружится новое несовпадение, новое противоречие на другом конце, и так до бесконечности.
Язык тем и целебен, что «думает» за нас, тем, что живет своей независимой жизнью, благодаря чему словесная культура развивается по своим собственным, внутренним законам, которые преступают все наши представления о них; язык обладает поразительным иммунитетом против любой неотесанности и любой антикультуры…
Опять листал Набокова. То, что принято считать достижениями его виртуозного стиля, достигается, как ни странно, очень простым способом: он постоянно «одушевляет» предметы, используя близкий по словарю идиоматический эпитет, но никогда не лезет в мыслительные дебри, не запутывает образ ассоциативными усложнениями, предпочитая прибегать к простым, недалеко отстоящим от прямой семантики слова ассоциациям. Метод прост: чем искать ключ к замку, каждый раз к новому, лучше пользоваться отмычкой — экономия времени и средств. Это почти то же самое, что и бунинский подбор хорошего эпитета в концовке. С той разницей, что Набоков, будучи прежде всего стилистом, идет на поводу у языка, как бычок за телегой, а не на поводу у образа, как это удается Бунину. И тот и другой приходят, казалось бы, туда же, к одному результату. Но лишь в смысле удачной по своей простоте находки — не по сути.
В построении фразы Набоков отталкивается от слова как от ноты. От простой ассоциации он идет к сложному сочетанию чувств как к мелодии. Если ему не удается подобрать слова, то не удается выразить и чувства. Отсюда все те хлестаковские штучки в его ранних вещах: уж если он допускает промах, то, как правило, отменный, непростительный…
В этом смысле показателен пример Толстого. В построении фразы он всегда поступает наоборот: от сложного ощущения он идет к простому словесному обороту, поэтому чувства его героев всегда кажутся объемными, всегда содержат в себе какой-то удивительный потенциал.
Примечательно, что у многих русских писателей, особенно у тех, которые писали здесь, в Европе, да и вообще за границей, лучше всего получаются образы циничные. Диалоги циничные и хлесткие оказываются всегда более увлекательными и более утонченными. Стоит им, однако, заговорить о более нейтральных или более отвлеченных предметах — как же это выглядит уныло! Язык вдруг не находит адекватных средств, и таким авторам не остается ничего другого, кроме как отстреливаться от читателя короткими фразами. Но не ради экономии средств, что, казалось бы, естественно в их положении, не ради лаконизма, а словно из боязни проговориться и выболтать что-то важное.
Нет полифонии, нет унисона, нет третьего глаза. И большинство пишет, что называется, «спонтанно», куда кривая вывезет. Если попытаться проследить за текстом, то при всём желании было бы невозможно предугадать, что будет написано в следующем предложении. От этой рыхлости текста в ущербе оказывается пространство всего повествования. Оно кажется замкнутым, всё в нем звучит приглушенно, неразборчиво, и в результате не получается цельного объемного образа. Такое случается иногда в живописи, когда забываешь про край холста или выбираешь неправильный, непривычный формат…
10 июля
Вчера перед сном листал русскую Библию и вспоминал, как мама любила в детстве повторять русскую поговорку: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь…»
Идиоматическая речь, насыщенная устойчивыми словосочетаниями, — это и есть образная речь, она и пробуждает ассоциативное мышление. Любое устойчивое словосочетание потому и является устойчивым, что нам уже не раз приходилось его слышать. Соответственно каждое новое его появление в речи или в письме вызывает в нас внутренний рикошет, увеличивает глубину сказанного, т. е. фактически умножает богатство понимания. Хорошая идиоматическая речь — словно спелый помидор: если попытаться разрезать его тупым ножом, он обязательно залепит в глаза томатным соком.
Писатель-мастер владеет именно искусством обращения с идиомой. Сводится же это искусство, очень родственное обыкновенному чувству меры, к сочетанию идиом, к насаживанию их на «стержень» фразы и по мере этого к обогащению их новыми, свежими ассоциациями. Перенасыщенность ассоциаций приводит, впрочем, к плачевному результату. Но в этом и заключается главная трудность: чувство меры вырабатывается из чего-то очень личного, нажитого. Оно зиждется даже не на тщательном отборе необходимого и единственно верного из всего изобилия, из всех возможных вариантов, и их очень много, а на чем-то внутренне необходимом, на том, без чего обойтись невозможно. Лишним же оказывается всё то, в чем нет какой-то насущной необходимости. В этом смысле чувство меры — это разновидность аскетизма. Мера — это неизбежность.
Писать на неродном языке, не на языке матери, не только абсурдно, но и разрушительно для психики, какие бы овации ни гремели по сей день всем тем, кто умудрился преодолеть в себе этот нечеловеческий барьер, — Набокову, Конраду и многим другим. За Наб. и иже с ним следует признать одну великую заслугу: невозможность пользоваться родной речью помешала ему пить из нее кровь, чем грешило большинство его собратьев. Оказываясь на полном попечении у родного языка, большинство неизбежно становится соучастниками в групповом ограблении собственной языковой культуры, ее несметных залежей — под видом конечно же самоотверженного служения и культуре, и своей земле, и просто «геологии», чему-нибудь в этом роде. Всё это отнюдь не ново.
11 июля
Постоянно синее небо. Постоянно большие, кучевые облака. Каждый день бордовый, пылающий закат. И столько зелени вокруг! Чувствую себя легко, спокойно, как у Христа за пазухой.
30 июля
Снова пишу с большим перерывом. Всю ночь читал «Войну и мир». Окунулся с головой. Какое наслаждение! Какая Россия! Переселился бы в ту эпоху, не раздумывая, пожертвовав всем.
Для меня никогда не было, в сущности, большего наслаждения, чем чашка чаю, пачка английских сигарет и русская книга — всё вместе, разумеется.
Теперь понимаю, с чем у меня всю жизнь ассоциировался вкус сигареты на свежем воздухе, к которому примешивается запах леса, сырости, дождя. Это мне напоминает запах взрослых, кем и мне когда-то ужасно хотелось стать. Вот что такое детская память.
5 августа
Выдалась отменная ясная погода. Не жарко, но ветрено, небо ясное, а над головой всё те же неимоверных размеров кучевые облака, плывущие в неведомом направлении исполинскими айсбергами.
Читал Т. Манна, которого М. прислала осенью. Одно время забросил, и вот опять… Невыносимо тяжкое от него впечатление. Не могу осилить зараз больше трех-четырех страниц.
Большой формат и вообще большая форма в искусстве не могут не соответствовать содержанию. Невозможно вытянуть 300 или 400 страниц, а то и больше, на одной форме, на одном художественном приеме. Например, в «Войне и мире» соответствие между содержанием и формой присутствует безусловно, пропорция соблюдается во всем, и в ритме повествования, в переходах в различным подтемам, и в описаниях, и даже в диалогах, поэтому книга не кажется длинной, хотя куда, казалось бы, длиннее, чем любой томас-манновский гроссбух. Кстати, обратное несоответствие — преобладание содержания над формой — не лучший вариант.
Содержание, необходимость высказаться — всё это тоже может вылиться в чрезмерное нагромождение, не умещающееся даже в рамки большого формата. Такая громоздкость обычно свойственна переживаниям, воплощающим в себе опыт какой-нибудь бурной эпохи, благодаря чему на свет появляются спорные в художественном отношении книги. Наглядный пример — «Жизнь Арсеньева» Бунина. Но в то же время, при всей своей антихудожественности, эта книга является одной из лучших, которую я читал за последние годы. В чем секрет?
Нам трудно или попросту неприятно мириться с мыслью, что существуют вещи, которые искусству не по силам. Например, задача, стоявшая перед Буниным в «Жизни Арсеньева», была ему явно не по плечу. Если Бунину удалось выйти из положения, то лишь благодаря какому-то уникальному умению преодолевать себя, благодаря очень редкому, а возможно, даже случайно возникшему унисону между его конкретной жизнью и всей той эпохой, о которой он говорит, ведь на одном таланте в таких ситуациях невозможно выехать. Речь здесь идет, в сущности, о старом, почти сословном разногласии, извечно отравляющем отношения между художником и обществом. Ведь даже если общество готово отвести художнику заслуженное место, оно отказывается верить в его независимость и всесилие, постоянно унижает его требованиями предъявлять какие-то доказательства, свидетельствующие о наличии у него нужных полномочий, способностей. Но и художник не спешит расставаться со своими привилегиями. Вседозволенность, особые полномочия и неограниченные права ему приходятся по душе, как и всякому другому.
Любой художник, даже средний, при условии, что он не шарлатан и не халтурщик, достоин преклонения уже потому, что сделанный им жизненный выбор — решение посвятить жизнь искусству и фактически прожечь ее — неимоверно тяжел и при наличии здравого смысла требует настоящего мужества…
Читал письма Т. Манна Г. Манну. Не так занятно, как флоберовские, но поразительно, какие схожие у всех судьбы. А этот отрыв от «возрождения» на родине! «Зачем им мой доклад, они бы предпочли мой ужин…» — сказал кто-то из них, кто — не помню. Так и есть. Всё очень похоже. Не вините мира, невинен сей мертвец…
6 августа
Вчера перед сном читал записки Феофана Затворника. Он советует не сокрушаться по поводу того, что с людьми далекими от Бога — вроде таких, как я? — не получается «нормальных» отношений, какие хотелось бы с ними иметь. Он считает, что такие неудачи следует принимать спокойно и не чувствовать себя виноватым в непонимании или в отсутствии должного человеческого контакта. С кем в таком случае может быть «контакт» у меня, когда вокруг нет ни души не просто сколько-нибудь приближенной к Богу, а вообще к этим вопросам?
Когда сегодня за обедом случайно зашел разговор на эту тему, я почувствовал себя нелепо и заметил, что все тяготятся этой темой… У того же Феофана Затворника есть строки о том, что в частном порядке можно молиться об иноверцах у себя дома, но что церковь не считает себя призванной это делать, т. к. у иноверцев есть «свои просители». Когда я пытаюсь перенести это правило на свою жизнь, что-то пугает в этой строгости. Слишком жесткая постановка вопроса. Я никогда бы не мог следовать этому правилу.
Снова перечитывал Бунина, и у меня было чувство, что в нем нет ничего столь восхитительного, как мне казалось раньше. Всё держится на одних интонациях, на чувственном, в чем он, конечно, непревзойденный мастер, — на тех интонациях, которые я, например, всегда считал необходимым выбрасывать из своих записей, потому что они мне мешают при последующем прочтении, придают смыслу что-то туманное. При этом письмо Бунина всё же сложное, фактурное. Редактировать свои вещи ему было, скорее всего, трудно, и на это уходили, видимо, годы.
Он перестал мне нравиться, как ни странно, после одной фотографии Г. Кузнецовой, на которой она выглядит заурядной русской барышней, лицо которой несет на себе черты легкого гормонального расстройства. Узрев Бунина столь неразборчивым, и даже несмотря на понимание, что это не лишает его права оставаться эстетом, я вдруг сразу получил какой-то негативный толчок, пережил эстетическое отталкивание, которое подействовало на меня… как действует иногда дурной запах — через что-то очень внутреннее, подсознательное. Всё остальное — странное сожительство втроем, поэтизация этого неясного тройственного союза под эгидой не то эмигрантской, не то творческой солидарности, — всё это делает для меня Бунина сибаритом, в том самом смысле, в котором Феофан Затворник приравнивает это слово к магометанству.
Вся эта история не в его пользу и наносит большой ущерб восприятию его наследия. А уж дневники Кузнецовой, которые вылизаны как эмалированная кастрюля, с оглядкой конечно же на чистоплотность и строгость хорошей домохозяйки (она полагала, что это граничит с изысканной стройностью античного стиля), и в которых нет ни слова личного, главного и ни одной, за редким исключением, серьезной мысли, — заставили меня смотреть на прозу Бунина чуть ли не предвзятым взглядом, подозревая его в том же — в отсутствии содержания. Увы…
Всё молодеческое, залихватское у него получается действительно очень ярко, как ни у кого, и пробирает своей реалистичностью до косточек. А всё то, что претендует на глубину, выглядит настолько жалко, что начинаешь жалеть его самого как заблудшего и даже в чем-то ограниченного человека, из тех, кто получил настоящий дар от природы и не совсем понимает, что с ним делать. Вот и машет им над головой, как каким-то боевым штандартом… Я знавал таких, и не одного.
А впрочем, я опять безжалостен — и к нему, и к Г. Кузнецовой. Истина, наверное, не терпит такой категоричности. Она всегда мягче, утонченнее — и даже у меня в душе. Но как всё же неприятно разочаровываться.
7 августа
Проснулся и думал вот о чем: почему язык сам по себе, вне идиомы и словосочетания — пустой звук? Не этим ли объясняется «устаревание» книг? Иногда случается, что книги стареют не по смыслу, а как бы просто теряют сочность, внешний вид, становятся тусклыми, что ли, полупонятными. В примеры годится даже Пушкин. Его проза поразительно хорошо сохранилась, ведь ее язык совсем не устарел, но кто будет сегодня читать его прозаические произведения с какой-нибудь иной целью, чем просто проверить, всё ли в этой кладовке на месте, не утащили ли из нее еще чего-нибудь?
Как относиться к Библии, к ее языку? Были ли тексты Библии написаны идиоматическим языком? Как объяснить тот факт, что смысл этих текстов остается нам доступен по сей день? Почему их смысл не вырождается, не «тускнеет», как это обычно происходит? Дело, конечно, не только в содержании, но и в технике письма. Не объясняется ли это тем, что в библейских текстах изначально не было никакой идиомы — одни «чистые» наименования вещей, благодаря чему семантика, даже пройдя через века, сохранила для нас свое первоначальное значение? По-другому этого не объяснишь. Однако «чистое наименование» едва ли достижимо через слово. Кроме того, если подходить к этой проблеме сугубо лингвистически, то покажется маловероятным, что после такого количества переводов до нас могло что-нибудь дойти в чистом виде.
Как бы то ни было, вопрос остается открытым: не истолковываем ли мы на свой лад библейские тексты? Вот пример из откровения Иоанна Богослова: «И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем…»
Что значит слово «книжка»? Невозможно поверить, что для передачи образа автор этих строк мог сознательно прибегать к такой символике, по меньшей мере неточной. То, что язык Библии или, по крайней мере, наше толкование ее текстов изменились за века, в том числе из-за переводов, — это неоспоримый факт. Вместе с тем столь же очевидным кажется и то, что главное в ней сохранилось. Каким образом — уму непостижимо…
8 августа
Сидел вчера допоздна перед телевизором, смотрел всё подряд, до одури, до изнеможения. Как бездарно, как глупо, но невозможно оторвать глаз. Со мной часто так случается: когда что-то вызывает во мне отвращение, я не могу оторвать взгляд, продолжаю смотреть. В уродстве есть нечто притягательное. Оно словно гипнотизирует — по-видимому, своей наглой силой, выражающейся в той слепой непосредственности, с которой оно прет напролом, сметая на своем пути все преграды.
Какое жуткое воздействие может оказывать посредственно сработанное произведение искусства. В том ведь и сила образа, что, независимо от того, несет он в себе признаки совершенства или, наоборот, уродства и убогости, он всё равно оказывает на нас воздействие. Если образом орудует бездарность, то это неизбежно подрывает естественную, коренящуюся в каждом из нас веру в абсолютность красоты, в присущую красоте природную логику, чувство которой вложено в нас с рождения, поскольку сами мы тоже являемся образом. И, соответственно, это подрывает в нас веру в собственную оригинальность, отбивает потребность в самовыражении, а натуры чувствительные это может приводить даже в беспросветное отчаяние — мне не раз приходилось это наблюдать. В той же мере отвратительно искусство, паразитирующее на плоском и тривиальном под предлогом того, что негативные или пошлые стороны жизни, являющиеся ее неотъемлемой частью, в равной мере заслуживают отображения, хотя бы ради того, чтобы реальность была отражена без всяких прикрас. Всё это, конечно, маскарад, в которую рядится бездарность. Банальными могут быть только формы проявления жизни, да и то лишь в наших представлениях, чем-то успев нам приесться, но не само содержание жизни…
Искусство, спекулирующее на общих для всех культурных атрибутах, на очевидном, — это камуфляж, необходимый всему бездарному, чтобы скрыть от чужих глаз свое врожденное убожество. Всё очевидно лишь в меру грубого обобщения, с точки зрения толпы. Толпа же еще никого и ни от чего не спасала, кроме как от последствий всех тех мимолетных людских слабостей, которые в соединении между собой способны превращаться в адскую разрушительную силу…
10 августа
Всё утро провел за рисованием, но бросил. Не хватает пороха. Нервная система в смятенном состоянии. Остро чувствую, что мне недостает чувства меры…
В живописи важны следующие моменты: чувство рока, внутреннее напряжение и особенно чистота стиля, языка. Последнее в этом перечне удивило бы наверное многих, ведь нас приучили к тому, что пред-условием творчества является состояние полной раскрепощенности, определенная внутренняя вседозволенность. Но, увы! Свободой нужно уметь пользоваться. Под ее прикрытием можно наплести чего угодно. Если так, чистота языка подразумевает под собой не только вкус и какой-то минимум умственного развития, но и способность к самоограничению. Некоторая нехватка этой чистоты, конечно, будет простительной для того, кто не является халтурщиком и честно берется за дело. Образом, даже абстрактным, управляют железные внутренние законы, и если он не содержит в себе заведомого обмана или трюкачества, рассчитанного на неофита, то он сам всё расставит по своим местам, в образ заложена феноменальная способность к самоорганизации.
Довольно точное замечание по поводу искусства сделал физик Мандельброт (его бестселлер я проглотил на днях одним залпом). Он говорит, что картина, да и вообще любое произведение искусства должно соблазнять на всех ступеньках лестницы, потому что на всех своих уровнях произведение искусства содержит в равной степени важные и необходимые элементы. Если хотя бы на одном из уровней чего-либо недостает, то нет и произведения искусства. Вязка не держится. Петли тут же распускаются.
Мне почему-то всегда нравились вбитые как попало гвоздики на ребре подрамника. Если они были вбиты, например, симметрично, с равными интервалами, во мне что-то угасало, я не мог закончить холст, бросал его. Ровно вбитые гвоздики меня угнетали…
позднее
Все разговоры о свободе — чистое недоразумение. Нет человека вне себе подобных. Мир — это круговая порука не зла, а добра, это зависимость друг от друга. И в другом виде он был бы лишен всякого смысла. Хотя бы потому, что все мы живем одну и ту же драму: мы живы, не удовлетворены нашей жизнью и должны однажды умереть неудовлетворенными…
Ждать от искусства, что оно удовлетворит наши утилитарные запросы, бессмысленно. Когда оно приносит материальную «пользу», это самый верный признак подлога или вырождения. Искусство не способно служить ничему другому, кроме как себе самому. Как бы ни было трудно это признать, это так. Ему нет дела до целей, которые мы перед собой ставим. Ему чужды наши верования. Оно не разделяет наших надежд. В нем есть нечто не от мира сего, некая самодостаточность, в которую можно вникнуть лишь мельком, путем очень большого отстранения. И уж во всяком случае, оно не нуждается ни в какой причинно-следственной логике, ни в наших соображениях по этому поводу.
Это меня всегда и отталкивало. Искусство не отвечало моим максимальным требованиям к нему, моей «регрессии в бесконечность». Оно не хотело взять меня с собой в эту бесконечность, оно бросало меня на произвол судьбы…
11 августа
До завтрака вышел прогуляться, сидел на скамье, в птичьем щебете и вдруг с небывалой остротой испытал старое, очень знакомое, но каждый раз всё же словно осеняющее, откуда-то изнутри, состояние отъединения от действительности, чувство освобождения от себя самого, которое непременно сопутствует банальному пониманию жизни как данности, пониманию того, что она навязана нам свыше, не является результатом тех или иных эдиктов с нашей стороны и даже не принадлежит нам.
Судьба — суть непреложное. И совершенно бессмысленное занятие — пытаться найти ей подмену, этакое более подходящее. Именно в ее рамках, уже заданных, следует находить необходимое для существования внутреннего пространства, а не пытаться вырваться из него, занять какое-нибудь другое. Ведь никому не придет в голову спрыгнуть на лету из самолета только потому, что в нем тесно, душно или потому что был сделан какой-либо просчет в выборе направления полета…
12 августа
Ясный, немного осенний день. Ветрено. В парке отовсюду доносится скрип, шум. Всё в движении. По яркому темно-синему небу плывут высокие, четко обрисованные облака, похожие на кучи ваты. Удивительное зрелище!
Вчера вечером открыл «Братьев Карамазовых» и был удивлен. Какие периоды! Как он водит за нос! В современной литературе и отдаленно нет ничего похожего. Не могу понять, что именно в повествовательной ткани Достоевского вызывает столь субтильное ощущение шершавости, фактуры. Дело, конечно, не в шероховатостях стиля, а в его особой манере развивать мысль или, может быть, в богатом, очень разнообразном синтаксисе.
По синтаксису, кстати, сразу понятно, чего автор добивается, на какую реакцию со стороны читателя он рассчитывает. Следя за синтаксисом Достоевского, я, например, мгновенно понимаю, что никакой он не «игрок», не «факир», не «волшебник» (по примеру Набокова, который любил выдавать себя за «мага», допуская тем самым серьезный промах во вкусе). Чувствуется, что ему не до шуток, что для него всё слишком серьезно. Видимо, это и захватывает — личность автора, а не то, о чем он пытается рассказать. Но примечательно и другое, то, что его повествование не успевает за мыслью — это характерно для всякого врожденного рассказчика. Я уверен, что он не успел сказать очень многого. Вот это и было бы самое интересное и самое захватывающее. Но так и все мы…
вечером
Совесть — вот он один из признаков таланта. Дается она каждому сообразно духовным и даже физическим возможностям. У людей неталантливых этот орган, как правило, недоразвит.
15 августа
В дневниках Толстого сегодня наткнулся на три неприятных места за 1904 или 1905 год.
Первое, где он перечисляет свои пороки и, в частности, говорит о том, что быть «хорошим учителем» — вовсе не означает уметь воплощать свои идеи в жизнь. Бывает, мол, что человек в этом беспомощен, но это не лишает его звания учителя, всему, мол, свое место. Но я перефразирую. Здесь же Толстой говорит буквально следующее: чего, мол, кривить душой, учитель я что надо, первый класс!.. Мне было неловко это читать.
Второй неприятный кусок — там, где он говорит о своей поездке к знакомому, кажется, к соседу по усадьбе. Тот сделал ему упрек в том, что сам он не следует до конца тем принципам, которые провозглашает во всеуслышание: говорите вы, мол, одно, а делаете другое. Вы утверждаете, что человек на землю прав не имеет, а сами продолжаете землю скупать… И каков ответ Толстого? Как, дескать, люди злы и как они не понимают его! Дескать, не нужно сетовать на их черствость и недоумие. Самое главное — помнить о «серьезности жизни», а в остальном Бог рассудит — Бог, а не люди. Ибо жизнь не для них, а для Бога!
Мне показалось, что Л. Н., несмотря на свои выпады против церковного ханжества, сам скатился до сомнительной аргументации, наподобие той, к которой прибегают люди, в вере в Бога находящие оправдание своему пуританству, а иногда и личному комфорту, ведь эти выгоды запросто можно извлекать из своей принадлежности к какой-нибудь хорошо сплоченной или обеспеченной пастве. Прикрываясь «верой», необязательно фальшивой, можно становиться и чистоплюем, и сибаритом. Для Бога ли жизнь — вот в чем вопрос. По-моему, для людей прежде всего. Можно было бы, конечно, добавить, что в этом и исполнение воли Божьей, что ради Него всё это и делается. Но, во-первых, хочется быть более категоричным: в таких вещах нужно уметь принимать твердые решения. А во-вторых, доказать это совершенно невозможно, здесь всё нужно принимать на слово.
Третье озадачившее меня место — там, где, датируя запись 2-м января 1895 г., Толстой позволяет себе несколько слов о неких посетителях, которые наконец разъехались по домам: «гости свалили» (звучит совсем современно…), и мне, дескать, хорошо. Пахнуло чем-то старческим, мелочным, сытым! Я даже опешил… А как неприятны его попытки подсластить образ Софьи Андреевны, вечную тему их инфернальных отношений и его постоянные оглядки через спину: укладывается ли то, что он пишет в дневниках, в рамки его посмертной славы? Но, чтобы быть до конца справедливым, нужно, наверное, попытаться представить себя и на месте этой несчастной женщины.
Часто спрашиваю себя: не связано ли «отступничество» Л. Н. и вся его благочестивость, на которую он так упорно претендовал в старости, просто с возрастным циклом, с его преклонным возрастом, пришедшими на смену бурной молодости (он не скрывал, что она была бурной)? Как легко бы всё объяснялось. Но даже думать об этом не хочется. То, что многому в наших «высоких» помыслах можно найти вполне земное объяснение плотского и временного характера, — это та горькая, как полынь, правда, от которой в юности не хочется жить.
Как же мы любим абсолютизировать все наши возрастные и якобы кровно нам свойственные «не могу» или «не хочу». А делаем мы это исключительно для того, чтобы весь этот жизненный нарост имел более удобоваримый вид, чтобы нам и впредь легко было подчиняться низменно прихотливым потребностям нашей жизни, но в то же время не считать себя в душе скотами, жизнь которых находится в полной зависимости от работы пищеварительного тракта и от удовлетворения похоти…
Странно бывает наблюдать, как предвзято судят о многих вещах толковые писатели под старость лет. Но еще чаще это случается, когда речь заходит об их собратьях по перу. Ни с того ни с сего вдруг начинается умопомрачительный балаган: одни берутся всех учить, налево и направо раздавая такие смелые рекомендации — тем, кто помоложе, — о которых сами в свое время и слышать бы не захотели. Другие открещиваются от своего прошлого и от молодости. Третьи же сыто помалкивают. У каждого возраста свой кодекс прописных истин, и между ними частенько бездонная пропасть.
16 августа
Для кого нужно жить, для Бога или для человека? Вопрос, конечно, абсурдный. В нем есть что-то праздное и чуть ли не бессовестное. Но Толстой его задает себе. Что удивительно: если задуматься, если всё же пытаться найти ответ на этот вопрос, то он буквально застревает в мозговых сосудах как тромб.
Что касается меня, то всё, что бы я ни пытался на это ответить, кажется мне натянутым, подогнанным или, по крайней мере, не испробованным до конца на собственной шкуре. Сердце, конечно, долго не раздумывает в таких случаях. Оно без промедления говорит, что жить следует для человека. Что это было бы за божество, если поклонение ему заставляло бы нас бежать сломя голову от людей, даже если стремление избавиться от их порочного, часто действительно безысходного мира кажется нам предусловием личного очищения, без которого ни один смертный не способен совершить для другого чего-либо достойного, похвального. Вместе с тем что может быть более иллюзорным, чем крикливый тезис — жить для человека? Ведь очевидно, что по большому счету невозможно дать ему того, что он ждет от жизни и вообще от мира. Наоборот получается, кстати, то же самое: никто никогда не даст тебе того, что ты ждешь от жизни, так или иначе никто никогда не оправдает твоих надежд, потому что это никому не по силам.
Во мне хватает совести сказать себе, что жить следует так, как диктует сердце, а не здравый смысл, т. е. для человека, а не для абстрактной субстанции, как бы она ни называлась, и что именно таким образом можно быть кому-то, на небесах, угодным, когда всё уже отгремит с этой стороны. Это подразумевает под собой жертвенность и требует принятия твердого решения — одних разговоров здесь мало.
Но, видимо, это и есть неверие — полагаться на себя в решении столь важной проблемы, от которой зависит всё существование, при этом забывая, что сам подчас не способен решить даже мельчайших насущных вопросов своей повседневной жизни. Как бы то ни было, когда речь идет о вещах такой значимости, лучше быть максималистом, чем здравомыслящим. Такой подход будет, может быть, не всегда до конца правильным, но более честным и на длительном временном протяжении проявит себя как более последовательный…
поздно вечером
Не оттого ли мы не верим в Бога, что слишком поглощены друг другом, слишком воплощаем друг для друга иллюзию, что обойтись в жизни можно человеческими величинами, заключающимися в общении, в присутствии, в обмене материальными благами или даже в хороших, благородных чувствах друг к другу — т. е. во всем, что временно. Стоит представить себя на миг в полнейшем одиночестве — есть только мы и звездное пространство над нами! — как становится очевидно, что не поверить в Него просто невозможно.
17 августа
Вряд ли можно сомневаться в том, что искусство лишено настоящей первичной метафизики, которая свойственна, например, процессу мышления. Этот изъян, очень характерный для искусства, естественным образом вытекает из его вторичности. В искусстве всё опосредовано стереотипами. При попытке избавиться от них, заменить их чем-либо более сущностным, более исходным, изначальным, язык искусства деревенеет, а создаваемые им образы становятся мутноватыми, они теряют резкость. Без устоявшегося стереотипа нет искусства — вот прописная истина, с которой, как ни странно, все считают за честь бороться всеми правдами и неправдами. А стереотип — это клише, трафарет.
По этой причине художник, который однажды открыл глаза (или, я допускаю, соприкоснулся в своем творчестве с чем-то по-настоящему совершенным), не может не поставить точку. Он не может пройти вслепую мимо той очевидной констатации, что всё лучшее совершено до него и что высшая форма творчества — это не воспроизведение, не имитация, а, в конце концов созерцание. Открыв что-нибудь «настоящее», мы, в сущности, открываем для себя Бога. Становясь в этот момент свидетелями Его творения, мы сосредоточиваемся не на чувстве присутствия Бога в нас (в этом и заключается смысл любого творческого момента), а на чувстве своей «тварности», на всём том, что отличает тварь от Творца. Иначе говоря, художник, однажды приоткрывший занавес, который закрывает от наших глаз совершенный мир, вынужден вернуться к исходному — к неспособности отобразить глубину своих чувств доступными ему средствами. С той разницей, что он не сможет испытывать, весьма вероятно, той благодати, которая бывает знакома человеку, не искусившему себя изобразительным творчеством. Отчасти поэтому к людям творческим я всегда испытывал смешанные чувства — восхищение, настороженность и жалость. По той же причине и остерегался настоящего творчества как огня. Боялся остаться у разбитого корыта, что является, видимо, неизбежным итогом любого творческого акта.
Можно спросить себя, не проще ли было обойтись без этого «воспроизведения» и «имитации». Через них приближая нас к Себе, давая нам понять, что мы такие же и сотворены, предположим, по Его образу и подобию, Он тем самым лишает нас непосредственного отношениях к вещам, и мир, сотворенный Им для нас, на каждом шагу превращается в загадку сфинкса, становится сложным для нас, вплоть до бессмысленности…
вечером
Настоящее искусство помогает верить в свою неповторимость, в смысл жизни и даже в необходимость ее завершения.
Бездарное вырабатывает в душе ложный иммунитет, делает не закаленным, а толстошкурым, вызывает в организме всеядие, нагоняет внутреннюю усталость, внушает безразличие к людским порокам, чувство никчемности жизни и вообще ощущение бренности, но примитивное, далекое от философского.
Познав красивое, даже вроде бы и умереть не страшно. А вот сгинуть, не увидев ничего стоящего, да еще и понимая это, — воистину нет ничего ужаснее.
19 августа, вечером
Изнурительно и страшно для души не неверие, а вера во что-то такое, в чем постоянно сомневаешься. И вот это двоение в мозгах к тому же оказывается благотворным! Каким образом — это уже совсем непостижимо!
21 августа
Дни проходят в мгновение ока. Читаю газеты, просматриваю объявления… В первых записях этого блокнота какая-то фальшь, не могу с точностью уловить, в чем она, но неприятное чувство какого-то самообмана.
22 августа
Мне переслали письмо от Фон Ломова, отправленное им из Москвы. Он в своем духе, но вроде бы протрезвел. Уверен, что он скоро вернется восвояси…
И всё же непонятно, что случилось с нами, со всем миром за эти годы? Чем объяснить переворот, который происходит и там, в Москве, и здесь? России в некотором смысле даже проще — ей некуда деваться.
Всё, что там происходит, можно объяснить, в конце концов, нежеланием русских или невозможностью оставаться в стороне, перетаптываясь с ноги на ноги на обочине мировой истории. Стоит счистить с советской культуры налет свойственного ей лживого пуританизма, за которым лично мне всегда виделась демоническая смесь подлого — но это можно откопать в ком угодно — и в то же время подлинного, жизненного, как эта культура перестает казаться уродливой и бесчеловечной.
Наши взаимоотношения были испорчены из-за продолжительной нехватки свежего воздуха в том тесном жизненном пространстве, которое нам приходилось делить между собой в страхе, что его не хватит на всех. Страшно было от самого страха. Стоило же глотнуть кислорода, и в мозгах просветлело, всё стало видеться в других тонах. Сегодня даже закрадывается сомнение: был ли воздух тогда действительно отравлен? В то время меня всегда преследовало чувство, что степень отравленности воздуха преувеличивали, и здесь, и там. Это было общим неврозом. А может, и наркозом. Неверие в свою действительность было самым страшным явлением московской жизни тех лет. Люди жили как во сне, годами дожидаясь пробуждения, но просыпаться было некуда.
А впрочем, чему удивляться? Ничто на свете не может существовать в отрыве от целого, даже если это целое изобличает в себе отсутствие смысла, а отторгнутая от него часть кажется более насыщенной смыслом, чем всё целое. Воля народа тут ни при чем. Существует закон, согласно которому тела, находящиеся в пространстве, стремятся к сближению и слиянию своей массы. Но если эти массы слишком велики, то, сливаясь в целое, они могут создавать такое притяжение, что из их недр уже не может вырваться даже луч света — как из черных дыр.
Так и с культурами… Россия, как провинившаяся, идет с повинной, чтобы примкнуть к ораве победителей. Выглядит это лживо, неправдоподобно, да и как-то нелепо. Но тот, у кого хватает мужества, забыв об обидах, идти на мировую — с чистым сердцем или пересиливая себя, это уже не так важно, — выглядит всё равно куда более достойно, чем те, кто выдержал характер. А может быть, это просто благороднее.
23 августа
Потеря чувства государственности — вот главная беда теперешних правителей России. Они не знают, что могут и чего не могут. Потеряно чувство меры. В прежнюю эпоху чувство «государственности» в этой стране сохранялось несмотря ни на что — добытое кровью во 2-й мировой войне, из которой нация вышла с огромными потерями, с ужасным для властей предержащих опытом самостоятельности, но всё же единой, ибо знала, куда идет, зачем просыпается по утрам. Сегодня же все более или менее честные русские люди вынуждены жить так, как в период между двумя мировыми войнами жило в Европе «потерянное» поколение. Честный человек не в состоянии вмешаться в ход дел. Это означало бы для него пачкать руки. И воистину горы грязи и нечистот предстоит выгрести из этой страны, прежде чем она примет нормальный облик, дающий ей право называться «государством»…
24 августа
Издавна понимая свою чуждость Европе и ее менталитету, я всё же врос в нее корнями и оттого постоянно жил с внутренним антагонизмом. В молодости меня притягивало всё англосаксонское — из-за отца, да и благодаря тем двум годинам, которые провел когда-то в Англии, кстати, ничего в ней не поняв. Впоследствии старался нагнать упущенное, и нет ничего удивительного в том, что это быстро мне опротивело…
Что характерно для нас на Западе — так это наше состояние какой-то возрастной апатии. Все мы знаем о «закате» Европы, никого из нас этим не удивишь. Но все мы корчим в ответ унылую гримасу и отмахиваемся со словами: Да! Европа стара. Да! она дрыхнет сладким, послеобеденным сном. Но это всем давно известно — что с этого?! Зато посмотрите, какие у нас дороги! Какая у нас автомобильная промышленность! Какой у нас уровень жизни! Только на налоговые сборы с наших доходов мы можем содержать армию безработных, не заставляя человека трудиться, если он этого не хочет, можем оберегать большую часть планеты от кровопролитных междоусобиц, можем выдавать кредиты, заранее зная: нам их не вернут… Когда невозможно разрешить фундаментальные проблемы и изменить сам ход истории, разве, мол, не уместнее повременить с решениями вообще? Разве не лучше посвятить себя заботе о повседневном, о насущном? Небо, трава, земля — всё это по-прежнему вокруг нас. Вот мы и возводим эти первичные ценности в главный смысл существования. Это может быть и не лучшее, но лучшего всё равно пока никто не придумал. Чего же вы тогда от нас хотите?!
Это и есть закат… Восток, любуясь безднами небес, свежестью травы, красотой земли, мощью океана — путем созерцания решает для себя глобальные вопросы. Мы же предаемся созерцанию для отвода глаз, чтобы забыться, чтобы не ломать себе голову над проклятыми вопросами жизни и смерти, на которые у нас нет ответов. Форма нашей жизни в данном случае целиком сливается с содержанием.
25 августа
В информационном потоке, который обрушивается на наши головы — из-за феноменального развития средств связи, — нетрудно выявить отработанный метод. Точнее, два кардинально отличающихся метода, но цели ставящие перед собой совершенно одинаковые.
Первый, довольно заезженный, рассчитанный на неофита или простофилю — кормить его изо дня в день жидкой кашицей из банальных новостей. Убаюкать человека — и он начинает думать, что всё в мире так же сладко и беспробудно, как и в нем самом, или настолько монотонно, тяжеловесно, что было бы бессмысленно пытаться что-то изменить. К этому методу обычно прибегает деградировавший престарелый тоталитаризм.
Второй более новый и куда более коварный. Заключается он в отбивании у несведущего человека самого желания вдумываться в суть происходящего. Для этого необходимо не просто его дезинформировать, не просто сбивать с панталыку — это лишь разрыхлит его психику, но не сломит, — но и сливать на него как можно более противоречивую информацию всех сортов, всех оттенков, по всей шкале спектра. Под предлогом, разумеется, освещения событий со всевозможных точек зрения — ради объективности… В чем-то отдаленно этот подход соприкасается с традицией англосаксонского журнализма подавать материал с максимальной нейтральностью. Но в данном случае нейтралитет, разумеется, — предлог. Оболванивание начинается как раз с этой демагогии.
Вот только, спрашивается, кто придумал всё это? Ради какой цели?
Всё просто. Нахватавшись определенных навыков, человек подчас даже не сознает, что он, как машина, однажды запущенная с конкретной целью (эта цель — властвовать над умами), выполняет заведомо целенаправленную функцию, часто вопреки своим интересам, часто этого даже не понимая. А за всем этим может стоять обыкновенный толчок, импульс зла, в самом однозначном и примитивном варианте. Сам условный «злоумышленник», может быть, уже давно на том свете, но деяния его передаются как бы рикошетом, цепная реакция продолжается — вот как у Толстого в «Фальшивом купоне», где так наглядно описана круговая порука зла…
Каков может быть адекватный ответ на всё это? Конечно, в обращении к субъективному. С условием, что в человека заложена пусть не вера в какой-то высший мир, но хотя бы стремление к истине и совершенству. Да и лучше ошибаться в одиночку, чем всей толпой, — последствия не такие страшные…
И всё же в каком непостижимом мире мы живем! Всё прожевано. А мы даже не замечаем, что наши внутренности привыкли переваривать одну манную кашу!
Волки тем временем спокойно разделываются со своей добычей, рвут ее на части, купаются в крови. Их желудки переваривают всё — даже кости…
позднее
Праздно всё это, но почему-то думал о написанном в обед целый день, с каким-то упорством. Всю первую половину дня проторчал сидя в шезлонге, ловил ворон в небе. От этого и лезет в голову несусветная муть…
И всё-таки если всё так, как я тут изложил, то каким образом, спрашивается, избавиться от оболванивания? Ставить под вопрос получаемую информацию бессмысленно. Это будет наивернейшим способом оказаться в какой-то момент жертвой манипуляции.
Я вдруг подумал вот о чем. А что, если применять такое противоядие: преднамеренно верить всему, что слышишь? Любую информацию принимать за истинную. В конце концов, истина — это не черное или белое. Она есть максимальная совокупность всего, даже того, чего не было, но могло бы быть при определенном стечении обстоятельств. Если та или иная идея могла прийти кому-то голову, то, стало быть, всё это могло реально существовать — при определенных условиях, — и поэтому является составной частью истины. Истина — это предел, абсолют, дальше которого нет ничего, нет ничего допустимого. А поэтому чтобы постичь истину, необходимо верить всей информации, во всей ее совокупности, и даже ложной, отказавшись от выборочности…
Я попробовал воплотить слово в дело. И тут же пришел к поразительным результатам! Стоит попробовать, как тут же начинаешь по-новому, полнее, да и спокойнее относиться ко многому. Во всяком случае, прежнее чувство жгучего недоумения, страх быть одураченным, обычно вызывающие во мне столько судорожных эмоций и фрустрации, мгновенно отхлынули, уступили место обыкновенной трезвости. Но, может быть, это и есть смирение, его разновидность?
26 августа
Не раз уже делал такое наблюдение: если попробовать смоделировать русского человека в единичном собирательном образе, то так и напрашивается вопрос: а способен ли он вообще любить без чувства вины — вины перед тем, кого он любит? Какое необъятное поле деятельности перед тем, кто желает покопаться в этих загадках… Ну разве нет?
Как только чувство вины иссякает, выпаривается, тут же притупляется и чувство любви, с удивительной последовательностью. Отсюда и эти диковинные, по сути своей, столько раз воспетые черты русского характера, подчас не укладывающиеся ни в какие рамки, — смесь настоящих добродетелей с откровенным беспутством. И это — чистая правда, что бы ни говорили. Сам я наблюдал это у большинства своих знакомых.
Не в этом ли ключе анатомировал соотечественников и Достоевский? И разве не за это я его не возлюбил в свое время? Мне хотелось кристальной ясности, прозрачности! А не бесконечной мути, преступлений и наказаний… И разве не эта черта, в истоке своем, привела к развалу? Высшие классы России, представлявшие собой отстой, иногда помесь европейской культуры, этим духом пропитаны не были. Они не всегда понимали, что происходит на дне сознания простого человека. В критическую минуту это и обернулось для них геенной огненной…
Что, собственно, Достоевский описывал? В какой-то момент совершенно нормальный и уравновешенный субъект вдруг откалывает нечто умопомрачительное. И делает это явно не потому, что подлец или выродок. У него сверхзадача, часто подсознательная: совершить проступок, заставляющий осознать свое грехопадение. Чтобы затем искупать свои грехи. Чтобы было в чем каяться. Человеку вдруг необходимо напортачить, да так, чтобы уже не возникало никаких сомнений в совершенном грехе.
Зачем? Чтобы вернуться в состояние вины перед ближним? Особенно перед тем, чье мнение и чувства особенно дороги?.. Вот здесь — темный лес. Разгадка этого ребуса была бы очень познавательной… Пока же очевидно лишь то, что без вины и раскаяния вся система ценностей такого индивидуума просто разваливается на куски.
Но не стоит обольщаться: такое можно встретить не только в России, хотя и в более разжиженном виде.
Если это способ самосовершенствования, то довольно изощренный. Ведь вывести отсюда можно что угодно. В этом и вся беда русской природы…
Попытаться растолковать это кому-нибудь здесь, во Франции, — решат, что ум за разум зашел. Рядовому французу, подчас погрязшему во фрейдистских комплексах, эта черта русских кажется формой врожденного мазохизма. Мазохизм русским приписывали испокон, но чаще от недоумения. Если вы не мазохисты, то как вы, черт возьми, терпите такое издевательство над собой? Как вам удалось столько вынести за всю вашу историю? Ведь это немыслимо!
Подозрение веское. Но дело, конечно, не в мазохизме. Не в стремлении к болевым ощущениям, к острым ощущениям вообще, ради последующего кайфа, на фоне боли острее воспринимаемого. Здесь кроется какой-то сложный процесс работы над собой — я всегда так это воспринимал. Возможно, даже процесс не осознанный, выражающийся в виде рефлекторной самозащиты, суть которой иммунизировать человека, дать ему возможность сохранить свое нутро непорочным. В результате и получается, что любой хомо сапиенс, вскормленный этой культурой, пусть самый падший и озверевший, нет-нет да испытывает потребность во внутреннем очищении. Это что-то биологическое, инстинктивное. Да и не многим, в сущности, сложнее, чем потребность некоторых животных вылизывать свою мохнатую шкуру.
Сам я разве не пример? Вряд ли я способен оценить человека по достоинству, абстрагируясь от его недостатков и слабостей. Мне это необходимо в нем. И не потому, что во мне самом полно и того и другого. В безупречности есть что-то гладкое, лакированное, омертвевшее. Такой человек перестает быть одушевленным — как кость, из которой получился, скажем, красивый набалдашник. Рядом с таким субъектом чувствуешь себя всегда неуютно, так, словно тебя заперли по ошибке в комнате, до потолка забитой ненужной мебелью…
28 августа
Вчера получил тоскливое письмо от М. В жизни ее всё опять кверху дном. Еще и умудряется убиваться из-за меня! Вряд ли она верит в мою болезнь. Но я и раньше в этом сомневался.
Опять прислала мне Г. Джеймса, опять статьи. Некоторые ничего, особенно посвященные Тургеневу. Листал этот чтив после обеда, прохлаждаясь в шезлонге под каштаном. Стояла духота, пахло грозой.
Есть всё-таки в буржуазности что-то удушливое, наподобие слишком сильного запаха цветов — например, болотных — перед дождем…
Читал и удивлялся тому, как американец может столь тонко разбираться в русских. Откуда такая проницательность? А впрочем, это встречается чаще, чем мы думаем. Как ни странно, именно за пределами России наталкиваешься иногда на поразительно глубокий взгляд на русскую культуру и на понимание ее значения. Вне географии и геополитики, конечно. На этом поприще Россия проиграла и пропустила всё, что только можно проиграть за один раз, сделав слишком большую ставку.
Но здесь, конечно, пропасть, одно непонимание. Попробуй объясни сегодня самим русским, что привязанность внешнего мира к России, и не только христианского, тонкое ощущение ее культуры — не такое уж редкое явление. И даже несмотря на внешнюю враждебность, которая направлена, в сущности, на варварское наследие семнадцатого года. Но чему тут удивляться? Как вообще можно относиться к преступлениям, совершенным в России в этом веке? И всё это во имя высоких, а то и высочайших целей? Оглядываясь, волосы встают дыбом. От этого и страх. От этого и враждебность. Но она направлена не на русскость как таковую.
Всё это станет явным потом, когда всё окончательно развалится. Как Римская империя, на куски. А континент наш перекроят новые границы. Только думать об этом жутко…
30 августа
День пролетел как-то незаметно, впустую. С утра копался в саду. Обедал за одним столом с Рембо, чернокожим мордоворотом. Он не переставал чесать языком, травил анекдоты про бельгийцев, сопровождая концовку такими бурными и довольно заразительными вспышками хохота, что можно было разглядеть его воспаленные миндалины.
По радио — джаз, что-то нудно-причмокивающее. Вокруг — мертвая тишина, а за окном давно ночь.
Вчера думал о том, что, если бы в этой стране не было Средиземноморья, атлантического побережья, культуры, связанной с морем, всей этой литоральной пестроты с пляжными зонтами, толкотней на променадах, рыбными базарами, где можно купить черта с рогами, если бы не было всего этого дикого изобилия, которое количественно уже не измеришь, это явления иного порядка, — то я бы никогда не смог здесь жить. Поразительно, но факт: французская культура обладает невероятным по своей силе свойством поглощать, ассимилировать. В этом, конечно, ее неизмеримое достоинство. Но порабощает она и своими низменными сторонами. Всё то, что есть в ней языческого, не говоря о типичных национальных изъянах, таких как недоразвитость чувства собственного достоинства, малодушие, чего французы и сами иногда стыдятся, — всё это бывает невыносимо, гнетет, нарывает в душе. Иногда даже кажется, что ее внешние данные, какой-то поразительный лоск, свойственный этой культуре, дарованы ей воистину для охмурения. Ну разве не так? Ведь противостоять ей невозможно. Она опутывает по рукам и ногам. Она любит кормить с ложечки. Так что не сразу и поймешь, что тебя пичкают подслащенными ядами.
И вот наконец говоришь себе: все, приехал! Тут и понимаешь, что всё это навеки, что уже никогда отсюда не выберешься. Потому что не сможешь жить без нее. Потому что яд нигде не будет таким сладким. Всё понимаешь, пытаешь вырваться из пут, но лишь для успокоения совести. Потому что тело, давно отравленное, тебе давно не принадлежит, воле твоей не подчиняется, а дух дрыхнет беспробудным сном…
31 августа
Устойчивость того, что принято называть «демократией», зиждется на некотором парадоксе: обязанности, которыми наделен каждый член общества, в идеале, в верхней точке параболы сливаются с правами. Законы — вся эта безмерная паутина — и в самом деле принимаются, и в самом деле исполняются. И в конце концов, всегда кого-то устраивают — не Петрова, так Сидорова, даже если полного слияния в их интересах никогда не произойдет, даже если эти законы не всегда справедливы.
Ну чем, спрашивается, не гениальное изобретение? Ведь всё выравнивается само собой, с простотой архимедова закона. Там, где массы больше, — отлив. Там, где ее меньше, — прибывает. Плюс замыкается на минус. Саморегулирование в действии! Как в природе.
Но в том-то и проблема — в наличии уровня, над которым невозможно возвыситься ни дураку, ни умному, ни добру, ни злу. В таком случае разве не является этот регулятор утонченной формой самообмана? Не проводим ли мы себя на мякине? Если всё за нас решают законы «неустойчивого развития», то не лишаемся ли мы в конечном счете самосознания? Культура, сколоченная на этом принципе, будет, конечно, долговечной. Но в буквальном, грубо-практическом смысле. А в целом она будет лишена изящества. Может быть, даже будет уродливой, как сарай, который в принципе и не строился для того, чтобы быть вершиной архитектурного искусства.
В вечном повторении — сегодня посеяли, завтра пожали, — на чем и зиждется наше существование, жизнь оказывается лишена главного. Этим главным является поступок, волевой импульс, от них мало что зависит. Если же учесть, что на длительном промежутке времени «урожайность» в среднем остается одна и та же, какими бы ни были погодные условия, то выходит, что нет даже надежды на то, что однажды наступят какие-нибудь существенные перемены. Получается, что выбора — нет. В рамках жизни каждого из нас выбор подменен разнообразием. Разница такая же, как между двумя супермаркетами…
Говорят, что людьми вообще проще всего править, заговаривая им зубы. «Метод болтовни» является якобы величайшим достижением развитого и зрелого общества. Он позволяет сдерживать людское нетерпение, потребность людей изливать во что-то «дельное» свою неиссякаемую энергию. Люди, дескать, вообще нетерпеливы по натуре, слишком увлекаются сиюминутными эмоциями, рвутся из кожи вон к новому. От этого и столько несчастий на земле. И вот найдена панацея! Общество изобрело вакцину от собственных пороков! В этом-де и успех парламентской демократии и в то же время беда всей западной цивилизации… Пока болтовня притормаживает действие как таковое, природа трудится в поте лица, она размывает ненужные бугры, сглаживает выступы и уродливые наросты, притормаживает напор лишней энергии, и в том числе людской. Иначе говоря — неутомимо лечит нас, заблудших и строптивых, от самих себя.
1 сентября
Думал о написанном вчера и ужасался. Одни домыслы! Как условно всё! Если всё так, то как жить дальше? Бежать… Опять бежать? Но куда? Дальше некуда. Да и не глупо ли стричь всю Европу, всех европейцев под одну гребенку? В той же Франции, особенно в провинции, иногда попадается особый тип галла: невысокий рост, светлые глаза, правильные черты лица, правильная, неискушенная речь, легкий жизнерадостный нрав, но самое главное — феноменальная готовность делать добро. Это удивляет с ходу — своей спонтанностью, чуть ли не легкомысленностью, отвагой. Где, как не во Франции, встретишь этот благороднейший тип, причем в столь отточенной форме? Как, помню, было радостно сознавать в эти минуты, что эти люди живут в одной с тобой стране. Нечто подобное можно, видимо, пережить где угодно, в любой точке земного шара. Стоит только захотеть, открыть глаза.
Странно, но факт: всё худшее, что бывает свойственно какому-нибудь сообществу людей, будь то клан, обыкновенная семья, партия или государство, — это всегда что-то свое и очень специфическое. Этим все сообщества и рознятся. Но все, что у них есть лучшего, у всех всегда одинаковое. Что, конечно, умаляет достоинства, делает их обыденными, незаметными.
Лучшее — это способность думать и чувствовать. Иначе говоря, интеллектуальные и духовные накопления. Худшее — обходные пути, которыми люди пытаются заполучить эти блага, и как можно быстрее, всеми правдами и кривдами. Например, поживившись за счет соседа, подсидев его, спихнув с места или, еще проще, пальнув по нему из пушки, чтобы напомнить ему, кто есть кто… Ишь, зазевался!
3 сентября
Утром была открытка от Фон Ломова. Что-то слишком загадочен. Таинственно отшучивается по поводу того, что скоро «нагрянет» во Францию «с частным визитом». Грустно за него. Как же он запутал свою жизнь! Припоминаю его рассказы, а может, и россказни о Москве. И вдруг подумал, что все наши разнотолки, расхожие мнения о том, где нужно жить, откуда лучше бежать без оглядки, не имеют смысла в сопоставлении с простой и очевидной истиной: если человек «физически» оторван от родной культуры, если в хлебе, который он покупает каждый день, он не чувствует родного привкуса, то его жизнь лишается смысла.
Где-то здесь Фон Ломов и совершил промах. Сам я, видимо, не понял ни Москвы, ни России из-за того, что не мог расстаться с мыслью, что она мне что-то должна. Повсеместное хамство, грубость, да и плебейство, разводимое там десятилетиями, не должны были стать для меня решающим фактором, а стали.
Но и это не главное. Труднее всего, оказывается, расставаться с иллюзиями. Почему, собственно, там должны происходить какие-то перемены? Если верить Г. Джеймсу, тому, что он говорит о Тургеневе, все те же проблемы существовали и в то время. Кто об этом помнит сегодня? Мир не изменился.
4 сентября
Расплывчатые представления о будущем, неопределенность, отравляющие людям жизнь, и особенно в «развитых» странах, как это ни странно, где человек, казалось бы, более защищен от встрясок, — это объясняется даже не страхом перед катаклизмами, ведь мир всегда что-то сотрясало, не война, так землетрясение, и было бы абсурдно считать, что теперь, начиная, скажем, с послевоенных лет, с сороковых годов, их должно стать почему-то меньше. Мир, дескать, очухался. Ничего подобного! В этом смысле утрата полярности, наблюдаемая сегодня в связи с падением тоталитаризма в Восточной Европе, благодаря которой удавалось направлять потоки людской энергии в то или иное русло, не является чем-то качественно новым.
Людям страшно оттого, что нет общественной идеи, которая гарантировала бы им, или хотя бы просто обещала, что-то более сущностное, чем материальное процветание. В этом и главная проблема. С того момента, как общество решило отказаться от идеи иного, какого-то более совершенного мироустройства, с более совершенной организацией, и решило полагаться только на то, что есть, не на журавля в небе, а на синицу в руке, на себя, оно фактически лишило человека настоящей иерархии ценностей, которые являлись очень мощным стимулом. Он оказался брошенным на произвол судьбы, он один в пустыне. Главный постулат, уже многовековой, на котором развивалась западная культура, а может быть, и вся цивилизация, — обойдемся своими силами, терпение и труд всё перетрут… — действительно исчерпал себя. Ему нужна замена. И ее нет…
Любая форма воспроизведения материальных благ — вот они, три кита, на которых зиждется всё, что бы ни говорили! Это осуществляется сегодня двумя способами. Первый — извлечение сверхприбыли с интеллектуального капитала. Второй — непосредственно с денежного. Третьего не дано… Поэтому совершенно неизбежен рост незанятости, каков бы ни был подход к распределению национального дохода. А это неизбежно ведет к ужесточению несправедливости, которой и так хоть отбавляй. Как раз что-то в этом роде сегодня растолковывал по телевидению немецкий специалист, на все лады. Но у немцев хватает совести хотя бы на это — называть вещи своими именами… В итоге, при сегодняшнем развитии современного общества, данная тенденция необратима и неизлечима, если не прибегать к услугам… социализма. Он же только тем и бредит! Чтобы его позвали на помощь. Ему только свистни! В то время как именно он рано или поздно ведет к развалу, к вырождению, к респектабельной — в лучшем случае — продажности всего и всея, в худшем случае, при перекосе налево или направо, — к самоуничтожению. Увы, это настоящая головоломка.
Роль искусственной уравниловки сегодня могут отрицать только идиоты. Без этого общество давно превратилось бы в Клондайк или в казарму, где по морде можно получить только за то, что не тем углом рта улыбнулся. Но если общество — это сад, за которым нужно ухаживать, то социализм — довольно странная форма садоводства. Он претендует на то, чтобы все растения, если их поливать какой-нибудь специальной мочевиной, развивались одинаково. Тем самым он исключает всякую возможность того, что некоторые из них рано или поздно всё-таки станут загораживать свет другим. Увы, он не видит дальше своего носа. И коль скоро он дорвался до власти, до бесплатного, то отрицать он будет всё на свете и обязательно предаст свои изначальные цели. Ради сиюминутной выгоды он обязательно будет обещать всем золотые горы. В крайнем случае — равенство при дележе, которого нет, и никогда не было. О морали он будет печься не больше чем правые, не больше чем немецкая буржуазия до войны, когда она еще верила, что ей перепадет лакомая часть пирога при дележе власти.
И никто не знает, что со всем этим делать. Хотя и дураку понятно, в чем причина деградации общественных отношений и отношений между людьми в целом. Оставить сад без ухода тоже невозможно. Он зарастет, станет непролазным.
По цепочке эту логику можно разматывать и дальше. Рост неравенства — это тормоз для экономики (если уж экономика поставлена во главу угла, то это факт неопровержимый), и не ровен час, три кита, на которых всё стоит, поддадут хвостами и спихнут мир в пучину. Но и тут непонятно, что делать. Как предвосхитить такой поворот событий? В связи с обогащением богатых и обеднением бедных возрастает число тех, кто исключен из процесса улучшения своего благосостояния. Западный мир возвел благосостояние в знаковую ценность — увы. Но раз уж никто пока не придумал ничего оригинальнее, лучшей приманки, то довольствоваться приходится тем, что есть. Таким образом и получается, что целый слой населения исключен из участия в развитии общества. Это лишает систему огромной части ее потенциала. Но неиспользование всего потенциала равнозначно разбазариванию всеобщего достояния, последствия которого непредсказуемы. И дело даже не в том, что сегодня человечеству в среднем материально живется лучше, чем сто лет назад, и что даже бедный сегодня, как правило, сыт. Если человек чувствует себя сегодня обсчитанным, то не в количестве хлеба, а в чем-то другом, например в правах. Принципиальной разницы здесь нет. И никакая сытость не помешает обделенному стать зачинщиком переворота. Надежда и вера в завтрашний день человеку нужнее всего, нужнее, чем хлеб насущный. Без этого он не может жить вообще. Лишить его этого — и он, считай, созрел для любой авантюры, лишь бы она сулила ему хоть какую-то перспективу. Именно сомнение в завтрашнем дне, такое, какое мы наблюдаем сегодня, является чем-то качественно новым. Все средства исчерпаны. Искать больше негде. Всё вокруг перерыто. Апеллировать не к кому. Поэтому разговоры о самоценности жизни — это пустозвонство. Кто сегодня с полной уверенностью может сказать, что его жизнь необходима обществу, даже если оно и превозносит ее на всех углах как нечто абсолютное, неприкосновенное?
В этом и кошмар всей системы. Наша цивилизация по-прежнему выдает высокие обороты, но как молох, который вращается уже сам по себе, по инерции. В таком случае не низведены ли мы, живущие, до обыкновенных шестеренок? Не являемся ли мы обслуживающим персоналом?
Сколько бы мы ни качали свои права, мы всё равно будем похожи на странное крикливое сборище лакеев, которые, видите ли, вышли на демонстрацию. С требованием повышения жалованья и одновременно с призывами к низвержению своих хозяев, которые это жалованье выплачивают…
5 сентября
Нет ничего более малодушного, да и более нелепого, чем страх не вписаться в траекторию, по которой несется весь, казалось бы, окружающий нас мира. Каждый человек — бездна. Всё везде повторяется. На всех уровнях и стадиях. Как внутрь, так и вширь. Как по горизонтали, так и по вертикали. В этом смысле нет ничего удивительного в том, что не эпоха производит на свет личности, а личности создают свою эпоху, необходимую им для самовыражения. Или просто для того, чтобы выжить.
6 сентября
Никому из нас не дано менять свою жизнь как шкуру подобно тому, как это делают некоторые твари, готовясь к смене сезона. Нам предписано прожить единственную жизнь сообразно первоначально утвержденному плану. И желательно с пониманием, что другого уже не будет. Тот, кому удается с этим смириться, спасен. Это, конечно, не ключ к заветной тайне. Но хорошая отмычка ко многим замкам мироздания.
7 сентября
Опять холодина. Хотя и говорят, что 19 градусов. Утром было солнце. Теперь сыро. У Фон Ломова в Москве 20 градусов, лето.
Жизнь каждого человека разбита на периоды, среди которых обязательно есть неинтересные, бесплодные годы, в определенном смысле даже лишние, — человек мог бы запросто обойтись без них. Одни проводят эти годы в спячке. Другие заполняют их пустыми делами, бездельем или работой, которой придают большое значение. Всё же остальное время устремлено к главному — к продолжению себя, к приготовлениям к концу и, если повезет, к вере. Данное правило — универсально. Оно распространяется на всех, даже если мы не замечаем на себе его прямого действия.
Иначе говоря, всё самое главное с нами происходит совсем не в те моменты жизни, которые мы постоянно пытаемся у нее урвать…
8 сентября
Оба пути самосовершенствования — «экспансивный», заключающийся в преодолении себя, своей природы, своей ограниченности, и другой — «интравертный», заключающийся в том, чтобы отдавать себя во власть своей природы, пытаться проникнуться ею до мозга костей, — в конечном счете приводят к одному и тому же результату. Что вширь, что вглубь.
18 сентября
Сегодня наткнулся в газетной статье на высказывание Фейербаха: «Бог есть то, чем должен быть человек». Ломал голову над этим весь день. Какая страшная и какая тошнотворная, по сути, мысль! В гениальности немца, в его природе, есть что-то от могильщика, как ни странно. Если бы немцы умели себя ограничивать! Вполне возможно, что осталась бы одна гениальность, на которую никто больше не способен.
19 сентября
На улице с утра серость. Проснулся с головной болью, а когда встал, всё как рукой сняло. Уже чувствуется осень. Тротуары усыпаны каштанами. В Оверне выпал первый снег — по телевизору показывали дороги, занесенные снегом, совсем как зимой, — удивительно захватывающее зрелище.
Не хочется ни о чем думать. Любая мысль кажется кощунством по отношению к осенней красоте парка.
20 сентября
Вечер. Половина девятого. Взошла огромная луна желтоватого цвета, полная и удивительно крупная. На ней очень отчетливо просматривается изображение «континентов» и лик чумазого младенца. Висит луна на северо-востоке, прямо над центральной аллеей. Небо черно-синее, погасшее. Цвет луны в точности такой же, как цвет фонарей в аллее, — издали их можно запросто спутать.
В газетах пишут, что в Альпах идет снег начиная с 1200 метров — как раз в тех местах, где я когда-то прохлаждался…
21 сентября
Мари написала, что две недели тому назад ей попалась на глаза газетная заметка, в которой шла речь о скачках, проходивших в Довиле. В статье говорилось о двух фаворитах, выигравших какие-то важные забеги. Лошадей звали Марта и Питер! Кто же так подшутил надо мной? Неужели Арсен?
22 сентября
Довольно часто поражаюсь наблюдению, как плотно жизнь каждого из нас опутана семейными нитями, сколь многое в наших судьбах обусловлено кровью, текущей в наших жилах. Всё наше существование протекает в невидимом поле притяжения родословной — мы этого просто не замечаем или недооцениваем. В этом есть нечто непостижимое, да и жуткое, почти как в библейских текстах.
23 сентября
Выйдя вечером прогуляться, собирал палые каштаны, которые теперь валяются по всему парку, иногда целыми горками. Если встать под деревом, то слышно, как, падая на землю, каштаны с треском разбиваются в двух шагах, но почему-то никогда не попадают по голове.
Вид каштанов у меня ассоциируется не с осенью и не с осенним сплином, довольно шаблонным, а с давними и довольно счастливыми воспоминаниями детства. Я даже помню, что это связано с первым настоящим ощущением времени. Вот оно безвозвратно уходит, но его как-то не жалко. Уходит, и пусть себе. Ведь его так много!.. Мне было лет шесть, это было перед самой школой. Было сладко и удушающе радостно от этого чувства. В то же время таинственно, непонятно. В точности как сегодня…
Выйдя прогуляться, принялся искать на земле самый крупный каштан, перебрал штук пять-десять, но не мог найти подходящего. Иногда попадается хороший каштан, красивой формы, красивый по цвету, но что-то в нем не то, не лежит он в руке. А другой, невзрачный на вид, своей прохладой и гладкостью так и сливается с полостью ладони, такое чувство, что они были сотворены друг для друга. Мне попался один роскошный, на редкость крупный экземпляр размером с хорошую картофелину, и я не расстаюсь с ним, держу постоянно в руке, не могу на него налюбоваться. Какая изысканность в форме! Как в ней всё совершенно! И какое умиротворяющее чувство испытываешь, сжимая неровную округлость в ладони! Становится тепло, уютно. Появляется такое чувство, словно ты физически врастаешь во что-то идеальное, становишься его неотъемлемой частью.
24 сентября
С утра солнечно и тепло. Небо уже не такое синее, как еще пару дней тому назад. Вот и осень!
Ночью видел такое количество снов, и все цветные! Всё утро хожу под впечатлением. На сердце тихо, радостно и в то же время тоскливо. Прошел через парк до лабораторного отделения. Свежо, всё зелено. Но мысли об одном, о том, что во всех моих потугах не хватает главного — смысла. И тот же беспощадный неотступный вопрос гложет с утра до вечера: зачем всё? Ответ давно вроде бы известен: ни за чем! просто так! Но, увы, этого мало. Всё ищешь какое-то новое объяснение, в страхе остаться с одним этим ответом в руках, как у разбитого корыта. А ведь в этом вопросе как раз всё и заложено…
28 сентября
Точно так же, как мы относимся к смерти любимых домашних животных, кошки или собаки, Бог и должен, наверное, относиться к нашему концу. Для Него мы лишь мизерный штрих, деталь, удавшаяся или не очень.
Тогда вполне естественно предположить, что с нашим уходом всё должно вращаться, взаимодействовать между собой, появляться на свет, жить и умирать, как прежде, не претерпевая особых перемен. И даже если смывать нас время вынуждено тысячами, миллионами… Понять умом это не трудно, но принять внутренне, органически практически невозможно. Вопрос так и напрашивается: да почему?! Ведь это так бы облегчило нам всё, и жизнь, и уход из нее…
Сегодня с утра солнечно и снова тепло — осеннее, какое-то яичное тепло. Возле западной ограды я нашел два отменных боровика.
30 сентября
Солнце. Погода летняя. Говорят, сегодня 20 градусов. Изумительный день!
3 октября
Сегодня серо и прохладно. Всю ночь за окном полоскало, но теперь подсохло и даже ветер потеплел. На днях обещают похолодание. Каштаны с деревьев осыпались. Но листья еще держатся. Стайки палой листвы лениво гоняются друг за другом по аллеям. А я — за аллеями…
4 октября
Солнечное, прохладное утро. В Альпах снова обещают снег.
Вчера вечером, точнее ночью, из-за писем, полученных с вечерней почтой, думал о том, что неверие в перемены, которые поджидают завтра, неверие в будущее — это довольно банальная разновидность неверия как такового, неверия в Бога. Сказал себе, что должен взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни. Но с какого конца теперь начинать? Совершенно непонятно, что делать в таком случае. Кто мне поверит?.. Или это опять малодушие?..
5 октября
Настоящая красота делает человека менее чувственным. Чувственность прет из тебя под воздействием уродства, и оно обступает тебя темным непроглядным лесом. Довольно удивительный парадокс! И нет ему объяснения…
6 октября
Ясный, тихий день. Солнечно, хотя по ночам бывает уже холодно. Когда облака расступаются, небо становится то синим, каким бывает море в холодную погоду, то вдруг бирюзовым, то переходит по краям в нежно-сиреневый, довольно райский оттенок, который мучает глаза чем-то нездешним и выдает себя совершенно ненароком.
Божественной логике свойственна какая-то на редкость простенькая наивность, я всегда так думал. Именно поэтому ее с ходу нелегко распознать, потому что ждешь всё каких-то громогласных истин и внушений…
7 октября
На улице опять солнце. Ослепительный день! Сегодня опять свежая, яркая осень. Удивительные дни! При одной мысли о том, что всё это дается даром, в таком неимоверном количестве, во мне что-то съеживается.
25 октября
Быстро вечереет. Вокруг стало серым-серо, хотя весь день были прояснения, а утром даже было солнечно. Теплый порывистый ветер. В воздухе сухость. Чувствуется запах печного дыма. Парк медленно тонет в синеве.
Перед обедом сидел в шезлонге под каштаном, сбросив на землю кроссовки и поставив босые ноги в прохладную, подопревшую листву. Как было тихо, как легко, как чисто и ясно на душе.
Нет ничего более изумительного, чем шум ветра. В такие минуты всё кажется совершенным, самодостаточным, законченным. И нет ни в чем нужды, ни в чем ровным счетом.
26 октября
Даже если умом мы способны понимать, что жизнь наша — мизерная часть чего-то более целого, что она — отражение, какой-то мимолетный прообраз мира высшего, а то и просто дар, который мы получили ни за что ни про что и вряд ли способны понять его и оценить, а вся переполняющая мир грязь, бродить в которой приходится по колено, — не что иное, как плод нашего воображения, отображение нас самих… даже если мы способны верить в то, что вылеплены по образу и подобию Того, кто всё это сотворил, что жизнь — это свернутая проекция всего Его замысла, — вечность, само это понятие всё равно будет оставаться для нас чем-то непостижимым, пустопорожним. С нашим «ходячим» восприятием таких величин вечность всегда будет сливаться с мертвым понятием «бесконечность». А ведь главный, какой-то самоочевидный смысл в том и заключается, что бесконечность — это тоже что-то завершенное, как завершено по природе своей всё совершенное…
Не убоишься в ночи ужасов, стрелы, летящия во дни, язвы, во тьме приходящии, и заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяща и тьма одесную тебе, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь глазами твоими, смотреть и видеть…
конец романа
Подробнее об издании
Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа, роман, 1998
Примечания
1
Nicolas de Cues (франц.).
(обратно)2
Состав преступления (лат.).
(обратно)3
Недоразумения (франц.).
(обратно)4
Арсен Брэйзиер навещал Вертягина в клинике один раз. — Примеч. авт.
(обратно)5
Речь идет о посещении клиники автором. — Примеч. ред.
(обратно)6
Имеется в виду увлечение психоанализом. — Примеч. ред.
(обратно)

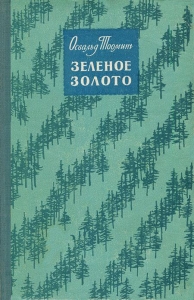
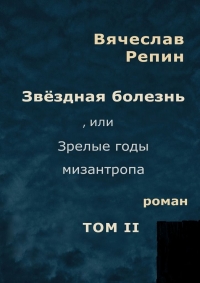




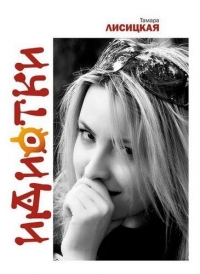



Комментарии к книге «Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Том 2», Вячеслав Борисович Репин
Всего 0 комментариев