Отар Чиладзе
И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ… роман
1
В ту ночь проснулась вся Уруки — да и мудрено было не проснуться, когда рев борчалинца сотрясал небеса, а Георга, вместо того чтобы уняться, отчаянно вопил: «Пулю тебе в лоб… прямо между глаз пулю влеплю…»
Борчалинец был частым гостем Уруки, собственно даже больше чем гостем, — вот уж десять лет вся деревня только о его тайной любви с Анной и говорила. Правда, за все эти годы никто его ни разу не видел, не то что громкого слова — голоса его вообще не слыхал; но забыть об этом десятилетнем молчании он всех заставил сразу, в одну ночь. И все-таки приблизиться к дому вдовы никто не решился, и не только из страха перед басурманом, но и потому, что люди просто не знали, как им быть, что лучше — вмешиваться или по-прежнему оставаться в стороне. Ибо все эти годы и Анна, и борчалинец вели себя так, словно Уруки не существовала вообще или уж по крайней мере не имела ни глаз, ни ушей, — а ведь в деревне ничего скрыть нельзя, тут далее словечко, сказанное мужем жене в постели, сразу становится известным, так что и разобраться в делах одинокой вдовы людям никакого труда не составляло. Но если уж сама Анна деревню в эти дела не посвящала, то и деревня щадила ее, закрывала на них глаза. Да и по правде сказать, какое кому было дело до того, кто ходит к вдове по ночам? Никого, кроме нее самой, это, в конце концов, не порочило, и керосин она жгла не чужой, а свой — и не гаси лампы хоть до утра, ежели тебе охота! И в Уруки жили люди, и вдове с сиротой никто из них ни в хлебе, ни в заступничестве никогда не отказал бы; но никто никогда не позволил бы себе и приставать к ним с расспросами или упрекать их в чрезмерной скрытности — не вмешиваться было все-таки лучше, чем без приглашения совать нос в чужие дела. Если порой деревня просто так, чтобы почесать языком, подтрунивала над ночными делами Анны, то и в этом ничего дурного не было: ведь вдову, к тому же красивую и молодую, необычность ее судьбы и некий неписаный закон делают предметом всеобщего внимания и пересудов так же, как сумасшедшего или калеку. Женщин вдова интересовала не меньше, чем мужчин, но они, в отличие от мужчин, ей сочувствовали, ибо знали, что покорил ее борчалинец силой и угрозами. «Сына убил бы…»— проговорилась как-то Анна у родника; и этого было достаточно, чтоб женщины прониклись к ней состраданием. Так все и шло до тех пор, пока деревня не заметила дружбы Георги с майором и не догадалась о ее причинах, — но и тогда ни у кого не повернулся язык осудить майора, хоть приглянувшаяся ему женщина и принадлежала другому. Было, правда, немного странно, что мужчина его возраста (тогда майору было уже за сорок) все еще холост — приехал он, во всяком случае, без жены, и был ли женат когда-либо раньше, до того как поселился в Уруки, сельчанам выяснить не удалось. Но это отнюдь не означало, что он вообще не вправе глядеть на женщин, что от этого он отказался еще там, откуда прибыл в Уруки в своем офицерском мундире и с одним-единственным большим сундуком.
Вид мальчика и майора, восседавших на одной лошади, с одним ружьем на двоих, с самого начала вызвал в деревне предчувствие беды — и все-таки долго еще никто не понимал, что общего может быть у этого уже седеющего мужчины с неоперившимся птенцом. Поняв же, в чем дело, все облегченно вздохнули и почему-то сразу приняли в душе сторону майора, прибывшего в Уруки как бы специально для прекращения тайной любви вдовы и борчалинца, любви, вот уже столько лет не дававшей деревне ни сна, ни покоя. Если люди не ошибались, если их не обманывало чутье, то они были на пороге немаловажных происшествий! О дружбе майора с сыном вдовы говорили все; а те же самые женщины, которые прежде ей сочувствовали, теперь помирали от зависти: если прежде они считали борчалинца несчастьем Анны, то майор в золотых эполетах казался им чересчур уж большим для нее счастьем. Одна только Анна продолжала жить по-старому, сама по себе, лишь изредка выходя из дому за солью или керосином — вся в черном, как и полагается вдове…
— В черное-то она для нас наряжается, — замечала ей вслед какая-нибудь злоязычная соседка, — а внутри небось все пестрое… басурмана своего ублажать…
— А хотела б я знать: чем ей не угодил майор? — тут же подхватывала другая с таким видом, словно никаких забот, помимо сердечных дел майора, у нее не было.
Но майор не нуждался ни в чьей помощи: что ему делать, он знал сам. На вдову он и не глядел, как бы не замечал ее вовсе; но один конец веревки был уже у него в руках, и вдова, какой бы свободной она себя ни воображала, в действительности не могла уж пастись где ей вздумается, как брошенная без присмотра корова. В руках майора был Георга, сын вдовы, приручив его, сделав своим союзником против родной матери, он нашел бы путь в ее сердце и спокойно, без хлопот в него проник. Итак, Уруки пребывала в напряженном ожидании — дружба Георги с майором влекла за собой важные последствия, которые вскоре должны были дойти и до борчалинца и вряд ли его обрадовать. Теперь все с еще большим интересом следили за окном вдовы, освещавшимся среди ночи всегда неожиданно, как бы таращившим глаза наподобие напуганного страшным сном ребенка… и, пока это было так, деревня успокоиться не могла.
Борчалинец явно зарвался — зарвался, потому, что вздумал ревновать, не сумел сдержать себя; меж тем, переполошив деревню, он в ту ночь поставил под угрозу все свое краденое счастье. Сейчас, впрочем, ему следовало заботиться, вероятно, не о счастье уж, а о собственной шкуре, о том, как выбраться из Уруки живым, — сейчас ведь ему предстояло иметь дело с майором. Избиения женщины с ребенком деревня тоже никому не простила б, но она не стала опережать майора; теперь между вдовой и деревней собирался встать он, и первое слово было за ним. Наверно, и это сдержало деревню, помешало ей сразу же проучить обидчика вдовы и сироты — деревня ждала действий майора. Избитый ребенок был другом майора, избитая женщина матерью его друга, и если они нуждались в заступничестве, то первым должен был откликнуться майор — вот тогда и деревня знала б, как ей поступить! Начать же должен был все-таки майор. Если он хотел отнять эту женщину у борчалинца, лучшего случая ему представиться не могло — тут ему и следовало показать себя! Конечно, катать ребенка верхом дело тоже хорошее, но какой прок от этого матери ребенка, которую ее бугай лупит по голове на глазах у всей деревни? Хочешь заставить женщину от чего-нибудь отказаться — пообещай ей замену, к тому же лучшую, идет ли речь о мужчине или о головном платке! Вот и майору следовало именно сейчас доказать, что он может заменить борчалинца, что он лучше борчалинца, и не в палатке отсиживаться, а броситься прямо в битву, одной из причин которой он сам, кстати, и был… Да не одной из причин — главной, единственной причиной! Не будь его — с какой стати борчалинец так взбесился б? Тот, наверно, понял, что его насиженное гнездо развалится, если не вмешаться вовремя, не проучить вовремя мать с сыном, которые, спокойно принимая его подарки, не отрывали в то же время глаз и от блестящих пуговиц майорского мундира! Да и майору он давал понять, чтобы тот ничего не надеялся получить даром, без борьбы, — поэтому-то, наверно, он так и орал; а если майора все это не устраивало, то тому следовало выйти из палатки и на месте выяснить, чего он хочет, чего требует и по какому праву.
Так рассуждали урукийцы, стоя перед своими домами и поеживаясь от ночной прохлады, — и раз уж им пришлось встать с постелей, раз уж сон все равно пропал, расходиться сейчас им было лень. Да и как им было разойтись, не узнав, чем все-таки кончится скандал в доме вдовы? Больше всего их удивляло поведение майора. Ну ладно, не заступайся — но выйди хоть из палатки, узнай, в чем дело, что вокруг тебя происходит! Майор же и ухом не повел, хоть шум в доме вдовы был такой, что собаки не только в Уруки, но и в окрестных селах захлебывались от лая. «Может, спит… разбудить, что ли?» — нерешительно заметил кто-то. Но могло ведь статься, что майор попросту обругает соседей, выгонит их вон! Если, дескать, у вас так болит душа за вдову с сиротой, заступайтесь за них сами! Меня-то, мол, в вашей деревне могло б не оказаться и вообще… А может, и майор дожидался деревни так же, как она его. Как бы то ни было, осрамились в ту ночь и майор, и деревня, а борчалинец свое дело сделал — выместил злобу, проучил мать с сыном и преспокойно ушел… Майор же в действительности, конечно, не спал, и ничто из происходившего в ту ночь от него не ускользнуло. Он слышал даже, как в доме вдовы разбилось стекло лампы, — но и тут не привстал со своего сундука; и его огромная, резко очерченная тень на вылинявшем пологе палатки не шевелилась до самого рассвета. Он сидел, слегка наклонившись вперед и упершись локтями в колени, — сидел, прислушивался и думал. А подумать ему было о чем, и это были вещи куда более серьезные, чем представляли себе урукийцы. То, что его мучило, было рождено не порывом сердца одуревшего от любви юнца, а заботой о собственном спасении! Обычно, стоило ему лишь прилечь на окованный железными обручами сундук в своей душной палатке, которая, едва он зажигал лампу, сразу наполнялась мошкарой и пыльцой ночных бабочек (а без лампы было еще хуже — в густой тьме палатки ему все время чудилась змея), и закрыть глаза, как перед ним возникала казарма, и он лишь сейчас понимал, каким счастливым временем были для него эти двадцать пять лет, просочившиеся сквозь пальцы, ушедшие навсегда. Можно смело сказать, что такой и спокойной и здоровой жизни у него никогда потом уж не было. Во-первых, в то время он был надежно укрыт, замаскирован среди людей, похожих на него и друг на друга настолько, что их вряд ли различили бы и собственные матери; во-вторых, за него тогда думали другие, так что он всегда безошибочно знал, как ему когда поступить и кому что говорить. Оказавшись один, став хозяином самому себе, он не мог заставить плясать под свою дудку даже какую-то деревенскую дуреху…
Бесконечно тянулись урукийские ночи. Он гасил лампу лишь тогда, когда дальние холмы синели, кукарекали первые петухи и начинали лаять осмелевшие с приближением рассвета собаки, — тогда он дул в раскаленное стекло лампы, как дуют в ствол пистолета после дуэли, чтобы скрыть за этой показной беспечностью остатки перенесенного страха. Для него умирала лишь еще одна ночь одиночества, до отказа заполненная звуками военных барабанов и труб, призраками мгновенно вскакивающих по свистку голых по пояс парней и сидящих по вечерам перед казармой девчонок с крепкими, загорелыми ногами, по щиколотки утопающими в шелухе от семечек. Палатка пропитывалась вонью горелого фитиля и керосиновым угаром, ее спертый воздух томился и потел, как женщина, переспавшая с солдатом — даже не с одним, а с целой казармой… испарина этой несуществующей женщины окутывала его, он задыхался в этой испарине! Все тело ныло, любое движение причиняло невыносимую, унизительную боль, и он в одном белье, как привидение, пускался бродить по синеющему двору, обнимал покрытые росой деревья, целовал их, пересохшими губами исступленно сосал шероховатую кору, чтобы ее влажной прохладой хоть немного притушить полыхавший в теле пожар неудовлетворенного желания. Единственной, кто могла спасти его, была Анна: он не зря выбрал ее, едва лишь осмотрелся и хоть немного разобрался в здешней обстановке. Покорный, безобидный облик Анны, особенно же сплетни и пересуды вокруг нее, сразу навели его на мысль, что она — именно то, чего он искал. Как сообразительный арестант, он собирался устроить себе более или менее сносную жизнь и за решеткой, чтобы не мучиться напрасными мыслями о том, что он оставил (и, вероятно, навсегда) за стенами тюрьмы. Здесь же, по эту сторону стен, Анна была единственной женщиной, не только способной, но и обязанной понять его. Он нуждался в ней, как монастырь в монахине — но не для молитв, а чтоб выметать мусор. Во внешности Анны и в самом деле было что-то монашеское — но не это же, в конце концов, притягивало к ней борчалинца, которого неутоленная страсть гнала, словно голодного волка, за десятки километров, в деревню, для него далеко не безопасную! И все-таки желание майора покорить эту женщину было вызвано не столько ее привлекательностью, сколько его собственной глупостью и слепотой, ибо, как оказалось впоследствии, Анна была вовсе не так уж легко доступна, как он сперва вообразил, да и избавиться от соперника оказалось тоже делом вовсе не простым, хоть он и не сомневался в том, что рано или поздно это ему удастся (больше всего в этом смысле он надеялся на свой мундир!). Однако время шло, и ничего хорошего не происходило. Недоступность женщины раздражала его и сама по себе — но еще больше его бесил борчалинец, которого всегда ждало готовеньким то, в чем он, майор, нуждался гораздо больше, то, что ему доставляло столько мук и волнений. Впрочем, если б не борчалинец, майор, вероятно, и вовсе не стал бы думать об Анне как о женщине: от нее слишком пахло ладаном и церковным сумраком. Но со временем она превратилась для него в тайну, не очень глубокую, не очень большую, а все же, как любая тайна, заманчивую, требующую разгадки; и не думать о ней он уж не мог. Он хотел от нее немногого, ни мужем, ни постоянным любовником ее становиться не собирался; ему нужна была просто женщина, хорошо знающая свое дело, — и все же он так увлекся своим замыслом, так облегчил сам себе в мыслях его исполнение, что и сам не заметил, как замысел этот перерос в невыносимое желание, от которого он уже не мог избавиться, не завладев этой тайной, не схватив ее, как расхрабрившаяся от голода мышь кусочек сала в мышеловке. Он чувствовал, что впутывается в рискованное дело, но желание овладело им уже целиком, и никакого другого выхода не было. Однако он не унывал, считал даже, что все идет хорошо, что он умело действует во исполнение своего плана; в действительности же он просто хватался за сына вдовы, как утопающий за соломинку! Он был подобен верующему фанатику, который благодаря самовнушению, самоубеждению на краткий миг как бы достигает внутреннего слияния с божеством — и хотя, ослепленный счастьем, он и в этот миг неспособен узреть незримое, достичь недостижимого, одного этого чувства, надолго остающегося у него и после протрезвления, возвращения на землю, достаточно, чтобы все его будничное существование стало для него более сносным, чтоб и начинать новую жизнь на могиле чьего-то чужого ребенка, и лежать на чьем-то сундуке в провонявшей холостяцким духом палатке показалось ему делом самым естественным. Открыв для себя Георгу, он еще больше оживился и разохотился — как старый солдат, он хорошо знал, что значит во время боя неожиданное подкрепление, пусть даже самое малое. «Ему тоже покажем, где раки зимуют…» — говорил он Георге, потирая руки, как человек, уверенный в себе, всю жизнь игравший в прятки со смертью, испытавший всевозможные превратности судьбы. Такая привычка была у их длинноусого ефрейтора, обо всем и обо всех на свете высказывавшегося одинаково: «Им тоже покажем, где раки зимуют», — этому длинноусому ефрейтору он невольно и подражал, когда, оставшись вдвоем с Георгой, учил его ездить верхом, держать ружье, взводить курок… подражал потому, вероятно, что относился к Георге как к настоящему солдату и готовил его к войне, к предстоящему бою не менее тщательно и строго, чем тот же длинноусый ефрейтор, который, проходя с прищуренными глазами перед строем новобранцев, уже заранее знал, какой из кого выйдет толк. Тут у него был всего один новобранец, к тому же малолетний, но и это было лучше, чем ничего, а если послушание и усердие хоть что-нибудь значат, то и Георга обещал стать солдатом совсем неплохим. Во всяком случае, никто не мог лучше его проникнуть во вражеский лагерь (то есть в собственный дом) и внести раздор в ряды противника (то есть между матерью и борчалинцем)… В конце концов, все ведь именно так и произошло, и надежды майора Георга оправдал полностью. Однако шум, поднятый борчалинцем в доме вдовы, майора, мягко говоря, несколько напугал — он не думал, что тот на такое осмелится. Заступиться за пострадавших ему, конечно же, и в голову не пришло, — во-первых, он просто струсил, во-вторых, чем сильней досталось бы матери с сыном сейчас, тем легче стало бы ему сблизиться с ними потом! Но и совсем бездействовать не годилось тоже, что-то предпринять следовало и ему. Поэтому-то он и не сомкнул глаз всю ночь и не вставал с сундука — сидел, прислушивался и думал…
— Одолел нас басурман! — сказал ему на следующий вечер хозяин лавки.
Лавочника звали Гарегином, он был армянином-беженцем из Турции и сейчас имел лишь одну заботу: как перевезти и похоронить в У руки прах своих родителей. «Дом человека — там, где его родители, пусть даже мертвые…» — часто говорил Гарегин заходившим в лавку крестьянам; и те охотно соглашались, ибо это была сущая правда.
— Басурман? — с деланным удивлением переспросил майор.
— Ну да, басурман! И вдову отдубасил вчера ночью, и Георгу заодно. Слыханное ли дело, и в собственном доме нам покою не дают… — огорченно развел руками Гарегин.
Пол лавки был усеян мелким битым стеклом, скрипевшим под ногами, как сухой снег.
— А почему? Причина-то какая? — заинтересовался майор с таким видом, словно впервые об этом слышал и не просидел всю ночь на своем сундуке, с ужасом прислушиваясь к реву борчалинца и воплям вдовы.
Всю подоплеку вчерашнего побоища он знал едва ли не лучше, чем Гарегин, но только у Гарегина он мог выяснить то, ради чего вышел из палатки вообще. В лавке Гарегина скоплялись все новости округи; никто не уходил оттуда, не пожаловавшись на свои или чужие несчастья, словно он находился не в лавке, а в церкви и беседовал не с опершимся грудью о прилавок, вечно ухмыляющимся торговцем, а с принимающим исповедь священником. Майору хотелось знать мнение деревни: его интересовало, что она думает об этом деле и насколько он может рассчитывать на ее поддержку, если дело примет серьезный оборот.
В лавке было прохладно и полутемно. В одном углу стоял раскрытый мешок соли; рядом с ним были раскиданы кой-какие скобяные изделия. Вечерняя тишина заглушала, казалось, даже запах лежалого товара — чувствовался он лишь изредка, да и то слабо…
— Зачем разбойнику и мерзавцу причины? Просто так… взял и отколотил, — ответил Гарегин на вопрос майора.
— Ну, и что дальше? — подтолкнул его майор.
— То есть как что? — не понял Гарегин.
— Люди-то где были? Что они говорят?
Ухмыльнувшись, Гарегин опустил глаза и почесал
себе затылок, словно собираясь сказать что-то непристойное, причем такое, о чем и говорить и молчать одинаково трудно.
— Люди на вас надеются… — промямлил наконец он.
Он по-прежнему с ухмылкой глядел себе под ноги; внезапно его лицо красноречиво выразило, насколько он сокрушен и изумлен такой несправедливостью.
— Не во всякой ведь деревне майор живет… а этот мерзавец бесчинствует как ни в чем не бывало! — проговорил он, недоуменно разведя руками и как бы не обращаясь к майору, а беседуя сам с собой вслух.
— Стекло для лампы у тебя не найдется? — спросил майор. — По-моему, мошенничает что-то фабрикант Эристави! Без конца лопаются, черт бы их взял…
— Чему тут удивляться, почтеннейший? — по обыкновению ухмыльнулся Гарегин. — Сейчас лампы у всех стоят. Никакой фабрике не управиться…
Вошедший в лавку крестьянин еще в двери снял шапку и молча поклонился.
— Я ж тебя предупреждал: не тяни. Пришлось ведь сызнова прийти! — крикнул ему Гарегин.
— Что поделаешь, сударь мой? — обратился к майору крестьянин. — Купишь, хлопот не оберешься; не купишь — еще хуже! Семья… оно, конечно, надо бы…
Говоря, он мял в руках свою маленькую войлочную шапку, и его крупные, заскорузлые пальцы едва заметно вздрагивали, выдавая все же, против его воли, волнение, подымавшееся с самого дна его крестьянской души и порожденное неотступной заботой о семье, о завтрашнем дне…
— Нету уж. Продал! — оборвал его Гарегин.
— Гарегин, кормилец… — растерялся покупатель, словно лишь сейчас, в это мгновение поняв, сколь необходима была ему эта вещь, потерянная, выпущенная из рук из-за ставшей второй натурой нерешительности, крестьянской осторожности и скупости. Он рассердился на себя, но еще больше — на другого, на соперника, не давшего ему времени как следует поколебаться, а прямо из-под носа утащившего облюбованный им товар.
— Кто кого обскачет… так, что ли? Как же это
можно? — проговорил он, уже не скрывая раздражения. А
— Как дела, дядюшка? Что на свете нового? — спросил его майор.
Остыв от своего внезапного гнева, крестьянин точно сызнова заметил майора — так, будто за это время, тот успел выйти из лавки и уже вернуться обратно. Смутившись, он опять стал мять в руках свою шапку.
— Живем мы ничего, — ответил он, чуть помедлив. — Нынче всего вдоволь. Сахар, что я у тебя купил на днях, еле накололся… булыжник прямо! — громко сказал он опершемуся о прилавок Гарегину. — Он славный парень… благодетель наш, — добавил он, вновь обращаясь к майору.
— Так чего ж вы на государя жалуетесь? — полюбопытствовал майор.
— Это мы-то жалуемся? Да кто вам сказал? Чего ради мы бы стали жаловаться? — всерьез забеспокоился крестьянин.
Взяв выложенное Гарегином на прилавок стекло для лампы, майор сухо сказал:
— Одну вдову и ту защитить не сумели… Позор нам всем!
Через несколько минут он уже сидел в доме вдовы и, заложив ногу за ногу, с удовольствием потягивая домашнюю виноградную водку, рассказывал растерявшимся от его неожиданного появления матери и сыну охотничьи небылицы.
Борчалинца там, разумеется, не было. Сейчас он, по-видимому, сидел в своей глинобитной лачуге в окружении всех своих жен и детей и, довольный своей вчерашней удалью, горстью ел плов!
— Идешь по мокрой траве, ружье наготове… когда оно понадобится, и сам не знаешь. Глаз не сводишь с травы, и все же так неожиданно из-под ног взлетает— поневоле вздрогнешь. Бах! Загремит, сверкнет — как огонь, ежели керосином плеснуть… — увлеченно рассказывал майор…
Георга был обижен на майора: он не ожидал, что тот бросит его в беде и не примчится сломя голову, вооруженный до зубов, по первому же зову друга.
А ведь свою угрозу влепить врагу пулю в лоб Георга и выкрикивал-то специально, чтоб его услыхал майор, в надежде на помощь майора, не раз обещавшего показать борчалинцу где раки зимуют. Это-то и подзадоривало Георгу, это и придало ему смелости; в результате же избит был он сам, да еще вместе с матерью, а его друг майор преспокойно спал — спал потому, что и врага не боялся, и о Георге не беспокоился нисколько! Такая измена была для мальчика болезненней любых побоев. Ведь он все время ждал, что майор вот-вот появится, вот-вот распахнет дверь и засверкает эполетами, но майор не появлялся, а борчалинец, все больше свирепея, ревел, что они, вшивые, никому не нужны, что они ему не смертью грозить, а руки-ноги целовать обязаны, что без него они и вовсе с голоду сдохнут! И у Георги разрывалось сердце, с такой страстью ждал он майора, так нужен был ему майор, чтоб заткнуть эту орущую глотку, чтоб доказать, что и у них есть друг и защитник!.. Всю ту ночь Георга не сомкнул глаз — как мог он заснуть, когда обманутая напрасным ожиданием душа болела сильнее, чем избитое тело? Он не думал ни о матери в изорванном платье, с окровавленными губами, всю ночь промолившейся на коленях перед иконой, ни о борчалинце, хлопнувшем дверью и с угрозами и проклятиями исчезнувшем во тьме. На столе валялись осколки стекла, и пламя лампы с немой, животной печалью и беспокойством тянулось к потолку, скручиваясь так, словно не могло целиком освободиться из своей жестяной ловушки; а на потолке над лампой чернело огромное пятно копоти. Но Георга думал о майоре — только о майоре, который обязательно должен был прийти и не пришел! Вот это-то он и пытался понять: что могло остановить друга, помешать ему прийти, если он и вправду не спал как убитый или не попал в беду сам? «Может, с ним что случилось… может, он тоже нуждается в помощи?» — думал Георга, чтоб хоть как-нибудь оправдать майора; и если он сейчас же, средь ночи, не бежал узнать, что с ним, то только из стыда. Он не представлял себе, как показаться на глаза майору в таком виде — не побежденным в бою, а просто избитым, да еще вместе с матерью!
Когда майор вошел, мать с сыном сидели впотьмах — ни она, ни он не осмелились бы в тот день выйти в лавку за новым стеклом для лампы; они с нетерпением ждали ночи, чтобы спрятаться во тьме и друг от друга, и от деревни, которая, вероятно, не сводила уж глаз с их окон, желая поскорей узнать, что у них происходит и в каком они настроении. Майор собственноручно вставил в лампу новое стекло, прикрутил чадящее пламя и, когда по комнате разлился мягкий айвовый свет, сказал:
— Тут, говорят, вчера такое творилось, что и в окрестных селах слышно было…
— А ты откуда знаешь? — спросил Георга.
«Откуда знаешь?» Нет, Георга интересовался вовсе
не тем, каким путем дошла до майора весть об их вчерашнем злоключении. Его тревожило совсем другое, но он постеснялся, не осмелился встретить упреком друга, впервые пришедшего к ним в дом. «Если даже в окрестных селах слышно было, почему же не слышал ты, почему не явился со своим стеклом вчера?» — вот что хотелось спросить Георге. И майор, как бы читая его мысли, тут же ответил на этот незаданный вопрос.
— Спячка на меня вдруг напала — не приведи господь! — сказал он. — Снотворного подсыпали, что ли?
Георга был готов без колебаний верить майору, верить каждому слову, способному оправдать вчерашнее бездействие друга, — слову, пусть даже и заранее обдуманному в палатке, но рассчитанному на то, чтобы успокоить мальчика, восстановить его веру. Ибо в вере и в человеке, способном укрепить эту веру, он сейчас нуждался больше, чем когда бы то ни было.
Анна спокойно, печально молчала, и, если б не ее вывихнутая и перевязанная шалью рука, можно было бы подумать, что ко вчерашней перепалке она не имеет никакого отношения. Казалось, она вообще попала сюда случайно и лишь из вежливости слушает мужской разговор, который ей и неинтересен, и не очень-то понятен.
— Будь тут мои ребята, — обратился к ней майор, — они б с этого вашего борчалинца шомполами шкуру спустили! Знал бы, как драться…
— Нет! — почти крикнула вдруг Анна.
— То есть как это «нет»? — удивился майор.
— Нет… — уже спокойно, обычным голосом повторила Анна. — Нам следует терпеть. И вы тоже ссориться с ним не должны, если вправду Георгия любите…
«Нет так нет!» — подумал майор, но ничего не сказал и стал молча рассматривать висящую на стене черную черкеску. Спокойствие и достоинство Анны раздражали его с самого начала. Она сидела с таким видом, словно не то что бить ее, но и просто сказать ей что-нибудь непочтительное никто никогда не посмел бы, словно перед сном она ничем уж другим, кроме молитв, и не занималась. Можно было подумать, что майору она гораздо нужнее, чем он ей. А ведь, направляясь сюда, он был убежден, что пострадавшие мать с сыном сочтут его визит великим для себя счастьем, готовы будут руки ему целовать, прыгать вокруг него от радости! Ибо человеку, попавшему в беду, нужнее всего сочувствие, пусть даже мнимое, неискреннее, высказываемое просто из вежливости, — и это для него благо, и размышлять, вправду ли ты так уж переживаешь его несчастье, ему отнюдь не пристало: он обязан довольствоваться тем, что ты стоишь рядом с ним, быть благодарным и за это — ведь остаться в одиночестве человек страшится больше самой беды. Майор считал, что творит добро, оказывает милость, — она ж как будто и не обращала внимания на такого короля, лично пожаловавшего к ней для выражения сочувствия и дружбы. Майор знал, что благодаря блестящим эполетам урукийцы его уважают и даже побаиваются, — поэтому-то он и во время работы не оставлял своего мундира в палатке, а развешивал его на дереве для всеобщего обозрения, словно документ, не только подтверждающий исключительные полномочия своего владельца, не только гарантирующий неприкосновенность его усадьбы, но и облекающий неким ослепительным ореолом его самого — даже когда голый по пояс, с ладонями, стертыми в кровь, как у самого обыкновенного крестьянина, он расчищал двор от сорняков, битой черепицы, гнилых досок Не лучше матери встретил его и щенок — тот вообще надулся, словно капризная любовница; и это тоже раздражало майора! Он не мог понять, чем они, в конце концов, так недовольны — тем ли, что он пьет их паршивую водку, или тем, что ему вообще открыли Дверь, впустили его в свое логово, пропитанное потом борчалинца и из-за висевшей на стене черной черкески казавшееся еще более темным и угрюмым. А может, его обвиняли в том, что он не дал борчалинцу убить себя из-за них вчера ночью? Да нет — не такие ж они, должно быть, все-таки наглые…
Вид черной, чуть-чуть обтрепанной по краям черкески напомнил майору пугало в винограднике, сверху донизу загаженное наевшимися винограду воробьями и превратившееся для них в насест, в место отдыха, хотя балда и скупердяй виноградарь установил его именно для их устрашения. То же самое случилось и с черкеской. Она была такой огромной, что занимала всю стену; но в брошенный ее владельцем виноградник повадились воробьи — или, верней, лисы; и они не обращали никакого внимания на черкеску, вывешенную, чтоб отпугивать их, черкеску, некогда облекавшую плечи и грудь рослого мужчины, а ныне растекшуюся, размазавшуюся по стене, как брызги дегтя, бессильную и пустую, как угроза мертвеца! Главным в этом доме был борчалинец, а не черкеска, прибитая к стене, как чучело какого-то огромного, но безобидного допотопного существа, с самого начала обреченного природой на вымирание. Черкеска майора не пугала — в этом доме он боялся только живого соперника, человека, бывшего тут хозяином теперь; ему-то майор и хотел заглянуть в душу, его-то истинные намерения он и стремился разгадать с помощью избитых матери и сына. Поэтому-то он и не помедлил, не дал чужой боли и озлоблению остыть — он знал, что боль и озлобление делают людей откровеннее, искренней, чем они станут потом, когда боль утихнет, а озлобление уляжется. Он надеялся, что тяжелая рука борчалинца развяжет пострадавшим языки, заставит их забыть осторожность; это и позволило б ему запросто, без нажима и особенных расспросов выяснить, что же все-таки тот собирается делать; решил ли он бросить мать с сыном и поэтому вздул их, или сделал он это, напротив, лишь из желания удержать их навсегда? Вот что мучило майора, вот что ему надо было разузнать — они же молчали и глядели на него так, словно именно он натравил, науськал на них их мучителя…
— Одну молитву, как говорится, и священник переврать может, — начал майор, с улыбкой поглядывая на Анну, — но войти в храм ему за это никто не запретит. Семейные ссоры, друг мой Георга, лишь дураки всерьез принимают! Вот был, скажем, у нас в казарме один поручик-пьянчуга… Жена била его каждую ночь; но попробуй кто назови его пьяницей — она б тому глаза выцарапала!
Анна молчала.
— Мама его не любит! — сказал Георга с такой детской непосредственностью и горячностью, словно матери не было в комнате и ее несправедливо обвинили в чем-то за глаза. — Мы его боимся!
— Георга, братец, неужели ты никогда не слыхал: страх-то и рождает любовь… — усмехнулся майор.
— Мама его не любит! — упрямо повторил Георга. Голос мальчика задрожал, к горлу подступили слезы — он понял, что майор ему не верит.
(Хотя какое значение могло иметь для их дружбы, любила его мать кого-то или не любила? Разве их дружба от этого зависела?)
— Бога ради… как до сих пор выдерживали, так и дальше выдержим. Такая уж, значит, наша участь… — сказала Анна.
«Слыхал?» — молча кивнул майор Георге, и тот удивленно взглянул на мать.
— Дело ваше! — сказал майор. В его голосе зазвучало раздражение, но он еще сдерживался. — Не так уж вы, стало быть, недовольны этой своей участью, раз избавиться от нее не желаете! Ну что ж… За здоровье вашего борчалинца! — И он высоко поднял сбою рюмку. — Он-то свое дело знает. А ты его убить собирался… — взглянул он на Георгу. — Он бы тебе задал перцу! И за участь вашу выпьем… — с язвительной усмешкой обратился он к Анне.
Это тоже сбило Георгу с толку — теперь он с удивлением взглянул на майора. Либо все трое были сейчас правы, либо лгали все трое — лгали не с тем, чтобы провести друг друга, а просто потому, что друг другу были еще чужими, втроем собрались впервые, и каждый говорил свою правду — свою, а не общую для всех троих!
По лицу Анны могло показаться, что она не слышала слов майора или не понимала, о чем он говорит. Скорей всего, она не слушала его вообще; словно младенца, уложив на колени свою перевязанную шалью руку, она в эту минуту думала лишь о своем мертвом муже, мысленно рассказывала мертвому мужу о событиях минувшей ночи. Этого майор не знал и знать не мог, и молчание Анны выводило его из себя — она или ни в грош его не ставила, или всерьез принимала его колкости за комплименты. Впрочем, это было неудивительно: ведь он считал ее самой заурядной шлюхой! Спишь ли ты с одним мужчиной или с целым городом, — когда в этих делах замешана корысть, ты шлюха, ибо торгуешь своим телом; а один у тебя покупатель или тысяча и платят они тебе деньгами или топленым маслом, это совершенно несущественно.
— И его жаль… Он ведь сам не понимает, какое горе нам приносит, — внезапно сказала Анна.
— Дело ваше! — крикнул майор. — Дело ваше! Но обиды ребенка, сироты тем более, я не прощу никому… ни постороннему, ни родной матери!
Анна лишь молча взглянула на майора, словно его окрик вернул ее на землю и она впервые его заметила. Печальный, беззлобный взгляд женщины невольно смутил майора — ему уж и самому показались неуместными собственные озлобление и несдержанность. В конце концов, он был гостем, и гостем незваным; нравилось ему тут или нет, все равно следовало быть сдержанней. Ни его помощи, ни его советов никто ведь и не просил — какое же у него было право злиться? Этим он, помимо всего прочего, лишь выдавал свои замыслы и тем самым тормозил их осуществление. Ему нужно было многое еще выяснить, установить, тысячу раз отмерить и взвесить; а он до сих пор не мог понять и самого простого: любит Анна борчалинца или нет? Ее щенок, правда, утверждал, что нет, но полагаться на это не приходилось — майору казалось маловероятным, что Анна так уж откровенна с десятилетним сопляком. Вполне возможно, что своим «не люблю, боюсь…» она обманывала и его — для того, чтоб, не теряя любовника, выглядеть в то же время в глазах сына невинной мученицей, достойной жалости.
— У нас, военных, есть один неписаный закон, — улыбнулся майор, как бы прося извинения за свою давешнюю резкость, — беречь честь и достоинство соратника. Тем более, — и он протянул руку к черкеске на стене, — тем более соратника мертвого, который сам на это уж неспособен…
— Бога ради, бога ради! — воскликнула Анна. Неожиданно вскочив со стула, словно ее вдруг подбросила, подтолкнула некая невидимая сила, она как-то нелепо, неловко бросилась в ноги майору и обняла его до блеска надраенный сапог. — Бога ради… пожалейте нас, если вы вправду Георгия любите, если вправду о нас заботитесь! Не приходите больше… забудьте нас, словно нас и нет вовсе! Бога ради, бога ради, бога ради… — поспешно бормотала она, не переводя дыхания.
— Мама! — крикнул Георга.
Разинув рот, майор тоже вскочил со стула, как если б ему в ноги бросилась собака, — но именно в этот момент произошло нечто еще более непредвиденное. Во внезапно наступившей тишине все трое одновременно услыхали тихий, леденящий кровь скрип деревянной ступеньки и невольно впились глазами в дверь; все трое мгновенно и одновременно поняли, кто этот неожиданный ночной посетитель, под чьими ногами скрипят доски лестницы. За все эти десять лет не было еще ни одного случая, чтоб борчалинец приходил к Анне две ночи подряд. Исчезая порой на недели и месяцы, он являлся к ней всегда неожиданно, без предупреждения — с улыбкой до ушей на лице, в любую погоду залитом потом, шумный, бодрый! И хотя ни разговорчив, ни суетлив он не был, даже сидя с плотно сжатыми губами, неподвижный как идол, он все-таки умудрялся нарушать тишину комнаты: из тайных, сокровенных недр его рослого, облаченного в овечий тулуп тела постоянно доносилось как бы какое-то гудение, схожее, пожалуй, с гудением пламени и нагонявшее дремоту, утомлявшее, расслаблявшее, а вместе с тем несколько даже и пугавшее своим постоянством, однообразием и непрерывностью. Сейчас за дверью стоял он — никто из находившихся в комнате в этом не сомневался. Казалось, гудит весь дом.
— Да святится имя господне… — чуть слышно прошептала Анна; и по телу майора прошла дрожь.
Майор знал, что когда-нибудь они встретятся, что встреча эта неотвратима, но он не думал, что она произойдет столь внезапно и в столь невыгодных для него условиях. Правда, он был тут в гостях, и не вдвоем с женщиной, а в присутствии ребенка, но, застав после вчерашней истории в своем логове мужчину, тот вполне мог взбелениться еще пуще. У майора же были свои планы. Беседовать с соперником об этой женщине он и не собирался… ей надлежало самой отвадить его, постепенно, без ругани и потасовок дать ему почувствовать, понять (у баб для этого есть тысячи способов), что жить с ним ей больше не в радость, а потом, эдак вкрадчиво, ласково втолковать ему: тяжело-де, не могу уж больше, и ребенок уже все понимает, и ты-де перед своей семьей тоже виноват… да мало ли что еще сказать можно? Это — при условии, конечно, что в промежутках между ночными визитами борчалинца майор сумеет переманить женщину на свою сторону. Впрочем, тогда-то у нее и не будет ведь никакого другого выхода, тогда ей поневоле придется закрыть дверь перед борчалинцем — не такая ж она все-таки беспутная, чтоб ублажать обоих одновременно! А выбор напрашивается сам собой: майор-то человек новый! Борчалинец, разумеется, взбесится, может, даже еще разок вздует женщину и ее болтливого ублюдка, но в конце концов и он сообразит, что лучше отстать, чем зря унижаться. Если его отвергнет женщина, он без труда поймет и причину, без всякой подсказки догадается: в одну пушку два заряда сразу не забьешь. Мужчину ведь развращает женщина! Ни один нормальный мужчина — и он, майор, естественно, тоже — никогда не откажется от приглашения женщины, если та собой недурна и женские свои обязанности исполняет не хуже других! Уж это-то должно быть ясно и борчалинцу — мужчина он в этих делах, видимо, достаточно опытный, именно поэтому он обязан понять и любого другого мужчину, своего, в общем-то, брата, друга, союзника, сотрапезника… Не может же он, в самом деле, из-за какой-то паршивой шлюхи (ему и самому, видимо, порядком уж приевшейся) поднять руку на офицерский мундир, за которым — не вшивая Уруки, а великая армия, способная, если потребуется, не его одного уму-разуму научить. Сейчас, однако, неожиданное появление борчалинца ставило все вверх дном, путало и нарушало всю естественную последовательность событий, выдвигало вперед и требовало срочно решить то, что должно было решиться постепенно и, в общем-то, само собой. По плану майора встрече этой следовало состояться уж после того, как страсти улягутся и борчалинец, вместе со всеми прочими, успеет уже привыкнуть к переменам в доме вдовы. Застав же майора в своем гнездышке неожиданно, раньше времени, он вполне мог вообразить, что майор (как, впрочем, оно и было в действительности) только и ждал первой его ссоры с вдовой, чтобы сразу вклиниться между ними, словно коварный Мурман, — вклиниться, не дав им опомниться, выяснить причины этой ссоры и без постороннего вмешательства решить, стоит ли им жить вместе впредь. Вообще-то ссоры и потасовки между мужчиной и женщиной так же неизбежны, как ласки, и за ними далеко не всегда следует разрыв. Бывает и наоборот— потасовка лишь больше сближает любящих, делает их еще необходимей друг другу. Рука, ласкает она или бьет, в обоих случаях — лишь слепой проводник страсти, покорная исполнительница желаний души и тела; сама она, однако, не ведает, что творит, на что направлены ее усилия — на блаженство плоти или на ее умерщвление; и пока в дело не вмешается язык, пока он не назовет все своими именами, боль так же бессильна разлучить два тела, как ласка — соединить их навеки. Майор же именно не дал любовникам и слова сказать; он украдкой, без спросу влез в чужой дом, где его соперник распоряжался уже десять лет, а ему, майору, делать было нечего, — тут все было выяснено, определено и расписано задолго до него. По-этому-то он и выглядел сейчас как прокравшийся в дом насильник — и это он, который сюда вообще ни за что не пришел бы, допусти он хоть на миг, что борчалинец появится и сегодня! Ошибка в том и состояла, что такого исключения он не допустил, не предусмотрел! Теперь же ему оставалось лишь одно из двух: или выпрыгнуть из окна и не оглядываясь уносить ноги, навсегда плюнув и на эту святошу, и на ее глупого цыпленка; или же… или же сейчас-то именно и должно было все решиться, сейчас именно ему и предстояло показать, на что он способен, убедить самого себя в том, что он достоин женщины — не этой блудливой монахини, а женщины вообще… Главным сейчас было не волноваться, не поддаться страху, который постепенно охватывал его всего, с ног до головы. Да и чего ему, собственно, бояться? Он — у себя в деревне, зашел навестить соседей; застали его не наедине с чужой женщиной в темном уголке, а в присутствии ребенка, при свете лампы, застегнутым на все пуговицы, сидящим нога на ногу, как положено человеку приличному, благовоспитанному! Подозревать его в каких-либо низких умыслах было бы несправедливо! Не говоря уж ни о чем другом — ведь без него в этом доме до сих пор царил бы мрак; а он принес свет, он на собственные деньги купил, собственными руками вставил в лампу стекло, взамен того, которое вчера расколотил насильник, — вот тот действительно предпочитал мрак, тому мрак подходил больше, чем свет. Майору же скрывать нечего — любому разумному человеку ясно, что ничего недозволенного, непристойного между ним и этой женщиной происходить не могло. А кроме того, у него ведь есть и пистолет, заряженный, готовый к бою; и он может выстрелить в любой миг, не дав неприятелю и опомниться, рта раскрыть! Отвечать же за смерть разбойника, ворвавшегося ночью в дом вдовы для убийства и грабежа, ему уж, разумеется, не придется…
Майор повел плечами, словно проверяя изнутри, на месте ли его эполеты, поставил на стол недопитую рюмку водки, которую он все это время машинально держал в руке, и пошел к двери.
— Господи, помилуй, господи, помилуй… — шептала Анна. Нет, не шептала — шипела, как змея, наевшаяся дикого укропу! И по телу майора вновь пробежала дрожь…
Нежданный гость не успел постучать — он изумленно уставился на открывшего дверь майора, словно человек, по рассеянности пришедший в чужой дом вместо своего. Майора он узнал сразу, хоть никогда до этого его не видел, а уж здесь-то встретить не рассчитывал и вовсе. Не сразу мысленно связав майора с этим домом, он даже на миг заподозрил, что действительно сбился с пути. Но только на один миг — не успев еще додумать этой догадки до конца, он сразу вез понял.
— Здравствуйте, сударь! — сказал он.
Горячий, острый запах ударил майору прямо в лицо, но пришельца майор разглядел не сразу: стоя в двери, он собственной спиной заслонял свет из комнаты. Не отвечая на приветствие, он глядел на лысую голову и кисти рук на рукоятке кинжала, заметно выделявшиеся во тьме деревенской ночи. Он молчал — скорей всего, боясь собственного голоса, способного сразу выдать его волнение; поэтому он и не ответил на приветствие, хотя всякое приветствие от бога, и, когда человек с тобой здоровается, до драки еще далеко. Пусть он даже твой кровный враг — если он сказал тебе «здравствуйте», то не исключено, что вы вообще разойдетесь без боя: двое мужчин, два брата в гнезде женщины, которая, однако, ни одному из них не жена, не сестра, не мать, а просто так — обоим побаловаться охота…
— Здравствуйте, сударь! — повторил гость.
Сейчас майор уже отчетливо видел его улыбающееся лицо — за это время глаза несколько привыкли к темноте; но он вновь не ответил на приветствие, хотя тут же и сам разозлился на свою неучтивость; он знал, что бессмысленным этим молчанием лишь подливает масла в огонь и, в сущности, играет со смертью, пока что еще запертой в ножнах, еще сдерживаемой обеими огромными ручищами его недруга. Майор проглотил слюну, кашлянул, чтобы прочистить пересохшую глотку, и лишь после этого спросил у борчалинца, чего ему нужно, — так, словно не знал, к кому и по какому делу он явился.
— Я, сударь, к себе домой пришел! — ответил борчалинец, скаля зубы в напряженной улыбке.
— Тебе, голубчик, на обратную дорогу двух глаз хватит? — спросил майор. — Или третий нужен?
Лишь в это мгновение борчалинец заметил в руке майора пистолет со взведенным курком. Собственное невнимание его поразило — он заскрипел зубами, его лицо исказилось. Он уже знал, что без крови эта неожиданная встреча не кончится, и существенно сейчас было только, чья кровь прольется, — его или майора, пришельца или встречающего. Было, правда, не очень уже понятно и то, кто из них пришелец, а кто встречающий; однако это выяснилось бы скоро: встречающий станет тот, чью сторону примет женщина. Впрочем, значения не имело уж и это. Определилось главное: лицом к лицу стоят враги, и теперь все зависит от них самих, от их ума, ловкости и быстроты. Пока что преимущество было явно на стороне майора, стоявшего уже с пистолетом наготове; а руки борчалинца все так же лежали на рукоятке кинжала, словно два совершенно бесполезных предмета… не бесполезных даже, а сковывающих его, ибо любое их неосторожное движение могло стать для него роковым. Конечно, он не мог рассчитывать на то, что майор даст ему время выхватить кинжал — а если и дал бы, то и тогда их шансы были б неравны, и тогда верх взял бы майор; ведь против пистолета майора у него был в лучшем случае кинжал, пока что, однако, как бы и не существующий (хотя он обеими руками ощущал его скользкую от пота рукоятку и изо всех сил сжимал ее, как бы стремясь еще глубже вдавить кинжал в узкие черные ножны). Что его противник трус, он понял, как только увидел в его руке пистолет. Он удивился не пистолету — никаких причин встречать его хлебом-солью у майора, в конце концов, не было, его смутила поспешность врага, его недоверие не к противнику, а к самому себе! Он знал, что такой враг вдесятеро опасней любого другого, что бороться с ним чаще всего безнадежно: он не только твой противник, но и твой рок, который обрушивается на тебя неизвестно когда, где и почему, против которого бессильны и слово и оружие! Он снова заскрипел зубами. Впервые в жизни он вдруг сам услыхал, как в недосягаемых, тайных недрах его потного тела что-то громко гудит, словно огонь в печи.
— Людей стыдно… хоть в дом зайди! — крикнула скрытая за спиной майора Анна, лучше всех знавшая, чем, скорей всего, кончится затянувшееся молчание двух мужчин. Было, правда, не вполне ясно, к кому именно она обращается — к борчалинцу или к майору.
Не поворачивая головы, ни на миг не отводя глаз от рук на рукоятке кинжала, майор своим золотым плечом отмахнулся от голоса Анны, словно этим мог заглушить его, не допустить, чтоб его услыхал и враг!
— Сучье отродье… — хрипло прорычал борчалинец.
Голос Анны так его разъярил, словно он лишь сейчас вспомнил, что в этом доме есть и женщина — его женщина, которая десять лет подряд молча открывала ему дверь и, ложась с ним в постель, тем самым безоговорочно признавала его власть над собой. Теперь она пряталась за спиной чужого мужчины… поэтому, наверно, и сама она стала вдруг чужой, настолько чужой, что сейчас ему было трудно представить себе ее лицо, представить себе, что еще недавно его руки знали наизусть каждый холмик, каждую ложбинку ее тела — тела, которое мундир и пистолет от него отгородили, сделали далеким, недоступным! Внезапно ему стало стыдно своей растерянности и скованности, своего бессилия перед этой женщиной, которую у него хотели отнять — а возможно, уж и отняли, ибо его бездействие, его нелепый зубовный скрежет лишь лили воду на мельницу врага, лишь подтверждали преимущество и правоту врага! Это-то и она наверняка чувствовала тоже!.. Он осторожно, воровски продвинул вперед ногу, чтоб хоть немного приблизиться к зловеще поблескивающему дулу пистолета, — и внезапно все вокруг него ослепительно засветилось, словно для того, чтоб разоблачить это коварное движение, и обе его сложенные кисти вместе с рукояткой кинжала как бы вдавились внутрь живота. Не услыхав звука выстрела, он не сразу понял, что произошло. Он не упал— но грубая сила, сдавившая его живот, повернула, видимо, все его тело в обратную сторону, ибо, опомнившись, он увидал погруженный в темноту двор впереди себя, а майор оказался у него за спиной. Его руки по-прежнему лежали на рукоятке кинжала, но он чувствовал только какое-то липкое, шипящее жжение. Его ноги дрожали; он чуть нагнулся вперед, как бы сдерживая напор мрака со стороны двора или, верней, пытаясь во что бы то ни стало взломать невидимую дверь темноты, чтобы проникнуть внутрь и как можно скорей унести отсюда свою чудом сохраненную жизнь. Он чувствовал, что еще жив, и это было единственным, что он чувствовал, его единственным желанием, целью, мечтой, надеждой… одно лишь это и осталось в его сотрясенном грубой силой, изумленном, струсившем теле, забывшем сейчас обо всем на свете, кроме одного — стремления уйти отсюда живым. Опустев вдруг, как перевернутый таз, он и не подумал обернуться, а пошел прямо к лестнице… точней сказать, туда понесли его ноги, сам он дороги сейчас не нашел бы, будь у него даже не «три глаза», а десять. Еще не сойдя с лестницы, он вдруг заплакал. Огромный и беспомощный, он всхлипывал, как ребенок, и всхлипывания эти словно леденили кровь в жилах у людей, стоявших на балконе. Их ужаснули и потрясли эти звуки, напоминавшие собачий вой, тоскливый собачий вой, всегда кажущийся людям и вестником несчастья, и не сказанной, одинокой, никому на свете не понятной жалобой…
Во дворе борчалинец, ничего не видя, а может, именно видя, именно нуждаясь в чем-то твердом и неодушевленном, наткнулся на ствол яблони. Стоя перед ним, он головой долбил шершавую кору, словно обойти дерево ему было невозможно и уйти со двора он мог, лишь вынудив его уступить себе дорогу. (Наутро весь двор был усыпан листьями и еще зелеными яблоками. «Железный же лоб у этого Анниного бугая.» — посмеивались потом урукийцы.)
Когда в полночь в доме вдовы раздался выстрел, это никого не удивило, особенно после вчерашнего скандала. Урукийцы знали, что без крови майору с басурманом не разойтись; поэтому в разбуженной внезапным выстрелом деревне никто не усомнился в месте и характере происшествия. Все тотчас двинулись к дому вдовы, подняв свои чадящие коптилки кверху, чтобы поярче осветить двор, в котором, по разумению сельчан, непременно должен был находиться труп или борчалинца, или майора. Ко всеобщему удивлению, трупа там, однако, не оказалось. Майор стоял на балконе между Анной и Георгой, и человеку, попавшему в У руки впервые, эта троица, бесспорно, показалась бы образцовой семьей. Борчалинец находился где-то тут же, во дворе, но виден пока что не был. Из глубины двора доносился глухой, тупой, отрывистый стук, словно по дереву били обухом топора; при падавшем с балкона свете было видно, как колышется верхушка разбуженной, встревоженной яблони.
— Не подходите к нему; он ранен!.. — крикнула Анна собравшимся в ее дворе урукийцам.
— Это дядя Кайхосро стрелял… — подхватил Георга.
Урукийцы нерешительно двинулись за колеблющимися огоньками своих коптилок. Огоньки тянулись назад, к оставленным без присмотра домам, извиваясь, словно похищенные девушки, насильно увозимые в чужую и опасную для них страну. Слова Анны урукийцев, конечно, напугали, но не удовлетворить любопытства, не увидеть своими глазами раненого басурмана они уже не могли. Дрожащие пальцы света нерешительно, осторожно коснулись примолкшего под деревом человека и стали медленно вытаскивать его из темноты. Почувствовав их прикосновение, он обернулся и оскалил зубы. На месте глаз виднелись две узкие темные щелки; оставив дерево в покое и повернувшись лицом к свету, он тяжело дышал. Его руки, склеенные кровью и как бы навек прибитые одна к другой пулей майора, были по-прежнему скрещены на животе.
— Дай подойти… мы тебе поможем! — сказал кто-то, спрятанный за стеной света.
Борчалинец оскалился еще сильней, как бы от души рассмеявшись подобной нелепости; потом он фыркнул, как лошадь, сплевывая, видимо, кровь, попавшую в рот с разбитого лба, и пошел на свет огоньков. Он был похож скорей на сумасшедшего, чем на раненого. Свет отпрянул назад, а потом раскололся надвое, образовав посередине черную расщелину, сквозь которую и прошел борчалинец со все еще сложенными на животе руками. Когда майор спустился во двор, борчалинца там уже не было — его поглотила ночь. Майор, в последнюю минуту решивший оказать помощь раненому, а заодно и попробовать помириться с ним, был явно обескуражен. Он долго молча глядел в непроглядную тьму — в ту сторону, куда указывали люди, последними видевшие борчалинца. Где-то вдалеке, за этой кошмарной черной бесконечностью, все еще лаяли вспугнутые и раздраженные неожиданным выстрелом собаки. В одной руке майор держал кувшин с водой, в другой простыню (видимо, чтоб разорвать ее на повязки); и казалось, что он вынес их для мытья рук людям, собравшимся на поминки.
— Не подпустил к себе… ушел! — доложили майору урукийцы.
Майор понимал, что такое расставание ничего хорошего не сулит. Теперь о примирении с врагом нечего было и думать — теперь, уступи майор сверх Анны еще и полмира в придачу, разговаривать с ним тот все равно уж не стал бы. Да и о чем, собственно, им было сейчас разговаривать? Все было уже сказано пулей и кровью — пулей одного и кровью другого; все было ясно и выставлено на всеобщее обозрение — как он пулей ответил на «здравствуйте» борчалинца, так и борчалинец устроит теперь что-нибудь в этом роде ему самому! Больше всего майор ненавидел в эту минуту Анну и Георгу — именно им он и показал бы сейчас, где раки зимуют, если б не был их защитником, их единственным покровителем в глазах людей, глядевших на него с благоговейным восторгом, хотя на победителя он не походил нисколько… с кувшином и простыней в руках он был похож скорей на слугу. Майор горько усмехнулся: почему именно в этой проклятой деревне должна была найтись такая распутная вдова, когда здешние женщины вообще-то славились целомудрием и не пришельцев каких-то, не заклятых врагов, а собственных законных мужей и тех едва к себе подпускали из-за своей излишней, нечеловеческой святости!
— Мне надо было его убить… — сказал майор.
Урукийцам его голос не понравился — в нем слишком явственно слышался страх, постепенно заражавший и других. Стоя у забрызганного кровью дерева, люди молча, растерянно глядели на майора.
— Мне надо было его убить! — повторил майор…
Да, из этого ночного поединка он вышел победителем, но лишь после победы он по-настоящему испугался побежденного, понял, с каким злобным и упрямым противником имеет дело. Да, он его ранил, но выгнать раненого со двора все-таки не сумел, и, не приди деревня ему на помощь вовремя, его враг, вероятно, сокрушил бы все вокруг — головой, поскольку он был ранен в руки и пользоваться ими не мог! Именно это ведь и взбесило борчалинца: неожиданная, непредвиденная неудача и вид собственной крови свели его с ума, помутили ему рассудок, и он стал опасен, как слепая стихия, которая может уняться лишь сама по себе, никакие же внешние силы сдержать ее не в состоянии…
Сейчас людей, собравшихся во дворе Анны, ничто на свете уж не разубедило бы в том, что они были правы, что они действовали верно, отстраняясь, не вмешиваясь в дела вдовы, которая, похоронив одного мужчину, тут же, как голодная кошка, облизала жирные пальцы другого — мужа или хахаля, да еще будто бы поневоле… черт ее разберет!
Видеть майора рядом с Георгой деревня уже привыкла, но при виде майора, стоящего возле вдовы, всем стало как-то не по себе. А ведь удивляться этому не приходилось — не они ли сами ждали этого с той поры, когда впервые поняли смысл внезапной дружбы майора и Георги и, не задумываясь, обрадовались? Сейчас, однако, прибежав на звук выстрела, люди увидели во дворе раненого борчалинца, а на балконе троицу, имевшую вид дружной, благополучной семьи, и это им не понравилось — они предпочли б увидеть борчалинца и вдову отдельно от майора и мальчика. Сам по себе борчалинец ни в чем виноват не был… а если и был, то, разумеется, вместе с вдовой, и наказывать его одного выглядело, по меньшей мере, не очень-то красиво, особенно сейчас, при дрожащем свете коптилок, в темноте, пропитанной его потом и кровью. Вполне понятно, что стрелять во вдову майор не стал — вдову он берег для себя; но ее-то что удержало, она-то почему не спустилась во двор, если она и впрямь не отпетая шлюха? Почему она, если у нее осталась хоть капля совести, не пошла за своим мужчиной, с которым спала десять лет, пусть даже только из страха, как она всем растрезвонила! Хорош он или плох, законный он ей муж или незаконный— все равно она обязана была встать на его сторону, уйти вместе с ним, побежать за ним как собака, бросить и дом, и сына… ибо она женщина, и можно простить ей скорей десятилетний блуд с иноверцем, чем то, как она в один миг вырвала эти десять лет из своей жизни! Ее выбор был скор; майора с блестящими эполетами она предпочла залитому собственной кровью борчалинцу. В конце-то концов, и это тоже ее дело, и в это тоже деревня вмешиваться не стала б, но все были убеждены, что поступком этим вдова лишь заложила фундамент нового несчастья, что она не на жизнь, а на смерть связала борчалинца не только с майором, но и со всей Уруки! Рассвирепевшему борчалинцу будет теперь уже все равно кого убить, на ком выместить злобу, лишь бы жертва была из этой деревни, лишь бы именно в этой деревне снова пролилась кровь! Свою злобу борчалинец при себе не оставит — вот единственное, что люди знали твердо. Сам не успеет — сыну завещает, с сына клятву возьмет, неизлечимой болезнью передаст всему своему потомству злобу, которая должна быть вымещена, которая и для правнуков его постепенно станет священной памятью предка… и все это из-за какой-то беспутной бабы! Это почувствовал уже и майор; это и прозвучало в его голосе, когда он сказал, что ему надо было убить борчалинца. Да нет — это стало заметно еще раньше. Он и на балконе-то ведь стоял не для того, чтобы покрасоваться перед людьми, а потому, что со страху совсем обалдел… а чуть опомнился, чуть представил себе, что может повлечь за собой эта темная, душная ночь, сразу схватил кувшин с простыней и, как слуга, побежал к басурману! Наверняка-то утверждать нельзя, конечно, ничего… Может, он и вправду пожалел раненого, одиноко стоявшего в непроглядной тьме под деревьями; может, и мужская солидарность заставила его подойти к сопернику, чтобы смыть с него кровь, перевязать его рану, хоть немного облегчить ему душу, напомнить ему то, о чем майор вспомнил вдруг сам, — то, что они братья, вылепленные из одной и той же глины рукой одного и того же, хоть и многоликого, бога. Но если бы борчалинец и подпустил его тогда к себе, майор ему все равно ничего не втолковал бы: борчалинец вдруг остался один, и это ранило его сильней, чем пуля. О ране он, наверно, и не помнил — а может, и вообще не знал, что ранен, и звука выстрела не слыхал; ибо еще раньше, до выстрела, его потрясло, оглушило, сковало неожиданное коварство женщины.
2
Мать вечно пугала его борчалинцем — поэтому, вероятно, он и рос ребенком робким, молчаливым. Даже оставаясь вдвоем, мать с сыном разговаривали шепотом; когда же она плакала, его губы тоже начинали кривиться и вздрагивать, и едва она спрашивала его: «Ты-то чего плачешь, глупый?» — он, уже не в силах сдержаться, утыкался лицом в ее подол и горько, жалобно всхлипывал. Анна прожила с мужем всего два месяца, а Георга никогда не видел отца вообще, но этот мертвый, давно уже похороненный человек был единственной, никогда не надоедавшей, неисчерпаемой темой их разговоров. Анна рассказывала Георге об отце, как о сказочном герое, и Георга любил его, как сказочного героя — самого красивого, сильного, умного, ловкого, доброго, но способного при этом одним взмахом своей короткой, острой сабли срубить все сто голов великана или по самую шею вбить в землю железного человека. «А нашего борчалинца он одолел бы?» — спрашивал Георга; и, когда грустно улыбавшаяся Анна в ответ молча кивала, ребенок был на седьмом небе от счастья. Его возносила туда тайная, скрывавшаяся им даже от матери надежда: Георга надеялся, что отец когда-нибудь оживет, разок потянется, как после долгого сна, и тогда уж борчалинцу несдобровать! Такова была тайная мечта Георги, в которой он не видел ничего странного, невероятного, — ведь мать говорила ему, что отца мертвым, покоящимся в гробу с руками, скрещенными на груди, не видел никто и, где он похоронен, тоже никому не известно. Но пусть он даже действительно погиб — почему же, спрашивается, ему было не воскреснуть? Воскресали же в сказках герои, не успевшие рассчитаться со своими врагами и поэтому не имевшие права на смерть! Поэтому же не мог умереть и отец Георги — ему нужно было сперва свести счеты с врагом. Отец Георги был убит при освобождении Чарбелакани; и, лишь получив извещение о его гибели, Анна почувствовала, что беременна. В то время она еще только привыкала быть женщиной, еще училась отмерять и дарить свое тепло и нежность, как хлеб или соль. Неожиданная смерть мужа ее ошеломила. Она никак не могла представить себе его мертвым — настолько живым, головокружительно живым оставался он в ее памяти. Кроме мужа, у нее никого не было, в Уруки он привез ее девочкой-сиротой; а два месяца спустя она осиротела еще больше. Правда, и ее не обделял своей заботой и молитвой отец Зосиме, но отец Зосиме был человек божий, его молитва охватывала всех, принадлежала всем страждущим поровну, и ни отделить от нее свою часть, ни увидеть ее было невозможно; невозможно было и спрятать в ней голову, как в сильных, беспокойных руках мужа, приносивших ей больше утешения, надежды, счастья, чем благословение и молитва. Руки мужа Анны пахли солнцем и пропитанной дождем землей, и, когда она спала в объятьях этих рук, ей снились родители, которых она никогда не видела — то есть видеть-то, возможно, и видела, но такой маленькой и так давно, что ничего уж не помнила; и она, затаив дыхание, блаженно и испуганно глядела на воскрешенных ее счастьем отца и мать. Так, в страхе и блаженстве, в слезах печали и радости, в сильных, горячих руках своего единственного защитника она постепенно становилась женщиной. «Почему ты опять плачешь?» — спрашивал муж, неожиданно разбуженный ее слезами; и она уверенным, дрожащим от искренности голосом отвечала: «Потому что люблю!» Два месяца длилось это счастье, неожиданно свалившееся на Анну и столь же неожиданно ее покинувшее. По правде сказать, и этих двух месяцев счастья она от жизни не ждала. Как все девушки, она, разумеется, тоже мечтала порой о будущем — ни способности, ни права мечтать у нее никто никогда не отнимал; но, выросшая сиротой, с самого начала обделенная, одинокая среди своих сверстниц, она и в мечтах была робка и нерешительна. Она никогда не говорила вслух, как другие девушки: «Вот вырасту-де и выйду замуж за такого-то». Этого она себе позволить не могла, хотя другие, ничуть не красивей и не умней ее, меньше чем за царевичей выходить не собирались, — она была сиротой, которую кормили из милости, и должна была благодарить судьбу, достанься ей хоть какой-нибудь горемыка вроде нее самой. Она ничуть не удивилась и не обиделась бы, если бы кто-нибудь из подружек обвинил ее в том, что ее отрепья отпугивают их женихов: Анна была убеждена в том, что ее сиротство и обездоленность — помеха и для других. Пока что, правда, она не видела от людей ничего, кроме сочувствия и помощи, но она тяготилась и тем, что причиняет им лишние хлопоты, и тем, что ее несчастья их огорчают. Поэтому она всегда старалась держаться в тени, не бросаться в глаза, как можно меньше напоминать о своем существовании, не мешать ничьему семейному покою и благополучию. Она сторонилась даже сверстниц: ей казалось, что без нее они были бы веселее, больше и охотней рассказывали бы о своих родителях, дедушках и бабушках, братьях и сестрах, новых игрушках и нарядах; при ней же им, по ее глубокому убеждению, было неловко хвастать тем, чего у нее никогда не было и не будет.
На масленой, когда вся деревенская молодежь толпилась вокруг качелей, она, укрывшись за каким-нибудь стогом или забором, издали глядела на веселую возню сверстниц — она боялась, заранее стыдилась того, что и ее в ее рваном платьице и прожженной, обтрепанной по краям косынке могут заметить, затащить на качели. Но там, под деревом, стоял такой веселый гвалт, что и она невольно улыбалась, захваченная весельем, детской радостью и счастьем подруг. Качели поскрипывали, сотрясая все дерево, со свистом рассекая воздух, и стоявшая на них девушка, с перехваченным от быстроты полета дыханием, со сверкающим от радости лицом, раскачивалась так сильно, что ее юбка взвивалась кверху, открывая крепкие белые голени, и снизу казалось, что она вот-вот вправду дотянется до звезд. «Прикройся, прикройся!» — верещали оставшиеся на земле товарки, словно она, летящая на качелях, уносила в чужую страну какую-то их общую тайну. И Анна за своим стогом или забором тоже невольно покачивалась в такт качелям, словно и сама мчась в некую чуждую, незнакомую, таинственную страну, — потому что улететь отсюда ей хотелось больше всего. А потом ее муж (хотя тогда-то он не был еще ее мужем, тогда они еще едва познакомились) силком раскрыл ее прижавшиеся друг к другу, как осиротевшие птенцы, пальцы и осторожно поцеловал ладонь. Анна уже любила его — любила так, что вместе с радостью почувствовала и смутную тревогу, словно была больна какой-то свирепой, неизлечимой болезнью и поцелуй этот мог заразить и его. Потом его не стало, и к Анне, как змея к оставшейся без присмотра корове, повадился ходить борчалинец. А как же иначе можно было назвать их отношения? Появлялся он лишь тогда, когда и деревня, и спеленатый в колыбельке Георга спали. Анна боялась его — по всему ее телу пробегала дрожь, когда этот чужой человек, едва войдя в комнату, сразу направлялся к колыбели и протягивал свою огромную ручищу с растопыренными пальцами прямо к лицу младенца, как бы согревая ее детским дыханием; другой же рукой он в это время вытаскивал из-за пазухи завернутую в грязную тряпку головку сахара с прилипшими шерстинками и совал ее оцепеневшей от страха Анне, и его круглая, как дыня, лысая голова, и вечно улыбающееся, как бы лишенное мускулов лицо без конца потели. Его руки пахли младенцем, и Анна была вынуждена терпеть его грубую, бездушную страсть каждый раз, когда из пропитанной деревенскими запахами темноты неожиданно выплывала его лоснящаяся голова — выплывала, чтобы потом вновь раствориться в этой же темноте. Вот так и корова не сопротивляется змее, а, боясь шелохнуться, оцепенело стоит на месте, пока змея не отсосет всего молока, пока вымя не ощутит секундной режущей боли, с которой отрываются от него холодные, упругие челюсти змеи. Корова боится не действий змеи, а ее самой — к дойке-то она приучена, ей даже необходимо избавиться от скопившегося в вымени молока; а кто ее выдоит, кто освободит ее от этой беспокоящей тяжести, ей, казалось бы, должно быть безразлично. В действительности, однако, общение со змеей настолько чуждо самой природе коровы, что вместо облегчения от дойки она испытывает лишь парализующий страх, от которого вымя засыхает вообще…
Такая долгая близость мужчины, кем бы он ни был, должна была, казалось бы, постепенно вызвать если не ответную страсть, то хоть какую-то привязанность в женщине, прожившей с мужем всего два месяца, едва успевшей стать женщиной и все-таки уже привыкшей к ласке и вниманию. Но Анна (чему она удивлялась и сама, часто об этом думая) ничего похожего не испытывала. Она чувствовала лишь боль и одуряющую усталость, подобно человеку, перенесшему тяжкую пытку и временно оставленному в покое лишь с тем, чтоб он не умер в руках палачей. Поэтому, видимо, ее и не мучили угрызения совести перед мертвым мужем — единственным мужчиной, который для нее существовал и который, сделав ее женщиной, своей смертью навек убил в ней женщину. Анна не изменяла мужу (этой мысли она не допускала ни на миг), а просто мучилась без него, пила, как собака помои, горечь своей безмужней жизни; борчалинец же был лишь частью этой горькой, мучительной жизни. Анна была одна, и никто не мог разделить ее одиночества, ее нескончаемых страхов, ее ничем не заслуженного, необъяснимого несчастья. Но когда ребенок стал подрастать, ее так потрясло, так ужаснуло его сходство с мужем, словно ее муж вернулся с того света. Нет, не вернулся — возвращался! Он был еще далеко, поэтому — то и казался таким маленьким; но постепенно приближался — с каждым днем рос. Рос ее заступник и судья, ибо один он мог, если это было возможно вообще, выгнать из дому незваного гостя, но один он мог и упрекнуть ее в том, что она впустила того в дом вообще. Подрастая, однако, ребенок, вместе со всем прочим, привыкал постепенно и к неожиданно выплывающей из мрака лысой, круглой, огромной голове борчалинца. Борчалинец никогда не приходил с пустыми руками; он качал ребенка у себя на коленях, щекотал его под мышками, и ребенок с удивлением и восторгом глядел на его крупные, словно светящиеся зубы. Вполне возможно, что маленький Георга и полюбил бы борчалинца, принял бы его за отца; ибо каждый ребенок знает, что там, где мать, непременно должен быть и отец, и это его врожденное знание — основа всего, что ему предстоит увидеть и изучить в будущем. Было б ничуть не удивительно, если б Георга принял чужого мужчину за отца, — ведь тот был вторым после матери человеком, которого он увидел. Как только он отводил взгляд от матери, ему били в глаза блики света на зубах борчалинца, и это было так занятно, так удивительно! Узнав же, что человек с такой круглой, блестящей, как серебряная монета, улыбкой — их враг и губитель, он сперва даже не испугался, а просто огорчился, словно у него отняли игрушку как раз тогда, когда он к ней привык, вошел во вкус…
— Но он не должен догадываться, что мы это знаем. Иначе он зарежет нас обоих… — сказала ему мать.
Георга входил в мир слепо и уверенно, как это свойственно всякой новой жизни; но загадка, встретившая его у первого же порога, была так головоломна, что справиться с ней ни его разум, ни его воля еще не могли. Мать упрямо твердила ему одно и то же, и Георга постепенно привыкал к страху — так же, как к одеванию без посторонней помощи. Теперь ему уже не доставляло удовольствия скакать на коленях у борчалинца— он сидел испуганно и напряженно, словно боясь, что тот вдруг скинет его на пол; и его полные слез глаза все время искали лицо матери. Тогда борчалинец насильно поворачивал его к себе и короткими, толстыми пальцами щекотал его под мышками до тех пор, пока мать не подхватывала его на руки — одуревшего, задыхающегося от невольного смеха! Теперь он всегда с нетерпением ждал ухода гостя, чтобы денек-два, а то и неделю-другую побыть вдвоем с матерью, чтобы вместе с ней плакать и бояться. Рядом с матерью, в тепле и аромате матери, испытывать страх было легко, даже приятно — его уже не было нужды скрывать, о нем можно было и поговорить с той необъяснимой гордостью, с которой дети обычно говорят о своих болезнях или каких-либо физических изъянах. Но совсем одни они все-таки не оставались никогда; рано или поздно «он» появлялся вновь. Он был неотвратим, как рок, — понимание этого и заставляло их постоянно думать о нем. Догадавшись, зачем он ходит к ним в дом, Георга старался уже не говорить о нем с матерью, но думать о нем стал еще чаще. Голова Георги была забита ужасными, пугающими видениями, и, лежа в темноте с широко раскрытыми глазами, он сердился на мать за то, что она не кричала, не звала его, но в то же время был и благодарен за это, ибо, услыхав сейчас в этой темной, пустой комнате крик матери, он тут же помер бы со страху! Без конца ворочаясь в своей, ставшей вдруг чужой, невыносимо жесткой постели, подавленный, оскорбленный, он наконец-то слышал знакомый шорох, извещавший об уходе гостя и конце его мучений. Гость уходил, но перед уходом непременно обо что-нибудь спотыкался; и когда мать говорила ему: «Тише, не разбуди ребенка!»— Георга ненавидел и ее за то, что она в нем не нуждалась и не только не стремилась к нему сама, но и от гостя требовала не шуметь, не будить его, как будто, проснувшись, он им так уж сильно помешал бы! Должно быть, ей было б лучше, если б Георга умер, если б его не было вообще — тогда ей не пришлось бы говорить шепотом и ходить на цыпочках в собственном доме! «Я не сплю, я все слышу!» — хотелось крикнуть Георге; но это была лишь минутная обида, вызванная неосознанной ревностью и быстро уступавшая место чувству более сильному и значительному: мать обрела свободу! Она опять свободна, ходит, разговаривает и, самое главное, помнит Георгу, думает о нем, не забыла, что где-то в этом темном, мертвом доме есть и он, притаившийся под одеялом темноты, надежно спрятанный, утаенный от пальцев и глаз борчалинца! И, едва за тем закроется дверь, она тотчас же подбежит к нему, дрожащими, холодными губами поцелует его, сладко и беззаботно, по ее мнению, спящего, поправит ему одеяло, понадежней укутает его, словно огонь в золе, необходимый ей не только на завтра, но и навсегда… «Господи, дай ему вырасти… не обездоль его, господи!» — шептала она в темноте; и Георга был самым счастливым человеком на свете, оттого что мать так любит, так жалеет его! Притворяться спящим было для Георги самой приятной игрой, хоть в этом и был сладостно-горький привкус греха: он чувствовал, что поступает не вполне честно, обманывая мать, заставляя ее делать и говорить то, что ему приятно и чего она не сделала и не сказала бы, зная, что он не спит. Этим он как бы вымогал ее внимание и ласку, но после всего, что он переносил в одиночестве темной, пустой комнаты, он так нуждался в этом внимании и ласке, что не стеснялся и слегка обманывать мать. К тому же, увидав, что он проснулся, она наверняка забеспокоилась бы, принесла бы лампу, стала бы расспрашивать его, почему он не спит, не болит ли у него что-нибудь, не приснилось ли ему что-нибудь страшное, — ему же было приятней ощущать прикосновение дрожащих, холодных губ матери в темноте, чем видеть ее встревоженное, растерянное лицо при свете. В темноте мать была искренней, нежней, ближе, а при свете — скрытнее, как-то скованнее, стыдливей; кроме того, при свете она казалась ему маленькой, щемяще слабой, беспомощной, в темноте же — как будто бесконечной, неисчерпаемой, приносящей надежду и облегчение! Георга и сам не замечал, как засыпал, тепло укрытый матерью, счастливый от сознания, что завтра мать будет принадлежать ему одному. И хотя дел у Анны было по горло — и за стиркой, и за вязанием она действительно принадлежала только Георге, и у нее было такое спокойное, красивое, чистое лицо, словно она только что сошла с небес и ничто, кроме воздуха и солнечного луча, ее никогда не касалось. Это-то, собственно, и наполняло Георгу надеждой на то, что мать будет всегда.
Так вот и жил Георга до тех пор, пока майор не пообещал подарить ему ружье — а все последовавшее за этим обещанием так и осталось для него не особенно понятным, трудно постижимым. Урукийцы утверждали, правда, что больше всех от сшибки майора с борчалинцем выгадал Георга; но если бы кто-нибудь из них смог заглянуть в душу Георги, он сразу понял бы, что это не так — в душе разочарованного ребенка он обнаружил бы такую печаль и боль, что хоть одну-две ночи после этого ему, будь он даже легкомысленнейшим, беззаботнейшим человеком на свете, спалось бы все-таки не так спокойно! Отца-то Георга приобрел, но вот друга потерял. Пока у него был враг, майор обещал ему золотые горы; но едва враг исчез, а майор стал его отцом, горы эти тут же рухнули, как домик из песка. Раньше, живя с майором порознь, они общались куда больше, чем потом, поселившись вместе. И ружье было тут же, рядом, — блеск смазанного дула без конца колол глаза Георге, непрерывно ощущавшему его волнующее, заманчивое молчание. Однако майор не только забыл подарить ему это ружье, но и просто-напросто запретил Георге к нему прикасаться! «Стрелка из тебя все равно не выйдет… нечего и патроны зря переводить», — сказал майор. А ведь раньше-то, до того как стать отцом Георги, он разговаривал совсем иначе — тогда он ни патронов, ни времени своего не жалел! И окопы рыть, и с ружьем маршировать, и с ружьем ползать, и в цель стрелять… бог весть чему только еще не обучал он Георгу; и, вернувшись домой, усталый, счастливый, Георга даже ночью видел сны, пахнущие порохом, окутанные пороховым дымом. «Заряжай, целься, пли, заряжай, целься, пли!» — слышался ему и во сне бодрый голос майора; и он радостно, без конца повторял одни и те же упражнения, пока не просыпался.
«С безоружным еле здороваются, а кто оружие имеет и пользоваться им умеет, тому в ноги кланяются», — говорил майор; и Георга блаженно мечтал о том дне, когда получит обещанное ружье и перестанет быть таким слабым и легким. Тогда он ни на миг не расстанется с ним днем, будет спать с ним в обнимку ночью — и понемногу ему передадутся и тяжесть, и сила, и громовой голос ружья…
Пока что, правда, в их семье все оставалось по-старому: борчалинец появлялся, как всегда, а мать, как всегда, улыбалась и вытирала заплаканное лицо, когда Георга неожиданно входил в комнату. И все-таки в душе у Георги уже возникла надежда — пусть пока еще робкая, слабая — на то, что и бесконечным всхлипываниям матери, и внезапным, но неотвратимым, как ночь, появлениям борчалинца, и, самое главное, его собственному детству когда-нибудь все же наступит конец. Анна с тревогой следила за переменами в жизни сына. Она чувствовала, что его упрямое стремление найти друга вне дома предвещало рост и возмужание, и ее сердце сжималось от страха — не потому, что возмужавший сын посмотрит на все иными глазами, не потому, что он возненавидит ее хлеб и воду, а потому, что у него, возмужавшего, и врагов появится больше, и убить его станет для них гораздо проще. Тогда ведь она уж не посмеет укрыть его под своей юбкой… да и сам он не станет держаться за эту оскверненную юбку, а предпочтет пасть жертвой ее осквернителя, мгновенно, как его отец, пролить свою кровь, накопленную Анной за долгие годы, по капле, в муках и страданиях, тайком от других! Видела она и то, что, сдружившись с майором, Георга стал небрежней и смелей разговаривать с их ночным посетителем. Пока что, правда, тот над этим лишь посмеивался, но именно этого смеха Анна и боялась, ибо знала его лучше Георги. Она не сомневалась в том, что цель этого смеха — еще больше подстрекнуть, раздразнить ребенка, заставить его полностью раскрыть свое слабое, беззащитное сердечко; смехом этим борчалинец как бы выманивал Георгу из его и без того ненадежного укрытия! При этом он порой поглядывал на Анну — как бы невзначай, мимоходом, наподобие человека, который, заметив упавшего наземь птенца, невольно глядит наверх, на дерево: откуда, мол, он свалился? Так смотрел и борчалинец — пока что он хотел лишь выяснить, откуда взялись у ребенка его новые слова и повадки; но у Анны от этих неожиданных взглядов стыла кровь, и ей оставалось только улыбаться: к чему-де обращать внимание на детскую болтовню…
— Что ж он его тебе не подарил? Поглядеть хоть, какое у него ружье… — говорил борчалинец. — А может, он чего в обмен ждет? Может, он его на маму твою менять хочет? А?
— Да пропадите вы оба пропадом! — деланно улыбалась Анна, не осмеливаясь, однако, хоть знаком показать Георге, чтоб он помолчал или переменил разговор; и Георга, подзадоренный смехом и беззаботным тоном гостя, храбрился еще больше. А тот лишь хрипло посмеивался, короткими, толстыми пальцами вновь щекотал подмышки Георги и, даже спиной чуя испуг Анны, не оборачиваясь к ней, говорил: «Ты-то чего беспокоишься? Мы с Георгой сами разберемся…»
Он раздражал Георгу все больше и больше — потому, возможно, что теперь, когда у мальчика появился друг с ружьем, его надежды на освобождение укрепились. Не следует думать, однако, что майор ему был понятен и симпатичен целиком. Майор был ему тоже чужд — в сущности, еще даже больше, чем борчалинец. Того он хоть знал с тех пор, как себя помнил; тот был в доме с самого его рождения, так же как мать, стол, лампа, кувшин с отбитым горлышком или черкеска отца, с распятыми на стене пустыми рукавами. С майором же Георга познакомился недавно. Впервые встретив его на улице, мальчик даже вздрогнул: человека в такой одежде он не видел еще никогда, золотые эполеты сверкали на солнце так, словно на плечах майора пылали два костра. И этот-то странный, опасный человек сам предложил ему свою дружбу! Георга лишь взглянул на него и сразу отвел глаза, словно устыдившись того, что его давняя тайная мечта так легко разгадана. Что такое дружба, Георга толком и не знал; но все его ежедневно растущее существо слепо, упрямо, самоотверженно искало именно друга, ибо ни с матерью, ни с борчалинцем он не мог быть таким, каким ему хотелось, — мать он жалел и любил, а борчалинца боялся и ненавидел. Он чувствовал, что друга ему надо искать вне дома — друг не должен был знать, каков Георга дома, друг должен был видеть лишь его истинную натуру, не скованную, не искаженную чувствами и обязанностями. У друга он должен был вызывать не жалость, как у всех односельчан, и не шутливое добродушие, которое они частенько выказывали, едва завидев Георгу, а готовность подвергнуться ради него любой опасности! По-этому-то он и отвел глаза от майора, когда тот, взяв его за подбородок, сказал: «Давай-ка с сегодняшнего дня будем дружить». Сначала он не поверил майору, решил, что и майор над ним потешается, прослышав об их семейных делах. Но когда майор посадил его на настоящую лошадь, дал ему подержать настоящее ружье, Георге захотелось довериться майору без колебаний, всем существом…
— Эх ты… басурман! — шутливо и ласково говорил ему майор. — Ладно… если уж он тебя так допек, подстережем его как-нибудь! Покажем ему, где раки зимуют…
Ружье валялось в траве, как бы не вмешиваясь в их дела, как бы ничего и не знача в сближении этих двух людей. Порой на него садилась, чтобы почесать себе шейку, красноногая стрекоза, порой по его гладкой блестящей поверхности пробегал испуганный муравей — но тяжелое, бесчувственное ружье лежало так же неподвижно. Георга украдкой тянулся к нему и, стиснув пальцами разогретый солнцем приклад, с одуряющим блаженством чувствовал, как в его вздрагивающую руку переливается незримая душа ружья. Но порой майор говорил вдруг что-нибудь такое, что заставляло Георгу растеряться, сжаться от испуга…
— А знаешь, на кого мы с тобой охотимся? — говорил он. — На бога, голубчик мой… на бога!
Потом он ложился на спину, подтягивал к себе ружье и прижимал его прикладом к груди. Вертикально стоящее ружье чуть покачивалось, словно из сердца майора выросло вдруг железное дерево. Майор медленно, раздражающе медленно нажимал на курок— и, хотя Георга во все глаза глядел на прижатый к курку палец, ружье каждый раз громыхало так неожиданно, что он невольно вздрагивал. Видя его испуг, майор со смехом говорил: «А что же с тобой будет, когда бог действительно шлепнется к нашим ногам?» В ответ Георга и сам посмеивался, пожимал плечами, как бы поддерживая майорские шуточки, но потом, когда он с широко раскрытыми от страха глазами вновь лежал один в своей комнате, во тьме, ему без конца чудился подбитый шальной пулей, валящийся с неба и бессильно хлопающий крыльями бог. Вполне возможно, что майор говорил это нарочно, видя природную боязливость Георги и стремясь помочь ему осилить страх, — ведь если Георга хотел в самом деле избавиться от их недруга, ему следовало прежде всего победить собственную трусость, вырвать из своего сердца страх и перед человеком, и перед богом! Поэтому-то его напускная смелость, замеченная и матерью и борчалинцем, и смахивала скорей на причуды и капризы невоспитанного ребенка. Его самого это раздражало, вероятно, больше всех, но сдерживаться, вернуться назад, в норку вечного страха и покорности, он уже не мог.
— Заткни ему пасть! Иначе я прикончу этого гаденыша… — орал борчалинец, обливаясь потом и выкатывая налившиеся кровью глаза.
Но остановиться Георга уже не мог. «В лоб, в лоб… между глаз!» — без конца повторял он одно и то же, словно помешанный.
— Оставь его… он сам замолчит! — умоляла Анна борчалинца. — Георгий! — кричала она сыну, чтоб отрезвить и унять его. Но ни гость, ни сын ее не слушали…
Одна она понимала, что и почему тут происходит, чем может закончиться ссора мужчины с ребенком. Вновь надвигалось несчастье, предназначенное специально для ее семьи несчастье — ему надоела праздность, оно словно бы проголодалось и сейчас, услыхав щебет оперившегося птенца Анны, двинулось вперед, чтоб еще раз обрушиться ей на голову, опять раздавить давнюю свою жертву…
Борчалинец еще долго старался утихомирить Георгу — вновь, как встарь, сажал его к себе на колени, щекотал под мышками, увещевал, предупреждал: смотри-де, выкинь дурь из головы! Но до конца он все-таки не выдержал, не смог себя пересилить — и, плюнув на деревню, в конце концов, основательно отдубасил Георгу, а затем и его мать.
Это Георгу и не удивило, и не обидело: к чему-то в этом роде он, сознательно или бессознательно, стремился и сам, смутно чувствуя, что это — единственный способ избавиться от борчалинца, терпеть которого ему становилось все трудней. Чувствовал он и то, что вызвано это было его дружбой с майором, — до этого он ведь как-то уж приспособился к существованию, к неизбежности борчалинца, находившегося в доме с тех пор, как он себя помнил. Представить себе жизнь без этого человека он мог разве что в мечтах, но это и были лишь мечты, вызванные желанием воскресить образ умершего до его рождения отца, — единственным, что делало их такими убедительными и привлекательными. И все-таки жизнь была совсем иной, чем мечта, в жизни все происходило иначе — об этом Георга уже догадывался, это его удивлять уже перестало. Мечта была наградой, даруемой богом людям, приспособившимся к жизни, — и Георга приспособлялся к жизни, чтоб сохранить свою мечту. Да, он приспособлялся к жизни, к судьбе, но появление майора вновь пробудило в нем желание бороться, вырваться из когтей судьбы! Теперь, возвращаясь после встреч с майором, оставаясь один, Георга дивился тому, как он мог столько времени выносить своего недруга, терпеть тряску на его коленях, щекотку его толстых пальцев. Но раньше Георга был мал, глуп, главное — рядом с ним не было майора; теперь же… теперь он приставил палец к потному лбу борчалинца и сказал: «Вот куда я тебе пулю влеплю!» Георга уже нанюхался порохового дыма, и его плечо все время ныло от резких толчков приклада.
Георга надеялся на майора — и, хотя тот опоздал, позволил борчалинцу поколотить мать с сыном, в конце концов, его надежда все-таки оправдалась. Но та страшная ночь, в которую ушел раненый борчалинец, не принесла Георге долгожданной радости, а лишь еще больше его напугала, главное же — впервые поколебала его веру во всесилие и справедливость майора. Пистолет майора и в ту ночь прогремел неожиданно, вновь заставил Георгу вздрогнуть — он не знал, что майор был вооружен. А ведь бог знает чем кончилась бы эта ночь, одинаково роковая для всех участников происшествия, если б у майора не оказалось пистолета или если б он не успел выстрелить, хоть немного помедлил бы! Ведь он стрелял в борчалинца сразу, почти в тот же миг, как его увидал, не ответив на приветствие, не дав ему времени и кинжал вытащить (хотя Георге показалось, что вытаскивать его тот вовсе не собирался)! Да и вообще борчалинец оказался зверем не таким уж опасным, раз майор стрелял ему не в лоб, а в руки! Но если так — тогда зачем было стрелять вообще? Зачем было проливать кровь, если вражда этим не заканчивалась, а лишь начиналась? Георга был еще ребенком, но и он понимал, что радоваться тут нечему. Если прежде виноват во всем был борчалинец, то теперь они провинились перед ним сами — его, явившегося, возможно, просить у них прощения (как знать?), они встретили пулей, заставили пролить кровь и слезы. Больше всего ужаснул Георгу его плач — ведь если он заплакал в их присутствии, значит, он их вообще уж ни в грош не ставит, ничего больше от них не хочет и, представься ему лишь случай, без малейшего колебания перережет глотки всем троим! Свою кровь он простил бы им скорей, чем эти слезы, — он мужчина и подобной слабости не перенесет, не успокоится, пока свидетели ее ходят по земле, так что ожидать, что он явится с гостинцами и предложит мир, попросит их навсегда забыть эту роковую ночь, было бы попросту глупо. Поправить нельзя было ничего — борчалинец непременно отомстит, это всем троим оставалось лишь молча принять к сведению. И все-таки главным для Георги было не это. Главным было поведение майора в ту ночь или, точней сказать, те сомнения, которые оно у него вызвало. Сейчас, когда все, что должно было случиться, случилось и первый страх прошел, майор оказался в глазах Георги не только коварнее, но и трусливей борчалин-ца! Победу в ту ночь одержали коварство и трусость — вот что ему было больней всего. Ведь раньше, в мыслях и мечтах, все рисовалось ему совсем иначе: в его воображении майор честно боролся с борчалинцем при всем народе, на глазах всей деревни. На обоих была разорвана одежда, оба были в крови и в пыли, но, в конце концов, майор одолевал, клал противника на обе лопатки, коленом придавливал ему грудь, и, побежденный в честном единоборстве, борчалинец признавал свое поражение и навсегда уходил из У руки. На самом же деле ему в ту ночь и рта раскрыть не дали, его даже не вызвали на бой (как это всегда делали сказочные герои, будь враги хоть вдесятеро сильней их). Вместо этого ему сразу продырявили обе руки, лишили его возможности действовать. Поэтому-то он и бился головой о дерево — его мучило собственное бессилие, а вовсе не страх перед блестящими эполетами майора! Единственным в ту ночь, кто совсем не испугался, был борчалинец — так, во всяком случае, показалось Георге. Побежден он был потому только, что не знал заранее, с кем имеет дело, не знал, что ему и оружия выхватить не дадут. Отец Георги поступил бы не так — Георга был уверен, что его отец никогда не напал бы на врага прежде, чем тот изготовится к бою. Поэтому-то он и погиб — его погубил избыток мужества и благородства! Отдав хоть половину этого мужества сыну, он был бы жив и сейчас, и Георга не нуждался бы ни в чьей опеке, а борчалинец на его мать и взглянуть не посмел бы; тогда же им, ясное дело, ни к чему был бы и майор, и жили б они, довольствуясь малым, но спокойно и честно, как все люди…
И все же после изгнания борчалинца Георга и представить себе не мог жизни без майора — он боялся собственного дома, в каждом темном уголке ему чудился борчалинец с оскаленными зубами и руками, скрещенными на животе. Правда, после той ночи и майор изменился до неузнаваемости. Георге почти уж и не верилось, что совсем недавно они, как двое сверстников, бродили по лесам и оврагам. Но он был готов вытерпеть все: пусть майор ругается, обливает грязью и его, и мать, стучит кулаком по столу, хлещет водку, как воду, и проклинает свою судьбу — лишь бы он был здесь и не уходил (хоть и напуган он был не меньше и страх свой скрывал не лучше, чем они сами). Теперь майор был у них частым гостем, и это казалось и матери с сыном, и урукийцам вполне естественным. После ранения и изгнания врага было бы, в самом деле, чудовищной несправедливостью бросить Георгу и его мать на произвол судьбы, так что майор был если не обязан, то уж, во всяком случае, вынужден защищать их — до тех пор, пока что-либо не избавит их от угрозы мести. Но сейчас, приходя к ним, он уже не рассказывал охотничьих небылиц — сейчас он, как загнанный зверь, метался взад-вперед по комнате, а при каждом шорохе во дворе поднимал голову, застывал и весь обращался в слух; потом, залпом осушив полную рюмку водки, он вновь принимался бегать от стены к стене. «Что я вам сделал плохого… чего вы ко мне привязались?» — орал он, поглядывая на прибитую к стене черкеску; и мать с сыном сокрушенно молчали. Они не сомневались в том, что виноваты перед майором, навеки в долгу перед ним, единственным человеком, посочувствовавшим их несчастью, заступившимся за них и этим навлекшим на себя грозную опасность. Они беспрекословно выполнили бы все, что он от них потребовал бы, но он ничего не требовал, он только изливал на головы обоих свою бессильную ярость и ненависть, а немного отведя душу, захлопывал за собой дверь с такой силой, что весь дом дрожал, как при землетрясении. Иногда же он превышал свою водочную норму и не только хлопать дверьми, но и встать со стула уже не мог — засыпал на полуслове и во сне выглядел таким беспомощным и измученным, что у Георги и Анны надрывалось сердце, и они, не зная, чем еще ему помочь, осторожно перетаскивали его со стула на тахту.
Пистолетный выстрел положил конец не только бесконечным визитам борчалинца, но и дружбе Георги с майором. Помимо этого он вызвал и многие другие перемены в жизни Георги; но его разум не поспевал за глазами, был не в силах усвоить все, что ему вдруг пришлось увидеть, не мог понять смысла этих многочисленных перемен, имевших, однако, огромное, можно даже сказать, решающее значение для всей его последующей жизни. Этого Георга не знал, о будущем он тогда не думал вовсе, но он смутно чувствовал, как с оглушительным скрежетом поворачивалась на своей невидимой оси грубая, беззастенчивая сила жизни, толкавшая его в грудь, как бы отстранявшая его от себя и этими бесконечными, ошеломляющими толчками доказывавшая, что он лишний, что и то незначительное пространство, в котором разместилось его маленькое, съежившееся от страха тельце, занято как бы незаконно. В день же, когда Георга увидел свою мать вместе с майором на тахте, его существование окончательно потеряло смысл. Сперва он просто глазам своим не поверил. Что же это, в самом деле, получилось: майор заменил борчалинца, вот и все? Какой же дурацкой бессмыслицей были тогда все вынесенные им страхи! Если весь закруживший их семью вихрь только это и означал, а во всем остальном ничего не изменил, то какое значение могло иметь, кто будет тискать его мать, борчалинец или майор? Хотя нет… если уж на то пошло, борчалинец был все-таки лучше! За все эти десять лет Георга хоть ни разу не видел его и мать в постели. Он знал, что они спят вместе; но уж столько-то приличия, чтоб не обниматься при нем, у них все-таки было. Удавалось им это или нет — они хоть старались скрыть от Георги смысл своего уединения…
Разинув рот, он глядел на лежащих на тахте. В этот миг он их обоих ненавидел, но почему-то и жалел. Оба действительно выглядели какими-то несчастными, на них не было лица. Мать показалась ему просто уродиной! Она словно в грязи вывалялась; выбившиеся из-под косынки клоки волос неопрятно липли к ее покрытым красными пятнами лицу и шее. Майору же никак не удавалось всунуть руку в рукав мундира; он был смертельно бледен и походил на человека, впервые вставшего с постели после долгой болезни, за время которой разучился одеваться сам.
— А что ж ты думал? — крикнула сыну Анна.
И в самом деле: что он себе думал? Почему он думал, что жизнь устроена по его понятиям? Ну, а чем виновата жизнь, которую он представлял себе сотканной из одних чистых мечтаний и нежных призраков, этакой золотой клеткой с пестрыми сладкоголосыми птичками? Виноват был прежде всего он сам! Жизнь— это искажение мечты, это сон, сбывшийся наоборот: это не красивые, ласкающие слух слова, а стоящая за ними суровая, беспощадная правда. И у жизни всегда хватит сил ошеломить задумывающегося о ней ребенка, в корне переделать его, повести его за собой, навстречу новым, все большим и большим бедам и разочарованиям…
Потом майор женился на матери Георги, и Георге стало как будто и не в чем упрекать его: ведь теперь спать с матерью ему разрешил сам отец Зосиме. Но и тогда Георга не ощутил ни малейшей радости — неожиданная свадьба эта заставила его лишь больше усомниться во всем, еще больше встревожила его душу, и без того привыкшую уже к разочарованию. И в глазах матери он тоже не обнаружил ни капли радости или счастья — у нее было такое лицо, словно кто-то над ней подшучивал, словно ее белое платье и цветы на голове были навязаны ей, только чтобы посмешить людей. В церковь Георга шел нехотя; в ушах его звенело, а перед глазами без конца вертелась какая-то чернявая девчонка с ободранными коленками. Эта худенькая, босая девчонка прыгала вокруг Георги, как стрекоза, и, едва поймав его взгляд, тотчас же показывала ему язык. Георга не узнавал ее — сейчас он вообще никого не узнавал, словно попал в чужую деревню. Объяснялось это, возможно, и тем, что он никогда еще в жизни не видел матери в белом платье (да и после этого тоже); поэтому ему навсегда запомнились и ее одежда, и ее лицо — со сжатыми губами, беспомощное, испуганное, затерянное в бесконечной, мучительно бесконечной белизне, словно мертвая птица в снегу! Можно смело сказать, что это было сильнейшим впечатлением за всю бесцветную жизнь Георги, с самого ее начала до конце. Свадьба матери оказалась примечательной и тем, что в этот день Георга впервые напился — в первый, но и последний раз в жизни; ибо после этого он и опьянения стал бояться как огня и, вспоминая этот единственный случай, всячески остерегался отупляющей, оскотинивающей силы вина. Ведь и вино не пощадило Георгу, и оно посмеялось над ним: расхрабрившись от вина и вообразив себя почему-то защитником отчима, Георга в своем тосте, наряду с множеством других глупостей, пообещал избавить его от борчалинца. «Будь спокоен, с этим драконом я справлюсь — не зря ж меня Георгием нарекли…» — сказал он; и, когда за столом раздался взрыв хохота, он почувствовал себя еще уверенней. В эту минуту он любил весь мир и, если б сейчас в комнату вошел борчалинец, он потянулся б целоваться и с ним так же, как с любым другим гостем на свадьбе. «Господи, упокой одного моего отца, а другому пошли долголетия», — повторял Георга слова, на ходу внушенные ему какими-то недобрыми остроумцами, и не понимал, почему мать плачет, когда все кругом веселятся, поют, смеются, едят, пьют…
— Во-первых, — сказал ему майор на другой же день, — во-первых, ты не Георгий, а Георга. Во-вторых, ты и мухи убить не способен, а языком такое вчера молол — остановить нельзя было! Да ведь не то что ты — и тот Георгий, настоящий, дракона своего до сих пор еще не убил. Все убивает да убивает — а видел ты на одной хоть иконе дракона мертвым? Либо пасть разинута, будто он Георгия вот-вот вместе с конем проглотит, либо хвост вздернут, словно сейчас его надвое рассечет… вместе с лошадью опять-таки. Копье-то ему в бок воткнуто, верно, но сдохнет ли он от этого, еще неизвестно! Он, знаешь, вроде твоего борчалинца — не успокоится, пока не околеет или же врага своего с потрохами не сожрет. А ты, если в Георгии лезешь, или убей его, или дай ему убить себя. Это же твой долг! Не воображаешь же ты, что кто-то другой за тебя в пасть к нему полезет! Ты уж не маленький… когда человек вино пьет, ему смотреть в рот другим нельзя. Хвастаться легко — ты лучше подумай, как свое обещанье сдержать, чтоб и мать еще раз не овдовела, да и ты чтоб свой долг мне выплатил.
После этого Георга часто думал о том, что он наболтал спьяну, — хотя, действительно ли обещал убить борчалинца, толком уже и не помнил. Дети вообще много думают о смерти, ибо их, в отличие от взрослых, мысль о собственной смерти не только страшит, но, как это ни странно, и радует. Точней, радует их мысль не о своей смерти, как таковой, а о потрясенных их смертью, убитых горем родных! Уверенность в неотступной, никогда не уменьшающейся любви этих родных доставляет детям такую огромную, ни с чем не сравнимую радость, что они без конца ищут подтверждения этой любви, стремятся везде, во всем находить новые и новые ее доказательства — и потребность эта в них так сильна, что они невольно, почти бессознательно начинают размышлять о смерти, сильней и ярче всего выявляющей то чувство, которое им так необходимо и которое в обыденной жизни чаще всего перемешано со множеством других, мелких и незначительных. Так что Георга и до майора не раз уж думал о своей смерти, не раз уже замирал в блаженных слезах, представляя себе мать на коленях перед его мертвым телом — мать, находившуюся в этот миг в другой комнате вместе с борчалинцем и о Георге, вероятно, и не думавшую. А Георге хотелось быть рядом с матерью именно сейчас; если ж это было невозможно, то он невольно забредал в холодное, угрюмое царство своей воображаемой смерти, мысленно наказывал ею мать за невнимание, за свое невыносимое одиночество, за несправедливость жизни, не считавшейся с тем, что он любит мать и нуждается в ней больше, чем кто бы то ни было! Слова майора заставили Георгу думать о своей смерти по-иному. Получалось, что его смерть значила больше, чем его жизнь. Своей смертью он мог сделать добро! Тогда у майора не было бы больше причин бояться борчалинца, и он, естественно, перестал бы ругать и бранить их; а главное, тогда его мать не рисковала б уж вновь овдоветь! Из огня да в полымя — вот как обстояли дела Георги! Борчалинец таскал ему мед и топленое масло, зато отбирал мать; майор же и окончательно отнял мать, и потребовал еще его жизнь в придачу.
И урукийцы еще утверждали, что больше всех выгадал Георга! Разумеется, это было не так, и лучше всех знал это он сам — он сам да еще какая-то тетушка Пело, которую в день свадьбы его матери без конца поминала та неугомонная, как стрекоза, девчонка. Георга ее уж и не помнил, облик этой девчонки-стрекозы совершенно изгладился из его памяти; но разговор с майором почему-то напомнил ему и разговор с ней— не разговор даже, а всю ту чепуху, околесицу, которою был этот день, день свадьбы матери, вообще! Венчания матери Георга не видел, он был даже не вполне уверен, что ее действительно ведут венчать — с головой в цветах, в белом платье, наподобие ведьмы Кекелы, которая, одевшись таким же образом, ходила иногда по Уруки, приглашая всех к себе на свадьбу. Стало ли Георге стыдно, или он испугался, но затащить его в церковь так и не смогли. Его долго тянули и подталкивали; но он, ногтями цепляясь за шершавую стену церкви, вспотев от волнения, все время вырывался из рук назойливых доброхотов, которые, с трудом сдерживая ухмылки, издевательски журили его: «Как ты себя ведешь? Войди в храм, укрась свадьбу матери!» Но Георга чувствовал, что говорится это не от доброго сердца, что в церкви ему делать нечего, что его появление там лишь всех насмешит (и что, в самом деле, может быть смешней невесты, пришедшей венчаться вместе с десятилетним сыном?). В этом его убедила, кстати, и та босая, черная, как уголь, девчонка, бежавшая за ним вприпрыжку и без конца показывавшая ему язык — не весело, а как-то сосредоточенно, так, словно в Георге, как в клетке с прутьями, был заперт какой-то маленький осиротевший зверек, разглядывание которого и волновало девчонку, и заставляло ее прыгать. Оставшись один, Георга прижался спиной к шершавой церковной стене, как бы стремясь слиться с ней, стать незаметным, как ящерица на солнцепеке. Из церкви не доносилось ни звука, солнце пекло голову. По церковному двору пробежал дрозд; ни на миг не сводя с Георги своего блестящего, неподвижного глаза, он что-то с силой клюнул, защебетал и взлетел. И Георга никак не мог отделаться от дурного предчувствия — так, словно с ним должно было произойти или уже происходило что-то страшное, ужасающее…
— Тетушка Пело говорит, — сообщила ему выскочившая откуда-то девчонка, — скоро-де его из дому пинком вышвырнут. Лучше, говорит, ему было б сиротой остаться, чем отчима завести!
— Кому это? — притворился непонимающим Георга, почувствовав, однако, как его сердце учащенно забилось, а лицо начало гореть — не от солнца, от стыда.
— Кому, кому… тебе, ослу, кому ж еще? — выпалила девчонка, отскакивая в сторону, точно Георга собирался ее стукнуть; но он и не шелохнулся и по-прежнему стоял, прижавшись к стене церкви. Не осмеливаясь взглянуть ей в лицо, он видел лишь ее ободранные коленки и грязные лодыжки.
— Язык придержи, не то… — сказал Георга, только чтобы что-нибудь сказать.
— Не то что-о-о? — скривила губы девчонка.
— Да отвяжись ты от меня! — сказал Георга дрожащим голосом.
— Хи-хи… — рассмеялась девчонка, но Георга почувствовал, что ей стало его жаль. Ее смех был деланным, напускным, и смеялась она, только чтобы скрыть внезапно возникшую жалость, избавиться от нее. — Тетушка Пело говорит, — продолжала она, помолчав, — теперь-де его и хлебом и кровом попрекать станут…
— Твоя тетушка Пело ничего не понимает, — возразил Георга. — Майор мой друг… из-за меня он борчалинцу руки продырявил!
— Хи-хи! — опять рассмеялась девчонка. — Тетушка Пело говорит… — Внезапно она замолчала, может быть, и в самом деле испугавшись Георги, который вдруг отошел от стены и напряженно уставился ей в глаза. — Ты с Дата драться будешь? — спросила она немного погодя.
Георге лишь того и хотелось — переменить разговор; он чувствовал, что, продолжая его, девочка скажет сейчас о майоре нечто ужасное, нечто такое, чего ему слышать не надо. Чтоб отвлечь ее, он с притворным интересом спросил:
— А кто это Дата?
— В башке у тебя не мозги, а вата! — мгновенно, не задумываясь, откликнулась девчонка.
Но тут из церкви повалил народ, и Георга сразу забыл и эту девчонку, и ее чепуху. Когда же он вновь вспомнил ее, все сказанное ею показалось ему вдруг не такой уж чепухой! Девочка эта не дразнила его, не насмехалась над ним — она пришла к нему как вестница будущего. Ей была поручена тяжкая, неприятная обязанность, это она чувствовала и сама, поэтому-то и говорила так сбивчиво: она щадила, жалела Георгу, с детской хитростью старалась замаскировать, смягчить то, что ей надлежало сказать, разбавить и ослабить это какими- нибудь бестолковыми, ничего не значащими словечками. Это было нелегко; но девочка считала себя обязанной хоть как-то предупредить Георгу, объяснить, что готовит ему судьба, что повлечет за собой свадьба его матери и майора. Девочка эта была искренной и доброй, как птичка. Георга ее просто не понимал — ему было не до нее или же не хотелось слышать от людей то, чего он так боялся сам. До подтверждения своих предчувствий другими он мог еще на что-то надеяться, убеждать себя, что предчувствия эти вызваны лишь его трусостью, его беспричинной минутной ревностью. Но майор не дал ему и духу перевести — и вино в нем не перебродило еще как следует, когда тот бросил ему в лицо: или убей, или дай убить себя; рисковать из-за тебя головой я не собираюсь и даром кормить тебя тоже! А ведь раньше, когда они жили отдельно, когда майор не стал еще мужем матери и его отцом, он катал Георгу верхом, учил его стрелять из ружья, даже подарить это ружье обещал… потому что он, как выяснилось, замыслил просто занять место отца Георги, заменить мертвого отца, хотя заменить его не мог никто, как бы ни старался, ибо все умершее неповторимо и непреходяще. Но это Георга понял лишь после свадьбы матери; и тогда же он впервые по-настоящему ощутил отца не в сказках матери, а в себе самом — кровью, плотью, костями почувствовал, как отец вторично рождается в его бытии, как в его маленьком теле возникает, растет, распрямляется огромное тело отца. Он задыхался, его суставы трещали, вся плоть рвалась, но он упрямо скрывал боль, чтоб ничем не помешать второму рождению или пробуждению от долгого сна человека, способного существовать лишь в душе сына; ибо для мира он уж умер, и для себя самого тоже, и единственное место, где он не мертв, это душа сына, — там он еще нужен, там он вновь трудится и созидает, как червь-шелкопряд в коконе, которому суждено превратиться в бабочку и еще хоть разок вспорхнуть в воздух, прежде чем исчезнуть окончательно и навсегда. Так что единственно, что Георга приобрел взамен утерянного, было живое ощущение мертвого отца. И это что-то значило — даже много, очень много… Именно это и было, в сущности, спасением Георги; именно это странное, необычное, неожиданное присутствие человека, скончавшегося до его рождения, и наполняло его тем невообразимым спокойствием, которое овладевает порой людьми обреченными — обреченными на общую судьбу. Да, он и его отец были люди одной судьбы и, подобно прошлому и будущему, богу и человеку, существовали лишь друг в друге и друг для друга! Этого же Георга слепо, бессознательно требовал и от майора, ибо был еще ребенком и не понимал, что основа истинной дружбы — не в совпадении желаний, возможном лишь на очень короткое время, а в общности судьбы, какой бы горькой и унизительной она ни была. Сближение с мертвым отцом — вот что, прежде всего, противопоставило Георгу майору. В один прекрасный день он совершенно спокойно почувствовал, что майор ему ненавистен, но это была ненависть без яда и злобы, а потому и легко переносимая, практически мало чем отличавшаяся от отвращения к какому-нибудь определенному блюду, фрукту или овощу… отвращения, которое, однако, никогда ведь не заставит тебя уничтожать ненавистный предмет за то только, что тебе не нравится его цвет, вкус или запах! И все же отвращение это оказалось достаточно сильным для того, чтоб Георга никогда не ночевал под одной крышей с майором: до самой своей смерти он жил в ослином хлеву, выстроенном по заказу майора анатолийскими греками в конце двора, на месте прежнего лошадиного стойла. Еще до этого дом отца Георги разобрали, а камни использовали для нового, двухэтажного на городской лад дома, который начали возводить на месте бывшего жилища Макабели те же анатолийские греки, «дешево и сдельно» нанятые майором в Ахтале. А пока новый дом сооружался, все они жили под открытым небом, как цыгане, — и строители дома, и будущие его обитатели.
3
Когда он приехал в Уруки, его виски были уже слегка припорошены сединой. Он знал, что возвращается на родину, но, покинув ее давным-давно, совсем еще мальчиком, он сейчас не мог отделаться от ощущения, что его насильственно сослали в какую-то далекую, чужую страну. В этом не было ничего удивительного: во-первых, никого из его родных в этой стране уже не было, и ничего хорошего он о ней помнить не мог, так что никогда по ней и не тосковал; во-вторых, его возвращение в прошлое, которое ему всю жизнь хотелось оставить за спиной, навсегда забыть, было и в самом деле вынужденным. Как же, если не вынужденными, назвать действия человека, не имеющего выбора, делающего не то, что хочет, а то, что может по обстоятельствам? Таков уж был подарок его треклятой судьбы: это была судьба, это она устроила так, чтоб его наследственный дом оказался за тридевять земель, именно на его бывшей родине! А для него родина всегда — и до того, как он ее потерял, и после возвращения — означала лишь одно: убежище.
Ему было пять лет, когда он остался один на свете. Он плохо помнил, как спасся сам, но в его душе и сознании навек запечатлелось то, что он видел в последний миг своего пребывания в родительском доме: как бы опустившуюся на колени возле стены, судорожно прижавшуюся к ней щекой и ладонями мать; покачивающуюся в луже крови колыбель и бессильно свесившуюся из раскинутых пеленок ручку младшей сестры; отца, лежащего ничком в дверях с отпечатком чьей-то грязной ступни на спине; бабушку с остановившимися от ужаса глазами, изо всех сил вцепившуюся в ножку стола, — и неожиданную, пугающую белизну ее старческого тела под разорванным платьем. А еще ему запомнились тогда бесконечный, перехватывающий дыхание полет и внезапно кинувшаяся к нему мостовая; но он никак не мог вспомнить, сам ли спрыгнул с балкона, или его столкнули оттуда «они» — те, кто неожиданно, впопыхах толкая друг друга локтями, ворвались к ним в комнату. Потом он долго скитался по окрестным селам, и хотя во многих из них находились добрые семьи, в которых он мог бы остаться навсегда, ему не сиделось на месте: как мог доверять чужим домам он, которого не пощадил и свой собственный? Всюду, где бы его ни приютили из милости, стоило ему лишь опустить голову на подушку и закрыть глаза, как во всех углах нового, еще непривычного ему жилища появлялись убитые родные. «Спасите мальчика, спасите мальчика!» — вновь слышался ему страшный, нечеловеческий крик матери, и он сломя голову убегал из только что обретенного убежища, не веря уже, что кто бы то ни было сумеет спасти его, если когда-нибудь повторится тот роковой день — день, ставший для него постоянным, бесконечным источником непреодолимого ужаса, кошмарных видений, новых и новых несчастий. Время шло, в этих бестолковых скитаниях он незаметно рос, но в снах он неизменно был все тем же пятилетним мальчиком и так же, затаив дыхание, вновь и вновь падал на мостовую, словно сорвавшийся с ветки плод, который не упасть не может. Больной от страха и недоверия, он был уверен, что люди, вырезавшие его семью, до сих пор бегут по его следу, впопыхах толкая друг друга локтями, и не успокоятся, пока и его не прикончат. Уверенность эту поддерживал в нем и весь окружавший мир, как бы специально назло ему перевернувшийся вверх дном и возвращаться в нормальное состояние, казалось, и не думавший. Он видел трупы — и на виселицах, и в придорожных канавах, с лицами, кое-как прикрытыми ветками; но он не знал, кто кого, почему и за что убивает, и ничуть не удивился б, если б и ему накинули на шею петлю или распороли брюхо штыком. Он уже многое повидал — и все-таки был не в силах понять, что же происходит на его родине. Люди, во время его скитаний без конца менявшиеся — но вместе с тем и очень походившие друг на друга, — или скрывали от него правду, или не обращали на него внимания. Те, кто подбрасывали ему горбушку хлеба, те, кто укладывали его спать на собачьей подстилке, ничуть, вероятно, не огорчались утром, найдя эту подстилку пустой, а горбушку размоченной грязными слезами и кое-где объеденной, словно ее грыз пугливый мышонок. А пугало его все на свете: и Ага Магомет-хан, которого все вокруг проклинали, и войско белого царя, которого все с нетерпением ждали, хоть и понятия не имели, с какой стороны и когда оно должно появиться. Подобно другим, и ему было невдомек, что в тот роковой день, когда он спрыгнул или был сброшен с балкона, вместе с ним на мостовую упала и его родина — упала так, что сумеет ли она когда-либо вновь встать на ноги, было еще вопросом. Этого он не знал, а если бы и знал, то ни огорчиться, ни пожалеть об этом не смог бы — тяжесть собственного несчастья отняла у него способность жалеть других. Он хотел лишь одного: спасти собственную жизнь, навсегда пропитавшуюся страхом, услыхавшую дыхание близкой смерти; и эту жизнь он не мог посвятить никому, а уж меньше-то всего родине — и родина ведь не сумела защитить его, когда он был беспомощным ребенком и больше всего нуждался в защите. Если он спасся, то лишь благодаря крови его родных, пролившейся внезапно и сразу, как вода из лопнувшего в руке стакана! Из этой крови, брызнувшей в безмолвные лики икон, из крови, в которой качалась колыбель его младшей сестренки, он родился вторично, одна эта кровь и задержала убийц, которые, поскользнувшись на залитом ею полу, просто не успели до него дотянуться. Так что жизнью своей он не был обязан никому, кроме этих слабых, но искренне любивших его людей, собственными телами заслонивших его, задержавших двинувшуюся к нему смерть, пока он не успел спрыгнуть — или упасть — с балкона этого проклятого дома. Теперь же, не имея никого на свете, он должен был жить только для себя и из тех трех-четырех литров крови, которые ему удалось сохранить в жилах в час смертельной опасности, вновь зачать и родить и отца с матерью, и сестру, и бабушку — так же, как некогда зачали и родили его самого. Для этого он и жил, и все существовавшее вокруг нужно было ему только для этого. Рано пережитый испуг и законы жизни, не привыкшей подчиняться человеческим планам, могли на какое-то время помешать ему, задержать осуществление этого замысла — и все-таки он ни на мгновение не сомневался, что когда-нибудь у него будет крепко выстроенный, надежно защищенный от бурь этого мира дом — не дом даже, а казарма, крепость, цитадель, где он, наподобие беременной хевсурки, уединится, укроется от мира, дабы дать начало новой жизни, более предусмотрительной, более чуткой к опасности, чем жизнь его родителей, не сумевших в это страшное время затеряться, юркнуть в какую-нибудь норку, самим позаботиться о себе, но положившихся на бога, с молитвами и песнопениями встретивших слепую, наглую смерть!
А потом он встретился с войском — иссушенным жарой, белым от пыли войском — и почему-то сразу догадался, что это то самое войско, которого все ждали с таким нетерпением, то войско, которое должно было проучить Ага Магомет-хана. И хотя и одежда, и оружие, и весь вид этого войска ему были чужды и непривычны, он мгновенно, как по наитию, понял, мгновенно, не колеблясь, поверил, что оно — самое верное убежище, что лишь рядом с ним его жизнь будет защищена надежно, что только среди этих огромных фургонов и пушек он сможет спастись от воображаемых преследователей, жаждущих именно его крови.
Лагерь был раскинут рядом с большой дорогой; его границы обозначались резким запахом огня, железа и пота. Солдаты сидели вокруг костров. Ни таких людей, ни таких лошадей он никогда раньше не видел! Конские гривы соломенного цвета, сплошь усеянные репейником, спускались почти до копыт, и распряженные лошади ступали по траве так медленно и осторожно, словно проверяли эту чужую землю, сомневались в ее прочности, в ее способности выдержать тяжесть их огромных тел. Сидевшие у костров солдаты с багровыми лицами, бородатые, в распахнутых до пояса рубахах, тоже казались великанами и на маленького оборванца глядели со спокойным безразличием. Было, впрочем, непонятно, видят ли они его вообще, — в сравнении с ними он был так мал, что, возможно, и вовсе не попадал в поле их зрения. Ветерок, отягощенный запахами людей и лошадей, медленно, вяло колыхал отстегнувшийся край полотнища одного из фургонов. От солдат веяло угрюмой усталостью и щемящей тоской — общей, не успевшей, за недостатком времени, разделиться, стать личной и нывшей в каких-то тайных уголках их душ, словно распаренная в сапоге нога, — глухо, почти даже приятно.
Утром, когда войско тронулось в путь, вслед за ним пошел и он — и уже не отставал, пока не встретился с Капланом Мака бели. Так укрывается в тени движущейся арбы пес, вынужденный бежать с высунутым языком; ибо едва он замедлит шаг, арба отъедет, и он вновь окажется на солнцепеке. Вместе с войском он прошел долгий путь, где многое увидел и многому научился. Он научился мыть лошадей и солдатскую посуду, сворачивать самокрутки, выпускать из носа дым и, что особенно восхищало солдат, очищать душу от озлобления забористым трехэтажным сквернословием. Так что свой котелок каши он получал не зря! Вскоре он стал неотъемлемой составной частью войска, единственным развлечением и единственным другом этих вечно вооруженных, вечно шагающих по дорогам людей. (Впоследствии, став солдатом сам, вышагивая собственные двадцать пять лет, он всегда с благодарностью вспоминал своих первых безликих и безымянных учителей, позволивших ему еще ребенком вкусить всю тяжесть и всю сладость солдатской жизни.)
Оборванный и босой, он шел в хвосте лениво тянувшегося, пахнущего потом и кожей обоза. Но сейчас он уж не дрожал от страха, гак как был не один — или, сказать точней, не был исключением. Ибо, бродя с войском, он твердо усвоил, что чего-нибудь боится каждый: войско это, например, местного населения, а местное население — войска. Страх этот был вызван их чуждостью друг другу. Местному населению войска были, конечно, не в диковинку; но свой солдат пил поднесенную ему воду жадно, без опасений, половину ее выливал на свои раскаленные солнцем доспехи и при этом не сводил глаз с девушки, подавшей ему напиться; а та, опустив глаза, раскрасневшаяся, взволнованная близостью защищающего ее юноши, с нетерпением ждала мига, когда он, отведя кувшин от губ, распустит морщины на лбу и вместо «спасибо» скажет: «А твоей маме, детка, зятя не нужно?». Это войско, однако, было другим, совсем другим— и настолько чужим, что его невольно сторонились. Люди даже не решались поднести солдатам воды или фруктов: иноземных войск, пришедших с миром, они не видели еще никогда; десятки раз уже принимавшие врагов за друзей, они отвыкли доверять. Но и для войска все тут было чуждо — не только люди, но и сама природа, ее странные, внезапно меняющиеся краски, крепкие, навек устоявшиеся запахи во дворах и проулках! Встретившиеся по прихоти судьбы войско и народ ничего друг о друге не знали, друг друга не понимали, поэтому друг другу не доверяли и вид у них был такой, словно они лишь сию минуту разошлись после рукопашной, чтобы перевести дух и подлечить ушибы. Скрежеща колесами, стуча коваными сапогами, войско с барабанным боем шло по деревням, которые и деревнями-то назвать было трудно: они казались совсем вымершими, в них не было слышно ни собак, ни петухов. И все-таки на шум идущего войска дверь какой-нибудь хлебнувшей горя лачуги несмело приоткрывалась, и из нее, как знамя мира — не мира, а бессилия! — выглядывала перемазанная фасольной похлебкой удивленная и любознательная детская рожица. А поднятая сапогами пыль входила в дома и лениво, без разбора покрывала божницы и висевшее на стенах оружие покойных хозяев, пестрые паласы и дребезжащую посуду; жалобно скулили прятавшиеся за домами собаки. И войско шло, скрипело, громыхало, стучало, оставляя за собой кривые следы колес и ложившиеся друг на друга отпечатки сапог — отпечатки, поверх которых оставался легкий, как пена, след босой детской ступни.
С войском он прошел путь до Моздока; в Моздоке же его усыновил Каплан Макабели, майор артиллерии, который еще сильней разжег в нем желание стать солдатом. «Нам нужны солдаты… только солдаты!»— часто говорил ему Каплан Макабели; и до того, как мальчик достиг положенного возраста, старый офицер сам муштровал его, строго, беспощадно и с любовью.
Каплан Макабели, холостяком состарившийся в своей походной палатке, был уже в таком возрасте, что произвести на свет наследника и продолжателя рода мог бы лишь с помощью святого духа. Мальчика-сироту он воспринял как посланца провидения, как дар божий; вымыв и накормив его, майор дал ему не только место в своей выгоревшей на солнце, полинявшей от дождей палатке, но и свое родовое имя. Он был уверен, что делает доброе дело, ставя сироту на ноги, самому же себе обеспечивая человека, который помянет его после смерти. Этот запоздалый, на авось предпринятый поступок избавлял его хоть от страха исчезнуть совсем уж бесследно, а это, согласитесь, что-то да значит! Так артиллеристы палят во внезапно затихшее и опустевшее пространство — только для разрядки нервов, ибо сражение окончено и никаких причин стрелять уже нет…
Свое новое имя он воспринял в общем-то безболезненно: во-первых, он уж не очень твердо помнил (да и не старался помнить), как его зовут на самом деле; во-вторых, новое имя тоже было своеобразным укрытием, благодаря которому убийцам его семьи теперь было б еще трудней найти и опознать его, если предположить, конечно, что они не смирились с его исчезновением и до сих пор его разыскивают. Поверить в это было, правда, уже трудновато… но ведь и в излишней осторожности никакого вреда нет. Помимо других преимуществ, новое имя давало ему и княжеский титул — поэтому он, как подобает достойному наследнику, всегда внимательно и терпеливо слушал своего названого отца, рассказывавшего ему историю рода.
Дед Каплана, став благодаря своей необыкновенной силе и мужеству князем, сделал тем самым богатый, многочисленный род Макабели и знатным; но неожиданное возвышение и близость к престолу вскружили, видимо, голову доблестному вояке, и его дела постепенно пошли на убыль. Прежде всего он резко отстранил от себя все остальные ветви рода; «Хотите-де в князьях ходить — соизвольте пошевелить собственными руками; на чужой свадьбе все плясать мастера!» Род распался, сразу потерял выработанную веками привычку к единству и взаимопомощи. Исконные князья тоже не очень-то обрадовались мгновенному возвышению мясника (мясником деда Каплана прозвали во дворце за то, что в одной из битв он одного за другим зарубил двенадцать неприятелей). При его жизни семья кое-как еще держалась по-княжески, но уже его сын (отец Каплана) походил на князя не больше, чем сидящий на верблюде лицом к хвосту шах тбилисского карнавала на настоящего шаха. Отстаивать добытое отцом у него не было ни сил, ни, представьте себе, охоты. Появляться при дворе, стоять среди князей он почему-то считал худшим из наказаний, и, когда другие, настоящие, князья холеными пальцами в перстнях поглаживали свои скрученные, как бараньи рога, усы, он норовил спрятаться за их спинами, чтоб его никто не заметил, не вспомнил. Его единственному наследнику (Каплану) стало в конце концов тяжко глядеть на мучения отца, и он уехал в Россию, где, проявив себя как храбрый и толковый воин, дослужился до майорского чина: он верой и правдой служил своему новому государю, совершенно не интересовавшемуся тем, голубая или не голубая кровь течет в жилах его верного солдата. Позднее же, когда трон Багратидов уложили на телегу и увезли в Петербург, он даже обрадовался, ибо вместе с этим троном ушло и все то, из-за чего родина обливала его желчью и насмешками. Теперь он мог спокойно вернуться туда, где прежде по милости своего слабовольного, ставшего всеобщим посмешищем отца и показаться стеснялся. Но он умер, так и не попав на родину, — он был солдатом до мозга костей и должен был хлебать из своего солдатского котелка там, куда его бросали судьба и начальство; и повсюду, вытянувшись на своем сундуке в душной палатке (о женитьбе он никогда и не помышлял), он мечтал о возвращении на родину как о торжестве, искупающем все обиды предков, мечтал о доме, в котором прошло его детство и в котором сейчас, видимо, жили одни совы (и отец и мать его, конечно, давно уж умерли, а кроме них, он никого в этом доме не оставил). Потом судьба послала ему мальчика-сироту, которому он перед смертью завещал все, что у него было, — и родовое имя, и отцовский дом, и сундук с тремя тяжелыми замками. Мальчик-сирота превратился в Кайхосро Макабели, на которого судьба возложила странную, но для человека в его положении весьма завидную обязанность: стать хозяином чужого дома, восстановить чужой род.
При кончине своего приемного отца Кайхосро не присутствовал — их часть в это время находилась в долине, на маневрах. Письмо одного из друзей майора известило наследника о случившемся и пригласило его, как только сможет, прибыть за получением наследства. Он и не думал, что его так обрадует существование дома, никогда им не виденного, находившегося за тридевять земель и все-таки принадлежавшего ему, ожидавшего его одного, и никого другого! Кроме дома приемный отец, как уже говорилось, оставил ему окованный железными обручами, запиравшийся на три замка сундук, в котором без труда умещались все вещи, необходимые старому холостяку, а для нового своего владельца почти совсем бесполезные. (Кое-что, правда, еще можно было использовать, например, две пары совсем уж ветхого белья, которые человек бедный, однако, все равно никогда не выкинул бы.) Сундук и сам по себе был имуществом, вещью внушительного веса и прочности — вещью, на которую, в конце концов, молено было и присесть. Три замка висели на этом бог знает где только не побывавшем сундуке, словно трое щенят-сосунков; местами он был еще обит остатками тонкой, как бумага, жести со следами старинного орнамента. Более тщательный его осмотр дал не так уж много, но и этого оказалось достаточно, чтобы Кайхосро почувствовал себя уверенней, чтоб ему еще больше захотелось жить. Вместе с тем пожитки одинокого старика его несколько опечалили, настроили на задумчивый лад. Сидя на краю сундука с откинутой крышкой и держа на коленях какой-то заплесневелый подсвечник, он старался проникнуть в таинственную суть жизни своего усыновителя, до самого конца так и оставшегося ему чужим, — и, соответственно, в суть жизни вообще. Было очевидно, что покойный, царство ему небесное, хранил эти жалкие пожитки отнюдь не для него (откуда ему было знать, что у него все-таки появится наследник?). Но почему ж он тогда так дорожил ими? Почему он как зеницу ока берег эти заплесневелый подсвечник и ложки со стершимися монограммами, вместо того чтобы продать их, истратить все на самого себя, а не оставлять первому попавшемуся проходимцу (да пусть хоть и ему, Кайхосро)? Это-то и вызывало его недоумение. Как всякий истинный солдат, он любил немного пофилософствовать — и именно эта солдатская философия мешала ему понять поведение названого отца. Все эти вещи, запертые в сундуке вместе с пожелтевшим бельем, не стоили, конечно, и ломаного гроша; все это нелепое, бесполезное барахло было для его владельца лишь дополнительной обузой, и ни награды, ни благодарности за его сохранение майор ни от кого ждать не мог. Но возможно ведь, что в его глазах это бессмысленное бремя оправдывало собственное существование, облегчало одинокую, тоже, в сущности, сиротскую душу… а может, эти вещи были ему дороги как подтверждение когда-то пережитого счастья, обострявшее, или просто сохранявшее, удерживавшее какие-то невесомые, легко сдуваемые ветром воспоминания? (Так на военных советах их офицеры всегда клали на разостланную на столе карту какие-нибудь тяжелые предметы, чтоб ее не сдул, не унес ветер.) Во всяком случае, сидя на краю сундука с откинутой крышкой, Кайхосро уже понимал, что судьба покойного ему и непонятна и безразлична. Он был твердо убежден в том, что все люди друг другу чужие и будут чужими всегда; ибо никто не может передать другому, вместе с потемневшей от времени ложкой или подсвечником, хотя бы подобие того чувства, которое испытывал, держа в руках эти же предметы, он сам… На Ноев ковчег сундук этот не походил нисколько — вышедшая из него жизнь уже отжила свой век, была прожита другим, не сохранила ни сока, ни цвета, ни запаха. Но, выросший беспризорным, Кайхосро не гнушался ничем, что позволило бы ему прочнее, надежнее стоять на ногах; а в этом смысле сундук был далеко не бесполезен, ибо в его затхлой утробе нашлось и то, что не устаревает никогда, — не так много, разумеется, чтобы по горло обеспечить его на всю жизнь, но и не так мало, чтоб он плюнул на могилу старого служаки, жившего на одно жалованье. Впрочем, роясь в унаследованном сундуке, Кайхосро обнаружил и в самом себе нечто такое, что обрадовало его не меньше наследства: он обнаружил, что никогда ни от чего не откажется, будет согласен всегда и на все, если вечное согласие это поможет ему хоть что-нибудь в жизни урвать. Он по личному опыту знал, что человеческая жизнь — непрерывная цепь более или менее тяжких и опасных испытаний, а главный человеческий талант — умение выходить сухим из воды. Поэтому-то больше всего на свете он уважал двух человек — длинноусого ефрейтора и ветхозаветного Ноя. Слушая рассказы длинноусого ефрейтора о его боевых приключениях, Кайхосро волей-неволей должен был верить в чудеса: то, что рассказчик еще ходил живым, более того, поседев в боях, ни разу не был хоть легко ранен, и в самом деле относилось к разряду очевидных чудес! Услыхав же из уст полкового священника историю Ноя, он навсегда проникся безграничной завистью и почтением к библейскому праотцу.
Говорят, кто умеет обращаться с судьбой, к тому она хоть раз в год постучит в дверь. Но как ей попасть к человеку, не имеющему своего дома — а следовательно, и двери? Так что если он собирался жить всерьез, следовало прежде всего плюнуть на все пережитое до сих пор и начать новую жизнь, как Ной после потопа; следовало уйти отсюда и, подобно тому же Ною, разжечь очаг на новой земле — тем более что теперь-то такая возможность имелась… Поэтому колебался он недолго и вскоре с сундуком на плечах отправился в свой унаследованный дом. До сих пор дом этот существовал для него лишь на бумаге, и ничто, кроме этой бумаги, Кайхосро с ним не связывало — ни проведенное в нем детство, ни скончавшиеся в его стенах родители. И все же когда он впервые увидел этот дом таким, каким тот был в действительности — с провалившейся крышей, с сорванными рамами окон и дверей, наполовину утонувшим в море крапивы и папоротника, — сердце наследника часто забилось, и он почувствовал спокойствие ребенка, проснувшегося от страшного сна и увидавшего улыбающуюся мать. Почувствовал он это не оттого, что названый отец прожужжал ему все уши об этом доме, стараясь внушить наследнику любовь к своему родному гнезду, а оттого, что теперь дом этот принадлежал ему, Кайхосро!
Россказни старика были, конечно, нелепы: с домом, который он так расписывал своему питомцу, жалкие руины эти не имели ничего общего. Дом, высившийся в памяти майора, был совсем другим: его украшали мечта и печаль, придававшие каждой комнате свой особый, неповторимый цвет и запах. Здесь же господствовал один-единственный — тошнотворный запах старья и гнили. Кайхосро, даже если б ему и очень захотелось, не смог бы испытать того приятного ощущения, которое майор, по его словам, не раз испытывал в детстве, втайне от матери бегая босиком по прохладной, блестящей мощеной дорожке от дома к воротам. Теперь она раскрошилась, и превратившийся в красную пыль плитняк неприятно хрустел под ногами. Не удалось бы ему и полежать в «волшебной нише», в которой его названому отцу в детстве будто бы не раз являлись какие-то волшебные видения, — теперь от этой ниши осталась лишь сгнившая деревянная рама, сама же ниша наполовину заполнилась землей, и вместо мечтательного ребенка в ней угнездился какой-то зловонный кустик. Но почему-то развалины эти напомнили Кайхосро детство не приемного отца, а свое собственное, далекое, рано прерванное, кровавое! Точней, ему вспомнился тот, казалось, навек уж забытый тбилисский дом… Да, на месте развалин Макабели он вдруг ясно увидел двухэтажный дом с каменной лестницей, тяжелыми ставнями и красивым, как женская грудь, балконом; а на этом балконе — пятилетнего мальчика, просунувшего нос между балясинами и глядящего на коварно притаившийся город. Увидел он и белые, как туман, купола храмов, вырывающиеся из дремоты крыш рыжего, ящеричного цвета, и осла, подымающегося по крутой, узкой улочке и трясущего головой, как их полковой фельдшер, и петуха, взлетевшего на перила моста, и коварную песчано-желтую реку! Но все это было лишь мгновенным видением, мгновенным забытьем. Кайхосро нельзя было терять ни минуты — следовало сперва обосноваться, поселиться.
На развалинах дома Макабели кипела бурная жизнь. Обильно и беспрепятственно разросшийся, ставший пристанищем всевозможных гадов и насекомых бурьян ворвался и внутрь дома с прохудившейся крышей, пророс сквозь полусгнившие, размягченные дождями половицы, заполнил своим буйным, всепобеждающим семенем даже трещины стен; усеянный высохшими, невесомыми останками пауков и блестящими лохмотьями паутины, он беспрестанно размножался, как бы чувствуя, что сила его — лишь в изобилии. И вся-то эта жизнь была ненужной, бесполезной, даже опасной!.. В первый же день Кайхосро наткнулся на змею, — наклонившись, чтобы выдрать сорняк, он чуть было не схватил ее рукой. Змея лежала на солнцепеке и, наевшись дикого укропу, лила крупные слезы. Кайхосро не знал, как ее убить, он понятия не имел, где может находиться сердце в этом длинном, скользком теле, медленно, по частям исчезавшем в траве. Напуганный змеей, он сперва немного расчистил двор, с корнем выдирая бурьян и давя ногами насекомых, кучками высыпавших из ямок. Урукийцы изумленно разглядывали и висевший на дереве мундир, и оголенного по пояс мужчину, и походную палатку, которую Кайхосро раскинул на первом же расчищенном клочке земли, и лошадь с лоснящимся крупом, которую он выменял на заплесневелые подсвечник и ложки со стершейся монограммой у какого-то осетина в Дарьяльском ущелье. Губы у лошади были в зеленой пене; она без передышки двигала челюстями, как бы помогая хозяину уничтожать сорняки. Когда двор несколько расчистился, под старыми липами показался почти уже сровнявшийся с землей могильный холмик; и это ужаснуло Кайхосро еще больше, чем змея, заплакавшая при его появлении, как коварная, неверная жена.
— Эго сестра Каплана, — пояснил ему отец Зосиме. — До него еще была…
У отца Зосиме были живые светло-карие глаза, как бы освещенные изнутри; поэтому, должно быть, казалось, что он беспрестанно улыбается. Плечи его черной рясы были засыпаны перхотью.
— Да… затерялся Каплан! Родители похоронены во дворе церкви… она одна, бедняга, тут, как ангел очага, осталась… — продолжал он, увидев, что Кайхосро не отрываясь разглядывает могилу.
Слова отца Зосиме встревожили Кайхосро еще больше — теперь он впился глазами в лицо священника. Тот улыбнулся, словно поняв причину этой тревоги.
— Да сейчас уж, наверно, и костей не осталось, — заметил он. — Двухмесячной умерла… от макового отвара, говорят.
Сестру эту Каплан Макабели никогда не упоминал, о существовании ее Кайхосро слышал сейчас впервые, и появление еще одного мертвого родственника привело его в такую растерянность, что священник, казалось, на миг даже усомнился в его принадлежности к семье. Отец Зосиме улыбался, еле заметно шевеля влажными алыми губами, словно сосал корицу.
— Я вам так объясняю, точно вы посторонний… — сказал он.
Медлить было больше нельзя — надлежало немедленно сказать что-то такое, что и рассеяло бы сомнения священника, и в то же время объяснило бы секундное замешательство Кайхосро.
— Ей-богу, не знал! Никто никогда не говорил, что у меня была тетка, — чистосердечно сознался он.
— Упокой ее господь! — заключил отец Зосиме, причмокнув губами.
Дожди, а затем и снег еще больше выровняли оголенный могильный холмик — к весне от него не осталось и следа. Но после этого разговора к Кайхосро привязался дурацкий сон, постоянно снившийся ему до самой смерти и заставлявший его вскакивать с постели в холодном поту: ему снилась двухмесячная девочка с огромными, закрученными, как бараньи рога, усами. Вот и все… но появление этого усатого младенца он почему-то всегда ждал с неописуемым страхом и волнением. Обосноваться здесь, в усадьбе Макабели, означало вторгнуться во владения мертвого ангела; но сейчас отступать было уж поздно — именно тут, на земле, дарованной ему судьбой, он должен был пустить корни, если только мог и хотел сделать это вообще; именно здесь было его место, его поле боя, и сейчас от него одного зависело, кто кого одолеет — он жизнь или она его. Этого хотела судьба, та же судьба, которая, пятилетним ребенком, сорвала его, как листок с родного дерева, или верней, потащила за собой, как семя этого дерева, и кружила в бескрайних просторах до тех пор, пока не бросила в утучненную чужим прахом землю, как бы любопытствуя, что из этого получится, как он приспособится к новой почве, какой принесет плод; да и сможет ли прижиться и зацвести вообще. Ответить на все это могло только время — многое, однако, зависело и от него самого, от того, насколько сильны были его воля к жизни и приспособляемость. То, что не приспособляется, умирает — вот простое правило природы, для которой одно покорное детище, будь то муха или человек, милей тысячи строптивых. Так что Кайхосро оставалось одно: осматриваться и постепенно приноровляться к своей новой среде, к характеру окружающих людей, к расположению дворов, садов и виноградников, к дорогам и тропкам, к капризам реки и погоды. Но не оставались в долгу и сельчане: их тоже весьма интересовал этот чужой человек, появившийся на урукийском небе неожиданно, как новая звезда, и трудившийся с утра до вечера, словно простой крестьянин, в то время как его мундир с блестящими эполетами и пуговицами висел на ближайшем дереве, словно документ, удостоверяющий неотъемлемую исключительность прав своего владельца, — документ, который, подобно знаку зодиака, внешне прост и общепонятен, в действительности же таит в себе и некий другой, более сложный, более значительный и таинственный смысл…
Мундир своего названого отца он надел, лишь вступив на территорию Грузии, — до этого он нес его в сундуке на плечах. Позднее он с этим одеянием уже не расставался: в нем его повсюду встречали с должным почетом, уважением и даже, представьте себе, страхом! Кроме того, мундир ему удивительно шел (это он ясно видел по лицам прислужниц на почтовых станциях и постоялых дворах) — шел так, словно он и мундир были созданы друг для друга с самого начала. Урукийцы же, завидя его, и вовсе рты раскрыли (по-этому-то, видимо, они сразу, без малейших сомнений или колебаний и признали его законным наследником Макабели). В Уруки он появился осенью, перед началом сбора винограда, когда вся деревня поспешно мыла давильни и огромные зарытые в землю кувшины. Сентябрьское солнце, словно уже утоливший страсть любовник, вяло, равнодушно ласкало отяжелевшие виноградники. А Кайхосро не спеша, как бы прогуливаясь, шел по улице; за ним, фыркая и пританцовывая, следовала лошадь с перекинутой через голову уздой; и люди, высовываясь из кувшинов, складывали козырьком свои натруженные, раскрасневшиеся руки, чтобы не ослепнуть от сияния эполет. Но он беспечно шел по улице; и пропотевшая форменная фуражка покоилась на его согнутой в локте руке так, словно он собирался передать ее в дар деревне.
Тут его никто не знал, тут он мог ходить гордо, красуясь собой; да и повседневные мирные хлопоты понемногу заглушали в его душе тоску по казарме, убеждали его в том, что он поступил верно, что его место именно тут, в этой богом забытой глухомани, — потому что лишь тут у него было дело, потому что лишь тут он мог выполнить свой долг. О казарме он, конечно, еще жалел; но сейчас, трудясь на чужих развалинах, он еще ясней понимал, что высшее мужество — не в том, чтоб заигрывать со смертью, а в том, чтоб любой ценой, во что бы то ни стало спастись. Что б там ни говорили, у него были свои обязанности, и от них он не отступит ни на шаг. Ему предстояло закончить собой один род, как точка заканчивает длинную, бессмысленную фразу, и начать другой — да, не продолжить, а именно начать заново род, лишь замаскированный старым именем, в действительности же совершенно новый! Именно поэтому он обязан был вовремя восстановить дом и не дать своей с таким трудом спасенной крови зря состариться. Хозяин усадьбы, да еще в майорском мундире, он был бы желанным зятем в любой семье — и чем, спрашивается, здешние женщины хуже любых других? Конечно, он выбрал бы из них самую лучшую… но тут-то и случилось то, чего сам он от себя никогда не ожидал, что в корне изменило всю его жизнь и мечты. Судьба судьбой — но, видно, и сам он очень уж глуп был, если, запутавшись в шашнях бестолкового нехристя с потаскухой-вдовой, обалдев от запаха бараньего сала в монашеской келье, чуть не стал жертвой собственной бессмысленной, совершенно ничем не оправданной спешки. Но разве он мог предвидеть, что дело так осложнится, дойдет до крови? Он был уверен, что ему, столько в своей жизни потерявшему, от столько-го отказавшемуся, уж в таком-то маленьком удовольствии, если б он вздумал его себе позволить, никто отказать не посмеет. Да, не отказываться, а гордиться им обоим следовало — и ей, и ему тоже, — если б он вправду до них снизошел! Борчалинец мог даже хвастать тем, что затисканной им бабы не отверг и благородный майор, а ей полагалось вообще быть на седьмом небе от счастья, от такой неслыханной чести. Если допустить даже, что понять это оба они неспособны, то им все равно надлежало молча, без возражений исполнять его волю — ведь в той стране, откуда он приехал, одного слова майора было б достаточно, чтоб не какой-то там паршивый басурман, а целый полк в огонь бросился… На первых порах он даже мысленно улыбался, представляя себе этого дурака и нелепо расфранченную вдову, заждавшихся высокого гостя, почувствовавших себя чуть ли не на равных с ним, — он не понимал, что этим лишь растравляет себя, с каждым днем все больше запутываясь в собственной хитроумно сплетенной сети! А ведь плести эту сеть он начал лишь потому, что в его руках случайно оказался маленький обрывок нити — глупый Георга, сын вдовы. Они случайно встретились на улице, и Георга взглянул на него с таким восторгом, почтением, благоговением, что было бы просто глупо повернуться к нему спиной, оставить без внимания этот обнаженный пласт руды, пробивший землю, вышедший на поверхность, сам просивший лишь о том, чтоб его взяли и использовали. Кайхосро именно так и поступил — взял и использовал. Если же результаты не совпали с задуманным, виноват был лишь он сам — его поспешность, его нетерпение… он поленился очистить, переработать эту руду, взялся за дело наобум, не подумав о качестве, слишком уж торопясь поглядеть, что из этой руды выплавится вообще. Задумано же все было очень толково — для такого замысла, как выразился бы их длинноусый ефрейтор, и попотеть стоило б! И сперва-то ведь все пошло очень хорошо, и это еще больше убедило его в верности плана. Сблизиться с ребенком оказалось много проще, чем он ожидал… Впрочем, какой ребенок не спятит с ума от радости, если ему обещают подарить настоящее ружье, и какой ребенок не растрезвонит об этом каждому встречному? Но тогда ведь и борчалинец, если в тыкве у него было хоть что-то вроде мозгов, не мог не обратить внимания на эту детскую болтовню, не сообразить, почему чужой дядя обещает подарить отродью его шлюхи ружье, не догадаться, что это ружье он сам, майор, и есть! «Ха-ха-ха…» — смеялся Кайхосро, представляя себе борчалинца с выпученными от страха глазами, без конца пристающего к ребенку с одним и тем же: почему обещал, как обещал, не ослышался ли он — а может, майор шутил? Всего этого, конечно, не могла не услыхать и вдова — так что и ей было уж пора мыться, чиститься, переодеваться и робко, как невеста, опустив глазки, дожидаться майора… Ребенка он, разумеется, одурачил бы, но ведь не так чтоб уж очень. Дарить этому дурачку ружье он, естественно, не собирался — но только ведь ради него самого, только чтоб он сам себе по дурости вреда какого-нибудь не наделал! А подержать ружье в руках майор ему б иногда давал и потом — отчего ж нет! Главное же — ребенок ведь сам умолял избавить его от напасти, сам совал мать ему в руки, говоря: «Вот-де мама все плачет, все отца зовет; а когда ты ее приласкаешь, когда моим отцом станешь ты, она уж плакать не будет». То есть говорил-то он, конечно, не совсем так, но так оно получалось само собой. Ребенок глуп, ума с него спрашивать нечего, это истинная правда… но это вовсе не значит, что тебе, взрослому, надо смеяться ему в лицо, шлепать его по затылку: «Что это ты, мол, чушь несешь?» — вместо того чтоб выслушать, понять и постараться исполнить его просьбу! Того, что за помощью против волка он обращается к волку еще более крупному, ребенок, конечно, не понимал, а если б и понимал, то, конечно, предпочел бы более крупного! Да и не все ли ему было равно, в конце концов, с кем будет ложиться мать, если уж с кем-нибудь ложиться ей полагалось так или иначе? А это ей именно полагалось: на вдовье окно заглядываются все, на его свет, едва стемнеет, сбегается любая сволочь; ибо человек не настолько уж разумней насекомого, ему тоже кажется, что всякий свет зажигается, исключительно чтобы привлечь и ублажить его! «Ха-ха-ха… — смеялся про себя Кайхосро. — Чересчур уж я добр… ребенку ни в чем отказать не могу! Да если он даже маленького братца или сестренку попросит — тотчас мамку за руку, и бегом на рынок…» Да, тогда он смеялся, но потом ему было уж не до смеха! Стрелять он вовсе не собирался, пистолет взял с собой так, между прочим, просто прихватил его вместе со стеклом для лампы, чтобы чувствовать себя непринужденнее, свободней, тверже… не с борчалинцем, конечно, а с вдовой и сиротой, которым, кроме него, надеяться было не на кого. Вот ему и захотелось перед ними покуражиться! (Он воображал, что с борчалинцем уже покончено, что, наказав изменников, выместив на них всю свою злобу, тот не только на следующий вечер, но и вообще никогда уж в Уруки не вернется.) А стрелять ему доводилось и раньше — за двадцать пять лет он нанюхался пороху вдоволь, но тогда за каждый его выстрел отвечала вся армия, а теперь он был один, и отвечать предстояло ему одному. И все-таки неизбежное произошло— пролилась кровь (к счастью, чужая!); и пролить ее оказалось не так уж трудно: тут соблюдение правил никого не заботило, тут выстреливший первым всегда и побеждал, и был прав. Для него ж и правота и победа эти оказались сущим несчастьем — вражда борчалинца, да еще раненного твоей пулей, была хуже гнева божьего. Борчалинец умрет, но отомстит, умрет, но убьет своего врага; не доберется до живого — выроет из могилы мертвого, мертвого убьет вторично; сам не успеет — завещает сыну, внуку, правнуку… и тогда не один человек, а вся семья, род, племя двинутся в поход, чтоб наполнить свои медные кувшины и кастрюли тремя-четырьмя литрами твоей крови! Тут было другое небо, на нем мерцали другие звезды; тут обязательность существования бога означала и обязательность мщения, и бежать, прятаться от него было бессмысленно, ибо закон мщения с временем и пространством не считался — он существовал, действовал вне времени и пространства…
О вдове и ее ублюдке он и не помнил, пока не нажал на курок, — вспомнил он о них лишь тогда, когда раздался выстрел и между пальцами борчалинца засочилась кровь. Борчалинец не убирал рук с живота, словно поймал на нем какое-то скользкое, слизистое беспозвоночное и боялся, чтоб оно не ускользнуло. Вернуть в ствол вылетевшую из него пулю не смогла б и нечистая сила! Единственное, что могло хоть немного помочь ему в этом новом несчастье, это срочно свалить собственную глупость и слепоту на кого-нибудь другого — поэтому-то в момент выстрела он и вспомнил вдову и этого проклятого молокососа, прятавшихся за его спиной. Но страх и ненависть оглушили, сковали его, отняли у него язык; он ничего не слышал, ничего не чувствовал, кроме страха и ненависти, мучительных, не дававших покоя, словно накопившаяся за долгие годы грязь, которую хочется соскоблить кирпичом, песком, ногтями! Когда он пришел в себя, борчалинца во дворе уже не было, а болваны соседи единодушно восхваляли его за спасение вдовы и сироты. Сперва он рассвирепел и чуть было не замахнулся на них простыней — грязной простыней вдовы, случайно попавшейся ему под руку, когда он вдруг кинулся на помощь к раненому. Но он быстро сообразил, что положение заступника вдовы и сироты все же лучше, чем ничего, что теперь деревня хоть не бросит его в беде, не даст борчалинцу слопать его в одиночку; к тому же это украшало его неким благородным ореолом, в чем его раздраженное самолюбие нуждалось сейчас, как больной в лекарстве. Поэтому-то он в ту ночь не дал себе воли, отложил наказание своих губителей. В своем праве наказывать их он не сомневался: попал-то он в это нечеловеческое испытание только из-за них!
Он долго глядел в непроницаемую тьму, в которой исчез раненый борчалинец. Потом он в недоумении пожал плечами, не сразу сообразив, почему у него в руках кувшин и простыня. Потом кто-то вел его по пустой деревенской улице — под руку, как человека, идущего за гробом ближнего. А потом он сидел один на сундуке в своей палатке, нетерпеливо вслушиваясь в темноту, чтоб услыхать фырканье лошади. Он надеялся только на лошадь — дело оборачивалось так, что следовало немедленно бежать. Но он уже знал, что никуда не убежит.
В ту ночь он и пуговицы на воротнике не расстегнул, и на сундук не прилег, даже как будто и глаз не закрывал — и все-таки умудрился увидеть сон. Он задыхался— воротник мундира сжимал ему горло, словно раскаленный железный обруч. Не выпуская из руки пистолета, ставшего вдруг невероятно тяжким, громоздким, он никак не мог справиться с ним: дуло без конца поворачивалось вверх или вбок, как голова заупрямившегося перед кормушкой осла. «Стреляй скорей, людей стыдно!» — кричала ему вдова, бывшая в то же время и Георгой, и борчалинцем. Потом зашипел порох, повалил белый дым, и дуло пистолета выплюнуло пулю, словно вишневую косточку. «Я — гость!» — пробормотал Кайхосро, показывая свои пустые ладони (пистолет он успел незаметно выбросить себе под ноги). «Тебе надо было убить меня!» — засмеялся прямо ему в лицо борчалинец, бывший вместе с тем и вдовой и Георгой. «Вы что-то путаете… я не майор, я в Тбилиси родился!» — крикнул Кайхосро и побежал вниз по лестнице. Прямо перед ним шел какой-то мужчина, приземистый, с густыми, вьющимися черными волосами. Его голое тело было обернуто, как у банщика, простыней— довольно-таки грязной; короткие, с обваренными пятками ноги были в деревянных сандалиях — тоже как у банщика; сандалии гулко стучали по голому склону холма. «Кто ты такой?» — кричал ему Кайхосро; а мужчина хихикал, и его узкие женские плечи вздрагивали. «Я — Ной, дружок, Ной!» — говорил он в промежутках. Кайхосро успокаивался, словно узнав его, и шел дальше; но вскоре он вновь забывал, кто это, и все начиналось сначала — и тревога Кайхосро, и хихиканье тщедушного мужчины. Внезапно тот задрал простыню и тут же, прямо перед носом Кайхосро, присел на корточки. «Что ты нос воротишь?» — крикнул он снизу. У него были голые, без ресниц, беспокойные, как крылья бабочки, веки. «Брюхо бесстыже, как жизнь, — оно не терпит ни пустоты, ни полноты, его нужно наполнять и опорожнять, наполнять и опорожнять! Оружие выбросил?» — «Выбросил», — ответил Кайхосро. «А шлем?» — «Шлем тоже». — «Вложи в него камень — не то он покатится вниз, много лишнего шуму наделает…» Кайхосро нагнулся, чтобы поднять камень, — и вдруг ему в лицо ударил тбилисский зной. Взглянув вниз, он увидел город рыжего, ящеричного цвета, коварно притаившийся по обоим берегам реки. «Отвяжись!» — злобно крикнул он городу. «Не смотри — голова закружится, пропадешь… — предупредил его мужчина. Он уже встал и снова карабкался вверх; к подошве его сандалии прилип смятый, грязный листок. — Ты же спасся… чего тебе еще, что тебя мучит?» — сказал он Кайхосро. «Спассяиспассяиспас-ся…» — бессмысленно повторял Кайхосро. «Умереть легко, а спастись трудно… это не всякому дано!» — сказал мужчина. «Спассяиспассяиспассяиспасся…» — снова пробормотал Кайхосро (ему хотелось сказать что-то совсем другое, но он не знал, что именно). Мужчина молча шел наверх, и Кайхосро следовал за ним, не спрашивая, куда они идут. В темноте он наткнулся на лошадь. Лошадь вздрогнула — вероятно, спала; потом узнала хозяина и, фыркнув, обдала его запахом своей отрешенной, теплой, сильной жизни. Под открытым небом, с влажными от росы боками, она была в одно и то же время и прохладной, и горячей, и тревожащей, и успокаивающей. В темноте смутно вырисовывалось ее тело — просторное, прочное, непостижимое, как земля…
— Чтоб тебя волки съели, чертова тварь… как ты меня напугала! — ласково сказал он лошади.
Вокруг не было ни огонька; Уруки спала своим деревенским, завидно глубоким сном. Кайхосро невольно оглянулся в ту сторону, где должно было находиться окно вдовы. Но и там царил мрак.
— Погодите! — сказал он лошади. — У меня вы, может, еще и о басурмане затоскуете…
Хотя после той кошмарной ночи урукийцы и считали Кайхосро героем, в действительности на героя он не походил нисколько, и в палатке приемного отца ему все время являлись видения, для героя совсем неподходящие. Чего только не повидала на своем веку эта палатка, какие только огни и бури не обрушивались на ее тонкие стенки, но что такое страх, она до сих пор не знала. Это была простая походная палатка, которую думы хозяина пропитывали так же легко, как дождевая вода, — и с такой же легкостью она начинала походить на своего владельца, который, подложив руки под голову, глядел в ее низкий свод и, нахмурившись, без конца думал… походить, конечно, не на него самого, а на его мысли и настроения. «Толково стреляют…» — думал, бывало, ее первый владелец, когда разорвавшийся в двух шагах снаряд с грохотом обсыпал ее полог землей и камнями и она дрожала словно от восторга. А теперь в ее стенах жили другие мысли, теперь она превратилась в гнездо страха и ненависти! Теперь она, как ее новый хозяин, тоже мучилась по ночам, задыхаясь от керосиновой копоти и пыли бабочек; и ей тоже непрестанно чудилось сверкающее лезвие кинжала, она чувствовала даже, как кинжал прорезает, вспарывает ее бок, чтобы добраться до лежащего на сундуке человека, вонзиться ему в горло. И тогда оба они одинаково дрожали — и она, и вскочивший с сундука человек…
— Сожгу! Собственными руками сожгу! — кричал он.
Не умея говорить, она поневоле молчала — так, словно и вправду была виновата в том, что ее теперешнему обитателю без конца чудился убийца с занесенным кинжалом!
— Задыхаюсь я в палатке, батюшка! — пожаловался как-то Кайхосро отцу Зосиме.
Они встретились в проулке; почти в ту же минуту на них надвинулось стадо коров, и им пришлось отойти в сторону, прижаться к забору, чтобы пропустить этот грубый, беззастенчивый поток столь мирных существ, которые, покачивая головами, жуя и мыча, тяжело передвигались в собственном запахе, в собственном, липком и густом, как молоко, тепле.
— Хоть сию же минуту, сын мой! Хочешь — ко мне, хочешь — к кому угодно другому. Кто тебе откажет? — сказал отец Зосиме. Его глаза лучились, на его влажных алых губах сияла простодушная, почти детская улыбка. — Наши люди не красноречивы. Приглашают они один раз, но искренне…
Кайхосро заговорил со священником не для того, чтоб вынудить его повторить некогда сделанное приглашение (в первый же день по приезде Кайхосро в У руки отец Зосиме предложил ему жить у себя, пока он не построит собственного дома; с охотой приютили б его тогда, наверно, и другие, но тогда-то он прекрасно чувствовал себя и в палатке, тогда бездомность его не смущала ничуть). Об этом он и не думал; но встреча со священником невольно вызвала у него желание пожаловаться, передать и другому неотступный страх и тревогу, не дававшие ему покоя, ни на мгновение не покидавшие его после той кошмарной ночи. Почему, в самом деле, он должен был страдать, а служитель божий как ни в чем не бывало ходить по своим крестинам и поминкам, когда именно ему полагалось заботиться о человеке, попавшем в беду, защищать, спасать — или, по крайней мере, хоть утешать его…
— Я не о том, отец мой. В палатке я задыхаюсь от безбожия! — прохрипел Кайхосро.
— Не гневи господа, сын мой. Палатка такой же дом божий, как и церковь! — ответил отец Зосиме.
Его глаза по-прежнему лучились, на влажных алых губах по-прежнему сияла улыбка. Улыбнулся и Кайхосро, но улыбнулся злобно, как человек, понявший, что его дурачат.
— Интересно, что вы скажете потом, когда меня зарежут в этой проклятой палатке? — спросил он, удивленно глядя на пастуха, который, сняв шапку и ухмыляясь, кивал ему в знак приветствия. У пастуха были неровные, торчащие в разные стороны зубы, словно он, не имея настоящих зубов, воткнул в рот все, что ему попалось под руку, — кабаний клык, медную монету, пестрый камушек или осколок стекла. Он усердно хлестал бичом по бокам коров, как бы упрекая их в том, что по их милости двум почтенным людям приходится так долго стоять, прижавшись к забору. — Или я должен радоваться смерти за ближнего своего? — продолжал Кайхосро, показывая рукой на пастуха. Но отец Зосиме прекрасно понял, кого он подразумевает в действительности.
— Бог справедлив! Бог воздаст тебе за помощь вдове и сироте, — ответил он.
— Бог? Воздаст? Чем? — воскликнул Кайхосро. — Мученической смертью?
— Мученической смертью… — задумчиво повторил отец Зосиме, причмокнув губами так, словно пробовал вино. — По правде сказать, и это не так уж мало!
— Спасибо… не хочется. — Лицо Кайхосро изуродовала вымученная улыбка. — Любая смерть, батюшка, одинаково воняет!
— Не смерть воняет, а грех! — повысил голос и отец Зосиме, но его глаза продолжали чистосердечно лучиться.
— По-вашему, значит, и двухмесячный ребенок, и столетний старик грешны одинаково? — съязвил Кайхосро.
— Именно! Все мы дети греха… — сокрушенно вздохнул отец Зосиме.
— Чьего греха? Каких времен? — рассердился вдруг Кайхосро. Его разозлила собака, сидевшая по ту сторону забора, словно неприятельский лазутчик, и глядевшая на него своими влажными, внимательными глазами. — Пошла, пошла отсюда, тварь паршивая! — прикрикнул он на собаку. — Так до каких пор нам чужие грехи искупать? — вновь повернулся он к священнику.
— Без конца, сын мой, без конца… Покуда сами от греха не откажемся! — ответил отец Зосиме.
Кайхосро опять взглянул на собаку; та отвернулась и, нехотя поднявшись, отбежала от забора.
— Твой бог, батюшка, несправедлив… для него и мои слова, и собачий лай одно и то же! — Внезапно он смолк, и в углу его рта появилась кривая усмешка… — Ах, вот что… вот оно, значит, в чем дело!
Представляю себе, что вы обо мне думаете…
— Ничего особенно плохого! — улыбнулся и священник, снимая с плеча Кайхосро липовый цветок. — Впрочем, на месте борчалинца я возблагодарил бы бога за спасение и навек забыл бы дорогу в Уруки!
Кайхосро опешил. Он поглядел на священника, не понимая, подбадривает или высмеивает его этот вечно улыбающийся служитель божий. Отец Зосиме молча вертел в руках цветок липы. «Пошли тебе господь мира, сынок…» — проговорил он наконец таким тоном, словно в самом деле был отцом Кайхосро, хотя и по возрасту, и по виду их можно было принять скорей за братьев…
После изгнания борчалинца Кайхосро стал часто ходить к вдове, и это сближение, которого сам он и не думал скрывать, урукийцев ничуть не удивило (сказать по правде, их удивило б куда больше, если б этого не произошло). В глазах деревни майор был заступником вдовы с сиротой и, взяв однажды на себя эту богоугодную обязанность, должен был выполнять ее до конца. Действительной же причиной его визитов к Анне были страх и ненависть! Все остальные чувства и желания исчезли, но, если б он хоть день не увидел вдовы и ее ублюдка, ни на ком не вымещенная злоба сразу б его прикончила. Вспоминая, какого врага он себе нажил из-за этих чертовых чучел, он задыхался от злости и опять бежал к ним, чтобы вновь и и вновь вымещать свою злобу. «Теперь-то вы успокоились… теперь ваши душеньки довольны!» — орал он на мать с сыном, онемевших от его гнева, но и не сомневавшихся в том, что гнев этот вполне ими заслужен. Майора же, хоть сам он этого и не сознавал, ненависть к матери с сыном мучила так же, как тоска по радостям казармы: оба эти чувства с одинаковой силой рождали в нем потребность постоянной связи, беспредельной близости, осуществление которых сделало б его в одном случае счастливым рабом, а в другом несчастным рабовладельцем. Впрочем, близость с матерью и сыном не только помогала майору изливать желчь, но и приносила ему определенное удовольствие — болезненное, отвратительное, правда, но все же удовольствие, как, скажем, от вскрытия гнойника! После же беседы с отцом Зосиме близость эта обрела вдруг еще один и вовсе неожиданный смысл. Надо сказать, что беседа эта его все же несколько успокоила, а главное, вернула ему способность рассуждать. Будь его дела вправду столь уж неутешительны, зачем священнику было б это от него скрывать? В таком случае он, конечно, посоветовал бы Кайхосро уехать из У руки куда-нибудь подальше или хоть запер бы его в церкви. Но отец Зосиме о борчалинце уж и не думал — он лишь рылся в постели вдовы, в которой этому гнусно чмокавшему губами паскуднику теперь непременно надо было найти майора! Тревоги же ближнего ему были попросту смешны — он ухмылялся, как врач при осмотре объевшегося черешней ребенка. Может, все это и вправду было смешно; может, борчалинец сейчас и в самом деле благодарил аллаха за то, что в чужом огороде ему продырявили лишь руки, а не голову! Хотя нет — благодарить аллаха ему было все-таки не за что; но и желание продолжать борьбу с майором у него, вполне возможно, уже прошло. Для него-то ведь майор, помимо всего прочего, — настоящий майор, то есть армия, государство, а виданное ли дело, чтоб вор и разбойник мстил государству за то, что оно препятствует ему воровать и разбойничать? Вор и разбойник — молодец только с себе подобными; пулю же, полученную от государства, он всегда сочтет заслуженной и справедливой. А если пуля эта попала не туда, куда надо, он отступит, примирится со своей участью и, чтоб люди его забыли, хоть на некоторое время откажется от своего опасного ремесла. Получалось, что борчалинец должен был бы позабыть вдову если не навсегда, то уж во всяком случае надолго! Но если он все-таки не сможет переварить свою потерю, если терзающая его невымещенная злоба вновь приведет его в У руки, тогда зачем ему набрасываться на самого майора, если для удовлетворения его самолюбия, в сущности, безразлично, кто из троих выплатит ему кровавый долг? Будь майор один, тогда этот головорез стал бы искать и с легкостью нашел бы его одного; но если до его появления троица успеет превратиться в семью, в единое существо, то выделять майора особо будет уже бессмысленно — тогда сами со- бой возрастут ценность и значение его подзащитных. Чтоб отомстить семье, вовсе не обязательно уничтожать ее целиком или убивать именно главу семьи: потеря жены, сына или обоих вместе поразит его верней и лучше, чем кинжал. Уж это-то понимать и борчалинец обязан! Месть такого рода была б не только справедливее, но и по-своему заманчивей — ни мне, ни тебе, как настоящим мужчинам и положено. Человек предполагает, а бог располагает — это бесспорно, но может же случиться, что бог хоть раз одобрит предположения человека! Что тогда? Тогда — глупость, и ничто иное, что он зря потерял столько времени, не требуя у вдовы своей честно заслуженной награды! Конечно, удовлетворить свое желание он мог бы и не женясь на Анне — он был уверен, что это-то уж заслужил во всяком случае. Да и она это, вероятно, предпочла б тоже: прожив с мужем два месяца, а с любовником десять лет, она ведь больше привыкла быть наложницей, чем законной женой, а какой же дурак станет пересаживать к себе под крышу дерево, если к нему и без того можно подойти когда захочется и лакомиться его плодами сколько вздумается? Да и не такую женщину надо было бы майору в жены… Возможно, конечно, что все эти десять лет она жульничала, устраивала выкидыши и тому подобное — но, так или иначе, ее способность рожать детей, появись у нее законный муж, была сомнительной. С другой стороны, женившись на Анне, он приобретал не просто жену, а жену с сыном — Георга ведь был налицо, готовенький, и какая, в конце концов, разница, кто смастерил ребенка, если воспитать его по-своему, если твоя воля будет для него законом? Да и в общем-то выбора не было — надо было срочно жениться, и именно на Анне. Что она думает об этом сама, его не интересовало; спрашивать, согласна ли она стать его женой, он счел бы для себя унизительным. Поэтому он просто набросился на нее, едва застав ее одну, не говоря ни слова, не дав ей даже опомниться. Насилие майора Анна восприняла так же равнодушно и покорно, как его ругань, — так, словно ее ничуть не интересовало, что с ней делают, словно ничего неожиданного не происходило и она выполняла лишь свои ежедневные, вошедшие в плоть и кровь, бесконечно осточертевшие обязанности! Бесчувствие женщины оскорбило майора больше, чем отказ или пощечина, но сейчас ему было не до обид — давно сдерживаемая страсть, как жернов, тащила его вниз, в бесконечную, бездонную, мягкую темноту. Когда же в комнату вдруг вошел Георга, майору на мгновение показалось, что они, паскудники, подстроили и это… поэтому-то, наверно, она и не постеснялась средь бела дня ноги задрать! Присев на краю тахты, Анна тихо плакала, словно змея, наевшаяся дикого укропу. От радости, наверно! Радоваться-то ей было чему — шутка ли сказать, какого короля вместо вшивого басурмана заполучила… Выродок же ее так кривил губы, так хмурился, будто действительно вошел случайно и видел «это» впервые в жизни. Майор едва сдержался, едва не огрел обоих своим еще не затянутым ремнем. Но потом он предпочел обойтись без скандала; заманчивая слава заступника вдовы и сироты опять взяла верх, и он, примирительно улыбнувшись, сказал Георге: «Чего ты хмуришься? Чего мы с тобой не поделили? Тебе она мать, а мне жена».
4
Из своего детства он вынес и воспоминание о разборке и переносе на новое место отцовского дома, о мертвой, беспорядочно сваленной куче камней, досок и черепицы. (Из этих камней он впоследствии сумел опознать один-единственный — и то лишь благодаря человечку с тонкими, как тростинка, смешно растопыренными ручками и ножками, которого сам он выцарапал на нем когда-то. Камень этот попал в стенку хлева, причем вверх ногами, и опрокинутый человечек каждый раз, когда Георга смотрел на него, почему-то напоминал ему их с майором «охоту»; и каждый раз у него при этом так сжималось сердце, словно он видел, как падает вниз головой сраженный шальной пулей бог.) Запомнил он и анатолийских греков, их руки с присохшей известкой и раствором, их перепачканные глиной брюки и рубахи на куче камней. «Мать у тебя хорошая, а отец хорошая скотина…» — говорили они ему. А еще — большой, в черных потеках котел, в котором они варили смолу, и свое с трудом сдерживаемое желание заглянуть в него; пьяного священника у строительных лесов; покупателя лошади — а точней, сальную усмешку и наглый, бесцеремонный взгляд, украдкой брошенный им в сторону матери; двор, невероятно опустевший после того, как лошадь увели, и острый запах и притоптанный навоз, которые от нее остались… («Военные действия кончились; сейчас мне нужней осел!» — сказал майор.) Ему запомнилась и первая бессонная ночь… нет, не одна, а множество ночей в сыром, не просохшем еще хлеву, выстроенном по заказу майора для Георги и осла — или, верней, для осла и Георги. (Слава богу, в эти бесконечные ночи рядом с ним был хоть притаившийся в углу хлева осел, жаркий, как шерстяной палас, удивительно живой, с удивительно добрыми, умными глазами!) Запомнил он и беременную мать — изменившуюся до неузнаваемости, вызывавшую в нем и жалость, и озлобление одновременно, — а главное, ту преобразившую и осчастливившую его, все в его глазах оправдавшую, но и заставившую его всему покориться ночь, когда в темноте хлева, одушевленной запахом и сопением уткнувшегося мордой в стенку осла, нерешительно, с какой-то неземной дрожью и волнением, с облегчающей, освобождающей от незримых кошмаров болью впервые возникло это совершенно для него новое слово: брат. Мой брат…
Запомнился ему и тот день, когда Гарегин на фургоне подвез к железным воротам дома Макабели часы величиной с целый шкаф. Десять человек с трудом стащили их с фургона; десять человек с трудом приподняли их, чтобы втащить в дом. Пока их втаскивали, собралась вся деревня, и все, сложив руки на груди, с грустью, молча наблюдали, как надрываются эти десять человек — так, словно в дом Макабели привезли из города не этот дорогой, деревне совершенно недоступный предмет, а гроб. Георга запомнил и аккуратно одетого молодого человека, который короткими, но быстрыми шажками пятился спиной к дому, широко раздвинутыми руками указывая дорогу грузчикам и одновременно как бы заманивая огромный, ярко блестевший на солнце ящик в его новое жилище. Сказав «пользуйтесь на здоровье!», этот аккуратный молодой человек вручил майору большой золотистый ключ; майор вставил ключ в похожую на человеческий пупок дырочку на циферблате и, как его научил молодой человек, несколько раз спокойно, не торопясь повернул — и тогда мертвый, бесчувственный до этого ящик ожил, затикал, зашуршал, зашептал, словно замок, населенный невидимыми карликами. А когда стрелки, застывшие на циферблате величиной с тележное колесо, вздрогнули и задвигались, как живые, майор усмехнулся и, высоко подняв полную рюмку водки, сказал: «Поздравляю вас с началом новой жизни!» Вообще-то детство Георги кончилось еще до этого, а в тот момент уже агукал и начинал выползать из пеленок его младший брат.
Начиная с этого дня время в доме Макабели обрело новый смысл, значение и качество. Заведенное и пущенное рукой майора, оно овладело всем. Теперь все в доме делалось по воле этого времени — по его указке они садились обедать, по его указке принимались и за прочие свои дела. Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! — били огромные, как шкаф, часы, и эти однообразные и повелительные звуки постепенно устанавливали в усадьбе новые порядки и привычки. Бой часов был слышен и в хлеву, и в полусне Георге казалось, что по двору ходит кто-то чужой, пришедший с неким непонятным, но опасным и недобрым умыслом, — ходит осторожно, без конца проверяя, разведывая каждый закоулок, постепенно приручая все вокруг и сам ко всему привыкая, чтобы потом, в момент исполнения своего загадочного умысла, ничто вокруг не оказалось для него непонятным или неожиданным. В темноте хлева перед глазами Георги вставал огромный фарфоровый циферблат; ощущая непрерывное движение стрелок, он понимал, что они движутся не зря, что они все время учитывают и вычисляют нечто великое и таинственное, ежеминутно происходящее в мире, нечто такое, что следовало бы знать и ему. Он же ничего не знал — таково было первое сильное ощущение Георги после того, как кончилось его детство.
— Люблю, очень люблю… я ведь должен любить его? — умоляюще спрашивал он мать о своем маленьком брате в те минуты, когда майора не было дома или когда Анна выносила колыбель во двор.
Но мать отвечала туманно, неопределенно, ее ответ ничего не прояснял, а только вгонял его в еще большую растерянность. «Он-то чем виноват?» — говорила она; и y него сжималось сердце, когда на улыбающееся личико свернувшегося в колыбельке Петре, Петрикелы, со шлепающим звуком падала горячая материнская слеза.
— Я не плачу… с чего ты взял? Тебе-то ночью не страшно! Умереть бы мне… — бормотала Анна; и после этих бессвязных, мучительных, непонятных слов ему не оставалось уже ничего другого, как самому успокоиться, приласкать ее, самому притвориться бодрым и счастливым!
— Всем-то он хорош… и все-таки не прощу, что он черкеской отца сапоги себе чистит! — говорил Георга матери: просто, как бы шутя; в действительности же — только чтоб заглянуть ей в душу, вновь расположить ее к себе…
А потом мать и сын, разделенные колыбелью, долго, в упор глядели друг на друга, ничего не говоря: он — как ни в чем не бывало, с чуть пренебрежительной улыбкой; она — испуганно, растерянно, в чем-то вдруг усомнившись. Их одновременно тревожило нечто настолько превосходившее их самих своим объемом, смелостью и силой, что говорить об этом вслух они не решались, стремясь молчанием и лицемерием задавить эти мысли, тоже казавшиеся им губительными, — ведь признаться в них друг другу означало волей-неволей вступить в заговор против человека, который, хорош он был или плох, не гнушался все же быть ее мужем и его отцом. В глазах деревни они были счастливы — возможно, даже чересчур; и сорвись с их уст хоть словечко упрека судьбе, все сочли бы это вопиющей неблагодарностью, даже непорядочностью, а их самих, обитателей сказочного замка, благодаря заботам «такого короля» разве что лишь птичьим молоком не обеспеченных, — людьми, достойными не жалости и сочувствия, а презрения и гнева! Впрочем, уйти им было уж некуда; их собственный, подлинный дом был встроен в стены сказочного замка, растворился в нем, безвозвратно исчез…
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! — били огромные, как шкаф, часы; и время шло. Стайки воробьев с писком копошились в выметенном из хлева мусоре, выхватывая друг у друга изо рта хлебные крошки и семена трав; смело и бесшабашно прыгая вокруг Георги, они тут же с шумом вспархивали, едва кто-нибудь проходил за оградой, позевывала лежащая под лестницей собака, падал листок с дерева или перемещалась тень от ветки. Воробьи не боялись только Георги, ибо вкусный мусор из хлева выметал именно он, а главное, они чувствовали, что ему приятно глядеть на них. Едва начинало светать, они так громко стучали в дверь хлева своими крохотными, твердыми, как камушки, клювами, что осел начинал реветь, куры слетали с насестов; ероша шерсть, потягивались собаки, принимались мычать коровы, — и воробьи не отлетали от двери до тех пор, пока не вынуждали Георгу выглянуть во двор, вымести из хлева мусор и кинуть им хлебной трухи. «Пить-пить-пить», — просили они, наклоняя головки и окончательно обнаглев от доброты Георги; и он наливал им воды в обломок черепицы. Потом они, чтоб развлечь Георгу, весело щебетали и копошились, дрались и топтали друг друга. За весной следовало лето, за летом осень, за осенью зима… и только воробьи не менялись, никуда не улетали надолго, словно предпочитая всему на свете копошиться в мусоре перед хлевом Георги, словно внимание, щедрость и доброта существа в тысячу раз крупнее и сильнее их самих вынуждали их без конца кружиться под одним и тем же небом, заставляли их забывать другие страны, убеждали их в том, что их место тут, и только тут — на солнце и под дождем, на ветру и в снегу, — что если они хоть кому-то на свете вообще нужны, то прежде всего этому огромному и безобидному существу! Ничто в природе не рождалось без причины и без будущего — ни маленькая серая птичка, ни травинка, прилипшая к копыту осла; все было замкнуто в волшебный круг закономерности, навек связано друг с другом, словно звенья единой цепи, каждое из которых, пусть и самое малое, имело свое собственное, особое значение, заключало в себе некий смысл, подавало некий знак — подавало своеобразно, скрыто; но в конце концов ни этот смысл, ни этот знак не оставались неразгаданными. И один лишь Георга никак не мог понять, какой смысл вложил в его собственное существование тот, кто его создал, какое значение он этому существованию придавал. Узнать это он мог бы только у отца, умершего до его рождения — умершего вместе со смыслом и значением, задуманным им для Георги! Неужто ж он произвел на свет сына для того только, чтоб кто-то в этом мире его помнил, чтобы память о нем исчезла не совсем бесследно, чтоб хоть у сына в сердце остался маленький уголок, пропитанный его запахом, примятый его тяжестью — подобно стойлу проданной лошади? А может, умер он, чтобы подвергнуть Георгу суровому испытанию, чтобы проверить, начнет он искать в своей душе отца или, как бездомная собачонка, покатится под ноги первому же, кто ему свистнет? А ведь он действительно вполне мог принять борчалинца за отца, даже полюбить его, если б мать его вовремя не предостерегла! Или, скажем, признать отцовство майора (который, в сущности-то, ничего другого от него и не требовал) и жить, подчиняясь обстоятельствам. Что от этого так уж изменилось бы? Нет, если б отец действительно создал его только для этого, это было бы злом, чистейшим злом, ничем не оправданной жестокостью к сыну! Майор как будто объяснил смысл жизни Георги, сказав «или убей, или дай убить себя», но говорить такое он не имел права, ибо не он дал Георге жизнь, и сказать это его побудила не любовь, а ненависть; поэтому пожертвовать собой ради майора целью жизни быть не могло, а являлось лишь наказанием, хладнокровно и бессердечно избранным майором за все неприятности, страхи и волнения, перенесенные им из-за Георги. В конечном же счете майор был то же самое, что борчалинец, оба они страдали одним недугом, только лечились от него по-разному: один норовил устроиться в доме вдовы при посредстве щекотки, изюма и меда, другой же начал с того, что просто разрушил этот дом, так что ей самой пришлось как-то приспосабливаться. Было ли и это закономерностью, как смена дня и ночи, погоды, времен года, или случайностью, досадной случайностью? Это Георге предстояло выяснить тоже — собственно, даже прежде всего, ибо, лишь выяснив это, он мог понять и тайну своего предназначения. Действительно ли ему в этом мире надлежало лишь подметать хлев, рубить дрова, таскать воду, вскапывать и обрезать, расчищать и опрыскивать виноградник, кормить воробьев и лежать в пропитанной запахом ослиного пота темноте; или же, сверх всего этого, на него было возложено и что-то другое, безнадежно забытое, навсегда утерянное, погребенное вместе с отцом? Чтоб выяснить это, ему нужно было время, время и терпение. Нужно было выдержать во что бы то ни стало, любой ценой, несмотря даже на то, что для этого у него было лишь одно оружие — ставшее сказкой, окутанное загадочным туманом величие мертвого отца! Хотя нет, не только это: величие мертвого отца и бессилие живой матери. Живая мать была оправданием его жизни, а мертвый отец — оправданием его будущей смерти, ее образцом и целью. Надо было выдержать любой ценой — выдержать, чтобы жить, и жить, чтобы умереть. Не умирает лишь то, что не живет. Человек — это не только жизнь и не только смерть, но и то и другое вместе: и смерть и жизнь, смерте-жизнь в ее неразделимости; и каждая из них создает другую, а обе вместе — человека, для создания которого эта божественная пара так же необходима, как для рождения ребенка родители: мать и отец; как мать, так и отец. Понять это Георге было нетрудно, ибо именно в его родителях все это воплощалось с наибольшей наглядностью. Его мать олицетворяла жизнь, подобно спокойному, прекрасному дереву, цветущему и плодоносящему вопреки всем ветрам и морозам; отец же олицетворял смерть, но смерть сказочных Амирана, Камар-Ханджалы и Цискары, смерть, мудрость и доброта которой внушали людям не страх и суету, а надежду и веру. Напоминал он Георге и их урукийскую реку — реку, которой одного половодья, одного весеннего разлива хватало на то, чтобы потом весь год, до следующей весны, сохранять свое место под солнцем, чтоб ее высохшее русло, усеянное побелевшими на солнце камнями, мутными, агонизирующими лужами и облепленными сухой грязью буйволами, по-прежнему именовалось рекой. Зато каждую весну эти застывшие груды неровных камней превращались вдруг в настоящую реку, и ее мутные, недобро сверкающие воды, быстро заполнив русло и выйдя из берегов, с грохотом тащили за собой запряженные волами арбы и огромные, вырванные с корнем деревья — все, что оказывалось на их пути, как бы оно ни сопротивлялось. Прекрасная и страшная в эти часы, стосковавшаяся по шуму и быстроте река за день-два нерасчетливо тратила весь запас воды, отпущенный ей далекими горными ледниками на целый год. Да, река прекрасно жила и прекрасно умирала… а потом в ее неровном, выбеленном солнцем, похожем на смятую постель русле оставались лишь маленькие лужицы — дети, рожденные от недолгого самозабвенного, жертвенного супружества горного потока с жизнью и теперь на год осиротевшие. Рядом с ними лежали буйволы, подобные овдовевшим матерям, — еще ошеломленные гулом исчезнувших вод, неподвижные и величественные, словно изваяния языческих божеств, они своими тенями как бы защищали сирот реки от палящего, безжалостного солнца. И Георга походил на оставшуюся от потока лужицу, и у него была своя спасительница, своя богиня; и хотя он не мог воспринять ее целиком, как маленькая лужица не может отразить всего буйвола с головы до ног, ее существования, ее близости, ее многозначительного молчания было достаточно, чтоб он стойко переносил и зной, и оседавшую на дне души муть, чтоб и он дожидался весны, очередного возвращения отца — дожидался, не испаряясь в небе, не исчезая под землей…
— Как я верил… как же я, дурак, верил! — сказал Георга.
— Верил? Во что? — спросил его майор.
— Да вот… что ты мне ружье подаришь! — улыбнулся Георга.
— У тебя, я вижу, пасть одна только и растет… и жрать, и пустяки болтать ты мастер! — сухо заметил майор.
— Почему? Что я тебе сделал не так? Уксусу тебе налил вместо вина? Или постель твою зажег вместо камина? А? — еще шире улыбнулся Георга.
— И такое может случиться! — улыбнулся и майор. — Ты, Георга, ненадежен… нет! Врага в доме держу.
— Врага? — Георга поглядел на дом, в котором находились его мать и брат. — Врага? — задумчиво, с сомнением и надеждой повторил он это короткое слово, как больной название лекарства, только что ему порекомендованного, но лишь еще раз напомнившего ему старую, неизлечимую болезнь и множество других лекарств, уже безуспешно испробованных…
Георга знал, что майор его ненавидит, но не ставил ему этого в вину, понимая, что у этой ненависти есть свои причины. Ведь он знал майора лучше всех; он один знал, что майор — трус, предатель и насильник. Георга был первым, кого поразила трусость майора, — вот на чем, оказалось, были построены все его мечты и надежды, рухнувшие в ту ночь при звуке выстрела, как карточный домик. Георга вообще предпочел бы честное поражение майора его трусливой победе; поэтому он и крикнул тогда с балкона сбежавшимся на выстрел соседям: «Это дядя Кайхосро стрелял» — он все еще пытался сохранить мечту и веру, привести майора в чувство, вернуть его на путь справедливости и добра. Но майор не только не стал оправдываться, но и больно ткнул его в подбородок, приказал ему молчать! «Чего ты орешь, щенок…» — злобно прошипел он, тоже сразу поняв, что в глазах Георги он разоблачен полностью, что его истинное лицо, заново родившееся в сознании Георги, надо если не уничтожить, то хоть навсегда запереть в этом сознании, сделать невидимым для других. С этой минуты Георга стал зеркалом, в котором отражались не только благородная седина висков и ослепительный блеск мундира, но и каждый темный уголок души майора. Что ж удивительного было в том, что тот возненавидел это зеркало, хотел бы залепить его грязью? Поэтому ненависть майора Георга считал вполне естественной; в глубине души мальчик даже жалел отчима, ибо был уверен, что этой лишь ненавистью вызваны и его дурной характер, и сварливость, и жадность, и желчь, и постоянный, неугомонный страх, прыгавший в его беспокойных глазах, как крапивник в колючих терновых ветках. Все это Георгу, конечно, не восхищало — и все-таки втайне он сочувствовал майору, понимая, что птичка страха, прыгавшая в глазах отчима, вылупилась на свет не без его собственного участия, что в схватке майора с борчалинцем виноват прежде всего он сам. Поэтому единственным, что он испытывал к майору, было разочарование, с чувством вражды не имевшее, однако, ничего общего, хотя испытывать его было еще трудней. Стать же врагом мужа своей матери и отца брата ему и в голову не пришло б! Как бы ни был майор жесток и несправедлив к Георге, разоблачать его тот все равно не стал бы, хотя бы ради матери и брата…
— Врага? — еще раз переспросил Георга. Он уже не улыбался — он был растерян, сбит с толку. — Какой я тебе враг… куда мне до тебя? — спросил он после секундного молчания.
— Да разве я не вижу, что у тебя на уме? — сказал майор. — Не выйдет, Георга! Взбаламутить дом я тебе не позволю. Тут я старший…
— Да ведь это и мой дом тоже? — снова улыбнулся Георга.
— Еще бы! — в тон ему подхватил майор. — Поди вытащи гнилые камни своего отца…
Вот так, Георга! «Поди вытащи гнилые камни своего отца…» Нет, молчать было все-таки лучше! Майора ему не переговорить, а если б он его и переговорил, что от этого изменилось бы? Неужто майор действительно позволил бы ему вытащить отцовские камни? А куда ему с этими камнями деваться потом? Да нет, не разорять же в самом деле гнездо матери и брата…
— Да как их вытащишь? — усмехнулся Георга, почесывая себе затылок.
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! — били огромные, как шкаф, часы; и Георга честно выполнял свои обязанности, чтобы понять цель и смысл собственного существования. Цвела лоза; завитые, как женские локоны, черенки наливались зеленым светом; от вывернутого мотыгой кома земли шел пар, как от куска мяса, только что вынутого из кастрюли. Плечи Георги горели, над его ухом жужжала пчела, на кончике носа появлялась капелька пота, вечная, нескончаемая, сразу же заменявшаяся другой, как только она, сорвавшись с носа, падала на руку Георги, на его мотыгу или прямо на комья земли. «Э-ге-гей, Георга!» — кричали крестьяне, работавшие на соседних виноградниках. «Э-ге-гей!»— отвечал им Георга, смачно вытирая рукавом разгоряченное лицо. Под заборами шелестела пыльная, пожелтевшая от зноя трава; на выбитой, белой от пыли дороге извивался уж, и казалось, что земля колышется, раскалывается на неровные куски. Воздух пропитывался запахом дыма: горели стебли и сорняки. В конце виноградника, в спертом воздухе плавней, жужжали комары; как роженица, стонала древесная квакша; притаившиеся в тени козы молча размышляли о своих делах. Кричал осел — так, словно кто-то учился играть на трубе. В тени орехового дерева, сидела отдыхавшая женщина в черном. Ее косынка была расстелена на коленях, и потрескавшиеся, натруженные руки лежали на ней так, словно женщина показывала их богу. Без косынки на голове она казалась моложе — лишь кое-где в волосах, как в конском хвосте, поблескивала седина. Она сидела задумчиво сжав губы, — вечная служительница бога и человека, вечная мать, растящая детей и пекущая хлеб; не укоряющая и не благодарная, не горестная и не счастливая, не радостная и не печальная, не юная и не старая — вечная женщина, исток вечной жизни! От нее пахло выметенным и сбрызнутым водой двориком; от зноя и быстрой ходьбы ее лицо раскраснелось, как горячие угли в золе. «С божьей помощью все будет хорошо…» — молча думала она, родившая Амирана и Медею и вместе с тем похожая на их дочь…
— Если только не будет града… — по-взрослому вздыхал вернувшийся с виноградника Георга, сидя перед хлевом и подставляя ветерку для просушки свои свежевымытые, упертые в землю лишь пятками ноги.
— Устаешь очень… Ты ведь еще маленький! — улыбалась рано возмужавшему сыну Анна.
— Вот кто маленький! — кивал он подбородком в сторону Петре. — Потише, малыш… не съешь маму! — ласково говорил он младенцу, прильнувшему к груди матери с надутыми от удовольствия щеками и то ворковавшему, как голубь, то сердито косящему большим, как сито, глазом.
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм, — били огромные, как шкаф, часы; и точно, секунда в секунду рассчитанное время тащило за собой и обновленную (или новую) семью Макабели, над которой, как мертвый ангел, витал призрак двухмесячной девочки. Говорят, правда — кто умеет обращаться с судьбой, к тому она хоть раз в год постучит в дверь; но мало ли что говорят… Сказано это ведь не самой судьбой, а людьми — но если б даже она сказала это и сама, то дверей, ждущих судьбы, в мире так много, а дней в году так мало, что поверить в это трудновато! А потом — как, собственно, опознать птицу судьбы, присевшую перед твоей дверью? Кто знает, какая она, какого цвета, маленькая или большая, по-своему как-нибудь чирикает или по-человечьи говорит? Каковы признаки, позволяющие не спутать птицу судьбы ни с какой другой птицей? В какое время года и суток она предпочитает появляться? А главное — можно ли ее увидеть вообще? Или она так же незрима, как душа, мечта, надежда, желание? А все-таки человек верит в судьбу, верил в нее всегда, всегда ждал ее, и для перечисления всех обличий, которые она принимала в его воображении, ему не хватило б ни времени, ни бумаги. Судьба существует постольку, поскольку она необходима человеку, — необходима хотя бы для того, чтобы сваливать на нее все свои удачи и неудачи и этим делать их более переносимыми для ближнего. Человек покоряется выдуманной им самим судьбе, приспособляется к ней; но это вовсе не значит, что приспособляемость— его главное свойство. Она скорей результат принуждения, следствие необходимости выжить, и приобретение ее неизбежно искажает — пусть хоть частично — истинную природу человека. Ибо спасительная эта приспособляемость никогда не приходит сама по себе, без боли и жертв; она — плод продолжительной, напряженной духовной борьбы, отличающейся от всякой другой тем, что в ней побеждает побежденный, право на жизнь получает лишь угнетенный и подавленный. «Такова, значит, моя судьба…» — сколько уж раз говорил человек эти слова, по какому только поводу не говорил, и сколько раз еще скажет! Ибо как бы остро ни ощущал он своего одиночества, в действительности он — никогда не один, никогда не принадлежит себе одному; он — часть сложной, многогранной, многоцветной сущности, именуемой жизнью, которой, как и самой природе, в общем-то безразлично, кто, как и когда приспособится к установленным ею порядкам, законам, условиям и границам. Было поэтому естественно, что рано или поздно все бури мира войдут, хотелось этого Кайхосро или нет, и в его новый, крепко выстроенный дом, что они, не спросив дозволения, унесут с собой все, что им понравится и попадется под руку, — и Макабели тоже должны были платить свою дань времени, хотя их, как и всех других, оно об этом не предупреждало. Поэтому и в двухэтажном, на городской лад особняке майора все сваливалось на судьбу, считалось волей божьей, и каждый член семьи шел по дорогам жизни вслепую, с упрямством и усердием, свойственными людям недалеким. Но майор свою заветную мечту все-таки осуществил: теперь у него был надежный собственный дом и из колыбели на него глядел его сын, его собственная плоть и кровь! Мысль о казарме была по-прежнему горька и мучительна; но с течением времени в ней, как в созревающей хурме, возникала и некая сладость. О борчалинце забывать, конечно, не приходилось, но пока что о нем не было ни слуху ни духу, и вполне могло статься, что майор его никогда больше не увидит. Однако Кайхосро упустил из виду, начисто забыл то, что забывать нельзя, как женщину или врага: он забыл свой город… не забыл даже, а просто выбросил, вытряхнул его из сердца, как хлебные крошки со скатерти. И все-таки изредка его вновь и вновь, как молния, ударял сдавленный в ущелье жар города, десятки раз разрушенного, сожженного и десятки раз воскресавшего из мертвых! Словно попавшая в глаз соринка, его вдруг вновь пугали и мучили мелькнувшие где-то за чертой забвения воды реки, накатанная, как бы отполированная железными ободьями мостовая, сверкающие на солнце стекла галерей, пестрое белье, вывешенное для просушки прямо на улице, купол с раскрытыми крыльями креста, как бы ожидающего встречи с богом, узкие, искривленные, исчезавшие одна в другой улочки! Кайхосро забыл, что город этот — вечный и для него единственный, что и он и его семья связаны с ним судьбой так же, как сидящий в коляске связан с ее колесом полой шинели, только что незаметно зацепившейся за это колесо, и пусть в это мгновение он еще не знает, что его ждет, не чувствует, как пола шинели укорачивается, натягивается, — в следующую же секунду она сорвет его с места, бросит его под колеса, и помочь ему нечем, ибо времени скинуть с себя эту чертову шинель, избавиться от ее затягивающей смертельной силы у него уже нет. Разница в том только, что такая смерть — дело секундное, и несколько случайных уличных очевидцев у нее найдется всегда; а смерть семьи зрителей не имеет и длится долго…
Чего Кайхосро действительно не хотелось, так это помирать, и, хотя отец Зосиме все время уговаривал его любить ближнего своего, именно ближнего-то он и боялся, ибо был уверен, что покуситься на его жизнь может любое собачье отродье и помимо борчалинца; и не только может, но и захочет; и не только любой чужой, посторонний, столкнувшийся с ним случайно, но и свои, близкие, те, кто обязаны были бога молить о продлении его жизни, ноги ему целовать! И это была такая непредставимая, такая бесчеловечная несправедливость и неблагодарность, что Кайхосро задыхался от ярости, терял сон и по ночам, высоко подняв над головой лампу, бессмысленно бродил по еще пахнувшим известкой и краской комнатам. В могильной тишине собственного дома ему на каждом шагу чудились убийцы или злые духи. «Ну-ка, проснись!» — грубо, больно тыкал он рукой съежившуюся под одеялом Анну, поднося лампу прямо к ее лицу, как бы для того, чтобы прочесть ее тайные мысли и намерения до того, как она успеет надеть личину. К подобным пробуждениям она уже привыкла — после того как к майору привязалась колющая боль в боку, он частенько заставлял ее вскакивать с постели, чтобы согреть кирпич, и она, дрожа от холода, приседала на корточках перед камином, мучительно силясь не задремать, не свалиться лицом в огонь. Но не всегда майора будила боль в боку — его мучили и какие-то другие, не менее пугавшие его недуги, и, хотя жене он в этом не сознавался, она ясно видела, что причиной — или, во всяком случае, одной из причин — этих тайных недугов он считает ее. Догадаться об этом было нетрудно: это было написано на его лице, заметно по его голосу, подтверждалось каждым его движением! И все-таки ночные эти пробуждения заканчивались почти всегда любовью — болезненно раздраженной, неласковой, неприятной… Возбужденный страхом и болью, он не мог сдержать себя, а она не могла противиться, отказывать — она была женщиной, его женой и чувствовала, что нужна ему именно в эту минуту.
— Зря радуешься… вот возьму и не помру, всем вам назло! — шептал он в ухо жены, как в щелочку в стене исповедальни, сам отчасти смущенный, но вместе с тем и разозленный собственным еще раз бесчувственно удовлетворенным желанием.
— Спи! Ничего опасного у тебя нет… — отвечала Анна. Съежившись, плотно сжав замерзшие ноги, она лежала в темноте, прислушиваясь к дыханию засыпающего мужа, — униженная, огорченная не разделенной, а навязанной ей страстью. «За что это? Чем я провинилась?» — думала она, незаметно засыпая. Но ее тут же вновь будили шершавая тяжесть и холод кирпича, соскользнувшего с тела мужа, — тогда она, взяв в руки кирпич, украдкой вставала с постели Кайхосро и облегченно, взволнованно, как человек, выплативший долг или отбывший наказание, возвращалась в собственную постель, холодную и чистую, как снег. Лежа в ней, она думала только о Георге и его отце — горячо, преданно, с благоговением, как верующий о святых, в тысячный раз мысленно оплакивая смерть одного и сиротство другого! А потом в своей колыбельке просыпался Петре, и его надо было кормить…
После того дня, когда майор впервые овладел Анной, в их отношениях ничто не изменилось; и каждое их соединение было как бы бесплодной попыткой возобновить и завершить то, первое, прерванное неожиданным появлением Георги, — попыткой затянувшейся и поэтому надоедливой. «Зачем тебе делать меня еще несчастней… ну пожалей меня!» — взмолилась она перед майором в тот миг, когда он впервые схватил ее за руку. Но она тут же почувствовала, что удержать его не сможет, что он действует не по минутной прихоти, а исполняя какой-то заранее обдуманный замысел. Понять этот замысел она, естественно, не могла, но и воспрепятствовать ему тоже — майор ведь был первым после ее мужа мужчиной, вступившимся за нее, подвергшимся ради нее опасности! Главным, однако, было то, что она на него «понадеялась». В чем состоит эта надежда, что она ей даст, что в ее жизни изменит, — этого Анна толком не знала и сама. Ей хотелось лишь одного: увидеть, как Георга встанет на ноги, заживет своим домом, заведет семью, детей… вот что она называла надеждой, не сознавая, что эта-то надежда и вынуждала ее стать сначала наложницей борчалинца, а потом женой майора, что эта-то надежда и издевалась над ней, и насиловала ее, рядясь то в овчину, то в мундир с эполетами. Став женой майора, она ослепилась этой надеждой еще больше. Теперь-то уж, по крайней мере, никто не посмел бы в полночь войти в ее дом без разрешения — теперь в этом доме был плохой ли, хороший ли, но хозяин! Правда, она отдала сына в руки отчима, но не она же первая. Не она изобрела отчимов и пасынков, это было всегда, а порой отчимы относятся к пасынкам и лучше родных отцов. Почему ж именно их должен был наказать бог, почему именно их это должно было обречь на гибель? В чем состоял особый, отличавший их от других, такой уж непростительный грех, если не в самом их существовании и желании спастись? Анна была женщиной, и соглашаться и оправдывать больше соответствовало ее натуре, чем отказываться и обвинять, но она была бы просто глупа, если б сочла себя счастливой, поверила б урукийским женщинам, бездумно завидовавшим ее судьбе. Она была обречена на несчастье — замужество лишь убедило ее в этом окончательно. Даже если б майор любил ее, все время окружал ее лаской и заботой, счастья ей все-таки не было б: теперь ведь они с Георгой жили не в одном доме, как положено матери и сыну, а в одном дворе, словно человек и скотина! Теперь, правда, рядом с ней был другой сын, но он-то был не пасынком, а законным сыном, и если ее еще держали в доме, если и ей не стелили подстилки в хлеву, как Георге, то, пожалуй, только из-за него. «Да в его-то возрасте у меня и такого хлева не было…» — говорил майор о Георге с таким видом, словно иметь то, чего он не имел в детстве, бог весть какое преступление! Единственным, что удалось бедняге отцу Георги, было то, что он оставил сыну хоть дом, не бросил его без приюта под открытым небом, под дождем и снегом; и, пока у Георги был этот дом, ни враги, ни друзья не могли считать его человеком окончательно пропащим. Собственный дом, пусть самый ветхий и незащищенный, лучше чужого дворца: он твой, он пропитан твоими мыслями и запахами; он не только немой свидетель твоего страха или голода, тоски или надежды, а сочувствующий и помогающий друг. Не зря ведь говорится: в своем доме и стены помогают! Анна же своей «надеждой» добилась лишь того, что разрушила дом сына — вот к чему привели все ее старания! Но сообразила она это лишь потом, увидав вдруг на месте снесенного дома, на этом потрясающе оголившемся клочке земли, Георгу, перепачканного сырой землей и плесенью, беспомощного и несчастного, как извлеченная из панциря черепаха. Тогда она впервые почувствовала, что ей трудно смотреть в глаза сыну, трудно найти для него слово утешения. Утешать его она была уже не вправе: их судьба, их дорога, всегда казавшаяся ей единой и неразделимой, разделилась. У нее теперь был муж — а Георга так и остался без отца; у нее был дом — а у Георги его уже не было. Но ведь существует бог, от которого не укроется ничего! Бог не простит обид Георги никому, бог потребует ответа у всех — и у нее самой прежде всего! Одно лишь это и воодушевляло Анну, одной лишь этой надеждой она теперь и жила, ибо с течением времени все больше убеждалась в том, что изменила сыну, что в погоне за его спасением и счастьем невольно, по недомыслию, несла ему несчастье и гибель. И бог уж наказывал ее! «Слава тебе, господи… — шептала она, вернувшись от мужа, одна в своей ледяной постели. — Сгнои нас обоих заживо!» Болезнь мужа она считала и своей; она была убеждена, что бог послал ее им обоим вместе и что она убьет обоих — но не сразу, а постепенно, с муками и страданиями, чтоб открыть обоим, каким грехом они связаны, за что их бог наказывает. Поэтому-то она с таким неизъяснимым удовольствием разогревала мужу его кирпич, когда он, как рабыню, сгонял ее с постели среди ночи, стирала его вонючее от мочи и крови белье и даже по-прежнему отдавалась ему — она не имела права быть брезгливой, не имела права уклоняться от болезни, посланной богом ее мужу, чтоб через него заразить и ее, и ее запачкать и сгноить! Ненависти к нему она не чувствовала, но и жалости тоже — он ведь тоже не жалел Георгу, брошенного на милость божью. А бог строг и справедлив — так что Анне и не оставалось ничего другого, как до конца выполнять свой долг хозяйки семьи, спаянной лишь неизлечимым недугом, чтоб, если ей посчастливится, дожить до лучших дней, дождаться торжества сына…
Болезнь майора и впрямь казалась обрушившейся с неба, ниспосланной самим богом. Увлеченный строительством дома и усадьбы, он ни о каких болезнях и не помышлял! Закончив дом, он обнес его такой оградой, что заглянуть к нему во двор и всаднику было бы трудно. Две упряжки буйволов еле притащили огромные железные ворота, и двадцать мужчин, тяжело дыша, с трудом навесили их на ограду. Радостный, счастливый, как ребенок, он тоже суетился вместе со всеми, даже помогал им, но, когда тяжесть ворот легла в железные петли, он вдруг с ужасом почувствовал, что внутри его тела что-то оборвалось. Резкая, стремительная боль на миг ослепила его; сразу покрывшись холодным потом, он даже подумал, что в него выстрелили, но потом быстро успокоился: боль ушла так же внезапно, как и явилась, хотя все его тело еще дрожало, как невзначай задетая пальцем струна. Никто, однако, ничего не заметил, и это его тоже успокоило. Люди толпились вокруг ворот, проверяя, надежно ли они навешены.
Вторично боль напомнила о себе (он успел уж о ней забыть) недели через три. Он нагнулся к колыбели сына, чтобы поправить его слипшиеся, потные волосики, — и боль кинжалом вонзилась в бок. Он с испугом и удивлением оглядел комнату; но ничего незнакомого или необычного в ней не оказалось. В колыбели ворковал его сын; жена сидела на тахте и, чуть смущенная его неожиданным появлением, поспешно укутывала полотенцем еще влажную после мытья голову. Он вдруг почувствовал, как мирна и прекрасна жизнь и как жаль ему будет с ней расставаться. И жена в этот миг показалась ему красивее и привлекательней, чем обычно; он с сожалением подумал, что охотники на нее еще найдутся — и очень скоро. Словно догадавшись, о чем он думает, жена отвела глаза в сторону и отжала волосы в кулаке. Неожиданная боль заставила его заметить красоту жены, как будто мужа красивой женщины и смерть скорей пощадила бы. Было, впрочем, и вправду что-то успокаивающее, облегчающее в этой женщине с вымытой головой, как бы лишь сию минуту ставшей женщиной, получившей во владение теплоту и нежность собственного тела и теперь спокойно ими наслаждавшейся. А он опирался на качающуюся колыбель и, вспотев от боли, даже выпрямиться не мог! Стекавший с его лба и скул на подбородок пот медленно капал в колыбель, где лежала его плоть и кровь, беззаботная и несведущая, как укрывшийся под кустом от дождя зайчонок…
— Помоги мне! — изменившимся, надтреснутым голосом сказал он жене.
Младенец заплакал, решив, должно быть, что отец на него сердится, но отец его ничего уж не видел. Очнулся он, лишь ощутив прикосновение к лицу мокрых волос жены. Когда к нему вернулось зрение, он лежал на тахте и умолял ее не уходить. Младенец кричал, но он мог и подождать, ничего особенного с ним не происходило. Единственным, кто сейчас действительно нуждался в помощи, был он, Кайхосро! «Не уходи, не уходи…» — повторял он, лежа на спине, хотя жена и не пыталась отнять у него руку. Ее маленькая рука лежала на его груди, и это ему было приятно — он чувствовал, как в его встревоженную душу вливаются умиротворяющая прохлада, цвет и запах женской плоти. Он подумал даже, что теперь они всегда будут любить друг друга, что дороже ее у него никого нет. Но вместе с болью ушла и эта мысль, и он грубо оттолкнул ее руку.
— Это вы виноваты, вы! — заорал он ей в лицо. — Скажите хоть, что это такое! Чем вы меня заразили?
Что ей было на это ответить? Отвергнутая мужем, она склонилась к колыбели и дала грудь кричавшему младенцу, ничего на свете еще не понимавшему, умевшему только есть и ходить под себя. И все-таки, родившись, он требовал внимания, а в любви он рожден или в ненависти, и знать не хотел!
Потом у Кайхосро начались кровотечения: кровь выделялась с мочой. Заметив это впервые, он окончательно растерялся и с удручающим бессилием сдался судьбе. Куда и как ему, в самом деле, было бежать от этого нового страшилища, от убийцы, который не метил в него издалека, наподобие борчалинца, а поселился прямо в нем самом и мог прикончить его в любой момент, когда захотел бы?
Когда он вошел в комнату, Анна чуть не вскрикнула. От него остались одни глаза — пустые, выпученные, лихорадочно ищущие сочувствия и помощи. Почернев, как араб, он улыбался так смущенно, что сердце Анны сжалось от сострадания. После этого дня выйти помочиться стало означать для Кайхосро то же, что для приговоренного подойти к виселице. Он шел, но ноги его не несли; он шел, потому что не пойти не мог, но до последней минуты старался сдержаться, избежать этого. И все-таки потребность и надежда на то, что кровотечения, может, хоть сегодня не будет, заставляли его в конце концов трусить к столь роковой для него стене. Прислонясь к ней обеими ладонями, он с нечеловеческой, беспредельной ненавистью глядел на черно-красный поток, с шипением низвергавшийся к его ногам. Те три-четыре литра крови, которые он с таким трудом, такой дорогой ценой спас, которые он так заботливо оберегал, теперь уходили из его пропитанного смертью, насквозь прогнившего изнутри тела вместе с вонючей мочой, и остановить их не могло ничто! Это он понимал и сам и по ночам, думая о своей близкой смерти, плакал от ужаса — громко, душераздирающе, как побитый ребенок. Кого только не приводил, кому только не показывал его отец Зосиме — и все зря… Без конца перелистывали и Карабадин (долго еще лежавший у его изголовья и после этого); но ни до названия этой странной болезни, ни до лекарства от нее так и не докопались! В эти — горькие для Кайхосро дни ему, едва он впадал в дремоту, сразу же начинала сниться двухмесячная девочка с огромными усами, степенно говорившая ему голосом Каплана Макабели: «Так тебе и надо — зачем ты присвоил наше имя?» Только этого ему еще не хватало! Вскочив с постели, он с лампой в руке, как потерянный, слонялся по дому, ставшему ему вдруг совершенно чужим, по дому, в котором свободно и смело стучало лишь железное сердце огромных, как шкаф, часов.
— Я думаю, все дело тут в перемене места и воздуха… — говорил ему отец Зосиме. — Говорят ведь: привыкшего не отучай, а непривыкшего не приучай. В этом весь секрет человеческой природы! Индус, хоть ты его убей, холодной воды пить не станет — а мы привыкли, у нас кувшин непременно запотеть должен. Был, говорят, где-то человек, который змей, скорпионов и пчел, как фрукты, жрал — тьфу, накажи его господь! А другой — живых кошек… поймает за хвост и с аппетитом жрет. Да не простой кто, а султан какой-то… Неужто ж они этому выродку рожу хоть не царапали? Нашему брату кусок кошатины подсунь — все материнское молоко ведь наружу выльется. А тот без кошки не мог… привык, значит! Вот что говорит Панаскертели… — Отец Зосиме раскрывал Карабадин как раз на нужной ему странице, слегка откидывал голову назад и, отодвинув книгу от лица, водил пухлым указательным пальцем вдоль строк. — Вот: «…и всякого племени человеку яство и питие благоприятны суть, якоже привычен…» Видишь — привычен!
— Ты, батюшка, никак, воображаешь, что я всю жизнь одних змей, скорпионов и живых кошек ел? — с горьким ехидством ухмылялся Кайхосро.
— Нет, сын мой, нет! Не воображаю! Но поразмыслить надо обо всем. У болезни тысяча разных причин… — отвечал нежноглазый отец Зосиме, едва заметно продолжая улыбаться.
Разговор о болезни майора шел и в лавке Гарегина. Поток его клиентов был непрерывен, и не одни урукийцы, но и жители окрестных сел, приходившие к нему за сахаром, керосином, солью или тканью, вместе с покупкой уносили из лавки и весть о болезни майора, чтоб «как следует порасспросить» среди своих, не знает ли кто лекарства от такой болезни. Каждый считал своим долгом хоть поинтересоваться судьбой чужого человека, если уж помочь ему ничем не мог. Многие из них майора никогда и не видали и знали его только по рассказам Гарегина. «Где ж тут справедливость? — вздыхали и охали женщины в деревнях за десятки километров от Уруки, узнавая от своих мужей о болезни видного собой и благородного майора. — Вот такого человека и похоронят… а свекровь моя, спаси ее господь, помирает, помирает и все никак не помрет!» Вскоре по обе стороны Алазани не было деревни, где болезнь урукийского майора не стала бы предметом ежедневных разговоров и забот. И те, кто его знал, и те, кто не знал, одинаково жалели «такого короля», у которого, как они говорили, «блеск эполет и чинов-медалей, как венец, вокруг головы стоит». Выслушивая всех, Гарегин записывал все советы и поучения на отдельном листе, чтобы потом подробно доложить о них майору. «Это мне уж говорили! Все врачами сделались…» — злился майор, которого бессмысленное и безрезультатное внимание людей лишь раздражало. «У свояченицы одного моего знакомого такая ж история… лет сто уж прошло, а она и сейчас как огурчик!» — старался успокоить майора Гарегин. «Если ты человек порядочный — откуда ты знаешь секреты чьей-то свояченицы?» — орал вышедший из себя майор вслед спускавшемуся по лестнице и в душе, должно быть, уже проклинавшему собственную отзывчивость Гарегину. «С месячными небось спутала? Что общего у меня, майора, с твоей потаскухой свояченицей?» — неистовствовал майор…
— Удивительно! — говорил ему отец Зосиме. — Рождаемся мы, чтоб согрешить, а умираем, чтоб очиститься…
— Смерть вовсе не очищение, отец мой! Смерть — это грязь… — отвечал майор, глядя, однако, на священника с напряженным вниманием, стараясь не пропустить ни одного его слова.
— Смотря какая смерть… — сиял глазами отец Зосиме, медленно, неторопливо смакуя густое и яркое, как кровь, вино в пузатом стаканчике.
— По-твоему, смерть за ближнего своего ароматна, как роза? А, батюшка? Люби ближнего своего… так ведь по-вашему? — злорадно говорил майор, залпом осушая свой стакан. На его подбородке блестела крупная капля вина.
— Умереть за ближнего не всякому дано! Свои болячки убивают чаще. Благослови господь того, кто это вино делал… — говорил священник, чмокая губами.
Он не случайно заговаривал с майором о смерти — он считал себя обязанным подготовить его к ней. Тревога и сопротивление майора его не удивляли и не сердили: отец Зосиме сам был смертным, и служение богу вовсе не обязывало его требовать от других того, что вполне могло не удаться и ему самому: встретить смерть бесстрашно и безропотно. Если ж он, в отличие от Кайхосро, действительно считал, что не всякая смерть одинакова (как и не всякая жизнь), то и это было не так существенно, и это утешало не слишком; ибо и жизнь и смерть человека создаются не им самим, а незримым духом, и изменить это человек бессилен. Майора отец Зосиме просто жалел, вот и все; впрочем, он и не верил, что господь обрек того на скорую смерть, — никаких внешних признаков этого он не видел. И все-таки он считал своим долгом почаще навещать человека, из-за страха смерти потерявшего веру; навещать, чтоб если и не обратить его на путь истинный, то хоть рассеять, развлечь его своими рассуждениями о жизни и смерти — общими, поверхностными и все-таки для человека понятливого отнюдь не бесполезными…
— Не всякому дано, это верно! Вот Ной, например, — он не смог умереть ради ближнего своего. Гибели вместе с ближним он предпочел измену ближнему. Что, не так? Не это написано в Библии? Большего предателя, чем Ной, человечество не знает. Куда там Иуде! Ной предал весь род человеческий. Ему бы предупредить людей: так, мол, и так, торопитесь, спасайтесь кто как может. А он сидел и сколачивал ковчег… небось при этом еще и насвистывал… Ной мое божество! — крикнул вдруг майор, поставив (а верней, уронив) на стол свой пустой стакан. — Ной мое божество! Умереть может всякий, а вот спастись — нет…
— У тебя что-то другое на уме… это, сын мой, тебя и мучит. — Отец Зосиме понюхал свой стакан. — И все-таки из Ноева ковчега вышла новая жизнь, верующая и богобоязненная…
— Да. Только между ногами у нее находилось то же самое, что погубило и ее предшественницу! — мгновенно огрызнулся майор.
— Это… — Священник улыбнулся, накрыл свой стакан ладонью и, покачав головой, продолжал: — Это, милый ты мой, господь человеку дал не для пустословия!
— Сказать тебе правду? — Майор наклонился к священнику так, словно тот мог и не расслышать. — Сказать тебе правду? — повторил он, дотянувшись до кувшина и наливая себе вина. Его руки дрожали, вино пролилось на стол. — Я ненавижу ближнего своего! — сказал он и выпрямился. Он поднял стакан, но не отпил, а задержал его возле рта; при этом он пристально глядел на священника. Попавшая на мундир капля вина оставила на нем пятнышко, похожее на раздавленного клопа. Отец Зосиме взглянул на это пятнышко — майор невольно взглянул туда же и свободной от стакана рукой резко провел по пятну, словно отсекая, отшвыривая от себя взгляд священника, как заползшее насекомое. — Откуда я знаю, что я — действительно я, а мой ближний — действительно мой ближний? — вызывающе спросил он.
— Это уже что-то новое… — с интересом сказал отец Зосиме. Он тоже дотянулся до кувшина и, наполнив свой полупустой стакан, одним глотком опять наполовину осушил его; потом он отряхнул рясу и тщательно вытер ладонью донышко стакана.
— Вовсе нет! — Майор поставил свой полный стакан в лужицу вина на столе. — Это самое древнее сомнение человека — и самое, заметь, коварное! От него не так-то легко отделаться… Вот был у меня один друг. То есть не был, а есть — жив еще, наверно, на четыре года всего меня старше! Так вот, этого моего друга в детстве украли цыгане. Родители нашли его года только через два — случайно наткнулись на какой-то ярмарке. И цыгане его отдавать не хотели, и сам он к родителям возвращаться почему-то не желал; но о чем говорить, — конечно, забрали! Потом его родители померли, он тоже стал родителем… и жена ему попалась порядочная, и сам был человек очень уважаемый, а от сомнения избавиться не мог, хоть убей. В этом он сознавался мне одному, да и то только спьяну — откуда я, говорит, знаю, что цыгане вернули родителям именно меня? (Священник засмеялся и забулькал глоткой, как опрокинутый кувшин с водой.) Да что тут смешного? Родителей он всю жизнь ненавидел, всю жизнь мечтал найти укравшую и продавшую его цыганку… — Майор схватил свой стакан и, наклонившись вперед, широко расставив ноги, одним духом осушил его.
Оба молча поглядели друг другу в глаза. Присевшая на перила веранды птичка сейчас же вспорхнула обратно, словно удивилась, встретив майора и священника именно здесь.
— Чего только не приходится слышать уху человеческому! — вежливо изумился отец Зосиме, чтобы не казаться равнодушным к волнению майора.
— Поди разберись… — сказал майор, весь еще под впечатлением собственного рассказа. В его глазах мерцали блестящие искорки.
— Этого тебе говорить не следует. — Теперь священник в свою очередь наклонился к майору, и его щеки опять сморщила улыбка. — Сомнение тоже болезнь… и трудноизлечимая! — добавил он, выпрямившись и откинувшись на спинку стула.
— Почему не следует? — раздраженно осведомился майор.
— Ты, Кайхосро, человек хитрый… не зря ж тебя вся Уруки уважает, — ответил отец Зосиме и, осушив свой стакан, поставил его рядом с пустым стаканом хозяина.
Так было почти ежедневно. Между балясинами веранды виднелись цветки фасоли — воронкообразные, неказистые, без запаха и цвета и все-таки привлекательные, успокаивающие! Над кустом китайского жасмина вились пчелы. Стол был покрыт влажными, переплетенными одно с другим кольцами — следами донышка кувшина. «Доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» — доносилось из-за ограды; и, беседуя, они даже не замечали, как сближались, как они, люди разных представлений и взглядов, постепенно становились необходимы друг другу. «Плохо, что народ веру в бога потерял!» — говорил отец Зосиме. «Веру в бога или в вас?» — злорадно уточнял майор. «Это одно и то же, — отвечал отец Зосиме. — Когда-то и мы большой силой были. Мы, голубчик, случалось, самому царю Горгасалу по зубам давали…»
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм, — били огромные, как шкаф, часы; но и без них жизнь ни на миг не остановилась бы! Каждый миг что-то происходило, каждый миг что-то рождалось или умирало, цвело или поддавалось тлению, исцелялось или заболевало. И только болезнь Кайхосро была вечной — она его не убивала, но и не покидала. Постепенно, однако, он привык и к болезни; познакомившись с ней поближе и как бы заключив с ней соглашение, он встречал каждый очередной приступ горячим кирпичом и отварами всевозможных трав. Платок, в который Анна укутывала горячий кирпич, побагровел, прожегся и местами обтрепался, Но сам кирпич от частого разогревания закоптился и стал еще тверже; так что было вполне возможно, что Кайхосро и с этой болезнью проживет целый век, наподобие чьей-то свояченицы. После каждого приступа, правда, он ослабевал, как женщина после родов, и еще дня два-три обливался холодным потом, но и теперь жизнь привлекала его не меньше, а, пожалуй, даже больше прежнего! Собственный сын уже называл его отцом, сам садился на осла, подкидывал в постель Георги лягушек и червей, долбил камнем клювы курам, по горло закапывал живых цыплят в раскаленный солнцем песок, много и еще всяких забавных проделок придумывал — единственный сын своего отца, надежда отца, Петре, Петрикела…
Кайхосро было почти не в чем упрекать судьбу: в сущности-то, его жизнь могла сложиться и куда хуже. Но одно необычное происшествие, случившееся в то время в У руки, вновь напомнило ему о том, что у него есть враг и похуже болезни — враг, появления которого можно ждать в любую минуту. Урукийцы стали свидетелями действительно очень странной мести: кто-то (возможно, конечно, что их было и несколько) за ухо пригвоздил Гарегина к двери его лавки. Всю ночь Гарегин провел, стоя на цыпочках, как бы танцуя лезгинку, — в момент пригвождения он, ожидая боли, невольно приподнялся, в этом положении гвоздь и пронзил его ухо. Когда к лавке сбежался народ, кровотечение уже прекратилось, на стекшую по двери кровь слетелись мухи, а жена и дети Гарегина, ошеломленные несчастьем мужа и отца, сидели на полу на корточках и, тихо, беспомощно скуля, глядели на него, от страха и боли, казалось, совсем оцепеневшего, но переносившего нечеловеческие муки со стойкой безропотностью, подобно слабому телом, но непреклонному святому. Сознание он потерял лишь после того, как кузнец Стефане вытащил гвоздь с присохшей кровью — тогда колени Гарегина подогнулись, и он рухнул бы на землю, не подхвати его кузнец на руки вовремя. Лишь тут, вскочив с полу, с воплями подбежали и домочадцы Гарегина, как будто до этого ничего страшного с ним случиться еще не могло или же словно он был действительно святым и его мощами следовало овладеть прежде, чем это придет в голову другим. Было очевидно, что злодеяние совершено каким-то совсем уж отпетым головорезом, — этим лишь и могло объясняться то, что домашние Гарегина всю ночь и пикнуть не посмели и не только звать на помощь, но даже подложить ему под пятки кирпич, чтоб хоть отчасти облегчить его муки, и то побоялись! Назвать этого злодея и женщина, и дети, и сам Гарегин отказались наотрез. Со скулами, растертыми уксусом и водкой, посинев, как Христос в гробу, испуганно озираясь вокруг, Гарегин лишь бессильно мотал головой, и на его белых губах дрожала слабая, бессмысленная, беспричинная улыбка. Видя, что любопытные и сочувствующие не отстают, он даже пробормотал, что пригвоздил себя сам, во исполнение давнего обета. Но этому, конечно, никто не поверил — налицо была явная месть; ни причины ее, ни личности мстителя установить, однако, не удалось.
— Хозяина в стране нет… — заметил кто-то.
Кайхосро надулся, словно ему намекнули, что ни от чего не застрахован и он, что в один прекрасный день какую-нибудь подобную шутку могут сыграть и с ним.
Да, опасность угрожала непрерывно, на каждом шагу, от нее не был застрахован никто; беззащитны были все одинаково. Для смерти не существовало ни железных ворот, ни каменных стен, для нее и Гарегин, и майор были равны — различать она не умела. Но смерть смерти рознь! Недавно еще, правда, он сам доказывал отцу Зосиме, что любая смерть одинакова; но теперь уж это его не устраивало! Теперь смерть была для него двуликой: от бога и от человека. Одна действительно и неизбежна, и крайне неразборчива— ей все, и он в том числе, обязаны подчиняться беспрекословно; но вот другая смерть, смерть от человека, смерть, которой он боялся больше всего, не должна была, если на свете есть хоть какая-то справедливость, быть настолько слепой, чтоб не отличить майора от лавочника… И все-таки он знал, что блеск его эполет никого от убийства не удержит; знал он и то, что бог, запретив человеку убивать себе подобных, этим лишь еще больше разжег в нем страсть к убийству — и человек убивает без конца! Сколько раз ужасали Кайхосро жестокость и неистовство человека… каких только убийств не насмотрелся он с того дня, когда у него на глазах вырезали всю его семью! Каким только оружием не убивали друг друга люди из ненависти, любви, трусости или невежества! Ведь, в сущности, десять заповедей — это не что иное, как перечисление десяти главных потребностей человека; а человечность — лишь робкая попытка не подавить, нет, но хоть немного приглушить эти десять потребностей, одна другой сильней и неодолимей! Человек всегда убивал своего брата или давал ему убить себя, ибо больше всего его раздражало существование именно брата, именно человека, во всем подобного ему самому, одной плоти и крови с ним самим. Именно ремесло брата всегда казалось ему прибыльней и легче собственного, именно женщина, которой коснулся брат, была для него привлекательнее всех прочих; и он был уверен, что, убив брата, заживет припеваючи — займется ремеслом, недоступным ему при жизни брата, возьмет в жены женщину, познать которую уже успел брат. Проклятие это исходило от самого бога и избавиться от него можно было лишь одним способом: на все закрыть глаза, от всего отказаться… но и это невозможно, ибо тогда человек пришел бы просто к отказу от существования, заменил бы братоубийство самоубийством, вот и все! Самоубийство же — потребность отнюдь не общечеловеческая и не зря считается делом недостойным, бессовестным и преступным; ибо самоубийца не только разрушает веру сорока тысяч братьев в свою одинаковость с ним, но и попросту лишает их возможности самим убить его. Таким образом, получалось, что бог с самого начала обрек человека на гибель. Он дал человеку жизнь, но и поручил ему самому охранять ее; поручил, хоть и знал, как трудно ухаживать за жизнью, оберегать жизнь — особенно же человеку, созданному из нежной, болезненной ткани, которую легко побеждают и вода, и земля, и огонь, и воздух! Правда, у Кайхосро был такой дом, что и урукийцы и случайные прохожие шеи себе выворачивали, глядя на него, глаз с него не сводили, пока дом этот не скрывался из виду. Но даже такой дом не мог спасти своего хозяина от смерти — смерть потому ведь и смерть, что остановить ее нечем, что она непременно придет и разыщет тебя, хоть бы ты не имя, а собственную шкуру подменил! Впадая от этих мыслей в отчаяние, Кайхосро ненавидел уж и свой двухэтажный особняк с каменной оградой и железными воротами, и свое имя, спрятавшись за которым с целью перехитрить смерть он в действительности просто сам себя одурачил. Как мог спасти его чужой род, сам уже умерший, сгинувший, выродившийся и существовавший-то теперь лишь благодаря ему — лжепотомку, лженаследнику, лжецу? И поделом ведь, если кровь этого рода была такой буйной и строптивой, что даже его двухмесячных младенцев маковым отваром успокаивать приходилось… «Господи, помилуй… господи, помилуй!» — бормотал Кайхосро ночью, в бессоннице. Но он тут же раздражался, вспомнив, что сам не знает, кто он такой и, стало быть, о чьей милости просит!
Но миру было наплевать на его переживания. Беспрепятственно шло вперед высчитанное стрелками огромных, как шкаф, часов и их же боем утвержденное время. Никто не знал, что его ждет впереди, и поэтому все слепо — нет, не слепо даже, но с какой-то странной, малопонятной готовностью и волнением — шли за временем навстречу чему-то неясному, загадочному, возможно, даже несуществующему… шли, как дети идут за взрослыми в церковь или на сельскую площадь, где должны давать представление заезжие городские актеры. Земля же, вечная и таинственная, как рождение и смерть, по-прежнему принимала любое семя, без конца меняла свои пестрые платья и платки — вероятно, для приманки оплодотворяющего; а потом она отдыхала, по горло закутавшись в холодную, чистую постель снега, чтоб, отдохнув, вновь взяться за свое вечное дело — зачинать, вынашивать и убивать.
5
Она и сама не знает, почему это делает, почему так старается, чтоб никто не заметил, не увидел, не услыхал, как она украдкой выскальзывает из спящего дома, из тьмы, напряженной от непрестанного движения огромных, как шкаф, часов, и сама столь напряженная, возбужденная, одержимая, неспособная соображать, словно она попала в непоправимую беду, словно ее жизнь и смерть зависят от этого единственного шага, не сделать которого она, однако, уже не может, а все остальное забыла — и семью, и деревню, и церковь… ибо так, только так может она не искупить грех, нет, но хоть на день-два приглушить собственную совесть, которая потом, через день-два, вновь выгонит ее из дому в тот же тернистый, коварно притаившийся, бесконечный, от испуга и волнения вновь неузнаваемый путь. Таков же, должно быть, и путь, ведущий в преисподнюю — но тот все проходят однажды и навсегда; она же и сама не знает, сколько еще раз ей предстоит пройти свой, этот — засыпанный желтым пеплом луны, протянувшийся под свисающими с веток тенями, ходящий ходуном и пустой, столь же болезненно, невыносимо пустой, как ее мозг, в котором, как осмелевшая от голода мышь в темной кухне, мечется, копошится одно-единственное робкое, нерешительное слово: сын, сын, сын! А вот и он — приподнявшийся на постели, бледный, как арестант, изумленный, осчастливленный ее вниманием, ее лаской, ее неожиданным приходом. На его лбу, под глазами, в уголках рта — печать темноты, одиночества, не додуманной до конца, ни с кем не разделенной мысли и мечты; он застенчив, неловок, скуп на слова — и беспредельно, невообразимо благодарен. Ради одной такой секунды стоит жить… и вот она уж тоже счастлива, уже не волнуется, словно оказавшись в безопасности, уйдя от преследователей, попав наконец туда, где ей следовало быть все время. Они похожи скорей на несчастных влюбленных, чем на мать с сыном. Он невольно поджимает ноги под одеялом, чтоб освободить ей место на тахте, — и она садится. Бессмысленно улыбаясь, беспричинно стыдясь, они долго молча глядят друг на друга. Одна ее рука по-прежнему под фартуком (минуту спустя она сама спохватится, сама посмеется над собственной рассеянностью; «Как же я забыла!» — скажет она, приподымаясь, чтоб сунуть под подушку сына украденное в доме яблоко, чурчхелу или кусок сдобы). Другой же рукой она незаметно водит по его постели, втихомолку проверяя мягкость матраца, толщину одеяла, свежесть простынь. Одновременно она внимательно разглядывает жилище сына — так, словно она тут впервые, словно ей тут нравится, словно она довольна, что он так хорошо устроился; а ведь чего она себе только не представляла, не воображала, не боялась, идя сюда! («Господи, господи, да святится имя твое — пошли победы моему бедному Георгию…») В углу хлева горбится осел — или, точней, мрак, созданный и согретый телом осла; он слегка шевелится, словно чуть-чуть встревожен ее приходом. Кажется, ей нравится и это, — во всяком случае, она долго с ласковым любопытством и сочувствием глядит в затемненный угол. Но время идет, идет все быстрей; теперь дорога каждая секунда, каждая секунда может стать роковой! Теперь они заметно взволнованы, даже испуганы, хотя ни она, ни он не смогли бы объяснить, что именно их тревожит, в чем состоит их вина. «Ну, иди уж…» — просит сын таким горячим шепотом, словно умоляет любимую женщину не покидать его. Возможно, они и чувствуют, что эта секундная, украденная близость лишь еще больше отдаляет их друг от друга; но, согласившись на такую жизнь однажды, они не могут сейчас уж ничего изменить; сейчас они благодарны и за это и боятся лишь чего-то еще худшего, хотя страх этот друг от друга тщательно скрывают. Находясь вместе, они не могут думать о худшем, поэтому-то он и рассказывает о своих делах на винограднике, а она о домашних. «Иди, иди, ложись спать… мало ли у тебя еще забот?» — просит, умоляет, уговаривает он. «С каждым днем все хуже! Рычит, как его отец… как он жить-то будет?» — шепчет она. Внезапно оба застывают с вытянутыми шеями — безжизненные, как каменные статуи, скованные сознанием собственной неподвижности и бессилия. В темном двухэтажном особняке бьют огромные, как шкаф, часы; их напряженные, повелительные, угнетающие звуки слышны и здесь, в хлеву. Еще больше съеживается в своем углу осел — он тоже боится этих звуков, всегда так внезапно врывающихся в тишину деревенской ночи. Огромные, как шкаф, часы зовут обратно в дом ускользнувшую из него хозяйку! Теперь уж и в самом деле медлить нельзя. Бой часов восстановил против нее все окружающее: воздух как бы зарос колючками, свет луны стал горьким, как желчь; повешенные на ветках тени уже не колышутся, а дергаются, словно от боя часов они воскресли и вновь задыхаются; земля дыбится, ерошится, ноги на каждом шагу попадают в скрытые во тьме колдобины. И лестница стала длинней, круче — по ней приходится чуть ли не карабкаться! Но вот, слава богу, она уже дома. Кайхосро храпит, с Петре сползло одеяло. Сейчас она подойдет, укроет его… Нет — сперва она разденется, примет домашний вид, уничтожит все следы тайного свидания, а потом уж укроет Петре.
— Где ты была? — спросил ее Петре.
— А почему ты не спишь? — уклонилась от вопроса она.
— Думаешь, я не знаю? — покачал головой Петре.
Рука Анны невольно прикрыла ему рот.
— Тише, тише… Не разбуди отца! — шепотом взмолилась она, бессмысленно оглядываясь по сторонам, как бы не узнавая этого места, как бы лишь в эту секунду проснувшись, не успев еще прийти в себя.
— Его ты любишь больше… его! — с силой оттолкнул руку матери от своих губ Петре.
— Не смей! — прикрикнула на него Анна и тут же, вновь перейдя на шепот, добавила: — Молчи… Ты же хороший мальчик! Спи. Прошу тебя…
В следующий миг она, сама себе изумляясь, уже била его — безжалостно, наотмашь, обеими руками! Все ее тело рвалось, кости гудели, но она продолжала бить, словно выколачивала ковер и торопилась, вопреки боли и усталости, поскорей закончить эту нудную работу, вернуться к которой она, если б разрешила себе хоть минутку передохнуть, уже не смогла бы. «Ублюдок он… ублюдок, ублюдок!» — орал при каждом ударе прикрывавшийся подушкой, весь скрючившийся, изменившийся в лице Петре; а она продолжала бить, едва уже владея своими точно налившимися свинцом руками. Она глухо стонала, задыхалась, но остановиться не могла — собственная боль обжигала, подхлестывала ее, но ей, как она ни старалась, не удавалось освободиться от этой боли, передать ее телу сына, заставить и сына почувствовать боль, почувствовать, что терпит и выносит мать! Когда она наконец опомнилась, Петре, в разодранной рубашонке, испуганно и изумленно жался к стене в самом дальнем углу тахты, а в дверях с лампой в руке стоял похожий на привидение Кайхосро. Опустившись на колени и уткнув лицо в разворошенную постель, Анна громко заплакала, зарыдала, завыла — побежденная, поверженная, обреченная…
Этой ночи ни Кайхосро, ни Петре никогда потом ей не напоминали, но сама она этого мгновенного сумасшествия ни забыть, ни простить себе не могла. Она стыдилась и мужа и сына, и стыд этот рождал чувство вины, делавшее ее и без того покорную и застенчивую душу еще покорней и застенчивей. Она страдала не оттого, что неожиданно для себя побила сына — в ту ночь Петре ничем ведь не провинился, — ее потрясли собственная жестокость, несдержанность, безрассудство, обычно столь ей чуждые, несвойственные и именно поэтому не только предосудительные, но и смехотворные… смехотворные и жалкие, как поведение ребенка, который, оставшись на кухне без присмотра и вдоволь налакавшись сладкого вина, не может понять, что с ним произошло, почему потолок кружится, почему его тошнит, почему взрослые со странно увеличенными лицами так грубо его толкают; почему у него на голове мокрая тряпка, от ощущения которой его мутит еще больше; почему тахта встает дыбом, словно заупрямившийся осел, норовящий сбросить его в какую-то невообразимую черную бездну! Отрезвление всегда тяжело, ужасно, унизительно — тем более после опьянения первого и случайного. Анне было стыдно глядеть в глаза мужу и сыну, и они это чувствовали. Кайхосро даже не спросил ее, чем провинился ребенок, чего она от него среди ночи хотела. Петре тоже на свои незаслуженные синяки не жаловался, но на другой же день залил хлев Георги таким количеством воды, что совсем затопил его, и вернувшемуся с виноградника Георге пришлось уйти обратно и переночевать там, под открытым небом, на соломе и обрывках старого войлока. Так что пострадал опять Георга — и опять из-за Анны. Можно ли придумать худшее наказание для матери? Бог дал ей лишь способность любить, но жизнь заставляла ее непрестанно сеять ненависть. Всюду, где она проходила, вырастала ядовитая трава, и ее зловещий отблеск светился прежде всего в глазах ее второго мужа и второго сына! Да — но почему? Если она была такой плохой, почему все они к ней врывались? Почему им было не оставить ее в покое, одну, с ее сиротой и покойным мужем? Она ни у кого ничего не просила, никому ни на что не жаловалась — ни на что, ни на что, ни на что! Даже своего мертвого мужа она никогда не упрекала в том, что он оставил ее одну, бездумно бросил молодую жену ради каких-то там исконных земель! Да какое дело до этих земель было ему, который и своего-то крохотного двора защитить не сумел бы — столько у него оказалось притаившихся за спиной врагов… «Ты знаешь: нам, кажется, повезло!» — шептал он ей ночью накануне отъезда; и он был так возбужден, так обрадован, что у Анны не повернулся бы язык хоть немного остудить этот восторг, эту радость! Но ее сердце обливалось кровью — она была женщиной и нутром чувствовала, что ничего хорошего из этой затеи не получится. «Дурачок, — хотелось ей сказать мужу, — я земля твоей земли и родина твоей родины!» Но этого она не сказала и сказать не могла, это он обязан был понимать сам, без объяснений. Он обязан был понимать, что родина начинается с семьи, что если у человека отнимут семью, если его жену опорочат, а сына объявят ублюдком, то родина станет для него просто сушей, пастбищем и пашней, не имеющими ни начала, ни конца, ибо любая земля под небом одинакова, и вода тоже; а человек с разрушенной семьей, с опороченной женой и потерянным сыном — уже не оседлый житель земли, а скиталец, которому совершенно безразлично, где, под каким небом, у чьих дверей ему подадут кусок хлеба или кружку воды. Анна понимала это по самой своей природе, по своей врожденной женской мудрости, но именно эта мудрая природа и обязывала тогда молчать, не мешать уходящему на смерть мужу испытать истинную свободу на истинно принадлежащей ему земле. «Почему ты опять плачешь?» — ласково шептал он, целуя мочки ее ушей. «Потому что люблю!» — отвечала она разгоряченными от поцелуев и собственных слез губами. «Потому что мы гибнем!» — хотелось ответить ей в тот миг; но и сказанное ею означало, в сущности, то же самое! Женщина ведь принадлежит не мечте, а действительности. Она, конечно, тоже понимает, что лучше, что хуже, — и все-таки всегда предпочтет своих кур растянувшейся в небе цепочке журавлей. Для нее важней всего то, что можно увидеть и потрогать, что требует присмотра и заботы; созидая новое, она, в отличие от мужчины, не разрушает старого, а выводит новое из старого, не начинает заново, а продолжает — она прочней связана с землей, больше полагается на землю, больше верит земле. Оторванная от земли, женщина бессильна, ибо она — не что иное, как живое олицетворение земли и всего земного и, даже выслушивая признание в любви, глядит в землю, как бы надеясь прочесть на изрытом лице земли, что ей следует отвечать, не смея следовать велениям сердца без согласия земли. И любя, и рожая, женщина ложится на землю, и всюду, где б она ни легла, она дома — или, точней, то место, где она легла, и есть подлинный вечный дом и для того, кто в слепом блаженстве страсти порождает новую жизнь, и для того, кто в результате этого блаженства столь же слепо родится. Лежащая женщина — божество, она творит, ибо любит, и любит, ибо творит. Но откуда было знать Анне, что она родит врага сыну своей первой и единственной любви, что рождение это будет ему во зло? Да она собственными руками выжгла бы себе утробу каленым железом, в колыбели задушила б этого новорожденного подушкой, а потом и сама повесилась бы на первом же суку! Но разве знает земля, какое семя вызревает в ее утробе? Разве отличает она виноград от волчьих ягод? Не с одинаковой ли бережностью и силой питает и то, и другое всемогущее, всепрощающее сердце земли? Такова же была и Анна, но то, что для земли естественно, для нее было мучением, и пожаловаться на это мучение ей было некому. Мужу она была нужна, только чтоб греть ему кирпич и быть козлом отпущения для его злобы; у Георги же, едва он ее видел, так загорались глаза, что у нее язык отнимался! Безграничная любовь и преданность сына лишь еще больше угнетали ее, вынуждали ее продолжать эту ненавистную жизнь, не отнимать у Георги его единственного счастья — счастья существования матери. Впрочем, она и сама была почти счастлива, видя себя в глазах сына навеки юной, непорочной, его сверстницей, его одетой в рваное платьице мечтой, надеждой, покоем, радостью! Из глаз Георги на нее глядела другая Анна, как бы вторично рожденная в душе сына, навек узаконенная, неизменная, как икона божья… как же могла она, изменчивая, преходящая, смертная, родив создателя этой второй — неизменной, вечной, бессмертной Анны, самовольно уничтожить себя, отнять у него глину, из которой он лепил ее лучшего двойника? А Петре не хватало духу простить матери другого сына — старшего и все-таки более бесправного, чем он; ибо тот был пасынком, а не сыном! Возможно, конечно, что он просто завидовал Георге, страдал из-за его первородства, не мог простить первого материнского поцелуя, доставшегося не ему, а Георге, первого глотка молока, высосанного из материнской груди не им, а Георгой; возможно, что эта естественная, можно сказать, зависть никогда не перешла бы в ненависть, будь Георга сыном того же отца, что и Петре. Но ведь он-то был именно чужим, посторонним, половина его сердца находилась где-то в другом месте, вне стен дома, с его покойным отцом, если только у него вообще был отец — не зачавший мужчина, а именно отец! Вот у Петре отец был, и для него Петре был первым сыном — для отца первым, а для матери вторым и последним. Ибо она, оказывается, еще до встречи с отцом успела чего-то там нагрешить — или, как еще выражался отец, «малость смошенничала», «не сдержалась». Но почему из-за каких-то старых грехов матери Петре должен уступать кому бы то ни было первенство в собственном доме? Тот мог быть первым там, откуда он сюда пожаловал, — ради бога; а тут дом Петре, и настоящий Макабели — только он, а тот лишь притворяется! Неужто ж Петре должен считать его братом потому только, что мать Петре родила и его? А если бы она, прости, господи, щенка родила, то они с Петре тоже были бы братьями? Она-то конечно уж считала бы и щенка братом Петре, если б они вышли из одного чрева и сосали одну грудь! Да, все так: и Петре, и Георга вышли из одного чрева, сосали одну грудь; и все-таки Георга — не настоящий Макабели! У него был другой отец с другой кровью, с другим именем, с другими мозгами…
— Братья? Как бы не так! — орал Петре, когда мать в очередной раз пыталась вызвать его на откровенность, разжалобить, усовестить.
Мать Петре любил, но одно дело любовь, другое — справедливость. Конечно, мать должна была нести последствия своего греха, заботиться о плоде этого греха, раз уж она его родила, — но не за счет же Петре! Он-то честно ждал своей очереди родиться — а тот без очереди выскочил вперед, решил незаконно заполучить старшинство. Но есть еще на свете, слава богу, и справедливость, и законы…
— Скажи спасибо, что отец его вообще кормит, — хмуро говорил Петре матери. — Если мы вас простили, это еще не значит, что он всем на голову должен сесть…
Все нутро Анны обливалось горечью, но, не зная, что на это ответить, она лишь растерянно улыбалась.
— Что ты смеешься? Не прав я, что ли? — по-своему понимал материнскую улыбку Петре. «Ну вот… возразить нечего!» — думал он про себя.
— Отчего ты, сынок, в утробе у меня не задохся? — взвывала наконец Анна таким голосом, что Петре вздрагивал всем телом и, не на шутку напуганный и ошеломленный, спешил прочь.
«Сынок, сынок, сынок… как же ты, бедняга, жить-то будешь?» — плакала в душе Анна… Вот так и шло время в обнесенном высокой каменной оградой доме Макабели, и однообразное, бесконечное, ни на миг не прекращавшееся, похожее на короткие толчки тиканье огромных, как шкаф, часов звучало, как шаги тюремного сторожа. Но однажды вечером Георга исчез. Он не вернулся с виноградника, и все решили, что он опять остался там ночевать. На следующий день Петре пошел к нему — не для того, чтобы проверить, не случилось ли с ним чего-нибудь, а просто так, по обыкновению: взглянуть, как он работает, как идут дела. В винограднике его встретил один осел; услыхав шаги Петре, он поднял голову и долго внимательно глядел на него. Вокруг глаз осла тянулась узкая полоска белых волос, как бы очерчивая эти большие влажные глаза мелом, чтобы сделать их еще круглей и ярче…
— Ну-с… где же твой дружок? — спросил его Петре. — Ты нашего парня невзначай не видал? — окликнул он крестьянина, работавшего на соседнем винограднике.
— Вот я и говорю… со вчера не показывался! — ответил тот, опершись на свой заступ. Пользуясь свободной минуткой, он прижал большой палец к ноздре и с шумом высморкался.
— Со вчера? — удивился Петре.
— Ну да-а-а… — протянул крестьянин.
— Вот он, кормилец наш! В разгар работы бросил виноградник и сбежал! — сообщил, вернувшись домой, Петре.
— Сбежал? — удивился Кайхосро. — Куда он, к черту, мог сбежать?
У Анны подкосились колени, и она прижала сжатые в кулак руки ко рту, словно чтоб согреть их. И Петре, и Кайхосро невольно взглянули на нее, и их настойчивый взгляд испугал ее еще больше. «Умер… скрывают!» — мгновенно промелькнуло у нее; но она тут же почувствовала, что они действительно ничего не знают и ждут ответа от нее. У нее отлегло от сердца. Лишь бы он был жив, а там пусть идет куда хочет, хоть за тридевять земель, хоть совсем с глаз долой! Возможно, это было б и лучше. Конечно, лучше: он хоть избавился б от всей этой оравы, свободнее вздохнул бы, сам о себе позаботился бы… Уж такой-то хлев для него найдется везде! Ей захотелось сказать им что-нибудь злое, беспощадное — что они напрасно удивляются, что они сами этого добивались, что удивительно лишь то, как он терпел их до сих пор. Но она вовремя спохватилась, прикусила язык, пожалела и их, глядевших на нее растерянно, смущенно, обескураженно, понявших наконец, как ей показалось, свою несправедливость… Понявших? А почему они не могли понять, увидеть, почувствовать? Ведь даже пропавшую собаку или скотину человеку жалко; а он-то был все-таки не собака, не скотина — он и поговорить с тобой мог, и воды принести, и дров нарубить! Впрочем, наглядевшись на Анну, они оставили ее в покое: у обоих хватило ума и такта не приставать хоть к несчастной матери с вопросом: «Где твой сын?»
Чего только не говорили о Георге всю последующую неделю в лавке Гарегина! Одни утверждали, что его видели в Тбилиси мальчиком у какого-то купца; другие клялись, что он записался в грузинскую милицию и собирается вместе с русскими отбирать у турок исконные земли. Кто-то верил этому, кто-то нет; одни жалели его, другие считали дураком. «У турок он завоюет то же, что и его отец…» — добавляли эти последние. Но единственное верное известие о Георге принес опять-таки Петре — через неделю.
— На винограднике торчит. Вскапывает… — сказал он.
Придя в себя, она уже бежала по узкой улочке между изгородями. В одной ее руке была сорвавшаяся с головы косынка, другой она придерживала подол платья, чтобы бежать быстрей, — и она бежала, как десятилетняя девочка, не думающая о том, что деревенские мальчишки могут увидеть ее ноги, мчалась, как повелительница неба и земли, всю жизнь находящаяся в полете и ни семьей, ни деревней не обремененная. Деревни она и не замечала — не слышала разъяренного лая рвавшихся к заборам собак, не видела собравшихся у родника женщин, которые, скрестив руки на груди, подняв плечи и сложив губы трубочкой, молча глядели ей вслед, не стеснялась и мужчин, гурьбой выбежавших из лавки Гарегина. Она бежала, вот и все — стесняться ей было нечего, это было ее дело и никого, кроме нее, не касалось. Она бежала к сыну, к вернувшемуся, вторично родившемуся сыну, — бежала так, словно они не виделись целый век, словно век назад они условились встретиться за деревней, в горячем от солнца винограднике, и теперь час этот настал. Теплая, мягкая пыль ложилась ей на лицо, грудь, волосы, мешала дышать, проникала в пересохший от волнения рот, липла к нёбу, оседала на языке, ее невозможно было ни проглотить, ни сплюнуть, — и все-таки Анна бежала, летела, стремилась вперед: смело, не мешкая, как колокольный звон, как пламя свечи, как душа покойника к всевышнему! За околицей она потеряла одну туфлю, но не остановилась подобрать ее, словно все зависело от каждой секунды. (Туфлю эту она подобрала на том же месте, возвращаясь обратно, — одинокая, стоптанная, со скошенной набок пяткой, простая и тихая, как сама Анна, туфля так и валялась на белой от пыли дороге, дожидаясь хозяйки: да и кому и зачем она могла бы понадобиться?) Но вот наконец и виноградник! Еще издали она услыхала, как заступ Георги вонзился в землю, словно копье в тело дракона, как глухо упал вывернутый им ком земли. (А может, ей, знавшей, что Георга «вскапывает», это только показалось?) У Георги были горячие, пахнущие землей руки; подхватив мать, как ребенка, он вместе с ней кружился на месте, топча свежевскопанную землю. «Почему? Почему?» — без конца повторяла она, сама толком не понимая, о чем спрашивает: почему он ушел или почему вернулся? Большие руки сына и пугали и радовали ее, возвращали ее назад, в далекое прошлое, вновь делали ее ребенком, сидящим на качелях, летящим к звездам… Нет — она вновь была с тем, с первым и единственным, вечным, навек умершим! Все вокруг нее кружилось: и виноградник, и ореховые деревья, и застывший в их тени осел, и кувшин с заткнутым пучком травы горлышком… еще немного, и все это, вместе с Анной, оторвалось бы от земли, улетело бы в небо, как волшебная посуда Камари! «Пусти, сынок, — стыдно же…» — говорила она для виду; ибо в действительности ей вовсе не хотелось, чтоб он опустил ее на землю, чтоб и она, и все вокруг перестало кружиться. А потом они сидели под навесом, и она косынкой обмахивала раскрасневшееся от бега потное лицо…
— Я тебя как будто одну бросил… не с мужем и сыном, а с врагами! — говорил он.
Оказалось, что Георга увязался за шедшим в Тбилиси аробным караваном. Он твердо решил никогда не возвращаться. До этого он долго колебался, но потом окончательно понял, что так будет лучше для всех. Он не винил никого, кроме самого себя, — такой уж, видно, он дурной и никчемный, если ни отчим, ни брат его не любили! Он, ей-богу, старался, ей-богу, только об этом и думал — но у него ничего не вышло. Отчим считал его своим врагом; брат воображал, что он когда-нибудь потребует своей доли наследства, а мать оказалась меж двух огней, разрывалась надвое, но встать ни на ту, ни на другую сторону не могла; ибо разделить неразделимое, отказаться от неотъемлемого, осуществить неосуществимое ей было невозможно. А происходило это потому, что существовал Георга… неужто ж он этого не понимал? Понимал, конечно, но что ему было делать? Как мог он, не отравив ничьего хлеба горечью, в то же время и долг свой перед отчимом выполнить, и матери хорошим сыном быть, и брату свое братство доказать? Бежать было проще всего — на это он решился не сразу, не наобум. То, что он лишний, то, что он всех сковывает, стесняет, он понял еще в день свадьбы матери; но тогда он был еще маленьким и всего на свете боялся: и ночного одиночества, и воя шакала, и крика филина, и раскатов грома… На свадьбе матери он, правда, напился в стельку, но и это ведь только от страха, только из боязни потерять мать! Потом он долго мечтал бежать, но не в одиночку, а вместе с матерью — похитить жену у мужа, закутать ее в воображаемую бурку, посадить ее на воображаемого коня, увезти ее за тридевять земель, в какую-нибудь хорошую страну, к хорошим людям (если они хоть где-нибудь есть в действительности). Но потом у нее родился сын, и он понял, что похитить ее уже не сможет — теперь она была матерью не только ему, но и тому, другому; похищать же мать он не стал бы ни у кого. Ибо одно дело жена, другое — мать; найти замену жене человек может, а матери нет. Поэтому и отдать ее нельзя — ее не находят, не выбирают, не делят, и твоему брату она принадлежит не меньше, чем тебе самому; а если вас не двое, а десятеро, то и всем десятерым поровну! Сам-то он все-таки дело другое — он ведь и родился словно бы только на горе матери. Он был чужим, следом другой жизни, счастливой или несчастливой, но бывшей до Кайхосро и Петре; он был рубцом старой раны, лишь уродовавшим в глазах обоих чистое лицо их жены и матери, без конца напоминавшим им о том, что до их появления она жила другой — тайной, неприемлемой, оскорбительной для них жизнью. Существование Георги делало и Анну чужой в собственной семье, не чужой даже, а отчужденной, окутанной тайной и поэтому раздражающей и мужа, и сына. Да она и сама понимала это не хуже других — поэтому-то она и прокрадывалась на свидания с Георгой тайно, словно влюбленная девушка; поэтому-то она и таскала ему, словно прислуга-воровка, украденные в собственном доме сдобу и яблоки. Она сама чувствовала, что Георга — это одно, а Петре — совсем другое. Петре был плодом действительности; а Георга — плодом мечты, сказки, даже сна, навязывающего тебе свое выдуманное счастье, блаженство, рассчитанное не на людей, а на богов… навязывающего лишь с тем, чтобы потом, по пробуждении, тебя окатила холодной водой свирепая, беспощадная действительность, для которой сон этот смехотворен, нелеп, гроша медного не стоит и которая уж не отвяжется, пока не вернет одурманенного сном на землю, не вставит его, как лошадь, в шершавые, стертые его же боками оглобли однообразных и лишенных колес будней! Таковы были мысли, мучившие Георгу и на винограднике, и в хлеву. Они не убивали, но и не помогали — они просто били по голове невидимыми молотами, как бы подковывая ему мозги. Делиться этими мыслями ему было не с кем, кроме осла; но чем мог помочь Георге осел? Он лишь внимательно слушал и от этого глупел еще больше. Нет, уходить было необходимо, во что бы то ни стало, любой ценой! До самого своего ухода он был убежден, что так будет лучше, хотя в душе и чувствовал, что на самом-то деле его место именно тут, что отчим не зря держит его во дворе наподобие овчарки. Разумеется, он был нужен Кайхосро не только для работы на винограднике — но это знали лишь они двое; будь это не так, тот давно уж от него избавился бы, не дал бы ему «баламутить дом»! Да и сложно ли это было? Скажи лишь слово, и он тут же собрал бы все свои скудные пожитки. Он не стал бы упорствовать, требовать своей доли; он не задумываясь оставил бы им и единственный камень отцовского дома, опознанный им благодаря выцарапанному на нем человечку, — ведь вытащить и один этот камень означало бы ослабить стены, принадлежащие его брату, сыну его матери! Да лучше уж отчим прямо выгнал бы его из дому. Тогда он ушел бы открыто, не таясь, освободившись от всех обязательств, — не сбежал, а ушел бы. Тайный же его уход был, в сущности, изменой… И все-таки в конце концов он не выдержал, осмелился; и осмелиться его заставил петух — да, взъерошенный, яркоглазый, как солнце, огненного цвета петух на облучке арбы! Он кричал так, что безногий вскочил бы, в камне кровь закипела бы, — и Георга пошел за ним, подумав вдруг, что мир велик, что где-нибудь, с божьей помощью, устроится и он, а устроившись, сумеет позаботиться о своих и издалека. Он оставил заступ в земле, поправил рубашку и пошел за аробным караваном. А петух кричал беспрерывно; растрепанный, взъерошенный, с остекленевшим глазом, он, широко, растопырив лапы и вцепившись своими поблескивающими когтями в доску облучка, покачивался вместе с арбой, то ли разъяренный, го ли изумленный — а скорей всего, и разъяренный и изумленный — глухотой мира и отдаленностью и равнодушием того, для чьего слуха он усердствовал. «Испортились наши часы!..» — посмеивались аробщики; и Георга тоже с ребяческим весельем, радостью и гордостью поглядывал на петуха, который, со вздернутой шеей, с гребешком, закрывавшим его глаза, словно хлынувшая из головы кровь, покачивался на своих сухих желтых лапах, как бы вызывая весь мир на драку. Днем, пока они шли по дороге, все было еще ничего — бесконечный крик петуха их даже забавлял. Его тень волнами колыхалась по придорожным холмам и кустам и была так огромна, что в ней без труда укрылась бы целая отара овец вместе с пастухами и собаками. И это тоже нравилось аробщикам, над этим они тоже посмеивались. «В городе придется попросить первого же цирюльника оскопить этого господина — иначе он всех кур на свете передавит!» — говорили они. Но часы петуха на земле уже истекали, и попасть в город ему было не суждено. Ночью, когда аробщики распрягли волов и раскинули бивак, крик петуха стал невыносим. Забеспокоилась, встревожилась, замычала даже скотина, вытолкнутая этим криком из привычного хода суток; да и люди, потеряв вдруг свое веками выработанное ощущение времени, растерянно и угрюмо глядели на звезды, словно этот мучительный, душераздирающий крик исходил оттуда, из другого мира, с божьих небес. Из-за своей необычности и людской склонности к суеверию крик петуха приобретал магическую силу и значение: петух явно помешался, и это было так странно, что у людей не могло не возникнуть дурных предчувствий. Безумный петух на что-то указывал, был предвестником чего-то — не ночи и рассвета, возвещать о наступлении которых господь ему только и поручил, а чего-то другого, огромного, более существенного! Может быть, начиналось второе пришествие? Страшный суд? А? «Чтоб тебя черти побрали!» — разводили руками аробщики, беспокойно бродя в этой орущей темноте. А петух, покачиваясь на дрожащих от напряжения лапах, кричал — рвал себе глотку, надрывал сердце, выворачивал грудь в крике; и все окружающее сжималось и ерошилось, как попавший в опасность еж. Так они провели ночь. Но петух не умолк и утром — он, разграничитель, неутомимый и справедливый посредник, примиритель дня и ночи, вообще уж не отличал их друг от друга! Он кричал по-прежнему, с прежним упорством, хотя ночной холод и ветер еще сильней растрепали и изуродовали его, гордого и жалкого, как непризнанный пророк, который своими бесконечными проповедями лишь снискал у людей репутацию болтуна, который зря корпел над книгами, зря упражнялся в ораторском искусстве, зря мечтал о набитых народом храмах и площадях; ибо все, что он понял, все, на что бог раскрыл глаза ему одному, никому, кроме него, не понятно и не интересно… В конце концов вышедшие из терпения аробщики сорвали петуха с облучка и, прижав его длинную, сильную, как стальная пружина, шею к деревянному чурбаку, одним ударом топора откинули от туловища желтоглазую, с алым гребешком и уродливо разинутым клювом голову. Туловище петуха запрыгало, стукаясь оземь, словно пестрый мяч, — оно умирало танцуя, как бы радуясь смерти и избавлению от тяжкой, неблагодарной обязанности, возложенной на него богом. Вдруг стало тихо, как в подземном склепе. Безголовое, с широко растопыренными лапами тело петуха валялось в луже крови; и перья его тоже умерли, сразу потеряли свой блеск и мягкость. Голова же петуха по-прежнему таращила глаза, словно ему не терпелось поглядеть, как живут люди, что у них творится без него. Все были так подавлены, словно невзначай убили человека. Георга прошел с караваном еще один день пути, но вернуться назад он решил в тот же миг, когда земля покрылась алыми, похожими на листья клена пятнами петушьей крови. Он шел за притихшим караваном, как люди идут за чужим покойником: чтобы отдать обязательный долг приличия; когда же за голыми холмами показался Тбилиси, он молча поклонился всем и пошел обратно. Ему не терпелось остаться одному на дороге, по которой он шел с безумным петухом.
Анну этот рассказ потряс. Она дрожащими руками повязала косынку на голове, отряхнула подол платья, вытерла губы, словно собираясь войти в чужой дом, и лишь потом внимательно взглянула на сына. За эту неделю Георга сильно изменился, но удивилась она не этому, а собственному невниманию. Щеки Георги впали, скулы заострились, кожа на них натянулась и блестела, как у больного; его беспокойные, расширившиеся глаза тоже лихорадочно блестели, а непрерывно пульсировавшая на виске синяя жилка была так заметна, что Анна невольно отвела взгляд, словно это упрямое, открытое биение синей, защищенной лишь тонкой кожей жилки было крайне опасным, грозило каким-то неотвратимым несчастьем. На потрескавшихся от ветра губах Георги дрожала рассеянная улыбка, словно его только что вытащили из воды и спасение вызывало у него и радость и неловкость одновременно.
— Вот… сына твоего только выращу и уйду… к отцу, — сказала Анна тем фальшивым, неестественным тоном, каким девочки разговаривают со своими куклами.
Почувствовав это сама, она встала так быстро, что Георга не успел даже протянуть руку, чтобы помочь ей встать. Оставаться здесь она больше не могла — еще мгновение, и от скорби она завыла бы, как собака! В ветвях огромного ореха прыгал дятел, из-за него все дерево казалось пестрым и движущимся; но Анна не видела ни дерева, ни дятла. Молча выйдя из виноградника, она постепенно исчезала, спускаясь в маленькую, высохшую лощинку. Потом она показалась вновь — сначала платок, потом выгоревшая на солнце спина платья, потом вся целиком, с головы до ног; на первый взгляд — обычная деревенская женщина, жена, мать, хозяйка, ни своей одеждой, ни своими заботами ничуть не отличающаяся от прочих женщин. Выйдя на дорогу, она по мягкой пыли зашагала к дому. Туфля так и лежала на дороге, дожидаясь ее. Ворота усадьбы были почему-то приоткрыты, и, подходя к ним, она невольно ускорила шаг. Во дворе, под липами, стояла запряженная двуколка; над лошадью вился рой мошкары, мгновенно менявшей место, как только та взмахивала тяжелым серебристым хвостом. Анне вдруг стало страшно входить в дом — странная коляска и незнакомая лошадь ее чем-то встревожили. Двор подозрительно притих; лишь где-то у соседей кудахтала собравшаяся нестись курица. В доме не было слышно ни звука. Дрожащими ногами она кое-как одолела лестницу…
Они сидели за столом в большой комнате — Кайхосро, Петре, отец Зосиме и незнакомец.
— Хорошо, что ты хоть живым меня застала… — сказал ей Кайхосро. — Супруга моя! — повернулся он к незнакомцу.
Незнакомец встал — какой-то необыкновенно, вызывающе чистый и столь же необыкновенно, вызывающе чуждый; то ли из-за своего накрахмаленного белого воротничка, то ли из-за длинноносых, с короткими голенищами, отливавших черным лаком ботинок. Это был рослый мужчина с крупными, удивительно живыми руками и приветливой, пронзительной улыбкой, такой, словно когда-то он был знаком со всеми на свете и, улыбаясь, ждал, чтоб его узнали. Взяв руку Анны, он, прежде чем она успела опомниться, осторожно прикоснулся к ней губами. Анна поспешно вырвала у него руку и спрятала ее за спиной, словно незнакомец собирался отнять ее. Кайхосро усмехнулся.
— Извините нас, доктор… мы ведь совсем деревенские… — сказал он, глядя на Анну.
На самом деле случилось это с Анной не от неловкости, не от деревенской робости, а от потрясения — подлинного, одуряющего, захватывающего с головы до ног потрясения, следующего за всем неожиданным, непредвиденным, внезапным. Незнакомец был вторым на свете мужчиной, поцеловавшим ей руку. Этот поцелуй, правда, сильно отличался от того, давнего; но что-то общее в них все-таки было — что-то скрытое, невыразимое, неопределимое. Уважение? Или сочувствие? Нет, разобраться в этом сейчас она не могла. Покрасневшая, растерявшаяся, одураченная, она чувствовала себя так, словно ее заманили в чужой, полный незнакомых мужчин дом.
— Дай нам чего-нибудь… пропадаем ведь без закуски! — отрезвил ее Кайхосро.
Потом она ощипывала курицу, месила тесто, размачивала в воде сыр для хачапури — но думала только о том дне, когда тот, навек ушедший, силком раскрыв ей пальцы, поцеловал ее вспотевшую ладонь…
Когда она вернулась в комнату, все были уже чуточку навеселе. Незнакомец опять встал.
— Извините, — сказал он, — не успел вам представиться давеча. Доктор Джандиери…
Анна вздрогнула: обе ее руки были заняты тарелками. Но на этот раз врач к ней не подошел.
— Садись, садись! — по-домашнему сказал ему Кайхосро.
— В студенческие годы меня называли Эскулапом, — продолжал врач, опустившись на стул, — а сейчас я заурядный лекарь… до Эскулапа мне далеко! Что ж поделаешь… — Он обращался к Анне, хоть она на него и не глядела. Петре отодвинул кувшин, освобождая матери место для тарелок. «Спасибо!» — сказала она ему глазами. «Думаешь, я не знаю, где ты была?» — глазами же ответил Петре. А врач продолжал говорить, вежливый, веселый, свободный, слегка захмелевший, попавший в эту семью впервые и еще далекий от ее тайн…
— Эскулап, — говорил он, — прапрадед всех врачей, наш великий предок… но мы, как все потомки, не жить у него учимся, а лишь именем его зря кичимся! У настоящего врача, как у Эскулапа, — посох, чтоб от собак отбиваться; а в дорожной сумке — змея и петух, мудрость и бдительность… (Услыхав слово «петух», Анна насторожилась и на миг нерешительно взглянула на врача.)
— Эскулап мертвых воскрешал! — сверкнул глазами отец Зосиме.
— Нет, батюшка. Это миф… — ответил ему доктор Джандиери. — Он лишь мечтал воскрешать, но и мечты этой боги ему не простили! Они убили его молнией, когда он, бедняга, под деревом от дождя укрылся. Лишь петух с опаленными крыльями его, наверно, и оплакал… — Анна опять вздрогнула, опять взглянула на врача и увидала Георгу, с провалившимися щеками, с синевой под глазами, опершегося на свой заступ, затерянного где-то среди огромного виноградника, под палящим солнцем, одинокого и покинутого, как лошадь врача во дворе, под липами… — Впрочем, все врачи умирают, как Эскулап, — продолжал тем временем доктор Джандиери. — Одним лишь этим мы с ним и схожи! И неблагодарность больного, и собственная ошибка для врача — та же молния…
— Бога ради… тебя она пусть только не у меня сразит! — сказал Кайхосро.
— Ха-ха-ха… не бойтесь, вы больной несложный, — от всей души рассмеялся доктор Джандиери.
— Не знаю уж… Свинины нельзя, баранины нельзя, острого, кислого, соленого — ничего нельзя. Яйца и те запретили! — развел руками Кайхосро. — Что ж мне — траву жевать, что ли?
— Понемногу всего можно, даже нужно… — Доктор Джандиери нахмурился, но тут же вновь улыбнулся, очаровательно, заразительно, по-детски. — С вами нужно быть построже, — продолжал он, взглянув на Анну, — но что поделаешь? Напоили вы меня, подкупили…
— Без свиного сала отец жить не может! — заявил Петре.
— Вот и тебе его попробовать надо! — сразу оживился Кайхосро, словно в комнату вдруг вошла красивая женщина. — Такого ты нигде больше не получишь, я его своими руками готовлю. У нас не умеют… Я и свинью на откорм каждый год сам выбираю, и клеть особую придумал — как раз такого размера, какого свинья должна стать к Новому году. Она у меня на короткой цепи сидит, чтоб двигаться не могла, лежать привыкла. А жрать я ей даю до отвала, таз с похлебкой у нее всегда перед носом: хочешь не хочешь, жри все время! На то ты и свинья! Зато потом сало у нее такое нежное — само во рту тает. Режешь его острым, хорошо наточенным ножом на тонкие ломтики — сами сворачиваются как пергамент. А кое-где розоватый такой налет, как на лепестках чайной розы. Обо всем остальном — после, когда попробуешь… К водке в самый раз! Это меня приятель один научил… тот самый, которого цыгане украли. Помнишь, я тебе рассказывал? — повернулся он к отцу Зосиме.
— Цыгане? — заинтересовался доктор Джандиери.
— Ну да… в детстве.
— Хороший они народ, цыгане! — улыбнулся доктор Джандиери.
Анна сидела рядом с Кайхосро — муж силой усадил ее возле себя, и она не противилась, не могла противиться, стесняясь гостя и зная, что Кайхосро сделал это нарочно, только чтобы показать, как они друг без друга жить не могут. Она сидела скованно — ей казалось, что гость все время смотрит на нее своими теплыми, проникающими в душу глазами и по ее лицу понимает все. Ей же почему-то хотелось, чтоб он ничего не знал об ее жизни, чтоб он считал ее счастливой, довольной своей участью, ценимой верным мужем и любящими детьми хозяйкой дома — так, словно поняв подлинную жизнь этого дома, он уже не смог бы быть таким свободным, так непринужденно смеяться, наслаждаться едой и вином; так, словно жившая в этом доме ненависть не только отравила бы его трапезу, но и запачкала бы его самого, не позволила бы ему выйти отсюда таким же чистым и чужим, каким он сюда пришел! А зачем ему это? Зачем ему втягиваться в их несчастье? Он не имел права становиться таким, как они, он был обязан спасти, сохранить до конца свою чистоту и чужеродность — не так даже для себя самого, как для Анны, для подтверждения ее веры в то, что не все люди одинаковы, что где-то, и не в мечтах, а на самом деле, существует другой мир — смелый, свободный, счастливый, словно девочка на качелях… мир, населенный людьми, одинаково чистыми, одинаково чуждыми и ей, и всем ей подобным, людьми добрыми и наивными, как дети, людьми, верящими, что Кайхосро, или Петре, или Георгу, или ее можно еще вылечить! Их гость пришел именно из этого, другого мира — из мира добра, чистоты, спокойствия, света, из мира, к которому Анна тянулась с самого рождения, из мира, в котором она прожила всего два месяца и который для нее закрылся уж навсегда. Но он не должен закрыться и для него — для этого человека, сидевшего в двух шагах от нее, как свой, родной, и пухлыми беспокойными пальцами теребящего кусочек хлебного мякиша. Он нужен тому, своему миру, его существование делает этот мир сильнее и долговечней; здесь же он излишен, бесполезен, да и совершенно беспомощен, ибо лекарства от мучившей их болезни бог еще не создал и вряд ли создаст — сама болезнь эта выдумана ведь не им! Так что единственно хорошее, что мог бы тут сделать гость, хвати у него решимости, — это залить весь дом керосином и сжечь его, как постель чумного! Его привели сюда его доброта, его долг, а верней, мечта, владевшая им настолько, что, как он сам сказал, заметить нечистоту больного, почувствовать исходящую от него вонь он попросту не мог. Ибо — и это он сказал тоже — врач, испытывающий к больному не жалость, а отвращение, — это уже не врач. И Анне не хотелось, чтоб он почувствовал к ней отвращение, понял, куда он попал, куда его привели доброта и долг (нет, не долг — мечта!); и в то же время она, и сама этому удивляясь и радуясь, жалела этого человека, как глупого ребенка, опустившегося на колени перед бешеной собакой, ласково гладящего ее покрытую пеной морду, с удовольствием чистящего от клещей ее гниющую на теле шерсть — ведь он еще ребенок, еще глуп, и ни малейшей осторожности, ни брезгливости у него нет. Поэтому, если его родители не подоспеют вовремя… Да нет, они обязаны подоспеть, обязаны спасти ребенка!
— И Георгий тоже болен, доктор… старший мой, — сказала она и замерла, как бы удивившись сама себе.
— Георгий? А у вас и старший есть? — заулыбался доктор Джандиери, словно поняв из этих слов лишь то, что у нее, совсем еще молодой и красивой, такие взрослые дети. — Ну-ка, покажите мне его!
— Болен? Мне б так болеть!.. — проворчал Кайхосро, протягивая руку к кувшину. — Почему ты ничего не берешь? — хмуро обратился он к отцу Зосиме; но тот в ответ лишь прижал обе руки к груди, показывая, что сыт, больше не может. — Сегодня нашу хозяйку можно простить: она гостей не ждала…
— Дайте я хоть взгляну на него, — сказал доктор Джандиери.
— Его нет дома, — объяснил Петре. — Виноградник вскапывает.
— Ха-ха-ха! — снова от всей души рассмеялся врач, не сводя, однако, глаз с Анны; и на этот раз она не отвела взгляда. — Ну что ж… если он виноградник вскапывает, значит, я ему действительно не нужен!
— Он славный мальчик: сердечный, трудолюбивый… — заметил отец Зосиме, причмокнув губами. — Ну вот… спасибо всевышнему, спасибо хозяину! Все было очень вкусно…
— Погоди, старина! Ну что это за привычка — так сразу и уходить? — сморщился Кайхосро.
Но встал уже и доктор Джандиери, рослый, привлекательный, с доброй улыбкой.
— Надеюсь впредь к вам только на свадьбы и крестины ездить! — сказал он Анне.
Свои вцепившиеся одна в другую руки она прятала от врача под фартуком; но сейчас ей уже не хотелось, чтоб он уходил. Она чувствовала, как опустела за ее спиной комната, где он только что сидел, говорил, смеялся, теребил хлебный мякиш. Она вдруг привыкла к этому человеку, но, не имея надежды увидеть его вновь, так же легко мирилась с его потерей, как это бывает с детьми, которым достаточно минутки, чтоб счесть снизошедшего до них, поигравшего с ними, вошедшего в их интересы чужого дядю своим лучшим другом, всем сердцем ему довериться, но потом так же легко и расстаться с ним, забыть его… И все-таки в первый миг, пока слышны еще его шаги — уже деловые, взрослые, уходящие из их мира, — детьми овладевает не только скоропреходящее разочарование, скоропреходящая печаль, вызванная неожиданным окончанием игры, но и такое же скоропреходящее удивление тем, что он вообще до них снизошел, повел себя не по-взрослому. Он уходил, и это печалило, огорчало Анну, но она и сама удивлялась этому беспричинному, едва ли не глупому огорчению. Вот он уж одной ногой встал на ступеньку двуколки, и двуколка чуть-чуть прогибается, а лошадь фыркает и вскидывает голову. Уже сидя на облучке, с поводьями в руках, он еще раз взглядывает на нее, еще раз улыбается, величественный, как бог, свободный, приветливый; и улыбка эта гладит ее лицо, как солнечный луч. «Да святится имя господне…» — молится про себя Анна, испуганно, растерянно, счастливо! Потом она поспешно вбегает в комнату, чтобы отделить стакан и тарелку, которых касались его руки, забрать их до того, как вся грязная посуда перемешается. Их она вымоет отдельно и отдельно спрячет — это его тарелка, его стакан, их она даст только ему, если он когда-нибудь приедет вновь. На столе — кусочек хлебного мякиша, похожий на маленькую глиняную куклу и хранящий следы его пальцев; Анна берет его в руки и бездумно, машинально съедает — лишь тут она вспоминает, что всю неделю у нее во рту маковой росинки не было! А коляска едет, покачивается на безлюдной дороге, и вечернее солнце приятно греет плечи человеку на облучке. Его голова чуть кружится от вина, выпитого, чтобы подбодрить больного; его ноздри приятно щекочет запах пролитого на сюртук лекарства. Это отвар фенхеля на меду, нехитрое успокоительное средство, которое больные, однако, пьют с отвращением, отчаянно хватаясь за руку врача и проливая на него добрую половину ложки с лекарством, — изможденные, отощавшие, обессиленные болезнью, но от страха и недоверия неожиданно упрямые (а верней, не упрямые, а стойкие!). «Что с человеком?» — думает он, сидящий на облучке, болеющий за всех, заботящийся обо всех, а сам неимущий и одинокий, отвыкший от горячей еды и спокойного сна, путник бесконечной дороги от больного к больному: однообразной, вызывающей всегда одни и те же мысли дороги. Ведь он, Эскулап с посохом и дорожной сумкой через плечо, все знающий и все повидавший, вызывающий невольное уважение и восхищение, на деле — беспомощный невежда обыкновенный обманщик, сеятель ложных обещаний и надежд, незаслуженно почитаемый и выбегающим ему навстречу ребенком, и самим больным на его зловонном одре, и родными больного, ждущими приговора молча, со скрещенными на груди руками. Ибо и он, Эскулап, не может проникнуть в логово главного недуга — в человеческую душу, не может и открыть надеющимся на него людям правду, сказать, что их болезнь неизлечима, что чесотка и запор пустяки в сравнении с кипящим в их душах адом, которому они дают убивать себя, не задумываясь, не рассуждая, с каким-то даже неземным упоением! «Что с человеком? Что с ним стряслось?» — думает он, глядя на лоснящийся круп лошади; и перед его глазами вновь встает то неестественно улыбающийся майор, то Петре, морщащийся при одном упоминании имени брата, то поминутно переводящий с темы на тему разговор отец Зосиме, то прячущая руки под передником, растерянно глядящая Анна. С шумом мчатся назад свесившиеся над дорогой ветки, одна деревня сменяет другую, кое-где в окнах уже мерцают спокойные огоньки цвета спелой айвы; время от времени за двуколкой с лаем бросается в погоню какой-нибудь не совсем еще обленившийся пес. Сумерки сгущаются, дорога становится уже; лошадь спотыкается, пыхтит, как человек, погруженная в свои мысли, пропитанная запахами пройденных сел и знойных полей, знающая свое дело, бесконечно ему преданная… «Что с нами, голубушка? Что с нами стряслось?» — спрашивает ее сидящий на облучке; и сердце лошади наполняется гордостью: хозяин вспомнил ее, хозяин заговорил с ней! Теперь она с еще большей охотой рассекает уплотнившуюся от невидимой пыли тьму, ее спина вздрагивает, запотевшие бока блестят — и все это вместе взятое называется жизнью.
6
По возрасту Георге следовало б жениться скорей, чем Петре; но Петре женился первым — как говорили урукийцы, «обскакал старшего брата». Обскакал он, впрочем, не только старшего брата и не только урукийцев — от зависти к нему чуть не лопнула вся Кахетия, ибо женился он почти что на иностранке, и не на простой какой-нибудь девице, а на княжне с запада, с побережья, привыкшей ходить по мягкой земле… на княжне, бледной от влажного воздуха, нежной, хрупкой и задумчивой, словно бы даже печальной — тоже, видимо, из-за постоянной близости моря, — но одновременно и столь же гордой, как ее занятый лишь собственными усами и борзыми щенками отец, и столь же избалованной, как ее вечно окруженная служанками мать. Родившаяся в просторном бревенчатом доме, выращенная на тоненьких кукурузных лепешках, она заметно выделялась среди женщин по эту сторону Лихи, румяных от пышного пшеничного хлеба, пирожков с жареным луком и хорошего топленого масла. Ее худоба и бледность огорчили этих женщин, не только с любопытством, но и с известной жалостью разглядывавших невесту в тот момент, когда она впервые входила в железные ворота усадьбы Макабели — без родителей, без братьев и сестер, без родственников, с одной-единственной служанкой, которая довольно-таки потрепанным зонтиком прикрывала свою госпожу от жгучего урукийского солнца, а сама, раскрасневшись от жары, с лицом, покрытым мелкими росинками пота, притворялась хмурой и надменной, как это свойственно людям простым и робким, попавшим в незнакомую обстановку и старающимся скрыть свое волнение, не уронить достоинства. Новобрачную звали Бабуцей, она была дочерью князя Луарсаба Микеладзе, а ее служанку — Агатией. Помимо Агатий Бабуца привезла с собой лимонное деревце, высаженное в маленький дощатый ящик (недели через две оно засохло, и его выбросили вместе с ящиком), довольно порядочную по тем временам библиотеку, маленькую вышитую подушку матери, отцовскую саблю и крест, приколотый к кусочку кизилово-красной ткани, словно какое-то мертвое насекомое — экспонат частной коллекции зоолога-любителя. Так что женился. Петре не богатства ради — заполучить его в зятья были бы счастливы и многие более состоятельные семьи. Но он не пожелал повторять «ошибки» отца и «еще больше портить» кровь рода, а предпочел жениться на девушке бедной, но благородной. В ту пору, впрочем, и более подлинные и достойные, чем он, княжеские сыновья уже вовсю охотились за дочерьми торговцев. Нацепив одолженные черкески, они по целым дням разгуливали перед караван-сараями, в надежде приглянуться своим будущим тестям; они из кожи вон лезли, лишь бы только сохранить внешний лоск, не пропустить ни одной свадьбы или поминок; и они не задумываясь продавали и закладывали земли, удобренные прахом предков, населенные их тенями замки, родовые иконы и оружие, ожерелья и перстни, принадлежавшие их избалованным прабабкам, бабкам, матерям, теткам, — они срывали их с шей, стаскивали их с пальцев покойниц в последние минуты-перед тем, как гробы опускались в землю, и тащили их продувным свахам, чтоб заполучить какую ни на есть купеческую кикимору, скрывающую свой возраст под румянами, но сидящую на мешке с золотом! Ибо так, только так могли они хоть недолгое время сопротивляться буре, налетевшей будто нарочно, чтоб растоптать и унизить их, — великой буре, пришедшей с севера, из страны льдов, с реформой шестьдесят первого года… Да, это была буря— а как же ее было назвать еще? После того дня все перевернулось вверх дном: оставшиеся без крестьян господа не знали, что им делать со своей землей; а оставшиеся без господ крестьяне — что им делать с обретенной свободой, ни вспахать, ни засеять которой они не могли. Но Макабели глядели на мир сквозь свою щелочку, ни во что не вмешиваясь, ничем из происходящего за их оградой не интересуясь; ни преклонить колени на Крцанисском поле, ни сходить на Мтацминду поклониться вернувшемуся на родину праху поэта им и в голову не пришло бы. «Это нас не касается, в это нам вмешиваться ни к чему!» — таков был неизменный отклик майора на все события времени. И все-таки события эти так или иначе затрагивали и семью Макабели; и стук ноги, топнувшей где-то за тридевять земель, на зеркальном паркете Зимнего дворца, сотрясал и их высокую, прочную ограду. Теперь грамотами Багратидов можно было лишь затыкать дыры; и все-таки Макабели гордились своей благородной невесткой, да и все урукийцы, представьте себе, поглядывали на высокий двухэтажный дом с таким завистливым почтением, словно в нем сидела женщина, похищенная из Абиссинии, а не их соотечественница, не плоть от их плоти, казавшаяся чужой лишь из-за двоецарствия, из-за двоедушия и двуличия, навязанных им общими их врагами еще в древности. В действительности же паршивая горка высотой с бычью холку разгораживала их не больше, чем подушка разгораживает в постели двух неугомонных братьев-близнецов.
— Мне страшно, Агатия! — сказала Бабуца, оставшись вдвоем со служанкой в комнате, где они распаковывали свой багаж. Он был невелик, но каждая вещь была для обеих драгоценной, родной, надежной, особенно теперь, в этой незнакомой обстановке. — Как в тюрьму попала! Голова кружится…
— Чего ты боишься, голубка? Я ведь тут, с тобой… — подбодрила ее Агатия, невольно оглядывая комнату.
В дом Микеладзе Агатия попала совсем крошкой, еще при большой госпоже, бабушке Бабуцы. Замурзанную девчонку насильно вымыли и заставили впервые в жизни надеть трусы. «Чтоб я тебя без трусов больше не видела — иначе опозорю, при людях подол задеру!»— сказала ей большая госпожа. После этого Агатия привыкла к ношению трусов, а заодно и к семье Микелазде, которую она так полюбила, что, выгони они ее из дому, она тут же повесилась бы на воротах. Поэтому, вероятно, она и осталась в девицах — заботясь о других, она не заметила, как ее время прошло и никто о ней не вспомнил. Потом большая госпожа умерла, ее место заняла мать Бабуцы, а уход за маленькой Бабуцей поручили Агатии. Бабуцу она полюбила, как родную дочь, и этого ей было достаточно; ради Бабуцы она не задумываясь убила б человека, хотя при виде резаной курицы и падала в обморок. А после смерти родителей Бабуцы Агатия и вовсе посвятила себя сироте, у которой не было уже никого по-настоящему близкого кроме няни, возившейся с ней с самого рождения, бывшей свидетелем и ее первых зубов, и ее первых месячных, ставшей для нее и матерью, и отцом, и опорой, и надеждой! И это не только вдохновляло Агатию, но и было предметом ее гордости. А другие-то считали ее обыкновенной служанкой…
— Я же с тобой… — повторила она. — Саблю и крест давай повесим на стену, чтоб их все видели! Пусть никто не думает, что мы безродные какие-нибудь…
Железный крест, покоившийся, как мертвое насекомое, на кизилово-красной подушечке, был пожалован Луарсабу Микелазде кем-то из крестников императора на станции Саджавахо, где из всех дворян, вышедших приветствовать высокого гостя, один отец Бабуцы сумел до дна осушить семилитровый рог вина. Крайне пораженный, несколько даже напуганный этим необычным зрелищем, императорский крестник якобы тут же сорвал с собственной груди железный крест и на глазах у всех и всем на зависть вручил его князю Луарсабу, который, опершись о пустой рог, свирепо, как бешеный бык, разглядывал черный, вздыхавший и вопивший наподобие плакальщицы паровоз, как бы предчувствуя, что из вторжения в его владения этого странного чудовища ничего хорошего не проистечет. В самом ли деле чувствовал он что-либо подобное тогда на станции Саджавахо, одурев от мгновенно проглоченных семи литров, сказать, конечно, трудно; но в том, что произошло с его семьей в дальнейшем, повинны были, конечно, не только его нерасчетливость и легкомыслие. Маленький, дочерна прокопченный, выбрасывающий огонь и копоть паровоз притащил за собой новое время, изменившее весь привычный строй жизни. Неожиданная смерть нежной и мечтательной жены окончательно выбила Луарсаба из колеи, сделала его еще легкомысленнее и ветреней; заложив имение, он вместе с единственной дочерью переселился в Тбилиси, где к тому времени собралось уже немало подобных ему ветрогонов, искателей императорской службы и милости, которых стремление спастись, хоть как-то удержаться на поверхности до того сводило с ума, что отец не узнавал сына, а сын отца и еще недавно вполне достойные граждане своей страны готовы были отравить друг друга для того, чтоб хоть раз попасть во дворец наместника! Должно быть, Луарсаб Микеладзе выделился б и тут, и тут всех переплюнул бы, как однажды на станции Саджавахо, но сделать это он не успел. Ему изменило счастье; его погубила гордость, которой он был пропитан весь, насквозь, до мозга костей, и которая не позволила ему стерпеть хамство какого-то городского проходимца, высказавшего желание купить усы князя. Кончилось все это тем, что на рассвете, когда город еще крепко спал (кроме, конечно, Бабуцы и Агатии, которые где-то в чужой комнате, на чужой тахте, в накинутых поверх ночных рубашек шалях, ежась от страха, дожидались ушедшего куда-то пировать Ауарсаба), двое дворников и один городовой с трудом вынесли из садов Ортачалы его огромный, распухший и посиневший труп. После этого Бабуце не осталось ничего другого, как согласиться на уговоры свахи, переселиться из Тбилиси в еще более далекую и чужую У руки, стать невесткой в доме Макабели и навек забыть свою наивную мечту, в которую и верили-то, впрочем, лишь она да глупая Агатия, — мечту о солнечном, златокудром принце в хрустальном замке на берегу моря, где Бабуца, заснув среди роз, просыпалась бы от соловьиного пения. Зато дом ее мужа был обнесен высокой каменной оградой с железными воротами и походил на угрюмую, неприступную тюрьму, в которой женщине, разочарованной жизнью, было б легко затеряться и, забыв мечты, спокойно, незаметно жить за своими вышивками и книгами. Но в первый же день дом этот напугал Бабуцу своими полутемными комнатами, толстыми стеками, напряженными и приглушенными звуками, гнездившимися в этих стенах, словно какие-то страшные, невидимые существа. А Бабуца была так пуглива, что даже в уборную вечером выйти боялась, и Агатии приходилось сопровождать ее с коптилкой в руке.
«Не знает, бедняжка, ни за кого выходит, ни чьей матерью станет…» — думал отец Зосиме, облачаясь в алтаре с помощью дьякона Эпифане перед тем, как венчать Петре и Бабуцу. Никогда в жизни он еще так не волновался — у него дрожали руки, он без конца поправлял свою окаймленную широкой золотой тесьмой епитрахиль и раздраженно покрикивал на дьякона Эпифане, точно собираясь привести в исполнение смертный приговор, а не осчастливить жениха с невестой…
Воздушная и благовоспитанная Бабуца оказалась женщиной довольно плодовитой и вскорости родила Петре сначала Александра, затем Нико (по церковной книге — Николоза) и, наконец, Аннету (по книге Анну— в честь бабушки). После этого Петре окончательно успокоился — теперь оспаривать его первенство было некому. Будь Георга ему даже не сводным, а настоящим братом, будь он хоть вдвое старше Петре, ему все равно было б далеко до Петре — женатого мужчины, отца троих детей, человека, которого все виноторговцы Тбилиси и Телави уважали за ум и твердость, зная, что он скорей даст вину прокиснуть, чем хоть на копейку сбавит однажды назначенную цену! За деловым разговором он частенько вынимал из узкого жилетного кармана свои серебряные часы с монограммой и глядел на них так, словно его время крайне ограничено, расписано по минутам. Это, представьте себе, действовало и на виноторговцев — и они невольно начинали спешить, невольно взглядывали на часы Петре; а те непрестанно тикали к выгоде своего хозяина, точно кружась на ладони, как насекомое с оторванными крыльями. Петре был уже мужчиной, главой семьи и хозяйства, ему люди почтительно кланялись, советовались с ним о делах; а когда он входил в лавку Гарегина, все молча расступались и следили за тем, что он выберет, чего и сколько купит. (Однажды он, лишь для того, чтобы стереть с ботинок налипшую уличную грязь, оторвал от рулона целый аршин ситца, из которого легко выкроилось бы платьице для пятилетней девочки и еще на косынку осталось бы; тут же, в лавке, он обтер ноги, поочередно ставя их на мешок с солью, а потом отшвырнул скомканный, грязный лоскут в сторону.) Георга же по-прежнему оставался мальчишкой; возвращаясь с виноградника, он был все так же перепачкан ежевикой и всегда приносил племянникам то маленького удода, то завернутого в платок, словно остаток обеда, ежика. Едва завидев его, мальчишки с криком кидались навстречу; обращаясь с ним так, как он и заслуживал, они, даже не дав ему сменить пропотевшую рубаху, валили его на землю, вскакивали на него, как на осла, и сами пачкались в его поте и грязи, а когда Агатия вторично мыла их в большом медном тазу, этот дурачок еще обижался! «В чем дело — чумной я, что ли, по-вашему?» — спрашивал он, вздернув плечи и глупо ухмыляясь. Для всех он был маленьким, быть взрослым у него как-то не получалось — годы шли, а он так и оставался щенком. Так что на мать Петре был обижен куда больше, чем на Георгу: тот уступал ему во всем, никогда не спорил и о своем старшинстве даже не заикался; а мать, сколько Петре себя помнил, всегда тащила его назад, чтоб вытолкнуть вперед Георгу, которого Петре должен был, как она ему постоянно жужжала, уважать не только как старшего брата, но и за его доброту, за то, что он не такой, как все… черт знает чего она еще не придумывала, чтоб угнетать Петре, и угнетать совершенно несправедливо — угнетать за то только, что в этом доме один он точно знал, кто его отец и мать! Как страдал Петре, как мучила его несправедливость матери! Сколько он вытерпел, сколько яду и желчи проглотил он из-за матери, в то время как его никто не осудил бы, откажись он от нее вообще — от такой матери, от такой женщины! Да ведь и матерью-то его она стала лишь по доброте отца… но вместо того, чтоб, оценив это, усовеститься, притихнуть, хоть притворно отказаться от своего темного прошлого, которое ее законный муж и сын ей, так уж и быть, забыли, простили, отпустили, она так тряслась над драгоценным отродьем этого прошлого, так обижалась, когда кто-то осмеливался подшутить над ним или поручить ему что-либо, словно Георга был царевичем, отданным ей на воспитание, а не ублюдком какого-то жалкого мужичонки! Да люби ты его на здоровье, сделай милость, но за что же другого-то ненавидеть? Чем другой-то перед тобой провинился, кроме того, что терпеливо ждал воли божьей и своего законного времени? Оно конечно — краденый плод слаще; но как ты можешь предпочитать его выращенному в собственном саду, если… нет, Петре и в мыслях никогда не скажет о матери того, что она заслуживает; но пусть и его не заставляют говорить вслух такое, чего она не заслуживает вовсе!
Жена и дети не только укрепили в Петре сознание своего первенства, старшинства, но и помогли ему забыть тревоги и страдания тех мучительных лет, когда он, проснувшись среди ночи, обнаруживал пустую постель матери. «Опять она там, с ним!» — как молотом било тогда в голову Петре. Теперь же, лежа рядом с заботливой и покорной женой, он не ощущал уже никакой ревности к обитателям хлева, там, в темноте, пропитанной запахом ослиной мочи, шепотом клявшимся друг другу в вечной любви. Кого Петре сейчас жалел, так это отца! Отца он почитал и обожествлял с первого же дня, когда его глаза открылись окончательно и он смог воспринять майора во всем блеске. Первым, что побудило его восхищаться и гордиться отцом, был мундир, украшенный эполетами и блестящими пуговицами, невольно располагавший к благоговению и почитанию, — и поздней, когда Петре уже подрос, чувства эти в нем ничуть не ослабли, а стали еще сильней. Ему было трудно понять лишь одно: как мог такой человек, каким представлялся ему отец, жениться на такой женщине, как мать, да еще с таким прошлым? Что у них было общего? Что общего могло быть у мужчины, повидавшего полмира, с выросшей в сиротстве женщиной, которая и с чужими, и со своими разговаривала одинаково застенчиво, не подымая глаз? У нее не было ни достоинства, ни гордости: родившись рабыней, она, вероятно, не посмела б отказать ни одному мужчине, вздумавшему порезвиться с ней где-нибудь в огороде! Объяснить странное это супружество одной добротой и благородством отца было трудно; наверняка была и какая-то другая причина — скорей всего, постыдная, ибо отец о ней никогда ничего не говорил, а сам Петре спросить его об этом не осмеливался. То, что отец не любит мать, ему было очевидно давно и несколько его успокаивало, ибо одно дело мать, другое — жена. Мать может быть и горбатой, а ты ее все-таки любишь; мать может быть деревенской сумасшедшей, бродить по улице в задранном платье, а ты ее все равно любишь — потому что ты вылез из ее утробы, потому что бог, поручив ей быть твоей матерью, еще до твоего рождения отнял у тебя возможность выбора. Поэтому-то и уродливой, и сумасшедшей матерью тебя никто не попрекнет, ибо, лишив тебя выбора, бог, само собой, запретил и другим осуждать тебя. Жена же дело другое — жену человек выбирает сам; в этом-то выборе и проявляется обычно его вкус и достоинство. Но даже человек самого высокого вкуса и достоинства может ошибиться — это уж вопрос везения (или, верней, невезения). Это-то и случилось с его отцом: ему просто не повезло! Да и он высказался однажды в том смысле, что Петре-де бог дал все, о чем он, Кайхосро, только мечтать мог. В глазах Петре отец был достоин гораздо большего, и его успокаивала лишь мысль, что причина несчастья отца не в дурном вкусе, а в невезении. «С тобой я сплю, как человек, испытывающий нужду и удовлетворяющий ее где попало, не заботясь о приличиях!» — сказал его отец матери давным-давно, когда Петре был еще совсем маленьким и ничего не понимал. Не понял он тогда и этих слов — но почему-то они запомнились ему навсегда и долго мучили его смутным ощущением какой-то мерзости, неслыханной гнусности и жестокости. Сказаны они были, конечно, не для того, чтоб их слышал Петре; но, видно, богу было угодно, чтоб он тоже услыхал их — тайно, по-воровски. Ибо когда он проснулся, бог подсказал ему не показывать этого, продолжать притворяться спящим, чтоб услыхать и увидать то, что слышать и видеть ему было еще рано, но что когда-нибудь должен был узнать и он. Когда же это случайно услышанное и увиденное постепенно превратилось в знание, Петре стало ясным и многое другое. В ту ночь, когда он проснулся, его родители тоже не спали — они почему-то лежали в одной постели, и сперва ему показалось, что они из-за чего-то повздорили, что отец хочет что-то отнять у матери, а та обеими руками за что-то ухватилась и не отдает. Они боролись молча, беззвучно, даже как будто сдерживая дыхание, — должно быть, чтоб не разбудить его. В этой борьбе и в самом деле было что-то постыдное, такое, что приходилось скрывать, — тревожное, беспокоящее, настораживающее! У Петре свело дыхание, его сердце бешено колотилось; то, что он стал невольным свидетелем этой странной близости родителей, показалось ему вдруг тяжким преступлением. Через некоторое время отец встал и, подняв стоявшую на полу лампу, вышел из комнаты, — но сначала он сказал матери эти слова, надолго лишившие Петре покоя своей таинственной грубостью, беспощадностью, мерзостью, как-то соответствующей странному поведению отца и матери в ту ночь. После этого случая родители стали для него загадкой. Поняв же наконец со временем смысл этих слов, он лишь пожалел отца, но от веры в его величие и исключительность не отказался. Веру эту внушал ему пропитанный запахом отца мундир, который Петре однажды, совсем еще малышом, тайком, с дрожью и сердечным замиранием не надел, а лишь на миг накинул себе на плечи, как бурку, — тяжелый и грубый, горячий и надежный, как мысль о собственном возмужании, отцовстве, главенстве в семье! Теперь все это, к счастью, ушло в прошлое — Петре возмужал, стал отцом, главой семьи; без его ведома и согласия никто в доме и чихнуть не мог, и птицы винограда клевать не смели! Такова была воля Кайхосро. «Ты у меня и старший, и младший…» — во всеуслышание объявил он на свадьбе Петре; и после этого Георга выбыл из игры окончательно. Впрочем, его-то никто ни о чем не спрашивал и раньше.
Новая хозяйка завела в доме новые порядки. Теперь по вечерам все собирались в комнате, освещенной большой, пузатой лампой из белого фарфора, и затаив дыхание слушали истории, которые дрожащим от волнения голосом читала Бабуца, держа в руках тяжелую книгу с истертой обложкой. Рассказы о чужих приключениях одинаково трогали и детей и взрослых. Читать они, правда, все умели и сами, но взять хоть одну книгу из библиотеки Бабуцы без ее разрешения никто никогда не посмел бы. Книги эти она берегла как зеницу ока, индюшиными перьями трижды в день осторожно смахивала пыль с Библии, «Витязя в тигровой шкуре», «Караманиани», Акафиста и «Книги для семьи» Барбары Джорджадзе и Скорей позволила бы детям играть своими украшениями, чем небрежно и без спросу полистать какую-либо из этих книг. К тому же сами дети, как, впрочем, и взрослые, охотней слушали, чем стали бы читать сами: читать они умели еще только по слогам, водя пальцем по строке, и, добравшись до конца фразы, уже забывали начало. Бабуца же читала спокойно, неторопливо, отчетливо и связно, без запинок, с какой-то особенной плавностью — так, словно в освещенной пузатой белой лампой комнате журчал ручеек, усеянный желтыми листьями лунного света. И взрослые и дети с напряженным вниманием вслушивались в журчание этого таинственного ручейка, мгновенно переносившего их из одной страны в другую, словно пущенные по воде бумажные кораблики, легкие, освобожденные от любого груза и забот! Ручеек этот заносил их в сказочные замки, в которых проживали герои и небывалые, писаные красавицы; незаметно, без того, чтоб и пальцем пошевелить, они становились очевидцами, даже участниками необыкновенных событий, необыкновенных удач или неудач героев книги. Но и в этот волнующий мир неожиданно врывались звуки огромных, как шкаф, часов, мгновенно возвращавшие всех назад, в комнату, и как бы напоминавшие им, что их участие в запечатленных в книге судьбах, в отличие от самих этих судеб, ограниченно, временно, преходяще…
— Такое бывает только в книгах! — говорил Кайхосро детям, жадно, всем существом, с горящими от волнения глазами слушавшим мать.
Рассерженная и удивленная этим безответственным, неуместным замечанием, Бабуца строго хмурила брови, как учительница, имеющая дело с непослушными учениками. А Петре восхищался не столько содержанием выслушанной истории, сколько умом и серьезностью жены.
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! — безжалостно, неумолимо били огромные, как шкаф, часы; и эти дребезжащие, повелительные, несколько даже тревожные звуки заставляли Бабуцу закрыть книгу, пусть даже на самом интересном месте, а детей отправляли спать, как бы они этому ни сопротивлялись. Мужчинам эти звуки напоминали о делах, предстоящих им завтра с утра, как бы надоедливы те ни были, а женщин заставляли еще раз проверить, не осталось ли хоть что-либо в доме не-пристроенным, не убранным на свое постоянное место, — и часы, довольные своей бдительностью и точностью, продолжали поспешно пересчитывать секунды, подобно забравшемуся в сокровищницу вору, который, зная, что каждый миг промедления может стать причиной его гибели, все-таки не в силах справиться со своим любопытством и, одурев при виде такого несметного, неисчислимого богатства, без конца считает чужие деньги и будет считать их, пока его не схватят. Дети видели в этом неподкупном и всемогущем ящике своего личного врага, мгновенно, как дедова свинья похлебку, проглатывающего время их игр и одновременно изо всех сил задерживающего наступление праздников! Они не понимали еще, что их сладкое, беззаботное детство (самим им казавшееся, однако, горьким и невыносимым) тоже связано с этими часами, что часы эти двумя своими стальными пальцами держат и их детство, словно пойманную бабочку, и оборвут ему крылья, как только захотят. Дети растят друг друга, выводят друг друга из детства, как взрослые с поля боя или из горящего дома; ибо человек не приспособлен ни к одному возрасту полностью, до конца, и каждая следующая ступень кажется ему желаннее и совершенней предыдущей — поэтому-то он так поспешно и беспощадно, каждый раз надеясь на лучшее, и переходит из одного возраста в другой, пока не достигает последней ступени, которая называется старостью и за которой ничего уж нет. Именно тогда обычно в его душе, в его сознании всплывает первая ступень его жизни и то стоящее на этой ступени головокружительно юное существо, которым он был когда-то; и, хотя схожи они сейчас друг с другом не больше, чем лягушка с головастиком или заплесневелая корка хлеба с пшеничным колосом, все-таки он знает, что тот, стоящий на первой ступени, и он, присевший сейчас на последнюю, — одно и то же существо, лишь разделенное надвое, натянутое между двумя крайними точками, как струна, которая вот-вот разорвется, и тогда все кончится; но умрет он не сразу, а по частям, дважды — сперва на первой ступени, потом на последней; сперва для себя самого, потом для мира. Сожалеют о детстве тогда лишь, когда его толком уж и не помнят, когда в постаревшей душе, как на дне вторично раскопанного погребения, поблескивают одни осколки этого нежного розового сосуда, по которым, как ни старайся, невозможно ни восстановить этот сосуд в первоначальном виде, ни даже определить его подлинное назначение…
К Кайхосро вернулись его старые сны — в них он опять был пятилетним мальчуганом и опять, задыхаясь, падал на злобно сверкавшую мостовую, чем-то неуловимо схожую, однако, и с оскаленными зубами борчалинца. Вскочив с мостовой с ободранными коленками, он опять бежал, и за ним опять гналась двухмесячная девочка с развевающимися, огромными, как бараньи рога, усами, стремившаяся непременно выяснить, кто он такой. «Я Ной, Ной, Ной!» — кричал он, обливаясь потом, откидывая одеяло и обеими руками хватаясь за ворот рубашки. Во сне же он бежал, — но узкие, извилистые улочки Тбилиси не кончались, и, когда ему казалось, что он из них наконец выбрался, ему опять преграждал путь двухэтажный дом с деревянным балконом и улица опять гнулась, как зацепившаяся за сучок пила, опять в последний миг неожиданно сгибала дом, как летучая мышь скрытую во тьме ветку, опять скользила, ползла, колыхалась среди черных от огня стен, перебегала по безлюдным, застывшим мостам, по маленьким, как лужицы после дождя, площадям… и все это длилось, длилось, словно он цеплялся за собственный хвост! «Спасите мальчика, спасите мальчика!» — кричали страшным женским голосом затемненные окна, запертые на замки ставни лавок, глухие, затерянные во тьме дворы, сумрачные своды, неожиданно обрывавшиеся лестницы, онемевшие, лишенные языков колокола — и Кайхосро просыпался и оцепенело, растерянно, бессмысленно улыбаясь, прислушивался к тишине спящего дома. Внуки напомнили ему самого свирепого, самого непобедимого и неподкупного врага — старость, смерть, естественный и неизбежный конец человеческой жизни. Уж этому-то врагу и он не мог отказать в тех трех-четырех литрах крови, для спасения которых жил! И однажды ночью, проснувшись после одного из таких снов, Кайхосро вдруг с одуряющим изумлением понял, что он, благополучно перенесший столько опасностей, счастливо избавившийся от стольких врагов, больше, чем их всех, вместе взятых, боится собственных внуков. Должно быть, он их все-таки любил, ибо открытие это его огорчило; но боялся он их больше, чем любил, — ежедневное, очевидное подрастание внуков было для него всего-навсего доказательством приближения собственной старости и смерти. Начиная с этой ночи трое детей превратились для него в три архангельские трубы, и, заслышав их веселый галдеж, он, сам не понимая почему, готов был без возражений исполнять любую их прихоть, какой бы бессмысленной и глупой она ни казалась другим. Теперь у Кайхосро была лишь одна мечта — нелепая, это он понимал и сам, но упрямая, — мечта о том, чтоб его внуки никогда не выросли. Не то чтоб они погибли — слишком он их боялся, чтобы подумать об этом даже про себя, — просто чтоб они навсегда остались детьми, чтоб они не жить перестали, а расти! «Не балуй их!» — говорил ему Петре; но что он в этом понимал? Какое ему могло быть до этого дело? Петре был только отцом, а Кайхосро дедом! Едва кто-нибудь при нем говорил детям, что они уже не маленькие, что надо вести себя повзрослей, он закатывал такой скандал, что по всей Уруки стекла тряслись…
— Успеют еще! Далась вам эта взрослость, будь она неладна! Дайте им побыть детьми! — неистовствовал Кайхосро.
Все способное вызвать у детей желание поскорей вырасти он считал своим врагом. Но, к сожалению (да это он чувствовал и сам), почти все, с чем дети соприкасались, осознанно или неосознанно, способствовало их взрослению; ибо и мир, в котором живут дети, целиком принадлежит взрослым и устроен по понятиям взрослых. Так что Кайхосро зря выбросил в яму уборной свое ружье и пистолет: на свете было много других ружей и пистолетов, и, раз уж это стало известно его внукам, выбить мысль о них из сумасбродных детских головок было не в его власти. Напрасной была и обида, нанесенная им невестке: и герои, и красавицы, жившие в ее книгах, были ведь некогда такими же худющими и курносыми, растрепанными и замурзанными, как те деревенские девчонки и мальчишки, с которыми его внуки возились с утра до вечера! Кайхосро был бессилен. Но, ясно чувствуя свое бессилие и мощь внуков, он с бессмысленным упрямством держался за свое — вместе с ними и сам начинал вдруг лепетать, как ребенок, вместе с ними капризничал за едой и прятался под стол, когда им пора было спать, вместе с ними заливался смехом, притворяясь, что тоже боится разъяренной, топающей ногами Агатии. «Вылезайте немедленно, пока я вас сама не вытащила!» — кричала она. И все-таки разлад между дедом и внуками был неминуем! Как и следовало ожидать, мальчишки первыми покинули его, отказались играть с ним, почувствовав, что им не по пути, что дед упрямо тянет их туда, откуда сами они изо всех сил вырываются.
— Розги им нужны, розги! — орал Кайхосро, разозленный предательской беспощадностью внуков. Но что могло заставить Нико и Александра оставаться под столом, когда на свете было столько чудес? Об их проделках говорила уже вся деревня!
Но Кайхосро все еще не сдавался. Теперь он заигрывал с Аннетой: та была меньше и слабей мальчишек, и если те на глазах становились сущими бандитами, то она, казалось, не росла вообще — возможно, оттого, что часто лежала в постели, без конца заражаясь всеми детскими болезнями, какие только существуют. Поэтому дом был почти постоянно наполнен слезами Бабуцы, ворчанием Агатии и запахами сотни всевозможных лекарств; а урукийцам казалось, что двуколка доктора Джандиери вообще не выезжает из-под лип за высокой оградой Макабели. На облучке двуколки восседали Нико и Александр, мчавшиеся сквозь воображаемый ветер и пыль в некую воображаемую страну. Лошадь спокойно и равномерно двигала челюстями, жуя ячмень и овес, вдоволь засыпанные в висевшую на ее шее торбу. Глаза лошади походили на шарики агатовых четок; блестящим с проседью хвостом она отгоняла мошкару и слепней, не обращая ни малейшего внимания на свист и причмокивания своих воображаемых возниц. А сидевшая в доме, у постели Аннеты, Бабуца всхлипывала и таяла как свеча.
— Вы, сударыня, зря плачете: у девочки ничего серьезного нет. Через пару дней с зайцем наперегонки побежит… — говорил ей доктор Джандиери.
Его большая, сильная, чистая рука лежала на вспотевшем лобике Аннеты; спокойный и осанистый, как бог, он наполнял весь дом каким-то приятным, успокаивающим боль дурманом «А ты зайцев любишь?» — спрашивал он Аннету с таким видом, словно приехал специально, чтоб это выяснить; и Аннета, ежась от удовольствия, натягивала одеяло до самого подбородка и, стыдливо улыбаясь, показывала свои редкие зубы. Иногда в открытой двери, за чужими спинами, мелькала Анна — быстро, бесшумно, как знающая свое место прислуга; и у доктора Джандиери сжималось сердце. «Вот кого нужно спасать… вот кому нужна помощь!» — думал он, машинально лаская влажный лобик Аннеты своими теплыми, мягкими пальцами и как бы забыв об их существовании, временно уступив их девочке в качестве игрушки. «Излишняя доброта — тоже болезнь. Она обессиливает человека! — думал он. — Но неужели доброта и есть бессилие? Неужто сильными могут быть лишь негодяи?»
Однажды Аннета отравилась цветочной пыльцой, и Агатия бегом притащила ее домой, обессиленную, с затуманенными глазами. Бедняжка была в такой панике, словно за ней гнались похитители или словно она сама похитила ребенка. Во двор опять мягко въехала двуколка доктора Джандиери. Кайхосро дожидался врача у ворот. «Доктор, помоги!» — крикнул он, схватив уздечку лошади. На коленях доктора Джандиери лежала большая, перевязанная розовой ленточкой картонная коробка.
— Глаз открыть не может… еле дышит. А это что такое? — спросил Кайхосро, показывая рукой на картонную коробку.
— Асклепиодота… — улыбнулся доктор Джандие-ри. — Асклепиодота! — повторил он. — Для детей возраста вашей Аннеты лекарство бесподобное и несравненное! — Мгновенно развязав узел на розовой ленточке, он снял крышку коробки.
В картонной коробке лежала кукла размером почти с Аннету. У нее были длинные, вздернутые кверху ресницы, маленький носик пуговкой, пухлые румяные щечки, вьющиеся, как стружка, золотистые локоны и как бы обиженные, вздутые, словно лепестки розы, губы. Доктор Джандиери приподнял коробку, и кукла открыла свои большие голубые глаза.
— Боже милостивый! — воскликнул Кайхосро, с изумлением глядя на куклу, забыв о больной внучке.
Кукла мигала длинными, вздернутыми кверху ресницами, словно только что проснувшись и щурясь от яркого солнца; но на ее лице было все то же спокойное и наивное выражение, с которым она появилась на свет где-то очень далеко, за тридевять земель, в стране таких же голубоглазых и золотоволосых, как она, девочек. Ей было безразлично, кто прижмет ее к груди, у кого при виде ее расширятся глаза от радости. Она спокойно лежала в своей картонной коробке, и ее не печалило, что она с каждым днем все больше удаляется от родины, что судьба кидает ее в разные стороны, что она зря потеряла столько времени в темноте своей коробки, в то время как тысячи ее близнецов уже выставлены в светлых, блестящих витринах больших магазинов. Она просто лежала с закрытыми глазами, терпеливо дожидаясь, чтоб и ее вынули из этой темной коробки, чтоб и она смогла показать людям свое красивое парчовое платьице с кружевными оборками, — в чьи руки она попадет, ей было безразлично, а жалеть о времени, потерянном в коробке, она не могла, ибо дорога ее не утомляла и никаких следов этого потерянного времени на ней не оставалось. Потом чьи-то большие, пухлые руки вынули ее из коробки, разок-другой повернули в воздухе — и, открыв глаза, она увидела лицо хозяина этих рук, и нахмуренное и улыбающееся одновременно. Но она не обрадовалась и не испугалась: это был не он, не тот человек, к которому ее вела судьба; и она глядела на него спокойно, не меняя раз навсегда запечатленного на ее лице выражения. Понравится она ему или нет, ей было безразлично — судьба и баз того привела б ее туда, куда ей надлежало попасть. Потом ее вновь уложили в коробку, коробку вновь перевязали розовой ленточкой, и тут она в темноте коробки услыхала долгожданное слово. «Покупаю», — донеслось до нее. Потом она лежала на облучке коляски и впервые в жизни немного волновалась, чувствуя, что скоро увидит и своего настоящего владельца, Она не знала, да и не особенно хотела знать, кто этот владелец, — и все-таки ее, при всей ее внешней невозмутимости и бесчувствии, очень к нему тянуло. Потом ее вновь вынули из коробки. Но, открыв глаза сейчас, она увидела совсем другое лицо, чем ожидала, — возбужденное, растерянное, испуганное… И она тоже испугалась.
— Боже милостивый! — воскликнул Кайхосро. (Вот чего он хотел! Вот какими ему хотелось видеть своих внуков — всегда маленькими, всегда красивыми, всегда нуждающимися в заботе… всегда, навсегда, бесконечно!) — Я вам, доктор, вдесятеро возмещу… только., только… — неожиданно взволновался он.
— Ну что вы! — улыбнулся доктор Джандиери. — Это мой подарок. Поэтому ее и зовут: Асклепиодота. Имя, конечно, трудноватое, но самое подходящее… оно, понимаете, и значит: дар Эскулапа.
— Асклепиодота… — медленно повторил Кайхосро, как бы проверяя, сумеет ли он выговорить это трудное имя. — Тогда… — запнулся, потер руки и стыдливо, нерешительно улыбнулся. — Тогда, если позволите, я ее отнесу…
— Конечно, пожалуйста… — ответил доктор Джандиери.
Он все еще сидел на облучке коляски, держа на коленях картонную коробку с похожей на мертвого ребенка куклой. «Нельзя присваивать чужую доброту, болван… нельзя все на свете присваивать!» — думал он.
Кукла была уже в руках Кайхосро. Доктор Джандиери скомкал розовую ленточку и бросил ее в пустую коробку.
— А что, если нам ее окрестить? А? — вслух подумал Кайхосро. На врача он и не взглянул.
Вылезший из коляски доктор Джандиери на мгновение даже остановился на ступеньке, спокойный, рослый…
— Ну, слыханное ли это дело — куклу крестить, чудак человек! — громко, от всей души рассмеялся он.
— А виданное ли дело такая кукла? — хмуро огрызнулся Кайхосро.
Немного погодя доктор Джандиери, стоя в двери Аннетиной комнаты за спиной Кайхосро, молча глядел на Анну. У нее был такой вид, словно ее застали врасплох в чужом доме. «Почему, почему… почему ты так себя унижаешь?» — мысленно говорил ей доктор Джандиери. Он был уверен, что Анна слышит его, во всяком случае ему этого хотелось.
— Подружка к тебе в гости пришла… — сюсюкал стоявший впереди врача Кайхосро. Держа куклу в руках, он смешно, по-стариковски скорчился, словно не в самом деле был дедом, а лишь притворялся им. Доктор Джандиери не мог видеть ни куклы, ни лица Кайхосро, но чувствовал, как тот гримасничает, стараясь показаться внучке посмешней. Внезапно он замолчал, повторяя, видимо, про себя странное, труднопроизносимое имя куклы, и через секунду продолжал: — Ее, говорит, Асклепиодотой зовут…
— Как? Как зовут? — Сморщив носик, Аннета присела в постели, и ее глаза заулыбались.
Куклу в семье восприняли как четвертого ребенка. «Ей-богу, живая», — говорила Агатия. Но она так и не смогла выговорить имени куклы и поэтому называла ее Дорой. Дорой звали женщину-духоборку, раз в месяц приходившую в дом Макабели мыть полы. (Злоязычные урукийцы утверждали, правда, что, вымыв пол, она тут же укладывалась на него с майором — пол де она для того и вылизывала до блеска, чтоб не пачкать своих кричаще пестрых и широких юбок.) У духоборки было круглое, пухлое, румяное, в самом деле несколько кукольное лицо со всегда одинаковой, чуть-чуть глуповатой усмешкой; и, когда она, беспечно покачивая бедрами и без конца что-то жуя, шла по улице со своим белым узелком, словно только что вышла из бани, это неизменно приводило деревню в самое веселое умонастроение. Женщины в черных платках бормотали ей вслед беззлобные проклятия, а тупо, рассеянно ухмылявшиеся мужчины глазели на нее, пока ее развевающаяся пестрая юбка не исчезала за поворотом. Было ли то, что о ней болтали в деревне, правдой, сказать трудно, но в семье Макабели она свою женскую обязанность так или иначе выполнила. Аннете, впрочем, все это было еще непонятно и неинтересно; ее просто смешило, что Агатия не может запомнить имени куклы и путает его с именем какой-то взрослой женщины…
А время шло, и дети, назло Кайхосро, продолжали расти. Нико и Александр уже гнушались быть маленькими и, как собаки, кружились вокруг сестры, следя за тем, чтобы она не проскочила между балясинами веранды, не ела опавших ягод шелковицы, не рвала платья о колючки, не плескалась в лужах (хотя сами они с удовольствием проделывали все это не только в возрасте Аннеты, но и теперь, считая себя уже взрослыми!). Они сопровождали Аннету и в школу — один из них шел впереди, а другой позади осла, на котором восседала Аннета с куклой и маленьким зонтиком. Перекинутая через спину осла шерстяная сумка щекотала голые ноги Аннеты, но и это ей было приятно: ей казалось, что на нее с завистью смотрит вся Уруки. Ничего удивительного в этом, впрочем, не было — детей Макабели отличали и деревенские собаки, прятавшиеся под заборами, когда те проходили мимо; а школьный учитель собственноручно снимал Аннету с осла. В сумке лежали книги и завтрак на всех троих; но он был так обилен (Агатия клала в сумку даже кувшинчик с разбавленным вином), что мог бы насытить всю школу. Так оно, впрочем, и получалось: на большой перемене вокруг осла Макабели собиралась вся школа, и растерявшийся от своих новых обязанностей и ошеломленный детским гамом осел молча глядел своими большими влажными глазами в землю.
— Ты, — говорил Кайхосро невестке надтреснутым от еле сдерживаемой злобы голосом, — и смерть мою родила.
— Ну что вы такое говорите, папа… — искренне пугалась и удивлялась Бабуца.
Кайхосро не знал, чем уж и задержать рост внуков. Аннету еще кое-как сдерживала кукла — они вместе вставали и вместе ложились спать, вместе садились за стол, и она не притрагивалась к еде, пока Агатия не ставила и перед куклой чашку с молоком и накрошенным в него хлебом. Пропитав куклу собственным запахом и теплом, Аннета любила ее, как родную сестру; казалось, что и кукла чувствует эту любовь, как бы вдохнувшую в нее душу, сделавшую ее глаза такими живыми, что Агатия невольно крестилась. Это были глаза глухонемого ребенка — большие, печальные, как бы все говорящие молча. Унять же мальчишек было невозможно: над губами у них темнело уже что-то вроде пушка и прямо за столом они вдруг начинали выковыривать свои мальчишеские прыщи, что неизменно вызывало у Кайхосро ярость и возмущение; он стучал кулаком по столу, а Бабуца начинала плакать. «Мне страшно, Агатия, страшно!» — всхлипывала она в своей комнате, растерянная и одновременно возмущенная непонятным поведением свекра. «Не бойся… я ведь тут, с тобой!» — успокаивала ее Агатия, сама с испугом поглядывая на дверь, за которой еще слышался истошный рев старика.
— Успеете, изверги! Куда вы так спешите? — рычал он.
И все-таки неминуемое произошло, и предотвратить его не могло ничто. В один прекрасный день духоборка, как обычно, пришла мыть полы. Как обычно, она сперва с аппетитом позавтракала, не отказавшись при этом и от стаканчика красного вина; потом она, как обычно, засучив рукава, оголила свои пухлые руки до плеч, намочила тряпку в тазу и, выжав ее, принялась мыть пол. Ничего необычного или неожиданного во всем этом еще не было. Духоборка, что-то напевая, мыла пол и лишь изредка выпрямлялась, чтоб покрасневшей, мокрой рукой откинуть упавшие на лоб волосы. Затем, однако, произошло нечто такое, чего раньше не происходило никогда, нечто действительно и необычное, и неожиданное, хотя духоборка и ходила к Макабели уже второй год. В этот день, вернувшись из школы, Нико и Александр, вместо того чтоб, как обычно, тут же выскочить во двор, на ходу дожевывая хлебную горбушку, почему-то остались в комнате и стали приставать к духоборке; подкатываясь, как щенята, к ногам склонившейся над тазом женщины, они задирали ей подол и старались заглянуть под него. Сперва женщина лишь смеялась, отчасти даже потакая детской забаве и больше для виду отбиваясь от них выжатой тряпкой, что смахивало скорей на игру, чем на самозащиту. Почувствовав это, дети еще сильней потянулись к ее подолу. «Ладно, хватит уж… да что это с вами?» — изредка кричала из соседней комнаты Агатия. Но они не слышали уже ничего, кроме хихиканья духоборки, не видели ничего, кроме ее круглого, разрумянившегося, глуповато ухмыляющегося лица, — и их непреодолимо тянуло еще и еще разок ухватиться руками за ее развевающийся пестрый подол, обдававший их лица каким-то непонятным, будоражащим жаром, с такой же непонятной, будоражащей, пестрой силой притягивавший их к себе! С прилипшими ко лбам чубами, с расширившимися глазами, они походили уже на раздраженно тявкающих маленьких хищников. Да и, духоборка устала — теперь она тяжело дышала и своей мокрой, покрасневшей рукой все чаще вытирала лоб или поправляла волосы. Но и эти простые, на первый взгляд такие обычные, движения дразнили и раздражали братьев.
— Да вышвырни ты вон этих поганцев, Дора! — кричала из соседней комнаты Агатия.
Но Дора все смеялась, смеялась и, как бы в полузабытьи, сама того не замечая, все сильней била мокрой тряпкой копошившихся у ее ног ребят — а те, оглушенные непрерывным, похожим на стон звуком шлепающейся тряпки, не отрывали глаз от ее голой руки. Именно в этот момент в комнату вошел Кайхосро. Рассеянно взглянув на него, мальчики вновь потянулись к развевающемуся подолу. Никто не заметил, как старик снял с себя ремень. Очнулись все лишь тогда, когда крепкая, тугая кожа, со свистом прорезав воздух, как кипятком ожгла барахтавшихся на полу мальчишек. На миг им показалось, что Дора действительно ошпарила их кипятком, — но лишь на один миг; в следующее же мгновение они, как сговорившись, разом поднялись на колени и изумленно, растерянно уставились на деда. Он опять огрел их ремнем, и они вскрикнули — опять вместе, словно и в этот раз условились крикнуть одновременно, если он ударит их еще раз. В тот же миг оба потянулись к свистящему ремню, сначала инстинктивно и беззлобно, как бы играя с дедом; но ремень по-прежнему со свистом разрезал воздух, и ослепленные болью, окончательно рассвирепевшие мальчишки теперь уж сознательно, рыча, воя, скрежеща зубами, со звериной смелостью и жестокостью тянулись к дедову ремню, верней, даже не к ремню, а к его рукам, — казалось, они тут же упадут замертво, если не доберутся до них, не откусят, не отгрызут их до локтей! Первой опомнилась Дора — растрепанная, как ведьма, она бросилась между дедом и внуками, и в тот же миг братья увидели, как ремень оставил на ее голой руке широкую красную полосу. Забившись в угол, они недобро сверкающими глазами глядели на деда, брюки которого без ремня сползли чуть ли не до колен, а обмякший ремень висел в руке, как мертвая змея. Незаметно вошедшая в комнату Бабуца сидела на тахте и, положив ладони на колени, молча плакала. В тот день пол так и остался невымытым. Побагровевшая, часто дышащая Дора опустила рукава, повязала голову косынкой и не оглядываясь ушла. Делать тут ей было больше нечего; она бессознательно, но честно выполнила то, что судьба поручила именно ей, — засвидетельствовать возмужание братьев.
Дора ушла, незабвенная и неоцененная, как всякий учитель азбуки, — и в доме Макабели надолго воцарились молчание и недоумение. Теперь в большой комнате, освещенной пузатой белой лампой, собирались исключительно взрослые. Книги были забыты, надо было решать судьбы детей — и споры о них продолжались до тех пор, пока огромные, как шкаф, часы не сообщали всем о том, что сегодня им ничего уже не успеть, что надо идти спать, а обсуждение судьбы и будущего детей перенести на завтра. Бабуца искренне удивлялась — она не могла понять, что именно так взволновало ее мужа и свекра, в чем ее сыновья так провинились, что дед «в собственном доме выпорол их ремнем, как невольников на стамбульском рынке!». После того дня слезы на ее глазах уже не просыхали. «Все равно как будто меня выпороли…» — несколько раз повторила она в присутствии Кайхосро; но тот и бровью не повел, даже из вежливости не извинился перед невесткой и все время твердил: «Когда ребенок плох, виноваты родители!»
— Извините! — всхлипывала Бабуца. — Моих детей никто еще, кроме вас, плохими не считает. Они просто смелые! Как мой отец…
Чем, в самом деле, могли удивить эти двое молокососов Бабуцу, отец которой, Луарсаб Микеладзе, был таким шумным, беспокойным человеком, что, когда он на день-другой уезжал из дому, мать Бабуцы повелевала мальчику-слуге стучать палкой по полу, чтоб у нее не болела голова от непривычной тишины…
— Покойному отцу вашему царство небесное! — шептал невестке Кайхосро (говорить громче он боялся, ибо был уверен, что мальчишки подслушивают). — Царство небесное… но я вам не о нем, а о своих внуках докладываю. То, что они вытворяли, это не смелость. Это разврат!
— Извините, сударь! — повышала голос Бабуца. Она сидела прямо, высоко вздернув брови и ухватившись рукой за запястье Агатии. — Разврат вы ищите среди своих! Мы свою кровь проливали лишь в защиту чести…
В такие минуты она выглядела настоящей княжной — ее несдержанность и ярость на мгновение придавали ей некое величие. В душе этой слабой, бледной женщины внезапно просыпалась вся гордость рода, столетиями привыкшего к конскому ржанию и звону мечей, — гордость, невольно заставлявшая всех глядеть на нее с восторгом и восхищением. В такие минуты и Петре и Кайхосро снисходительно поглядывали на Анну, как бы говоря ей: «Вот какой должна быть женщина!»
Но, так или иначе, несомненно было одно: перед семьей встал новый вопрос, слишком сложный и значительный, чтоб решать его с бухты-барахты. Было очевидно, что не сегодня-завтра детям нужно начинать какую-то новую жизнь, и помочь им в этом должна вся семья. Бабуца требовала отправить обоих в гимназию. Петре был согласен с женой, но лишь наполовину. Он считал, что братьев следует разлучить — один пусть едет в город учиться, а другой останется дома и займется хозяйством; оказавшись же в городе вместе, вдвоем, они наделают еще тысячу глупостей и бог весть когда образумятся. Для Кайхосро проблема учения была несущественна: поедут ли его внуки гоняться за городскими шлюхами или останутся копаться в саду и винограднике, наподобие Георги, его совершенно не интересовало. Он просто утверждал, что выпускать их из дому еще рано, советовал, просил считать их- еще маленькими, обращаться с ними как с детьми…
— Но когда-нибудь, отец, должны ж они вырасти! — разводил руками Петре.
— Когда придет время, папа! Не завтра ж еще мы отправляем их в Тбилиси… — уже спокойно, примирительно говорила ему Бабуца.
Мнения Анны никто не спрашивал, да и сама она в эти беседы не вмешивалась; голоса собравшихся здесь, в большой, освещенной пузатой лампой комнате, она слышала лишь одним ухом — другое было направлено во двор, в сторону хлева. Она сидела неподвижно, насторожившись всем существом, подобно травоядному животному, которое, пощипывая травку, услыхало вдруг какой-то чужой, непонятный, предвещающий опасность шорох.
О порке мальчиков узнала, разумеется, вся Уруки (не зря же Гарегин хвастался, что если у него в лавке топнуть ногой, то слышно будет и в Багдаде). Поэтому тишина, воцарившаяся в доме Макабели после этого события, мучила всех — все сгорали от любопытства узнать, что же все-таки происходит в стенах этого дома-крепости! Но когда оттуда донесся звук гармошки, люди пожали плечами, махнули рукой и всю эту историю временно забыли…
«Музыку» Кайхосро купил специально для мальчиков; он повесил ее на дверях уборной, и им было запрещено входить туда без нее, чтоб они ни секунды не могли «думать о всяких там штуках» и «не стали паскудничать». Мальчики, ежеминутно чувствовавшие на себе строгий, пристальный взгляд деда, вынуждены были это требование выполнять: «музыка» висела на дверях уборной, как гусеница на листе, и вскоре все привыкли и видеть, и слышать ее. Теперь, правда, ребята с каждым днем все больше замыкались в себе, стали меньше есть, меньше играть — зато они беспрекословно выполняли все требования и поручения взрослых, и установившиеся в семье порядок и дисциплина, приятно напоминавшие Кайхосро жизнь в казарме, понемногу его успокоили. Больше всего от «вразумления» братьев пострадала Аннета; теперь они с ней уже не дружили, да и вообще не замечали ее, если только она не вертелась у них под ногами нарочно. Постепенно и она отвыкла от братьев, стала даже немного побаиваться обоих вечно нахмуренных и молчаливых мальчиков, в присутствии других переговаривавшихся друг с другом только взглядами. Особенно страшно бывало Аннете по ночам, когда, оставшись вдвоем с Асклепиодотой, она слышала приглушенный шепот братьев, доносившийся из соседней комнаты и казавшийся поэтому еще таинственнее и тревожней, внушавший ей какие-то ужасные видения. О чем они шепчутся, Аннета, конечно, не знала; но она боялась этого загадочного шепота, от которого темнота дома в бесконечные деревенские ночи казалась ей еще безлюдней и страшнее. Крепко прижимая к груди свою единственную неразлучную подружку, она долго не могла уснуть, напуганная своими смутными, неопределенными детскими ощущениями. Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! — били огромные, как шкаф, часы, напоминая семье Макабели о течении времени: и их звук делал дремотную тишину темного дома еще глубже и напряженней.
В одну из таких ночей Аннета проснулась, как громом пораженная: испугавшись чего-то еще во сне и застыв, как Асклепиодота, она не могла понять, что с ней случилось, где она находится и во сне все это происходит или наяву. Весь дом, кроме ее комнаты, был залит ярким, как в новогоднюю ночь, светом. Стены гудели и тряслись, какие-то люди без конца бегали взад-вперед, «Скорей, скорей!» — громко кричала мать; и пугающе грохотал уроненный или брошенный кем-то на пол таз. Потом в комнату ворвалась Агатия — она зажгла лампу и, присев на постель к Аннете, стала так усердно и неловко ее успокаивать, что та испугалась еще больше и закричала. Потолок над головой раскрылся, показались звезды, стекло лампы с оглушительным треском лопнуло, освободившееся пламя поднялось выше человеческого роста… Аннета потеряла сознание. Придя в себя, она увидела мать и обрадовалась. Мать сидела у ее изголовья и беззвучно плакала. Заметив, что Аннета пришла в себя, она растерянно улыбнулась девочке, поправила ей одеяло, прижалась губами к ее щеке и, всхлипнув, сказала: «Не бойся — кажется, спаслись…»
Взрыв, сам по себе не такой уж сильный, имел, однако, последствия весьма прискорбные. Хуже всего было, конечно, то, что пострадали сами ребята. Оба они, правда, остались живы; но пережитые ими в ту ночь ужас, боль, сознание собственного бессилия, подобно невысказанной злобе, подобно невыпущенному гною, навсегда залегли в душах обоих — в душах, где мир еще не возник, где царили первозданный хаос и темнота. Ясное дело, они мстили деду, то есть хотели отомстить, и поэтому вздумали взорвать свинарник, в котором он ежегодно откармливал свою свинью, потирая руки от удовольствия, когда стенки клети угрожали вот-вот треснуть, не выдержать напора боков чудовищно раздавшегося животного. Кто знает, сколько ночей не спали выпоротые дедовым ремнем мальчишки, прежде чем их выбор остановился именно на свинарнике? Главным-то для них было не свинарник взорвать, а как-то выразить свое возмущение, показать старшим, что они не намерены молча подчиняться любому произволу и бить себя по голове не позволят никому! Взрывом этим они как бы только еще предупреждали старших, обещали им новые, еще более сильные взрывы. Так что вполне возможно, что они и случайно, лишь в темноте и спешке подсунули коробку с порохом именно к свинарнику, совсем забыв, что и там находится живое существо — глупая, но ни в чем не повинная, огромная, как бегемот, свинья. Главным для них был сам взрыв, сам гром взорвавшегося пороха, который хоть на миг оглушил бы дом, заставил бы всю деревню вскочить на ноги, взбудоражил и напугал бы всех: в действительности — то есть в воображении мальчиков — гром этот был бы их голосом, голосом выпоротых ремнем деда, голосом оскорбленных «музыкой»! Так это и должны были понять все прочие (так это, впрочем, все и поняли. «Это бунт — и, я бы сказал, кровавый…» — заметил на следующий день их деду отец Зосиме). Ибо не будь их или будь они другими людьми — тогда не было б и взрыва полуотсыревшего пороха, в конце концов, с четвертой попытки, все-таки грохнувшего, как оно и было задумано мальчишками, у которых, если б это понадобилось, хватило бы терпения не на четыре, а на сто четыре попытки. Они достали все: и порох, и керосин, и клубок шпагата, и спички; и в час, когда и природа и люди крепко спали, заговорили они — заговорили языком взорвавшегося пороха, которому они поручили громко крикнуть, что ни беспричинной порки, ни издевательства не простят, не оставят безнаказанными никому — ни деду, ни отцу небесному! В полночь они украдкой вынесли из спящего дома заранее припасенные под их постелями порох, керосин, шпагат и спички и, промелькнув в темноте словно привидения в белых рубашках, присели на корточки в конце двора, возле свинарника. Смоченный в керосине и привязанный к коробке с порохом шпагат поджигал Нико. «Давай скорей… керосин же сохнет!» — нетерпеливо шептал Александр; но спички в руках Нико ломались или без толку терлись о коробку. И все-таки ему трижды удавалось поджечь смоченный в керосине шпагат — и трижды братья, затаив дыхание от волнения, видели, как синеватое пламя, пританцовывая, словно дагестанский канатоходец, почти у самой цели гасло, шипя и распространяя в ночном воздухе запах паленой пеньки. Тогда-то взяли верх детское нетерпение и дурь, а может, и тщеславие, и Александр, выхватив из рук брата спички и залив коробку с порохом остатками керосина, бросил горящую спичку прямо в нее. Взрывная волна опрокинула и Нико, находившегося значительно дальше от места взрыва; переворачиваясь в воздухе, он успел все-таки заметить, как взлетели в небо расщепленные и загоревшиеся доски свиной клети и в ослепительном свете мелькнула похожая на заснеженный холм белая свинья Кайхосро. Ей не опалило ни шерстинки, но гром взрыва и непривычно яркий свет на миг вывели из постоянного оцепенения и ее, и она, в знак неудовольствия, коротко, злобно хрюкнула. А у Александра, с головы до ног залитого кровью, левая рука висела буквально на ниточке…
Руку ему отняли выше локтя, и, когда худой и бледный Александр вышел из больницы, Аннета с трудом его узнала, хоть ей и было известно, что теперь у него одна рука, — она никак не могла мысленно связать этого бледного, смущенного, как-то неприятно, пугающе сузившегося мальчика с тем Александром, которого она знала раньше. Он слегка, натянуто улыбнулся ей, словно ему трудно было шевелить губами, и, не сказав ни слова, сел в коляску. Все молчали: говорить не осмеливался никто. А ведь когда они ехали в больницу, Аннета воображала, что Александра, которого они так давно не видели, все встретят радостным шумом и сам он тоже крепко прижмет их к груди (единственной рукой?), расцелует их, обрадуется встрече с родными, по которым он, должно быть, так соскучился! Но ничего похожего не произошло — они просто сели в коляску и поехали домой. С одной стороны сидели Кайхосро, Нико и Аннета, с другой — Петре, Александр и Бабуца. Сидя между родителями, Александр казался совсем жалким, как бы не помещался между ними, не мог расправить плечи. Шестеро родных друг другу людей, плотно сжав губы, растерянно глядели друг на друга, а коляска медленно, легко катилась по дороге, покрытой белой, горячей от солнца пылью, и непрерывный, однообразный стук лошадиных копыт не нарушал царившего в коляске молчания, а делал его еще напряженней. Вдоль дороги, на изрезанных дождевыми канавками обрывах, переплетались друг с другом кусты шиповника, терна, ежевики, на колючих, слегка покачивавшихся ветках которых кое-где еще чернели запыленные, покрытые мелкими бородавками ягоды; порой проглядывали и красные цветки граната, и их отсветы на мгновение освежали лица сидевших в коляске. Дорога была усеяна выветрившимися, похожими на засохшую сдобу коровьими лепешками. Внезапно чирикал дрозд или начинал смеяться проказник скворец, и раскаленный воздух над плавно катившейся коляской ослепительно мерцал. Порой дорога вдруг обрывалась, и коляска тарахтела по усеянному галькой дну пересохшей реки; тогда сидевшие в ней еще тесней прижимались друг к другу. В высохшем русле реки лишь кое-где виднелись маленькие мутные лужицы, вокруг которых лежали огромные, грязные буйволы, с библейским спокойствием сторожившие эти жалкие остатки исчезнувшего до следующей весны потока. Потом вновь начиналась дорога, и коляска так же легко, так же плавно и бесшумно катилась по горячей, мягкой пыли, и вдоль дороги опять неспешно, убаюкивающе мелькали одинокие, как бы удивленные деревья и маленькие кладбища с замшелыми каменными плитами, козы с оттянутыми сосцами, почти вертикально стоявшие на крутых горных склонах, и валявшиеся под заборами свиньи, мальчишки, плескавшиеся в каменных бассейнах родников, и женщины в черном с кувшинами на плечах, подметенные и обрызганные водой дворы и балконы с точеными перилами, накрытая косынкой колыбель под деревьями и прижавший голову к стене осел с волочащимся по земле, словно пятая нога, срамом. А потом опять тянулись кусты терна, ежевики и шиповника; на хмурые лица сидящих в коляске опять ложились огневые отсветы цветков граната; и опять без конца пели кузнечики, и в коляску, как золотой камушек, врывалась блестящая, пушистая пчела.
На половине пути Кайхосро велел остановиться, и все, кроме Александра и Бабуцы, исчезли в роще за обочиной. Укрепив кнутовище в железной лунке на облучке, извозчик направился туда же, поправляя на ходу свой широкий ремень с таким видом, словно шел не по тому же делу. В сырой, тенистой прогалине Аннета увлеклась собиранием цветов, и, если б ее не окликнул отец, она вообще забыла бы о том, для чего вылезла из коляски.
— А тебе не хочется? — спросила Бабуца у Александра.
Голос матери его, казалось, смутил. Отрицательно мотнув головой, он тут же почувствовал, как у него жжет в паху и ноет отрезанная рука.
— Я тебе помогу… — не отставала Бабуца.
У Александра вытянулась челюсть, и он так свирепо взглянул на мать, что от страха та забилась в угол коляски.
Анна, Георга и Агатия ожидали их у ворот. Когда показалась коляска, Анна, не сумев сдержать себя, побежала навстречу — лошади с оскаленными зубами, с пеной на губах не растоптали ее лишь благодаря сноровке кучера. Александр выпрыгнул на ходу и, заплакав, упал в объятия растрепанной, потерявшей косынку Анны. Тогда уж и все сидевшие в коляске, не выдержав, дали волю обжигавшим их, но до сих пор кое-как, с трудом удержанным слезам. Так, обнимая друг друга, плача и смеясь, закрыла за собой в тот день свои тяжелые железные ворота семья Макабели.
7
Еще не очнувшись, он знал, что в комнате кто-то есть, чувствовал, что кто-то пристально на него смотрит. Он открыл глаза. В сводчатом окне стояла темнота, лишь слегка разбавленная синеватым светом. Где-то вдалеке тускло горела лампа с приспущенным фитилем. На табуретке в ногах кровати сидела незнакомая женщина; она показалась ему немолодой, хотя в действительности была всего лет на пять старше его самого. Он долго разглядывал ее черное платье без воротничка и манжет, вьющиеся, как куст, волосы, четырехугольное лицо и большие, мужские руки. Она потянулась — широко, по-мужски, раздвинув ноги и сильно, с удовольствием откинувшись назад; при этом ее грудь неприятно вздулась, а грубая ткань платья зашуршала, как бы засыпая все углубления тела песком.
— Я тоже, оказывается, вздремнула. Как ты себя чувствуешь? — спросила она, зевнув.
Александр невольно отвел глаза. Прислушавшись к чему-то, женщина улыбнулась и мгновенным движением руки прикрыла голову косынкой, лежавшей у нее на коленях, которой он до сих пор не замечал — она была одного цвета с платьем.
— Отец, значит, тоже проснулся… а я-то думала, еще ночь! — сказала она в воздух, как бы ни к кому не обращаясь, и опять взглянула на Александра. — Слышишь? — спросила она, снова к чему-то прислушиваясь.
Почти сейчас же и Александр услыхал далекий, глухой, слабый стук; он тут же понял, однако, что слышит его уже давно, из-за него, может быть, даже и проснулся, но лишь сейчас обратил на него внимание.
— Гроб делает. Тут у нас вчера умер один. У него, бедняги, в голове лягушка сидела… на стену лез! — Как-то странно, в нос засмеявшись, женщина прикрыла рот большой шершавой ладонью. — Тебе банку дать? — неожиданно спросила она.
У Александра кружилась голова… собственно, даже не кружилась, а как-то сворачивалась на сторону: его преследовал какой-то незнакомый, неприятный запах, и казалось, что голова уходит от него сама, без его участия. Бессильному, размякшему, как вымоченная вата, ему казалось, что весь он покрыт слизью. Его начало мутить, и он с ужасом ждал приступа тошноты.
— Пить хочется… — еле пискнул он.
Его рот тоже был полон слизи. Подставив руку под голову Александра, женщина другой рукой поднесла к его губам стакан с водой. Александр хотел взять стакан, но это ему почему-то не удалось. Его правая рука была привязана к кровати, а левая ему не подчинялась — она онемела, безмерно выросла, распухла и была начинена множеством мелких, но острых иголок. Он вроде бы и доносил ее до стакана, даже прикасался к нему, но не ощущал этого — стакан был сам по себе, а рука сама по себе. Стакан по-прежнему держала женщина: ее руку он видел, а свою нет.
— Рука… — удивился он.
— Это еще что… орать будешь! — предупредила женщина, гладя его по губам тыльной стороной своей шершавой кисти.
Потом началась боль. У нее были острые зубы, — хрипя, как пила, беспощадно грызя мясо и жилы, хватаясь за кость, искривляясь в спине, скрежеща, она упрямо рвалась вперед, к костному мозгу. Александр умирал и воскресал; он задыхался, как в дыму, он ничего не видел, кроме клубящегося черного дыма, изредка взрывавшегося красными пятнами, — тогда, лишенный опоры, опустошенный, он, затаив дыхание, медленно, с каким-то пугающим, подозрительным блаженством проваливался в бездонную яму, в гроб, полный прохладных, слизистых лягушек. Лягушки сидели и на его глазах — зрачками он чувствовал их прохладные животики! А потом вновь мерцала лампа, он вновь пропитывался запахом лекарств, вновь ощущал подступающую тошноту, вновь просил пить и старался несуществующей рукой взять стакан; и снова на табуретке потягивалось грубое, бесстыдное тело женщины, и он чувствовал на губах ее шершавую кожу, слышал глухой, слабый стук, от которого все его ослабевшее, задыхающееся тело съеживалось в предчувствии боли, извивавшейся где-то рядом с ним наподобие змеи. А потом он лежал с этой женщиной в постели, притихший, испуганный, счастливый…
— Чего ты плачешь? Ты ж мужчина… — говорила она.
Горячий, острый запах ее тела кружил голову Александру, и без того совсем ослабевшему, — и все-таки он тянулся к этому запаху, прятался в нем, как убежавший от опасности зверь в брошенной норе, о существовании которой он вспомнил лишь сейчас, спасаясь от преследования.
— Оба мы уроды, — говорила ему женщина. — Повенчаемся вот с тобой… осчастливим друг друга!
— Да, да, да… — бесконечно, бессмысленно, горячо бормотал он, чувствуя лишь одну потребность — чтобы все это продолжалось еще и еще, чтоб она не уходила.
Женщину звали Маро: вместе со своим отцом она жила тут же, в монастыре. Отец ее был монастырским сторожем, а владея столярным ремеслом, заодно сколачивал стулья и полки, иногда и гробы — в случае, если в монастыре умирал кто-либо из бездомных. Мать Маро умерла рано; Маро ее толком и не помнила, но часто упоминала, сопровождая каждое такое упоминание ругательствами и проклятиями. Маро была хрома от рождения: ее мать во время беременности упала, но самой себе ничего не повредила и тут же быстро вскочила на ноги; а вот Маро она искалечила на всю жизнь — у Маро в материнской утробе сломалась ножка. С тех самых пор она и оплакивает свою горькую долю — раз одна нога у нее короче другой, то и ее черные глаза, и густые кудрявые волосы никого, ясное дело, не привлекают! Ей было пятнадцать лет, когда ее изнасиловал могильщик Ягор. Глупая она тогда была — любила бродить по кладбищу и горько причитать над чьей-нибудь могилой, как это делали взрослые женщины. Ягора она знала давно — он всегда неожиданно появлялся то там, то тут с заступом на плечах. «Каково было бы всем этим беспризорным мертвецам без тебя!»— дразнил он Маро, весело скаля свои гнилые черные зубы. У него были огненно-рыжие волосы, на его плечах и лопатках тоже пушилась рыжая шерсть (и летом и зимой он ходил голым по пояс). Маро не боялась Ягора — с какой стати она стала бы его бояться? Он рыл могилы, она причитала над мертвыми — они давно привыкли друг к другу. И все-таки в тот день у нее душа ушла в пятки. Ягор стоял на дне свежевырытой могилы, и Маро его не сразу заметила. «Бах!» — крикнул он, и его рыжая голова высунулась из ямы так неожиданно, словно из-под земли вырвалось пламя. «Чума тебе в глотку… как ты меня напугал!» — как взрослая, выругалась она. «Спускайся сюда, я тебе кое-что покажу…» — сказал Ягор. «Что ты можешь мне показать?» — заинтересовалась Маро. «Спустишься, увидишь!» — пообещал Ягор. Вот она и спустилась… Руки Ягора были горячи и пахли землей. Маро было неудобно лежать, у нее заболела шея. «Слово хоть кому скажешь — заживо схороню!» — пригрозил ей Ягор. «Не понимаю, как мертвец такую тесноту выносит…»— удивилась она. Ягор засмеялся и, ухватив Маро под мышки, помог ей выбраться из могилы. Настоящий страх пришел к ней потом, во сне — ей снилось, что Ягор, связав ей ноги веревкой, тащит ее в могилу. Маро пыталась кричать, но ее рот был зажат горячей, пахнущей землей рукой Ягора, и она задыхалась. Чуть свет она побежала на кладбище — живой Ягор был все-таки лучше приснившегося. Теперь она уже не оплакивала беспризорных мертвецов, а забравшись на чей-нибудь могильный камень, тихо и покорно ждала, не зная, с какой стороны высунется из земли огненнорыжая голова Ягора. А потом он вдруг пропал — как в воду канул! Целый год она зря ходила на кладбище — люди умирали по-прежнему, их по-прежнему хоронили; но теперь хоронили их другие могильщики, а Ягора среди них не было. «Да ну его к лешему!» — одинаково отзывались о нем все. Потом они с отцом переселились в этот монастырь; и, когда монастырь преобразовали в лазарет, она успокоилась. Ей было уже не до Ягора — теперь она целыми ночами ухаживала то за одним, то за другим больным; и это ей так нравилось, что она могла бы не спать хоть целый месяц. С больными она не чувствовала себя ни отверженной, ни униженной. «Сестрица, сестрица!» — звали ее со всех сторон обожженные огнем, продырявленные пулей, изрубленные топором мужчины; и она без отвращения смывала их гной, желчь, запекшуюся кровь, выносила их горшки, ела остатки их пищи и была счастлива тем, что на свете есть люди еще несчастнее ее. То, чему ее научил Ягор, эти люди умели делать тоже, — сгорая в жару лихорадки, мыча от боли, они укладывали ее в свои постели, исступленно целовали ее, лизали ее руки, хвалили и прославляли ее, а потом покорно и безмятежно, как дети, засыпали у нее на груди, на время позабыв свою боль, на время выздоровев. Один из них так и умер в ее объятиях; прохрипев «спасибо тебе, сестра…», он испустил дух, и ее застали в постели с мертвым; она не решилась уйти от него, пока он не остыл окончательно. А потом собственный отец, заманив ее в подвал, где он мастерил гробы, погнался за ней с молотком в руках. Она была хромой, но так ловко перепрыгивала через гробы, что ей самой стало смешно: казалось, отец играл с ней в пятнашки. Наконец старик устал, отчаявшись швырнул в нее молотком и, сев на первый попавшийся гроб, заплакал. «Ты у меня одна, сама знаешь, — бормотал он, всхлипывая как ребенок, — зачем же ты меня убиваешь, зачем ты меня позоришь?» — «А зачем я хромой родилась?» — насмешливо торжествовала Маро. Ей казалось, что отец прикидывается и плачет лишь для того, чтоб приманить ее. Поняв, что он не придуряется, она, сама не зная почему, вдруг разъярилась, рассвирепела и так сильно толкнула хнычущего старика, что тот свалился в открытый гроб. Она сама удивилась своему поступку, хоть и чувствовала, что без этого задохнулась бы от ярости, — сделав же это, она быстро успокоилась, помогла дрыгавшему ногами отцу вылезть из гроба и, что-то напевая, ушла, заковыляла по лестнице подвала. После этого отец оставил ее в покое, поняв, видимо, что она только для могильных ям да постелей больных и годится. Родившись хромой, она с самого начала была отверженной в мире здоровых, нормальных, у которых ее вид неизменно вызывал самый веселый смех и шутки. «Ну подскочи, подскочи еще разок!» — кричали ей бездельники-мальчишки каждый раз, когда она шла по улице; и она, гордо, лучезарно улыбаясь, хромала еще сильней, возбужденная сознанием собственного уродства и ненависти всех окружающих.
Обо всем этом Александр узнавал в постели, в бесконечные бессонные ночи, освященные болью и близостью женщины, в келье, пропитанной запахом лекарств и чадящей лампы, среди голых, выбеленных известью стен. В эти ночи, оторванный от отца и матери, брата и сестры, замотанный зловонными бинтами, в объятиях чужой женщины, он рождался вторично — уже не младенцем, а взрослым мужчиной…
— Я тебя не брошу… я ничего не стыжусь, — шептал он изменившимся голосом, сам тронутый собственными словами — первыми в его жизни словами мужчины.
— Бросишь… чтоб мне с места не сойти! — перебивала женщина, шершавой рукой прикрывая ему рот. — Знаешь, на кого ты похож? — спрашивала она его чуть погодя. — На червя! Вот если б тебе и вторую руку отнять — совсем червячок был бы…
Потом Александра увезли. Провожать его Маро не вышла: на его отъезд она глядела из узкого сводчатого окна. «Куда ты, мальчик… что у тебя с ними общего?» — мысленно шептала она. Оглянувшись, он обвел глазами ряд одинаковых монастырских окон, зная, что через одно из них на него сейчас глядит Маро. «Хи-хи!» — усмехнулась она про себя, состроив ему гримасу. Она была довольна тем, что Александр ее не обнаружил. Он же всю дорогу думал только о ней, явственно ощущал ее запах; притулившись в тесноте между матерью и отцом, он чувствовал, как в нем постепенно разгорается желание. Люди, сидевшие в коляске, были ему уже совсем чужими. Он, разумеется, помнил их, знал, кем кто из них ему доводится, но и только; в душе он не чувствовал к ним уже ничего. Обнаружив это, он не был взволнован. Сейчас он думал только о своей жизни в келье, о жизни, для его родных как бы и не существовавшей, — их-то ведь ничто не связывало с узким сводчатым окном, с чадящей лампой, с грубой железной кроватью, с этим ложем боли и смерти, на котором все равны в своих мучениях и обреченности, с ложем, на котором человек никогда не излечивается, а или рождается заново, и совсем другим, совсем непохожим на то, чем он был прежде, или умирает. Ничто не связывало их и с топорной, плохо обструганной табуреткой, сделанной, вероятно, руками отца Маро, табуреткой, на которой сидела Маро — грубая, неприглядная, бесцеремонная, неутомимая, всепонимающая, не сестра, а жена милосердия для всех мучеников и калек, мученица и калека сама! Монастырскую келью Александр вспоминал сейчас так, как человек на чужбине вспоминает родной дом — единственное место, которое забыть нельзя и в которое он, если ему не помешает судьба, когда-нибудь непременно вернется. Лошади вздымали пыль, коляска спокойно, навевая дрему, покачивалась на рессорах; но Александр твердо знал, что непременно вернется туда, в монастырь, окруженный чахлыми кипарисами, и вновь глубоко, жадно вдохнет запах лекарств, гнили, керосинового угара, закрыв глаза и затаив дыхание, прислушается к далекому стуку молотка, своей единственной рукой изо всех сил прижмет к себе грубое, топорное тело Маро, из которого с болью и облегчением, с мукой и блаженством вышел он, новый Александр — Александр однорукий, а для своих родных чужой и загадочный. Если он действительно, как все они твердят, родился под счастливой звездой (оторвало-то ему только руку, а не голову), то эта счастливая звезда, звезда его счастья светит ему лишь там, над чахлыми кипарисами, в зловонных коридорах, в узких сводчатых окнах, в стекле чадящей лампы, в темном сыром подвале, где старик, присев на сколоченный для нищего мертвеца гроб, плачет о собственном бессилии и хромоте единственной дочери! Его место там, а не тут, среди людей наивных, трусливых, которым его непонятное, ничем не оправданное уродство сразу бросается в глаза и которые, сколько бы ни притворялись, никогда не привыкнут к нему по-настоящему. Поэтому-то они и говорят столько глупостей; поэтому-то они и готовы верить какой-то бодбисхевской гадалке, язвительно пошутившей о нем на днях. «Ничего, — якобы сказала она, — он еще маленький, у него еще все вырастет!» Они готовы обшарить и переворошить все чужие несчастья, только б отвести глаза от того, что у них под носом, от того, что касается их самих. Ибо хотят они этого или нет, он — их собственная плоть и кровь, носитель их имени; а значит, его уродство — это их уродство. Это-то их и смущает, это их и пугает, это их и заставляет притворяться, насильно дурачить себя, верить в любую чушь, которая ему не поможет нисколько, но их-то успокоит, им-то позволит на что-то надеяться… хоть на день-два, пока не появится какая-нибудь новая глупость, какое-нибудь новое чудо. А хватаются они за все эти глупости, потому что действительность им невыгодна! Они пронюхали, скажем, что у Нато, прозванной в деревне Губошлепкой, родился шестипалый ребенок и что доктор Джандиери привел его в норму, — но что четырехпалому ребенку пятого пальца и господь бог не прибавит, это им даже в голову не придет. Они радуются тому, что к глухому Кола в сорок лет вдруг вернулся слух, но что этот глухой Кола не то что уши себе почистить, но и просто лицо вымыть боится как огня и что тот же доктор Джандиери выскоблил у него из ушей целый таз грязи и гноя, — об этом они помалкивают! Они пронюхали даже о том, что нищий Иосеб, сейчас уже дряхлый, впервые заговорил, оказывается, в пятнадцать лет, на поминках своего деда, — и это-де так поразило всех присутствовавших, что они тут же вскочили из-за стола и с крестом и песнопениями двинулись в церковь. Да, верно, так оно все и было, Иосеб этого не отрицает, но дайте ему пятак, и он подробно, с начала до конца расскажет вам, почему он пятнадцать лет был немым и что заставило его вдруг заговорить! Найти Иосеба нетрудно, он целый день торчит перед лавкой Гарегина, но ведь на то, чтоб узнать правду, им и пятака жаль. Ибо правда эта смехотворна и их не устраивает, чудо куда добрей: оно позволяет надеяться и, опьянев как от вина, нести всякую чушь! Пусть болтают себе на здоровье, пока не надоест, но при чем тут он? Ему нечего скрывать и незачем придуриваться. Он — калека, вот и все; он знает, что он калека, и в этом вся его сила — из-за этого-то они и стараются не глядеть ему в глаза. Они его не жалеют (почему, собственно, они его должны жалеть?), а боятся, потому что он выделен, отличен от них! Его мать два дня приводили в чувство с помощью нашатыря после того, как он, потеряв терпение, разодрал на себе рубашку и помахал у нее перед носом своей культей. А что она себе, собственно, думала? Что у него действительно вырастет новая рука? Или что из пустого рукава вылетит птичка? После этого, правда, мать уж ни бодбисхевскую гадалку не поминает, ни в его комнату не заглядывает, а когда он, запершись в хлеву, купается, не только потереть ему спину, как раньше, не предлагает, но и близко к двери подойти боится. Да, теперь его боятся, а он лишь посмеивается про себя и, грешным делом, доволен своей судьбой. Он не в небе витает, как Нико, — он по горло стоит в дерьме; он не за юбку матери цепляется — он весь пропитан запахом Маро; он не стишки, как Нико, пишет о том, что святой Георгий освободит-де их родину от дракона, — он мечтает лишь о том дне, когда вернется к плаксивому гробовщику, чтоб отобрать у него единственную дочь. А если старый хрыч заартачится, он его живым в гроб забьет… в сколоченный им же самим гроб! Ибо хромая Маро родила нового, однорукого Александра, и родила его для себя… своей хромой ногой она обвела границы его нового мира, подготовила для него мир, в котором будет проливаться его пот и его семя! Вся его предшествующая жизнь была лишь пустой тратой времени, была несуществующей, выдуманной, и любое воспоминание о ней если не гибельно, то во всяком уж случае совершенно бесполезно. Ибо тот, прежний Александр и Александр нынешний — два человека совершенно разных. Тот был выдуман, а этот настоящий; у того было две руки, и он не знал, куда их деть, а у этого одна, но он знает, как много можно сделать и ею, если ее как следует выдрессировать, как разбойник дрессирует свою лошадь, пастух — овчарку, а рыночный фокусник — обезьяну! Для этого же главное — не попасться на удочку, не дать одурачить себя отзывчивостью и добротой родных, с самого начала намертво усвоить, что их помощь ему не полезна, а гибельна, что, хлебнув хоть раз с ложки, протянутой ему чужой рукой, он пропадет, станет навек зависим от других, вновь уподобится им, вернется туда, откуда его раз навсегда выбросил взорвавшийся порох. Он обязан жить жизнью однорукого, выучиться этой жизни как можно скорей — и он помрет, а выучится, помрет, а выдрессирует свою единственную руку по-своему! Он с самого начала уничтожит в ней всякую надежду на чужую помощь; он сделает ее грубой, сильной, хитрой… Пусть сейчас она все еще тоскует по сестре, помнит ее надежное прикосновение, тепло, мягкость… пусть она помнит время, проведенное вместе с ней, их бессмысленную, безмятежную возню и кувыркание вдвоем; пусть она еще капризничает, еще неуклюжа и слаба, без конца что-нибудь роняет — он обучит ее жить без сестры, непременно обучит. Она потеряла сестру — но и сам он ведь потерял брата… и для него самого брат стал таким же несущественным и бесполезным, как для его единственной руки культя потерянной — маленький, похожий на завязанный мешочек обрубок, возбуждающий у людей лишь жалость пополам с отвращением! Смутно помня, что и когда полагается делать руке, культя эта и сейчас еще пытается повторять движения своего спасшегося близнеца… пытается, но не может — руки уж нет, обрубок упирается в голую, бестелесную, ничем не заполнимую пустоту. Единственный путь — приспособиться; все остальное придет само собой. Горе тем, кто наивно верит; горе тем, кому и пятака жаль, чтоб узнать правду! Для них, впрочем, правда пятака и стоит — потому что она им не нужна. Зато ложь для них волшебное лекарство — смажь только глаза и такого насмотришься, что просыпаться не захочется! Поэтому-то ложь и обходится дороже: за нее платят сорокалетней глухотой, пятнадцатилетней немотой! Всякая правда проста, гола, элементарна: что есть, то есть, ни больше ни меньше, ни отнять ни прибавить. Правда примитивна, как подкова, и, как подкова, всегда полезна — просто ею, как подковой, нужно уметь пользоваться. Прибив подкову коню на лоб, его лишь искалечишь и сведешь с ума, а на копыте она необходима и помогает коню скакать. «Чтобы перекреститься, достаточно и одной руки», — сказал отец Зосиме; и это сущая правда. И чтоб расстегнуть брюки, одной руки тоже достаточно, но пусть не воображают, что он спасся лишь для того, чтоб всю жизнь креститься и теребить пуговицы брюк. Он потерял руку, верно, но от этого ни его аппетиты, ни его способности меньше, чем у других, не стали. Да ему полагается больше, чем другим: во всей своей семье он один чист и свободен! Свое преступление он уже совершил и сполна за него расплатился, все, что должен был потерять, потерял — и доволен оставшимся. А они, сколько б ни болтали, ни цены настоящей боли, ни собственного уродства уразуметь не могут! Поэтому-то они и не понимают в жизни ни хрена, по-этому-то дерьмо кажется им цветочками… в дерьме-то они ведь цветочков и ищут! Все они поэты, вроде Нико, — и все, как Нико, лишь сами себя обманывают. Но они возятся и с чужой болью и уродством — напоказ богу, чтоб обмануть и бога! Вот-де какие мы добрые, вот как нас мучит чужая беда — пощади же хоть наг, нас хоть не истерзай болью, нас хоть не искалечь… Нет, так дело не пойдет! Он позаботится о себе сам: а они пускай спасаются от грехов как-нибудь иначе! Святой он, что ли, чтоб забота о нем зачлась им в благость и милосердие? Бог изуродовал его не для того, чтоб он стал развлечением для других, не для того, чтоб другие играли его искалеченным телом, как Аннета своей Асклепиодотой, нет, — а чтоб выделить его среди других, чтоб его глаза раскрылись на мир раньше, чем у других! Уродство для него — то же самое, что для Нико его образование. То, для обретения чего Нико должен потратить годы, и еще неизвестно, обретет ли, он обрел за одну ночь из крови и боли — да, не из книг, а из собственной крови и боли, как воин у стен взятого штурмом города свой горячий суп! Трудно сказать, обретет ли это когда-нибудь и Нико с помощью книг и глупеньких, как их мать, девчонок-гимназисток. Бог с ним, впрочем, — Александра это не касается. После той ночи Нико значит для него не больше, чем для его правой руки остаток левой, — не меньше, но и не больше. «Прости меня…» — сказал ему Нико накануне своего отъезда в город. За что? Что он может прощать или не прощать Нико? И кто поручал ему прощать брата? Прощает, судит и отпускает другой — тот и для Нико, и для него един, тот лучше знает, кто в чем виноват и какой кары заслуживает. Слова Нико его не рассердили, но удивили — его самого брат не интересовал уже нисколько. Так он тогда и ответил: «Зачем тебе мое прощение? Пусть уж лучше он тебя простит» — и его единственная рука указала на небо. Слава богу, его никому другому ни прощать, ни упрекать, ни порицать не за что, но и сам он ни прощать ближнего, ни позволять ближнему прощать себя не намерен. Ибо позволить простить себя — значит признать собственную слабость; а прощают, только чтоб утвердить свое превосходство. Никому на этом свете никто ничего не дает даром, но силен не тот, кто дает, а тот, кто не принимает! И он не примет от своих ничего, вот поэтому-то все они такие несчастные, поэтому-то они глядят на него так испуганно. Попробовал бы он подпустить их к себе поближе! Да они с удовольствием сто раз на дню раздели и одели б его, как Аннета свою Асклепиодоту… они были б рады его, как младенца, на горшок сажать, и ногти ему стричь, и спину чесать — уж тогда-то б им не понадобилось ни нашатыря, ни тряпку с уксусом ко лбу прикладывать! Ухаживающий всегда больше и сильней того, за кем он ухаживает, отчего ж его голове болеть или сердцу печалиться? Ха-ха-ха, нет, это у вас не выйдет! Я сам по себе, вы сами по себе — вот самое справедливое, самое верное; я один, вас много — вот самый справедливый счет, но посмотрим еще, кто кого в бараний рог скрутит! Это они пускай вдолбят себе в голову раз навсегда… пусть они, если это не слишком больно, напрягут мозги и поймут: его надо опасаться! Он у них ничего не просит, но ничего своего уступать не собирается — и все, что ему положено, получит, даже если поперек его пути весь мир встанет! Бог справедлив — Александр провинился, за это он наказан, и с богом они квиты. А никому другому до его жизни и воспитания дела нет. Пусть они за Нико смотрят, пусть Нико покровительствуют, пусть на Нико свою доброту и отзывчивость испытывают, — Нико еще их, он еще не видел бога. А Александр бога видел, Александр его даже познал! Бог — это боль и сознание собственного уродства. «Впредь будешь поразумней…» — сказал бог Александру, гладя его по губам своей шершавой рукой; и они медленно, постепенно растворились, затерялись друг в друге. А стишками своими Нико пусть гимназисток дурачит! Вздымет, дескать, копье святой Георгий… Интересно, он нашего Георгу, что ли, подразумевает? Да… если святой Георгий такой же храбрец, как его тезка, то копья своего он не вздымет еще очень долго! К нашей-то семье Георга подходит больше. Насчет дракона это дело, конечно, темное, а вот собаки всей деревни действительно лают вовсю, когда он вечером, возвращаясь с виноградника, трусит на своем осле, с заступом на плечах…
Собравшись при свете пузатой белой лампы, Мака-бели на все лады кроили и перешивали, украшали и прихорашивали будущее своих детей. Сами «дети» в этих разговорах не участвовали — Нико читал книгу, Аннета о чем-то шепталась со своей Асклепиодотой, а Александр не мигая глядел на лампу, и перед его глазами вставала монастырская келья — он думал о Маро, мечтал о ней, чувствовал ее запах, вспоминал прикосновение ее шершавых рук и приходил в себя лишь тогда, когда лампа, затрещав, заставляла вздрогнуть протянувшиеся по столу тени. Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! — просыпались вдруг огромные, как шкаф, часы; и, услыхав этот звук, Петре вынимал из узкого жилетного кармана свои часы на тяжелой серебряной цепочке, открывал крышку с монограммой и взглядывал на циферблат, как бы не доверяя тем, огромным, как шкаф. «Поздновато уже!» — говорил он и шел спать.
— Время проходит, а мы опять ничего решить не можем… — сокрушалась Бабуца.
Тотчас же вскакивала и Агатия; подхватив на руки Аннету вместе с ее Асклепиодотой, она уносила их, несмотря на все протесты девочки, не хотевшей уходить, — ведь ни Нико, ни Александр спать еще не ложились! «Какое тебе до них дело? Они ведь уже мужчины!» — твердила она Анкете.
— Мужчины, мужчины… — сердито бубнил Кайхосро. — Вот до чего их ваши дурацкие разговоры довели…
Так повторялось почти каждый вечер, и никто не чувствовал, как однообразно, скучно, бессмысленно течет их жизнь. Хотя нет — и Нико, и Александр это чувствовали. Нико не сиделось дома: мысленно считая себя уже гимназистом, он отсчитывал дни; оставалось лишь надеть фуражку, и он никак не мог этого дождаться. А Александр думал о женщине, думал упрямо и зло, как самолюбивый человек о выплате долга. «Не говори глупостей!» — без конца звучали в его ушах слова этой женщины; и ему не терпелось доказать ей, что ни то, что он делал, ни то, что он говорил, ничего ребячьего в себе не заключало. Это, вероятно, тоже способствовало его раннему возмужанию. Со строгостью спартанского наставника он воспитывал в себе нового человека — и вскоре уже одной рукой и лошадь запрягал, и дрова рубил, и заступом работал попроворней Георги; а коробку спичек он открывал так быстро и, достав из нее спичку, закуривал так ловко, что все просто поражались. Лишь изумление спасло Бабуцу от обморока, когда она впервые в жизни увидела, как из человеческого рта и носа валит дым. Сперва она решила, что это происходит от печали — сердце горит, а дым выходит наружу; и лишь когда ее свекор тоже зажег папиросу и, прослезившись и закашлявшись, сказал, что это ему «хорошую жизнь напомнило», она несколько успокоилась, хотя какая может быть связь между идущим изо рта дымом и «хорошей жизнью», так и не уразумела. А Александр этим дымом, горьким дымом папиросы, боролся с собственным детством, душил последние остатки детства, которые в нем еще были. Он боролся, мучился — и, как застрявшая в меду муха, упрямо полз вперед. В этой борьбе Нико ему только мешал: своей застенчивой улыбкой, своими встревоженными, смущенными глазами брат до самого своего отъезда в Тбилиси невольно напоминал Александру детство. «Ладно… Поезжай уж гимназисток своих охмурять, пока ты такой хорошенький…» — мысленно ворчал Александр. Когда же день отъезда Нико наконец наступил, братья простились так холодно, словно встретились в этом доме случайно и лишь вежливость побуждала их замечать и терпеть друг друга.
— Будь здоров, Александр! — сказал Нико.
— Ладно, ладно… — пробурчал Александр и сейчас же повернулся к отцу: — Агроном еще проволоки требует! Той, что ему выдали, на два ряда еле хватит.
— Если требует — дай. Без меня ты этого сделать не можешь? — развел руками Петре.
— Могу, почему ж нет… но, по-моему, об этом и тебе знать следует, — сказал Александр, ставя на стол рюмку с мятной настойкой.
На столе стояло еще три таких же рюмки, все три полные, непригубленные. Около хрустального графина лежали тяжелые серебряные ножи. На тарелке валялись свернувшиеся очистки яблока. Нико еще вертелся на веранде и, прослезившись, прощался с родными местами, когда Александр уже шагал в лавку, чтоб вовремя выдать выписанному из города агроному проволоку для подвязки виноградника.
Отъезд Нико заставил всех забыть о несчастье Александра. Теперь все разговоры были только о Нико: как он там устроится, кто ему будет готовить, сумеет ли он ухаживать за собой сам. Не успела еще пролетка, увезшая Нико, по-настоящему скрыться из виду, как Бабуца уже уселась писать ему. «Все мы тут тебя любим. Александр очень огорчен. Кто может быть ему ближе тебя?» — скрипела она пером по размокшей от слез бумаге.
— Когда человек отрывается от семьи, его песенка спета. Кто знает, с кем он в этом проклятом городе свяжется? — ядовито шипел Кайхосро специально в пику Бабуце. — Сейчас-то уж о чем говорить? Надо было дать ему вырасти, вот тогда и отпускать из дому…
— Ну ладно уж, отец… Сколько ж, по-твоему, нужно было еще ждать? Не навек же он к материнской юбке пришит! — вяло возражал ему Петре.
Но Кайхосро мучило другое, его боль была другой. Он злобствовал так, словно его обокрали, лишили накопленных на черный день сбережений, а сейчас, пока он тут бессильно бесится, грабители равнодушно, без счета тратят эти деньги в компании городских бездельников и шлюх.
— Да ну тебя! Вот ведь как жена человека переманить может! — не щадил и сына Кайхосро.
Александр стоял в стороне и, глядя на родных, внутренне усмехался.
Нико приезжал в деревню на каникулы, и каждый его приезд давал Бабуце новый повод для забот и тревоги: каждый раз сын казался ей все более худым и бледным. Теперь все ее разговоры сводились к одному — не голодает ли Нико, не чересчур ли он устает? Не болезнь ли у него какая?
— Нежен он, избалован очень… — говорил Александр. — Пускай хоть разок виноградник вскопает — мигом разрумянится! Вот увидишь…
— Сын принадлежит матери до тех пор лишь, пока от него чужой женщиной не запахнет… — Подливал масла в огонь Кайхосро.
Эти разговоры сына и свекра вызывали у Бабуцы растерянность и раздражение. Она не могла понять, что они имеют против Нико, почему до самого конца каникул оба они так напряжены и поминутно огрызаются.
— Если б не ты, я сюда вообще не приезжал бы! — говорил Нико Бабуце.
Запершись в своей комнате, Бабуца всхлипывала и таяла как свеча. Она ничего не понимала в собственной семье и с недоумением глядела на ненависть мужчин к родному брату и внуку — лишь плакать ей и оставалось. За ее бесконечными слезами каникулы Нико незаметно подходили к концу; опоминалась она лишь тогда, когда он опять уже был в Тбилиси. Тогда она снова проводила бесконечные деревенские ночи в жаркой молитве, а рано утром, немытая, нечесаная, в ночной рубашке, уже скрипела пером, обманывая и себя и сына. «Все мы тут тебя любим, о тебе только и думаем; без тебя нам так трудно! Уж лучше б ты остался без образования…»
И во время каникул Нико с Александром встречались редко. Для одного из них лето было временем отдыха, для другого — временем изнурительного труда. Александр выходил из дому до рассвета, а вернувшись поздней ночью, наполнял весь дом запахом пота, земли и купороса. Нико же большую часть дня рылся в библиотеке Бабуцы; чтоб ублажить ее, он, морщась, пил пенистое парное молоко, а потом, словно заключенный, слонялся по прохладным полутемным комнатам, не зная, чем еще заняться. Гулять он ходил тоже лишь для успокоения матери, настойчиво требовавшей, чтоб он не сидел дома, бросил свои книги, хоть немного загорел на свежем воздухе. Стесняясь односельчан, работавших в то время, когда он отдыхал, Нико уходил подальше от Уруки и, улегшись в выгоревшую от солнца траву, подолгу глядел в небо; и там, в небе, ему вновь виделись серое здание гимназии, торопливые преподаватели в черных сюртуках, девушки в белых передниках, с гладко зачесанными волосами и пальчиками в чернильных кляксах, небрежно перелистывающие книги и с притворным хладнокровием отворачивающиеся от упрямо глядящих на них гимназистов с блестящими от слюны чубами. Гимназисты эти часто собирались в комнате Нико, бестолково, как птицы, рассевшись на кровати, на столе, на подоконнике и задыхаясь от табачного дыма, они без конца спорили о любви, о женщинах, о свободе — спорили до тех пор, пока в дверь не стучала госпожа Джуфана, квартирохозяйка Нико и мать двух дочерей. «Окно хоть откройте — задохнетесь ведь…» — говорила она. Нико отчетливо видел и вытянутые лица девушек, прячущихся за материнской спиной и сгорающих от любопытства узнать, что же все-таки происходит в комнате, битком набитой мальчишками. Отгородившись от них спиной матери и опершись подбородком на оба ее плеча, Нино и Кетеван украдкой заглядывали в комнату, и их таинственная женская суть, еще не вполне проснувшаяся, еще не осознавшая своей сокрушительной, всезатопляющей силы, как река, рассеченная надвое каменной глыбой, с обескураживающей беспечностью текла в комнату, полную табачного дыма и проглотивших языки ребят. «Все вы очень хорошие мальчики, но как мне убедить людей, что в доме, где две девушки на выданье и ежедневно собирается столько молодых людей, все в наилучшем порядке?» — говорила госпожа Джуфана, не догадываясь, что этим-то она и побуждает ребят глядеть на ее дочерей «иными глазами». (А может, она это и понимала и делала все нарочно, как бы намекая им: если, мол, кому вздумается, пожалуйста; но только чтоб все было как полагается, с соблюдением всех необходимых норм и приличий.) Один Нико знал, какая строгая блюстительница нравов госпожа Джуфана! Не проходило и недели без очередного скандала между матерью и дочерьми — скандала с ее обмороком, судорожными поисками пузырька с нашатырем, почему-то никогда не находившегося на своем законном месте, и жалобным всхлипыванием обеих девушек.
— У женщины должна быть своя семья. Три женщины в одной семье — это несчастье! В какой-то стране — я читала, не помню только где, — изображение трех женщин означает государственный переворот, — жаловалась Нико госпожа Джуфана, сидя в кресле и уже очнувшись от обморока благодаря нашатырю и пощечинам дочерей — средствам лечебным, разумеется, и все же довольно основательным…
Нико они воспринимали как члена семьи, и он тщательно хранил ее тайны, никому не рассказывал о том, как может при случае рассвирепеть эта постоянно улыбающаяся, всегда аккуратно напудренная и надушенная дама — да и обе ее девочки с робко опущенными головками тоже. Лежа в траве, оцепенело глядя в небо, Нико с грустью чувствовал, как близки стали ему эти люди, как его мучит желание поскорей увидать их и опять вдохнуть раскаленный воздух Тбилиси, остановиться на минутку перед храмом Кашвети, взглянуть на город с высот Мтацминды, пройтись по Ишачьему мостику, вечно унизанному голыми телами мальчишек, проводить взглядом того из них, кто как раз в этот миг, прыгнув вниз, пронесется в воздухе, как огненная комета, прежде чем исчезнуть под недобро бурлящей поверхностью Куры, — пронесется, даря зрителю ощущение мгновенного, труднообъяснимого счастья, вызванного, вероятно, безупречной красотой и детской смелостью ныряльщика. Лежа в траве, истоптанной горячими ступнями солнца, Нико глядел в полное воспоминаний небо так, словно в его душу влилась вся печаль мира. Он чувствовал себя существом слабым, незначительным, навек всеми покинутым, навек затерянным в шорохе, писке, жужжании жуков и стрекоз, в вечном лете, в пространстве, ограниченном лишь дымно-серыми пятнами виноградников, на земле, смоченной потом его деда, отца и брата, — на земле, для которой чужим, лишним был один он, наглотавшийся городской пыли, ни разу не заглянувший в темные, потные складки этой земли, знавший о ней лишь то, что можно выклевать из книг! Да, тут он был и чужим, и лишним. Завидев его, крестьяне бросали свою работу, словно считая его неспособным уразуметь ее смысл и цель. Стоило ему взять в руки топор или садовый нож, как их у него тут же с улыбкой отбирали, как бы боясь, чтоб он себе чего-нибудь не повредил — не ушиб ноги, не обрезал пальцев. Так вежливый хозяин сует в руки ребенку гостя яблоко или чурчхелу, чтоб осторожно взять у него облюбованную ребенком семейную реликвию, для хозяина дорогую как зеница ока, а ребенком схваченную лишь из любопытства. С Нико обращались примерно так же. Его повсюду приглашали присесть и угощали холодной водой люди, которым самим ни присесть, ни утолить жажду было некогда. Он и сам чувствовал, что всем мешает, у всех путается под ногами, как избалованный щенок в гимназической куртке, явно, до нелепости чужеродный рядом с этими выжженными солнцем виноградниками, с этими суровыми, морщинистыми женскими лицами в черных платках, с этими хмурыми мужчинами, которых постоянная борьба с землей сделала молчаливыми. Глядя на их потные плечи, на их белые от пыли, упрямо сжатые губы, он чувствовал, что никакая сила в мире не заставит этих людей выдать ему тайну, доверенную им землей и ни в одном учебнике не значащуюся. «Ну… что на свете делается?» — равнодушно спрашивали они Нико: так, между прочим, из чистой вежливости, чтоб хоть что-нибудь спросить, чтоб гость не чувствовал себя совсем уж бестолковым и чужим! В действительности мир, из которого приехал Нико, их не интересовал вовсе, а если и интересовал, то лишь в том смысле, чтоб он оставил их в покое, не вмешивался в их дела, не впутывал их в свои войны и восстания, не вынуждал их читать свои газеты и прокламации, а дал им спокойно доносить свою рубашку, спокойно доесть свою похлебку и, когда придет время, спокойно улечься в свои просторные крестьянские могилы! «Что-то должно произойти. Нельзя же так! — мысленно говорил им Нико. — Вы даже не догадываетесь, что вас уже нет, что вы не идете в счет, что этой земли тоже нет — вы не стоите на ней, а лишь воображаете это, не чувствуете, а лишь помните ее, как мой брат отрезанную руку… и эта память дурачит вас, заставляет вас проливать пот не на землю, а в бездонную бочку небытия! Поэтому ваш труд будет вечно бессмысленным и бесплодным — как соединение со снящейся женщиной!»
Даже в собственном доме Нико не чувствовал себя свободно. Чрезмерная забота Бабуцы и Агатии лишь подчеркивала его отчужденность — они носились с ним так, словно он был почетным гостем, а не законным ближайшим родственником, родной плотью и кровью. Александр сознательно избегал его, и это мучило Нико больше всего. Да и Аннета стеснялась сажать, как когда-то, к нему на колени свою порядком уж потрепанную Асклепиодоту и рассказывать, каких еще глупостей натворила ее кукла-мигалка, какая еще удивительно смешная история с ней произошла. Женская природа Аннеты располагала ее к сдержанности, особенно с мужчиной, пусть и родным братом. Отец Нико носился по обоим берегам Алазани, на корню скупая у крестьян будущий урожай и оставляя им задатки, чтоб городским виноторговцам пришлось иметь дело только с ним. «Счастливый ты человек, Петре, у тебя сын ученый!»— говорили ему урукийцы; и он этим гордился, хотя реальной пользы от учености сына пока что не видел. Кайхосро целыми днями просиживал в кресле, упрямо уставясь на циферблат огромных, как шкаф, часов, словно боялся пропустить время отъезда Нико. Единственно, кому он был рад, кто хоть несколько оживлял его, был отец Зосиме. Выйдя на веранду с кувшинчиком вина, они беседовали, случалось, до поздней ночи.
— Плохо, что народ веру в бога потерял… — в тысячный раз повторял отец Зосиме.
— В бога или в священника? — в тысячный раз язвительно спрашивал Кайхосро друга своей молодости.
— Да хоть и в священника! — по-молодому вскипал отец Зосиме. — Мы, брат, бывало, самому Горгасалу зубы ломали…
Во дворах, в проулках цвели акация и липа; пропитанный их резким запахом воздух, казалось, замедлял течение времени. Дворы, в пятнах от черной туты, гудели, как раскаленные печи. Глупые цветки фасоли и тыквы глазели с высоты своих кольев, словно изумляясь красоте мира. В бассейне родника многоцветной радугой переливалось отбитое горлышко кувшина. По пустой, белой от пыли дороге вразвалку шли гуси. Из раскрытых стенных шкафов текли облегчительная прохлада и запах старых вещей. Одуревшие от жары куры, высоко поднимая головы, бродили по растрескавшемуся плитняку, словно стражи в замке Спящей красавицы. И все-таки рано или поздно лето кончалось — в один прекрасный день липы начинали вдруг шелестеть как-то иначе и на землю, как вывалившийся из гнезда птенец, кружась, падал первый желтый лист.
— Ну вот, брат, уезжаю! — все равно не мог сдержаться Нико, умоляюще глядя в последнюю минуту на вышедшего вместе со всеми проводить его Александра и ожидая, что тот хоть сейчас скажет ему что-нибудь человеческое.
— Конечно, конечно! Мы деревенщина… нетто мы вас достойны? — отвечал Александр.
Потом, когда пролетка трогалась, он молча сплевывал, и было неясно, плюет ли он просто так, в пыль, или же в потонувшего в этой пыли брата. А их мать в это время уже сидела за столом и поминутно вытирала слезы на щеках. Ее затуманенные глаза с трудом различали буквы. «Нико, сынок, — скрипело ее перо, — мы все тут тебя любим. И Александр тоже! Что ж поделаешь, сынок, ему не повезло, он преждевременно испытал душевную боль. Возблагодарим, однако, бога за то, что он его у нас не отнял, не совсем обездолил нашу семью! И ты, сынок, тоже постарайся понять его. Любовь — это понимание…» — торопливо скрипело перо, словно боясь, как бы Александр не застал его за этим занятием. Нико тоже писал матери, но гораздо реже — он жаловался на недостаток времени, хоть ни в одном письме и не забывал передать приветы всем членам семьи и справиться о здоровье каждого из них поодиночке, от деда до Асклепиодоты включительно. Письма сына Бабуца перевязывала розовой ленточкой, той самой, которую она нашла в коробке из-под куклы и пожалела выбрасывать. Получив новое письмо, она приносила не только его, но и все предыдущие в большую комнату, где она когда-то проникновенным, дрожащим от волнения голосом читала детям истории героев и писаных красавиц. Теперь она читала вслух письма сына — каждый раз все подряд, от первого до последнего, полученного только что, — и, читая, изредка взглядывала на того, кого Нико приветствовал в данный момент. Поэтому письма эти (кроме самого последнего, тоже, однако, мало отличавшегося от предыдущих) все слышали уже много раз — и все-таки каждый раз все прикидывались, что внимательно слушают Бабуцу. Они ее не боялись, но ее наивный, жалкий восторг невольно сковывал и их! Иногда, впрочем, притворные эти согласие и уют все же нарушались…
— А что, — обращался вдруг Петре к сыну, — пока вино не прокиснет, этот олух в Телави забирать его не думает?
— Через пару дней вывезет! — коротко отвечал Александр. Но и этого минутного невнимания было достаточно, чтоб настроение у Бабуцы испортилось, чтоб у нее сразу пропала охота читать и глаза наполнились слезами.
Она тщетно старалась внести хоть немного любви в это логово ненависти! Еще раз посрамленная, смущенная, растерянная, она продолжала читать уже про себя, беззвучно шевеля губами, только чтоб не заплакать, а через минутку-другую, бросив чтение на полуслове, выходила из комнаты, забрав все письма с собой…
Так жили Макабели. Не будет преувеличением сказать, что только письма Нико и связывали их с внешним миром. Сами они ни во что не вмешивались — их непосредственно никто ведь не задевал, ни дома, ни виноградника у них не отбирали; и ничего способного нарушить их уединение вроде бы действительно не происходило. Впрочем, о делах внешнего мира и Нико писал очень сдержанно, мимоходом; но, говоря о них, он то и дело употреблял такие слова, что даже Бабуце было трудно прочитать их сразу, без запинки, — своей странностью и трудностью они напоминали ей имя Аннетиной куклы. Но и эти слова нравились ей, и их она читала с дрожью и волнением — ведь и они были написаны рукой Нико.
— Это что… это еще цветочки! — язвил Кайхосро. — Чем человек ученей, тем ему трудней изъясняться по-человечески! Если в следующий приезд он нам хоть знаками что-то объяснить сумеет, и на том спасибо скажем…
Бабуца же разглядывала эти незнакомые слова с благоговейным и блаженным трепетом, словно фотографии внуков, рожденных без нее в далекой чужой стране; и, как имена этих внуков, она с нежной гордостью твердила про себя: амнистия, манифестация… прокламация… революция… Постепенно слова эти становились ей близкими, приобретали некий особый, одной лишь ей понятный смысл и, вместе с ним, навсегда укоренялись в ее душе рядом с другими, столь же дорогими для нее именами. Она и не подозревала, что слова эти сейчас на устах у всего мира, что они бродят по земле, как беглые каторжники-мстители. Но в мире действительно происходило что-то небывалое… И вот однажды кто-то привез из Тбилиси ошеломляющую новость: Нико впутался в какую-то историю против царя и арестован. Бабуцу с трудом привели в чувство. Агатия долго растирала ее посиневшие руки, а Петре всю ночь держал у ее носа бутылку с нашатырем.
— Брехня, видимо… Что может иметь против царя мой сын? — говорил он. — Ты-то, отец, что скажешь, а? — обращался он к покоящемуся в кресле Кайхосро. — Что нам сейчас делать, как по-твоему?
— По-вашему, насколько мне известно, он давно уже взрослый… — пожал плечами Кайхосро, — Ежели так, пускай сам и расхлебывает!
— Безбожник! Бессовестный!.. — звонко закричала Бабуца.
В первый и последний раз в жизни она накричала на свекра, но ей, ошеломленной неожиданной вестью, мгновенная эта несдержанность была необходима как воздух, без нее она не смогла бы жить. Бабуце же именно сейчас нужно было жить, чтоб доказать всем невиновность сына, а главное, чтоб еще хоть раз увидеть его.
— До самого царя дойду, но всех завистников и клеветников на чистую воду выведу! — твердо объявила она, как бы грозя всему человечеству, а в первую очередь, разумеется, своим домашним.
Она вышла из комнаты, но почти сейчас же вернулась назад, неся в одной руке отцовскую саблю, а в другой крест, покоившийся на кизилово-красной подушечке, как мертвое насекомое.
— Вот! — выкрикнула она. Ее глаза сверкали, волосы растрепались; она прерывисто дышала и сама походила на бунтовщицу. — Вот! Царский подарок! Это заслужено моим отцом! Не думайте, что я какая-нибудь безродная… — Внезапно ей стало дурно; словно вдруг забыв заранее приготовленные слова, она бессильно уронила руки и с плачем прижалась к груди Агатии, — Отняли у меня сына, Агатия! Злые люди погубили меня, Агатия… за то, что он добрый… за то, что он всех нас любил, — жалобно всхлипывала она.
Сабля со звоном упала на пол.
В ту ночь не спал никто, кроме Кайхосро. Пока Анна и Агатия ощипывали кур и месили тесто, Георга разжег печь. Вся деревня давно уж спала; а они, озаренные отблесками огня, с огромными тенями за спиной, суетились во дворе, словно собравшиеся на шабаш ведьмы. Бабуца всю ночь говорила о Нико. «Возьми его за руку и привези домой. Ни одного дня не оставляй там! Умоли его моим именем. Скажи, что я умираю… что мне плохо, что я хочу его видеть…» — без конца наставляла она мужа. Ей было в самом деле плохо — лихорадочный жар заставлял ее говорить больше и громче обычного; но сама она этого не чувствовала, ей было не до себя. Ее волновала судьба сына.
— Дай спать, Христа ради! Меня-то тоже, в конце концов, пожалей… — сонно бормотал Петре.
Утром он поехал в Тбилиси; в душе он был убежден, что застанет Нико дома и все окажется чьей-то злой выдумкой. Однако и в Тбилиси он смог узнать ненамного больше того, что узнал уже в Уруки, только в Уруки он узнал это бесплатно, а в Тбилиси ему за это же пришлось уплатить десятку, не считая дорожных расходов. «За что он взял с меня червонец, эта дубина, этот верблюд кривомордый?» — возмущался Петре, уже вернувшись домой. Сперва же он почему-то проникся доверием к этому жандармскому чиновнику в очках, с чернильными пятнами на пальцах и на нижней губе, а тот, взяв червонец, просто показал Петре журнал, где было черным по белому напечатано, что террорист Макабели, Николай Петрович, схвачен, осужден и даже уже отправлен в Сибирь! Вместе с продуктами, посланными Бабуцей для сына, Петре привез домой и его завязанные в простыню вещи. «Заберите это, ради бога. У меня дочери! Сыном надо интересоваться до того, как его в тюрьму посадят…»— сказала Петре госпожа Джуфана, квартирохозяйка Нико. «Накажи ее господь! Все лицо намазано — а запах такой, что разговариваешь и отвернуться хочется…» — рассказывал Петре.
— О сыне что еще узнал, несчастный? — прикрикнула на него Бабуца.
— Бомбу, говорят, в генерала бросил. Генерала убил! — сказал Петре.
Ни о чем больше не спрашивая, Бабуца отнесла вещи Нико вместе с простыней, в которую они были завернуты, к себе в комнату, легла и не вставала до тех пор, пока от Нико не пришло письмо. В простыню были завернуты несколько книг, деревянный нож для разрезания бумаги, жестяная мыльница, чашка с красными цветочками и такое же блюдечко, маленькая серебряная шкатулка, в которой лежал женский носовой платок и срезанный локон, принадлежавший, видимо, той же самой женщине. Помимо этого в вещах Нико оказались черные ботинки с высокими голенищами и старый, с потертыми локтями сюртук, в кармане которого Бабуца поздней обнаружила чье-то вчетверо сложенное изображение: на изрядно уже потрепанной бумаге был отпечатан портрет какого-то высоколобого, густоволосого и длиннобородого мужчины. «Похож на господа бога!» — мелькнуло в голове Бабуцы. Впрочем, кого бы ни изображал этот портрет, он все равно был ей дорог, раз Нико так бережно хранил его в кармане сюртука. Она велела Агатии вставить портрет в рамку и повесить его среди икон. «Ей-богу, точь-в-точь твой покойный дедушка…» — говорила Агатия, разглядывая портрет, — больше, конечно, чтобы сказать Бабуце хоть что-то приятное.
Потом пришло письмо от Нико, и под кровом Мака-бели несколько распогодилось. Потерявшая от волнения голос, разрумянившаяся, как девушка, Бабуца, дочитав письмо до конца, тут же принималась за него сначала. Само чтение слов, написанных рукой Нико, так ее восхищало, что вникать в их смысл у нее как-то не получалось, и все-таки она была счастлива, словно слушала бессмысленный лепет младенца. Лишь изредка она, повернувшись к своим слушателям, удивленно спрашивала: «А зачем это ему вдруг чеснок понадобился?» От ее обычного спокойствия и степенности не осталось и следа — она была восторженна, как девушка, которой только что впервые признались в любви.
— Им там, вероятно, хаши дают… без чеснока это действительно невкусно! — ухмылялся Александр.
— Брат он тебе, сынок, брат ведь! — все еще улыбалась сломленная, обессиленная счастьем Бабуца.
Но она не могла не заметить, не почувствовать ядовитого тона Александра. Ей так хотелось, чтоб хоть сегодня, в праздничный для нее день, все были чистыми и красивыми! Но праздник может быть лишь тогда, когда он и для других праздник. У одинокого человека праздников нет, а неразделенное счастье хуже разделенного горя. Почувствовав это, Бабуца залилась слезами, прижав к лицу и как бы целуя письмо сына.
— Как можно оплакивать живого человека? Ему, видишь, вот и белье нужно, и чеснок… он же сам пишет! — пыталась успокоить ее Агатия.
— Поэтому-то я и плачу, моя Агатия, — спокойно сказала Бабуца, вытирая щеки платком. — Что ж это у него за жизнь, если он даже в чесноке нуждается?
Вот и все… но после этого дня Бабуца уже не вставала. В тот же вечер у нее сделался сильный жар — она металась по постели, поминутно скидывая одеяло и глухо, непрерывно, не переводя дыхания кашляла, а потом, откинувшись на подушку, осторожно, едва заметно дышала. «Темно, почему так темно»? — вяло, беспомощно жаловалась она. Потом ее снова бросало в жар, и она вдруг начинала слабым, дрожащим голосом петь. «Агатия, Агатия», — звала она, чего-то внезапно испугавшись; но, когда Агатия брала ее за руку, Бабуца злобно отталкивала ее. «Убирайся прочь, ведьма! — кричала она Агатии с искаженным яростью лицом, — Не воображай, что отец бросит меня тут… он всех вас в куски изрубит!» К утру вся ее сорочка была в крови, и она робко, смущенно глядела на Агатию. Вечером температура вновь поднялась, опять началось кровохарканье; Бабуца снова пела и до смерти пугала Агатию своими нелепыми, бессмысленными разговорами. «Чего ты добилась, похитив меня? — жалобно спрашивала она Агатию. — Отец меня, наверно, ищет, а я тут в постели валяюсь. Ты, несчастная, бога к деду моему приравняла… ада хоть побойся!» — бредила больная. Через некоторое время она велела Агатии привести к себе Аннету и долго, ничего не говоря, пристально глядела на полусонную, ежащуюся от холода девочку; потом глаза Бабуцы наполнились слезами, и она молча отвернулась к стене. Весь месяц на веранде дома Макабели висели мокрые простыни, наволочки и сорочки Бабуцы — они не успевали просыхать, больная без конца потела; и весь месяц под липами во дворе почти безотлучно стояла двуколка доктора Джандиери. Но на этот раз эскулап был бессилен— скоротечная чахотка пожирала Бабуцу быстро и беспощадно, как пожар; хорошо зная коварство этой болезни, доктор Джандиери старался лишь получше изолировать больную от остальной семьи. Больше всех это напугало Кайхосро — теперь он пил только из прокипяченного стакана, питался вне дома, а под конец вообще переселился к отцу Зосиме. Иногда через полуоткрытую дверь в комнату Бабуцы на миг заглядывала Аннета. При виде печально улыбавшейся ей матери у девочки невольно кривились губы, но она тоже старалась улыбаться, с детским упрямством сдерживая подступавшие к горлу слезы.
— Я у вас, доктор, немногого прошу… только б до приезда Нико… — испуганно и застенчиво говорила Бабуца доктору Джандиери.
— Все будет хорошо… не бойтесь! — бесстыдно лгал ей врач.
Бабуца умерла тихо и спокойно, как птица, с благодарностью к доктору Джандиери и твердо веря, что еще сподобится увидеть Нико. Ее постель и одежду тут же сожгли во дворе, позади хлева. Александр все эти дни был мертвецки пьян, он волком глядел на людей, приходивших соболезновать, и, казалось, искал лишь повода для драки. Письмо Нико, пришедшее, как нарочно, на следующий день после кончины Бабуцы, разозлило его еще больше, он бросил и его в огонь, в котором горели вещи матери. Нико спрашивал об ее здоровье. Ничего кроме этого в письме не было — ни приветов, ни поклонов; на желтой, как айва, бумаге стояла лишь одна фраза: «Сообщите, что с мамой!» Вероятно, он нутром почувствовал болезнь матери или увидел какой-нибудь сон. Такова всякая истинная любовь — для нее не существует расстояний и препятствий; стоя в небе, как звезда, она всегда сообщает любящему о судьбе любимого.
— Братец мой мать доконал! — неистовствовал Александр, злобно размахивая в воздухе своей единственной рукой. — Меня для нее не существовало… Хотя нет, как это не существовало? Видя меня, она просто падала в обморок, потому что… потому что… — он запинался от злости, стараясь сказать что-нибудь особенно гнусное, но не мог придумать что. — Потому что я однорукий, неуч, мужичонка…
На похоронах, когда отец Зосиме уже перекрестил гроб и свежевырытую могилу и родных отвели в сторону, Александр неожиданно велел могильщикам, стоявшим уже наготове с веревками в руках, вновь открыть гроб. Опустившись на колени и опершись на свою единственную руку, как на палку, он припал губами к бледному лбу матери. Все протяжно ахнули. Александр встал, отряхнул с колен пыль и вытянутой вперед рукой, словно неся на плечах тяжелое бревно, прорезал ошеломленную толпу. Он шел среди людей, высоко подняв голову и плотно сжав губы. Он уже знал, куда пойдет прямо отсюда— с кладбища, с могилы матери…
8
Сидя под кипарисом на стуле собственной выделки, старик, вероятно, дремал — откликнулся он, во всяком случае, лишь на третий окрик. Сейчас он растерянно, ошеломленно разглядывал Александра.
— Да, да, я к тебе обращаюсь! — крикнул ему Александр, остановившись перед низкой плетеной калиткой. — Где Маро?
— Маро? Ты который будешь? — очнулся наконец старик.
— Я? Десятый. Тысячный. Миллионный. Последний! Мне Маро нужна! — прикрикнул на него Александр.
— Что ты нахальничаешь? Кто ты такой? — рассердился старик под кипарисом.
Толкнув калитку коленом, Александр подошел к деревьям и, не говоря ни слова, влепил старику звонкую оплеуху. Покачнувшись на стуле, старик ухватился за воздух, ища опоры, а потом откинулся назад и пустыми, отсутствующими глазами взглянул на Александра снизу вверх.
— Вот тебе «нахальничаешь»! Вот тебе «нахальничаешь»! Где Маро, я тебя спрашиваю? — крикнул Александр.
— Маро в лесу… Чего тебе нужно, окаянный? — и испугался и одновременно разозлился старик, закрывая лицо дрожащими пальцами.
— Думаешь, я тебя простил? Как по-твоему: хорошее это дело — в дочь молотками швырять? — спросил Александр. Он был уж почти трезв, у него болел затылок, во рту пересохло, к нёбу клеилась густая, липкая, не проходившая в горло слюна. — Как по-твоему… а? — повторил он, прислонясь плечом к кипарису. С дерева посыпалась сухая, красноватая, измельченная в порошок кора.
Старик боялся встать; он все еще сидел на стуле, растерянно и обиженно глядя на Александра. Щека горела и ныла, словно на нее что-то наклеили, но он к ней и не притронулся — почему-то было стыдно показать, что ему больно. Он по-прежнему глядел на Александра сидя, снизу вверх.
— Батюшка… — ласково сказал ему Александр. Близость дерева его немного успокоила.
— Да как ты смеешь драться, сволочь ты этакая! — расхрабрился старик.
— Ну ничего, ничего… помиримся! Нам с Маро вместе спать доводилось… — неприятно, деланно усмехнулся Александр.
— Убирайся вон, покуда я людей не позвал! — еще больше осмелел старик. Но он все еще сидел и напряженно, внимательно разглядывал Александра.
Повернув голову, Александр понюхал ствол кипариса; на слова старика он не обратил внимания, словно тот ничего и не сказал. Он еще раз понюхал дерево, с такой силой втянув в себя воздух, что его щеки запали. Потом закрыл глаза и, опершись на дерево, застыл; солнце освещало его лицо, и закрытые веки слегка вздрагивали. Сейчас старик испугался еще больше: этот однорукий, бледный как смерть, молчащий, безжалостный верзила стоял над его головой, как ангел смерти. Черт знает что у него было на уме, на что была способна его страшная рука с согнутыми, как крюки, почти доходящими до земли пальцами — оцепенелая, неподвижная, похожая скорей на орудие пытки, чем на человеческую руку! Старик не знал, попытаться ли ему убежать или сидеть, дожидаясь, пока этот спящий на ногах человек не откроет глаз. Впрочем, он был словно околдован и подняться со стула, вероятно, не смог бы, даже если б решился бежать, — это он почувствовал сразу. От напряжения у него затекла спина, но он даже не пробовал сдвинуться, сесть поудобней. Он впервые видел человека, спящего стоя, и никогда в жизни не был так напуган. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Александр открыл глаза — мутные, бессмысленные…
— Как ты мог швырнуть в дочь молотком? Чем она перед тобой провинилась? — спросил он.
— Послушай… — прохрипел старик, но Александр не дал ему договорить.
— Чем она перед тобой провинилась? Какое тебе дело до нас, уродов? — крикнул он, с силой ударив кулаком по дереву. Дерево вздрогнуло до самой верхушки, из его густой кроны вылетела напуганная птица. Но ни один из них ее не заметил, сейчас им было не до птиц. — Мы в ответе только перед богом… это наша привилегия! — добавил Александр немного погодя.
Старик невольно оглянулся на монастырь: побеленное, ослепительно блестевшее на солнце здание показалось ему вдруг брошенным, обезлюдевшим. Было тихо, перекликались лишь кузнечики. Косые тени кипарисов темнели на гравии дорожки, как невысохшие пятна поливки.
— Ну скажи, старина, не томи! Со вчерашнего дня сюда иду… — сказал вдруг Александр совсем другим голосом: печально, устало…
То ли взволнованный этим другим голосом, то ли почувствовав, что опасность миновала, старик легко вскочил со стула. Он был слаб, тщедушен, и черная сатиновая рубаха висела на его худых плечах, как чужая, но к калитке он побежал с неожиданной для его возраста резвостью.
— В лесу, я ж тебе сказал, — говорил он дорогой. — Обычно она во-о-он по тому склону ходит. Сейчас, должно быть, тоже там… — и он показал рукой в сторону невысокого леса, делавшего гору синей. Его пальцы дрожали, но он уже не боялся. Его охватило волнение человека, неожиданно спасшегося от смерти, — волнение, вызванное и вечной, никогда не утолимой жаждой жизни, и одновременно ощущением ее беззащитности.
Потом Александр, тяжко дыша, карабкался в гору, без дороги, наугад, так, словно главным было лишь войти в лес, а Маро он встретил бы там под первым же деревом. Она была обязана ждать — найти ее ему было необходимо; и он ее нашел бы, — вырубил бы своей единственной рукой весь лес, а нашел бы! Его ноги скользили по траве, до блеска выжженной солнцем. Лес еще не начинался, вокруг вился лишь мелкий кустарник. У него оглушительно стучало в висках. «Маро в лесу, Маро в лесу!» — без конца твердил кто-то сзади, спереди и рядом с ним; и он шагал так сердито, раздраженно, разгневанно, словно шел на поиски затерявшейся в лесу скотины, а не навстречу женщине. Он злился на Маро, заставившую его проделать этот долгий путь, спрятавшуюся в лесу, вместо того чтобы встретить его на месте. Какое у нее было право не встречать его? Почему она не почувствовала, что Александр идет к ней из соседней деревни, если Нико черт-те откуда, за тридевять земель угадал смерть матери? Они с Маро — уроды, они должны чувствовать и понимать друг друга, даже не желая этого! Вдруг он увидел Маро: она шла, держа в руке ведро, доверху наполненное кизилом, и, как обычно, подскакивая. «Мою кровь несет… мою кровь и мою отрезанную руку», — злобно подумал он. «Эге-ге-гей!» — крикнул он еще издали, остановившись и широко расставив ноги, словно для того, чтоб загородить путь зверю. Приближаясь к нему, Маро постепенно вырисовывалась все четче; внезапно она выросла перед ним и, поставив ведро с кизилом на землю, остановилась.
— Ой, Лексо, это ты! А я думала, Ягор… ты шел точь-в-точь как он, — улыбнулась Маро.
— Ягор? — сразу охрип Александр. — Какой еще, к черту, Ягор? — словно начисто забыл он. — Я тебе покажу Ягора! — крикнул он, изо всех сил ударив ногой по ведру. Посыпавшиеся из ведра ягоды залили крутой склон как бы брызгами крови.
— По ягодке соберешь, чтоб мне с места не сойти… — спокойно сказала Маро.
— Я тебе сразу ножку выпрямлю… — невнятно пробормотал Александр.
Знакомый запах женщины бил ему прямо в ноздри, сводил его с ума, ослеплял так, словно Маро здесь не было, а ее тяжелый, густой, острый запах был принесен откуда-то ветром.
— По ягодке… чтоб мне с места не сойти! — повторила Маро.
Нет, она была здесь, стояла перед ним, уродливая и желанная, предназначенная не для избранных, а для отверженных, обесчещенная на дне чьей-то могилы, грязная, как бинт на ране, тупая, как боль, — и все-таки желанная и необходимая, невыносимо желанная и невыносимо необходимая! Он взял ее за руку.
— Пусти! — взъерошилась Маро. — Смотри, я тебе и вторую оторву! — Она стала еще неприглядней, по лицу пошли пепельно-серые пятна, шея покрылась пупырышками. И все-таки Александр хотел ее… хотел именно потому, что она так уродлива!
— Что ты притворяешься? — огрызнулся он, сильней сжав рукой запястье Маро. — Впервой тебе, что ли?
— Хи-хи… — засмеялась Маро, брызнув ему в лицо слюной. — У тебя таких, как я, видно, много… что ж ты за мной-то в лес прискакал?
— Маро…
— Пусти, говорят тебе!
Заломив ей руки за спину, Александр прижал ее к груди. Выпустить Маро его сейчас не заставил бы и сам черт — разделить их можно было лишь топором. Прыгая, как угодивший в капкан зверь, Маро била головой по подбородку Александра; а он, вцепившись зубами в ее вьющиеся, как кусты, волосы, ртом толкал ее голову вниз. Горячая, потная, она боролась, но они были прижаты друг к другу уже тесней, чем два кирпича в стене. Потом земля ушла у них из-под ног, и они, воя, рыча, скрежеща зубами, покатились вниз по склону — остановил их лишь случайно встретившийся куст. «Попроси и получишь… попроси и получишь!»— вопила Маро. «Я ведь и прошу… прошу…» — невнятно бормотал Александр: его рот был набит волосами Маро…
Через некоторое время Маро присела, пошарила в траве, нашла одну из скатившихся сверху кизилинок и, обтерев ладонью, положила ее себе в рот.
— Хи-хи… — ухмыльнулась она, глядя куда-то в траву. — Такой маленький ушел, и такой громила вернулся…
— Давеча я отца твоего ударил… — сказал Александр.
— Чтоб у тебя рука отсохла! — тут же отозвалась Маро, продолжая шарить в траве.
Где-то далеко внизу глухо гудел колокол, — должно быть, звонили в монастыре. Александр лежал навзничь, положив единственную руку на грудь, словно оправдывался перед Маро или в чем-то ей клялся.
Проходя мимо монастыря, они на него не взглянули, даже не замедлили шага. «Если хочешь, скажи отцу…»— мимоходом заметил Александр. «Сказать? Что сказать?» — удивилась Маро. Вот и все — ни монастыря, ни монастырского гробовщика они больше уж не вспоминали. Разговаривать им было некогда — они думали и поэтому шли молча. Впереди, выпятив плечо и своей единственной рукой разрезая воздух, как бичом, шел Александр; вслед за ним, в поднятой им пыли, спокойно ковыляла Маро, и ее походка напоминала движение водокачки. Каждый из них думал о своем. «Мать убили тоска по Нико и мое уродство…» — думал Александр. «Потому, что я его пожалела… чтоб мне с места не сойти!» — думала Маро. У нее до сих пор болели корни волос, ныло запястье, собственное тело казалось ей чужим и обременяющим, словно она проспала всю ночь не раздеваясь, — и все-таки она была счастлива! Они шли и шли, но дорога не кончалась, словно они стояли на катящейся бочке и передвигали ноги лишь для того, чтоб сохранить равновесие; они шагали по пыли, и их мысли были такими же злыми и свирепыми, как собаки, которые рвались с цепей, едва их замечали. Они были уродами, случайно рожденными или случайно спасшимися от гибели, и благодарности к тем, кто их родил или спас, у них не было — и не благодарить они шли! Это-то и чувствовали собаки, надрывавшиеся от лая, своим злобным рычанием как бы оповещавшие деревню о нашествии уродов. А те шли — вызывающе, дерзко, не обращая внимания ни на замершие в полуденном зное дома, ни на щедро льющиеся струи родников, словно они и впрямь находились в чужой, завоеванной стране, где ни домам, ни воде доверять нельзя. Свою жажду и усталость они переносили с гордой ненавистью урода и слабого к красивому и сильному. И они шли — Маро и Александр, хромая и однорукий, парочка, созданная чертом наперекор богу, назло всему миру! «Назло Нико…» — думал Александр. Насколько он мог понять из своих случайных, отрывочных разговоров с Нико, тот непримиримо ненавидит всяческое уродство, а значит, и его, Александра, урода вполне заурядного. Но сказать ему это прямо в лицо Нико, конечно, не смел, поэтому он и говорил о каком-то непонятном уродстве вообще, губящем, дескать, весь мир, опутавшем будто бы их родину своей ядовитой слюной, поганящем-де и землю, и воздух, и воду, и огонь! Но его этими дурацкими намеками не проведешь! Тот, кто борется с уродством, его враг, потому что и Александр урод; а стал он уродом из-за слепоты правителей или из-за украденного в лавке Гарегина пороха — это дела ничуть не меняет. А если Нико прав, утверждая, что весь мир тянется к уродству, как народ к базарному зрелищу, то тем хуже для него, — значит, в этом мире для него нет места, значит, люди правильно сделали, упрятав его за решетку! Своими напыщенными разговорами он со всеобщим уродством не управится, и своими слащавыми стишками тоже… самое большее, нескольких дур-гимназисток рыдать заставит! Уродство — это жизнь, случайно рожденная или случайно спасшаяся; отец его — рок, и рок — его мать; оно — неизбежность, непредвидимая потому только, что предвидеть его люди не хотят, потому только, что оно их не устраивает. Но хотят они того или нет, уродство будет возникать всегда, и возникать не вовремя, подобно пьянице родственнику, которого мы, вместо того чтоб выгнать из дому, выставить за дверь, еще сажаем на лучшее место, кормим и поим — только чтоб он не натворил чего еще похуже, только чтоб он, боже упаси, не осрамил нас перед посторонними, перед почетными гостями! Таковы и уроды. Их боятся — но вместо того, чтоб истребить, растоптать их, закрыть перед ними все двери, на них смотрят с притворным сочувствием, им уступают дорогу, над ними охают и ахают… так, словно люди нормальные способны хоть на мгновение почувствовать и пережить то, что чувствует и переживает урод. В действительности уродство вызывает у людей лишь отвращение, гнев, дрожь — их просто скрывают под маской сочувствия! Загляните-ка на рынок в Бодбисхеви в тот день, когда площадные скоморохи изображают там калек, — люди хватаются за животы, падают друг на друга, плачут от смеха, когда мнимоглухие, мнимонемые, мнимохромые, мнимогорбатые, мнимокосоглазые клоуны выставляют на смех именно то, чего все они так боятся. Странные существа люди — над тем, чего они больше всего страшатся в одиночку, они, собравшись вместе, помирают со смеху. Попробуй-ка, если ты такой смелый, выкинуть что-нибудь при проезде настоящего шаха! А шаху мнимому, сидящему на верблюде лицом к хвосту во время карнавала, чего только не кричат, чем только в него не швыряют— именно потому, что он мнимый, ложный, изображаемый специально для вымещения бессильной злобы! Поэтому-то народ и любит скоморохов, умаляющих, превращающих в пустяки все на свете: и смерть, и зло, и уродство — и в то же время как бы тренирующих людей для встречи с ними, как опытный воин на мешках с опилками списанным, отслужившим свой век оружием тренирует новобранцев для убийства. Но уроды не скоморохи — они не притворяются, у них все настоящее; и живут они не для того, чтоб смешить людей, а чтобы предупреждать, вразумлять их! Кстати, в одном-то Нико прав: склонность к уродству действительно присуща всем людям. Уродство — это будущее всякой красоты, это состояние более естественное и продолжительное. Поэтому ему и нечего скрывать, и оно ничего не скрывает, даже если из-за этого кое-кто и в обморок брякнется… Вот так и шли Маро с Александром— сквозь горячую пыль, по дороге, пахнущей скотом, хлебом, стогами сена и вывешенными на солнце одеялами. Обоим хотелось есть и пить, их головы и ноги, казалось, налились свинцом; и все-таки они шли — это была их дорога, соединяющая их, ведущая в их общую жизнь! «Два сапога пара…» — говорили, вероятно, люди в пройденных ими деревнях, если только вообще замечали и запоминали их; а они шли, подымая за собой дорожную пыль. «В такую жарищу и собака за вором не погонится, — думала Маро, — а я преспокойно тащусь за ним, чтоб мне с места не сойти!» Потом вдали блеснуло что-тр черное. Пятно это довольно долго маячило на фоне бесконечной, одуряющей белизны, — лишь подойдя поближе, они разглядели две извозчичьи пролетки, запряженные двумя лошадьми каждая и стоявшие перед маленьким кабачком. Сперва они увидели лишь пролетки; кабачок скрывался за дорогой, в ложбинке, его крыша была почти на уровне земли. От стоявших на солнце блестящих черных пролеток шел пар; лошади тоже изрядно перегрелись и выглядели так грустно и сиротливо, словно на них надели мебельные чехлы, к тому ж непомерно большие. Из кабачка доносились звуки бубна и гармони. Внезапно в ноздри Александра ударил запах жареного мяса, и он сразу увидел этот запах — сытный, золотистый, похожий на нагую, нежащуюся в воздушных волнах женщину. Перед его глазами запрыгали круги, похожие на кольца нарезанного лука. На лбах лошадей болтались пушистые красные помпоны, в их гривы были вплетены красные нити; на подножке одной из пролеток валялась такая же красная, пушистая, как помпон, гвоздика, а на ее облучке стояла пустая бутылка с надетым на горлышко стаканом. Кучера спали позади второй пролетки — они лежали прямо на земле один возле другого, и их головы были скрыты в крохотной тени под пролеткой, а тела высовывались наружу, на солнце. Потные, с разинутыми ртами, с багровыми лицами, они в своих круглых картузах, желтых жилетах и измятых складками шароварах казались великанами. В их позах было что-то пугающее, странное — они валялись, как мертвые, и казалось, что где-трядом непременно должна быть лужа крови. Поэтому, вероятно, и лошади выглядели так понуро: сон хозяев пугал их.
— Тут, никак, свадьба! — сказал Александр Маро.
— Чтоб мне с места не сойти, — согласилась она.
Подняв валявшуюся на подножке пролетки гвоздику, она отгрызла высохший, твердый стебель и вставила цветок себе в волосы. Зажегшаяся в ее вьющихся, как кусты, волосах гвоздика ударила в голову Александра молотом внезапного желания. Он изумленно взглянул на Маро. «Чем она, собственно, хуже других?»— подумал он, машинально оглядывая пустые пролетки.
— Глаза выцарапаю… чтоб мне с места не сойти! — буркнула Маро.
— Хочешь, на извозчике прокатимся? — сказал Александр.
— Смотри, привыкну… разоришься! — заметила Маро, тоже разглядывая пролетки.
— Извозчик… на извозчике… — От волнения у Александра стал заплетаться язык.
— Плевать мне на твоего извозчика… у меня в брюхе бурчит, балда! — прикрикнула на него Маро.
— Ничего… побурчит и перестанет! — успокоился вдруг Александр.
Потом они сидели в кабачке. Рядом с ними пили какие-то тбилисцы; их было семеро, все они были возраста Нико и очень похоже на него одеты. Женщин среди них не было, и это удивило Александра больше всего: он готов был поклясться, что снаружи несколько раз явственно слышал женский смех.
Раз-два-три-четыре-пять,
Вышел зайчик погулять,
Раздобыл один червонец —
Прокутил его опять…
Музыкант с бубном пел, запрокинув голову вверх. Маро торопливо рвала зубами кусок мяса; она держала его обеими руками, по ее подбородку стекал сок. Вынув цветок из ее волос, Александр скомкал его и швырнул под стол, но Маро этого не заметила, она слишком увлеклась шашлыком, ей все еще хотелось есть. Александр тоже был голоден, но мясо не шло в глотку, вино он заедал лишь зеленью. Он быстро пьянел, и это его раздражало. Он не отводил глаз от людей за соседним столиком, но те не обращали на него ни малейшего внимания — они пировали сами по себе. «Раздобы-ы-л оди-и-ин черво-онец…» — тянул каждое слово певец, колотя в свой бубен, и в такт звукам бубна стучало вино в жилах, в висках, в сердце. Пол был покрыт крупными осколками солнца, по ним ползали мухи; пыль роилась в воздухе, как мошкара. Было душно. В глазах Александра поминутно мелькали черные сюртуки и белые крахмальные воротнички, волосы с проборами слева или посередине; его оглушали бесконечные выкрики «господа, господа…» и бессмысленное «ять-ять-ять!» певца. «Может, это друзья Нико?» — думал он. Маро ела громко, раздражающе чавкая, и порой Александру хотелось стукнуть ее по губам, но он сдерживался. «Мне-то она не мешает… пусть ест как хочет!» — успокаивал он себя; но этот неприятный звук ему именно мешал, раздражал его еще больше, хотя все его внимание и было устремлено по-прежнему на соседей, на «друзей Нико». Он ясно слышал их разговор, но ни одной понятной для себя мысли извлечь из него не мог. И речью они походили на Нико! Возможно, они и нарочно дразнили его, заметив, что он слушает, — издевались, показывали какой-то хитроумный городской фокус. Все слова были как будто понятны, но располагали они их так, что не то что Александр, а сам черт ногу сломал бы! Хотя нет — черта этим не смутишь, он-то, вероятно, так и разговаривает. Да, конечно, это-то и есть язык нечистой силы, изобретенный специально, чтоб дурачить таких олухов, как он! И сперва-то ведь кажется, что что-то понимаешь — слова-то всё знакомые, родные; именно это и привлекает, и смущает, и вызывает любопытство, а там-то уж засосет, затянет… В ушах у тебя вертятся слова, впитанные с молоком матери, их тебе бояться нечего, и ты смело идешь за ними — не смело даже, а зло, упрямо… в чем тут, мол, дело? На миг тебе даже кажется, что связать друг с другом эти слова, миллион раз тобой уже слышанные, ты не можешь лишь по пьянке или по собственной дури; но отвязаться от них ты не можешь тоже, ты уже околдован, ты уже на удочке. И все-таки, даже ощутив опасность, ты себе в этом все еще не признаешься, все еще воображаешь, что тебе, рыбе, крючок почудился лишь со страху, что червяк настоящий, что сейчас ты почувствуешь его знакомый вкус! Это то же ощущение, которое побуждает идущего крестьянина вернуться назад, чтобы подобрать лежащий на дороге блестящий предмет, — не потому, что он так уж похож на серебряный рубль, а потому, что крестьянину очень захотелось вдруг, чтоб он оказался серебряным рублем! А те всё продолжали говорить, и Александр опять слушал их — хотя теперь уж несколько смущенно, как человек, понявший наконец свою ошибку и с горькой, озлобленной улыбкой думающий о мести, но, кому и за что мстить, так и не понявший, ибо виновата в ошибке лишь его собственная дурь. Кабачок гудел, как улей, по осколкам солнца ползали мухи, посуда дребезжала от звуков бубна и гармони; вино мгновенно согревалось, и пить его было неприятно. Единственная рука Александра лежала на столе, как молот. Он чувствовал, как у него пухнет голова… собственно, уже не голова, а точно огромная кладовка с невидимыми, но чувствительными стенками, внутри которой беспорядочно перемешались все сваленные в нее звуки и предметы: коляски с кучерами, пол кабачка с осколками солнца, мухами и пылью, буфетчик за стойкой, музыканты с их инструментами, кусок мяса, чавкающая Маро и семеро Нико — растерзанный на семь частей, семикратно, на семь различных ладов переиначенный Нико! «Ять-ять-ять…» — гудела голова-кладовка. Измученная солнцем лошадь тяжело топнула по пыльной земле, и у Александра заболел затылок — грубое, блестящее дерево оглобли, казалось, распирало его голову изнутри. «Господа, господа…» — кричал один из Нико, одна седьмая часть Нико; другой стучал вилкой по стеклу бутылки — и голова-кладовка Александра тоже издавала этот неприятный звук, Он сидел и слушал, слушал и терпел! Ничего подобного с ним не происходило еще никогда в жизни, — ощущая, слыша, видя все вокруг себя, он был при этом как бы бесчувствен, глух, слеп, стал неодушевленным предметом, обрел неподвижность и равнодушие неодушевленного предмета. А может, и эти неподвижность и равнодушие лишь кажутся таковыми людям, не способным постигнуть истинную природу вещей? Кто знает, кто интересуется тем, что испытывает на самом деле стол, за который человек садится поесть или сыграть в карты, что чувствует кровать, на которой он предается сну, болезни или любви? Точно так же неизвестно было, что испытывал в эти минуты Александр, — поэтому, видно, его и не стеснялись, как любого неодушевленного предмета. «…А чтоб защитить это чувство, — говорила сейчас одна из семи частей Нико, — или, верней, потому что человек не может вынести пренебрежения к нему, его атрофии, ампутации, резекции — называйте как хотите, дело не в этом, — он выходит на площадь и поджигает себя… он, понимаете, освещает себя этим огнем, чтобы показать нам, как сильно чувство это пронизало все его существо, как оно стало сутью его жизни! Вот почему отсечение, выжигание этого чувства приводит всегда к последствиям самым огорчительным — если, конечно, оно по каким-либо причинам не сгнило, не выродилось само по себе еще раньше. Ну да, человек может жить и после такой операции — он будет есть, пить, спать, передвигаться… но это ведь, господа, жизнь уже клиническая, ни малейшей пользы обществу принести не способная! Ее центр тяжести все время перемещается, все время нуждается в поддержке извне — и жизнь эта бездумно обопрется на любую руку, чьей бы она ни была и чего бы за свою помощь ни потребовала…». Вот так, Александр! Хоть что-нибудь понял? Ни чертика ты не понял — поэтому и хмуришься так свирепо, поэтому и не можешь простить Нико того, что он тебе как-то сказал! Помнишь? Не в однорукости, мол, несчастье, а в невежестве… «Вы вечно преувеличиваете! У вас такой вид, словно вас даже эти добряки супруги раздражают. Все, что вы говорите, даже самые безобидные слова, звучит как площадная ругань…» — «Ну, в Европе-то к приличиям, наверно, привыкли!» — «Я как бы даже вижу слова, выходящие у вас изо рта, чувствую их грубое прикосновение. Вы — или гений, или заурядный наглец…» — «Ха-ха-ха… господа, господа, не будем оскорблять друг друга!» — «Да нет же — слушать вас приятно и в том, и в другом случае… ваше внезапное и беспричинное волнение заражает! Клянусь, я не хочу обижать вас, но поймите же: ваш патриотический порыв провинциален! Это провинциальный фрукт, базарная красота, соблазняющая прямо тут же, у прилавка… по подбородку, знаете, сладкий сок течет, невольно наклоняешься, чтоб хоть брюк не заляпать, но так хочется попробовать, что чувствуешь вдруг абсолютную свободу, и на все приличия плевать! Невоспитанность, она ведь тоже свобода — своеобразная, конечно… Зато потом, когда прихоть пройдет, не знаешь, куда деть липкие, сладкие пальцы… так и стоишь у прилавка, глупо топыря их, пока кто-нибудь не догадается дать тебе обрывок газеты или сделает милость — твой же собственный платок из кармана вытащит… Тебе-то ведь из-за дури, из-за нетерпения и собственный карман недоступен стал! Вам никогда не подавали платка — такого, знаете, тщательно отглаженного, аккуратно сложенного? А может, он вам как раз сейчас нужен? Боже мой, пари держу, что вы меня сейчас убить хотите! Что, не угадал? Это же наша, грузинская, привычка убивать друг друга! Друг с другом мы только и храбрецы… А все-таки вы счастливый человек! У вас жизнь, должно быть, очень интересная?»— «Очень интересная!..» А, Александр? Что скажешь? Признавайся уж — завидуешь Нико? Хотел бы, чтоб чеснок и теплое белье мать посылала тебе? «Чтоб мне с места не сойти!» — сказала Маро. «А?» — вырвалось у Александра; он был еще весь там, на дне собственной тупости. «Твой шашлык, говорю, тоже съела», — сказала Маро; но он ее уже не слушал. «Вы правы, заранее я никогда не знаю, как с кем разговаривать— тем более с гражданином мира. Боюсь вас обидеть… и все-таки скажу, что ваш космополитизм — продукт теплицы, растение тепличное, плод зависти и болезненных капризов. Питаться им захотят далеко не все. Честное слово, не хочу обижать вас… если б я пил, непременно выпил бы за ваше здоровье!» — «Ха-ха-ха… при чем тут обиды? Я за свободу личности и слова, и космополитизм этому, представьте, ничуть не мешает! А вот вы, дорогой мой, какой же вы грузин, если не пьете? Не обижайтесь и вы на меня, ладно? Я понимаю, что вас раздражает, но что поделаешь, так уж сложилась моя жизнь… От родины я освободился, как от греха, и признал своим богом идею, поэтому родина моя — весь мир. Я всюду дома, хотя, сознаюсь по правде, приезжать в Грузию каждый раз немного боюсь. Если хоть половина из того, что рассказывают, правда… Скажите-ка, вы кинжал носите?» — «А как же? Если очень попросите, могу и вам дать лизнуть…»— «Ха-ха-ха… господа, господа, это уж слишком…» — «Ять-ять-ять… раздобы-ы-ыл оди-и-и-ин чер-во-о-о-нец…»
— Вчера я мать похоронил… — сказал Александр.
— Так я и чуяла… чтоб мне с места не сойти! — сказала Маро.
— Плачь!
— А?
— Плачь, говорят тебе! — Александр стукнул рукой по столу, словно с шумом передвинул какой-то громоздкий, тяжелый предмет.
— Скажи хоть, как ее звали… — сдалась Маро.
И она тут же стала причитать — в голос, с ручьем слез. За соседним столом воцарилась могильная тишина, растерянно подняв плечи и сжав губы, все молча глядели на Маро. Жирная, волосатая кисть музыканта свесилась с бубна, словно шерстяной носок, вывешенный для просушки. «Бабуца, горемычная… Ба-бу-ца!» — старательно выводила Маро.
— Эй, ты! — крикнул Александр буфетчику.
Буфетчик нехотя, словно у него не двигались нога, подошел к ним, тупо, бессмысленно ухмыляясь.
— Вот им… Двадцать бутылок поднеси. Скажешь: друзьям Нико от брата Нико! — распорядился Александр.
Буфетчик повернулся, чтоб уйти.
— Постой, — окликнул его Александр. — Ты понял?
— Друзьям Нико от брата Нико… — равнодушно сказал буфетчик.
Маро причитала все время, пока они шли к выходу. За соседним столиком молчали. Александр шел к выходу напряженно, неровными шагами, словно обходя яму. Маро шла за ним, на ходу продолжая причитать.
Кучера по-прежнему спали. Солнце уже склонялось, тени стали длинней. Лошади грустно и равнодушно оглянулись на людей; на глазу у ближайшей из них был гнойник величиной с большой палец. Александр махнул рукой — лошадь подняла голову и оскалилась, словно улыбаясь ему. «Садись, говорят тебе!» — подтолкнул он Маро к пролетке. Когда извозчики вскочили, в лица им бросилось облако пыли, а угнанная черная пролетка мелькала довольно уж далеко, перед поворотом. «Свадьба, свадьба!» — кричал Александр. «Ба-буца-а-а… горемычная Бабуца-а-а!» — заливалась Маро. Застоявшиеся лошади мчались голопом, отворачивая морды от теплого, пыльного ветра. «Эй ты, полоумный!»— кричали, прижимаясь к изгородям, удивленные и напуганные крестьяне; а обезумевшие собаки гнались за ними с таким остервенением, словно вся их жизнь, все их деревенское существование зависело от того, сумеют ли они хоть разок вцепиться зубами в это странное огромное существо, громыхавшее по всей округе на своих четырех колесах и восьми копытах! Свадьба, свадьба! Бабуца-а-а… горемычная! Лошади мчались прямо в У руки. Они неслись не переводя дыхания, ничего не видя, ничего не объезжая, не щадя себя, словно слепой ураган, — и, как грязные брызги из лужи, кудахча, шипя, визжа и блея, разлетались в разные стороны куры и гуси, свиньи и козы. «Так вас и так… так и так ваших хозяев!» — ревел Александр; и лишь клубы пыли взметались в воздухе над сливой и курагой, над выставленными во дворах колыбелями, над сохнущим на балконах бельем, над тестом, заквашенным в деревянных корытах и пульсирующим, как голый живот беременной женщины. Пролетка мчалась и грохотала — Александр и Маро в похищенном экипаже летели домой. Это была их свадьба.
— Пролетку оставь на улице, не заводи! — крикнул Александр Георге.
Он уже стоял у лестницы, дожидаясь Маро, глядя, как ковыляет по двору Макабели его преданная и уродливая подруга.
— Сперва мы решили, что он ее привел дом убирать после поминок… — рассказывал на другой день Кайхос-ро отцу Зосиме. — Я ему так и сказал: зачем, мол, она тебе понадобилась? В доме же и Анна, и Агатия! А он спрашивает: был кто-нибудь на поминках? Нарочно, вижу, разговор отводит. Да нет, не отводит даже, а издалека отвечать стал, подготовлять нас, так сказать… Я-то, впрочем, тут же все понял. Она сама себя так вела — сидит одна за пустым столом, только скатерть теребит и от нас ото всех глаза воротит. А сын-то мой, глупый, еще Анну с Агатией позвал: смотрите-де поднесите ей чего-нибудь; бедная моя жена была женщина добрая, и вы, мол, никого не обижайте! Он, голубчик, еще в облаках витал. Вот уж не думал, что он жену так любил… да что Петре вообще хоть кого-нибудь любить способен! Но бог с ним. А вот что Александр скажет, когда говорить осмелится, это я понял сразу… Как это, говорю «кто-нибудь»? Тебя только и не было — а кроме тебя, тут вся Уруки была. В три смены за стол садились… с мытьем посуды справиться не могли. Петре с Гарегином мелом на спине помечали тех, кто уже угостился, да ведь все равно мошенничали — друг у друга со спины знаки стирали и возвращались! Когда мы в третий раз за стол сели, у всех спины белые были! Ну что ж, говорит, коли так, то и в четвертый раз людей угостим. А сам улыбается… то есть не улыбается, конечно, а гак, губы растягивает, настоящей-то улыбки я у него вообще никогда не видал. Вот, говорит, привел вам взамен матери. Вы, говорит, не думайте, она женщина смекалистая, так просто убить себя не даст… Ты представляешь? Мать еще в могиле не остыла, а он, говорит, замену привел. Да приведи ты кого хочешь, мне-то что… Пусть хоть лягушку к себе в постель укладывает — лучшего-то внучек мой и недостоин! Но ты хоть пару дней потерпи!
— А что, у вас и ночью, говорят, гости были? — спросил отец Зосиме.
— Тебя, батюшка, я вижу, огорчает, что ты не был у нас и ночью? — в свою очередь спросил Кайхосро.
— А ты не рад, что твой внук уродку в дом привел? — улыбнулся отец Зосиме.
— Рад? — изумился Кайхосро.
Оба молча взглянули друг на друга, словно вдруг испугавшись продолжения этой беседы. Отец Зосиме, как обычно, мерцал глазами и маленькими глотками пил вино, причмокивая при этом пухлыми алыми губами. Кайхосро долго глядел ему в лицо и наконец тоже улыбнулся.
— Кто ж у вас был среди ночи-то? — спросил отец Зосиме.
— Какие-то друзья Нико с кучерами… почем я знаю? Говорит, друзья Нико. Они отдельно приехали. Сначала сам со своей красавицей на пролетке прибыть изволил. Заставил заново стол накрыть; люди, говорит, уже в дороге, неудобно, мол, пошевеливайтесь! Друзья Нико, говорит. А потом и они приехали, — рассказывал Кайхосро…
— Приехали, — сказал Александр.
— Эй, однорукий! Брат Нико! — кричали у ворот пьяные.
«У них восемнадцать рук, а у меня одна…» — подумал Александр, вставая. Он знал, что они приедут, вероятно, даже хотел этого — поэтому и оставил пролетку перед воротами, и не подумал ее прятать. Зачем ее было прятать? Он почтил память матери, пригласил на поминки по ней друзей ее сына — как умел, так, по-мужицки, и пригласил! Если у них есть головы на плечах, они тоже это поймут; а если нет… «Да нет — не осмелятся. Они меня уже боятся!» — думал он, направляясь к воротам. Увидев его, приехавшие сразу замолчали. Наступила внезапная, растерянная тишина.
— Слушай, я ж этих лошадей не в лотерею выиграл! — крикнул Александру один из кучеров.
— Георга, открывай ворота! — сказал Александр, не сводя глаз с пролетки, прогибавшейся под тяжестью девяти мужчин.
Кучера сидели на облучке рядом, как братья-близнецы, и было несколько даже жаль их разлучать; к тому же они и сами не слишком торопились расставаться: та пролетка, в которой примчались Маро и Александр, все еще стояла пустой. Стоявшие и новоприбывшие лошади несколько раз дружески заржали, как бы поздравляя друг друга с благополучной встречей. Из пролетки, смеясь, отряхиваясь и распрямляя тела, один за другим вылезали семеро Нико, изрядно потрепанных ездой и тряской, насидевшихся друг на друге, но находящихся явно в благодушнейшем настроении. Вино еще шумело в их головах, и вся эта история казалась им лишь забавным приключением, приятным продолжением попойки. Выехав из города, они старались получить удовольствие повсюду, — сами свободные от дел, они считали такими же и всех остальных.
— Сударь мой, спасибо вам за вино… но если вы хотите, чтоб оно нам впрок пошло, разъясните, ради бога: что эго за Нико? Мы так и не поняли, честное слово, не поняли! Вино-то мы выпили, а теперь нас совесть мучит, то есть и совесть, и вино… Как говорится, знаете, чужой кусок не впрок. Может, вы что перепутали, а нас зря в грех вогнали… — говорил один.
Остальные смеялись, и Александр уже чувствовал, что сделал глупость, что зря заподозрил этих людей в дружбе с Нико, — так, словно каждый, одетый по-городскому и по-городскому говорящий, непременно должен быть другом Нико. Теперь ему предстояло еще и извиняться — этим-то не заткнешь рот целковым, как кучерам! Да будь они и вправду знакомы с Нико, будь они даже действительно его друзьями, ему-то что до этого? Что это на него вдруг нашло? Впрочем, это-то он знал хорошо! Они были чужими, их разговор был сумбурным, вздорным — вот что привлекло его, как свет мотылька, вот что одурачило его, как Ягор Маро. Сейчас, стоя перед воротами родного дома, он с яростью чувствовал это и сам себя презирал за то, что не решался исправить ошибку, а лишь усугублял ее, доходил в ней до конца, как та же Маро, спустившаяся в чью-то могилу вместе с Ягором…
— Нико — заключенный, — сказал Александр. — Будем считать, что вы пили за него!
Все вдруг зашумели, и Александр невольно растерянно оглянулся на Георгу, стоявшего у него за спиной с коптилкой в руке. «Да здравствует Нико! Да здравствуют все заключенные! Да здравствует братство заключенных! Все мы — заключенные!» — кричали семеро Нико.
— Если б не это, я б тебе хорошую ослиную баню устроил! — крикнул с облучка один из кучеров.
— Не будь ты одноруким… — проворчал другой, Похищенная пролетка принадлежала, видимо, ему, и он до сих пор очумело глядел на нее, как бы не веря, что и она, и лошади в целости и сохранности.
— Не пугай меня, бога ради, — спокойно сказал ему Александр. Он еще владел собой, ему еще доставляло удовольствие находиться во власти собственной ошибки. — Я и сам знаю, что я однорукий… — примирительно улыбнулся он.
— Господа, господа! Нужно выпить за Нико непременно! Веди нас, хозяин. Мы, слава богу, еще в Грузии! Да здравствует братство! Из-за чего нам ссориться? — кричали семеро Нико.
— Что ж, пожалуйте… — сказал Александр. — У нас тут и поминки, и свадьба одновременно.
«Бабуца, бедняжка, выгляни… друзья Нико к нам приехали!» — плакала Агатия. У извозчиков наибольшую растерянность вызвал вид Кайхосро в мундире, они попытались улизнуть, но рука Александра, как дубинка, преградила им путь. За столом они тоже уселись рядом, не сняв шапок, не зная, куда девать руки, сидя как-то неудобно, боком, они как бы и присутствовали и не присутствовали за столом и были вынуждены поминутно вставать, чтоб до чего-нибудь дотянуться, хотя ничего и не брали, кроме хлеба с сыром. «Мы же целый день едим…» — оправдывались они, одновременно беспощадно вышучивая друг друга, вспоминая всевозможные старые истории, чтоб, рассмешив других, скрыть за их смехом собственные смущение и растерянность. «Он, знаете, съел однажды больше овса, чем его лошадь! — рассказывал один. — Мы заставили его соревноваться с лошадью, и он выиграл…» Второй лишь молча улыбался, сжимая в кулак лежащую на столе руку, чтобы спрятать свои грязные ногти.
— Вчера мы мою мать похоронили. А это Маро — вот, которая давеча плакала. Мать мою в кабачке оплакивала… — сказал Александр.
Все пробурчали что-то неопределенно-соболезнующее. Маро по-прежнему сидела с опущенной головой, теребя пальцами скатерть. Из всех гостей она чувствовала себя здесь самой чужой. «Куда он меня привел?» — с тоской думала она. Она ничего не видела, кроме огромной лампы, сверкавшей ослепительно желтым светом и зажженной словно специально для того, чтобы все могли получше ее разглядеть. Потом вино взяло свое, заставило обманутых ложной близостью людей разговориться — стол зашумел, оживился, и Маро облегченно вздохнула. Люди эти, столкнувшиеся случайно и на короткое время, были сейчас искренне убеждены в том, что они непременно встретятся и завтра, что и завтра для них сохранят тот же смысл и ту же привлекательность слова, произносившиеся ими с таким жаром, словно от них зависела судьба если не всей страны, то уж этой семьи во всяком случае! «Ушло, кончилось поколение генералов, господин Кайхосро… к сожалению, это так! Дети ваших надежд, видимо, не оправдали?» — говорил один из семи Нико. «Зато теперь идет поколение адвокатов! — тут же подхватывал второй. — Если сабли затупились, приходится рубить языком!» — «Господа, господа, со стыдом сознаюсь, у меня было совсем иное, и конечно же худшее, представление о грузинской деревне. Для цивилизации, оказывается, действительно нет границ!» — «Варлам, дорогой мой, у вас еще много неверных представлений… Он, знаете ли, гражданин мира. Сейчас круг его деятельности— в Германии. Так что он наш общий гость или, пожалуй, общий хозяин… Да, вы, конечно, правы, границ для цивилизации нет; но радоваться тут нечему. Единство человечества — не в одинаково сшитых кальсонах, а в одинаковом стремлении к великому, в общей потребности и способности творить! В общественной уборной людей объединяет не одинаковая мысль, а одинаковая нужда. За здоровье этой патриархальной семьи…» — «Юноша, оставь меня в покое хоть здесь…» — «Господа, господа, пьем за семью!» — «Ушло, кончилось поколение генералов!» — «Да я-то всего-навсего майор!» — «Дело не в этом, дорогой господин Кайхосро, — я имею в виду не чины, а дух…» — «Если ты уж начал — расскажи-ка своим грязным языком, как вы мне в фасоль вместо соли земли подсыпали!»— «Хи-хи-хи… ха-ха-ха…» — «Тьфу, накажи тебя господь!» — «Еще по одной — и шабаш. У меня ужи так голова кругом идет!» — «Не бойся: лошадьми буду править я!» — «А почему вы за столом в шапках сидите?» — «Дорогие мои, ей-богу, двигаться пора…»
Сейчас их никто уже не удерживал — они, если хотели, могли встать и уйти. Но они не решались, не осмеливались — им почему-то смутно казалось, что это не на шутку обидит хозяев, с которыми у них ни до, ни после этого ничего общего не было. Их одурачивало, сковывало по рукам и ногам все, что они сами наговорили за этим столом, так восхвалив и превознеся эту семью, на столько ладов поклявшись в незабываемости оказанного им гостеприимства и своей вечной благодарности, что теперь им было бы, пожалуй, и вправду неудобно так просто встать и уйти, подобно обычным, заурядным гостям. Подстегивая друг друга, соревнуясь друг с другом в красноречии последнего, прощального тоста, они и не замечали, что слова вертят ими как хотят, что не они распоряжаются своими словами, а слова ими. В сущности, они были уже на грани сумасшествия — в эти минуты они действительно свято верили, что весна человечества уже на пороге, что народ встретит выходящего из тюрьмы Нико песнями и знаменами, что семья их хозяев — истинный храм добра, справедливости, чести и свободы. В своих черных сюртуках и накрахмаленных сорочках они напоминали ласточек и щебетали точь-в-точь как ласточки. Зря, что ли, они адвокаты? Адвокат на то и адвокат, чтобы представлять белое черным и наоборот… язык у него без костей, куда захочет, туда и повернет! Вот они и вертят его, как ручку шарманки! Это ж их профессия — жонглировать словами, дурачить людей… Какие бы плохие сапоги ни сшил сапожник, это все-таки сапоги: их всегда можно надеть и хоть месяц-два проносить. Какой бы хромой стул ни сколотил столяр — подложи что-нибудь под ножку и садись! А эти своими длинными языками кроят и сшивают воздух, и им не нужны ни кожа, ни доски — из дурака они сколотят все, что им заблагорассудится. Того, кто по горло в дерьме, они убедят, что он купается в золоте; того, кто и мышиного шороха боится, они героем объявят. На тебе мундир майора — а они тебя захотят, гак в генералы произведут! Ты ни хрена не умеешь, кроме как стишки писать, — а у них ты бомбу бросишь, героем, мучеником народным станешь; у них ты — да, да, у них ты и в тюрьме окажешься… и вот тут-то они и начнут тебя защищать, вертеть языками — вертеть до тех пор, пока всю твою семью, любезный герой-мученик, догола не разденут! Малина, а не жизнь! Нико в тюрьме, а они по кабакам, с извозчиками, с музыкантами! Хорошо, ей-богу, хорошо… не воображайте только, что выманите у нас, Макабели, хоть что-нибудь еще, кроме этого угощения. Да оно и так испортилось бы, его трижды подавали и трижды убирали, без вас его выбросить пришлось бы! Так что жрите и пейте сколько влезет, пусть вам впрок пойдет, но не думайте, пожалуйста, что вы и Александра одурачили, что вы и ему понравились, что он хоть одному слову вашему поверил. До Александра вам как до неба! Он вас хоть накормил-напоил даром, а вы-то даром и собственную мать не защитите! А теперь вставайте и проваливайте, убирайтесь к черту, не то Александр не выдержит, он у вас гостеприимство свое из носов повышибет… Хватит с вас и Нико, скажите спасибо, что хоть Нико себе в руки заполучили! Ладно, пусть уж и он вам впрок пойдет! Ему-то поделом: он сам к вам в зубы полез, сам сделал так, чтоб нуждаться в вашей защите. Это ясней ясного… потому-то вы и бьете в ладоши, потому-то и орете «да здравствуют все заключенные», что Нико из ваших рук уже не вырвать, что он ваш, и, не высосав его до конца, не выжав его как лимон, вы от него уже не отстанете, отстать не сможете! Для вас он то же, что для паука муха! Как паук мечтает, чтобы все мухи на свете в его паутину попали, так и вы мечтаете, чтобы все на свете стали заключенными, ведь заключенный — ваш хлеб; для вас он то же, что для сапожника кожа, для столяра доски. А теперь сматывайтесь поживей… попировали, и будет! Не уйдете сейчас же сами — потом пожалеете…
— Адвокаты! — вскричал вдруг Александр, встав и опираясь на прижатую к столу руку, как на дубинку.
Наступила гробовая тишина, как давеча в кабачке, когда Маро стала причитать…
— Нас всех как громом поразило… — рассказывал на следующий день Кайхосро отцу Зосиме. — Расходитесь, говорит, пир кончен; хватит, мол, и того, что брата моет одурачили… Даже проводить не вышел — и нас тоже не пустил. Как сами, говорит, пришли, так и уйдут, сюда-де им дорогу тоже никто не показывал. Вконец всех нас опозорил! Что скажут эти почтенные люди? Зачем ты их приглашал? А если уж пригласил, зачем выставил вон, как церковных нищих? Что — не так разве? Порядочных людей к нам в дом вообще, конечно, пускать нельзя, я понимаю, — но ты хоть один вечер потерпи, память матери уважь… А я-то ведь знаю, что его из себя вывело. То, что меня хвалить и прославлять стали, — вот что его за живое задело, вот чего он перенести не смог! Когда пили за мое здоровье, он и его жаба перемигивались только. Ну что, спрашивается, особенного в том, что гость хозяина похвалит? Ну пусть и через край хватит, пусть даже чин прибавит, тебя-то от этого убудет, что ли? Но мне, старина, все это поделом, поделом! Я от жизни отвернулся, грязь месить стал. Из грязи и у бога-то ничего хорошего не вышло, а что могло выйти у меня?
— Так ведь и бога никто не благодарит, не тебя одного… — замерцал глазами отец Зосиме.
— Не понимаю… хоть убей, понять не могу! — улыбнулся Кайхосро.
— Чего? Чего ты не понимаешь? — склонился к нему отец Зосиме.
— Не понимаю, в чем ты меня обвиняешь! — мгновенно ответил Кайхосро, уставясь в лицо священника и продолжая улыбаться, но уже несколько встревоженно, растерянно, как человек, сгорающий от любопытства.
— Мда-а-а… — протянул отец Зосиме, вновь откинувшись на спинку стула. Стакан свой, доверху наполненный вином, он держал обеими руками, нежно, осторожно, словно живое существо, которое, выпусти он его из рук, может и убежать, улететь. — Больше-то они ничего не сказали? Так просто сели и уехали? — спросил он.
— Сели и уехали… Почему ты, отец мой, не говоришь, в чем ты меня обвиняешь? Мне же надо знать! — сказал Кайхосро. — Сели и уехали! — повторил он в то же мгновение, как бы вдруг испугавшись ответа на собственный вопрос, поняв, что ему скажет священник, и поэтому отказываясь от чрезмерной настойчивости. — Да благословят вас триста шестьдесят пять святых Георгиев, кричали они с улицы, пока пролетки разворачивались… А он свою жабу затащил в комнату матери. Теперь, говорит, мы тут жить будем, — мне, понимаешь, намекает, я ведь ее замуровать хотел. Мало ли в доме комнат — так нет, ведь нарочно именно туда нос сунул, чтоб и болезнь матери против меня использовать, чтоб еще больше мне на голову сесть! И сам, дескать, заражусь, но и вас всех перепачкаю! Этим все и кончится… пока всех вокруг не погубит, не успокоится. Да если мы тебе неугодны, уходи, оставь нас в покое! Если сам катишься в пропасть, зачем меня за собой тянуть? А? Я этот дом построил для себя, ты, батюшка, сам знаешь: своими руками выстроил! Кому тут не нравится — уходи, сделай милость, скатертью дорога! Хватит мне и того, что мой дурак сын чахоточную жену в дом привел. Мне не то что вертихвостка имеретинка — мне королева английская даром не нужна, ежели она чахоточная! Почему я всем поперек горла? Почему все хотят, чтоб я поскорей околел, — и домашние, и чужие? Кому я неугоден, тот и мне не нужен! И так уж меня все дураком считают за то, что я собственный дом врагами наводнил! Не знаю, как на это твой бог смотрит, а у меня своя голова на плечах. Ни дня больше никого у себя в доме не потерплю, кто своей жизни мою не предпочтет… Это как же, значит, — я их приюти, корми, одевай, обувай; а они будут гадать, как меня же прикончить, да? Не-ет, пресвятой отец мой! Молочные зубы у меня выпали уж давно! Одним словом, что тут долго рассусоливать — выгнал вон… Вчера же ночью обоих вышвырнул! — вдруг отрезал Кайхосро.
«Лопнуло… Разлилась желчь, теперь уж ничего не поможет, — думал отец Зосиме. — Разольется по земле…» Потом оба долго молчали, лишь изредка нехотя отпивая глоток-другой.
— Тебе нельзя было отпускать их… — сказал наконец священник.
— Что значит «отпускать»? Я их сам выгнал, говорят тебе! — рассердился Кайхосро.
— Нужно было сжечь их обоих, как постель Бабуцы… — сказал отец Зосиме.
Эти слова так изумили Кайхосро, что он уставился на священника с выражением умоляющего вопроса в глазах, словно не мог понять, шутит тот или говорит серьезно. Отец Зосиме все так же спокойно и неподвижно глядел своими мерцающими глазами прямо в лицо Кайхосро. «Знает ведь… все знает! — мелькнуло вдруг в голове Кайхосро. — А я-то с ним никогда не говорил откровенно…» Этому бог весть откуда приобретенному знанию отца Зосиме была уже грош цена: в этот миг Кайхосро впервые почувствовал, какой несущественной стала теперь его тайна, как давно уж она потеряла всякий смысл, словно передержанное вино вкус и крепость. Крикни он сейчас хоть с колокольни, что он не Макабели, все окружающие или вообще не поверили бы, или равнодушно пожали бы плечами. Кем он был когда-то или кем он стал бы, сложись его жизнь иначе, никакого значения уже не имело, и, даже отказавшись сейчас от присвоенного имени, он все равно не заставил бы других его забыть: для других он до самой смерти так и остался б майором Макабели! Да и после его смерти люди лишь под этой фамилией смогли бы вспоминать его внешность, привычки, его жизнь вообще; настоящее свое имя он уже давно позабыл, а если б даже и вспомнил, то оно показалось бы ему чужим, не соответствующим, не естественным, а всем остальным — фальшивым, выдуманным, сомнительным! Ибо естественно для человека лишь то, к чему он привыкает каждодневно, постепенно и навсегда. И Кайхосро засмеялся — не разжимая губ, грубо, неприятно! А потом и в горле отца Зосиме что-то забулькало, как вода в опрокинутом кувшине…
— Что ж ты грех-то свой все умножаешь и умножаешь, несчастный? — спросил он вдруг.
— Несправедлив твой бог, батюшка… несправедлив! — процедил сквозь зубы Кайхосро.
9
Руки помнили все. Он клал их на колени и, словно глядя в глаза мертвому другу, молча рассматривал оставшиеся от ранения ямки. Как тело мертвого друга, принес он в ту ночь домой свои руки, черные от крови. Его семья не знала и малой доли того, что знали эти руки, того, что они пережили вместе с ним — и плохого, и хорошего. Все его четыре жены, естественно, давно пронюхали, что он ходит к христианке, но им и в голову не пришло бы, что если он кого на земле и любит, то лишь эту христианку. Руки же знали и это — с их помощью он, вместе с одеждой, сбрасывал с себя и семью, и веру, и самолюбие, и долг, и страх, чтоб, словно истомленный жарой путник в незнакомую реку, бездумно и беззаботно кинуться в прохладные, мягкие, как бархат, волны любви. Он чувствовал, как его возвращают в детство, очищают, облагораживают не только чистота, спокойствие и щедрость этой реки, но и неясное ощущение ее загадочных, опасных, болезненно привлекательных глубин. От него пахло этой рекой — его жены всегда безошибочно знали, когда он возвращался «оттуда». Валяясь на овчинных подстилках и вспоминая недавно пережитое наслаждение, он блаженно улыбался воркотне жен, добрый и безобидный, как любой зверь у себя в берлоге. Он чувствовал, что постепенно отвыкает от дома; но это его ничуть не огорчало, и угрызений совести он не испытывал: семья была его долгом, а «то» — наградой. В уголках сакли копошилось его потомство: рождавшиеся один за другим, чуть ли не одновременно, дети разглядывали лежащего на овчине отца, и их голые животики и попки белыми пятнами мелькали в едва освещенной коптилкой темноте. Рожденное четырьмя разными женщинами, потомство это уже слепо, безоговорочно поклонялось величию и власти своего общего отца, как верующие с четырех концов земли — единому, восседающему в центре вселенной божеству. Женщины, все четыре одинаково придирчивые, взволнованные и разозленные, нюхали, обшаривали, перетряхивали его одежду, а он улыбался своим воспоминаниям и был счастлив, зная, что помешать существованию той, единственной, они бессильны и вчетвером. Вернувшись домой в ту ночь, весь окровавленный, он обнаружил в глазах жен радость, а в глазах сыновей гнев. Он долго не мог ничего делать руками: раны несколько раз загнаивались и вновь открывались; но он спокойно, безропотно переносил и боль, и свою беспомощность. Руки, в несколько слоев обмотанные пестрыми тряпками, лежали у него на груди, и он молча глядел в потолок. Сказать, что он стал ко всему равнодушен, было б неверно: он просто не знал, что ему делать, как поступить — не в данный момент, а вообще — если для него навсегда закрылась дорога к той, без которой ему ни к чему были и семья, И скот, ни к чему было быть мужчиной! Безысходная, одуряющая ленивая печаль сидела где-то внутри, и он с замиранием прислушивался к ее бесконечному шороху, стенаниям и вздохам — ничего другого он пока что делать не мог и не хотел. «Околдовала его эта ведьма…» — тяжко вздыхали жены, и он впервые в жизни испытывал стыд перед ними; не оттого, что изменял им, а оттого, что и они знали о его поражении. Он знал, что для них его измена простительней его поражения, что, объясни он им в самом деле, куда идти, они б за волосы притащили ее сюда, держали б ее тут на привязи — лишь бы только не видеть его, своего хозяина и кормильца, таким угрюмым и жалким, лишь бы его душа вновь расположилась к семье и хозяйству! Но он продолжал глядеть в потолок; обмотанные руки лежали у него на груди, и он чувствовал, что грызущая изнутри крыса тоски ему приятна. Потом раны чесались, и он зубами рвал повязки — собственные руки мучили его, как краденая лошадь, которую нужно вовремя надежно спрятать или же раз навсегда от нее избавиться, ибо клеймо, которым она помечена, общеизвестно. Его руки сами вынуждали его вернуться к жизни, вновь стать мужчиной, вновь заняться своими овцами, коровами, овчарками и лошадьми, вновь неделями и месяцами сидеть в чайхане, выгоняя из разгоряченного тела, вместе с потом, все недуги. Тоска и раскаяние были не к лицу ему, владельцу кулаков с баранью голову величиной, — тосковать и каяться следовало заставить других! Но он до сих пор не понимал, против кого, собственно, разъярен, да и разъярен ли вообще. Нет, он был не разъярен, а обижен, и обижен несправедливо. Ибо, по его разумению, он был защитником и ее, и ее сына: кончилось же все наоборот — тем, что от него-то их и защитили. Но и не это даже было главным! Ни майор, ни целый батальон никогда не заставили б его отказаться от десятилетней любви, если бы он чувствовал, что и они, мать с сыном, сами хоть немного его любят. Но его жены были, кажется, правы: десять лет подряд он действительно был опоен зельем! Десять лет подряд он был всей душой привязан к чужому отродью, не зная толком, сколько у него собственных детей; десять лет подряд он целовал ноги христианке, да еще чьей-то вдове, в то время как четыре женщины грызлись, как цепные псы, из-за чести вынести его помои. Десять лет подряд он был влюблен как безумный и не колеблясь перерезал бы глотку собственной жене или сыну, осмелься они преградить ему путь в Уруки! Все эти десять лет он был другим человеком, у него было другое сердце, другие глаза — это-то он понял сразу; но в том-то и была беда, что эти десять лет слепоты не только были лучшим, драгоценнейшим временем его жизни, но остались им и сейчас, когда они ему уже не принадлежали, навсегда от него отделились, задвигались сами по себе, как отрезанный хвост ящерицы. Желания мстить у него не было — теперь он уж и не был уверен, что действительно заслуживал потерянного, казавшегося ему своим лишь по глупости. И все-таки о мести он думал все время. Мстить он был обязан, хотелось ему этого или нет, — это зависело не только от его желания, это был его долг перед богом и перед собственным потомством, многочисленным уже, как овечья отара, — перед потомством, вокруг которого, словно четыре злые овчарки, кружились четыре женщины. Он знал, что его домочадцы вытерпят все, простят ему все — и постельные утехи с христианкой, и топленое масло для христианского ребенка, — но скорей умрут или добровольно продадутся в рабство, чем останутся женами человека, отвергнутого другой женщиной, сыновьями человека, оставившего свое оскорбление неотмщенным: а иначе им и не жить было бы под этим небом, на этой земле, где кровь смывается только кровью! Со временем его жены становились все строптивее и наглей, словно лишь сейчас им стало трудно мириться с тем, с чем они десять лет подряд мирились. Но он не спешил — мысль о мщении еще хоть как-то связывала его с Уруки; уже отомстив, он лишился б и этого. Всех сыновей и внуков, росших под его кровом, он заставлял дотрагиваться до своей раны; широко раздвинув ноги и поставив между ними ребенка, он стискивал его слабую, напряженную ручку и водил ею по ране до тех пор, пока на внимательном золотушном личике не появлялась улыбка неосознанной радости и столь же неосознанной гордости, улыбка человека, убедившегося в необоснованности своих страхов и сомнений. Он и сам не знал, зачем это делает, — вероятно, ему казалось, что его раненые руки скажут ребенку больше любых слов. Сейчас в эти две раны, в эти две сморщенные ямки, была втиснута, осела, опустилась вся его жизнь, рассказывать о которой он никому не собирался — не потому, что многое в этой жизни огорчало теперь и его самого, а потому, что это была его жизнь, до которой и его родному сыну дела не было! Человеку с понятием достаточно и того, что он видит, того, что скрыть нельзя; рана говорит о человеке больше и лучше, чем человек о своей ране. Это он видел и по глазам детей, в которых недолгие растерянность и любопытство мгновенно сменялись гневом и жаждой мести. Так что, давая сыновьям, а потом и внукам ощупывать свои пробитые пулей руки, он делал это не для развлечения — по грубым, уродливым складкам раны их нежные, слабые еще пальчики учились читать жизнь, как читают букварь слепые… Мщение было неизбежным; оставалось лишь решить, кому мстить, кто из двоих больше достоин смерти — мать или сын. О майоре он и не думал — майор был для него то же самое, что неодушевленный пистолет; смерть майора не оставила бы в его душе никакого следа, потому что никакого чувства к майору у него ни до, ни после выстрела не было. А вот мать с сыном, укрывшихся за спиной майора, он любил — и до происшествия, да и после него тоже; и мучило его не то, что ему пустили кровь, а то, что надругались над его десятилетней любовью. Но чем больше он обо всем этом размышлял, тем ясней становилось ему, что сын обидел его больше, чем мать. Не будь Георги, Анна на эту измену никогда не осмелилась бы. В сущности-то она променяла его не на майора, а на Георгу; неприязнь к нему родилась не в Анне, а в Георге. Анна же, когда ей пришлось решать, просто предпочла сына любовнику. Для него это было очень тяжело, очень горько — и все-таки это можно было еще как-то и понять, и простить. Анна просто выполняла свой долг, принадлежала тому, кто больше в ней нуждался, у кого было больше прав на нее, — он же, ввязавшись в эту любовь, лишь опозорил себя и перед семьей, и вне семьи! Но сейчас, когда все это давно уж стало воспоминанием, когда огонь страсти погас, испепелился, когда его сыновья сами уже похищали и покупали женщин, а в ямках ран начали копошиться робкие, любознательные пальчики внуков, он с душераздирающей тоской и печалью чувствовал, что главным в его жизни была все-таки любовь не к Анне, а к Георге, что десять лет подряд он добивался любви не Анны, а Георги. Сделать Анну своей женой он мог бы в любой момент, как только захотел бы, — с этой-то целью он ведь и вернулся в Уруки в ту проклятую ночь; но в Георгу он никогда, никаким колдовством не смог бы вдохнуть свою душу и кровь. У мужчины, отвергнутого женщиной, усы не отвалятся — он или возьмет ее силой, или заменит другой; но когда десятилетний сопляк, все эти десять лет пропрыгавший у тебя на коленях, вдруг обещает убить тебя — тут уж сраму не оберешься, тут уж ни поясом с кинжалом, ни аршинными плечами никого не обманешь. Дети и собаки, во всяком случае, сразу почувствуют, что ты за молодец! Поэтому месть была неотвратима — она росла упрямо, день за днем, как чрево соблазненной девушки; знал он уже и то, чья смерть из этого чрева родится. Но тут у него неожиданно возникла другая забота, и он перевел дух, облегченно вздохнул — ему представилась возможность еще ненадолго отложить уже решенное и неизбежное. «Урукийский торговец твоими похождениями, говорят, покупателей развлекает…»— сказал ему как-то его старший сын. Он не мог оторвать глаз от угрюмого лица сына — он был тронут гневом и нетерпением, звучавшими в голосе молодого мужчины, почувствовал, как тот страдает, и его сердце впервые сжалось от благодарности к родной плоти и крови. Внезапно он ощутил юношескую легкость и бодрость. Наказать урукийского купчишку было действительно задачей легкой и занимательной в сравнении с тем, о чем сын говорить избегал, — вот то было дело действительно святое, наследственное, дело, от которого зависела честь всего рода! В ту же ночь оба они были в Уруки. Сына он взял с собой не в помощники, а в свидетели — ему вдруг захотелось показать себя сыну, убедить сына в том, что он еще мужчина. «Я ему и с лошади сойти недам… я ему голову этого торгаша-сплетника, как арбуз, швырну!» — молча думал он. И все-таки сердце его колотилось, и думал он об этом для того только, чтоб не думать о другом, чтоб мысль об этом другом, главном, его не расслабила. Впервые в жизни он ехал в Уруки с недоброй, кровавой целью, и ехал вместе с сыном; а это была его, только его дорога, и ездить по ней его сын был вправе меньше, чем кто бы то ни было другой, — по ней он всегда ездил к любимой женщине. Теперь эта дорога как будто искривилась, стала длинней; на этот раз она вела не к любимой женщине, а к человеку, которому следовало умереть. И все-таки он так же, как когда-то, волновался так, словно должен был вот-вот опять увидеть ее, приласкать ее, облизать мокрые от слез щеки! «О чем ты думаешь, отец?» — изредка окликал его сын. «О чем? Сам не знаю. Думаю вот…» — машинально отвечал он, уже раздраженный близостью и заботой сына. Потонувшая в густой тьме деревня спала, но он сразу почувствовал, что за время его отсутствия тут что-то изменилось. Никогда в жизни не видевший этих мест днем, он, однако, знал их как свои пять пальцев; поэтому, когда вместо знакомого, все еще почти любимого дома, ему в глаза бросилась вдруг черная, удушливая пустота, он невольно остановил лошадь, хотя с самого начала решил и не глядеть на этот дом, не выдавать сыну его местонахождения. Сын тоже остановился, и он чуть не спросил у сына, что, собственно, произошло. На миг ему даже показалось, что приехал он сюда не для убийства Гарегина, а для того, чтоб забрать мать и мальчика с собой, как в ту проклятую ночь. «Заберу, и кончено… ногой больше в эту деревню не ступлю!» — думал он тогда; ему и в голову не приходило, что что-либо может помешать, воспрепятствовать его честным намерениям. Тогда в него всадили пулю, как в вора и разбойника. Хорошо, что он хоть вовремя прикусил язык, не стал объясняться — ему все равно не поверили бы, разве что, кроме пули, еще пинком в зад угостили б! Но еще несправедливей было бы, если б за это время что-нибудь случилось с ними без его участия, независимо от его воли. Снесенный дом вывел его из себя — то есть не сам дом, конечно, а неизвестность судьбы тех, кто обязан был встречать его в этой душной тьме, всегда, когда б он ни появился. Через минуту он уже стоял перед лавкой и грубо, злобно колотил кнутовищем в ставню. Как раз в этот момент Гарегин собирался разбудить жену — его заползшая под одеяло рука сразу одеревенела от испуга. Женщина первой приподнялась в постели. «Кого это черт мог принести в такое время?» — сказала она, зевнув. А стук в ставню продолжался. Рассвирепев, он стучал изо всех сил, словно человек, попавший в беду, человек, пришедший не убивать, а просить помощи. Его сын, остановив лошадь в стороне, даже не спешился; держа на луке седла заряженный пистолет, он спокойно ждал, словно ему не было ни малейшего дела ни до этой лавки, ни до человека, который, казалось, кулаками вот-вот отобьет ставни. Внутри лавки не слышалось ни шороха; но стучавший инстинктивно чувствовал, что это — не тишина пустоты, а тишина страха, нарушить которую может лишь страх еще больший. Свет зажегся так внезапно, что на миг это застало его врасплох, хотя лишь этого он и ждал. Не успела дверь открыться до конца, как острие его кинжала оказалось у кадыка Гарегина. Войдя в лавку вслед за своим кинжалом, он остановился, увидав, как Гарегин в одном нижнем белье плеснулся к стене, словно вылитое молоко. В темном углу, как крысы, зашуршали дети; жена Гарегина зажала рот ладонью, чтоб не закричать. В тот же миг он услыхал пение сверчка и сообразил, что все происходящее в лавке видно через открытую дверь и его сыну на улице. «Его нельзя убивать… и крови-то небось в жилах нет!» — злобно, горько подумал он, словно пытаясь переубедить сына. «Где они? — невольно вырвалось у него, и он тут же оглянулся на дверь, испугавшись, что это услышит и сын. — Ты, дорогой мой, язык, говорят, чересчур распускаешь?» — громко, чтоб услыхал сын, спросил он Гарегина. Ответа он ждать не стал — он понял уж и то, что парализованный ужасом Гарегин говорить сейчас не в состоянии, и то, что убить лавочника он не сможет, даже если б сын и счел его последним трусом! Он не мог марать рук в нечистой крови торгаша, его ждало другое убийство — священное, угодное богу; и узнать об их судьбе ему было сейчас гораздо важней, чем раздавить, уничтожить, вырезать все отродье болтливого купчишки. «Где они?» — обернулся он к женщине. «У майора… переселились», — не задумываясь ответила она, словно ждала этого вопроса всю жизнь: женское чутье помогло ей сразу разобраться во всем. Он невольно усмехнулся тому, что чуть было не поблагодарил ее, чуть было не швырнул денег копошившимся в темном углу детям. «Не бойтесь… вот если б сын мой сюда вошел, тогда все было бы иначе!» — подумал он. «Камень и гвоздь!» — крикнул он женщине: лишь в этот момент ему пришло в голову прибить Гарегина за ухо к двери собственной лавки. Чтобы проучить болтуна, укоротить его грязный язык, вполне достаточно было и этого — да и перед своим задыхающимся от злобы сыном он все-таки не так опозорился бы. За приоткрытой дверью было темно, в темноте стоял его сын, который все видел. На луке его седла лежал верный, быстрый, безотказный пистолет; но пустить его в ход он не мог, не смел возражать отцу — он был не участником дела, а просто свидетелем. «Бесится небось…» — подумал отец, прижимая кинжал плашмя к щеке Гарегина и гоня его к двери. «Посвети мне!» — приказал он женщине. В одной ее руке была лампа, в другой — камень и гвоздь. Голова Гарегина стукнулась о дверь глухо, как недозревшая тыква. Вложив кинжал в ножны и беря из рук женщины камень и гвоздь, он успел заметить ее счастливые, благодарные глаза. В темном углу копошились дети — он знал, что и они смотрят сейчас на его руки. А его сын на улице, наверно, уже кусал губы от злости. «Не убью, нет… раз уж до сих пор выдержал!»— мысленно крикнул он. На улице фыркнула лошадь, его лошадь, — лошадь, на которой сидел сын, фыркнуть сейчас не посмела бы. Что-то смутно, неясно обрадовало его — вероятно, злоба и беспощадность сына, — и он с силой ударил камнем по гвоздю. Гвоздь мягко, не встречая сопротивления, прошел сквозь мочку уха, и его рука сразу расслабилась; он почувствовал, что зря старается — его ярость прошла сразу же, как только он вошел в лавку. Нет — когда он узнал, что они живы! «Попробуй только хоть имя мое упомянуть еще раз…» — сказал он и снова ударил по гвоздю. Краешек камня раскрошился, крошки посыпались Гарегину за ворот, но он и не пошевелил прижатой к двери головой, словно боясь помешать карающей руке. «Придется постоять так до утра!» — сказал он женщине таким тоном, словно у него попросили совета. «Спасибо… ноги тебе целую!» — горячо сказала женщина. Швырнув камень в открытую дверь, он услыхал, как вздрогнули лошади, и ему вдруг до безумия захотелось исчезнуть, никогда больше сюда не возвращаться. Он уже вскочил в седло, когда женщина, выйдя на улицу с лампой, крикнула ему: «На этой стороне… не доходя церкви!» До церкви лошади шли шагом. Дом майора он узнал без труда, так, словно провел в нем полжизни. Нет, он узнал не дом — он просто всем телом почувствовал, что они именно в этом доме; их дух витал где-то рядом, в воздухе. Потом он пустил свою лошадь вскачь. Сын скакал вслед за ним, — и он старался расслышать в топоте копыт стук собственного сердца.
После этого вновь утекло очень много воды, — но он все еще медлил. За эти годы он похоронил двух жен, трех сыновей и одного внука, а его старший сын навек его возненавидел. Встречая отца, он теперь так отплевывался, словно ему в рот попал волос, но оба они хорошо знали, какой волос им мешает и от чего им нужно избавиться. «Нас гяурами называют… это правда, отец?» — едко, насмешливо говорил ему старший сын. Но сейчас это его уже не беспокоило — что ему делать, он знал и сам. После расправы с Гарегином он не раз еще вновь побывал в Уруки и усадьбу майора знал теперь так, что легко обошел бы ее с закрытыми глазами. Но цели своей он так и не достиг: в последний миг он каждый раз чувствовал вдруг такую слабость, что во весь опор гнал коня, боясь умереть в чужом дворе, как бездомная собака… И вот он снова тут — теперь уж воистину в последний раз! У него мало времени — прийти сюда еще раз он может и не успеть. Бегать взад-вперед ему уже поздно: он обязан немедленно получить все, что ему следует, и уплатить все, что должен сам, кровью смыть свои грехи, кровью очиститься от земной скверны и, родившись мужчиной, мужчиной же предстать перед всевышним! И вот он опять тут, под липами, — и довольно уж давно. Он глядит на звезды, и у него кружится голова; столько же раз, сколько в небе звезд, он уже вознес свою мольбу к аллаху: «Если тебе, боже, угодно, чтоб он пал от моей руки, сделай так, чтоб он проснулся и вышел…» А теперь он ждет: теперь пусть аллах решает сам, теперь оба они — и убийца, и выбранная им жертва — в руках аллаха. Теперь он и шагу отсюда не сделает до первого петуха; если этого захочет аллах, Георга выйдет из хлева до того, как пропоет петух. Выйдет, сердце чувствует, что выйдет, — и он к этому готов! Сейчас он исполняет не свою волю, а божью, и без колебаний исполнит ее как можно лучше и добросовестней. И вот… вот она, справедливость божья! Дверь хлева открывается, и из нее выходит он — причина и цель, сосуд жертвенной крови, агнец безвинный, уготованный в жертву богу вместо родного сына…
Георга проснулся неожиданно, чего-то испугавшись во сне. Ему снилось, что его кто-то ждет… ждет настолько давно, что сейчас было бы просто свинством выйти и объявить — извини, мол, я забыл, что ты меня ждешь! Следовало непременно придумать что-нибудь получше; но сознание словно застыло и ни малейшего подобия мысли в нем не зажигалось — поэтому-то он и проснулся с ощущением тревоги. Сунув ноги в шлепанцы, он выглянул из хлева и остановился как вкопанный — под липами действительно кто-то стоял! Его первым движением было вернуться в хлев: растерявшись от такого совпадения сна и яви, он не мог даже толком отличить их друг от друга. Но и времени на размышление не было: сон это был или явь, следовало все равно подойти к незнакомцу, попросить извинения и выяснить, кто он такой, чего хочет и почему так долго ждал, вместо того чтобы просто разбудить Георгу, для пробуждения которого достаточно было и стука воробьиного клюва. И Георга пошел к липам. Сделав шаг-другой, он вдруг узнал незнакомца — но вместо того, чтобы вскочить обратно в хлев и запереться на засов, лишь ускорил шаг. Незнакомец неподвижно стоял под липами, ожидая его. Кинжала Георга не заметил, но, ощутив острую, холодную боль в животе, не удивился и не испугался — чего-то в этом роде он бессознательно ждал с первого же взгляда на незнакомца. Боль повторилась резче и горячей, но на этот раз как бы уже вне его тела. Сразу вспотев, он, чтоб не упасть, обнял незнакомца, сунул лицо в ворот его овечьего тулупа— и вдруг голова его закружилась от удивительно знакомого, с детства родного запаха, такого забытого и в то же время такого незабываемого, что его сердце дрогнуло, и он сразу увидел отцовский дом, черную черкеску на стене, синий от яблоневых стволов двор и мать в огороде. Он почувствовал даже запах кориандра… кориандра того времени, кориандра своих детских лет! «Ты нас до сих пор не забыл… басурман ты наш!» — ласково сказал Георга убийце, словно давно потерянной и случайно нашедшейся собаке. Тот хотел что-то ответить, но не смог — лишь громко глотнул слюну. У Георги кружилась голова, все его тело ощущало какую-то одуряющую легкость; земля уходила у него из-под ног, и он все тесней прижимался к убийце. Жар потной шеи борчалинца был ему приятен — сейчас Георга как бы даже любил этого человека, принесшего ему смерть, святого и угрюмого, как ангел смерти. «Покончили с долгами!» — простонал Георга и тут лишь заметил, что борчалинец несет его на руках. «Куда-а ты?» — прохрипел он, сам уж не зная, к кому обращается — к убийце, к самому себе или к обоим вместе. Потом он сидел в хлеву на тахте… «В ту ночь я приезжал, чтоб увезти вас… увезти вас… увезти вас!» — трижды прошептал ему борчалинец, силой стаскивая его руки со своей шеи. Георгу знобило, к нему вернулось сознание. Он был уже один, беспредельно один, и это его удивило: он не понял, почему борчалинец не остался с ним до конца. Он прилег на тахту, но кровь пошла горлом, и ему пришлось приподняться. «Мама с горя помрет…» — мелькнуло у него в голове. Он бессмысленно пошарил рукой в темноте, но ничего, кроме сырой пустоты, там не оказалось. «Наши спят…» — внезапно подумал он и опять прилег— так медленно и осторожно, словно у него на животе сидел ребенок. Но лежал он недолго и снова присел — он чуть не захлебнулся кровью. «Зачем ты в меня из ружья стрелял?» — окликнул его выцарапанный на камне человечек. «Я? Неправда!» — обиделся он на несправедливый упрек. «Ты же был рядом с ним! Ты пытался остановить его?» — прищурил глаз человечек. «С меня взыщи, господи… за все взыщи с меня!» — пристыженно пробормотал умирающий. К его ногам натекла лужа крови; голени пробирала холодная дрожь. Он в третий раз прилег — но сейчас тяжести уже не почувствовал. В животе приятно жгло — что-то теплое, липкое, бесконечно медленно вытекало из его притихшего тела. «Вот тебе твой человек… или убей, или дай убить себя!» — крикнула вдруг ведьма Кекела из того угла хлева, где, по представлению Георги, должен был находиться осел. Потом он увидел Кекелу — он тут же узнал ее воспаленное веко; большим и указательным пальцами она, как веретено, вертела у себя на коленях изъеденную виноградную кисть. «Откуда здесь ведьма Кекела?» — удивился Георга. Ведьму Кекелу похоронили, когда он жил еще в отцовском доме; случайно оказавшись на ее похоронах, он запомнил их на всю жизнь — вероятно, из-за той горсти кутьи и глотка вина, которые он, давясь от отвращения, вынужден был проглотить над могилой ведьмы. Ведьма Кекела жила под лестницей приходской школы, и дети сквозь щели между ступеньками засыпали ее каморку хлебными крошками и песком или заливали ее водой до тех пор, пока Кекела, в отчаянии от их безжалостных проказ, не выскакивала из своей затхлой тьмы — как и полагается ведьме, вся нечесаная, грязная, в отрепьях! «Чтоб вам до моего возраста дожить… чтоб вам никогда не помереть!» — кричала она вспорхнувшей, как птичья стайка, детворе, вытряхивая из волос застрявшие в них крошки и песчинки. Георга ведьму Кекелу никогда не дразнил, но почему-то очень ее боялся. Один глаз ведьмы казался вывернутым наизнанку— ее вечно мокрое, воспаленное веко блестело, как подкладка красного атласа. Деревня похоронила ее из милости и, конечно, без особого огорчения; двое мужчин несли ее гроб, как старую, выбрасываемую в овраг тахту. Это Георге тоже запомнилось — никогда до этого, да и после этого тоже, он не видел, чтобы гроб несли вдвоем. Кекеле, впрочем, большего и не требовалось— она была такая маленькая и ссохшаяся, что в сильный ветер и на улицу выйти боялась. За гробом шла только жена могильщика; она несла завернутые в газету свечи, бутылку вина и тарелку кутьи. На кутье сидела большая, сверкающе-синяя муха. На некотором расстоянии за этой странной процессией шел и Георга. Засыпав могилу, участники похорон заметили, что он подглядывает из-за тернового куста. Он был уверен, что его выгонят и обругают: тебе-то, мол, что до этой ведьмы? Его изумило, что вместо этого его подозвали постоять вместе с ними у еще сырого могильного холмика и заставили проглотить горстку кутьи и глоток вина прямо из горлышка — ему объяснили, что это дар покойнице и милость божья. От темной кисловато-горькой жидкости его чуть не вырвало: ему показалось, что он проглотил и сверкающе-синюю муху, сидевшую на кутье давеча. Кутья застряла во рту, ее хотелось выплюнуть, но сделать этого он не посмел, постеснялся. Это было настоящее мучение — но он стоял и терпел! «Ты доживи до ее возраста…» — погладила его по потным волосам жена могильщика. «Отмучилась, бедняга!» — сказал могильщик, выливая на могильный холмик остаток вина из бутылки. «Доктор, доктор, тебя мальчик ждет… вон, у Макабели. Убили его, кажется!» — крикнула ведьма Кекела. «Плохи твои дела, Георга…» — сказал доктор Джандиери с ласковой, лучезарной улыбкой. «Узнал, значит!» — обрадовался Георга. Ему вспомнился день, когда он впервые увидел доктора Джандиери. Вся веранда дома была завешана сорочками и простынями Бабуцы; въехавшая во двор двуколка остановилась под липами, и доктор медленно, не торопясь сошел с нее. «Ну, как там твой виноградник?»— спросил он Георгу, улыбаясь именно так, как сейчас. Потом он вдруг помрачнел, покачал головой. «Плохи дела…» — сказал он и направился ко входу в дом. Запряженная в двуколку лошадь нюхала землю, лениво помахивая сверкающим серебристым хвостом. «Вот он! Или убей, или дай убить себя!» — крикнула ведьма Кекела и завертелась на месте. Из-под ее развевающейся юбки показались худые, увядшие голени, на миг напомнившие ему девочку, с которой он разговаривал во время венчания матери. «Молчи, ведьма!» — с ласковой улыбкой закричал доктор Джандиери, и Георга тоже улыбнулся. «Я, доктор, немного хочу…» — начал он, осмелев, и тут же запнулся, поняв вдруг, что на земле ему делать уже нечего. Все, что ему было поручено, он исполнил, и сейчас, даже если бы доктор его вправду спас, Георга и сам не знал бы, сколько еще и зачем ему жить. «Плохи твои дела, Георга… из рук вон плохи!» — сказал доктор Джандиери. «Ради мамы… для мамы…» — снова нерешительно начал Георга. Сказав «мама», он вспомнил вдруг мертвого отца и сразу же почувствовал какую-то неясную, но поразительную, потрясшую его с ног до головы надежду. И доктор, и ведьма исчезли; он снова был один, беспредельно один — откинувшийся на тахту, с вываливающимися кишками, с ногами в луже крови! Он не слышал уже, как беспокоился в своем темном углу осел, напуганный вошедшей в хлев человеческой смертью. «Отец! — еле слышно прошептал Георга. — Домой хочу… где-е ты?» — простонал он, закатывая глаза. Почти тотчас же на его вспоротый живот слетел разбуженный петух; больно вонзив в него сильные, острые шпоры, он искоса поглядел на Георгу своим одеревеневшим глазом, сжался, взъерошился и изо всех сил кукарекнул прямо ему в лицо. Георга был уже мертв.
«Спасся… еще раз спасся!» — думал на следующий день Кайхосро. И все-таки считать себя спасенным окончательно он не мог — убийство Георги вовсе не означало, что убийца им ограничится. Поэтому оно лишь пробудило старые страхи Кайхосро, еще раз убедило его в том, что жизнь его все это время висела на волоске. Он стоял во дворе и, терзаясь от страха, глядел на дверь хлева. На него жаль было смотреть! Издали он еще мог бы показаться скорбящим — в действительности же это был самый истинный, самый настоящий страх, нагло и смело разросшийся по всему его телу, выпустивший толстые, колючие листья, словно попавший на кучу навоза сорняк! Из хлева вышел отец Зосиме.
— Ну что там, батюшка? — умоляюще спросил его Кайхосро.
— Одевается! — коротко ответил священник.
Ответ этот поразил не только Кайхосро, но, казалось, и стоявшего под липами осла. Своими большими влажными глазами, из которых не исчез еще вчерашний испуг, осел так напряженно вглядывался в обоих мужчин, словно и ему не терпелось узнать, что происходит там, в хлеву.
— Одевается? Кто одевается? — взволновался Кайхосро.
— Сына раздела и сама одевается… Слава тебе господи! — перекрестился отец Зосиме. — Словно к свадьбе наряжается… теперь уж в последний раз! — добавил он, помолчав, и отвел глаза от осла, не выдержав упорного взгляда животного. — Агатия не давала: давай, говорит, хоть разок ополосну… Оденется, потом туда войду… — добавил он так тихо, словно стыдился животного, просил у него извинения за свое бессилие и бесполезность и для покойного, и для скорбящих. — Где Петре? — крикнул он вдруг.
— Не знаю… за рисом и рыбой пошел, кажется. Гибнет земля, отец мой… — пробормотал Кайхосро, не заметив гнева священника.
— Нет… нет еще! — сказал отец Зосиме. — Пока на матери окровавленная рубашка сына, земля еще не погибла!
Его глаза мерцали уже как обычно. На засыпанных перхотью плечах светился бледный луч утреннего солнца.
— К чему сейчас эти рассуждения! — обиделся Кайхосро. — Дня спокойно прожить не могу…
— Человек, друг мой Кайхосро, как мельница: что в него заложишь, то и перемелет! — сказал отец Зосиме. — Но он, черт возьми, должен хоть знать, что мелет…
Так вот оно и вышло — с этого дня Анна поселилась в хлеву. Под платьем у нее было надето окровавленное белье Георги, а ночью она спала в его окровавленной постели. Привыкшие к Георге воробьи будили теперь ее, и, когда осмелевшие, обнаглевшие птицы с шумом и гомоном окружали эту маленькую, преждевременно сломленную жизнью и все-таки всегда улыбавшуюся, как девочка на качелях, женщину, она говорила с ними о Георге, не сомневаясь в том, что они ее понимают. «Мой мальчик был добрый, он вас любил…» — говорила она, время от времени с улыбкой оглядываясь на Агатию, как бы гордясь тем, что воробьям так приятен разговор о Георге; и подавленная ее горем Агатия, скрестив руки на груди, молча глядела на нее. По желанию Анны осла ночью по-прежнему держали в хлеву, хотя внутри хлева она и устроила нечто вроде храма. На стенах висели брюки, рубаха, тушинская войлочная шапочка, покоробленные, задубевшие лапти и пестрые шерстяные носки Георги; в одном из углов стоял заступ с отполированной его ладонями ручкой; вокруг выцарапанного на камне человечка постоянно, неугасимо горели свечи, а у изголовья тахты курился ладан, и нить фиолетового дыма медленно, но безостановочно тянулась к потолку. В сумерках превращенного в храм хлева темное тело осла со слезящимися от ладана глазами возвышалось, словно монумент одиночества и безысходной скорби. «Ночью совсем спать не могу!» — голосом Георги жаловался Анне выцарапанный на камне человечек. «Почему, родной мой?» — волновалась стоявшая перед ним на коленях Анна. «Да вот — все у меня крик петуха того в ушах стоит…» — «Устаешь ты, сынок… очень устаешь. Ты еще маленький!» — шептала Анна. «Я всех вас помню, мама, всех вас жалею…» — отвечал человечек, роняя восковые слезы. «Почему ты плачешь, сынок… почему ты плачешь?» — разрывалось сердце Анны. «Как это почему, глупенькая? — не щадил ее человечек. — Мать оплакиваю, вот почему!» — «Да, родной мой… да, отрада моя! Сын мать оплакивать и должен!»— била себя кулаком в грудь Анна. Их уединение нарушалось лишь боем часов — этот дребезжащий, безжалостный звук так пугал Анну, словно все еще длилось прошлое, словно ей, тайком прокравшейся на свидание с Георгой, сейчас предстояло вновь идти туда, в логово ненависти, чтоб опять греть кирпич заживо гниющему мужу, чтоб ради одного сына опять лгать и хитрить с другим. Бдительный, неподкупный страж двухэтажного дома Макабели своим гудящим боем опять звал, предостерегал, нагонял страх на узника, тщетно пытавшегося спастись именно в прошлом, спрятаться в ушедшем, мертвом, несуществующем времени, — часы, раз навсегда измерившие и отбросившие это время, и не думали ради кого бы то ни было возвращаться в него, вновь перетряхивать отрепья и мусор прошлого; ведь у них было сколько угодно нового, свежего теперешнего времени, которое нужно было точно так же измерить, убить и выбросить! На минут-ку-другую вся напрягшись, покинув созданный ее воображением мир, Анна с тревогой прислушивалась к бою часов. Между этими звуками и ее жизнью существовала еще какая-то затаенная, непостижимая связь — должно было произойти еще что-то, чтобы связь эта прекратилась, чтоб Анна и часы расстались, забыли друг друга окончательно, навеки. Она помнила дорогу — усыпанную желтым пеплом луны, темную от повешенных на деревьях теней, изрезанную скрытыми во тьме ямами, пустую, невыносимо пустую и как бы взъерошившуюся, удлинившуюся от боя часов дорогу назад, к злобному, язвительному сыну, к равнодушному мужу, к его грубой и шершавой, как кирпич, страсти! Она хорошо помнила и этот прислоненный к камину кирпич — закопченный, бог весть сколько раз согревавшийся на горячих углях, укутанный в лоскут старой шали, наподобие хилого, недоношенного младенца. Кирпич этот она и сейчас видела так ясно, точно держала его в руках, и ее пробирала такая дрожь, словно она вновь стояла босиком на холодном полу, вновь приседала на корточках перед камином. Кирпич прочно, основательно лежал там, куда она его клала обычно, на месте, выбранном, пожалуй, даже не ею, а им самим; ибо каждая вещь сама вынуждает своего хозяина выбирать для нее место, соответствующее ее объему, весу и назначению, чтобы твердо знать, где она находится, и не искать, когда она понадобится. Вещей, нужных человеку лишь один раз, не существует— а может ведь случиться, что от какой-то простой, обычной вещи будет зависеть и жизнь! Ничто другое в двухэтажном доме Анну уже не интересовало; но о кирпиче она не забыла и в хлеву. Почему-то он вставал перед ее глазами, как только она ложилась в постель Георги, — прислоненный к камину, закопченный, неподвижный, молчащий; и ей казалось, что она не засыпает, а всасывается в узкие, грубые поры кирпича. По ночам она иногда думала и о мести… Ночь была беспощадна — ночью ей было невозможно отключаться, обманывать себя. Ночь выявляла все растворившееся в дневном свете; мысли и намерения она оголяла и упрощала так же, как самого человека. День был отведен для безумия: вокруг нее с гвалтом и гомоном кружились воробьи Георги, повсюду, куда б она ни взглянула, цвела курага, как в день его похорон, и сидевшие на ступеньках лестницы Аннета и Асклепиодота с испуганным любопытством глядели, как она на коленях ползает вокруг хлева. «Не позорь меня! Подумай и о других! Кроме него, у тебя никого нет, что ли?» — кричал на нее Петре; и она с улыбкой глядела на него снизу вверх, дрожащими пальцами засовывая назад выбившиеся из-под платка волосы. Днем существовали и Агатия, и отец Зосиме; а изредка на веранде показывался и тот — ее защитник и губитель, лукавый кровоторговец! Сам же Георга днем вскапывал виноградник. «Устает он, родная, очень устает, — говорила она навещавшей ее Агатии. — До сих пор еще не пришел; и кусочка хлеба с собой не взял. Не заболел бы… Тому, кто работает, Агатия, есть нужно — натощак много не наработаешь!» — «А ты поешь сама — ему впрок и пойдет. Ну, заставь себя! И Аннета тоже… если, говорит, бабушка не поест, и я кусочка в рот не возьму. Аннету ты же любишь…» — умоляла ее Агатия. «Это потому, Агатия, что у тебя детей не было! Ты этого не испытала. Дети — это горечь, Агатия!» — говорила Анна. От бесконечного ползания по земле ее черное платье стало почти белым, лицо побагровело, а платок сбился набок. И Агатия плакала! Старческие морщины ее лица наполнялись слезами; сжав губы, она приглушенно выла, оплакивая и Аннино, и свое собственное несчастье, — вечная прислуга, женщина, материнства не испытавшая, а за выращивание чужих детей получавшая подержанные штаны и на всю жизнь оставшаяся такой же бесштанной девчонкой, какой ее привели когда-то в дом Микеладзе! Она всегда жила чужой жизнью, чужой болью и радостью, и, хотя у нее на коленях всегда сидел чей-нибудь ребенок, в материнстве она и сейчас смыслила не больше Аннеты. Выращенные ею дети, понабравшись ума-разума, тут же забывали все, кроме того, что она — прислуга, выросшая в их семье «бесштанница», с которой их связывает не любовь, а лишь привычка, присутствие которой не обязательно, а лишь полезно. Она ничуть не удивилась бы, если б любой из ее питомцев, подобно Луарсабу Микеладзе, на глазах у гостей вдруг задрал ей юбку, чтобы проверить, не забыла ли она надеть штаны, — то, чего он никогда не посмел бы проделать с настоящей матерью или бабкой. А она была ненастоящей — потому что никого не интересовало, может ли она родить ребенка. Она была тоже игрушечной — только, в отличие от Асклепиодоты, не игрушечной дочерью, а игрушечной матерью; да еще различались они тем, что Асклепиодота пришла в дом в собственных штанах, а Агатия без них. И сейчас, воя над потрясенной смертью сына Анной, она в самом дальнем, самом потайном уголке души ей все-таки завидовала — завидовала самой человеческой и страшной завистью, ибо и о таком могла лишь мечтать… Да, она заранее примирилась бы даже со смертью ребенка — только б судьба хоть на денек-два сподобила и ее стать матерью! «Ты этого не испытала…» — сказала ей Анна, и это ее лишь еще больше ранило, испугало, оскорбило! И она была женщиной; и ей хотелось испытать все установленное богом для женщин — и роды, и оплакивание! Но помочь и ей, и Анне не могло уж ничто. Все, что с ними должно было случиться, случилось — жизнь утекла, прошла мимо них, как бродячий разносчик, и, выманив, отняв, вырвав у этих двух бессильных женщин все, что ей требовалось, взамен швырнула одной из них неродившегося ребенка, а другой мертвого…
— Пойду Аннету укладывать… — сказала Агатия. — Такая уж взрослая девочка — а одна, хоть убей, не засыпает!
Хмуро, напряженно сидевшая на краю тахты Анна ничего не ответила. Ей хотелось, чтоб Агатия поскорей ушла, — осознанно или бессознательно, она слишком уж настойчиво старалась вытащить Анну из дурманящего уединения ее мнимого храма. Наверно, она и не подозревала, насколько безжалостна она была к Анне, какие муки доставлял Анне любой ее разговор об Аннете, Нико или Александре. Скорей всего, и она, подобно Петре, считала Анну безумной и пыталась лечить ее рассказами о любви внуков. Но она не знала, как необходимо Анне все время находиться тут, в хлеву или во дворе, чтоб не пропустить прихода Георгия… Она ведь вообще не знала, что Георгий жив, — где ж ей было догадаться, что в дом отчима он и ногой не ступит, как бы ему ни хотелось повидать мать! О том, что Георгий жив, знала одна Анна. Нет, впрочем, отец Зосиме тоже… он-то и сказал ей, что Георгий будет жить до тех пор, пока жива она сама, что в действительности человек умирает, лишь когда все на свете примирятся с его смертью. Георгий умер для других, мертвым его считали другие — но для Анны он был жив по-прежнему. Чтобы спрятаться от врагов, он принимал самые разные обличья: порой он, превратившись в воробья, вместе с другими воробьями стучал клювом в дверь матери; порой он становился дождем, и тогда она, выскочив из хлева без платка, босиком, как девочка, кружилась в его горячих, пахнущих землей руках. И она была счастлива, хотя деревня считала ее сумасшедшей! Но отойти от хлева она не могла ни на миг: Георгий заговаривал с ней то из камня, на котором был выцарапан человечек, то из своего заступа, то откуда-нибудь еще. Главное же, что сейчас он был уж не так покладист и уступчив, как прежде; он быстро раздражался и, если б она ответила не сразу, мог и совсем уйти… поэтому-то и копошилась все время в хлеву или ползала вокруг. «Ты меня позоришь!» — кричал ей Петре; но чем она была виновата? Это он позорил себя тем, что так легко поверил в смерть брата, так легко примирился с ней…
Таковы были дневные мысли Анны — ночью ж она мучительно, тревожно думала о прислоненном к камину кирпиче и, ясно видя его холодную, шершавую поверхность, с блаженным спокойствием оседала, всасывалась в мельчайшие поры кирпича. Лишь однажды ночью это приятное, похожее на легкую, блаженную смерть ощущение внезапно прервалось. В дверь хлева кто-то постучал; она машинально встала и открыла. В дверь вошел Александр. Темнота хлева была освещена лишь тусклым мерцанием двух-трех догоравших свеч, но Анна без труда его узнала. Александр был пьян — он тяжело дышал, и хлев сразу пропитался запахом спиртного. В темном углу колыхнулась тень осла, и пламя свеч замигало еще сильней.
— А, это ты, мальчик? — сказала Анна.
— Бабуля… Как ты тут, бабуля? — ласково спросил Александр.
— А я думала, ты у Нико… Всем говорю: брата навестить поехал! — улыбнулась Анна.
— Ты лучше о себе подумай, несчастная! Почему ты такая? — мотнул головой Александр.
— Какая «такая»? — кокетливо спросила Анна.
— Жалкая, несчастная, беспомощная… Рабыня! — крикнул Александр.
— Я, мальчик, помешанная… — вновь улыбнулась Анна.
— Нет! — зло усмехнулся Александр. — Ты не помешанная! Ты притворяешься помешанной, чтоб ни с кем не ссориться. Ты рабыня!
— Эх ты… отцовское отродье! Только лаять вы все и умеете… — притворно рассердилась Анна.
— Рабыня! — повторил Александр. Он стоял опустив голову, словно разговаривал с кем-то под землей. — Зачем ты за деда замуж пошла? Зачем ты всех нас обездолила? Эта доброта твоя проклятая нас погубила, растяпами сделала… — Подняв голову, он бессмысленно огляделся вокруг.
Слабо вспыхивающее пламя догоравших свеч смахивало на живую бабочку, приколотую к стене иглой. Сидевшая на смятой постели Анна держала в руке тарелку с куском черствого бисквита.
— Ешь! — сказала ему Анна. — Это домашнее.
Рот Александра вытянулся в удивленной, дурацкой ухмылке, — к его изумлению, ему вдруг действительно захотелось бисквита, у него даже слюнки потекли. Он отломил себе кусочек. Взявшись за тарелку и второй рукой, Анна придвинула ее к нему. «Бери… бери все!» — сказала она. Александр отломил еще кусочек и смахнул с подбородка крошки. Жевал он стоя.
— Знаешь, откуда я иду? — спросил он и на миг остановился, чтобы проглотить кусок. — Я был там… — Мотнув головой, как лошадь, он отломил еще кусочек бисквита. — Деда убить хотел, — он сунул бисквит в рот, — да в последний миг сердце подвело. Жалость твоя помешала… доброта твоя чертова! Как яд в жилах течет…
— Ты присядь… чего, как лошадь, стоя жуешь? — сказала Анна.
— Как яд, говорю, доброта твоя у меня в жилах! — крикнул Александр и тут же закашлялся, поперхнувшись бисквитной крошкой.
— Ешь на здоровье! Куда ты спешишь? — сказала Анна.
— В гроб! — выдавил из себя Александр, все еще не справившись с кашлем. — Жена меня в гробу ждет… другого места у нас нет. — Он наконец справился с кашлем; но теперь его голос стал басистым, хриплым. — И Нико никого убить не способен… такой же растяпа, как и я! Или просто свалили на него, или силой заставили бомбу бросить… Живем как убийцы — а нас-то и убивают!
— Хочешь успокоиться — съезди, навести брата! — сказала Анна, не глядя уже на Александра и сметая в кучку оставшиеся на тарелке крошки. — А это воробьям… — сказала она, подняв голову с едва заметной печальной улыбкой, уверенная, что Александр тут. Но его в хлеву уже не было.
В открытую дверь хлева вливался холод дальних звезд. «Никак эта проклятая ночь не кончится!» — подумала Анна. Исчезновение Александра ее ничуть не удивило — она и не задумалась над тем, действительно ли он приходил, или это ей лишь почудилось. Она не стала ложиться, а поправила постель и присела на нее. «Он с самого детства такой… невезучий…» — промелькнуло у нее в голове. В прямоугольнике открытой двери было темно, и перед ее глазами все время стояло одно и то же: шероховатый кирпич, прислоненный к камину, весь закопченный и чего-то от нее ждущий! Ее ноги медленно, постепенно стыли, и это было приятно — они уж отрезвели, и стоявший в теле дурман незаметно сжимался, уплотнялся, связывался, как залитая в форму глина. «Надо суметь… нужно… иначе как пить дать в беду попадет», — спокойно думала она. Осел в темном углу засопел; его копыто глухо, несмело стукнуло по земляному полу. «И тебе, бедняге, спать не дают…» — сказала Анна. Она сидела на постели, выпрямившись, готовая встать, — сидела, как безногий калека, прячущий свое увечье под столом; но она уже знала, что встанет. Она ждала лишь того, чтобы возникшая в ногах трезвость достигла головы. Отсюда звезды были не видны, но они озаряли все небо, и их отсвет лежал на земле, как желтая пена. Где-то очень далеко лаяла одинокая собака. Все свечи догорели, и в хлеву стоял запах горелого фитиля — верней, не стоял даже, а метался, сторонясь чистого, здорового воздуха, прячась от него в темных, теплых углах хлева, словно сбившаяся с пути птица. Но это была ночь очищения, и спасти запах гари не могло уж ничто — через открытую дверь в хлев вливался холод звезд и поток свежего воздуха, невидимый, как бог, острый и чистый, как меч божий… Анна встала и вышла из хлева, как купальщица из реки, вся в мурашках, приятно освеженная, легкая, бодрая! Пройдя через двор, она с проворством кошки поднялась по лестнице и уже через минуту стояла над постелью Кайхосро, словно младенца прижимая к груди закопченный кирпич и ожидая, чтобы глаза привыкли к темноте. В комнате стоял густой, тяжелый запах. Кайхосро спал с открытым ртом, откинув голову набок; через тревожаще долгие промежутки он всхрапывал, словно постепенно подымаясь из какой-то глубокой, темной пропасти. Теперь его лицо виднелось уже отчетливо. Сон, казалось, стер возраст — по лицу были разлиты детская наивность, беспомощность и покой. Закрыв глаза, Анна изо всех сил размахнулась поднятым над головой кирпичом. Потом она уж ничего не помнила. «За Георгия! За Нико! За Александра!» — кричала она, безжалостно молотя кирпичом воображаемое лицо, казавшееся ее закрытым глазам неподвижным. А окровавленный Кайхосро бегал в это время по комнате, и его руки оставляли красные отпечатки на стенах, столах, стульях, на огромных, как шкаф, часах и на Агатии, Петре и Аннете, от его рева проснувшихся и вскочивших с постелей. Отбиваясь от всех троих так, словно и они хотели убить его, он бессмысленно, инстинктивно искал выхода на веранду и был так потрясен, поражен, напуган, словно проснулся не в собственном доме, а в каком-то лабиринте. «Помогите, убивают!»— орал он, оставляя лохмотья белья в руках пытавшегося остановить его Петре. А Анна по-прежнему дубасила кирпичом подушку и воображаемое лицо на ней. Потом кто-то выбил у нее из рук кирпич, связал ей руки за спиной, как ребенка, подхватил ее на руки и вынес из комнаты. «Почему?» — удивилась Анна. «Бабуля, бабуля, бабуля…» — кричала ей вслед Аннета.
На следующий день, когда приехал доктор Джандиери, Агатия кое-как уже навела порядок — и все-таки что-то от вчерашнего урагана в воздухе еще оставалось. В доме царили неестественное, напряженное молчание и ожидание — ожидание не врача, а чего-то другого, более значительного, хоть и неизвестного. В одном месте на стене виднелся отпечаток окровавленной ладони Кайхосро, который Агатия не заметила или не смогла достать рукой; распластанный, как паук, отпечаток этот пытался, казалось, уползти наверх, в более безопасное место. Кайхосро лежал на тахте с перевязанной головой и хмуро, словно в чем-то сомневаясь, глядел на врача.
— Нашли время ссориться… — засмеялся доктор Джандиери. — Ну-ка, покажите!
Кайхосро был явно не в духе, — и каждый, кто увидал бы его глаза, печальные, как у попавшего в капкан зверя, тут же бы, не успев даже толком понять за что, его пожалел! С перевязанной головой он выглядел совсем уж беспомощно и одиноко. Доктор Джандиери осторожно снял окровавленную, задубевшую повязку и, нагнувшись вперед, упершись локтями в колени, внимательно осмотрел рану.
— Ничего страшного! Бровь чуть рассечена… вот попади она немного вбок и выше, тогда картина была б совсем иная, — деловито, серьезно сказал он.
— Все меня убить хотят, доктор! С самого рождения… — пожаловался Кайхосро, осторожно поднеся руку к ране. Без повязки, открытая неприятно холодному воздуху, рана пульсировала — глубоко, таинственно…
— Вы счастливый человек! — сказал доктор Джандиери, снова внимательно вглядываясь в рану.
— Счастливый? — изумился Кайхосро.
— Да ведь убить-то человека проще пареной репы— а вас, видите, никто не смог! Вы же сами сказали… — заметил доктор Джандиери, сбросив на пол грязную повязку.
— Да! — подтвердил Кайхосро. — Я размножил
лишь своих убийц… ничего другого из моей крови не родилось. — Усмехнувшись, он тут же застонал: даже от мгновенного движения рана разболелась, и его рука невольно потянулась ко лбу.
— Не бойтесь, не бойтесь! — успокоил его доктор Джандиери. — Это недостойно вас. Вы же старый солдат! Раненые офицеры войска в атаку водят. Илью Орбелиани с поля боя, говорят, по кускам выносили…
Одна щека Кайхосро сморщилась, словно чтоб отогнать муху. Выпрямившись, откинувшись на спинку стула, доктор Джандиери похлопал себя по коленям.
— Вы совершенно правы, — сказал он через несколько секунд, словно поняв, отчего Кайхосро сморщился, и отвечая на это, невысказанное. — Вы правы… время героев и героизма кончилось. Мы постарели, майор! В нас вкралась старость — а в старости душа сладка, как осенние плоды. До этого мы о ней и не думаем! Да, старость… а какой же черт еще? Пришел к больному — а сумку в коляске оставил…
— Петре! — нерешительно позвал напуганный своей раной Кайхосро. — Вы уж посидите тут… Петре принесет, — сказал он доктору, стараясь говорить так, чтоб не потревожить ни одной мышцы лица.
— Сейчас тебе лекарство приложим… как говорится, до свадьбы и заживет! — сказал доктор Джандиери, вставая со стула.
— И это уж недалеко! — В голосе Кайхосро вновь послышалась печаль. — Азраил меня повенчает…
Из комнаты Кайхосро врач вышел вместе с Петре.
— А где ж она? — спросил он у Петре, спускаясь по лестнице. Но он уже знал где, уже увидал дверь хлева с прислоненным к ней заступом. Петре кивнул в ту же сторону.
— Как ты смел, болван! — закричал доктор Джандиери, отталкивая ногой от двери заступ Георги.
Анна сидела на тахте. Из-за связанных за спиной рук она казалась горбатой.
— Погубила семью… ублюдка своего всем нам предпочла! — попытался оправдаться Петре; но, увидев глаза врача, он, словно побитая собака, вяло, неохотно отошел от двери хлева.
Бросив сумку на землю, доктор Джандиери лишь тут почувствовал, что у него дрожат руки. От тугой веревки на запястьях Анны остались красные следы. Он осторожно погладил их, словно смазывая ожог.
— Ну что тут поделаешь? — улыбнулась ему Анна.
— Молчи! — прикрикнул он. — Молчи, — повторил он шепотом. — Молчи, несчастная! Надо держаться, не сдаваться… и о себе хоть немного подумать! Не смей улыбаться! — снова крикнул он.
— Умер? — не спросила, а взмолилась Анна.
— Для тебя он давно уж мертв. Выкинь его из головы! — сказал доктор Джандиери.
Он держал в руках ее запястья, и она сидела молча— спокойная, покорная, податливая, как стебель комнатного растения. Это-то и заставило его растеряться — от ощущения слабых и упругих костей Анны у него так сжалось сердце, так закружилась голова, точно перед ним была не несчастная больная старуха, а молодая любимая женщина, с которой он, и сам еще молодой, робкий, впервые оказался вдвоем. «Я потому до сих пор выдержала, что хлеба из твоих рук поела…»— донесся до него голос Анны. «Хлеба? Какого хлеба?» — взволновался, забеспокоился, устыдился он. Напряженный до предела, он, однако, и пошевелиться не мог — не смел, не решался, словно не он, а Анна вцепилась в его запястья, и ему было неловко отнять их. От Анны пахло маленьким огородом, а ее тихие, чистые, робкие, как бы новорожденные глаза были похожи на подснежники, выглянувшие вдруг из разворошенного ногой сугроба… Так они и глядели друг на друга, пока из глаз Анны, словно вешний поток, словно клич победы, словно вырвавшаяся из загона овечья отара, не хлынули слезы — бог знает в скольких сердцах копившиеся, сколько раз перекипавшие, с каких пор таимые, сдерживаемые слезы! «Да, да… плачь, плачь, плачь!» — бессмысленно повторял взволнованный доктор Джандиери. Анна плакала и горячими от слез губами целовала его руки — и он даже не пытался отнимать их, как никогда не отнял бы у больного поднесенного ко рту лекарства или куска хлеба у нищего. «Уходи, забудь нас… не приходи больше. Спасибо, доктор! Нам ничто не поможет… такая уж, видно, наша судьба», — невнятно бормотала Анна, прижимая к лицу чистые, ароматные руки врача. Она была права — и успокаивать ее каким-нибудь сладеньким лекарством, и выражать то, что он чувствовал сам, было бы сейчас одинаково жестоко. Чуть погодя он уже сидел на облучке своей двуколки, и к его скулам присыхали тяжелые слезы. С шумом мчались назад нависшие над дорогой ветки деревьев; рвы на обочинах были наполнены сухими листьями липы, тополя, акации и плодовых деревьев. В уже опустевшем пространстве, кружась, исчезали голые, как ладонь, дворы пепельно-серого цвета, выгоревшие на солнце, кое-где уже замшелые черепичные крыши, прильнувшие к земле, застывшие, как купола со снятыми крестами, стога, балконы, украшенные кистями винограда и гирляндами еще влажных чурчхел, над которыми роились пчелы, — балконы, пахнувшие сваленными прямо на пол яблоками и айвой. Но он ничего не видел: в его глазах стояли слезы, сквозь них и пространство, и дорога, и спина лошади блестели совершенно одинаково, словно были посыпаны толченым стеклом, как пол в лавке Гарегина. Зато и его слез не видел никто — а если б и увидел, то счел бы их причиной дорогу, ветер и пыль. Он слышал лишь урчание лошадиного брюха и свист собственного кнута, занесенного не для того, чтобы погнать лошадь еще быстрей, а для того, чтоб отпугнуть от себя эту странную печаль и слабость. «Что с человеком? Почему эта божья глина так неизлечима?» — думает, шепчет, кричит потомок Эскулапа, наделенный бдительностью петуха, мудростью змеи и твердостью посоха, все на свете повидавший и перенесший и все-таки оставшийся наивным, мечтательным ребенком! Ибо и он, исследователь жизни и смерти, умудренный университетами, постигший глубину книг, невежествен и бессилен перед горем простой деревенской женщины, жизнь которой почему-то не соответствует раз навсегда установленным, изученным, сформулированным, общепринятым законам — подъемов у нее больше, чем спусков, пуд ваты для нее тяжелей, чем пуд железа, и одна ее слеза нуждается в большем просторе, заключает в себе больше тайны, чем целый океан… «Эй, Эскулап! Долго еще грезить будем?» — кричит себе человек, сидящий на облучке коляски, рослый и величественный, как господь бог, и одновременно, как ничтожная пылинка, затерянный в сверкающей тьме собственных слез, как выпавший из гнезда птенец, застрявший в колючих зарослях собственной тоски! А жизнь продолжается. Приготовившиеся к зиме люди уже заперлись в домах; гудят камины и железные печи; пар подымается от сохнущих на дровяных штабелях чулок, от булькающих на огне кастрюль и горшков. Беременная женщина входит в чулан и, засучив рукав, засовывает руку в заиндевелую банку с соленьями. «Что это ты, дочка?» — кричит ей свекровь. «Кисленького хочется!» — отвечает беременная, жадно облизывая свою мокрую, по локоть покрасневшую руку…
10
Анна умерла в ту же зиму. Неожиданно проснувшись в полночь, она выкрикнула имя сына… верней, не выкрикнула, а еле прошептала, словно боясь разбудить согревшуюся во сне деревню, и с именем сына на устах испустила дух. И все-таки деревня услышала, и еще полусонные, протирающие глаза люди с мерцающими коптилками в руках вновь направились к ее дому— так же, как когда-то, давным-давно, в ту роковую ночь, когда майор продырявил руки борчалинцу. Снег был так глубок, что люди, казалось, не шли, а плыли. Еще пели петухи, когда на заснеженной улице, как столб, выросла и черная тень отца Зосиме; казалось, он стал вдруг выше ростом или некая сверхъестественная сила удерживает его в воздухе. Почти так оно, впрочем, и было: дьякон Эпифане вел его с помощью двух насквозь промокших досок, которые он поочередно подкладывал под ноги отцу Зосиме; и, пока тот, пошатываясь на одной из них, кричал: «Клади скорей, тону!» — перед ним появлялась вторая доска. Дьякон Эпифане с такой яростью продирался сквозь доходивший ему до пояса снег, словно за края его рясы схватились черти и она трещала по всем швам. Плывя сквозь снег, бедняга обливался потом и, добравшись наконец до дома Макабели, чихал, как коза…
Такого снега, как в ту зиму, не помнили и старики. Голод выгнал из лесу все зверье; присев у околицы, волки и шакалы жалобно выли, словно нашкодившие дети, просящие у родителей прощения и позволения войти в дом. А в день похорон Анны в деревню вошел олень. Он шел подняв голову, осторожно и размеренно шагая по утоптанному человеческими ногами снегу. Его бока впали, шерсть висела сбившимися клочьями, и человек, свободный от более полезных занятий, без труда пересчитал бы ему ребра. Появление голодного зверя обеспокоило урукийцев. Они еле удерживали за ошейники своих собак, возбужденных запахом зверя, одуревших от ярости и удивленных поведением хозяев, а те, прижимаясь к изгородям, растерянно и печально глядели на лесного гостя, на ветвистых рогах которого, подобно свечам, горело тусклое зимнее солнце. Олень спокойно, неторопливо шел по деревне, словно не замечая ни людей, ни собачьего лая: голод и одиночество ослепили, оглушили его, а страх свой он преодолел, наверно, еще в лесу, раз уж сам прибрел в жилье человека, от которого всю жизнь бегал и прятался, тень которого со вскинутым ружьем и там, в глубине леса, до смерти его пугала. Теперь он шел по деревенской улице, мирный и прекрасный, как ребенок из бедной, но порядочной семьи, вызывающий не жалость, а чувство вины и желание добра. Стук его пугливого сердца оглушал деревню, усовещивал ее, препятствовал ей совершить еще один грех — и люди, возвращенные в детство или ставшие человечней благодаря доверию пришедшего попрошайничать зверя, протягивали руки поверх оград и ласково подзывали его к себе. Прохладные, ворсистые, испускавшие пар ноздри оленя внимательно обнюхивали тянувшиеся к нему ладони, на которых, как осколки каменной соли, блестело тусклое зимнее солнце. Олень прошел всю улицу, миновал цирюльню, проследовал мимо открытой двери лавки Гарегина, из которой выглядывали изумленные мужские лица, простучал копытами по деревянному мостику через ручей и остановился прямо перед железными воротами Макабели; тут он вздернул морду к небу и замычал голосом человека, пришедшего на оплакивание. Мычание его заставило всех сидевших вокруг гроба выскочить на веранду, на минуту забыть о покойнице. А она по-прежнему спокойно лежала в гробу, и на ее носу с горбинкой играли отсветы свечи.
— Это душа Георги к матери пришла, — сказал отец Зосиме, и его лучистые глаза взглянули на Кайхосро. — Слава всевышнему! — добавил он, перекрестившись.
Кайхосро сидел у голой стены в мундире, накинутом на черную сатиновую рубаху. Из его лежащего на коленях кулака виднелся кончик белого платочка.
— Душа Георги… скажешь тоже! — недоверчиво усмехнулся в лицо священнику Петре.
— Это душа Георги! Упокой ее господь… — повторил отец Зосиме.
Даже не глядя в сторону Петре, он знал, что сейчас тот на всякий случай перекрестится — сперва нерешительно, потом быстро, несколько раз подряд.
Олень с задранной кверху мордой мычал перед железными воротами. Петре спустился по лестнице, неторопливо, словно чего-то ища в снегу, пересек двор и открыл ворота. Олень вошел во двор, словно вернувшаяся с пастбища корова. Войдя, он обнюхал двор, словно проверяя, туда ли попал, и его морда стала белой от снега; потом он поднял голову и замер. Его большие глаза были так влажны, точно он вправду плакал. Чуть погодя он пошел за направившимся к хлеву Петре.
Этого странного, неожиданного гостя Макабели приютили до весны. Весь уход за ним свалился, конечно, опять-таки на плечи Агатии — олень нуждался в присмотре, как всякий ребенок, в людях еще не разбирающийся. Но он, в отличие от всех прочих детей, выращенных Агатией, был сиротой, беспризорником, божьим подкидышем; поэтому на него у нее было больше прав, чем на любого из них, его она скорей могла считать собственным сыном — это никому не мешало и никого б не огорчило. Кого только не рожали женщины в сказках — что ж удивительного было бы, если б Агатия и впрямь родила оленя? Ничего невозможного не было бы и в том, что в один прекрасный день он, сбросив с себя звериную шкуру, встретил бы ее в хлеву в виде прекрасного златокудрого юноши! Такова была тайная мечта Агатии, ее последняя попытка приобщиться к материнству. Разумеется, она не понимала, что и это — сказка, что она просто сочиняла новую сказку, чтоб унять, заглушить свою постаревшую, безнадежно бесплодную надежду. В олене она души не чаяла — ячмень и отруби для него перебирала тщательно, как рис, каменную соль ему давала только промытую теплой водой, чистила его щеткой, как ковер, и, представьте себе, даже рога и копыта его доводила до такого же блеска, как зубы и ногти Аннеты. И Аннета тоже так привязалась к оленю, что забыла свою Асклепиодоту! Теперь она больше всего любила сидеть в хлеву, уже пропитавшемся запахом леса и зверя, и без конца любоваться тем, как впавшие от голода бока оленя, благодаря Агатии, постепенно наполняются и светлеют. «Ну, пожалуйста… и мне поесть сюда принеси!» — умоляла она Агатию. Если б ей позволили, она и спала бы тут, в хлеву, вместе с оленем и ослом! Впрочем, она и так никогда не ложилась без того, чтоб еще разок взглянуть на оленя, пожелать ему спокойной ночи и осторожно погладить бедро пугливого, напряженного зверя — сама чуть-чуть напуганная и напряженная, беспричинно счастливая и столь же беспричинно печальная… Ее мучил страх, что она больше не увидит оленя, что он уйдет тайком от нее. «Это потому, что он живой… ты, доченька, ведь тоже растешь!» — с бесконечной благодарностью говорила ей Агатия, держа коптилку высоко над головой, чтоб олень был лучше виден. В темноте, едва спугнутой пламенем коптилки, резко вырисовывалась огромная тень оленя. Изредка он, словно специально, чтоб успокоить Аннету, с силой вздыхал, и ее ноздри щекотал лесной запах, воздух, пропитанный и согретый тайной дремучих лесов…
В ту зиму кончилось наконец и бесконечное детство Аннеты. Раньше всех это почувствовала Асклепиодота — она соскочила с тахты и разбилась, поранила себе правую бровь. В появившейся на ее месте дырке стала видна тоненькая спица, к которой был прикреплен глаз Асклепиодоты, — и кукла сразу же перестала быть живой, «настоящей»! Выбрасывать ее Аннета не захотела, но и спать вместе с ней больше уж не стала. Она отвела Асклепиодоте новое место — на тахте в большой комнате, между подушками, — и, проходя мимо нее, каждый раз печально оглядывала бескровную, уродливую рану своей старой подруги. Выйдя из-под влияния куклы, Аннета стала расти не по дням, а по часам; сама чуть-чуть этим напуганная и озадаченная, она бессмысленно улыбалась своему отражению в зеркале, словно чужой девочке, с которой ей надо было познакомиться и подружиться, ибо отныне им предстояло жить под одной крышей. Уже несколько лет подряд Агатия на страстной пекла ей просвирки для гадания, с каждым годом убавляя в них муки, а соли прибавляя; но спавшей вместе с куклой девочке ничего не снилось, кроме дождя, — они с Асклепиодотой плескались в лужах, а вымокнув с головы до пят, бежали домой, и дождь с плеском гнался за ними. Напиться же во сне Аннете не давал никто — ни из выдолбленной тыквы, ни из стакана. От Агатии она знала, что пить из тыквы предвещает брак с крестьянином, а из стакана — с князем; но замужество интересовало ее не больше, чем Асклепиодоту. Вообще-то она была не против замужества — все писаные красавицы в сказках в конце концов замуж выходили и, сев на ковер-самолет возле какого-нибудь побивающего дракона паренька, взлетали с ним в небо, к звездам. Но Аннета считала, что паренек этот должен жениться на обеих вместе — не только на ней, но и на Асклепиодоте. Идти замуж друг без друга ни одна из них не собиралась, как бы интересно ни было полетать на ковре-самолете!
— Да как же это можно, доченька… это ж только у басурман так! — искренне сокрушалась Агатия.
— Ну и что с того? — пожимала плечами Аннета. — Тогда пусть не приходит вовсе! Нам и без него хорошо… правда ведь? — спрашивала она Асклепиодоту, и та мигала длинными вздернутыми ресницами в знак согласия.
— Да как же это можно? — сокрушалась Агатия. — Вроде меня бездетной остаться хочешь, что ли?
Но все это было прежде; олень вдохнул в Аннету, в подражание своей кукле совсем уж, казалось, переставшую расти, какой-то дикий, неугомонный, таинственный дух жизни. В этом году просвирка судьбы наконец подействовала, и Аннета увидела вещий сон. Ей приснилось, что ее отправили за водой к роднику. Сперва это было приятно, ее радовало, что она уже такая большая, — но, сколько она ни подставляла свой кувшин под струю, он почему-то все время наполнялся пеплом. Лишь потом она заметила, что по желобу родника вместо воды струится поток пепла. Пеплом было покрыто все вокруг, ей самой он доходил до колен. «Куда это я попала?» — испугалась она, и ей захотелось позвать Агатию; но тут выяснилось, что и рот у нее набит пеплом. Еще минутка, и она задохнулась бы, она чувствовала, что задыхается, и, не в силах выпустить из рук тяжелый, как свинец, кувшин, все глубже погружалась в море пепла. Бах! — загремел вдруг кувшин, и взметнувшееся из него облако пепла превратилось в мужчину. Утром Аннета так и не смогла вспомнить его лица — во сне же она так обрадовалась, словно вышла из дому специально, чтоб найти его. Каждый раз, когда он приставлял к желобу свои сложенные ладони, они наполнялись кристально чистой, прозрачной, как воздух, водой. «Это вода мертвых… она не для всех!» — сказал он Аннете. Она пила прямо из его ладоней; такой прохладной и вкусной воды она наяву не пила еще никогда. Она пила без конца и чувствовала, что у нее раздувается живот, но чувствовала и то, что это сон; и ей не терпелось поскорей проснуться и рассказать его Агатии. Проснувшись же, она почему-то передумала, постеснялась няни, хоть и сама не поняла почему.
Теперь она каждое утро босиком, в одной рубашке, стояла перед гудящим камином и, сложив руки на затылке, разрумянившись от гудящего огня, раздраженно, капризно, по-кошачьи потягивалась до тех пор, пока все ее суставы не начинали трещать и она не ощущала вдруг все свое тело целиком, как полководец свою армию, разделенную на части лишь ради общей, единой цели. «Оденься, детка, простудишься!» — кричала ей Агатия; а она, как завороженная, глядела в огонь. Жар пламени приятно лизал ее голые ноги, и она стыдилась этого приятного ощущения, как новобрачная, которую муж впервые увидел обнаженной и которая не бежит от него, а прижимается к нему еще тесней, ибо только так и может спрятаться от его глаз.
— Встану вот и уйду… — говорила Аннета.
— Куда ты пойдешь, детка? В такой снег хороший хозяин и собаку не выгонит! — удивлялась Агатия.
— Не знаю! Да хоть к Нико…
— Что делать в Сибири женщине? Там же, говорят, одни заключенные! — всерьез пугалась Агатия.
— А я не заключенная, что ли? — пожимала плечами Аннета, нехотя отхлебывая глоток молока, — Все воняет! — добавляла она, скривив губы и с раздражением отставляя чашку.
— Что ты, доченька… как это так воняет? — вконец терялась Агатия.
— Воняет, воняет! Все воняет… — раздраженно кричала Аннета.
Зато в присутствии отца и деда она и рта не раскрывала. С дедом, впрочем, они почти уже и не виделись: после похорон Анны Кайхосро заперся в своей комнате и не впускал в нее никого, кроме отца Зосиме. Отца она тоже видела редко, разве что за обедом или за ужином; но и тогда они отводили глаза друг от друга, точно поссорившись. Для Аннеты отец был чужим, она не помнила ни одного случая, чтоб он ее приласкал или выбранил, — она просто знала, что Петре ее отец, и, пока у нее была Асклепиодота, знание это ее вполне удовлетворяло. Ныне же оно ее сковывало, смущало, даже раздражало: оно ничего от нее не требовало, но ничего ей и не давало. Примерно так же относился к ней и отец. Пока она была ребенком, женщины ухаживали за ней и без него, а теперь он просто не знал, о чем разговаривать с дочерью, понимавшей в виноторговле столько же, сколько он в воспитании девушек. Поэтому ели они молча, не раскрывая широко рта.
— И снег земле нужен… Если лоза не промерзнет, урожай в этом году будет хороший, — говорил иногда Петре, чтоб хоть что-нибудь сказать, не сидеть в собственном доме, как гость.
Земля утопала в снегу; куда ни глянь, повсюду сверкала яркая, ослепительная белизна. Трудно было поверить, что жизнь продолжается и где-то еще, что дороги еще связывают между собой села и города, что солнце когда-нибудь вновь растопит, одолеет снег! А все-таки и жизнь, и похороненные под снегом дороги существовали, — лишь вера в это и поддерживала Аннету. Одна из этих дорог шла через У руки. Бог весть, где она начиналась и где кончалась, но, зная о ее существовании, Аннета очень надеялась именно на нее, как неграмотная крестьянка на чью-то расписку, бережно хранимую ею в сундуке, под бельем, но, возможно, и фальшивую, как кутаисский двугривенный…
— А ему еду снесла? — спрашивал Петре Агатию после сытного обеда, откинувшись на спинку стула и ковыряя во рту самодельной зубочисткой. — Твой дед, в сущности, ведь давно умер! — говорил он Аннете. — Но чем рыть могилу в таком снегу, лучше уж держать мертвого в доме. Дешевле обойдется!
Говорил он это, чтоб на свой лад, как умел, развеселить Аннету, но она молча глядела в свою тарелку, словно и не слыша его дурацких злых шуток. Было нелегко понять, сердится она или печалится. Окна занесло снегом; глубокая, беспредельная тишина снега просачивалась, казалось, и сквозь стены. Все звуки и шумы бесследно тонули в этой тишине; сама же она шумела, постоянно гудела в ушах, словно огромная белая раковина. Иногда во дворе глухо, почти бесшумно взрывался соскользнувший с ветки ком снега, и освобожденная, насквозь мокрая ветка долго еще покачивалась в блестящей снежной пыли.
Затворившегося в своей комнате Кайхосро подозрительная тишина снега сводила с ума, лишала покоя; ему без конца чудились чьи-то вкрадчивые, воровские шаги, и он либо прижимался ухом к замочной скважине, либо, спрятавшись за шторой и затаив дыхание, напряженно, испуганно разглядывал белый двор. Когда же к нему в дверь кто-нибудь стучал, он, как пойманный врасплох вор, в страхе и тревоге застывал посреди комнаты и откликался лишь после повторного стука. «Кто там?» — свирепо рычал он на дверь, словно его нарочито грубый, злобный голос мог испугать и остановить убийц. «Это я, Агатия… я тебе поесть принесла!» — отвечала старуха за дверью. Это Кайхосро несколько успокаивало — из всех врагов, рисовавшихся его воображению, Агатия была наименее опасным; но целиком он не доверял ни Агатии, ни собственной тени! «Имей в виду: сперва отведаешь сама!»— говорил он, в надежде, что она сознается хоть за закрытой дверью. «Я уж ела, спасибо…» — не понимала Агатия и, поставив тарелку с едой на пол, плелась прочь. Когда стук ее шлепанцев стихал, Кайхосро чуть приоткрывал дверь — ровно настолько, чтобы протащить тарелку; не выпуская из рук дверной ручки, он нагибался и другой рукой медленно, осторожно втягивал тарелку в комнату. Потом он, заложив руки за спину, ходил вокруг стоявшей на полу тарелки, словно привязанный к ней невидимой веревкой. Измученный, истощенный, сотни раз за это время мысленно уж умерший и вновь воскресший, он с бурчащим от голода животом опускался наконец на пол и, по-собачьи присев возле тарелки, чавкая и давясь, поспешно глотал эту отвратительную, но, увы, и необходимую для него пищу… глотал или чтоб вовремя сдохнуть и избавиться от мучений, или чтоб вовремя спастись от голодной смерти!
— Не могу больше, отец мой… не могу больше! — жаловался он навещавшему его отцу Зосиме. — В жизни мухи не убил — а живу, как убийца…
— Убил или хотел убить — это все равно, — говорил отец Зосиме, и его глаза мерцали.
— Когда-нибудь… — заплетался от злости язык Кайхосро, — когда-нибудь я тебе все-таки бороденку выдеру…
— Вот-вот… именно потому! — причмокивал губами отец Зосиме, ласково поглаживая свой стакан, словно случайно забредшего в комнату цыпленка.
— Что «потому»? — вглядывался в его лицо Кайхосро, сгорая от нетерпения узнать, что же с ним, в конце концов, происходит.
— Потому, что у тебя мысли такие дурные в голове вертятся… — спокойно улыбаясь, пояснял отец Зосиме.
От ходьбы по снегу его ряса промокла до колен, и нижняя ее часть казалась сшитой из другого, более темного материала.
— Мне и так плохо… а тут ты еще масла в огонь подливаешь! — упрекнул его Кайхосро. — Уведи меня отсюда, батюшка… — тут же горячо взмолился он. — Не могу больше! По ночам сквозь стены просачиваются! Шипят, шепчут, идут… Вот в эту щель весь город врывается, весь этот проклятый город! Все меня убить хотят: и жена, и сын, и внук… Креста на тебе нет, что ли?
— И всякий, кто встретится со мной, убьет меня… — сказал отец Зосиме.
— А? — навострил уши Кайхосро. — А? — Ему смутно почудилось что-то знакомое, давным-давно забытое…
— И всякий, кто встретится со мной… — повторил священник.
— А за что? Я-то ведь никого не убивал! — растерялся, рассердился, испугался Кайхосро. Его глаза застлались красным туманом, словно белизну за окном вдруг осветило пламя.
— Хорошее вино… — сказал отец Зосиме, отхлебнув глоток и опять ставя стакан себе на колени.
Да, спасения для Кайхосро не было! Против него были все — и люди, и бог; и люди, и бог требовали его крови. Богом был подослан и этот проныра священник, всю жизнь лакавший его вино, а теперь вдруг тоже потребовавший крови! С первого же дня их знакомства он так поджимал губы, словно был в заговоре с Кайхосро, словно, жалея и щадя его, хранил какую-то великую тайну, — этим-то отец Зосиме и дурачил его, незаметно пробуждал в нем чувство несуществующей вины, мерцая глазами и причмокивая, постепенно накидывал ему на шею петлю несуществующего греха! А вот теперь, когда Кайхосро своим многолетним молчанием сам впутался в эту игру в прятки, священник не только требовал мзды за сокрытие мнимого греха, но, не удовлетворяясь уже бесконечным, ежедневным угощением, тоже жаждал крови — трехчетырех литров старческой, уже водянистой, заплесневевшей от стольких тревог и неприятностей крови… Кайхосро чуть не выплеснул свой стакан ему в лицо — на, мол, вот тебе моя кровь! Но этого он не сделал, не дал воли ни рукам, ни словам: одиночества он страшился еще больше, чем правды. Едва отец Зосиме уходил, вокруг Кайхосро начиналась пляска привидений. Сквозь все замочные скважины, поры, трещины стен в комнату просачивался Тбилиси — ужасающе искромсанный, бурлящий, булькающий, как поток кипящей лавы. Сквозь все трещины, скважины, поры протискивались и бог знает в который раз располагались вокруг него уже истлевшие, лишенные лиц трупы, бывшие когда-то его родными, а теперь не связанные с ним ничем, кроме отчаяния, страха и беспредельной ненависти! Они постепенно укладывались вокруг него, доходили ему до колен, до пояса, до горла — и он задыхался, жарясь в кипящем омуте растаявшего города. А над его головой, словно мертвый ангел, кружилась двухмесячная девочка с огромными, как бараньи рога, усами — но он не мог вытащить рук из густого, липкого омута, чтоб если уж не убить вторично, то хоть отогнать ее. Тбилиси же по-прежнему тек, кружил свое пестрое белье на веревках, сверкающие на солнце купола, дерущихся на Крепостной площади петухов и баранов, верблюжьи караваны, горки восточных сластей, женщин, заблудившихся среди рулонов шелка и парчи, гудящие колокола; рассыпающие огонь, как драконья пасть, кузницы, застрявшие на мосту крытые телеги, коляски, пролетки, дилижансы… Город шел, лился, был жив и вечен, как река, — и Кайхосро стоял на его дне, отягченный множеством трупов, как бы сам похороненный заживо.
Однажды вечером ему и впрямь послышались незнакомые шаги — но не воровские, крадущиеся, а решительные, пожалуй, даже грубоватые. Он долго стоял у двери, прижавшись к замочной скважине и весь обратившись в слух. «Показалось, видимо…» — подумал он, различив наконец голоса Петре и Агатии; и в тот же миг внизу кто-то засмеялся — незнакомо, беспокояще! «Агатия, Агатия! — крикнул он, потеряв терпение. — Что там происходит? Кто это там?» — набросился он на Агатию, не дав ей даже приблизиться к двери. «Гость… Отец Зосиме привел — пустите, говорит, переночевать. По делу, говорит, приехал, а тут стемнело… Иджинер, говорит…» — разом выпалила в запертую дверь Агатия. Ее голос, показавшийся Кайхосро непривычно молодым и бодрым, лишь усилил его подозрения. «А где он… почему не зашел ко мне?» — спросил он шепотом. «Откуда ж ему знать, что ты тут?» — засмеялась Агатия. «Да нет, не гость — священник!» — крикнул Кайхосро. «Да он давно уж ушел!» По голосу Агатии чувствовалось, что она спешит поскорей отделаться, что она по горло сыта этой дурацкой беседой с запертой дверью. «Откуда вы знаете, что это еще за сволочь?» — попробовал он припугнуть Агатию. «Сволочь… скажешь тоже! — в ее голосе была слышна улыбка. — Мне некогда… Поужинать я тебе принесу потом!» — успокаивающе сказала она двери и ушла, сочла беседу законченной. Но Кайхосро не мог успокоиться — путаное, бестолковое сообщение Агатии встревожило его еще больше. Откуда могла знать дура Агатия, действительно ли этот человек им незнаком или только притворяется незнакомым? Он не смыкал глаз всю ночь, ни на минуту. Пока ему были слышны голоса сына и гостя в большой комнате, все было еще ничего — настоящее мучение началось позднее, когда дом затих и погрузился в темноту.
Долго не спалось в ту ночь и Аннете. Когда появился гость, она была уже в постели, но не спала, а при тусклом свете лампы училась вязать. При звуке незнакомых шагов и смеха у нее замерло сердце: ей показалось, что приехал Нико. Без раздумий поверив в это, она уже собиралась вскочить с постели, когда в комнату вошла и притворила за собой дверь хитро улыбавшаяся Агатия.
— Нико… Это Нико? — умоляюще взглянула на нее наполовину уже вылезшая из-под одеяла Аннета.
— Нет, радость моя… — сказала Агатия, и ее сердце сжалось от сострадания.
В ту ночь Аннета никак не могла согреться — так, словно она лежала в снегу, словно она сама превратилась в снег. Она лежала, как царица тишины и холода; но ощущение это было не страшным, а приятным, и лишь доносившиеся до нее, раздражающие ее звуки разговора отца с гостем внизу и бесконечная возня Агатии, сперва в бельевой кладовке, а потом в комнате гостя, мешали ей целиком, навсегда слиться с тишиной и холодом: даже самый незначительный шорох она воспринимала сейчас болезненно, с удесятеренной силой, как бы впервые обретя слух. Потом, когда все разошлись спать и дом затих, она вдруг поняла, что все время думает о Нико. Ее давешняя ошибка лишила ее покоя, и сейчас, лежала ли она на спине или на боку, были ли ее глаза закрыты или открыты, перед ней все время стоял Нико — то один, то вместе с Александром. Ее братья как бы впервые гостили у нее, и Аннета мучилась, чувствуя, какие они ей чужие и какая она несчастная: имея двух братьев, она не могла ни похвалиться ими, ни надеяться на их помощь; они разбрелись кто куда и, возможно, вообще уж не помнили, что у них есть сестра, так нуждающаяся в братьях! Внезапно ей так захотелось близости братьев, их грубой, неуклюжей любви, ласки, внимания, что у нее потекли слезы — и это было так же приятно, как тишина и холод. В ту ночь в ее комнате, в ее постели горячи были только слезы — слезы девушки, слепо ищущей мужчину, заступника, девушки, ставшей женщиной из-за тягостной тишины и холода. Лишь перед самым рассветом она на минутку вздремнула, и ей опять приснился снег: она стояла в широком поле, затерявшись в бескрайнем снегу и не зная, куда идти. Выйдя из комнаты утром, она уж и не помнила, что в доме находится незнакомый человек, да еще мужчина. Как обычно, она в одной рубашке направилась к зажженному камину, чтоб немного согреться, но, дойдя до середины комнаты, между камином и окном, на веранду, вдруг замерла с уже приподнятой ногой, как у сдвинувшегося с места оленя. На веранде стоял какой-то мужчина — голый по пояс, он растирал тело снегом. Аннете стало еще холодней, она покрылась гусиной кожей. В камине горел огонь— он звал, манил ее, протягивал ей свои скрюченные лапы, обещал приласкать, согреть, разморить; а на веранде, в море снежной белизны, сверкало голое, мокрое, розовое тело незнакомого мужчины. Оно тоже походило на огонь, но разожженный не в камине или печи, а под открытым небом, и не для согревания, а для отпугивания зверей или же чтоб сообщить что-то очень важное, неотвратимое. Увидав, что незнакомец поворачивается к ней, Аннета, как почуявший человека олень, рванулась и убежала в свою комнату. Вторично она вышла уже одетой и причесанной. В столовой гость беседовал с отцом; Агатия накрывала стол к завтраку. Сейчас гость ничем уже не отличался от прочих мужчин, и Аннету, вероятно, ничуть не затруднило б обменяться с ним взглядом, если б они с самого начала увидели друг друга одетыми. Но она знала, что под обычной одеждой гостя скрыто растертое снегом, розовое, гибкое, сильное, как огонь, тело… скрыто так же, как была скрыта сейчас под снегом земля с ее селами и городами, а главное, с соединяющими их дорогами…
При входе Анкеты гость вскочил и пробормотал что-то, чего она не поняла.
— А вот и моя дочь! — сказал Петре.
— Я, право, не знал… не знал, что у вас и дочь есть… — забеспокоился гость, как бы оправдываясь.
«А если б знал, так что?» — мысленно спросила его Аннета. То, что гость не знал о ее существовании, ее почему-то обидело.
— Простите, бога ради, что я к вам так внезапно, как снег на голову! — сказал гость. — Называюсь инженер-путеец, а с пути-то и сбился… — с улыбкой повернулся он к Петре, словно прося его поддержки как мужчина мужчину. Неожиданное появление этой хмурой, молчаливой девушки явно смутило, взволновало его.
— Да в таком снегу и местные с пути сбиваются! — поддержал его Петре. — Почему вы не садитесь? — спросил он гостя и Аннету одновременно, заметив, что сидит один. Подождав, пока Аннета села, гость тоже опустился на стул. «Инженер-путеец, инженер-путеец…» — твердила она про себя.
— Так что железная дорога и вам на руку… — обратился гость к Петре, продолжая, видимо, разговор, прерванный появлением Аннеты. — Даже оглянуться не успеете, как бочки ваши в Тбилиси окажутся. Оно скорей, а главное, вино меньше портиться будет!
— Наши люди в поезд все равно не сядут. Мы к телеге приучены. Медленно, да спокойно! — сказал Петре.
— Сядут! — улыбнулся гость. — Люди везде одинаковы. Сперва сомневаются в новом, потом не выдерживают, потом друг дружке носы разбивают: пусти, мол, меня вперед…
Аннета мысленно улыбнулась. Агатия внесла сковородку с шипящей в топленом масле яичницей. Сняв с графина крышечку, Петре разлил водку. «Молока или чаю?» — спросила Агатия. «Мы водку пить будем… молоко и чай дело не мужское!» — сказал Петре. «Если позволите, я б и чайку выпил…» — сказал гость. Аннета раздраженно взглянула на Агатию — эти глупости с молоком и чаем мешали ей слушать гостя; а она вся обратилась в слух, хоть и не очень понимала, о чем тот говорит. Как бы догадавшись об этом, гость продолжал свою речь.
— Железная дорога, — сказал он, — вообще-то, конечно, для любой страны благо. Но ведь из-за нас одних вкладывать в нее деньги никто не стал бы! Железная дорога еще тесней свяжет нас с империей, и не только географически, но и в хозяйственном и военном отношении тоже…
Аннета не поняла ничего, кроме того, что разговор идет о дорогах — поэтому-то, наверно, голос гостя и был ей приятен. Главным для нее сейчас была дорога, пусть даже железная.
— У меня тоже сыновья… но вас, теперешнюю молодежь, я не понимаю, — сказал Петре. — Будьте здоровы! — чокнулся он с гостем и, залпом опрокинув рюмку, провел рукой от кадыка до пупа, как бы указывая дорогу обжигающему глотку, помогая ему лучше разогреть внутренности. — Разве это бывает — приносить пользу другим, а самому не извлечь никакой выгоды? — Отломив и понюхав кусочек хлеба, он осторожно положил его на краешек пустой тарелки. — Разве это бывает? — раздраженно повторил он. — Да не то что царь — и Гарегин вам щепотки соли не даст, если хоть что-то на этом не выгадает!
— Выгода дело другое… — застенчиво сказал гость. — Я слышал, что и у вас сын в Сибири… — добавил он через мгновение, но Петре не дал ему договорить.
— И поделом! — крикнул он, стукнув рукой по краю стола.
Аннете стало стыдно перед гостем — она и сама не поняла почему; она лишь почувствовала, что краснеет и что гость смотрит на нее, не отводя глаз. «Агатия! Агатия!» — ворвался в комнату встревоженный голос Кайхосро. Подняв голову, Аннета смело взглянула на гостя.
— Это мой дед, — представила она ему раздавшийся голос.
— Он, правда, давно уже умер. Но держать в доме мертвеца нам дешевле, чем хоронить…
Гость улыбнулся и вдруг стал поразительно похож на Нико — так, во всяком случае, показалось Аннете. Она тоже улыбнулась ему, запросто, по-домашнему. Она решила, что обязательно увидится с ним когда-нибудь еще. Нельзя было допускать, чтоб затерялся и он!
— Ну можно ли говорить такое о родном деде? — притворно нахмурился Петре, внешне осуждая, но в то же время как бы и подхватывая слова дочери. — Да… отец, бедняга, действительно ужасно постарел! За ним нужно ходить, как за малым ребенком. Что ж поделаешь, это, видимо, и есть сыновний долг…
— Вы совершенно правы, — вежливо сказал гость, не сводя глаз с Аннеты.
— Воняет… все воняет! Неужели ты не чувствуешь? — кричала Аннета после ухода гостя.
— Неправда, родненькая… ты же видишь, сколько я тут все тру и мою! Чтоб мне сквозь землю провалиться… — огорченно бормотала Агатия.
Так прошла зима. Снег постепенно оседал, серел, таял и утекал; кое-где уже виднелась земля. Из хлевов и яслей с ленивым мычанием, как бы нехотя, выходила перезимовавшая скотина. Вокруг еще теплых коровьих лепешек весело кружили воробьи; среди них был почему-то и один грязный, бог знает где перезимовавший голубь. Освобожденные от снега, черные от влаги стога испускали пар. Солнце, набираясь сил, приятно грело лица и руки, однако все еще ходили в теплом. Повязанные шалями дети, выскакивая во дворы, сразу протягивали свои перегретые у печей руки к ледяным сосулькам. Кап-кап, кап-кап… — щедро раздавали свои мутные капли обреченные сосульки. Громче щебетали дрозды; иногда они вприпрыжку перебегали через двор, гордо подняв головки, словно приехавшие на каникулы семинаристы. Наконец показалась и дорога, липкая, почти еще непроходимая от грязи, уродливо окаймленная по краям островками почерневшего снега. Земля спаслась из когтей зимы, но, изуродованная трехмесячным рабством, она словно выродилась, изменилась, загрязнилась, обессилела. Теперь все зависело от солнца и человека — им предстояло все восстановить, отмыть, упрочить заново. И солнце, и человек работали горячо, с охотой…
Когда же деревня засверкала тысячами красок и все дворы и проулки покрылись осыпавшимися от ветра цветками, Аннета своими руками открыла ворота и выпустила оленя на улицу.
— Уходи куда хочешь… только подальше отсюда! — сказала она оленю.
Люди опять бросались к заборам, опять с трудом удерживали за ошейники своих раздраженных запахом зверя и изумленных поведением хозяев собак, опять ласково подзывали оленя к себе — а олень, вскинув голову со сверкающими на солнце рогами, покачивая пополневшими, лоснящимися боками, шел по деревенской улице и прохладными, ворсистыми ноздрями обнюхивал протягивавшиеся к нему со всех сторон ладони. Спасенный, благодарный, наглядно убедившийся в человеческой доброте олень уходил, навсегда прощался с расцвеченной белым, розовым и синим деревней и, прощаясь, как умел благодарил людей за доброту, за приют, за пощаду — фыркал, мотал головой и своими большими влажными глазами запоминал и людей, и деревню. Но выйти из деревни ему было не суждено: он знал о людях больше, чем положено зверю, и это слишком притупило его природную боязливую осторожность. Аннета еще стояла у ворот, Агатия утирала слезы прощания, а Петре носком ботинка поправлял соскочившую со своего места плитку, когда прогремел ружейный выстрел… Петре вздрогнул и застыл на месте. «Послышалось, может…» — подумал он. Но звук выстрела услыхали не одни Макабели, но и все урукийцы — и не только услыхали, но и сразу догадались о причине столь неожиданного в этот спокойный, радостный, весенний день выстрела. Аннета пошла по следам оленя. Впервые в жизни она наяву вышла за ворота одна, без присмотра и без куклы. Следы оленя четко виднелись на осыпавшихся от ветра цветках, кое-где в сырых тенях заборов еще стоял его теплый, густой запах; а воздух все еще дрожал от неожиданного выстрела. Аннета шла до тех пор, пока в конце деревни, у кузницы, не увидела мокрых от слез глаз оленя. Над мертвым оленем стояли кузнец Стефане и стражник Захария. Кузнец был в кожаном нагруднике с закатанными рукавами, обнажавшими его крупные, от постоянной близости к огню смуглые руки. Стражник Захария еще держал в руках ружье. На его черной черкеске были нашиты грязные погоны из белой ткани.
— Э… э, — Аннета не могла выговорить и слова.
— Одна-то порция шашлычка мне, надеюсь, полагается? — ухмыльнулся Захария. Но ухмылка эта была притворной: его мутные, цвета шакальей шкуры глаза беспокойно бегали взад-вперед, ибо испугался он еще до прихода Аннеты, еще до прихода Аннеты понял, что хвастать удачным выстрелом ему не следует. — Да я ведь не целясь… Просто так — пугну-ка, думаю. А он вдруг бряк на бок… — попытался свалить свою вину на оленя Захария.
— Надо ж было ему, бедняге, как раз сейчас появиться! — перебил его кузнец Стефане. — Только пришел Захария — пряжку, говорит, почини. Смотрю, олень твой топает. Я-то его узнал… а Захарии откуда было знать, что… — Он внезапно умолк, не смея договорить: откуда, мол, Захарии было знать, что это не простой олень, а душа Георги?
— Мерзки вы мне все! — топнула ножкой Аннета.
По требованию Петре оленя похоронили, как человека, там же у кузницы, под старой чинарой, — ни свежевать его, ни спиливать рога Петре никому не позволил. Пока для оленя рыли могилу, насупившийся, обиженный Захария сидел у кузницы, рядом с прислоненным к стене колесом, и, поставив ружье между коленями, грыз старое, ссохшееся яблоко.
Стояла весна. Распускались расцвеченные на тысячу ладов деревья — казалось, что они, кружась, одно за другим выбегают из недр сверкающей, ослепительно чистой синевы. Стояла прекрасная голодная весна; в воздухе кружились запахи застоявшегося еще кое-где в оврагах снега и распускавшихся цветов. В пушистых пестиках цветов роились пчелы; в сырости прелой прошлогодней листвы, жужжа, возились всевозможные насекомые; с громким щебетом и гомоном, не щадя себя, летали от дерева к дереву, от двора ко двору птицы. Все были голодны, все спешили — зима опустошила амбары и кувшины до самого дна, а до осени было еще далеко. Запах изобилия и сытости существовал лишь в «Книге для семьи» Барбары Джоржадзе. Зато солнце день ото дня крепло, набиралось сил и выпаривало из земли холод и ненастье. «Мама, надо плитняк полить… ребенка же мухи заели!» — звала свекровь недавно родившая женщина, вконец разленившаяся за время беременности, разморенная запахом младенца и собственного молока. На перилах сохла перевернутая вверх дном ступка; с жужжанием кружился на месте перевернувшийся на спину жук. По дороге шел мальчик лет десяти-двенадцати, и по его лицу было видно, что его опять послали клянчить взаймы скудную горстку муки и фасоли. «Ну, еще разок…» — умоляла его, вероятно, одинокая мать или больная бабушка; вот он и пошел, еще раз пересилил свое самолюбие; ибо ни на что, кроме этого, он еще не способен: он мал, слаб, мечтателен… «Вырасту — научусь играть на барабане в трактире, и будет много денег…» — думает он. А кому нужно, чтоб он вправду всю жизнь пробарабанил в кабаках и харчевнях, вечно полупьяный, не смея хоть раз раскрыть, по-настоящему развернуть свою скомканную, как рублевая бумажка в кулаке, душу? Он идет, но ноги его не несут: перед его глазами стоят лица «помогающих» родственников. Он-то знает их лучше матери и бабушки! Те видят только пожертвованную муку или фасоль; а он — лица этих людей в тот миг, когда им приходится жертвовать, поступаться хоть горсткой этой фасоли или муки, паршивой горсткой, которою и воробья не насытишь! Матери и бабушке люди эти и сейчас кажутся такими же, какими они их знали раньше, в лучшие времена, когда в семье был кормилец и они могли возвращать взятое; а он познакомился с ними сейчас, в нужде, когда вся надежда семьи — он сам, а отец умер, арестован или пропал в солдатах. И он, завтрашний день мира, надежда мира, продолжение жизни, идет — идет, удрученный своим малолетством, сокрушенный бессилием матери и бабушки, озлобленный судьбой отца и уже заранее приспособленный к покорности и терпению! Он уже сбился с пути, сбился с самого начала, сбился не только в жизни, но и в мечтах — ведь и в мечтах у него все вертится вокруг трактирщиков и трактирных барабанщиков. А как же иначе? Они — сильные мира сего; а он — букашка и будет букашкой до тех пор, пока не возьмет в руки барабан, из которого сами собой посыплются смятые десятки. Такова жизнь, которую он знает, такой она его встретила. «Да, она такова…» — подтверждают ему все вокруг; вот его душа и покрылась перьями, более всего именно для такой жизни пригодными…
А весна, окропленная кровью Аннетиного оленя, кружилась, гудела, обрастала листьями, и Аннета твердо верила, что это последняя весна, которую она проводит в родительском доме. Уйти отсюда ей надо было любой ценой — здесь ее по-прежнему считали маленькой, говорили с ней, как с глупым ребенком, баловали ее и приписывали ее капризам все, что могла видеть она одна! Ибо до сих пор она не замечала ничего, ничего не понимала в собственном доме, была бесчувственной куклой наподобие Асклепиодоты, замечала лишь то, на что ей указывали старшие; теперь же оказалось вдруг, что это вовсе не так, что ее память все эти годы, как губка, впитывала в себя все жившее в этих стенах: смерть, страх, недоверие, постепенно наполнявшие ее, как пыль пробитую голову куклы! Аннету поражала собственная память: она помнила не только то, что видела сама, но и то, что происходило до ее рождения, го, чего ей знать и не полагалось, но что, по небрежности старших, до нее все-таки доходило. И чем дальше, тем больше ей бы пришлось помнить — а разве человеческий разум в силах запомнить все? Да и того, что она уже помнила, было достаточно, чтобы почувствовать неотвратимую, грозящую затопить весь мир беду! Пока что эта беда проникала лишь под их кров, лишь гут нашла слабое место, но где была гарантия, что этим она удовлетворится, ограничится одним их домом, не заразит постепенно и других? Дребезжащий бой огромных, как шкаф, часов лишал Аннету последнего терпения, убеждал ее в том, что медлить нельзя. С каждым днем ей становилось все невыносимей и вечное метание от стены к стене запертого в своей комнате, как узник, деда, и шорох бумаг, и щелканье костяшек на счетах отца, и бессмысленная, бесполезная суета Агатии. Дом прогнил до основания. Вонь шла от самого фундамента…
— Это тебе, доченька, кажется, — обиженно говорила Агатия.
Но Аннета уже знала, что почувствовать этот запах Агатия не сможет никогда, потому что сама насквозь им пропиталась, в нем состарилась, навек в нем потонула! А ей по ночам не спалось — она лежала в темноте, с натянутым на нос одеялом, и в каждом углу комнаты ей чудился стражник Захария с ружьем. Но если б и вся Уруки стала вдруг стражником Захарией и бдительно охраняла ее, ей все равно необходимо было б вырваться, бежать отсюда, довести до сведения людей запах своего насквозь прогнившего, зловонного дома — знак неотвратимой всеобщей беды! Думать о своих родных с такой беспощадной строгостью ее заставляла, возможно, и весна, но сама по себе и весна ничего б не изменила. И Аннета, как ее отец, никогда не догадалась бы о том, как бессмысленно и бесперспективно все их существование; и она, когда Агатия совсем состарилась бы, сама взяла бы в руки веник и совок, сама стала б хозяйкой этой беспочвенной семьи, если б в один прекрасный день у них на крыльце не стряхнул снега с ботинок инженер-путеец. Аннета любила его, сама этого еще не зная, влюбилась в него, едва его увидев, еще даже раньше — она ведь спутала его с братом, и эта ошибка ее невольно обезоружила, беззащитной и неподготовленной бросила ее в руки чувству, пахнувшему потерянными братьями и одновременно заставлявшему забыть их, занявшему в ее душе место братьев. И Аннета тревожилась, но вместе с тем чувствовала, что тревогу эту отчасти выдумывает сама, чтобы скрыть что-то еще более существенное и таинственное. Теперь она часами простаивала у окна, дожидаясь звука далеких взрывов. Впервые этот звук в Уруки услыхали, как только стаял снег, и сперва все решили, что это колесница Ильи. Но этого быть не могло, для Ильи было слишком рано, — и, понимая это, урукийцы растерянно глядели в небеса. Вскоре, однако, все разъяснилось. Теперь в лавке Гарегина только и было разговоров что о железной дороге. Чего только не рассказывали о железном чудище, которое, оказывается, ходит само по себе и может запросто перевезти с места на место целую деревню со всем ее скарбом… «Ну, теперь Гарегин нам гостинцев навезет!» — говорили собравшиеся в лавке крестьяне, сами себя успокаивая, но в то же время и вопросительно поглядывая на хозяина. Гарегин же, опершись животом на прилавок, улыбался так скромно, словно сам изобрел паровоз, но в душе побаивался и он. Будучи дальновиднее своих односельчан, он понимал, что железная дорога неизбежно уничтожит множество других дорог и тропинок, многое переставит с места на место, переместит и по-новому распределит жизнь и людей. А при таких переменах и его лавка вполне могла оказаться вдруг в малодоступном невыгодном месте.
— Да тогда вы ко мне и не заглянете! Утром сядете в поезд — а вечером уже в Тбилиси… — прибеднялся Гарегин, словно заранее усовещивая своих старых клиентов, как кормилица усовещивает своих с трудом выращенных и готовых уже разлететься в разные стороны питомцев.
— А гори она огнем… чтоб я туда еще сел! — говорил какой-нибудь крестьянин, стараясь задобрить Гарегина; но по его голосу чувствовалось, что он не вполне искренен и, когда дойдет до дела, пожалуй, и не выдержит. Впрочем, до этого было еще далеко. К Гарегину они уж привыкли, приспособились, а железная дорога к ним только шла — для нее еще лишь расчищали место, уничтожая кусты и колючие заросли, вырубая столетние леса, взрывая скалы, засыпая овраги. А впереди железной дороги шли слухи — через слухи она и утверждалась в сознании людей; и в чем только ее не обвиняли, чего только ей не приписывали! Утверждали, что вот-вот начнется второе пришествие: мертвые воскреснут, богослужение в церквах прекратится, священников остригут, а колокола снимут и переплавят на паровозные колеса. Много подобных диковин рассказывали и во встревоженной звуками далеких взрывов Уруки. А отец Зосиме ходил по деревне с пучком фиалок; к подолу его рясы цеплялся репейник, его лицо и кисти рук уже покрылись весенним загаром, а глаза по-прежнему мерцали. Он бродил повсюду, как оставшаяся без присмотра лошадь.
— Правда это, батюшка… ну вот все, что болтают? — спрашивали его сельчане.
— Должно быть, сынок… должно быть, — отвечал он таким тоном, словно хотел развеять все страхи. — И так ведь все к этому идет…
— Что ж от нас, батюшка, эту беду отвратит? — не отставали все еще надеявшиеся на него сельчане.
— А ничто не отвратит, сын мой! — широко улыбался отец Зосиме.
— Если оно так, чего ж этот старый болван зубы скалит? — бормотал за спиной священника какой-нибудь крестьянин, испугавшийся больше других и от страха обнаглевший окончательно.
— Твоя правда, сынок… твоя правда, — не оборачиваясь, отвечал ему отец Зосиме. — Старость дури не помеха…
Он прижимал к груди пучок фиалок и молитвенник — это, возможно, и делало его таким беспомощным, одиноким, резко выделяющимся в дочиста отмытом весеннем пространстве. Его ряса, усыпанная на плечах перхотью, блестела на солнце; маленькие дети, подросшие за зиму и сейчас впервые вышедшие из домов, его почему-то побаивались. Во внешности отца Зосиме было, впрочем, что-то и вправду тревожащее, гнетущее, и привлекательное и жуткое одновременно, вызванное скорей всего не соответствовавшими возрасту бодростью и жизнелюбием. Это он, должно быть, чувствовал и сам — поэтому-то он и улыбался так виновато и шагал скованно, как женщина, переодетая мужчиной. А мир снова начинал жить; поля готовились к пахоте, с виноградников выносили прелую листву и обрезки лозы; и везде, куда ни глянь, горели костры, на которых их сжигали. При ярком солнце костров этих не было видно; но вокруг них колыхался горячий воздух и распространялось приятное тепло. «Над миром тишина — поэтому и боюсь тебя, господи! — бормотал себе под нос отец Зосиме. — Над миром тишина, губительница земли… Ибо обманутые тишиной вновь позабудут тебя, господи; и вновь размножатся человеки и злодеяния их; и вновь ты вознегодуешь, господи… Над миром тишина — потопа предвестница…»
— С кем это ты разговариваешь, батюшка? — окликнул его запыхавшийся Петре. Он топал прямо по грязи, догоняя священника.
— Над миром тишина… — улыбнулся ему отец Зосиме.
— В моем доме — не тишина, а смерть и безумие! — прохрипел Петре. Сойдя с дороги, он поочередно обтер свои грязные сапоги о чей-то забор. — Я тебя, батюшка, искал… Приведи, говорит. Совсем уж в осла меня превратил!
Петре стоял у забора, а отец Зосиме на дороге. На Петре он глядел вполоборота — казалось, два врага, случайно встретившись, не решаются подойти друг к другу поближе.
— Ты фиалку когда-нибудь нюхал? — спросил священник, нюхая свой пучок фиалок.
— Что-о-о? — не поверил своим ушам Петре.
— Вот фи-ал-ка! — четко, по слогам сказал отец Зосиме, показывая Петре фиалки и молитвенник у себя в руке. — С этого начинается человек.
— Отец умирает! Пусть, говорит, отпустит, причастит меня… — смущенно сказал Петре.
— Вот такой же запах и у нас, новорожденных, — слабый, проникающий в душу! — сказал отец Зосиме. — Но недолго, только пока мы не начинаем ходить, не валимся в грязь. А хочешь выжить в грязи, первым делом убей в себе фиалку, избавься от запаха фиалки… К счастью, фиалка легко гибнет! — Теперь он держал молитвенник горизонтально, обеими руками; лежавшие на нем фиалки переплелись своими розовыми, почти прозрачными, еще в комках земли корнями. Осторожно, словно полную тарелку, поднеся молитвенник к носу, отец Зосиме еще раз глубоко, с удовольствием вдохнул и слегка наклонил книгу. Фиалки полетели в грязь.
Отойдя от забора, Петре подошел к священнику, словно этого только и ждал…
— Где ты, старина? Креста на тебе нет, что ли? — взвыл Кайхосро, когда Петре ввел отца Зосиме в комнату.
Отец Зосиме взглянул на Петре с удивлением, несколько даже раздраженно, как бы говоря: «Зачем ты меня, как лошадь, гнал? Отец твой помирать и не думает!» Но Петре не обратил на это внимания — у него снова было лицо человека измученного, перетрудившегося.
— Разве не лучше жить, причастившись, чем умереть без причастия? — проговорил он наконец, чтоб избавиться от пристального взгляда священника.
— Часы остановились, отец мой! Два дня уж молчат, как мертвые! — пожаловался Кайхосро.
— Так из-за этого я бежал сюда сломя голову? — улыбнулся отец Зосиме. — В часах-то я вовсе ничего не смыслю…
— Мое время кончилось, Зосиме! Два дня молчат, и никто, кроме меня, не заметил. Это они для меня остановились. Подали знак: подготовься, мол… — Кайхосро говорил спокойно, лишь его пухлые, веснушчатые руки едва заметно вздрагивали. — Так вот… подготовь меня. Я в твоих руках, кому бы ты ни служил — богу или черту! Только будь справедлив… С него ведь тоже спросится, — и он протянул руку в сторону Петре, — и больше, чем с меня. Мне-то тот был пасынком, а ему братом! Так что не сваливай на меня одного того, что и земле тяжело, того, что и земля не приняла…
— Вот-вот… Отцовское благословение! Петре им нужен, только чтоб грязь вывозить! — сказал Петре, выходя из комнаты.
Он с такой силой хлопнул дверью, что она не закрылась, а распахнулась еще больше — как бы специально для того, чтобы позволить ему слушать беседу отца со священником издали. В комнате стоял густой, застоявшийся запах пыли и гнилых яблок. На наружной стороне подоконника лежала горбушка хлеба, над ней кружились воробьи; но сдвинуть ее с места ни один из них сам не мог, а уступить товарищам не хотел. Их пугали и неподвижные черные тени в комнате, и стук собственных впопыхах попадавших мимо горбушки клювов; время от времени все они разом, как по команде, вспархивали с подоконника. Отец Зосиме с интересом наблюдал возню воробьев.
— Однажды в детстве кто-то меня фасолью покормил… до сих пор вкус во рту стоит, — сказал Кайхосро.
Он хотел исповедаться, излить душу, но даже на это ему не хватало решимости, поэтому он и нес чушь. Он походил на вора, стыдящегося не воровства вообще, а выяснения того, что именно он украл; ибо лишь сейчас, пойманный на месте преступления, он понял наконец, из-за какой ерунды себя опозорил. Поймавшие его люди ожидают отобрать у него бог знает какие сокровища, а он насовал себе за пазуху старых горьких огурцов! Скорей всего его просто отпустят — дадут пинка в зад и простят; и все-таки он сгорит со стыда, прежде чем вытряхнет рубашку и к его ногам посыплются сморщенные, засохшие огурцы… Сейчас Кайхосро было ясно, что он всю жизнь ненавидел отца Зосиме — ненавидел неосознанно, бессловесно, как жена калеки свекровь. Ему казалось, что, не будь отца Зосиме, его жизнь сложилась бы совсем иначе, что до встречи с отцом Зосиме все было еще поправимо, священник же навсегда отрезал ему путь отступления, отнял у него возможность отказаться от этих пропахших дерьмом развалин. В тот роковой день, когда они впервые встретились у могилы двухмесячного ребенка, коварная улыбка отца Зосиме, его слащавый, как медовый корень, язык заставили Кайхосро еще глубже погрязнуть во лжи, закоснеть в своей ошибке, еще крепче привязали его к чужому имени, к скорби по чужим покойникам! Разжалобив его, внушив ему жалость к мертвому младенцу, этот пьянчуга породнил их, навесил ему этого младенца на шею, на душу, на язык — и после этого Кайхосро отказаться уж не мог. А отказаться ему, если он хотел спастись и имел бы голову на плечах, нужно было немедленно, тут же! Не сделав этого, он и погиб — погиб именно в тот миг, когда вообразил себя спасенным. Но тогда он глуп был и как огня боялся лишь одного: как бы кто не усомнился, не стал докапываться, насколько законна его бумага на наследство. Это-то его и ослепило, это-то и замутило ему разум! Да кто тогда мог в нем усомниться? Кому пришло бы в голову возражать, присвой он себе руины Макабели даже незаконно, — руины, в которых погнушался б жить и последний церковный нищий! И нищий, получив их даром, не прожил бы там ни дня — он скорей остался б на паперти, чем стал бы выдирать из земли кишащие змеями заросли бурьяна, выметать отсюда весь этот несусветный вековой мусор! А он-то даже признал чьего-то мертвого младенца своей родной теткой — только б его отсюда не выставили, только б никто не усомнился, что он законный владелец всех этих нечистот, змей и могил, и пришел сюда не в поисках теплого местечка, а выполняя священный человеческий долг — проложить мост от незнакомых предков к столь же незнакомым потомкам. В действительности он оседлал корову, посадил верблюда в клетку для канарейки! Какой он был олух, всерьез поверив в то, что действует верно, что лишь этим может спасти себя, что лишь этой оседланной коровой, этим посаженным в клетку верблюдом запутает, собьет с толку всех жаждущих его крови врагов! Зачем ему было прикидываться, скрываться? Да если б он вовсе не встретился с Капланом — уж такую-то паршивую усадебку в какой-нибудь далекой, глухой колонии он своей двадцатипятилетней солдатчиной — выслужил бы! Если бы вся та пыль, которой он наглотался в походах за эти двадцать пять лет, вновь стала землей, на ней отлично разместился б целый батальон. Но тогда он этого не понимал — молод был, глуп… «Я вам так объясняю, словно вы посторонний…» — сказал ему отец Зосиме о чьем-то мертвом ребенке — вот что закрыло перед ним последнюю дверь к честной, открытой жизни! А он-то еще так обрадовался, что священник признал его родство с мертвой девочкой, — чуть руки ему целовать не стал! Будь у него тогда хоть капля мозгов, он не попался бы так легко на удочку отца Зосиме, поймавшего этим сразу двух зайцев: он и беспризорного покойника с рук сбыл (у них это, наверно, в заслугу ставится), и себя самого на всю жизнь дармовым вином обеспечил! Сейчас-то, конечно, уж поздно… А тогда отказаться и от имени Макабели, и от наследства ему нужно было тут же — и исчезнуть отсюда не оглядываясь, навсегда! Уж хуже того, что с ним случилось тут, ничего не могло произойти вообще. Не то что имени или звания — и потомства-то собственного у него не было: его потомству, если б оно и осталось на земле, суждено было никогда не знать правды о себе и своем происхождении. Это отец Зосиме отнял у него способность к отказу, к отрицанию! Мерцая глазами и причмокивая, он лишь помог Кайхосро закрепиться в тесной раковине лжи и этим навек его погубил… а ведь его прямой обязанностью было предостеречь сбившегося с пути, растолковать грешнику, что грех — в присвоении чужого, а не в отказе от присвоенного в минуту слабости и слепоты; что спасения ради и апостол от учителя трижды отрекся, а ему-то, червяку, и вовсе ни к чему из-за этой выродившейся семейки в ад лезть! Отец Зосиме же, вместо этого, лишь подтолкнул его, еще глубже погрузил его в пучину греха, из которого его теперь и сам бог не вытащит; и богу нелегко будет установить его личность, и бог не будет знать, кому протянуть руку помощи…
— Фасоль цветет… — сказал он. — Ты что, душу мне спасать пришел или в окно глазеть? — внезапно рассердился он.
— Цветок фасоли, кстати, очень похож на человеческую мечту, — заметил отец Зосиме. — И то и другое тянется вверх…
Они смотрели друг другу в глаза; один — напряженно, подозрительно, сердито, другой — спокойно, милосердно, терпеливо.
— А не пора ли… может, познакомимся наконец? — спросил Кайхосро, помолчав.
Лишь сейчас отец Зосиме впервые заметил, как обветшал за эти годы мундир майора: он почернел под мышками, неравномерно вылинял и весь покрылся пятнами. Даже эполеты уж не блестели, как встарь; сейчас они были похожи на два упавших с дерева, ободранных, перевернутых вверх дном вороньих гнезда. Золоченые пуговицы тоже совсем стерлись, бороздки на них почернели; одна пуговица вообще потерялась, и лишь на ткани был виден ее след — маленький кружочек, сохранивший первоначальный цвет мундира и обрывок нитки.
— Чудак человек! — улыбнулся отец Зосиме. — Да если уж мы с тобой незнакомы, тогда…
— Нет! — громко перебил его Кайхосро. — Нет! Ты с самого начала знал, что я не тот, за кого меня принимают. Но кто я на самом деле, этого не знаешь и ты!
— Ну хорошо… так и считай! — еще шире улыбнулся отец Зосиме.
— Что? Что считать? — напрягся Кайхосро.
— Что ты не тот, кем тебя считают… что и я не знаю, кто ты.
— Тогда… тогда… — от волнения у Кайхосро стал заплетаться язык, — тогда скажи и мне! Зачем ты меня мучишь? Заклинаю тебя богом и чертом, скажи: кто я?
— Фиалка! — сказал отец Зосиме.
— Фиалка? — выкатил глаза от изумления Кайхосро.
— Да! — кивнул головой отец Зосиме. — Вырванная с корнем и сразу потерявшая запах, увядшая в руках фиалка…
Они опять уставились друг на друга. Теперь оба улыбались — один, как всегда, спокойно, другой растерянно, зло, насмешливо. Внезапно у Кайхосро вырвался смех, сразу сменившийся кашлем. Его глаза налились кровью, щеки раздулись; он то и дело прикрывал рот тыльной стороной руки.
— Фиалку моего возраста ты, голубчик, видишь, должно быть, впервые… — с трудом выдавил он из себя. — Уйди от меня! — крикнул он вдруг, и его лицо приняло другое выражение, стало жестким, грубым, черным. — Уйди! — повторил он шепотом. Крикнуть еще раз он был уже не в силах — не хватило голоса.
— Успокойся, успокойся… — твердил ему отец Зосиме.
А за окном сверкал многоцветный мир. Стояла прекрасная голодная весна: люди ели вареную крапиву, но духом не падали. Гарегин торговал в долг, и покупателей у него от этого стало не меньше, а еще больше. Однако припасы, приобретенные в долг, были вкусны, но не насыщали. «На западе, говорят, совсем голод… у них, наверно, и кукурузы уж в обрез!» — замечал порой кто-нибудь, молча подразумевая, что у нас-то до этого все-таки еще не дошло. Потом сказавший это отходил в сторону, чтоб послушать и других и или рассеять свои извечные крестьянские страхи и сомнения, или еще больше утвердиться в них. «Кукуруза? Да что это за еда, кукуруза!» — тотчас подхватывал кто-либо другой; и жизнь продолжалась. Страсти Кайхосро и отца Зосиме никого не интересовали.
— Уйди от меня, говорят тебе! Дай мне спокойно помереть… — сказал Кайхосро. Но ему вовсе не хотелось, чтобы отец Зосиме действительно ушел, — его голос выдавал его. — Разговаривать с тобой я еще не выучился… но и ты меня, батюшка, верно пойми! Я ведь в ковчеге заперт…
— Да ну… какой уж там ковчег! — улыбнулся отец Зосиме. — Разве что пара клопов — вот и все…
— А чего тебе еще? — сразу подхватил Кайхосро. — Мы-то чем лучше клопов — и я, и Петре?
— И Петре тоже жаль… — сказал отец Зосиме.
«К чему мне ваша жалость?» — мысленно обозлился Петре. Разговор отца со священником он слушал из большой комнаты, стоя перед огромными, как шкаф, часами. «К чему мне ваша жалость!» — еще раз сердито, раздраженно подумал он. Его рука лежала на жилетном кармане, и он чувствовал, как в нем тикают серебряные часы с монограммой. Эти часы стучали, словно второе сердце Петре, — а те, огромные, как шкаф, молчали, остановились. Но Петре почему-то никак не мог решиться завести их, хоть сначала и остановился перед часами отца именно с этой целью. Ключ был вставлен в щелку на циферблате, и достаточно было несколько раз повернуть его, чтоб часы заработали вновь, своими глухими, дребезжащими толчками сдвинули с места застоявшийся воздух комнаты. Ощущение это почему-то взволновало Петре — именно в эту минуту в нем родилось что-то новое, таинственное, значительное; и даже собственное тело на миг показалось ему незнакомым, словно беременной женщине, случайно взглянувшей в зеркало. Он был напряжен и возбужден, как шпион, подслушивающий под чужой дверью. Впрочем, священник и отец не сказали ничего особенного, они несли свой обычный вздор; зато молчание часов открыло ему так много, что он был радостно ошеломлен. Молчание это сообщило ему главное — что он заслуживает гораздо большего, чем требует, и может сделать гораздо больше, чем ему казалось прежде. Улыбнувшись, он радостно потер задрожавшие руки. «И Петре тоже жаль», — как раз в этот момент сказал отец Зосиме… К чему была их жалость ему, только что обретшему власть, только что понявшему, что в этом крохотном кусочке металла скрыта не только душа огромных, как шкаф, часов, но и душа его отца? Так что в этом доме он значил больше отца и в любой миг, когда захотел бы, мог стать действительно первым, действительно старшим! Петре вынул ключ из щелки в циферблате и зажал его в кулаке. Несколько секунд он еще колебался, хотя отказываться от своего внезапно возникшего замысла и не думал — так что он, собственно, и не колебался, а лишь притворялся, что колеблется, что решиться на этот шаг ему очень трудно… притворялся, словно подражая великим мира сего, держащим в руках судьбу не одного полоумного старика, а целых государств. Потом он вышел на веранду и, подняв над головой руку со сжатым кулаком, закрыл глаза, чтоб и самому не увидеть, куда полетит маленькая железная птичка — ключ от огромных, как шкаф, часов.
11
Листва потемнела; просохшая и затвердевшая дорога опять покрылась слоем теплой, мягкой пыли; дома вновь скрылись в затененных дворах. Воздух стал душистым и загустел; в нем лениво летали жужжащие пчелы. Доносившиеся со двора, смягченные густой зеленью голоса звучали в полутемных комнатах как-то особенно загадочно и волнующе. Все щели между ветвями были залиты солнцем, и целиком разглядеть сквозь листву прошедшую по дороге корову или лошадь было невозможно. «А может, это и не корова? И не лошадь?» — вертелось в ее измученной голове. Сомнение это было, правда, не вполне искренним, придуманным скорей, чтоб как-нибудь убить время; и все-таки у него были свои причины: мечта и страх, бессилие и желание! Такой растерянности и тревоги она не испытывала еще никогда в жизни. Теперь она ежедневно с нетерпением ждала ночи и крика филина: как это свойственно девушкам ее возраста (этой весной ей исполнилось пятнадцать), она страстно, взволнованно мечтала о смерти; но ей не верилось, что смерть действительно пляшет под дудку Агатии и филина. Филин появился этой же весной; усевшись на липу во дворе Макабели, он вопил всегда так неожиданно, что у Агатии от страха отнимались руки.
— Своих хорони, окаянный, — ворчала Агатия, поспешно крестясь…
А ей хотелось умереть! Лишь смерть могла сразу освободить ее от печали, которую она ощущала всем телом, точно чужую, сношенную другими, пропитанную чужим потом и запахом рубашку. Ей казалось, что такой же встревоженной, как сейчас, она была всегда, с самого рождения, что такой же она останется и навсегда, бесконечно. Она тщетно боролась с собой — она не могла ни уйти из дому, ни остаться. Уйти ей не позволяла жалость, а остаться — ненависть; она жалела и ненавидела тех, кого она, сложись ее жизнь иначе, любила бы. Жалость и ненависть путались у нее в ногах, как две вымокшие под дождем, забредшие в комнату и неприятно прижимающиеся к оголенным икрам собаки; и она стояла у окна, вся как-то жалко съежившись, едва сдерживая слезы, насупленная, гневная, беззащитная! Сейчас она еще острей ощущала и смерть матери, и потерю братьев, и свою отчужденность от отца и деда — все это сбивало ее с толку, тревожило, заставляло болеть, мучиться, терзаться… А стоило ей лечь и закрыть глаза, как перед ней одновременно вставали два образа, не имевших друг к другу, казалось бы, никакого отношения: растертое снегом тело чужого мужчины и залитые слезами глаза мертвого оленя. Оба эти видения, при всем их внешнем несходстве, будоражили ее с одинаковой силой, навек слились в ее воображении, пустили в нем общий корень — и ее беспокоило именно ощущение этого корня, его таинственная двусмысленность. Обнаженное тело незнакомца рождало в ней надежду и подтверждало существование дорог; а заплаканные глаза мертвого зверя убеждали ее в несостоятельности надежды и коварстве дорог. Детство свое она уже забыла, — унеся с собой спокойствие, веру в вечные, несокрушимые мир и радость, оно взамен оставило в ее душе что-то столь же холодное и грубое, как железная спица, к которой был приделан глаз Асклепиодоты. Теперь ей было уже трудно поверить, что когда-то у нее действительно была мать; что ее, сидевшую на осле, действительно провожали в школу забияки братья… Ничего общего не было и между этим вечно раздраженным, навек затворившимся у себя стариком и тем ласковым, добрым дедушкой, который когда-то принес ей Асклепиодоту и запинаясь сказал: «К вам, сударыня, гостья… зовут ее, говорит, Асклу… Аскло… Асклепиодота!» Те времена ей или приснились, или навек ушли в землю вместе с другими сказками матери; действительностью было лишь то, что она переживала сейчас, а не пережитое когда-то — то в счет не шло, у того не было права преградить путь грядущему. То есть право-то, может, и было, но вот возможность вряд ли! Разве могла могила Бабуцы побудить Петре отказаться от женитьбы? Конечно, нет, и существование Аннеты тоже. Петре женился бы все равно! У жизни свои законы, свои порядки, и она умеет настоять на своем, навязать эти законы и порядки всем — это Аннета знала еще до того, как Петре подослал к ней отца Зосиме, чтобы «подготовить» ее. Она была тайно и глубоко влюблена, и именно это ужаснуло ее больше всего, когда она узнала о намерениях отца: как бы нарочно, чтоб унизить, высмеять, растоптать ее наивную, неосознанную, родившуюся сама собой, словно дикий цветок, любовь, и был затеян, казалось, весь его роман с какой-то телавской торговкой, похоронившей троих мужей и прижившей бог весть от кого ребенка-дурачка! И Аннета смеялась — от всей души заливалась смехом, сама этому удивляясь и без конца прося прощения у отца Зосиме.
— Успокойся, деточка… — говорил ей священник, и сам этим столь же смущенный. — Успокойся!
— Успокоиться? Да я вовсе и не волнуюсь, — продолжала смеяться Аннета.
— Милостью божьей природа создала тебя женщиной, — говорил отец Зосиме. — У тебя своя дорога…
— Ой, батюшка, простите! — прикрыла рот рукой Аннета.
— Все-таки это к лучшему… — чуть-чуть повысил голос отец Зосиме. — У тебя своя дорога…
— У меня будут новая мамочка и новый братец! — перебила его Аннета.
— У тебя…
— Сама не знаю, что меня рассмешило… памятью мамы клянусь! Ради бога, не обижайтесь, батюшка! — уклонилась от темы Аннета.
Откровенность отца Зосиме ее раздражала, ибо была неожиданной: Аннета была уверена, что священник выполнит поручение ее отца по-другому, не сразу, а постепенно, да и постарается подсластить его, в привлекательном свете обрисовать ожидающие семью перемены. Еще в детстве у нее сложилось впечатление, что врач и священник отличаются от других людей тем, что они болезней и опасностей не боятся и над тем, что на других нагоняет страх, лишь подшучивают. Чем бы Аннета ни болела, она выздоравливала, как только в комнату входил доктор Джандиери! Мать, плача, умоляла его помочь, а он улыбался и не лекарствами Аннету пичкал, а сажал к себе на колени Акслепиодоту и расспрашивал прежде всего о ней, словно больна была не Аннета, а кукла. Чего-то подобного Аннета неосознанно ждала сейчас и от отца Зосиме, хоть и чувствовала, что прикидываться и лгать в данном случае с его стороны было бы бессердечно — он ведь не от какой-то обычной скоропреходящей болезни ее лечил, он трудился для спасения и укрепления души!
— Скажите отцу: я рада за него, — неожиданно сказала она.
— Жизнь — не мать, а мачеха. Запомни и это! — сказал отец Зосиме.
Одним словом, за последнее время с Аннетой произошло так много всякой всячины, что растерялся б и мудрец, а не то что пятнадцатилетняя девочка! Ее голова, казалось, вот-вот треснет. Не будь Агатии, она, пожалуй, и вправду сошла б с ума. По вечерам они сидели вдвоем в большой комнате, полуосвещенной круглой фарфоровой лампой, и им не оставалось ничего иного, как вымещать друг на друге свое недовольство, обвинять друг друга в собственной беспомощности. Аннета любила Агатию, но щадить ее уже не могла — ей надо было кем-то пожертвовать, чтоб ощутить хоть какое-то облегчение, чтоб не сдаться своей непонятной, безжалостной тревоге совсем уж беспрекословно, без борьбы. Поэтому ночные беседы эти кончались чаще всего взаимными обидами и раздражением. Аннета была бессильна открыть глаза пусть хоть одной Агатии на несчастье, закружившееся вокруг нее сразу по окончании детства, словно ветер, пропитанный запахом мертвецкой. Агатия тоже была частью этого несчастья, его служанкой, и оправдывала, защищала его с упорством верной, преданной служанки, ничего ни лучшего, ни худшего, чем это несчастье, никогда в жизни не видавшей. Служанка до мозга костей, она инстинктивно чувствовала, что оправдание любых поступков хозяев больше, чем их осуждение, способствует прочности и долговечности семьи, прочность же семьи была для нее самым главным; ибо тем же инстинктом она угадывала, что в пошатнувшейся, сбившейся с панталыку семье чужой и лишней станет прежде всего она сама, как всякая бездомная старуха. А остаться без дома, без хозяина Агатия страшилась больше всего! Хозяйкой своей она, правда, считала не семью Макабели целиком, а только Аннегу — так же, как раньше Бабуцу, а еще раньше мать Бабуцы; ощущая себя собственностью каждого из своих питомцев, она переходила из рук в руки спокойно и безболезненно, как вещь. Быть служанкой ей было необходимо, но вовсе не безразлично чьей, как ее несправедливо упрекнула Аннета в один из этих вечеров. Поскольку существовала Аннета, Агатия была такой же ее собственностью, как оставленные Бабуцей библиотека, пара икон, сабля Луарсаба Микеладзе и крест на вылинявшей подушечке. Так что и будущее Агатии было непосредственно связано с Аннетой, и она представляла его себе вполне ясно: после замужества Аннеты она стала бы приданым Аннеты и, с божьей помощью, вырастила б и ее детей. Поэтому неразумные и бессвязные разговоры Аннеты тревожили ее гораздо больше, чем предполагаемая женитьба Петре. В намерении Петре не было ничего удивительного — по тем двум-трем мужчинам, которые были мужьями или отцами ее воспитанниц, она составила себе определенное представление о мужчинах вообще. Почему Петре должен быть исключением, когда Луарсаб Микеладзе, не стесняясь больной жены, заставлял Агатию стелить в соседней комнате постель для свой шлюхи, а к Кайхосро Макабели ходила беспутная духоборка, которой было б лучше не полы мыть, а самой вымыться! Когда Петре впервые сказал Агатии, что ему нужно жениться, пока и его не съели вши, как Кайхосро, она, привыкшая к его вечной воркотне, придиркам и угрозам, приняла это за обычный попрек, и огорчили ее не столько возможные последствия женитьбы Петре, сколько то, что ее посчитали негодной хозяйкой. По-настоящему встревожилась она лишь потом, случайно услыхав обрывки разговора Аннеты с отцом Зосиме. Странный смех Аннеты и беспощадная прямота священника поразили ее как громом, и она впервые поняла, как незначительны ее тревоги в сравнении с несчастьем этой маленькой девочки и как легко могло действительно произойти то, о чем Аннета толковала по вечерам и что Агатия до сих пор считала лишь детскими причудами. Кто, в самом деле, упрекнул бы Аннету, если б в один прекрасный день и она встала и ушла, исчезла вслед за Нико и Александром? Новая хозяйка, какова б она ни была, постарается, конечно, прежде всего изгнать из дома не старую, выжившую из ума служанку — до служанки она, наверно, и не снизойдет, — а дух матери Аннеты… вот тогда Аннета и осиротеет по-настоящему! Но чем еще могла помочь ей Агатия, кроме как своей верной службой? Она должна была сидеть и ждать — она была приданым Аннеты, и быть рядом с ней ей полагалось всегда, в счастье и несчастье. От природы покорная, она не собиралась бунтовать и сейчас, но сейчас она понимала куда больше, чем до разговора Аннеты с отцом Зосиме. Оказалось вдруг, что в семье шла напряженная, беспощадная война, в которой участвовала и она сама, ибо одна из враждующих сторон была выращена ею. Конечно, она всегда была б на стороне своей питомицы, но главным, существенным было не это. Главным было, чтобы все окончилось благополучно, без жертв; а это могло случиться лишь в том случае, если б Аннета опередила отца, выйдя замуж до его женитьбы. Но до ее замужества было еще далеко, а Петре мог жениться в любой момент, хоть сегодня, поэтому-то Агатия и не знала уж, как ей быть. По ночам над ней вопил филин, и это пугало ее еще больше; сидя на своем стуле, она вся съеживалась, хоть и делала вид, что увлечена штопкой носков, что лишь носки с разодранными пятками ее сейчас и заботят. А что она могла сделать еще? Ни Аннету, ни тем более ангела смерти ей было не переспорить…
— Самого себя хорони! Накажи тебя господь! — встревоженно бормотала она.
— Почему ты его проклинаешь? — сейчас же обрывала ее Аннета. — А может, я именно умереть хочу?
— Не гневи бога, детонька! Нашла время умирать… — застывало лицо Агатии.
— Я невеста смерти! Разве ты не знаешь? Давеча, когда ты мне просвирку судьбы испекла, знаешь что мне приснилось? Смерть! Я напилась из ладоней смерти. И отцу это на руку! Поминки — мелочь, поминки — не свадьба… — спокойно, беспечно болтала Аннета, встав на своем стуле на коленки и прижавшись животом к столу.
— Отодвинься, детка… я и так ничего не вижу! — переводила разговор Агатия, еле сдерживая слезы.
— Нет, ты мне скажи: правда ведь свадьба дороже поминок обходится? — не отставала от нее Аннета, сама втайне чуть-чуть растрогавшись, но и упрямясь от сознания своего бессилия.
Пузатая фарфоровая лампа едва освещала комнату, но айвовое пламя по-прежнему следило за людьми из своей стеклянной башни, словно разумное существо, обитатель какой-нибудь далекой звезды, давным-давно присланный в эту неведомую среду для изучения здешних порядков и обычаев и решивший лучше остаться здесь, сказаться для своих соотечественников навек погибшим, чем принести им сведения о том, чего он тут насмотрелся. Рука Агатии лежала на ворохе старых носков, которые она каждый вечер вываливала себе на колени; но это была не штопка, а мучение одно! Она без конца колола себе пальцы: голова разлегшейся на столе Аннеты наполовину закрывала свет лампы.
— Почему это тебе вдруг смерть приснилась? Откуда ты знаешь, как выглядит смерть? — спросила Агатия таким испуганным и в то же время обиженным голосом, что Аннета невольно рассмеялась.
— Зна-а-аю… — протянула она.
— Господь тебя упаси… — перекрестилась Агатия, держа в руке штопку. — Чушь все это! — сказала она, чуть помолчав и уставившись на лампу. Ее веки сморщились, словно она что-то вспомнила. — Чушь! — повторила она, подняв голову; и на этот раз ее голос звучал смелей и тверже.
— Что? Что чушь? — сердито, вызывающе повернулась к ней Аннета. Стул, на котором она стояла на коленках, опирался сейчас лишь на две передние ножки.
— Просвирка судьбы! — сказала Агатия. — Матери твоей в свое время вышло за царевича замуж идти, а она…
— Что «а она»? — не дала ей договорить Аннета. — Говори… почему ты вдруг замолчала? А вышла за моего отца, да? Это ты хотела сказать? — спросила она. Неожиданно стул под ее коленями покачнулся — и Аннета, и запертое в стекле пламя лампы вздрогнули одновременно.
— Осторожней, детка! — воскликнула Агатия. — Я просто говорю, что просвирка чушь! А отец твой ничем не хуже других…
— Отец… — сказала Аннета, дохнув на лампу. Пламя заколебалось, прогнулось, уклонилось в сторону, и след выдоха на горячем стекле медленно испарился.
Потом обе долго молчали. Приблизив лицо к лампе, Аннета с удовольствием чувствовала, как в ее глазах переливается теплый желтый свет; Агатия же растерялась окончательно. Что просвирка судьбы чушь — это она сказала, конечно, только чтоб успокоить Ан-нету; на самом деле она и сейчас верила в судьбу так же свято, как вчера, как десять, двадцать, тридцать лет назад, — верила слепо, упрямо, непоколебимо, как всякий темный и суеверный человек. «Почему я не померла… почему у меня руки не отсохли?» — мысленно проклинала она себя, задыхаясь от жалости при виде еще по-детски неразвитого, беззаботного тела Аннеты. Замужество женщины, ее вступление в брак всегда было для Агатии непроницаемой тайной, а просвирка судьбы — единственным, что она в связи с этой тайной знала; и знание это, само по себе пустое и глупое, нужно было ей, как всем старым девам и женщинам-неудачницам, прежде всего, чтоб успокоить, унять свою нетронутую и этим навек оскорбленную девственность. Сама она этого, впрочем, не сознавала — к счастью, ибо сознание это ей было б еще мучительней, чем вечное безбрачие. Сама с ним уже примирившись, Агатия считала его, однако, несчастьем для других и, как умела, с ним боролась, но для борьбы у нее одно лишь это пустое, глупое знание и было. Ни Бабуце, ни Аннете соленая просвирка, однако, не помогла — первую она обманула, заменив принца виноторговцем, а второй пожалела и этого, прислала в качестве суженого смерть. Вестником смерти был, вероятно, и филин, присланный ею, чтобы предупредить: иду, мол, готовьтесь… Аннета-то этого языка не понимала, она была еще ребенок, а Агатия, вместо того чтобы переполошить всех, хоть как-нибудь попытаться спасти девочку, молча штопала старые носки, только чтоб не напугать ее еще больше. За это одно ее следовало б, конечно, побить камнями, сжечь заживо, разодрать на куски раскаленными щипцами! Но не меньшим для нее мучением было ведь и сидеть сейчас в этой тихой, уединенной комнате с ворохом носков, всем своим видом и занятием как бы подтверждая вечность и незыблемость семейного очага. Так было каждый вечер— всю весну эти две женщины, подросток и старуха, терзались в безжалостных когтях неизвестности. Одна до самых сумерек не отходила от окна, нетерпеливо — или, верней, очень терпеливо, с надеждой, с гордостью даже дожидаясь звука далеких взрывов и красноватого облака пыли, которое ветер гнал через Уруки. А в ушах другой и днем звучал крик филина, и она с дрожью в коленях ждала наступления ночи. Лишь эти два звука и связывали их теперь с внешним миром, в этих звуках воплотились все их представления о внешнем мире. Первый звук означал инженера-путейца; второй — смерть.
— А что они против свиньи-то имели? — спросила как-то вечером Аннета.
Дверь на веранду была открыта, и по всему дому раздавался шелест зазеленевших, набравших силу лип. Все внимание Агатии было приковано к этим липам: со страхом дожидаясь крика филина, она не сразу расслышала слова Аннеты.
— А что они, говорю, против свиньи имели? — прикрикнула на нее Аннета.
— Что ты, доченька, кричишь… я-то откуда знаю? Маленькие были, глупые… — невольно повысила голос и Агатия. — Все мальчишки одинаково непослушны… ни родителей, ни себя не жалеют, — продолжала она через секунду уже обычным голосом.
— Это правда, что, укусив себя в локоть, я мальчишкой стану? — спросила Аннета.
— Ничего тебе больше рассказывать не буду! Голова у тебя глупостями забита… — рассердилась Агатия.
— Хочешь, укушу? Я смогу! — сказала Аннета. Она потянулась к локтю, которым опиралась на стол; локоть скользнул по столу. От напряжения у нее заболела шея, и она положила голову на руку, как бы вдруг заснув. Ее губы были сжаты и чуть-чуть выпячены вперед, как у обиженного ребенка.
— Не лежи так! — сердито сказала Агатия. — Горб вырастет!
— Ну и пускай себе вырастет… — ответила Аннета, не открывая глаз.
— Себя хорони, себя хорони! — воскликнула Агатия: именно в этот миг раздался крик филина.
Аннета засмеялась, не открывая глаз и не шевелясь, застыв в прежней позе, с головой, опущенной на руку, как бы в дурмане от самой себя, от прохлады и запаха собственного тела.
— Ты девушка, родная… с братьями твоими тебе равняться нечего! — сказала Агатия, отгрызая нитку с заштопанного носка. — Посажу тебя, бывало, среди подушек, и сидишь… с ними, разбойниками, ничего общего! И мать твоя, царство небесное, такой же была…
— Еще чего! — приподняла голову Аннета. — Да откуда ты знаешь, какая я? Может, и ты меня, как отец, глупой считаешь? Вот проснешься в один прекрасный день, а меня и нет…
— Чтоб мне провалиться… — забормотала Агатия. — Когда ж ты наконец образумишься? Какое тебе дело до смерти? Сперва она еще меня забрать должна, а я, как видишь, еще тут, с тобой…
— Я-то именно образумилась, вот мне и есть дело до смерти… — сказала Аннета. Она снова опустила голову на руки и зевнула. — Я тоже не люблю отца, — добавила она, зевая. Пальцы руки, на которой лежала ее голова, едва заметно шевелились, словно она ласкала невидимую кошку или, скорей, пожалуй, желтое пламя лампы. — Теперь у него будет и жена, и ребенок. У этой женщины ведь, кажется, ребенок есть… Это правда, а, Агатия? — Разговаривая, в сущности, не с Агатией, а сама с собой, она не ждала ответа. «Интересно, какая она. Целовать ее нужно ли?» — продолжала она про себя.
— Чтоб мне провалиться, провалиться… — опять заохала Агатия. — Да можно ли так говорить об отце? И его ведь жалко! Человек еще молодой, а живет, как старик! Ну чем он виноват, что так вышло? А о женщине этой ты, радость моя, не беспокойся! Кто тебя тут притеснять посмеет? Это твой дом, а их уж потом…
— Я бы весь дом взорвала, — сказала Аннета, открыв глаза и внимательно глядя на Агатию. — Слышишь! Не свинарник, а дом! И все сразу б кончилось…
— Ложиться, наверно, пора уж… — Агатия сделала вид, что не расслышала последних слов Аннеты. — Керосин только зря жжем. В глазах все расплывается…
— Я бы дом взорвала! — зло, упрямо повторила Анкета.
— Ну и взрывай… кто ж тебе мешает? Вместо того чтоб… — Агатия вдруг не справилась с собой, спокойно начатая фраза оборвалась у нее во рту, как гнилая нитка. Чтобы скрыть волнение, она стала рыться в носках.
— Агатия, Агатия, послушай! — позвала Аннета. — Ты Еедь тоже боишься? Ну, скажи, боишься ведь?
— Чего, доченька? — в самом деле испугалась Агатия. Ее руки в куче носков застыли, и она вся обратилась в слух.
— Агатия… бедная моя Агатия! — сказала Аннета. — Асклепиодоту я оставлю тебе! Ты о ней позаботишься…
— Ну что ты, деточка… с ума меня свести решила, что ли? Иди-ка лучше сюда, вдень мне нитку в иглу! Вместо того чтоб… — и она снова запнулась.
— Вместо чего? Вместо чего? — крикнула Аннета, приподнявшись на коленях.
— Тише… поздно ведь уж! — взмолилась Агатия и шепотом, как будто они скрывались среди врагов, продолжала: — Вместо того чтоб добиваться счастья… ты ведь уж не маленькая…
— Сча-а-астья? — сморщилась Аннета. — Откуда ему тут взяться? Ты мне лучше вот что скажи: как мне держаться на свадьбе отца? Их целовать?
— Тьфу ты черт! — вскочила Агатия и обеими руками осторожно, как мертвого щенка, перенесла всю кучу носков на тахту; нагнувшись, она беспомощно шарила в ней руками. — Тьфу ты черт! — повторила она с раздражением, относившимся не к кому-нибудь другому, а к себе самой. — Ну как ее теперь найдешь… я ведь иголку в носки сунула из-за твоих разговоров! — сказала она, стараясь скрыть свое раздражение или хоть сделать его более понятным, более простительным.
— Я б дом взорвала! Понятно? Со всеми, кто тут есть! — крикнула Аннета, свирепо стукнув по столу своим маленьким кулачком.
Пламя в стекле вздрогнуло, затрепетало. На улице была ночь, густая, как лес, таинственная, равнодушная, ничуть не интересовавшаяся тем, о чем думали, что переживали в этот миг обе женщины, как мотыльки льнувшие к мерцающему свету лампы. Ночи было наплевать на то, что через неделю в этом доме появится новая хозяйка, трижды бывшая замужем женщина из Телави, которую соседи называли сладкой Дусой, — называли так не потому только, что после смерти своего последнего мужа она, продолжая его дело, торговала сластями, но и потому, что она была женщина с интересным прошлым и еще вполне обольстительная…
Петре познакомился с ней в Телави прошлой осенью. Был холодный солнечный день. Петре чувствовал себя неважно, его знобило; а в винном подвале он простудился еще больше — виноторговец заставил его прождать часа два. За это время можно было обойти весь город пешком и вернуться! Должно быть, он долго прощался с каждой засаленной рублевкой в отдельности— целовал их, наверно… А может, он просто надеялся, что Петре надоест ждать и он уйдет. Но это с его стороны было бы глупо, — придя к должнику, Петре без денег не ушел бы, даже если б ему пришлось не просто в холодном подвале, а голой задницей на льду сидеть!
— Я думал, ты в трауре… а ты, оказывается, по Телави разгуливаешь? — сказал ему виноторговец.
— Мне не до прогулок. У меня мать с ума сошла! — выпалил Петре.
— Ну да? — разинул рот торговец.
— Смерти брата не вынесла… — сказал Петре, сразу предохраняя себя от лишних расспросов.
«Придется платить… все равно ведь сдерет!» — подумал виноторговец и ушел. Ушел он весьма основательно: пока Петре нетерпеливо, как необъезженный жеребенок, притоптывал замерзшими ногами по земляному полу, прошло часа два, не меньше.
— Придет… он ведь тут рядом живет! — успокаивал его мальчик-прислужник.
— То-то и оно, что рядом! Именно сейчас ему жену тискать вздумалось, что ли? — задыхался от ярости Петре.
— И-и-хи-хи! — от всей души расхохотался мальчик.
Торговец этот брал вино у Петре уже лет десять и платил по частям. Это было обусловлено с самого начала; но, несмотря на это — или именно поэтому, отношения их были весьма напряженными, и каждая встреча неизменно кончалась неприятностями, которые они, однако, забывали, как только расставались. Происходило это не преднамеренно, а само собой. Одному из них надо было получать деньги, и он стремился получить их как можно скорей. Другой же должен был платить, но, хоть он это и знал и был к этому подготовлен, расставаться с деньгами, коснувшимися уже его рук, попавшими уже к нему в кошелек, было все равно очень трудно… поэтому он и пытался как-нибудь отсрочить платеж или уменьшить выдаваемую сумму, сделать ее не такой заметной для кармана. В глубине души, однако, оба чувствовали, что отношения эти им нужней даже, чем сами деньги, что это тренирует их для более серьезных битв жизни. Они походили на братьев-подростков, разбивающих друг другу носы позади дома втайне от взрослых, вроде не всерьез, а по-братски, только чтобы сделать друг друга сильней, не дать себя в обиду ребятам из соседнего квартала, суметь вынести удар кулаком и дать сдачи во время настоящей драки!
Выйдя из подвала, Петре был зол как собака — ни полученные деньги, ни прогулка по городу его уж не радовали. Стало еще холодней; солнце уже не грело совсем, а лишь зря висело в небе, и это тоже злило Петре. В его нагрудном кармане лежал сразу распухший бумажник, тратить можно было сколько вздумается— мест для этого он знал достаточно много. Но ему было не до развлечений. Уезжая в Телави, он рассчитывал немного погулять и развлечься, но и здесь он не мог забыть яростного, ненавидящего взгляда матери. Да нет, он не развлекаться уехал, он попросту удрал от этого пугающего, леденящего взгляда! Холод, пронизывающий его сейчас до мозга костей, исходил из глаз матери. И не сейчас только — с самого детства, с той ночи, когда она его, сонного, избила без всякой причины, несправедливо, избила лишь ради своего любимца, ради того, чтоб доставить удовольствие своему любимцу! Из-за него она возненавидела Петре с самого начала — потому что он был у нее до Петре, да еще от кого-то чужого; не от отца Петре, не от ее первого мужа даже, а от любовника, от проходимца, которого отец выгнал за дверь! А выгнал его отец потому, что дураком был и вздумал добиваться того, что и господу богу невозможно: облагородить мужичку, превратить шлюху в невинную девушку, ворону в голубку. Такое не удается никогда, в такое никто, кроме этого пьянчуги Зосиме, и не поверит… Вот наоборот случается, и очень часто! Бессмысленная, излишняя доброта лишь разжигает зло — у них в семье это подтвердилось еще раз. Мать Петре возненавидела не только мужа, но и его семя, весь его род, потому что была недостойна этого семени, привыкла к сорнякам, которые сеются, всходят и растут сами по себе. Благородное же семя сожгло ее утробу, не осчастливило, а унизило ее, как бриллиантовое кольцо грязную руку нищего. Мать Петре всю жизнь старалась избавиться от этой милости, для нее совершенно неподходящей, а поэтому и пагубной, — и ясней всех это видел Петре. Говоря точней, один он это и видел: отец-то свою ошибку — ошибку вполне земную — все пытался исправить не на земле, а на небе, то есть в заляпанных книжках отца Зосиме, в которых, как мертвецы в гробах, заключены лишь допотопные, давным-давно приключившиеся истории или и вовсе откровенно вымышленные сказочки! А вот Петре смотрит жизни прямо в глаза — ив глаза матери тоже. Он видит больше, чем написано в любой книге. Он знает, как опасна мать, родившая тебя — не в грехе, нет, а для того только, чтобы прикрыть грех, совершенный до тебя, чтоб выманить права для другого, для первого, для сына греха! Зачиная тебя, она в действительности лишь вторично зачинала его, даже в этот момент думала лишь о нем, лишь о его сохранении и спасении, а ты был всего-навсего бумагой, подтверждавшей его права и неприкосновенность, бумагой, в которую она его завернула. Но вышло так, что одна эта бумага ей и осталась, а ее истинного, единственного сына зарезали, как корову; и сделал это тот же человек, который ей его и подарил, или кто-то в этом роде… точно Петре не знает, да и знать не хочет! Но он хорошо знает другое: на что способен человек, если его корову забьют, а бумагу о владении этой коровой прилепят ему на лоб. Уж Петре-то знает, о чем думает его мать по ночам в хлеву, пропахшем ослиной мочой и кровью Георги! Она его мать, она его родила, но ему лучше попасть в руки самых свирепых разбойников, чем остаться с ней в хлеву с глазу на глаз. Пусть кто хочет называет его плохим сыном, трусливой собакой — как угодно! Для других она мать Петре, для чужих, для тех, кто краем уха слышал, что она его родила; но в действительности-то (это, однако, понимает он один) она его ведь вовсе не родила — она просто избавилась от него, выбросила его из себя, как камень из почки или желчного пузыря! Петре боялся матери, но защитить его от нее в семье было некому. Отец заботился только о себе, все время хватался за бок, хныкал и ныл, как беременная женщина; ему было наплевать на все, лишь бы у него самого ничего не болело. Поэтому-то он и был здоров как бык, жрал за троих, а вина выдувал столько, что его хватило б на целый кабак! Сыновья же облили Петре грязью с головы до ног, опозорили его, сделали его всеобщим посмешищем… Хотя это-то ему поделом: слишком уж он доверился жене, слишком плясал под ее дудку. Покойница, царство небесное, от книг своих чуточку одурела! В хозяйстве, во всяком случае, она ничего не смыслила, оставшись одна, и яичницы, вероятно, зажарить не сумела б, зато она без конца листала свою «Книгу для семьи» и по книжке учила Агатию, сколько в кастрюлю класть соли, а сколько масла. Да что там, она и в постель ведь с книжкой ложилась! Сколько раз, бывало, Петре засыпал, так и не дождавшись, пока она закроет книжку и погасит свечу. Да и он был дурак— считал, что раз она книжку держит, то было б мужланством напомнить ей, что ночью у замужней женщины есть обязанность и посущественней, чем вздыхать и плакать над чужими глупостями! Сыновей учеными сделать решила — и вот, пожалуйста, научились… На весь мир его ученые сыновья прославили. Уж теперь-то всякий, кто об их делах прослышит, от царя до последнего стражника, непременно и мать их скверным словом помянет. И поминают ведь — еще как поминают! Что посеешь, то и пожнешь. Весь мир неучен — и ничего, держится. Неграмотного можно обдурить на копейку-две, но бомбы швырять его не заставишь! Ну ладно, к черту сыновей, но и дочь у него ведь негодница, и дочь Петре ведь не удалась! Ей никогда и в голову не придет спросить отца, чем он так озабочен, чем она могла бы его порадовать. Не такая уж она маленькая, чтоб не найти ложку на полке, — а он, потративший на нее столько сил, должен сидеть в собственном доме как гость… Многие девушки в ее возрасте уже замужем, имеют уже свои семьи, а эта смотрит в рот Агатии и играет с куклой, вместо того чтобы поддержать отца, помочь ему забыть свое вдовство, не выпускать его из дому в нестираном, неглаженом! Зря говорят: дочь, мол, для отца рождается. Отца ни дочери, ни сыновья знать не хотят… то есть хотеть-то хотят, конечно, но только пока они в нем нуждаются! В своем доме Петре был одинок — и, что больше всего его огорчало, был лишним. «Ну вот: теперь ты и первый, и единственный…» — сказала ему на днях мать. Но кому нужны эти первенство и единственность, если нет человека, которому ты необходим? Таким человеком была только Бабуца, потому что существование Петре обеспечивало ее положение супруги, хозяйки дома; и, чувствуя это, она волей-неволей считала своей обязанностью укреплять и защищать достоинство мужа. «Отец велел», «Ваши проделки не нравятся отцу», «Молитесь за отца!» — говорила она детям; и, хотя такой уж горячей, страстной любви к Петре у нее никогда не было, он все-таки был благодарен ей, как помещик хорошему, честному управляющему, вовсе не обязанному клясться в любви к хозяину и в нерабочее время. При жизни Бабуцы, кстати, место Петре в семье было вообще куда более почетным — тогда не только дети, но и родители уважали его гораздо больше. То ли они берегли его авторитет, то ли опасались задевать самолюбие Бабуцы, но тогда Петре был Петре, хозяин, глава семьи, и сам этим гордился; когда же его жена умерла, а дети разбрелись кто куда, он опять стал Петрикелой. После смерти Бабуцы Нико не написал домой ни строчки, словно в семье у него никого, кроме нее, не было, словно его отец был пустым местом, ничего не значил, ничем не отличался от бычка, нужного лишь для осеменения коровы. А Александру он нужней, что ли? Едва тот спутался со своей хромой индюшкой — все! Он не то что выделился из семьи — это-то он сделать, конечно, мог, — он попросту убежал от отца, как разбойник от закона. И дочь была ничуть не лучше своих сумасбродов братьев! Петре-то воображал, что она ангел, что она и ухаживать за ним будет на старости лет, и оплачет его, а она ему давеча такое загнула, что Петре захотелось уши ей оборвать, голову ей открутить, как цыпленку… если б не страх перед сыновьями, он, конечно, научил бы ее разговаривать с отцом! Но лучше было воздержаться, чем давать сыновьям повод для придирок — как это, мол, ты посмел избить сестру, когда нас дома не было? Может, ее и вообще подбил Александр — натравил ее на отца, подсказал ей, что говорить. «Я себя убью, если ты бабушку не вылечишь…» — вот что сказала ему Аннета!
— Убьешь себя? Зачем? Я тебя сам прикончу! Своими руками всех вас передушу! — заорал на нее Петре.
После этого он как бы перестал существовать и для Аннеты — пройди он мимо нее хоть тысячу раз, она на него и не взглянула б, в ее лице ничто не изменилось бы! По-взрослому хмурая и насупленная, она сидела на ступеньке со своей куклой и, морща нос, глядела, как бабушка ползает по земле вокруг хлева. Кто знает, может, ей и вправду хотелось, чтобы бабушка зарезала отца! Нет, если Петре хотел спасти себя, ему нужно было найти друга вне семьи, привести с улицы человека, способного понять и оценить его, — человека, который поселился бы в доме наподобие гарнизона, защищающего его от собственной семейки. А таким человеком могла стать только жена, только чужая женщина, вошедшая в дом благодаря ему и ни с кем, кроме него, не считающаяся — тем более если он это одобрит. Хочешь, чтоб тебя уважали и мать, и жена, — первым долгом натрави их друг на друга! Женщина, мать ли, жена ли, не может жить без ненависти; поэтому вместе с платьем, косынкой и домашними шлепанцами надо подарить ей и повод для ненависти, подбросить ей этот повод, как кость собаке, чтоб она тебя самого не укусила. Мать первой возненавидит сына, если он не приведет ей невестки; а жена мужа — если в доме ее не встретит свекровь. Такова уж женская природа! Так что вообще-то думать о женитьбе Петре начал гораздо раньше того холодного, осеннего дня, когда он впервые встретился в Телави со сладкой Дусой. В тот день Петре был болен, но сам еще этого не понимал или боялся сознаться себе в этом, ибо заболеть он страшился больше всего. Мог ли он болеть сейчас, когда обломки семьи рушились ему на голову? За смертью Бабуцы последовали смерть Георги и сумасшествие — или симуляция сумасшествия — Анны, и вся Уруки не отходила от железных ворот Макабели, развлекаясь бесплатным зрелищем. Нико гнил в Сибири, а Александр кружил вокруг родного дома, как волк вокруг овечьего загона, и, встречая кого-либо из урукийцев, каждый раз передавал своим одно и то же: «Бойтесь меня — другим-то на наши дела наплевать…» Кайхосро уже не мог или не хотел быть главой семьи — к себе он впускал одного отца Зосиме, и свои стаканы они осушали с таким громким прицокиваньем, словно науськивали гончих. Сейчас было самое время доказать и старшинство, и незаменимость Петре — это была его семья, и если она рушилась, то прежде всего для него самого. Но разрушить ее он не позволит никому — ни матери, ни сыну, для которых признать его старшинство смерти подобно! Поэтому болеть ему было некогда. Вокруг него бушевала беспощадная война; люди гибли, сходили с ума, только чтоб не признавать его, не покоряться ему, а заболев, он был бы вынужден просить мира или сдаться своим врагам; ибо сдохни он даже на улице, никто, кроме них, внимания на это не обратил бы. Таковы были мысли Петре, когда он вышел из винного подвала и, вместо того чтобы подойти к рынку, взять первого попавшегося извозчика и побыстрей ехать домой, стал бессмысленно слоняться по улицам, сдавшись на милость судьбы, плывя по воле судьбы — сам он уже ничего не видел, ничего не чувствовал, хоть и знал этот город как свои пять пальцев, хоть и мог бы ходить по нему с закрытыми глазами. У него ломило в костях, болели глаза; голова казалась сжатой раскаленным железным обручем, и он ничуть бы не удивился, если б она вдруг громыхнула и треснула, как яйцо. Больше всего, однако, его тревожили деньги, взятые у виноторговца, — они жгли его сердце, как горчичники. «Зачем мне было брать у него столько денег?» — яростно, злобно думал он. Упади он сейчас в самом деле на улице, к нему кинулся бы весь город— не для помощи, для грабежа! На мгновение ему даже пришло в голову вернуться в подвал; но он уже не помнил толком, где этот подвал находится, существует ли он вообще. Людей, совсем незнакомых Петре, не виденных им ни разу, в этом городе не было, должно быть, вовсе, но сейчас он не замечал ни знакомых, ни незнакомых, не видел ничего, кроме каких-то смутных, перемешанных друг с другом и освещенных солнцем теней. Казалось, он шел по бесконечной и безлюдной аллее, сам не зная, зачем идет и сколько ему еще идти до мест, населенных людьми, — мест, где деньги что-то еще значат, где за деньги можно купить и хлеб и тепло. Он шел не сам — его гнал страх, и Петре, беспомощный, мрачный и жуткий, словно загнанный в тупик зверь, лишь повиновался этому страху. «Может, он, сукин сын, мне отравленные деньги подсунул?» — думал он, идя вперед; без конца облизывая языком пересохшие губы, он тяжко дышал, как после быстрого бега. А телавцам он, вероятно, казался беззаботно гуляющим — в хорошем пальто с меховым воротником, в теплой каракулевой шапке, с бумажником, так туго набитым деньгами, что его нагрудный карман заметно оттопыривался. «Князю наше почтение!»— со всех сторон окликали его приказчики и цирюльники, мальчики из гостиниц и кабачков. Но он ничего не слышал; голова жужжала, как окуренный улей, и уйти от этого бесконечного, одуряющего жужжания было невозможно, некуда — разве что отрубив себе голову! Он знал, твердо помнил лишь то, что болезни поддаваться нельзя, и слепо, упрямо, самозабвенно шел навстречу счастливому случаю, чувствуя, что спасти его сейчас может только счастливый случай, — шел так, будто болезнь была не в нем самом, а гналась за ним по пятам и, остановись он хоть на миг, чтоб мельком взглянуть на часы, она схватила б его и уж не выпустила бы из рук. Но и счастливый случай не заставил себя ждать! В двух шагах от него, почти перед самым его носом, возникло вдруг улыбающееся женское лицо, выросшее из освещенного солнцем мрака, как вырастает из моря желанная, надежная, прочная, головокружительно прекрасная земля. Петре ощутил на своем лице успокаивающее тепло, ощутил и живительное дыхание незнакомой женщины — вечное, родное, здоровое! В действительности, впрочем, незнакомка была еще довольно далеко — в тот же миг она стала вдруг маленьким черным пятнышком, точкой где-то в конце улицы, словно Петре увидел ее в бинокль сперва увеличенной, а потом уменьшенной. Его желание опередило глаза; его надежда представила себе эту женщину до того еще, как глаза смогли увидеть и воспринять ее. Но она не привиделась Петре, а существовала на самом деле; она стояла в конце улицы перед своим домиком, с черным лотком, на котором были разложены различные сласти — петушки на палочках, завернутые в бумажки с бахромой конфеты, орешки в меду, нуга, леденцы, и, закутав свои полные плечи шерстяной шалью, ждала покупателей. Да нет, даже не покупателей — она, собственно, вышла просто так, на людей поглядеть, подышать свежим воздухом… а заодно, на всякий случай, прихватила и свой товар. Покупатели легко нашли б ее и так — ее дом был известен всему Телави, и все, кому хотелось сладенького, могли стучать в ее ставни в любое время дня и ночи. От своего мужа она усвоила, что хоть раз отказать покупателю значит потерять его; и если б к ее двери одновременно подошли покупатель и господь бог, то она сперва обслужила бы покупателя и лишь потом спросила бы бога, по какому делу он, собственно, изволил пожаловать, — спросила бы вызывающе, злобно, как это свойственно женщинам сильным и недовольным своей судьбой. Вовсе не впустить бога в свой домик она, пожалуй, не решилась бы; но уж стула она б ему не предложила во всяком случае — она разгневалась бы на него, как жена на никчемного мужа, как дочь на охладевшего к семье отца! Не гневаться на бога она не могла: винить в своих несчастьях ей, кроме него, было некого. Трижды она кое-как сколачивала себе семью — и трижды бог ее разрушал, трижды заставлял ее предавать земле молодцов одного лучше другого, мужчин, словно соревновавшихся друг с другом в любви и уважении к жене! К тому же ни с одним из этих мужей бог ее чрева не благословил, а благословил тогда, когда она этого не ждала, когда ей это было уже ни к чему… благословил как бы нарочно, чтоб дать ей безмозглого дурачка, непонятно от кого и родившегося. (Телавцы подозревали кассира городского банка — оттого, вероятно, что у него была падучая; а заболел он якобы потому, что, запершись в своей железной кассе, с утра до вечера пересчитывал деньги.) Милостью божьей было и то, что ей приходилось таскать вверх-вниз этот черный лоток, в котором у всех на виду, на радость врагам, покоилась ее разочарованная и попранная, замурованная в конфеты, липкая, воняющая патокой, облепленная мухами женственность! И сама липкая от сластей, она не могла ни перелистать книгу, ни посолить еду, ни пересчитать денег, не скомкав предварительно каждую бумажку отдельно. Так что, осмелься бог постучаться к ней в дверь, она не то что рассвирепела бы — она с ним вообще бог знает что сделала бы…
Она тоже заметила Петре и, хотя уж собралась уходить, тащить домой свой небольшой, размером с гладильную доску, лоток, все-таки задержалась, с улыбкой поджидая спокойного на вид господина в каракулевой шапке и меховом пальто, идущего, вполне возможно, именно к ней. Вероятно, кто-то объяснил ему, как пройти к ее домику, и он пошел, не поленился, желая непременно привезти детям и внукам сластей из Телави, раз уж он тут оказался.
— Вам повезло… я как раз уходить собралась, — кокетливо сказала она.
— Повезло? — вздрогнул Петре. — Повезло? — как утопающий за соломинку, схватился он за это слово.
— Выбирайте. Все свежее! — сказала женщина, показывая рукой на лоток.
Петре невольно взглянул на него, но увидал не сласти, а прислонившегося к лотку ребенка, точней, его окровавленный рот. Однако он тут же понял, что изо рта ребенка течет не кровь, а красная, пенистая слюна: мальчик сосал что-то красное. Его сжатый кулачок тоже был вымазан красной слюной. Почувствовав отвращение, Петре осторожно, чтоб это не бросилось в глаза женщине, отвел глаза.
— Какой большой ребенок! — сказал он таким тоном, словно она и ребенка продавала.
— Какой ребенок… ему четырнадцать уже! — затряслась от смеха грудь женщины. — Он у меня дефективным родился, поэтому так и выглядит…
Это заинтересовало Петре, и он вновь взглянул на ребенка. Тот что-то ожесточенно сосал, и все его лицо скривилось в тупой гримасе, — казалось, он никак не мог отдышаться. Роста он был и впрямь не такого уж маленького, и все же дать ему больше четырех лет было трудно. Петре показалось, что женщина шутит, и он улыбнулся, не зная, что ей сказать, что ей будет приятней услышать: что на вид мальчику не больше четырех или что ему не меньше четырнадцати. Преодолев невольное отвращение, он потянулся потрепать мальчика по щеке; но тот отодвинулся и, потеряв равновесие, скользнул плечами по лотку и упал, как неловко прислоненная к стене доска. Обсосанная конфета вывалилась у него из рта на землю, в пыль. Мальчик встревоженными, умоляющими глазами взглянул на мать. Его слюнявый рот был по-прежнему открыт, как зрелый плод инжира.
— Вставай, вставай, чтоб ты сдох… — со смехом прикрикнула на него мать. — Не помогайте ему, он сам встанет! — сказала она Петре.
Но Петре и не собирался помогать ребенку — он застыл как вкопанный. «Овдовевшей женщине лучше уж сразу убить себя, сойти в могилу вслед за мужем…»— донесся до него голос женщины, и Петре вдруг понял, что слышит его уже давно. «Если б моим мужьям пришлось увидеть, как я торгую конфетами на улице, они бы с горя, наверно, еще раз померли! Да они мне в несогретую постель лечь не позволяли! Воды им подать и то не давали: сиди, говорят, не беспокойся… Мне все соседи завидовали: что, говорят, в тебе такого особенного, что мужчины к тебе, как мухи к меду, липнут? Теперь-то ко мне не мужчины липнут, а именно мухи… Жена извозчика и та лучше меня — какой ни на есть, а все-таки муж, хозяин, кормилец…» Женщина говорила так быстро, словно ей нужно было непременно высказаться до того, как Петре опомнится и уйдет. У нее был сиплый, надтреснутый голос, как будто она застудила горло или в нем что-то застряло; и Петре с нетерпением ждал, чтоб она откашлялась, прочистила горло. Ребенок тем временем уже поднялся — он снова стоял, прислонясь к лотку, и был похож на живую вывеску. А женщина все еще говорила, говорила без конца, и, хотя больше половины того, что она говорила, Петре не понимал, ему было почему-то приятно чувствовать себя во власти этого сиплого, надтреснутого голоса — так же, как ребенку приятно находиться среди взрослых мужчин, рассказывающих при нем о вещах, делать которые он еще не может, хотя невольно уже о них думает; поэтому-то у него и возникает естественное желание вмешаться в разговор, победить свою застенчивость и робость, малолетство и немощь — победить порывом, ему еще не знакомым, смелостью, вызывающей еще в нем угрызения совести… «Чтоб женщину оценили, ее нужно поместить среди мужчин, как картину в раму…»— говорил сиплый, надтреснутый голос.
— Я болен, — неожиданно сказал Петре.
Женщина замолчала, взглянула на него, и ее лицо приняло такое выражение, словно он только что вырос перед ней из земли. С Петре ручьями лил пот; его заблестевшие, бегающие от жара глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит…
Петре проболел три дня; три дня у него не было ни вкуса, ни обоняния, ни зрения, и он лежал в какой-то пестрой дремоте, задыхающийся, измученный, подавленный. Через три дня в его ноздри ударил вдруг запах уксуса и спирта. Горечь уксуса и спирта вонзилась в его обессиленное тело, как нож врача, и ему сразу стало легче — его слипшиеся, заполненные тошнотворно сладким воздухом ноздри, горло, легкие раскрылись, и он, осторожно вытянув онемевшее, обессиленное тело, почувствовал, как в его горячую от пота постель льется здоровый, естественный, приятный холод. После трехдневного беспамятства к Петре вернулось и зрение, и он вновь увидел женщину и ребенка. Женщина заворачивала конфеты в лоскутки прозрачной пестрой бумаги, а ребенок, сидя на тахте у противоположной стены, вяло, нехотя бил в маленький барабан, который он держал под мышкой. Казалось, он бил по барабану, чтоб за что-то его наказать — не слишком больно, но и не так, чтобы барабан совсем умолк. Все внимание мальчика было устремлено на мать, он напряженно следил за ее работой; барабаном были заняты лишь его руки. Теперь к Петре вернулся и разум, и однообразное гудение, наполнявшее его голову до сих пор, ушло внутрь барабана, стало доноситься лишь оттуда; в этом звуке не было уже ничего опасного или невыносимого— Петре своими глазами видел, где и как он рождается. Первое, что он почувствовал, открыв глаза, было чувство счастья — он как бы вынес его из болезни, болезнь оставила в нем это ощущение, подобного которому он не испытывал еще за всю жизнь,
— Чтоб ты, сынок, сдох… — спокойно сказала женщина, даже не взглянув в сторону сына, и, вытерев пальцы лежавшей там же, на столе, мокрой тряпкой, продолжала свою работу.
— Какой сегодня день? — вдруг взволновался Петре.
— Среда, — спокойно ответила женщина, как бы заранее знавшая, когда Петре придет в себя и какой первый вопрос задаст. — С тебя магарыч! — добавила ока чуть погодя.
— Понедельник, вторник, среда, — вслух сосчитал Петре, загибая в то же время пальцы правой руки под одеялом. Указательный и большой остались растопыренными.
— А воскресенье? — живо обернулась к Петре женщина. — Воскресенья ты не считаешь? Ты же в воскресенье пожаловал…
— Да ну его к черту! — сказал Петре.
— То есть как это «к черту»? — недовольно подбоченилась женщина.
С силой выдохнув воздух, она взметнула лежавшие на столе лоскутки пестрой бумаги, запрыгавшие, как оставшиеся без наседки цыплята. Барабан мгновенно смолк.
— Это я о себе говорю: к черту! — уточнил Петре. — Что это со мной приключилось?
— Какие же вы все, мужчины, трусливые… — засмеялась женщина.
— Вот… я даже передать не могу, как я вам благодарен! — сказал вдруг Петре, хотя говорить этого сейчас не собирался. К выражению благодарности он был еще не готов — смех женщины заставил его поторопиться. Он был действительно полон благодарности к своей сиплоголосой хозяйке, но еще внутренне капризничал, как бы стремясь увеличить в собственных глазах заслугу этой совершенно незнакомой женщины, не только пощадившей, но и выходившей его. А ведь ей ничего не стоило зарезать его и, разрубив на куски, выбросить в отхожее место! Этим она никого не удивила бы, в этом ее никто б и не упрекнул: не говоря уж о каракулевой шапке и меховом пальто, спокойно висевших сейчас на двери чулана, в кармане у Петре было столько денег, что тысячи людей, пронюхай они лишь об этом, не задумываясь перерезали б ему глотку, а потом сцепились бы друг с другом, деля добычу. А этой женщине Петре сам отдал себя в руки, сам сказал ей, что у него много денег, со слепым доверием сдался ей в темноте и угаре болезни, как сдается мужу новобрачная, не знающая, как он с ней поступит, какой она проснется завтра, да и проснется ли вообще! Сейчас Петре запросто мог уже три дня быть мертвецом… да нет, даже четыре — воскресенье, понедельник, вторник, среду (и он загнул под одеялом и указательный палец). Он мог бесследно исчезнуть, и никто б до этого не докопался, кроме ее ребенка, которого бог сделал безмозглым — хотя столько-то ума, чтоб не мочиться в каракулевую шапку Петре, а надеть ее на голову, у него наверняка хватило б!
— Ей-богу, не знаю, как вас и благодарить! — сказал Петре; и вдруг у него заурчало в желудке. Почувствовав голод, он обрадовался и этому: голод доказывал, что он жив и, утолив его, проживет еще долго. — Меня зовут Петре… Петре Макабели, — продолжал он. Но женщина не дала ему договорить.
— Это-то мы знаем… — сказала она. — Ты деньгам своим спасибо скажи: это они тебя выручили! Бумажник твой, правда, на ладан уж дышит — в этом проклятом городе все на вес золота, а лекарства особенно… И каждый ведь свое советует — пока одно поможет, десяток других накупишь! Еда опять же… (При слове «еда» желудок Петре заурчал еще сильней!) Крестьяне наши такие несознательные стали… сдохнут, а копейки лишней не уступят! Денег изведешь уйму, вроде что-то купила; а придешь домой — корзинка-то и пустая…
— К черту! — сказал Петре. — К черту…
— Да ты хоть помнишь, как меня зовут-то? — спросила женщина.
— А вы разве говорили? — виновато улыбнулся Петре.
— И-и-и, гром тебя разрази! — засмеялась она. — Благодарностями своими надоел уж, а кого благодаришь, значит, и не знаешь! Держи, чтоб ты сдох! — крикнула она ребенку, кидая ему конфету. Пока конфета летела, ребенок не сводил с нее глаз. Ударившись о барабан, она упала на пол; тогда он бросил барабан, торопливо слез с тахты, уселся на полу, скрестив ноги по-турецки, и обеими руками сунул ее в рот. Теперь он глядел лишь на собственные руки и быстро двигал губами. — Мальчика моего зовут Сардион, — продолжала женщина, — а меня Дуса, сладкая Дуса. Для одних я сладкая, для других горькая, но зовут все сладкой. Вот из-за этого… — она показала рукой на холмик конфет в середине стола. — Песком и то не отдраишь… сладкая я, от меня сладкий запах! — В ее голосе послышалось раздражение, не новое уж, давнее, надоевшее и все-таки до конца еще не переваренное…
— А я живу в Уруки… — снова начал Петре; но женщина опять перебила его:
— И это знаем! Отец твой майор, князь, у вас двухэтажный дом… не в таком чулане, как я, живете! — Она повела рукой, показывая, в какой тесноте вынуждена жить. — Один твой сын за царем гоняется, убить его хочет; а второй за тобою…
— За дедом своим… — невольно поправил ее Петре.
— Я все знаю! Жена у тебя умерла, брата твоего убили, мать с ума спятила. Ну, что еще? Да, у тебя ведь и дочка есть. Она тоже того… чокнутая немного. Девка на выданье, а в куклы до сих пор играет! Это вы ее с ума свели! Вовремя замуж выдать надо было…
— Да ей только будет шестнадцать… — попытался оправдаться Петре.
— И она тебя тоже не любит! — вдруг отрезала женщина.
Лишь в этот момент Петре заметил, что женщина разговаривает с ним на «ты». Но это его не обидело, не удивило даже — она имела право на это, ибо все дела Петре и его семьи знала если не лучше, то уж во всяком случае не хуже, чем любой член этой семьи. Она была уже своей, близкой, и осведомленность ее Петре ничуть не удивляла, хотя знакомы они были всего три, ну, допустим, даже четыре дня, а сейчас и вообще впервые разговаривали друг с другом, так сказать, в полном сознании, зная, с кем и о чем идет разговор. Можно прожить с женщиной целый век и остаться для нее чужим и незнакомым; но, вынеся хоть однажды — и притом добровольно — твой горшок, она не только знает уж о тебе все, что можно знать, но и имеет на тебя больше прав, чем родная мать! Ибо го, что мать сделала бы не задумываясь, с радостью, женщина эта делает сознательно и с отвращением, но она преодолевает его, потому что ты ей не безразличен, потому что твои дела ее интересуют. А ведь сладкая Дуса три, нет, уже даже четыре дня выносила горшки Петре!
— А что у нас сегодня на обед? — бодро полюбопытствовал он.
— Ослиные потроха! — не задумываясь ответила женщина, словно и к этому вопросу подготовившись заранее. И она громко, визгливо захохотала.
«Вот кто моих на место поставил бы!» — подумал вдруг Петре, как ребенок, очарованный, но одновременно несколько и напуганный каким-либо необычным зрелищем.
— На, получай! — Наклонившись к Петре, она своей рукой вложила ему в рот конфету. Она все еще смеялась — беззвучно, прижимая руку к колышущейся груди. — Пососи, освежи рот…
Петре с шумом проглотил сладкую слюну, и его желудок заурчал еще сильней. «К черту! — сказал он про себя. — К черту…»
После этого Петре еще несколько раз побывал в Телави; а потом умерла Анна, и снег выпал такой, что не то что в Телави, а и просто из дому носа высунуть нельзя было. Гроб с телом Анны с трудом дотащили до кладбища на телеге. Запертый дома из-за бездорожья, Петре не мог думать ни о чем другом, кроме сладкой Дусы. Она даже снилась ему в его двуспальной кровати, как бы охромевшей после ранней смерти Бабуцы. Пока он мог видеть Дусу, у него не было никаких неподобающих мыслей об этой одинокой, трижды вдовой женщине, хоть и было бы вероятно, вполне естественно, если б он сделал ее своей любовницей сразу, без всяких конфет и пустой болтовни. Что могло быть особенного в том, чтоб дурачок Сардион — конечно, одевшись потеплей — на полчасика отправился погулять со своим барабаном во дворе, а Петре в это время ясно и недвусмысленно потребовал у его матери, женщины с такими же до блеска красными губами, как у ее сына, того, чего у нее потребовал бы каждый мужчина на его месте и в чем, как выяснилось впоследствии, сладкая Дуса ему вовсе и не отказала б? Возможно, впрочем, что Петре не требовал этого именно потому, что отказа не ждал, а ему не хотелось, чтоб женщина, на которую он возлагал более серьезные надежды, оказалась чересчур уж податливой и доступной. Он нуждался не в любовнице, а в жене, он хотел не тайком навещать ее, а поселить ее у себя дома, для упрочения своей власти над семьей. В конце-то концов он заботился не о плоти, а о духе, о том самом духе, испустив который человек помирает! Конечно, утверждать, что сладкая Дуса ничуть не взволновала Петре, что он остался совсем уж слеп к ее женским прелестям, было б неверно, но он ни разу не позволил себе переступить границы учтивого и доброжелательного знакомства. Сосание конфет, кстати, тоже помогало сдерживать возникавшее желание, скрывать причину, по которой у него так внезапно и некстати срывался голос. Непроизвольно рождавшееся желание так же непроизвольно и гасло, ибо Дуса вела себя хорошо, не мучила своего урукийского гостя чрезмерным кокетством, не давала ему поводов к развитию и усилению безответной страсти, ни намеренно, ни даже случайно не пользовалась ни одною из общепринятых женских уловок и хитростей, призванных выводить мужчину из себя: не обнажала грудь сверх меры, не садилась на стул так, чтобы повыразительней обрисовать мягкие части тела; сев же, она, напротив, тотчас поправляла платье, приглаживала его ладонями, чтоб не оставить нигде никакой тайной, чересчур возбуждающей складки. А говорила она исключительно о своих мертвых мужьях, им она уделяла несравненно больше внимания, чем своему живому гостю, впущенному в дом, казалось, только чтоб у нее было кому без конца о них рассказывать! С очередной конфетой за щекой, с губами, блестящими от сладкой слюны, она бог знает в который уже раз вспоминала, как кто из них выглядел, как кто одевался, какая у кого была походка, а главное, как кто ее любил. Все эти умершие мужчины не забывали ее и до сих пор: не проходило и ночи, чтоб ей не приснился кто-нибудь из них троих, а то и все трое вместе. Даже во сне они уважали Дусу так же, как и при жизни, и друг с другом не ссорились, а учтиво сменялись в той же последовательности, в которой когда-то на ней женились…
— Так все вместе и снятся? — не выдержал однажды Петре.
— Ну да-а-а… Вот и вчера ночью все вместе приходили! — сразу оживилась Дуса. — Один шелковый платок и парчу на платье принес, другой — сандалетки с бисером, а третий — во-о-от такие серьги! (Сложив большой и указательный пальцы колечками, сладкая Дуса поднесла их к самому носу Петре.) И не простые— золотые! Как бубенчики, звенели…
Петре захотелось сказать, что, если она станет его женой, он целиком исполнит этот сон наяву, купит все, что мертвые мужья приносили ей во сне. Но сказать это он не осмелился, постеснялся просить руки женщины, тоскующей по своим мертвецам, — он не был уверен в том, что один живой сумеет осилить троих мертвых, в том, что женщина эта согласится променять троих мертвых на одного живого. Впрочем, как выяснилось опять-таки впоследствии, она вовсе не о мертвых горевала, не женскую свою судьбу вместе с ними оплакивала, а просто, хватаясь за своего живого гостя, стремилась набить себе цену, бесконечным повторением одного и того же побудить его взглянуть на нее глазами ее мертвых мужей, поучить на их примере (раз уж сам он этого не понимал), как проще всего завоевать сердце сладкой Дусы! Благодаря этому она не только избегала неприятной откровенности, но и облегчала положение гостя — при условии, конечно, что что-то понять он был все-таки способен. «А при чем тут я? — мог бы, конечно, возразить он если не вслух, то хоть про себя. — Мне-то что до того, почем им обходилось каждое твое объятие?» Но думать так Петре был сейчас не в состоянии, ибо Дуса нужна была ему не на один раз, не на минутку; он хотел ее навеки, как жизни, как божества, вызывающего и любовь, и страх! Вертя языком полурастаявшую во рту конфету, перебрасывая ее от одной щеки к другой, одурев от волнения, он покорно слушал голос женщины, как слушает проповедь в церкви неграмотный прихожанин, на душу которого воздействует лишь звучание слов, а не скрытая в этих словах мысль. Будь Петре более знаком с женщинами и более внимателен, он, конечно, заметил бы, что покойные мужья сладкой Дусы служат ей тем же, чем червяк рыбаку, что она и сама ненароком путает их имена, их последовательность во времени, их жизнь и смерть вообще. Но и это было для Петре несущественно — все трое мертвых, чинно стоявшие в очереди к своей общей жене, были для него одним и тем же человеком, умершим трижды, тремя различными смертями, исключительно для того, чтоб окружить покинутую им женщину тройной броней скорбных воспоминаний! Какое поэтому могло иметь для Петре значение, звали ли его Шакро-Ватато-Бидзина, Ватато-Бидзина-Шакро или Бидзина-Шакро-Ватато и сгорел ли он на винном заводе, был убит пьяными на свадьбе или неожиданно умер во сне? Сказать по правде, его вовсе не интересовало прошлое Дусы, он даже предпочел бы ничего не знать об этом прошлом вообще; ибо то, что он о нем знал, лишь мешало ему открыть ей свои намерения и раз навсегда перестать метаться между Уруки и Телави. Его заботы и колебания были вызваны не количеством мужей Дусы, а прочностью ее памяти о них. Память эта обосновалась в ее душе намертво, так что, женись он на ней в самом деле, ему пришлось бы не только взять в приданое ребенка-дурачка, но и заранее примириться с тем, что каждую ночь перед его постелью будет стоять очередь из трех призраков с парчой на платье, сандалетами с бисером и золотыми серьгами в руках! «К черту их всех… ну как же можно отказываться от женщины из-за мертвецов?» — задыхался от злости Петре, сидя в коляске и направляясь от Дусы домой или из Уруки к домику Дусы. Но в ту страшную ночь, когда Анна стукнула спящего мужа кирпичом по голове, Петре твердо решил жениться: он окончательно убедился в том, что его сумасшедшая мать несравненно опасней всех мертвых мужей Дусы. Те-то, судя по ее словам, приходили среди ночи не с кирпичами, а с подарками и никакого шуму не делали, а спокойно дожидались своей очереди! «Дуса… Дуса нам нужна!» — кричал он своему отцу, вымазанному в крови, натыкавшемуся в темноте на стены, словно огромная слепая птица, и так ошеломленному страхом и болью, словно он находился не у себя дома, а попал сюда случайно и умрет, разобьет голову о стены, если как-нибудь отсюда не выберется. «Дуса за тобой поухаживает… Дуса тебя в чувство приведет!» — шипел он в ухо матери, связывая ей руки за спиной. На следующий день он собирался ехать в Телави с самого утра, но тут он все-таки отложил выезд, все-таки дождался доктора Джандиери. Несмотря на пережитое потрясение и бессонную ночь, он был непривычно бодр, ощущал во всем теле приятную легкость и необычную гордость, словно резвый ребенок, ушибшийся на этот раз не по своей вине, а по небрежности взрослых и даже радующийся этому ушибу, гордящийся им, чувствующий потребность рассказать о нем всем — ибо виноват не он и наказывать его не за что. Приблизительно такое вот детское упрямство и побудило Петре дождаться доктора Джандиери, показать и постороннему человеку, в какое положение попал он, Петре, а главное, заставить его пожалеть себя.
Ни любви, ни особенно сильной неприязни к доктору Джандиери у Петре не было — и все-таки каждое появление врача его скорей раздражало, чем радовало. В его присутствии Петре чувствовал себя скованным, беспомощным: какой белоснежной ни была бы рубашка доктора Джандиери, как слащаво он бы ни улыбался, каждый его визит все-таки напоминал Петре о болезни и смерти. Именно чрезмерная чистота врача и его нравоучительный тон и вызывали у Петре такое раздражение, словно доктор Джандиери приезжал не ободрить больного, а унизить его, посмеяться над ним, продемонстрировать ему свое превосходство. Поэтому он и ездил в двуколке, являлся непременно в двуколке — чтоб вызвать у больного страх и благоговение! Но толку от этого не было никакого: обреченные на смерть умирали, а те, кому суждено было выздороветь, выздоравливали и так, без его помощи. Петре, во всяком случае, ничего полезного в деятельности доктора Джандиери не видел! Присев к тебе на постель, словно невоспитанный родственник, доктор этот крутил и выворачивал слова до тех пор, пока ты сам не признавался ему, что, где и как у тебя болит; затем он заглядывал в твой ночной горшок, как небрежная домохозяйка в свою кастрюлю, — и этим все его лечение кончалось. И за это он получал деньги, с муками и страданиями собранные гроши, которые люди робко совали ему в карман, извиняясь еще при этом за беспокойство, благодаря его за помощь, вместо того чтобы с палками на него наброситься, собак натравить! Хорошая жизнь, ей-богу, — без забот, без семьи, без детей, для себя одного! Хорошо, когда на твоем попечении не сумасшедший дом, а всего одна кобыла — и то лишь потому, что она тебе нужна, что она честно служит, честно возит тебя взад-вперед по земле! Ну, а что делать таким, как Петре? Так всю жизнь и прислуживать другим, а на себя совсем рукой махнуть? Таким, значит, ничего уж не нужно — ни жизни, ни уважения людей? Нет, нужно — и еще как нужно! Да они-то как раз уважения и заслуживают своими муками и терпением. Да, муками и терпением, но это надо уметь увидеть и понять! Так ли уж, в конце концов, сложно разглядеть с облучка двуколки то, что господь бог и с небес видеть обязан? Так размышлял Петре, дожидаясь доктора Джандиери и немного даже волнуясь: ему от души хотелось, чтоб его пожалел именно доктор Джандиери.
— У вас тут, говорят, веселые дела творятся? — окликнул его доктор Джандиери. Он еще сидел на облучке, рослый, нахмуренный, весь в белой пыли.
— Вот это да! — изумился Петре. — Верно сказано: чужая беда что с гуся вода…
— Ничего, ничего… все будет хорошо! — сказал доктор Джандиери, обращаясь как бы и не к Петре. О Петре он, вероятно, уже не помнил — просто перед тем, как войти в дом больного, он, по обыкновению, заготовлял очередное утешительное словечко!
Через пять минут этот образованный, благородный человек, вера и надежда всех страждущих, обозвал Петре болваном и чуть не сломал об его голову заступ: как это-ле он посмел связать сумасшедшую, отчего он не дал ей и себя кирпичом трахнуть? Конечно, тогда-то уж доктор избавился б от всей семьи разом! Нет, спасаться надо было самому, надеяться на других не приходилось. И именно в тот миг, когда доктор Джандиери развязывал руки его матери, ему вдруг так захотелось Дусы, ее призрак так ясно встал перед его глазами, ее сладковатый запах так остро ударил ему в ноздри, что, не увидев ее сегодня, не услыхав сейчас же, что она согласна стать его женой, он бы не выдержал, тоже сошел бы с ума! Качка в трясущейся коляске сделала еще острей эту и впрямь сумасшедшую, подобную урагану прихоть, это неожиданное желание положить голову на колени к чужой женщине, затеряться в аромате чужой женщины — желание, возникшее у него при виде красных следов веревки на запястьях матери! Подъезжая к домику Дусы, он от волнения поднялся на ноги, а услыхав звук барабана, уже не смог сдержаться и, на ходу выпрыгнув из пролетки, побежал к дому. Пустая пролетка продолжала катиться рядом с ним — и извозчик, и лошади, склонив головы набок, удивленно глядели на него. Но он не видел ничего, кроме приземистого домика с двумя окнами, из которых доносился звук детского барабана. Он подошел к окну и заглянул в комнату. Дуса, сладкая Дуса была дома! Сидя за столом, она заворачивала конфеты в лоскутки прозрачной пестрой бумаги…
— Озолочу! Барыней станешь! — заревел ей в окно Петре.
Повернувшись к окну как ужаленная, Дуса увидела Петре, и ее лицо приняло вдруг выражение такой злобы и ненависти, что Петре поперхнулся собственными словами, как обсосанной конфетой, и сразу протрезвел, словно его окатили холодной водой. Единственным, что он болезненно, всем существом ощущал, был стыд: за то, чтобы мгновенно и незаметно отсюда исчезнуть, он сейчас не задумываясь отдал бы полжизни! Ему показалось, что улица полна людей, готовых расхохотаться при первом же его движении. И все-таки ему было бы легче вынести насмешки всего города (вполне, впрочем, справедливые), чем этот разъяренный взгляд Дусы! К счастью, улица была пуста, на ней стояла лишь пролетка, на которой он приехал. На миг ему захотелось вернуться домой на ней же, но он тотчас одумался: во-первых, ему было стыдно перед извозчиком; во-вторых, уйти просто так не годилось, переживать этот позор потом, оставшись наедине с собой, ему было б еще трудней, еще мучительней. Лучше уж было все-таки войти, извиниться перед Дусой, хоть как-нибудь объяснить ей причины своего поведения, и вправду ведь крайне нелепого, неразумного, неподобающего! С извозчиком он расплатился, не подымая глаз, видя лишь его большую, лохматую руку, небрежно скомкавшую деньги и куда-то вместе с ними пропавшую. Прошла целая вечность, пока пролетка, скрипя и скрежеща деревом и металлом, разворачивалась в узеньком тупичке, — и ему было так скверно, словно подкованные копыта лошадей скользили не по мостовой, а по его разгоряченному мозгу. Еще трудней было повернуть к дому и войти, но иного пути не было: Дуса стояла у окна и, подбоченясь, глядела на него. Петре нерешительно развел руками, но выражение ее лица не изменилось. «Можно мне войти?»— глазами спросил он. Дуса глядела на него по-прежнему угрюмо и строго. «К черту, к черту…» — сказал про себя Петре, решительно входя в дом.
— За кого ты меня принимаешь? — заорала Дуса.
Она все еще стояла у окна, упершись руками в бока, но теперь спиной к окну.
— Никого не было, Дуса… Прости меня! Я и сам не знаю, Дуса… сладкая! Не могу больше… — пробормотал Петре и не пошел, а бросился к ней. Не сняв шапки, не расстегнув ни одной пуговицы пальто, он повалился на пол, обнял ноги Дусы и стал ожесточенно целовать подол ее платья. — Не могу больше! На руках тебя носить буду… ветерку к тебе прикоснуться не дам! Только… только… только… — бессвязно бормотал он, не находя подходящего слова.
Сладкая Дуса улыбнулась и чуть-чуть пошевелила ногами, якобы пытаясь высвободиться. Прижавшись подбородком к своему барабану, Сардион внимательно глядел на мать, и из его рта текла красная слюна.
— Чего ты испугался… это ж дядя Петре, чтоб ты сдох! — прикрикнула на него Дуса и слегка стукнула рукой по шапке валявшегося у нее в ногах Петре. Шапка упала на пол. Сардион улыбнулся и забарахтался на месте, как привязанная птица. — Пусти, пусти, говорят тебе… со двора ведь все видно! — сказала она, обращаясь уже к Петре.
— Мне нечего скрывать! Пускай все видят… я хоть на площадь выйду… — бормотал Петре.
— Обалдел ты, что ли, окаянный? — засмеялась Дуса и, толкнув Петре ногой, отбросила его в сторону.
Раскрытые ладони Петре с силой шлепнулись по полу — и все-таки он успел ухватиться зубами за подол ее платья, словно играющий с хозяйкой пес. Вырвав платье из его зубов, Дуса отошла и села.
— Дуса… ну послушай же меня, Дуса! — воскликнул Петре, не вставая с четверенек. — Будь человеком… умоляю тебя!
— Вставай… да что ты, в самом деле, дурака валяешь! — попыталась рассердиться Дуса, но не выдержала и тут же, прикрыв рот ладонью, рассмеялась. — Вставай… не то я соседей позову! — смеясь, выдавила она из себя.
— Зови! — сказал Петре и вновь двинулся к ней на четвереньках.
— Да погоди ты… ну пускай хоть стемнеет! — испугалась Дуса.
Петре застыл на месте, одеревенел, окаменел, как бы стукнувшись лбом о невидимую стенку и выжидая, чтобы прошло вызванное этим ударом головокружение.
— Стемнеет, говоришь? — переспросил он и приподнялся с четверенек на колени. — Да разве я к тебе за этим ехал? — Он медленно встал и отряхнул полы пальто. — Как ты могла такое подумать, а? Я-то на тебя надеялся, а ты… Я думал… я подумал… Где моя шапка? — Он провел рукой по волосам. — Не могла уж еще денек подождать… и этот денек выдержать. Отдайте мне мою шапку! — вдруг заорал он.
— Кому она тут нужна, интересно… вот, у твоих же ног валяется! — сказала Дуса, скрестив руки на груди. Она почувствовала, что что-то сделала не так, но это ее не беспокоило: она была уверена, что ошибка выяснится и исправится сама собой. Ничего необычного, способного вызвать тревогу не происходило. Петре, правда, сегодня был сам не свой — этот обычно спокойный, степенный мужчина сперва орал на улице, как мальчишка, а потом стоял на четвереньках, как собака. Но выходки эти были, конечно, временными, случайными, вызванными выпивкой, страстью, какой-нибудь болью или страхом, и сам Петре о них завтра же пожалел бы — если, впрочем, не жалел уже сейчас. Уж столько-то опыта, чтоб не потакать всем капризам мужчины и не просить у него прощения за каждую мелочь, у сладкой Дусы было! Хорошо известно было ей и го, что мужчины по самой своей природе прощать неспособны, но с охотой закрывают глаза на все препятствующее исполнению их прихотей. Прощать, однако, и закрывать глаза — вещи совершенно разные; в то время как первое возвышает в собственных глазах, второе лишь унижает. Именно в этом и состоит главное несчастье мужчин, неспособных не унижаться, ибо отказываться от своих прихотей они не умеют… — Кому тут нужна твоя шапка или что бы то ни было другое? — проворчала Дуса. — Если ты сумасшедший, сиди дома с матушкой своей! При чем тут я?
— Дуса! — Петре провел рукой по горлу, словно задыхаясь. — Я руки твоей просить пришел, слышишь? Руки просить…
Вот это уж было неожиданностью и для Дусы! У нее сперва похолодели ноги, а потом загорелось лицо. Она сидела, по-прежнему скрестив руки на груди; но эти спокойно скрещенные руки острыми ногтями впивались одна в другую — безжалостно, больно, не на жизнь, а на смерть! Боль эта отбивала такт в сердце и голове Дусы, словно барабан Сардиона. «Опередил… нашел причину! — с отчаянием и яростью думала она. — Сейчас наденет шапку и уйдет…»
— Бесстыжий! — злобно процедила она сквозь зубы.
— Я бесстыжий! — изумленно развел руками Петре. — Почему ж это я бесстыжий?
— Забирай свою шапку и уходи! — приказала Дуса. «Никуда ты не уйдешь…» — добавила она про себя.
Петре поднял с полу шапку, но не надел ее, а обеими руками прижал к брюху.
— Господь не простит тебе издевательства над бедной вдовой… — сказала Дуса и поглядела в окно, как бы показывая этим, что ей безразлично, останется он или уйдет, что для нее он уже не существует. «Не уйдет… — думала она, глядя в окно. — Не уйдет… может, и захочет, да все равно не сможет уйти, не выяснив, на что еще ему глаза закрывать придется…» — Я его в дом впустила, доверилась… а они меня, значит, проверять изволят! — сказала она в окно.
— Ты не права! — крикнул Петре.
— Человек порядочный такого себе не позволит! Одурачить женщину проще пареной репы… — вновь пожаловалась Дуса окну.
Выпяченное и пустое, как глаз дурака, окно изумленно глядело на Дусу.
— Ты не права… грех тебе так говорить! — рассердился Петре.
— Сядь! Хотите что-либо высказать, извольте присесть, — распорядилась Дуса.
Пододвинув к себе стул, Петре сел. Шапку он положил на стол, и теперь на нем было два возвышения: каракулевая шапка и кучка конфет.
Отведя глаза от окна, Дуса долго глядела на Петре, прежде чем наконец улыбнуться. Петре опустил голову — опустил до того, как улыбка Дусы передалась и ему.
— Бесстыжий… — повторила Дуса притворно обиженным голосом. — На, подсласти себе рот… у всех вас оттуда горькое только и лезет! — добавила она тем же голосом и щелкнула пальцем по конфете. Конфета покатилась к Петре, и он невольно подставил руку, чтоб она не упала на пол…
Потом умерла Анна, все дороги завалило снегом, и Петре не видел Дусы до весны. Он знал, что она ждет его, сидя на чемоданах, — но как он мог сопротивляться смерти и стихии? Он был уверен, что Анна умерла нарочно, только чтоб не дать ему жениться: ничем другим она ведь этому помешать не могла. А потом ее, казалось, поддержала и природа, и снегу намело столько, что и в уборную выйти стало нелегко, а не то что в Телави поехать! Но пока Петре сидел взаперти, его желание соединить свою жизнь с Дусой не уменьшилось. Он и в мыслях ни разу не изменил слову, данному им своей будущей подруге, горячо и преданно мечтал о встрече с ней, тревожился и мучился без нее, но стойко переносил свое одиночество — назло матери и природе, которых в душе считал виновниками этих тревог и мучений. Поэтому-то у него и не оставалось времени на то, чтоб еще раз спокойно и тщательно обдумать свое решение, еще раз заглянуть себе в душу, проверить, в самом ли деле он не мог жить без Дусы или лишь внушал себе это. Впрочем, Дуса и не могла быть для него предметом размышлений — слишком уж он ее хотел, слишком по ней тосковал. Она не умещалась в узких рамках повседневности: она была далека, недосягаема, ей не было никакого дела до мира, в котором жил Петре; поэтому, вероятно, она и сохраняла для него в ту зиму всю привлекательность и силу таинственного, вечного. Дуса была звездой, далекой, недосягаемой, мерцающей лишь для себя самой и все-таки остающейся единственным истинным другом человека, застрявшего в болоте жизни, но умеющего читать по звездам. Так оно продолжалось всю зиму; но весной вместе со снегом стала почему-то таять и вера Петре… таять, видимо, потому, что все вокруг покрылось непролазной грязью, перемешавшей следы людей на улицах, грязью, как бы напомнившей Петре о ежедневных неприятностях семейной жизни. Отказаться от брака с Дусой он, впрочем, и не помышлял, в нем просто поколебалась вера в ее недосягаемость и необыкновенность — потому, видно, что такая же весенняя жижа покрывала сейчас и улицы Телави, и среди перемешавшихся там следов были и следы ног Дусы. Сейчас он мог привезти ее в свой дом в любой момент, когда захотел бы; но женитьба женитьбе рознь — сейчас ему предстояло исполнить уже не собственное желание, а обязанность! Кроме этого, в его жизни не изменилось ничего. Теперь сумасшествием его матери заразился и отец — разница была лишь в том, что жить в хлеву он все-таки не пожелал и запирался у себя в комнате. Была, впрочем, и еще одна разница: матери при виде Петре становилось дурно, а отец без него жить не мог. «Ты мой подлинный сын, ты и обязан ухаживать за мной… я отдал тебе первородство — будь благодарен…» — без конца торговался он с Петре. Одним словом, он окончательно сел Петре на голову, превратил сына в слугу! Мытье или там стрижка волос — это уж ладно, об этом говорить нечего; но он все время норовил навязать Петре и такое, с чем вполне могли бы справиться Агатия или Аннета. «Ты же знаешь: кроме тебя, мне доверять некому…» — как бы извинялся Кайхосро; но по его лицу было видно, что и Петре он не доверяет нисколько. Петре ему был нужен, только чтоб убирать нечистоты и служить мальчиком на побегушках! Порой старик требовал привести к нему отца Зосиме в такое время, когда деревня видела уже третий сон или когда на улице лило как из ведра, — для сумасшедшего не существует ни ночи, ни ненастья, сумасшествие его в том и состоит, что себе он ни в чем отказывать не хочет. Так что в конечном-то счете в дураках был один Петре — он лишился сна, марался в грязи, и на него переползали вши Кайхосро! И так будет всегда, пока он сам не переменит своей жизни. Он уж и без того зря потерял уйму времени! Сперва он как будто стеснялся сыновей (а им на него плевать было!); потом его женитьбу задерживала смерть брата и матери— и, наконец, зима. В действительности единственной причиной колебаний и нерешительности Петре был, конечно, он сам, надеявшийся в глубине души на то, что все как-нибудь уладится само собой, без усилий и жертв, так, что ему и рукой пошевелить не придется. Он был подобен человеку с больным зубом, который надеется, что, вытерпев боль еще раз, избежит необходимости вырывать этот зуб, но которому рано или поздно придется все-таки пойти к врачу, чтоб уничтожить боль болью. Всю весну Петре ходил озлобленный, и больше всего его злило само существование Дусы, как человека с больным зубом злит существование врача. Его раздражала сама мысль о том, что Дуса ждет его, сидя на узлах, но ничуть не волнуется, не беспокоится о том, куда он пропал, а спокойно, неторопливо заворачивает конфеты в лоскутки пестрой бумаги, ничуть не сомневаясь в том, что он придет. Петре в этом, правда, не сомневался тоже — но это-то и было главной причиной его озлобления. Ему уж казалось, что жениться его вынуждает лишь существование Дусы, а не будь ее на свете, он об этом и не подумал бы и никакая другая женщина вызвать у него такого желания не смогла бы! И все-таки неизбежное должно было свершиться — и свершилось. Сардиона с барабаном в руках посадили на облучок, рядом с извозчиком; а Дуса и ее узлы так загромоздили пролетку, что Петре с трудом в нее втиснулся…
— Садись посвободней… что ты там на пятачке примостился? — сказала ему Дуса.
Придвинувшись к ней тесней, Петре и в самом деле почувствовал себя свободней, почувствовал, как легко он вдавился в жар и мякоть женского тела — как бы сам по себе, без усилий, словно палец в мед. Он сразу притих, доверился этому странному ощущению — и все-таки его мучило что-то невыразимое, невидимое, тайное, будоражащее, непривычное и именно поэтому настойчиво требующее внимания, как пустота на месте вырванного зуба. Дуса лукаво взглянула на него через плечо.
— Вот тебе и конфетка! — сказал Петре.
12
Лучше всего было б, конечно, не встретить их вовсе, успеть вовремя сбежать, удрать, уйти подальше из этого проклятого, обреченного дома, как это сделали ее братья! Но они были старше ее, к тому же мальчишки, и раньше почувствовали закружившееся над семьей несчастье. Она же оказалась жертвой, попала в когти к этому несчастью — маленькая, глупая девочка, судьба которой определилась уже окончательно; ибо на то, на что она не осмелилась вчера, она конечно же не осмелится и завтра — завтра ей станет лишь еще трудней, завтра она увязнет в этом болоте еще глубже! Сардиона она при встрече, разумеется, не поцеловала, но в ту же ночь ей приснилось, что она его целует и с ее губ тоже течет розовая слюна. «Ничего, ничего… сейчас все отмоем!» — успокаивала ее Агатия, во сне шедшая вместе с ней к несуществующему роднику. Он был как будто совсем близко, его журчание раздавалось прямо в ушах Аннеты, но она проснулась, так и не увидав родника, так и не успев отмыть свои испачканные розовой слюной губы. Теперь ей оставалось только терпеть — терпеть и непривычно самодовольного, молодцеватого (а порой все-таки вдруг глядевшего на нее глазами побитой собаки) отца, и нескончаемый грохот барабана, и вечно непричесанную, в любой момент дня, казалось, готовую улечься в постель бабу, домашние тапочки и груди которой в полутьме комнат издавали удивительно похожие шлепающие звуки. Мачеха вовсе не сунула в руки падчерице веник и совок, как это положено в сказках, не переселила ее в хлев, не надавала ей невыполнимых поручений, а просто засыпала ее конфетами — таким количеством конфет, что их давили ногами, а потом Агатия целую неделю скребла полы ножом! Мачеха вовсе не стала, как в сказках, доказывать Аннете, что ее сын лучше, — она попросту расцеловала девочку в обе щеки и крепко прижала ее к груди; но не как падчерицу, которую любишь не меньше собственного ребенка, хоть и видишь впервые в жизни, а как свою давнишнюю приятельницу, которую не видела целую вечность и по которой крайне соскучилась. Она восприняла Аннету не как дочь, а как свою подружку! «Я всегда все пойму, во всем тебе помогу…» — шепнула она на ухо девочке при знакомстве, перед тем как поцеловать ее; шепнула так, чтоб этого не услыхал никто вокруг, ибо стать друзьями надлежало не всем вокруг, а лишь им двоим. В эту первую минуту знакомства она успела шепнуть и многое другое, но четко, неизгладимо Аннете запомнился лишь сладкий, тошнотворно-сладкий запах, насквозь пропитывавший эту чужую бабу! «Все женщины одинаковы, и старшинства между ними нет…» — сказала эта баба, одним выдохом, как пушистый одуванчик, разрушив и простодушно-святое представление о любви и супружестве, склеившееся у Аннеты из сказок и отдельных слов матери и няни. Взамен этого она за бесстыдно короткий срок приобщила Аннету к таким тайнам, с которыми той было бы лучше знакомиться постепенно, а не узнай она их вовсе, тоже никакой беды не было б! Отношения женщины и мужчины, бывшие прежде для Аннеты таким же естественным чудом, как цветение и плодоношение дерева, покрылись вдруг холодной, жуткой пеленой противоестественной необходимости. Она чувствовала, как внутри у нее начинает копошиться что-то непристойное, упрямое, безжалостное, похожее на загнанную в угол крысу; и она с любопытством и омерзением прислушивалась к собственному телу, проверяла, разглядывала это тело, не ставшее женским в любви, а попранное, униженное опытом чужой, давно уж развращенной жизнью женщины. Хорошо, что существовала хоть ночь, что хоть на ночь ее оставляли в покое! Впрочем, и ночи были теперь мучительны: по ночам погрузившийся в темноту дом наполнялся приглушенным похотливым хихиканьем мачехи и хриплым шепотом отца; и Аннета, лежавшая на своем девичьем одре неподвижно, как труп, как бы обесчещенная этим похотливым хихиканьем, раздавленная этим хриплым шепотом, с болезненным волнением воспринимала прикосновение каждой пылинки, каждую ночную тень или шорох. «Ведь они знают, как я мучаюсь… они этого хотят!» — думала она. Проходила целая вечность, прежде чем ее окно начинало белеть. «Агатия, Агатия!» — раздавался крик Кайхосро; потом начинал греметь барабан, и Аннете приходилось в который раз вставать, одеваться, умываться, в который раз садиться за стол вместе с остальными членами семьи — ведь она была одной из них, похожей на них, их неотъемлемой частью!
— Вытри рот, чтоб ты сдох… — орала Дуса.
Но она следила не столько за тем, чтоб ее дурачок выполнил это требование, сколько за Аннетой. Аннете она улыбалась снисходительно, как учительница ученице, — и Аннета сидела, вся съежившись, такая испуганная и бледная, словно ее тошнило. Она чувствовала, что гибнет; в ней не осталось и частицы той смелости, с которой она прежде разговаривала с Агатией. С Агатией, только она, видно, храбриться и могла — она знала, что та ее любит, что та всегда не только поймет, но и простит эту храбрость. Теперь они с Агатией почти не виделись: розовая слюна и тошнотворно сладкий запах заполонили буквально каждый уголок дома, в котором они могли бы уединиться, поговорить о своей боли. Агатия ковыляла где-то вне ее заколдованной жизни — теперь Аннета лишь изредка видела ее знакомое с рождения, родное, беспомощное, сразу постаревшее, растерянное, одинокое лицо. Зато Дуса была вездесуща: едва одетая, с грудью нараспашку, с красными пятнами на открытой шее, вся багровая от страстей отца Аннеты…
— Ты, деточка, попроси, чтоб тебе кто-нибудь груди помял, до каких пор они у тебя как у мальчишки будут? — говорила она Аннете; и у Аннеты так пересыхало в горле, так застывали руки и ноги, словно на грудь к ней вползала змея!
Их отношения походили на отношения двух потаскух— многоопытной и начинающей; на отношения, в которых корысть играет куда меньшую роль, чем неосознанная и беспощадная жажда мщения. «Она тоже несчастна… — думала Аннета. — Она не понимает, что можно и любить кого-то: не знать его, но любить; не знать, но доверять; не знать, но верить! Он может прийти или нет, не это главное — сукой становишься не от этого. Главное — как ты любишь, как доверяешь, как веришь и сколько можешь ждать без всяких залогов и обещаний…»
Так и жила Аннета до тех пор, пока смерть Агатии, а потом и Кайхосро (впрочем, установить точно, кто из них умер первым, не удалось — просто труп Агатии нашли сначала, а Кайхосро потом) не убедили ее в том, что жить так она больше не может, не выдержит! Труп Агатии обнаружила Дуса — выйдя зачем-то чуть сеет во двор, она с криком кинулась назад, вверх по лестнице; но и до того, как она сумела объяснить, что произошло, Аннета уже все поняла, словно увидав в испуганных глазах мачехи болтающуюся на веревке Агатию. Но, спустившись во двор, она, в отличие от Дусы, не закричала: на лишенные опоры, висящие в воздухе ноги она глядела не со страхом и жалостью, а с гордостью и уважением, которые вызывает у человека героический поступок, совершенный другим, подобным ему человеком. Агатия повесилась на ветке той липы, под которой оставлял обычно свою двуколку доктор Джандиери. Ее шлепанцы валялись на земле рядом с опрокинутым стулом.
Тело Агатии втащили в хлев, и выведенный оттуда, снова потрясенный человеческой смертью осел со взъерошенной шерстью и неподвижными глазами стоял у ограды под первыми лучами утреннего солнца. Сидя на ступеньке лестницы, как она это делала в детстве, Аннета молча глядела на осла. Она была еще в ночной рубашке и, дрожа от холода, невольно сжимала пальцы босых ног. С ветки липы, на которой только что висела Агатия, свисал остаток перерезанной ножом веревки; другая ее часть находилась в хлеву, на шее Агатии. Стул и шлепанцы по-прежнему валялись на земле. «Была б тут коляска, она не смогла б… коляска помешала бы…» — бессмысленно думала Аннета, глядя на осла; и от жалости к ослу у нее разрывалось сердце.
— Да оденься ты… людей хоть постыдись! — в третий раз прикрикнул на нее Петре.
— Чего я должна стыдиться? — в третий раз ответила ему Аннета, не отводя глаз от осла и даже не видя, где отец, откуда он с ней разговаривает.
— Отстань от нее! — сказала мужу Дуса.
— Ты хоть ей объясни, почему шестнадцатилетней девке стыдно голой на улицу вылезать… — повернулся он в сторону Дусы.
— Оставь ее в покое, говорят тебе… — повторила Дуса.
Аннета встала и подошла к ослу; тот отвел голову, и она провела рукой по его жесткой, коротко остриженной шерсти. Ей приятно обожгло ладони; поднявшаяся с шерсти осла пыль засверкала в солнечных лучах. «Бедняга!» — сказала ослу Аннета. Так она весь этот день и провела, лаская осла и бессмысленно шатаясь взад-вперед. Какая-то незримая, дурманящая сила удерживала ее во дворе, и она, как оглушенная курица, слепо металась между ослом и лестницей, между дверью хлева и липами — то сидела на ступеньке, то целовала глаза осла, то осторожно прикладывала ухо к двери хлева и, затаив дыхание, к чему-то прислушивалась, то, стоя под липой, глядела на ветку с остатком обрезанной веревки, а потом, подняв опрокинутый стул, вставала на него, и сама не зная зачем! Вероятно, ей лишь из детского любопытства хотелось знать, сможет ли она дотянуться руками до ветки. И ветка, и стул были рядом — отчего ж было и не попробовать? Кому это могло помешать? Что в этом могло быть предосудительного? Она стояла на стуле во дворе своего дома, под своими деревьями, и так ласково гладила прохладную, скользкую ветку, словно та была не частью липы, а неким живым существом, которое Аннета тщетно старалась приручить, заманить— ибо то, другое, странное существо, сбежавшее из плена с остатком веревки на шее, ничего человеческого уже не понимало и верить людям не могло. Аннета даже сунула ноги в шлепанцы Агатии, но тут же скинула их и бросила обратно под липу, а стул опять перевернула — так же, как его нашли утром. Делала она это вовсе не назло кому-либо, не для того, чтоб вызвать гнев отца и мачехи, — она просто не понимала, что с ней происходит. Вместе с Агатией умерло и что-то другое, еще более важное и значительное — безымянное, но обязательное, необходимое не только для Аннеты, но и для жизни вообще! Потом во двор спустился Петре. Даже не взглянув в сторону Аннеты, он вынес из хлева заступ Георги и принялся рыть яму — здесь же, позади хлева.
— Ты ее тут хоронить будешь? — спокойно, без волнения в голосе спросила Аннета.
— Никак нет… в стене церкви! — проворчал Петре, сильно взмахнув заступом, так что комочки черной, влажной земли долетели до босых ног Аннеты. — Не заслужила, что ли? — Опершись о заступ, он взглянул на Аннету. — Видишь, как она нам за заботу отплатила?
— Сними жилет. Вспотеешь… — сказала Аннета.
— Ты-то обо мне с каких пор заботиться стала? — засмеялся Петре. — А ты простудишься! Сколько ж раз одно и то же повторять можно?
— Да, надо одеться… не буду ж я весь день так… я просто не думала, что сегодня же… — не окончила фразы Аннета.
— Чего не думала? — Петре вновь оперся о заступ.
— Что ты ее сегодня же хоронить станешь, — сказала Аннета.
— Я ее давно уж похоронил бы, если б солнца божьего не чтил! — разозлился вдруг Петре. — Только врагов и выращивала! Обоих сыновей врагами мне сделала…
— Дело твое… — сказала Аннета.
— А? — не понял Петре.
— Ты тут старший!
Петре ничего не ответил, слова дочери вынудили его промолчать. Они его и обрадовали, и одновременно насторожили: к признанию детьми своего старшинства он не привык. Замолчала и Аннета; она оцепенело стояла над раскрытой черной ямой, из которой со скрежетом, шорохом, шуршанием ползла могильная тишина — тишина и мрак. Ей вновь стало холодно — лишь сейчас она сообразила, что целый день не слышала барабана. Откуда ей было знать, что Дуса его спрятала? Она вообще не помнила о существовании Сардиона — а тот весь день искал свой барабан и обшарил весь дом. Опираясь на стены, прилепляясь к каждой стене и осторожно, неторопливо водя по ней руками, он незаметно продвигался вперед, всхлипывая, скуля и оставляя на уровне рта влажные, похожие на следы мокриц пятна. Он попытался влезть и в комнату Кайхосро, но не смог — дверь была заперта изнутри. Кучу грязной посуды на полу, перед дверью, он почти не задел, так что особенного шума и не было. Когда Аннета вошла к себе, чтоб одеться, Сардион был в ее комнате.
— Пошел, пошел вон отсюда! — прикрикнула на него Аннета.
— Бараб-б-ба-а-ан… — захныкал дурачок.
— Нет здесь твоего барабана… да как бы он сюда попал? — вновь закричала Аннета.
Потом она ничком лежала на кровати и хотела, но не могла плакать, изможденная, высохшая, как прожаренная на солнце древесная стружка. Она понимала, что ей нужно встать, одеться и опять спуститься во двор, иначе ее могли не дождаться, похоронить Ага-тию без нее… то есть не похоронить даже, а просто в яму швырнуть — без свеч, без ладана, без гроба, да заодно уж и без нее. Но она не могла встать: обмякшее, сдавшееся на произвол судьбы тело ей уже не повиновалось, как бы отделилось от нее, и она напрасно кричала на него, с отчаянием и тревогой умоляла встать, одеться, отдать последний долг бедняжке Агатии. Ей казалось, что она лежит уж целую вечность, хоть на улице толком еще и не стемнело. Сумерки лились в комнату медленно, нерешительно, как бы украдкой; вернувшиеся из садов, с полей и виноградников птицы с гомоном располагались на ночь в листве деревьев. Вспомнив прижавшегося к стене пучеглазого, разинувшего рот Сардиона, она внезапно присела на кровати. «Что ему понадобилось в моей комнате? — впервые заинтересовалась она сейчас. — А если он вдруг ночью припрется?» — еще сильней испугалась она. Через несколько минут она была уже во дворе. На ней было черное платье матери; к груди она прижимала Асклепиодоту.
Петре все еще рыл яму; Дуса светила ему коптилкой. Она что-то сказала Петре — Аннета не расслышала, что именно. Петре перестал копать и, стоя в яме по пояс, повернулся в сторону лестницы, по которой спускалась она — в черном платье, с куклой в руках. Увидев их, Аннета почему-то испугалась, почувствовала дрожь в коленях; но она скрыла это и внешне спокойно, не волнуясь, сошла с лестницы. Они не сводили с нее глаз, а Аннета вместо лиц видела лишь белые пятна, по которым, дрожа, переползали встревоженные светом коптилки тени. «Это им будет тоже нетрудно… от этого они тоже не откажутся!» — мелькнуло у нее в голове. Они и в самом деле походили на преступников, совершивших уже одно убийство и поспешно уничтожающих его следы, но, конечно, готовых и ко второму, если их вдруг застигнет врасплох человек, излишне любопытный и разговорчивый…
— Да ладно уж, хватит! — сказала Дуса мужу.
— Не знаю… свинья не разрыла бы… — нерешительно ответил Петре. — Что у тебя, своих мало, что ли? — спросил он Аннету, кивнув подбородком на ее платье.
— Черных совсем нет… — ответила Аннета.
— Кто там увидит в такую темень! — раздраженно сказал Петре.
— Да отвяжись ты от нее наконец! — прикрикнула на него Дуса.
Все трое замолчали. Оглядев двор, Аннета заметила темную тень застывшего у стены осла. Как бы почувствовав ее взгляд, осел шевельнулся; а может, ей это и показалось. В этот момент ей очень хотелось, чтоб рядом с ней был хоть кто-нибудь живой, кроме этой парочки, пусть даже осел! Петре еще некоторое время углублял яму; потом он отшвырнул заступ в сторону хлева и вылез наружу. По улице за оградой прошли несколько человек, о чем-то между собой говоривших. Все трое прислушались, невольно напряглись и застыли, пока голоса за оградой не стихли совсем — обычные человеческие голоса, которые можно услышать на любой сельской улице, тем более в такой теплый, спокойный вечер, для кого-то тревожный, а для кого-то и радостный, и утешительный. Люди за оградой, которых было тоже трое, разговаривая, прошли километров пять; до этого они отработали целый день, а завтра должны были чуть свет опять уж быть в Цнори. Они работали на железной дороге, но поезда не видели еще никогда, дорога еще только прокладывалась; работая землекопами, они весь день перетаскивали гравий и кучками ссыпали его вдоль полотна. Говорили лишь двое; третий слушал их молча. «А что — разве Цнори больше, чем Уруки?» — «Нет, почему же… просто так уж, видно, потребовалось…» — «Потребовалось — и слава богу! Ну ее к черту… опасная штука все-таки!» — «А телега, по-твоему, не опасная штука? Под телегу никто еще не попадал, что ли?» — «Нашел что сравнивать! Да если целую деревню на колеса поставить, вот что это такое… тьфу, черт его побери!» — «Если он действительно такой, что ж его с места-то сдвинет, хотел бы я знать!» — подумал третий. Они шли, спешили по домам, чтобы поскорей удивить своих жен и детей сплетней или правдой, услышанной ими в Цнори. И они участвовали в этом деле, и они были как-то связаны с железной дорогой, несколько даже этим гордились — и все-таки в железнодорожных делах они смыслили все еще не больше, чем их жены и дети. Они шли и говорили — и ни одному из них даже в голову прийти не могло, что сейчас за этой каменной оградой поспешно, по-воровски, как труп бешеной собаки, хоронят вечную «девочку-бесштанницу», вечную прислугу и няньку, не имевшую ничего своего, кроме любви и добра, которым могли бы позавидовать и богини. Ее вечно девственные сосцы были полны чистым, неразбавленным молоком любви и добра — божественно сытным, божественно изобильным и именно поэтому губительным для простых смертных, какими были и она сама, и все выращенные ею дети, непригодные к выпечке в огне жизни, ибо им не хватало дрожжей ненависти и зла. В этом-то и состоял ее грех, невольный, но непростительный, неискупимый! В другое время, в другой стране ей, вечной няньке, возможно, воздвигли бы памятник, ее бы воспевали — здесь же, сейчас, в бесконечной ночи Уруки, она не заслуживала и того, чтоб в ее честь зажгли хоть одну свечу! Снося по лестнице стул, стоя на этом стуле под липой и дрожащими руками поправляя петлю на шее, она чувствовала это, вероятно, и сама… о чем же ей было еще жалеть?
Потом Дуса поставила коптилку на холмик, и они с Петре пошли за телом. «Помешала б им коптилка, что ли?» — подумала Аннета. Окруженное черной каймой пламя то и дело колыхалось, словно просясь на руки, подобно боязливому, капризному ребенку; и его отблески мерцали на блестящей щечке Асклепиодоты. Еще крепче прижав куклу к груди, Аннета молча глядела на пламя. Тело принесли тотчас же; Петре прихватил с собой и старый, потертый палас, на котором оно, наверно, покоилось в хлеву.
— А Александра не надо было б известить? — рассеянно спросила Аннета.
— Александра? Александра? — растерялся Петре, словно не сразу вспомнив, кто такой Александр. — С каких это пор Александр нашими делами интересуется?
— Может, он ей гроб купил бы… — нерешительно пробормотала Аннета.
— Ну еще бы! С подкладкой… с черной шелковой подкладкой! — зло усмехнулся Петре.
— Да хватит вам… что вы всё спорите? — сказала Дуса с неуловимой улыбкой в голосе. — В земле или в золоте — не все ли ей уж равно?
— А нам? Нам тоже все равно? — спросила Аннета: без гнева, как бы лишь с упрямством любопытного ребенка.
— Давай, давай… чего ты зеваешь? — крикнула Дуса мужу, хватая тело за ноги.
— Веревку хоть сперва снимите… — сказала Аннета…
— Мешает она, что ли? — отмахнулся от нее Петре.
— Снимите с нее веревку… — повторила Аннета. — Сейчас же! — крикнула она вдруг.
Петре взглянул на нее, словно собираясь что-то сказать, у него даже задергались губы, но потом он, передумав, присел на корточки, ослабил петлю на шее Агатии и осторожно снял ее, словно остерегаясь невзначай сделать покойнице больно.
Тело опустили в яму, и, пока Петре искал в темноте заступ, Дуса сверху накрыла Агатию паласом.
— Погодите, не засыпайте… это я ей в могилу положу! — крикнула Аннета, направляясь к яме.
Материнское платье путалось у нее в ногах, мешало ей идти. В нем Аннета казалась выше, чем была на самом деле.
— В могилу положишь? Что ты ей положишь? — изумился Петре.
Аннета опустилась на колени на краю ямы; черное платье матери растеклось вокруг нее, как лужа смолы. Уложив куклу поверх паласа, Аннета осторожно, ласково расправила ей руки и ноги.
— Асклепиодоту… — сказала она. — Я ей обещала. Теперь они будут вместе — навсегда вместе…
— Да отстань ты со своими глупостями! — раздраженно крикнул Петре. На металле его заступа блеснул красноватый отсвет коптилки.
— Кукла моя… с ней я что захочу, то и сделаю, — спокойно сказала Аннета. Она по-прежнему стояла на коленях, вся в складках черной ткани.
— Твоя, говоришь? — еще больше разъярился Петре. — Твоего тут нет еще ничего, запомни! Тебе ее что, муж купил? Или свекор?
— Да отстань же ты от нее, господи! Что мы, ночевать тут будем, что ли? — вновь прикрикнула на него Дуса.
Петре изо всех сил ударил заступом по земляной насыпи.
— Мама… Бабуля… — крикнула Аннета в яму.
Она не вставала с колен, пока могила не заполнилась. Сперва в землю ушло лицо Асклепиодоты; потом ее платьице слегка задралось, и показались белые панталончики с кружевами. Аннета заметила даже возникшую на миг маленькую воронкообразную впадинку — как раз над пробитой бровью Асклепиодоты…
Тело Кайхосро обнаружили на следующее утро — и опять-таки благодаря бдительности Дусы.
— Воняет у нас что-то! — сказала она, сморщив нос.
«А я-то это сколько времени твержу…» — подумала Аннета, но ничего не сказала: ей было лень говорить, ничто в этом доме ее уж не интересовало. Как и накануне, на ней было черное платье матери; днем несоответствие между ним и ее все еще детским телом бросалось в глаза еще больше, словно Аннета надела его специально, чтобы посмешить людей.
— Мышь, наверно, сдохла… — сказал Петре, нюхая воздух. Он только что кончил завтракать и был во власти сытой благодушной лени, располагающей к тому, чтоб ковырять в зубах, сгребать в одну кучку хлебные крошки, вести какой-нибудь пустопорожний разговор… — Зря глазеешь, они стоят, — обратился он к Сар-диону, который со своей всегдашней слюной на губах неподвижно уставился на циферблат огромных, как шкаф, часов.
— Пусть смотрит… тебе-то, собственно, что? — сказала ему Дуса. — По-твоему, значит, мышь сдохла? — спросила она, испытующе, с сомнением глядя на мужа, как бы приглашая его как следует подумать, прежде чем отвечать.
— Ну да… не знаю… может, со двора пролезла… а то ведь Агатия… — Неожиданно наткнувшись на взгляд жены, Петре сам вдруг оцепенел, не смог закончить оборванной на середине фразы.
Потом они долго и упорно глядели друг на друга без слов, как бы испытывая, кто дольше сумеет не моргнуть и не отвести глаз. В действительности же они сейчас просто беседовали глазами и гораздо ясней и выразительней, чем при помощи слов, делились друг с другом одним и тем же сомнением, возникшим у них почти одновременно — у нее чуть раньше, у него чуть позже. «Ты считаешь?» — «А ты… а ты?» — «Почему он нам сегодня ни разу не вспомнился?» — «А время у нас для этого было?» — «К черту… к черту!..»— «Сейчас же пойду, посмотрю…»
У Аннеты вдруг вспотели ладони — лишь в этот момент она осознала, что напряженно, затаив дыхание, следит за говорящими глазами отца и мачехи. Опять происходило нечто страшное… с ней или в ее присутствии должно было вот-вот еще что-то случиться! Пытаясь скрыть свое волнение, она не сумела придумать ничего лучше, как вновь придвинуть к себе тарелку и начать есть нетронутую, совсем уж остывшую кашу.
— А еще говорила: не хочу… — донесся до нее голос Дусы.
— Да… не хочу, не хочу! — устыдилась, растерялась, рассердилась Аннета.
— Пойду дедушке твоему поесть отнесу. Сегодня он что-то молчит… Агатию, наверно, ждет! — сказала Дуса и, упершись руками в стол, медленно поднялась.
— Дедушка умер! — огрызнулась Аннета. — Давным-давно уж! Но его-то ведь, как собаку, в яму не бросят, паласом не прикроют… на такое уж отец не осмелится! Не осмелится! Не осмелится! — Швырнув на стол ложку с кашей, она выбежала из комнаты…
Когда она это говорила, Кайхосро и в самом деле был уже второй день мертв… запершись в своей комнате изнутри, он умер незаметно, как мышь в сундуке. Накануне смерти он увидел вдруг свою мать, но не здесь, где он умирал, а там, в Тбилиси, в доме с красивым деревянным балконом, в доме, где он родился.
— Ясе, Ясе! — кричала стоявшая на балконе женщина.
«Меня зовет… — обрадовался Кайхосро. — Но я-то ведь уже не Ясе?» — тут же испугался он.
Сейчас она сошла бы скорей за его дочь, чем за мать. У нее были строгие и одновременно живые, как у породистой лошади, глаза, нос с горбинкой и тонкие, плотно сжатые губы; ее твердые скулы цвета пшеничного зерна были влажны от жары, а волосы развевались по ветру. Она глядела прямо на Кайхосро, но явно его не видела. «Значит, меня нет… меня уж нет!» — взволновался он. Медлить было нельзя, надо было тут же ее окликнуть — иначе женщина с балкона вернется в комнату и он никогда уж ничего не выяснит!
— Мама! — все-таки осмелился, все-таки позвал он.
И женщина, и дом с деревянным балконом мгновенно исчезли. Он опять был тут, в логове Макабели, в доме, выстроенном его собственными руками, в комнате со спертым, зловонным воздухом.
— Каюсь… каюсь… — растерянно пробормотал он, глотая подступивший к горлу комок слез…
Тело Кайхосро положили на покрытую ковром тахту в середине большой комнаты, на месте, где утром еще стоял обеденный стол и где когда-то, в лучшие для этой семьи времена, вокруг пузатой фарфоровой лампы бродили призраки героев и писаных красавиц, вызванные из книг спокойным, проникновенным голосом Бабуцы. Сейчас вокруг была пустота, еще более заметная из-за молчания огромных, как шкаф, часов (они были так тяжелы, что вынести их оказалось невозможно) и покрытой ковром тахты, на которой покоился мертвец в майорском мундире, с челюстью, подвязанной черным платком, словно у него разболелись зубы. А в зубах он держал серебряный двугривенный — это на все-то бесконечные блуждания по дорогам смерти! В комнату вошли Петре и Дуса; они сели друг возле друга в середине расставленных вдоль стены стульев. Вошедшая чуть позже Аннета уселась у противоположной стены — отдельно, сама по себе. Сардион был во дворе; Дуса обманула его, сказав, что барабан там, и сейчас он, хныча, скуля и пуская слюни, беспокойно обшаривал каждую пядь ограды…
— Надо бы в деревне объявить… — сказал Петре.
Аннета и Дуса молча переглянулись; почти потонувшая в материнском платье Аннета глядела на Дусу совершенно спокойно. Отведя от нее глаза, Дуса медленно, с усталым видом поднялась, так же медленно, словно собираясь лечь в постель, распустила волосы, вышла на веранду и леденящим голосом завопила. По всему телу Аннеты пробежали мурашки.
— Отец… папочка! — всхлипнул Петре.
Люди стали собираться сразу же, не дожидаясь вечера. Железные ворота Макабели распахнулись настежь, и кучки людей растеклись по всему двору. «Какой он был добрый… какой он был умный человек!» — без конца повторял Гарегин. На крестьянах были выгоревшие от солнца рубахи и войлочные шапки, их штанины были заправлены в носки, а тяжелые, грубые руки засунуты за пояс, словно некие сельскохозяйственные орудия. От ежедневного единоборства с солнцем их спрятанные под короткими чубами лбы покрылись одинаковыми морщинами, их шершавые, упрямые скулы — одинаковыми трещинками. Всех их можно было принять за родных братьев!
— У тебя в лавке дверь открыта… как бы куры не забрались… — сказал один из них по адресу Гарегина, не глядя на него.
— Не бойся… там есть кому присмотреть, — ответил Гарегин, выискивая глазами кого-то в противоположном конце двора — может быть, специально, чтобы скрыть невольное волнение.
— Соль курица клевать не станет, — заметил другой крестьянин.
— Курица, она, брат, слепая… золота ей насыпь, она и его склюет, — отозвался первый.
— Займитесь-ка вы своими делами, вот что я вам скажу, — заметил Гарегин, тут же смягчая эти слова дружеской улыбкой. — Д-да… А вот этого он уж действительно не заслужил! — показал он рукой на Сардиона. — Вы что-нибудь подобное видели, а? Я вас спрашиваю: видели?
Никто ничего не ответил — все следили за Сардионом. «Бараб-б-ба-а-ан1» — скулил Сардион, ползя вдоль ограды, словно подкрадываясь к притаившейся на ней, греющейся на солнце ящерице.
Уруки, как водится, быстро смирилась и со смертью Кайхосро. Единственным, кто пережил эту смерть действительно всей душой, был, наверно, отец Зосиме. Когда он вошел во двор Макабели, его трудно было узнать: словно вдруг надломленный, постаревший, он с трудом поднялся по лестнице. «Упокой его господь, но кого? — думал он. — Жили-были… а кто, непонятно! Мы существуем — и в то же время не существуем… существуем и не знаем, что существуем… существуем и сами не знаем, как нас зовут!» — думал он.
— Поразительно, поразительно! — сказал он встретившему его в двери Петре.
«Что ж тут поразительного… не бессмертен же он был, в самом деле!» — мысленно ответил Петре.
— Если б вы, батюшка, знали, как он вас любил! — сказал он вслух…
Но одна поразительная вещь в доме Макабели все-таки произошла, словно отец Зосиме ее действительно предсказал! На следующее утро покрытая ковром тахта, на которой лежал мертвец, оказалась пустой. Двугривенный валялся на ковре; черный платок, которым была подвязана челюсть Кайхосро, нашли на лестнице. Можно было еще поверить в воскресение и тайный побег мертвеца, но что кому-нибудь вздумается украсть труп, этого предусмотреть нельзя было уж никак!
— Это кто-то из ваших… — сказал отец Зосиме, и его глаза замерцали вдруг по-прежнему, словно последнее, столь неожиданное приключение старого друга немного его подбодрило. Его крупные, чуть припухшие пальцы лежали поверх натянутой на коленях рясы; его учащенное от быстрой ходьбы дыхание постепенно выравнивалось. — Дай мне, детка, водички… — сказал он Аннете. Его лицо раскраснелось, и только у корней волос гнездилась старческая бледность, словно остатки снега в недоступной солнцу расщелине. Опустившись на стул, он все еще тяжело дышал. Едва Петре подошел к его дому, сердце отца Зосиме екнуло, и он почувствовал, что через минуту узнает что-то совершенно необычное. Почувствовал он и то, что ждет этого со вчерашнего дня, словно умереть просто так, как все остальные, было немыслимо для его друга, для человека, всю жизнь прятавшегося не только от смерти, не только от своего ближнего, но и от себя самого… для человека, величайшим несчастьем которого было, должно быть, то, что бог создал его человеком вообще! Выслушав рассказ Петре, священник вдруг приободрился и оживился, как юноша, которому предложили пойти подглядывать за купающимися девушками. Петре с трудом поспевал за ним — отец Зосиме шагал по улице, как задиристый семинарист, и его изъеденная молью, усеянная репейником ряса развевалась по ветру. Он понимал, впрочем, что такая поспешность с его стороны несколько греховна, ибо увидеть ему предстояло отнюдь не чудо божье.
— Спасибо! — сказал он Аннете, беря у нее стакан. — Спасибо! — повторил он, осушив этот стакан и с хитрой улыбкой ставя его на пустой стул рядом с собой. На запотевшем стакане остались отпечатки его крупных пальцев. — Это кто-то из ваших… — спокойно сказал он и взглянул на Петре, который в этот миг с таким ожесточением сжимал и разжимал кулак, словно сию минуту сильно ушиб его.
— Что ты говоришь, батюшка? Будь это вор, почему он оставил бы двугривенный? Что ему этот двугривенный, карман отяжелил бы, что ли? — почему-то разъярился Петре.
— Двугривенный? Боюсь, сын мой, что вернуть тело отца тебе обойдется дороже… гораздо дороже. Точную цену тебе, впрочем, скажет сам похититель! Деньги держи наготове, чтоб лишних хлопот избежать… — так же спокойно сказал отец Зосиме. Он улыбнулся Аннете, как бы извиняясь за то, что вынужден говорить о таких гнусностях при ней. Анне-та, казавшаяся в материнском платье выше, худей и бледней обычного и напряженно его слушавшая, тоже улыбнулась растерянной, мимолетной улыбкой, как бы подтверждая, что она тут, что она внимательно слушает, а главное, ни в чем его не винит. — Он, наверно, к брату съездить собрался… вот ему и понадобились деньги, — продолжал отец Зосиме, вновь обращаясь к Аннете. Она кивнула головой, невольно, едва заметно. — Вместо того чтобы просить денег и унижаться, он предпочел этот путь… мучительный путь! — Он обращался к Аннете, словно в комнате никого, кроме нее, и не было, он заботился именно о ней, успокаивал именно ее, помогал ей перенести еще одну противоестественную боль, старался, чтоб это слабое, чистое существо не потеряло способности понимать и прощать до тех пор, пока не разберется в чем-то само, пока грубость и беспощадность жизни не станут в его сознании вещами обыденными, заурядными. — Он, наверно, в отчаянии был… а в отчаянии человек способен на все. Ибо что творит Отец, то и Сын творит также… — добавил отец Зосиме мгновение спустя.
— Ты слышишь! Его, значит, Александр утащил… — Петре толкнул Дусу плечом. — Да, Александр его похитил… так ведь из твоих слов следует, батюшка, правда ведь? — наклонился он к священнику. Его кулак вновь лежал на ладони левой руки. — И вы, служитель божий, готовы уж оправдать его! По-вашему, у него были причины сделать это! Его, видите ли, безденежье в отчаяние привело… ему, бедняжке, к брату в Сибирь ехать нужно — к такому же, кстати, преступнику, как он сам, — и он не смог придумать ничего лучшего, как украсть труп деда, продать его собственному отцу и на вырученные деньги купить брату чесноку и теплого белья. А кстати — и мир поглядеть, и себя людям показать! А отец ничего… отец пускай себе надрывается, откладывает гроши, копит на собственные похороны, чтобы перед смертью и эти гроши сыновьям, как мясо собакам, швырнуть, чтобы хоть в могилу лечь не израненным, не изодранным, не оскверненным… Что — не так? Не так вы разве сказать изволили? Что ж я это, в самом деле: оглох, что ли? — Он оглянулся на Дусу. — Да что там говорить! Если уж убийцу, разбойника и церковь оправдывает, значит, действительно второе пришествие наступило…
— Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет… А я не оправдываю, я защищаю, — спокойно сказал отец Зосиме. — Защищаю, потому что жалею… — добавил он секунду спустя.
— Защищает, слышишь? Защищает! — крикнул Петре.
— Боже мой! — возвела глаза к потолку Дуса. — Да лучше уж я бы в Телави осталась!
Но сетовать на судьбу ей было некогда: она была хозяйкой дома, и во всех грехах этого дома люди обвинили бы прежде всего ее. Вот, пришла, дескать, и все вверх дном перевернула. А на какой ад она себя обрекла, это никому не интересно! Им только бы обвинять, черт знает что ей приписывать — от нее-де не только живые, но и мертвецы удирают, собственных похорон спокойно дождаться не могут! Так что сетования надлежало до времени отложить, снести от бога и эту обиду и хоть из шкуры вылезть, но как-нибудь вернуть в дом мертвого свекра. Не могла ж она сказать приходившим соболезновать: «Заходите, спасибо за внимание — но вы знаете, покойный изволил отлучиться»! Больше всего в эту минуту она ненавидела мужа. Она была унижена и оскорблена, как профессиональная плакальщица, которая, уже приготовившись, распустив волосы, расцарапав лицо, вдруг узнала бы, что ее пригласили в шутку. А ей было не до шуток. Унижена была прежде всего она сама — жена, невестка, хозяйка! Мало того, что ее сквалыга-муж уклонился от празднования свадьбы, уговорил ее, что в их возрасте свадьба не вызовет ничего, кроме насмешек, — теперь он отнимал у нее и возможность усесться у гроба свекра, чтоб хоть так заставить людей признать в ней жену, невестку, хозяйку…
— Ну что ты зря мелешь! — внезапно разъярилась она. — Бери деньги и проваливай! Долго мы еще сложа руки сидеть будем? И вы, батюшка, поезжайте с ним тоже, умоляю вас… — обратилась она к отцу Зосиме, — Вы уладите это гораздо лучше! А иначе никому из нас в этой семье вообще не жить, вы ж понимаете… вы же, батюшка, все понимаете! — Неожиданно она схватила отца Зосиме за руку, чтобы поцеловать ее. То ли испугавшись, то ли удивившись такому порыву, священник так поспешно встал, что рукавом рясы задел и скинул на пол стоявший на стуле стакан; стакан разбился. — Пусть это, батюшка, к счастью будет… пусть это все невзгоды ваши унесет! — воскликнула Дуса, не отводя губ от руки священника. — Вы уж, батюшка, помогите… спасите нас от позора…
Через два часа Петре и отец Зосиме находились уже за девять километров от Уруки и, стоя во дворе монастыря, под кипарисами, слушали глупости Маро. На дороге их ожидала телега. Перед выездом из дому Петре мельком заглянул в хлев; убедившись в том, что осла на месте нет, он окончательно поверил в догадку отца Зосиме и тут же покорился судьбе, почувствовал какую-то одуряющую печаль и безразличие — так, словно выкупать прах отца у собственного сына было делом самым что ни на есть заурядным. Всю дорогу он и рта не раскрыл; держась обеими руками за край телеги, он молча трясся вместе с ней и не слышал ничего, кроме шума колес, не видел ничего, кроме рясы отца Зосиме, на которую медленно, упрямо садилась серая пыль. Зато сами они привлекали всеобщее внимание— каждый встречный невольно поворачивал голову в их сторону и долго глядел им вслед. Вероятно, всех изумлял вид священника на телеге; но ни его, ни Петре совершенно не интересовало, насколько подходили к рясе одного и сюртуку другого грубые, неструганые доски телеги, на которой они ехали днем, на виду у всех, — ничего лучшего им найти не удалось, да и покойнику телега подходила больше, чем извозчичья пролетка. Петре было наплевать на все! Во двор монастыря он вошел вслед за отцом Зосиме, словно просто сопровождая его… простым свидетелем казался он и сейчас, стоя под кипарисами и глядя на Маро так равнодушно, словно видел ее впервые в жизни, и то случайно, и ничего общего с этой женщиной ни прежде, ни теперь не имел. Он не слушал, что она говорит, ибо и в мыслях не мог связать ее с тем делом, из-за которого пустился в такой неблизкий путь, трясясь и качаясь, словно ворон, присевший на верхушку сосны во время ветра. Он просто стоял, ожидая, пока отец Зосиме не отделается от этой тупой, грязной бабы и не закончит как-нибудь их дело вообще. Он ждал этого с ненавистью, постепенно переходившей в равнодушие… с ненавистью слуги, сопровождающего на рынок своего хозяина, который то и дело останавливается у прилавков, чтобы прицениться к тому-другому, хотя покупать и не собирается — товар ему нужен совсем иной, он просто лишний раз испытывает свое умение поторговаться!
— Послушай, дочь моя, — говорил отец Зосиме, обращаясь к Маро. — Мы уже поняли, что он спит, что вчера вы всю ночь на ногах провели, что он и сам не спал, и вам спать не давал — тебе всю ночь над своим дедом плакать велел… Ты, деточка, все сделала правильно, бог тебе за это воздаст! Но теперь послушай и ты нас: пойди разбуди его, скажи, что его отец ждет, — протянул он руку в сторону Петре. — Так и скажи: отец, отец твой тебя ждет! Поняла?
— Да я их узнала… неужто ж не узнала? Я же поздоровалась… — сказала Маро, искоса взглянув на Петре.
— Так тем более делай то, что тебе говорят! — рассердился отец Зосиме.
— Тогда будите его сами! Я ж его знаю: опять на меня набросится! Чтоб мне с места не сойти… — сказала Маро. — У меня все тело в синяках! Всю ночь кулаками бил: плачь, плачь! Я б и сейчас поплакала, только устала очень. Кайхосро, горемычный… кому достанутся твои эполеты золоты-ы-е… — внезапно завыла она.
— Да замолчи ты! — снова рассердился отец Зосиме.
— Сердце молчать не хочет! — воскликнула Маро. — Сперва ведь он мне живым показался! Уж я-то сколько на мертвецов нагляделась — и то маху дала. На осле сидел… А он-то — гостя, говорит, вам привел! С постелей поднял. Боже мой, говорю, опозорились мы с тобой, отец: к нам вон какой король в гости пожаловал! А отец все еще спит, на ногах стоит и спит. Давно уж, говорит, мы с тобой опозорились. Все свое несет, значит… Я коптилку вынесла, гляжу, а он мертвый… и вроде уж давненько, чтоб мне с места не сойти! Вчерашней ночи в жизни не забуду…
— Ну да… а потом вы уложили его в чужой гроб и зажгли у изголовья свечу, — сказал отец Зосиме.
— Конечно! Отец сделал для другого, его заберут завтра, а вчера нашего мертвеца упокоили! Пришел бы живой, мы б его в постель уложили… Чтоб мне с места не сойти! — всхлипнула Маро.
— Да ладно уж… ну полно тебе! Сколько раз одно и то же повторять можно! Если ты не позовешь Александра сейчас же… — Рука отца Зосиме, поднятая, чтобы погрозить Маро пальцем, застыла в воздухе, ибо именно в этот миг на дорожке показался Александр.
— Легок на помине! — сказал Петре. Впервые в жизни появление сына его взволновало.
Александр явно не выспался — его налившиеся кровью глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Его скулы блестели, он недобро размахивал своей единственной рукой, нелепо сухощавый, нелепо долговязый, нелепо угрюмый. «С таким лучше не связываться!»— невольно подумал бы любой встречный.
— Для меня, батюшка, прощения нет! — еще издали крикнул он отцу Зосиме. — И не прошу, и не желаю… и никого не боюсь! — Он шел напролом. Маро он просто оттолкнул, словно она пыталась остановить его или словно ему надо было встать именно на то место, где стояла Маро.
«Совсем ведь еще ребенок… — подумал вдруг отец Зосиме. — Ему стыдно… это его и мучит!» Теперь они стояли почти впритык друг к другу (на отца Александр и не взглянул), слышали даже дыхание друг друга. «Меня он не ждал… меня увидеть ему неприятно. Без меня они сговорились бы лучше, а отец привел с собой свидетеля, этого он ему никогда не простит. Чем дальше, тем ему будет стыдней, мучительней…» — думал отец Зосиме.
— Я, батюшка, собственно, только обет свой выполнил! — хрипло сказал Александр, словно угадав мысли священника.
— В ад ты себя низверг, сынок, прямо в ад! — ответил отец Зосиме. — Уж лучше б ты…
— Я сам знаю, батюшка, что мне было б лучше, — перебил его Александр. — Я и ада не боюсь! — крикнул он вдруг. — Для меня ад везде… меня, вместе с вами, бог и создал в аду! Рай он еще только собирается строить, для рая у него времени нет… да и для кого ему, по правде говоря, рай-то строить? — злобно, вызывающе засмеялся он.
— Не гневи бога, не гневи бога! — с укоризной сказал священник. — Какое тебе дело до других? И ад и рай существуют! Каждый выбирает сам.
— Выбирает? Да как же мы можем выбирать? — удивился Александр.
— Каждый выбирает сам… — Могло показаться, что отец Зосиме повторяет эти слова, чтоб еще раз проверить их справедливость, прежде чем высказать их окончательно, навсегда избавиться от них.
— Но тогда… тогда чего ж вы от меня хотите? Тогда меня никто наказывать не вправе! — сказал Александр с горячностью ребенка, стремящегося лишь установить истину. — Но вы-то лучше меня знаете, что это не так. — Он вдруг сник; некоторое время все молчали, словно слушая птиц, щебетавших в густых ветвях кипарисов. — Человек ничего не выбирает, — спокойно, задумчиво сказал Александр, — а или подчиняется тому, что ему навязывают, или гибнет… Я тоже гибну, батюшка! Я тоже погиб, погиб прежде, чем родился; и погиб именно потому, что не мог выбирать, от кого, где и когда родиться…
— Да, ты погиб… но погиб позорно, постыдно! — ответил отец Зосиме. — В такой гибели никакой необходимости нет.
— Поступить иначе я не мог… и это вы тоже лучше меня знаете! — Александр опять вскипел, опять стал похож на человека, проведшего ночь в компании с чертом. — Меня за первую же детскую шалость ремнем выпороли: чтоб я не сделал ничего посерьезней! Мне за паршивую свинью еще в детстве руку отрубили: чтоб я и в мыслях не смел бороться со зверем покрупней! У меня, батюшка, брата отняли: чтоб я никогда не знал, чего я хочу, что могу, что делаю… Да нет, не отняли — отделили от меня, как от прокаженного: чтоб я думал о нем с мучением и завистью, — чтоб я ненавидел его, а не настоящего врага! Ему писали письма, его вспоминали, а меня завидев, родная мать губы кривила. Им гордились — а меня жалели, терпели, кормили из милости. Мне надо было кого-нибудь убить, чтоб не погибнуть, не увязнуть окончательно в болоте зависти и ненависти! Да нет, почему же кого-нибудь… деда моего, вот кого мне надо было убить! Его одного! Все мы от него пошли… в нем наше общее начало! Но этого я не смог. Хотел, жаждал, но без брата и без руки не смог. Я предпочел тонуть в болоте, — на миг он замолчал и взглянул на Маро. — Да… я повесил ее себе на шею, как самоубийца камень, чтоб спастись никак нельзя было! А вчера я исполнил обет, данный в детстве… Я это, батюшка, каждую ночь, как молитву перед сном, твердил: мертвым на осла посажу и по деревням возить стану! Словно этим я отомстил бы за высеченное детство, за отнятого брата, за потерянную руку… просто побаловался еще раз, вот и все! Но сказано — сделано! Какое мне дело до того, разумно это или безумно? Жаль только, ночью, никто не видел… И все-таки я себя ублаготворил, ох, ублаготворил! За такое удовольствие, отец мой, и жизнь отдать не жаль! Видели б вы, как осел трусил!.. Ему и палка не нужна была — сам бежал. Шутка ли сказать: мертвый майор на спине сидит. В мундире, эполеты при луне сверкают… А сам как пьяный — то на шею навалится, то назад откинется!
— Опомнись… опомнись, несчастный! — крикнул отец Зосиме.
— Пусть он скажет свою цену, и давайте кончать! — потерял вдруг терпение Петре. — Не тратьте времени зря! Скоро его уж вообще не будет смысла везти…
— Цену? Какую цену? За что цену? — Александр удивленно взглянул на отца, словно лишь сейчас впервые его заметив.
— Доложи ему, кстати, что отца моего есть кому похоронить! В чужом гробу ему лежать совершенно не к чему… — сказал Петре.
— Он вполне прав… уж быть-то похороненным по-человечески Кайхосро, бедняга, во всяком случае заслужил! — Голос отца Зосиме дрогнул. — Так что не будем людей смешить! Помиритесь… договоритесь! — с трудом выговорил он изменившимся, смущенным голосом. Он уже понял, какую глупость сделал, какую чудовищную напраслину возвел на этого несчастного однорукого, ставшего по превратности и жестокости судьбы слепым мстителем, стремившегося лишь к мщению, а о деньгах думающего столько же, сколько о его судьбе думали другие, его родной отец прежде всего! И этого-то человека, восставшего против собственного уродства и бессилия, они собирались еще больше изуродовать, еще больше унизить, растоптать! Наобум, не подумав, ничего не выяснив, они обвинили его в замысле, который ему никогда и в голову не пришел бы, проживи он хоть десять жизней подряд, — да потому хоть, что у него свой, особый счет с миром, счет, оплачиваемый не деньгами, а кровью! Простить его было, конечно, нельзя: человеку, по его собственному признанию, осквернившему труп, чьим бы этот труп ни был, оправданий нет. Но никто не имел права и извращать его вину, унижать до корысти поступок, вызванный лишь ненавистью и безумием…
— Так, по-вашему, я должен цену за труп назначить? Продать вам покойника… так, что ли? — спросил Александр, вновь обращаясь к отцу Зосиме.
Отец Зосиме невольно отвел глаза — так жалко вздрогнула нижняя губа однорукого.
— Да ладно… чего уж там, — вяло попытался он успокоить Александра. — Отец твой тут ни при чем! Одну молитву, ты же знаешь, и священник переврать может…
— Ты слышишь, Маро? — лукаво заблестели глаза Александра. — А ты еще говоришь: нет добра, нет великодушия… Да ведь им бы собак на нас натравить, побить нас камнями, повесить нас на первой же осине, а они нам деньги предлагают! Разве тебе не нужно денег? Разве ты их не любишь? Да почему бы тебе не любить денег, не знать им цены? Хуже ты других, что ли? Поди поцелуй ручку батюшке! И за меня тоже, не то они ведь вообразят, что мы совсем уж никчемные, что мы и спасибо-то сказать не умеем! Целуй ручку, говорят тебе! — крикнул он стоявшей за его спиной Маро. Маро, ковыляя, двинулась в сторону священника, но Александр своей единственной рукой загородил ей дорогу. — Погоди… успеешь еще! А сейчас, батюшка… сейчас позволь и нам проявить доброту и великодушие. — Его лукаво блестевшие глаза с вызовом впились прямо в отца Зосиме; а священник глядел на Александра с таким испугом, словно действительно опасался, что тот натравит на него Маро. — Где ж это видано, чтоб мастер платил деньги ученику? Наоборот, это я вам все время платить должен! Вы меня такому научили, теперь я на всю жизнь ваш должник. Неоплатный! Сколько трупов впредь ни продам, всегда со мной в доле будете… А деда своего вам дарю! Берите даром! И с гробом, и со свечами! И за пользование ослом тоже все до копейки возмещу… так и доложите папеньке моему! — Внезапно он засмеялся беззвучным, жутким смехом: опершись своей единственной рукой о ствол кипариса, он так дрожал и корчился, словно пытался насильственно вызвать у себя рвоту. — Ты-то, батюшка, за что меня не пощадил? Тебе-то я что плохого сделал? — выдавил, наконец, он из себя, продолжая смеяться.
— Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну… — сказал отец Зосиме, когда телега повернула в сторону У руки.
На поминках по Кайхосро Сардион жрал столько, что отбил аппетит у всех остальных. «Ух, наелся… хоть бы и отец мой поскорей помер!» — не переставая кричал он, как его научили старшие, пошлепывая себя по туго набитому брюху привыкшими к барабану руками.
— Сарди, детка, скажи: хорошая вещь поминки? — балагурили мало евшие, но жадно набросившиеся на вино гости.
— Хорошая вещь поминки! — громко кричал Сардион. — Хоть бы и отец мой поскорей помер! — тут же добавлял он.
— Не кормите его силком, пожалейте… он же ноги протянет! — просила людей Дуса.
Но подвыпившие гости по-прежнему опорожняли свои тарелки в миску Сардиона, и он с собачьей торопливостью, ворча и скрежеща зубами, хватал сваленные в одну кучу куски мяса, плов, фасоль и черемшу. «Хватит тебе жрать, чтоб ты сдох!» — кричала ему мать. Подняв голову, точь-в-точь как жадная и трусливая собака, которую оторвали от еды, Сардион всего на миг неподвижно застывал с бессмысленной ухмылкой на устах. Его грудь была вымазана мясным соусом, подбородок блестел от жира, и к нему прилипло раздавленное зернышко риса. «Давай, Сарди… давай!» — кричали со всех сторон стола новоявленному наследнику Макабели, животный аппетит которого всех почему-то радовал и веселил.
— Не бойтесь: меня он вполне устраивает… Хоть он меня слушаться будет! — говорил подвыпивший Петре.
Он был так бодр и оживлен, словно не отца похоронил, а сбросил с плеч тяжкий груз. Ему не сиделось спокойно, и он без конца переходил с места на место, наклоняясь то к одному, то к другому гостю и осведомляясь, как идут их дела и не нужно ли кому чего-либо.
— Насколько я тебя знаю, ты ей еще кучу деток сделаешь! Живи и умножайся! — подмигнул Петре Гарегин, поднеся ко рту пучок зелени.
— Поздно уж, а то что ж… я не против! — засмеялся Петре и, нагнувшись к столу еще ниже, чтоб его слышал не один Гарегин, добавил: — Я вот, веришь ли, брюки, бывает, расстегну, а зачем расстегнул, уж и не помню! — И когда за столом раздался взрыв хохота, Петре тут же отошел, веселый, бодрый, неутомимый, гостеприимный хозяин…
Помереть Сардион не помер, но до этого было, видимо, недалеко. Всю ночь он пролежал на земле позади дома: его без конца рвало, и его стоны и протяжные вздохи до самой зари заставляли всех собак Уруки громко лаять. Не раздевалась в эту ночь и его мать, она лежала под одеялом в платье и ботинках, словно найдя приют у чужих людей и не зная, когда, в какую минуту ей придется встать. Петре зря кружился вокруг жены — Дуса была холодна и угрюма, как осажденная крепость, с зубчатых стен которой лишь изредка грохочет неожиданный выстрел, чтоб доказать, что она еще не оставлена, не сдается.
— Чтоб ты к своему отцу убрался! — дрожали вдруг оконные стекла от сиплого баса Дусы.
— Ты ему кстати уж подскажи: к которому… — откликался обозленный ее неприступностью, сердито слонявшийся из угла в угол Петре. — Не разрываться ж ему, бедняге, на четыре части!
Но в ту ночь его жене было не до него — одна она знала, что с завтрашнего дня станет единственной хозяйкой этого дома. Ее одну Аннета предупредила о своем предстоящем уходе, когда они вернулись с кладбища; и сейчас Дуса не могла думать ни о чем, кроме Аннеты. Ее мучили не угрызения совести, не жалость к Аннете, а досада, что та ускользнула из ее рук, улетела, как вырвавшаяся из силка пташка!
— Я ухожу… — сказала ей Аннета.
Они стояли у лестницы. Вернувшиеся с кладбища люди входили во двор медленно и лениво, как стадо.
— Если ты мне действительно друг, ничего не говори отцу, хоть до завтра… — продолжала Аннета.
Но Дуса опять ничего не ответила — она удивленно, растерянно, недоверчиво глядела в лицо падчерицы. Внезапно Аннета поцеловала ее в щеку и шепнула: «Спасибо тебе…»; потом она отошла и смешалась с людьми. Ее напряженный взгляд без конца натыкался на одинаковые, одинаково хмурые и усталые лица. «Здесь его нет. И на кладбище не было, и на кладбище я его не видала!» — торопливо думала она. Она не была уверена в том, что инженер-путеец действительно был на похоронах деда, хотя ясно видела его, ясно слышала, как он сказал: «Разделяю ваше горе». Ясно помнила она и то, как при его виде заревела сама, как из ее, казалось, высохших, окаменевших глаз хлынул вдруг поток слез. До этого она плакать не могла, даже не пыталась — у гроба деда она сидела как посторонняя, затерявшись среди каких-то старух в черном. Дуса плакала, а она нет! Дуса-то плакала в голос… «Зачем ты не дал мне времени поухаживать за тобой… быть тебе дочерью родной!» — орала она деду Аннеты. Старухи ахали и охали: поведение Дусы им нравилось, а Аннетино — нет; и их бегающие глаза глядели на нее косо, злобно, осуждающе. Но когда в комнату вошел инженер-путеец, Аннета подняла вдруг такой вой, что и Дуса заткнулась, и старухи изумленно разинули беззубые рты! Так плачет оказавшийся среди чужих ребенок, внезапно увидав своих родителей, — его неожиданная радость мгновенно переходит в слезы, хотя плакать ему следовало, казалось бы, раньше, до того, как родители разыскали, пришли забрать его. Явью это было или иллюзией, значения уже не имело! Главным было то, что инженер-путеец все-таки действительно существует, да и всего километрах в пяти отсюда; и если он к Аннете не приходил, то Аннета пойдет к нему сама, никто другой не был ей ближе, никто другой разделить ее горя не мог. А выйдя со двора, ощутив под ногами горячую, мягкую пыль дороги, она почувствовала себя еще смелей, еще больше уверилась в том, что поступает правильно. «Разделяю ваше горе, разделяю ваше горе!» — мысленно подражала она голосу- инженера-путейца, бодро, жизнерадостно, с надеждой шагая в сторону Цнори, навстречу ему, заменившему ей братьев, способному понять и разделить ее горе! В мыслях и мечтах она уже столько раз ходила по этой дороге, что ошибиться сейчас не могла. Ей надо все время идти прямо, прямо, дойдя до двух старых орехов и развалин маленькой церкви, свернуть по тропинке вправо и пересечь поле — а там Цнори совсем уж рядом. Справиться об инженере-путейце она могла в любом доме: рабочие-строители жили там повсюду, и как добраться до инженера, ей объяснил бы каждый. Вечерело. Толстый слой мягкой, еще не остывшей пыли заглушал звук ее шагов; материнское платье почти до колен запылилось и побелело. На ветке акации щебетала какая-то птица. Впервые в жизни Аннета шла по большой дороге одна, но для дороги этой она не была ни первой, ни последней. Дорога не чувствовала ее тяжести, не замечала ее тени; она просто лежала под ногами Аннеты, коварно притаившись и сзади и спереди, одинаково белая, одинаково нескончаемая, — река пыли, кладбище затихших, законченных, умерших шагов! И Аннета бодро шагала по ней, тонула в ее белизне, в ее молчании, в ее глубинах — еще ребенок, она, назло родному дому, стремилась в неведомый, чужой, таинственный мир, спастись от которого ей будет не так-то легко. Вечерело.
13
Железная дорога медленно, но упрямо ползла вперед. Теперь уж никто не путал звука взрывов с колесницей Ильи и каждый точно знал, через какие деревни дорога пройдет, а какие минует стороной. Уруки оставалась в стороне, это стало известно; но радоваться этому или огорчаться, люди еще толком не понимали. Если верить слухам, получалось, что дорогу прокладывали лишь в тех деревнях, где жили князья и богачи. В действительности, однако, строительство вывело на свет божий уйму и таких деревень, о которых раньше вообще никто не слыхал, — с Уруки их, во всяком случае, ни по расположению, ни по размерам и сравнивать не приходилось. Народу в Уруки хватило б на целый город! Когда-то, впрочем, она и была городом, и без ее разрешения, говорят, ни войска, ни караваны по дорогам ходить не могли; но великое становится малым, а малое великим, вот Уруки и стала понемногу совсем деревней. А все-таки Цнори и другие подобные ей наскоро вылупившиеся поселки она значительно превосходила и сейчас. Городом ли она называлась, деревней ли — все равно она стояла на большой дороге, и обойти ее стороной не мог ни враг, ни друг. По рассказам стариков, Уруки была заложена самим Адамом; а питьевую воду отсюда на ослах возили в Тбилиси специально для царицы Тамар. Впрочем, как бы ни врали и ни хвастали урукские старики, Цнори действительно была паршивым комариным логовом в то время, когда Уруки прожила уже целую жизнь. Даже дряхлейший из старожилов не скажет, когда выстроен последний дом Уруки; в Цнори же первые дома строятся лишь сейчас, да и то лишь сколоченные на скорую руку дощатые хибары, а настоящих каменных домов в Цнори нет до сих пор. Помимо этого, в Уруки есть и свои князья (чем Макабели хуже любых других?), и свой священник, и свой купец — и все-таки железная дорога выдвинула вперед Цнори. «Не бросай старых путей!» — утешались урукийцы, смутно чувствуя, что новая жизнь собирается обойти их стороной… Одним словом, разговоров было много — и не только в Уруки, но и по всей Кахетии. Пока что поезда ходили лишь до Гурджаани, но и там, где они не ходили, все знали уже, у кого железная дорога проглотила виноградник, у кого задавила корову, а у кого лошадь. А дорога, извиваясь, двигалась вперед и тяжко, болезненно утверждалась в сознании людей, привыкших к саду и винограднику, к телеге и ослу. Она лежала на утыканной насыпи гравия, как недобро притаившееся, недобро сверкающее чешуей железное чудовище, без конца растущее, но для непривычного глаза именно поэтому неподвижное, неизменное, однообразное. Вырубались леса, рвалась земля, рассекался надвое горный хребет — ничто уж не могло остановить это безликое, лишенное конечностей чудовище, подчиненное, казалось, не человеческому разуму, а только собственной воле. Менялся облик природы. Теперь вместо лесистых склонов перед глазами вставали голые, буро-желтые обрывы, вырубленные и засохшие рощи, куцые поля, сколоченные на скорую руку из гнилых досок и кусков ржавой жести хибарки, будки, ларьки, глядевшие на железную дорогу едва светящимися, кое-как завешенными ветошью окнами и жавшиеся к ней, как щенята к материнской груди. Среди мазутных луж, угольных насыпей, бочек со вмятинами и сломанных тележек постепенно вставала на ноги новая жизнь, зачатая в пути, в пути же рожденная и выращенная. Ни бог, ни человек в ее возникновении, казалось, не участвовали, — родившись из утробы железной дороги, она только от железной дороги и зависела. Но и железная дорога без нее существовать не могла: именно эта новая жизнь и приволокла сюда столько древесины и железа, именно она и насыпала эти горы гравия и угля. И все-таки ее никто не учитывал, не принимал в расчет… Жизнь эта могла существовать лишь благодаря узкой и бесконечной стальной ниточке; и ее не беспокоило, где она ляжет спать и где, под каким небом проснется, ее дом был везде, где она чувствовала под ногами твердые рельсы, везде, где ей бил в ноздри запах рельсов. Насквозь пропитанная этим запахом, неразрывно с ним связанная, не имевшая ни корней, ни прошлого, жизнь эта слепо, с бесконечным доверием шла по пути, указанному ей железом, — ни времени, ни способности оглянуться назад у нее не было. Впрочем, и позади у нее было то же, что впереди: два железных близнеца и стиснутая между ними полоска выжженной, бесплодной земли. Новая жизнь основывалась на двух началах — железе и непрерывном движении; поэтому у нее и было очень своеобразное, скороспелое и непроверенное представление об остальном мире. Листка, сорванного на ходу из окна поезда, для разгадки тайн природы было, конечно, недостаточно, но более чем достаточно, чтобы вызвать тоску и зависть человека, оказавшегося в плену железа и гравия; а увиденный из окна поезда фруктовый сад или виноградник почти ничем не отличался от дикой рощи. Поэтому обитателю поезда окружающая природа казалась выкрашенной в зеленый цвет стеной бесконечного тоннеля; и, ослепленный быстрой ездой, он издавал победный клич дикаря, уложившего крупного зверя, когда ему удавалось, протянув руку в окно, случайно что-нибудь достать, урвать у природы, будь то листок, зеленый плод или прилипший к пальцам цветок. Как говорится, в какой идешь край, такую шапку надевай; но людям в поезде не надо было менять и шапок — под ногами у них везде было железо, и это освобождало их не только от чувства отчужденности, но и от способности воспринимать что бы то ни было новое. На любом месте они жили и вели себя одинаково: оторванные от своего, вторгшиеся в чужое время и пространство, они инстинктивно чувствовали, что никакого другого способа сохранить равновесие у них нет. Главным для них был сегодняшний день — вчерашнего у них не было или они его не помнили, а в завтрашний не верили; поэтому-то им и нужно было сегодня же получить все, что могла дать их кочевая жизнь, по-этому-то освоению они и предпочитали присвоение — присвоение не требовало ни времени, ни знаний, для него достаточно было и голой силы. Гудя и грохоча шла новая жизнь, и с вершин гор на нее жалобно глядели сдавшиеся без боя, пошатнувшиеся от бесконечных толчков крепости и башни; а из храмов с растрескавшимися сводами навек исчезли ангелы и святые, былые хранители страны: теперь в них, как бездомные ласточки, ютились лишь остатки вечного синего неба и со стен, протягивая руки, смущенно, как божьи нищие, глядели цари, князья, герои — отцы этой уже несуществующей страны. Страна раскалывалась, как бревно, в которое вогнали клин; и трещина доходила уже до Цнори. Вся Цнорская котловина покрылась бараками. Обтрепанные, бледные дети, сидя на холмиках гравия, глядели на заходящее солнце. Кругом валялись груды изуродованного инструмента — заступы, лопаты, ломы, кирки. Высокая женщина с худым лицом и голыми руками куском картона разжигала огонь. На веревках сушилось песочно-желтое белье. Перед бараками стояла маленькая будочка, из единственного узкого окошка которой высовывалась закопченная труба жестяной печки; перезимовав в этой будке, обитатель ее собирался, наверно, провести в ней и следующую зиму. Внутри будки, на нарах из неструганых досок, лежал Ягор. Уставившись в потолок, он молча думал, то есть не думал, а просто, по своему обыкновению, проклинал судьбу, подобно человеку, проклинающему лестницу, по которой, истертой тысячами чужих ног, именно он почему-то подняться не может…
Ягор сбежал не от Маро, как воображала она, а от собственной судьбы, ни в грош его не ставившей, ке желавшей не то что помочь, но хоть позволить ему выбраться из мира, в котором такие лишь вот Маро и обитали. Ему просто не везло, он спотыкался везде, куда ни повернись; казалось, уже выбравшись из ямы, он снова падал назад, в грязь, в нищету, в скверну! Чего он только не пробовал — и все-таки встать на ноги так и не сумел. К его отцу судьба была, что и говорить, милостивей; то, чего достиг его отец, Ягору могло лишь сниться, если, конечно, хоть половина того, что о нем рассказывали, было правдой! Нет, Ягору просто не везло: отцу своему он не уступал ни силой, ни здоровьем, ни усердием, ни даже цветом волос (он был даже еще рыжей); так что подводила его только судьба, злобная, паскудная судьба! Не справившись с этой судьбой, он стал могильщиком, — сам похороненный судьбой, он решил утешаться хоть похоронами других. И он утешался, особенно когда за гробом шли видные, богато одетые родственники. Иногда, конечно, ему приходилось хоронить и бедняков; но для покойников-бедняков, в сущности-то, и рук марать не стоило, к ним Ягор не испытывал никаких чувств, с ними его не связывало ничто — ни мечта, ни ненависть. Покойника-бедняка он помнил так же, как помнил Маро, — только пока его видел. Еще меньше интересовали его родственники бедняка — ему было наплевать на их черемшу, на их отдававшее кислятиной вино, на то, где они добывали деньги, чтоб еще одного своего червяка похоронить по-христиански. Бедняком был и он сам — что ж он мог услышать от них нового или удивительного? Подобно ему самому, люди эти шли в хвосте жизни, их, собственно, и людьми-то считать нельзя было, и исчезали они из этого мира так же незаметно, как и появлялись. Людьми были только богатые: тем принадлежал мир, те и рождались и умирали под музыку. Похороны каждого богача были для Ягора событием незабываемым и неповторимым. С богатыми мертвецами его связывали два главных чувства — любовь и ненависть: он любил их за их богатство и ненавидел за свою бедность, за то, что он не таков, как они. Родственники богатого покойника и не замечали Ягора — откуда им было знать, какое невероятное облегчение, какое блаженство испытывает стоящий на рыхлом холмике земли, держащий в руках веревку могильщик, глядя на них, находясь среди них? Он запоминал не только покойника, но и всех его близких, даже их одежду, и, укладываясь передохнуть на дне очередной свежевырытой могилы, думал только о них — страстно, завистливо, мучительно, безнадежно! А когда откуда-то внезапно, как кость из земли, появлялось немытое лицо Маро, он утолял с ней свою страсть к тем красивым и чистым женщинам, которые в сутолоке прощания с покойником иногда нечаянно прикасались к нему, в волнении и растерянности клали свои нежные, ароматные руки на его грязное плечо. Одна из этих женщин как-то уронила возле могилы черный шелковый платок с вышитыми краями — и Ягор хранил его бережно, как память о матери или подарок возлюбленной. «Такой же, вероятно, был и у любовницы отца…» — с завистью и гордостью думал он, глядя на платок. Завернув этот платок в обрывок старой газеты, он бережно хранил его за пазухой и во время отдыха, накрыв им лицо, жадно вдыхал аромат незнакомки, с течением времени становившийся все слабее, все больше растворявшийся в запахе его собственного пота. Но Ягор этого не замечал — прежний запах платка он помнил ноздрями, и, когда тонкая, нежная ткань ложилась на его лицо, он чувствовал такую тоску, у него так ныло сердце, что его покойная мать от жалости, наверно, в гробу переворачивалась. Сам же он в конце концов, как сумасшедший, вскакивал на ноги — только чтоб не подчиниться этой безжалостной тоске, не сдаться, не остаться навек в вырытой для другого могиле! Тонкий платок незнакомки напоминал ему о жестокости и неприступности жизни богатых, жизни, к которой он рвался с самого детства, едва узнав об ее существовании, — жизни недоступной и столь же тревожно таинственной, как смерть отца. Именно после смерти отца он навек и безнадежно влюбился в эту жизнь; но она не подпускала его к себе ни на шаг, хотя у ее второй, невидимой Ягору двери и стоял длинный хвост ее более удачливых любовников. А Ягору она подбрасывала то, что ею было уже использовано, изношено и нуждалось лишь в погребении. Конечно, и это было не так уж мало, и этим можно было кое-как перебиться — и Ягор этой милостыней не гнушался, но вызывала она у него не благодарность, а лишь еще большую ненависть. Он походил на юношу, охваченного безнадежной страстью к женщине, которая, не будучи ему парой ни по возрасту, ни по положению, обращается с ним, как с бедным родственником. Слепота и превратность судьбы выводили его из себя! Он с болью чувствовал, что судьба отвела ему место в самом конце стола, до которого все блюда — или, верней, объедки — доходят уже холодными, с застывшим на них жиром. И эти объедки съедобны, насытиться можно было и ими — и все-таки глаза Ягора без конца устремлялись к началу стола, туда, откуда начиналась раздача яств, где сидели избранники судьбы. А главное — и его отец сидел ведь когда-то среди этих рослых, с двойными подбородками мужчин и воздушных женщин, не сморкавшихся в подол платья, как Маро, а употреблявших шелковые, с вышитыми краями платки, которых у них было так много, что, уронив один из них, они даже не нагибались поднять его. Женщины эти ели не жирные холодцы, не свиные ножки, а варенье из роз, и то со страхом: и одного лишнего лепестка было достаточно, чтобы появился животик! Когда-то на такой животик клал голову и отец Ягора; а Ягору судьба на такое и взглянуть не давала: любая из этих женщин, встретив его вне кладбищенской ограды, тут же упала бы в обморок со страху. Он был для них частью кладбища, в нем они нуждались тогда лишь, когда умирали, начинали гнить, смердеть. Все мертвецы ведь смердят одинаково, и богатые и бедные. Богатые, пожалуй, даже еще больше: бедняк-то и подыхает с пустым брюхом! Мертвые становились подданными Ягора — их обливавшиеся потом родичи, как гостинец, подносили ему вытянувшихся в своих дубовых гробах княгиню или купца, князя или пристава, совали ему в руки немалые деньги, оставляли целые корзины выпивки и закусок, лебезили даже перед ним, чтоб он только «ухаживал за могилой как следует». Но ни один из них ни разу не предложил ему занять место умершего! А ведь средь них он чувствовал бы себя как рыба в воде — лишь его проклятая судьба не хотела этого, делала все ему наперекор, как бы наказывая его за везение отца. Да на кой черт ему были, в конце концов, все эти покойники? Если б ему хоть позволили посадить между могилами огурцы, тогда и он был бы человеком с набитым кожаным кошельком, тогда и он хоть раз в жизни лег бы в чистую постель с женщиной в чистом белье. Но он лишь зря терял время, зря сам себя обманывал! Да, он утешался похоронами других; но перехоронить всех ему все равно б не удалось, на это у него не хватило б ни времени, ни сил — за каждым гробом шли сотни и тысячи живых, и жизнь, вопреки всем стараниям Ягора, ничуть не убывала, а спокойно шла дальше; Ягор же так и оставался в стороне от нее со своей перекинутой через плечо грязной, измочаленной веревкой и сверкающим, как его ненависть, заступом. Если он хотел овладеть жизнью, следовало действовать как-то иначе, найти какой-то иной путь — просто так своего места ему не уступил бы никто. Как он мог надеяться на кого-то другого, когда ему ничего не оставил и родной отец? Поэтому, узнав о строительстве железной дороги, он бросил веревку и заступ в наполовину вырытую могилу и не оглядываясь ушел. О железных дорогах и поездах он уже слыхал — в свое время и его отец работал на железной дороге где-то около Поти; но он с самого начала избегал идти по стопам отца. Состязаясь с отцом, он все-таки никогда не взялся б за дело, от которого тот ушел, словно заработать что бы то ни было после отца ему было невозможно. Отец Ягора не был ленив, но и заниматься чем бы то ни было понапрасну никогда не стал бы, — получив от любого дела все, что оно могло дать, он тут же уходил; он считал, что человеку бог дал столько же способов добывать деньги, сколько волос на голове. «Оно отчасти и хорошо, что крестьянин остался без барина и без земли! — говорил отец Ягору. — Сейчас он хоть поймет, что способен не только землю ковырять… Сейчас жизнь принадлежит предприимчивым». От отца же Ягор знал и то, что зазорных дел нет. Почти постоянно оторванный от семьи, человек этот не гнушался ничем — он и овец стриг, и лес сплавлял, и грузчиком был, и с горцами табуны на Северный Кавказ перегонял; в конце концов он разбогател в Батуми и там же умер. Его семья так и не смогла точно выяснить, убили ли его там, или он умер естественной смертью, и правдой или сплетней было то, что рассказывали о нем такие же, как он, оторвавшиеся от семей, двинувшиеся на заработки люди. Человек, принесший им известие о смерти отца, был молчалив, как разбойник, — могло показаться, что он не сам пришел к ним с известием, а был приведен для допроса. «Кого удивишь сейчас смертью? — сказал этот человек, уходя. — Я вот выйду отсюда и тоже, может, кого-нибудь убью, а может, и меня убьют…» И все же Ягора потрясла не столько смерть отца как таковая, сколько сплетни о нем, пришедшие в деревню вместо него самого. Несмотря на то что в контрабанде и спекуляциях он ничего не смыслил, сплетни эти показались ему многозначительными и заманчивыми, а главное, еще тесней сблизили его с отцом, которого он всего-то два-три раза в жизни и видел, который раз в несколько лет возвращался домой для того только, чтоб на следующий же день уехать опять, еще раз убедившись в том, насколько чужды и не нужны ему и жена и сын. Но это Ягор понял лишь потом, когда до него дошли слухи о смерти отца. Понял он тогда и то, каким бременем висели всю жизнь они с матерью на шее этого человека, который был обязан любить их, хотя в действительности лишь выиграл бы, если б их не было вообще. Но злобы против отца это у Ягора не вызвало — напротив, он сразу же понял и простил его, ибо в глубине души почувствовал, что сам и вовсе не стал бы интересоваться таким вшивым семейством, если б, как отец, жил в лучшей гостинице Батуми с шикарной танцовщицей-гречанкой, имел собственный выезд и привык, чтобы швейцары ресторанов говорили ему не «куда прешь?», а «добро пожаловать, сударь!». Греческая танцовщица была, по слухам, такой красавицей, что обыскивать ее не смел ни один полицейский, — а она-то, значит, прятала контрабанду в таких местах, что и сказать стыдно… Так что действительно ли отец покончил с собой, предварительно выбросив свою гречанку в окно, или обоих их пришиб в постели другой любовник красавицы, было не так уж важно. Главным было другое — то, что отец, мужичье отродье, сумел все-таки хоть ненадолго выйти в люди, доказать, что все созданные богом равны, что и мать богача, и мать бедняка беременеют совершенно одинаково, что богатство и бедность зависят исключительно от слепого случая и удачи. С этого дня Ягор боготворил своего отца и, подражая ему, не гнушался ничем, из чего можно было хоть что-то извлечь, ничем, что могло хоть немного продвинуть его вперед — то есть поднять наверх! Тут, по эту сторону Сурамского хребта, птица удачи была, видимо, иной, чем по ту; и все-таки достичь того, чего его отец достиг там, Ягору надлежало именно тут — он был уверен, что там отец не оставил ему ничего. Да и трудно было поверить, что сыну повезет там же, где уж раз повезло отцу. Можно было подумать, что Ягор и его отец разделили между собой Грузию, словно царь Ираклий с внуком, и каждому из них предстояло показать себя именно на своем малом поприще, на своем ограниченном участке — а будь их поле деятельности более обширным, но общим, обоим пришлось бы туго. Поэтому-то Ягор и нанялся на железную дорогу тогда лишь, когда она миновала Сурамский хребет. Правда, и с железной дорогой ему повезло не слишком: приехав в Тбилиси, он был снесен назад, как неумелый пловец сильным течением; и все-таки он продвинулся на шаг вперед, и все-таки его положение изменилось к лучшему! Как бы то ни было, теперь он хоть не держал в руке заступа; и если раньше ему подчинялись лишь мертвецы, то теперь от него зависела судьба почти сотни рабочих и их семей. В его обязанности входили, правда, лишь надзор за работой, хранение инструмента и раз в неделю выдача жалованья, но в глазах рабочих он был большим начальством, местным царьком, строгим и справедливым, как господь бог, всегда точно знающим, кто что ест, что пьет и с кем спит. Он проверял и оценивал их работу; и за своими деньгами они стояли в очереди перед его смахивавшей на собачью конуру будкой…
— Ты, братец мой, всю неделю пьянствовал, двадцати копеек и то не наработал… Дать тебе сейчас рубль-два просто так, задарма — ты ж еще хуже сопьешься! Тогда-то тебя не то что семья голодная, а сам господь бог работать не заставит! Что, не так? — спрашивал Ягор, сидя в двери будки и держа на коленях расчетную книгу.
— Истинную правду говорить изволите! — поддакивали сокрушенные его прозорливостью и справедливостью рабочие.
Мало ли они получали, много ли — деньги эти шли через Ягора, выдавались им, и рабочие воображали, что без него они остались бы вовсе без хлеба. Поэтому его не только боялись, но и почитали. Постепенно Ягор стал необходимым и для их семейной жизни: ему они рассказывали все, что с ними случалось, все, из-за чего они ссорились, ненавидели или любили друг друга. Лишь один человек глядел на него с сомнением: втихомолку, за спиной он предупреждал других, что Ягор их всех погубит. Но ему не верили, верней, его просто не слушали. Слушать его у них не было ни времени, ни охоты: мысль о ссоре с Ягором страшила их больше всего на свете.
Ягор знал, что в бараках у него есть враг, но пока что он закрывал глаза, не снисходил до него. Возможно, впрочем, что этого врага он и побаивался… жену его он, во всяком случае, никогда не возил «на дело» в гостиницу в Телави, как других женщин, и получку ему всегда выдавал точно до копейки. Но помимо этого, без ведома Ягора в бараках и мышь пискнуть не смела! Женщины спрашивали у него раньше, чем у собственных мужей, сохранять им беременность или нет.
— Чем больше щениться будете, тем лучше! — отвечал он женщинам. Грязная, жидкая бороденка липла к его темным скулам, как запекшаяся кровь, и было нелегко понять, презрением или сочувствием блестят его зеленые глаза, жалеет он этих женщин или высмеивает. — Наша сила в многолюдстве! Чем больше нас будет, тем больше денег мы выудим у богатых, тем скорей разбогатеем сами… — проповедовал он откровенничавшим с ним женщинам.
Он вовсе не издевался над этими невежественными, несчастными существами — он нуждался в них, только чтоб издеваться над жизнью! Должность надсмотрщика пробудила в нем прежде всего волю к борьбе. Он и сам не заметил, как в нем родился другой — верней, даже не другой, но новый, обновленный Ягор, объявивший войну не на жизнь, а на смерть той жизни, к которой с таким трепетом и дрожью тянулся Ягор прежний… жизни надушенной, нежившейся в пене шелка, атласа и парчи, но ни старым, ни новым Ягором нисколько не интересовавшейся, не желавшей признать его достойным себя, бросить из окна своей хрустальной башни веревочную лесенку и ему. Поэтому-то и было необходимо, чтоб жизнь эта, как говорил новый Ягор, сама до него опустилась, сама стала достойной его! Приняв такое решение, новый Ягор окончательно победил старого и вновь стал человеком единым, но более, чем прежде, упрямым, сильным, коварным и беспощадным, человеком, для которого все средства были чисты и хороши, если они сулили успех.
Выбраться из дерьма Ягор рассчитывал на костях своих новых подданных: как прежде покойники, так теперь и эти люди нужны были ему лишь для продления собственного существования до лучших времен. Ибо он был твердо уверен, что одно место в той, хорошей жизни после смерти отца осталось незанятым и по праву принадлежит ему, только ему, законному и достойному наследнику своего отца!
Итак, не считая одного-единственного исключения, во владениях Ягора был полный порядок, основанный на его божественной справедливости. Впрочем, в убогих рабочих бараках Цнори не случалось ничего такого, чего не происходило бив куда более известных городах и странах. И все-таки один смутьян нашелся! Не сумев привлечь на свою сторону никого другого, он однажды, напившись до бесчувствия, ударил увлеченного своей проповедью Ягора топором по голове и этим лишь еще больше возвысил его в глазах людей, ибо то, что они в тот вечер увидели, действительно превосходило любое чудо. Расскажи им это кто-нибудь со стороны, они в это, хоть умри, не поверили б, но еще невозможней было им отрицать то, что они видели собственными глазами. Восседая на холмике гравия, Ягор рассказывал рабочим о соблазнах богатой жизни. По его рассказам получалось так, что погреба, набитые французскими винами, дома в позолоте, хрустальная и фарфоровая посуда, полные цветов коляски, красавицы в тонких, как паутинки, платьях — все это было ничьим и нетерпеливо дожидалось появления ста — двухсот измученных, оборванных, вымазанных в грязи и мазуте людей, которых сам-то Ягор и людьми не считал!
Они слушали его так внимательно, что никто не заметил, как пьяный мятежник подкрался к нему сзади. Они не услыхали даже шороха гравия — и все-таки все (кроме самого Ягора) одновременно увидали, как подкравшийся выхватил спрятанный под рубахой топор, чтобы изо всех сил ударить Ягора по голове. А тот все еще говорил, не разглядев по лицам людей подстерегшей его опасности. Возможно, впрочем, он ее и разглядел, возможно, он даже заранее знал, что произойдет, но ни пугаться, ни бежать и не подумал. Бояться ему было нечего — наоборот, он явил людям чудо и тем самым доказал им свою неуязвимость. Голова Ягора отразила ударивший по ней со всего размаха топор — от нее лишь искры посыпались, как от булыжника при ударе лошадиного копыта. Глаза пьяного вылезли на лоб, и он сразу так протрезвел, словно в жизни в рот ничего не брал, кроме материнского молока! Будь он пьян по-прежнему, он испугался б не так сильно, но он не выбросил топор, а выронил его, не сам встал на колени, а они у него подкосились. Он не удержался и на коленях и, уткнувшись лицом в гравий, покатился с холмика; но Ягор и не шевельнулся, даже не провел рукой по голове — он по-прежнему восседал на холмике гравия, словно разгневанный бог перед провинившимся народом. Внезапно люди сорвались с мест и набросились на засыпанного гравием мятежника… не мятежника уже, а протрезвевшую и понявшую неизбежность своей гибели жертву. Ягор не шевельнулся и тут. «Убейте и его… и его тоже!» — грозил, умолял мятежник, выплевывая изо рта мелкий гравий; а люди втаптывали его в этот гравий все глубже и глубже. Потом у кого-то в руках блеснул лом; кто-то рассек ходивший под ногами гравий острием заступа. Но Ягор не пошевелился и теперь, он все так же сидел с другой стороны холмика, как бы не зная, да и знать не желая, что происходит за его спиной. Жертва не кричала, уже даже не двигалась, но люди по-прежнему молчаливо и упрямо топтали то место под гравием, где должно было находиться тело. Казалось, что они не человека убивают, а возятся с какой-то работой! Потом все стихло, но не кончилось. Все молча ждали, не зная, как им быть, какой карой грозит им это совместное убийство…
— Теперь убирайтесь и хорошенько запомните, что вы тут натворили! — сказал им Ягор.
До администрации случившееся не дошло — убитый по-прежнему числился на работе, и на него выписывались деньги, которые Ягор и вдова честно делили пополам.
Время шло, природа обрастала новой кожей и новыми волосами; постепенно она привыкала и к железной дороге, осваивалась с ней, как мать с украшениями, подаренными ею взрослыми детьми, но к ее возрасту и одежде совершенно неподходящими. Проповедь же Ягора так и оставалась проповедью: как и множество других учений, она имела то странное свойство, что лишь обещала, но ничего не давала, призывала к борьбе, но одновременно обрекала на еще большие терпение и покорность. Люди по-прежнему слушали то, что слышали от него уже десятки раз; но от прежнего внимания и любопытства не осталось почти ничего — теперь между пастырем и приходом возникло если не недоверие, то уж во всяком случае равнодушие. «Это не люди, а скот! — думал Ягор. — С ними мне не по пути. Им только б кого-нибудь в землю втоптать — меня или кого другого, безразлично!» После убийства он совсем охладел к своим подданным. Его ужаснула их рабская, бескорыстная суровость и беспощадность — но он, конечно, понимал, что малейшее проявление этого страха тут же б его погубило. Чего только с ним не приключалось, через какую только грязь он не пролезал, в какие щелочки не пробирался, но ничего похожего на эту историю он не видел еще никогда. Главным, поразившим его больше всего, даже сбившим его с толку было то, что эти люди ничего не хотели, — как трава, которой все равно, кто на ней будет пастись, кто ее вытопчет или скосит! Свобода и богатство интересовали их столько же, сколько его самого надзор за их работой, или еще даже меньше. Его слова они слушали не потому, что понимали или одобряли их смысл, но потому, что считали себя обязанными слушать, а точней — стоять и молчать, когда он этими словами сгонял их в кучу, словно скотину плетью. Они инстинктивно ощущали, что им необходимо держаться всем вместе, потому что у них нет ничего своего — ни лица, ни голоса, ни желания, ни мечты… Каждый из них в одиночку и мухи не убил бы, а все вместе они могли не задумываясь совершить любое преступление, ибо тем же инстинктом чувствовали, что смысл всего их существования — в способности к общему греху и в бурной, болезненной, почти сумасшедшей жажде искупления. Поэтому тем, кому потаскуха судьба поручала надзор за этими людьми, необходимо было прежде всего, прежде жалованья, доставлять им возможность греха и искупления! За это они будут терпеть все: и воровство из их скудных заработков, и торговлю их женами и дочерьми — ибо по их вере и это входило в искупление. «А что с них взять? — думал Ягор. — Конечно, это не то, чего я хочу, и все-таки лучше того, что у меня было…» Может, он и вправду был достоин лучшего, но считать себя совсем уж обделенным судьбой с его стороны было бы просто свинством — у него были и доход, и власть. Правда, большую часть этого дохода ему приходилось возвращать в административные дебри, но взамен-то из этих дебрей и выходила его власть! Тут, на месте, у него начальников не было. Лишь изредка в его владения вторгался какой-нибудь инспектор или представитель Красного Креста, чтоб тоже урвать у него целковый-другой. Один для виду перелистывал книги; другой наскоро обрызгивал мусорные свалки водой с известью — этим вся их деятельность и кончалась.
— В стране холера, голубчик… холера! — говорил представитель Красного Креста, уже убегая вместе с инспектором в другую сторону, чтоб и там погреть руки на грязи мира…
А он оставался в своем маленьком мирке, в собственном крошечном царстве, слишком еще слабом для того, чтобы покорять соседей, и все-таки заставлявшем их уже учитывать и признавать его, даже торговать с ним. Танцовщицы-гречанки в батумской гостинице, как у отца, у него, конечно, не было, но гостиница в Телави с ликованием встречала его каждый раз, когда он со своими девками появлялся у задней, открытой лишь для своих двери. И все-таки он ни на миг не допускал, что это предел его возможностей, ни на миг не переставал ругать судьбу — чтоб она не сочла его удовлетворенным, не скинула его со своих счетов окончательно! Он был отчасти уже связан с миром, в который его так тянуло, но связан еще только как мышь с человеком: места и прав в этом мире у него было столько же, сколько у мыши в человеческом жилище. В сущности, и это было не так уж мало! Сейчас он уже четче, ясней слышал и ощущал шум, гомон, аромат той жизни, но близость эта была ему так же тяжка, как мыши близость темной, затихшей, пропитанной запахами божественных блюд кухни. По ночам он тоже проникал в тот мир; днем же он, как мышь, ютился в своей норе, и над его головой шумела жизнь — смелая, веселая, беззаботная, не испытывавшая от его ночных похождений никакого ущерба. Похищенных им крошек она и не замечала, а если обнаруживала на чем-либо следы его зубов, то попросту выбрасывала весь кусок на свалку — выбрасывала без малейшей жалости, испытывая лишь брезгливое, холодное презрение. Это бесило, терзало, мучило его; но своим безошибочным мышиным чутьем он чувствовал, что оставаться в норе скоро станет для него опасней, чем выглянуть наверх, порезвиться на палубе, до тех пор служившей жизни полом, а ему крышей. Покинуть свою нору Ягору пришлось даже раньше, чем он рассчитывал, но не для прогулок по палубе, а для того, чтоб найти нору еще поглубже и понадежней…
В тот вечер он, как всегда, лежал навзничь на нарах из неструганых досок и, погрузившись в мечты, проклинал свою судьбу, впившись глазами в потолок, от дождей покрывшийся пятнами.
— Выгляните на минутку, будьте добры! — послышался ему вдруг женский голос.
Голос этот показался Ягору знакомым; нежный, ласковый и вместе с тем требовательный, он был из «той страны», из «той» жизни. Ягор вскочил с нар, как новобранец при звуке боевой трубы. Перед дверью будки стояла какая-то женщина в черном. Лишь сейчас он заметил, что на дворе уже ночь; в ноздри ему бросился запах дыма. Застывшие тени бараков, казалось, жались друг к другу, как бы сливались в одну тень.
— Кто такая? Чего нужно? — крикнул он женщине, словно желая спугнуть призрак.
— Я из семьи Макабели, из Уруки. Мне нужно видеть инженера-путейца, — ответила женщина и оглянулась по сторонам, словно ожидая увидеть кого-то и удивившись тому, что его тут нет. — Мне на вас указали… говорят, вы знаете, — продолжала она, как бы извиняясь перед Ягором и устремив на него ищущий, умоляющий взгляд.
Но Ягор не видел лица женщины: его стер мрак. «Нарочно ко мне отправили, а теперь ждут, как я поступлю. Сквозь все щелки за мной наблюдают! В темноте сидят…» — подумал он.
— Макабели? Какие такие Макабели? — спросил он вслух.
По-прежнему не видя ее лица, он почувствовал, как ее смутил этот простой вопрос. Стоя в темноте, она колебалась, словно с трудом вспоминая своих родных.
— Отец торгует вином… Инженер-путеец у нас был, он нас знает, — с трудом выговорила женщина. — Он у нас зимой был… да и сегодня, на похоронах деда, тоже, — поспешно добавила она.
«Или врет, или чокнутая!» — подумал Ягор.
— Так вы, значит, торговцы? — спросил он вслух.
— Нет! — почти выкрикнула женщина, словно вдруг погнушавшись этим словом, почти даже обидевшись. — Наша семья княжеская, — сказала она дрожащим голосом. — Торгует только отец. Дедушка был майор. Один мой брат в России учится, другой гуляет… веселится! — Но ее смех был деланным, это Ягор заметил сразу, без труда.
«Смеется! Надо мной смеется…» — подумал он.
— Погоди-ка, я лампу зажгу. Посмотрим, что нам за княгиню бог послал! — громко сказал он.
— Мне нужен инженер-путеец. Может, вы скажете, как мне его найти! — сказала женщина. Теперь в ее голосе уже ясно слышалось волнение.
«Скажу… все тебе скажу, раз уж ты сама пришла!» — подумал Ягор, входя в будку, слившись с темнотой будки.
— Тебе какого инженера? Тут инженеров много! — крикнул он из темноты.
Женщина почувствовала, как учащенно забилось ее сердце, — лишь сейчас она впервые поняла, что не знает даже имени человека, в надежде на которого покинула отцовский дом. Страх вырос откуда-то из-под земли, заполз к ней под платье, обвил ее своими сильными, слизистыми щупальцами. Прорезь в двери медленно осветилась, заполнилась желтым светом, и она отчетливо увидела обращенное к ней лицо — лицо не мужчины, а дьявола; именно таким она представляла себе дьявола по рассказам матери и няни! Он обеими руками опирался о стол; перед ним стояла зажженная лампа, и казалось, что его подбородок опущен прямо на нее, чтоб ей были видней его зеленоватые глаза под веками без ресниц, удлиненные веснушчатые скулы, взъерошенная жиденькая бороденка и огненно-рыжие волосы.
— Заходите, сударыня… — услыхала она голос мужчины.
«Заходить не надо… нельзя!» — подумала она, входя в будку, внося туда с собой те же вцепившиеся в ее ноги слизистые щупальца страха. Она чувствовала, что сейчас с ней произойдет что-то необычное, но неизбежное, обязательное, заслуженное. Она не пыталась спастись — она просто стыдилась своего дурацкого поведения. Что ж это, в самом деле, такое? Она заявилась к незнакомому человеку, обеспокоила его, может, даже разбудила — и все лишь для того, чтоб задать ему глупую загадку: ищу, мол, сама не знаю кого, отгадай-ка ты…
— Его зовут Нико, — сказала она вдруг. — Да, кажется, Нико… как моего брата… — Одна ее нога стояла уже внутри будки.
— Нико, говоришь? — нахмурил лоб мужчина. — Я знаю Мито… он иногда на наш участок приезжает. Он в Телави живет… в казарме.
— Это он, он… я, кажется, ошиблась… — Она обрадовалась и тому, что оказалась не совсем обманщицей, что какой-то инженер-путеец по имени Мито все-таки действительно существует. «Мито…» — повторила она про себя. Она уже стояла внутри будки, у раскрытой двери. Во всю длину одной из стен протянулись узкие нары; у одного конца нар стоял стол из неструганых досок, у другого — железная печка. Остального пространства едва хватало на то, чтобы в нем мог повернуться один человек; второй, кем бы он ни был, был тут лишним, мешающим. Вероятно, и воздух в будке был рассчитан на одного. По-прежнему опираясь руками о стол, мужчина не сводил с нее глаз. «Хе-хе…» — коротко усмехнулся он, как бы прочищая горло. Позади нее была темная, пустая, зловеще притаившаяся ночь. Отойдя хоть на шаг назад, она оказалась бы среди ночи, затерялась бы, скрылась бы от отливающих зеленью глаз мужчины.
— А дома у вас дверей нет? — спросил он с улыбкой в голосе.
— Ой, простите… — смутилась женщина, закрывая за собой дверь.
От жары и тесноты у нее сразу закружилась голова. Единственный возможный путь отступления она отрезала себе сама, собственноручно. Повернувшись, она чуть было не наткнулась на мужчину. От смущения она не знала, как ей быть, что сказать, — этот чужой мужчина был настолько рядом, что и дышать было неудобно. А его лихорадочное, пахучее, липкое, тяжелое дыхание заливало ей лицо, словно горячий пот…
— Заходите, присаживайтесь… гостя бог посылает! — сказал мужчина внезапно изменившимся, жутко охрипшим голосом.
Он схватил ее за руку выше локтя и почти насильно усадил на нары.
— Это мамино… я его люблю, — жалобно улыбнулась женщина, поправляя смявшееся на плече платье.
Мужчина присел рядом с ней; его большие, багрово-красные руки лежали теперь у него на ляжках.
— Я что, хуже твоего инженера? — спросил он и снова коротко, неприятно усмехнулся. — Тут, правда, тесновато… но отдохнуть можно и тут…
— Ну что вы… я вас и так обеспокоила… — Она попыталась встать, но мужчина положил ей на плечо свою руку, горячую, тяжелую, опасную. — Мне надо повидать его сегодня же… дело неотложное! — беспомощно дернулась она.
— Дело твое все равно хотя бы до утра отложить придется, — сказал мужчина. Его рука все еще лежала у нее на плече. — Ну-с… а теперь говори правду: кто ты такая и кого ищешь в такую темень? Прогнал тебя муж или ты сама от него сбежала? Не бойся, мне можно сказать все… — Женщина удивленно взглянула на него. — Значит, ты предпочла его мужу, даже имени не спросив? Хе-хе… вот это, я понимаю, женщина!
Она сидела, вся съежившись, словно и не слыша его слов. Плечо, на котором лежала его тяжелая, горячая рука, взмокло от пота — сейчас она стыдилась и этого, боялась увлажнить его руку. Словно почувствовав это беспокойство, мужчина убрал руку с ее плеча, но убрал недалеко: теперь он просто обнял ее, силой привлек к себе. «Не бойся… не бойся!» — срывающимся голосом шепнул он ей на ухо. Его нога так сильно дрожала, так прыгала по полу, словно собралась бежать куда-то одна, без него. «Помоги мне сейчас… только сейчас, сейчас…» — мысленно попросила кого-то женщина.
— Ты что, ничего не чувствуешь? Меня ты, значит, ни в грош не ставишь? — взревел вдруг мужчина, опрокидывая ее на нары.
Он, конечно, замышлял покорить ее, но не так скоропалительно. Он рассчитывал, что все произойдет само собой; но равнодушие и спокойствие женщины его взбесили. Она вела себя так, словно он и догадываться не мог, для каких темных дел она вышла из дому, какие темные дела заставляли ее шляться в такую темень наподобие мартовской кошки! Его она просто не считала мужчиной, одним из тех мужчин, оставаться с которыми наедине женщины если не боятся, то хоть остерегаются… его она принимала за своего покорного раба, обязанного и без слов догадаться, кого ей нужно разыскать и привести! «Знаю я вас всех… ты-то и имя мое забудешь! Никому признаться не сможешь — постыдишься… Такого тебе ни муж, ни любовник никогда не простят!» — злобно думал он. На мгновение он все-таки ощутил какую-то помеху, задержку, но отступить уже не смог. Под материнским платьем скрывалось ошеломляюще слабенькое, беззащитное, еще не созревшее детское тело. Девочка и не вскрикнула; и все-таки Ягор прикрывал ей рот ладонью — должно быть, инстинктивно, помимо собственной воли.
— Так и знал, что без крови нам не обойтись… — сказал он немного погодя.
Он стоял на коленях и, все еще тяжело дыша, глядел на девочку в задранном до подбородка платье. Девочка лежала неподвижно, с застывшими глазами, холодная и бесчувственная, как кукла.
— Почему ты меня не предупредила? А? — крикнул Ягор.
На лицо девочки падал свет лампы; ее пустые, застывшие глаза блестели, как осколки стекла. Ягор невольно отвел взгляд. «Не померла б еще…» — тревожно подумал он, слезая с нар.
— Сама виновата! — сказал он, повернувшись к ней спиной и застегивая брюки. — Ты-то, конечно, рада все на меня свалить… — притворно усмехнулся он. При этом, однако, его лицо не изменилось, словно у него было второе лицо, скрытое под первым, грубым и безмолвным, как глиняная маска, и лишь это второе лицо и смеялось. — Не знаю, как ты, а я проголодался… — вновь повернулся он к девочке. — Интересно: ты-то чего на меня дуешься? Такая уж, значит, у тебя судьба… — Он опять попытался засмеяться. — Да прикройся ж ты! — крикнул он вдруг. Девочка не пошевелилась. Наклонившись к ней, Ягор прикрыл ее тело задравшимся платьем; но она лежала неподвижно, как покойница, и одна ее нога так и осталась обнаженной до бедра. — Если ты ищешь Мито, то он будет здесь утром. Должен быть… обещал, — сказал он, вновь отвернувшись от девочки. — Он, знаешь, тоже немного чокнутый, Мито твой! — усмехнулся Ягор. — Деревья спасать ушел… ради двух паршивых платанов, говорит, железную дорогу в сторону отведем. Да кто ж ему позволит? — Ягор опять усмехнулся. — Теперь не то что деревья — люди гроша медного не стоят!
Потом он долго молчал. Где-то очень далеко лаяли собаки. Она лежала на нарах, а Ягор возился у стола — так, словно ничего особенного не случилось и эта незнакомая девочка каждый вечер так и лежала, вытянувшись, словно покойница, на нарах в его будке. Нагнувшись к ящику, на котором было крупными, но незнакомыми буквами что-то написано, а над этой надписью изображен череп со скрещенными костями, он не спеша вынул оттуда огурцы и помидоры, стакан с серой, крупного помола солью, завернутую в грязную тряпицу буханку хлеба, бутылку и нож с деревянной ручкой и почерневшим лезвием. Помидоры он помыл в стоявшем на печке тазике, а огурцы очистил, медленно, осторожно, словно боясь порезать себе пальцы.
— Ну вот… это все, что есть, — сказал он, не оборачиваясь к девочке. — Вставай, поедим… Ты ж у нас хозяйка плохая! — усмехнулся он. — И водочки немного есть… мертвого оживит! — Он вытер мокрую руку о собственную грудь и щедро посолил нарезанные огурцы и помидоры в миске. Второй рукой он взялся за бутылку, зубами вытащил пробку и, понюхав, прищурился, потом он выплюнул пробку и, приложившись к бутылке, громко, основательно глотнул. — Ты б хоть сказала, как тебя зовут! Или это тоже секрет? — Он снова приложился к бутылке, еще основательней, чем в первый раз. — Меня вот зовут Ягор… — икнув, он ударил себя кулаком в грудь. — Ягор! — сердито повторил он, проведя рукой с бутылкой по обожженным водкой губам. В помещении сильно запахло водкой. Далеко, где-то очень далеко опять лаяли собаки…
Разума Аннета не теряла ни на минуту — разум оказался единственным местом, куда она могла укрыться. Едва мужчина бросил ее на нары, она тут же отказалась от своего тела и укрылась в разуме, словно население, укрывающееся во время войны в крепости и оттуда с бессильным сожалением и ненавистью наблюдающее, как враг разоряет и опустошает оставленную без защиты страну. Разум Аннеты был не в силах защитить и спасти ее тело, но он с бдительностью и добросовестностью зеркала воспринимал, запечатлевал все, что с ней происходило. «Агатия знала, что это случится… знала!» — думала она, укрывшись в разуме, с жалостью и отвращением глядя на собственное тело. Никогда еще она не видала его таким нагим, беззащитным, жутким и все-таки близким ей, как родная сестра — сестра, только что родившаяся мертвой из черных складок материнского платья. Да, платье мертвой матери родило мертвую сестру Аннеты — ничего удивительного в этом не было! Если б теперь этот мужчина ее и отпустил, даже выгнал вон, она все равно б не ушла; ее место было именно тут, возле мертвой сестры, которую он вытащил из материнского платья, как из могилы, а потом вновь спрятал в это платье, словно обратно в могилу. Она была обязана лежать тут, как надгробный камень, как опознавательный знак на могиле сестры! На мужчину она не сердилась — его присутствие мешало ей не больше, чем мертвецу пасущаяся на кладбище корова. А он хлебной коркой выгребал из миски последние ломтики. «Остатки сладки…» — сказал он, снова приложившись к бутылке; Аннета увидела даже, как двигался при каждом глотке его кадык. Потом он вышел из будки и оставил дверь полуоткрытой. Снаружи ворвались гудение стрекоз и ночная прохлада; Аннета почувствовала, как вытянувшаяся на нарах покойница покрылась мурашками. Внезапно ей вспомнился сон, верней, два смешавшихся друг с другом сна. Во сне они с Агатией шли к роднику, чтобы смыть с лица слюну Сардиона; но у родника она оказалась одна, и водой из горсти ее поил именно этот только что вышедший из будки мужчина. «Агатия знала… Агатия знала!» — упрямо твердила про себя Аннета. Мужчина вернулся и закрыл за собой дверь. У двери он помедлил, словно к чему-то прислушиваясь, потом повернулся к столу и сильно дунул в стекло лампы. Свет сразу погас, хотя по задымившемуся фитилю еще долго бегали маленькие, блестящие искорки. Аннета все-таки увидела, как мужчина вновь разрывал могилу, трусливо, нетерпеливо, как шакал! Через мгновение по ногам ее мертвой сестры еще раз скользнула холодная, как змея, рука…
Потом в будку вошли инженер-путеец и ее дед. Дед был в мундире, с подвязанной черным платком челюстью. «Да… но почему ты не сопротивлялась?» — спросил он. «Сейчас не до этого!» — сказал инженер-путеец. В стену будки лихорадочно билась жужжащая оса. Солнце стояло прямо перед лицом Аннеты — она вспотела, как спеленатый в колыбели младенец. Потом она почувствовала резкий запах конфет и увидела Дусу. «Надо было ударить его ногой в пах, дурочка… я ж тебя учила!» — сказала Дуса и положила ей в рот конфету. Аннете хотелось выплюнуть ее, но это ей не удавалось — не хватало сил; и пальцы Дусы впихивали конфету обратно. «Я думала, что твоего отца паралич разобьет!» — говорила Дуса. «Сейчас не до этого… не до этого… не до этого!» — твердил где-то за ее спиной инженер-путеец. «Надо все-таки возбудить дело…» — отвечал ему дед Аннеты. «Значит, он существует на самом деле. Пришел ведь… пришел все-таки!»— думала Аннета, выталкивая языком конфету, стараясь как-нибудь вытолкнуть ее изо рта — слепо, инстинктивно, как только что вылупившийся кукушонок выкидывает из гнезда птенца своей приемной матери. «Это мне назло, мне… чтобы мне досадить!» — говорила Дуса. Потом она вместе с дедом, инженером-путейцем и Дусой сидела в коляске. У нее кружилась голова, в глазах рябило, дыхание захватывало так, словно она, стоя на качелях, должна была вот-вот оторваться от них, улететь, навсегда исчезнуть в сверкающем пространстве. Она не могла понять, радостно это ей или страшно; и все-таки она ясно ощущала все окружающее, ощущала и то, что сидит в коляске между Дусой и путевым инженером, обессиленная, изможденная, беспомощная! А прямо перед ней сидел ее мертвый, сердитый, насупленный, багровый дед. Коляска легко покачивалась в мягкой пыли; лошади, мерно стуча копытами и пофыркивая, мчались в далекое прошлое, в детство Аннеты — казалось, все еще длится тот день, когда Александра везли домой из больницы, и сердце Аннеты сжималось от страха, жалости и печали, овладевших ею тогда при виде брата. Коляска, спокойно покачиваясь, катилась вперед, словно и она была той же самой — пропахшей больницей и лекарствами, вместившей в себя одновременно и радость, и печаль, и счастье, и несчастье, и красоту, и уродство. И дорога была все та же, сверкающая белизной, затененная лениво покачивающимися ветками, без конца извивающаяся между радостью и печалью, счастьем и несчастьем, красотой и уродством! А вокруг нее чередовались те же окрестности, те же обрывы, рощи, деревни, изгороди и заборы… казалось, даже осел, оцепенело стоявший вдали от дороги и упрямо глядевший в потрескавшуюся от засухи землю, был тот же, что и тогда. Коляска, покачиваясь, катилась вперед, и еще одна жизнь покрывалась горячей, мягкой пылью вечной дороги, вот и все.
А потом она сидела под липами с закутанными в плед ногами, и тут ей было знакомо все: и двухэтажный дом, и хлев, и железные ворота, и бесконечный треск барабана. Двор был полон дорогими для нее видениями, навек оставшимися внутри этой ограды, не сумевшими уйти отсюда и после смерти. Вокруг сидящей под липами, неподвижной, как кукла, Аннеты без конца кружились тени трех женщин: матери, бабушки и няни. Все три явно хотели забрать ее с собой, но подойти к ней поближе все-таки не решались или не могли — они были как бы подвешены на невидимых нитях, и воздух двигал их как хотел. «Иди к нам!» — махали они ей руками. Но уйти к ним она не могла: ноги ей больше не подчинялись; и, бессильная что-либо сделать, она лишь примирительно, успокаивающе улыбалась, как бы говоря: «Куда уж мне к вам — я и так с вами…» А братья ее в этом дворе были вновь маленькими, вновь то карабкались на липы, словно стремясь дотянуться до неба, то тщетно старались угнать двуколку доктора Джандиери. Аннету они не замечали и сейчас, настолько увлекали их эти игры. Зато заменивший их человек навещал ее часто. «Ты только поправляйся, выздоравливай… и прости меня!» — умолял он ее глазами, как богомолец икону. Смотреть на него Аннете было приятно; она улыбалась и ему, примирительно, успокаивающе, как старой и рухнувшей мечте. Так шло время. Каждое утро Дуса и Петре, если не было дождя, выносили ее во двор вместе со стулом — и она, как спокойный, послушный ребенок, сидела под липами до тех пор, пока за ней не приходили. «Посажу тебя, бывало, среди подушек — и сидишь, ножкой не двинешь, даже если б я тебя и вовсе забыла…» — говорила ей тень Агатии. И Аннета уж не сердилась на нее, как сердилась два-три месяца назад, когда то же самое говорила ей Агатия живая, — сердилась, потому что и сама была еще жива и, как любой подросток, зло, раздраженно пыталась утаить в себе все врожденное, характерное, основное! Но чтоб она это поняла, должна была умереть и последняя ее наставница; сама же она, оставшись одна, должна была при первом же выходе из дому броситься под колеса жизни, стать жертвой своей мечты, своих беспокойных, как стригунки, ног…
А оставшаяся за оградой жизнь шла дальше, шла своим чередом, и судьба девочки, превратившейся из-за ее грубости и слепоты в мертвую куклу, ничуть ее не печалила. Все так же текла, катилась по своему бескрайнему руслу медленная серая река. Один брат куклы по-прежнему бряцал кандалами в своей ледяной темнице; а другой, отвергший отца и деда, назло им обоим, строил возле преобразованного в больницу монастыря собственный дом — строил, не щадя ни себя, ни обоих людей, с которыми он (опять-таки назло отцу и деду!) связал свою судьбу. Все трое трудились как волы. Александр рыл яму под фундамент, а Маро и ее отец в больших плетеных корзинах таскали из оврага камни.
— Он сумасшедший… чтоб мне с места не сойти! — говорила отцу Маро.
— Еще бы! — отвечал ей грязный от пыли старик, едва ступая под тяжестью корзины.
Таская камни и днем и ночью, отец с дочерью уже ненавидели, как смерть, это вечно прохладное, вечно журчащее ущелье, по дну которого текла разветвленная на четыре рукава речушка. Четыре голеньких сестрицы без конца лопотали на своем непонятном людям языке что-то очень интересное и смешное. Время от времени из кустов взлетала сорока, и ее хохот долго разносился по всему ущелью. Но отец с дочерью не обращали внимания ни на плеск ручьев, ни на хохот сорок, как не обращают внимания на насмешку и вызов слабые, трусливые дети; угрюмые от злости и усталости, с лицами, набухшими, как воспаленные нарывы, они молча шли по дну ущелья, сгибаясь под тяжестью корзин с камнями. Они знали, что, достигнув цели, должны будут возвращаться назад, и черт знает сколько раз еще — пока, видимо, не свалятся совсем у ног этого помешанного, единственная рука которого орудовала лопатой так ловко, что это рождало в людях уже не удивление и восторг, а просто страх! Еще трудней было ходить по ущелью в темноте — они без конца спотыкались на невидимых буграх или, оступившись, шлепали по воде. К тому же ночью им было страшно. В приглушенных, непонятных, вместе с ними похороненных в темноте звуках им чудилось бог весть что…
— Тебе, дочка, не страшно, а? — нарочито громко спрашивал гробовщик, сам напуганный, пожалуй, еще сильней, чем Маро. — Кому мы с тобой нужны? Нас тут не видно — не то мы с тобой и самого черта напугали бы, — притворно смеялся он, чтоб некто несуществующий, живущий лишь в его воображении, не подстерегал их, понял, что о них и рук марать не стоит… понял заранее, еще и не приблизившись к ним.
— Чтоб мне с места не сойти… чем я хуже других? — сказала в один прекрасный день Маро, едва освободившись от корзины и стряхивая свою косынку. Ее отец, от пыли белый, как мельник, тяжело дышал, сидя у груды натасканных им камней и даже не сняв еще со спины собственную полную до краев корзину. — Чтоб мне с места не сойти! — раздраженно повторила Маро. Стоявший в яме Александр копал, и к поднявшемуся рядом с ним холмику без конца прибавлялась свежая, еще прохладная и черная земля. — Я тебе говорю! Чем я хуже других… почему ты меня в ослицу превратил? — крикнула Маро в яму.
— Не заставляй меня вылезать! — сказал Александр, не поднимая головы.
— Да чем я хуже твоей сестры? — не отставала Маро. — Мы-то тоже кое-что знаем… — Она взглянула на отца, как бы призывая его в свидетели.
Старик сидел все так же неподвижно, словно привязанный к груде камней. Его глаза, глядевшие на дочь снизу, казались совсем пустыми, но едва заметная тень страха в них все-таки кружилась, словно летучая мышь в пустой церкви. На его белых от пыли губах виднелся влажный след языка; с грязных, лохматых волос стекали ручейки пота.
— Что? Что ты знаешь? — крикнул Александр. Он перестал копать, но на Маро и не взглянул. Слегка согнувшись, он уставился на дно ямы, словно обнаружил там горшок, полный золота, и, глядя на него, все еще не верил своим глазам.
— Что знаю, то и знаю… то, что все говорят! — сказала Маро, вытирая шею и затылок своей старенькой косынкой.
— Что все говорят, дура? — повернулся к ней вышедший из терпения Александр.
— Да не слушай ты ее… сам ведь знаешь: дура! — сказал ему гробовщик. — Сколько раз тебе говорил — держи язык за зубами! — крикнул он дочери. От усталости он даже поленился или не сообразил снять со спины корзину.
— Не я, так другой скажет! — воскликнула Маро. — Потом еще сам придерется — почему-де от меня скрыли! Чтоб мне с места не сойти…
Александр вылез из ямы — дурное предчувствие подкинуло, выбросило его из нее, как лопата камень. Он с недоброй усмешкой глядел то на Маро, то на старика, но, помалкивая сам, не заставлял говорить и их, словно чувствуя, что не готов выслушать то, что ему придется слушать, что уже вертится на языке у его верной подруги. Вот-вот она откроет свою уродливую пасть, и тогда будет поздно — никакая в мире сила не остановит уже желчи и яда, готовых вылиться из темных глубин души Маро! Александр даже не мог зажать себе обоих ушей — одной руки для этого было мало. «Может, и вправду заткнуть ей глотку… вырвать ей язык до того, как она заговорит?» — быстро, лихорадочно думал он, подобно человеку, попавшему в беду и имеющему считанные секунды на размышление. «Это потому, что я боюсь! Я трус… добряк и трус!» — нарочно взвинтил он себя.
— Что ты, кроме гадости, сказать можешь? Говори уж, кончай — кого еще вы с отцом на тот свет отправить решили… кого еще грязью забросать хотите? — сказал Александр, все так же усмехаясь и напряженно прислушиваясь к собственному голосу, стремясь, чтоб голос не выдал его страха и волнения.
— Слышишь, отец? — повернула голову Маро. — Мы, выходит, еще и людей грязью забрасываем! Да как ты нас ругать можешь, ежели у тебя сестра такая? — вновь обратилась она к Александру. — Выйди на дорогу: про нее тебе каждый скажет! Всю Цнори, говорят, ублаготворила… чтоб мне с ме… — Она не закончила фразы: кулак Александра ударил ее по зубам, как тупой конец оглобли.
Маро упала как подкошенная. «Врешь! Врешь! Врешь!» — кричал над ней Александр. Теперь он бил ее ногами, ногами заталкивал ее в зияющую яму, из которой только что вылез сам.
— Мы-то чем виноваты? За что ты нас бьешь? Чем мы провинились? — кричал гробовщик, колотя по груди своими маленькими кулачками. Ничего другого он сделать не мог — до краев полная корзина с камнями по-прежнему висела у него на спине. Он с трудом встал на ноги, но подойти к разъяренному Александру все-таки побаивался.
Маро упала в яму. «Ложь, ложь, ложь!» — кричал Александр, в бешенстве засыпая ее землей — ногами, потому что лопата находилась на дне ямы. Он ногами сыпал землю на свою верную подругу, словно хотел скрыть ее от мира, как лисица собственное дерьмо! Маро молча лежала на дне ямы, как маленький зверек, спасшийся в своей норе от крупного хищника. Возможно, она и радовалась сыпавшейся на нее земле, понимала, что лишь толстый слой земли может хорошо, надежно укрыть ее от этого человека!
Потом Александр шагал по дороге к отцовскому дому, и в нем как бы сливались воедино оба жаждущих мести библейских брата — и Симеон и Левий, с обнаженными мечами в руках стремящиеся к городу, который обесчестил их сестру…
Аннета сидела под липами и слушала голос инженера-путейца. Ее ноги были укутаны пледом. Дуса вынесла во двор стул и для инженера; заодно она прихватила полную тарелку конфет собственного изготовления. (После замужества она сластями, конечно, уж не торговала, но все-таки продолжала делать их для семьи, как другие домохозяйки — варенья и соленья.) Тарелка стояла на стуле, предназначенном для инженера, а сам он стоял, облокотившись о спинку стула. Дуса наблюдала за уединившейся в тени лип парой из окна своей комнаты, укрывшись за занавеской и затаив дыхание от любопытства. Голоса инженера не было слышно, — казалось, какая-то злая волшебница, превратив влюбленных в каменные изваяния, выставила их во дворе Макабели в назидание молодежи.
— Мы с тобой в Тбилиси поедем… к моей тете. Полечим тебя. Все будет хорошо, вот увидишь. Только… только прости меня! Я же не знал… — говорил инженер-путеец.
«Мито, Мито, Мито…» — твердила про себя Аннета, улыбаясь, как улыбается своей мечте человек, заранее уверенный, что она так и останется мечтой, никогда не осуществится, настолько она недосягаема и сумасбродна. И все же ему — возможно, именно поэтому — особенно приятно находиться в ее власти, как бы стремясь понять, где же пределы этой чарующей, бестелесной, легкомысленной хвастуньи мечты…
— Я тебя люблю, слышишь? Не жалею, а именно люблю! — говорил путевой инженер.
«Вот, оказывается, в чем мой крест…»— думал он. Он с детства знал, что каждый человек несет свой крест, чтобы в конце концов подняться на свою собственную, предназначенную ему одному Голгофу и там или навсегда исчезнуть, или начать вторую жизнь, заслуживаемую лишь делами первой и принадлежащую уже другим людям. Об этом он знал от своего отца, это ему всю жизнь внушал его отец, но до самой его смерти Мито не знал, какой же крест нес сам отец и обрел ли он право на вторую, полезную людям жизнь. Отец Мито был мелким канцелярским служащим, всю жизнь переписывавшим набело прошения и жалобы, и его голова была забита параграфами приказов и протоколов. Родственники и знакомые считали его неудачником, человеком никчемным. Это Мито тоже знал с самого детства, знал и мучился, ибо отца он обожал, но хвастаться им, как другие гимназисты своими отцами, не мог! На первый взгляд семья их была вполне обычной: некогда богатая и знатная, она если не превосходила, то и не уступала никакой другой в родовитости; но, в то время как в других семьях не смолкал гомон веселящихся гостей, человеком, впервые попавшим в дом родителей Мито, сразу овладевало острое ощущение беды, предстоящей, а может, и уж перенесенной. Так, во всяком случае, казалось самому Мито — ощущением этим сам он был охвачен больше всех. Ясно ему было и то, что избавить его от этого ощущения родители бессильны, что они плывут по течению жизни с ужасающей покорностью людей напуганных, целиком покорившихся судьбе. Вместо того чтобы что-то предпринять — скажем, просить помощи у многочисленных и влиятельных родственников, они без раздумий и сожалений продавали все, что могли, чтоб не отказывать сыну ни в чем, чтоб дать и ему возможность учиться в гимназии для благородных, ни на шаг не отставать от своих сверстников и товарищей. Мито знал, во что обходится родителям его учеба, какую цену они платят за то, чтоб и он считался человеком; поэтому учился он всегда напористо, самоотверженно, день и ночь глотая книжную пыль, — не только чтоб знать больше всех, больше всех преуспеть в жизни, но чтоб и понять причину несчастья семьи и вовремя постигнуть, какой крест сужден ему самому и на какую Голгофу ему придется этот крест нести. «Не ненавидь никого, сынок: ненависть тебя погубит», — говорила ему мать, словно догадываясь, что ребенок, выросший в этой семье, будет расположен скорей к ненависти, чем к любви. «Каждое дело полезно людям, если ты служишь ему с любовью и добросовестно», — говорил отец, пальцы которого были в волдырях от бессмысленного, бесполезного труда! Другие чиновники, моложе его, писали прошения и извещения куда быстрей, но у него был красивый почерк— за это, видимо, его и держали на службе. Вернувшись из своей канцелярии домой, он опять садился за стол и писал. На улице он почти не бывал, изредка только выходил на рынок или в лавку, чтобы пополнить свой запас бумаги. Что именно он без конца пишет, не было известно никому. Жене он с улыбкой говорил, что это его дело, что он просто развлекается, и она его никогда не упрекала, хотя в то время, пока он «просто развлекался», все их родственники неуклонно поднимались по жизненной лестнице, получали награды, добивались все большего влияния и уважения к себе! А он писал: не подымая головы, усердно и упрямо заполняя страницу за страницей, до тех пор, пока за окном не начинало белеть; тогда он запирал написанное в ящик стола, мельком взглянув на икону, поспешно крестился, гасил свет и ложился, чтоб несколько часов спустя уж опять сидеть за столом в канцелярии и своим изящным почерком без конца добросовестно переписывать всевозможные приказы и протоколы…
— То, что ты делаешь, тоже полезное дело? — не выдержал как-то Мито.
Сказав это, он тут же раскаялся: этим он лишь умножил свои мучения. Его вопрос застиг отца врасплох — рука, державшая перо, едва заметно вздрогнула. Но он ничего не ответил и, робко, виновато улыбнувшись сыну, продолжал писать.
Потом Мито уехал в Одессу и снова погрузился в книги; в серых университетских стенах потекли его однообразные и полуголодные студенческие годы. «Ничего не присылайте! У меня тут всего вдоволь; позаботьтесь о себе…» — писал он родителям. Иногда перед сном он с ужасом думал о том, каким бременем стал он для своей небогатой семьи, и его сердце сжималось от ярости и досады. И лишь после смерти родителей он узнал, какой крест нес его отец, этот тихий, незаметный человек, пальцы которого всю жизнь были выпачканы чернилами, как у школьника, и которого избегали все, даже близкие родственники. Вернувшись из Одессы, дрожащей от волнения рукой отперев стол и вынув оттуда отцовскую рукопись, он сначала раскрыл рот от изумления; потом изящество, чистота, соразмерность письма глубоко его взволновали, и он долго стоял у отцовского стола, держа в одной руке печатное издание «Калилы и Димны», а в другой — тот же текст, переписанный рукой отца.
Сейчас, стоя под липами Макабели, он почему-то вновь увидал отцовскую рукопись: эта растоптанная грубой страстью, униженная, парализованная маленькая девочка была чем-то схожа с грузинскими буквами, выведенными изящным почерком отца. Да, ясное дело чем: простотой, легкостью, светом! И он уже твердо знал, что эта девочка, с ногами, закутанными в плед, со смущенной, примирительной улыбкой, и есть его крест. Если он не мог помочь ей ничем другим, то нужно было хоть посадить ее в кресло на колесиках и вместе с ней идти к предназначенной ему одному Голгофе. Это-то он был обязан; если уж он не смог уберечь ее, то теперь ее нельзя было оставлять одну! О ней нужно было заботиться, печься, как пекся его отец о грузинской каллиграфии, никого на свете, кроме него, не интересовавшей!
— Не сумел я спасти ни деревьев, ни… — начал было Мито. Он хотел сказать «ни тебя», но именно в этот момент увидал направлявшегося к ним Александра.
Дуса заметила его последней, невольно взглянув на ворота, к которым вдруг повернулся инженер-путеец, и, хотя видеть Александра ей раньше не доводилось, своего старшего пасынка она узнала сразу.
— А это, вероятно, Александр… — сказал Мито.
— Я-то Александр, а вот ты кто таков? Что ты тут делаешь? — крикнул Александр на ходу и своей единственной рукой отодвинул его с дороги, словно, умирая от жажды, стремился к озеру и раздвигал рукой камыши, чтоб увидеть воду. В тот же миг он увидел свое отражение в глазах сестры — долговязый, злой, хмурый…
— Кто это? Правда то, что о тебе болтают? — крикнул он в эти глаза, засветившиеся радостью при виде брата.
Глаза Аннеты подернулись туманом, как замутненное дыханием стекло. Потом все смешалось — он и сам не заметил, как схватил ее за воротник. Нагое плечо сестры брызнуло ему в лицо, как студеная вода, — на мгновение отрезвев, он еще больше ужаснулся собственному поступку. Плечо Аннеты было таким слабым, таким нежным и чистым, что к горлу Александра подступил колючий комок. Ее разорванный воротник висел на груди безжизненно, как крыло убитой птицы…
Глаза Аннеты и вправду помутились, затуманились, и она долго ничего не видела. Когда же к ней вернулось зрение, стул, на котором стояла тарелка с конфетами, валялся на земле точь-в-точь как утром после смерти Агатии, весь двор был усыпан конфетами, а из носа Александра текла кровь. Единственным человеком, увидевшим разразившуюся под липами бурю до конца, со всеми подробностями, была Дуса. Она была так поглощена зрелищем, что лишь потом заметила, как все ее тело дрожит от перенесенного напряжения, как она, словно напуганная кошка, цепляется в готовую уж вот-вот оборваться штору.
14
Шесть месяцев спустя Александр находился на таком расстоянии от родных мест, которого до этого и в мыслях себе представить не мог бы! Забраться сюда он не решился бы, наверно, и в мыслях, если б не инженер-путеец (правда, и о том, что он инженер-путеец, Александр узнал поздней, успокоившись, когда хлынувшая из носу кровь очистила ему разум, вернула ему способность соображать). Инженер-путеец, заступник его сестры, этой забытой братьями девочки, одним ударом кулака вдребезги разбил скорлупу зависти и желчи, тщеславия и эгоизма Александра — и Александр сразу многое понял. Настолько ли он, в самом деле, интересовался сестрой прежде, чтоб так волноваться, так петушиться теперь? Да и теперь ведь собственное оскорбленное тщеславие волновало его больше, чем само несчастье сестры! Инженер-путеец намекнул ему и на это… не намекнул даже, а прямо кулаком в нос вбил; а кулак у него был дай бог какой крепкий и беспощадный, и орудовал он им весьма умело. «Это мы у нее прощения просить должны… если только она сможет простить нас!» — сказал ему инженер-путеец. «Скажи мне хоть: кто он такой?» — умолял его Александр; но инженер-путеец засмеялся, как смеются детской глупости, и указал рукой на него самого. «Заброшенной церковью непременно завладеет черт, но ни она, ни он в этом не виноваты. Виноваты те, кто покинул церковь: ты сам, твой отец, твой брат… и я вместе с вами, если угодно!» — сказал инженер-путеец. Это было шесть месяцев назад, во дворе родного дома, под липами. Кровь, вытекшая из носа Александра, медленно присыхала к губам и подбородку. Какая-то незнакомая женщина («Жена отца!» — догадался Александр) принесла из дому воды и полотенце. В одной руке у нее был медный кувшин, в другой полотенце; и она растерянно, испуганно глядела на него. Александр мысленно улыбнулся, что-то смутно вспомнив… не он даже, а его вытекшая из носу кровь сама помнила какое-то отдаленное подобие этой сцены: вынужденную доброту, вынужденную заботу, ничего, кроме жалости и презрения не вызывавшие. Это было тоже шесть месяцев назад. Теперь же время и пространство Александра измерялись другим аршином: не человеческим, а бесовским. Он шел и чувствовал, что идет, уставал и чувствовал, что устает, — но расстояние не убывало, и он не был уверен даже в том, когда спал, а когда бодрствовал. В небе нельзя было различить ни рассвета, ни сумерек: оно всегда было одинаково серым, низким, непроницаемым; и деревни, и города тоже походили друг на друга как две капли воды, словно за одним и тем же городом все время следовала одна и та же деревня, или наоборот. И встречавшиеся ему люди были, казалось, одними и теми же — одинаково недоверчивыми, одинаково простодушными; пустой рукав тулупа они везде, куда б он ни вошел, ощупывали так, будто никогда в жизни не видели одноруких. И Александр повторял всем одно и то же: «Тюмень… каторга… брат» — но он понял уже, что из этого заколдованного круга ему не вырваться никогда. «Почему ты убил моего мужа? Взгляни-ка на меня… можно такой женщине, как я, вдоветь?» — слышался Александру женский голос: не упрекающий, а теплый, ласковый! На женщине была белая безрукавка и длинная юбка с оборками; на красных до локтя руках, шипя, высыхала мыльная пена. «Да не слушай ты ее… и сама ведь не знает, что лопочет. Глупая баба…» — говорил ему мужчина за пустым столом, скучающий от безделья, раздраженный, запертый в доме из-за бесконечного, непроходимого снега, и все-таки скорей напуганный, чем обрадованный, испытывающий скорей недоверие, чем интерес к незнакомому человеку. Он был в пестрой ситцевой рубахе навыпуск, и кисти его натруженных рук лежали на столе, словно разрезанная точно пополам буханка хлеба. Откуда и куда идет, кого ищет случайно забредший в его избу путник, ему было совершенно безразлично. У него была своя беда — прочная, неподвижная, нерушимая; и он таился в ней, как таились под нахмуренными бровями его водянистые глаза. Пришельцу предстояло уйти, а ему остаться. У пришельца не было крова, поэтому он и беспокоил добрых людей; а ему было некуда идти, поэтому он и сидел в собственной избе. Болтовня и излишняя откровенность были бессмысленны — от них ни беда путника, ни его собственная ничуть не убавились бы. Путник не мог ни оставить свою беду в этой избе вместе с серебряным целковым, ни унести с собой, как печное тепло, как вкус воды и хлеба, беду хозяев; ему предстояло уйти так же, как он пришел, а хозяину — остаться на месте и по-прежнему ждать, пока земля не скинет своего снежного покрова, не подпустит его к себе, не позволит ему еще раз зачать в ее теплых, дымящихся бороздах собственное существование: хлеб, воду и огонь еще на одну зиму. «Кто тебе руку отрубил? Швед? Немец? Француз? Турок?» — кричали Александру примостившиеся на огромной печи ребятишки; но сидевший за пустым столом мужчина снова его выручал. «Ты их не слушай… они дети, глупые! — говорил он Александру. — Молчите, бесенята, не то сейчас же всех на мороз выгоню…» — кричал он детям. И Александр не помнил уж, где, когда, в какой избе видел он эту женщину с красными до локтей от стирки руками, этого хмурого мужчину в пестрой рубахе, глядевшего во время разговора или в сторону, или на собственные руки, этих нахохлившихся, как воробьи, детей на огромной печи. В каждой избе были точно такая же женщина, точно такой же мужчина, точно такая же печь — или же Александр, навек заблудившись, попав в руки беса, каждый раз входил в одну и ту же избу, все вновь и вновь возникавшую перед ним из снега. Инженер-путеец его, правда, предупреждал, что дорога у него будет длинная и трудная; но эта дорога была не длинной, не трудной — она не существовала вообще, она нигде не начиналась и нигде не кончалась, а лишь насмехалась и дурачила! Впереди было одно и то же пространство без горизонта, без надежды; но Александр верил, что где-то в его глубине он найдет брата, и именно это гнало его вперед. как голодного волка, именно это заставляло его еще и еще раз выкарабкиваться из снежной ямы для того, чтоб тут же по пояс провалиться в следующую. Пустой, задубевший от мороза рукав тулупа торчал, как ветка, как указатель пути, словно обрубок руки знал, где найти свое продолжение, и страстно, нетерпеливо, как бы надеясь вновь превратиться в руку, тянул Александра именно туда, вперед. И это — тоже благодаря инженеру-путейцу! Инженер-путеец сказал ему, что правая рука должна знать, что делает левая, а когда Александр невольно отодвинул от него свой обрубок, продолжал: «Я брата твоего имею в виду… твой брат — это и есть твоя вторая рука!» И Александр двигался волчьей трусцой, как если б действительно набрел на след брата, действительно почуял запах брата. В этой невообразимо чужой стране было что-то и в самом деле волнующе знакомое, близкое — ощущение это долго терзало и мучило Александра, прежде чем, дойдя до сознания, обретя четкость, не залило наконец всего его окоченевшего существа потоком облегчающей мысли: здесь прошел мой брат. «Здесь прошел мой брат!» — думал Александр. У него звенело в ушах, в глазах стоял туман — но он шел вперед. Все вокруг упрямо, стойко молчало: и одинаковой высоты деревья, и шершавый, синеватый снег, и затвердевший, как стекло, воздух. Когда-то тут шел и Нико — по этому снегу, сквозь этот воздух, вдоль этого леса; но ни снег, ни воздух, ни лес этого, конечно, не знали. Для них все люди в кандалах были одинаковы… все люди, которые не сумели пользоваться благами лучшего мира и, сжавшись, понурив головы, входили сюда, в их обиталище, словно в царство вечного покоя; ибо идущих вперед эти снег, воздух и лес видели много, а возвращающихся назад ни одного! А может, увидав Александра, природа смолкла от изумления? Он шел без кандалов, его никто не гнал; по этой дороге в одну сторону он шел один, сам по себе, не шел даже, а мчался, добровольно расставшись с лучшим миром, как самоубийца с жизнью, «Здесь прошел мой брат!»— крикнул Александр застывшему лесу. Сорвавшийся с влажной ветки ком снега глухо упал в большой снег, погрузился в него, как бы испугавшись высоты и от испуга бросившись в объятия матери. Откуда-то взлетела ворона; она долго, медленно, нехотя летела вдоль лесной опушки, словно воздух не пускал ее вперед, но она-то этого, наверно, не замечала, думала, что улетела черт те как далеко. В таком же положении был и Александр. Он тоже шел без конца, но дорога не кончалась, даже не менялась, и ничто не доказывало, что он действительно идет, а не вертится на месте. И он был так же мал и ничтожен, как ворона; и он не мог, двигайся он как угодно долго, хоть что-то изменить в этом бескрайнем просторе, оставить в нем хоть какой-то след. Ворона летела, а он шел — никакой другой разницы между ними не было. Зато он менялся сам: растерявшись от глухоты и равнодушия природы, он с каждым днем все больше утрачивал веру в себя, в свое превосходство даже над вороной! «Может, он меня одурачил? Может, он от меня избавился, чтоб остаться с ней вдвоем?» — мелькало в его голове болезненное сомнение; и он испуганно оглядывался назад, точно сомнение это шло за ним по пятам — неслышно, коварно, как шакал за больной, околевающей лошадью, которую хозяин, не желая убивать сам, выгнал подыхать в лесные дебри. Он твердо знал, что инженер-путеец никакого недоверия не заслуживает; но его усталый, отчаявшийся мозг слепо, наугад искал виновных помимо себя, звериным инстинктом чувствуя, что признать свое бессилие для него было бы еще губительней, чем допустить существование других, посторонних виновников его нынешнего положения. Он нуждался в недруге — для того, чтоб назло ему выбраться, не сдаться этому бесконечному оцепенению и дремоте! «Куда ж ты идешь? Ты все еще не понял, что тебя надули? Ляг, и все кончится! Разбудит тебя кто-нибудь, что ли?» — кричало ему его сомнение. А ворона медленно, вяло летела вдоль леса — и так же медленно, вяло ползла по снегу ее бледная тень. Он шагал между вороной и ее тенью; впереди него торчал пустой, похожий на трубу жестяной печки рукав тулупа. «Не такой уж я холодный, как ты воображаешь! Иди ко мне, отдохни…» — говорил ему снег голосом женщины в избе. Снег был чист и порист, как мыльная пена; мыльной пеной была полна до краев и лохань, стоявшая на табуретке перед женщиной. Ее руки были по локоть погружены в пену, а упавшие волосы прикрывали лицо; видны были лишь лукаво улыбавшиеся губы — узнает, мол, он меня или не узнает. У Александра сильно билось сердце. Потом женщину вместе с тазиком что-то подхватило, как кусок картона ветром, и в лицо Александру ударил твердый, горячий воздух. «Почему ты рвешь мне платье при посторонних?» — спросила женщина, упершись локтями в плечи Александра и целуя его в губы: горячо, долго, не по-сестрински! Поцелуй этот он чувствовал, а тело женщины — нет; но чувствовал он и то, что его воспаленный мозг ввергает его в смертный грех, подсовывая сейчас вовсе не привидевшуюся ему только что женщину над лоханью — беззлобно-печальную, наивно-веселую, беспричинно бодрую обитательницу всех изб, вдову всех войн, как бы начинающую и заканчивающую собой весь мир и поэтому простую и заметную, как пограничный столб между бытием и небытием! Мотнув головой, как лошадь, Александр с трудом отогнал от глаз воображаемый поцелуй, воображаемый, но непростительный грех. Потом он сидел в снегу и растирал лицо снегом, чтоб окончательно изгнать из воспаленного мозга это опасное видение — выглянувшую из-под разорванного платья наготу сестры. «Не встану… ни за что не встану!» — заупрямился он перед кем-то. Ворона несколько раз каркнула; она по-прежнему летела вдоль леса, а ее тень барахталась в снегу возле Александра. «Ты прав! — сказало ему притаившееся рядом с ним, глядевшее на него ожидающими, нетерпеливыми глазами сомнение. — Тянуться уж не стоит. Хочешь сделать доброе дело — похорони себя тут же, вместе со всеми своими грехами! Если, конечно, им тут хватит места… — ухмыльнулось оно. — Обманывай кого хочешь, меня ты не проведешь, я-то знаю, как ты грязен! Да как ты брату в глаза посмотришь?» — «И сам не знаю… и сам не знаю!»— сказал Александр. «Поэтому-то от тебя и избавились… — еще ближе придвинулось к нему сомнение. — От тебя избавились, слышишь? Тебя просто убрали от греха подальше. Тебя испугались… на миротворца ты что-то не похож! Чтобы творить добро, одного твоего желания мало! Добро должно быть таким же врожденным, как зло и уродство, заложенные в тебе с самого начала…» — «Почему? Почему? Почему именно я такой?» — крикнул Александр снегу. «Почему, говоришь? — снова ухмыльнулось сомнение. — Сказать тебе правду? — Александр опять растер лицо снегом; маленькие, блестящие сосульки примерзли к бровям. — Таким ты сделал себя сам! У тебя не хватило духу и родного брата простить, ты его из сердца вырвал, ты от него отрекся за то только, что ваша общая глупость тебе руки стоила, а ему и бровей не опалила. А ты, вместо того чтоб этому обрадоваться, озлобился… желчь залила тебе душу, одурила тебя, сожгла все, что у тебя было самого святого, дорогого: и могилу матери, и имя сестры, и, прежде всего, любовь к брату! Что, не так? Сознайся… покайся хоть сейчас! Так близко к богу, так наедине с ним ты, должно быть, не будешь уж никогда… Ну-ка, взгляни вокруг себя. Так. Еще раз. Еще раз! Убедился? Вы с богом наедине. Ты — и ничего больше! Или бог — и ничего больше…» «Мы с вороной одни на свете, — подумал Александр. — Но и мы не существуем друг для друга. Я — и ничего больше. Или ворона — и ничего больше… Интересно, она летит все-таки или просто так в воздухе висит?»
Ворона медленно, нехотя летела вдоль застывшей лесной опушки, а несколькими километрами дальше Тедо Схирели и Евгений Микадзе распиливали толстое мерзлое бревно, лишь кое-где покрытое остатками гнилой, затвердевшей от мороза коры. Пила выла, хрипела, прогибалась; под бревном постепенно рос холмик сырых и все-таки золотистых опилок.
— Пойдем погреемся… а то и сами не заметим, как у нас носы отвалятся, — сказал Евгений.
— Да мы ведь только вышли! — возразил ему Тедо.
Скрытая за холмом снега изба была в двух шагах от них — над ней застыл серый, как туча, дымок. Человек наблюдательный заметил бы вокруг, подальше, еще несколько таких же дымков, единственное доказательство существования потонувших в снегу изб, иначе местность казалась бы вообще необитаемой. В избе было тепло. На печи лежал Ладо Тугуши. Он плохо себя чувствовал, — впрочем, заболеть он больше боялся, чем был болен на самом деле. Маленькая девочка стояла на коленях на стуле и, прижавшись животом к столу, рисовала на пожелтевшей бумаге цветы и птиц. Ей было шесть лет. Звали ее Мартой.
— А что, ласточка так выглядит? — крикнула она Ладо.
— Ну-ка, покажи… — приподнял голову он.
Марта подняла свой рисунок повыше.
— Ничего не видно! — сказал Ладо.
Марта соскользнула со стула и, подойдя к печи, подала ему свой лист. Вытянув руку из-под тулупа, которым он был укрыт, Ладо взял рисунок в руки и долго его разглядывал. Подняв голову и сморщив носик, Марта терпеливо ждала. Рисунок, который Ладо держал в одной руке, гнулся, и он то и дело дул на бумагу, чтоб выпрямить ее, — вынуть из-под тулупа и вторую руку ему было лень.
— В общем, так… — сказал он наконец. — Только клюв у нее вышел как у ястреба.
— А у ласточки клюв какой? — осведомилась Марта.
— Ма-а-аленький, вроде твоего носика… — сказал Ладо, вновь дуя на рисунок.
— Отдай! — сказала Марта.
— Ястреб утащил цыпленка… как это там, в стихах? Ты у нас будешь цыпленок; а это — ястреб! — сказал Ладо, помахивая листком над головой Марты. Марта потянулась за своим рисунком, но достать его не смогла. — Жалобно пищал цыпленок… — Он снова помахал листком над головой Марты. — Только белый пух цыпленка по ветру кружился в поле…
— Отдай! — рассердилась Марта.
Ладо отдал рисунок и снова сунул руку под тулуп.
— Все мы цыплята… правят не цари, а времена! — сказал он в потолок и опять заскучал, опять предался унынию.
Марта вернулась к столу, залезла коленками на стул, перевернула лист чистой стороной кверху и языком смочила кончик карандаша.
— А сейчас… сейчас нарисую-ка я дядю моего! — сказала она себе.
— Саблю не забудь! — сказал Ладо.
— Тебе все равно не покажу! — надулась Марта.
Снаружи доносился хрип пилы. Печь глухо гудела.
Марта рисовала однорукого мужчину. Ладо Тугуши был, как всегда, не в духе. Его одолевала хандра, он был болен хандрой. Тут, в ссылке, он находился почти уж четыре года, но смириться с этим никак не мог. Окончательно осознав, что в сеть вместо перепелки попал он сам, что ни бог, ни люди ему уже не верят, он сразу сдался, сразу охладел и к богу, и к людям. Теперь он играл на гитаре совсем иначе, чем прежде; в его руках она плакала, стонала, жаловалась до тех пор, пока Тедо или Евгений не кричали ему: «Ладно, хватит уж… нас хоть пожалей!» Но и тут, в ссылке, его, так же как на воле, окружали люди, души в нем не чаявшие; все они называли его Ладиком и почему-то считали своим долгом кормить, оберегать, терпеть, а главное, любить его. Этому способствовали, конечно, и его приятный голос и наружность. Раньше, «в лучшие времена», когда он бледными, длинными пальцами водил по струнам гитары, гимназистки с трудом сдерживали вздохи и восклицания; а тосты он произносил такие, что подвыпившие ребята были, казалось, готовы броситься за него в огонь и в воду. «Влип» он до того глупо, что, случись это с кем другим, Ладо помер бы со смеху, рассказывая это как застольный анекдот, да и других до слез насмешил бы… расскажи он эту историю без всяких прикрас, все его знакомые девушки, плача от смеха и прикрывая рты руками, клялись бы, что он величайший в мире лгун и фантазер! Ладо Тугуши арестовали за перепелку, да, именно за перепелку его отправили в Сибирь, черт знает на сколько лет разлучили с утопающим в цветах вишни и сливы Кутаиси! Если б он в тот проклятый день сломал себе ногу и остался в своем Кутаиси, он и сейчас сидел бы где-нибудь за столом в качестве тамады. Арестовали его в Батуми — его, приехавшего на именины самой красивой девушки города, вытащили из мокрых кустов с фонарем в руках и обвинили в измене империи! Его защитник, ближайший друг его отца, адвокат, известный всей Грузии, увидав, что дело проиграно, стукнул рукой по перилам, за которыми между двумя здоровенными усатыми жандармами сидел Ладо, и воскликнул: «Да какого черта тебе, сынок, взбрело с фонарем по улицам шататься? Тоже мне Диоген нашелся…» Но хуже всего было то, что он и сам уж толком не знал, возводят ли на него напраслину или он действительно по неведению впутался в какой-то заговор против императора. Что его товарищи, как клялся адвокат, нарочно напоили его, использовали его как слепое оружие, было, впрочем, маловероятно — обо всей этой истории они знали не больше, чем он сам! Никто не мог вспомнить и того, кому первому взбрело в голову ночью, под проливным дождем идти охотиться на перепелок, кто поднял всех из-за стола, на котором не перепелок, а разве что лишь птичьего молока не хватало. Возможно, что эту ночную охоту затеял и он сам, чтобы порисоваться перед батумскими красавицами — сотни таких же глупостей он, в конце концов, проделывал и прежде. А может, он, желая доказать свою удаль и молодечество, и вправду был одурачен другими и, размахивая фонарем, действительно подавал какие-то сигналы туркам… Вот это и все последовавшее он помнил вполне четко: дождь и холод быстро его отрезвили, и ему ясно помнилось, как он с фонарем в руке, словно привидение, бродил по приморскому бульвару. В его новых, сшитых специально к именинам штиблетах хлюпала и переливалась вода; мокрые ветки скрытых во тьме кустов немилосердно хлестали его по лицу; он вымок с головы до ног и дурацкой этой затеи не бросал только уж из тщеславия: рядом с ним то тут, то там мелькал вдруг ежащийся, бессильный свет чьих-то фонарей, и ему не оставалось ничего другого, как продолжать поиски свалившейся в мокрую траву перепелки! Он был не кто-нибудь, а Ладик Тугуши, обязанный побеждать всех, на каждую добытую другими перепелку отвечать тремя! Остаток ночи он провел в камере, сидя на цементном полу в луже воды. Вода лилась с него ручьями; его зубы стучали, как ножницы для подрезки кустов.
— Еще не образумились, идиоты? — орал ему утром следователь. — Забыли уже, что с вами турки делали?
— Я, сударь мой, кутаисец… в Батуми в гостях, — пытался использовать права гостя все еще уверенный в собственной невиновности Ладо.
— Молчать! — утихомирил его следователь.
Потом все смешалось, и Ладо, не успев даже как следует прийти в себя, оказался в Сибири. «Да это ж, господа, мода… они лишь поддались моде! Ну что эти молокососы могут смыслить в революции?» — тщетно взывал в зале суда Кита Чкония, известный адвокат, друг юности отца Ладо. Революционером Ладо стал уже в ссылке, верней, там только он впервые понял, что он, Ладо Тугуши, красивый, веселый юноша, существует не сам по себе, не отдельно от людей; и что пока его порабощенная, но не покорившаяся родина еще дышит, любые его шаги, любые его поступки, пусть даже игра на гитаре (да как он и вправду мог играть на гитаре в такое время!), пусть даже ночная охота на перепелку — все будет для стражей империи подозрительным и тревожным! «Для империи невинных нет… — говорили ему его новые друзья. — Ибо кто хоть в душе не хочет ее разрушения, тот вообще не человек!»
— Разрушайте ее, делайте что хотите, а меня оставьте в покое. Меня это не касается! Боролись же вы до сих пор без меня, вот и продолжайте. У меня свои дела! Меня, помимо всего прочего, мать дома ждет… считает, что я на именинах застрял. — Ладо все еще пытался сохранить самостоятельность, независимость Ладика Тугуши. — Вам-то что… вы тут кто во второй, кто в третий раз! А некоторые и с семьями…
В этом-то он был отчасти прав (поэтому, возможно, его так и оберегали его новые друзья: Евгений Микадзе, Тедо Схирели и родители Марты — Лиза и Нико Макабели). Евгений и Тедо были уже старыми каторжанами, облысевшими, беззубыми; рот же Ладо был еще полон крепких, сверкающих зубов, а когда он расчесывал свой густой, упрямый чуб, гребенка у него в руке прогибалась. Нико Макабели, правда, был в ссылке впервые, как и Ладо, да и ненамного старше, чем тот, но рядом с ним были жена и ребенок, и жил он в отдельной избе. Ладо же не только не был женат, но и вообще ни разу еще не целовался как следует; вкуса настоящего поцелуя не знали ни он, ни те девушки, с которыми на пути к настоящей женщине его сталкивали случай, игра в фанты или навеянная вином лихость. У этих девушек губы были твердые, холодные от волнения и застенчивости, и исчезали они так быстро, что Ладо, сам взволнованный и напуганный не меньше их, целовал уже почти воздух и головокружительный аромат, который замешкавшиеся на миг девушки в этом воздухе оставляли. А Нико, как и Евгений и Тедо, находился тут за террор, хоть они и утверждали, что террорист из Нико получится, когда рак на горе свистнет. Говорили они это по вечерам, когда все собирались у печи, говорили не для того, чтобы позлить Нико, а так, в шутку. И Нико на них не обижался. «Виноват! Сознаюсь, виноват: мне его вдруг жалко стало…» — говорил Нико. А за стенами избы ревела буря и выли волки.
— Врага жалеть нельзя! Гляди-ка… — поворачивался к Ладо Евгений, оттягивая пальцем свою нижнюю губу. — Такое можно простить, а?
Ладо невольно отводил взгляд от оголенных, беззубых десен в каком-то отвратительном, похожем на иней белом налете!
Насколько Ладо понял из их разговоров, Нико Макабели было поручено убить какого-то генерала. С самодельной бомбой в руках он подстерег свою жертву на глухой улочке, но, вместо того чтобы взорвать коляску, в которой генерал возвращался домой, в последний момент кинул бомбу в стену и пострадал сам. Оглушенный взрывной волной, он очнулся в тюрьме.
— Он был старичок… седенький такой. Увидел меня у дерева, в коляске привстал — почувствовал, что ли? «Ради бога!» — кричит… а рука трясется, — рассказывал Нико.
Но еще больше удивлял Ладо поступок Лизы, жены террориста: ни понять, ни объяснить его себе Ладо не мог, ибо о любви он знал лишь то, что поется в песенках. Он считал, что Лиза просто предпочла похоронить себя заживо, но не опозориться, родив внебрачного ребенка, или же была настолько глупа и неопытна, что вздумала покрасоваться, совершенно не представляя себе, что ее ждет. Кто из девушек не завидует описываемым в книгах трагедиям любви? Но большинство из них, в отличие от Лизы, понимает же все-таки, что трагедии эти хороши именно в книгах, а не в собственной жизни! Первое время Ладо чуть-чуть даже над ней подтрунивал, но потом у него открылись глаза, и он понял, что нечаянно стал очевидцем любви более сильной и трагической, чем все описанные в книгах. Выяснилось, кстати, что Лиза приходится ему дальней родней, да не столь и дальней, чтоб совсем уж не знать об ее существовании, чтоб хоть для виду не интересоваться ее невзгодами и радостями. Беседуя с ней, Ладо постепенно вспоминал все, что он, благодаря бесчисленным бабушкам и тетушкам, знал о семье Лизы до их знакомства. Семья эта была одной из самых известных и уважаемых в Тбилиси. Отец занимал какой-то крупный, чуть ли даже не директорский, пост в Дворянском банке, а мать преподавала в гимназии св. Нины и была почетным членом нескольких благотворительных обществ.
— С раннего детства я больше всего боялась мамы. Говорю и взглянуть на нее не смею… — рассказывала Лиза, глядя в огонь и с рассеянной улыбкой поглаживая медовую головку дремавшей у нее на коленях Марты. — Мне всегда казалось, что она вот-вот сделает мне замечание, рассердится, что ей что-нибудь не понравится… Я не помню случая, чтоб она в самом деле на меня рассердилась, но мне почему-то так казалось. И долго…
— И такая женщина, узнав о твоих делах, поцеловала тебя в лоб, благословила избранную тобой дорогу, а сама отправилась чужих дочерей воспитывать? А? — подтрунивал над ней Ладо.
— Ну да… благословляю тебя, мол… — отвечала Лиза, как в дурмане. — Я так растерялась, так обрадовалась… Долго плакала… чуть даже на поезд не опоздала… — Лиза как бы не рассказывала, а думала вслух, улыбаясь чудившемуся ей в огне строгому, гордому лицу матери.
— В книге бы прочел — не поверил бы! — насмешливо удивлялся Ладо. — Вы как Нестан и Тариэл… разница лишь в том, что тут Нестан пришла в крепость к Тариэлу, а не Тариэл к Нестан, как оно нашему благословенному Руставели казалось более естественным… У вашей истории, впрочем, окончание тоже вполне естественное… не зря же говорится: рыбак рыбака видит издалека! Будь я поэтом, я б непременно изложил вашу историю в стихах, вот когда девчонки наши глупые всласть нарыдались бы! Вы только подумайте: ну что может быть интересней! Девушка, воспитанная в благородной, уважаемой семье, влюбляется в революционера, террориста, разрушителя порядка, бегающего не на лекции, а на конспиративные сходки, держащего под мышкой не книги, а завернутую в газету самодельную бомбу. Благородная девушка так уверена, что ее рыцарь спасет мир, что от счастья забывает даже некое простое правило, соблюдение которого до свадьбы одинаково желательно для всех девушек, и образованных и необразованных! А рыцарь, завидев жандарма, со страху роняет бомбу и сам взлетает в небо, как жаворонок, — навстречу солнцу светлого будущего. Благородной девушке только и остается следовать за ним — о нет, не потому, что ей нельзя показаться людям с внебрачным животом, а потому, что она любит своего жаворонка, жить без него не может, ради него не то что в светлое будущее, а хоть в преисподнюю идти готова! Как Эвридика за Орфеем… и тут, заметьте, все наоборот, и тут ролями поменялись. Удивительно, насколько теперешние женщины смелей своих бабушек! «Вы не вправе разлучать меня с отцом моего ребенка…» — кричит благородная девушка жандармскому полковнику, кладя прямо на его стол свой заметно уж округлившийся живот, тоже похожий на самодельную бомбу, которая вот-вот взорвется, подымет на воздух всю жандармерию, если только сумасбродное… простите, благородное требование героини не будет немедленно удовлетворено! И вот она и ее избранник преклоняют колени на прогнившем полу тюремной церкви и плачут от радости — так, словно им предстоит не отправка на вечное поселение, а возвращение в рай, потерянный лишь по их собственной глупости. Обалдевший от их поведения, а точней, от этой явной глупости, священник не знает, как ему быть: благословлять или проклинать… А они счастливы — слышите? — счастливы!
— Священник взял у Лизы ее булавку с алмазом… буду-де молиться за вас… — перебивал его Нико, улыбаясь огню так же, как она.
— Погодите, погодите… я еще не кончил! — кричал возбужденный собственным рассказом Ладо. — Они, говорю, счастливы… их возвысила любовь, они все принесли в жертву любви. Знаете же: «О любовь, своею силой ты в рабов нас обращаешь…» Но они пошли еще дальше — не только сами стали рабами любви, но в жертву ей принесли и ее же собственный плод, существо непорочное, ни в чем не повинное и все-таки с самого рождения закованное в кандалы, обреченное на вечную ссылку! Вот она, ваша любовь, кормилица добра и милосердия…
— Марта будет счастлива… она должна быть счастлива. Хорошо, что она увидит весь этот кошмар! Она будет больше, чем мы, любить свободу, не расстанется с ней так легко, как мы… если, конечно, все наши мучения, все наши страдания не напрасны… — говорила Лиза, поглаживая медовую головку дремавшей у нее на коленях Марты.
— Они не напрасны! Они, как порох, накапливаются в фундаменте империи, — говорил Евгений или Тедо, чтоб успокоить, ободрить ее.
— Все вы сумасшедшие, сумасшедшие! — кричал вышедший из терпения Ладо.
Потом Лиза умерла — но и смерть не смогла стереть с ее губ спокойной, чуть-чуть рассеянной улыбки. «Смотрите берегите себя… берегите себя!» — шептала она перед смертью пересохшими от жара губами. Все знали, что она умирает и что бороться против смерти они бессильны. Ладо ужаснула многочисленность каторжан, которые всё шли и шли; одинаково хмурые, одинаково бледные, одинаково бородатые, они понемногу собирались перед избой умирающей, и ему показалось, что это души покойников, вставшие из своих могил и терпеливо ждущие, чтоб живые уступили им душу Лизы. И смерть здесь была иной — голой, строгой, общей! Лиза умирала не только для своего мужа и ребенка, но как бы и для всего мира; все народы белой империи шли, казалось, к ее потонувшей в сугробах избе, как некогда волхвы, стремившиеся увидеть младенца в яслях. Глаза ей закрыл русский врач; польский священник отпел ее на своем языке; а гроб из еще сырых, пахнущих смолой сосновых досок принесли соседи-финны. Кто-то, взобравшись на крышу избы, привязал к дымоходу древко знамени; знамя распахнулось, как крыло, захлопало на ветру, и его красный отсвет пробежал по хмурым лицам людей, как если б они стояли у костра и глядели в огонь. Над избой мерцала большая, чистая, светлая, как слеза, звезда.
Что Лиза умрет, Ладо знал заранее: Нико ли ее заразил, или она его, но оба были больны чахоткой. О своей болезни они говорили так же просто и свободно, как о своей любви. «У нас с Нико и болезнь общая…» — улыбалась Лиза, и Ладо невольно вздрагивал. Русский врач тоже был частым гостем избы Макабели — температура подскакивала то у мужа, то у жены, и врач не говорил ничего утешительного, а то, что он говорил, не давало Ладо спать, вызывало у него ночные кошмары. «Чахотка — болезнь века… от нее люди не то что в Сибири, айв Аддис-Абебе мрут», — говорил русский врач, своими беспокойными пальцами постукивая по столу, как по груди больного, словно болен был и этот стол. Да, и стол был болен… и стены избы, и воздух, и снег, и гудящий в печи огонь тоже! Лишь потом, постепенно Ладо понял, осознал, что единственное возможное лекарство в этом гнилом, хвором мире — всегда говорить правду, одну правду, всегда смотреть правде в глаза! К этому и приучал своих пациентов-каторжан каторжанин-врач; это и было оружием в беспощадной, не на жизнь, а на смерть борьбе — борьбе не за продление еще на денек-другой этой собачьей, осточертевшей всем жизни, а за рождение другой, новой жизни… «Я убежден, что когда-то человек действительно владел эликсиром бессмертия, но сам его уничтожил, не поняв смысла бессмертия… или, верней, испугавшись необходимости быть вечным свидетелем рабства — своего или чужого. Но совсем обойтись без бессмертия он все-таки не мог — вот и выдумал бога! Даже не выдумал: его тоска по бессмертию сама родила бога, словно незаконного ребенка. Ибо бог — не что иное, как угрызение совести, созданное специально для наказания свидетелей; но именно оно-то и мешает человеку избавиться от склонности к рабству. А пока человек раб, не все ли равно, что его убивает — чахотка или обжорство…»— говорил русский врач.
Все происходившее вокруг Ладо напоминало бессвязный и нескончаемый кошмарный сон. С этим сном он не имел ничего общего, никакого смысла в том, чтоб он снился именно Ладо, не было — и все-таки пробудиться от этого сна он не мог. Он чувствовал, что гибнет, что сон душит, уничтожает его. «Еще день, и мне крышка!» — мучила его вонзавшаяся в мозг острая и холодная, как ледяная сосулька, мысль. Необходимо было любой ценой вырваться из этого сна, как-нибудь проснуться! Едва изба погружалась в темноту и он закрывал глаза, как ему чудился плевок с кровью, из которого, как муравьи из разоренного муравейника, упрямо подымались бациллы чахотки, вползавшие на его съежившееся тело, лезшие ему в рот, в ноздри, в уши! Безжалостные, неиссякаемые, они, шурша, шипя, пища, искали себе нового гнезда. Потом его рот наполнялся вывалившимися зубами, и он тщетно мучился, стараясь затолкнуть их обратно, в покрытые белым инеем десны. «Сбегу! Всем вам, как я погляжу, помереть не терпится. А я ничего еще в жизни не видел! — говорил он утром Нико, Тедо и Езгению. — За что я должен сидеть вместе с вами? Я-то охотился не на генералов, а на перепелку — и то единственный раз черт дернул… Почему мне за перепелку такое же наказание, как вам за генералов?» — «Успокойся, ладно… хватит тебе! — утихомиривали его то Тедо, то Евгений. — Если бы бежать было так просто, чего ради тут столько народу сидело б! Бегство — это уступка, это самоубийство! А мы боремся, и каторга это лишь подтверждает: опустеет она лишь тогда, когда мы или победим, или откажемся от борьбы. Бежать же мы не дадим и тебе — ты уже тоже наш. Веревкой свяжем, а не дадим! Тут и почище тебя ребята убегали — все волчьим брюхом переварены». — «Лучше сгнить… лучше пусть меня волки съедят, чем… чем…» — заплетался от волнения язык Ладо: жалея Нико, он боялся сказать «лучше, чем заболеть чахоткой!». Не встреться ему эти люди, он действительно наверняка бы погиб! После таких разговоров он падал на топчан навзничь и горько рыдал, словно соблазненная и покинутая женщина. Он и сам не понимал, что с ним происходит: ему хотелось то отрубить себе руку или ногу, то проглотить что-нибудь твердое и острое; десятки раз у него выбивали из рук нож или, насильно заставив разжать зубы, которыми он впивался в ножку стола, вытаскивали из его гортани наполовину уже проглоченную ложку или карандаш. Хорошо еще, что рядом были люди; они терпели все его выходки, возились с ним, иногда и тумака ему давали, и, высмеивая его сумасбродные желания, потихоньку его вразумляли! Однажды, выскользнув украдкой из избы среди ночи, он сорвал с себя белье и нагишом улегся в сугроб. «Найдите-ка меня сейчас, ежели вы такие молодцы…» — возбужденно и злорадно думал он, все глубже погружаясь в снег. Спасла его только песня — он даже не заметил, как затянул песню, иначе его действительно и сам черт не сыскал бы; по голосу же его, окоченевшего как полено, обнаружили и выкопали из снега. А в один прекрасный день он изумил всех, заявив, что до сих пор их обманывал, так как еще надеялся спастись, что ночью на батумском бульваре он охотился вовсе не за перепелкой и что он вообще никакой не Ладо Тугуши, как записано в его личном деле, а внук царя Соломона Второго, последний Багратид, и фонарем извещал турок о начале своего царствования.
— Когда я достиг совершеннолетия, мнимые родители, у которых меня скрыли мои настоящие, по их поручению велели мне отправиться в Батуми и ночью у моря помахать фонарем. Должно быть, по этому знаку турки двинули бы большую армию, чтобы вернуть мне престол. Но один завистник, как это водится у нас в Грузии, все-таки нашелся, и я, вместо того чтобы стать царем, да и вас тоже из беды вызволить, гнию тут, с вами, без бога, без короны! — Сказав это, он неожиданно встал и вышел из избы, царственно выпрямившись, неторопливо, надменно…
Когда его слушатели, опомнившись, выскочили вслед за ним, он уже застегивал брюки, а на снегу большими кривыми буквами было выведено его царское имя — без гласных, как в старинных грамотах, словно бы для экономии места или чернил. «СЛМН» — гласила желтая надпись на снегу. После этого его стали звать и Ладо, и Слмн — как когда, смотря по его собственному настроению и поведению в данный момент. Он был то Ладо, то Соломоном Третьим, то безвинным ссыльным, то свергнутым и оставшимся без короны царем; но сам он этого раздвоения не замечал, ибо и тем и другим одновременно не был никогда, оба эти персонажа друг с другом не встречались, и что один из них вдруг уступал место другому, он не осознавал. Так, на похоронах Нико (прожившего после смерти жены всего полтора года) Ладо появился в качестве Соломона Третьего и обратился к собравшимся с речью; вернувшись же оттуда и взобравшись на свою печь, он снова стал заключенным Ладо Тугуши, задумчивым, печальным, искалеченным судьбой человеком, мысленно сразу же перенесшимся в солнечный, цветущий Кутаиси. О том, что Евгений и Тедо только что с трудом вырвали его из рук разъяренных каторжан, он уж и не помнил. А ведь всего пять минут назад он в качестве Соломона Третьего призывал народ к укреплению трона Багратидов и верной службе ему, царю, а собравшиеся у могилы революционеры-каторжане размахивали красными флагами и, показывая ему кулаки, кричали: «Долой царя… долой самодержавие!» Но кем бы он ни был, Соломоном или Ладо, Марту он узнавал всегда — и не только узнавал, но и беспрекословно выполнял любое ее желание. После смерти Нико Марта жила в их избе, и трое мужчин, с любовью глядевшие в глаза этой маленькой девочки, берегли ее, как обитатели подземелья свою последнюю спичку. Раньше, при жизни своих родителей, Марта была для них просто ребенком; они любили ее, заботились о ней, но по-обычному. Когда же на их глазах между двумя могилами, словно из пара еще влажной, озаренной солнцем земли, родилась новая Марта, Мар-та-сирота, нежная и бледная, как ранний цветок, и в то же время спокойная и умная, словно божество чистоты, света, добра, принявшее облик ребенка лишь для того, чтобы безумный, бессердечный, пожирающий собственную плоть мир, занесший уж руку для свержения этого божества, хоть вздрогнул, хоть на миг осознал собственное безумие, — тогда-то все трое одновременно почувствовали, что с самого начала вышли в путь только ради спасения этого крохотного существа, что оно одно способно оправдать их запутавшиеся жизни, их бездомность и одиночество, их заслуженный или незаслуженный плен. Постепенно Марта стала для них олицетворенной надеждой, верой, целью, мечтой — и, сами того не замечая, они старались вложить в нее, сохранить в ее душе все, что осталось в них самих человеческого, незапятнанного, незамутненного… Так одинокие старики собирают в копилке деньги на собственные похороны, собирают годами, по грошу, с дрожью и блаженным волнением, ибо знают, что благодаря этой копилке не останутся без погребения и они; и копилку эту они не прячут от чужих глаз, но, напротив, держат на самом видном месте: она внушает им не только надежду, но и гордость. Такое же счастье приносила своим друзьям и Марта, которую они уважали, как сыновья мать, баловали, как братья единственную сестру, и почитали, как гости хозяйку.
— Спасет ли хоть что-нибудь нашу родину? — окликал ее иногда с печки Ладо-Соломон.
— Спасет! — коротко отвечала Марта, разглядывая книгу, рисуя или одевая куклу, сделанную ей дядей Тедо.
— Откуда ты знаешь, деточка… откуда ты знаешь? — беспокоился Слмн.
— Знаю… — твердо, упрямо отвечала Марта.
Она действительно знала куда больше, чем говорила! Она знала, что где-то за тридевять земель есть двухэтажный, обнесенный каменной оградой дом, в котором живут самые близкие ей люди. Во дворе этого дома шелестят липы, вокруг столбов веранды с писком кружатся белогрудые ласточки, а из хлева выглядывает осел с блестящими агатовыми глазами — осел, на котором когда-то возили в школу ее тетю. Давным-давно обитатели этого дома по вечерам собирались вокруг пузатой фарфоровой лампы, и бабушка Марты читала им напечатанные в больших книгах с позолоченным обрезом истории, слушать которые можно было без конца, — поэтому, когда огромные, как шкаф, часы показывали, что детям пора ложиться, и Агатия, старая няня, воспитавшая отца, дядю и тетю Марты, утаскивала их спать, в доме всегда подымался громкий шум (и Марта улыбалась, представляя себе эту сцену). Она знала, что дом этот — и ее дом, что забыть о его существовании она не сможет никогда и, куда б судьба ее ни закинула, ее лицо и сердце всегда будут обращены к этому дому. Знала она и то, что ее дядя Александр — самый сильный, смелый и добрый человек на свете; что, если она не найдет дороги домой, он разыщет ее сам — сквозь стену пройдет, а разыщет, в преисподнюю спустится, а разыщет, до небес дотянется, а разыщет! У него, правда, всего одна рука, но не дай бог кому-нибудь встать на его пути или осмелиться обидеть Марту! Она так много слышала с нем от отца, что узнала б его даже издали, и так часто рисовала этого однорукого человека, что очень удивилась бы, окажись он хоть несколько иным. Его она рисовала и сейчас. В избе пахло вымытым полом, мирно гудела печь, на которой лежал Ладо-Слмн, со двора доносился хрип пилы… и Марта даже представить себе не могла, что через какие-нибудь две-три минуты собственными глазами увидит дядю — не нарисованного, а живого. Выглянув в окно избы, она уже сейчас заметила бы черную точку, но ей, конечно, никогда не пришло бы в голову, что это упрямо приближающаяся черная точка и есть ее дядя Александр. Чуть-чуть обиженная тем, что в ее ласточке нашли сходство с ястребом, она теперь, в пику Ладо, рисовала однорукого великана. Внезапно хрип пилы прекратился, но ни Марта, ни Ладо внимания на это не обратили. Когда-то ведь он прекратиться должен был!
— Ну-ка взгляни… кажется мне или действительно кто-то идет? — спросил Тедо Евгения, который, повернувшись, тоже сразу увидел направлявшегося к ним незнакомца…
Ворона, маленькая, как брызнувшая капля дегтя, медленно, нехотя летела вдоль лесной опушки. «Она не летит, а надо мной кружит! — подумал Александр. — Почуяла, что я подыхаю… из-за этого и мечется, не отстает от меня. И не отстанет, пока глаз моих не выклюет, в зобе ими не булькнет! Эй ты, крикунья! Ты думаешь, я знал, что творил? Слепым родился, слепым и жизнь прожил. Ты ж этого и хотела, попадья чертова! Если ты думаешь полакомиться моими глазами, то зря! Они горьки, ядовиты… чтоб тебе с места не сойти! Ничего-то они не видали, кроме уродства и грязи, — пару желчных пузырей и проглотишь. И все-таки тебе придется глотать, переваривать их: они ведь и поруганную наготу сестры видели! А еще… еще они видят тебя, грязнуха паршивая, уродина почище еще меня самого! Почему ты кружишь вдали? Лети сюда, не бойся — я тебя поблагодарю только, если ты действительно выклюешь все, что я видел и запомнил! Лети ко мне, не то я всем скажу, какая ты уродливая, грязная… Пойми ты, дуреха, я не смерти боюсь, а жизни! Если ты меня стыдишься — ну вот, я на тебя не гляжу… — Он прикрыл глаза рукой. Глаза болели — глухо, приятно, не переставая; внезапно наступившая тишина была заполнена красными, сумасшедшими искорками. — Дуреха… дуреха! — несколько раз повторил он вслух, ни к кому не обращаясь, никого не имея в виду, словно ему просто понравилось вдруг это слово. Он шел, по-прежнему прикрывая глаза рукой. Задубевшие, несгибаемые полы его тулупа звенели примерзшими к ним сосульками, но сам он не чувствовал того, что идет, о чем-то думает, рукой прикрывает глаза… — Аннетин инженер хоть знал, кого ему бить; а я и этого не знаю… и никогда не знал! — Он отвел руку от глаз и взглянул на нее точь-в-точь так же, как шесть месяцев назад, под липами во дворе родительского дома. Сейчас красные, сумасшедшие искры прыгали у него на ладони. — Тьфу… проклятая, негодная кровь!» — сказал он, вытирая руку о тулуп, словно она в самом деле была в крови.
Он был уже виден — двое ссыльных, остановившихся возле мерзлого, наполовину распиленного бревна, его заметили. Оба они уже разглядели, что идущий к ним человек несет не полено под мышкой, а вытянутый, негнущийся рукав, — и оба уже догадались, кто он такой. Если ж они друг другу в этом еще не сознались, то только из боязни разочароваться, ошибиться в своей догадке; ибо им хотелось, им очень вдруг захотелось, чтоб человек этот оказался именно тем, за кого они его приняли, тем, кто в их представлении только таким быть и мог. Глядя, как он пробирается сквозь снег, они повторяли про себя его имя, хоть никогда прежде его не видели и ничего ни хорошего, ни плохого вместе с ним не переживали. И все-таки он был единственным, кого они ждали, кто непременно должен был прийти из того мира, если только тот мир еще существовал и если существовало еще братство вообще. Они были каторжанами, и важней хлеба, воды и огня для них была вера в то, что весть о судьбе брата всегда дойдет до брата даже за тридевять земель, что и там она не даст ему покоя, сделает его хлеб горьким, а изголовье каменным, не отвяжется от него до тех пор, пока не заставит его сделать невозможное возможным! Еще минутка, и Тедо скажет: «Пусть и мне оттяпают руку, если это не Александр, брат нашего Нико…» — скажет растерянно, обрадованно, но и озабоченно; ибо если эта догадка подтвердится, то вера их, конечно, окрепнет, но ведь с Мартой-то им придется распрощаться, Марту ее дядя заберет отсюда сегодня же! Оба сразу подумали и об этом — смутно, с неясным страхом и неясной радостью, как это свойственно всем ожидающим, которым именно в последнюю минуту ожидания всегда вспоминаются тысячи всевозможных «а вдруг…» и «а если…».
— Пусть и мне оттяпают руку, если это не Александр, брат нашего Нико… — сказал Тедо; и Евгений взглянул на него так удивленно, словно не догадался уже и сам.
А Александр не видел еще ничего, кроме вороны; он не был уверен в том, что действительно идет, от чего-то удаляется, а к чему-то приближается, — его с трудом двигавшиеся ноги как бы сами собой несли истощенное, окоченевшее тело навстречу стоявшим перед избой ссыльным. Он слышал лишь звон сосулек, и ему казалось, что он вернулся в далекое детство, что они с Нико вновь несут в школу человеческий скелет, кости которого, долго валявшиеся в углу класса, они неделю назад притащили домой, чтоб собрать его. Собирали они этот скелет всю неделю. Пол их комнаты был усеян человеческими костями; братья забыли и еду, и игры и не открывали двери ни Анне-те, ни Агатии, тщетно требовавшей и умолявшей показать ей, чем они все-таки занимаются. Скелет понемногу рос; нанизанные на крепкую нитку кости покачивались, словно орехи на веревочке для чурчхелы; лишь один шейный позвонок так раскрошился, что им пришлось вырезать деревянную подпорку, из-за чего череп чуть накренился набок — так, словно скелет, стоя на ногах, уснул. Когда его наконец вынесли из комнаты, Агатия выронила из рук только что вымытую тарелку и, перекрестившись, упала на колени; но на это они не обратили внимания — они старались лишь не споткнуться, не повредить своей работы. Не взглянули они и на деда, наполовину уже поднявшегося по лестнице, но опять поспешно сошедшего вниз, чтоб, как царскому знамени, уступить дорогу спускавшемуся, потрескивавшему в руках его внуков скелету. Казалось, этот день все еще длился, и они, счастливые, гордые своим творением, все еще несли скелет по улицам Уруки; а он, заново явленный, поднявшийся из могилы, восстановленный, покачиваясь и лязгая суставами, слегка склонив набок голову как бы в знак приветствия, одновременно искоса недоверчиво разглядывал давно не виденный им мир…
Скелет лязгает суставами, покачивается, и Александр вновь чувствует его тяжесть, верней, половину его тяжести, ибо несет его вместе с Нико. Нико ему не виден, он заслонен скелетом, но Александр чувствует и Нико чувствует, что тот счастлив и горд не меньше его самого. Братья идут в школу. «Господь вас накажи!» — бормочет выглядывающая на улицу старушка; и даже онемевшие от изумления собаки провожают их долгими взглядами. Вся деревня боится их, не побоявшихся ни смерти, ни будущего — того будущего, которое рано или поздно превратит в скелеты их самих! Возбужденные собственным поступком, собственной смелостью, братья идут сквозь сознание Александра, сквозь его окоченевшее тело, сквозь его застоявшуюся кровь — кровь, хлынувшую из носа, как смех, как горький смех, полгода назад, под липами во дворе родительского дома. Они существуют лишь в этой крови — в действительности их уже нет. Как заблудившиеся сироты, бредут они по дремучему лесу прошлого, ища и не находя дорогу домой; ибо дома у них не было никогда. Им кажется, что они вышли из дому и идут в школу. Они не знают, что школы, которая раскрыла б им тайну их происхождения, не существует, не знают о самом существовании этой тайны, не знают и того, что они не скелет чей-то собрали, а невольно, сами того не подозревая, попытались разведать, установить свой подлинный род. В своем прошлом они смыслят не больше, чем слепой и глухой в окружающем его мире! Но разве слепые не видят? Разве глухие не слышат? И видят, и слышат; но их зрение и слух — иные, заложенные в их крови, и по-этому-то божественные, безграничные, постигающие истину не через предмет и звук, а, напротив, с помощью истины лишь и способные воспринимать предметы и звуки, сами по себе для них не существующие! В действительности Александр был один; идя вдоль заснеженного леса, он чувствовал, что стал если не участником, то во всяком уж случае свидетелем конца, завершения чего-то очень большого, очень значительного! Его кровь гудела, звенела, булькала, и из ее глубоких, потайных недр подымался воображаемый скелет, засохший и бесплодный, как их родословное древо — именно это вырванное с корнями древо они с Нико и несли, казалось, по У руки в свою приходскую школу. Скелет вымершего рода вставал в его крови; багровый, с наполненными илом глазницами, лишенный плоти, он, размахивая руками, хватался за душу и разум Александра, убегавшие в разные стороны, как заблудившиеся в лесу сироты от сверкающих глаз филина. Кому принадлежал этот скелет, душа и разум Александра не знали, но чувствовали, что знать это им необходимо — для того хоть, чтоб в этом дремучем лесу им, оторванным от мира, не потерять и друг друга, остаться вместе! Чувствовали они и то, что скелет машет руками не с тем, чтоб напугать, а с тем, чтоб удержать их, вернуть их назад, сообщить нечто крайне для них важное и обязательное. Но страх побеждал любопытство, и они не могли, не осмеливались подойти поближе, заглянуть в темные пустоты в его костях — не могли, хоть и были убеждены, что лишь внутри этих пустот может скрываться разгадка их возникновения, их сиротства, их потерянности! Скелет постепенно рос; теперь уж не Александр и Нико несли его — он шел сам, а они лишь искали друг друга в пустотах костей, бессмысленно и бесконечно бродили по этим пустотам, как мыши по безлюдным коридорам старого, покинутого дома. В лучах бессильного зимнего солнца скелет сверкал ослепительной белизной, и Александр тщетно пытался уйти от его бесплодной пустоты, от его вечного молчания и холода! Нет, даже не пытался, он уж привык… он просто не мог понять, чем же он, наконец, с этим скелетом связан и где ему пристроить свое незначительное, удручающе малое существо в этом уродливом, огромном, неизмеримо более могучем и правомочном, чем он сам, строении, грубость, непроницаемая бесчувственность и пустота которого все сильней манили, притягивали, засасывали его в себя! Он не знал, что сам был малой, но необходимой частью этого скелета, неким подобием его шейного позвонка, без которого череп не смог бы держаться, завалился бы набок… Не знал он еще и многого другого. Он не знал, что еще идет, еще существует, что его можно увидеть, что его не только увидели, но и догадались уже, кто он такой. Он не знал, что уже дошел, достиг цели; что брат, которого он искал в выветренных костях родового скелета, покоится в земле в двух шагах от него, покоится, твердо веря и надеясь, что за его сиротой есть кому присмотреть. Не знал он и того, что Нико, умирая, оставил дочери лишь записку для него, ибо ничего другого оставить ей не мог. «Я всегда верил в тебя и гордился тобой. Навек твой брат Нико», — прочтет он всего через несколько минут; и слова эти подавят его своим величием, простотой и тяжестью — но одновременно и осчастливят его, ибо в них он найдет и смысл и оправдание собственной жизни. А пока что он об этом письме ничего не знал, да и не подозревал, что кому-нибудь вообще могло прийти в голову писать ему письма, как мать Нико или он ей. Он еще не знал, что это единственное адресованное ему письмо он до самой своей смерти будет носить во внутреннем кармане, как разведчик — секретное донесение, от которого зависит судьба государства. «Вот, значит, какие товарищи у Нико на самом деле…» — скажет он через несколько часов, а пока что у него было еще старое представление о них, сложившееся в день его сумасшедшей свадьбы с Маро в придорожном кабачке! Не знал он и того, какую боль невольно причинит этим действительным друзьям Нико, навек забрав у них Марту, тайком увезя тщательно, как хрупкий груз, закутанную девочку из избы, где трое каторжан, три особо опасных для империи человека, оберегали ее с такой же любовью, как люди в подземелье свою последнюю спичку или жители пустыни — колодец… Да что там— он не знал еще, что эта девочка существует вообще, что ее зовут Мартой, что ей шесть лет, что она, рожденная в неволе, с тех пор, как выучилась держать в руке карандаш, рисует лишь цветы, ласточек да еще однорукого витязя; ибо в ее детском воображении находящаяся где-то за тридевять земель родина состоит из одних цветов и ласточек, охраняемых одноруким витязем! Не знал он и того, что все бескрайнее, безликое, бесплодное, пройденное им слепо и наугад пространство заселено мечтательными, как дети, каторжанами, каждый из которых несет в сердце свои цветы, своих ласточек и, чтобы спасти их, готов вынести любой ужас, любые унижения и муки. Но через два-три часа, в избе, сизой от табачного дыма и испарений мокрых тулупов, он встретится с этими, подлинными товарищами Нико, собравшимися поглядеть на пришельца. «Вы, свободные, а верней, воображающие себя свободными, и живете, и умираете напрасно! Истинной свободы вы боитесь, как зеленый юнец боится остаться наедине с женщиной…» — скажут ему они: страшные, пугающие, принужденные жить во времени и пространстве, для человеческой жизни непригодных, и поэтому преждевременно состарившиеся, обезображенные, шамкающие своими беззубыми ртами, а все-таки по-детски чистые и взволнованные, непоколебимо верящие в свои цветы и ласточек! «Пусть из этих могил родится новая Грузия! — скажут они опустившемуся на колени у могил Нико и Лизы Александру. — Новая Грузия — юная, как Марта, здоровая и мудрая, как Марта…» — скажут эти люди, умудренные жизнью и все же несколько растерявшиеся при виде человека, павшего ничком между двумя белоснежными, непорочными, как свадебное ложе, холмиками. А когда ошеломленный Александр вынет из кармана бутылку и польет могилы брата и невестки водкой из У руки, они выхватят из его рук уже полупустую бутылку и резво, шумно, как проказники дети, играющие в снежки без присмотра взрослых, бросятся есть политый водкой снег. «Да здравствуют Нико и Лиза… да будут они с нами навсегда, навеки…» — скажут они, поедая этот снег… скажут не за упокой, а за здравие! И, глядя на них, и Александр невольно улыбнется, почувствует себя как-то бодрее, от чего-то избавится, освободится и тут лишь заметит, что и его рот набит напоенным водкой снегом…
А сейчас он еще шел, и его напуганные душа и разум еще метались по обглоданным костям родового скелета. Ему предстояло сделать лишь несколько последних, нечеловечески трудных шагов, прежде чем он, столкнувшись с Тедо и Евгением, разглядит, воспримет их лица и пересохшими, потрескавшимися губами с трудом пробормочет: «Тюмень… каторга… брат!» Он пока ничего не знал.
15
Рассвет еще не скоро. Вдали, над Алазанской долиной, у тьмы багровый оттенок: вот уж целую неделю жгут остатки жнивья, и запах дыма, особенно в ветреные дни, доносится и сюда. Все вокруг пропитано этим запахом и комариным писком. Ветер постепенно крепчает, и дряблая, сухая пыль слепит глаза, лезет в рот — поэтому, вероятно, все вышедшие из дому ни свет ни заря точно онемели. Ожидающие поезда прижимаются к вокзальной стенке, кажутся затерянными среди своих корзин и узлов; с наветренной стороны они прикрыли лица шапками или платками, как бы не желая глядеть на что-то страшное. Это — единственная заасфальтированная площадка во всей Цнори, островок асфальта в океане высохшей, истощенной земли, столь, однако, малый, что ветру вовсе не трудно засыпать его густыми волнами пыли. В тревожной темноте замерла тень пустого поезда; из Тбилиси он пришел меньше часу назад, и до его обратного отправления еще далеко. Сидящим на асфальте придется долго мучиться и ждать, но если уж они решились ехать и покинули дома чуть ли не за сутки до отправления, то ждать они предпочитают тут, возле поезда, чтоб не проводить весь этот и без того пропавший день в тревоге и смятении. Поезд приучил всех к тому, что, не опередив других, не получишь ничего: ни билета, ни даже места на этом кусочке асфальта, уродливо прилепленном к земле, словно сургучная печать к посылке…
Еще рано. Скоро прибудет дилижанс из Сигнахи, а потом и из Телави. Они привезут пассажиров, а тех, кто закончил свое путешествие, тех, кто приехал утренним поездом, развезут по деревням, по домам. Александру и Марте дилижанс ни к чему, они почти уж дома — до дому им всего километров пять, и пройти их пешком даже приятно. Но надо дождаться рассвета: Александру не хочется вести Марту к родному дому впотьмах. Другая часть рано вышедших из дому людей торопится на рынок. Осторожно, робко постукивают копытами по остывшей пыли ослы; то там, то тут мелькают красные глазки зажатых в кулаках толстых, по-деревенски щедро набитых самокруток. Темные проулки пропитаны запахом дыма — вдали, в Алазанской долине, горит жнивье, и красные отблески огня отражаются в темном небе. По воскресеньям в Цнори большой базар, по воскресеньям больше народу сходит и с поезда; но и в этой мирной — суете и шуме есть что-то тревожащее, беспокоящее, настораживающее — и человек, как всякий другой зверь, опасен, пока его не увидишь, не заглянешь ему в глаза! Постукивая копытами, урча брюхом, идут тяжело нагруженные ослы; базарная площадь незаметно наполняется людьми и скотом. Бесшумно, но поспешно развязываются узлы, мешки, корзины; на еще сырые прилавки выкладывается выращенный обильным потом и надеждой урожай. Пока, однако, ничего не видно: стоит еще густая тьма, все происходит во мраке, как смена декораций на сцене, во время которой зритель не различает ничего, кроме суетливого мелькания теней; и все-таки он знает, чувствует, что, когда зажжется свет, глазам его предстанет зрелище новое и неожиданное. Раздраженные запахом дыма, комары залетают под навесы лавок, тянутся к потным затылкам людей, жаждут человеческой крови — ничего вкусней этой крови для них нет, за одну ее капельку им и помереть не жаль. Комары тянутся к затылкам, потому что руки людей все время в движении, и им не до комаров; выкладывая товар, надо опередить соседа, занять побольше места на прилавке; и комары с приглушенным сладострастным писком припадают к узенькому, голому, ничем не защищенному месту между волосами и воротником. Разве может чесать себе затылок хирург, у которого обе руки погружены во внутренности пациента? Люди на рынке — тоже своего рода хирурги и, склонившись над своими открытыми мешками и корзинами, даже не чувствуют, как острые хоботки комаров выкачивают, высасывают капли драгоценной крови. У Александра и Марты ни на вокзале, ни на рынке дел нет, и медлят они лишь в ожидании рассвета — до дому отсюда километров пять, идти им не больше часу, так что спешить некуда. Их никто и не ждет; им никто не сказал, чтоб они были дома тогда-то, в таком-то часу. «Покажу ей только дом, и тут же уедем, ничего нам от них не нужно! Пусть только посмотрит… знает хоть, как он выглядит…»— думает Александр. Под мышкой он тащит свой свернутый тулуп, а тулупчик Марты все еще на ней; он подпоясан веревкой, а подол волочится по земле. И дядя и племянница могут показаться цыганами — на людей, имеющих дом и семью, они не похожи нисколько. Видя Марту даже спиной, Александр улыбается. Марта, как лисенок из норы, с любопытством выглядывает из мохнатого воротника тулупа, в котором ее лица почти не видно. Теперь-то им хорошо, теперь они везде, куда б ни пошли, дома! Жалеть их не приходится: они вернулись, со всем рассчитались, от всего освободились и с завтрашнего дня начинают новую жизнь. Марте, впрочем, нужно сегодня же начать привыкать ко всему здешнему, привыкать чувствовать себя дома, среди своих, избавляться от своей отчужденности, скованности, а главное, сразу же, с самого рассвета, твердо убедиться в своей правомочности на этой земле, в том, что место под этим небом для нее предусмотрено заранее, что в каждом выпеченном тут хлебе, в каждой заквашенной тут банке кислого молока есть и ее доля! Движущаяся, потная тьма сопит, шуршит, как одушевленное существо, становится еще туже и гуще, еще больше наполняется тенями людей и скотины. Внезапно все вокруг оглашается визгом свиньи, звучащим, как сигнал к началу представления. «Мы дома, девочка… мы спаслись!» — мысленно говорит Александр, глядя на Марту через плечо, но и без этого всем телом ощущая, что она спокойно, деловито идет за ним, как жеребенок за кобылой. Постепенно из тьмы выплывает привязанный к засохшей шелковице осел. Неподвижный и оцепенелый, как статуя одиночества, он стоит не моргая, как бы не чувствуя ни ветра, ни пыли, лишь его шерсть с наветренной стороны чуть-чуть вздыбилась, приподнялась. Подойдя к ослу, Александр разглядывает его так внимательно, словно это и в самом деле статуя или словно он, кахетинец, впервые в жизни видит осла. Марта стоит в стороне, она потонула в своем тулупчике, видны лишь ее огромные светящиеся глаза. Дядя с племянницей долго молча глядят друг на друга; наконец оба улыбаются. «Подсадить тебя?» — спрашивает Александр. Марта отрицательно мотает головой. Бросив наземь тулуп, Александр освободившейся рукой гладит осла по жесткому загривку. Осел отворачивается, избегает руки Александра; возможно, что ласка и сочувствие чужого человека его даже раздражают. Если так, то он прав: не человек ли привязал его к этому сухому дереву? Сочувствие имеет смысл, лишь когда сочувствующий ничем с твоим несчастьем не связан, никак к нему не причастен, — у животных оно, видно, тоже так. Но Александр этого еще не понял и вновь хватает осла за загривок. Осел вынужден отступать, обходить дерево, потому что он привязан и совсем уйти отсюда не может! Веревка обвивается вокруг дерева, становится все короче; осел невольно подымает голову. «Не мучь его!» — кричит Марта. Увидав оскаленные желтые зубы осла, Александр нехотя убирает руку. Он хотел не мучить, а приласкать осла, но и осел его не понимает. Александр все еще улыбается, сейчас, однако, уже растерянно, сконфуженно: его смущает, что животное готово скорей удавиться, чем терпеть его ласку. Сейчас, в последний миг очищения, когда кончаются бессмысленная дорога, давящая душу неопределенность, угнетающий страх, одиночество, у него вдруг портится настроение из-за дурака осла! «Такой уж он ишак… волчья сыть…» — успокаивает его хозяин осла, неожиданно появившийся словно из-под земли; до этого ни Александр, ни Марта его не видели. «Тебя ж ласкают, балда!» — говорит он, с силой шлепнув по крупу осла. Осел снова подается вперед, его задние ноги подкашиваются, веревка укорачивается еще больше, и он все так же скалит зубы, как бы со смехом извещая небо о своем бессилии. «Твоего осла нам придется забрать, — сердито говорит Александр. — Я его не ласкаю: я его краду!» — «Забирай… ради бога, избавьте меня от него! — отвечает хозяин осла, и в его голосе звучит улыбка, ласка, желание поддержать шутку. — Если у тебя нет денег, бери даром. Меня он все равно не уважает… не научил, не сумел!» — «А что, если у меня есть деньги, а тебе я не заплачу? Все равно отдашь?» — пристает к нему Александр, сам не понимая, зачем это делает, чем провинились перед ним то ли осел, то ли его хозяин. «Ну, это уж разбой… — смеется хозяин осла. — Ладно, не плати… на него ж эти деньги и потратишь!» — «А может, я и есть разбойник?» — не отстает Александр вместо того, чтобы взять Марту за руку и уйти; но именно потому, что Марта его слушает, он и сам не знает, что говорит, к чему затеял эту распрю с крестьянином, почему ему кажется, что, подняв сейчас с земли свой тулуп и отойдя прочь, он унизился бы в глазах Марты. «Добро должно быть врожденным…» — по-змеиному шипит кто-то ему на ухо, и он раздражается еще больше, становится еще злей! «А может, я и есть разбойник!»— кричит он хозяину осла. «Ну да-а…» — спокойно отвечает тот, и его доверчиво улыбающиеся глаза по-деревенски долго вглядываются в Александра. «Да или нет — это ты узнаешь после! Ты мне скажи: что б ты в таком случае сделал? А? Что б ты сделал, я тебя спрашиваю?» — не отстает Александр. Стоящая в стороне Марта терпеливо ждет дядю. «Да накормил бы я тебя прежде всего…» — отвечает хозяин осла. «А не будь я разбойником, ты б меня не накормил?»— продолжает Александр, все больше поддаваясь искушению что-то доказать Марте, стоящей за его спиной, тонущей в своем тулупе, выглядывающей из его мохнатого воротника, словно маленький лисенок. Искушение это глупо, наивно, смехотворно, но неодолимо — избавиться от него так же немыслимо, как от наглого ребенка хозяев дома, которого ты вынужден не просто терпеть, но и посадить себе на голову, если уж с самого начала, желая восхитить родителей своей добротой и чуткостью, не смог внушить ему уважения к себе, заставить его понять, что ты — взрослый! «Значит, не будь я разбойником, ты б меня не накормил?» — повторяет Александр. «Тоже накормил бы…» — улыбается хозяин осла. «Стало быть, тебе безразлично, разбойник я или нет!» — улыбается и Александр, но его улыбка суха и зла, словно его окончательно загнали в тупик, «А мне-то что? Есть разбойники, а есть и дураки вроде меня…» — отвечает хозяин осла; но сейчас видно, что все эти шуточки ему несколько уж поднадоели. Хорошенького понемножку; на рынок он приехал не лясы точить, а дело делать! Товар свой он оставил прямо на прилавке — лишь крестьянский инстинкт подсказал ему сходить посмотреть, как там его ослик; и слава богу, что пришел, не то этот однорукий верзила так и бросил бы его с туго затянутой на шее петлей… Сейчас он быстренько распустит веревку и вернется к прилавку: вот-вот должны уж появиться покупатели, и, если первый покупатель пройдет мимо него, торчать на рынке придется до вечера, такова примета! Об одноруком верзиле он уж и не помнит: думая только о покупателях, он одновременно толкает осла рукой, чтоб, обведя его вокруг дерева, расслабить веревку, поставить его как следует. Осел этот, плох он или хорош, — его спутник, его товарищ, и им еще немало идти вместе; а с этим одноруким они бог весть когда встретятся, да и встретятся ли вообще? Так что он несколько удивлен, когда однорукий вдруг спрашивает: «А сам-то ты разбойником стать мог бы?» Он глядит на однорукого растерянно, без улыбки, лишь потом ему вспоминается вся беседа. «Без меня в них нехватка, что ли? — нехотя, недовольно отвечает он, продолжая думать о своем, насущном, вечном… — Намедни тут одного убили. На месте прикончили. Тоже на базар вышел… вроде тебя вот! — оглядывает он Александра, словно лишь сейчас впервые заметив его. У крестьянина глубокие, грустные глаза; ему достаточно разок взглянуть на человека, чтоб составить себе о нем несокрушимое мнение. — Э-эх… нынче и разбойник уж гроша медного не стоит! И разбойника жаль…» Обойдя вокруг шелковицы, осел останавливается там же, где стоял прежде, до того, как Александру вздумалось приласкать его; его веревка свободно лежит на земле. «Вот тут и стой!» — говорит ему хозяин и уже любовно, ласково, дружески гладит его по крупу. Потом он, не попрощавшись со своим новым знакомым, возвращается к прилавку: словно они члены одной семьи и через минутку-другую непременно увидятся вновь. Александр глядит на Марту. Марта стоит неподвижно, по ее лицу не разберешь, нравится ей тут или не терпится поскорей тронуться в путь. Дядя и племянница одновременно улыбаются. «Пошли, посмотрим, чего он там продает…» — говорит Александр. Понемногу возникают из тьмы прилавки, их разделяет синеватый, пушистый воздух. На столбах прилавков, словно бусы дикарки, висят нитки сушеных персиков и инжира. Обычное утро кахетинской осени… Впрочем, его и утром-то еще не назовешь: ленивая, липкая, как патока, будоражащая мошкару и комаров тьма стала чуть пожиже и, как бы найдя узенький сток, медленно, незаметно стекает по нему в преисподнюю. В руках дяди и племянницы — по банке простокваши, которую они с аппетитом едят прямо из банок… остановившись возле прилавка, они на ходу завтракают прохладной, сытной простоквашей. «А ты, доченька, чья будешь?» — спрашивает Марту продающая простоквашу старуха. Стирая простоквашу, капнувшую на ее тулупчик, Марта вопросительно глядит на дядю. «Моя… наша!» — отвечает тот. «Любишь простоквашу?» — не отстает старуха. «Не знаю!» — мгновенно отвечает Марта. «Как так не знаешь? Ты уж не маленькая…» Старуха, кажется, вдруг влюбилась в закутанного в грязный тулупчик ребенка, — должно быть, этот чужой ребенок напомнил ей собственных внуков, которых она утром оставила спящими, заставил ее почувствовать, как она уж по ним соскучилась! «Простоквашу она ест впервые в жизни», — поясняет Александр. «Как же это ты, бедненькая?» — искренне сокрушается старуха.
Теперь видны уж и дома, отделенные друг от друга маленькими огородами и фруктовыми садиками. Светает. Уже рассвело… Цнори блестит и сверкает — влажная, свежая, как дно только что ушедшего в землю озера. «Ну, пошел!» — слышатся голоса осмелевших, повеселевших от утреннего света людей. По дороге, покачиваясь между изгородями, плетется черный дилижанс, и вышедшие с рынка Александр и Марта долго провожают его глазами. Теперь тулупчик Марты тоже под мышкой у Александра. Без тулупа Марта кажется еще меньше, еще худее и слабей. Ее бледные костлявые плечики покрыты веснушками, висящая на шее связка сушеного инжира доходит ей чуть ли не до колен. На балконе одного из домов вывешена черная ткань, на которой что-то написано, но с того места, где стоят дядя с племянницей, можно разобрать лишь первую строку, первые три слова. «О-пла-ки-ва-ем-без-вре-мен-но-по-гиб…» — по слогам читает Марта; на остальные слова падает яркое солнце, они расплылись, растаяли в сверкающем свете. «…Нико Макабели», — мысленно продолжает Александр. Сквозь поднятую дилижансом пыль плетутся гуси; дилижанс останавливается у вокзала. Марта и Александр по-прежнему глядят на балкон с траурной надписью, рядом с которой висят только что заготовленные чурчхелы. Смерть и жизнь столкнулись лбами, и ни та, ни другая уступать не хотят. Бог весть сколько имен безвременно погибших скрыто в сверкающем свете! Прикрепленная к балкону траурная ткань наполняется ветром, становится похожей на платье беременной женщины. Александр знает, что на черном написано имя совсем другого человека, но какое это имеет значение? Ему необходимо, чтоб и этот чужой дом оплакал Нико, его брата, человека, погибшего для него без-временней всех! «Нико нет… Нико никогда уж не будет», — ошеломленно думает Александр, словно лишь сейчас, сию минуту узнав о смерти брата… то есть не узнав даже, но сейчас лишь впервые по-настоящему почувствовав, что его брата нет. Там, под чужим небом, где он не провел с Нико и минуты, где ничто ему о Нико не напоминало, ощутить это, даже просто поверить в это было трудней — там все время оставалась искорка надежды, что и это, вместе со всем остальным, в конце концов окажется просто кошмарным сном. Надежды этой не могла развеять и могила — того, что Нико в ней действительно похоронен, Александр не видел; никогда не видел он и покоившейся рядом с Нико женщины. Зато Марта, увидав его, сморщила носик точь-в-точь как Аннета, и это сразу напомнило ему так много, казалось, навсегда уж забытого, вычеркнутого из сердца, что сразу перевесило все доводы, подтверждавшие смерть Нико, рассеяло их — или, во всяком случае, лишило их всей их твердости, всей их убедительности! Маленькое существо, морщившее носик точь-в-точь как Аннета, лишь подтверждало бытие Нико, подлинность Нико, делало очевидной вечность крови, ее волшебное свойство творить подобное, без конца повторять одно и то же лицо! Здесь же, на родине, кусок черной ткани на балконе, извещающей о чьей-то безвременной гибели, вывел Александра из его многомесячного сна, окончательно убедил его в смерти брата, вынудил его поверить в эту смерть с той же леденящей, безнадежной ясностью, с которой когда-то, в монастырской келье с узким окном, в темноте, спугнутой слабым светом чадящей лампы, он, изнуренный болью, бессонницей, невыносимым запахом собственной, но уже мертвой плоти, поверил наконец в потерю руки… «Его нет… его никогда уж не будет!» — думает Александр, не в силах отвести глаз от траурной ткани. Это маленькое черное пятно невольно привлекает взгляд своей неожиданностью, своей несовместимостью с покоем и чистотой раннего утра. Не все ли равно, чье имя там написано? Хорошо, что солнце не дает прочесть надписи, — подразумевай кого хочешь! Солнце как бы прикрывает рукой имя вычеркнутого из жизни человека, потому что погиб он безвременно, непредвиденно и природа к его смерти непричастна. Он — жертва слепого случая или коварства и злобы ближнего, а не божественной природы, жертва человеческого закона, а не закона природы, гораздо более милостивого, чем человеческий! Ибо по закону природы человек умирает постепенно, постепенно приучается к смерти; человеческий же закон умерщвляет сразу, без предупреждения, без подготовки — не умерщвляет, а губит! «О-пла-ки-ва-ем-без-вре-мен-но-по-гиб…» — по слогам читает Марта. «Кого? Что?» — спрашивает она дядю. Это первая надпись, которую она читает на родине, — и то прерванная, незаконченная, стертая сверкающим солнцем, как бы специально для того, чтоб еще больше заинтриговать, взбудоражить разум ребенка. «Нико Макабели, Лизу Макабели, Аннету Макабели, Александра Макабели, Тедо Схирели, Евгения Микадзе, Ладо Тугуши. И Маро тоже… — про себя отвечает Александр. — Как же нас, оказывается, много!» — мысленно удивляется он сам. Это — лишь те, кого он знает; а скольких же он не знает? Какая траурная лента вместит имена всех безвременно погибших. Это была б уж не лента, а немыслимо растянутая дорога, черная, проходящая через все дома, через все деревни, через все города и страны дорога, сплошь покрытая вкривь и вкось написанными именами, словно бесчисленным войском, сраженным без боя, коварно преданным, обреченным уже заранее… не дорога смерти, которую рано или поздно пройдет каждый, а дорога погибели, предназначенная для тех, кто обманут судьбой или восстал против судьбы!
— А что же это я тебе чурчхелы попробовать не дал? — говорит Александр, говорит потому, вероятно, что рядом с черной тканью на балконе висят чурчхелы, и ему нужно, чтоб Марта взглянула на них, выкинула из головы мысль о смерти, не испугалась здешних мест с самого начала, не почувствовала, что напрасно уехала с поселения, что там ей жилось бы не хуже. — Смотри, какие большие! Это из цельных орехов. Агатия делала такие же… А прежде чем она нанижет орехи на нитку, мы, бывало, половину утащим! Ох и ругалась же она… это было еще веселей, чем сама чурчхела. И патоку лакали совсем горячей! Волдыри на нёбе выскакивали…
— Знаю! — отвечает Марта. — Папа мне рассказывал…
Солнце встает все выше, набирается сил и вместе с остатками тьмы окончательно поглощает черную ткань, окружает ее сверкающей пылью лучей. Солнце и смерть рядом не умещаются! Траурная ткань гудит на ветру, борется; белая надпись на ее волнистой поверхности вьется, как стебель вырванной с корнем водоросли. Александр смотрит на солнце — теплый воздух ласкает ему лицо, заставляет его невольно закрыть глаза и улыбнуться. Марту он не видит, но знает, что сейчас и она, закрыв глаза и сморщив носик, как Анкета, стоит лицом к лицу с солнцем. Почему человек и наслаждаясь, и испытывая что-либо неприятное закрывает глаза? Не для того ли, чтоб хоть на миг отделиться от мира, побыть наедине со своим наслаждением или страданием, поделиться которыми он ни с кем все равно не может? Вот и все… настал последний час его многомесячного сна. Все таинственные, подозрительные звуки стихли, потонули в тишине дня. Кончился сон, из которого Александр вынес смерть Нико и жизнь Марты, боль и цель, которые начиная с этого дня должны будут направлять его жизнь, делать все его существование необходимым, ясным, простым — и все-таки говорящим столь же много, как траурная ткань на балконе. Воробьи кружатся вокруг наполовину склеванной виноградной кисти. С висящего на заборе паласа ручейками стекает вода. На нем, видимо, стоял гроб; но солнце и вода легко удаляют запахи и испарения смерти — теперь на кем могут снова кувыркаться дети. Александр щурится от жаркого солнца, хотя его тело все еще хранит приятную прохладу. Наверно, благодаря съеденной давеча на рынке простокваше… «Потише, сынок, куда ты так спешишь?» — говорила ему продававшая простоквашу старуха: и Александру почему-то вдруг вспомнилась ночь, когда бабушка угощала его бисквитом. Но воспоминание это его не опечалило, а обрадовало: ему было приятно показать Марте, как просто, по-матерински говорила с ним незнакомая старуха со сморщенным подбородком. Вместо того чтобы с руганью прикрыть свои банки (а вдруг он действительно разбойник?), она глядела на глотавших ее простоквашу дядю и племянницу с такой грустью и любовью, словно они были ее близкими, ее детьми! В надежде на таких вот простых, добрых старух он и привез Марту из ссылки, тайком, как контрабанду, доставил на родину ее спасенную жизнь; но сейчас, когда им осталось всего пять километров до дома, который Марта любит, хоть никогда его и не видела, к которому она стремится, как перезимовавшая на чужбине ласточка, он впервые з жизни с болью, с сожалением и досадой понимает вдруг, что в действительности этого дома давно уж нет, что большинство его обитателей умерло, а люди, живущие в нем сейчас, совсем не таковы, какими Марта их себе представляет. В сущности, он ведет ее в чужой дом, под чужой кров, заманивает ее в ловушку, как птицу! Там, на краю света, ему и в голову не приходило, какое зло он творит, поддерживая в Марте веру не только в существование дома, но и в царящие якобы в нем покой, красоту, согласие, о которых она столько слышала от отца и в которые, впрочем, Александр там верил и сам — так далеко от родины находился тогда и он, так нуждался и он в существовании где-то за тридевять земель именно такого дома! Тогда он ни на минуту не задумывался над тем, как тяжела будет для Марты потеря веры и мечты, завещанной ей отцом; затерявшись в бескрайних просторах, он и сам с удовольствием предавался этой мечте, чувствуя, видимо, что иначе им оттуда не выбраться обоим. Задумываться он стал лишь потом, уже миновав Дарьял. И, лишь оказавшись в безопасности и став единственным защитником Марты, он впервые по-настоящему увидел брата, понял его величие и силу, понял и то, каким недобрым и эгоистичным, каким маленьким и слабым был всю жизнь сам в сравнении с Ни-ко… Всю жизнь оплакивая свою руку, так и не сумев примириться с ее потерей, он не заметил, как вместе с рукой потерял и человеческий облик, выплеснул его, словно ребенка с водой, в которой его выкупали! Он позавидовал брату, не смог простить брату того, что тот спасся, а его брат, уже обреченный, умиравший под чужим небом, думал только о спасении в нем человечности, до последней минуты верил в него, гордился им и в дочери воспитывал доверие и любовь к нему, заслуживавшему лишь недоверия и ненависти! Нико думал не о мести — его заботило лишь воскрешение человечности, которую в его брате с самого детства оглушил, спугнул гром пороха, предназначенного для взрыва свинарника. «Мы хоть знаем, за что гибнем, и наша смерть лучше жизни многих!» — говорили товарищи Нико… и теперь-то Александр понимал, что Нико, который некогда от страха и волнения не смог и спички зажечь, чтобы взорвать полуот-сыревший порох, добровольно пожертвовал собой не для того, чтоб у империи стало одним генералом меньше, а для того, чтоб заставить брата увидеть собственные ничтожество и слепоту. Стыдно было ныть о потерянной в детстве руке, когда спасать следовало детство, мечту, красоту вообще, когда изуродована была вся земля, заживо гнившая от бессилия, рабства и затаенного в сердце гнева; когда самодержавие, одетое в рясу священника или сюртук учителя, ставило голыми коленками на кукурузные зерна тысячи детей, виновных в том только, что они говорили на родном языке; когда у поэта, певца свободы, до сих пор дрожала рука, в детстве покалеченная инспектором гимназии! О положении своей родины Александр узнал лишь в Сибири; поэтому, возможно, он и поддержал мечту Марты, почувствовав, поняв, увидев, как эта мечта сохраняет в родившейся на каторге девочке любовь к цветам и ласточкам. Любовь эта окутывала все ее крохотное, слабенькое существо — и Александр не имел никакого права рвать, как платье Аннеты, чувство, призванное защитить жизнь и чистоту души Марты! Понял он и то, что, рассказывая дочери лишь о добром и скрывая от нее все дурное, Нико делал это вполне сознательно, ибо допускал, что она, возможно, вообще никогда не увидит родного дома; именно поэтому дом этот должен был стать в ее душе символом добра, чистоты, любви — для того, чтоб такой же дом она всю жизнь стремилась создать и сама. Так что отец ее не обманывал, а лишь прививал ей веру — веру и гордость, без которых человек неотличим от скотины, в загоне ли она находится или на пастбище! Там, в ссылке, мечта эта была не только оправданна, но и необходима для спасения жизни и души Марты— здесь же, под родным небом, спасительная мечта эта сама вдруг оказалась в опасности, сама могла в любую минуту лопнуть, как мыльный пузырь, и шипя присохнуть к лицу обманутого ребенка. Тогда, вместо добра, у Александра вышло б опять зло; тогда б он не спас, а еще верней погубил бы Марту, которой, возможно, было б и лучше порхать на крыльях своей мечты в чумном воздухе каторги, чем внести труп этой мечты в воображаемый дом цветов и ласточек! После Дарьяла дорога домой стала быстро таять. Случайные попутчики сажали Марту то на лошадь, то на телегу, а Александр не смел сказать ей, что и Анна, и Агатия, и Бабуца, из уст которой внучка мечтала услышать «Амиран-Дареджаниани» и «Витязя в тигровой шкуре», давно уж умерли, что теперь в их доме хозяйничает женщина с сиплым голосом и губами, лоснящимися от бесконечного сосания конфет… женщина, которую Александр и сам знает не больше чем Марта. Единственный родной человек, которого они, возможно, встретят дома, это Аннета, но не та, какой ее представляет себе Марта, а парализованная страхом, поруганная, побежденная, поверженная, навек примирившаяся с судьбой, которая за первый же в ее жизни смелый поступок превратила ее в безжизненную куклу, усадила ее под липами, запечатлела на ее лице вечную, как у Асклепиодоты, улыбку: улыбку, за которую куклам прощают их глухонемоту и неподвижность… Теперь-то, кстати, Марта не увидела б и Асклепиодоты, похороненной позади хлева вместе с Агатией, да этого Александр не знал еще и сам. Однако он не мог сказать и того, что знал: в мечтах Марты все ее родные были настолько живы, что было б действительно великим грехом сразу, одним взмахом руки убить их всех вторично! Поэтому он держал язык за зубами; но, когда гостеприимный хозяин дома, в котором они останавливались на ночлег — каждый раз другой, но всегда одинаково приветливый, — желал улегшимся в гостиной дяде и племяннице спокойной ночи и темная комната наполнялась ровным дыханием уставшей за день Марты, Александр приходил в ужас, представляя себе минуту, когда в глазах девочки появятся разочарование и досада, и она с упреком взглянет на дядю, не пощадившего ни ее самой, ни ее мечты. Этого нельзя допустить… бог обязан помочь Александру хоть в том, чтоб Марте не захотелось обратно на каторгу, от которой она отказалась из любви к родному дому! В этом доме она непременно должна найти хоть крупицу этой завещанной ей отцом любви — и дать ей эту любовь может только Аннета. Аннета должна еще раз простить братьев, еще раз принести себя в жертву братьям и, как-нибудь преодолев страх и немочь, выбежать навстречу Марте, она, а не какая-то сиплоголосая баба! Аннета, одна Аннета вправе и вывесить на балконе черную ткань, и сказать «оплакиваю безвременно погибшего Нико Макабели» — сказать если не вслух, то хоть про себя. Бог создал ее сестрой двоих обреченных, и из материнского чрева она вынесла любовь к этим обреченным, сильней и беспощадней которой не может быть ничего на свете: любовь-обязанность, возникающую вместе с зародышем и навязывающую тебе свою власть еще до того, как ты откроешь глаза, обретешь разум и способность к выбору. Не дай бог, чтоб чувство это оказалось несоответствующим твоей природе или заставило тебя хоть раз задуматься, — ни избавиться от него, ни даже хоть как-то его преобразить совершенно невозможно, и тот, кто попытается это сделать, изведет себя так же понапрасну, как человек, решивший избавиться от врожденного горба или уродливого носа. Любовь брата и сестры — милость божья; но она может стать и гневом божьим для того, кто, подобно Александру, не почувствует ее блага с самого начала. Подавление этой любви от чувства вины, может, и избавляет — но взамен непременно рождает ощущение собственного ничтожества… Да нет — и чувства вины это вовсе не уничтожает, а, напротив, так обостряет, что рядом с ним выглядишь совсем уж жалко! Это-то Александр понимает, в этом ему можно поверить, ибо это он испытал сам — собственными глазами увидал свое ничтожество год назад, под липами во дворе отцовского дома, когда совершенно чужой их семье человек пустил ему кровь из носу за то, что он забыл брата и осудил сестру! А сестра-то его тогда все-таки пожалела — от жалости ее испуганные глаза стали еще больше, в них-то он и увидел свое окровавленное лицо… Погибнет ли он безвременно, как Нико, или перевалит за сто лет, как его дед, чувство это впредь всегда будет для него самым сильным, самым мучительным и чистым! Получалось ведь так, словно и его брат, и его сестра нарочно бросились в беду для того только, чтобы помочь ему, не дать ему стать скотиной, заставить его заново обрести у парализованных, укутанных пледом ног одной и у заснеженной могилы другого давно утерянную, давно отвергнутую им любовь, удивленную, как глаза Аннеты, чистую, как снег на могиле Нико… Но и Аннета должна знать, что Александр ее любит, что в этом огромном мире она — единственный человек, по-настоящему ему близкий, дарованный богом, выделенный для него богом из океана чужих, равнодушных, недоверчивых людей. А еще важней, чтоб эту любовь почувствовала, увидела Марта! Тогда, возможно, удастся спасти и ее мечту; тогда, возможно, ей тут и понравится, и она не станет тосковать по привычному гнезду, где у нее хоть могилы родителей были! Впрочем, и это вскоре выяснится. Сколько б Александр ни медлил — раз уж они сюда приехали, надо пройти и эти пять километров, последнюю, но оказавшуюся самой трудной часть пути. Александр глядит на вывешенную на балконе черную ткань, и перед его глазами снова встает разодранный воротник Аннеты, бретельки ее сорочки и слабенькое, до слез слабенькое плечо. «Шлюха!» — слышит он собственный голос, и это ужасает его и сейчас; и сейчас у него сжимается сердце, когда он вспоминает удивленные, испуганные глаза сестры. Единственная рука Александра и сейчас помнит, как сопротивлялась ткань ее платья — сопротивлялась, как прилипший к ране бинт! Но он разодрал эту ткань… разодрал, потому что был слеп и бессердечен! И все-таки нагота сестры его встревожила, заставила вздрогнуть от жалости, показалась ему и впрямь похожей на смертельную рану…
— Ну что ж… идти надо, — говорит Александр Марте.
— А вдруг мы там никого не застанем? — спрашивает она, не поворачивая головы и как бы отвечая не на слова, а на мысли дяди.
— Застанем, детонька, не бойся! А если и нет — я ведь тут, с тобой… — пытается успокоить ее Александр, сам встревоженный ее словами.
— Я не боюсь… — говорит Марта. «Ничего я не боюсь!» — добавляет она про себя.
Цнори блестит на солнце, словно ее посыпали толченым стеклом. За спиной у Александра и Марты гудит рынок. Перед зданием вокзала поблескивает черный дилижанс; кучер подает залезшему на его крышу мальчику чемоданы и узлы. Вдоль новых домиков стоят невысокие, еще молодые орехи. От пота на рубахе Александра появились два бесформенных черных пятна, словно ему только что отрезали крылья и из ран еще сочится горячая, дымящаяся кровь. Он идет, шагает по проулку, и за ним следует Марта. Спугнутые ими воробьи садятся на колья изгородей, дожидаясь, пока они пройдут, чтоб вернуться к своей кучке навоза посреди дороги. Девочка, на вид сверстница Марты, ухватив козленка за рога, куда-то его тащит; козленок сопротивляется, тянет девочку в сторону, своими негнущимися ножками скребет землю, и его влажные, удивленные глаза глядят на Марту. В глубине двора женщины, прикрыв рты белоснежными косынками, топят печь для выпечки хлеба. Над гудящей печью колышется теплый воздух, из нее вылетают пепел и искры. В высыпанной у забора золе копошится черная курица с красным гребешком — кажется, что и она одним глазом рассматривает Марту. Все это Марте уже знакомо. Чуть ли не всю дорогу от Дарьяла до Тбилиси они прошли пешком, лишь от Тбилиси до Цнори ехали поездом; но многое она успела разглядеть и из окна поезда. Цнори, впрочем, не похожа на другие деревни: ей не хватает выцветшей от времени черепицы, дремотного уюта старых каменных стен. Этого Марта, конечно, еще не понимает — она лишь чувствует в этом пыльном, открытом на все стороны просторе что-то непривычное, а вместе с тем и очень знакомое! Но Цнори уж позади, сейчас дорога идет через поле, не дорога даже, а узенькая тропка, утоптанная ногами и копытами и четко выделяющаяся среди желтого, выцветшего поля. Впереди — У руки, деревня отца Марты, которую Марта очень любит, хоть и никогда ее не видела. Любить Уруки она обязана, ибо пока Уруки стоит на земле, ее родители не совсем еще мертвы, — так объяснил ей отец, и Марта счастлива, что Уруки существует. Ее дядя напрасно боится: кто бы и как бы ни встретил их дома, любовь эту из ее сердца не вытеснит уж ничто! Марта вовсе не такая маленькая и не такая глупая, как воображает дядя Александр. Она знает гораздо больше, чем ей следует знать. Она знает, что их семья не будет счастлива никогда, что, пока безумный Слмн плачет у себя на печке, быть счастливым не вправе никто, и она сама тоже! Так что дядя зря медлит: она ничему не удивится, ничего не испугается. Она спаслась, чтобы спасти то, что еще можно спасти, — так говорил отец, и Марта, прирожденная каторжанка, скорей помрет, Скорей голодом себя уморит, чем забудет слова своего отца и товарища. Она думает лишь о том дне, когда с могил ее родителей можно будет снять ограды из колючей проволоки, засыпать эти могилы землей и цветами из Уруки, — а ее дядя все боится, что Уруки ей не понравится! Пробыв на каторге чуть подольше, он тоже понял бы, что родину так же не выбирают, как мать! Вот почему Марта так бодро шагает по выгоревшему, пыльному полю. Позади нее Цнори, удушливое, потонувшее в выжженной солнцем котловине обиталище мошкары и комаров, пристань для всех тронувшихся с места, пустившихся в путь людей; но и оно так же дорого и необходимо Марте, как каждая пядь земли родины. В ее ушах все еще стоит бессмысленное, бесконечное жужжание рынка; перед ее глазами и сейчас пестреют прилавки со всевозможной снедью — но ее по-прежнему ничуть не удивляет, что при ее появлении никто не забил тревоги, не прикрыл своего товара, что на нее, каторжанку и дочь каторжан, все глядели с состраданием и любовью. «Народ у нас добрый, этим лишь он до сих пор и держится…» — говорил ее отец; а сейчас Марта как раз о доброте и думает! Ее интересует, на чем держится сама доброта, чем она питается, где спит, почему она порой лишь мелькает, но не видна целиком, так, чтоб ее не надо было искать и угадывать. Неужто и доброту нужно расходовать так же бережно, как хлеб, воду и соль… неужто излишек ее так же вреден, как неумеренное потребление хлеба, воды, огня или соли? «Показать тебе рай?» — почему-то вспоминаются ей слова мальчонки, сына пастуха в Пасанаури. У него был грубый, жесткий, неподатливый, как еловая ветка, чубчик и черные глаза с прыгающими в них бесенятами. Он волновался, явно стыдясь того, что задумал, и все-таки не отставал от Марты — возможно, в пику своей сестренке, уже готовой рассмеяться, прикрывшей рот рукой и егозившей на месте от нетерпения. Платьице с прожженным подолом едва прикрывало ее коленки. «Давай, давай… со мной только ты и храбрец!» — кричала она брату. «Ты только закрой глаза и подумай о чем-нибудь хорошем», — говорил мальчик Марте. Закрыв глаза, Марта увидела Ладо, и ей послышался его печальный, приятный голос. «В клетке я тебя растил, соловей ты мой весенний…» Одновременно Марта видела и свои покрасневшие от солнца веки, чувствовала, что ее глаза пульсируют, как сердца двух притихших в гнезде птенцов. «Глядите, глядите… вот они, влюбленные!» — крикнула сестра мальчика. «Трепло!» Дрожащий голос мальчика раздался почти у самых губ Марты, его дыхание защекотало ей губы. Она открыла глаза. Мальчик растерянно глядел на нее, его щеки пылали, теперь он, казалось, боялся Марты. «Она… она нам мешает!» — кивнул он головой в сторону сестры. «А, испугался… испугался, испугался!» — кричала та, прыгая на одной ноге и хлопая в ладоши. Но Марте и в самом деле на миг привиделось, верней, даже почувствовалось что-то райское, и она была счастлива, очень счастлива. Она подошла к мальчику и сама поцеловала его. Мальчик сконфуженно взглянул на сестру и улыбнулся; потом он схватил валявшийся на земле прутик и стал рубить крапиву под забором. «Вот тебе… вот тебе!» — восклицал он при каждом взмахе прутика, со свистом сбрасывавшем к его ногам, словно головы гадюк, жалящие, ворсистые, почерневшие листья крапивы…
Ветер обрушивается на Марту то со спины, то сбоку, вскидывает ее платье и, на мгновение задержавшись под ним, сразу охлаждает тело, нагретое строптивым сентябрьским солнцем. Потом, отстав от Марты, он своими незримыми пальцами шарит в траве, словно лихорадочно разыскивая в ней что-то известное ему одному. Порой из травы взлетает горлица, и ветер пускается в погоню за ней. Редкие, одинокие кусты колышутся и, словно связанные и живьем ощипанные стервятники, тщетно пытаются взлететь на своих крыльях без перьев; а перья эти кружатся по ветру, красные, желтые, оранжевые, перламутровые! В конце поля видны развалины церкви. Ветер обрушивается и на тулупы под мышкой у Александра, заставляет их вздрагивать, словно Александр несет живую овцу и с трудом удерживает ее в руках, не дает ей соскочить наземь. Марта знает, что им надо пройти мимо развалин церкви, — это Александр объяснил. После развалин церкви они выйдут на большую дорогу, немного пройдут по ней, потом немного еще, и тогда покажется обнесенный каменной оградой двухэтажный дом Макабели. Узнать его ей будет нетрудно, в этом она уверена. Она даже просит дядю не предупреждать ее. Ей интересно, узнает ли она свой дом сама; не узнав его, она была б огорчена. От Евгения Микадзе она не раз слыхала, что настоящему каторжанину и революционеру нужно только объяснить, куда идти, и он найдет дорогу не только у себя на родине, но и в преисподней! Революционерка Марта, может, и не настоящая, но каторжанка она настоящая, этого и ее друзья не отрицают. Возможно, и более настоящая, чем они сами, ибо, в отличие от них, уже с молоком матери всосала первый закон каторги: лучше бороться без надежды, чем жить одними пустыми надеждами! «Как только остановлюсь, он сразу оглянется…» — думает она и все-таки останавливается, ибо не остановиться не может. И в тот же миг Александр, словно его предупредили, поворачивается к ней и глазами спрашивает, в чем дело.
— Мне пи-пи нужно… — разъясняет Марта, сморщив носик точь-в-точь как Аннета.
Улыбнувшись, Александр продолжает свой путь — уже медленней, словно, задержавшись хоть на минутку, Марта может и вовсе потеряться в этом открытом поле, в котором ей виден лишь он, а ему — лишь она.
Александр улыбается… Увидав его лицо сейчас, каждый, вероятно, счел бы его умалишенным, и все-таки отныне он, проходя по этому месту, всегда будет так же улыбаться, представляя себе присевшую в сухой, негнущейся траве Марту. «Пусть только ее кто-нибудь обидеть посмеет… или нос перед ней задрать!» — думает Александр и с детской улыбкой идет вперед, напряженно, всем телом ожидая мига, когда Марта его нагонит. Впереди виднеются развалины церкви и увядшие кроны старых орехов, и, хотя церковь расположена по эту сторону дороги, а орехи по ту, отсюда кажется, что кроны деревьев вырастают прямо из провалившейся крыши церкви. Ветер уже пахнет палым листом и почерневшей ореховой кожурой, запах этот густ и силен. Марта догоняет Александра, и он даже не оглядывается — оглядываться ему ни к чему, он доверяет своему телу, и так почувствовавшему приближение девочки. У стены полуразрушенной церкви сидит женщина в черном. Ее лицо раскраснелось, сейчас она, видимо, отдыхает от быстрой ходьбы. Башмаки стоят сбоку; она сняла и платок и, расстелив его на коленях, положила на него кисти своих натруженных, потрескавшихся рук, как бы показывая их богу — вот, мол, па чем мир держится! Из-под ниспадающих складок платья видны ее ноги в чистых белых чулках. Без платка она кажется моложе, чем на самом деле, не моложе даже, а просто лишенной возраста, такой вот, как сейчас, родившейся и оставшейся навсегда. В ее густых и крепких, как конский хвост, волосах лишь кое-где проглядывает седина. Она сидит, задумчиво сжав губы, спокойная и прекрасная, как библейское древо, — вечная служительница бога и человека, вечная мать, жена, сестра, воспитывающая детей, пекущая хлеб и готовящая простоквашу, благословляющая и оплакивающая, сладким, как мед, пальцем пробующая первый зубок младенца и затвердевшей в горе рукой закрывающая глаза умершего, дующая на ожоги и накладывающая бальзам на раны, вся пропитанная запахами младенческой мочи, хлеба и очага… в час радости застенчиво стоящая в стороне, а в беде сущая ведьма, самоотверженная, как волчица для своих волчат; не укоряющая и не благодарящая бога, а просто уважающая его, знающая и ценящая его, как подобает знать и ценить достойного партнера; не несчастная и не счастливая, как сама жизнь, не веселая и не грустная, как дух жизни, не молодая и не старая, как природа, но сильная и непреклонная, как мать Амирана и Медеи, и гордая и наивная, как их дочь.
— Здравствуй, мать! — говорит Александр и останавливается, словно он заранее ожидал встретить эту женщину именно тут, у заросшей бурьяном, стоящей без крыши церкви, словно так оно и было задумано с самого начала.
— Здоровья тебе, сынок… — спокойно, без удивления отвечает женщина.
Марта стоит в стороне, но ветер толкает ее, гонит ее вперед, как бы говоря: «Чего ты стоишь? Подойди, поцелуй ее — она тебе и мать, и тетя, и бабушка!» Марта сопротивляется ветру, она обеими руками придерживает свой подол, как бы подставив его незримым плодам незримого древа добра, и ей кажется, что под тяжестью этих плодов ее руки вот-вот не выдержат, ее платье вот-вот порвется. Ветер заигрывает с Мартой, а ей чудится это незримое древо. «Древо добра… древо добра, кинь мне милостыньку!» — шепчет она про себя, радуясь этой новой, придуманной ею игре.
— В Цнори направляетесь? — спрашивает Александр женщину.
— Да… на внучек взглянуть хочу, — говорит она, как бы лишь сейчас заметив Марту, которая, обеими руками придерживая подол своего платьица, слегка наклонив голову и сморщив носик, глядит ей в глаза так, будто ждет от нее милостыни. — У меня тоже девочки… такие, как ты, — говорит она Марте. — Одной уж пять, другой три… Расти большая, доченька, всем на радость…
— А у меня и бабушки нет… у меня и бабушка умерла! — говорит Марта, сама себе изумляясь: говорит это впервые в жизни, впервые в жизни высказывает вслух свое тайное подозрение и печаль. Обескураженная, как заключенный, в минуту слабости выдавший важную тайну, она и сама чувствует, как краснеет, как на ее лице появляется мучительный красный жар. Но она сердится лишь на себя, хотя минутная ее слабость и вызвана спокойным, чуть усыпляющим запахом этой чужой женщины, с которым не может справиться и ветер — и ветер бессилен развеять или хоть разбавить, умерить этот запах, и Марта с головы до пят увязла в нем, словно в постланной матерью постели. Она чувствует, что ее слова обеспокоили, заставили вздрогнуть и эту сидящую у стены полуразрушенной церкви женщину, и ее дядю, особенно, конечно, дядю, не подозревавшего, что Марте известно и это. Марта не пощадила его, не дала ему обмануть себя до конца, хотя понимает, что лгать и лицемерить его побуждала лишь доброта, заставлявшая и ее отвечать неправдой на неправду.
— Наверно, умерла… — пытается она исправить свою ошибку. — Будь она жива, неужто не поинтересовалась бы узнать, что с нами? Последнее письмо четыре года назад получили…
— Смерть, доченька, это такой верблюд, который у каждой двери остановится! — говорит женщина. — И меня она тоже пощипала. Один сын в земле, другой в солдатах без вести пропал… Невестка не хочет переходить жить ко мне: все надеется, все ждет! — добавляет она, помолчав. Горе чужого ребенка вынуждает ее признаться и в собственной беде, словно признание это может утешить, ободрить, сделать их товарищами по несчастью…
— Благослови нас, матушка… видишь, сироты мы! — через силу улыбается Александр, чтоб хоть как-то сдержать свой дрожащий подбородок.
— Благослови вас бог, сынок, пошли вам бог долголетия… — со вздохом отвечает женщина. — Что ж поделаешь: вся наша жизнь — вдовство и сиротство! И все-таки жить надо… — добавляет она мгновение спустя…
Гудит невидимое древо добра, и его незримые плоды с шумом летят в подол Марты!
«И все-таки жить надо, — повторяет про себя Александр слова женщины. — Да, жизнь такова… и все-таки люди любят, спрашивают друг о друге, надеются, ждут…» Они с Мартой идут уже по большой дороге; теперь он идет сзади, чтоб хоть немного прикрыть ее от пыли, вздымаемой ветром выше деревьев. Они идут как в тумане, и все-таки Марта бодро топает по пыли. Сейчас она даже довольна своей давешней неосмотрительностью: она избавила дядю хоть от одной заботы, теперь и он знает, что Марта не удивится, не застав дома бабушки. Она идет, топает по ныли, довольная и возбужденная, как ребенок, благополучно слезший с чужого фруктового дерева. «И женщину эту забыть нельзя… — думает Александр. — Чем больше живешь, тем больше приходится помнить, и все-таки надо суметь запомнить все! Надо!.. — словно убеждает кого-то он. — Забыть — это значит потерпеть поражение!» А впереди, топая ножками, как жеребенок, идет Марта; закрыв глаза от пыли, она смело шагает по еще незнакомой, но родной земле. Ветер кружит пыль, и одинаково оголенные деревья наклоняются в одну сторону, как бы не желая расставаться со своим последним, единственным листком, кружащимся в воздухе над головой Марты, не принадлежащим уже ни земле, ни небу, обреченным на вечное круговращение между землей и небом, лишенным света и цвета, как погасшая звезда… «Ты — Христос в Варавве и Варавва во Христе. А так нельзя! Надо быть или тем, или другим!» — вспоминаются вдруг Александру слова отца Зосиме. «Я — не Христос и не Варавва! — лишь сейчас мысленно отвечает он священнику. — Я Александр… Александр Макабели, дядя вот этой маленькой девочки… и пусть только кто-нибудь посмеет встать ей поперек пути!» Никогда еще в жизни он не был так счастлив, так свободен, а главное, так спокоен. Он сам не знает, что с ним, не в силах понять, что с ним стряслось, что внушило ему такое настроение, но самое главное он уже понял, увидел, твердо осознал. Легко, как пыль, рассеялось вековое сомнение; простой и беспочвенной, как этот порхающий по ветру листок, стала для него вековая загадка: «Кто я и зачем я существую?» Он — дядя этой маленькой девочки и существует, чтоб заботиться о ней! Ободренный выяснившейся простотой этой загадки, он идет, жадно вдыхая густой от пыли воздух и с силой выталкивая его раздувающимися ноздрями, суровый, могучий, как боевой конь! Сейчас, когда до родного дома им остались считанные шаги, он окончательно убеждается в том, что все происходящее вокруг происходит наяву, что он действительно Александр Макабели, что впереди него действительно идет Марта, дочь Нико, его плоть и кровь, оправдание и утверждение его собственного существования… маленькая, слабая еще, а все-таки жизнь — упрямая, растущая, смелая, радостная и, благодаря своему дяде, этому однорукому верзиле, навек спасенная, навек вернувшаяся домой. А большего с однорукого и спрашивать нечего!
Дом без любви
Не всегда легко определить, почему литературное произведение завоевывает власть над читательскими умами, почему начинает казаться особенно ярким писательское имя.
Еще труднее найти глубинные причины усиленного звучания той или иной национальной литературы рядом с другими, не менее развитыми, не менее богатыми на талантливые книги.
Грузинская советская литература всегда заявляла о себе темпераментно и сильно. Но, пожалуй, ее участие в общесоюзном литературном процессе никогда не было столь заметным, как в последние годы. Раньше читатель в первую очередь с радостью различал имена своеобразных поэтических дарований Грузии; теперь настал час грузинской прозы. В нынешнем обиходе широкой аудитории и произведения Н. Думбадзе, постоянно заставляющие говорить о себе, и исторические хроники Г. Абашидзе, и роман Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа», завоевавший шумный и прочный успех… И еще одно имя, сразу же вызвавшее напряженный читательский интерес, — романист Отар Чиладзе.
Именно так — романист.
У каждой писательской репутации — индивидуальная логика.
Отар Чиладзе давно известен у себя на родине, да и среди знатоков за грузинскими пределами, как один из интереснейших, один из самых изысканных национальных поэтов. Он — автор многих поэм, в которых очень сильно лирическое, субъективное начало…
И вдруг «крупноформатная» проза, огромные романические конструкции, тяжелые глыбы жизненного материала, перевернутые перед читателем.
Вы прочитали роман «И всякий, кто встретится со мной…».
А перед ним был другой, «Шел по дороге человек», — прозаический дебют известного поэта.
Вернемся же к дебюту — он объяснит многое в этических й* творческих пристрастиях писателя.
…Однажды человека посещает чувство, что он — лишь небольшое звено в цепи сменяющих друг друга поколений; вереница предков— вплоть до самых дальних — проходит перед его мысленным взором; отдаленное прошлое стремительно приближается, обретая плоть и звучание. Время открывает перед человеком свою глубину и наполненность, жизнь его народа предстает ошеломляюще огромной, протяженной поистине бесконечно. Где четкая граница между вчера, сегодня, завтра в этом бесконечном временном потоке? Еще усилие сознания и воображения — и оживает история, наполняется гулом голосов и жаром страстей. Она создается сейчас, в это мгновение, она еще не стала историей, в ней все — движение, бег, порыв, извечное удивление перед будущим…
Такого рода ощущения знакомы, пожалуй, каждому из нас. Стремительное мчание окружающей действительности делает современника философом, стремящимся постигнуть глубинные, устойчивые закономерности людского бытия. История, даже праистория становится естественным полем изучения этих закономерностей.
Роман Габриэля Г. Маркеса «Сто лет одиночества» продемонстрировал, какую магическую силу выразительности таит в себе столкновение, совмещение, «сплющивание» разных времен, какой благодатный материал для исследования — это деформированная, полная неожиданно обнаруживающих свою связь реалий, режущая глаза своей четкостью действительность. У знаменитого колумбийца, само собой, немало подражателей, но, думается, его имя поминают излишне часто, пытаясь объяснить своеобразие литературных произведений, чьи авторы вольно обращаются с временем, резко сближая целые эпохи. В конце концов, в основе такого обращения— фольклорная «модель» мышления: в фольклоре самых разных народов границы между прошедшими временами весьма зыбки.
Наверное, у определенного сближения писателей разных традиций, разного социального опыта — нелитературные, в общем-то, корни. В историческом бытии каждого народа бывают моменты, когда он начинает с особой остротой ощущать длину пройденного пути и его краткость, сжатость перед лицом вечности, ибо впереди — еще больший, бесконечный путь Стирается граница между вчера, сегодня, завтра…
Читая роман Отара Чиладзе «Шел по дороге человек», ловишь себя на мысли, что перед тобой — репортаж, написанный очевидцем и свидетелем событий, которые произошли много столетий назад, задолго до нашей эры. Нет привычной дистанции, разделяющей автора-современника и воспроизведенные им события истории. Все свершается сейчас, свершается трудно и мучительно, рождается в муках, в реальной крови, в реальной грязи, далеко не всегда привлекательных реальностях быта.
Но репортажность романа — далеко не самая главная его примета. «Шел по дороге человек» — в числе произведений современной романистики, обогативших наши представления о типе исторического повествования.
Есть признанная классика грузинского исторического романа — тетралогия «Давид Строитель» и «Десница великого мастера» Константина Гамсахурдиа. Читать эти вещи интересно и поныне: из неторопливого, несуетного повествования встает средневековье, встает далекая эпоха со сложными междоусобицами, народами, несущими нелегкое бремя войн, подвигами ратоборцев и зодчих, тяжким движением людских масс. Одно слово: История. Когда в Гелатском соборе под Кутаиси ступаешь на теплую плиту, под которой покоится Дэеид Строитель, поневоле думаешь, что роман Гамсахурдиа сделал для тебя не чужими эти места, что он бережно донес шум далеких битв и кипение ушедших страстей.
И, рассматривая на каменной плоскости храма Светицховели легендарное изображение отсеченной человеческой руки, тоже с благодарностью думаешь о «Деснице великого мастера», воскресившей предание… В этих романах многое способно вызвать интерес любителя истории. Но они, изображая множество судеб и проявляя озабоченность историческими судьбами нации, не очень любопытствуют судьбой, характером, единственностью одного человека. Парадоксально? Однако посмотрим, чем занят разум царя Давида, прозванного Строителем, кроме бесконечных государственных забот и войн за единство Грузии? Несчастной любовью, пронесенной через всю жизнь. Черта характера, что и говорить, емкая, и все же ее маловато, чтобы мы поняли человеческое, нравственное своеобразие изображенного лица в его развитии. Что касается зодчего Арсакидзе в «Деснице великого мастера», то он окружен таким числом действующих лиц (а среди них столь важное, данное с многими подробностями, как царь Георгий, «меч мессии»), что поневоле придешь к выводу: биография, легенда — удачный повод для показа, раскрытия исторической эпохи, важного этапа национальной истории,
Напомню очевидное: литература последнего времени, отражая существенные сдвиги общественного сознания, демонстрирует пристальный, постоянно растущий интерес к миру человеческой личности, ее духовному потенциалу и нравственности. То, что это так, подтверждается и романами Отара Чиладзе.
Не ушедшая эпоха, а человек перед лицом стремительно истекающего времени становится главным объектом романического исследования.
Исторические реалии утратили для писателя прежнее значение — письмо обрело вольное, с явным учетом современных литературных тенденций, течение.
В романе «Шел по дороге человек» Отар Чиладзе пишет о колхах, своих далеких предках из легендарной черноморской страны. Отсюда — истовость письма, внутренний напор самоутверждения. Что ни говорите, а по этой земле ходили Ясон и Медея, здесь шли схватки вокруг золотого руна… Романист творит на площадке мифа, древнего предания, которую явно не забывает своим вниманием современная литература, столь чувствительная к национальному моменту. Надо ли говорить, что нередко миф — только «повод для».
Видимо, страсть к апокрифам заложена в человеческой природе. Иначе канонические памятники христианской литературы не обрастали бы таким числом апокрифических версий. Апокриф — это взгляд на авторитет сквозь призму сомнений и скепсиса. А разве так уж редко помогали людям познавать мир оплодотворенные ищущей мыслью сомнение и скепсис?
Умная непочтительность в отношении к общеизвестному — это сбрасывание пут догматизма, это возможность получить доказательства глубокой многозначности исторического факта, самой истории. Иронический апокриф может нести, таким образом, целую философию действительности.
Право же, ирония может быть названа спасительной, если она помогает писателю (а за ним — и читателю) по-новому, свежим и заинтересованным взглядом посмотреть на некоторые легенды национального сознания. Одно из примечательных, симптоматичных явлений современной советской литературы «Воспоминания о Ка-левипоэг» эстонского прозаика Энна Ветемаа, весьма вольное и приземленное переложение народного, национального эпоса. Эпический герой сошел с пьедестала, не потеряв, впрочем, своей привлекательности — и обретя достаточно сложные и многоплановые характеристики.
В способности подвергнуть плодотворному сомнению общеизвестное есть ощутимая духовная свобода. Продемонстрировать ее соблазнительно. Но Отар Чиладзе дает свою версию прошлого, избежав иронического апокрифа как жанра. Его роман пошел несколько иным путем, хотя авторская ирония, авторское сомнение время от времени проскальзывают в интонации повествования.
На наших глазах разрушается сфера древнего мифа. Разрушается в том смысле, что из него исчезают завершенность событий, однозначность характеристик, эпичность тона. Эпос — это всегда: закончилось, свершилось, было. В романе О. Чиладзе все бурлит, клокочет, складывается, умирает и рождается заново. Высокое смешано с низким, прекрасное с уродливым, и роман может быть признан ироничным в том смысле, что он показывает: смотрите, как многомерна людская жизнь, сколько в ней обыденного и обычного, а много столетий спустя она предстанет в эпическом ореоле, очищенная и возвышенная, и триумфальной походкой героев пройдут нынешние, покрытые пылью дорог и сражений, далеко не всегда презентабельные действующие лица.
Золотое руно? Естественно, это шкура обычного барана, только ходил ее обладатель по улице златокузнецов замечательного города Вани, а каждый, кто проходил по этой улице, покрывался золотой пылью и становился похож на статую, а потом с удивлением рассматривал себя, статуеобразного, в зеркале, специально установленном не чуждыми тщеславия мастерами. Развенчивается легенда о руне, но тут же создается новая — о златокузнечной улице: такова поэтика романа, вовсе не чуждающегося гиперболы, щедро использующего символику, скептичного по отношению к конкретному мифу, но не к мифотворчеству вообще.
Роман написан поэтом, это чувствуется сразу: «В этот самый день море наконец, после долгого колебания, решилось и отступило на шаг от города. То был первый шаг — и самый трудный; дальше все должно было пойти само собой. Да и кто мог удержать море? Даже если бы все жители Вани от мала до велика вцепились в него, оно все равно ускользнуло бы, ибо никакая сила не может противиться тому, что замыслите природа» и т. д. Наверное, от поэтических опытов автора — философская сосредоточенность тона, буйство метафор, интенсивность красок. И еще — присущая поэтическому сознанию убежденность, что чудеса нужно принимать «просто так», на веру, не пытаясь рационально объяснить их. Убежденность эта в немалой степени «держит» повествование о людях античности, с простодушием неофитов открывающих для себя все сущее.
Волшебен пышный, цветущий сад Дариачанги: достаточно сломать хоть одну ветку, как он исчезнет с лица земли (что и происходит, в конце концов, в городе, неспособном противиться злу). Но именно в этом саду гуляет со своими рабынями царская дочь Медея — сначала робкая девочка, а затем пробуждающаяся к жизни женщина, чье пробуждение написано с реалистической, плотской выразительностью… В минуты тяжких испытаний царь колхов Аэт опускается в тайные глубины своего сознания, своей памяти — это выглядит, как спуск в бездонный колодец, наполненный ликующими противниками гордого царя, гудящий от их голосов: все здесь ирреально, кроме напряженного диалога Аэта с собственной памятью и собственной совестью… Есть устойчивое словосочетание «холодная женщина»; метафора вывернута писателем наизнанку, ей возвращен первоначальный, прямолинейный смысл. Одна из героинь романа несет в себе такой холод, что на крыше дворца летом висят сосульки. Она тает, уходя из жизни, и ее пытаются спасти, привезя на ослах снег с высоких гор. Здесь все гипербола и фантазия, но вдруг автор упоминает, что у снега острый запах горной хвои, и все происходящее приобретает стереоскопическую четкость и неожиданную убедительность.
Роман лишен величественной холодноватости мифа, потому что на страницах его кипят земные человеческие страсти. В столице колхов любят, ненавидят, плетут интриги, пьют вино, сражаются с предельной отдачей сил. Герои романа — цельные натуры. Они знают, что есть судьба, противиться которой нельзя, но чье предначертание нужно выполнять с достоинством и спокойным мужеством. Так осуществляет свое жизненное предназначение Медея, с видимым спокойствием уходя за искателем золотого руна Ясоном. Так продолжает свое пребывание на земле грозный воин Ухеиро, став прикованным к постели, беспомощным инвалидом. Так стремится жить Фрике — один из самых противоречивых и трагических героев романа: когда он был мальчиком, его отправил в Колхиду царь Минос с тайной миссией — пустить в среде колхов иноземные, греческие корни, чтобы изнутри расшатать цветущее государство. Расчет Миноса оказался дьявольски безошибочным. И Фрике, женившийся на дочери царя Аэта Карисе, и его сыновья бредили землей предков и поневоле стали предателями приютившей, давшей им жизнь и силу земли…
В романе немало таких мировоззренческих, философских парадоксов. Впрочем, не так уж редко эта парадоксальность — кажущаяся. Просто писатель берет большое и важное понятие и старается посмотреть на него с разных точек зрения. Он напоминает об относительности многих истин, что вовсе не отменяет насущной необходимости добывать, искать, отстаивать истину. Через многие испытания проходит Фарнаоз, сын увечного воина Ухеиро, каменотес и философ, жаждущий справедливости. Принимая мученическую смерть, он в последнее мгновение видит на земле колхов сверкающий сад Дариачанги, возвращенный из небытия волшебный, вечно плодоносящий, готовый принадлежать добрым и мужественным людям сад.
Лучезарный «хэппи энд», правда, был бы неуместен в такой прозе. Многие вопросы, поставленные писателем, мучительны. Он менее всего способен удовлетвориться поверхностно-оптимистическим отношением к человеку, человеческой истории, человеческой способности творить добро. Хиреет некогда славный город Вани, подчинившийся жадному и тупому властителю, рушатся нравы, приходят в упадок ремесла. Из жизни колхов уходят радость и вера, и этот распад описан пером поистине безжалостным. Ведь только ребенку, бросившемуся с высоты на землю, дано напомнить об извечной страсти человека к свободному полету, страсти, которая тлела в самой глубине душ жителей Вани Если это и напоминание о неисчерпаемости человеческого духа, то напоминание яростное и далеко не добродушное.
В романе, почти лишенном диалогов, автор постоянно держит нас «включенными» в свои размышления и эмоции. Читать книгу — нелегкий труд, а это не всем может показаться достоинством.
Это повествование, неспособное опуститься до снисходительности к человеческим слабостям, буквально восстает против унылой и разъедающей душу житейской философии прагматиков и конформистов, которые всегда готовы воскликнуть: «Что проку в добродетелях одного человека». Роман — определенно за таких, как Фарнаоз, идеалистов и романтиков, презирающих житейские блага, даже если они одиноки и платят жизнью за преодоление стадного чувства. Есть невеселая ирония в том, что Фарнаоз, в принципе, по ошибке становится мучеником и героем, возносящимся над толпой, но есть и вера в способность человека подняться, встать над самим собой в момент, когда приходится доказывать право называться человеком.
Теперь — прочитанный вами роман «И всякий, кто встретится со мной…».
Снова — плотный, почти лишенный диалогов текст.
Снова — складывающаяся на наших глазах действительность. Об эпическом тоне неловко даже говорить.
Снова — не человек даже, целый род — перед лицом предначертанной ему судьбы.
Это роман, на страницах которого так много грязи и крови, жизнь, лишенная радостных красок, течет невероятно медленно и в то же время безжалостно быстро, погребая человеческие биографии, стремления и надежды. И этот же роман полон пронзительной тоски по иной жизни, иным мирам, залитым солнечным светом, устроенным достойно человека…
Густой поток повествования, где нет тщательно выписанных портретов и характеров, а есть их поэтический образ, поэтическая формула, где столь важна общая атмосфера происходящего и нелегко бывает найти логическое, прямое сцепление эпизодов и событий — это поток прозы, рожденный все той же поэтической рукой.
Сложное, требующее очевидных читательских усилий, это произведение заставляет думать о проблеме проблем литературы — жизненном материале и писательской точке зрения на него. Изображенное полно мрака, находится на грани чудовищного гиньоля, и мысль о некоторой эстетизации безобразного неизбежно возникает при погружении в это свободное, изысканное письмо. Авторская мысль до поры до времени словно не проявляет себя, уходит в тень, оттенок холодноватой авторской отстраненности от предмета изображения явственно ощутим — и тем сильнее спрятанный в глубину и резко выявляющийся в финале философский, нравственный пафос романа.
В романе «Шел по дороге человек» велось своеобразное поэтическое сражение не только с древним мифом, но и с самим миросозерцанием людей, живших три тысячелетия назад. Это только кажется, что город Вани в целом и его жителей в отдельности преследует неумолимый и безжалостный, возвышающийся над людьми рек: обыкновенная неспособность обитателей некогда славного города противоборствовать злу становится причиной их несчастий, причиной их унылой душевной деградации. Взгляд поэта на происходящее поражает своей конечной трезвостью. Механизм действия обнажен, все имеет свои реалистические причины, свои объяснения.
И панорама бесконечных несчастий, преследующих род Мака-бели, не скрывает ничего особенно таинственного. Но повествованию задана столь высокая тональность, а беды семьи следуют друг за другом с такой жестокой неизбежностью, что поневоле возникает мысль о некоем роке, тяготеющем над семьей и определяющем каждый поворот ее бытия.
Вторгаясь в античные времена, писатель обращался к огромным, основополагающим категориям человеческой жизни, рассматривал их в первозданном масштабе. Он не мог не задуматься над идеей рока, тяготеющего над людьми и определяющего их судьбы, идеей, отразившей затаенный страх человека античности перед непознанным окружающим миром. Эта идея неожиданно доказала свою немеркнущую поэтическую увлекательность в новом романе О. Чиладзе, где налицо и укрупненность нравственных проблем, и та условность в обрисовке персонажей и мотивов их поведения, та видимая пунктирность связи героев с определенной средой и временем, когда ничто не мешает увидеть общечеловеческий характер главных конфликтов романа.
Повествование о Кайхосро Макабели и его потомках трагично, потому что в каждом микросюжете уже заложена трагедия, чья развязка не имеет вариантов.
«Когда он приехал в Уруки, его виски были уже слегка припорошены сединой. Он знал, что возвращается на родину, но, покинув ее давным-давно, совсем еще мальчиком, он сейчас не мог отделаться от ощущения, что его насильственно сослали в какую-то далекую, чужую страну. В этом не было ничего удивительного: во-первых, никого из его родных в той стране уже не было, и ничего хорошего он о ней помнить не мог, так что никогда по ней и не тосковал; во-вторых, его возвращение в прошлое, которое ему всю жизнь хотелось оставить за спиной, навсегда забыть, было и в самом деле вынужденным. Как же, как не вынужденными, назвать действия человека, не имеющего выбора, делающего не то, что хочет, а то, что может по обстоятельствам? Таков уж был подарок его треклятой судьбы: это была судьба, это она устроила так, чтоб его наследственный дом оказался за тридевять земель, именно на его бывшей родине…»
Это — начало пребывания Кайхосро в деревне У руки, где и развертывается, в основном, действие романа.
А это — завершение:
«— Я размножил лишь своих убийц… ничего другого из моей крови не родилось», — признается Кайхосро, дождавшийся внуков и закончивший счеты с жизнью задолго до своего физического конца.
Тяжкий итог. И неизбежное: а мог ли он быть иным?
Мысль о человеке, «не имеющем выбора», принадлежит в конечном счете самому Кайхосро, и, наверное, у нас есть основания отнестись к ней с большим скепсисом. Ведь никто не заставлял нашего героя являться в деревню Уруки в чужом мундире, присваивать чужое имя, чужой титул, несуществующих предков и даже — вполне в стиле разворачивающейся трагикомедии, — могилку лжететки, умершей ребенком. Свою жизненную дорогу фальшивый майор без особых раздумий выбрал сам.
Другое дело, что мы получили возможность представить, как писатель относится к самой проблеме нравственного выбора, столь волновавшей нашу литературу предшествующие годы. Если и рассматривается она в романе, то не самым пристальным образом. Во всяком случае, сам процесс выбора, с неизбежными колебаниями и размышлениями героя (а они-то и смогли бы, при иной ориентации романа, стать полем художественного исследования), — остался, практически, за рамками повествования. Кайхосро достаточно хорошо представляет, что хорошо, а что дурно, и романиста интересует, что откроется в новоиспеченном Макабели, какие стороны своей натуры явит он в движении по избранному пути.
Кайхосро Макабели стоит не перед лицом нравственной дилеммы, а перед лицом жизни, как таковой, судьбы, тяжелого проклятия, нависшего над его родом. Отсюда — не только тональность романа, масштаб беспрерывно возникающих в нем нравственных категорий, но и его структура, его внутреннее построение.
Житейский маскарад, затеянный Кайхосро, поначалу способен вызвать улыбку. Слишком красив мундир с блестящими майорскими эполетами, внушающий такое почтение и страх жителям Уруки. У мундира есть даже свое, вполне независимое и убедительное существование — он выполняет предназначенные ему функции и отдельно от хозяина, вися на дереве на виду всей деревни… В этом сюжете с переодеванием, с чужим мундиром и чужим титулом есть нечто авантюрное, но нет авантюрной легкости и необременительного решения возникающих ситуаций. Кайхосро мало годится в напористые, улыбчивые герои жизненного водевиля. Роль князя дается ему тяжко, стремление быть достойным ее отнимает у него много душевных сил. День за днем, год за годом наращивается эта конструкция благопристойного, респектабельного существования. Результат же откровенно пуст и ничтожен. Промелькнет ведь незадолго до кончины Кайхосро, промелькнет почти вскользь замечание, что вряд ли в умах урукийцев произвела бы хоть какое-то движение весть о присвоенном княжеском титуле. Князь, не князь — это ли, в конце концов, главнее, чтобы судить о человеке?
Словно бы сама собой, без всяких посторонних усилий рушится конструкция бытия Кайхосро, и для романиста мало интересны эти обломки, и терзания угасающего лжемайора показаны между делом, и умирает он так незаметно для окружающих, что о смерти его узнают далеко не сразу.
Точки над «i» — не в духе романа. Выводить мораль из истории Кайхосро, ее финала он предоставляет читателям. Но сама эта история, в которой немало иносказательного, осмысления требует.
То, что присвоение чужого мундира и чужого титула заканчивается ничем и никаких волн в повествовательном потоке не вызывает, — только доказывает, что оно — вовсе не главное в подлинном сюжете романа.
Чужую судьбу, чужую биографию не возьмешь попользоваться, как мундир, они неспособны принести счастья, — вот неизбежный вывод, но и его мало, чтобы добраться до сути трагедии Кайхосро. И мысль о том, что человек, уделяя слишком много внимания форме своего существования, подпадая под власть общепринятых общественных ритуалов и представлений о престиже, теряет что-то драгоценное в своем подлинном бытии, — и эта мысль, пожалуй, не исчерпает всего существа происшедшего с Кайхосро, всей странной фантасмагории его жизни…
Страшно — для самого Макабели — не то, что он присвоил чью-то биографию, а то, что он отказался от своей, отказался от себя, от лучшего в себе. И произошло это задолго до его появления в деревне Уруки.
Навсегда Кайхосро сохранил палящие воспоминания о себе пятилетием, о том дне, когда солдаты вражеского войска вырезали у него на глазах всю семью. Беда в том, что «тяжесть собственного несчастья отняла у него способность жалеть других», отняла надолго, на вечные времена. Душа его так и не оттаяла, так и не признала иных движущих сил в мире, кроме насилия и зла.
Сознание, пораженное постоянным страхом, — есть ли зрелище печальнее? В своих снах взрослеющий герой романа остается все тем же пятилетним ребенком, убегающим от преследователей. И к русской армии, пришедшей на Кавказ, он прибивается единственна в надежде на спасение и защиту. Там-то и находит его майор артиллерии, обладатель мундира, сыгравшего такую роль в романе.
«Каплан Макабели, холостяком состарившийся в своей походной палатке, был уже в таком возрасте, что произвести на свет наследника и продолжателя рода мог лишь с помощью святого духа. Мальчика-сироту он воспринял как посланца провидения, как дар божий; вымыв и накормив его, майор дал ему не только место в своей выгоревшей на солнце, полинявшей от дождей палатке, но и свое родовое имя. Он был уверен, что делает доброе дело, ставя сироту на ноги, самому же себе обеспечивая человека, который помянет его после смерти. Этот запоздалый, на авось предпринятый поступок избавлял его хоть от страха исчезнуть совсем уж бесследно, а это кое-что значило! Так артиллеристы палят во внезапно затихшее и опустевшее пространство — только для разрядки нервов, ибо сражение окончено и никаких причин стрелять уже нет…»
Эти энергичные фразы лишний раз напомнят, что писатель часто предпочитает не столько раскрывать человеческую психологию, сколько четко, даже жестко формулировать ее суть. Так обеспечивается, помимо всего прочего, открытое авторское присутствие в романных строках. Ирония автора сообщает особый оттенок взаимоотношениям майора Макабели и его приемного сына: в них отчетливо проступает холодноватое потребительство. Каплану нужна хоть какая-то видимость бессмертия в памяти потомков; его приемышу — житейский приют: «…новое имя тоже было своеобразным укрытием, благодаря которому убийцам его семьи теперь было б еще труднее найти и опознать его…» Поистине страх может изуродовать сами основы человеческого мироощущения.
Мы еще не раз вспомним «на авось предпринятый поступок» стареющего майора артиллерии. Сделанное им добро много потеряло в своей цене, потому что адресовалось в белый свет вообще, потому что весьма условно связывалось с конкретным человеком. Если Кайхосро и вынес из общения с названым отцом какие-то нравственные уроки, то не самого высокого свойства. Не пройдем мимо этой связи причин и следствий в сюжетной структуре романа.
В стремлении Кайхосро начать заново историю рода Макабели, поставить в Уруки княжеский дом на месте унылых развалин нет, в общем-то, ничего дурного, ничего противоречащего нормальной человеческой природе. Но человек таков, каков он есть, тот, о котором речь, «по собственному опыту знал, что человеческая жизнь — непрерывная цепь более или менее тяжких испытаний, а главный человеческий талант — умение выходить сухим из воды». Такой опыт еще как-то годился для казармы, где все регламентировано и предусмотрено, где человек растворяется в армейской массе, — и доказал свою полную несостоятельность в самой обычной жизни.
В глухой деревушке — такие же люди, как везде; вступая в отношения с ними, погружаешься в вечную круговерть человеческих страстей и проблем. От призрака убийц из далекого детства Кайхосро избавился только затем, чтобы столкнуться с новой угрозой смерти — от руки раненного им горца, возлюбленного деревенской жительницы Анны. Все нелепо в складывающейся ситуации — и поведение Кайхосро, которого все, естественно, считают защитником женщины и ее сына, чуть ли не героем (а ему больше всего на свете хочется выйти «сухим из воды»), и брак Макабели с Анной, в котором есть взаимные тягостные обязательства, но нет никакого тепла и взаимного расположения. Ненависть к женщине, втянувшей его в эту историю, — вот и вся любовь Макабели… Можно ли скрыться от себя самого даже в самой глухой деревушке?
Безусловно, среда, обстоятельства сказываются на формировании человеческого характера, определенного типа человеческого отношения к действительности. Мы еще вернемся к постановке этой проблемы в романе. Сейчас же отметим, что роман снова и снова возвращает читателя к беспокойной, тревожащей, страстной мысли; судьба человека, в конечном счете, — гигантская проекция его душевных и моральных качеств, его «я».
В романе есть разные обстоятельства, трудные и драматические; обстоятельств, извиняющих и оправдывающих зло в человеке, — нет.
Перед нами — ситуация, почти экспериментальная. Герою романа предоставлена возможность начать все сначала, стать в полном смысле слова творцом своего будущего, будущего своих детей. Однако ни родоначальника, ни продолжателя рода из Кайхосро не вышло: он оказался просто неспособен взять на себя ответственность за других людей.
Страх перед смертью еще можно объяснить, зная прошлое Кайхосро. Да и угроза мести оскорбленного горца — не тот житейский пустяк, от которого легко отмахнуться. Только можно ли исчерпать натуру Макабели, сказав о его трепете перед местью, перед неизбежным для каждого человека концом? Возвратясь к многостраничному повествованию, увидишь, что в сознание Кайхосро постепенно входил, утверждался в нем, расцветал глубинный страх перед жизнью, во всех ее проявлениях, способных хоть как-то задеть ум, душу, волю героя романа.
Двухэтажный дом, построенный Кайхосро на удивление деревне, пропитан неистребимым запахом лжи и страха перед действительностью. В фундаменте этой семьи не оказалось ни капли любви. Кайхосро ненавидит Анну за то, что она стала причиной его новых неприятностей, ее сына Георгу — за то, что тот прекрасно видит трусость бравого майора; родившийся в новом доме Петре с ненавистью относится к Георге, считая его возможным соперником с точки зрения наследства, и холодно презирает мать; с появлением внуков, Александра и Нико, стареющий Кайхосро начинает ненавидеть и их, ибо они самим своим появлением на свет и взрослением напоминают о дряхлении деда; внуки тоже не остаются в долгу, всячески мстя деду… Нет просвета в этом существовании сменяющих друг друга поколений, нет конца горю, потерям, ударам судьбы.
В двухэтажном особняке за огромным забором отсчитывают время привезенные издалека, диковинные, похожие на башню часы, но движение времени здесь — иллюзия. Да и что может измениться, уйти вперед в бытие, где задыхается все живое, где все застыло в оцепенении.
Время в романе — вообще категория довольно зыбкая. Кажется, вчера Петре был мальчишкой, сегодня он — солидный торговец вином, но заметить этот переход трудно В дом к Макабели часто заходит местный священник, отец Зосиме, заходит много лет подряд, а вот уловить его старение, его переход в иное качество почти невозможно — все та же улыбка, все та же перхоть на плечах, все те же маловдохновенные споры с хозяином…
Петре, в конце концов, выбрасывает ключ от ненавистных отцовских часов, только что это может изменить?
«Жизнь истекла, прошла мимо них»… Для обитателей дома окружающий мир так же загадочен, непознаваем и пугающ, как и для людей тысячелетия назад. Не оттого ли разговоры о роке, преследующем семью, закономерно возникают на страницах романа?
Даже если и решаются обитатели дома на какие-то решительные поступки, они заканчиваются или бессмыслицей, или трагедией. Попробовали Нико с Александром взорвать свинью, любимицу деда, — и Александр остался без руки, попыталась внучка Кайхосро Аннета уйти из дома в поисках любимого человека, в поисках иной судьбы — и попала в руки к жестокому, отупевшему насильнику.
«Бессмысленная, излишняя доброта лишь разжигает зло»; «Излишняя доброта — тоже болезнь»; «Это доброта твоя проклятая нас погубила».. Цитаты взяты почти наугад: люди, населяющие дом Макабели, или не понимают и не принимают добра, или бесконечно страдают, проявив его, — все гаснет здесь, все, достойное человека, превращается в свою противоположность Став инвалидом в результате своего естественного порыва, Александр становится и убежденным мизантропам, философом и певцом жизненного зла: «Уродство — это жизнь, случайно рожденная или случайно спасшаяся; отец его — рок, и рок — его мать, оно неизбежность, непредвидимая потому только, что предвидеть его люди не хотят, потому что оно их не устраивает!»
Это свободно льющееся повествование вряд ли может быть признано скрупулезным и многомерным исследованием прошлого. Эта семейная хроника несет слишком мало традиционных примет жанра: вместо четкой расстановки персонажей, за которыми легко угадываются социальные силы и социальные тенденции, — столкновение жестоких страстей, клубок противоречий, коренящаяся в подсознании людей задавленность собственным существованием на земле, мрачный голос крови… Писатель не гнушается самыми мрачными тайниками и малопривлекательными пружинами человеческой психологии. В романе уродливое жадно тянется к уродливому; возлюбленная Александра, калека Маро, утешается тем, что есть люди несчастнее ее, и та же потребность видеть людей хуже и подлее себя движет Ягором, изнасиловавшим Аннегу, — отщепенцем и парией с общепринятой точки зрения.
Если романист хотел убедить читателей, что уступки злу, страх перед действительностью, равнодушие, неспособность к гуманному поступку не только мало украшают людскую природу, но и ведут к нравственной деградации человека, передаются в известной степени по наследству, — то такая цель безусловно достигнута. В романе живет тревога и высокая требовательность к человеку. Мировоззренческая теорема может доказываться и «от противного».
Это не значит, что роман однотонен и однопланов. По его страницам проходят и Анна, так и не растерявшая своей человечности и доброты, и всегда готовый прийти на помощь доктор Джандиери, и вечная служанка Агатия, с ее истовой тоской по ласке и счастью, и молодой инженер-путеец Мито, бросившийся спасать — спасать добром и сердечностью — искалеченную физически и душевно Ан-нету. Философствующий отец Зосиме справедливо замечает: «Цветок фасоли… очень похож на человеческую мечту… И то и другое тянется вверх!» И мы не раз получим подтверждение этой мысли. Однако речь не о распределении света и теней в романе, а о философии его. Она и «рассыпана» в романе, и неожиданно и резко заявляет о себе в финале.
Вспомним диалог отца Зосиме и Александра, диалог в тяжелую для обоих минуту, после того, как стало известно: это именно внук похитил тело покойного Кайхосро, чтобы отомстить за поруганное безрадостное детство и исковерканную жизнь.
«— И ад, и рай существуют! Каждый выбирает сам.
— Выбирает? Да как же мы можем выбирать? — удивился Александр».
И дальше:
«— Человек ничего не выбирает, — спокойно, задумчиво сказал Александр, — а или подчиняется тому, что ему навязывают, или гибнет… Я тоже гибну, батюшка! Я тоже погиб — погиб прежде, чем родился; и погиб именно потому, что не мог выбирать, от кого, где и когда родиться…»
Когда-то, в самом начале своего пребывания в Уруки, Кайхосро меланхолично размышлял: «…Сейчас от него одного зависело, кто кого одолеет — он жизнь или она его». Чем закончился этот безрадостный поединок, ясно. Не стала ли судьба Александра очередным повторением судьбы Макабели, с этим поистине родовым неверием и скепсисом?
Александр склонен — до поры, до времени — все свои несчастья объяснять происхождением и обстоятельствами. Слова отца Зосиме о выборе мало убеждают его оппонента, да и роман не торопится с комментариями. Как сказано выше, извиняющих нравственную человеческую деградацию обстоятельств в романе нет. Еще и еще раз — личная ответственность человека перед жизнью, другими людьми, судьбой.
Да, связь романного действия с конфликтами и проблемами огромного окружающего мира видимо пунктирна. О реформе 1861 года сказано между прочим. О строительстве железной дороги в окрестностях Уруки — отрывочные сведения, не сведения — противоречивые слухи, которыми обмениваются урукийцы. О Нико, другом внуке Кайхосро, уехавшем в город, — тоже нет внятных известий. Стал студентом, попал в террористы, осужден и сослан…
И тем не менее «И всякий, кто встретится со мной…» — роман немалой социальной наполненности. Авторское отношение к вещам открывается в духе поэтики всего произведения, не становясь от этого менее ясным и определенным.
При всей своей предначертанности и фатальности, происходящее с родом Макабели — отражение общего порядка вещей. Мысль о том, что проклятие семьи — отражение проклятого и неправедного окружающего мира, далеко не сразу внушается читателю, она зреет постепенно, исподволь, она вспыхивает тогда, когда становится непереносимым зрелище человеческих страданий и исковерканных. судеб.
Немногочисленные «выходы» из особняка Макабели в иные миры убеждают в том, что огромная страна — тот же дом без любви, милосердия и сострадания, только многократно увеличенный в размерах. Нико первым в роду понимает, что в его доме ничего не изменится, пока не будет коренным образом перестроено все здание царской империи.
После мрака и удушья поразительный свет заливает страницы романа — это изображается житье-бытье каторжников, ссыльных, обреченных на ежедневные мучения врагов царского самодержавия. Именно так: мрак обеспеченной, как будто бы спокойной и ничем не нарушаемой жизни — и свечение бытия, полного тяжелейшего труда, болезней и неотвратимых потерь. Потому что там, среди сибирских снегов, люди дарят друг другу сострадание, любовь, веру в духовное величие человека и понимание чужой души — все то, чего так не хватало под крышей двухэтажного особняка в горном селении. Александр, поехавший через всю страну, чтобы повидать брата-революционера, совершает великое паломничество за добром и истиной.
Не ищите в романе тщательно прописанных переходов в Александровом сознании. «Инженер-путеец, заступник его сестры, этой забытой братьями девочки, одним ударом кулака вдребезги разбил скорлупу зависти и желчи, тщеславия и эгоизма Александра, и Александр сразу многое понял», — сказано о столкновении инженера Мито с Александром, когда тот пытался по привычке грубо говорить с Аннетой. Нам остается понять и почувствовать, как велико было желание Александра вырваться из замкнутого круга прежней жизни и броситься к новой, олицетворяемой братом. Любой повод, любой толчок могли ускорить этот неизбежный бросок.
Величественна нелепая черная фигура однорукого верзилы, упорно бредущего по глубокому снегу к поселению каторжан; преодолены не только огромные пространства — преодолена многолетняя инерция безрадостного и бессмысленного существования.
На многие возникающие в романе вопросы появится ответ на этих страницах. Кайхосро боялся правды как огня и в своих бесконечных разговорах с отцом Зосиме привычно лгал и лицемерил. Об одном из ссыльных оказано: он «осознал, что единственное возможное лекарство в этом гнилом, хвором мире — всегда говорить правду, одну правду, всегда смотреть правде в глаза. К этому и приучал своих пациентов-каторжан каторжанин-врач; это и было оружием в беспощадной, не на жизнь, а на смерть борьбе — борьбе не за продление еще на день-другой этой собачьей, осточертевшей всем жизни, а за рождение другой, новой жизни!» Каторжане сходят с ума, умирают, как умер Нико, умерла его жена Лиза, но эта гордая и достойная смерть вовсе не похожа на кончину истерически цеплявшегося за жизнь Кайхосро Макабели. Другая цена всему! — вот что открывает для себя бесконечно удивляющийся Александр. Он понял, наконец: «…Нико, который некогда от страха и волнения не смог и спички зажечь, чтобы взорвать полуотсыревший порох, добровольно пожертвовал собой не для того, чтобы у империи стало одним генералом меньше, а для того, чтобы заставить брата увидеть собственные ничтожество и слепоту. Обидно было ныть о потерянной в детстве руке, когда спасать следовало детство, мечту, красоту вообще; когда изуродована была вся земля, заживо гнившая от бессилия, рабства и затаенного в сердце гнева; когда самодержавие, одетое в рясу священника или сюртук учителя, ставило голыми коленками на кукурузные зерна тысячи детей, виновных лишь в том, что они говорили на родном языке; когда у поэта, певца свободы, до сих пор дрожала рука, в детстве искалеченная инспектором гимназии…»
Рок, преследовавший Макабели, оказался преодоленным только тогда, когда потомки Кайхосро нашли в себе силы взломать панцирь себялюбия и ужаса перед жизнью, увидели зависимость своей судьбы от судеб других людей, исторических судеб своего народа.
Помните, в доме Макабели часто звучали слова о бессмысленности добра, обыкновенной доброты, об их расслабляющем влиянии на человека. Когда Александр после своего паломничества в Сибирь с удивлением думает: «Неужели же доброту нужно расходовать так же бережно, как хлеб, воду и соль, и излишек ее так же вреден, как неумеренное потребление хлеба, воды, огня или соли?» — эти размышления воспринимаешь не только как знак духовного прозрения настрадавшегося человека, но и как знак, символ бесконечной способности человека вообще к нравственному возрождению, к восстановлению его души из пепла неверия и всепоглощающего скепсиса.
Александр сделал не так уж много. Он привез в родовой дом девочку, дочь умершего на каторге брата. Но этот обновленный человек сделал главное: проникся ответственностью за жизнь, будущее другого человека, принес в мрачный дом Макабели иное мироощущение и иную жизненную философию. «Человек покоряется выдуманной им самим судьбе, приспособляется к ней, но это вовсе не значит, что приспособляемость — его главное свойство…» — говорилось в начале романа, и поневоле Еернешься к этой мысли, дочитав роман до конца.
Его нельзя не сравнивать с романом «Шел по дороге человек». От горького страдания за людей к сознательному стремлению коренным образом изменить их жизнь пришел герой Отара Чиладзе Оценим принципиальное значение этой эволюции.
Повествование о событиях трехтысячелетней давности подернуто неизбежным романтическим флером. Писательская работа в сфере античного мифа — признак крепнущего национального самосознания, попытка установить прямые связи национальной культуры с культурой мировой, общечеловеческой
Роман о семье Макабели — это поиск нового социально-исторического контекста, в котором находится народ, давший писателю язык и мироощущение.
Отар Чиладзе не годится в утешители. Его взгляд на человека зачастую бывает скептическим. Это — скепсис философа, ибо, проводя своих героев через жестокие испытания и потрясения, писатель проверяет пределы нашей, присущей людям, душевной и нравственной стойкости. «И всякий, кто встретится со мной…» — философский роман, убедительно доказывающий, что переделка мира на справедливых началах и обновление человека нераздельно слиты в могучем потоке человеческого бытия.
А. Руденко-Десняк.

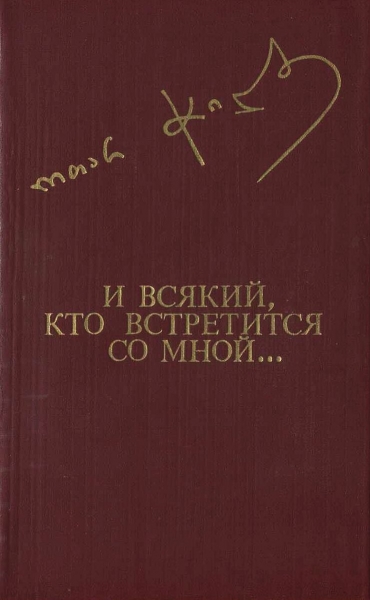
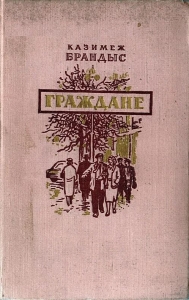
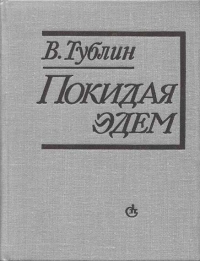
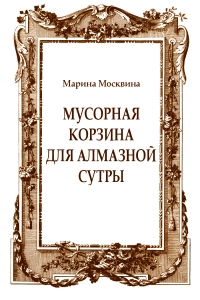
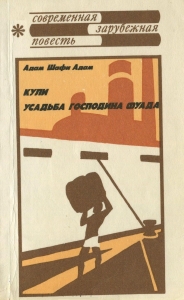



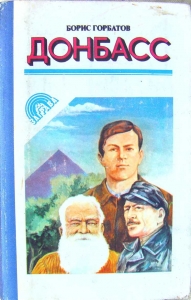


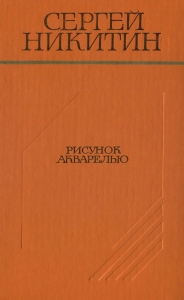

Комментарии к книге «И всякий, кто встретится со мной...», Отар Иванович Чиладзе
Всего 0 комментариев