Юлиу Эдлис АНТРАКТ: РОМАНЫ И ПОВЕСТИ
Роман: АНТРАКТ
1
На подбородке сквозь белоснежную пену «Флорены» проступила кровь, ярко и молодо алая, и он вдруг поразительно живо, почти въявь, вспомнил один день из своего непостижимо далекого, навеки, казалось бы, утраченного детства и себя самого в этой невообразимой дали: мать сидит с книгой на коленях на его кроватке и читает ему сказку, а в окне за ее спиной — зима, полиловевший от низкого заходящего солнца снег и свисающая как бы вниз головой с карниза, объятая этим закатным пламенем сосулька. И еще он вспомнил сухой жар раскаленной белой кафельной печи, густо, на одной непрерывной басовой ноте гудящий в ней огонь и, наконец, памятью воспаленного детской ангиной горла — вязкую, липкую сладость гоголя-моголя.
Он застыл с помазком в поднятой руке — с чего это вдруг, в какой связи всплыл тот день из глубин упрямой памяти? И тут же, из тех же тайников, сам собою возник и ответ, объяснение — алая кровь сквозь белую пену — и та давнишняя сказка, он и название вспомнил: «Любовь к трем апельсинам»; принц ел за завтраком не то сметану, не то взбитые сливки, порезал ненароком палец, капелька крови упала в тарелку, и не по годам созревшее высочество мигом возжелал девицу, чье лицо было бы так же бело и чисто, как сметана, а румянец на нем так же ал, как эта капелька крови.
Неужто, усмехнулся он невесело про себя, он так никогда не освободится от памяти о Лере?! Но ведь Лера как раз ничего общего не имела с этой ало-белой, кровь с молоком, девицей из сказки, пригрезившейся ему сейчас ни к селу ни к городу, — Лера была черноволоса, смугла, с розоватыми белками темно-карих глаз, полных ожидания и в то же время обещания, маленькая, хрупкая, ничего бело-алого, нордического, скорее — тин средиземноморский, то ли итальянка, то ли сербка, если, конечно, отвлечься от того, что она была просто-напросто харьковской хохлушкой.
И — однако…
Впрочем, пока он смывал теплой водой с лица мыльную пену и растирал его прохладно пощипывающим кожу лосьоном, нежданное воспоминание улетучилось так же легко и разом, как и появилось, и Иннокентьев думал уже привычно-озабоченно о другом, мысленно нанизывая на ниточку дела, которые ему предстояло переделать сегодня. Но от всплывшего и тут же испарившегося из памяти того дальнего лилового зимнего дня на все сегодняшние его мысли как бы легла и не рассеивалась какая-то зыбкая, нежная и тревожная тень.
Он прошел на кухню, достал из холодильника яйца, пачку масла и смерзшуюся в морозилке куском льда докторскую колбасу, зажег газ, поставил на огонь сковородку, на вторую горелку — медную турку с кофе и пошел в спальню одеваться, хотя знал наперед, что, пока он там будет возиться, кофе непременно выкипит и яичница подгорит, так случалось, собственно, каждое утро. И — лишних пять минут, чтобы оттереть от кофе плиту и отскрести сковородку, неудивительно, что он по утрам всегда опаздывает.
Впрочем, подумал он мельком, натягивая на себя серые, в мелкую клеточку брюки и зашнуровывая туфли, жена Цезаря вне подозрений: с тех пор как он стал ведущим «Антракта» и на телевидение посыпались благодарственные, хоть изредка и грешащие против правил орфографии письма телезрителей, а его собственное лицо стало известно на всю страну и на улице его узнавали и оглядывались вслед, никому в голову не придет попрекнуть его за опоздание.
«Антракт» был его личным, можно даже сказать — единоличным детищем. Он сам придумал эту ежемесячную передачу, — сам ей нашел форму, интонацию, сам отбирал сюжеты, сам пробивал ее через все начальственные инстанции. Со временем Иннокентьев изловчился обходиться даже без режиссера, ему достаточно было хорошего оператора и опытной монтажницы.
«Антракт», как он замысливался Иннокентьевым с самого начала, не должен был иметь ничего общего со всеми прочими передачами о театре с их сугубой информативностью. Он свободно и неназойливо — в этом-то и предполагалась его убедительность — как бы вводил далеких от искусства и его повседневных будней телезрителей за кулисы театра, в его кухню: в артистические уборные, на черновую репетицию, в бутафорский или пошивочный цех, в декорационный, в царство осветителей на невообразимой верхотуре над сценой. В антрактах между действиями — отсюда и название передачи — Иннокентьев заходил в гримерные и непринужденно-дружески беседовал с актерами о том, как идет сегодня спектакль, довольны ли они собою и реакцией зала, что думают о пьесе и се авторе, а также вообще об искусстве и жизни, как дела дома — дети, семья, любимые занятия в часы досуга, и те отвечали ему так же запросто и откровенно. Это давало телезрителю полнейшее ощущение, что он и сам вот так приятельски, на равных водится с собственными кумирами, со всеобщими властителями дум, и что нет между ними, как он предполагал до сих пор, непреодолимой дистанции, и это льстило ему и возвышало в собственных глазах.
Иннокентьев и со зрителями беседовал в антрактах прямо в фойе или даже в зале, меж тесных рядов кресел, так же дружески и запанибратски, как и с актерами, спрашивал — без скидок и реверансов — их мнение о спектакле, и это тоже всем нравилось и всех убеждало в непредвзятой правдивости передачи.
Доверительный тон, сдобренный к тому же юмором, ни для кого не обидной дружеской иронией, — вот в чем крылся успех и популярность «Антракта», а заодно и самого Иннокентьева. И мало кто догадывался, как это нелегко ему дается, как много требует изобретательности, труда и энергии.
Не довязав шнурок на левой туфле, он кинулся опрометью на кухню — ему послышалось, что выкипает кофе, но он успел в самый раз: и яичница еще не подгорела, и кофе только начинал пузыриться.
То, что поначалу, в первые месяцы и даже годы после того, как они с Лерой расстались и она уехала, представлялось Иннокентьеву почти непосильным — его холостяцкое полнейшее одиночество, — понемногу стало обыденным, привычным и в известном смысле вполне удобным, даже приятным.
Удобным и приятным было абсолютное отсутствие зависимости от другого человека, от забот и обязанностей по отношению к нему, пусть даже ты прожил с этим человеком семь лет кряду и делил с ним не просто общий кров и общую постель, но и собственную твою жизнь, привык к такой общей, одной на двоих, жизни и не мог себе представить иную. Удобной и приятной была свобода поступать, сообразуясь лишь с собственными желаниями, привычками и вкусами, не поступаясь ими в угоду чьим бы то ни было желаниям и привычкам, всецело, невозбранно располагая собой.
А поскольку сразу же после ухода Леры он нашел прекрасную приходящую домработницу, Антонину Дмитриевну, и большая, просторная его квартира на шестнадцатом этаже высотного дома на площади Восстания была в том же, если не в большем, порядке, как и при Лере, то и эта наиболее уязвимая сторона холостяцкого житья мало его заботила. Он и от нее был совершенно свободен.
Антонина Дмитриевна три раза в неделю приходила убирать и готовить, за бельем приезжали из прачечной, рубашки он отвозил в химчистку на Пушкинскую и на следующий день получал их накрахмаленными и выглаженными, а когда он возвращался вечерами домой, Антонины Дмитриевны уже не было, дом был надраен до сверкающей, правда несколько отчужденно-стерильной, чистоты, оставалось лишь зажечь газ и подогреть ужин.
Вот такой-то удобно-устоявшейся жизнью и жил Иннокентьев — жизнь сорокачетырехлетнего, полного сил и уверенности в себе холостяка, у которого за плечами, в активе, первая половина жизни, одарившая его стойким и хорошо выверенным опытом, твердо установленным и по праву ему принадлежащим местом под солнцем, которое к тому же мыслилось им лишь промежуточной вехой, лишь ступенькой на крутой лестнице, ведущей неуклонно к некой все еще манящей его вершине. Добрый малый, в отличной спортивной форме — зимою дважды в неделю сет-другой во Дворце тенниса ЦСКА, летом не меньше четырех раз на открытых кортах на Петровке или в Лужниках, — с висками, чуть тронутыми сединою, лишь оттеняющей постоянный, даже в середине зимы, загар на его моложавом, сильном лице; с кем надо — обаятельный и предупредительный, с кем — деловой и настойчивый и всегда — знающий себе цену.
И лишь когда он возвращался поздними кромешными вечерами в свою пустую, обдающую его холодным, нежилым духом квартиру и нашаривал рукою в темной передней выключатель и никак не мог его найти, приходили незвано мысли, на которые не хватает досуга при свете дня.
Например — что дальше?..
То есть что будет, когда все, чего он добивается, сбудется?
Правда, самый этот вопрос казался ему неточно, или, как говорят математики, некорректно, поставленным, потому хотя бы, что ему должен был неминуемо предшествовать другой: а чего он, собственно, добивается?..
Этот второй вопрос был важнейшим по той очевидной причине, что все, что изначально составляло его цель — в юности и на заре взрослой жизни, — всего этого он уже добился, все это уже принадлежит ему. И тогда вновь всплывал тот, первый вопрос: что дальше?..
И вообще, если вычесть из некой итоговой суммы жизни успехи, добытое годами положение, его вполне налаженный быт, удовлетворенное честолюбие, уверенность в себе — что останется?
А ведь этот остаток, этот осадок на дне, — это и есть он сам в том истинном смысле, в каком становится сверхчистым вещество в колбе, после того как из него выпарят все инородное, излишнее, избыточное. Что осталось бы?..
И опять же — что дальше?
Он позавтракал, допил кофе, сложил в мойку грязную посуду, вернулся в спальню, натянул на себя плотный шерстяной свитер, поверх него надел серый пиджак из толстого английского твида, проверил, не забыл ли документы, сигареты и ключи от машины, и, уже выходя за дверь, оглядел себя в передней в зеркале: из неподкупной холодноватой глубины стекла на него насмешливо и чуть свысока глядел в упор его верный двойник с седеющими висками, не знающий ни сомнений в себе, ни зыбкости или неопределенности, ни этих вопросов без ответа, — день начался, покатился, жизнь продолжается, и другой не будет, нет ни минуты лишней, ни секунды на эти безответные вопросы, да и задавал ли он их себе? Полноте, когда? И — он, Иннокентьев?! Извините, вы ошиблись номером.
2
Он просидел все утро в монтажной, дело не ладилось, шло через пень колоду — материала было отснято втрое против того, что могло уложиться в отведенное для передачи время, и, как всегда в таких случаях, самое мучительное было отбирать и выбрасывать в корзину десятки метров пленки с вполне удавшимися планами, которые никак было не втиснуть в тридцать коротких экранных минут.
Это была утомительная, муторная работа, тут без опытной, съевшей на этом деле собаку монтажницы было не обойтись, а, как на грех, Софья Алексеевна, всегдашняя его помощница, заболела гриппом, вся Москва в гриппе, это надолго, ждать некогда, и ему дали другую монтажницу, молодую и не внушающую доверия, наверняка без году неделя на телевидении, с ней ни посоветоваться, ни поспорить, ни даже сорвать на ней собственное раздражение.
Он сидел у монтажного стола чуть позади новой монтажницы, глядя поверх ее плеча на бегущее рывками по маленькому тускловатому экрану изображение, и краем глаза видел ее затылок с коротко подстриженными, отливающими матовым блеском волосами над тонкой и высокой, с глубокой ложбинкой посредине, шеей, вылезающей из растянутого ворота свитера ручной редкой вязки.
И этот видавший виды свитер, и тонкая шея с ложбинкой, и стриженый затылок новой монтажницы, и ее руки в грязных белых нитяных перчатках, неумело орудовавшие ножницами и скотчем для склеивания пленки, — все в ней вызывало в Иннокентьеве глухую неприязнь, и, чтобы не дать себе воли, не наговорить грубостей, он молчал, ограничиваясь короткими, сухими указаниями.
Да и она тоже двух слов не сказала за все утро.
Не сделав и половины того, что должен бы, Иннокентьев сдался, поднялся со стула и, не скрывая недружелюбия, кинул в сиротский ее затылок:
— Все, хватит. Идите поешьте, в три часа я вернусь, начнем все сначала. Будем работать до упора, хоть всю ночь, предупреждаю. И постарайтесь к этому времени хотя бы проснуться, что ли, а то прямо зимняя спячка какая-то! — И, не дожидаясь ее ответа, пошел к двери.
Однако она ответила ему, и он впервые за все утро расслышал как следует ее голос — низкий, хрипловатый, странно вибрирующий.
— Допоздна я не могу, не надейтесь, моя смена до семи, — сказала она совершенно спокойно и не только не виновато, но, как ему послышалось, даже с дерзким вызовом. — Мне еще домой, между прочим, возвращаться, на край света. Других поищите.
Он рывком обернулся к ней, спросил, едва сдерживая гнев, но у него это получилось — он и сам услышал — не грозно, а скорее удивленно, почти растерянно:
— Как вы сказали?!
— А что такое? — не испугалась она и выпела еще более вызывающее: — Норма-ально!..
Он вышел, едва не хлопнув дверью. Но совладал с собой — незачем, чтобы все знали, что у него сегодня не идет работа и даже с этой наглой девицей он не может сладить.
В последние годы их развелось хоть пруд пруди, раздраженно думал он, идя длинным коридором к лифту, этих новоиспеченных машинисток, после которых печатная страница черным-черна от правки, помощниц режиссеров, от которых толку что от козла молока, секретарш, которые тебя облают прежде, чем ты переступишь порог приемной, — прямо стихийное бедствие какое-то!..
Лифт, по счастью, был пустой, и Иннокентьев спустился в полном одиночестве на первый этаж, а уж оттуда лестницей в бар.
Это был, собственно, никакой не бар, а обыкновенный учрежденческий буфет, многолюдный кафетерий, но все в Останкине называли его баром, отдавая дань веяниям времени.
Он прошел во второй, «турецкий» зал — здесь давали не машинный, из автомата-экспресса, кофе, а сваренный на жаровне с раскаленным песком. Он выстоял минут десять в очереди, взял себе бутерброд с некоторым подобием ветчины, марципановую булочку и две чашки кофе. Поискав глазами свободный стол, уселся в дальнем углу спиною к залу.
Кофе был слишком горячий, и он стал рассеянно, вразброс думать о передаче, об отснятом с лихвою материале, который еще предстоит искромсать, отобрать и склеить, чтобы получилось нечто хоть отдаленно похожее на то, чего бы ему хотелось. И чего ждет от него телезритель, разумеется. А также, усмехнулся он про себя, чего ждет от его передачи начальство, об этом тоже нельзя забывать.
И еще он думал о телевидении в широком смысле, о том хотя бы, что всякий отбор — и отбор, производимый самой телевизионной камерой, а еще прежде отбор, диктуемый замыслом будущей передачи, не говоря уж о последующих сокращениях, монтаже и комментирующем тексте, — дает в результате, как ни старайся, не точный и верный слепок с самой жизни, какая она есть на самом деле, а лишь слепок с твоего собственного представления о ней — о том, что в ней главное, достойное внимания и фиксирования на пленке, а что второстепенно и незначительно. А если это так, то экран всегда таит в себе опасность выдать твое представление о правде жизни за всю правду, за самую жизнь, и будет это в лучшем случае всего лишь подобием правды, не больше…
— За ваш стол можно? — услышал он из-за спины.
Прежде чем ответить, он покосился направо и налево — за соседними столиками было полно свободных мест.
— Сколько угодно, — ответил он, не поднимая глаз от чашки с кофе. В поле его зрения был лишь исцарапанный пластик стола да две руки — он невольно отметил про себя, что кисти слишком крупны для тонких, хрупких запястий, вылезающих из рукавов джинсовой курточки, и что ногти на пальцах коротко, по самые подушечки, острижены, как у профессиональных машинисток или медсестер, — руки поставили на стол бумажную тарелочку с двумя бутербродами с сыром и чашку кофе без блюдца. Чашка дрогнула в руке, и немного кофе пролилось на стол.
— Норма-ально!.. — не огорченно, а насмешливо и весело пропел знакомый уже голос.
Иннокентьев поднял голову и узнал свою незадачливую монтажницу. Вот уж кого меньше всего ему хотелось сейчас видеть!
— Подзаправлюсь. Вы не против? — безбоязненно встретила она его взгляд, и только сейчас он разглядел, какие странные у нее глаза — широко поставленные, с чуть припухлыми веками, но не в этом была их странность, а в том, какое чистое и колючее сияние они излучали — не то серые, не то синие, а из них будто сыплются снопами холодные и вместе обжигающие искры. Может быть, не искры, поправил он себя, скорее острые льдинки. А над глазами, низко падая на лоб, тоже отсвечивающая серебром или, пожалуй, даже тусклой платиной небрежная челка.
Но зато лицо у нее, одернул себя Иннокентьев, будто уличенный в чем-то недостойном и смешном, лицо у нее самое простецкое, таких на улице тьма-тьмущая, в метро, в очередях, пройдешь мимо — и не заметишь, не запомнишь.
Она удобно уселась за стол, положила один ломоть хлеба на другой сыром внутрь, откусывала не спеша и с видимым удовольствием от этого слишком толстого бутерброда, держа его на отлете в руке с отставленным в сторону мизинцем.
— Приятного аппетита, — только и оставалось ему сказать.
— Спасибо, — ответила она с полным ртом, — А что я вам там, наверху, нахамила малость, так правда же — мне потом ночью ехать к черту на рога, представляете?!
— Я вас подвезу, — ответил сухо Иннокентьев, не глядя на нее, но и не глядя чувствовал, как сыплются у нее из глаз эти льдистые, острые искры, — Сказали бы сразу.
— Подвезете?! — насмешливо поглядела она на него и, чуть выпятив нижнюю губу, сдула легкую челку со лба. — Это в Никольское-то, час туда, час обратно? Как же!..
Он мигом представил себе ночную скользкую дорогу, дождь вперемешку со снегом и тут же пожалел о сказанном сгоряча.
— Нет уж, спасибо, — как бы подслушав его мысли, без тени благодарности отказалась она, — потом вы бы всю жизнь, нехорошо вспоминали меня. Я так сказала, для балды. Там зимой и жить-то нельзя, отопление еще в прошлом году лопнуло, никак мы с сестрой не соберемся наладить.
Ему бы встать и уйти и дожидаться ее в монтажной, но он почему-то не уходил и злился на себя за это. Какое ему, собственно, дело до нее? Сегодня он, кровь из носу, должен разделаться с работой, в понедельник ему сдавать ее начальству, а к следующей передаче Софья Алексеевна наверняка выздоровеет, и он никогда больше эту беспардонную бездомную девчонку и в глаза не увидит!
Но, вместо того чтобы встать и уйти, он спросил ее:
— И где же вы будете жить зимой?
— Почем я знаю? — бездумно пожала она плечами, слизывая кончиком языка крошки с губ. — Я вообще наперед ничего никогда не загадываю. Отопление-то и в прошлую зиму не работало. У подруг разных или кто в отпуск уезжает, некоторые даже сами просят квартиру посторожить. Или еще у кого, мне-то без разницы. Главное, зубная щетка всегда при мне, чужими я брезгую.
Она обо всем этом говорила ровно, как о чем-то таком обыденном, что и печалиться стоит ли.
— Возьму-ка я себе еще кофе, а то и правда усну на ходу, вы меня опять ругать будете, а я этого страсть не обожаю.
Она встала и пошла к стойке бара, и Иннокентьев, проводив ее взглядом, впервые увидел, какая она высокая и прямая, тесноватые джинсы и такая же потертая курточка выдавали худобу и легкость ее тела, широкий, свободный по-мужски шаг. Со спины она вообще смахивала на длинного, выросшего из своей одежки подростка. И вместе в ее худобе, в размашистости и свободе походки, в высокой голой шее и по-мальчишечьи коротко стриженном затылке было что-то щемяще и беззащитно женственное.
Если бы ее приодеть, безучастно подумал Иннокентьев, да если бы не ее простоватое, малопримечательное лицо… хотя лицо-то при умелом пользовании тушью и помадой эти нескладехи наловчились изменять до неузнаваемости… Если ее приодеть и навести марафет — она вполне бы отвечала нынешним стандартам женской привлекательности. И, усмехнувшись неизвестно чему, заставил себя не глядеть ей вслед.
— Как вас зовут, меж тем? — спросил он, когда она вернулась к столу. В конце концов, словно бы споря с кем-то и оправдываясь, подумал он, им сегодня еще весь день работать, надо же ему знать, как ее зовут!
— Эля, — ответила она и попробовала кончиком языка, не слишком ли горяч кофе. — По паспорту — Эльвира. Больше никакими выходными данными не интересуетесь?
И тут он спросил ее и сразу же устыдился своего вопроса — глупо, еще подумает черт знает что:
— Ну а сегодня, если мы поздно кончим, где вы собираетесь ночевать?
Она рассмеялась, будто ничего другого от него и не ожидала:
— Уже испугались, что пообещали отвезти домой, в Никольское? Так я же вам и не поверила, спите спокойно. Все сначала предлагают, а потом — то машина не в порядке, то звонка откуда-то ждут, то голова разболелась, я уже ученая.
— Кто — все? — задал он уж и вовсе дурацкий вопрос, но она не ответила, только опять безмятежно пожала плечами, и глаза ее внезапно, без перехода, из льдисто-голубых стали густо-синими.
Спросила совсем о другом и без особого интереса:
— А вам не скучно эту вашу передачу из раза в раз снимать?
Вопрос застал его врасплох.
— Почему? Вам что, не нравится?
Она откинулась на спинку стула, сунула руки в карманы джинсов, отчего и вовсе стала похожа на нагловатого мальчишку.
Да нет… я и смотрю-то через раз, время неудобное — как раз в транспорте трясешься. Да вот хоть сегодняшняя, которую мы с вами режем-клеим… Они же все — ну, артисты разные, режиссеры, все вообще, — они же все до одного выставляются: я и то, я и это… умное лицо делают, говорят совсем не про то, про что их спрашивают… — Но говорила она это ровно, без злобы, как о чем-то мало ее трогающем. — Вот пожили бы они хоть денек у нас в Никольском, в доме, сто лет не топленном, или хотя бы поездили каждый божий день в общественном транспорте — не то бы запели! Они все сейчас исключительно про смешное в кино или по ящику играют, а жизнь-то не вся сплошь смешная, между прочим! — И тут же совершенно неожиданно улыбнулась широко и свободно, глаза опять заголубели. — Хотя вообще-то народ именно про смешное обожает, его кашей не корми — дай животики надорвать, это точно. Так что не обижайтесь, это я так, к слову.
А Иннокентьев, как это ни глупо, именно и обиделся — на кого?! На эту Эллочку-людоедку, на эту языкастую подмосковную деваху с ее всегда наготове зубной щеткой в сумочке, потому что единственное, чем она брезгует, ночуя в чужих случайных домах, в чужих случайных постелях и наверняка со случайными мужчинами — она бы сама непременно сказала не «в постели», а «в койке», и не «с мужчиной», а «с мужиком»! — так это чистить зубы чужой щеткой, это на нее-то ему обижаться?!
Он встал из-за стола, сказал неприязненно, не в силах скрыть идиотскую свою обиду:
— Я жду вас в монтажной через полчаса. И не задерживайтесь, пожалуйста.
Повернулся и пошел к выходу из «турецкого» зала, нисколько не сомневаясь, что она смотрит ему вслед насмешливо и нагловато.
Они кончили работать в одиннадцатом часу, на этот раз все у них получалось легко и складно, раздраженности, с которой начался для него день, как не бывало, передача практически была готова, завтра-послезавтра он еще разок-другой просмотрит и окончательно подчистит, озвучит ее, и в понедельник можно со спокойной совестью сдавать начальству.
Эля его теперь понимала, казалось, с полуслова, ничего не надо было повторять, ничего растолковывать. Он сидел за ее спиной, смотрел в ее стриженый затылок, на глубокую и нежную ложбинку вдоль высокой шеи и уже не вспоминал о многоопытной Софье Алексеевне.
Когда они все смонтировали, Иннокентьев попросил Элю еще раз прокрутить пленку от начала до конца — да, все вроде получилось, все, кажется, как надо. Он удивился себе: обычно, когда он кончал работу над передачей, она, как правило, не нравилась ему, хотелось все переиначить.
— Ну, как теперь? — спросил он Элю.
Она отключила экран на монтажном столе, перемотала пленку и сложила ее в плоские круглые жестяные коробки, похожие не то на древнегреческие олимпийские диски, не то на столовские судки с остывшими щами. За время работы он, сам того не заметив, перешел с ней на «ты». Впрочем, он был на «ты» со всеми своими сотрудниками, для одной Софьи Алексеевны делая исключение.
Но она не спешила ему отвечать. Стащила с рук еще более грязные, чем в начале дня, белые перчатки, бросила их не глядя в корзину с не пошедшей в дело пленкой, разглядывала свое лицо в маленьком ручном зеркальце.
Он удивился спокойствию и будничности своего голоса:
— Поедем, да?..
На что она отозвалась так же буднично и ровно, продолжая разглядывать свое лицо в зеркальце, словно бы не сомневалась, что он ей это предложит:
— К вам, что ли?.. — И заключила, пряча зеркальце в потертую сумочку из потрескавшейся искусственной кожи: — Норма-ально!..
3
Но Иннокентьев повез ее не к себе, а к Глебу Ружину, на Бескудниковский бульвар. Он и сам не мог бы себе объяснить, зачем это сделал.
Ружин, собственно говоря, был никто, но вопреки этому занимал особое место среди множества людей, так или иначе причастных к театру.
Моложе Иннокентьева — ему и сорока двух еще не было, — на вид он казался сильно уже пожившим и до времени увядшим человеком. Таким его делала прежде всего неопрятная сивая борода, разделенная пополам на два редковатых клина. Огромный, под два метра, тучный, с желтоватым и нездоровым, словно побитым оспой, лицом, он был очень некрасив и, при первом знакомстве, даже отталкивал этой своей внешностью, особенно же маленькими, острыми, всегда трезво-беспощадными глазками под тяжело нависающим лбом. Но стоило лишь поговорить с ним, чтобы неминуемо подпасть под власть его сильного, свободного ума, его способности с лета уловить чужую мысль и увидеть ее под свежим и совершенно неожиданным углом зрения, его обстоятельнейшей образованности и почти невероятной памяти на имена, даты, детали, а главное — его постоянной готовности обезоруживающе-доброжелательно тебя выслушать и понять, даже если он был далек от того, чтобы с тобой согласиться.
Некогда, объявившись в Москве не то из Самарканда, не то из Душанбе, Глеб начал свою столичную биографию скоропалительно и с блеском: опубликовал несколько статей о русском театре прошлого века, несколько исследований — он их называл не иначе как эссе — о современной драме, их заметили и специалисты, и просто читающая публика. Даже теперь, спустя без малого двадцать лет, когда называли его имя, то непременно кто-нибудь спрашивал: «Это не тот ли Ружин, что так замечательно начинал когда-то?»
Потому что дальше этого многообещающего начала он не пошел. Он работал — по нескольку месяцев, нигде дольше не пуская корней, — в различных журналах, но печататься перестал так же неожиданно, как и взорлил несколькими годами раньше на столичном критическом небосклоне.
Он не любил распространяться на эту тему, но если уж заходила речь, то объяснял свое упорное молчание разочарованием, а коли уж называть вещи своими именами — отвращением не только к театру и к людям театра, но и ко всяческому искусству вообще.
Это у него не было одной лишь позой, он и на самом деле почти физически страдал оттого, что «мысль изреченная есть ложь», а в запальчивости доходил до того, что с пеной у рта и неизреченную тоже объявлял в не меньшей степени ложной. У него была припасена еще одна спасительная цитата, к которой он прибегал, когда его и вовсе загоняли в угол упреками в ничегонеделании: «Кто умножает знание, тот умножает скорбь».
При этом его никак нельзя было заподозрить в меланхолии либо же в потере вкуса к жизни. Дело в том, что истинная причина его бездеятельности заключалась попросту в том, что он был прямо-таки титанически ленив. То есть он мог ночи напролет читать чужие пухлые рукописи, делая на полях сотни поразительно точных, детальнейших пометок, потом часами втолковывать автору смысл своих замечаний, причем бескорыстная его заинтересованность в том, чтобы рукопись стала лучше, могла показаться со стороны почти тиранической. Он мог целыми днями просиживать на репетициях своих друзей — режиссеров или драматургов — и потом до утра обсуждать с ними во всех подробностях будущий спектакль и вообще самозабвенно отдаваться чужим заботам, на это у него всегда хватало и сил и времени. Но как только речь заходила о том, чтобы самому засесть за чистый лист бумаги, он сразу сникал, скисал, вспоминал о тысяче посторонних, совсем не спешных или и вовсе не существующих дел, о многочисленных и, кстати говоря, отнюдь не мнимых своих недомоганиях, становился угрюм, раздражителен и нетерпим.
Со временем он стал чистейшей воды «мастером разговорного жанра», как окрестил его Иннокентьев, застольным витией, проговаривающим за водкой или за кофе все свои мысли и тем самым подсекая под корень самую необходимость их реализации на деле: за разговорами как бы осуществлялся весь творческий цикл — рождение мысли, ее выражение в слове, публичное обнародование, реакция аудитории, удовлетворенное честолюбие. Если другие прожигали свою жизнь или зарывали талант в землю, то Ружин просто-напросто проговаривал его.
Он много пил, но при его великанских габаритах и прямо-таки невероятной стойкости желудка, печени и почек никому не приходило в голову удивляться количеству им выпиваемого и съедаемого, а заказывал он себе в ресторане на обед двойные бифштексы с кровью, почти сырое мясо, а нередко просил официанта и повторить.
И все же как ни безгранична казалась его способность поглощать кофе литровыми кофейниками и выкуривать за день по две пачки «Беломора», как ни непрошибаема была защитная система его могучего и еще молодого в ту пору организма, в тридцать четыре его хватил первый инфаркт, в сорок — второй, после которого он, перепуганный и растерянный, решил начать новую, здоровую, строго по режиму жизнь. Но в итоге ограничился лишь тем, что ушел, теперь уже окончательно, с очередной службы и месяца четыре действительно избегал излишеств. Однако вскоре, оправившись от первых страхов, вновь стал засиживаться за полночь, прикуривать одну папиросу от другой и поглощать кофе в прежних количествах, твердо убежденный, что во вред ему может быть лишь перенапряжение от непосильного труда.
Зарабатывал же себе Ружин на жизнь — жил он совершенно один, никого близких у него не было, мать умерла года за два до его последнего инфаркта, женат он никогда не был, детей не имел, — зарабатывал он себе теперь на жизнь тем, чем прежде лишь время от времени подрабатывал: редактировал кандидатские, а изредка и докторские диссертации по истории и теории театра. Впрочем, слово «редактировал» далеко не полностью отражало его долю участия в работе диссертанта — он вписывал в нее целыми главами собственные, вполне оригинальные мысли, ничуть не мучаясь тем, что они послужат восхождению на горные высоты чистой науки разнообразнейшим прохиндеям.
Брал он за эту неблагодарную работу недорого, даже про себя не прикидывая, что, напиши и опубликуй он эту же работу под собственным именем, заработал бы вдвое, если не вдесятеро, не говоря уж о корысти тщеславия.
Однако дописывание и переписывание чужих диссертаций не могли обеспечить Ружину систематического заработка, и основным источником его доходов, округлявшим скромное журналистское довольствие, стал преферанс.
Еще в пору своей среднеазиатской юности Ружин слыл одним из наиболее многообещающих молодых дарований в мире завзятых преферансистов.
Перебравшись в Москву, он очень скоро стал своим в тесном мирке столичных игроков, чрезвычайно неохотно открывающем свои двери перед зелеными новичками, каковым был Ружин. Поначалу они встретили его снисходительно и свысока, что вообще свойственно москвичам по отношению к провинциальным растиньякам, но вскоре он столь усовершенствовался в этом многотрудном и требующем, по его словам, чрезвычайного умственного напряжения и самодисциплины искусстве, что в короткий срок выдвинулся в ряды признанных мастеров. Садились они за пульку в субботу утром и играли до воскресного вечера, чаще всего не расходясь и на ночь. Конечно же он и проигрывал, как все прочие, но, подбивая бабки в конце месяца, он неизменно оказывался в выигрыше или, в худшем случае, при своих.
Деньги, выигранные за карточным столом, Ружин считал безупречно честно заработанными и к тому же трудом сугубо умственным, высоким напряжением чистого интеллекта, знающего сладостные взлеты вдохновения и черные бездны отчаяния.
После второго инфаркта он жил, почти не выходя за порог своей крошечной квартирки, но в ней и теперь всегда было полно народу, и Ружин чрезвычайно дорожил тем, что вот — Бескудниковский бульвар, не ближний свет, а друзья его не забывают, стало быть, он хороший человек, потому что только у хорошего человека могут быть настоящие и верные друзья.
Квартира его до того обветшала, что установить, к примеру, первоначальный цвет обоев было совершенно невозможно. Спал Ружин на продавленном узком топчане, покрытом собачьей шкурой, полостью, как называл ее он сам, древней и истлевшей настолько, что на его одежде — а одевался он, изредка выходя из дому, с подчеркнутой и несколько старомодной тщательностью — постоянно поблескивали серебром волоски сухой и колючей собачьей шерсти. Впрочем, новым гостям, впервые посетившим его дом, он выдавал эту собачью шкуру за турью или же, на худой конец, волчью.
Главным же богатством его дома была обширная библиотека, на три четверти состоящая из книг с дарственными надписями авторов. Безмерно гордясь этим своим собранием и тем, какое поистине бесценное сокровище оно будет представлять тогда, когда и он, и, разумеется, авторы этих книг и автографов отойдут в мир иной, Ружин тем не менее охотно и безбоязненно давал читать книги даже не очень знакомым людям. Но если взявший книгу не возвращал ее в срок, Глеб ему раз и навсегда отказывал от дома. «Я его отлучил от себя», — говорил он и никогда не отменял своего приговора.
Иннокентьев познакомился и подружился с Ружиным вскоре после его появления в Москве, и хотя сам Борис был в ту пору уже хоть и не очень известным, но, по общему суждению, перспективным театральным рецензентом с наладившимися прочными связями в общем для него и Ружина профессиональном мире, а Глеб еще отдавал провинциальной нерасторопностью и идеализмом, — где бы они ни появлялись вдвоем, всем вопреки, казалось бы, очевидности сразу же становилось ясно, что в этом союзе именно Ружин играет первую скрипку. Но что было и того более странно — Иннокентьев, отличавшийся в отношениях со всеми прочими подчеркнутой независимостью, без борьбы подчинился именно так, а не иначе сложившейся их с Глебом дружбе. Глеб был, собственна, единственным человеком, которого Иннокентьев добровольно признавал умнее и одареннее себя и при этом не завидовал ему.
…Входная дверь, как всегда, была не заперта. Иннокентьев прошел через крохотную переднюю и заглянул в комнату:
— У тебя никого?
— Никого, — ответил Ружин и привстал с собачьей полости, на которой наверняка лежал с самого утра: на нем была лишь драная, на одной пуговице пижама, из-под которой обильно лезла наружу седая растительность на груди. С высоты своего роста он сразу разглядел за спиной Иннокентьева Элю. — Входите, раздевайтесь.
Иннокентьев и Эля разделись в тесной прихожей.
— Сапоги снимать? — вполголоса спросила Эля, но Ружин услышал ее из комнаты:
— Здесь не мечеть, хоть я и наполовину мусульманин.
Ружин был безудержный фантазер и враль, он сочинял о себе совершенно невероятные, неправдоподобные — в них никто и не верил — истории, расцвечивая их настолько достоверными и убедительными подробностями, что вскоре уже и сам не мог отделить правду от вымысла.
Одной из романтических легенд, которые он сложил о своем самаркандском или душанбинском прошлом, была мать — персидская княжна, чуть ли не внебрачная дочь свергнутого в двадцатые годы последнего шаха из династии Каджаров, спасшаяся в советской Средней Азии от преследований кровожадного первого Пехлеви. Для пущей убедительности Глеб и свое имя производил от искаженного восточного Галеб.
Насчет отцовской линии в своей родословной у него тоже была героическая побасенка, а именно: будто его прапрадед был одним из первомартовцев, бросивших бомбу в царя-освободителя, но успевший уйти от погони. Ружин любил говорить о себе без тени улыбки: «Я потомок цареубийцы», однако не переносил, когда при нем били мух.
Иннокентьев и Эля прошли в комнату.
— Это Эля, — представил он ее Ружину с какой-то защитной усмешкой, причем ему самому было неясно, к чему именно относится эта усмешка: к Эле, которая наверняка даже на первый взгляд покажется Глебу смешной и нелепой, или же к самому себе за то, что влип в эту глупейшую историю. — Пока больше ничего о ней сообщить не могу.
— И не надо, — с несколько тяжеловесной галантностью остановил его Ружин, — она и не нуждается ни в каких рекомендациях. Все необходимое мы установим впоследствии эмпирическим путем.
— Что такое — эмпирический? — полюбопытствовала Эля своим низким, словно бы резонирующим от стен и потолка голосом.
— Потом, — ответил за Ружина Иннокентьев. — Глеб обожает все объяснять, но делает это очень длинно и подробно. А для начала нам бы что-нибудь выпить и поесть.
— Вы в восточном доме, друг мой, — развел перед Элей руками с той же старосветской церемонностью Глеб, — а на Востоке первейший закон — закон гостеприимства. Борис мой кунак, а кунак моего кунака — мой кунак…
— Она скорее все же куначка, — прервал его витийство Иннокентьев, — но все равно голодна. И твой кунак тоже.
— Я мигом, — заторопился Глеб, — можете уже вырабатывать желудочный сок. У меня как раз сегодня полно отличных припасов. — И ушел на кухню.
Там сразу же что-то с грохотом полетело на пол.
Эля медленно обвела вокруг глазами. Тесная комнатка служила Ружину чем-то вроде кабинета, хотя в ней уже много лет как не было написано ни одной строки. Впрочем, именно здесь происходили Глебовы карточные баталии, а к этой стороне своей жизни он относился не менее серьезно, чем к любой другой.
За пыльным, давно не мытым окном утробно урчали грузовики, идущие мимо по Дмитровскому шоссе. В комнате было прохладно и сыро — Глеб никогда не закрывал форточку.
Эля прошлась вдоль полок с книгами, разглядывая, сильно наклоняя голову вбок, названия на корешках. Потом обернулась к Иннокентьеву, очень серьезно посмотрела на него, ничего не сказав.
Он сидел на ружинской лежанке, чувствовал сквозь тонкое сукно брюк покалывание собачьей щетины.
— Садись, — предложил он, — будь как дома.
— А я всегда как дома, — без улыбки ответила она. — Он что, — кивнула в сторону кухни, — ваш друг?
— Да. Он тебе не понравился?
— На вас совсем не похож. — И спросила в упор: — Зачем вы меня к нему привезли?
— Ни за чем. В гости.
— Зачем вам надо со мной в гости? — Она не сводила с него прямого, недоверчивого взгляда.
— Так ведь надо же нам с тобой поужинать, а сейчас уже ночь, все закрыто, только в гостях и можно поесть. Очень просто.
— У вас все просто… — так же недоверчиво отозвалась она.
— Если тебе тут не нравится, поехали ко мне, а?..
— Так бы и сразу… а то — в гости… — одними губами усмехнулась она. Подошла к двери, окликнула Ружина на кухне: — Вам помочь не надо?
— Никогда! — возмутился тот. — Был бы только свежий продукт под рукой. Кофе или чаю?
— Кофе, — решила она. Подошла к столу, села напротив Иннокентьева, положила руки на стол, сцепивши пальцы.
— Первый час, после кофе не уснешь, — не нашелся он ничего другого сказать. И опять отметил про себя, какие у нее крупные, с длинными сильными пальцами кисти и ногти острижены по самые подушечки. Он кивнул на ее руки: — Ты что, раньше печатала на машинке?
Эля тоже внимательно поглядела на свои руки, будто изучая их. Но не ответила, спросила о другом строго и требовательно:
— Вы насчет кофе… Разве вы, когда позвали меня с собой, собирались ночью спать? — Но не дала ему ответить, убрала ладони со стола, словно бы устыдившись их, — Раньше печатала. Ногти вообще мешают, я не люблю, когда длинные. А вам бы хотелось, чтоб маникюр? — посмотрела на него с ожиданием.
Он не знал, что ответить. Он вообще не знал, о чем и как с ней говорить, уж слишком она была не похожа на женщин его круга — актрис, журналисток, редакторш, на жен его друзей. «Вот вытаращили бы все глаза, если бы я где-нибудь с ней появился…» — подумал он без усмешки про себя. А вслух сказал:
— Кофе так кофе, — И не удержался, спросил, хотя знал, что не надо бы: — Ты всегда так, в лоб?..
— Что — в лоб? — не поняла она.
— Ну — спать, не спать?..
Она чуть помедлила, но все же ответила:
— Просто чтоб вы не думали, что я дурочка из переулочка.
— Ты не дурочка… — пожалел он о своем вопросе.
— Зарплата не позволяет, — без улыбки, не сводя с него взгляда, ответила она.
— Я за то, чтоб не спать, — посмотрел он ей тоже прямо в глаза. — Если ты не против.
И вдруг она улыбнулась ему широко и доверчиво, блеснув влажными, очень белыми крепкими зубами, и вновь стала просто шебутной и наивно-прямодушной девчонкой из ближнего Подмосковья, улыбнулась так открыто и мило, будто это и не она только что смотрела на него напряженным и недоверчивым взглядом.
— А я еще не решила. Может, выпью кофе и сразу усну на этой псине. Я хоть ведро кофе могу, а потом сплю за милую душу.
Из кухни вернулся Ружин, неся на большом и не слишком чистом подносе в ярко-красных розах еду и дымящийся кофейник.
— Предупреждаю, — сказал он, ставя поднос на стол, — в этом доме пьют исключительно водку.
— Коран вообще запрещает пить, — повторил Иннокентьев в тысячный раз принятую в их компании шутку насчет Глебова магометанства.
— Да, нравы падают даже среди правоверных, — в тысячный же раз согласился Ружин и с подчеркнутой расположенностью обратился к Эле: — Зато кофе сварен особо. Секрет безвозвратно утерян.
Это была еще одна его вполне невинная брехня — унаследованный якобы от матери-персиянки секрет старинного способа варить кофе по-восточному. На самом же деле он просто сыпал в воду кофе втрое против обычного, вот он у него и получался отчаянно крепким.
По тому, как Ружин за какие-нибудь четверть часа успел распушить до последнего перышка павлиний хвост своих фантастических историй — и насчет матери, внебрачной шахини, и насчет святого закона куначества, и, наконец, таинственного, утерянного во тьме столетий способа варить кофе на особый лад, — Иннокентьев понял, что Эля безоговорочно понравилась ему, хоть и не сказала еще и двух слов. Это было тем более странно, что Глебу редко кто вот так, с ходу приходился по душе.
«Сейчас насчет баскетбола начнет заливать, — предположил про себя Иннокентьев, глядя снизу вверх на Ружина, расставляющего на столе еду: толсто нарезанный сыр, жирную блекло-розовую ветчину, копченую колбасу, масло, хлеб, — голову даю на отсечение».
Словно бы услыхав его мысли, Глеб, прежде чем опять уйти на кухню, пояснил Эле:
— На ночь, как известно, есть вредно, но я, знаете ли, полжизни прожил на таком строгом режиме — этого нельзя, того нельзя, о водке и речи быть не могло… Ну а теперь наверстываю упущенное. Дело в том, что я в прошлом профессиональный баскетболист, играл за сборную «Буревестника»…
Однако на фотографиях времен своей не столь уж далекой юности, которые он показывал Иннокентьеву, Ружин был так же грузен и толст, как и сейчас.
Иннокентьев невольно покосился на Элю — что же в ней такого, что с первого взгляда пленило Ружина?
Эля встала и без тени смущения спросила Ружина:
— Мне в туалет надо. Можно?
Иннокентьеву стало неловко за нее перед Глебом:
— В таких случаях принято говорить: где у вас можно вымыть руки?
— Я и руки вымою, само собой, — не обиделась она или просто не поняла его насмешки.
— Там у меня с выключателем неладно, я вам покажу, — кинулся за ней Ружин.
Они вышли вдвоем из комнаты. Глеб ей что-то галантно говорил, она ему, смеясь, отвечала, но Иннокентьев не прислушивался, ломая голову над этой загадкой: чем же это она взяла Ружина?..
Тот вернулся в комнату, стал нарезать проминающийся под тупым ножом свежий батон.
— Ну?.. — не удержался Иннокентьев.
— Ты о ней? — переспросил, не поднимая на него глаза, Ружин. — Не чета всем вашим грошовым бабам, которых на конвейере нынче производят.
— Чем же? — не стал с ним спорить Иннокентьев.
— Настоящая, — не задумываясь пояснил тот, — Без этого ихнего вечного выламывания. — И уточнил: — Штучный товар, редкость по нынешним временам. Едва ли ты потянешь на нее, кишка тонка.
— Откуда тебе знать — настоящая, не настоящая? — разозлился неизвестно на что Иннокентьев. — И насчет моей кишки тоже!
— Кому же тебя еще знать, как не мне? — искренне удивился Ружин. — Как облупленного.
Иннокентьев вдруг почувствовал, как адски устал за этот бесконечный, муторный день.
— Глупости — с первого взгляда что-нибудь увидеть…
— Отнюдь! — живо возразил Глеб. — Есть вещи, которые я за версту чую. Где ты ее раздобыл — такую?
— Новая монтажница, намыкался я с ней сегодня… Обругала мой материал, камня на камне не оставила… — Иннокентьеву теперь казалось, что так оно и было, хотя на самом деле Эля ничего такого не говорила, просто его обидело ее неприкрытое безразличие к тому, что они вместе делали. — О чем ее ни спросишь, у нее на все один ответ — «нормально».
— Ну ты млекопитающее всеядное, тебе бы только — что плохо лежит, — И, покосившись на открытую дверь, Глеб прибавил вполголоса: — Ты тише, там все слышно.
— Я ей — пойдем, она тут же — давайте… Я говорю: где же ты ночевать собираешься — она за городом живет, — а она: не беда, хоть бы и у вас… Говорит, часто в Москве у знакомых остается на ночь, когда на электричку не успевает, даже зубную щетку с собой на всякий случай носит…
— И ты конечно же растерялся, — уперся в него своими глазками-гвоздиками Ружин. — Хорош, ничего не скажешь!
— Когда ты этой святости успел понабраться?!
— А я и на самом деле святой рядом с тобой! — Ружин даже пристукнул рукояткой кухонного ножа по столу. — Я-то один среди всей вашей шатии святой!
Он сел, налил себе водки и не чокаясь опрокинул ее в себя, закусил маринованным огурцом, выловив его пятерней из банки, облизал пальцы.
— Да, святой. После инфаркта я стал другим человеком. Более того, с тех пор я только и стал человеком. — Прибавил не без самодовольства: — Чтобы родиться заново, надо сначала умереть. Не каждому дано, — И, покосившись опять на дверь, вернулся к прежней теме: — Во всяком случае, она не такая, как все вы и ваши шлюхи. Гляди! — пригрозил Иннокентьеву толстым пальцем с обкусанным по самую мякоть ногтем.
— Что — гляди?.. — Иннокентьев все еще держал на весу невыпитую рюмку. — Выражайся членораздельно.
— Гляди! — с той же угрозой повторил Ружин, но пояснять ничего не стал.
Вернулась в комнату Эля.
— Я голубой полотенчик взяла вытереться, ничего? — Подсела к столу, оглядела еду: — Норма-ально!.. Не хуже, чем в ресторане.
Эля взяла в руку рюмку, оттопырив с неожиданной в ней жеманностью мизинец, поднесла к носу, понюхала, страдальчески поморщилась:
— А воды нету? Я не умею без воды.
— Сейчас, — поднялся Иннокентьев из-за стола, ему почему-то не хотелось, чтобы один Ружин выплясывал перед нею, а сам он сидел как посторонний. Он вышел на кухню, наполнил водой из-под крана большую фаянсовую кружку, вернулся в комнату.
Эля взяла кружку в свободную руку, взглянула на обоих молодо и счастливо, как бы вступая с ними в веселый, озорной сговор.
— С тостом или без?
Ружин смотрел на нее во все глаза и в ответ ей тоже счастливо улыбался. Но сказал вопреки своему обыкновению нечто малоторжественное и еще менее оригинальное:
— За знакомство. И за вас, разумеется.
— Нормально! — согласилась она и залпом, залихватски выпила рюмку до дна.
Иннокентьев ревниво наблюдал за Элей, хоть и прекрасно понимал, как это, должно быть, смешно выглядит со стороны.
Эля выпила, понарошку испуганно ахнула, прикрыв ладошкой рот, потом припала к кружке с водой.
«Хоть пить еще не научилась», — подумал со странным облегчением Иннокентьев и тоже выпил.
— Ешьте, ешьте! — Ружин торопливо придвинул к Эле еду. Иннокентьев давно не видел его таким оживленным и благостным, — Хороший аппетит бывает только у людей с чистой совестью. Неизменный аппетит и отличное пищеварение — первейший признак душевного здоровья.
От выпитой рюмки у Иннокентьева разом стало на душе полегче. Он тут же налил себе вторую, поднес ко рту, но, прежде чем выпить, неожиданно для себя самого предложил Эле:
— За тебя. И — на «ты». Идет?
— Если вы хотите на брудершафт, — смело взглянула она на него, — пожалуйста, я могу поцеловать, только на «ты» все равно не получится. Согласны?
— Хоть надежду оставила… — усмехнулся он, чуть задетый.
Они переплели руки, выпили, Эля первая потянулась к нему и поцеловала, крепко прижавшись зубами к его зубам, и он сам прервал поцелуй, застеснявшись Ружина.
— Нет, — Эля откинулась на спинку стула, — целоваться вы не умеете, — И протянула счастливо и изнеможенно: — А я захмеле-ела!.. — Повернулась неожиданно к Глебу: — А с вами я на брудершафт не буду. Знаете почему?
— Почему? — эхом отозвался Ружин, глядя на нее с бескорыстным восхищением.
— Потому что вы умный, вы ужасно умный, с вами я никогда не смогу на «ты». Я не могу на «ты», кто умнее меня. А вы просто беда до чего умный, да?
— А я, выходит, дурак? — против собственной воли подставил себя под удар Иннокентьев и вдруг ужасно на себя и на них обоих разозлился за то, что наверняка кажется смешным и ей и Ружину.
— Вы другое дело, — повернулась она к нему. — С вами я как раз сама хочу на «ты», только не решусь никак. Вас бы я даже могла полюбить, если хотите знать. А что?! Очень даже нормально, и что вы седенький, мне тоже нравится, я люблю, когда с проседью, мужчинам это идет. Очень даже просто могла бы… — И так же неожиданно, как все, что с ней происходило, заключила: — Только не хочу. — Резко, всем туловищем повернулась опять к Ружину. — Ничего, что я при посторонних так прямо про себя говорю? Вы не осуждаете? — Но, не дав ему ответить, вновь повернулась к Иннокентьеву: — А я потому так прямо все говорю, что, если хотите знать, я сегодня вполне могла и поехать прямо к вам, и остаться. Только ничего хорошего из этого все равно не получилось бы. Я боюсь вас. Не того, что, если б я поехала к вам, вы бы непременно подумали, что я… Даже нормально, если бы подумали.
Вот даже если б я и полюбила вас, все равно бы боялась. Непонятно?
Он почувствовал, как бросилась ему кровь в лицо, сказал как мог ироничнее и спокойнее:
— Нет, извини, не понимаю.
Эля, не сводя с него глаз, по-бабьи горестно покачала головой.
— Где тебе… — И тут же спохватилась: — То есть вам, извините. — Встряхнула падающей ей на глаза челкой, будто отгоняя ненужные, лишние мысли, предложила: — Лучше давайте еще выпьем. За то, чтобы никто никогда никого не боялся! Верно? — И близко, лицо к лицу, наклонилась к Иннокентьеву, — А я ведь раньше и вправду никого не боялась, вы первый! Сама удивляюсь! — Потянулась с рюмкой к Ружину, заулыбалась бесстрашно. — А вас я не боюсь ни самой малой чуточки! Я, если вам очень хочется, могу и с вами поцеловаться, хоть сейчас! Хотите?.. — Выпила залпом рюмку, опять прижала как бы в ужасе ладошку ко рту, быстренько запила водою, помотала головой, — А я пьяная, нормально… сами виноваты. Я посплю, ладно? Самую чуточку…
И, не дожидаясь их согласия, перелезла через колени Иннокентьева на ружинский топчан, свернулась калачиком, положила обе ладони под щеку и, что-то бормоча про себя, затихла.
Мужчины некоторое время сидели молча, не глядя друг на друга.
— И ничего не поела… — только и заметил погодя Ружин.
— Да и мне что-то расхотелось… — Иннокентьев пересел к изножью топчана, чтобы Эле было просторнее, — Ехал сюда, казалось, целого барана сожру…
— Где ты в наше время достанешь барана? — посетовал Ружин. Он взял пригоршней с тарелки несколько ломтей ветчины и, задрав кверху бороду, сунул в рот. Ел он жадно, борода его была в хлебных крошках.
Было неясно — уснула Эля или же только лежит с закрытыми глазами.
— Эля… — тихонько позвал Иннокентьев, — Ты спишь?
Она не шевельнулась.
— Ты спишь? — повторил он и положил руку на ее бедро. Ему показалось, что даже сквозь плотную джинсовую ткань чувствует ладонью молодую, упругую гладкость ее кожи, слышит, как бьется жилка под коленом.
— Оставь ее, — сказал Ружин, — пускай спит.
— Спит, — решил Иннокентьев, — можно разговаривать.
— О чем? — словно бы удивился Ружин. — О ней?.. — Он налил себе и Борису, но пить не стал, задумался, упершись локтями в стол. — Не знаю… — протянул неопределенно, — не знаю…
— И все же ты, как ее увидел, стал сам на себя не похож, — настаивал Иннокентьев, — прямо-таки Версаль какой-то развел…
— Не знаю… — повторил Глеб задумчиво. Чокнулся рюмкой о рюмку Бориса, — Выпили. — Опрокинул содержимое рюмки одним неуловимым движением в широкую, как водопроводная труба, глотку. Ветчину он уже всю съел, принялся тем же манером — всей пятерней — за колбасу. Это было похоже на то, как ест слон с помощью хобота.
Иннокентьев тоже выпил.
— Сапоги бы с нее снять, — неуверенно предложил Ружин, — небось набегалась за день на каблучищах..
Иннокентьев расстегнул «молнию» на Элином сапоге, осторожно потянул за каблук, сапог неожиданно легко соскользнул с ноги. Под ним поверх капронового чулка был надет мужской дешевый нитяной носок, зеленый в белую полоску.
Иннокентьев виновато оглянулся на Ружина, словно бы извиняясь за этот носок.
Но Ружин сосредоточенно расправлялся с колбасой, не до того ему было.
Иннокентьев снял и другой сапог и, не сразу решившись, стянул с Элиных ног и носки, сунул их в голенища.
Эля что-то пробормотала во сне, повернулась на другой бок. Иннокентьев прикрыл ей ноги своим пиджаком, висевшим на спинке стула.
— Умаялась, — умилился Ружин, — ничего даже не почувствовала.
Иннокентьев вдруг ощутил опять адский голод, прямо-таки подвело живот, но тарелка была уже пуста.
— Все сожрал?! — поразился он. — Ну и прорва!
— У меня еще есть, — ничуть не смутился Ружин, — навалом. — И ушел на кухню.
Иннокентьев смотрел на неслышно спящую Элю.
«Ну и имечко…» — подумал он только для того, чтобы о чем-нибудь подумать. Ему пришло в голову, что, не заболей Софья Алексеевна, не пришли ему начальник монтажного цеха вместо нее Элю, он бы никогда, встреться она ему на улице, в толпе, не обратил бы на нее внимания, не заметил даже.
За эти шесть лет, что он расстался с Лерой, он потратил столько душевных сил на то, чтобы запретить себе думать о ней, что, как ему стало казаться, вместе с этими мыслями и воспоминаниями перегорела в нем, рассыпалась холодным серым прахом и самая способность влюбляться, любить. Сердце продолжало исправно перекачивать кровь, бешено колотилось или покалывало, когда он переутомлялся или перекуривал, и этим его функции исчерпывались. Проживем и так, бессильно утешал он себя, так даже проще, никаких тебе забот…
С кухни вернулся Глеб с новыми запасами еды.
— Совсем забыли о кофе, — вспомнил он. — Подогреть или новый сварить?
— И так сойдет, — рассеянно отозвался Иннокентьев, продолжая думать о своем: и вот теперь, пожалуйста, эта девчонка из совершенно чужого ему мира, с длинным, худым и угловатым телом, с остриженными по самые подушечки ногтями, — что ему в ней?! Еще утром она только раздражала его, вызывала едва сдерживаемое желание наорать на нее, выгнать из монтажной, потом бесцеремонно заявила, что все, чем он занимается, — сплошная чепуха, а стоило поманить ее пальцем, не раздумывая согласилась на все, — что ему в ней? На кой она ему, зачем?! А потом он еще неизвестно отчего надумал ее везти к себе, а привез к Ружину — это-то зачем?..
— Знаешь, отчего я бросил раз и навсегда писать о вашем дерьмовом театре? — услыхал он сквозь свои мысли голос Ружина.
Иннокентьев удивленно посмотрел на него.
— Это имеет прямое отношение к ней, — ткнул Глеб пальцем в сторону Эли, — Самое непосредственное! — И вне всякой связи потребовал: — Прикрой форточку, надует!
Это уже было слишком! Чтобы Ружин, который по хладолюбию был несомненно помесью тюленя с белым медведем, решился из заботы о ком бы то ни было закрыть форточку в собственной берлоге?!
Иннокентьев привстал, дотянулся до фрамуги, захлопнул ее.
— Я потому бросил это унизительное для уважающего себя мужчины занятие, — продолжал проникновенно
Ружин, одной рукой разливая из кофейника в плохо вымытые чашки кофе, а другою водку в рюмки, — что все это не-на-сто-ящее! Все липа, туфта, суррогат! — В запале он чокнулся с Иннокентьевым не водкой, а чашкой с кофе. — Тьфу! — заметил он свою оплошность, но исправлять ее не стал, залпом опрокинул в себя остывший кофе.
Иннокентьев стал жадно, голодно есть, слушая Глеба вполуха.
Он знал по опыту, что сейчас последует длинный, разрушительно-саркастический ружинский монолог, беспощадное сведение счетов с немощной, тлетворной фальшью искусства, а заодно и с собственной несостоявшейся судьбой.
Эти извержения неизрасходованной мыслительной энергии находили на Глеба всякий раз, как только представлялся малейший, пусть даже и самый далекий и не идущий к делу повод, — Ружин занимался, как таежный сухостой, от первой же искры.
— А она, — ткнул он подбородком в веере редкой бороды в сторону спящей Эли, — она — настоящая!
— Ты ее впервые видишь, — неведомо на что озлился Иннокентьев, — и какое, скажи на милость, она имеет отношение к театру?!
— Вот меня всегда занимало, — Ружин выпятил презрительно трубочкой губы, — как это тебе удается не видеть того, что и слепому ясно? Ребенку — и то как на ладони!.. Как ты, человек относительно образованный, почти интеллигентный, можешь заниматься тем, чем занимаешься в своем паскудном «Антракте»? И вообще жить жизнью, которой ты живешь?..
— Пошло-поехало… — поморщился Иннокентьев, — нашел время.
— Пожалуйста! — радостно согласился Ружин, — Поговорим о времени!
— О времени и о себе… — попытался Иннокентьев уйти от этого набившего оскомину разговора.
— И о тебе, именно! И не говори мне, что час ночи, что ты не для того пришел сюда с новой юбкой…
Иннокентьев покосился через плечо на Элю и невольно попытался представить ее себе не в джинсах, а в юбке.
— Спит, спит, — махнул рукой Ружин, — и не беспокойся, ничего порочащего тебя лично я обнародовать не собираюсь.
— Глеб, — Иннокентьев посмотрел на него с трезвой, печальной усмешкой, — через неделю Софья Алексеевна выздоровеет — и все вернется на круги своя. Тем более что ничего, собственно, и не случилось.
— Вот! — со сладострастным торжеством воскликнул Ружин. — Ты в этом весь! Ты и время! Не ты хозяин над временем, а оно над тобой. Вернется твоя Софья Алексеевна — и все опять пойдет, как шло, и ты будешь по-прежнему делать свои безнадежно пустые передачи, похожие одна на другую, как дома-близняшки в новых районах, будешь играть как ни в чем не бывало в свой пошлейший теннис, но именно тогда ты будешь спокоен и доволен собой и будешь считать, что все идет как надо. А тут… — он поднял блестящий от жира палец с обкусанным ногтем, — тут вдруг нечто непохожее, не такое, как всегда, и ты спешишь мигом же слинять, уйти в кусты, потому что в этом случае тебе не миновать что-то менять, а перемен-то ты как раз больше всего и боишься. — Он широко расчесал бороду на обе стороны, и казалось, что он это делает единственно для того, чтобы вытереть о нее жирные пятерни. И добавил с безграничным презрением: — Один сплошной антракт!
— При чем тут «Антракт»?! — не обиделся, а еще больше заскучал Иннокентьев. — При чем тут это?
— А при том! При том, что то, о чем ты вещаешь с экрана, и кого приглашаешь, о чем их спрашиваешь и заставляешь говорить, этих сытых и гладеньких баловней моды, — все это из одного корня: не выйти бы за рамки того, что уже имело успех вчера, что уже намертво убито успехом, уже идет у нормальных людей обратно горлом… — Голос его зазвучал беспощадной инвективой: — Ты! Раб успеха и жрец его же! И бог ваш — тот же сальненький, трусливенький успех! — Он вдруг остановился, как человек, бежавший по гладкой, знакомой дороге и неожиданно наткнувшийся на глухую стену. — Да нет, все не то я тебе говорю, совсем не то, что хотел…
— Слава богу, — облегченно вздохнул Иннокентьев, — и на том спасибо, а то меня уже в сон стало клонить.
— Я вот о чем хотел! — нащупал снова свою мысль Ружин. — Вот она, — ткнул пальцем в сторону Эли, — она так же отличается от всех вас и ваших заквашенных на тщеславии баб, как настоящее искусство — от того, чем ты умиляешься в своем «Антракте».
— Я ничем не умиляюсь, — вяло огрызнулся Иннокентьев, — и о вкусах не спорят, начнем с этого.
— Вот именно! А ты как раз и делаешь вид, что твоя передача — тот самый спор о вкусах, в котором рождается истина, на самом же деле если тебе на что и наплевать, так именно на истину. Но и не об этом речь…
— А ты соберись с мыслями, — и на этот раз не обиделся Иннокентьев, — а то все мимо и мимо…
— …а о том, что ты выдаешь за истину нечто настолько от нее далекое, как… — Он перевел дух и опять перескочил на другое: — А вот она… — поглядел с каким-то детским умилением на Элю, — она-то как раз истинная, самая что ни есть настоящая! Но ты принадлежишь к тому типу нынешних бойких молодчиков, которым не под силу это понять!
— Ну вот, я уже и тип…
Происходило то, что случалось всякий раз, когда Ружин оседлывал своего любимого конька, и, как всегда, Иннокентьев не умел уклониться от этих тысячу раз говоренных между ними разговоров, не находил в себе сил поставить этого краснобая пустопорожнего на место. Этот нескончаемый, бессмысленный спор с Ружиным засасывал его, как в воронку без дна, и в то же время дарил какое-то мучительное удовлетворение, словно бы, не признаваясь в этом даже самому себе, в глубине души он соглашается с Ружиным и с той самой истиной, о которой тот талдычит.
Но, уходя всякий раз от Ружина и садясь в свои «Жигули» с мохнатыми козьими шкурами на сиденьях, он тут же забывал и об его попреках, и об его умозрительной, не могущей иметь никакого практического применения правоте. Вольно Глебу растекаться по древу и толковать о несбыточном, забравшись в свои заоблачные эмпиреи, вся его проповедь и максималистская крайность суждений яйца выеденного не стоят. А главное, ничегошеньки Ружин — ни труда, ни риска, ни усилия хоть какого-нибудь — на алтарь своих идей не кладет, да и сам на костер не торопится. А филиппики эти — для домашнего пользования, буря в стакане воды.
Но сегодня разговор был какой-то иной, чем обычно. Сегодня и сам Иннокентьев был не такой, как всегда. И он злился на себя больше, чем на Ружина, именно потому, что не понимал, что с ним происходит. Не из-за Эли же, право, не из-за этой же девчонки, о существовании которой он утром еще и не подозревал и о которой завтра же забудет! И уж не оттого, что она так сразу, с первого взгляда, пришлась Глебу по душе, черт побери?!
— Это что, она, — кивнул он на спящую Элю, — вдохновила тебя на красноречие? Я ведь вижу!
— Она?! — возмутился было Глеб, но тут же охотно согласился: — Она, да.
— С чего бы это?
— С чего?.. — Ружин задумался, потом сказал с чувством, почти торжественно: — Эта тебе врать не дала бы. Не такая.
— Какая же? — настаивал Иннокентьев.
— А такая, что вот — ей тридцать почти…
— Тридцать?! — поразился Иннокентьев, он был уверен, что Эле не больше двадцати, ну двадцать три от силы.
— Я спросил, когда показывал, где ванная, не постеснялся, просто не хотелось, чтоб в моем доме растлевали малолетних. На вид, когда вы вошли, я ведь не дал ей и восемнадцати. Тридцать почти, а — ребенок, в этом все дело…
— Ну, этот-то ребенок, — усмехнулся Иннокентьев и тут же устыдился своей усмешки, — судя по всему, прошел такие огни, воды и медные трубы…
— Не старайся казаться пошлее, чем ты есть, — оборвал его Ружин, — и так за глаза хватит! Ну прошла, что из того?! Все равно ребенок, и чистая, и прямая, и я прошу тебя… Я прошу тебя! — вдруг крикнул он в гневе. — Я тебя предупреждаю!
— О чем? — не отвел глаза Иннокентьев. — И по какому праву?
Ружин не ответил, долго молчал, теребя пальцами бороду и глядя в стол.
— И прошу тебя, — сказал он наконец печально, — я прошу тебя не стать для нее новой водой, огнем и трубами… Не надо. — И, подняв на Иннокентьева глаза, теперь не острые и колючие, а просительные, жалкие, негромко повторил: — Я прошу тебя. Ведь она тебя… да, представь себе, она тебя…
— Она меня сегодня утром впервые в жизни увидела! — упрямо вскинулся Иннокентьев, — Не строй прекраснодушных иллюзий!
— Ну и что?.. Она тебя сто раз видела по телевизору, ты для нее та самая несбыточная сказка о прекрасном принце… О том, чего у нее никогда не было, чего она никогда в жизни и не надеялась увидеть и встретить…
— Она не Золушка, можешь мне поверить, а не более и не менее, как вполне современная Эльвира из подмосковного пригорода, и она-то сама не корчит из себя недотрогу, наивную девочку в голубых лентах! И уж наверняка лучше нас с тобой знает, чего ей от меня надо…
Эля вздохнула и пошевелилась во сне.
— Тише! — перебил его Ружин, — Она же все слышит!..
— И пусть! Разве я сказал что-нибудь обидное для нее? Я только сказал, что ей без малого тридцать лет, и она стреляный московский воробышек, и знает что почем. Наоборот, она бы очень обиделась, если б узнала, что кто-то принимает ее за наивную дурочку.
Ружин горестно покачал головой, не сводя с него глаз.
— Циник же ты, однако…
— Неправда! Просто я тоже вполне современный мужчина сорока четырех лет от роду и тоже успел нахвататься всяческого опыта… Ах, — махнул он устало рукой, — давай уж лучше выпьем.
Он не только не боялся, что Эля его услышит, но и хотел, чтобы она все услышала. Он был уверен, что в этих его прямых и жестоких словах есть какая-то наверняка понятная ей честность, которая более, чем что-либо другое, говорит в его пользу.
— За что только я тебя люблю… — удивленно и покорно произнес Ружин, протянув руку к бутылке и наполняя свою и Иннокентьева рюмки, — Не пойму. Давай! — И залпом выпил.
За окном лил запоздалый, не по времени года бесшумный и скучный дождь, они и не заметили за разговором, как он начался.
Иннокентьев нерешительно подумал вслух:
— Третий час… надо ехать.
— Куда? Дождь ведь.
— Я на машине. — Тем более — мы же с тобой почти целую бутылку опорожнили. И она спит, жалко будить.
— Можно, конечно, и у тебя заночевать… — безвольно согласился Иннокентьев, — мы с ней здесь, а ты в той комнате… (После смерти матери Глеба во второй комнате-крохотульке осталась неподъемная, старинная, карельской облупленной березы, высокая кровать с продавленным матрасом.) Действительно, я порядком выпил. Ты иди туда, спи, а я посижу пока здесь. Иди.
Ружин ничего не ответил, с тяжким вздохом поднялся, ушел в соседнюю комнату, плотно прикрыв за собой дверь.
Слышно было, как он там чертыхается, раздеваясь и укладываясь, страдальчески застонала под его восьмипудовым телом карельская береза, и уже через две минуты из-за двери донесся надсадный, с всхлипываниями и стенаниями храп.
Иннокентьев долго сидел на краешке топчана рядом с Элей. Ему совершенно не хотелось спать, и думал он тоже ни о чем. Потом он представил себе, как нелепо, должно быть, выглядит это со стороны: чужая квартира, он сидит у ног спящей и совершенно чужой женщины, которую неведомо зачем привез сюда, и совершенно не знает, что с ней делать, и про себя он тоже ничего не знает. И тогда он стал думать — это с ним случалось всегда, когда почему-нибудь не спалось, — о Лере.
Мысли о ней приносили с собой все еще ноющую бессильную боль, но и, вместе с болью и вопреки ей, утешение и убаюкивающую эту боль жалость к самому себе.
На столе остались тарелки с недоеденной колбасой и сыром. Он машинально встал и отнес остатки еды в холодильник. На кухне он долго стоял, прижавшись лбом к холодному стеклу окна, и опять думал о Лере, но сейчас почему-то эти мысли не приносили ни боли, ни жалости, ни утешения.
Вернувшись в комнату, он еще с порога увидел, что Эля не спит, лежит на спине с открытыми глазами.
Он подошел к топчану, опять присел рядом с ней:
— Не спишь?
Она по-детски мелко и часто замотала головой: нет.
— Ты… все слышала?.. — осторожно спросил он.
Она опять так же часто помотала головой.
Он сидел в ее ногах и не знал, что ей говорить и вообще как быть.
— Ложитесь, — без выражения сказала она, — ведь и вам, наверное, не терпится покемарить, места хватит.
Он нагнулся, расшнуровал ботинки, скинул с ног, все еще не решаясь лечь с ней рядом, потом все-таки лег, вытянулся на краю топчана.
Нет, он не хотел ее, подумал про себя почему-то в третьем лице Иннокентьев, он ее не хотел и больше всего боялся показаться ей и самому себе смешным.
— Вам удобно? — спросила она шепотом.
— Да… А тебе?
— Нормально. Спите.
И он вдруг после суматошного и утомительного этого дня и половины ночи, лежа рядом с молодой и еще несколько минут назад казавшейся такой доступной женщиной, вдруг мгновенно и легко, как бывает только в благословенном детстве, провалился в счастливый, безмятежный сон.
«Рассказать кому — не поверят, — успел он, прежде чем уснуть, подумать и усмехнуться, — смешнее не бывает…»
А когда он уснул и ровно задышал во сне, Эля тихо встала, неслышно прошлепала в одних чулках по холодному линолеуму пола, нашла выключатель, погасила свет, вернулась к топчану, опять легла, но тут же раздумала, села, подтянув колени к подбородку и обхватив их тесно руками, смотрела не отрываясь на лицо Иннокентьева в колеблющемся, неверном свете электрических фонарей с улицы. Лицо это казалось ей пугающе-незнакомым и чужим, но именно таким оно и должно было быть у него.
Под ним она имела в виду не именно Иннокентьева, а вообще того долгожданного мужчину, который мог лежать с ней рядом и не требовать от нее того, чего надо лишь терпеливо и молча ждать.
4
Эля его забавляла — пожалуй, именно так Иннокентьев определил бы свое отношение к ней, если бы кто-нибудь пристал к нему с расспросами.
Забавляло в ней все — и мальчишески длинное и узкое ее тело, и заношенный до белесых пролысин тесный джинсовый костюм, который она называла не иначе как ансамбль, и размашисто-грубоватые, резкие ее манеры и словечки, и прямота, и непредсказуемость суждений, в которых, если вдуматься, была своя непреложная логика и здравый смысл. Он ловил себя на том, что и сам становился с нею иным — проще, что ли. С ней можно было позволить себе роскошь постоянно быть самим собой, а одно это дорого стоит. А уж если называть вещи своими именами, то объяснение этому тоже было простейшее: наверняка не он один, но и она знает наперед, что их отношениям тянуться недолго, очень скоро им наступит конец, и уж ей-то первой они наскучат, осточертеет ей этот на четырнадцать лет ее старше, седеющий и вечно занятый своими делами и самим собою мужчина, которому всегда недосуг и, если признаться начистоту, не до ее любви. Если, конечно, она его любит, подводил утешительный и, главное, необременительный итог своим размышлениям Иннокентьев.
На людях они никогда вместе не бывали, на работе — Софья Алексеевна вскоре выздоровела, и Эля больше не появлялась в монтажной «Антракта», — если они встречались в бесконечных, похожих на длинные и без выхода подземные тоннели, коридорах останкинского телецентра, Эля называла его на «вы», и не из конспирации, а по внутреннему побуждению, а он ее, разумеется, на «ты». Она ничего ни от кого не скрывала, но и не выказывала, не хвастала, как сделала бы несомненно на ее месте любая останкинская девчонка-секретарша или ассистентка, своими отношениями с Иннокентьевым и даже, как ему казалось, не очень-то тешила ими свое тщеславие.
Он лишь удивлялся, что многие ее смешные или попросту глупые привычки и суждения не раздражают, не вызывают в нем неловкости, как вызвали бы, будь это не она, а кто-нибудь другой. Ну, например, то, что, входя к нему в дом, она, едва переступив порог, тут же разувалась и ходила в одних нитяных носках поверх чулок, упорно не желая надевать домашние шлепанцы. Или то, как она ела хлеб, откусывая от целого ломтя и держа его на отлете в руке с манерно оттопыренным мизинцем. И даже то, что лак на ее коротко остриженных ногтях — в тех редких случаях, когда она сама себе делала маникюр, — тут же облуплялся, а это обычно вызывало в нем почти физическую тошноту. Не говоря уж о тех немыслимо, на его взгляд, нелепых разговорах, которые она обожала вести в постели, выпростав из-под одеяла свои крупные белые ступни, ей всегда было жарко. Ей не так уж важно было, чтобы он отвечал, ни даже, может быть, чтобы слушал, и иногда Иннокентьеву приходило на ум, не забыла ли она, что он лежит с ней рядом. Впрочем, и он в это время чаще всего думал о своем, не имеющем к ней ни малейшего отношения.
Но при этом он помимо воли все-таки понемногу втягивался в эти ее бесконечные, без точек и запятых, рассказы с ошарашивающе невыдуманными, безбоязненно подсказываемыми памятью подробностями — так ново было все это для него, так далека была эта ее жизнь в Никольском, которое ему представлялось где-то на краю света, такими живыми и совершенно не похожими на его собственное окружение вырастали из ее рассказов люди, которые были для нее не просто соседями, попутчиками в электричках, метро и набитых битком автобусах, а — плотью, воздухом самой жизни, которой она жила без него, Иннокентьева.
Они встречались все чаще, но только у него дома. А утром она убегала на работу, когда он еще спал, и не будила его, и кроме этих ночных торопливых часов ничего общего у них, казалось бы, и не было. Да и могло ли быть?..
Но со временем ему становилось этого мало. Он посмеивался над собою и только пожимал плечами: что ему в этой девчонке?! — но и это не слишком помогало.
Он упрямо твердил себе: никакая это не любовь, смешно и подумать, в лучшем случае — слепое физическое влечение, род недуга, одно утешение — скоро пройдет, промелькнет, забудется. Но и это не освобождало от тревожного чувства незащищенности и какой-то собственной вины — в чем, перед кем?!
Он дал ей второй ключ от квартиры, и теперь, возвращаясь поздними вечерами с театральной премьеры или с затянувшейся съемки и заставая ее у себя, он уже не тяготился пустотой и нежилым, бесприютным духом своего дома, как это было все годы после отъезда Леры.
Меж тем слякотная, гриппозная осень сменилась бесснежной зимой, стояли сухие, колючие морозы, но когда в конце декабря заснежило наконец, то уж так обильно и роскошно, что в одну ночь Москва оделась в белое и праздничное, и разом стало светло и на душе.
Иннокентьеву казалось само собой разумеющимся, что он будет встречать Новый год не с Элей, а в обычной своей компании. Сама мысль о том, чтобы взять Элю в эту свою компанию, была бы противоестественной и попросту смехотворной. Эля тоже не заговаривала с ним о Новом годе, но в ее молчании, в ее нарочитом безразличии ему настойчиво слышался немой вопрос и нетерпеливое ожидание, и это тяготило его чувством все той же своей мнимой, на его взгляд, вины. А он этого терпеть не мог — чувствовать себя перед кем бы то ни было виноватым. Он не понял Ружина, когда тот сказал однажды:
— Интеллигентный человек прежде всего тем и отличается от жлоба, что испытывает вечное чувство вины.
— В чем? — спросил его тогда Иннокентьев. — И перед кем?
— Перед тем же жлобом хотя бы, — спокойно пояснил Ружин. — За то, что он лучше и выше этого жлоба и понимает это, а жлоб о том даже не догадывается.
— Я же еще должен чувствовать перед ним какую-то вину?! — пожал плечами Иннокентьев.
— Ты?.. — протянул удивленно Глеб, и в его голосе, во взгляде маленьких, острых глазок Иннокентьеву почудилась та насмешливая, высокомерная дистанция, которую нет-нет, а устанавливал между ним и собою Ружин. — Ты — нет. Ты не тот и не другой. Ты на пути от одного к другому.
— В каком направлении? — непостижимо почему не обиделся Иннокентьев. — От жлоба к интеллигенту или наоборот?
— Это не имеет никакого значения, — заключил тогда Ружин, — ибо ни жлобу в интеллигента, ни интеллигенту в жлоба не дано, увы, превратиться, и в этом именно их вечная и незамолимая вина друг перед другом. Но жлоб ее в себе даже и не предполагает, вот и вся разница.
…Но утром в канун Нового года он, неожиданно для самого себя и тяготясь все тем же чувством несуществующей своей вины перед Элей, сказал ей:
— Сегодня уже тридцать первое, а я, к сожалению, не догадался заранее…
— А меня уже пригласили в компанию, — не дала она ему договорить, и по ее поспешности он понял, что она давно ждала от него этих слов, чтобы сразу все поставить на свои места. — Так что ничего не выйдет, извините.
— Я хотел как раз тебе предложить… — он почувствовал облегчение, хотя то, как она легко и безапелляционно все решила за них обоих, непонятно почему больно уязвило его, — хоть пообедать вместе… едва ли мы уже сможем попасть куда-нибудь на встречу Нового года…
— Вы не сердитесь на меня? — опять перебила она его, — Просто я забыла вам раньше сказать.
— Попытаемся все же, а?.. — И тут же пожалел о сказанном: куда они смогут пойти, не заказав заранее столика? Никуда их и на порог не пустят.
Но она вдруг вскинула на него счастливые, разом поголубевшие глаза:
— Попытка не пытка, верно? Только имейте в виду: я уже не успею домой заехать, в Никольское, времени мало.
— Зачем тебе домой? — не понял он.
— Ну, в смысле — переодеться. Пойду — в чем каждый день, ничего?..
— Нормально, — ответил он ей ее же словцом, хотя тут же сообразил, что в ее — одном на все случаи жизни — потертом джинсовом костюмчике не то что в порядочный ресторан — ив самый захудалый кабак не пустят. А где достать за оставшиеся несколько часов подходящее к случаю нарядное платье?.. И все прочее — чулки, украшения и что там еще полагается у них?.. Туфли хотя бы, он даже не знает, какой размер она носит…
— Тогда я хотя бы отмокну как следует в ванной, — тем же счастливым, захлебывающимся от нежданного праздника голосом решила Эля, — чтоб хоть в какой-никакой форме быть, верно? Мы ведь не сразу поедем?.. — И, не дожидаясь его согласия, стала стягивать с себя одежду. — Чтоб вам со мной не стыдно было от людей…
И ушла в ванную, оставив не знающего, что предпринять, к кому кинуться за помощью, Иннокентьева одного.
И тут ему вдруг пришло на ум — Настя Венгерова. Настя — единственный человек, который может ему помочь в этой ситуации. Во всяком случае, не откажется помочь. И даже то, что еще какой-нибудь год назад их отношения очень походили, по крайней мере со стороны, на вполне серьезный роман, а потом закончились сами собой, без взаимных обид и попреков, даже без выяснения напоследок, кто в том виноват, — даже это не помешает ей захотеть ему помочь.
Настя была первой артисткой театра Аркадия Ремезова — еще недавно, как это называли в старину, властителя дум столичной публики. Правда, в последнее время ему стали ощутимо наступать на пятки режиссеры помоложе, побойчее и с новыми идеями, но тем не менее он и по сей день оставался звездой первой величины на театральном небосводе.
Что ж, кинемся в ноги Насте, деваться некуда…
Не очень уверенный в успехе, Иннокентьев набрал Настин телефон и тут же, после одного лишь протяжного гудка в трубке, словно бы Настя только и ждала его звонка, услышал ее грудной, с чуть манерной модуляцией голос:
— Да?..
— Это я, Борис, не удивляйся, — сказал он и вдруг уверовал, что, раз уж он с первого звонка застал ее дома, Настя непременно что-нибудь придумает. — Слушай, Настена, даже не знаю, как начать…
— Так мы ведь сегодня, насколько я понимаю, встретимся, до вечера ты успеешь решить, как начать, если это тебе не очень к спеху, — отозвалась она спокойно, точно самый факт, что они и на этот раз, после всего, что меж ними было, будут встречать вместе Новый год, в порядке вещей, — Как всегда, на даче у Митиных. Правда, на этот раз нас будет не пятеро, а шестеро.
— Кто же шестой? — спросил машинально Иннокентьев.
— Дыбасов, режиссер. Ты ведь с ним знаком? Митин с Ирой, твой Ружин, Дыбасов и мы с тобой. Или что-нибудь случилось?
— Боюсь, что да, — неожиданно для самого себя решил он. — Боюсь, что вас будет, как всегда, только пятеро, на меня, кажется, рассчитывать не приходится, — И, не дав ей спросить, что же такое из ряда вон приключилось, выложил свою просьбу: — Мне нужно платье, ну -не мне, естественно, а… Одним словом, нужно. Нарядное и чтобы очень красивое. Ну и туфли и все такое прочее…
— Для кого? — спокойно же и рассудительно спросила она без всякого, казалось, удивления. — Не подумай, конечно же это не имеет никакого значения — кто, но хоть рост, размер ты знаешь? И что еще важнее — цвет глаз, волос, вообще стиль?
— Цвет глаз?.. — задумался он и ответил не очень уверенно: — Скорее всего серебряный…
Ее и это не удивило.
— А волосы?
— Короткая стрижка. В общем, светлые… и тоже, представь себе, какие-то…
— Седые? — не удержалась она от насмешки, — Извини, но ты прогрессируешь как-то слишком стремительно.
— Нет, — пропустил он мимо ушей ее язвительность, — просто волосы… ну, вроде бы отсвечивают тоже серебром, что ли…
— Тогда ей подойдет синее, — твердо решила Настя. — Хотя очень может быть, что и сиреневое. Я могу подобрать что-нибудь из старья, — и тут не удержалась она от колкости, но Иннокентьеву не до того было, — Я имею в виду что-нибудь, в чем я уже разок появлялась на людях.
— Рост твой и фигура тоже. Плюс-минус, разумеется.
— Что ж, ты становишься постоянным, Боря. С годами это со всеми рано или поздно случается, — заключила она сочувственно. — Мне приятно, что я продолжаю служить тебе хотя бы эталоном. А размер обуви?
— Не знаю. Чуть больше твоего, я думаю. Вот что, я сейчас подъеду к тебе, ты ведь никуда уже до вечера не собираешься?
— Приезжай. Красоту я буду наводить позже, только и всего. И зализывать раны тоже. Или следы беспощадного времени, если уж называть вещи своими именами. Кстати, можешь не беспокоиться, ни о чем расспрашивать не стану. Я усвоила — на свете счастья нет, но есть покой и воля.
— Это как раз то, что мне в данную минуту нужно, — не то отшутился он, не то сказал вполне всерьез.
— Поздравляю. Если ты, конечно, не расхвастался. — И, не дожидаясь его ответа, положила трубку на рычаг.
Иннокентьев посидел еще с телефонной трубкой у уха, слушая маленькие, ехидные гудочки отбоя. Потом решительно встал, подошел к двери в ванную и, не заглядывая внутрь, громко сказал Эле:
— Мне надо ненадолго уехать, на часок, не больше. В холодильнике все есть, поешь. Я скоро.
Одеваясь в передней и вспомнив о туфлях для Эли, он взял один ее сапог, сложил голенище пополам и, сунув под мышку, спустился вниз, к машине.
Настя жила недалеко, на Кутузовском, в ее квартире царили всегда тот неуют и давнее запустение, свойственные жилищам одиноких актеров, у которых ни времени, ни привычки, ни даже потребности нет в обихоженном житье-бытье.
Она открыла ему дверь и сразу же вернулась к себе в комнату. Иннокентьев разделся и пошел вслед за нею. На диване у стены с вкривь и вкось прикнопленными старыми афишами и фотографиями были разложены словно на продажу три вечерних платья — синее, темно-вишневое и бледно-сиреневое, подолы их небрежно свешивались на пол.
Настя сидела в длинном, до пят, отливающем тусклым блеском халате за низким туалетным столиком с трехстворчатым зеркалом, внимательно и вместе безучастно разглядывая в нем свое отражение.
Иннокентьев всегда поражался ее лицу, когда она бывала без грима, — возраст и усталость беззастенчиво проступали на нем мелкой сеточкой морщинок на висках и под глазами, но, как это ни странно, оно казалось моложе и свежее, чем под привычным слоем тона, от него веяло осенней печалью знающей всему на свете цену и примирившейся с этим горьким знанием женщины.
Иннокентьев мало кого из столичных актрис ставил вровень с Настей и по таланту и по уму — и не только по уму чисто актерскому, скоморошьему, как он его называл, но и в самом простом, житейском смысле слова тоже. Настя была умна почти мужским, трезвым и жестким умом, и при этом ей было свойственно врожденное, не приобретаемое никаким опытом или воспитанием, безошибочное изящество и женственность.
Она не обернулась, когда Иннокентьев переступил порог, а вместо приветствия сказала негромко и без жалобы то ли ему, то ли собственному отражению в зеркале:
— Сорок один, никуда не денешься…
— Что? — не понял он. — Ты мне?
— Себе, — и сейчас не обернулась она, — всем другим это и так известно. А я еще играю Нору и Нину Заречную в «Чайке»… Давно пора на роли гран-дам переходить, да вот все духу не хватает… — И так же иронично и устало кивнула в сторону платьев на диване: — Что угодно для души.
— При чем здесь душа? — не понял он опять, — Я тебе сейчас все объясню…
— Не надо, своих загадок хватает, — отмахнулась она. — Это стишки такие детские: «Ленты, кружево, ботинки — что угодно для души». Бери любое, там и бижутерия соответствующая. И не говори про умное и сложное, от усилия мысли я очень старюсь, а мне бы хотелось хоть в Новый год быть молодой и обольстительной.
Он подошел к дивану, долго смотрел в растерянности на разложенные платья и не мог ни на что решиться.
— Я не знаю, — признался он, — помоги мне.
— Ты либо циник, либо жестокосерд, — отозвалась она без улыбки. — Предлагать бывшей возлюбленной выбирать платье для нынешней…
— Она мне не… — начал было он, будто оправдываясь в чем-то, но Настя не дала ему договорить.
— Как и я, собственно, не была. Этим ты меня не удивил. Такой уж ты человек. Вернее, такие уж мы с тобой оба. Или даже, очень может быть, такой уж у нас век на дворе.
Она повернулась к нему, не вставая с низкого пуфа, спросила глаза в глаза:
— Ну и какая же она?.. Прости, но я должна знать хотя бы приблизительно, чтобы не ошибиться, ты бы первый мне не простил.
— Какая?.. — задумался он и, не отводя глаза, без малейшего желания уязвить Настю сказал: — Полная противоположность тебе, начнем с этого.
— Этого вполне достаточно, точнее не скажешь, — без обиды отозвалась она и подошла к нему, встала рядом, — Она молодая? — спросила, глядя в задумчивости на платья.
— Не слишком. Дело тут совсем не в возрасте. Она из Никольского, из Подмосковья, и никогда не бывала нигде, да еще в таком платье, — вот что главное. Ни очень молодой, ни красивой ее никак не назовешь, ни даже… — Но не договорил, помолчал и подытожил: — И тем не менее…
— Неужели?! — с недоверием повернулась к нему лицом Настя. — Я-то думала, ты никогда не сподобишься на такое!..
— Я тоже, — кивнул он. — Я это знаю не хуже тебя.
— «И жизнь свою пройдя до середины…», — процитировала она нараспев и тут же деловито и ревниво спросила: — Ты еще не был на «Чайке», почему?
— Успею, — уклонился он от ответа. — Хочу подождать, пока вы разыграетесь.
— Неправда твоя. Ты лжешь, Иннокентьев, — покачала она головой, — Ты просто боишься снова увидеть меня в ней через столько лет. Боишься, что того, что было тогда, в первый раз, уже не будет. Очень может быть, что ты и прав. А обидеть меня тебе тоже неловко. — Усмехнулась без печали. — Иногда мне хочется знать тебя меньше, чем я тебя знаю, нам обоим было бы проще. Хотя теперь, как ты сам понимаешь, это уже не играет никакой роли. — И без паузы, взяв с дивана жемчужно-сиреневое платье, протянула его Иннокентьеву, — Вот это, я полагаю. Даже в Никольском оно произвело бы просто фурор, не говоря уж о нашей светской черни. Успокой ее — в этом платье да еще рядом со знаменитым Борисом Иннокентьевым не только свежая и скромная девушка из Подмосковья, но даже я привлекла бы к себе всеобщее внимание. Я за нее даже боюсь — по ее ли это слабым силенкам?
— Как ты можешь, совершенно ее не зная… — вскинулся было он, но Настя перебила его сухо:
— Зато я знаю всех наших. Себя в том числе. И тебя заодно. Иногда мне кажется, что я вообще все знаю наперед. Это называется старость, Боренька, не более того. Можно сказать и — мудрость, но не будем себя жалеть.
— Что это с тобой сегодня? — удивился он. — Такой я тебя никогда не видел.
— Как не видел и в новой «Чайке». Увидишь — все поймешь без слов. Никогда не нужно играть наново старые роли, и не только на сцене. Я это всегда знала, но вот не удержалась… — И, подняв на него свои фиалковые, в поллица, прекрасные глаза, пообещала без тени насмешки: — А платье ей будет в самый раз, можешь на меня положиться.
— Понимаешь, — с опозданием смутился Иннокентьев, — она, представь себе, из Никольского, там дом совершенно не топлен, трубы лопнули, адский холод…
— Ты так говоришь, будто вывез ее из Антарктиды.
— Ты не сердишься? — вдруг спросил он, и тут же ему стало стыдно нелепости своего вопроса.
— У нас с тобой всегда все было на «не», — беспечно отозвалась она, — не сердимся, не тоскуем, не любили, не ревнуем, не нужны друг другу… не, не, не!.. Бери. И гляди не проговорись ненароком, что взял платье напрокат, скажи своей пастушке, что купил специально для нее у Кристиана Диора. Новогодний подарок. С невинными девицами надо быть особенно чутким, не мне тебя учить.
— Ты права. — Хватит с него, решил он, ее язвительности и высокомерия! — Если это барахло тебе не нужно, я куплю его у тебя.
— Отдам не задорого, — ничуть не удивилась и не оскорбилась Настя. — С друзей лишнее брать грех. Я все равно собиралась продавать эти тряпки, надоели. Сочтемся как-нибудь потом, в канун Нового года как-то не хочется говорить о низменном. Хотя я совсем на мели, ты даже представить себе не можешь.
Он сунул руку в боковой карман, нащупал бумажник, достал из него три двадцатипятирублевые бумажки, положил их на туалетный столик.
— Потом скажешь, сколько я еще должен.
Она взяла безо всякой неловкости деньги, кинула их небрежно в ящик.
— Ладно. Надеюсь, ты не обманешь одинокую, старую женщину.
Они поглядели друг на друга — спокойно, трезво, без упрека, оба знали, что это-то и есть их окончательное прощание, пусть и запоздалое.
— А туфли? — вспомнила Настя. — Ты спросил, какой она размер носит?
— Ах да!. — всполошился он. — Сейчас! — Пошел в переднюю, поднял с пола оставленный им под вешалкой Элин сапог, вернулся к Насте, — Вот…
— Ого!.. — не удержалась она и даже покачала в изумлении головой, — Такого я никак от тебя не ожидала…
Только сейчас, когда Элин сапог оказался в изнеженной, с тонкими, слабыми пальцами руке Насти, Иннокентьев увидел, какой он разношенный, старый, с вытертой на сгибах кожей, и пожалел, что показал его ей.
— Я же говорил — полная противоположность тебе!
— Скорее — моему гардеробу. — И на глаз определила — Размера на два больше моей ноги… Ты поставил меня в трудное положение, Боря… — И по лицу ее было видно, что она и в самом деле этим огорчена. Потом вспомнила: — Погоди! Мне Света Горяева принесла на днях пару лодочек, последний крик, но мне, как на грех, велики, — Подошла к шкафу, достала из нижнего ящика завернутые в пеструю бумагу туфли, развернула ее. — Я думаю, подойдут. Во всяком случае, больше ничем не могу помочь.
Он взял у нее туфли, не глядя завернул опять в бумагу. Единственно, чего он сейчас хотел, так это побыстрее выбраться отсюда.
— У меня с собой больше нет денег, — только и выжал из себя.
— Не горит. Ты фирма солидная, за тобой не пропадет. — Вернулась к туалетному столику, вновь уселась на пуф, уставилась в зеркало.
Он было уже пошел к двери, но она его остановила, не оборачиваясь:
— Празднуем труса, Борис Андреевич? Отмалчиваемся? Делаем вид, что наша хата совсем на другой улице?..
— Ты о чем? — не понял он.
— Не прикидывайся только, что ты не в курсе!
— Нет, правда, о чем ты?
— Вся Москва об этом трубит, а ты делаешь вид, что ничего не знаешь!.. Ты читал пьесу Митина, ну «Стопкадр»?
— Читал, конечно, года два назад, а то и три, я ее уже плохо помню. Ее ставит у вас в театре Дыбасов, так? Я знаю.
— Уже поставил практически. И получился спектакль, которого у нас, в том числе у самого Ремезова, сто лет не бывало. Это событие, понимаешь? Событие, от которого мы давно отвыкли, можешь мне поверить, я не из тех, кто делает из мухи слона.
— В добрый час, я рад за Игоря. И за Дыбасова, разумеется, тоже. Ну и что? — нетерпеливо переспросил Иннокентьев.
— А то, что на прошлой неделе Дыбасов показывал его худсовету, и Ремезов заявил, что в этом виде его выпускать нельзя и когда он вернется из Югославии — он поехал туда что-то там очередное ставить, он же эти валютные спектакли печет как блины, просто повторяет тютелька в тютельку то, что уже поставил дома, — так вот, когда он вернется, он сам подключится к работе и все поставит с головы на ноги; он так и сказал: с головы на ноги! И это после того, как всем стало ясно, что спектакль готов, нужно уже играть на зрителе!
— Это его право. Как-никак главный режиссер. Даже не право — обязанность.
— Да как же ты не понимаешь! Он хочет попросту украсть у Дыбасова спектакль, это же ребенку ясно! И чтобы на афише стояло его имя. Он лучше всех понял, что — успех, а у нас в театре давно успехами не пахнет, такой успех, что все заговорят, все повалят, а кто поставил — Дыбасов?! Вот он и решил присвоить все себе!
— Что ж, — пожал Иннокентьев плечами. Неужели Настя не понимает, не догадывается, что его ждет дома Эля, что через несколько часов — Новый год, что ему сейчас не до Дыбасова и какого-то спектакля, пусть даже речь идет о пьесе его друга Митина! — Что ж, это уже бывало, и не раз, в истории отечественного театра, и ничего — живы-здоровы.
— Так ты отказываешься?! — вскинулась в гневе Настя. — Если уж на то пошло, другого я от тебя и не ожидала!
— Чего не ожидала? — поморщился, как от зубной боли, Иннокентьев. — И от чего я отказываюсь?
— Помочь! Просто-напросто быть хотя бы порядочным человеком! Мужчиной, наконец!
— Не понял. — Иннокентьев на самом деле никак не мог взять в толк, чего она от него хочет. — При чем здесь я?
— Ах, Боря, Боренька!.. — вздохнула с усталой усмешкой Настя. — Что в тебе замечательно, так это то, что ты не меняешься, время над тобой не властно. Тебе хоть светопреставление, хоть потоп — ты шагу без расчета не сделаешь. Как это теперь называется? Прагматик? Деловой человек?.. — Отвернулась от него, сказала его отражению в зеркале: — А может быть, ты — трус, только и всего? Обыкновеннейший жалкий трус.
— Слушай, Настя!.. — Вот уж не ко времени, не к месту этот идиотский разговор!
— Я слушаю тебя. Хотя и того, что ты уже сказал, более чем достаточно.
— Как ты себе это представляешь? — едва сдержался он, чтоб не взорваться. — Ты хоть догадываешься, что такое ваш Ремезов? И что такое мы все, в том числе, представь себе, и я, перед его регалиями, званиями, лауреатствами, связями?.. Тебе ли этого не знать!
— Волков бояться… — начала было она, но он не дал ей договорить.
— Поднатужься, представь себе это реально! Он же всех нас заглотнет — не поперхнется.
— Значит, ему все можно? — Настя поглядела на него с таким неприкрытым презрением, что ему стоило немалых усилий не отвести глаза.
Но он понимал, что при всем том ей не от кого, кроме него, ждать помощи. «Она бы никогда так не смотрела на меня, с ненавистью и вместе с мольбой, — пришло ему на ум, — если бы речь шла о ней самой, за себя она бы никого не просила, тем более меня. И не за Митина же, не за его „Стоп-кадр“ она сейчас молит, — когда это было видано, чтобы актеры бросались, зажмурив глаза, на помощь драматургам! Это она ради Дыбасова, единственно, и черта с два я поверю, что дело только в этом спектакле!» И он невольно опечалился и обиделся: за него Настя никогда бы не стала бросаться грудью на амбразуру, даже тогда, когда, сразу после отъезда Леры, она очень и очень рассчитывала выйти за него замуж — свято место пусто не бывает…
— Потом когда-нибудь ты сам пожалеешь… — не выдержала она молчания, — Да и не так уж страшен Ремезов, он кончился и сам это понимает, иначе не стал бы так рисковать на виду у всех — хвататься за чужой успех как за соломинку. На такие вещи решаются не от хорошей жизни.
— А мы его — по рукам, чтоб скорее ко дну пошел? — усмехнулся Иннокентьев, но про себя согласился с тем, что говорила Настя: Ремезов уже давно существует по инерции, в силу былых своих побед и прежней, правда все еще живучей, славы. Всему на свете приходит свой час и свой конец, а в искусстве, тем паче в театре, где все так преходяще и скоротечно, это неотвратимее, чем где-либо, и никуда от этого не спрячешься.
Иннокентьев вдруг с удивлением услышал в себе жалость к стареющему, израсходовавшемуся за долгую свою жизнь Ремезову, которого только и остается списать в тираж, занеся предварительно в энциклопедию на букву «р» Это что-то новенькое он в себе обнаружил, подумал Иннокентьев про себя, прежде за собой он не замечал такого — жалости и сострадания к тем, кто сделал свою игру и кому теперь ничего не остается, как уйти на покой, в забвение, а затем и в небытие. Иннокентьеву вдруг пришло в голову, что, скажем, киты в таких случаях сами выбрасываются на берег, слоны уходят умирать в одиночестве в чащу джунглей, а вот людям не дана, когда приходит их час, эта бесстрашная покорность судьбе, в которой больше достоинства и величия, чем в жалком хватании за соломинку
И еще он подумал, что когда-нибудь такой час пробьет и для Дыбасова, но сейчас это ему еще невдомек, до этого еще далеко, а чтобы карабкаться, оскользаясь и обдираясь в кровь, на вожделенную, теряющуюся в туманной высоте вершину, человек должен верить, что его-то чаша сия и минет.
Иннокентьев представил себе это так живо и отчетливо, что проникся таким же сочувствием и жалостью к Дыбасову, как только что к Ремезову.
— Иду на вы? — спросил Иннокентьев Настю, — Чего же вы хотите от меня?
— Этого мы еще не решили. Мы хотели как раз посоветоваться с тобой.
— Мы — это кто? Ты, Дыбасов, кто еще?
— Ну, Романа Сергеевича как раз и надо удержать от какого-нибудь опрометчивого шага, он готов на все — уйти, например, вообще из театра, бросить все к черту, сказать Ремезову в лицо все, что он о нем думает… Митин твой — тот всего боится, прямо исходит холодным потом от страха, ему-то ведь главное, чтоб спектакль был поставлен, несмотря ни на что…
— Так… — подумал вслух Иннокентьев, — стало быть, оба они, Игорь и Дыбасов, не столько союзники тебе, вернее самим себе, сколько мешаются под ногами. В таком случае кто же, извини меня, эти «мы»? Кроме тебя, разумеется.
— Глеб, — твердо сказала Настя, — он совершенно убежден, что…
— Глеб! — прервал ее Иннокентьев. — Глеб готов ввязаться в любую свару, благо ничем лично не рискует. Для него это как тот же его еженедельный преферанс — полирует кровь… Выходит дело — ты одна?
— Нет, — убежденно покачала она головой, — весь театр. Конечно, у Ремезова есть свои прихлебатели или такие, которым и так живется хорошо, ничего больше не надо, но большинство готово за Дыбасовым в огонь и в воду, за это можешь быть спокоен.
— И ты тоже — в огонь и в воду? — посмотрел он испытующе ей в глаза. — Тебе-то чего не хватает? Первая артистка, любимица Ремезова, обязанная, не будем забывать, ему всем… Представь себе, как это будет выглядеть со стороны?..
Все это было именно так — не кто иной, как Ремезов, разглядел двадцать лет назад в никому не ведомой зеленой выпускнице театрального училища будущую крупную артистку, вылепил ее, можно сказать, собственными руками, — и вот теперь, выходит, не успели еще пропеть третьи петухи…
Но она неожиданно решила прекратить этот тягостный для них обоих разговор:
— Ладно, хватит, а то у меня к Новому году морщин прибавится вдвое… Если не сегодня, то уж завтра-то ты, надеюсь, не пренебрежешь традицией, приедешь к Митиным? Вот и договорим, тем более теперь-то уж от этого разговора нам не уйти — карты на стол… — И, вновь уставившись на свое лицо в зеркале, сказала то же, что и вначале, когда он пришел — Сорок один, никуда не денешься… — И, не оборачиваясь к нему, заключила — Там в передней сумка, возьми. И не очень мни платье.
Он пошел в переднюю, нашел хлорвиниловую сумку, сложил в нее свои покупки, оделся и, уже взявшись за ручку двери, вспомнил:
— Спасибо, Настя.
— Это тебе спасибо, — отозвалась она бесстрастно из комнаты.
— Мне-то за что? — удивился Иннокентьев.
— Хотя бы за то, что ты пришел именно ко мне, а не к кому-нибудь еще… — И было непонятно, то ли иронизирует она, то ли печалится.
Он захлопнул за собой дверь, не стал дожидаться лифта, быстро сбежал по лестнице вниз.
Когда Иннокентьев вернулся домой, он застал Элю спящей на его неразобранной постели, из-под пледа высовывались ее голые ступни. Он прикрыл их, аккуратно развесил на стуле напротив постели только что купленное платье, рядом поставил на полу туфли. Пошел в кабинет, прилег не раздеваясь на диван, несколько минут смотрел без мысли в потолок, потом уснул, будто в черный омут его затянуло.
5
Когда Иннокентьев через каких-нибудь полчаса проснулся, в квартире было так тихо, что первая его мысль была, не ушла ли Эля, ничего не сказав, не объяснив, — это было бы вполне в ее духе.
За окном снег валил так густо, что казалось, будто одни и те же крупные, неспешные снежинки пляшут, не опускаясь на землю, в темном квадрате окна, как в давно забытой детской игрушке: когда-то, вернувшись с войны, отец привез из Германии маленькому Боре стеклянный прозрачный шар величиной с кулак, наполненный водой, в нем — сказочный, с островерхими крышами и шпилями замок, и если шар встряхнуть, в нем поднималась туча белых снежинок, снежинки, оседая так медленно, что нетерпеливый ребячий Борин взгляд не мог этого уловить, кружились долго и плавно над замком.
Из-за двери в кабинет пробивался свет. Иннокентьев встал, приотворил ее и увидел Элю, стоявшую перед зеркалом в Настином платье с открытой грудью и спиной, на высоченных каблуках, отчего она казалась тоньше и выше, а коротко стриженная голова — неестественно маленькой, совершенно детской.
Она не услышала, как он остановился на пороге, сосредоточенно и чуть нахмурясь изучая в зеркале свое незнакомое, не похожее на нее отражение.
Иннокентьев хотел было выйти и не мешать ей, но она обернулась к нему, уставилась полными ожидания и испуга глазами.
Он понял, чего она ждет от него, не того, ей ли предназначено это потрясное платье — именно так она бы сказала, ему даже почудился ее голос, произносящий это «потрясно», — она наверняка догадалась, что платье он принес ей, это-то и ежу понятно, нет, сейчас ее волновало и пугало другое: как оно ей? и она сама в этом потрясном платье — какая?..
И он ответил ей именно так, как она была вправе ожидать от него, и тем самым словом, которое ее убедило бы больше, чем любое другое:
— Нормально, вполне.
— Вы считаете? — недоверчиво переспросила она. — Вы получше рассмотрите, не бойтесь, я не обижусь, если что не так. Я таких платьев сроду не носила…
Он оглядел ее внимательно и придирчиво — в конце концов, ему было тоже не безразлично, как она будет выглядеть в этом наряде с чужого плеча рядом с ним.
Она была нелепа. Она была просто смешна в этом чужом шмотье — это он увидел и понял сразу.
Платье будто с какой-то поспешной злорадностыо выставляло напоказ все ее недостатки и несообразности: руки ее стали разом слишком длинны и худы, а кисти их — еще более тяжелы, еще острее выпирали острые лопатки, длинные ноги на высоченных каблуках казались под легкой тканью слишком тощими. И лицо ее будто тоже стало площе, простоватее, — пустили Дуньку в Европу, подумал он растерянно.
Он трезво представил себе, каким смешным и нелепым будет и сам рядом с нею под прицелом чужих недобрых глаз.
Неужто она сама не понимает, как смешна? — думал он, и раздражение в нем росло и росло. Не понимает, что ей нельзя никуда идти в этом идиотском платье? Что ей вообще не надо никуда с ним идти?! Но он только сказал:
— Ты готова? Мы опаздываем.
— Гото-ова, — выпела она счастливо, как выпевала свое вечное «норма-ально», — вот только марафет наведу, у меня все с собой. У тебя нет каких-нибудь духов, надушиться? Или одеколона хотя бы?
— В ванной на полке, — ответил он сухо. — Только там мужской одеколон, едва ли тебе подойдет.
— Подумаешь, — беззаботно бросила она, направляясь к двери, — если не говорить, так никто не догадается, это же какой нос надо иметь!
Настроение у Иннокентьева было испорчено напрочь, ничего хорошего от этого первого выхода в свет с Элей ждать не приходилось!
Выходя из спальни, он взглянул мельком в зеркало и показался себе в нем таким же жалким и смешным, как и она. «Портрет, достойный кисти…» — чертыхнулся он про себя, но отступать было поздно: корабли сожжены, Рубикон перейден и от судеб защиты нет.
…Он повел ее в старый «Националь». Он уговаривал себя, что привел Элю именно сюда потому только, что хотел показать ей настоящий ресторан, а не эти модерновые ангары, где чувствуешь себя как в аэропорту в ожидании бесконечно задерживаемого рейса. Но про себя он знал, что потому еще, что в канун праздника он наверняка не встретит там знакомых, которые будут пялить на него и на нее насмешливые или, и того хуже, жалостливые глаза и шушукаться за их спиной.
На дверях ресторана красовалась, как того и следовало ожидать, сакраментальная табличка «Спецобслуживание», и швейцар в почерневшем от времени золотом шитье наотрез отказался пустить их даже на порог. И лишь после того как Иннокентьев грозно потребовал вызвать метра и тот признал в нем известного на всю страну телевизионщика, они были допущены внутрь.
— В порядке исключения, — снизошел к его просьбе метрдотель, — мы уже сервируем к Новому году, одни иностранцы, съезд гостей к двадцати двум ноль-ноль. Так что просьба уложиться до двадцати одного, не позже.
В гардеробе Эля попыталась выпростать с помощью Иннокентьева руки из рукавов своей видавшей виды шубы из искусственной цигейки; сложность этого маневра состояла в том, что вместе с шубой надо было незаметно снять и шерстяную кофту, которую она надела для тепла под шубу, а сделать это оказалось не просто.
Метр терпеливо и не теряя достоинства ждал в сторонке и потом сам проводил их наверх.
— Спасибо, дальше мы сами, — поблагодарил его Иннокентьев.
Но тот проводил их до самого столика у окна.
Взяв с соседнего стола интуристовский английский флажок, похожий на дорожный знак «остановка и стоянка запрещены», он переставил его на их столик.
— Во избежание, — объяснил он. — Приятного аппетита, — И отошел, указав на них кивком подбородка официанту.
В просторном зале с выходящими на Кремль и Исторический музей широкими окнами, оклеенном бледно-коричневыми, под старинный штоф, обоями, в покойной, густой тишине, в которой бесшумно и ловко двигались, накрывая праздничные столы, похожие на персонажей немого кино вежливо-надменные официанты в черных смокингах, среди белоснежных скатертей и торчком стоящих клоунскими колпаками накрахмаленных салфеток, — среди всего этого благопристойно-молчаливого безлюдья Эля показалась Иннокентьеву еще более неуместной в его жизни, не совместимой с нею, а сам он — смешным и старым. Он невольно обвел вокруг глазами — не смотрит ли кто на них с откровенной издевкой.
Но зал был почти пуст, интуристы уже, по-видимому, отобедали и разбрелись по своим гостиничным номерам в ожидании новогоднего праздника, лишь в самом дальнем углу трое солидных бизнесменов, из которых один японец, о чем-то оживленно беседовали вполголоса, да еще за одним столом немолодой морской офицер задумчиво глядел сквозь окно на улицу в ожидании официанта.
— Тебе здесь нравится? — спросил он, заранее зная, что она ответит, и уже раздражаясь на этот ее ответ.
Она ответила именно так, как он ожидал:
— Нормально…
— Нормально… Послушать тебя, так мир устроен наилучшим образом, все идет как по маслу…
— Тем более что я тут уже бывала. Не в первый раз.
— С кем? — спросил он как можно равнодушнее.
— Мало ли с кем. — Она развернула хрустящий конус салфетки, положила себе на колени, и в том, как спокойно и даже привычно она это сделала, ему почудился вызов. — С разными. Один раз с итальянцем. Нет, даже два. Баскетболист, метр девяносто семь, у меня потом неделю шея болела, так я задирала голову, когда смотрела на него. Бывший. Тоже из команды, но уже массажист. Честный — сам сказал: массажист, а ведь мог наврать, что мастер спорта, как я его проверю? Почти замуж звал. Но это давно было, сто лет назад.
Она отвернулась к окну, и по лицу ее скользнуло короткое, тут же улетучившееся облачко печали. За окном медленно, нехотя плыл крупный, ленивый снег. На Манежной и напротив, в Александровском саду, зажглись огни фонарей, и снег под ними заиграл искрами. «Что там ни говори, а — Новый год…» — подумал Иннокентьев, но сказал совсем другое:
— Это что-то новенькое в твоей биографии — иностранцы.
Она не отрываясь смотрела на снег, на фонари, отозвалась не сразу:
— Старенькое как раз… Глупая, наверное, была. Дура была. — Повернула к нему серьезное лицо, в свете кремового абажура настольной лампы бледное Смуглою бледностью, похожей на сходящий к зиме южный загар. — Уже и не помню.
Подошел небрежной походкой официант с блокнотом в руке:
— Я вас слушаю.
— Ты что будешь? — Иннокентьев придвинул к ней меню. — Посмотри.
— Шампанское, — ответила она не задумываясь, — Мы же с вами Новый год вроде встречаем с опережением. Или вы другое что-нибудь хотите?
Иннокентьев почувствовал, как в нем опять — может быть, от каменного равнодушия официанта — вскипает глухое раздражение.
— Шампанского, — не глядя сказал он официанту, — остальное на ваше усмотрение. Ну, новогодний ужин, вы же слышали, сами сообразите.
Официант не удивился, с тем же равнодушным и бесстрастным лицом отошел от стола, но, выходя за дверь, не удержался, обернулся и откровенно ухмыльнулся.
— Когда ты наконец перестанешь с этим твоим дурацким «вы»? — сорвал на Эле раздражение Иннокентьев. — Ты что, стесняешься меня?
— Я — вас?! То есть тебя?! — вскинула она на него удивленные и испуганные глаза. — С чего ты взял?
— Ну того, что… — ему казалось, что все вокруг слышат их и со злорадством ждут, что будет дальше, — того, что я старый для тебя или еще чего-нибудь, неважно чего!..
— Старый?.. — еще больше удивилась она.
— Во всяком случае, вполне мог бы прийтись тебе отцом, если бы подсуетился вовремя.
— Отца-то я не помню совсем, даже не уверена, был он у меня или не был… — нахмурилась она, отвернувшись от него к окну. — То есть смутно-то помню, конечно…
Официант принес в ведерке шампанское, обернутое в салфетку, отвернувшись от них в сторону, долго откупоривал его, разлил в бокалы.
— Я закуску подам. А горячее вы все-таки сами выберите, чтоб не ошибиться.
— И селедку! — вдруг хватилась Эля. — С картошкой. И водку! Можно? — повернулась к Иннокентьеву, — Или если шампанское, водку уже нельзя?
— Все можно, — ответил за Иннокентьева официант нагловато-интимным голосом, — было бы здоровье.
— Желанье дамы — закон! — весело и раскованно крикнула ему вслед Эля. — Тем более под Новый год!
И вдруг Иннокентьев, к собственному удивлению, понял, что просто-напросто ревнует ее — к этому наглому официанту, к собственной ее беззастенчиво бьющей через край молодости, к ее родному, от него за тридевять земель, за семью морями, Никольскому, к ее баскетболисту-итальянцу, наверняка искателю легкой поживы на «плешке» у «Метрополя»…
— Можно, я незаметно разуюсь, под столом никто не увидит? — невпопад с его мыслями попросила Эля. — Туфли уж больно тесные, прямо невтерпеж… — И, не дожидаясь его разрешения, сбросила их с ног, каблуки стукнули об пол.
Он вскинул на нее глаза, хотел возмутиться и выплеснуть весь вечер копившееся раздражение, но вдруг увидел ее — люстры в зале были припогашены, отсвет настольной лампы лег на ее лицо, на ее голые плечи, руки, шею, грудь, бледно-сиреневое платье излучало теплый жемчужный блеск, она была так сейчас молода, свежа и чиста, что Иннокентьев глядел на нее во все глаза и виновато дивился себе: как ему могло еще какой-нибудь час назад примерещиться, что она в этом платье с чужого плеча смешна и убога?!
У него даже задрожала рука, в которой он держал шампанское, он поставил бокал на стол, взял ее жаркую, чуть влажную ладонь в свою, сжал так сильно, что ему показалось — он слышит, как хрустнули ее пальцы, сказал, не слыша собственного голоса:
— Я люблю тебя, понятно?.. Люблю, тебе понятно? Понятно тебе?! — Разжал руку, откинулся на спинку стула и, поймав на себе случайный взгляд морского офицера из-за дальнего столика, повторил громко и раздельно: — Люблю! Тебе этого не понять, но это ничего не значит, мне плевать, понятно тебе или нет! Просто я хочу, чтобы ты была в курсе.
Официант принес закуску, ловко держа над плечом поднос.
Иннокентьева оглоушило собственное признание в любви. Он давно — целую жизнь не говорил этих слов никому. Он вообще за всю свою жизнь дважды признавался в любви и оба раза женился на женщинах, которых любил. А все прочие — а их перебывало немало в его жизни, особенно за последние шесть лет их набралось более чем предостаточно, — никогда ни одной из них он не говорил «я тебя люблю». И вовсе не потому, что боялся, сказав эти слова, связать себя какими-нибудь обязательствами или обещаниями, как и не потому, что не хотел лгать, нет — просто язык не поворачивался, просто эти слова все еще принадлежали не одному ему, но и Лере.
И вот теперь он сказал их — и кому?! Если за всю его жизнь и была в ней какая-нибудь женщина, которая меньше всего ему подходила, чтобы сказать ей «я тебя люблю», так это именно Эля. И что самое смешное, самое невероятное: сказав ей эти слова, он не солгал, не слукавил, не ей — себе не солгал. Но вместе с этим чувством удивления самому себе, ошарашенности от того, что с ним нежданно-нагаданно приключилось, он испытывал сейчас и освобождение какое-то, свободу, с неба свалившуюся, волю делать все что хочет, думать все что думается и жить единственно сообразно тому, как он думает и что чувствует.
Он не слышал, о чем говорит Эля, размахивая рукою с вилкой, он прислушивался недоверчиво и удивленно к тому, что происходило в нем самом и что вдруг, одним махом, перечеркнуло и опрокинуло его собственное представление о себе. Он отвечал ей машинально, не вдумываясь в то, что говорит, наливал шампанское, передавал тарелки с едой, а за окном кружилась в радужном сиянии фонарей первая метель.
Он и не заметил, как его отрешенность передалась и ей, и она тоже умолкла, так они в полном молчании доедали свои шницели по-министерски. И лишь когда официант принес счет, с решительным видом положил его на стол и отошел, выжидая, в сторонку, Иннокентьев очнулся и сказал совсем уж невпопад:
— Что ж, а за Новый-то год мы так и не выпили…
Эля поднялась с места с бокалом в руке, перегнулась через стол, он тоже встал и хотел было поцеловать ее в щеку, но она нашла губами его губы и, не прерывая беззастенчиво долгого поцелуя, шептала ему что-то, но он не слышал ее слов, а лишь угадывал их губами. Ей не хватило дыхания, она чуть отстранилась, но глаза ее продолжали смотреть на него совсем близко, в упор, с такой благодарной преданностью, с таким счастьем и мольбой, чтобы он это счастье пощадил и не посмеялся над ним, что ему стало страшно за нее. И за себя тоже.
— Я люблю тебя, слышишь? И это правда. И к черту все! Поедем! Я не хочу больше! — И снова он взял ее руку в свою и сжал изо всех сил, ему и хотелось сделать ей больно, иначе она ничего не поймет! — Ты слышишь?..
А она, морщась от боли, но не пытаясь высвободить свою ладонь из его руки, очень серьезно, на одном дыхании, протяжно выпела:
— Норма-ально!..
Они поднялись к нему на шестнадцатый этаж, Иннокентьев не раздеваясь прошел в комнаты, зажег во всех трех свет, крикнул Эле в переднюю:
— Пусть будет светло! Новый год как-никак. Иллюминация! — Вернулся к ней, чтобы помочь раздеться. — В холодильнике у меня должно быть шампанское. Пить так пить! Иди в спальню, разденься, я принесу шампанское туда.
— В постель кофе по утрам приносят, а не шампанское, — ответила она неожиданно для себя неприязненно.
Пока он доставал на кухне из холодильника вино и откупоривал его, она обошла с напряженным, насупленным лицом его квартиру. Собственно говоря, она впервые вот так, не торопясь, разглядела ее. В прежние ее посещения Иннокентьев нигде не зажигал света, кроме кухни и спальни, а утром она, не дожидаясь, пока он проснется, убегала, опаздывая на работу. В первый раз, правда, он тоже встал, сварил ей кофе, накормил завтраком и проводил до лифта, но так было только в первый раз. Обычно по утрам он крепко спал, и ей было жалко его будить. Так что в другие комнаты, кроме спальни, она и не заглядывала.
Она прошла направо, в просторную гостиную с большим, во всю стену, окном, выходящим на площадь Восстания, почти пустую, залитую ярким светом большой люстры с множеством электрических свечей. Пол был устлан плотным ворсистым ковром травянистого цвета, а мебели только и было что длинный и низкий диван, несколько глубоких, обитых курчавой нежно-кофейной тканью кресел да еще в углу цветной телевизор. Стены тоже были совершенно голые, если не считать двух или трех небольших картин, а вот что было на них изображено — квадраты какие-то, переплетение разноцветных ярких полос и пятен, — Эле так и не удалось разгадать.
Кресла были почти совсем не просижены, ворс на ковре не вытерт — видать, тут никто никогда не обитал. Эле понравилась комната, но так, как может нравиться вещь красивая, но ненужная, без пользы, и к тому же совершенно недоступная. Она поспешно открыла дверь в соседнюю комнату.
Это был кабинет, тесный, заставленный под самый потолок книжными полками, с множеством фотографий и гравюр под стеклом на свободной стене. На гравюрах были изображены старинные города, крепости и географические карты с пестро раскрашенными гербами и надписями затейливым готическим шрифтом.
Позади большого письменного стола, заваленного бумагами, рукописями, открытыми на недочитанной странице книгами, телефонными справочниками, висела большущая голубовато-серая карта или, вернее, план с птичьего полета какого-то незнакомого города. Пепельница на письменном столе была полна окурков.
Эле пришло в голову, что только теперь, попав в кабинет Иннокентьева, она хоть что-нибудь о нем узнает, хоть что-то поймет.
Да, он с первого же раза понравился ей. И пускай его себе воображает, что это она «упала на него», не устояла перед его голубыми рубашками и синими галстуками, от которых и глаза у него становятся такими густо-синими и смелыми, что и заглянуть в них страшно, даже голова кружится, а седые виски кажутся совсем серебряными, пускай. Пусть даже думает, что она польстилась на то, что он знаменитость, нет человека, который бы не кидался опрометью к телевизору, когда показывают его «Антракт», пусть тешится, что она просто-таки сама не своя от счастья и гордости, пусть! — она-то знает, что на самом деле все как раз наоборот, что не она на него упала, а он на нее, она еще тогда, в монтажной, с ходу поняла, что он упал на нее! Она с первой секундочки просекла, что его только пальцем помани— и он спекся, готов, как лист перед травой!..
Но вместе с этим победным, мстительным — за что только мстить-то и кому?! — чувством Эля, оказавшись теперь одна в его комнате, где все — письменный стол, заваленный бумагами, фотографии и картинки на стенах, и эта большущая голубая карта, и вытертый зеленый бархат дивана, и даже въевшийся в этот бархат невыветриваемый, стойкий запах табачного дыма, все это вместе и каждый предмет в отдельности и есть он, Иннокентьев Борис Андреевич, — она вдруг до смерти испугалась. Потому что все, что было в этой комнате, каждая самая малая малость, словно бы закричало, завопило со всех сторон, что — чужие они с ним, что, даже лежа с ним в одной постели, она так же далека от него, как и тогда, когда она его только и видела что на экране телевизора, и с этим ничего не поделаешь, потому хотя бы, что ни одной из этих книг, которых у него навалом на полках, она наверняка не читала, ни в одном городе, изображенном на картинках, она не бывала и никогда не будет, ни одного артиста, что на фотографиях, которыми увешаны все стены, она ближе чем из первого ряда кинотеатра никогда не увидит…
И она с неожиданной желчной обидой подумала, что хоть он сам первый — сам, никто за язык не тянул! — сказал ей «я тебя люблю», но она-то, она-то его не любит и никогда не полюбит, она еще такое динамо с ним покрутит, так его «ча-ча-ча» плясать заставит! Плевать ей на все эти его фотографии, картинки и книги, в гробу она их видала! «На тебе сошелся клином белый свет» — вот вам, выкусите!
— Ты где? — крикнул ей Иннокентьев из кухни. — Ау!
На письменном столе она наткнулась на записную книжку в кожаном тисненом переплете — сплошные номера телефонов.
— Прими душ, там голубое полотенце, слышишь?..
Она опять не отозвалась. «Ого, — подумала без зависти, — сколько у него телефонов тут напихано, у меня так на одной бы страничке уместились…» Бросила книжку на стол, увидела опять висевшую на стене напротив карту, подошла к ней вплотную.
Огромный город раскинулся просторно по обе стороны ярко-синей ленты реки. Самое замечательное в этой карте было то, что на ней был изображен с соблюдением пропорций каждый дом на каждой улице, а некоторые, более примечательные, были нарисованы гораздо крупнее остальных. Что это за город, Эля не знала, во всяком случае, не Москва — она не нашла в центре Садового кольца и, внутри его, Кремля с его башнями и соборами. Наткнувшись глазами на изображенную отчетливее всех прочих строений знакомую по французским фильмам Эйфелеву башню, она поняла, что это — Париж.
— Ты уже умылась? — Иннокентьев, без пиджака и рубашки, в одной майке, стоял в дверях.
Она резко обернулась к нему от карты, мгновение смотрела на него в упор, словно не признавая, и кинула хлестко, грубо:
— Зачем?
— Тогда иди ложись, — поторопил он ее, будто она прямо-таки нанялась ему бухаться в койку, как только переступит порог! — Что же ты?
— Кайфа нет! — Она его ненавидела сейчас так, что едва удерживалась, чтоб не зареветь. — Не хочу, понятно?!
— Я откупорил шампанское… — Впервые за все время их знакомства ей послышалась в его голосе растерянность, но это не смягчило ее, наоборот, ожесточило еще больше. — Пойдем.
— Опять насчет любви трепаться будете? Прямо-таки зациклились сегодня — любовь, любовь!..
— Что с гобой? — не сразу спросил он. — Я не понимаю.
— А потому что с души воротит, когда про любовь начинают канючить!
— Хорошо, — согласился он очень серьезно, — не буду.
— Я домой поеду, — неожиданно для себя самой решила она.
— Не дури!
— На электричку вполне успеваю.
— На что ты злишься? Я обидел тебя?..
— Просто я ненавижу, когда врут!
— Так… — усмехнулся он неожиданно устало, и она вдруг впервые заметила, что — не мальчик уже, что на лбу — морщины и под глазами тоже.
Ей стало жаль его, но она не хотела позволить себе этой жалости, она в эту минуту больше всего на свете хотела сделать ему больно, унизить, сбить с него эту его спесь, ухмылочку эту его усталую и гордяцкую.
— И если вы надеетесь, что лично я вас хоть когда-нибудь…
— Не надеюсь, — оборвал он ее жестко. — Что угодно, только не это.
— …или думаете, что я согласилась потому только…
— Лучше тебе остановиться, — опять прервал он ее, — потом жалеть будешь.
— Вон у вас по стенам киноартистки висят — «Бореньке на память»… Так вот они пусть и кидаются с ходу в койку, только не забудьте им насчет душа сказать, их, может, только с персолью и отстирывать!
— Дура ты, — сказал он спокойно и без злобы, и то, что без злобы, показалось ей самым обидным. — Убирайся. Одевайся, и чтоб духу твоего…
— Норма-ально!.. — протянула она понарошку хамски, зная, что его корежит это ее словцо. — Другой бы спорил!
И пошла к двери, но на пороге стоял Иннокентьев и не думал двигаться с места.
— Пусти! — Голос ее сорвался на крик. — Пусти, идол!
Он крепко схватил ее за плечи, сжал так, что она охнула от боли, и, глядя ей прямо в глаза, отчетливо сказал:
— Я не вру. Не врал. Я давно никому этого не говорил. Ни одной из этих, — он кивнул в сторону фотографий на стене, — ни разу. Но это уже не имеет никакого значения. Ты сейчас уйдешь отсюда и никогда даже звонить не будешь, ясно? Ноги твоей не будет, ясно? Пошла вон! — оттолкнул ее от себя, она больно ударилась локтем о книжные полки.
Он отошел от двери, пропуская ее.
Но она была девочка из тех московских пригородов, где с рождения, с первых шагов научаются не спускать обид и давать сдачи, не отходя от кассы. У нее и голос вдруг прорезался визгливый, каким лаются через штакетник соседки или клянут распоследними словами своих мужиков, таща их на своем горбу от пивных ларьков у железнодорожных платформ:
— Да в гробу я тебя видала! Козел! Роги давно обломанные! Песочек сыплется!
Выскочила в переднюю, схватила с вешалки свою шубу, никак не могла попасть в рукава, кофта мешала, она бросила в сердцах шубу на пол, пихнула ее ногой:
— Пальто подать и то не догадается!
Он поднял с пола шубу, подал ей. Она сунула разом обе руки в рукава, рванулась прочь.
— И проводи! Хоть напоследок будь мужиком! До метро хоть, не переломишься!
Он вернулся в комнату, натянул поверх майки свитер, надел дубленку, про шапку забыл, распахнул входную дверь.
— Иди! И заткнись, соседи спят!
— Детское время! — закричала она нарочно еще громче, голос гулко покатился вниз, в колодец лестничной клетки, — Пусть знают, кто ты есть!
Он нажал на кнопку лифта, обрамленного в красное дерево и фальшивую бронзу. Они вошли внутрь, лифт, сыто урча и вздрагивая на каждом этаже, пополз вниз.
В огромном, похожем на сводчатый неф готического собора вестибюле свет был уже погашен, только у входа, на столе дежурной лифтерши, горела несильная лампочка, отчего кафедральные своды тонули в таинственной тьме, а витраж над дверьми лифта мерцал загадочно и смутно.
— Спокойной ночи, бабуля! — громко кинула Эля лифтерше, склонившей укутанную в теплый платок голову над книгой. — Извините за поздний час. Но вы не такого еще в этом вашем шикарном доме навидались, верно? Гуд бай!
Лифтерша подняла голову, из-под платка выглянуло молодое лицо в модных дымчатых очках, и тихий, вежливый девичий голос ответил на безупречном английском:
— Ам сори, май леди, гуд найт.
Но Эля уже не услышала ее, вышла на улицу, хлопнув дверью на весь подъезд.
Машину успело занести снегом.
— Погоди, я смету, — сказал он ей и направился к машине.
— До метро два шага, можете не провожать, и так на редкость сегодня вежливые.
— Садись! — прикрикнул он на нее, отпирая дверцу, — Хватит выкобениваться!
— Как вы с девушкой разговариваете, гражданин?! — опять визгливо закричала она, заметив выходящего из-за угла постового. — Если будете выражаться, я милицию позову!
— Дура, — процедил сквозь зубы Иннокентьев, доставая из-под переднего сиденья веник, — шизоид! Садись!
— Товарищ милиционер! — громко позвала она, — Тут оскорбляют!
Не прибавляя шагу, милиционер подошел поближе, взглянул на номер и, узнав машину и самого Иннокентьева — он частенько дежурил у высотки, знал всех обитателей в лицо, — приложил руку к заметенной снегом ушанке:
— Здравия желаю. Что, Новый год, видать, уже справляете?
— Лиха беда начало… — не оборачиваясь к нему, ответил Иннокентьев, сметая снег с лобового стекла, — Гуляем.
— Моя милиция меня — что?.. — с вызовом бросила милиционеру Эля, садясь в машину. — Тут на глазах, может, невинности лишают, а ей хоть бы хны…
— Тебя лишишь, как же… — обиделся милиционер и, извиняясь перед Иннокентьевым, опять приложил руку к шапке. — Иногда — никакого терпения…
— Все в порядке, старшина, — успокоил его Иннокентьев, — такой стиль, не обижайся.
— Стиль… — пробормотал милиционер, уходя в снежную мглу, — а схлопотать тоже недолго…
— К тебе по какому шоссе? — спросил Иннокентьев, садясь в машину. «Дворники» с трудом справлялись с густо оседающим на стекло рыхлым, липучим снегом.
— Какое еще шоссе? — удивилась Эля. — До Курского, там уж я как-нибудь сама!
— По Горьковскому, — вспомнил Иннокентьев, заводя двигатель.
— Ну вы даете!.. — искренне поразилась она. — Если б знала, каждый бы раз шухер устраивала, чтоб потом домой отвозили…
Он не ответил, свернул на малую дорожку, потом на Садовое, в сторону Таганки.
Дорога покрылась скользкой наледью, ехать было трудно, он молчал, напряженно вглядываясь в метель.
Эля тоже умолкла, курила, кислый дым ее сигареты ел Иннокентьеву глаза.
Докурив, она не погасила окурок в пепельнице, а, приоткрыв на ходу дверцу, выбросила его наружу, сунула сжатые кулаки в рукава шубы, свернулась калачиком на сиденье, отвернувшись от Иннокентьева.
Когда он выехал из города на Горьковское шоссе и спросил ее, как дальше ехать и где сворачивать, она не ответила; спит, решил он.
Но она не спала, чуть погодя сказала, не меняя позы:
— Скоро указатель будет — направо и под мост. Потом все прямо.
И после долгого молчания, отчего он опять подумал, что она уснула, спустила ноги на пол, села прямо, закурила новую сигарету. Красный кружок прикуривателя выхватил из темноты ее нос, губы, вспыхнул на мгновение во влажной белизне зубов и в глазных яблоках. Затянулась, выдохнула дым, сказала тихо:
— Не надо было меня отвозить.
— Почему?
Он не отрывал глаз от дороги. Снегопад кончился гдето вскоре за кольцевой, то выглядывала из-за туч, то исчезала в них блеклая луна.
— Не надо, и все.
— Теперь уже поздно.
— Вы довезете и сразу поедете обратно, слышите?..
_ Хорошо, — согласился он. И тут же спросил: — Что с тобой?
— Обратно ехать легче, — не ответила она, — Дорогу запомнили? А сейчас опять направо.
В зыбком, то чуть прорежающемся, когда выглядывала луна, то вновь погружающемся в ночь мглистом пространстве выплыла справа скорее угадываемая, чем видимая громада Никольской церкви. Луна вновь зашла за тучи, церковь потонула во тьме, но в глазах еще долго стояло ощущение ее темной, давящей массы.
— Направо… Налево… Опять направо, — подсказывала дорогу Эля, когда они въехали в поселок.
Дорога под свежевыпавшим снегом была разбитая, в старых колдобинах, машину бросало из стороны в сторону, то и дело приходилось притормаживать и переключать скорости.
Свет фар уперся в забор, за которым стоял длинный приземистый дом с различимой даже в темноте вывеской вдоль карниза: «Продмаг».
— Все, приехали. — Но, когда он остановил машину, не шевельнулась, не сделала попытки выйти.
Иннокентьев не стал выключать двигатель, только погасил фары, и сразу вокруг стало непроглядно темно: черный, чужой мир. Словно в батискафе, подумал он, на самом дне.
— Если вам не к спеху, я еще покурю, — не спросила, а сообщила Эля.
Прикуриватель щелкнул, выскочил из гнезда и опять выхватил из темноты ее нос, губы, блеск зубов и глаз.
Иннокентьев выключил двигатель, оставив работать одно отопление. В полнейшей, до звона в ушах, тишине ночи было слышно, как подвывает вентилятор печки, и, когда Эля затягивалась сигаретой, казалось, что ухо улавливает, как съедает огонь папиросную бумагу.
Иннокентьев тоже закурил.
Где-то далеко прогрохатывал ночной товарняк, долгим гудком прорезая темень.
— Ну?. — не выдержал наконец Иннокентьев.
Она вышла наружу, сказала:
— Хорошо. Пошли. — И с силой захлопнула за собой дверцу.
Он не удивился. Вслед за Элей вышел из машины, запер ее.
Она сказала на ходу, не оборачиваясь:
— На себя пеняйте. — Оскользаясь на свежем снегу, пошла узким проулком мимо магазина.
Иннокентьев, смертельно уставший от неближней этой дороги по заснеженному шоссе, безвольно пошел за нею, увязая в сугробах.
Она остановилась у калитки, дожидаясь его. Когда он подошел, она было толкнулась в калитку, но та не поддавалась — дорожка, ведущая к едва различимому в глубине двора одноэтажному дому, была занесена снегом по колено.
— Подожди. — Он навалился всей тяжестью тела на калитку. В узкую щель едва-едва можно было протиснуться.
Эля, нашаривая в сумке ключи, прошла первой, Иннокентьев след в след за нею, то и дело проваливаясь в снег.
По ту сторону дома раскачивался на ветру уличный фонарь, тьма то густела, то редела в его блеклом свете.
С дверью в дом тоже непросто было справиться — крыльцо занесло не хуже тропинки.
Войдя в сени, Эля привычно нашла в темноте выключатель. Тусклый, болезненный свет двадцатипятисвечовой голой лампочки казался таким же холодным и неприютным, как и стылая темень на улице.
— Затворите дверь, а то еще сюда наметет, — велела ему Эля, отпирая дверь в комнаты.
Иннокентьев не сразу почувствовал, какой застоявшийся, давний холод царит в доме. Он размотал шарф, стал было стаскивать с себя дубленку. Эля покосилась на него.
— Зря. Тут и в шубе закоченеешь. Вот, — показала она на стеклянный графин на подоконнике, — смотреть страшно!
Вода в графине превратилась в лед, и по тому, как успела запылиться и пожелтеть его поверхность, было ясно, что в доме не топлено бог знает как давно. И все же Иннокентьев снял дубленку и тут же почувствовал, как мороз разом охватил плечи и спину. Он сунул руки в карманы.
— Что, студено? — спросила Эля, усмехнувшись. В родных, пусть и промерзших насквозь стенах она почувствовала себя увереннее, чем у него на площади Восстания. Села за круглый, покрытый вытертой на сгибах клеенкой стол, пригласила и его: — Садитесь. Будьте как дома.
Он сел, не вынимая рук из карманов. Вспомнил:
— Сигареты я в машине оставил…
Над столом висела под матерчатым розовым абажуром с фестончиками такая же, как в сенях, тусклая лампочка.
— У меня есть, — Эля встала, подошла к просиженному дивану с подлокотниками валиком и прямой высокой спинкой, нашла в своей сумочке сигареты и спички, вернулась к столу. Ни шубы, ни кроличьего своего треуха она так и не сняла.
Иннокентьев закурил, от кислого дыма «Опала» запершило с непривычки в горле. Эля снова уселась напротив него за стол, положила руки со сцепленными пальцами на холодную клеенку и, глядя в упор на Иннокентьева, спросила на этот раз без усмешки:
— Ну? Довольны?
— Чем? — ушел он от ответа. Его стал бить озноб, мелко дрожали руки, он старался не выдать этого.
Она обвела взглядом комнату, снова остановила его на Иннокентьеве:
— Что сами убедились.
— В чем? — опять уклонился он и в свою очередь обвел глазами вокруг.
Обшитые листами фанеры стены были оклеены выцветшими, в крупный рисунок обоями. Низкий потолок трижды пересекал плетеный шнур электропроводки — от выключателя к абажуру над столом, а уж от него к розеткам на двух противоположных стенах. Кроме дивана, стола с четырьмя венскими стульями вокруг, комната, и сама по себе тесная, была заставлена еще множеством других предметов: ножная швейная машинка, покрытая ситцевым чехлом, двустворчатый шкаф с потускневшим от времени зеркалом, бамбуковая этажерка, на которой стоял допотопный ламповый радиоприемник «Родина» с незрячим зеленым глазком.
— В чем я должен был убедиться? — переспросил Иннокентьев. Ноги у него, хоть и в теплых меховых ботинках, совсем закоченели.
Она не ответила, смахивала ладонью крошки с клеенки. Только сейчас Иннокентьев заметил, что посреди стола стоит пустая бутылка из-под дешевого портвейна и два граненых стакана, немытых, в темно-бордовых потеках от вина. В один из стаканов была брошена мятая фольга от плавленого сырка.
Эля перехватила его взгляд.
— Катя. Видать, приезжала без меня. Она пьющая.
— Кто это — Катя?
— Сестренка, — безо всякой неловкости пояснила Эля. — Мы с ней редко видимся. Жалко ее, сестра все же. — Это она тоже сказала ровно и без жалобы.
Иннокентьев жадно курил, и, когда затягивался дымом, на мгновение казалось, что стужа отпускает.
— Холодно? — заметила Эля. — Я газ зажгу. Чаю хотите?
— Давай! — обрадовался он.
Она вышла в сени, где стояла газовая плита с баллоном.
Иннокентьев надел дубленку, застегнулся, поднял воротник, пожалел, что забыл дома шапку. Казалось, что каждая вещь в комнате — стены, шкаф, этажерка, даже лампа под низким потолком — исходит каким-то вселенским, от веку, абсолютным нулем.
Эля гремела в сенях пустым чайником, цинковым ведром.
Он подошел к окну, поросшему по краям вдоль рамы мохнатой крупной изморозью, приблизил лицо вплотную к стеклу: тучи покрывали сплошь непроглядное небо, луны как не бывало, и длинная, теряющаяся в кромешной тьме улица с тесно скученными низкими домами, словно бы прижавшимися друг к дружке в тщетной надежде согреться, со слепыми бельмами схваченных стужей окон, навела на него такую тоску, что, подумал он, появись сейчас из-за туч эта бледная, намертво примерзшая к небу луна, он бы завыл на нее одиноким волком в степи.
Вернулась Эля:
— Хорошо в ведре лед был, кран-то тоже замерз, молчит. Сейчас вскипит, там на самом донышке.
Иннокентьев отошел от окна, сел на диван, провалившись меж разрозненных, скрипучих пружин.
Эля открыла шкаф, пошарила на полупустых полках.
— Сахар-то — вот он, а чаю… — Но, казалось, и это не очень ее огорчило.
— А водки нет ли? — Иннокентьев не узнал свой голос: чужой, осевший.
— Неужели!.. Чтоб после Катьки что-нибудь осталось?!
Казалось, холод ей нипочем. Она еще раньше сняла шубу, была в одной вязаной кофте. Вынула из шкафа жестяную банку с сахаром, поглядела в нерешительности на Иннокентьева.
Он сказал как можно бодрее:
— Будем пить кипяток, как в войну.
— Почему именно — в войну? — не поняла она.
Он сообразил, что она никак не может помнить войну, родилась много позже.
— Одним словом, не беда.
— Сойдет, — согласилась она, убрала со стола грязные стаканы из-под портвейна и пустую бутылку. — Хватило б воды вымыть… — Вышла в сени и вскоре вернулась со вскипевшим чайником и вымытыми стаканами. — На два стакана и то едва наберется. Вам сахару сколько положить?
— Не жалей. Авось не замерзнем до утра.
— А вы решили остаться? — не удивилась она, но и не выказала никакой радости.
— А куда прикажешь в этакий гололед? Правда, у вас тут рядом новый крематорий, большое удобство.
— Что ж… — пожала она плечами, — как хотите, — И как о единственном, вполне естественном выходе из положения: — Вот что… мы лучше давайте ляжем в постель, бабушкина перина жутко теплая, из чистого пуха. А то и я уже сама как ледышка. Ляжем под нее, напьемся чаю, глядишь, отогреемся.
— Хорошая идея, главное, ко времени, — усмехнулся он.
— Да нет, — ответила она без выражения, — раздеваться не будем, только сапоги. Напрасно испугались.
Вышла в соседнюю комнату, позвала его оттуда чуть погодя:
— Идите. Тут, правда, лампочка перегорела, темно. Идите, не бойтесь.
Он встал — ноги совершенно задеревенели, — прошел в крохотную темную комнатку, где едва помещалась большая металлическая кровать, на никелированных шишечках в ее изножье слабо мерцал свет, падающий из дверей. В изголовье угадывалась высокая гора подушек.
Эля переложила подушки на стоящий рядом с кроватью стул, откинула толстую, рыхлую перину:
— Ложитесь, только ботинки снимите. Я чай принесу. — И вышла за дверь.
Иннокентьев жалко усмехнулся про себя в темноте, покорно снял ботинки, лег под перину, провалившись всем телом в другую такую же рыхлую перину под собой.
Эля вернулась, неся в каждой руке по стакану с подслащенным кипятком.
Он взял у нее стакан, ожег пальцы.
— Горячо, черт!..
— Какой нежный, скажите, пожалуйста… Остынет — смысла не будет. Пейте.
Присела боком на кровать, отхлебывала кипяток мелкими громкими глотками.
Обжигая губы, он отпил глоток, торопливо отпил еще и еще, ни с чем не сравнимое блаженство охватило его, и все — и дорога эта, и богом забытое Никольское, и этот пустой, промерзший дом, и самая эта стужа вселенская — показалось ему не таким уж страшным и унизительным. Он смотрел снизу вверх на сидящую на краешке постели Элю, едва различая в темноте ее лицо. Выпростал из-под перины свободную руку, нашарил в темноте ее ладонь, взял в свою и чуть было не отдернул — такая ледяная была у нее ладошка. Ему вдруг стало ее до слез жалко, и вместе с теплом кипятка горячая волна нежности поднялась в нем.
— Что же ты не ложишься?
Она не ответила, высвободила руку, неторопливо пила обжигающий кипяток, думала о чем-то далеком и, как ему казалось, не имеющем к нему никакого отношения.
Да и он думал сейчас лишь о том, как бы не допить кипяток раньше, чем успеет как следует согреться.
Эля поставила свой стакан на пол, встала.
— Газ погашу. — И вышла.
Он лежал в темноте, утопая в мягком тепле перины.
Эля долго не шла. Он позвал ее:
— Ты где?
Она вернулась, погасив по пути свет в соседней комнате, и тут же дом залила такая непроглядная тьма, что хоть глаз выколи.
— Зачем? — запротестовал Иннокентьев. — При свете как-то теплее.
Она присела на кровать, стаскивала с ног сапоги. Сняла их, но посидела еще некоторое время молча на краю кровати.
— Подвиньтесь, — попросила негромко.
Он отодвинулся к самой стене. Эля легла, вытянула ноги, укрылась до подбородка периной.
Они лежали молча, лицами вверх, понемногу глаза привыкали к темноте, да и в окно несмело сочился бледный свет то ли луны, вновь пробившейся сквозь тучи, то ли фонаря с улицы.
В тишине Иннокентьев слышал собственное дыхание, а вот Элиного было не различить. Он и раньше, когда она оставалась у него и спала с ним в одной постели, поражался, просыпаясь среди ночи, легкости и неслышности ее дыхания.
Он стал задремывать, разомлевши от теплого покоя перины. И уже сквозь дрему услышал ее ровный, тихий голос:
— Теперь ты жалеешь, да?..
— О чем? — спросил он сонно.
— Ну… — не сразу отозвалась она, — о том, что сказал мне…
— А что я сказал? — не мог он сразу припомнить.
Она не ответила.
Он опять стал задремывать, и вновь его разбудил ее тихий, без выражения голос:
— Я тоже.
— Что — тоже? — все не мог он взять в толк ее слова.
— Люблю, представь… Очень просто.
— Кого? — никак не мог он проснуться.
— Кого?! — Голос ее упал до шепота. — Ты спрашиваешь — кого?! — Она приподнялась на локте над ним, ее челка упала ему на лицо и забилась в рот, — Шутишь?!
Он разом стряхнул сон, поняв, о чем она говорит и какие его слова вспомнила — а значит, все это время только о них и думала, ими была полна! — и вновь, как несколькими часами раньше, в «Национале», на него нахлынула, накрыла с головой горячая волна не просто нежности и жалости к ней, а — такой ее необходимости ему, такой благодарности ей за то, что в нем одном она ищет и хочет найти прибежище и защиту.
— Иди ко мне, — позвал он тоже шепотом, — не надо ничего говорить! Не надо! Иди!..
Она склонилась над ним, припала лбом ко лбу, лоб ее был гладок и прохладен, он слышал ее горячее прерывистое дыхание.
— Ты думаешь, я не понимаю?.. Сказал в ресторане — люблю, и забыл, пусть не сразу забыл, так завтра бы, через неделю, нормально… Ну пусть две недели, месяц даже, а потом?.. Не вчера родилась, знаю, чем все кончается, обожглась уже… Ты молчи, молчи, я и то знаю, что ты сейчас скажешь, только не надо!
Он слышал сквозь свою и ее одежду, как загнанно бьется ее сердце, как при каждом вдохе и выдохе входит и выходит с хрипловатым свистом воздух в ее легкие. Он обнял ее, обхватил тесно руками, задохнулся от душного, горчащего полынью запаха ее тела, а она все шептала:
— Молчи, молчи, дай сказать… — Подперла подбородок руками, локти больно упирались ему в грудь, — Я ведь что хотела…
— Да, да… да… — только и отвечал он ей, — да…
Она умолкла, потом вздохнула печально.
— Ну вот, перебил меня… я все и позабыла, что хотела…
Он натянул перину ей и себе на голову, теперь они были как в тесном, согретом их дыханием гнезде, нашел ощупью «молнию» на ее платье…
Уже совсем под утро их разбудил — сперва вскинулась Эля, потом уж проснулся Иннокентьев — громкий стук в дребезжащее окно и пьяный, настойчивый голос:
— Катька! Катька, это я, слышь? Да проснись ты, тварь! Я пузыря принес! Катька-а!..
— Кто это? — спросил спросонья Иннокентьев.
Эля закрыла ему рот жаркой, потной ладошкой:
— Молчи! Не отзывайся. Покричит и уйдет. Это Катькин хахаль какой-нибудь. Молчи.
Пьяный за окном не унимался, орал на весь поселок, грязно и скучно матерясь. Потом, отчаявшись докричаться, взобрался на наружную приступку, пытаясь отомкнуть форточку.
Форточка поддалась, он просунул голову внутрь.
— Катька! Я же не пустой пришел. Я бормотуху на Курском достал!
В откинутую форточку сразу же потянуло лютой стужей с улицы.
— Катька, гадский потрох!..
Эля рывком соскочила с постели и, топая босыми пятками по полу — Иннокентьев совершенно явственно угадал, как леденит ей ступни промерзлый пол, его пробрал озноб при одной мысли об этом, — кинулась к окну, ткнула кулаком в пьяную рожу в проеме форточки.
— Мразь! Линяй, пока я тебе морду не раскровенила, подонок! Никакой Катьки нету! Отвали!
— Катька! — обрадовался заплетающийся голос за окном. — Это же ты! От кого прячешься-то?
— Я тебе дам Катьку! — Эля нашарила на подоконнике какую-то пустую стеклянную банку, ударила с размаху алкаша в лицо. — А ну сгинь!
— Ты что? Ты что?! — заорал тот высоким испуганным голосом, свалившись наземь с приступки, — Ты что, сдурела?!
«Машина, — вдруг пришло Иннокентьеву в голову, — как бы этот подонок не побил машину, и „дворники“ я забыл снять…» И тут же до тошноты устыдился этой мерзкой своей мысли, того, что испугался не за Элю и даже не за себя, крохобор, а за машину…
Из-за окна протрезвевший, удивленный голос спросил:
— Это Элька, что ли? Откуда?!
— От верблюда! — еще визгливее завопила Эля. — Опять в тюрягу захотел?!
— Так бы сразу и сказала, — обиженно ответили из-за окна, — а то в кровь дерется… Смотри, сожгу хату, головешки не оставлю… — пригрозил он без особой уверенности и, матерясь совсем уж невразумительно, пошел прочь.
Эля захлопнула форточку, вернулась к постели, нырнула под перину к Иннокентьеву.
— Мразь подзаборная, — все еще не отошла она, — рванина…
Иннокентьев обнял ее. Тело ее не успело остыть, только пятки стали совсем ледяные.
Она тесно прижалась к нему и вдруг разрыдалась в голос, содрогаясь всем телом, острые лопатки под рукой Иннокентьева ходили ходуном, а на губах он чувствовал соленые, горячие ее слезы.
Он хотел утешить ее, пожалеть, но она не дала ему говорить, шептала, глотая слова, сквозь рыдания и всхлипы:
— А ты молчи, молчи, ты этого даже понять не можешь… Ты же не знаешь, какая она, Катька, какая она бывает… А я знаю! Ненавижу!.. А она сестра мне, родная сестра, тебе этого ни за что не понять, что значит — сестра! Мы же отца с ней даже и не помним, был, не был, а мать два года как схоронили… Тебе и не снилось такое! Она ж сестра мне, я ее жалею, а удавила бы своими руками, когда она пьяная… И молчи, заткнись, не твоего ума это дело…
Потом она утихла и скоро уснула, и во сне продолжая всхлипывать и вздрагивать всем телом, а Иннокентьев до самого рассвета лежал с нею рядом, тихо гладя ее голые, худые плечи, и думал о том, что ему и на самом деле вряд ли понять до конца эту девчонку и ее жизнь…
И еще ему подумалось, прежде чем робкий рассвет стал оттирать темень с оконного стекла, что дороги их, ее и его, друг ли к другу, врозь ли или мимо друг друга — не параллельные ли линии, которым никогда не скреститься, не пересечься?.. Но додумать эту невеселую мысль он так и не додумал, уснул, и во сне нежно и осторожно обнимая ее вздрагивающие плечи, спину с трогательно-беззащитной ложбинкой меж лопаток.
Но когда они утром, в десятом часу первого дня нового года, проснулись и бережно, чтоб не растратить, не уступить стуже нажитого за ночь под периной живого тепла, торопливо оделись и вышли наружу — и утро, и улица, и дома вдоль нее, и штакетник, и деревья за штакетником были так ослепительно и молодо белы, так празднично свежи, снег на всем такой нетронутый, чистый, небо такой невообразимо прекрасной высоты и синевы, а в окнах, мимо которых они шли по безлюдному переулку, увязая в снегу и оставляя за собой глубокие, мигом наполняющиеся густой синей тенью следы, зеленела сквозь стекла хвоя новогодних елок и поблескивали весело игрушки, так ярко и щедро сияло солнце, рассыпав по снегу слепящие искры, что на душе разом стало тоже легко и чисто, и горькие, злые слезы этой ночью, и мат, и вся грязь, все печали и невзгоды, и невеселые мысли о бессилии их судеб пересечься и соединиться — все забылось, растаяло в сиянии нового дня. И жить тоже надо было как-то по-новому, по-иному, чисто и молодо, как это утро и этот снег, чисто, молодо и щедро, как это морозное солнце над густо-синими, в золотых крупных звездах куполами Никольской церкви, чисто, молодо, щедро и долго, самое главное — долго…
6
По пути из Никольского в Москву Иннокентьев твердо решил, что если он поедет сейчас на дачу к Митиным, то непременно — с Элей.
По давней традиции в первый день нового года они съезжались туда всей компанией, даже если новогоднюю ночь проводили врозь, погулять по лесу, надышаться впрок кислородом, пообедать не торопясь, по-домашнему. Жена Митина, Ира, всегда кормила гостей до отвала и так вкусно, что, осоловев от сытости, они не в силах были сдвинуться с места и, как правило, оставались ночевать, а поутру чревоугодие начиналось сызнова, и хорошо, если разъезжались вечером второго дня.
Вот только надо заехать на минутку домой, на площадь
Восстания, перекусить на скорую руку, переодеться — не в этом же воздушном платье Эле ехать за город, да и он без шапки, — и он повезет ее к ним ко всем, к кровожадным хищникам в клетку, он посмотрит и посмеется, когда они разинут рты от удивления и шокинга, но только пусть посмеют слово сказать!.. Он с каким-то злорадным удовольствием представил себе это их удивление, их оскорбленное, ханжеское пожимание плечами за его и Элиной спиной, когда он появится там с нею.
Всю дорогу его не покидало легкое, праздничное ощущение полнейшего мира с самим собой и свободного, невозбранного соответствия всего, что он делает и что с ним происходит, с тем, что бы он хотел делать и как бы хотел жить.
Ночной снегопад давно перестал, по обеим сторонам шоссе и потом, когда они въехали в город, на тротуарах снег лежал до рези в глазах ослепительный, пышный, белый, и от этого в особенности чувство покоя, воли и легкости, давно им позабытое и, казалось, уже недоступное, пело в нем до самого дома.
Эля промолчала всю дорогу, и на лице ее, когда Иннокентьев оборачивался к ней, было выражение не праздника и легкости, как у него самого, а тревожной, суровой даже напряженности.
Такая же молчаливая и далекая от него, она, едва переступив порог его квартиры, сказала, и голос у нее был тоже далекий и отсутствующий:
— Я замерзла. Можно, я сразу в ванну?..
Тут же в передней торопливо стала раздеваться — ее и вправду бил озноб, и кисти рук по сравнению с молочно-белым телом были пунцовые, и ступни ног тоже.
— Само собой. — Иннокентьев прошел в ванную, пустил горячую воду, потом принес из спальни чистое полотенце, — Иди. Иди же, иди, простудишься, — легонько подтолкнул он ее к ванной и ладонью ощутил, какая у нее иззябшая, в пупырышках кожа.
Войдя в ванную, она не раздумывая с маху ступила в горячую воду, испуганно вскрикнула, ожегшись, и, охая от охватившего тело жара, плюхнулась в нее.
А у него было такое чувство, что никакая она его не любовница, не женщина, с которой он только что провел ночь под одной душной, свалявшейся в плотные, как булыжники, комки периной, а — ребенок его, плоть его и кровь, о котором он раньше просто-напросто не подозревал, а вот теперь нашел его и должен отогреть, дать ему кров и защиту и, как приблудного щенка, приручить. Он усмехнулся про себя — вот уже и дают себя знать эти четырнадцать лет разницы между ним и ею, то ли еще будет!..
Он переоделся в толстый свитер и лыжные брюки, подошел к окну и долго рассеянно глядел на сверкающую свежим снегом крышу «Вдовьего дома», на нехоженые белые аллеи зоопарка и черное, незамерзшее зеркало пруда посредине.
Он слышал, как бежит в ванной из крана вода, как Эля тихонечко напевает там что-то невнятное.
Он не мог бы даже самому себе объяснить, что с ним происходит и что тому причиной. Он давно — а может быть, и никогда — не ощущал на душе вот такое прочное, незыблемое чувство покоя, как сейчас, ему казалось, что неведомым каким-то образом, сам того не заметив, он перешагнул вдруг через некий рубеж, через черту какую-то незримую, и теперь все пойдет совершенно по-другому, по-новому, не так, как он жил до сих пор, а совсем иначе — без ложных и суетных тревог, без торопливости и вечного цейтнота, легко, устойчиво и весело, главное — именно весело, беззаботно, этого-то ему всегда и не хватало.
Он всегда, сколько себя помнил, куда-то торопился и опаздывал, всегда чего-то не успевал доделать, и это постоянно бередило чувством вины перед самим собой, всегда что-то приходилось откладывать на завтра, а значит, и это завтра уже не полностью принадлежало ему. А вот теперь все пойдет иначе, и он сам отныне станет совсем другим: не суетиться, никуда не спешить, ничего не опасаться. И то, что это чувство — ничего не опасаться, не суетиться, никуда не спешить — пришло к нему не извне, а родилось в нем самом, могло значить только то, что оно и всегда в нем было живо, просто он почему-то пренебрегал им, забывал, что оно-то — самое главное, от него зависит все.
И, кстати пришло ему на память, в этой истории со «Стоп-кадром» тоже ведь не просто же о спектакле Дыбасова идет речь, тут тоже дело совсем в другом, тут он вместе с ними со всеми должен драться за что-то гораздо более важное, за некий принцип, некую основополагающую нравственную идею, на которой одной только и может все держаться в этих авгиевых конюшнях театра, которые, если время от времени их не выгребать, не открывать нараспашку все двери и окна, зарастут дерьмом и провоняют так, что не продохнуть. И если надо это дело начинать с Ремезова — что ж, начнем, помолясь, с него, невзирая на все его титулы и заслуги.
И вообще хватит этих милых, безобидных — прямо-таки дуэт кукушки и петуха! — «Антрактов», от которых никому ни тепло ни холодно, дни уходят, уходят годы, пора, пора заняться чем-нибудь серьезным и основательным! И по душе — вот о чем нельзя забывать, чем-нибудь таким, что имело бы отношение не к одной только профессии, не к одним служебным обязанностям, а и к тому, что только и в состоянии насытить голод и утолить жажду настоящего, истинного служения искусству, уж простите за высокопарность, такие уж у нас пошли дела, что можно себе позволить изъясняться и высоким штилем…
И что самое удивительное — это простое и ясное, как раннее утро, состояние души не удивляло Иннокентьева, не казалось нежданным, незнакомым или чужим. Удивляло, ставило в тупик лишь одно: неужто все это произошло и происходит с ним и в нем оттого лишь, что — Эля?! Оттого лишь, что в его жизни — вот уж что поистине нежданно-негаданно! — вдруг объявилась эта, по чести говоря, вполне нелепая, грубоватая женщина-подросток, прямая и бесхитростная до того, что поневоле приходит на ум: а не дурочка ли просто-напросто, не длинноногое ли, с худым мальчишеским телом и челкой, падающей на глаза, чучело, набитое, как паклей, подмосковными выраженьицами, от которых хоть стой, хоть падай, и такой прямотой и простодушием, что, очень может быть, они могут показаться в наш трезвый, выверенный расчетом век почти юродством?.. Оттого лишь?!
Ворота на участок Митиных были широко распахнуты еще со вчерашнего дня, снег с дорожки, ведущей к даче, недавно сметен, у крыльца стояли впритык две машины — «Волга» хозяина и многажды битые, все в ржавых вмятинах, старенькие «Жигули» Венгеровой.
Вся компания была в сборе, видно, они недавно только встали ото сна и едва успели позавтракать — низенький круглый стол на теплой террасе был уставлен тарелками с остатками еды. Надо всеми возвышалась горой рыхлая туша Ружина, и судя по тому, что лицо его в крупных оспинах пылало багровым жаром и глазки лоснились хмельным благодушием, было ясно, что он уже успел порядком поднабраться с утра пораньше.
Помогая Эле снять шубу, Иннокентьев, сухо и как бы наперед отметая какие бы то ни было недоумения и кривотолки, представил свою даму:
— Это — Эля.
Эля улыбнулась свободно и доверчиво, словно бы давно была со всеми на короткой ноге:
— Еще успеем познакомиться, новый год только начинается.
Настя, приложившись гладкой, прохладной щекой к щеке Иннокентьева, сказала ровно:
— Что ж, я тебе желаю… Может быть, это как раз то, чего тебе не хватало…
У Игоря же Митина лицо было напряженное, встревоженное, словно бы он был не рад гостям.
— Я уже, пожалуй, жалею обо всем этом, — успел он пожаловаться вполголоса Иннокентьеву, пока остальные знакомились с Элей.
— Что назвал гостей? — удивился Иннокентьев, знающий за Митиным широкое, подчас несколько и напоказ, хлебосольство.
— Да нет! — отмахнулся тот. — Просто я не уверен, нужно ли мне ввязываться в эту историю с Ремезовым… Я не любитель входить за здорово живешь в клетку со львом. А ты как думаешь?.. Я знаю, Настя говорила с тобой, я тебя ждал еще вчера.
Только сейчас Иннокентьев вспомнил, что не одного Нового года ради они ждали его, но еще и с надеждой заполучить его в союзники в предполагаемой войне со всесильным Ремезовым. И разговора об этом теперь уж наверняка не миновать. И принимать решение — тоже. Карты на стол, деньги на бочку, теперь уж не отвертишься. Сегодня или никогда, как любит говорить Ружин.
Но ответил он Митину неопределенно:
— Так ведь и ты с Дыбасовым не лыком шиты, вам тоже палец в рот не клади.
Эля, краем глаза отметил Иннокентьев, успела за эти несколько минут вполне освоиться в новом доме и среди новых людей, болтала с ними совершенно на равных, ничуть не теряясь и не смущаясь хотя бы той же Насти — Насти, которой она, должно быть, еще с детства восхищалась по бесчисленным фильмам и о встрече с которой ей бы еще час назад и в голову не пришло мечтать.
И лишь Роман Дыбасов, начинающий режиссер в театре
Ремезова, сидел молча на отшибе, не пророни за все время ни слова, с нескрываемой отчужденностью глядя вокруг и как бы выставляя напоказ свою чужеродность этой самодовольной и благополучной публике с ее дачами, машинами и пустой, никого ни к чему не обязывающей светской хлопотливостью.
Было решено, выпив по стопке «для сугрева», пойти, пока во все поднебесье светило щедрое новогоднее солнце, в лес, благо снегу выпало пока не так уж много, по просекам можно пройти и в глубину, нагулять настоящий, до голодной слюны во рту аппетит, а там уж и сесть за стол со всей основательностью.
Выпили стоя, за застекленными стенами террасы стояли высокие ели с пригнувшимися под тяжестью свежего снега лапами, а над ними — голубой, сверкающей эмали небо. Стволы двух старых сосен поодаль были облиты густым солнечным медом.
Когда они выходили всей гурьбой из дома, Настя взяла под руки Иннокентьева и Дыбасова, сказала небрежно, как бы не придавая своим словам и призывая и их не придавать им никакого особого значения:
— Роман Сергеевич… мы собирались поговорить с Борисом Андреевичем…
— Мы?! — с преувеличенным удивлением перебил Дыбасов. — Я тут совершенно ни при чем, это вы с Митиным все затеяли. Увольте, Анастасия Константиновна! — И, высвободив локоть, ушел один вперед.
Настя проводила его взглядом, вздохнула:
— Совершенно не от мира сего… Сорок лет уже, а он с его-то талантом и прямо-таки нечеловеческой работоспособностью все еще не имеет своего театра, зависит от какого-то Ремезова…
Настя была одета так — толстые, будто их накачали воздухом, ярко-красные сапоги-луноходы, стеганая спортивная куртка и такие же брюки из синтетической ткани, издающей при каждом шаге как бы насмешливый свист, — словно собралась на фешенебельный горнолыжный курорт. А вот Дыбасов, это было видно по его зябко ссутулившейся спине, мерз на ветру в своем осеннем полупальто на рыбьем меху — он вообще всегда одевался нарочито небрежно и даже бедно, как бы подчеркивая тем свою автономность в мире удачливых баловней судьбы с их шубами, дубленками и пыжиковыми шапками. И выражение его лица тоже было всегда под стать одежде — хмурое, свободолюбивое и словно бы всех в чем-то обличающее.
Короткая улочка с почти не тронутым следами снегом упиралась в опушку леса, и, войдя в него, они окунулись с головой в нечто и вовсе непостижимое для городских их глаз, слуха, обоняния. Краски — насыщенные, плотные, чистые: белое, зеленое, синее, голубое, медно-рыжее, медвяно-желтое — не толклись по-летнему тесно, кичливо крича каждая о себе, а жили спокойно и молчаливо, будто с них довольно было и этого их чувства собственного достоинства.
Тишина тоже стояла недвижная, хрупкая, и дробный перестук далекой электрички был словно бы нежно обводящим ее легким пунктиром.
Но что было поразительнее всего, так это — запахи. Пахло не снегом, не сосной, не еловой хвоей, не морозом даже — пахло просто небом, простором, тишиной, собственной твоей нежданно нагрянувшей вновь молодостью. Это было похоже на то, как, проснувшись ранним утром от скользнувшего по твоему лицу луча солнца, ты счастлив, а отчего счастлив и что сулит это счастье — тебе и дела нет.
Так, по крайней мере, подумалось Иннокентьеву, когда он вошел в лес. Нет, поправил он себя: под сень леса.
Тропинка была узкая, видно, ее только вчера или даже сегодня утром протоптали в новом снегу, идти можно было только по двое, и рядом с Иннокентьевым оказался Дыбасов. Он шел, зябко ежась и рассеянно загребая снег стоптанными, вытертыми до залысин замшевыми башмаками.
Иннокентьев не знал, о чем с ним говорить, но идти рядом и молчать было неловко.
— Красота-то какая, — сказал он первое пришедшее на ум.
— Да, снег… — рассеянно отозвался Дыбасов. — Тут как-то года три назад итальянцы приезжали, привозили Гольдони, кажется — «Перекресток», там у них тоже все белое, сугробы… Из чего только они сделали снег — ума не приложу, блестел и переливался, как настоящий. Вы не видели?.. У нас об этом и мечтать не приходится.
Это было все, что вызвал в нем этот заснеженный, чистый новогодний лес.
И тут же он перешел без обиняков к делу:
— Я знаю, Настя с вами вчера говорила. Я не хотел сюда приезжать, никогда не умел никого ни о чем просить, терпеть не могу меценатов и покровителей, — И, резко, как-то по-петушиному вывернув шею, посмотрел сбоку на Иннокентьева и бросил, не скрывая недружелюбия: — Я и сейчас никого ни о чем не прошу, имейте в виду. Это Венгерова настояла, чтобы я приехал, и вообще все это затеяла. Хотя Ремезов, несомненно, подлец и вор. Но это, я думаю, касается только меня. Вам-то что, собственно?! — Он говорил так, будто уличал в чем-то постыдном собеседника, а не Ремезова.
За высокомерием Дыбасова нетрудно было услышать почти детскую растерянность и мольбу о помощи. Да он и был похож, особенно рядом с рослым, спортивным Иннокентьевым, на до времени состарившегося мальчика — щуплого, с осунувшимся хмурым лицом, с сутулой слабой спиной. Иннокентьеву он был неприятен, что-то в нем вызывало недоверие и казалось опасным. Хотя справедливости ради, подумал про себя Иннокентьев, не зря же осторожная, осмотрительная Настя готова, как она сама сказала, за ним в огонь и в воду. Да и Митин, далеко не самого смелого десятка человек, тоже решился ради него на эту небезопасную свару с самим Ремезовым.
— Я никого и ни о чем не прошу, — повторил так же непримиримо Дыбасов. — В том числе и вас, Борис Андреевич.
— Мне надо перечитать пьесу, — напомнил тот, как бы выговаривая себе право на свободу выбора. — И, само собой, посмотреть спектакль.
— Спектакль еще не готов! — гневно выкрикнул Дыбасов. — Нет еще никакого спектакля!
— Значит, репетицию, — как можно спокойнее ответил Иннокентьев. Дыбасов раздражал его все больше, и у него было такое впечатление, что тот именно этого и добивается. — В любое время, как позовете.
— И пьесу вы тоже читали уже, — не сдавался Дыбасов. — Напрасно вы отнекиваетесь!
— Это было черт знает когда, года три назад. Я ее помню, конечно, но уже не так, чтобы…
— Пятого в одиннадцать утра — устраивает вас? — не дал ему договорить Дыбасов и согласия его тоже не стал дожидаться: — Если вы заняты, другого дня назначить я не могу, так что…
— Я приду, — оборвал его в свою очередь Иннокентьев. Он подумал, что Дыбасов добьется-таки своего и вызовет такую к себе неприязнь, что ни о каком союзе меж ними и речи быть не сможет. — Но я не думаю, что вы избрали самый убедительный тон даже со мной.
— А я никого ни в чем убеждать и не собираюсь! — опять выкрикнул фальцетом Дыбасов, капюшон его полупальто съехал ему на лоб, и теперь его лица и вовсе не было видно.
Ружин и Митин ушли вперед, меж заснеженных елей маячили их большие, грузные фигуры, время от времени издали доносился рыкающий бас Глеба. Женщины поотстали, шли втроем позади, увязая в снегу. То ли Настя услышала выкрик Дыбасова, то ли чутьем угадала, что меж ним и Иннокентьевым грозит произойти, и встревожилась, но она догнала их, взяла под руки.
— Уже договорились обо всем, мальчики? — спросила нарочито бодреньким голосом, каким говорят тюзовские травести, играющие примерных пионеров.
Иннокентьев не ответил, оставив это право за Дыбасовы м.
Но тот остановился, выдернул свой локоть из руки Насти и сказал неожиданно капризным тоном:
— Я замерз! Терпеть не могу зимы!.. Вы уж как-нибудь без меня. Тем более я в таких делах, извините, не мастак, только буду мешаться под ногами. — И повернул назад.
— Возьмите у Иры ключ! — крикнула ему вдогонку Настя. — Дача-то заперта, наверное!
Но он и не оглянулся.
— Что между вами произошло?! — спросила встревоженно Настя.
— Он что у вас, сумасшедший? — вспылил Иннокентьев, — Ему мало Ремезова, он и меня хочет записать во враги?!
— Не сумасшедший, — покачала головой Настя и добавила убежденно: — Он просто гений.
— Кто? — даже остановился Борис. — Кто-кто?!
— Гений, — повторила она твердо, — Моцарт, понимаешь?
— Что ж, стало быть, святое дело — его травить, а уж за Сальери дело не станет, — не удержался Иннокентьев от язвительности.
— Просто мы отвыкли от гениев, — спокойно ответила Настя и вздохнула. — Нам бы всем чего-нибудь попроще, в этом все несчастье.
— Чем богаты, — пожал Иннокентьев плечами. — Но имей в виду — на безрыбье и рак рыба, я этих гениев на час, на один спектакль, слава богу, насмотрелся.
— Сам увидишь, убедишься. Он тебе сказал — пятого в одиннадцать? Не опаздывай, он этого не любит.
— Чего он еще не любит, этот ваш Вольфганг Амадей? — вышел из себя Иннокентьев.
— Многое, — опять вздохнула Настя, и в голосе ее была искренняя печаль, которую она вовсе и не собиралась прятать, — В том числе и меня.
— Тебя?! — вновь остановился пораженный Иннокентьев, — Тебя, которая…
— Меня, которая, — покорно подтвердила она. — То есть как сторонника и даже, кажется, как актрису он меня ценит, а вот…
— Вот оно что… — Иннокентьев почувствовал вдруг что-то похожее на ревность. — Опять влипла?
— Опять?.. — подняла она на него глаза. На ее непокрытую голову, на длинные, до плеч, не то пепельные, не то чуть тронутые уже сединой волосы садился пушистый легкий снежок, неслышно сдуваемый ветром с еловых лап, и не таял. — Нет, Боренька, не опять, ты уж не обижайся. Смешно сказать, но, кажется, этакого со мной еще не случалось. Влипла, да.
— Потому что — гений? — не удержался от ревнивой насмешки Иннокентьев.
— И потому тоже, — задумчиво отозвалась Настя. — И еще потому, наверное, что ужасно жалко его. Нет, не из-за этой истории с Ремезовым, он сильный, все равно своего добьется, сам в кровь разобьется, всех вокруг замучает, а добьется. Он не жалок, нет, наоборот. Он сильный, а все равно из тех мужчин, которых до слез хочется пригреть, утешить… — И совершенно неожиданно спросила, но в ее вопросе не было желания свести с ним счеты: — Знаешь, почему я так и не смогла тебя полюбить, как ни старалась? Все эти наши с тобой полтора года?.. Да и вообще, почему тебя, уж извини за прямоту, но мы ведь с тобой такие старые друзья, нам все можно, — почему тебя вообще женщины не любят? Во всяком случае, не любят долго и рабски?.. Ты не обидишься?
— Нет, — усмехнулся он, ему и самому это приходило в голову: почему? — Говори, кому же еще не знать пощады…
Она шла с ним рядом, приноравливаясь к его широкому шагу, ответила все с той же задумчивой печалью:
— Я ведь старалась тогда тоже из жалости, Боренька… Ты был такой потерянный, несчастненький, когда от тебя ушла Лера, такой неприкаянный. Но скоро я поняла, что ни жалость моя, ни любовь тебе не нужны, ты и сам справишься. А восхищаться тобой, падать ниц… для этого, извини, в тебе чего-то не хватает.
— Недостаточно гениален? — попытался он вновь отшутиться, но подумал о другом: вот — Эля, за что его любит Эля, если, конечно, любит, а не ошибается, как ошиблась Настя?.. Из жалости или из телячьего восторга и поклонения? Или же, может быть, она другая, чем Настя и все женщины Настиного и его привычного круга? Просто любит, и с нее этого довольно, для этого ей не надо ни жалеть, ни восторгаться, она и вопросов-то таких себе не задает… А главное — за что его любила Лера, если и она на самом деле любила его, а тоже не ошибалась, не обманывалась? Или же — не обманывала его?..
Но ответил на удивление спокойно:
— Что же я могу тут поделать…
— Для него? — истолковала его слова по-своему Настя. — Для Дыбасова? И можешь и должен, Боря. Ты один, пожалуй, и можешь. Если захочешь, разумеется. Если не струсишь.
— Предположим, и захочу и не струшу. Что именно? Ведь вы наверняка составили для меня всем скопом подробнейшую диспозицию.
— Конечно, — не стала лукавить она, — Ружин проиграл все варианты. Так что можешь быть совершенно спокоен.
— Я спокоен. Раз уж вы все рассчитали за моей спиной, даже не спросив, согласен ли я на эту авантюру… Я совершенно спокоен. Как я понимаю, я вам нужен лишь в качестве технического исполнителя вашей стратегии, которую мне, как выясняется, и постичь-то не дано, где уж мне до Вольфганг-Амадеев, в лучшем случае я Сальери, от которого только и требуется что подсыпать синильной кислоты в стакан Ремезову, всего и делов. А если я скажу «нет»?
— Ты не скажешь «нет», Боря. И вообще это неправда, что тебе нет до всего этого никакого дела, не прикидывайся. Если мы победим, то это будет и твоя победа, а уж ты-то, Боренька, опять не обижайся, из своих побед умеешь выжать все до последней капельки.
Сзади послышался голос Иры Митиной:
— Подождите, куда вы несетесь, мне вас не догнать!..
Они оглянулись. Ира со сбитой на затылок огромной волчьей шапкой, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, спешила за ними, неуклюже меся рыхлый снег расшитыми пестрым бисером эскимосскими унтами, привезенными ей мужем не то с Таймыра, не то из Канады.
— Все меня бросили! — пожаловалась Ира, догнав их. — Эля с Дыбасовым замерзли, повернули назад, вы бежите невесть куда сломя голову, Митин вообще непонятно где… А я есть хочу! Наготовила горы еды, все утро от плиты не отходила, а вы схватили по грибочку — ив лес… А у меня на воздухе такой жор открывается…
И, словно бы телепатией какой-нибудь учуяв, что на повестку дня поставлен вопрос о еде, из-за поворота просеки объявился Ружин, за ним плелся с мрачным, обреченным лицом Митин.
— Кормить нас когда-нибудь будут? — просипел еще издали осевшим на морозе голосом Глеб. — Назвали в гости, а сами морят голодом! — Огромные его ножищи в растоптанных, широких ботинках разъезжались на снегу, чтоб не упасть, он широко раскинул в стороны руки без перчаток, с красными, озябшими пальцами, — Знаете, как хозяйка в Одессе потчует гостей? «Будемте ужинать или лучше посидим на балконе?..» Либо вы кормите меня, как было условлено, либо выдаете сухим пайком — и я отчаливаю домой!
— Действительно, — мрачно проворчал Митин, — лично с меня этих ваших зимних пейзажей предостаточно…
Они повернули назад, к даче. Ружин не умолкал ни на минуту, говорил исключительно о еде, о том, как кормят на убой в его родном не то Самарканде, не то Душанбе, и так подробно и смачно, что все невольно прибавили шагу.
На даче было тепло и пахло разогревающейся в духовке рождественской — так окрестил ее Глеб — индюшкой, чесночным острым соусом, киндзой, но все перебивал праздничный хвойный дух разодетой, под самый потолок елки. Из окна виднелась снаружи еще одна ель, живая, тоже в крупных ярких шарах и золотых бумажных цепях, но самое на ней праздничное и веселое были не шары и игрушки, а ослепительно горящий на солнце снег на широких сочно-зеленых лапах.
Эли с Дыбасовым не было ни на террасе, ни в столовой. Иннокентьев их обнаружил в самой дальней комнате. Приоткрыв дверь, он увидел в щелку Элю, сидевшую с ногами на низеньком диванчике. Дыбасов шагал из угла в угол, подавшись на ходу вперед, словно рассекая тщедушным своим телом встречный ветер, и что-то настойчиво говорил, а Эля не сводила с него восторженных и вместе с тем испуганных глаз. Она и не услышала, как Иннокентьев открыл дверь, ей было не до него.
На душе у него вдруг погасло то праздничное и безоблачное, которым он жил все это утро. «Этого-то она полюбит не из жалости, наоборот…» — подумал он невольно и, по-прежнему не замеченный ими, тихо притворил опять дверь.
Расположились вокруг большого круглого стола на террасе, еда действительно удалась Ире на славу. Ели неторопливо, похваливая стол и хозяйку. Ружин утирал пальцы о собственную бороду. Все разомлели, подобрели, говорили смешные и трогательные тосты, смеялись беззлобно и от души, и только с лица Дыбасова не сходило выражение собственной особости. Да еще Эля сидела хоть тоже улыбчивая и смеющаяся каждой остроте, но — молчаливая, и временами Иннокентьев ловил на себе ее вопросительный, словно бы ищущий помощи и защиты взгляд.
К концу обеда, когда Ира подала на французский манер кофе, коньяк и сыр, за окнами уже загустела стеклянная синева сумерек, и лишь на заснеженных верхушках сосен еще теплился напоследок багровый жар уже невидимого солнца.
Митин предложил нехотя, словно бы подчиняясь неизбежному:
— Ладно, дамы пусть идут почивать, а нам надо поговорить о деле.
Женщины встали из-за стола и направились в комнаты. Настя остановилась в дверях, спросила у Дыбасова:
— Я — не нужна?
Он не ответил ей.
Мужчины остались вчетвером на террасе, потягивали коньяк, дымили сигареты, помалкивали, ожидая каждый, чтоб разговор начал кто-то другой.
Ружин осоловел от тяжкой сытости, время от времени погружался в благостную полудрему.
Первым не выдержал затянувшегося молчания тот же Митин, кивнул на растекшуюся квашней в кресле тушу Глеба.
— Ему нельзя столько есть, он тут же впадает в спячку, как удав, переваривающий кролика. Теперь от него никакого толку.
— Я не сплю, — Глеб выпростал из-под тяжелых желтых век свои глаза-буравчики, — я думаю. Всю жизнь мне приходится думать за всех вас. Что бы вы без меня делали?..
— Что же ты надумал за нас? — спросил Иннокентьев. На террасе было так накурено, что дым ел глаза, висел недвижными слоями в воздухе. — Поделись.
Дыбасов вскочил с места, заходил нервно из угла в угол, будто все это ему осточертело до смерти, ни с какого боку его не касается, и он не понимает, зачем он здесь.
Митин с беспокойством следил за ним глазами.
Ружин выплеснул из чашки остатки остывшего кофе, налил в нее коньяк, подумал, держа бутылку на весу, и долил до краешка, одним движением влил коньяк в глотку, и — о чудо! — сонливости и благорастворения в нем как не бывало, глазки засверкали азартным и недобрым огнем, борода встала дыбом.
— Дело надо делать, дело! Настоящее, а не погрязать в этой вашей мышиной возне!
Эти слова были просто смешны в его устах, Иннокентьев даже поморщился — сколько же можно обманывать себя и других?! Ведь именно отказ от какого бы то ни было дела и составлял основополагающий принцип ружинской жизненной позиции, предполагающей не собственные усилия и поступки, а усилия и поступки других, которых к тому же он еще и осуждает за бездействие. Он, Иннокентьев, именно что делает дело, работает в поте лица, и польза от этого не ему одному, иначе они не позвали бы его сейчас, чтоб молить о помощи и поддержке. А Ружин только и знает что полеживать целыми днями на вылезшей собачьей полости, трепаться часами по телефону, витийствовать в пространство, только бы не сесть за письменный стол. И все его, Ружина, никого и ничего не испепеляющие громы и молнии — залпы из елочных хлопушек…
Глеб меж тем разразился очередной филиппикой:
— Да! Никому не дано знать в жизни ли, в вашем ли поганом искусстве, что — настоящее, что — подделка, вранье. Знать не дано, умом или ученостью этого не объяснить, не доказать, для этого совсем другое нужно — глаз, ухо, душа… именно душа, открытая и отзывчивая, как душа ребенка. Чистая и бескорыстная — это в первую очередь!.. — Мысли его шли вразброд, он наверняка забыл, для чего они тут все собрались и чего ждут от него. Он вдруг стукнул красным кулаком по столу так, что задребезжали пустые рюмки, — А я не хочу! Увольте! Без меня, сделайте одолжение!.. В этом вашем собачнике, на этой ярманке, где берут обыкновенный грошовый воздушный шарик, дуют в него до посинюхи и объявляют стратостатом, дирижаблем, и самое смешное, самое гадкое — сами в это верят и готовы пуститься на нем в кругосветное путешествие… А когда дирижабль этот, шарик этот жалкий, лопается, вы же и бросаетесь топтать его ногами, рвать в клочья — мы говорили, мы предупреждали!.. И тут же. будто для ваших легких нет работы важнее и осмысленнее, кидаетесь надувать новый шарик… Не хочу!.. И стоит кому-нибудь сказать слово поперек, увидеть, как тот мальчик из сказки, что у короля-то задница наружу, как вы тут же объявляете его ретроградом, ипохондриком или в лучшем случае… — Он не находил нужного слова, пыхтя от натуги и дергая себя за бороду.
— Конформистом, — подсказал Иннокентьев и подумал, что Глеб, собственно говоря, нарисовал беспощадно и верно свой собственный портрет.
— Конформистом, именно! — обрадовался Ружин.
— И я, по-твоему, и есть образцовый конформист, — подлил масла в огонь Иннокентьев.
— В худшем смысле слова! — перегнувшись через стол, прошипел у самого его лица Ружин, — Потому что ты не только участвуешь в этом всеобщем собачнике, а сверх того еще и заставляешь верить в эту муть миллионы невинных людей, которые смотрят за неимением лучшего твою поганую передачу!
— Далась тебе эта передача! — взмолился Митин. — Мы же сегодня собирались совсем о другом…
— И потому еще, — не свернул со своей любимой дорожки Ружин, пожирая Иннокентьева остренькими глазками, — что ты-то как раз, в отличие от всех этих пикейных жилетов с замаранными от восторженного ужаса подштанниками, имеешь полную возможность сказать все, что знаешь и думаешь. Ведь захоти только, наберись только духу — и никто не посмеет схватить тебя за руку!
— Ну знаешь… — пожал плечами Иннокентьев, — что-то не замечал я в тебе прежде этого донкихотства… И если уж на то пошло, что же ты сам этого не сделаешь? — спросил и наперед знал, что услышит в ответ.
— Я?! — буравил его злыми глазками Ружин. — Я?..
— Ты, да. Ты.
— А я — молчу! Я замолчал! И мое молчание, будь уверен, услышано! Те, кто надо, очень даже услышали мое молчание! Можешь не сомневаться!
— Молчу — значит, существую? Что-то новенькое…
— Бывают обстоятельства, когда молчание…
— Ну да, — не дал ему договорить Иннокентьев, — Толстой — «не могу молчать», а ты — «не могу не молчать». Лихо придумано. По крайней мере, очень уютно. Молчу, чтоб услышали…
— Господи! — взмолился вконец истомившийся беспокойством и неизвестностью Митин. — Не о том же речь! Мы же хотели — как быть? Что делать?..
— Извечные российские вопросы без ответов… — пробормотал про себя из угла Дыбасов. — Еще надо бы — «кто виноват?»..
— Хватит! — завопил Ружин во все горло и вновь стукнул кулаком по столу. — Хватит!
— Посуду не бей, — безнадежно вставил Митин, но Глеб его не услышал.
— Хватит бояться собственной тени! Исходить потоком благородных слов и молча терпеть, когда все эти ремезовы и иже с ними залезают к нам в карман! Рвут подметки на ходу!
«Опять за свое принялся, — вчуже подумал Иннокентьев, — его кашей не корми, дай повоевать с ветряными мельницами… Ему-то как раз в карман никто и не залезет по той простой причине, что все знают, что у него давно за душой ни гроша. А решительные поступки он совершает только тогда, когда ходит с десятки бубен или объявляет пас. Но мы все равно внимаем ему как зачарованные и без него, пожалуй, почувствовали бы себя казанскими сиротами…» А вслух сказал нетерпеливо:
— Это все мы уже сто раз от тебя слышали. И насчет Ремезова мнение у всех достаточно единодушное, можешь не стараться. Игорь прав — что делать? Что каждый из нас может сделать?
— Вот именно! — подхватил с облегчением Митин, — Что мы можем?
— Вы хотите сказать — ничего?! — выскочил из своего угла Дыбасов. Слабые, хилые его ручки были сжаты в кулаки, и на них вздулись жесткие жилы, — Тогда зачем весь этот огород смехотворный городить с этими вашими страданиями, воплями, с этой жратвой, от которой дуреешь только?!
И опять забегал из угла в угол.
Митин смотрел на него затравленными глазами, и Иннокентьев подумал: «Что, если я все же откажусь от участия в этой катавасии со „Стоп-кадром“?.. А ведь они, и Дыбасов в том числе, Дыбасову это нужнее, чем всем остальным, только на меня и рассчитывают, один я могу попытаться что-нибудь сделать, — интересно, что он тогда запоет, этот доморощенный гений, Вольфганг Амадей этот со стиснутыми от бессилия кулачками, с него мигом слиняет вся его спесь…»
— Можно! — протрубил иерихонской трубой Ружин. — И должно! Надо только, чтобы эти двое виновников торжества, — он повел всклокоченной бородой в сторону Митина и Дыбасова, — не наделали в последнюю минуту в штаны. Не говоря уж о тебе, — покосился на Иннокентьева. — Больше ничего от вас всех и не требуется.
— Ну знаете! — бросил возмущенно на бегу Дыбасов.
Митин никак не реагировал, только устало прикрыл глаза ладонью.
— Так, — пресек краснобайство Глеба Иннокентьев, — Вопрос о полках, так сказать, правой и левой руки можно считать решенным — от них требуется всего лишь стоять насмерть, гвардия умирает, но не сдается. Насколько я понимаю Глебову диспозицию — в центре боя предполагается стоять мне. Так?
— Дмитрий Донской… — недовольно пробурчал Ружин, явно раздосадованный, что у него перехватили из рук верховное главнокомандование.
— Итак, что требуется от меня? — спросил его Иннокентьев в упор.
Дыбасов прервал свой беличий бег в колесе, кинул худое, костистое тело на стул у дальней стены, мрачно молчал, всем своим видом показывая, что лично он ничего хорошего от этого совета в Филях не ждет, и, что бы они ни порешили, он оставляет за собой свободу действий.
— Есть лишь одно бесспорное средство, — ответил за всех Ружин.
— Бесспорное… — недоверчиво пожал плечами Митин и отвернулся к окну.
Там уже стояла полная темень, и лишь фонарь, висевший на крыльце, празднично выхватывал из нее наряженную елку.
Слышно было, как смеются за затворенной дверью женщины, громче всех Эля, и Иннокентьеву пришло на ум — какого черта он сидит здесь и обсуждает до бесконечности то, до чего ему, честно говоря, нет никакого дела, вместо того чтобы быть с ней, любить ее и оберегать? А ведь именно о помощи и защите молили ее глаза, когда она за обедом встречалась с ним взглядом… Помощи — в чем? Защиты — от чего?..
Он плохо слышал, что говорил, рокоча басом, Ружин:
— …кстати говоря, мне бы это и в голову не пришло, не я это придумал, а Настя, только женский ум мог до этого додуматься. И все оказалось предельно просто.
— Просто… — опять простонал Митин, уставясь за окно.
— Ремезов вернется из Югославии не скоро, пока его нет — руки у нас развязаны…
— У нас — это значит: у меня? — Иннокентьева злило, что они обо всем договорились без него и за его спиной, ему отводилась всего-навсего роль послушного орудия.
Ружин будто и не услышал его.
— Тут главное — не терять ни минуты. Ты, — ткнул он указующим перстом в Иннокентьева, — снимаешь для своего «Антракта»…
— Вот и мой «Антракт» пригодился… — усмехнулся тот, но и его усмешка была тоже оставлена без внимания.
— …снимаешь репетицию «Стоп-кадра» и берешь у Дыбасова и у артистов интервью, из которого ясно, что Ремезов к спектаклю не имеет ни малейшего отношения. Черным по белому! И после того как передача выйдет в эфир и факт будет раз и навсегда засвидетельствован, он сможет нам только соли на хвост насыпать — поезд ушел. Все проще пареной репы!
Наступило долгое молчание. Иннокентьев понимал — они ждут, что скажет он.
А он не знал, что сказать. Нет, его отношение к тому, что собирался Ремезов сделать со спектаклем Дыбасова, было недвусмысленным, в этом он с ними со всеми нисколько не расходится, и план, сочиненный Ружиным — или Венгеровой, это ничего не меняет, — действительно разумен и прост. Но, в отличие от них всех, Иннокентьев знал, что это только со стороны план этот прост и немудрящ, а на самом деле между тем, чтобы снять любой сюжет для «Антракта», и тем, чтобы выпустить его на экран, дистанция не в дни, а в недели, даже в месяцы, а за это время Ремезов успеет не только вернуться в Москву и обо всем узнать, но и нажать на все кнопки, зазвонить во все колокола, сил и связей у него предостаточно, чтобы постоять за себя и стереть в порошок не только Дыбасова, но и Митина. И его, Иннокентьева, в придачу. Его-то прежде всех остальных — хотя бы потому, что именно его, Иннокентьева, руками они и собирались загребать жар.
Но с другой стороны, ситуация слишком вопиющая, слишком взбудоражившая всю театральную Москву, чтобы Иннокентьев без ущерба для своего доброго имени мог себе позволить умыть руки и отойти в сторонку. Да и Ремезов не может этого не понимать, он стреляный воробей, он ведь тоже не попрет на рожон за здорово живешь…
И он сказал:
— Что ж… волков бояться — в лес не ходить.
И по тому, как вскочил на ноги и тут же опять рухнул на стул Дыбасов, он понял, с каким нетерпением тот ждал его решения.
Ружин же отозвался небрежно и как о чем-то само собой разумеющемся:
— Наконец-то…
И только Митин заерзал в кресле и посмотрел на Иннокентьева с такой укоризной, словно бы надеялся и ждал от него совсем другого, а тот не понял и предал его.
Из двери выглянула Ира.
— Ну? Кончили совещание? Вы о нас совсем забыли! Новый же год!
Следом за ней вышла на террасу Настя, спросила с тревогой у Дыбасова:
— Все хорошо?
Дыбасов не ответил. Тогда она еще более нетерпеливо спросила у Иннокентьева:
— Все хорошо?
За ее спиной в дверях появилась Эля. Иннокентьев встретился с ней взглядом и ответил не Насте, а ей:
— Все хорошо. В смысле — море по колено.
На Элином лице мигом разлилась такая счастливая, такая радостная улыбка, что он с внезапной подозрительностью подумал — ей-то что во всем этом?..
Эля села рядом с ним, положила без стеснения ему голову на плечо, переспросила шепотом:
— Обо всем договорились, Боря?
Так вот о чем они с Настей и Ирой говорили так дружески и доверительно там, в лесу! Настя зря времени не теряла — и Элю завлекла в свои сети, лишний союзник на всякий случай!.. Какого рожна Эля лезет не в свое дело, в авантюру, которая ее не касается ни с какой стороны?! Не рановато ли?..
Едва сдерживая раздражение, спросил как можно безразличнее:
— О чем мы должны были договориться?
— Они все говорят, что, кроме тебя, никто не может ему помочь… — Она не подняла головы с его плеча.
— Кому — ему?! — Он резко убрал плечо. — И не лезь, куда тебя не просят!
Женщины потребовали внимания к себе, настроение у всех — да и Иннокентьев скоро отошел, смешно, право же, злиться на Элю, да и, собственно, за что? — опять поднялось, языки вновь развязались, Дыбасов неожиданно для всех стал изображать общих знакомых, показывать, тоже очень смешно и похоже, различных животных — верблюда, жирафа, пантеру, мула, — он обладал, оказывается, редким пластическим даром.
Включили магнитофон. Иннокентьев вдруг подумал, что он еще ни разу не танцевал с Элей, поднялся было пригласить ее, но Ружин, словно бы угадав его намерение, опередил его:
— Не соблаговолите ли, барышня…
Эля вопросительно взглянула на Иннокентьева, он улыбнулся ей и одобрительно кивнул. Она вышла из-за стола и подождала, пока выберется следом за ней неповоротливый, толстый Ружин, которому везде и всегда было непросто развернуться.
Однако, танцуя, Глеб совершенно преображался. Танцующий Ружин был несомненно одним из семи чудес света. Грузный — все сто двадцать с лихвою кило живого веса, — неповоротливый, неловкий, в танце он становился прямо-таки женственно-изящным и таким неистощимо изобретательным на немыслимые па, что трудно было узнать в нем того, кто обычно, кряхтя и отдуваясь, с трудом одолевал ступени лестницы.
Эля танцевала совсем не так, как он, — в ее движениях, резких и смелых, угадывалась угловатая, немудрящая манера подмосковной танцплощадки, тело ее послушно, сильно выгибалось, руки, поднятые высоко над головой, жили как бы своей отдельной, независимой от тела и ног жизнью.
За окнами стояли в вышине крупные, колюче-яркие звезды, на улице снег молодо и свежо поскрипывал под ногами гуляющих мимо дачи, вокруг фонаря на крыльце недвижно стояло радужное облачко изморози, с соседних дач слышна была музыка.
Когда, под утро уже, пришло время укладываться спать, Ира предложила не очень уверенно, боясь попасть впросак:
— Мы с Игорем ляжем у себя в спальне, в кабинете — Эля с Борей, а Роман и…
— В кабинете будем спать мы с Элей, — пришла всем на выручку Настя, — мы уже с ней договорились.
Митин посмотрел на жену с немым укором.
Ира была глуповата, все знали это и сочувствовали Митину, но тот любил ее покорно и преданно, и было ему с ней, как уверял он себя, хорошо. «Каждый народ достоин того правительства, которое имеет», — не уставал говорить по поводу четы Митиных Ружин. Впрочем, стоило Ире хоть самую малость выпить, как она мигом превращалась в простую и шумливую девчонку из Черкизова, какой она и была до того, как благодаря своим умопомрачительно длинным ногам стала манекенщицей Дома моделей, где ее и откопал в начале шестидесятых годов как раз в ту пору входивший в моду и начинавший преуспевать Митин. Она давно уже не работала манекенщицей, стала женой и хозяйкой, а друзей Игоря вполне примирили с ней отличная и обильная стряпня, радушное гостеприимство и почти исступленная, надежная, как круговая оборона, ее любовь к мужу.
— Тогда так, — нашлась она, — Настя и Эля — в кабинете, Глеб и Роман — в столовой, там как раз два дивана, а Боря тут, на террасе. Можно и иначе — Боря с Глебом, а Роман…
— Нет уж, — запротестовал Иннокентьев, — Глеб храпит, как паровой молот, уволь, Ира, с ним и под одной крышей-то не уснешь.
— Я не храплю, — всерьез оскорбился Ружин, — я просто дышу по системе йогов.
Когда расходились по своим комнатам, Иннокентьев попросил Митина:
— Дай чего-нибудь почитать, иначе я не усну.
— Бери, на полках в кабинете полно.
— Нет, — решил Иннокентьев, — ты мне дай свой «Стоп-кадр», освежу в памяти на сон грядущий.
Митин поглядел на него подозрительно, но пошел в кабинет, вернулся с хлорвиниловой папочкой:
— На пьяную-то голову…
Иннокентьев долго лежал, так и не раскрыв пьесу, — женщины то и дело пробегали в ванную, там шумел душ, гудел газ в колонке. Эля, ничего не говоря, молча ушла, а он подумал: довольна она, что спит от него отдельно, или обиделась, что он не настоял, чтобы она легла с ним, испугался, что его все осудят за это?.. Настя подошла к нему попрощаться, обдала, наклонившись, запахом крема, сказала:
— Спасибо. Ты и не знаешь, как я тебе благодарна. Ты просто большой молодец, Боренька. — И бесшумно ушла, прикрыв за собой дверь.
Вскоре все притихли, и только за окном гудели на низких басах сосны — видно, под утро поднялся ветер.
Сон не шел, и Иннокентьев принялся за пьесу Митина.
Года три или четыре назад, когда Игорь дал ему прочитать рукопись безо всякой надежды, что она когда-нибудь будет поставлена или напечатана, пьеса не слишком понравилась Иннокентьеву. Первое его чувство было недоверчивое удивление — всю жизнь, а были они дружны с Игорем без малого двадцать лет, Митин принадлежал к тем благополучным и удачливым драматургам, чьи сочинения, крепко и ладно сбитые, были, по меткому определению того же Ружина, «дамами, приятными во всех отношениях». Все в них было очень похоже на правду жизни, но правдой не было по той простой причине, что знание ответа как бы предшествовало, предвосхищало самый вопрос, вопрос подгонялся под уже готовый ответ, и потому они скорее утешали и укрощали беспокойную, изжаждавшуюся истины мысль, нежели будили ее. Но поскольку правдоподобие всегда удобоваримее правды, готовый ответ уютнее безответного вопроса, сочинения эти были обречены на неизбежный успех у публики и признание критики. Так было покойнее и удобнее для всех.
И вдруг Митин разрешился вот этим самым «Стопкадром», и все вокруг, в том числе и Иннокентьев, более того — даже Ружин с его безошибочной способностью угадывать раньше других все свежее и новое, развели в недоумении и недоверии руками: с чего это он? и откуда это в нем взялось?! Не говоря уж — зачем ему это?!
Митин не стал даже носить в театры и журналы новое свое детище — он и сам пребывал в не меньшем недоумении и растерянности, чем все остальные. И безмерно Удивился, когда года через два к нему пришел Дыбасов, попросил рукопись и на следующее утро позвонил и сказал, что будет ее ставить. А уж когда и сам Ремезов поддержал эту идею и включил пьесу в репертуар — тут-то все и заговорили о втором дыхании Митина.
Иннокентьев теперь уже плохо помнил пьесу и открыл ее в тайной надежде, в которой не признался бы и самому себе, — что она и сейчас ему не очень понравится.
Но с первых же страниц его захватило странное ощущение — и как он этого не вычитал, не понял три года назад?! — будто речь в этой пьесе идет о нем самом, о том, каким он был когда-то, и каким стал теперь, и что с ним сталось за эти годы. Нет, в ней не было ничего такого определенного, конкретного, что бы совпадало с событиями его собственной жизни, да и событий реальной биографии самого Митина в ней тоже вроде бы не угадывалось, но в интонации пьесы, в самом ее воздухе, что ли, ненавязчиво, но совершенно явственно и узнаваемо присутствовало то, что сделало их, Митина и Иннокентьева, тех почти позабытых уже, канувших в забвение шестидесятых такими, какими они стали теперь, в середине восьмидесятых. Иннокентьев поразился, как безбоязненно и не таясь Митин выносит на всеобщее обозрение, на всеобщий суд свою душу, смятение, недоумение свое перед жизнью, которая на поверку всегда и у всех не такова, какой мы ее ожидаем и какой ее себе наперед пророчим. И как он настойчиво, мучительно ищет в себе ответы на эти свои недоуменные, на семи ветрах, вопросы, и суд его над собой нелицеприятен и не принимает в расчет смягчающих обстоятельств. Над собой, но и над ним, Иннокентьевым, над их общим временем, и ему, Иннокентьеву, тоже велит ничего от себя не утаивать, не знать пощады…
Скрипнула дверь, и на террасу вышел босиком и в пижаме Митин.
— Извини, старик, так объелся, что…
Потом Митин долго мылся, отфыркиваясь и тяжко пыхтя. Вернулся на террасу, хотел было пройти в спальню, но передумал, присел на диван рядом с Иннокентьевым:
— Не спишь?
— Просвещаюсь, — Иннокентьев отложил в сторону рукопись.
— Знаешь, если уж совсем положа руку на сердце… — начал было Митин, но замолчал, отвернулся к темному окну, в котором оба, он и Иннокентьев, выхваченные из темноты светом настольной лампы, отражались в черном стекле, и это было похоже на старую, потемневшую от времени картину — «Драматург Митин у постели умирающего критика Иннокентьева».
— По-моему, все пока в порядке, — успокоил его Борис, — я уже прочел порядочный кусок.
— Я не о том! — нервно вскинулся Митин. Босые ступни его стыли, и он растирал их ладонью, — Тебе я могу признаться: я просто-напросто боюсь. Я-то знаю Ремезова, обиды он никому не спустит. Да и в конце концов, честно говоря, мне нужно что? Чтобы поставили — не важно кто! — этот проклятый «Стоп-кадр!» Ремезов, Дыбасов — какая разница?! Если отвлечься, конечно, от всякой этической чепухи… Так они-то нас чаще всего и предают, режиссеры, у них руки у всех по локоть в нашей крови!
— Но поставил-то не Ремезов, а Дыбасов, — не столько возразил, сколько подумал вслух Иннокентьев, — Хотя, с другой стороны, не благослови Ремезов своим авторитетом эту затею…
— То-то и оно! — подхватил, словно несказанно обрадовавшись этому обстоятельству, Митин. — То-то и оно! Этого тоже нельзя сбрасывать со счетов!
— Но поставил все-таки Дыбасов, тут уж тебе отступать некуда. Вся Москва уже гудит об этом.
— То-то и оно… — повторил Игорь, но уже не радостно, а с такой беспомощностью, что Иннокентьев невольно рассмеялся. — Мне спектакль, спектакль нужен! — почти простонал Митин, — А поссорюсь с Ремезовым — никакого спектакля не будет…
— Зато ты будешь жить с гордо поднятой головой, — не удержался от иронии Иннокентьев. — Это тоже на дороге не валяется.
— Слушай… — неуверенно сказал Митин после молчания, — а нельзя как-нибудь так, чтобы я… ну, одним словом, чтобы все это как бы помимо меня?..
— Выход есть, — Иннокентьеву неожиданно захотелось показать Митину, каков он сейчас со стороны: ведь не его бы пьеса — никакой этой сомнительной истории и не было бы, а теперь первый уходит в кусты!.. — Выход есть, и очень простой: забираешь из театра пьесу. Правда, в этом случае наверняка никакого спектакля не будет. Хозяин барин.
Митин посмотрел на него с таким ужасом, что Иннокентьев пожалел о сказанном.
— Волков бояться — в лес не ходить.
Но эта расхожая истина едва ли могла утешить Игоря. Он и не отозвался на нее, промолчал, потом сказал негромко и не глядя на Иннокентьева:
— А мне ведь не того, Боря, страшно — поставят, не поставят… Я ведь и не к таким камуфлетам приучен, хоть и, с другой стороны, жаловаться грех… Поставят, не поставят «Стоп-кадр» в театре — так ведь все равно он уже написан, и это не кто-нибудь, а я его написал — вот ведь что главное… А страшно мне, если уж говорить правду, совсем другого… — Он обвел глазами вокруг. — Вот этого всего, вот чего!
— Что ты имеешь в виду? — не понял Иннокентьев.
— Этого всего! — вдруг с тоской и ненавистью простонал Митин, — Благополучия своего — вот чего! Дачи этой, Иры с ее светской дурью, сытости, после которой, вот как я только что, блевать тянет, того, что я уже не представляю себе, как можно передвигаться по земле не в собственной машине… Привычки своей к благополучию, к комфорту не одной только утробы, но и души, черт вас всех побери!.. А ведь на это благополучие, которому на самом деле грош цена, надо вкалывать как ломовая лошадь, писать раз за разом дешевку какую-нибудь на потребу, дрожать от страха, как бы все это в один прекрасный день не вылетело в трубу… Себя мне, если уж начистоту, страшно, того, который об одном только и пекся всю жизнь, сколько себя помню, — об успехе, о деньгах, о том, чтобы не оказаться ненароком у разбитого корыта, чтоб не дай бог не записали меня в неудачники, шел с протянутой рукой на поклон к режиссерам, к публике: чего изволите? что пользуется спросом в нынешнем сезоне? над чем прикажете посмеяться, над чем слезу пустить?.. Прямо служба быта какая-то, фирма «Заря»!..
Иннокентьев даже испугался внезапной, на ровном, казалось бы, месте, бессвязной исповеди Митина.
— А вот теперь — этот «Стоп-кадр», будь он неладен! — лихорадочно шептал, чтобы не быть услышанным из-за двери, Игорь. — И ведь это я сам его написал, никто за рукав не тянул! И что бы ты или все вы ни говорили, а я знаю — это первая моя настоящая вещь!.. И вся беда в том, что теперь, после того как я ее написал, я уже никогда не смогу ни идти на поклон, ни врать, ни прикидываться, ни подделываться под общие вкусы… А публика-то проклятая обожает, чтоб потрафляли ей, пятки после обеда почесывали… Вот в чем дело-то! Вот чего мне страшно, Боря!.. Лучше бы уж я и вовсе не писал этой пьесы. Или пусть не поставят ее вроде бы ее и нету, никогда не было, может, я и сам о ней позабуду, если поднатужусь… И опять стану жить, как жил до сих пор, опять сочинять всякое дерьмо на продажу, а?..
Ветер за окном разгуливал вовсю, сосны уже не просто гудели, а трещали под его напором, бессильно стонали.
Приоткрылась узенькой щелкой дверь, в нее выглянуло Элино лицо.
— Ой!.. — испуганно вскрикнула она и хотела было прикрыть дверь, но Митин опередил ее, встал.
— Ладно, извини… Утро вечера мудренее. Извини. Спокойной вам ночи. — И притворил за собой дверь.
Эля тоже была босиком, в длинной, до пят, прозрачной ночной рубашке — Ириной, вероятно.
— Просто так вдруг захотелось к тебе… Ты не сердишься?
Он откинул одеяло.
— Иди.
— Нет, что ты!.. — испугалась она. — Услышат, тут же не стены — одно название… Да и Игорь меня увидел, неловко получится.
— Иди! — потянул он ее к себе за руку, — Плевать! Холодно, замерзнешь, иди.
— Я на минутку только… — слабо сопротивлялась она, — мне вообще в ванную надо было.
Он бережно прикрыл ее одеялом. Ступни у нее были совсем ледяные, как тогда, в Никольском.
Он выдернул штепсель из розетки, и сразу терраса погрузилась в непроглядную тьму, гул и скрип сосен за окном стали громче, тревожнее.
— Врешь, — он нашел в темноте ее губы своими, — ты не в ванную, ты ко мне шла. Зачем ты врешь?..
— Зачем спрашиваешь, — в перерыве меж поцелуями шептала она, — если сам знаешь?.. К кому же еще?..
— Соври еще, что любишь меня… — Он прижался к ней всем телом, нежности и умиления в нем было сейчас больше, чем желания.
— А вот и люблю, — очень серьезно отозвалась она в темноте, — что тут такого?.. Нормально.
— За что? — пытал он ее, обнимая еще нежнее.
— За что?.. — она лежала на спине, уставившись глазами в темноту, словно бы раздумывая над его вопросом.—
Не знаю… Нет, знаю, за что сегодня! За то, что ты не отказался.
— От чего? — не понял он.
— Я так труханула, что ты не захочешь… ну, помочь ему.
— Дыбасову?.. — догадался он и невольно ослабил объятия, отодвинулся от нее к стене. — Так ты из-за него?!
— Нет! — испугалась она и сама тесно прижалась к нему. — Нет!.. Он просто такой… такой, не знаю, как сказать, несчастненький, неприбранный какой-то, никому не нужный… и ручки, кулачки у него такие крохотуленькие, ну прямо ребенок… — И совершенно неожиданно тихо заключила: — И такой страшный…
— Страшный?.. — Он вспомнил ее испуганные глаза, когда, вернувшись из леса, открыл дверь в кабинет, где она была с Дыбасовым, — Ты боишься его?
Она ответила не сразу:
— Не его… Просто когда он говорит и глазки у него как двустволка делаются — вот-вот выстрелит! — страшно… Не его, а… не знаю, как и сказать… Не страшно, а… я, когда с ним вдвоем осталась, только и думала — скорей бы ты пришел, думала, еще немножко, и если ты не придешь…
— Что тогда? — спросил он и знал наперед ответ, которого сама Эля еще не знала, не догадывалась.
Она только еще теснее прижалась к нему…
Утром Иннокентьев проснулся оттого, что бушевавший всю ночь напролет ветер внезапно стих и все смолкло, словно вымерло.
Эли рядом не было.
За окном было уже совсем светло, но сумрачно и серо — за ночь ветер успел нагнать во все небо низкие тучи и стряхнуть с деревьев вчерашний праздничный снег, они стояли голые и пасмурные, хвоя их казалась почти черной, дорожка, ведущая от крыльца к воротам, поразившая вчера Иннокентьева трогательной белизной, была усыпана осыпавшимися от ветра иглами, и теперь снег был неряшлив и тосклив.
И давешней легкости и праздничности на душе у Иннокентьева тоже как не бывало. «Вот еще один Новый год… — подумал он. — А давно ли прошлый встречали?..»
За стеной послышался душераздирающий, из самых недр легких, утренний кашель Ружина.
7
Эля, не спрашивая согласия Иннокентьева, словно так и было условлено между ними, с самого утра засобиралась за ним на репетицию в театр, хотя ей там совершенно нечего было делать, да и само ее появление ставило его в неловкое положение: как ее представить хотя бы?.. Но он ей ничего не сказал.
В то утро ему пришло в голову несколько вычурное и рассмешившее его самого сравнение, этакий гиньоль: он — как старый, выезженный цирковой конь, всю жизнь бегавший по кругу манежа и которого, нежданно-негаданно выпустили из конюшни, где у него было вдоволь душистого сена и свежего овса, на волю, на зеленый простор, под голубое небо, — и он разом захмелел от этой зеленой и голубой нестреноженной воли, голова пошла кругом, солнце слепит глаза.
Он не удержался, спросил себя чуть ли не вслух:
— Уж не счастлив ли ты, черт тебя побери?!
В служебном подъезде театра их ждала помощник режиссера, немолодая женщина, обвязанная вокруг талии серым оренбургским платком, провела пустыми, тускло освещенными коридорами из фойе в зал, у входа в который на низенькой, крытой истершимся синим бархатом банкетке сидела, дожидаясь Иннокентьева, Настя Венгерова. Увидев его, встала, быстро пошла навстречу.
— Здравствуй, Боря, — коснулась вскользь прохладной щекой его лица, — к сожалению, я не смогу сидеть с тобой, у меня другая репетиция. Но самое ужасное, что весь театр уже знает, что ты здесь, у нас ничего нельзя утаить… Герасимов уже закатил Дыбасову истерику — как посмели без его разрешения…
Герасимов был директор театра, но он ничего не решал, единовластным хозяином был сам Ремезов. Директор смертельно боялся его и — это было известно всем и каждому — только и ждал, чтобы тот на чем-нибудь споткнулся. Герасимова можно было не принимать в расчет — если он и не возьмет сторону Дыбасова в этой ситуации, то и не слишком будет стоять на страже интересов Ремезова.
— Я очень на тебя надеюсь, Боря, говорила Настя вполголоса, словно боясь быть подслушанной кем-то, хотя, кроме них двоих да еще Эли, никого в темном фойе не было, — Тебе наверняка понравится, ты все поймешь и сделаешь как нужно… — И так же торопливо, не попрощавшись, ушла. Элю она будто и не узнала, не увидела.
Иннокентьев вошел вслед за помрежем в пустой и едва освещенный, отчего он казался гораздо обширнее, чем при полном свете люстр, зрительный зал. Сцена и вовсе тонула в зыбком полумраке. Единственным ярким пятном светилась лампа на столике режиссера в среднем проходе партера, но за столиком пока никого не было. Лишь в задних рядах угадывалось несколько разрозненных фигур, размытых темнотой.
Еще со студенческих лет, когда он, проходя на старших курсах практику, изо дня в день просиживал часами на репетициях в различных театрах, Иннокентьев полюбил напряженную тишину этих предрепетиционных минут, ожидание и смутное волнение, перед тем как на полуосвещенную сцену выйдут актеры — еще не загримированные, с будничными лицами, в мятых, затрапезных джинсах и свитерах, с тетрадками еще не выученных ролей в руках, рабочие, тихо переговариваясь, еще устанавливают и передвигают выгородки и мебель, реквизиторы в войлочных тапочках бесшумно расставляют бутафорские цветы и тарелки с муляжными куропатками, осветители в ложах верхнего яруса, перебрасываясь вполголоса репликами через весь зал, устанавливают свет, проверяют свою аппаратуру радисты, и душа твоя полнится предвкушением тайны и чуда, когда все это — свет, звуки, голоса и лица оживут, сольются воедино, обретут высший, небудничный смысл и ты подчинишься ему с покорностью и восторгом: «…над вымыслом слезами обольюсь».
Как почти все профессионалы, Иннокентьев репетиции любил больше, чем спектакли с их аплодисментами и раздражающим шуршанием конфетной фольги, с торопливо убегающей, не дожидаясь последней реплики — и так все ясно! — в гардероб за пальто публикой. Репетиция — это и есть театр, его истинная, открытая только посвященным жизнь, искания, промахи, истерики и счастливые и редкие обретения.
Когда-то, в дни молодости и славы Ремезова, на его репетиции сбегалась вся театральная Москва: артисты из других театров, студенты, критики и просто «болельщики», — и то, что в последние годы зал на его репетициях был пуст, более всего прочего свидетельствовало, что время его ушло.
Они прошли почти на ощупь в зал, уселись в нескольких рядах позади режиссерского столика. Из-за кулис доносились чьи-то приглушенные голоса.
— Темнотища какая!.. — испуганно прошептала ему на ухо Эля, но шепот ее, подхваченный чуткой тишиной, был слышен во всем зале. — Так полагается?
— Тише, — предупредил он ее, — на репетициях еще полагается сидеть молча.
— Страшно… прямо аж жуть!..
— То ли еще будет, — рассеянно отшутился он.
В зал быстрыми, нервными шагами вошел Митин, остановился в светлом проеме двери, привыкая к темноте.
— Игорь! — позвал его, обернувшись, Иннокентьев. — Я здесь!
Митин подошел к нему, шаркая по полу ногами, чтобы не оступиться, сел в кресло позади.
— Сейчас начинаем, — сказал он, позабыв даже поздороваться. — Роман дает последние указания артистам. Кстати, Герасимов тебя не перехватил на ходу?.. Он еще со вчерашнего дня — кто-то, естественно, настучал ему — впал в полное беспамятство от страха. Может быть, — предположил Митин с надеждой, — он просто не пришел сегодня в театр, решил умыть руки?.. У него ведь тоже свои счеты с Ремезовым.
— А вы не бойтесь! — опять слишком громко, так, что ее услышали и в задних рядах, прошептала, обернувшись к нему, Эля, — Что вы прямо-таки, Игорек, всего на свете боитесь!..
— Ничего я не боюсь! — отмахнулся тот от нее и раздраженно упрекнул Иннокентьева: — А ты к тому же пришел еще и не один!..
Со сцены по крутой приставной лесенке сбежал в зал, словно возникнув из сумрака кулис, Дыбасов, решительно прошел к своему столику, свет лампы выхватил из темноты его лицо — теперь на нем не было и тени растерянности или брюзгливого высокомерия, оно выражало лишь волю, сосредоточенность и власть.
Он даже не оглянулся на сидящих за его спиной Иннокентьева и прочих, они для него сейчас просто не существовали, он жил в ином, отдельном от них и недоступном им мире. Отчетливо и твердо сказал в микрофон:
— Начинаем! Прошу всех приготовиться! Все на местах? Надежда Ивановна, вы меня слышите?
Из-за кулис выглянула та самая женщина, обмотанная оренбургским платком, которая встретила Иннокентьева на служебном ходе.
— Я слышу, Роман Сергеевич. Все готовы.
— Андрей! — требовательно и властно выкликал своих помощников Дыбасов.
— Порядок, Роман Сергеевич! — ответил ему с верхнего яруса осветитель.
— Петя!
— Здесь! — отозвался усиленный динамиками голос из радиорубки. — Можно, Роман Сергеевич, я вступление для верности прокручу, вчера переписал на новую пленку?..
— Раньше проверять надо было! — жестко оборвал его режиссер.
Вдруг Иннокентьев услышал у самого уха чей-то настойчивый шепот:
— Борис Андреевич, вас очень просят пройти прямо сейчас к директору. Иван Федорович сказал — непременно. Я вас провожу.
Иннокентьев повернул голову — рядом, наклонившись к нему, стояла какая-то девушка, лицо которой он в темноте разглядеть не мог, вероятно, секретарша Герасимова.
Но самое странное было то, что ее шепот расслышал и Дыбасов за своим столиком. Он приказал в микрофон голосом, не терпящим возражений:
— Начинаем! Откладывать репетицию не будем ни на минуту. Дирекция пусть занимается своими делами, нас это не касается. Надежда Ивановна, начинайте. Полная тишина. Вырубите свет!
Зал погрузился в совершеннейшую темноту, и стало так тихо, что Иннокентьев услышал, как бьется его собственное сердце.
И вот в этой-то тишине Митин настойчиво зашептал ему в ухо, и шепот его конечно же был слышен всем:
— Пойди! Я прошу тебя, пойди! Пока не поздно!..
Иннокентьев встал — Митин был прав, не время дразнить гусей. Попросил девушку:
— Давайте вашу руку, я ничего не вижу. Идемте. — Нашел в кромешной тьме ее руку, пошел за нею к едва теплившейся красными угольями надписи «Выход» над дверью, на пороге оглянулся: на сцене угадывалось молчаливое движение актеров, сдерживаемое их дыхание. Одиноко горела в темной пустоте зала пригашенная козырьком лампа на столе Дыбасова.
Когда они вышли в коридор, прикрыв за собою дверь,
Иннокентьев повернул было направо — он знал, где расположен кабинет директора, — но девушка остановила его:
— Не туда. Иван Федорович ждет вас в верхнем фойе.
И первой пошла вверх по лестнице.
В обширном и пустом фойе, сумрачном оттого, что высокие окна были забраны плотными шелковыми портьерами, мелкими, семенящими шажками ходил из угла в угол в совершеннейшем одиночестве невысокий и плотный человек в тяжелом драповом пальто, размахивая на ходу рукою с зажатой в ней меховой шапкой. Подойдя впритык к стене, он резко останавливался, упираясь взглядом в тесно развешанные на ней фотографии артистов, словно видел эти лица впервые, и внимательно изучал их, затем так же резко поворачивался на каблуках и быстро шел к противоположной стене, чтобы вновь впериться глазами в портреты других актеров.
Секретарша окликнула его:
— Иван Федорович!
Прежде чем подойти к Иннокентьеву и поздороваться, он коротко велел ей:
— Идите, Нина, и если мне будут звонить — меня в театре сегодня вообще не было, поняли? — И только после этого протянул руку Иннокентьеву. — Простите, что я на ходу, не в кабинете, Борис Андреевич, но так лучше, вы сейчас поймете… — Огляделся вокруг, ища глазами, на что бы присесть, но в фойе не было ни одного стула или банкетки. Герасимов огорчился, развел руками, — И даже сесть не на что, придется на ногах, уж извините.
Иннокентьев пожал ему руку, но сказать ничего не сказал — Герасимов сам вызвался на этот разговор, вот он-то пусть первый и начинает его, торопиться некуда, разве что на репетицию, хотя едва ли Дыбасов, несмотря на свою угрозу, начнет, не дожидаясь его, Иннокентьева.
— Давненько к нам не заглядывали, Борис Андреевич, за весь сезон ни разу, а тут вдруг на репетицию, а?.. — И вопросительно посмотрел снизу вверх на Иннокентьева.
— Служба, — пожал плечами тот, — каждый вечер какое-нибудь событие, разве поспеешь за всем?
— А сегодня? — не удержался Герасимов, но тут же поспешил разъяснить свою позицию: — Право режиссера — приглашать на репетицию кого угодно, тем более вас. Но я как директор… — Однако не договорил, перескочил на то, что, по-видимому, волновало его больше всего: — Я к одиннадцати тридцати вызван в министерство, в театр заехал совершенно случайно, даже не собирался, так что мог бы и не знать, что вы здесь… — И опять покосился на собеседника.
Ему надо помочь, бедолаге, подумал про себя Иннокентьев, вон как холодным потом исходит от растерянности, не знает, на чью сторону встать, что ему выгоднее… Протянем же руку утопающему.
— Что ж, — сказал он вслух, ободряюще улыбнувшись Герасимову, — будем считать, что мы и не встречались. Действительно, что это за разговор — на ходу, на бегу?.. Тем более что я сегодня с неофициальным, как говорится, визитом — просто Дыбасов хотел посоветоваться по старой дружбе, только-то.
— Да и Ремезов в отъезде, а без него, без Аркадия Евгеньевича, вам и самому, наверное, неинтересно… — И опять не удержался, спросил с надеждой: — Вы ведь без аппаратуры приехали, снимать сегодня не собираетесь?.. А то без Аркадия Евгеньевича…
— А я вообще пока не знаю, буду ли снимать этот спектакль. — Но добавил со значением, не надеясь на сообразительность Герасимова: — Хотя, если по правде, все ждут с нетерпением этого опуса Дыбасова. — И особо выделил фамилию режиссера. — Так что рано или поздно…
— Конечно, конечно, — заторопился Герасимов, — хотя все пока сыро, у Аркадия Евгеньевича еще перед отъездом были соображения, замечания, а как вернется, его слова, — засучит рукава и…
— Естественно, — подхватил на лету его мысль Иннокентьев, — главный режиссер, кому, как не ему, помогать молодым встать на собственные ноги?! Святое дело.
— Святое дело?! — вдруг вскинулся, позабыв об осторожности и дипломатии, а также о только что вымоленном у Иннокентьева алиби на случай гнева Ремезова, пошел пятнами Герасимов, — Это для Ремезова-то?! Не смешите! Да он всех молодых — под корень, под корень, никто больше одного спектакля не успевает поставить! А если к тому же успешно, так наш Наполеон — его в шею, да еще таких собак навешает, что ого-го!.. Он их только в подмастерьях и терпит, а потом приходит за две недели до премьеры, пройдется рукой мастера, наведет блеск, и все в один голос — Ремезов, Ремезов!.. А уж критики, прости господи, — не примите, конечно, на свой счет — прямо-таки на цырлах ходят, стоит Ремезову чихнуть, как готово: новое слово, корифей сцены!.. А нахлебались бы они этого самого корифея изо дня в день, как я… И все как с гуся вода — Ремезов есть Ремезов, талант, а таланту все позволено, если талант, так ему, видите ли, море по колено, нишкни… Так он и даст вашему Дыбасову зеленую улицу, ждите! Да и со мной, вы думаете, он стесняется? Да если он узнает, что вы были на репетиции и что я с вами вообще разговаривал…
— А мы с вами и не разговаривали, Иван Федорович, — успокоил Иннокентьев расходившегося — видно, уж так-то накипело на сердце у бедняги, уж так-то допек его Ремезов, — вспотевшего от собственной слепой храбрости Герасимова, — вы же с утра были в министерстве. Да и репетиция давно началась, а меня в зале и нет, так что… Вы не опоздаете к начальству, Иван Федорович? Двадцать минут двенадцатого…
Герасимов, вдруг ужаснувшись всему им выплаканному, просто-таки на глазах изменился в лице.
— Вы правы, вы правы… И вообще… Да и при чем тут вы, при чем я?! Это их дела, Ремезова и Дыбасова, своих забот у меня, что ли, не хватает?! — И, сунув Иннокентьеву горячую ладошку, понесся прочь, на ходу приговаривая: — Только этого мне недоставало!..
Иннокентьев спустился вниз, подошел к дверям зала, прислушался: Дыбасов сдержал свою угрозу — репетиция шла полным ходом.
Слов из-за двери было не расслышать, и, может быть, именно поэтому интонации актеров, их голоса — мужской и женский — казались Иннокентьеву такими безыскусно, неотразимо правдивыми, каждое слово рождалось мыслью, искренним чувством и в свою очередь рождало ответную мысль и чувство, и это давалось им непросто, оплачивалось сердцем, верой, болью, неутолимой жаждой выговориться до конца, докопаться до истины…
Иннокентьев подумал, что, стоя за дверью, он как бы подслушивает чужую живую жизнь, становится невольным свидетелем того, что ему заказано, что принадлежит только тем двоим за дверью, и знай артисты, что кто-то их подслушивает, они не стали бы говорить так откровенно, замолчали бы…
И вдруг ему до галлюцинации отчетливо послышался из-за двери его собственный голос, его и ее, Лерин, это они, он и она, тогда, той осенней ночью, говорят и никак не могут выговориться и примириться с неизбежным, потому что в обоих еще не совсем погасла надежда, что все еще можно поправить, повернуть вспять, все можно еще простить и начать сначала…
Он рывком открыл дверь и, как в ночную реку, погрузился с головой в темноту зала. Он не стал пробираться на прежнее свое место, сел в ближайшее от двери кресло.
Нет, это были всего-навсего актеры, искусные скоморохи, калифы на час, на один вечер…
Не отрываясь, он с жадностью смотрел на сцену, послушно покоряясь тому, что на ней происходило, и вместе другой, трезвой какой-то мыслью думал о том, как хрупко и непрочно их искусство, как бренно, коротко: сойдет спектакль, выкинут его из репертуара — и забудется, испарится из памяти, как не бывало…
И еще он вспомнил — давнее, чудом всплывшее со дна памяти: пятьдесят седьмой год, первый Московский фестиваль молодежи, он еще желторотый студент-первокурсник, через всю Москву, от ВДНХ до Парка культуры, протянулось пестрое карнавальное шествие — скоморохи, ряженые жонглеры, акробатки в коротеньких юбочках, слоны под бархатными чепраками, верблюды, ослики с высокими султанами из перьев, медное ликование оркестров. На огромных платформах — гигантские муляжи, картонные клоуны-великаны, рыжие, зеленые, небесно-лазоревые, оранжевые, с застывшими на лицах веселыми, во весь рот, улыбками, на их могучих плечах из папье-маше били в бубны, плясали, пиликали на скрипочках настоящие, живые клоуны с такими же застывшими от уха до уха страдальчески-смешными ухмылочками, что и у картонных их собратьев.
На следующий день после закрытия фестиваля Иннокентьев бог весть какими судьбами оказался в Сокольническом парке, с ночи моросил неслышный дождик, в воздухе пахло близкой уже осенью, нежданно, за одну ночь, проглянули в зелени деревьев первые желтые листья, он вышел Майским просеком на небольшую поляну и увидел их, недавних весельчаков, ушлых картонных великанов: их свезли сюда, свалили в кучу — ненужных, отсмеявших свое, они лежали вповалку в неловких, унизительных позах, дождь смывал с них румяна и позолоту, по поблекшим щекам стекали ручейками мишурные слезы. Их даже не вывезли на городскую свалку — о них просто забыли, и им самим, наверное, теперь казалось, что не было никогда веселого карнавала, не было бубнов и гармоник, слонов и наряженных осликов — ничего не было, да и были ли они сами?..
— Антракт! — громко объявила из-за кулис Надежда Ивановна и, наполовину высунувшись оттуда, спросила Дыбасова: — Перерыв полчаса, Роман Сергеевич?
— Нет, отпустите всех! На сегодня хватит, всем спасибо! Все работали на совесть, спасибо! Замечания завтра перед репетицией. Все свободны.
Надежда Ивановна отозвалась послушным эхом:
— Все свободны, товарищи!
На сцене появились монтировщики, стали молча и споро разбирать оформление, устанавливать декорации вечернего спектакля.
Иннокентьев пересел на прежнее место, рядом с Элей.
Дыбасов встал из-за своего столика, на ходу сказав громко для тех, кто сидел в глубине зала:
— Извините, но посторонних прошу выйти. — Сел в кресло в одном ряду с Иннокентьевым, по другую сторону прохода.
Эля тоже хотела было выйти из зала, но Дыбасов остановил ее:
— Вы останьтесь, что за дела! Мне как раз интересно, что вы скажете.
Она послушно опустилась в кресло.
За спиной Иннокентьева нервно ерзал Митин.
Никто не начинал разговора. Первым не выдержал Игорь, взмолился:
— Ну? Что ты тянешь резину, Боря!
Его перебил Дыбасов, и Иннокентьев поразился спокойствию и твердости его голоса, словно бы речь шла вовсе не о его спектакле и ему наплевать, что о нем скажут:
— Начнем с Эли, как говорится, глас народа — глас божий. Она здесь единственный нормальный зритель, для которого мы, собственно говоря, и стараемся. Валяйте, Эля, невзирая на лица, мы с Игорем не обидимся.
— Я?! — испугалась она. — Смеетесь, что ли?!
— Нимало, — настаивал Дыбасов. — Как на духу, ладно?
Все молчали, ждали, что она скажет: Дыбасов — очень серьезно и спокойно, Иннокентьев — с неожиданной для него самого тревогой, Митин — едва совладал с досадой.
Она ответила, за бойкостью скрывая замешательство:
— А не то скажу, еще обидитесь… — И тут же спросила не то с удивлением, не то жалостливо: — Как это вы только можете?..
— Что именно? — строго настоял Дыбасов.
— Ну… вот так про себя… вот так прямо?.. Ладно сейчас пусто, никого в театре, а потом-то народу придет, тыща человек набьется, а вы перед ними — вот так нараспашку…
— Неплохо для начала, — поощрил ее Дыбасов. — Но почему ты решила, что — про нас?
— Про всех, — ответила она тихо, так, словно бы рядом никого не было. — Может, даже и про меня тоже…
— Что именно? Про тебя хотя бы — что?
Она ответила не ему, а самой себе:
— Всем чего-то не хватает, чего-то нужно, а — чего?.. Разве про это словами можно? А вам все равно — вынь да положь… — Помолчала, потом добавила задумчиво: — Про то, что нельзя врозь, поодиночке, — верно?.. — И посмотрела на них на всех с ожиданием, словно бы от того, угадала она, чего от нее требуют, или не угадала, зависит что-то очень важное для нее, и если угадала, то и все остальное станет понятным и простым и, значит, больше не будет пугать неопределенностью.
— Вот так-то! — выдохнул с облегчением Дыбасов и повернулся вполоборота к Митину. — Чего тебе еще надо?!
Но Митин не поверил Эле:
— Тебе не было скучно?.. Или неинтересно? Ты говори все как есть!
Она опять ответила не ему, а как бы самой себе:
— Вообще-то я люблю, чтоб — музыка, ритмы, звезды эстрады… а тут… Даже сама не знаю. Прямо сердце до сих пор не на месте!..
Дыбасов встал, пробрался к ней по тесному проходу меж кресел, взял ее руку, поцеловал, сказал без тени иронии:
— Жаль, тут не развернуться, а то бы я и на колени встал. — Сел рядом, не выпуская ее руки из своей, спросил Иннокентьева — Глас божий мы уже слышали, теперь дело за критикой.
— Вы хотели сказать — за дьяволом? — попытался выиграть время Иннокентьев. То, что ему показали сегодня Митин и Дыбасов — ему, прожженному профессионалу, съевшему на этом деле собаку скептику, которого ничем, казалось бы, уже не удивить, не сбить с толку! — он увидел таким же свежим, не замутненным долгим опытом глазами, услышал таким же не защищенным всезнанием слухом, как и далекая от театра, ничего в нем не смыслящая Эля. И — теперь твердо знал он — это-то и было самое главное, самое дорогое в пьесе Митина и спектакле Дыбасова.
Эля по-своему истолковала его молчание и, словно бы испугавшись, быстренько убрала свою руку из руки Дыбасова, откинулась на спинку кресла, как бы уйдя от них совсем и оставив их только втроем.
Молчать дольше было нельзя, и Иннокентьев сказал лишь то, ради чего, собственно, его и позвали сюда и чего от него ждали:
— Короче говоря, я — с вами. Игра стоит свеч. Повоюем. Как, каким образом — подумаем, сообразим. Но то, что этот спектакль нельзя никому уступить, в этом, Роман, — он и сам не заметил, как в первый раз за все время их знакомства назвал Дыбасова по имени, — в этом вы можете быть уверены. Я, во всяком случае, уверен. И, как говорится, прочь сомнения. И страхи заодно, это я уже тебя имею в виду, Игорек. Дело стоящее, без обмана.
— Что ж… — сказал после молчания Дыбасов, — спасибо. — И, не без усилия над собой, тоже впервые назвал Иннокентьева по имени: — Я рад, Борис, что вам это показалось. А как и каким образом…
— Ну уж хотя бы об этом давайте не здесь! — спохватился Митин. — Тут не то что у стен — у каждого кресла такие уши, что… И так вон Герасимов уже в курсе, а то, что он тут же сообщит Ремезову…
— Так Ремезов-то ваш в Югославии или где там еще… — робко вставила Эля.
— А хоть в Антарктиде! — замахал руками Митин, — За этим дело не станет. Поедемте ко мне или еще куда-нибудь, не важно, только не здесь.
— А давайте к Глебу, — предложила Эля. — Тем более он ведь тоже собирался сегодня сюда, а не пришел, может, случилось что-нибудь? По-моему, нормально, а?..
Отсутствие Глеба на репетиции объяснялось очень просто — Иннокентьев высказал это предположение еще по пути на Бескудниковский бульвар: весь вчерашний день и всю ночь он играл в карты, неожиданно составилась серьезная пулька с настоящими — мужскими, как выразился ничуть не мучимый угрызениями совести Глеб, — ставками, не по мелочи. На столе и на полу валялись лоснящиеся лаковыми рубашками новенькие карты — Ружин и его постоянные соратники неизменно играли, как он сам это называл, по-гусарски, то есть перед каждой пулькой распечатывали новую колоду.
По дороге они заехали в Елисеевский, настроение у всех было приподнятое, даже Митина отпустили его вечные сомнения, даже всегда насупленный Дыбасов отошел, помягчел.
Тем угрюмее выглядел рядом с ними еще не пришедший в себя после бессонной ночи и крупного проигрыша Ружин.
Но при виде нежданной выпивки и в предвкушении, стало быть, верного повода повитийствовать и воспарить мыслью он просветлел, пошел в ванную, принял ледяной душ, надел свежую сорочку и вышел к гостям, готовый начать жизнь сначала.
— Ну-с, как произведение? — спросил он, выходя из задней комнаты, тоном совершенно деловым и требовательным, но по тому, как плотоядно потирал руки, было ясно, что, прежде чем он выпьет и закусит, ни о чем постороннем и речи быть не может.
Эля принесла с кухни дымящуюся кастрюлю густого, как деготь — по ружинскому «персидскому» рецепту, — кофе. Глеб, утоливший жажду и умиротворенный, дал наконец волю своему красноречию:
— Не то удивительно во всей этой истории, что Игорь позволил себе в кои-то веки написать стоящую, серьезную вещь. А вот от чего действительно только и остается что развести руками, так от того, что нашелся режиссер, который это усек и подхватил на лету. Я-то был убежден по горькому опыту, что эти прохиндеи — не принимай на свой счет, Рома, — эти бойкие мальчики на все руки не скоро сообразят, что к чему. Ведь если уж называть вещи своими именами — извини опять, Рома, — так хуже режиссеров в пьесах, да и вообще в печатном слове, разбираются разве что записные критики.
— В том числе и… — не удержался Иннокентьев.
— И ты, — не дал ему договорить Ружин, — Ты-то у нас критик действующий, даже, прямо скажем, с избытком. А я вот вовремя бросил это позорище.
— Кстати, — вставил Митин, — то ли по-сербски, то ли по-старославянски театр так и называется: позориште.
— Наши предки были не дураки, — ухватясь за его слова, взмыл в поднебесье Ружин, — если уж припечатывали словом, так и насмерть. Именно что позорище! Этой публике, режиссерам, ведь что маслом по сердцу? Либо то, что как две капли воды похоже на нечто, что уже имело успех вчера, либо такое, на что критики объявили моду на нынешний сезон. Мода — вот на что у них чутье срабатывает безошибочно. В этом сезоне носят мини, в этом — макси, для молодежи — джинсы-бананы, для пенсионеров — бабий или там вдовий платочек. Всем сестрам по серьгам — эту истину они усвоили на всю жизнь, как таблицу умножения. А разглядеть, распознать новое, свежее, над чем еще надо голову поломать, — увольте!
— Это правда, — очень серьезно подтвердил Дыбасов. — Такое оно и есть — позорище. И его надо постоянно, ежечасно жечь с четырех сторон!
— Странно это слышать именно от вас, — не поверил ему Иннокентьев. — Если это не кокетливая поза, конечно. Мне казалось, вы как раз из тех, кто свято предан театру.
— Предан, — кивнул согласно Дыбасов. — И предан им, сверх того. Простите за дешевый каламбур. — Но ничего объяснять не стал.
— А я вот до-олго любил театр… — ностальгически протянул Митин. — Собственно говоря, я ничего, кроме театра, и не любил. Хоть и унижений от него натерпелся — не счесть…
— Чтобы хоть что-нибудь в театре сделать, хоть чего-нибудь добиться, его надо ненавидеть! — неожиданно вскинулся опять Дыбасов. — Ненавидеть люто, до головокружения! — Он встал из-за стола, подошел к окну, говорил, стоя к остальным спиной, и то, как он это говорил, с какой холодной, давно выношенной яростью, — в этом не было ни позы, ни лжи, — Можно любить только тот театр, который ты сам строишь, который будет когда-нибудь потом, после тебя, может быть. А то, что сегодня само дается тебе в руки и не требует ни жертвы, ни сомнений, — это нельзя любить. Упиваться успехом, обольщаться похвалами дам-критикесс в седеньких кудельках — тут тебе и крышка! А еще менее любить надо публику! Стоит тебе поверить ей, захотеть ее любви и признания — ты уже не на себя будешь пахать, не на театр, каким ты его хочешь, а на нее, и стоит ей только это в тебе учуять, эту твою слабину, — тут уже она твой полный хозяин, твой деспот и тиран, тут-то уж она тебе ни за какие коврижки не простит, если ты вдруг изменишь ей, то есть захочешь измениться сам, если осмелишься предстать перед ней не таким, к какому она привыкла, притерлась, какой ты ей приятен. Тут она пощады не знает! — Помолчал недолго и сказал спокойнее, но и горше, трезвее: — Это ведь далеко не одно и то же — публика и народ…
— А где та черта, по-вашему, где кончается публика и начинается народ? — спросил с внезапным раздражением Иннокентьев и тут же пожалел о своем вопросе: у кого он есть, ответ на это?..
Но Дыбасов молча глядел в окно.
— Странное у тебя настроение, Роман… — сказал после паузы Митин, оглянувшись на остальных и ища у них поддержки. — Именно сегодня, когда все так хорошо… когда Борису вот понравилась репетиция… Откуда в тебе именно сейчас эта, извини меня, мировая скорбь?
— Конечно! — выпела своим низким, хрипловатым голосом Эля, и все удивленно оглянулись на нее, но она ничуть не смутилась, словно эти их мужские дела теперь касаются ее не меньше, чем всех остальных. — Ведь все так замечательно нормально!..
— Я понимаю Романа, — важно вставил Ружин. — Чего и надо бояться умному человеку, так это своих побед. Поражение ни к чему не обязывает, можно плюнуть на него и начать все сначала. А вот победа — хотя до полной победы вам, господа хорошие, еще ого-го как далеко! — победа неумолимо навязывает тебе роль победителя, а с победителя совсем другой спрос, теперь-то он уже не принадлежит самому себе.
— Не будем об этом и заикаться! — поспешил Митин. — Я суеверен. — Трижды постучал костяшками пальцев по столешнице. — И вообще не будем делить шкуру неубитого медведя. Тем более такого, как Ремезов. Вы что, сбросили его со счетов?
— Какая там победа… — тихо и как бы самому себе сказал, глядя в окно, Дыбасов. Потов повернулся к ним, и лицо его было усталым и изможденным. — Поздно… Все приходит слишком поздно. Пока будет тянуться неделями, месяцами эта глупая возня, пока я буду бороться с ветряными мельницами, мне этот проклятый спектакль успеет осточертеть, встанет поперек горла. Пока он увидит свет божий, сам-то я переменюсь, изменюсь, да так, что и сам себя не узнаю. Мне захочется совсем другого, как вы не понимаете?! Все мы меняемся день ото дня… Когда выйдет этот спектакль, все меня увидят в нем таким, каким я был полтора года назад, когда начинал его, а я уже сейчас стал совсем другим. Мне уже стоит неимоверных усилий не послать все к чертовой матери, зачеркнуть и забыть, как наивный детский лепет, и начать все сначала! Но именно этого-то я и не могу себе позволить, никто мне этого не позволит. Ни дирекция, ни артисты, ни даже вот он. — Дыбасов ткнул рукой с худыми, костлявыми пальцами в сторону Митина с такой ненавистью и злобой, что тот невольно отклонился, как от удара, — Не могу! Не смею! Потому что театр давно уже не храм изящных искусств, не жертвенник Аполлона, а — про-из-вод-ство! Неповоротливая, скрипучая машина вроде паровоза или колесного парохода общества «Кавказ и Меркурий», который тащится вразвалочку от одной деревянной пристани к другой и вечно запаздывает, вечно приходит не вовремя или просто садится на мель, но из капитанской рубки неизменно гремят бравурные марши… Они, — он опять ткнул пальцем во встревоженного не на шутку и ничего не понимающего Митина, — они, писаки, нас постоянно обгоняют, хоть сами об этом и не подозревают, потому что мы врученной нам властью работодателей внушили им, что это они от нас безнадежно отстали, а мы-то идем впереди и все знаем, все видим, все умеем… Воспитали в них это их рабское подобострастие и покорность, — Махнул безнадежно рукой и закончил без запала: — И если у «Стоп-кадра» и будет успех, так тоже запоздалый, это будет не сегодняшний, а уже безвозвратно вчерашний успех. И не мой, потому что я то уже буду другой. А жизнь, позволю себе заметить, проходит.
— Несколько эгоистичный взгляд на искусство, — заметил Митин. — Жизнь коротка, верно, но…
— Но искусство вечно?! — прервал его Дыбасов с прежней яростью. — Черта с два! И что мне в нем, если я не успею сделать то, что хочу и могу? Дорого яичко ко Христову дню.
— Жизнь тоже вечная, — опять совершенно неожиданно вмешалась Эля, о которой за спором все забыли. — Она очень быстрая, но пока до финиша доберешься… Иногда даже кажется, что это один и тот же день такой длинный, никак не кончится. Все нормально, мальчики! — И, словно испугавшись этого нежданно вырвавшегося у нее «мальчики», она виновато взглянула на Иннокентьева. — Вы еще все такие молодые, хоть и седенькие, такие умные… Так чего же вы все боитесь?! Будто напугали вас в детстве букой, и вы до сих пор темноты боитесь, обязательно вам надо, чтоб вас за ручку держали и жалели.
— Да, — улыбнулся ее словам Дыбасов и стал похож, как тогда в лесу, на беззащитного мальчика с непослушным вихром на макушке, — Вот именно — нам очень нужно, чтобы нас жалели. Или хотя бы любили. Без этого нам никак нельзя.
— Только не надо при этом жениться, — совершенно ни к селу ни к городу пожаловался на что-то свое Митин. — Женатому никакие такие мысли и в голову не придут. Они приходят только на голодный желудок… А моя Ира так меня закармливает… — махнул белой, мягкой кистью.
Тут Ружин и дождался своего часа, он дал им, малым сим, выговориться, нагородить сентиментальной чепухи, теперь пришел его черед — подбить бабки, подвести черту и обнародовать высшую и непогрешимую истину.
— Искусство, — начал он издалека, и в его голосе с первых же слов зарокотали громы всезнания, пронесся ветер горних высей, — искусство — единственный доступный человеку язык для разговора с богом. Но поскольку все мы, увы, заматерелые атеисты, то скажем проще: с вечностью. А стало быть, и театр — храм, как ни пошло и фальшиво это слово в наших устах, тем не менее храм. И, что важнее важного — тут я совершенно согласен с Романом, — храм, из которого надо всечасно и беспощадно изгонять менял и фальшивомонетчиков. А их там всегда была тьма-тьмущая, как клопов в старой кровати. И тут-то, как это на первый взгляд ни парадоксально, происходит нечто совсем уж неожиданное и комичное — сами того не замечая, мы все наши силы, всю короткую жизнь тратим на то, чтобы изгнать из храма менял и торгашей, а вовсе не на то, чтобы делать единственно живое и необходимое дело, то есть приумножать сокровищницу его нашими, как бы это сказать попроще… одним словом, плодами нашего вдохновения, трудами души нашей. И вот мы воюем, бряцаем собственной нетерпимостью и принципиальностью — что, кстати, далеко не одно и то же, замечу на полях, — обличаем, дерем глотки и сами того не успеваем увидеть, как становимся такими же торгашами, такими же продавцами оптом и в розницу нашей собственной непогрешимости и ортодоксальности, как и те, кого с такой праведной страстью изгоняем из храма. Но и этого мало! Мы и того в своей ярости крестоносцев не углядели, что, пока мы воевали и разили святотатцев, храм но нашей же вине опустел, захлох, паутина висит по углам, мыши сожрали святые лики. И вдруг приходит позднее прозрение — не воевать нам надо бы, не словесные громокипящие постулаты нужны, а — работа! Работа в том простейшем, обыденном смысле слова, который вкладывают в него нормальные трудяги, хлебопашцы, которые свою ниву потом поливают и пекутся об урожае, о жатве, а не о том, чтобы сосед на своем поле сеял и жал в точности так, как они. Вот чего им надо!..
— Но и это тоже слова, слова, слова… — поморщился, как от зубной скучной боли, Дыбасов, — мазохизм какой-то все…
— Нет, а вправду, Боря, — вне связи со всем только что говоренным вспомнил о своем кровном Митин, — тебе на самом деле спектакль показался?.. Тут все свои, режь правду-матку!..
— А мне плевать, что он скажет! — выкрикнул вдруг злым фальцетом Дыбасов, — И что все остальные — тоже! Я делаю то, что умею, и так, как умею! И никакого спектакля нет, конь еще не валялся!..
— А я бы хотела работать в театре… — негромко, словно бы самой себе, сказала Эля. — Честное слово! Не артисткой, куда там, но что-нибудь такое делать, помогать… Я бы смогла! Как раз в жилу бы было, нет?.. — И отвела глаза от удивленного взгляда Иннокентьева.
— И очень просто, — бросил равнодушно Дыбасов, — как раз Надежда Ивановна, помреж, в конце сезона уходит на пенсию, место свободно, охотников за сто рублей ломаться с утра до ночи немного. Приходите, возьмем. Если не передумаете, конечно.
И вдруг Иннокентьев с трезвой ясностью понял, что на самом деле он не хочет победы Дыбасова, что хочет он, наоборот, его поражения, унижения и краха. Но еще — так же трезво и непреложно — услышал в себе и то, что вопреки своей неприязни к Дыбасову, вопреки жажде увидеть его униженным и поверженным в прах он сделает все, чтобы помочь ему, встанет грудью на его защиту, хоть и твердо знает наперед, что поражения не миновать. Может быть, потому-то он и будет ему помогать и стоять с ним заодно до конца, ни шагу назад, что знает: поражения не миновать.
8
Сюжет со «Стоп-кадром» — его удалось снять, как и предполагал Иннокентьев, далеко не сразу, только в начале февраля — был смонтирован спокойно, без вызова и вполне лояльно по отношению к Ремезову: два коротких фрагмента рабочей репетиции, пятиминутная беседа с Дыбасовым и исполнителями трех главных ролей, осмотрительный, сдержанный комментарий самого Иннокентьева. Важно было зафиксировать самый факт: спектакль доведен до конца, почти готов, ставит его один Дыбасов, Ремезов тут ни при чем. Детали не играли никакой роли.
В февральскую передачу сюжет уже опоздал, надо было ждать в лучшем случае марта. Иннокентьев решил не показывать его пока ни коллегам, ни тем более Помазневу, своему главному редактору, который всегда предоставлял ему полную свободу в выборе тем для «Антракта».
Больше всех волновался, просто-таки не находил себе места Митин, по десять раз на дню названивал Иннокентьеву. Ружин в последнее время был постоянно в крупном выигрыше, отчего пребывал в состоянии почти эйфорического оптимизма, только и делал что повторял к месту и не к месту: «Карфаген должен быть разрушен». Дыбасов не звонил, не объявлялся, денно и нощно репетировал. Что-нибудь узнать о нем и о спектакле можно было только от Насти Венгеровой, его, как однажды выразился Митин, доброй феи, но и она на все вопросы отвечала уклончиво, словно Дыбасов наложил на нее обет молчания.
Ремезов уже недели две как вернулся из Югославии, и что тревожило более всего Иннокентьева, а Митина доводило прямо-таки до обмороков, так это то, что главный режиссер, наверняка в первый же день по приезде поставленный обо всем в известность своими клевретами — «клевреты» было слово Ружина, — не только хранил полнейшее молчание, но и вообще не проявлял никаких признаков тревоги или даже малейшей заинтересованности. Он ни разу не зашел на репетицию к Дыбасову и ни о чем его не расспрашивал.
Эта неизвестность и неопределенность не могли тянуться до бесконечности, и в конце марта Иннокентьев включил в заявку на мартовский «Антракт» сюжет с репетицией «Стоп-кадра».
И, к собственному своему удивлению, сразу же ощутил, как отпустило на душе, тревожное ожидание возможных осложнений как бы ушло в тень, на безопасное отдаление.
Эля ушла с работы на телевидении, Иннокентьев сам на этом настоял — их отношения давно перестали быть тайной для сослуживцев, он не хотел пересудов и сплетен, пусть побездельничает месяц-другой, а в конце сезона Дыбасов твердо обещал устроить ее в театр на освобождающееся место помрежа.
Оставалось одно — ждать.
Как раз в один из таких дней ожидания и неопределенности, идучи по коридору одиннадцатого этажа телецентра, Иннокентьев столкнулся нос к носу с Помазневым.
Когда-то они учились на одном курсе журфака, играли за университет в одной теннисной команде, дружили хоть и не близко, но все пять студенческих лет. Потом пути их разошлись: Иннокентьев занялся театром, Помазнев — международной журналистикой, долго жил за границей, не то в Чили, не то в Мексике. И лишь много лет спустя судьба вновь свела их под крышей Центрального телевидения, хоть и на разных ступенях иерархической лестницы: Помазнев в свои сорок с небольшим взобрался почти на самую верхотуру, Иннокентьев не пошел дальше должности комментатора по вопросам театра. Впрочем, ничего другого он для себя и не желал, спроси его — он не поменялся бы с Помазневым местами.
Именно потому, что все знали о его прежних отношениях с Помазневым, дававших ему как бы право рассчитывать на его дружбу и внеслужебную близость, как только Помазнев появился в Останкине, Иннокентьев сразу и решительно перешел с ним на «вы» и стал называть по имени-отчеству: пусть все, и Помазнев в первую очередь, знают, что он не ищет особых отношений с шефом, а если обстоятельства так сложатся, что он будет вынужден напомнить о них, Помазнев — Иннокентьев в этом был совершенно уверен — придет ему на выручку.
Но нужды в этом до сих пор, к счастью, не было.
Вот и сейчас, в связи со «Стоп-кадром», он тоже не кинулся к Помазневу, не стал раньше времени спрашивать совета.
Помазнев шел навстречу ему с какого-то просмотра или обсуждения в окружении целой толпы редактрис и режиссерш. Столкнувшись с ним в коридоре, Иннокентьев вежливо кивнул ему и хотел посторониться, чтобы пропустить всю эту кавалькаду, но Помазнев остановился, изобразил на лице искреннейшую радость и громко, на весь коридор вскричал:
— Борис Андреевич, старый!.. Вот кто сегодня мне нужен больше всех! — И, обняв рукою за плечо, повел с собою по коридору.
Свита его тактично поотстала, и теперь они шли вдвоем, дружески обнявшись, мимо бесконечного ряда дверей и табличек с названиями отделов.
Хоть и искренне радостное, восклицание Помазнева не на шутку Иннокентьева насторожило: зачем именно сейчас, именно сегодня он так уж спешно, так уже позарез понадобился ему?.. Никаких нерешенных и срочных вопросов по работе у Помазнева вроде быть не должно, остается лишь одно объяснение: «Стоп-кадр». Вот и конец томительному ожиданию…
— Не удивляйтесь и не гадайте, Борис Андреевич! — Помазнев был в отличнейшем расположении духа, он вообще был человек веселый, доброжелательный, что на языке подчиненных называлось демократичный и доступный, — Все проще пареной репы! Телевидение платит бешеные деньги за аренду зимних кортов в ЦСКА, а я ни разу этими благами не воспользовался. Да и вообще сто лет не брал ракетку в руки. Вот я и твердо решил завтра же вечером — наши часы с девяти до одиннадцати, я узнал — тряхнуть стариной, прямо-таки заела ностальгия по прежним денечкам! — Не убирая руки с плеча Иннокентьева, он повернул к нему лицо и очень серьезно спросил: — А может, все проще и это ностальгия по нашей молодости?.. Неужели до этого уже дело дошло, старый, неужели мы уже такие, мягко говоря, не первой свежести господа?.. Вы-то хоть играете, не бросили?
Иннокентьев не сразу мог решить про себя — то ли говорит Помазнев, что думает? Или же это просто уловка, чтобы оттянуть настоящий, всерьез разговор?.. Хотя зачем это Помазневу? Служебная дистанция меж ними достаточно велика, чтобы он мог себе позволить говорить и напрямик.
— Очень нечасто и нерегулярно, Дмитрий Петрович. Хоть и стараюсь не потерять окончательно форму.
— Вот! — огорчился Помазнев. — Один я махнул на себя рукой. Так согласны?
— На что? — переспросил Иннокентьев, все еще решая про себя, зачем он нужен Помазневу и чего тот на самом деле добивается.
— Завтра в девять?.. Если у вас, конечно, нет других планов на вечер. Перед вами мне хоть не стыдно будет мазать по мячу. Вы-то, надеюсь, еще помните, что я был не последний человек на корте?
Свита уже надвигалась сзади, остановилась в двух шагах, кто-то из дам осмелился напомнить:
— Дмитрий Петрович, нас ждут в седьмом зале…
— Идем, идем! — кинул через плечо Помазнев. — Так как же, Боря?..
Против этого запанибратского, студенческих незабвенных времен «Бори» уж и вовсе нельзя было устоять. Тем более, успел сообразить Иннокентьев, если Помазнев намерен о чем-то сказать ему или против чего-нибудь предостеречь, на корте ему будет легче это сделать, очень может быть, что он и зазывает его на теннис именно для этого. А что до того, что он назвал его Борей… что ж, пустим ответный пробный шар.
— Конечно, Дима, о чем речь. С удовольствием.
— Замечательно! — обрадовался Помазнев, — Ровно в девять во Дворце тенниса. — И, пожав плечо Иннокентьева рукою, отпустил его.
Вернувшись домой, Иннокентьев еще на лестничной площадке услышал, как гремит в квартире на полную мощность телевизор. Стало быть, подумал он, Эля дома, а ему бы сейчас побыть одному, хорошенько взвесить, что и как он будет завтра говорить Помазневу, если, конечно, его догадка верна и тот пригласил его не просто теннисной партии ради, а для разговора о «Стоп-кадре».
Эля сидела на ковре перед телевизором, поджав под себя ноги, и с восторженным упоением смотрела какую-то эстрадную программу. В отсутствие Иннокентьева она всегда включала телевизор или магнитофон на полную катушку, иначе она музыку не воспринимала.
Не снимая пальто и шапки, Иннокентьев прошел в гостиную и молча повернул регулятор громкости. Только тут Эля заметила его.
— Там все на столе, на кухне, — сказала нетерпеливо, — а я, пока ты кушаешь, еще посмотрю. Обалденная передача! Звезды зарубежной эстрады, прямо-таки как на пасху!
Он ничего не ответил — ее не переделаешь, ее можно принимать только такой, какая есть. Загадка тут лишь в том, как эта оглушительная пошлятина уживается в ней с тем, что она по-своему очень и очень не глупа, да не просто умом умна, вернее, не одним умом, а — чутьем, догадкой. Она может не понимать слова, которые слышит от него, она даже не очень старается их понять, потому что безошибочно улавливает за ними истинный смысл того, что он говорит, чего хочет от нее. С ней нельзя, как с другими, — говорить одно, а думать про себя иное. Иногда Иннокентьеву приходило в голову, что она его слышит и понимает даже тогда, когда он молчит и думает о чем-нибудь таком, что ей и вовсе невдомек, а подчас угадывает и то, что он сам еще в себе не услышал и не облек не то что в слова, но даже и в мысли.
Он разделся, вымыл в ванной руки, долго, раздумывая совсем о другом, тер их полотенцем, потом пошел на кухню ужинать. В гостиной Эля опять запустила телевизор на полную громкость.
Чайник не успел вскипеть, как раздался телефонный звонок, и он узнал в трубке голос Насти Венгеровой.
— Ты дома? — не поздоровалась она и тут же объявила: — Я к тебе сейчас заеду.
Только этого ему не хватило — Настиных причитаний и идолопоклонства перед Дыбасовым, ее по-актерски преувеличенных страданий и восторгов.
Но возразить он не успел — она положила трубку, а Иннокентьев совершенно вживе представил себе, как она бегло и вместе тщательно перебирает в шкафу не глазами, а на ощупь тонкими, чуткими пальцами легкие ткани платьев, не сразу решаясь, которое подходит более всего к этому наполовину деловому, наполовину дружескому визиту, как небрежно, не глядя отбрасывает ненужные за спину, на диван, и они соскальзывают неслышно на пол, как недовольно морщит переносье, разглядывая свое лицо в зеркале, и, не застегнув пальто, простоволосая, мчится по ступеням вниз на своих высоченных каблуках, дробно постукивающих по стершимся плиткам, и садится за руль стареньких, сто раз битых и латанных «Жигулей» с так давно не мытым лобовым стеклом, что сквозь него не разглядеть дорогу…
А ведь еще совсем недавно ему казалось, что он любит ее, а точнее, он очень хотел, очень старался влюбиться в нее, но из этого ничего не вышло, и они расстались добрыми друзьями, какими, собственно, и были все скоротечное время их такого милого и необременительного романа…
Он очень старался тогда. Он думал, что новая любовь излечит его от все еще живой, все еще саднящей памяти о Лере. Они виделись с Настей каждый день, он сидел на всех ее репетициях, она доверчиво прислушивалась к его советам и наставлениям, и на каждый премьерный спектакль он присылал ей корзину свежих тюльпанов или гвоздик, и она им радовалась, как ребенок, — это в балете артистки привыкли к цветам и неистовству поклонников, драматическим актрисам дарят лишь жалкие, грошовые букетики.
Но все равно из этого ничего путного не получилось. Хорошо еще, что они с Настей остались друзьями, и на том спасибо.
Музыка в гостиной по-прежнему гремела вовсю, и он не сразу услышал Настин звонок.
Он открыл ей дверь, на него сразу дохнуло от нее сырой свежестью весеннего дождя, лившего на улице. На пепельных ее волосах матово поблескивали непросохшие дождинки. Он помог ей раздеться, не слыша за громом телевизора, что она ему говорит. Заглянув в дверь гостиной, Настя не удивилась ни оглушительной музыке, ни позе Эли, все еще сидящей по-турецки на ковре перед телевизором.
Эля на мгновение обернулась к ней.
— Вы не хотите послушать? Карел Готт поет как раз. Фантастика! — И тут же снова отвернулась, прилипла глазами к экрану.
— С этим ничего не поделаешь, — извинился перед Настей Иннокентьев, — стихия. Пойдем на кухню, там не так слышно.
Он прикрыл за собою плотно дверь, сел напротив Насти за обеденный стол.
— Есть, выпить хочешь?
— Только чаю. Крепкого чаю безо всего. Даже без сахара. А пить — я же за рулем.
Чайник на плите еще не остыл, он налил ей в чашку крепкого, почти черного чаю, вновь сел напротив и стал ждать, чтобы она заговорила сама. Молчал и думал, что, собственно говоря, очень жаль, что у них с Настей так ничего и не получилось. Если кто и нужен был ему тогда, да и теперь тоже, так одна Настя. Не вышло. Жаль.
— Я знаю, что ты разговаривал сегодня с Помазневым, — подняла она на него глаза.
Ему только и оставалось что развести руками — откуда?!
— Мне позвонила одна из ваших редакторш, неважно кто. Она очень любит Романа Сергеевича, — Настя всегда называла за глаза Дыбасова по имени и отчеству, — и решила, что Помазнев говорил с тобой именно о нем. Так?
Он пожал плечами.
— Мы с ним всего-навсего условились завтра встретиться.
— Зачем? — не сводила с него взгляда Настя.
Это начинало его даже забавлять — такая ее настырность.
— Поиграть в теннис, представь себе, ни для чего более.
Она глядела на него с недоверием и едва сдерживаемым гневом.
— Ты от меня что-то скрываешь. Что-нибудь плохое?
— Да нет же! Он действительно хочет по старой памяти поиграть со мной в теннис. А уж о чем он собирается там говорить, одному ему известно.
Она помолчала, держа чашку обеими руками и грея о нее озябшие ладони.
— Как идут репетиции? — прервал он молчание.
— При чем тут репетиции? — передернула она плечами. — Все в порядке. Только вот тишина эта вокруг… И Герасимов запретил пускать в зал посторонних… Понимаешь? Полная тишина, абсолютный вакуум какой-то! Когда генеральные, когда сдача, когда премьера — неизвестно! И Ремезов молчит — вот что страшно! Почему он молчит? Что он задумал? И делает вид, что не знает, что ты за его спиной снял для телевидения репетицию. Молчит!.. Я ведь слишком хорошо знаю Аркадия Евгеньевича, чтобы поверить, что он позволит кому-нибудь обвести себя вокруг пальца. Что-то он задумал, можешь не сомневаться!
— Конечно, задумал, — согласился Иннокентьев, — только вот что именно?.. Но вовсе не обязательно, чтобы об этом знал Помазнев. А если и знает, отчего ты думаешь, что он скажет об этом мне?
— Оттого, что ваш Помазнев женат на дочери Ремезова. Ты что, не знал этого?
Наверное, у него было очень глупое лицо, потому что Настя, не сводя с него глаз, усмехнулась сочувственно.
— Не пугайся. И не стесняйся своей неосведомленности, хотя ты, как известно, все и всех в Москве знаешь. И главное — все обо всех. Он женат на дочери Ремезова от первого брака, Аркадий Евгеньевич расстался с ее матерью чуть ли еще не в войну или же сразу после. У него от этого брака две дочери, но они с ним не поддерживают никаких отношений, даже носят не его фамилию, а материну. По-видимому, он поступил с ними тогда не слишком красиво, если они до сих пор не могут этого ему простить. Во всяком случае, не забыли. Я считала, что тебе надо об этом знать. Я и сама-то узнала эту историю несколько дней назад от нашей общей с женой твоего Помазнева педикюрши — самый верный источник информации. Вроде тебя, — не удержалась, — все про всех знает.
Но Иннокентьеву сейчас было не до Настиных шпилек, его огорошил даже не самый факт, о котором сообщила Настя, а — как он-то мог этого не знать? Он, стреляный воробей, тертый калач, который действительно знал все и всех и все обо всех, встрял в эту историю, как теперь выясняется, этаким последним дураком с мороза?!
Но спросил он Настю совсем о другом, вне всякой связи с тем, ради чего она пришла к нему:
— Совсем голову потеряла? Я понимаю, ты любишь его, но чтоб до такой степени?..
Она вздрогнула, словно бы испугалась его вопроса.
— Что за глупости! При чем здесь это — люблю, не люблю?.. — Но, отведя глаза и помолчав, призналась печально: — Лебединая моя песня, Боренька… Во всяком случае, ничего похожего со мной никогда не бывало. Ты вправе спросить — а что же у меня было с тобой?.. Я тебе скажу. И ты не обидишься, обижаться в таких делах глупо. Да и нам ли друг на друга обижаться… Нам просто было худо, и тебе и мне, вот мы и схватились друг за дружку, как утопающий за соломинку. За одно за это тебе спасибо. А любить тебя… Чтобы тебя любить, надо либо не знать тебя, как знаю я, либо же быть таким чистым, неискушенным и, прости, недалеким существом, как… — Она кивнула в сторону гостиной, откуда все еще неслась оглушительная музыка, — Честно говоря, я ей завидую. Мне ведь тоже очень хотелось пуститься во все тяжкие, да вот беда, я умная, я тебя видела насквозь и знала все наперед — чем кончится и чего можно ждать от тебя, да и от себя тоже… Не обиделся?
— Нет, — удивился он собственному спокойствию и даже странной умиротворенности, — так оно и было, наверное… Наверное, я такой и есть, увы, ничего не попишешь. Добрая фея подарочек перепутала, не тот положила в колыбельку. По-современному называется — генетический код. — И неожиданно для себя сказал все-таки: —
Перед твоим приходом я как раз подумал: как жаль, что у нас с тобой ничего не вышло. Ты бы мне очень подошла. А — не вышло. Так не плакать же нам теперь об этом, верно?
Но она уже не слушала его, думала о своем:
— Без меня он просто пропадет… Он талантливее, беззащитнее всех… — И, заметив на лице Иннокентьева невольную усмешку, повторила свое давешнее: — Он гений, да! И не делай вид, что ты этого не понимаешь! Но при этом он самый слабый человек на свете, малейшее непонимание или обида его ранят так, будто он совсем без кожи! Теряется, впадает в панику, не находит себе места, я просто боюсь за него, в этом состоянии он на все способен. У него ужасный характер, я прекрасно вижу, упрямый, грубый даже, неуживчивый, он успел переругаться со всеми в театре, но актеры его обожают! Готовы с ним хоть на край света. Люблю?.. — И усмехнулась обреченно. — Не то слово. Если бы просто любила, мне была бы нужна его любовь в ответ. Хоть какая-то надежда. Но я и без этого готова обойтись. Я даже больше того тебе скажу — он моей любви и не замечает, она ему ни к чему. Он о ней даже не догадывается, а если бы кто вздумал открыть ему глаза, он бы только удивился. Но мне многого и не надо…
— Вы про Романа Сергеевича?
Иннокентьев и Настя не услышали, как Эля вошла на кухню и остановилась на пороге — босая, в его слишком просторном на ней и слишком длинном купальном халате с засученными рукавами. Музыка в гостиной смолкла, диктор заученным голосом читал последние известия.
— Как ты догадалась? — Иннокентьев презирал себя за то, что всякий раз, как Эля заговаривала о Дыбасове, это его корежило и он едва удерживался, чтоб не заорать на нее.
— А про кого же еще такое? — пожала она плечами и прошла к электрической плите, поставила на нее остывший чайник. — Кто еще другой такой есть?.. Именно что не от мира сего. Как малый ребенок — за ним надо ходить, чтоб не упал и не убился. Я очень даже понимаю Настю.
Иннокентьев не удержался, дал волю беспричинному раздражению:
— Ты-то тут при чем?! И не вмешивайся в чужие разговоры, раз ничего в них не смыслишь! Лучше-ка налей нам всем чаю.
Она резко обернулась к нему, лицо ее залила краска гнева и обиды; если бы не Настя, она наверняка не постеснялась бы ответить ему, не слишком выбирая выражения, но совладала с собой, пропела вызывающе и насмешливо свое обычное:
— Норма-ально!..
Настя не услышала их перепалки, повторила убежденно и почти молитвенно:
— С ним нельзя, как с другими. Вы все еще будете гордиться, что жили на свете в одно с ним время.
На что Иннокентьев сказал как мог задушевнее:
— Завтра же сажусь за мемуары.
В ЦСКА Иннокентьев приехал на четверть часа раньше условленного. Как это ни смешно казалось ему самому, но он еще утром решил прийти на корт чуть пораньше и поразмяться, — когда-то он запросто выигрывал у Помазнева одиночку, а уж на этот раз он просто обязан выиграть, иначе тот сможет заподозрить, что он проиграл нарочно, из чинопочитания, а этого Дима и в юности терпеть не мог: однажды, когда их университетский тренер из каких-то одному ему ведомых соображений попросил Помазнева и Иннокентьева проиграть парную встречу теннисистам мехмата, Дима закатил такой скандал, что об этом наверняка и по сей день помнят на кафедре физвоспитания.
Но обе площадки во Дворце тенниса были заняты — второй день шло юношеское первенство Москвы, игры затянулись, и администратор очень сомневался, чтобы кому-нибудь из арендаторов удалось сегодня поиграть.
Иннокентьев не стал заходить в зал, остался в вестибюле, глядя сквозь стеклянную дверь наружу, в хмурую, слякотную мглу. Хоть и конец марта, а весною, похоже, еще и не пахнет, октябрь какой-то бесконечный.
А вот чего не следует ни в коем случае делать, так это самому задавать вопросы, решил Иннокентьев, пусть это делает Помазнев, а лучше, если он же и будет сам на них отвечать.
Помазнев запаздывал, и Иннокентьев не мог решить, надо ли ему его дожидаться, не правильнее ли будет уехать, подчеркнув тем самым свою независимость и не слишком настойчивую заинтересованность в разговоре о «Стоп-кадре», если, конечно, тот действительно намеревается говорить на эту тему.
Но тут к самому входу во Дворец тенниса подъехали ярко-красные «Жигули», из них поспешно выскочил Помазнев и, подняв воротник плаща, побежал под дождем к подъезду. Он был без шапки, и, когда вошел внутрь, лоб и щеки его были мокры, он вытер их на ходу тыльной стороной ладони, и этот жест почему-то очень живо напомнил Иннокентьеву прежнего Димку Помазнева. И само по себе получилось, что называть его надо на «ты», «вы» в этой ситуации как раз и прозвучало бы ненатурально.
Впрочем, первым это сделал Помазнев:
— Прости, опоздал, жуткая пробка у Белорусского. Давно ждешь?
— Да нет, — соврал почему-то Иннокентьев, — только что приехал. Но там — соревнования, так что все равно…
— Да знаю! — досадливо отмахнулся Помазнев. — Мне звонили, но поскольку мы с тобой уже условились, а телефона твоего у меня под рукой не было… Не беда, хоть поболтаем в кои-то веки. Слушай, давай-ка в машину, там решим, как быть. Может, завалимся куда-нибудь, поужинаем?
Они вышли. Помазнев открыл перед Иннокентьевым заднюю дверцу машины, пропустил вперед, сел рядом.
Они оказались в машине не одни — на переднем сиденье за рулем сидела какая-то женщина, она обернулась к ним, но в темноте Иннокентьев не мог разглядеть ее лица.
— Казенную машину пришлось отпустить, что-то со сцеплением, вот и эксплуатирую беззащитных женщин, — говорил Помазнев, располагая на сиденье свое крупное, дородное тело. — Знакомься — моя свояченица или как там это правильно называется. Одним словом, сестра моей жены. Ритуля, зажги свет, покажись моему старинному другу во всем блеске. — И сам нажал на кнопку сбоку, зажег свет в салоне.
На Иннокентьева глядело миловидное и молодое лицо с крупным ртом и подчеркнутыми голубыми тенями глазами, выпуклыми скулами, приветливо и с нескрываемым любопытством улыбающееся ему.
— Сногсшибательная, умопомрачительная и жутко опасная особа, — отрекомендовал ее Помазнев, — Могу тебе только, Борис, пожелать, чтоб ты не испытал ее чары на себе. Процент выживаемости ничтожен. Но в качестве родственницы не имеет себе равных. Я-то в полной безопасности, слава богу, с меня хватает и ее сестрицы.
Она протянула Иннокентьеву поверх спинки кресла мягкую, прохладную ладонь, но пожатие ее было неожиданно сильным и уверенным.
— Кстати, тоже нашего полка — теннисистка, — добавил Помазнев, — в отличие от нас с тобой спуску себе не дает, играет ежедневно. Теннис и бассейн — вот и все ее занятия. Современный тип.
— Если не считать восьмичасового рабочего дня от звонка до звонка, — сказала она, не сразу убирая свою руку из руки Иннокентьева. — Но это не в счет, тут мой свояк совершенно прав — жизнь начинается после шести вечера. — И только теперь назвала себя: — Рита. А если вам этого мало — Маргарита Аркадьевна.
И тут Иннокентьев, совершенно неожиданно для самого себя, проговорился.
— Ремезова, — закончил он за нее.
Наступило секундное молчание, и Иннокентьев угадал на себе настороженный, искоса взгляд Помазнева.
— Все знает! — удивился Помазнев полушутя-полусерьезно, а может быть, и, как послышалось Иннокентьеву, неодобрительно. — Все и всех!
— И все обо всех, — припомнил вслух Иннокентьев вчерашние слова Насти Венгеровой. — Такая работа.
— Или — призвание? — не скрыла насмешки Рита, — Но на этот раз вы почти ошиблись. Я — Земцова, по матери. Что же касается моего отца, Аркадия Евгеньевича Ремезова…
— Простите, — поспешил Иннокентьев и почему-то смутился, — я и сам только вчера это узнал.
— Навел справки? — спросил Помазнев, и опять было неясно, в шутку или всерьез. Но тут же беззаботно расхохотался, — Вот какие у меня, Ритуля, сотрудники — всегда начеку, палец им в рот не клади, отхватят по локоть и проглотят не разжевывая. С такими я как за каменной стеной.
— Важно, по одну ли ты с ними сторону, — сказала без улыбки Рита и, как бы оставляя их наедине, отвернулась.
Теперь уж Иннокентьев не сомневался — не он один, Помазнев тоже готовился загодя к этому как бы случайному, ненароком, разговору. А раз так, то пусть первым его и начинает, он, Иннокентьев, может и погодить, ему не к спеху.
А Помазнев и не собирался уходить в кусты. Он закурил, пламя зажигалки высветило часть высокого лба и упрямый, выдвинутый вперед подбородок. Протянул сигареты Иннокентьеву, дал ему прикурить и сказал, будто продолжая давно начатый разговор, в котором уже все ясно и осталось лишь уточнить незначительные детали, подбить окончательный итог:
— Ну, раз ты сам об этом заговорил (хотя Иннокентьев и не думал этого делать), то давай поставим точки над «и».
— Мне — уйти? — спросила, не оборачиваясь, Рита.
— Необязательно, — коротко сказал ей в спину Помазнев. — Мне, во всяком случае, ты не помеха.
— Мне тем более, — добавил от себя Иннокентьев и попытался это сказать тоже не то шутя, не то серьезно, как недавно Помазнев.
— Так вот, Боря, — в тоне Помазнева не было и тени начальственности, он говорил так, будто они с Иннокентьевым все эти годы не прерывали близкого приятельства и он был совершенно уверен, что старый друг не только поймет его, но и полностью с ним согласится, — твоя заявка на очередной «Антракт», естественно, попала ко мне на стол. И я бы ее утвердил, как всегда, не глядя — ты сам за все отвечаешь, полный карт-бланш, — если бы все телевидение, чтоб не сказать вся Москва, не было в курсе того, какой скандал неминуемо тут же разразится. Зная моего, с позволения сказать, тестя…
— Де-юре, — бросила через плечо Рита, — а де-факто он тебе такой же тесть, как… Видите ли, Борис Андреевич, он нас… как бы это ловчее выразить… ну, не то чтобы бросил, а, скажем так, снял с себя ответственность за наше воспитание, когда мне было четыре года, а сестре девять. С тех пор я его вижу только в театре на премьерах, когда он выходит кланяться.
— Борису Андреевичу эти фамильные предания не так уж интересны, — решительно прервал ее Помазнев. И не заметил, как и сам, опять обратившись к Иннокентьеву, тоже назвал его по имени и отчеству. — Не в них суть, Борис Андреевич, хотя танцевать нам с вами придется и от этой печки тоже. Так вот, зная Аркадия Евгеньевича, как знаем его мы оба, едва ли приходится сомневаться, что он в случае необходимости свернет горы. Я думаю, ваша передача, — и опять Иннокентьев не мог про себя решить, перешел ли Помазнев с ним на «вы», случайно оговорившись, или он это сделал сознательно, и тогда как ему самому вести себя с ним, называть по-прежнему Димой или же Дмитрием Петровичем? — как раз тот самый случай крайней необходимости.
— Отчего же он молчит, не предпринимает пока ничего? _ не удержался Иннокентьев вопреки принятому решению ни о чем не спрашивать, а только слушать и мотать на ус.
— А откуда, позвольте спросить, это вам известно? — спросил в упор Помазнев, — Откуда нам с тобой это может быть известно?.. Ремезов если уж действует, то на таких верхах, куда нам с тобой — да, старый, даже мне, несмотря на всю мою номенклатуру, вернее, именно в силу номенклатурной иерархии, — ход заказан, поверь.
— Я все-таки пойду, — сказала Рита, — не потому, что мне неинтересно, просто без меня вам будет легче договориться. Да и обожаю глядеть, как мальчишки играют в теннис, очень полезное зрелище. — И, уже приоткрыв дверцу, отчего сразу хлынула в машину промозглая сырость, обернулась к Иннокентьеву: — При всех моих родственных отношениях с Аркадием Евгеньевичем я — на вашей стороне, Борис Андреевич. Но вы все-таки прислушайтесь к тому, что вам скажет Дима, он у нас умница. И всегда знает больше, чем говорит.
Мужчины молча проводили ее взглядом.
Дождь пошел сильнее, заливал лобовое и боковые стекла, и от этого мир за ними казался зыбким, неустойчивым.
— Вот такие пироги, Боря, — продолжил после недолгого молчания Помазнев, — и положение мое в данной ситуации совсем не простое. Да, я тоже, как и Рита, на твоей стороне, то есть не одобряю мелких пакостей Ремезова. Но я женат на его дочери, и одно это связывает меня по рукам и ногам. Дам свое «добро» на твою передачу — он найдет способ обвинить меня в том, что я свожу с ним семейные счеты. Не дам — вся ваша театральная братия кинется доказывать, что я отвожу удар от своего тестя, хоть он мне такой же тесть, как и тебе. Но этого никому не объяснишь. А уж мне-то эта сомнительная катавасия, как ты понимаешь, совсем ни к чему. Так что остается одно…
— Умыть руки? — договорил за него Иннокентьев и тут же пожалел об этом — незачем лезть в пекло поперед батьки.
— Называй это как хочешь. И я спрошу тебя напрямик, по старой дружбе: сам-то ты как поступил бы на моем месте?
Иннокентьев не ответил.
— То-то и оно, Борис, — положил ему руку на плечо Помазнев. — Оцени, по крайней мере, что я тебе прямо это все сказал. Теперь-то ты хоть знаешь, что к чему и на что тебе можно рассчитывать.
Иннокентьев решил, что понял, чего от него ждет Помазнев: еще можно сыграть отбой, еще не поздно отступить — или отступиться, поправил он тут же себя, — не рискуя оказаться в дураках. Что ж, подумал он, на правах той же старой дружбы можно и себе позволить спросить Помазнева напрямик:
— Короче говоря, ты считаешь дело дохлым и советуешь забрать обратно мою заявку?
Помазнев ответил не сразу, и в его молчании Иннокентьеву почудилось что-то похожее на разочарование.
— По чести говоря, я имел в виду не совсем это, Боря… Я ведь сказал тебе — я на твоей стороне, вот только помочь тебе никак не могу. Мое вмешательство, боюсь, только бы повредило делу. Одним словом, на меня рассчитывать не приходится. Я прекрасно понимаю, что мое и твое начальство, которое, можешь не сомневаться, давно уже в курсе дела, предпочло бы, чтобы именно я принял окончательное решение. Да и Ремезов тоже. Но этого удовольствия я ему не доставлю. Хотя тянуть уже больше нельзя, и кому-то придется решать, а вот кому именно и в какую сторону склонятся весы — этого даже я пока не могу сказать. Ремезов — сила, и связей у него на самом верху хоть отбавляй. Но, с другой стороны, он уже не тот, что прежде, и не так уже, как некогда, молятся на него. Кстати, и сам Ремезов не может этого не понимать или хотя бы не догадываться, у него нос был всегда по ветру. А общественное мнение сегодня нельзя сбрасывать со счетов. Может быть, именно поэтому он и выжидает, куда и откуда подует ветер, — лиса хитрейшая, он и из поражения своего такие купоны изловчится настричь…
Теперь пришла очередь Иннокентьеву помолчать, прежде чем на что-нибудь решиться.
— Хорошо, — сказал он наконец, — тогда и я, Дима, задам тебе тот же вопрос, который ты только что задал мне: как бы ты сам поступил на моем месте? Только честно. И — не обижайся. Тем более что ты вправе мне не отвечать. Но ты сам сказал — старая дружба…
— Дружба, — согласился с готовностью Помазнев, — Борис, не отрекаюсь. Но и — служба, не будем строить из себя невинных барышень. Но, как это ни покажется тебе странным, и по службе и по дружбе я бы на твоем месте не стал забирать свою заявку и вычеркивать из нее «Стопкадр». Кстати, я прочел пьесу твоего Митина, она, по-моему, вполне в порядке, не вызывает никаких разнотолков. А почему бы я не стал забирать заявку — очень просто: о ней уже знаю не один я, но и высшее начальство. И то, что она уже у меня на столе, — и это всем известно. Если ты ее заберешь, это не сможет быть расценено иначе, как то, что либо ты, либо я, либо мы вместе отпраздновали труса. А этого ни мне, ни тебе не нужно. Тем более, повторяю, совершенно не известно, какое решение будет принято там, наверху. Публичного скандала никому не нужно, но скандал, о котором стыдливо помалкивают, иногда куда опаснее для всех. Вот как я вижу сегодняшнюю ситуацию, Боря. Но я тебе ничего не навязываю. Пока риск для тебя невелик. Вот если бы передача уже вышла в эфир, а наверху было бы сочтено правильным вступиться за Ремезова — тут дело бы запахло жареным. А так — ты пока всего-навсего предлагаешь этот сюжет, ну, ошибся, ну, недодумал, тебя поправили, в крайнем случае пожурили, не более. Может быть, я не прав, ты можешь не прислушиваться к моим советам, я не обижусь. Но уж будь любезен — свое решение принимай сам, на свой страх и риск. И не торопись, обмозгуй со всех сторон. Сегодня пятница, завтра и послезавтра выходные, в понедельник я улетаю в командировку в Тбилиси, все текущие дела, в том числе и твою заявку, я оставляю на усмотрение Гребенщикова, с ним тебе и придется в случае чего иметь дело. Заявку я ему передам безо всяких комментариев. Можешь опять сказать, что я умываю руки. Но я тебе обрисовал все как на духу. А решать тебе самому. Вот так, Боря. — И без всякого перехода, будто они и не говорили ни о чем другом, кроме тенниса, заключил: — Жаль, что нам не пришлось сегодня поиграть. Сто лет не брал ракетку в руки! Нельзя себе давать в этом смысле потачки, Боря, нельзя терять форму! Не такие уж мы с тобой божьи одуванчики, чтобы ставить на себе крест. Я твердо решил играть не реже двух раз в неделю как минимум. Так что у нас с тобой все еще впереди, Боря, держи хвост морковкой!
Иннокентьев понял, что разговор о деле Помазнев считает оконченным и возвращаться к нему бесполезно. Все, что он считал нужным сказать, сказано, теперь все бремя решения на его, Иннокентьева, собственной совести. Хотя совет Помазнев дал ему дельный и мудрый — позорное отступление хуже славного поражения. Он действительно умница, Помазнев, свояченица его права. Он знает, что говорит, не зря же вот уже два десятилетия шагает все выше и выше по жизненной лестнице. Не цель оправдывает средства, а степень риска, который ты добровольно взял на себя, — цель. Стало быть, и нечего мучиться неопределенностью.
Вернулась Рита Земцова, села в машину.
— Там еще не скоро кончат, — сказала она и включила «дворники», они мигом очистили стекло от дождевых потоков, и мир снаружи вновь обрел четкость и устойчивость. — Да и неинтересно играют мальчишки. Я не слишком рано вернулась?
— В самый раз, — ответил бодро Помазнев, — тема исчерпана. Смотаемся поужинать куда-нибудь?
— Четверть одиннадцатого, уже никуда не пустят, — отозвалась она, — не в Рио-де-Жанейро. Я бы вас обоих повезла к себе, да у меня, как на грех, в холодильнике хоть шаром покати. Придется отложить до другого раза. Но считайте, что я вас пригласила. Борис Андреевич, приезжайте с Димой, правда, я вам буду рада.
— Спасибо, непременно, — поблагодарил Иннокентьев, хоть и распрекрасно понимал, что теперь, после их разговора, не скоро они с Помазневым смогут опять говорить друг другу «ты» и изображать из себя старых корешей. Он повернулся к Помазневу, — Что ж, Дима, спасибо за совет. Ты прав, так и надо поступить. А там — как обстоятельства сложатся.
— Не так страшен черт, как его малюют, Боря, — крепко и дружески сжал его ладонь в своей Помазнев, — эту истину надо ежевечерне повторять себе на сон грядущий. Вернусь из Тбилиси, непременно держи меня в курсе всего. И договоримся, когда нанесем визит Маргарите Аркадьевне, а то она еще передумает. Будь.
— Вы забудете, я сама напомню, — попрощалась с Иннокентьевым Рита. — Можете считать, что теперь не один Дима ваш друг.
Рита зажгла фары, и в их свете сразу стало видно, что дождь льет как из ведра. Он вышел из машины. «Жигули», круто развернувшись, мигнули на прощание алыми стоп-сигналами.
Иннокентьев пошел к своей машине, сел в нее, включил зажигание, но тронулся с места не сразу — он вдруг ощутил свинцовую усталость и полнейшее равнодушие ко всему, о чем они только что разговаривали с Помазневым и что казалось ему еще минуту назад таким важным и первостепенным. А сейчас голова и сердце были совершенно полыми, словно бы ливень вымыл из него все мысли, все чувства.
С тем и поехал домой.
О том, что стоящий в «сетке» на 24 марта «Антракт» заменен другой передачей, Иннокентьев узнал слишком поздно, чтобы можно было что-либо изменить или даже узнать почему. Подобные вещи (а отмена передачи, объявленной в программе на неделю вперед, — происшествие чрезвычайное, из ряда вон) решаются на таком уровне, куда не ходят объясняться, а ждут, пока тебя самого вызовут на ковер для объяснений и оправданий.
Впервые за долгие последние годы своих успехов и удач у Иннокентьева вдруг засосало под ложечкой от дурных предчувствий: знаменит ты или не знаменит, баловень ли судьбы или жалкий ее пасынок, а все мы, как говорится, под богом ходим, все стоим голенькие на семи ветрах переменчивой случайности. Не надо было ему с самого начала лезть в эту историю, не надо было изображать из себя донкихота, вооружившегося игрушечным копьем. И невольно он стал искать виновного, того, кто втянул его в эту канитель, и этим виноватым, наперекор очевидности и логике и к его, Иннокентьева, собственному удивлению, выходили не Митин с Дыбасовым, даже не Настя с Ружиным, а — Эля.
Потому что, если б не Эля, растравлял он себя, черта с два он потерял бы чувство реальности, связался бы с Дыбасовым и попер на рожон против Ремезова, ему ли было не знать, что таких, как Ремезов, надо обходить стороной!..
Он поехал не домой — ему не хотелось сейчас видеть Элю, бессмысленное, несправедливое раздражение против нее росло и росло, он ничего с собой не мог поделать, — а к Ружину. Вот тебе и вся народная мудрость, пришло ему на ум по дороге: не имей сто рублей, а имей сто друзей, а у него, выходит дело, за все про все один-единственный друг, Глеб. Но и он будет сейчас говорить вовсе не то, чего от него нужно Иннокентьеву, а требовать стоять насмерть, не сдаваться и прочее в этом роде. Ему-то, Ружину, что — он не только ничем не рискует, но и, с какой стороны ни смотри, как бы и вовсе не участвует в этой обреченной с самого начала на крах авантюре, с него взятки гладки, черт его подери со всеми его нравственными императивами, небожитель чертов!..
Но, как ни растравлял себя Иннокентьев, раздражения против Ружина не было, а против Эли — все злее подступало к горлу.
Дверь в квартиру Ружина была, как всегда, не заперта, а сам Глеб возлежал в одних трусах на собачьей полости, и на лице его было благостное и умиротворенное довольство собою и заодно всем мирозданием. Оно находило на него лишь в одном случае — если накануне он бывал в крупном выигрыше.
Иннокентьев с порога рассказал ему об отмененной передаче и обо всем, что неотвратимо должно за этим последовать, но Глеб слушал его невнимательно.
— А я все это знал наперед, — выдохнул он из себя почти с удовлетворением, — только отпетый дурак мог предполагать, что этот ваш детский лепет на лужайке может как-то иначе окончиться. — Безволосый, отсвечивающий нездоровой желтизной живот возвышался над ним бледной горою.
— Если знал, какого черта все сам и затеял?! — не со злобой, как он сам от себя ожидал, а устало огрызнулся Иннокентьев. — Зачем меня толкал на это дело? Если все знал с самого начала?..
Ружин с тяжким усилием приподнялся на локте, пристально поглядел на Иннокентьева и ответил не сразу:
— Потому что я бы на твоем месте поступил именно так и никак иначе.
— На моем месте! Посмотрел бы я на тебя на моем месте…
— Потому что, — не услышал его Ружин, — для порядочного человека в этой ситуации нет выбора. За или против, третьего не дано.
— За — что?! — вскинулся Иннокентьев, хотя знал заранее, что ему ответит на это Глеб.
— В конце концов, можешь ведь ты позволить себе хоть изредка поступать как порядочный человек, большего от тебя никто и не требует. И не слишком заботиться, чем это для тебя обернется.
— Ввязываться в драку, заранее зная, что тебе набьют морду? Извини, это не для меня.
— И все-таки ты это сделал, стало быть, как ни отбрыкивайся, а где-то на самом донышке сидит в тебе порядочный человек и нет-нет, а напоминает о себе. Ведь ты тоже с самого начала знал, чем это попахивает, несомненно догадывался, что вся эта ремезовская шайка так просто не подставит голый зад. — Он откинулся снова на спину, живот его студенисто заколыхался. — Если бы тот же Дон Кихот, — словно бы подслушав его недавние мысли, продолжал Глеб, — победил все на свете ветряные мельницы, его бы давно забыли. А так, поверженный в прах и всеми осмеянный, жив курилка. Тебе это никогда не приходило в голову?
— Я не Дон Кихот, — Иннокентьев прошел наконец в комнату, присел на топчан в ногах у Глеба, — Подобной роскоши я себе позволить не вправе. И вообще этот тип давно свое отвоевал, пора и честь знать. Что же до порядочности — именно порядочный человек, прежде чем лезть на рожон, а тем более других за собой тянуть, должен хотя бы пораскинуть мозгами, чем все может закончиться. Мне ведь тоже неохота подставлять голый зад под розги. Это с одного тебя как с гуся вода.
— Ты хочешь — всерьез? — спросил сурово Ружин, — Давай поразмышляем, я не против.
— Ты бы хоть оделся! — неожиданно для себя самого взорвался Иннокентьев, — Хоть бы пузо прикрыл чем-нибудь!
— Если тебя смущает моя нагота… — Глеб тяжело перекатился на бок, спустил ноги на пол, но на большее его не хватило, он так и остался сидеть на лежаке, не сводя глаз со своих ступней с желтыми, неопрятно остриженными ногтями. — Истина, если ты вправду ее ищешь, и должна быть обнаженной, ей не пристало смущаться самой себя. Так поразмышляем о добром и вечном, или ты уже передумал?
— Мне не до того. Быть бы живу, как говорится, и на том спасибо.
— Тем более, — вопреки очевидной логике утвердился в своем намерении Глеб. — Сейчас пробил твой звездный, может быть, час, только ты боишься признаться себе в этом. Самое тебе время подумать о вечности.
— Звездный час?! — раздраженно пожал плечами Иннокентьев, — Может, ты хотел сказать — смертный?
— А чаще всего это одно и то же. Вспомни хотя бы Жанну д’Арк. Ее что же, по-твоему, за девственность, к тому же более чем сомнительную, причислили к лику святых? Или за победы, которые на поверку оказались никакими не победами?.. Нет уж, извини, за костер! Вот когда взошла она на костер, тут-то и пробил ее звездный час, так-то! А теперь твой черед, хоть твой костер и вполне безопасен, бенгальский огонь, так и ты невелика птица, знай свое место, — На сей раз, заведя свою нескончаемую проповедь, Глеб не гремел басами, не метал молний, а говорил негромко, проникновенно, словно речь шла о самом главном и неотложном, а времени у них обоих в обрез: завтра страшный суд. — Ты прав, с меня как с гуся вода, я — сторона, сижу себе на обочине, гляжу с любопытством на тех, кто по дороге шагает, кто бодренько, кто кряхтя, из последних сил выбивается, а идти — надо, остановка смерти подобна. А я со стороны, с обочины, из тенечка — да? — за вами наблюдаю. Так вы ведь меня тоже только со стороны видите, под вашим, а не моим углом. И невдомек вам, умникам и делателям, что я за эту, на ваш сторонний взгляд, такую удобную и безопасную позицию тоже недешево плачу и тоже постоянно, вседневно. Чем плачу?.. А хотя бы самоограничением. Отказом от тщеславия, честолюбия, карьеры, комфорта, семьи человеческой, наконец… что там еще в обязательный набор вашего вшивого счастья входит? А ведь даже и сейчас еще нет-нет, а скребет внутри, уж так-то хочется выделиться из общего ряда, и славы хочется, и успехов — хоть эстрадной певичке в пору завидовать. И в газете бы свою фамилию увидеть жирными литерами, и в телевизоре свою рожу немытую, и в святцах литературных имечко увековечить, и на благодарную память потомков тянет, как алкаша на запах сивухи, — прямо-таки беда! Мухой на мед полетел бы! И тут-то и вспоминаешь, что мухи не на один мед слетаются, и не на мед — еще с большей охоткой и вожделением, запах-то шибче, чем у меда, дух перехватывает, где уж тут второпях разобраться — мед или…
— О чем ты?! И при чем здесь ты?.. Разве я затем к тебе пришел? У меня неприятности, в которые ты же меня и втянул, неизвестно чем все кончится, а ты…
— И это все, ради чего ты пришел ко мне?.. — не то с искреннейшим удивлением, не то с таким же неподдельным сожалением, даже с жалостью покосился на него Ружин. — Все, что тебя волнует во всей этой чертовщине?! А я-то думал в кои-то веки поговорить с тобой о серьезном, о чем мы в спешке, в круговерти нашей вечной и задуматься не успеваем, а потом хватимся, да поздно, проспали сами себя…
— Вот оно что!.. — возмутился не на шутку Иннокентьев. Растерянность его и бессильное раздражение вдруг словно бы обрели цель — хватит играть в бирюльки, в жалкие поддавки с самим собой! — Вот оно что!.. Что ж, давай поразмышляем, но — начистоту, без этих ваших фиговых листочков, которые вы выдаете за высшую духовность, за этакое небожительство — мы выше, мы чище, мы знать не знаем, ведать не ведаем всего земного и грубого! А сами ко мне же и бежите: помоги, караул, бьют наших! Ваших, а меня-то вы своим не признаете, при каждом удобном случае спешите напомнить — не ваш я, куда мне до ваших горних высот духа! А бежите, кидаетесь в ноги, потому что знаете — без меня и таких неумытых, как я, вам крышка… Что ж, давай порассуждаем, если тебе так уж приспичило. Только, чур, выслушаешь меня до конца. И — не перебивать!
— Та-ак… — весело протянул Ружин, словно бы давно ждал этого разговора и был рад вволю им поразвлечься, — речь, как я понимаю, идет о душевном стриптизе? Долой стыд?
— Долой ваше копеечное самовлюбленное вранье! — вскочил с топчана Иннокентьев. — Вы ведь исходите из того, что одним вам известна истина в последней инстанции. Что вы схватили бога за бороду и он просто-таки обмирает от ужаса! Кто не с вами — тот против вас, а это уж и вовсе смертный грех неотмолимый, тут вы ни снисхождения, ни терпимости не ведаете, тут вы всем миром на провинившегося святотатца наваливаетесь, и горе ему, ошельмуете, подвергнете такому остракизму, что бедняге потом и костей не собрать. А чуть тронешь вас, осмелишься не согласиться или попросту промолчать, так вы в крик — мы люди без кожи, мы незащищенные, ранимые, с нами нельзя так грубо, нас беречь надо, холить-лелеять, мы — соль земли!..
Иннокентьев остановился перевести дух, и тут Ружин вставил спокойно:
— Ну а вы?.. Хотя нет, не будем торопить события, кто такие эти омерзительные, злокозненные «мы»? Не хочешь поименно, так хоть общие контуры обведи.
— A-а… — Весь этот разговор вдруг показался Иннокентьеву бессмысленным и постыдным: выходит дело, он плачется Глебу в жилетку. — Если тебе самому непонятно.
— Мне-то понятно, — Ружин запустил обе пятерни в бороду, — все, о чем ты говоришь с таким юношеским пылом, мне и самому — поперек горла, ненавижу и презираю. Только ведь это всего-навсего оборотная сторона медали, второй конец палки… Ну да ладно, к «нам» мы еще вернемся, а вот кто же такие эти «вы», от имени которых ты хвост распушил? Заметь, я без предвзятости, просто понять хочу и разобраться, почему это я — «мы», а ты — «вы». Где эта роковая черта, нас разделяющая?
— Вот хотя бы этот ваш… Хорошо, — раздраженно отмахнулся Иннокентьев, — теперь уже, увы, наш «Стопкадр»… Как, по какому такому беспроволочному телеграфу всей Москве мигом стало известно, что это из ряда вон явление, что Дыбасов — гений и первопроходец, а Ремезов — зажимщик и вор с большой дороги? И что надо всем миром кидаться на помощь, и, как ты сам сказал, у порядочного человека тут нет и не может быть выбора?.. Ну а если бы мне, лично мне, уж прости за нескромность, этого бы не показалось? Не понравился спектакль просто-напросто? Если бы…
— Пусть, — прервал его Ружин. — Предположим, что так оно и могло случиться. Но разве от этого перестает существовать самый факт, что Ремезов хочет присвоить себе работу Дыбасова? Одного этого недостаточно, чтобы кинуться на помощь Дыбасову и орать «держи вора»?.. Разве нет обстоятельств, когда порядочный, честный человек должен броситься на выручку другому, даже если этот другой ему и не шибко симпатичен?
— Но если бы мне спектакль и на самом деле не понравился? — Иннокентьев понимал, что ему никак не удается сказать словами то, что хочет, и так, как надо, а не значит ли это, что он, может быть, и не так уж прав, как ему кажется?.. — Если бы мне спектакль и в самом деле не понравился и я бы захотел сказать об этом во всеуслышание, хоть в том же «Антракте», например, — как бы ты и все вы к этому отнеслись?..
Ружин опять покосился на него, и Иннокентьеву показалось, что на этот раз — с некоторой неуверенностью.
— Как бы в этом случае, — настаивал Иннокентьев, — должен был, по-твоему, поступить тот самый порядочный человек? Отвлечемся от попытки Ремезова уворовать чужой спектакль, для ясности хотя бы.
— Зачем же отвлекаться от воровства? Порядочному человеку, извини, это едва ли придет в голову, — уклонился Глеб от прямого ответа.
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я хочу сказать, — не уступал Иннокентьев, хотя ему уже осточертел этот их с Ружиным бесконечный спор, заводящий всякий раз лишь в новый тупик. — Вы так же категоричны и нетерпимы, как и те, которых считаете своей полной противоположностью и с которыми не желаете иметь ничего общего. Вы так же не хотите позволить кому бы то ни было — не обо мне же одном речь! — иметь точку зрения, отличную от вашей, и отказываете ему в праве высказать ее вслух. Чем же вы отличаетесь в таком случае от них, этих ваших, как вы полагаете, антиподов, чтоб не сказать — заклятых врагов?.. Мне плевать что на вас, что на них, если и вы и они не оставляете за мной права быть самим собой.
— Готов был бы с радостью с тобой согласиться, даже обеими руками подписался бы под каждым твоим словом, — хитро и победно прищурился Ружин, словно бы нащупав наконец в рассуждениях Бориса слабое, уязвимое звено, — если бы ты хоть раз, хоть один какой-нибудь разик осмелился во всеуслышание сказать все, что ты думаешь о них. О том же Ремезове хотя бы или еще о ком-нибудь из той же весовой категории. Даже не то чтобы пощипать ему перышки, а просто констатировать, что новый его спектакль чуть хуже предыдущего. А?.. — И воззрился на него своими колючими глазками, будто вцепился в добычу когтями.
Иннокентьев промолчал, но про себя подумал, что этот их вечный спор похож на гонки по замкнутому кругу, когда уже не понять, кто кого догоняет и кто от кого бежит.
Не дождавшись его ответа, Ружин надолго задумался, глядя в открытую настежь форточку, словно бы ища там единственно неопровержимые слова.
— Видишь ли… видишь ли, все зависит от того, в какой степени мы бескорыстны. Если мы извлекаем хоть какую-нибудь личную выгоду из того, что говорим или о чем умалчиваем, ищи тут подвоха. Вот и в нашем с тобой случае…
Но Иннокентьев его уже не слышал. Что ему сейчас до пустопорожних разглагольствований Ружина?! Ему надо думать о деле, найти выход из чреватой бог знает какими осложнениями ситуации, предпринять что-то решительное, точное, беспроигрышное…
— …это как инстинкт, если уж на то пошло, — продолжал меж тем Ружин настойчиво и даже, как показалось Иннокентьеву, с какой-то давнишней болью, — инстинкт чести и нравственности, — либо он у тебя есть от рождения, либо обделили им тебя. Кстати, это одно и то же — врожденное чувство правды и чести и чутье на настоящее в искусстве.
— Ты хочешь сказать, что я… — услышал его последние слова Иннокентьев.
— Да, Борис, да… — Ружин взглянул ему прямо в глаза, но не с укоризной, а всего лишь с мягкой настойчивостью, не дающей ни увильнуть от прямого ответа, ни солгать, — Отличить настоящее от ненастоящего ты еще, пожалуй, способен, по крайней мере когда это тебе на руку, а вот что касается бескорыстия…
— Ты себе противоречишь!
— А как же, само собой, противоречу! — охотно и даже будто с облегчением согласился Глеб. — Я и есть сплошное противоречие самому себе. То есть я хочу сказать, что ты и насчет чести и правды знаешь все не хуже других, а вот какой для себя при этом выбор делаешь…
— Глеб!.. — взмолился Иннокентьев. — Но ведь в этой истории со «Стоп-кадром» я сделал свой выбор!..
— И тут же, как только запахло жареным, — словно бы отодвинулся от него куда-то вдаль Ружин, — норовишь уйти в кусты, да еще и найти виновных в твоей нечаянной слепой храбрости. Я даже знаю, кого ты винишь во всем. Кроме Дыбасова и Митина, разумеется. И уж, само собой, кроме меня, я-то у тебя всегда первый виноватый, поскольку уже давно заменяю тебе твою собственную совесть. Но на этот раз ты себе выбрал для удобства другого виноватого…
— Кого?! — вскинулся Иннокентьев: неужто и это Глеб в нем учуял?..
— Ее, — В голосе Глеба был опять не укор, а что-то вроде снисходительной жалости, которая была Иннокентьеву во сто крат унизительнее любого укора. — Потому что в твоей такой раз и навсегда просчитанной наперед, такой неукоснительно благополучной жизни, которую ты в поте лица себе отстроил и теперь бережешь пуще зеницы ока, она свалилась на тебя как снег на голову и все перепутала. Это как удар под дых, когда его совсем не ожидаешь…
— Я ее люблю!.. — хрипло вырвалось у Иннокентьева, заныло сердце. — Люблю, черт побери!
— Любишь, — легко согласился с ним Ружин. — Любишь и сам же боишься этого. Потому что знаешь, что ненадолго тебя хватит. А тут как раз такой случай подвернулся — все вернуть на круги своя…
— Я ни о чем не жалею! — выкрикнул фальцетом Иннокентьев. Замолчал и только много погодя договорил как бы про себя: — Я ее люблю, хотя… — И опять умолк надолго, чтобы потом спросить на удивление самому себе деловито: — Что же мне надо теперь делать, по-твоему?
Ружин долго на него глядел, затем встал, сказал скучно:
— Пойдем на кухню, я сварю кофе.
Он вышел за дверь, а Иннокентьев остался сидеть за столом, покрытом прилипающей к ладоням клеенкой, и вдруг почти физически ощутил, как в нем набирает определенность и твердость решение, что делать и на чем стоять вопреки чему бы то ни было. И как уходит, освобождая его и снимая все сомнения, то расслабляющее, лишающее воли и цели прекраснодушное раскисание, что пришло в его жизнь вместе с нею, с Элей. Он снова — и это ощущение не обманывало его, оно все, и окончательно, ставило на свои прежние места, — он снова становился собою, таким, каким был всегда и каким ему и должно быть. Что же до платы за это — что ж, за ценой он не постоит.
Он пошел за Ружиным на кухню, по дороге в передней встретился глазами со своим отражением в потускневшем, в рыжих подпалинах зеркале — это был опять он прежний, не знающий сомнений и ко всему готовый, он не отвел взгляд от прямого, настойчивого, чуть насмешливого взгляда своего двойника: он принял решение, единственно правильное и достойное его, и от этого решения он не отступится ни за какие коврижки.
Он подошел к двери на кухню, остановился на пороге. Ружин колдовал над кофе у плиты.
— Вот что, — сказал Иннокентьев, и голос свой, спокойный, твердый, тоже узнал и обрадовался ему как старому, верному другу, — я знаю, что надо делать. И ты удивишься, насколько это мое решение совпадает с твоими советами, которые ты конечно же собираешься мне понадавать. Хотя на самом деле они меж собой не имеют ничего общего. Даже совершенно противоположны. Но мы с тобой никогда, честно говоря, и не понимали друг друга. Так вот, я не собираюсь поднимать лапки кверху. Я напишу письмо самому главному моему начальству. А может быть, и еще повыше. И скажу — либо они выпустят в эфир мой «Антракт», либо… Одним словом, они должны знать, что со мной нельзя не считаться.
— Точнее — не рассчитаться, верно? — перебил его без насмешки Ружин через плечо. — Баш на баш, так?
— Что я не трус, — не услышал его Иннокентьев. — И не мне, а им платить по гамбургскому счету, если дойдет дело до этого.
Ружин помедлил, не оборачиваясь от плиты.
— А Дыбасов и Митин? «Стоп-кадр»?.. Или они все уже не в счет?
— После драки махать кулаками — последнее дело, — твердо ответил Иннокентьев. — Я сделал все, что надо. И что мог. А теперь пусть уж они сами, не маленькие.
Ружин по-прежнему стоял к нему спиной. Иннокентьев не стал дожидаться, что он скажет, повернулся уходить.
Глеб спросил ему вдогонку:
— А — Эля?..
Иннокентьев остановился на пороге, ждал.
Ружин так и не повернулся к нему лицом.
— Тут и гадать нечего — наверняка ты себя уговорил, — сам себе ответил Глеб, — это потому только у вас с ней не сладилось и никогда не сладится, что уж больно не одного поля вы ягоды, ты — интеллигент, она — полная противоположность… А ведь мы с тобой интеллигенты в первом, от силы — во втором поколении, мой отец на медные гроши выучился виноградники да филоксеры выхаживать, твой — сельский учитель с незаконченным высшим, а уж прадеды наши наверняка были и вовсе лапотниками, крестик под прошениями ставили… Да и какая мудрая голова это придумала: интеллигенция и народ?! Лично я — тот же народ, только одолевший накрепко грамоту и выучившийся не бояться думать. Думать — и не бояться!..
Иннокентьев напомнил сухо:
— Ты хотел — об Эле…
— Именно! — сурово подтвердил Глеб. — Именно о ней-то я тебе и толкую! Интеллигент — это кто? Это человек, живущий и думающий не для себя только, но и для других, не о себе одном пекущийся, но, как минимум, о человечестве. Эля умеет одно, для одного на свет родилась — любить, но это у нее как талант, как дар божий. Она дарит тебе всю себя, а именно это для тебя — обуза, крест тяжкий, потому что — ответить-то нечем… Интеллигент! Ты и до Коперника-то еще не доцивилизовался, в твоей космогонии Солнце все еще вокруг Земли вращается, ты — центр мироздания, пуп вселенной, а это одно отлучает тебя ото всякой, хоть и самой завалящей, интеллигенции!.. Ей ведь от тебя надо хоть такой же щедрости, нерасчетливости, что и у нее, а ты — пшик… — Остановился, пробормотал, махнув на себя рукою: — Ладно… что это я за здорово живешь мечу бисер черт знает перед кем…
Иннокентьев ничего не ответил, вышел, не простившись, на лестничную площадку, сбежал быстро вниз. По-видимому, кофе выкипел на плиту — даже внизу в подъезде был слышен его крепкий запах.
9
Иннокентьев написал свое письмо — именно письмо, а не заявление или объяснение, он его тщательно отредактировал, выверяя каждую фразу, чтобы оно и было прочитано начальством как личное письмо, а не просто как казенная бумага по инстанции. Он считал, что его положение на телевидении дает ему на это право.
Слишком многое было поставлено на карту. В ожидании ответа и вызова к начальству он не однажды подробно проигрывал про себя этот предстоящий разговор, стараясь предугадать, о чем его спросят и что ему скажут, и готовил свои ответы на эти вопросы, продумывал сильные и слабые стороны своей позиции.
Он не скрывал от самого себя, что, может быть, предпочел бы, чтобы никакого ответа не было, чтобы его никто никуда не вызывал и не надо было ни объяснять, ни настаивать на своей правоте. Он предпочел бы, чтобы все это дело тихо ушло в песок, было спущено на тормозах, чтобы о нем понемножку забыли, а со временем все, как учит нас жизненный опыт, так или иначе устраивается, утрясается, возвращается на то место, где ему и надлежит от века быть.
В противном же случае… в противном случае он, чем черт не шутит, может остаться без «Антракта», — а кто он, что он без своего «Антракта»?..
Оставалось одно — набраться терпения и ждать.
В середине апреля на гастроли в Москву приехал французский театр из Лиона, и по этому случаю в Театральном обществе было устроено что-то вроде полуофициального приема.
Когда Иннокентьев приехал в старинный особняк на Страстном бульваре, в небольшом ампирном зальце с темно-синими стенами народу было уже полно, на длинных столах были сервированы немудрящие напитки и закуски, вокруг них толклись с бокалами и тарелками в руках приглашенные, нечленораздельно гудели голоса, мешая русскую речь с французской. Знакомых была пропасть, и, пробираясь к столу — со стаканом или рюмкой в руке на подобных сборищах чувствуешь себя почему-то гораздо увереннее и спокойнее, иначе и вовсе непонятно, чем себя занять и как держаться, — Иннокентьев то и дело пожимал чьи-то руки, кого-то обнимал, обменивался ничего не значащими и ни к чему не обязывающими приветствиями, восклицаниями, междометиями, изображая на лице приличествующую случаю и месту беспечную оживленность.
Прославленный на всю Европу французский режиссер был в подчеркнуто демократичном, мятом и с замшевыми заплатами на локтях пиджаке, без галстука, актеры — кто в джинсах, кто в вытянутых свитерах, кто и вовсе в расстегнутых до самого пояса рубашках.
В дальнем углу зала Иннокентьев заметил стоявшую к нему лицом Настю Венгерову. Она его увидела еще раньше и следила за ним своими фиалковыми глазами. Встретившись с ним взглядом, она слегка кивнула ему и тотчас же отвернулась к своему собеседнику — высокому элегантному человеку с копной седых волос. Не узнать его было нельзя — это был не кто иной, как Аркадий Евгеньевич Ремезов.
Иннокентьев, глядя издали в сторону Насти, в который раз подумал о том, что из всех женщин не только в этом зале, но и в целом мире Настя была единственная, с которой ему могло бы быть хорошо. Едва ли он был бы с ней счастлив — актрисы не созданы для того, чтобы делать спутников своей жизни счастливыми, — и все-таки она одна по-настоящему ему подходила. Не судьба, подумал он со вздохом не то печали, не то облегчения, а жаль.
Он наблюдал со стороны, как спокойно и даже дружески улыбается, беседуя с Ремезовым, Настя. Актриса, подумал Иннокентьев. Но и такая она все равно ему подходила.
— Я не помешаю вашей беседе? — спросил он, протолкавшись к ним.
Пожать друг другу руки они с Ремезовым не могли — и у того и у другого они были заняты тарелками с крохотными бутербродами и бокалами с оранжадом.
— Отнюдь, — неожиданно высоким голосом радушно отозвался Аркадий Евгеньевич. — Даже напротив, вы, дорогой Борис Андреевич, как нельзя более кстати. Мы как раз говорили с Анастасией Константиновной о спектакле вашего, если не ошибаюсь, друга Игоря Александровича Митина и о том, как нам с ним быть.
Иннокентьев сразу понял, куда клонит Ремезов, сказав не «спектакль Дыбасова», что было бы гораздо логичнее, а «спектакль Митина», не тот человек Аркадий Евгеньевич, чтоб формулировать свои мысли неточно или не так, как считал нужным для дела. Но гораздо важнее была та откровенность, с которой он, не задумываясь — а вернее, наверняка заранее все продумав и взвесив, прежде чем на что-то решиться, — дал понять, что вполне в курсе того, что ему, Иннокентьеву, эта история со «Стоп-кадром» далеко не безразлична, что он, Иннокентьев, увяз в ней по самые уши и что вызов его принят. И еще что он, Ремезов, не только не устрашен и не обеспокоен этим, но и, приглашая Иннокентьева к открытому разговору, все просчитал вперед и принял все необходимые меры предосторожности.
— Вот как? — осторожно отозвался Иннокентьев и покосился на Настю, но она отвела глаза, — Едва ли я смогу быть вам полезен, Аркадий Евгеньевич.
— Уезжая в Югославию, — продолжал спокойно и рассудительно Ремезов, и по его тону никак было не понять, огорчен ли он сложившимися не по его воле обстоятельствами, равнодушен ли к ним или укоряет неведомо кого в том, что дело обстоит совсем не так, как он имел на то все основания рассчитывать, — я был убежден, что по возвращении найду работу над спектаклем совершенно законченной, только и останется что показать его художественному совету и сыграть премьеру. Вот Анастасия Константиновна не даст соврать. При всем том, что я с самого начала отдавал себе отчет во всех несовершенствах пьесы Митина, я был ее убежденным сторонником, Анастасия Константиновна и это может подтвердить. Не так ли, Настенька?
Венгерова не ответила. Иннокентьев подумал, что до того, как он подошел к ним, Ремезов наверняка убеждал ее перейти, пока не поздно, на его сторону и та наверняка уклонялась от прямого ответа, не говорила ни «да», ни «нет». И вот теперь и вовсе не знает, как себя держать. Ремезов хоть кого уломает и перетащит к себе в союзники, подумал Иннокентьев, тем более первую артистку своего же театра, которую он, и это всем известно, вылепил собственными руками, вывел в знаменитости, а по слухам, был даже когда-то влюблен в нее и чуть ли не собирался жениться. Да и можно ли хоть в чем-нибудь полагаться на актеров, на этих великовозрастных капризных детей, которых помани только новой ролью, потешь побрякушкой успеха — и они пойдут за тобой на край света, как гаммельнские ребятишки за Крысоловом…
— Нам в репертуаре давно была нужна серьезная психологическая пьеса, — продолжал, не настаивая на Настином ответе, Ремезов, как бы поверяя Иннокентьеву свои мысли и сомнения, а может быть, даже просто рассуждая вслух с самим собой, а уж от себя-то что скрывать, зачем перед собой-то лукавить, — не по-модерновому, уж извините меня, ретрограда, условная, не чернуха какая-нибудь на потребу снобам. Потому-то я, вопреки даже мнению большинства худсовета, включил в план пьесу Митина и дал ее ставить Дыбасову, способнейшему из моих учеников.
Настя подняла глаза на Ремезова, и Иннокентьев увидел, как сверкнула в них такая гневная обида, что он едва подавил улыбку: Настя никогда не простит Ремезову этого «ученика» в адрес ее нынешнего вероучителя и божества. Дыбасов, и в это Настя свято верит, не может быть ничьим учеником, он гений от рождения, с пеленок, на нем благодать небес, и никто не вправе считать, а тем более публично называть его своим учеником!
— Но, вернувшись, — сделал вид, что ничего не заметил, Ремезов, — я не стал торопить Романа, ждал, когда он сам придет ко мне и скажет — все готово, созывайте ваш худсовет. Но так и не дождался. Впрочем, у меня и своих собственных забот накопилось по горло, я и не стал напоминать ему. Но все сроки вышли, все наши планы горят, а заодно и премиальные артистам, а этого никто из них мне не простит, вот я и спросил его на прошлой неделе: готово? можно смотреть? И если бы ему нужна была моя помощь, я отложил бы в сторону все свои дела и, что называется, засучил рукава. Но в ответ
Анастасия Константиновна опять же была свидетельницей этой не очень, прямо скажем, достойной сцены — он закатил нечто похожее на истерику с криками и стенаниями, объявил, что ничего еще не готово, что он не может сказать, сколько времени ему еще понадобится, что искусство, видите ли, не сапожная мастерская, где можно заранее планировать и устанавливать какие-то сроки. Одним словом, ничего путного я от него так и не услышал. Ясно только, что он намерен еще неведомо сколько репетировать на сцене, а сцена нам нужна для следующего спектакля. Хоть мы и не сапожная мастерская, но государственный план и для нас — закон. Значит, ничего не остается, как переносить ваш «Стоп-кадр», — Ремезов так и сказал, глядя прямо в глаза Иннокентьеву, — «ваш», и тем самым и вовсе выложил на стол свои карты, — на неопределенное будущее, по крайней мере на следующий сезон. Если только, разумеется, самому Дыбасову и артистам не надоест тянуть до бесконечности эту волынку, такое на моем веку тоже неоднократно бывало. Переспелый фрукт, — он с особым смаком произнес это слово, «фрукт», — так же несъедобен, как и недозрелый. Как говорится, дорого яичко ко Христову дню. Вот такие наши дела, любезнейший Борис Андреевич, и, как из этого выбраться, ума не приложу. Вот я и хочу вас, а заодно и Анастасию Константиновну спросить — как бы вы поступили в подобной ситуации на моем месте?..
Но еще прежде чем он закончил свою неспешную, как то и подобает настоящему метру, непререкаемому авторитету, речь, Иннокентьев понял, к чему он клонит, какое решение принял и — обвел всех вокруг пальца как слепых котят: он не пойдет на скандал, он отказался от мысли присвоить себе дыбасовский спектакль, но и Дыбасову не увидеть этого спектакля как своих ушей. Ремезов поймал его на слове: спектакль не готов, и неизвестно, когда будет готов, а у театра есть план, есть график, нарушать его никому не дано, ничего не остается, как отложить эту затею на непредсказуемо далекое, а значит, и совершенно нереальное будущее, а уж там-то Аркадий Евгеньевич без труда найдет, под каким благовидным предлогом списать спектакль в творческие неудачи, в несостоявшийся — и отнюдь не по его, Аркадия Евгеньевича, вине, не он ли предлагал в свое время бескорыстную свою помощь, не он ли поддерживал почти в одиночку и пьесу и самого Дыбасова?! — эксперимент, а от неудачи кто застрахован? Просто, как все гениальное, — не Дыбасов доморощенный гений, а он, Ремезов, гений науки побеждать.
Вот почему те, которые узнали о решении Ремезова раньше его, Иннокентьева, и которые несут ответственность за все, что попадает на телевизионный экран, по всей справедливости — придраться не к чему! — сняли передачу «Антракта»: в ней уже не было ни нужды, ни смысла, дело разрешилось и без нее.
Не дожидаясь ответа Иннокентьева — да в его расчеты вовсе и не входило услышать ответ, — Ремезов нашел глазами кого-то в толпе и, небрежно извинившись: «Я вас ненадолго покину», повернулся к Иннокентьеву и Насте спиной и был таков.
Настя все молчала. Иннокентьев усмехнулся и сказал, поразившись сам тому, как это у него получилось — не мрачно, не обреченно или хотя бы с сожалением, а с каким-то даже злорадным облегчением:
— «Ты этого хотел, Жорж Данден».
Настя не поняла его:
— Ты о чем?
— Мы проиграли, очень просто. Другого и не следовало ожидать, честно говоря.
Она сказала упрямо, не сводя с него взгляда:
— Ты не знаешь Дыбасова.
— Хорошо, — поморщился он, ему вдруг все это смертельно надоело, — я проиграл.
— Ты не знаешь Дыбасова! — еще упрямее повторила она.
— Зато я знаю Ремезова. — Ему захотелось вдруг больно схватить ее за плечи, тряхнуть, чтобы она пришла наконец в себя, увидела мир в его истинном свете, перестала строить свои воздушные замки. Впрочем, тут же мелькнуло у него в голове, может быть, ему просто до смерти захотелось обнять ее и никогда больше не выпускать из объятий, ибо из всех женщин на свете она одна была нужна ему. Но это был бы еще один воздушный замок, не более того. — Я знаю жизнь.
— Ты не знаешь Дыбасова, — в третий раз повторила она, спорить с ней было бесполезно.
Вскоре он ушел и, спускаясь по лестнице, вдруг подумал, что — май на носу, весна, самая теннисная пора. И твердо решил, что завтра же подаст заявление об отпуске и укатит на юг, к теплому морю.
…Телефон зазвонил, когда Иннокентьев брился в ванной. Чертыхнувшись, он как был, с помазком в руке, побежал в кабинет и взял трубку, держа ее на отлете у уха, чтобы не вымазать мыльной пеной.
— Я слушаю.
Женский голос, вежливый, но твердый, спросил:
— Товарищ Иннокентьев?
— Я слушаю, слушаю! — нетерпеливо повторил Иннокентьев.
— Борис Андреевич, с вами говорят из приемной Помазнева Дмитрия Петровича. Дмитрий Петрович просит вас, если вы можете, зайти к нему сегодня к двенадцати часам. Если вас это устраивает.
— В двенадцать?.. — потянул с ответом Иннокентьев, застигнутый врасплох этим звонком и приглашением Помазнева, которое, и гадать не надо, наверняка связано с его письмом начальству. — Хорошо, в двенадцать.
— Спасибо, Борис Андреевич, мы вас ждем. — И на том конце провода положили трубку.
Добриваясь, Иннокентьев два раза порезал лезвием подбородок. Нервы, усмехнулся он про себя, нервишки…
Секретаршей Помазнева — как это он сразу не узнал ее голос по телефону! — была известная всем и каждому неприступная Елена Владимировна, которую боялись не только подчиненные ее начальника, но, по слухам, и он сам.
Но сейчас, когда он вошел в приемную, Елена Владимировна была с ним сама приветливость и дружелюбие.
— Пожалуйста, Борис Андреевич. Дмитрий Петрович вас ждет. Одну минутку. — Она нажала кнопку селектора на столе, доложила шефу: — Дмитрий Петрович, товарищ Иннокентьев уже здесь.
— Хорошо, — ответил несколько искаженный техникой голос Помазнева, — я закругляюсь. Извинитесь за меня, пожалуйста.
Иннокентьев сел в кресло, стал листать какой-то гедеэровский иллюстрированный журнал, лежавший на столике рядом.
— Если хотите курить, курите, Борис Андреевич, — предложила Елена Владимировна, — вообще-то у нас не принято, но для вас я сделаю исключение. — И, достав из ящика своего стола массивную стеклянную пепельницу, протянула ее Иннокентьеву.
Это уж было слишком!.. В Останкине, где курить разрешалось только на отведенных для этого лестничных площадках и где из дисциплинарных соображений за нарушение этого правила были оштрафованы пожарной охраной несколько сотрудников, среди которых и один главный редактор, и антиникотинную кампанию — это тоже было доподлинно известно — возглавлял не кто иной, как неизменный вот уже на протяжении двадцати лет член месткома Елена Владимировна, — чтобы именно она предложила сейчас Иннокентьеву курить, да еще сама протягивала ему пепельницу!..
Но Иннокентьев не успел сделать из этого поразительного факта какие-либо выводы — двери кабинета Помазнева открылись, из них вышли два сотрудника редакции, и голос Помазнева сказал по селектору:
— Елена Владимировна, пригласите товарища Иннокентьева.
Просторный кабинет Помазнева выходил огромным, во всю стену, окном на безбрежное, блекло-синее небо, отчего комната казалась свободно парящей в этой синеве.
Помазнев встал из-за стола и пошел навстречу Иннокентьеву, дружески потряс его руку и, обнявши, как в тот раз, в коридоре, за плечи, подвел к глубокому кожаному креслу впереди письменного стола. Дождавшись, чтобы Иннокентьев сел, вернулся за стол, свободно откинулся на спинку своего вертящегося стула, закинув ногу за ногу, приняв явно неофициальную позу.
Вернувшись в Москву после нескольких лет работы за границей, Помазнев привез оттуда, кроме знания двух или даже трех иностранных языков, еще и усвоенный там стиль делового, но демократически-свойского обращения с подчиненными, что не мешало ему при случае проявлять строгость и требовательность, и они не без страха душевного переступали порог его кабинета. При этом Помазнев безошибочно делил сотрудников на тех, кто боится его и готов не рассуждая выполнять любое его указание, и на тех, кто — из чувства собственного достоинства хотя бы, — прежде чем согласиться и подчиниться, высказывал и даже настаивал на собственной точке зрения, и недвусмысленно отдавал свои симпатии вторым.
— Одну секунду, Борис Андреевич, — извинился он и, нажав клавишу селектора, сказал тихим голосом человека, уверенного, что его не могут не услышать: — Елена Владимировна, не забудьте, пожалуйста, ровно в половине первого соединить меня с Прагой, а до часу — снимайте трубку, но меня здесь нет.
И заговорщически-весело улыбнулся Иннокентьеву, словно только для того и сказался отсутствующим, чтобы им никто не помешал провести несколько минут за дружеской, ничего общего с деловыми заботами не имеющей беседой.
Но тут же лицо его приняло серьезное, даже озабоченное выражение.
— Начну прямо с дела, — сказал он после недолгого молчания, в течение которого Иннокентьев смотрел не в лицо ему, а на его бледные, с длинными, сильными пальцами руки. На левой руке поблескивало в луче солнца тоненькое обручальное кольцо, и Иннокентьев подумал — как странно сошлось, что Помазнев женат именно на дочери Ремезова…
И тут он вспомнил — впервые с той их встречи у Дворца тенниса — Риту Земцову и то, что он так и не откликнулся на ее приглашение прийти к ней в гости. И Помазнев тоже не напоминал об этом:
— Так вот, возьмем, Боря, как говорится, быка за рога…
Вот оно, успел подумать Иннокентьев и почувствовал, как весь напрягся, ни дать ни взять теннисист в ожидании подачи противника.
— Вот я зачем тебя пригласил, Борис Андреевич. Двадцатого июня… да, кажется, именно двадцатого, хотя я могу и ошибиться… — Наклонился к столу, заглянул в какую-то бумагу, снова откинулся на спинку и чуть повертелся вправо и влево на своем стуле на шарнирах. — Нет, все-таки двадцатого. Так вот, в Париже намечается симпозиум в рамках ЮНЕСКО, организатор — Международный институт театра, симпозиум или конференция, это уж, как говорится, что в лоб, что по лбу, с темой то ли «Театр и телевидение», то ли «Театр на телевизионном экране», но и это не суть важно, успеем еще уточнить и подготовиться. А Париж всегда Париж, можешь мне поверить, Борис Андреевич! — И опять поглядел на Иннокентьева с давешним заговорщическим видом. — Июнь, еще не отцвели, как поется в песне, каштаны на бульварах, на набережных полно рыбаков… и теде и тепе.
Иннокентьев, сбитый с толку, не понимал, куда клонит Помазнев.
— Вам можно только позавидовать, Дмитрий Петрович.
— Мне?! — усмехнулся Помазнев, — Я в это время буду в Тюмени, давно намечено. Так что не мне завидовать надо, а вам, дорогой мой Борис Андреевич.
Иннокентьев не сумел скрыть своего недоумения. «Наверное, у меня сейчас довольно-таки глупое лицо», — подумал он.
Помазнев понаслаждался с дружески-хитроватой улыбкой его замешательством. Но в его взгляде Иннокентьеву почудилось и некое ожидание, некое понукание сказать или сделать что-то, чего он именно и ждет от него.
И хотя Иннокентьев сразу понял, чего ждет от него Помазнев, как понял с первых же слов, что стоит за его нежданным предложением насчет Парижа, он — как и нынешним утром, когда его тоже застал врасплох звонок Елены Владимировны, — чтобы потянуть время, изобразил всем своим видом полнейшую растерянность.
— Я?! Простите, Дмитрий Петрович, вы имеете в виду, что…
— Заграничный паспорт у тебя еще не просрочен? — И укоризненно развел руками, — И брось ты, старый, это дурацкое «вы»!
— Прошлой осенью я ездил на фестиваль в Дубровник…
— Это облегчает дело. Я советовался с товарищами, — Помазнев не стал уточнять, с кем именно он советовался, — вроде бы есть принципиальное согласие. Зайди к Дерегину, он все знает, я с ним говорил, оформляйся. Кстати, подумаем вместе, что ты можешь туда повезти из своих передач. Но об этом после, с ходу этого не решишь, — Говорил он все это очень делово, тоном, каким говорят с равным себе, сведущим человеком. — И если ты согласен, то, как говорится, Бог в помощь.
И считая, по-видимому, эту тему исчерпанной, легонько пристукнул ладонью по столу.
Но Иннокентьев не вставал, он знал, что должен что-то ответить на невысказанный вопрос Помазнева, хотя тот и оставляет за ним право промолчать.
И он решил промолчать — чего уж там, и так все ясно, и не он, а Помазнев своим предложением поставил точки над «и» и подвел черту под всем этим делом со «Стоп-кадром», а значит, и под его, Иннокентьева, письмом по начальству. Само предложение насчет командировки в Париж и есть, собственно, окончательный ответ на все вопросы, говорить об этом уже не было никакого смысла.
И как бы согласившись в этом с Иннокентьевым, Помазнев взглянул на часы на запястье, жестом попросил извинения, нажал клавишу, напомнил секретарше:
— Елена Владимировна, вы не забыли о Праге?
Разговор был окончен, все сказано, итоги подбиты.
И тут Иннокентьев вдруг так ясно представил себе, чего именно ждал от него Помазнев и что наверняка хотел от него услышать, что ему даже показалось, будто он въявь слышит собственный голос:
«Никуда я не поеду, Дима, не приму я ни от тебя, ни от кого угодно этой подачки, как ни называй ее — трубкой мира или тридцатью сребрениками. Я ввязался в это дело по собственной воле, никто за рукав не тянул, и хоть проку лично мне от этого никакого, но есть вещи, за которые человек должен драться, даже если он наперед знает, что из этого ничего не получится. Стоять до конца, если не хочет плюнуть самому себе в рожу. И уж, во всяком случае, не снимать пенки с чужой беды. Не в Дыбасове и не в Ремезове дело, речь уже о другом. И ты это понимаешь не хуже моего, верно?»
На что Помазнев — Иннокентьев и это как бы услышал совершенно явственно — должен был бы ему ответить:
«Понимаю, хоть и, положа руку на сердце, не знаю, как бы я сам поступил на твоем месте. Хотелось бы думать, что так же, не зря же мы с тобой знаем, что такое честный спорт, честная мужская игра. Собственно, этого-то я от тебя и ждал, ты прав. А как из этой заварухи нам с тобой выйти целыми и невредимыми… вот этого я, по правде сказать, не знаю. Но если уж на то пошло…»
«На то, Дима, на то, — должен был бы в свою очередь ответить ему Иннокентьев, — и не так-то я прост, чтобы от меня можно было откупиться даже командировкой в Париж. Дело сделано, Дима, но мавру не к лицу уходить несолоно хлебавши. Согласись я, ты бы первый был вправе не подать мне руки. А ведь мы когда-то играли в паре…»
На что Помазнев подал бы ему руку и они обменялись бы крепким рукопожатием.
Но ничего этого Иннокентьев не сказал, ничего в ответ на несказанное не услышал.
Надо было уходить. Иннокентьев встал.
Поднялся и Помазнев, протянул через стол руку.
— Извини, Боря, дела-делишки. Зайди к Дерегину, договорись обо всем. А перед отъездом мы еще успеем обсудить с тобой все детально.
Но Иннокентьев помимо воли и вопреки только что принятому решению промолчать не удержался:
— Я тут написал объяснительную записку…
Он так и сказал — «объяснительную», хотя его письмо никак нельзя было назвать объяснительной запиской, наоборот — это он сам как бы требовал объяснений.
Не выпуская его руки из своей, Помазнев бегло поглядел на него, и в этом его взгляде Иннокентьев уж и вовсе явственно прочел то, чего, собственно, Помазнев и не думал от него скрывать.
— Насчет отпуска?.. Считай, что мы договорились. У тебя как раз месяц до симпозиума и остается. Опять же завидую тебе, старый, — небось юг, море, теннис с утра до вечера?.. В рубашке вы родились, Борис Андреевич, мне бы хоть денек пожить так, на вольных хлебах!.. — И, еще раз пожав ему руку и отпустив ее, все-таки добавил: — Как видишь, у нас (Иннокентьев отметил про себя это «у нас», а не «у меня») нет никаких оснований ссориться с тобой, как, хочется думать, и у тебя с нами. А что до твоего «Антракта»… Кстати, почему бы тебе на материале этого самого симпозиума не соорудить очередную передачу? Очень, на мой взгляд, подходящая тема — театр и телевидение, в международном тем более аспекте, подумай…
Он вышел из-за стола, проводил Иннокентьева до дверей, на ходу заключил:
— К тому же, старый, не будем преувеличивать нашего с тобой места в мироздании. На том же Центральном телевидении хотя бы. Если смотреть правде в глаза, наш «Антракт», — он так и сказал, чтобы смягчить смысл сказанного, не «твой», а «наш», — на фоне всего, чем занимается Гостелерадио, — капля в море, малая толика. Есть вещи куда более значительные, согласись — пропаганда, экономика, международные дела, борьба за мир, даже спорт, если хочешь… дел по горло, только поспевай. — И уже на самом пороге, положив привычно руку на плечо Иннокентьева, подвел окончательный итог: — Плетью обуха не перешибешь, Борис. Да и Дыбасов твой не больно нуждается в нашей помощи, говорят, он талантлив прямо-таки дьявольски. А талант, как сказано до нас, свое возьмет, да и чужое тоже в придачу. Как говорится, Богу богово, кесарю кесарево. А уж встревать между Богом и кесарем — себе дороже…
И в этих последних его словах Иннокентьеву послышалась почти явная насмешка, словно на протяжении всего их разговора Помазнев действительно ждал от него совсем другого, да так и не дождавшись, навсегда переменил о нем мнение.
10
Поджидая ранним утром запаздывающую Элю в такси на площади Маяковского, где они договорились встретиться — Эля ездила к себе в Никольское за летними вещами, — Иннокентьев не мог избавиться от навязчивой мысли, стоило ли вообще затевать этот вояж вдвоем. Не испытывает ли он судьбу, решившись провести отпуск вместе с нею и именно в Сочи, куда он ежегодно ездил в это время один либо в компании таких же, как он, заядлых теннисистов?.. И если бы она сейчас и вовсе не пришла, он бы, кажется, был только рад этому и вздохнул с облегчением.
Она появилась прямо-таки как из-под земли, рывком открыла заднюю дверцу машины, бросила ему без тени какой бы то ни было вины в голосе: «Извини, я чуток опоздала, да?» — и как ни в чем не бывало бодренько скомандовала таксисту, плюхнувшись на сиденье:
— Поехали! Кого ждем?
Таксист, словно бы только и дожидался этого хозяйского окрика, рванул с места, а Иннокентьев обиженно промолчал полдороги, ожидая, чтоб она извинилась за опоздание или хотя бы объяснила его. Но она тоже молчала, и когда, уже на Киевском шоссе, он не выдержал и обернулся к ней, то увидел, что она преспокойно спит, уронив голову на потертую дорожную сумку из искусственной замши.
И в самолете она сразу, как взлетели, тоже уснула и не проснулась, даже когда стюардесса принесла завтрак. Иннокентьев не стал ее будить.
Эля проснулась, когда самолет стал уже снижаться и, вздрогнув всем корпусом, выпустил шасси. Удивленными, чуть испуганными глазами огляделась вокруг, словно бы никак не могла взять в толк, где она и что с ней происходит, тут же прильнула к иллюминатору и громко, на весь салон вскрикнула:
— Ой!.. Это что же такое там, внизу?!
Иннокентьев взглянул через ее плечо в иллюминатор — внизу было море, но оттого, что самолет, разворачиваясь, лег на одно крыло, казалось, что оно не расстилается горизонтально, а встает дыбом, отвесной, грозящей обрушиться на тебя бледно-синей, в мелких белых кудряшках, стеклянно-сверкающей стеной.
— Это — море? — с восторженным удивлением, словно б не веря собственным глазам и боясь обмануться, все допытывалась Эля, — Море, да?!
— Ты что, никогда не видела моря? — удивился Иннокентьев.
— Нормально! — призналась она. — Откуда?!
Господи, подумал он с завистью, сколько же открытий ей еще предстоит в жизни! И как долго еще мир вокруг будет для нее неисчерпаемым источником удивления, восторгов, недоумений!.. Он попытался вспомнить, когда же сам в последний раз вот так недоверчиво восхищался чем-нибудь, но за давностью времени так ничего и не вспомнил — он уже долго жил с привычным ощущением, что ничего нежданного или по крайней мере достойного удивления с ним и не может приключиться.
Самолет развернулся от моря к берегу на посадку, блекло-синяя гладь опять улеглась горизонтально и вскоре вовсе пропала из виду.
На всем пути из аэропорта в город юг встречал их ясным, без единой помарки, совсем уже, казалось, летним небом, чуть подкрашенной лиловым мягкой синевой моря, которое на расстоянии тоже казалось по-летнему теплым, сочной, похожей на застывший зеленый взрыв листвою платанов.
Но когда они, оформив без проволочек — и даже без подозрительных взглядов пожилой администраторши по поводу отсутствия в их паспортах штампов о законном супружестве — заказанный Иннокентьевым еще из Москвы номер, умывшись с дороги и переодевшись, спустились к морю, оказалось, что далеко еще не лето, солнце еще и не думает припекать, воздух сыр, а внизу, у воды, ветер и вовсе пронизывает до костей. Пришлось вновь подняться в номер и надеть что-нибудь поплотнее.
Следующим утром, понежившись допоздна в постели и наскоро позавтракав в кафетерии при гостинице, они спустились на пляж, взяли лежаки, пристроились у бетонной стены, хоть как-то защищавшей от пронизывающего ветра, и легли загорать на нежарком даже в полдень солнцепеке. Но больше каких-нибудь пяти минут Эля не вылежала, села на топчане, поджав к подбородку молочно-белые, незагоревшие ноги, кожа ее тут же покрылась пупырышками от знобкого ветра, неотрывно, с каким-то упорным, настойчивым ожиданием глядела на море, на игру солнечного света и неутомимой воды, набегающей на берег металлически шуршащими галькой плоскими волнами, на подернутую дымкой даль. Иннокентьеву казалось, что она чего-то ждет от моря, какого-то ответа на ей самой неведомый вопрос, и этот ответ разом снимет все ее недоумения перед жизнью.
В то первое утро на берегу она совершенно не разговаривала с Иннокентьевым, словно бы вовсе позабыв о нем или даже будто его и не было рядом. Он не прерывал этого ее настойчивого, напряженного молчания, смотрел на нее сбоку, и его вдруг переполнило чувство такого прочного, ничем не уязвимого покоя, что он засомневался — с ним ли все это происходит и сейчас ли, а не с кем ли другим в далеком и безмятежном детстве?..
Она неожиданно, рывком — он так и не смог привыкнуть к этим ее неожиданным переходам из одного состояния в прямо противоположное, никак не мог приноровиться к тому, что она, собственно, из одних этих неожиданностей и состоит, — вдруг обернулась, низко над ним склонилась и стала торопливо и жадно, наплевав на то, что вокруг люди, целовать его словно бы для того лишь, чтобы удостовериться, что он здесь, рядом, и что вообще все это — он, море, несмелое весеннее солнце и полная их свобода ото всего того, что в Москве так или иначе постоянно угрожало им, — что все это действительно существует и принадлежит ей.
Потом так же неожиданно выпрямилась, вновь обхватила колени руками и уставилась на море, опять напрочь забыв об Иннокентьеве.
Уже в то первое утро, проснувшись, он услышал с высоты их седьмого этажа, как доносятся снизу тугие и звонкие шлепки теннисных мячей, и, выйдя на балкон, увидел на чистеньком, кирпично-красном, расчерченном свежими белыми линиями прямоугольнике корта фигурки игроков, и ему стоило немалых усилий не сбежать тут же вниз. Он вернулся в номер — теннисные его ракетки укоризненно валялись на диване, из раскрытого чемодана выглядывала спортивная форма. Эля еще спала. Скрепя сердце Иннокентьев решил, что первые день-другой он будет отсыпаться, приходить в себя, чтобы потом выйти на корт во всеоружии.
В тот же вечер они поехали в полупустой пока, в конце апреля, «Кавказский аул», под открытым небом было еще холодно сидеть, оркестр наяривал так громко, что они не слышали друг друга. Но Эле нравилось все, ото всего она приходила в счастливое возбуждение, как ребенок, которому надарили вдруг кучу новых, невиданных игрушек и позволяют делать с ними все что вздумается.
Да и сам Иннокентьев ловил себя на том, что уже через день совершенно забыл о своих московских делах и заботах, и не отпускавшее его в последние недели ни на миг опасливое ожидание чего-то непредвиденного испарилось без следа. «На свете счастья нет, — радовался он самому себе, — но есть покой и воля». Но тут же ему приходили на ум другие строчки, начисто опровергающие первые: «Покоя нет, покой нам только снится». Но от этой несовместимости на душе становилось не тревожно, а, напротив, весело и не страшно: не он один заплутался в трех соснах.
Но при этом он твердо знал, что на самом деле чувствует себя в своей тарелке и таким, каким ему и должно быть, отнюдь не в такие вот безмятежные, короткие отпускные дни, не когда отдыхает и наслаждается ничегонеделанием, а как раз когда московская расчетливая, деловая суета наваливается на него горой и требует от него безотлагательных поступков, действий, решений. Требует от него дела. Да, таким уж сотворила его жизнь. И нечего лить буколические слезы по гармоничному житью-бытью на лоне матери-природы. Человеку не дано изменить свою однажды и навсегда наладившуюся жизнь, а уж тем паче — самого себя. Да и нужно ли?..
В первые майские дни сочинские гостиницы прямо-таки заполонила — Иннокентьев это наблюдал и в прежние свои приезды — всевозможнейшая сомнительная публика, от которой за версту несло детально предусмотренными уголовным кодексом правонарушениями. Но пестрая и вместе на одно лицо эта шушера не только не таилась от чужих глаз и не пыталась выдать себя за законопослушных граждан, живущих на вполне трудовые доходы и сбережения, а как бы даже из кожи лезла, чтобы обличьем и повадкой привлечь всеобщее внимание. И глаза у них у всех одинаково глядели на мир с откровенным презрением и самодовольством, с этаким хитрованским прищуром — кто есть кто и что почем.
И женщины их — жены, любовницы, спутницы жизни на неделю, на день, а то и на час — тоже были им под стать, от них всегда, в любое время суток пахло импортным коньяком, дезодорантом и обильно политыми чесночным соусом цыплятами табака.
Иннокентьев испытывал к ним почти физическую брезгливость, ему казалось, что после каждой встречи с ними, на пляже ли, за обеденным столом или в лифте, нужно немедля стать под душ и долго отмывать от себя их запахи и даже следы их наглых, липких взглядов. В отличие от него Эля, в первый же день оказавшись с ними за одним столиком в кафетерии, не только не чуралась общения с ними, но легко и без тени предубеждения разговорилась, завела знакомства. Иннокентьеву даже показалось, что с ними ей разговаривать проще и легче, чем с ним.
Вечером, укладываясь спать, он не удержался:
— Не понимаю, как ты можешь?! Это же отпетое жулье, проходимцы! Ты только посмотри, какими глазами глядят на тебя эти кобели! Они же тебя просто раздевают взглядом и, если бы не я рядом, тут же потащили бы в койку!
Она ответила спокойно, без упрека:
— А разве ты смотрел на меня иначе, когда мы с тобой познакомились? И не хотел потащить сразу в койку?.. А что жулики, так для этого есть милиция, прокуратура, мало ли кто, не мне же их сажать в тюрягу. А так — люди как люди, есть и хуже, просто тебе не встречались. Поездил бы ты в общественном транспорте!.. — Это был ее любимый аргумент. — Тем более один из них обещал мне достать в Москве импортные сапоги по себестоимости.
— Если ты с ним переспишь, разумеется! Ты бы у него еще что-нибудь попросила.
— А разве ты мне все это напокупал, — кивнула она на висящие в открытом шкафу свои вещи, — не потому, что я с тобой сплю?.. — И посмотрела на него в упор из-под растрепавшейся челки. Иннокентьеву от этой ее почти циничной прямоты, на которую ему, собственно, нечего было возразить, стало не по себе. И так же спокойно, словно речь шла о чем-то самом будничном и обычном, завершила свою мысль: — Только я никогда ни за какие шмотки ни с кем не ложилась в койку. В том числе и с тобой. И если ты думаешь…
— Я не думаю, — устыдился он только что сказанного: в чем, в чем, а в корысти ее нельзя было упрекнуть, — ты же знаешь!
— Что я про тебя знаю? — пожала она плечами. — Ничего я про тебя не знаю. Это тебе, вынь да положь, все про меня знать надо — кто у меня был до тебя, как жила, что думаю… Мне плевать, что у тебя было до меня, я и догадываться-то не имею желания. Потому что я тебе верю, очень просто, а вот ты мне не веришь. Не в то не веришь, сплю я с кем-нибудь еще или нет, а вообще не веришь. Не знаю, как это сказать. Ну, в том смысле, что — пара я тебе или не пара. Я и сама секу, что не пара, не бойся. И не в смысле, что замуж ты меня никогда не возьмешь, я про это и сама не мечтаю, — пара я тебе или не пара даже так, как сейчас. Не маленькая, сама догадываюсь, кто ты и кто я… Просто влипла, как последняя дурочка…
Его поразило, не то, что она сказала, а то, что все это ей не сейчас пришло в голову, она наверняка давно, с самого начала об этом думает и сделала для себя беспощадно трезвые выводы. И ни в чем его не укоряла, ничего не требовала, а ведь эти ее выводы достались ей не без боли, не без уязвленного самолюбия. И именно в том, что она так долго и упорно об этом молчала, и заключается ее упрек ему, и на него ему тоже нечего ответить.
— А разве я сам не влип?! — И тут же услышал в своем ответе признание собственной вины перед нею.
Она отозвалась не сразу, как бы раздумывая над его словами:
— Ты-то?.. Не знаю. Может, тебе просто так кажется. У меня у самой так часто бывает — думаю про себя одно, а потом, глядишь, оказывается совсем все наоборот. Не знаю… — Она помолчала опять, не решаясь сказать вслух то, что пришло ей на ум, и тоже не сейчас, не сию минуту, — Может, ты все еще одну бывшую свою жену любишь, даром что она тебя бросила, так тоже бывает, по себе знаю. И я для тебя просто… ну, чтоб о ней не думать, чтоб не так обидно было. Разве ж не так? Нормально!
Иннокентьев опешил — эта подмосковная деваха с ее грубоватой, неподкупной прямотой души, казавшаяся ему еще недавно назатейливой и простенькой, как дешевый ситчик, выходит дело, понимает его лучше, чем он сам. Понимает, не строит никаких иллюзий, прощает, молчит…
Но ничего этого он ей не сказал — слова тут ничего не могли ни объяснить, ни искупить, да и не нужны ей были его слова, ей просто нужна была совсем другая, чем он мог ей дать, любовь.
— Ты не меня, бедненький, стесняешься, — продолжала Эля без обиды, а так, как обсуждают что-нибудь занятное, но не больно тебя лично касающееся, — ты себя самого, когда рядом со мной, стесняешься — как бы кто чего про тебя не подумал. Вроде бы со мною ты как в драных носках или еще как-нибудь. И вообще все вы…
«Кто это — „вы“?» — хотел было он ее прервать, с него было достаточно и того, что он уже от нее услышал.
— …все вы, — не услышала она его, — больше всего боитесь, что о вас подумают не так, как вы сами о себе думаете. Или хуже, чем про кого-нибудь другого. А какая разница, как о тебе подумают, если ты сам знаешь, что на самом-то деле все не так?.. — Она помолчала, потом с искренним огорчением добавила: — Я-то раньше, ну, в самом начале, как с тобой познакомилась, думала: если человек и вправду культурный, ученый, он что-то такое самое главное знает, что стоит ему мне про это сказать — и все станет ясно как на ладошке и ничего уже не будет страшно… А вы, оказывается, и сами-то всего боитесь — как на вас посмотрят, что скажут, и только и делаете что коситесь — вдруг кто-то не так поглядел. А если со стороны… Вот ты говоришь: торгаши, жулье, мещане всякие… а со стороны-то тебя от них не сразу отличишь — в том же «адидасе» ходишь, так же на всех с насмешечкой поглядываешь, и по одежке встречаешь, и в кабаке обожаешь посидеть, только в своем, куда других не пускают, чтоб и тут отличиться… Да не о тебе же я лично! — отмахнулась она от него, когда он хотел ее опять перебить, — Я — вообще.
— Не говори ерунды! — вспылил он не на шутку, но тут же почувствовал, что в этой ее ерунде, в этой чуши, которую она несет, есть что-то такое, чего бы ему лучше о себе не знать, — От тебя рехнуться можно!..
Дня через два, проснувшись поутру от тугого стука мячей о ракетку и позавидовав играющим, он услышал из-за спины ее сонный голос:
— Что же ты про теннис свой забыл? Говорил — теннис, теннис, полчемодана — твое шмотье, а сам позабыл. Сходил бы поиграл, вон как они внизу резвятся.
— А ты? — спросил он неуверенно.
— А я еще покемарю, потом сама поем в кафе, только бабки мне оставь, на пляже встретимся. Тебе же хочется.
Он наскоро побрился, оделся во все теннисное, схватил ракетку, по пути забежал в кафетерий, выпил, обжигаясь, чашку двойного кофе из «экспресса», проглотил, не прожевывая, бутерброд и сбежал по асфальтовой крутой дорожке вниз, к корту.
Там уже сражалась, и, судя по обильному поту на лицах, спозаранку, четверка игроков.
Войдя на корт, он поздоровался и, присев на скамейку, стал наблюдать за игрой. Играли они сильно, и Иннокентьев подумал, как бы ему, не бравшему вот уже месяца три кряду ракетку в руки, не ударить в грязь лицом.
Небо было затянуто неплотными, легкими облачками, потом они наверняка разойдутся и выглянет солнце, но пока не печет, с моря дует прохладный сухой ветерок, еще часика два погода будет в самый раз.
Минут через десять на корт вошла молодая, явно спортивная девица. Иннокентьев сразу отметил ее длинные, чуть, пожалуй, полноватые ноги и уверенный разворот плеч. На ней было голубое теннисное платье, едва скрывавшее округлые, успевшие уже чуть загореть бедра, в руках чехол с двумя ракетками и желтая коробка с мячами, через плечо висело пестрое махровое полотенце. Густые и длинные, по плечи, волосы, русые с сильным медным, почти рыжим отливом. Несмотря на раннее утро, от нее уже пахло духами. Поскольку она пришла налегке, без спортивной сумки, Иннокентьев решил, что она живет тут же, в гостинице.
Она поздоровалась с играющими, они, не прерывая игры, хором ей ответили, подошла к скамейке, на которой дожидался своей очереди Иннокентьев, и безо всякого удивления в голосе, словно бы заранее знала, что он окажется здесь, и рассчитывала на эту встречу, поздоровалась с ним:
— Доброе утро, Борис Андреевич. Что это вас до сих пор не было видно на корте?
Он привстал и пожал протянутую ему руку, удивленно посмотрел ей в лицо и не узнал. По тому, как она по-приятельски запросто с ним поздоровалась, наверняка он с ней хорошо знаком, по той же Петровке или по Лужникам, но вспомнить, кто она и где он с ней встречался, Иннокентьев не мог. А спрашивать об этом было неловко, и ему не оставалось ничего другого, как сделать вид, что тоже узнал ее.
— Акклиматизируюсь, я только два дня как приехал. А вот сегодня решил, что пора. — И, все еще тщетно пытаясь вспомнить, кто бы она могла быть и, главное, как ее зовут, осторожно спросил: — А вы тоже здесь остановились, в «Камелии»?
— И даже на одном с вами этаже, — улыбнулась она, присаживаясь рядом с ним на скамейку и вытягивая свои стройные ноги, словно бы приглашая его полюбоваться ими, — Но вы упорно не желаете меня замечать, я даже подумала, не обидеться ли мне. Но потом решила, что еще успею это сделать, мы бы ведь все равно рано или поздно встретились на корте.
Он промямлил что-то насчет своей злополучной зрительной памяти, насчет того, что приехал из Москвы таким выпотрошенным, что вообще ничего вокруг себя не видит и не замечает, но она слушала его безразлично, видно не очень-то огорчаясь, что он ее не узнал. От этого Иннокентьеву стало еще более неловко, он мучительно старался выскрести из памяти хоть какую-нибудь подсказку — кто она и где он мог ее видеть.
До конца сета они лишь изредка обменивались короткими репликами по поводу событий на корте.
Проигравшие уступили им место, она достала из чехла ракетку и направилась на площадку, на ходу бросив ему без укора:
— Вы просто начисто меня забыли, Борис Андреевич, а ведь нас знакомил не кто иной, как ваш шеф, Дима Помазнев. Это было в ЦСКА, еще шел проливной дождь. Я вам напомню — я прихожусь Диме свояченицей, сестра его жены. И чтобы вы не мучились, вспоминая, как меня зовут, тем более что нам сейчас играть в паре, — Рита Земцова, уж это-то, надеюсь, вам удастся запомнить.
Не дожидаясь его извинений, Рита вышла на площадку, и уже по первым ее ударам, по тому, как спокойно и ритмично, безо всякой торопливости она принимала мячи и по-мужски сильно отвечала на удары партнеров, Иннокентьев понял, что она наверняка играет в теннис с самого детства и учителя у нее были хорошие.
За всю партию — а сет сложился трудный, счет все время был равный, и только под самый конец противникам Удалось вырваться вперед на два гейма, играли больше часа, — Иннокентьев и Земцова не обменялись ни единым словом, кроме неизбежных «играю!», «уйди назад!», «выхожу к сетке!», понимая друг друга и без слов, словно бы не в первый раз играли в паре.
Закончив игру, партнеры, пожав им на прощание руки, торопливо ушли — у них была назначена еще одна встреча где-то в другом месте. Иннокентьев и Рита, уступив место новой паре, разгоряченные, потные и не чуя под собой ног от усталости, присели на скамейку.
Сидели, приходя в себя, курили, перекидываясь замечаниями об игре, всякими курортными пустяками — долго ли продержится такая славная погода, успеет ли прогреться до их отъезда море, чтоб можно было хоть разок поплавать всласть, куда деваться вечерами. Иннокентьев все еще испытывал неловкость за то, что не узнал ее, и, хоть понимал, что инцидент давно исчерпан, не удержался:
— Как это я мог вас не узнать…
— У меня, наверное, неприметная внешность, — улыбнулась она легко.
Потому ли, что по ее усталому, обострившемуся от долгой игры лицу обильно тек пот и она, забыв о полотенце, утирала его тыльной стороной ладони, но сейчас она показалась Иннокентьеву совсем иной, чем в первую их встречу. Тогда она была типичной московской светской дамой, неотличимо похожей на всех московских дам ее круга. «Потому-то я ее сейчас и не узнал, — утешил себя Иннокентьев, — в Москве они все друг на дружку похожи, как деревянные матрешки».
— Да и девушка я скромная, не лезу на глаза, — продолжала Рита, со вкусом затягиваясь сигаретой. — Я-то вас сразу узнала, как вы приехали, я как раз спустилась в вестибюль, когда вы оформлялись у администратора.
Значит, она и Элю видела, опасливо мелькнуло в уме у Иннокентьева. Он тут же устыдился, обругал себя: что за чушь, почему это он должен испытывать неловкость за Элю, да еще перед какой-то светской дамочкой, которая наверняка тоже не теряет тут времени даром, смешно даже подумать!..
Но об Эле Рита ничего не сказала, то ли не увидела ее тогда, то ли ей хватило такта промолчать.
— Теперь самое время в море окунуться, — заключила она и бросила не глядя докуренную сигарету через плечо за ограждающую корт металлическую сетку.
— Холодно, градусов шестнадцать, — возразил он.
— Где наша не пропадала! В Прибалтике это считается полной роскошью. Рискну, пожалуй.
— Что ж, — неожиданно для самого себя решился и он, — составить вам компанию, что ли? Быть в Сочи и не искупаться…
— Вас наверняка уже ждут на пляже, — спокойно сказала она, застегивая «молнию» на чехле с ракетками и вставая со скамейки. — Спасибо за игру. Завтра вы придете? После обеда тут тьма народу, я предпочитаю играть по утрам.
— Непременно, — Он вдруг неизвестно за что обиделся на нее и сказал это суше, чем хотелось, — По-моему, у нас с вами сегодня неплохо получалось, хоть я и не играл ни разу за всю зиму. А вы в форме, можно только позавидовать.
— Завидовать одинокой и не такой уж молодой женщине… — без улыбки усмехнулась она. — Не знаю, Борис Андреевич, не знаю… До завтра.
И ушла, а он почему-то запретил себе глядеть ей вслед, на ее округлые, крепкие, покрытые первым загаром ноги и на копну почти рыжих волос, рассыпавшихся по чуть широковатым, по-мужски развернутым плечам.
Он вернулся к себе в номер — Эли уже не было, ушла на пляж, — принял душ и долго сидел на балконе, потягивал прямо из бутылки пиво, курил, глядя на гладкое, без единой морщинки море, на белые треугольники яхт, на стадион с пестрыми фигурками бегунов на красной гаревой дорожке. Па корте опять играли. Рита права — после полудня там не протолкаться, играть надо ранним утром.
Взяв плавки и полотенце, он спустился на пляж. Эля была на обычном их месте, сидела на лежаке, по привычке согнув колени и обхватив их руками. Иннокентьев еще издали увидел, что кожа ее на плечах и спине стала угрожающе красной. Еще обгорит, подумал он, надо сказать, чтоб шла домой. Вокруг нее сидели тесной стайкой те самые девицы, которых Иннокентьев на дух не принимал и с которыми не велел Эле якшаться. Она им что-то увлеченно рассказывала, по-видимому очень смешное, они громко смеялись своими южно-российскими высокими голосами, и сейчас Элю, подумалось Иннокентьеву, было не отличить от них. «А ведь знает, сто раз ей говорил, просил держаться от них подальше! Впрочем, — зло и гадко подумалось ему, — сложись чуть иначе обстоятельства, она бы и сама могла оказаться одной из них, сама мне рассказывала о своих баскетболистах или о ком там еще…»
Он уже пожалел, что спустился на пляж, и хотел было пройти прямо к морю, но Эля его окликнула:
— Борис Андреевич, наконец-то! А мы вас ждем. Идите к нам! Девочки, подвиньтесь.
Она назвала его по имени и отчеству и на «вы», значит, растравлял он себя и чувствовал при этом какое-то злое удовольствие от собственного раздражения, она стесняется их отношений, не хочет, чтобы о них догадались даже эти дешевочки, телки эти, даже от них она скрывает, что ее хахаль — вот этот седенький и, за версту видать, осточертевший ей карась или как там у них это называется…
— Я пойду окунусь, — резко бросил он на ходу и спустился по крутому металлическому трапу вниз, к воде.
Эля что-то сказала ему вслед, но он не услышал ее, бросил на крупную, обкатанную морем гальку полотенце, стал раздеваться. Входить в море совершенно не тянуло, но он упрямо, будто мстя кому-то, даже не попробовав воду ногой, шагнул в нее, холод разом обжег ступни и щиколотки, ну и плевать, тем лучше, может, хоть это охладит расходившиеся нервы. Он вошел поглубже, присел на корточки, ледяная вода сжала тесным ободом грудь так, что дыхание перехватило, но и это его не остановило — он поплыл, но, сделав несколько гребков, тут же весь закоченел, испугался, что сведет ноги, и повернул обратно, кляня себя за идиотское молодечество.
Выбравшись на берег, он долго растирал полотенцем занемевшее тело, его била дрожь, стекающие с волос на плечи капли казались совершенно ледяными. Растеревшись докрасна, он лег навзничь на успевшую прогреться гальку и подставил тело солнцу. Но оно не грело, лишь слепило глаза, лежать на гальке было жестко.
Сейчас он почти ненавидел Элю. Что ж, убеждал он себя, он ведь всегда знал, что рано или поздно это случится, и почему бы не сегодня?! — все, что их связывает, так противоестественно, есть ли что-нибудь на свете менее надежное, чем эти их отношения, чем вот такая, с позволения сказать, любовь, да и любовь ли это, а не жалкая ли попытка спрятаться неизвестно от чего?.. И не знал ли он, не догадывался ли с самого начала, что так оно и будет по той простой причине, что иначе не может быть… И хотя он прекрасно отдавал себе отчет, что вся эта неизбежность коренится в нем одном, Эля тут ни при чем, а злился на нее, на Элю, и уже сейчас, когда ничего еще, казалось бы, не произошло, ее же винил в том, что еще только случится.
Дрожа всем телом и клацая зубами от холода, он думал — чем скорее, тем лучше. Чему быть, того не миновать. С глаз долой, из сердца вон. Сколько, оказывается, в кладезе народной мудрости успокоительных, на все случаи жизни, простеньких истин, единственный смысл которых в том, что они освобождают тебя от всякой ответственности, от необходимости действовать или хотя бы сопротивляться.
Солнце совершенно не согревало, озноб не отпускал, не заболеть бы еще, чего доброго, только этого не хватало, может, все-то эти его докучные мысли просто-напросто оттого, вяло пришло на ум Иннокентьеву, что не надо было ему лезть в эту чертову воду, все Земцова, будь она неладна!..
Было слышно, как наверху, на бетонной галерее над пляжем, заливисто смеются девицы, и громче других низким, грудным смехом — Эля.
К вечеру он и в самом деле заболел, температура подскочила до тридцати восьми и пяти, заложило нос и уши, каждое слово отдавалось в голове вязким, как сквозь вату, гулом, и свой собственный голос он тоже слышал как бы вчуже.
Эля поехала в город за лекарствами, аптеки поблизости не оказалось, раньше чем через час, а то и два ей было не вернуться. Иннокентьев остался один в гостиничном номере, сразу показавшемся ему голым, чужим. К тому же Эля оставила открытой дверь на балкон, оттуда тянуло вечерней сыростью, а встать и закрыть ее у Иннокентьева не было сил.
Телефон стоял на столике рядом с кроватью, он набрал междугородную и заказал Москву. Телефонистка предупредила, что разговор дадут в лучшем случае не раньше чем через два часа, линия перегружена. Иннокентьев обреченно откинулся на слишком низкую подушку, смотрел сквозь отворенную балконную дверь, как густеет синь неба, в ней давно, засветло еще, проклюнулся несмелой закорючкой молоденький месяц. Иннокентьеву было его жаль, таким он выглядел бесприютным и затерянным в сине-белесой пустыне, ни дать ни взять ничейный подкидыш, но вот кто-то будто проколол булавкой с той, обратной стороны темнеющее прямо на глазах синее полотнище, дырочки засветились дрожащим желто-молочным мерцанием, от них, если чуть прищурить глаза, разбегались во все стороны ломкие остренькие лучики. Темнело все стремительнее, словно ночь куда-то страшно торопилась, и стал слышнее накат прибоя.
Если бы не сырой сквозняк с балкона, Иннокентьев, укутанный в собственный душный жар, как в толстое ватное одеяло, задремал бы, его так и клонило в сон, но ветер холодил лицо и не давал уснуть. Он казался самому себе таким же покинутым и никому не нужным, как и этот хлипкий, болезненно бледный месяц в небе. Кроме этой приятной, баюкающей жалости к самому себе, в голове не было ни единой мысли, так — какие-то беглые, ускользающие обрывки, вялая и утомительная сумятица.
Иннокентьев вспомнил, что назначил Земцовой на завтра встречу на корте, а прийти не сможет. Он ухватился за эту мысль, она худо-бедно, а хоть как-то связывала его с реальностью, набрал телефон администратора и справился, в какой комнате поселилась приехавшая из Москвы Маргарита Аркадьевна Земцова и как позвонить ей. Ему ответили, и он тут же позвонил Рите, но. ее телефон был занят. Это почему-то ужасно огорчило Иннокентьева, словно бы от этого звонка зависело что-то очень для него важное и неотложное, и стал каждые две минуты настойчиво набирать ее номер. Но подняла она трубку не скоро, видимо, подумал он с обидой и злорадством, не один он ей названивает, он был прав — она наверняка времени даром не теряет…
— Да?.. — спокойно спросила на том конце провода Рита, и Иннокентьев вдруг растерялся, не зная, что сказать.
— Я прошу извинить меня за поздний звонок… — неуверенно начал он и подумал, что надо прежде назвать себя, не узнает же она его по голосу, они в первый раз говорят по телефону.
Но не успел, она его сразу признала:
— Какой же поздний, Борис Андреевич! У нас в Москве в это время жизнь только начинается. — И не только узнала, но и расслышала, что он хрипит. — Что у вас с голосом? Не заболели ли?
— По вашей милости, кстати говоря, — он почему-то против воли избрал с ней тон дружески-иронический, предполагающий в ответ такую же запанибратскую насмешливость, — я пошел по вашим стопам и тоже искупался в море, но, как говорится, что позволено Юпитеру…
— У меня есть французский аспирин, — не дослушала она его, — и мед, его надо с горячим чаем. Я сейчас принесу, вы в каком номере?
— Не надо, спасибо! — поторопился он, не хватало только, чтобы Рита и Эля встретились сейчас у одра умирающего, ничего нелепее нельзя было себе и представить! — Мне сейчас все принесут, да и чепуха какая-то — простыл, ничего страшного. Я к тому, что завтра, увы, едва ли я буду иметь удовольствие… — Даже сквозь жар он почувствовал витиеватость, с которой изъяснялся, и разозлился на себя. — Надеюсь, через день-другой мы с вами все же скрестим шпаги…
— Красиво говорите, — опять перебила его Земцова, — но сипите в трубку так, что вас едва слышно. Да и наверняка температура, я знаю эти весенние простуды. Не беспокойтесь, я не набиваюсь в сестры милосердия, я для этого не гожусь, да и за вами есть кому ухаживать. Но я все-таки забегу, занесу аспирин, просто не хочется терять такого хорошего партнера, а через пять дней мне уже уезжать. Так что тут чистейший эгоизм с моей стороны, не более.
И не стала ждать его возражений, положила трубку.
Он и не заметил, как провалился в горячечную, душную дрему, и не услышал стука в дверь. Но тут же проснулся, когда с балкона ворвался со сквозняком холодный воздух. На пороге стояла Рита Земцова.
— Какой у вас тут мороз, разве можно?! — Решительно вошла в комнату, направилась прямо к балкону, плотно прикрыла дверь и задернула штору.
Он хотел было встать с постели, на которой лежал не раздеваясь, в брюках и свитере, но она ему не позволила.
— Лежите! И не пытайтесь изображать гостеприимного хозяина, я не с визитом пришла. Да от вас пышет, как от печки! Где у вас стакан? — Взяла со столика стакан, направилась в ванную, — И уж пожалуйста, разденьтесь и лягте под одеяло, нечего разводить микробов, так вы всю гостиницу перезаразите. Я подожду в ванной, а вы раздевайтесь и укладывайтесь. — Все это она говорила напористо и деловито, так разговаривают с больными мужьями верные, преданные жены, подумал про себя Иннокентьев, да она наверняка именно верная, преданная жена. Если, разумеется, у нее есть муж. Впрочем, совсем не обязательно, просто бывают женщины, у которых это в крови, замужем они или нет.
Рита ушла в ванную, он покорно поднялся, снял с постели смятое покрывало и стал, преодолевая слабость, раздеваться. За этим занятием его и застала вернувшаяся из города Эля.
— Правильно, — сказала она с порога, — я ехала и думала, догадаешься ты сам лечь в постель или нет. Аптеки все уже закрыты, таксист надоумил заехать в больницу, я выпросила у них лекарства. Восемь рублей на счетчике набило, полный отпад!
Он лег под одеяло, простыня и подушка показались такими холодными, что его всего передернуло. Странно, но его сейчас совсем не заботило, как отнесется Эля к появлению Земцовой. Согреться бы, унять озноб и уснуть — все остальное не имело сейчас никакого значения.
Из ванной вернулась в комнату Рита и тем же спокойным, деловитым голосом, безо всякого смущения или неловкости объяснила Эле:
— Здравствуйте. Я тут Борису Андреевичу лекарства принесла. Я живу рядом, и вообще мы с ним сто лет знакомы. Меня зовут Рита. Так что не удивляйтесь.
— Я и не удивляюсь, — и на самом деле не удивилась Эля, — нормально. Тем более я вас видела, я с балкона смотрела, как вы утром в теннис играли. Я-то никогда и не пробовала, даже завидно было, как у вас получается. Ничего, может, когда-нибудь научусь, еще не вечер. Я тоже лекарства достала, так что Боре мы теперь вдвоем умереть не дадим, верно?
Боре, отметил про себя Иннокентьев, не Борису Андреевичу, а — Боре… она так просто не сдается, голыми руками ее не взять…
— Вы — Эля, я вас тоже видела, и в гостинице и на пляже.
Откуда они все друг о дружке знают?.. — вяло поразился Иннокентьев. Он слышал их голоса будто из-за стены, и ему казалось, что к нему этот их далекий разговор никакого отношения не имеет.
Резкий, долгий звонок междугородной отдался в голове оглушительным гулом, Иннокентьев выпростал из-под одеяла слабую, словно чужую руку, сделал ею знак то ли Эле, то ли Рите, прохрипел, с трудом проталкивая сквозь глотку тоже словно бы не свой голос:
— Не надо, я не могу… Пусть перенесут на завтра, утром…
Эля взяла трубку, попросила междугородную перенести разговор на завтра, отключила телефон.
— Вдруг опять позвонят. Хотя некому. Я попрошу у горничной чай, и еще горчичники надо поставить, врач посоветовал.
Пока она ходила за чаем, Рита подошла к постели, протянула Иннокентьеву стакан с водой и таблетки.
— Примите сразу две, ударную дозу, я всегда так делаю. А завтра по одной три раза, и через день вы будете на корте, ручаюсь.
Он приподнял голову, Рита поддерживала ее рукой, проглотил таблетки и запил их тепловатой, с сильным привкусом щелочи водой. Затылком он ощущал, какая у Риты сильная, надежная рука, и снова, как утром, услышал нежный, чуть пряный запах ее духов. Потом уронил голову на подушку и разом отключился ото всего, что делалось вокруг.
Вернулась Эля, они с Ритой поили его обжигающим горло терпким, вяжущим чаем, кормили с ложечки медом, но и это происходило будто не с ним, а с кем-то другим, и не сейчас, а когда-то давным-давно, в детстве, он узнал кончиком языка истончившуюся по краешку старинную, еще прабабкину, серебряную ложечку, затылком — мамину теплую, нежную ладонь, поддерживающую ему голову, и нёбом — крупные, хрусткие зерна сотового меда, но это было с ним так давно и так далеко, что к нему нынешнему это не могло иметь ни малейшего отношения.
И тоже, как в детстве, жгли упорным, нарастающим пылом горчичники на груди и щекотали нежные, детские его пятки шершавые шерстяные носки.
Наутро, проснувшись на влажной от ночной испарины простыне, он не мог, как ни старался, припомнить ничего из того, что было с ним накануне, да и не успел: громко и настойчиво зазвонил на столике рядом с кроватью телефон, видимо, Эля ночью опять его включила.
Он посмотрел, не поднимая головы с подушки, направо — Эля спала на соседней кровати, звонок не разбудил ее.
Он приподнялся на локте, голова муторно кружилась, и протянутая за трубкой рука была слабой и неверной.
— Москву заказывали?
И тут же мембрана задребезжала, зарычала утробным голосом Ружина:
— Ты что, мерзавец, не мог позвонить попозже?! У меня самый сон под утро, всю ночь работал, на рассвете только уснул, а тут ты, тунеядец пляжный!..
Очередная брехня Глеба — он не то что по ночам, он и днем-то давно не занимался делом. Да и рассерженным он сейчас прикидывался — для него нет большего счастья, чем потрепаться по телефону все равно с кем, о чем и в какое время суток. А за его напускным гневом была просто радость, что Иннокентьев наконец-то позвонил.
— У нас тут дождь льет без передыха, мерзнем, того гляди плесенью обрастем с ног до головы, а он там лежит себе на солнышке, загорает, жрет шашлык, так ему и этого мало, он еще, видите ли, звонит посреди ночи!
За окном стояло уже позднее утро, если бы не болезнь, Иннокентьев давно был бы на корте или на пляже, да и Ружину в Москве, несмотря на его ночной, совиный, как он сам его называл, образ жизни, давно уже была пора продрать глаза.
— И звонит-то только для того, чтобы растравить душу, какая у него там шикарная житуха!..
— Уймись, — вяло сказал Иннокентьев в трубку, преодолевая желание вновь спрятаться в спасительный сон, — в конце концов, это я заказал разговор и плачу за него. И потом, никакого пляжа, я простудился, еле жив, температура за сорок, — приврал он в свою очередь, — не до трепа с тобой. Ты лучше коротко и ясно: какие новости? У тебя-то никаких изменений, конечно, разве что проигрался в дым. Только покороче, у меня голова не того…
Но Ружин и не услышал ничего насчет болезни Бориса, он среагировал на его вопрос, как бык на красный лоскут, заорал в трубку так, что мембрана опять испуганно задребезжала у уха Иннокентьева:
— А тебе-то что? Что тебе-то теперь?! Ты же успел умыть руки! Все кончено. Никак по-другому и не могло быть!
— Ты можешь членораздельно? — У Иннокентьева екнуло сердце, и он почувствовал, как рука, державшая телефонную трубку, стала влажной и скользкой. — Что кончено? Что такое приключилось?..
— То, чего и следовало ожидать! Все вы на поверку оказались хиляками! Все ваше ничтожное поколение! — Ружин, естественно, принадлежал к тому же поколению, но и он сам и все вокруг давно об этом позабыли — со своей седой бородищей, нездоровой тучностью и едкой, разрушительной мудростью он казался старше их всех, и они привыкли относиться к нему как к умудренному знанием и опытом патриарху. — Случилось то, что твой Дыбасов наделал в штаны, вот что! А уж о Митине и говорить нечего!
От его густого рыка, казалось, накаляется и вот-вот расплавится телефонная трубка, а голова Иннокентьева набухает, как нарыв, пульсирующей в висках болью.
— Что ты имеешь в виду? Что наделал Дыбасов?
— Он просто подал заявление и ушел из театра! А Ремезову только этого и надо, чихал он и на Дыбасова, и на Митина с его пьесой, и на все на свете. Теперь у Дыбасова и Митина только и осталось что один терновый венец на двоих. Один ты, как всегда, в полном порядке. Умыл руки и — чистенький. Кстати, в сочинских кабаках принимают к оплате твои тридцать сребреников?..
Иннокентьев протянул к столику руку с трубкой и не глядя опустил ее на рычаг, но промахнулся, трубка упала на пол, и из нее еще некоторое время слышались нечленораздельные на расстоянии рычание и проклятия Ружина, потом — только меленькие, растерянные гудочки отбоя.
И еще — скучный, ровный шорох дождя за занавешенным шторой окном, видно, он не сейчас начался, лил уже давно, с ночи.
Откинувшись на подушку, он встретился взглядом с глазами Эли — она приподнялась на локте и смотрела на него испуганно, спросила одним духом:
— Что с Ромой?
Он не услышал ее — ничего он сейчас не слышал, кроме нудного шороха дождя за окном да немолчных гудочков отбоя из упавшей на пол телефонной трубки, но сил нагнуться и поднять ее не было, да и какая теперь разница?..
— Что с Ромой? — повторила Эля еще настойчивее.
Он и на этот раз не сразу понял — какой еще Рома?..
Эля рывком села на кровати, мгновение неотрывно
смотрела на Иннокентьева, потом встала и как была босиком подошла к окну, откинула штору, распахнула дверь на балкон. Иннокентьев увидел за ним низкое, в неряшливых клочьях облаков, серое небо. Эля прошлепала босыми пятками обратно, подняла с пола трубку и положила ее на рычаг, гудочки сразу смолкли, и с головы Иннокентьева будто разом упал, лопнув, тесный железный обруч. Присела на его кровать и опять молча и требовательно уставилась на него.
Он спросил ее осипшим голосом:
— Какой Рома?..
Она не отвела глаза, но и не ответила, ушла в ванвую, вернулась оттуда в халате, словно бы, подумалось ему мельком, теперь уже было нельзя, чтобы он смотрел на нее нагую.
Какие еще тридцать сребреников? о чем это Глеб говорил?.. — так же мельком, по касательной вспомнил он.
Эля не сводила с него ставших разом густо-синими глаз.
— Все?..
— Что — все?.. — ушел он от ответа. — Ты что, Глеба не знаешь? У него всегда все подлецы и подонки, один он святее святого…
— Что стряслось все-таки? — не отпускала она его и сама себе ответила: — С Ромой, да? Выгнали его из театра, так?..
— Я-то тут при чем?! — слабо вскинулся Иннокентьев. — Чего вы все от меня хотите? Как будто я его предал!
— Предал, Боренька, именно что предал, — сказала она скорее с жалостью, чем с упреком. И выпела свое вечное: — Норма-ально…
— Что тут нормального?! — Но голос его не слушался, да и не было в нем сейчас ни гнева, ни обиды — одна пустота и желание остаться одному, укрыться с головой одеялом, ни о чем не думать. — При чем я-то?!
— А при том, Боренька, — настояла она. — При том, что как тебе Глеб сказал, что — все, что конец, хана, тебе сразу и полегчало, это я и по твоему лицу угадала. Сразу легко стало, камень с души сняли — твое дело сторона, всего и делов-то. Кто тебя лучше моего знает?.. Как же не предал, если им всем плохо, одному тебе легко, один ты — весь в белом, как в том анекдоте, знаешь?.. — И вдруг с надеждой опять подняла на него глаза. — А глядишь, еще можно что-нибудь придумать, а?.. Глядишь, не поздно еще, верно? Ведь чего не бывает…
Он хотел было отвернуться к стене, но она наклонилась к нему, положила на лоб еще теплую со сна ладонь, прислушалась.
— Вроде нет температуры. Аспирин-то импортный был, может, подействовал. — И совершенно неожиданно, наверняка неожиданно и для самой себя, приняла за него решение, и он понял, что ему не отвертеться. — Тебе в Москву надо, прямо сегодня. Напою тебя чаем с медом и поеду обменяю билеты. Хочешь не хочешь, а надо.
— Зачем? — преодолевая слабость, спросил он, заранее зная, что на этот вопрос ответа у нее нет и быть не может, потому что для нее самый этот вопрос бессмыслен и непонятен, и что он полетит с нею, хотя знает, что ничего уже нельзя исправить. И что в их отношениях — его и Эли — тоже уже ничего не исправишь.
— Надо, — сказала она так, словно это и не требовало никаких доказательств. — Ты сам знаешь, что надо.
За окном полыхнула где-то совсем близко молния и громыхнуло так, что зазвенели в гостиничном серванте рюмки.
— Гроза, — сделал он последнюю попытку к сопротивлению, — самолеты наверняка не летают.
— Летают, — убежденно ответила она, — не один, так другой.
Он все-таки спросил ее:
— Почему ты называешь его Ромой?
Она направилась к двери, на ходу пожав плечами:
— А он и есть Рома, как же его иначе?..
11
В Париж Иннокентьев прилетел в самом конце июня.
Он дал себе слово не разыскивать там Леру и не видеться с ней.
При этом он знал, что и разыщет и увидится, потому что за эти шесть лет не было дня, чтобы он не думал об этой встрече с Лерой, не был слепо уверен, что рано или поздно она произойдет, и ничего мучительнее и слаще этих мыслей не было для него все эти годы.
Она приходила в его сны, и, проснувшись, он не мог отделить сна от яви, ему казалось, что она и на самом деле говорила с ним, улыбалась своей солнечной улыбкой, смеялась, чувствовал на губах ее губы, шелковистость кожи, хрупкость ее ладони.
Самым жалящим и неразрешимым вопросом, ноющей занозой застрявшим в сердце, над которым он бессонно маялся первые годы после ее отъезда, был — любила ли она его?.. Ему казалось, что от ответа на этот вопрос зависит все. Потому что, будь он уверен, что она его любила, все — и его собственная любовь, и бессильная ревность, и мучения уязвленного самолюбия, и боль от этой застрявшей в сердце занозы, — все, все имело бы смысл и оправдание. Если же она его никогда не любила и вся их совместная семилетняя жизнь была лишь одна ложь, притворство и игра — все в его прошлой жизни, а значит, и в будущей теряло какой бы то ни было смысл, становилось попросту пошлым и смешным.
Антонина Дмитриевна, его приходящая домработница, твердо верила и упрямо убеждала его, что именно в те минуты, когда он вспоминал Леру или видел ее во сне, она тоже на другом конце света вспоминает и думает о нем.
И он верил Антонине Дмитриевне.
За все эти шесть лет он ни разу не написал Лере и не получил от нее письма, не видел ее фотографий, не знал подробностей ее новой жизни и именно в силу этого своего неведения помнил и вспоминал ее такою, какая она была прежде, с ним.
Симпозиум был многолюдный, шумный и бестолковый, как и все подобные собрания незнакомых и никогда даже не слышавших друг о друге людей, со множеством дискуссий, брифингов, просмотров, официальных и полуофициальных завтраков, ужинов и коктейлей.
Иннокентьев два раза выступал — на секционном и на пленарном заседаниях — и еще раз по телевидению, рассказывал о работе Гостелерадио, о последних премьерах московских театров.
На одном из таких случайных, в суете и вечном цейтноте сборищ старый его приятель еще по университету, а теперь представитель Агентства по авторским правам в Париже Витя Говоров спросил его мельком:
— Ты уже виделся с Лерой?
— Нет, — с удивившим его самого равнодушием ответил Иннокентьев, — Да и когда?..
— У меня есть ее телефон. Дать? — предложил Говоров.
— Я знаю его, — поспешно отказался Иннокентьев, — спасибо.
— Дома ее застать трудно, она допоздна торчит в своей лавочке, так что звони либо рано утром, либо совсем ночью, — посоветовал Говоров.
— Если успею, — неопределенно пожал плечами Иннокентьев, — тут нас так запрягли, ни минуты свободной…
— Я с ней изредка вижусь. С тех пор как она разошлась с мужем…
Все, что он говорил дальше, Иннокентьев не слышал, у него что-то оборвалось, похолодело внутри, ему стоило неимоверных усилий не забросать Говорова вопросами, не вскочить на ноги и ринуться опрометью к Лере.
— …в этих лавчонках много не заработаешь, очень все там дорого, модно и дорого. Это на рю Риволи, под аркадами, напротив Лувра, по левую сторону, если идти от Конкорд…
Но тут Витю кто-то окликнул, он торопливо допил пиво и убежал.
Ни в этот день, ни на следующий — последний день работы симпозиума — у Иннокентьева не было ни минуты свободной, чтобы разыскать Леру. А телефона ее он не знал, он наврал Говорову, сам не понимая, зачем это делает.
Но в субботу, если не считать банкета по поводу окончания встреч и заседаний, который должен был состояться поздним вечером, весь день у него был свободен, а в воскресенье на рассвете он должен был уже улететь домой.
Иннокентьев жил на правом берегу, в маленькой дешевой гостинице со смешным и трогательным названием «Отель Вселенной и Португалии», в двух шагах от Лувра. Каждое утро за ним приезжала машина и увозила его на заседания и просмотры, так что ему ни разу не довелось пройти мимо торговых рядов на улице Риволи — маленьких, тесных бутик в тени низких аркад, — а вечером, когда он возвращался в гостиницу пешком, все магазины были уже закрыты.
В субботу он проснулся рано, вышел из гостиницы в десятом часу, наскоро позавтракал в сток-баре тут же за углом и медленно, сдерживая гложущее нетерпение, пошел ровным шагом по улице Риволи мимо магазинчиков, в одном из которых работала Лера. А может быть, муж-француз в качестве отступного при разводе приобрел в ее собственность эту лавчонку, подумал Иннокентьев, и эта мысль показалась ему еще более унизительной, чем если бы Лера работала тут просто продавщицей по найму.
Солнце заливало ясным, но нежарким светом улицу, под тяжелыми полукружьями аркад, в образуемом ими длинном и низком сводчатом коридоре стояла еще не успевшая истаять густо-синяя утренняя тень, и с противоположного тротуара, по которому шел Иннокентьев, было не разглядеть, что делается за толстыми зеркальными стеклами витрин.
Некоторые лавки были уже открыты, и в распахнутые двери было видно, как молоденькие продавщицы в синих коротеньких рабочих халатиках метут пол или протирают тряпками витрины. Но большая часть магазинчиков была еще закрыта — видимо, торговля тут начиналась позднее.
Он решил, что, вероятнее всего, Лера тоже еще не открыла свою бутик, да и время его сегодня ничем не ограничено, и перешел по Новому мосту на Левый берег, оставя позади остров Ситэ гораздо на поверу более скромных размеров, чем это кажется по фотографиям и гравюрам, с собором Богоматери, вышел на просторный и совершенно безлюдный в это раннее субботнее утро Бульмиш.
Хозяева магазинов, зеленных лавок, недорогих ресторанчиков и лепившихся тесно одно к другому бистро еще не кончили утренней приборки, мели ступени и улицу перед входом большими, похожими на распушившиеся конские хвосты метлами, выносили наружу лотки с влажно блестевшими на солнце ярко-пунцовыми помидорами, крупной, чуть ли не с кулак, пупырчатой красно-золотистой клубникой, отливающими седым серебром фиолетово-синими сливами, напоминающими рождественские елочные шары апельсинами, палевыми спелыми бананами. Другие выгружали из маленьких, словно бы игрушечных грузовичков проволочные ящики с бутылками и деревянные плоские лотки с душно отдающими жаром печи свежими булочками. Киоскеры вывешивали, будто белье на просушку, лаково сверкающие всеми красками журналы и бросали с мягким, жирным шлепком прямо на асфальт кипы утренних газет, громко переговариваясь меж собой и смачно сплевывая на сторону обмякшие в уголке губ окурки сигарет. Было отчетливо слышно шуршание автомобильных шин по мостовой и визг тормозов перед вспыхивающим красным зрачком светофора на перекрестке.
И надо всем стояло едва уловимое глазом, окутывающее все вокруг легкой кисеей лилово-голубое марево.
Он вернулся на правый берег по мосту Александра III, обдуваемому с реки плотным и теплым ветром, и тут только с удивлением и растерянностью поймал себя на том, что за эти два или даже три часа, что он бродит по Парижу, он ни разу не вспомнил о Лере.
Он торопливо спустился в метро на Елисейских полях и в мягко покачивающемся на одетых в резиновые шины колесах вагоне второго класса вернулся к Лувру.
С замирающим от страха сердцем он вошел в первую же бутик под аркадами, твердо уверенный, что тут же, немедля увидит Леру.
Но в тесном, залитом мерцающим неоновым светом магазинчике, боясь сразу столкнуться с Лерой лицом к лицу, он посмотрел не на продавщицу, стоявшую за прилавком, а поверх нее, на полки с товаром — зонтами, сумками, портфелями, чемоданами и распяленными, с растопыренными пустыми пальцами перчатками: видимо, тут торговали изделиями из кожи. И лишь погодя опустил взгляд: за прилавком стояла какая-то пожилая француженка с седыми, отливающими голубым, аккуратными волосами, с профессиональной вежливо-предупредительной улыбкой на широком, с двойным подбородком лице.
В следующем магазине торговали только пестрыми, всех оттенков, мотками шерсти, и Леры тут тоже не было.
Он не решался спросить, не знают ли тут, под аркадами, о русской, владеющей в этом же ряду лавкой или же служащей в ней, и переходил из магазина в магазин — галантерея, мужские сорочки, спортивная одежда, дамское белье, галстуки и носовые платки, опять зонты и сумки, опять сорочки, все для рукоделия, вновь зонты и трости, парфюмерия, опять дамское белье, — казалось, лавочкам нет конца, а их владелицы — за прилавками Иннокентьев не увидел ни одного мужчины — все на одно лицо: немолодое, но моложавое, заученно-радушно улыбающееся.
Он переходил из лавки в лавку, после долгой прогулки через весь Левый берег гудели ноги. Леры нигде не было, он продолжал поиски лишь по инерции, из упрямства, не надеясь уже ее отыскать, давешнее волнение, нетерпение и боязнь встречи с нею улеглись, и не так часто и гулко, как в начале утра, билось сердце.
В витрине последней в ряду лавочки парили на невидимых нитях муляжные женские ноги в разнообразнейших чулках и колготках, дамские торсы, выкрашенные в черный, золотой или багрово-красный цвет, одетые в трусики и лифчики последних моделей.
Он подошел вплотную к витрине и заглянул сквозь нее в лавочку. За прилавком вполоборота к нему продавщица что-то укладывала на полках. Иннокентьев даже не столько увидел, сколько привычно уже угадал ее полу-скрытое за дымчатыми стеклами очков, типичнейшее для парижанки-продавщицы (нет, пожалуй, все-таки для парижанки — владелицы собственного дела, подумал он, собственной модной бутик) лицо, ухоженное, с туго обтянутыми глянцевитой, без единой морщинки кожей скулами, тщательно, волосок к волоску уложенная прическа. Стандартное парижское лицо, устало подумал он, как только они добиваются такого приятного, обаятельного единообразия, и, не входя внутрь, повернул обратно.
Стало быть — не судьба, подумал он устало и облегченно дальше искать нет смысла…
Он шел пустынным в этот обеденный час, чистеньким Тюильрийским садом, на скамейках не было ни души, лишь в боковой аллее громко кричали, резвясь и бегая взапуски, ученики младших классов католического, по-видимому, лицея — с ними был учитель, молодой, спортивного склада, в черной, до пят, сутане.
Иннокентьев шел мимо пустых скамеек, мимо старых, в еще не успевшей пожухнуть на солнце июньской листве вязов и каштанов, и на душе у него было пусто, как в брошенной квартире, из которой выехали старые жильцы, а новые еще не успели въехать.
Теперь он совершенно свободен, думал он облегченно, но и с щемящей печалью — от прошлого, от долгов, а стало быть, и от себя прежнего. Он свободен ото всего. Он волен в самом себе — никаких сожалений, никаких преград, можно начать новую жизнь. И в этой новой своей жизни он уже не позволит себе роскошь жалких сантиментов или обессиливающих, убаюкивающих воспоминаний, он уже не будет видеть ничего не обещающие, ничего не пророчащие сны, и бессонниц тоже не будет.
А будет дело, дело и дело, работа и жесткое, безошибочное знание того, что ему надо, чего он добивается, и — никаких лукавых мудрствований и несбыточных грез.
И еще ему стало до боли в сердце, до слабых, печальных слез жалко себя прежнего, когда он подумал, что им — прежнему и новому — никогда уже не встретиться, не взглянуть друг другу в глаза.
По пути к себе в гостиницу он перекусил в том же, что и утром, сток-баре за углом горячей булочкой с запеченной в ней сосиской, обильно смазанной сладковатой французской горчицей, забежал в свой номер, переоделся и едва поспел на банкет.
А на следующий день — всю ночь лил неторопкий июньский дождь, слышно было, как за окном захлебывается вода в водосточном желобе, Иннокентьев не мог уснуть до самого утра — в шесть пятнадцать он вылетел из аэропорта Орли и, в силу разницы во времени, в двенадцать по-московскому был в Шереметьеве.
В ожидании багажа он позвонил из автомата к себе в редакцию в Останкино, но никто трубку не поднял, и он только тут сообразил, что — воскресенье, в редакции никого и не может быть. Он набрал номер своего домашнего телефона, но вспомнил, что по воскресеньям и Антонины Дмитриевны, домработницы, не бывает, но помедлил опускать на рычаг телефонную трубку и услышал в ней Элин голос. Она узнала его до того, как он успел сказать хоть слово:
— Боря! Я знала, что ты должен сегодня… Я тебя ждала. Все нормально, только… только Глеб умер… Ты слышишь?.. Глеб, Глеб умер!.. Ты почему молчишь? Это же ты, Боря! Это ты?.. Почему ты молчишь?!
Он опустил руку с трубкой, долго так стоял среди сутолоки и толчеи двенадесятиязычного аэропорта, потом повесил трубку на рычаг и вдруг понял, что — нет, не дано ему и этого: отречься от самого себя. Предать — еще куда ни шло, но отречься…
12
Ружин умер от инфаркта — третьего по счету — в Остроумовской больнице, куда его положили за два дня до смерти. Умер он еще неделю назад, но урну с прахом хоронили сегодня, в воскресенье, в новом колумбарии на Ваганьковском кладбище.
Все это Иннокентьев узнал от Эли, заехав к себе на площадь Восстания. Бросив в передней чемодан, он тут же пошел пешком на Ваганьково — до похорон оставалось не больше часа.
Эля же поехала за урной в старый крематорий на Шаболовку, а оттуда уже, с Митиным, на кладбище.
Оглушенный смертью Глеба, не успев даже поверить, что это правда, Иннокентьев шел вниз по Краснопресненской, и лишь одна мысль, до крайности нелепая, засела гвоздем в мозгу и не отпускала: будь он в эти дни в Москве, не уезжай в этот проклятый Париж, он, может быть, мог бы спасти Ружина — устроить его вовремя в больницу получше, к каким-нибудь опытным врачам, к какому-нибудь чудодею профессору, и ничего бы этого не случилось, они бы сидели сейчас с Глебом в его тесной и захламленной квартире в Бескудникове, попивая не торопясь крепчайший кофе, рецепт которого достался по наследству от матери-персиянки. Он рассказывал бы Глебу о Париже, о симпозиуме и, главное, о Лере, на всем белом свете Ружин был единственный человек, которому Иннокентьев мог бы рассказать о своей несостоявшейся встрече с Лерой. А теперь ему совершенно, ну просто совсем не с кем этим поделиться, и никто никогда не узнает, что было с ним в Париже, никто не поймет, почему он вернулся оттуда другим — и окончательно — человеком, никому до этого нет дела.
Это чувство вины за смерть Глеба и вообще некой куда более давней и неотмолимой своей вины перед живым Глебом, не прощенной, не отпущенной им перед смертью, еще долго не оставляло Иннокентьева, мучило неразрешимостью.
Он ждал Митина и Элю у кладбищенских ворот, там уже собралось множество друзей и приятелей Ружина, у всех в руках были цветы, свежие гвоздики и тюльпаны, один Иннокентьев стоял без цветов, ему как-то даже не успела прийти эта мысль — купить по дороге на кладбище цветы. Он подумал, что где-то поблизости их непременно должны продавать, но не было ни сил, ни воли сдвинуться с места.
Он удивлялся, оглядываясь вокруг, как много, оказывается, людей, близко знавших Ружина и пришедших проститься с ним. Они разделились как бы на три обособленные группы, стоящие порознь и не смешивающиеся. Одну, малочисленную, составляли партнеры Глеба по преферансу, долголетние участники его субботних и воскресных баталий за карточным столом. До Иннокентьева долетали обрывки их разговоров — о былой удачливости Ружина и о том, что в последнее время он определенно сдал, просчитывался, больше одной-двух пулек не осиливал, не тот, не тот стал в последние месяцы Ружин!.. И договаривались помянуть его именно так, как бы он и сам провел этот день, будь жив — воскресенье, преферансный день! — то есть за настоящей, большой, мужской пулькой, он бы только порадовался этому, если б мог узнать.
Во второй группе были его бывшие коллеги по работе в редакциях, те, кто еще помнил его молодого, полного сил и яростной жажды все переменить, переиначить, все начать с красной строки, когда он объявился в начале шестидесятых годов в Москве. Они тоже говорили вполголоса о своем — о том, что конечно же надо непременно собрать все статьи Ружина, опубликованные в разное время и в разных изданиях, и напечатать отдельной книгой, очень важно посмотреть, нет ли в его архиве — это подслушанное Иннокентьевым их слово «архив» больнее всего его резануло — чего-нибудь неопубликованного, не такой человек был Ружин, чтоб после него не осталось чего-нибудь неопубликованного…
Третью группу, самую большую, составляли те, кто просто приятельствовал с ним, завсегдатаи его квартиры на Бескудниковском, среди них были и такие, чьих имен Иннокентьев не знал, да и сам Глеб — как посмеивались над ним ближайшие друзья, не одобрявшие этих ружинских, как они их называли, случайных связей, — далеко не всех их помнил по имени.
Иннокентьев увидал еще издали салатную «Волгу» Митина. Она остановилась не у самых ворот, а чуть в стороне, и он пошел навстречу приехавшим. Первым из машины вышел Дыбасов с белой погребальной урной в руках, за ним Эля и еще двое, которых Иннокентьев не сразу признал, и лишь когда они подошли поближе и по очереди без слов пожали ему руку, он сообразил, что это приехавшие на похороны Глебовы друзья детства из Душанбе или Самарканда.
Последним из машины вышел Митин и, забыв ее запереть, бросился к Иннокентьеву, спрятал лицо у него на плече и громко, не стыдясь слез, расплакался. Слезы подступили к горлу и у Иннокентьева, но глаза так и остались сухими — его слезы еще впереди, знал он, он еще как никто другой ощутит отсутствие Глеба.
Дыбасов, ни на кого не глядя, пошел быстрым шагом с урной в руках в глубь кладбища. Следом за ним, также ни на кого не глядя и даже не подойдя к Иннокентьеву, поспевая за широким шагом Дыбасова, пошла Эля.
Все остальные, стараясь не отстать и оскальзываясь на размытой недавним дождем жирной глине кладбищенской аллеи, потянулись за ними. В этой их торопливой, словно бы они опаздывали куда-то, цепочке не было ничего похожего на печаль и торжественность похорон.
Митин и Иннокентьев шли позади всех, молчали, глядя под ноги.
— Вот так-то… — сказал в пространство Митин.
В конце аллеи белело двухэтажное здание колумбария. Митин неожиданно спросил:
— Ты видел Леру?
Иннокентьев не ответил — не время, не место, — но оттого, что первый же вопрос Игоря был о Лере, о том, о чем, будь он жив, спросил бы непременно Ружин, он с благодарностью подумал, что и Митин ему настоящий друг. Хотя совершенно неизвестно, повторит ли когда-нибудь еще Игорь свой вопрос, а он, Иннокентьев, захочет ли тогда на него ответить.
Колумбарий был совсем новый — необжитой, подумал с горькой усмешкой Иннокентьев, поднимаясь на второй этаж по неширокой, в свежих еще пятнах неотмытой извести и цемента лестнице, — в нос ударили сырые, едкие запахи, которые долго еще живут во всяком новом, только что отстроенном доме, потом их забивают со временем живые запахи человеческого быта. Но какие, подумал Иннокентьев, запахи поселятся здесь, когда выветрятся те, что напоминают о стройке?..
Колумбарий был разделен на несколько отсеков, по свежевыбеленным стенам шли от пола до потолка ряды с тесными, большей частью еще пустыми, нишами.
Ниша, предназначенная для урны с тем, что еще какую-нибудь неделю назад было Глебом Ружиным, зияла в предпоследнем от потолка ряду, дотянуться до нее без лестницы или стремянки было нельзя.
На поиски лестницы отправился Дыбасов, передав урну с прахом Эле.
Она стояла с урной в руках в некотором отдалении от всех остальных, у самой стены с нишами, не оборачиваясь по сторонам и ни на что не отвлекаясь, и к ней тоже никто не подходил и не заговаривал.
Иннокентьев пробрался к ней сквозь толпу. Она мельком оглянулась на него и опять отвернулась.
— Дай мне урну, ты устала, — сказал он ей негромко.
Эля, не ответив, отдала урну, и, неловко взяв ее из рук в руки, Иннокентьев поразился и даже на миг испугался — такой она показалась ему холодной и, главное, тяжелой. Будто в урне была не горстка легкого и сыпучего пепла, а сам он, Глеб, огромный, тучный, невподъем.
Лестницу искали долго, потом никак не могли приладить ее к стене, но тут объявился кладбищенский рабочий в измызганной известью робе, быстро и умело пристроил. лестницу, ловко взобрался на нее, перегнулся вниз, взял из рук Иннокентьева урну, установил ее в нише, опять перегнулся, взял поданную ему снизу плоскую мраморную доску с написанными на ней свежей, еще липкой черной краской фамилией и именем-отчеством Ружина и датами 1935–1982, потом попросил, чтобы ему подали ведерко с раствором и мастерок, и в один миг замуровал нишу, закрыл ее доской.
Никто не проронил ни слова, все стояли, задрав головы, зачарованно глядя, как ловко он управляется со своим делом.
Потом он соскочил с лестницы, вопросительно поглядел на Иннокентьева, видимо считая его здесь главным, поскольку именно из его рук взял урну с прахом покойного, но тот не понял, чего от него хотят, и тогда Митин протянул рабочему две приготовленные заранее десятки, тот, не поблагодарив, забрал лестницу и ведро с раствором и был таков.
Все было кончено, все, что нужно, сделано, можно было расходиться.
Но никто не уходил, все стояли, переминаясь с ноги на ногу, словно бы ожидая чего-то еще. Потом вспомнили о цветах, сложили их к стене под нишей.
Дыбасов первым быстро пошел, не оглядываясь, к выходу.
Митин ждал Иннокентьева у своей «Волги», рядом жадно куря сигарету, стоял Дыбасов. На переднем сиденье уже устроился толстый, женоподобный Рантик, Глебов друг по школе, под черными усиками стрелкой то и дело вспыхивали влажным блеском золотые зубы. Второй друг детства забился в угол на заднем сиденье. Рядом с ним сидела Эля, сунув по привычке, будто озябнув, руки в рукава куртки.
— Мы тебя ждем, — окликнул Иннокентьева Игорь.
— Но вас и так уже пятеро…
— Поместимся, садись.
Иннокентьев сел рядом с Элей, последним едва втиснулся в машину Дыбасов. Митин вырулил на проезжую часть и, проскакивая на красный свет на перекрестках, понесся по Грузинской мимо Белорусского вокзала на Дмитровское шоссе.
И только в тесноте машины, зажатый между Дыбасовым и Элей, Иннокентьев вдруг показался себе теперь, без Ружина, таким покинутым и никому не нужным, так ему стало жалко себя — себя живого даже больше, чем мертвого Ружина, — что он, не отдавая себе в том отчета, громко застонал.
Эля, не глядя на него, положила свою большую, мягкую ладонь на его руку, сжатую в кулак. Элина ладонь легонько гладила ее, он разжал кулак, и сердце тоже как бы разжалось, одиночество показалось не таким холодным и неотступным. Мысли его были нечетки и тут же улетучивались без следа, как мелькающие за окном «Волги» улицы, дома и прохожие в этот пасмурный, бледный день.
Он очнулся лишь тогда, когда ладонь Эли перестала вдруг гладить его руку. Скосив глаза, он увидел, что поверх Элиной руки легла узкая, поросшая черными волосками рука Дыбасова.
Так они и ехали до самого дома Ружина, теперь уже бывшего его дома, Иннокентьев не решился убрать свою руку, а Эля и Дыбасов словно бы вовсе забыли о ней, как и о нем самом.
Значит — ни Леры, ни Глеба, ни Эли?.. Никого?..
В той нежной ласке, которой, не стесняясь его, просто-напросто скинув его со счетов, обменивались сейчас Дыбасов и Эля, было еще одно доказательство его, Иннокентьева, права на то, чтобы из прежнего себя стать собою новым. Это не сам он решил — это они, Лера, Ружин и Эля, покинув и предав его, сделали это превращение неизбежным и тем самым взяли на себя ответ за него. А стало быть, и виноват — если вообще можно кого-нибудь уличить в какой бы то ни было вине и перед кем бы то ни было, — виноват в том тоже не он, а они, Лера, Ружин и Эля.
Что ж, так тому, значит, и быть. И смешно лить по этому поводу бесполезные слезы. Чему быть, того не миновать, и теперь-то он уже ни бежать, ни уклоняться от своей судьбы не будет. Иннокентьев ощутил вдруг такое опустошение, такую смертельную усталость, что закрыл глаза, и ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание.
Трудно было предположить, что в крохотную квартирку Ружина может набиться столько народу. Стол был накрыт во всю длину первой комнаты, стульев для всех не хватало, собравшиеся на поминки теснились и во второй, задней комнате, на кухне и даже в прихожей. Сигаретный дым стоял столбом, в распахнутые настежь окна немолчно грохотали машины на Дмитровском шоссе.
И Иннокентьев, и Митин, и Дыбасов с Элей оказались как бы в тени, их и не считали тут главными — главным был Рантик.
Первый раз помянули Глеба молча, во второй Рантик, сдерживая слезы и перемежая речь тяжкими паузами, во время которых никто не осмеливался проронить ни звука, говорил о том, чего и Иннокентьев не знал о Ружине и чего сам Ружин тоже никогда о себе не рассказывал: как в войну, в голод, отец Ружина, известный на весь город врач, подкармливал всех мальчишек их класса, как Глеб — а ведь Иннокентьев всегда был убежден, что это чистейшей воды враки и бахвальство! — как исключительно когда-то Глеб играл в баскетбол и был душою местной команды, и как он, уже после своего переезда в Москву, приезжая в родной город, собирал всех бывших одноклассников и друзей и закатывал в лучшем ресторане такие дастарханы, что о них потом еще долго вспоминали, и как его исключительно любили, как гордились его успехами в столице нашей родины городе Москве, и, главное, как он любил своих новых московских друзей и всегда рассказывал о них одно только самое замечательное.
Эля вместе с Ирой Митиной — Иннокентьев не сразу заметил отсутствие на похоронах Насти Венгеровой, но теперь, когда он узнал все о Дыбасове и Эле, это его уже не удивило — и другими женщинами сновала из кухни в комнату и обратно, мыла грязную посуду, варила кофе — одни уходили, приезжали другие, надо было всех кормить, поить, посуды и рюмок не хватало, груды окурков вырастали прямо на глазах в переполненных пепельницах и грязных тарелках. Эля все делала молча, сосредоточенно, и хотя вроде бы всеми этими хозяйственными заботами распоряжалась Ира, а Эля лишь выполняла ее указания, но она одна знала, где что искать — тарелки, рюмки, вино, закуску, — и со всей этой печальной суетой без нее было бы не справиться.
Ни к Иннокентьеву, ни к Дыбасову она ни разу не подошла, словно их тут и не было вовсе.
Потом говорил долго Паша, второй приехавший друг Глеба, потом однокурсник по университету, кто-то из преферансистов, и еще кто-то, и еще, а Иннокентьев,
Митин и Дыбасов стояли в углу у полок с книгами и чувствовали себя здесь лишними.
Иннокентьев и Митин не сговариваясь вышли покурить на лестничную площадку. Тут было прохладнее, за окном сеялся неслышный дождь, жирно блестел внизу асфальт улицы.
Иннокентьев прикрыл за собой дверь в квартиру, на ней была прибита медная табличка с выгравированными инициалами и фамилией жильца, хотя сказать про Ружина «жилец» никак уже было нельзя…
Митин тоже взглянул на табличку.
— Надо ее снять, — сказал он неуверенно, — наверняка уже выписали ордер какому-нибудь очереднику… — Он порылся в карманах, нашел перочинный ножик, стал отвинчивать лезвием винты, потом протянул табличку Иннокентьеву. — На, у тебя она будет сохраннее. Для потомства. — И, помолчав, добавил: — Хотя ни у него, ни у меня, ни у тебя никакого потомства нет и, судя по всему, не предвидится. Такие уж мы оказались пустоцветы. А вот у Рантика, к примеру, наверняка куча детей, у них там, на Востоке, жутко размножаются, может, ему и отдать ее?..
Иннокентьев не ответил, долго рассматривал позеленевшую по краям медную табличку, потом сунул ее в боковой карман, сел рядом с Митиным на холодную ступеньку.
— Мне Дыбасов сказал, — прервал молчание Игорь, — будто Глеб оставил какое-то завещание. Ты не в курсе?
— Откуда? Я же только что с самолета.
— Будто когда его увезли в больницу, он уже чувствовал, что — хана. И все расписал, кому что — книги, мебель, всякие побрякушки старинные, которые от матери остались. А душеприказчиком будто бы назначил Рантика. Друг детства.
— Жалко только книг, неизвестно кому достанутся, разойдутся по рукам. Да и то какое это теперь имеет значение…
На площадку вышел Дыбасов.
— Дайте сигарету, у меня все вышли… — Сел ступенькой ниже спиной к ним, сказал зло и устало: — Надо бы гнать всю эту публику, там уже такое творится… Не поминки, а какой-то бардак, водки слишком много накупили.
— Ружин бы сказал — мало… — отозвался Иннокентьев. — Пускай их, как ты их выставишь?..
— Был Глеб, — еще злее проговорил сквозь зубы Дыбасов, — и все было в порядке в этом мире, хоть один человек среди всей нашей бражки, — Голос его задрожал, он всхлипнул, высморкался, хотел было встать, — Я их сейчас _ к чертовой матери, сволочей!..
— Не надо, — удержал его за плечо Митин, — при чем тут они? Ты представляешь, чтоб Глеб кого-нибудь — взашей?..
Дыбасов затянулся с жадностью, зажав сигарету внутри горсти, словно оберегая ее от ветра.
— Игорь говорит, — сказал Иннокентьев, — он завещание оставил. Вы не знаете?
— Завещание… — горько усмехнулся, не оборачиваясь. Дыбасов. — Да. Когда я его навестил в больнице накануне… — но слово «смерть» он не захотел или не осмелился произнести, — ну, за день до этого… Он все написал, дал мне. чтобы я в случае чего показал вам. Там нас пятеро — вы оба, я, Рантик. Рантик у него написан первым, он главный, если у других возникнут разногласия…
— По поводу наследства?! — возмутился Митин. — Он что, с ума сошел?
— И даже помер, — угрюмо отрезал Дыбасов, — Он не о нас думал, о себе. Хотел как лучше.
— Пятеро? — удивился Иннокентиев. — Нас только четверо — вы, я, Игорь, Рантик. Кто пятый?
— Эля, кто же еще?.. — ответил Дыбасов и неожиданно, безо всякой паузы, решительно сказал: — Вот мы и… вот нам и не миновать разговора, Борис Андреевич. Лучше уж сразу, чего там, а то совсем запутаемся, — И еще решительнее и тверже: — Дело в том, что…
Митин поднялся на ноги.
— Я пойду туда. Вы уж как-нибудь одни… Хотя могли бы и подождать, не самое подходящее место и время выбрали, — И ушел в квартиру, прикрыв за собой дверь.
— Я ее люблю, — упрямо договорил Дыбасов.
«Самое смешное, — подумал про себя Иннокентьев без злобы и даже без ревности, — что он при этом называет меня по имени и отчеству, как в старых романах… остается только вызвать меня к барьеру…»
— Я тоже, Роман Сергеевич, представьте себе…
— Неправда, — не задумываясь оборвал его Дыбасов, — вы не любите.
— Откуда вам это знать?? — опять не обиделся, а скорее удивился Иннокентьев.
— Потому что вы… Одним словом, любовь — это совсем другое, чем…
— Что вы обо мне знаете, Роман? — Иннокентьев ничего с собой не мог поделать: он не чувствовал сейчас к Дыбасову ни ревности, ни даже зависти отвергнутого возлюбленного к возлюбленному удачливому. Но это было именно так. — Что вы на самом деле знаете обо мне?!
Дыбасов ничего не ответил, докурил сигарету до самого мундштука, раздавил окурок каблуком стоптанного башмака.
Иннокентьев не выдержал затянувшегося молчания, спросил о том, о чем спрашивать не следовало:
— А она вас?..
Дыбасов сказал буднично:
— Не знаю. Она мне верит, это главное. Это самое главное, — повторил он упрямо.
— А мне — не верила? — опять не удержался Иннокентьев.
— Вам — нет, — твердо ответил Дыбасов.
— Почему? — в третий раз не справился с собою Иннокентьев.
Дыбасов, все это время сидевший к нему спиной, обернулся, чтобы ответить, но почему-то посмотрел не в лицо ему, а поверх головы.
— А на это пускай уж она сама вам ответит…
Иннокентьев обернулся — за его спиной двумя ступеньками выше стояла Эля.
— Мне уйти? — спросил Дыбасов то ли ее, то ли Иннокентьева.
— Как хочешь, — безразлично пожала она плечами.
Дыбасов встал, отряхнул не торопясь штаны, ушел в квартиру.
Эля села рядом с Иннокентьевым, достала из нагрудного кармана куртки смятую сигарету и дешевую пластмассовую зажигалку, но прикуривать не стала, сказала тоже буднично:
— У меня с ним ничего пока не было. — И хотя Иннокентьев знал по опыту, что о ней никогда нельзя было предположить наперед, как она поступит и что скажет, эти ее слова ошарашили его. — Я вас ждала. Я врать, представьте, не хотела. Ни вам, ни ему. Я и сама еще не знала. А потом умер Глеб Антонович… — И заключила твердо: — Теперь-то уж что ж…
Он спросил ее, хотя и на этот раз знал, что спрашивать не надо:
— Ты любила меня?
Она долго не отвечала.
Не хочешь — не отвечай, — сжалился он.
— Нормально. Не знаю. — И объяснила: — Что любила — знаю, а вот вас ли…
Он не понял ее, но настаивать не стал.
Казалось, она мучительно преодолевает что-то в себе.
— Если уж совсем по правде, — решилась наконец, — так, верьте не верьте, я в то утро, ну, в самое первое, когда ваша монтажница заболела, я ведь тогда сама напросилась. На свою голову… Тогда-то я вас уж точно любила, в натуре, хоть только по телевизору и видела… вот того-то я и любила, который по телевизору…
— А увидела живьем — разочаровалась? — усмехнулся он и сам почувствовал, какая жалкая получилась у него усмешка.
— Нет, — твердо отвергла она его догадку, — просто… просто — только вы не обижайтесь, ладно? — просто тот и вы… даже как сказать, не знаю…
— Два разных человека? — подсказал он ей.
— Тот такой был… — не услышала она его, — такой весь из себя бойкий, смелый, ничего не боится, всем все в лицо говорит, что думает, невзирая, и — море по колено… Я тогда знаете что даже про себя решила? Что нет женщины на свете, которая бы вас стоила…
— А потом? — настаивал он, хоть и знал наперед, что' она ему ответит, если, конечно, захочет ответить, не пожалеет его.
— Потом… то-то и оно, что никакого потом не получилось…
— Ну а тот, другой? — не отступался Иннокентьев. — Он-то какой оказался?..
— Ну, это уж ваша забота! — неожиданно резко, почти грубо ответила она. — Теперь-то что уж. Мертвому припарки. Только не обижайтесь. Я ведь и вправду вас тогда ужас как любила, того. Вы ни капельки не виноваты, вы-то тут при чем? Это я себя, а не вас обманула… ну, не обманула, а… — Упрямо покачала головой, будто утверждаясь сама в том, что только что в себе открыла. — Нормально!..
Нормально, согласился он с нею, нормальнее не придумаешь…
Она чиркнула зажигалкой, в густеющей темноте лестничной клетки пламя осветило на миг ее лицо, отразилось в зрачках.
Как тогда… — вспомнил он их предновогоднюю поездку в Никольское, они сидели тогда в машине и никак не могли решиться выйти в стужу, красный глазок прикуривателя выхватывал из темноты ее глаза, губы и нос. Он вспомнил, как его ожгла тогда нежность и жалость к ней, а ведь любовь — это и есть не что иное, как нежность и жалость, ну разве еще желание, но ведь именно это и ожгло его тогда, значит, он не врал себе, значит, он и на самом деле ее любил, какого тебе еще доказательства надо, какой еще неопровержимой улики?!
И как тогда — любовь, так его ожгла сейчас непереносимая и вместе освобождающая от неопределенности и душевной сумятицы боль нынешней, вот этой сегодняшней, потери, безвозвратной этой утраты. Нет, подумал устало Иннокентьев, что бы человек о себе ни возмечтал, каким бы жестким, одетым в броню ни захотел стать, каких бы безбрежных свобод и вольных воль себе ни напридумывал, настоящее в нем, неизлечимое — только эта жажда нежности, любви и жалости. И боль утраты. Но он почему-то не смеет себе в этом признаться.
Они сидели на холодных ступеньках темного лестничного марша, мимо них, шумно гомоня, уходили с поминок последние ружинские друзья-приятели. Потом стало пусто и тихо, только и было слышно что шорох дождя за окном да гул машин на Дмитровском шоссе.
Иннокентьев подумал — вот она, Эля, рядом, можно дотянуться до нее рукой, можно пересесть ступенькой ниже и спрятать лицо в ее коленях, но и тогда, когда еще не поздно было, когда она и сама этого хотела и ждала от него, он побоялся, как бы она не заподозрила его в слабости, в том, что он не может без нее, и свою нежность тоже прятал — делиться собою он никогда ни с кем не умел.
На лестничную площадку вышел Митин.
— Все разошлись уже, слава богу. Надо поговорить — Рантик настаивает, у него на послезавтра обратный билет.
Эля поднялась первой, подобрала со ступенек брошенные Дыбасовым и Иннокентьевым окурки, выбросила их в мусоропровод, ушла в квартиру.
Митин пробормотал невразумительно:
— Еще это завещание… дележ имущества, мерзость какая-то! Пойдем. Хорошо хоть мою Иру удалось спровадить…
Иннокентьев встал, пошел следом за ним.
За столом, с которого Эля убирала грязную посуду и недоеденные закуски, сидели Рантик и Паша, пили чай, вполголоса что-то меж собой обсуждая. Рантик держал большую ружинскую фаянсовую кружку в горсти, как пиалу, шумно дуя на слишком горячий чай.
Во второй комнате Иннокентьев увидел сквозь растворенную дверь Дыбасова, он сидел на высокой кровати карельской березы, что-то читал, короткие его ноги не доставали до пола. С кухни было слышно, как там Эля моет, гремя вилками и ножами, посуду.
Рантик поставил кружку на стол, встал и сказал с широким жестом радушного, хоть и опечаленного хозяина:
— Садитесь, Борис и Игорь, дорогие. Теперь тут только самые близкие, только свои, посидим, вспомним нашего покойного дорогого Глеба…
Иннокентьев и Митин молча сели на скрипучие венские стулья. Прервал молчание Митин:
— Я понимаю, Рантик, вы хотите — насчет завещания… Но нельзя ли, скажем, завтра? Такой день, все устали, да и вообще…
— Конечно, понимаю, дорогой Игорь, но у меня — билет, дела не позволяют, извините.
— А я так даже завтра улетаю, — поддержал его Паша, — в семь утра. В два у меня уже процесс в нашем Арбитраже.
— Роман, дорогой, — обернулся через плечо Рантик, — очень вас просим.
Дыбасов вошел в комнату, но сел не за стол, а на ружинский топчан позади Митина.
— Зачитай, Паша, пожалуйста, — попросил Рантик.
— Надо Элю позвать, — подал голос Дыбасов, — она ведь тоже там названа.
— Само собой, — поспешно согласился Рантик, — а как же! — И, понизив голос, спросил: — Извините, просто я только в крематории пять дней назад в первый раз ее увидел… Она что — была его… я хочу сказать — кто она ему была?
— Никто, — резко отрезал Дыбасов, — Кстати… — Он чуть запнулся, прежде чем сказать громко и с вызовом неизвестно кому: — Она моя жена. Это я для всеобщего сведения.
— Извините еще раз, — виновато поспешил Рантик, — не знал, я не был у дорогого Глеба целый год… Но это не имеет принципиального значения, если в завещании она все равна указана. Зачитай, Паша, пусть будет все как положено, — И сам громко позвал: — Эльвира, пожалуйста, если вам не трудно, мы все вас ждем!
— Завещание… — опять, как на лестнице, пробормотал Митин, — прямо-таки Оноре де Бальзак…
Эля вошла в комнату, вытирая на ходу мокрые руки кухонным полотенцем.
— Садись сюда, — предложил ей место рядом с собой Дыбасов, но она, ничего не ответив, села к столу.
Паша достал из внутреннего кармана пиджака потертый кожаный футляр, вынул из него очки в неожиданно модной квадратной оправе, надел их, из другого кармана извлек сложенный вчетверо лист обычной писчей бумаги. Но прежде чем начать читать завещание, посмотрел поверх очков на Митина, Иннокентьева и Элю.
— Рантик потому попросил меня участвовать и дать ход данному документу, что согласно воле завещателя я в нем не упомянут и выступаю здесь в роли, так сказать, исключительно юриста. Разрешите, если никто не против.
Завещание было совсем коротенькое, в несколько строк, в нем никак не определялось, в каких долях делить оставшееся после Глеба наследство, лишь назывался главный душеприказчик — Рантик, и четверо других — Иннокентьев, Митин, Дыбасов и Эля. Она так и была названа в завещании — не по фамилии, а лишь по имени, может быть, пришло в голову Иннокентьеву, Глеб и не знал ее фамилии. И тут же подумал, что он и сам ее не помнит: Эля и Эля…
Паша закончил читать завещание, вновь сложил листок вчетверо, протянул его Рантику. Рантик поблагодарил его кивком.
Все молчали, не зная, что в таких случаях надо говорить и как приступить к делу.
Митин не выдержал:
— Давайте уж кто-нибудь первый… а то, честное слово, никаких сил!..
Дыбасов вскинулся из-за его спины:
— Нам с Элей ничего не надо! Скажи, Эля!
Но она промолчала, сидела, положив на стол руки с кухонным полотенцем.
Тогда он добавил еще агрессивнее:
— Во всяком случае, мне!
— Зачем такие нервы, дорогие мои? — с укоризной в голосе развел руками Рантик. — Мне тоже ничего не надо. И Паше. — Паша согласно кивнул. — Но наш дорогой покойный оставил вот это завещание, это его, как говорится по-юридически — правильно, Паша? — последняя воля, разве мы имеем право не послушаться?..
— Нельзя, — негромко сказала Эля. — Некрасиво получится — Глеб нам оставил, он так хотел, а мы отказываемся…
— И в какое положение вы поставите тех, в пользу кого отказываетесь? — вставил Паша. — Я, конечно, тут лицо стороннее, меня в числе наследователей нет, просто как юрист…
— Бросьте, Паша, — Дыбасов поднялся с топчана, — у вас такое же право, как у всех!
— Само собою, — подтвердил Митин, — какие могут быть разговоры. Только давайте скорее!
— Вот что, — предложил Иннокентьев, — нас здесь шестеро, если каждый будет в этом участвовать, нам до завтра не управиться, тем более всем, как я понимаю, совершенно не важно, как все будет поделено…
— Что вы предлагаете? — перебил его Дыбасов.
— Рантик — душеприказчик, Паша — юрист, вот пусть они вдвоем и займутся, а мы заранее соглашаемся с тем, как они решат.
— Нормально, — подтвердила первой Эля.
Рантик и Паша ушли во вторую комнату, Эля вернулась на кухню домывать посуду, Дыбасов распахнул дверь и вышел на балкон — дождь утих, лишь редкие, по-летнему тяжелые и звонкие капли срывались с крыши на жестяные карнизы, и слышно было, как внизу, на ночной улице, журчат потоки у решеток коллекторов.
Митин и Иннокентьев не встали из-за стола, молча курили.
Иннокентьев спросил как можно безразличнее, кивнул в сторону балкона, и тут же пожалел, что спросил:
— Давно это у них?
— Ты об Эле и… — понял его Игорь. — Не знаю. И вообще этот вопрос, извини…
— Ладно, не будем. — Иннокентьев решительно встал и прошел на кухню.
Эля вытирала посуду уже совершенно мокрым полотенцем.
Он остановился в дверях и сказал на удивление самому себе спокойно:
— Я тебя ни о чем никогда не спрошу, никогда не упрекну. И я всегда буду тебе благодарен. Благодарен и… и все всегда буду помнить. И если когда-нибудь… одним словом, если ты когда-нибудь… — Но, не договорив, круто повернулся и вышел.
В комнате он застал уже сидевших за столом Рантика и Пашу. Паша что-то дописывал на листке бумаги, то и дело стряхивая ручку с вечным пером.
Позвали Элю и Дыбасова, и Паша прочел, как они с Рантиком предлагают разделить ружинское наследство…
Всю ночь и все утро — Паша уехал в Домодедово в пять утра, остальные оставались до полудня — они укладывали в узлы и чемоданы одежду, постельное белье и посуду, книги — в картонные коробки, которые, сбегав поутру вниз, купил в гастрономе Дыбасов, не уместившиеся в коробки связывали в тяжелые пачки добытой у соседей бечевкой; освобождали книжные полки, кухонные шкафы, ящики письменного стола и знали, что никогда им уже не переступить порога этой квартиры на Бескудниковском бульваре, где жил человек нелепый, ленивый и мудрый, обладавший бесценным даром любить друзей и жить их жизнью, не прощать и не спускать им ничего и вместе одаривать их дававшейся ему без труда верой в то, что творить добро, повинуясь лишь собственной совести, такое же легкое и естественное занятие, как — дышать.
И им было совершенно непонятно, как они будут дальше жить — без него и без странноприимного этого дома, без громоподобных его проповедей и не таящих угрозы инвектив, без кофе по-восточному и россказней о матери-персиянке и прадеде-цареубийце.
А жить — надо, думал Иннокентьев, увязывая в тяжелые стопки книги и вынося их на лестничную площадку к лифту, никуда не денешься, вот уж воистину чаша, которая никого не минет, и надо осушить ее до дна — а что там, на дне?.
Паша, наверное, уже успел долететь домой, Дыбасов опаздывал на репетицию, Рантик созвонился с комиссионным магазином, ему обещали после обеда прислать машину за мебелью. Все было уложено, упаковано, увязано, можно было и расходиться.
Был уже понедельник, Иннокентьеву нужно было заехать хоть ненадолго в Останкино, он погрузил в такси доставшееся ему от Глеба наследство. Эле надо было на Курский вокзал, он предложил подвезти ее.
Вчерашнего ненастья как не бывало, лужи успели просохнуть, разве что в воздухе еще стояла душная тяжесть испарившейся за ночь влаги, небо было такое чистое, что, казалось, если хорошенько вглядеться, можно увидеть в синеве бледные дневные звезды. Эля сидела рядом и молчала. Иннокентьев не знал, о чем и как с ней теперь говорить, и сказал первое пришедшее на ум:
— И что же ты теперь?
— Я в театр устраиваюсь. Если получится, конечно.
— К Дыбасову? — удивился он, — Но ведь он и сам…
— Ага, — спокойно подтвердила она, — мы с ним оба устраиваемся.
Иннокентьев подумал, как все это — история со «Стопкадром», война Дыбасова с Ремезовым, его собственные тогдашние треволнения — как все это было давно, прямо-таки до нашей эры, и каким незначащим, ничтожным все это представляется теперь, после смерти Глеба.
— И что же он теперь? Дыбасов?
— А он студию взял, самодеятельность. Есть такой спортзал при бывшей школе, школу куда-то перевели, а спортзал остался, вот и решили — пусть будет студия. То ли при ЖЭКе, то ли райком комсомола организовали. А меня сторожем пока оформляют, ну, в общем, не знаю, как должность называется, сторож или дворник, какая разница? Все нормально.
— Ну а спектакль этот его, из-за которого весь сыр-бор разгорелся? — Господи, думал Иннокентьев, как давно это было и сколько на эту обреченную затею потрачено сил и нервов! — Забросил?
— Нет, зачем же? Он его там, в спортзале, и репетирует, артисты сами предложили работать по ночам. Он уже и с каким-то начальством самым главным договорился. Я же говорю — нормально.
Такси свернуло на привокзальную площадь.
«Нормально… — думал про себя с удивлением Иннокентьев, — Каких-нибудь две недели меня в Москве не было, а событий глобальных — навалом… Дыбасов-то, оказывается, всех перехитрил… И Митин внакладе не останется, поставят его пьесу, пусть хоть и в спортзале… Один я, не побоимся этого слова, в дураках…» Но вспомнив о Ружине, которого нет и никогда уже не будет, устыдился своей обиды. А вслух спросил и вовсе о другом:
— Ты его любишь?
— Романа Сергеевича?.. — переспросила Эля и ответила не сразу: — Я ему нужна.
— Ты мне тоже была нужна, — глухо сказал Иннокентьев, — может быть, еще нужнее…
— Врешь, Боря, — без укора возразила она, открывая дверцу машины. — Врешь. Даже если не мне, так себе. Только я на тебя зла не держу, нормально.
И, быстро повернувшись к нему, едва коснулась губами его щеки и тут же, захлопнув с силой дверцу и не оглядываясь, ушла.
А он, когда такси вновь влилось в поток машин на Садовом кольце, невольно стал думать о том, что и как надо написать в отчете о поездке на симпозиум, что и как он расскажет Помазневу, какие материалы подготовлены и сняты в его отсутствие для очередного «Антракта», и еще о том, что хорошо бы со всеми этими делами и разговорами разделаться поскорее, приехать домой, запереться на ключ, ни о ком и ни о чем не думать.
И тут же ему пришло на ум — даже рука с сигаретой задрожала от неумолимости этой мысли, — что все это очень похоже на прощание. И не только с Глебом, не только со всей их компанией, которая, честно говоря, на одном Глебе и держалась, не только с Лерой и воспоминаниями о ней, не только с Элей, но и с чем-то неизмеримо более важным и существенным. Уж не с самим ли собой? — и хотел было усмехнуться самому себе, да не посмел.
И еще он подумал, что прощание это началось не сегодня, не вчера, а много раньше. Сколько лет тому? Четырнадцать уже?.. Только тогда они не догадывались, что — прощание.
13
В тот год на восточном берегу Крыма август выдался на диво — ни одного дождя, а трава тем не менее на склонах Святой и на Карадаге не выгорела, жара смягчалась ровно и без передышки дующим с моря, со стороны мыса Хамелеон, мягким ветром, вечера стояли свежие, а ночи были так обильны звездопадами, что от неба нельзя было отвести глаз.
Бухта лежала хрупко-голубая, слюдяной ее блеск отсвечивал фиолетовым, лиловым, от лилового же до серебристо-серого менялся, следуя за ходом солнца, цвет Хамелеона, ночью за ним, на дальнем мысу, похожем на погрузившего голову в воду крокодила, искрился огнями безымянный городок, на закате, когда солнце садилось за Карадаг, очертания горы выпукло проступали на фоне тускнеющей синевы неба и напоминали человеческий профиль — большой покатый лоб, прямой нос, припухлые губы и крупный, тяжелый подбородок, уходящий в воду.
В павильоне «Волна» жарили с раннего утра цыплят табака, острые запахи горелого подсолнечного масла и чеснока разносились по всему побережью, у пансионата готовили на жаровне шашлык прямо под открытым небом, в семь утра всех будил радиоголос с прогулочного катера: «Граждане отдыхающие, в восемь ноль-ноль состоится морская прогулка по маршруту…»
Митин и Ира — тогда еще не жена, а всего лишь дама сердца — жили в пансионате, а Иннокентьев, Лера и Ружин снимали две комнаты с открытой верандой в поселке. Ночью с веранды слышно было, как оглушительно квакают лягушки у фонтана в парке, среди них выделялась одна поразительно голосистая, похоже было, что она без устали выкрикивает одно и то же слово «вперед! вперед!», цикады трещали не умолкая, в крохотном зверинце деревянным голосом кричал павлин и скулили во сне облезлые, злые лисицы.
20 августа Игорю Митину исполнялось тридцать лет, и поскольку так вышло, что в это время в Коктебеле собралась почти вся их компания, решено было отпраздновать Игорево тезоименитство на широкую ногу.
Как раз в это время в Феодосии гастролировали два чрезвычайно подходящих к случаю коллектива: Всесоюзный Дом моделей в полном составе и женский хоровой ансамбль «Мрия». Манекенщицы и хористки проводили весь день в Лягушачьих и Сердоликовых бухтах, лишь к вечеру, прожаренные до полной невменяемости, возвращались в Феодосию на свои концерты и показы мод, а к утру они были вновь в полном составе на пляже и в бухтах.
Загодя заказали несметное количество цыплят табака, сдвинули столы на затянутой от посторонних глаз полотняными шторами веранде «Волны» — и с наступлением вечера потянулись гости.
Поскольку всем осточертело ходить с утра до ночи босиком и в одних плавках и купальниках, решено было прийти на день рождения всенепременно в вечерних туалетах: мужчины обязательно в носках и при галстуках, дамы — в длинных, хоть и ситцевых, платьях. Юбки с отвычки стесняли движения загорелых, избалованных курортной вольностью ног, мужчины же поводили по-петушиному шеями, стиснутыми галстуком, словно пеньковой петлей. Ира и вовсе пришла в роскошном декольтированном платье, ее пышные, щедрые груди то и дело упрямо стремились на волю, и она машинально заталкивала их обратно жирными от цыплят руками.
С «балюстрады» заглядывали на веранду званые и незваные, свои и чужие, заходили без спроса, хватали со стола бутылки, уносили на пляж и там допивали.
Манекенщицы, забыв о профессиональной воздержанности, ели за троих, певички напились вдрызг и взвизгивали совсем не в лад, а так, как взвизгивали испокон веков их деревенские — на Житомирщине и Херсонщине — матери и бабки, когда парубки прижимали их безлунными малороссийскими ночами к плетням, под невидимыми в темноте золотыми лунами подсолнухов, и лезли шершавыми своими, короткопалыми ручищами им за пазуху, ситец трещал по швам, и отлетали в темь с легким пороховым треском пуговки, а за плетнем в бессильном брехе заливались цепные псы, — певички вновь стали бесстрашными деревенскими дивчинами, а манекенщицы — бесшабашными девахами с московских окраин — Сокольники, Тушино, Преображенка, — задиристыми и не дающими спуску, взятая напрокат их манерность слетала с них, как пудра с курносенького личика, потекли от смешливых слез ресницы, размазалась на губах помада, и в этой расхристанности они были натуральнее и целомудреннее, чем в вышколенности их ремесла.
Веселье перемахнуло за «балюстраду», танцевали босиком, Митин, виновник торжества, держался с необычайным достоинством и надменностью, Глеб Ружин мерился с желающими силой — локти уперты намертво в стол, кулаки налиты свинцовым напряжением — раз за разом неулыбчиво и сосредоточенно одолевая чужую руку. Потом вспыхнула драка, Глеб бросился разнимать дерущихся, в мгновение ока раскидал их, и они уползли в кусты и на гальку пляжа врачевать мокрыми голышами синяки. Потом он вернулся еще более сумрачный и серьезный, сел рядом с Иннокентьевым, сказал неожиданно трезво и печально:
— Пир во время чумы, тебе не кажется?..
— С чего ты взял? — удивился Иннокентьев.
— С таких пиров чума и начинается, — так же печально ответил Ружин, — с нестреноженности. Я боюсь, когда мне ничего не страшно.
— Почему? — перегнулась к нему через плечо Иннокентьева Лера. — Почему?..
— Жди беды, — ответил непонятно Глеб.
Подошла Ира, села на колени к Лере, сказала весело — впрочем, веселье это отдавало затаенной какой-то горечью:
— Последний нонешний денечек, да?..
— И ты туда же! — возмутилась Лера, — Вот Глебу тоже конец света мерещится!
— На свет мне начхать, — сказала еще горше Ира. — Я не про то.
— Про что же? — спросил ее Глеб. Глебу явно нравилась Ира, всем это было видно, один он полагал, что страсть свою держит в глубокой тайне.
— Про себя, про меня и про этого, как его… про именинника.
— О чем ты? — вскинулась с любопытством Лера.
— О том, что теперь уж не миновать, если я не полная дура, под венец…
— Так ты разве сама этого не хочешь? — удивилась Лера. — Посмотри на него — он же на тебя не надышится!
— Вот-вот! — несказанно обрадовалась ее словам Ира. — Именно! Перед смертью не надышишься! А-а!.. — махнула она залихватски и вместе безнадежно рукой и, шурша накрахмаленными юбками, ушла на нетвердых ногах с веранды.
Как из-под земли вырос Митин.
— Чего это она? — спросил он с тревогой, — Куда ее понесло?!
— Догони, — очень серьезно и даже с угрозой сказал, не глядя на него, Глеб. — Догони, пока не поздно.
— Пока ты сам за ней не похилял? — зло уперся в него мутными глазами Игорь.
В нем, кроме всего прочего, в ту далекую пору было замечательно и то, что при всей своей вальяжной светскости говорил он исключительно на московском сленге молодежных кафе, безработных лабухов и полублатных толковищ. Потом, правда, это с него сошло.
Ружин встал во весь рост, вышел из-за стола, хотел было уйти, но остановился, кинул через плечо Митину:
— Кретин! — И, не оглядываясь, пошел прочь.
Решено было — только тихо! без шума! — перебраться на пляж. Там было так темно, что не различить, где кончается твердь и начинаются морские хляби, только галька металлически шуршала под ногами, сонная волна набегала на нее с ритмическими всхлипами. Но потом над Карадагом взошла оранжевая, в полнеба луна, пробежалась к берегу широкой искрящейся дорожкой.
Сидели на гальке и молчали, притомившись необузданностью веселья, застеснявшись покоя моря, величавой поступи по нему луны и возжаждав чистоты и тишины.
Но тут кто-то, оступившись, рухнул — как был в отутюженных брюках и при галстуке — в воду, и непрочно сдерживаемое буйство вновь хлынуло из них, не сговариваясь они кинулись — в башмаках, в пиджаках, в длинных платьях — в море, кто не хотел или боялся, того заталкивали силком.
Наутро у Иннокентьева было такое чувство, будто им всем приснился один и тот же вещий сон и проснулись они с каким-то необъяснимым чувством потери — потери чего?! — какой-то невосполнимой утраты — утраты чего?! — какой-то неясной тревоги и угрозы — угрозы чему?! — и что всем им уже не докричаться никогда до самих себя вчерашних.
Он вспомнил оброненные ночью слова Глеба, который сидел на гальке рядом с ним и рассеянно бросал камешки в море.
— Ты был прав, — сказал ему Иннокентьев.
— Насчет чего? — не понял его Ружин.
— Что-то кончилось…
— A-а… — безразлично припомнил и Глеб и бросил в воду плоский камень, тот отскочил от поверхности и еще три раза подпрыгнул, прежде чем уйти на дно.
— Что-то кончилось, — настойчиво повторил Иннокентьев, — вот только — что?..
— Я-то давно этого ждал, — так же безразлично ответил Ружин.
— Чего именно? — недоумевал Иннокентьев.
— А того что — хватит! — вдруг выкрикнул Глеб и бросил в воду тяжеленный голыш. — Побыли в мальчишках, в сосунках, в маменькиных баловнях в коротких штанишках, хватит! Пора и честь знать! Пора и не на помочах научиться ходить!.. Да я эту вашу дольче виту, грошовую эту вашу сладкую жизнь, своими бы, кажется, руками!.. — И в сердцах бросил в воду чуть ли не пудовый валун. — Вам бы только чтоб все, как в кино, а до жизни вам и дела нет, до взаправдашной… А она знаете чем пахнет? Вы словно сбежали все на какой-то необитаемый остров…
— Почему же — «вы»? — не согласился Иннокентьев. — В таком случае говори уж «мы».
— Нет уж! — прямо-таки зашелся в рыке Глеб. — Увольте! Я — не с вами. Не по пути! Я — пас! Уж без меня как-нибудь, сделайте одолжение! — И вновь оседлал недоговоренную мысль: — Островок, ни на какие карты не нанесенный…
Не договорив, пошел было прочь, но вернулся, плюхнулся всей своей тяжестью опять на гальку рядом с Иннокентьевым, его распирал праведный гнев.
— А воды-то, половодье-то день за днем подмывает ваш остров пингвинов, Гондвану вашу дешевую, несет ее по течению вместе с ошметками, мусором и гнилью, и не миновать вам очнуться, рано или поздно, в открытом океане… Будьте вы неладны!.. — Опять вскочил на ноги и, оскользаясь на гальке и мотаясь из стороны в сторону, пошел вон с пляжа.
Рядом с Иннокентьевым прилег у самой кромки воды Митин, спросил сонно:
— Чего это он? И вообще — какая муха вас всех с утра пораньше укусила?
И все же, как подумаешь сейчас, тот август шестьдесят восьмого выдался на славу.
14
С июня и по середину октября прошли только две передачи «Антракта»: лето, все театры на гастролях или в отпуске, одним словом — мертвый сезон. Да и писем от телезрителей заметно поубавилось, а ведь совсем недавно на каждый выпуск приходили десятки, а иногда и сотни откликов. Такова судьба всех телевизионных рубрик, понимал Иннокентьев, они рано или поздно себя исчерпывают, отработанные штампы вытесняют из них живое и свежее, цикл незаметно и тихо угасает, на смену ему приходит другой.
Да и ему самому все труднее стало находить что-то новое, не похожее на прежнее, каждая последующая передача так или иначе повторяла предыдущую, все сложнее было наполнять новым вином эти старые порядком прохудившиеся мехи. Иннокентьеву даже приходило в голову, не уйти ли вообще с телевидения, ему и раньше время от времени делались разные заманчивые предложения, но он отдавал себе отчет, что нигде ему не найти той самостоятельности и независимости, к которой он привык у себя в «Антракте».
Он и не торопился с принятием решения, опыт научил его, что надо лишь терпеливо и не суетясь дождаться, чтобы наилучшее, единственное решение созрело как бы само по себе и в один прекрасный день явилось непреложной необходимостью, отсутствием какого-либо иного выбора.
А в начале ноября состоялась премьера «Стоп-кадра». Студия Дыбасова оказалась на поверку вовсе не просто самодеятельностью при ЖЭКе, как объяснила Иннокентьеву в день похорон Ружина Эля. К нему потянулись не только энтузиасты из различных драмкружков и народных театров, но и множество молодых, изголодавшихся по настоящей работе актеров-профессионалов. Даже Ремезов был вынужден разрешить артистам своего театра, занятым в «Стоп-кадре», сыграть практически готовый уже спектакль в новой студии.
На премьеру съехалась, что называется, вся Москва. Под аркой, ведшей в глубь двора, где помещалась студия, толпились жаждущие «лишнего билетика», а в тесном переулочке среди выстроившихся вдоль тротуара машин было и несколько с дипломатическими номерами.
Само здание старой школы у Патриарших прудов, не отвечающее современным требованиям, передали под какое-то учреждение, а гимнастический зал с раздевалкой, душем и прочими помещениями при нем отошел в ведение ЖЭКа, который долго не мог взять в толк, что с ним делать, и зал стоял несколько месяцев совершенно бесхозный, на замке. Тут-то на него и набрел Дыбасов, смекнув, что лучшего помещения для студии ему не сыскать, сочинил подробную и убедительную бумагу в высшие инстанции с тщательно разработанным проектом всего того, чем, на его взгляд, должен будет заниматься будущий театр. К тому же на руках у него был сильный козырь — готовый спектакль, с которого и можно начинать дело.
Раздевалка так и осталась раздевалкой — гардеробом для зрителей, — душевую, разделив пополам фанерной перегородкой, превратили в гримерную, в бывшей комнатке преподавателя физкультуры репетировали, она же служила кабинетом администрации. Центр зала стал игровой площадкой, ареной, как называл ее сам Дыбасов, вокруг нее вдоль стен были сбиты амфитеатром в несколько рядов скамьи из некрашеных досок, и это действительно напоминало цирковую арену или же что-то вроде средневекового площадного балагана. На узком балкончике вдоль одной из стен, существовавшем еще тогда, когда зал служил по прямому своему назначению, установили несколько прожекторов, и вот полгода не прошло — премьера.
Билеты на первые спектакли в театральных кассах не продавались, все зрители были приглашены по списку, составленному самим Дыбасовым.
Элю Иннокентьев увидел сразу, как только переступил порог студии — она, все в том же своем выцветшем джинсовом костюмчике, с той же небрежной челкой надо лбом, проверяла пригласительные билеты. Еще прежде чем она бегло прочла его имя на белом квадратике картона, Иннокентьев успел заметить, что ногти у нее уже не острижены по самые подушечки, как раньше, а длинные и покрыты бледно-розовым лаком.
Она подняла на него глаза, обрадованно и вместе испуганно вскрикнула тихонечко:
— Боря?!
— Ну здравствуй, — сказал он тоже негромко и сам обрадовавшись и испугавшись этой встречи, — как ты жива?.. — И за нее ответил, усмехнувшись: — Нормально?.. — Задерживаться в дверях было нельзя, сзади напирали, он только и успел еще сказать ей впопыхах: — Позвонила бы когда-нибудь, как да что… — Но ответа уже не расслышал.
Потом он увидел ее еще — она стояла на балкончике и, явно нервничая и труся, не ошибиться бы, не опоздать, не перепутать, направляла вниз на актеров лучи софитов. А после спектакля она ему уже не попалась на глаза, и он так и ушел, не поговорив с нею и не попрощавшись.
Войдя внутрь и оглядевшись, Иннокентьев сразу понял, что — успеха не миновать. Потому что не только он сам, но и все прочие приглашенные — друзья и доброхоты либо, наоборот, скептики и злопыхатели — пришли сюда именно в ожидании и в предвкушении успеха или равного ему по громкости провала, это дела не меняет. Иннокентьев предугадывал это многоопытным своим чутьем завсегдатая премьер, он знал этот запах, и если учуял его еще до начала представления — не так уж важно, хорош ли, талантлив ли будет на самом деле спектакль: успех обеспечен, считай, он уже у Дыбасова и Митина в кармане. Иннокентьев слишком хорошо знал эту премьерную московскую публику и то, как это бывает. Да и сам он, по чести признаться, один из них, он тоже другим воздухом, кроме воздуха успеха, давно уже разучился дышать — своего ли, чужого, это не так важно.
Однако более всего его поразило, когда он переступил порог зала, то, что Настя Венгерова, в подчеркнуто простом и будничном платье, помогает зрителям отыскивать свои места, продает им программки и получает, аккуратно отсчитывая сдачу, двугривенные и пятаки.
Тут уже не успехом пахнет, подумал Иннокентьев, а триумфом! Тут не аплодисменты намечаются, а фейерверк, салют наций, «гром победы, раздавайся»!..
Настя увидела его, подошла, прикоснулась на миг холодной и гладкой щекой к его щеке, сказала шепотом, и Иннокентьев поверил, что она и на самом деле волнуется, как начинашка какая-нибудь:
— Все равно мы на тебя очень надеемся, Боренька…
Он принял к сведению это ее «все равно»: теперь-то они и без него обойдутся, он им уже не нужен, игра сделана, осталось получить выигрыш.
Подошел Митин, взял его под руку и увел в пустую комнатку администратора. Он был бледен как мел, говорил сбивчиво, перескакивая с одного на другое.
— Иди сюда, тут хоть нет этих сволочей…
— Их и на самом деле нет, — успокоил его Иннокентьев, — По-моему, все как раз настроены вполне благожелательно. Ты же видишь — пришли все как один, а уж одно это кое-что да значит…
Но Митина уже волновало другое:
— Я знаю, тебе пьеса не нравится…
— Кто тебе это сказал? — пожал плечами Иннокентьев. — Будь это так, меня бы здесь не было…
Митин и это пропустил мимо ушей, схватил его за лацкан пиджака и, искательно заглядывая в глаза, понизил голос до шепота:
— Слушай, а может, вообще ничего этого и не надо?.. Лежала бы себе в столе и лежала, а?..
Иннокентьев не успел ответить — в комнату кто-то вошел, оторвал от него почти насильно Митина, зарокотал бархатным басом. Иннокентьев воспользовался этим, вернулся в зал, нашел свое место в третьем ряду, сел и вспомнил с вдруг подступившей к сердцу острой печалью, что эта первая за долгие годы премьера, на которой нет рядом с ним Глеба. И еще со стыдом подумал, как тускнеет и теряет живые контуры его память о Глебе, теперь все чаще Глеб видится ему как в перевернутый бинокль — выпукло и резко, но недостижимо далеко и с каждым днем отодвигается все дальше. Он уже научился жить без него, как научился жить без той же Леры… или без Эли, к слову сказать. Повторение — мать учения, подумал он про себя, чему только не научишься…
Раздался третий — похожий на дверной, квартирный — звонок, в зале стал постепенно гаснуть свет. Уже в полной темноте кто-то пробрался меж тесно уставленных скамей и сел на соседнее с Иннокентьевым место, запах духов настойчиво что-то напомнил ему, но поворачиваться и глядеть на соседку в упор было неудобно. Впрочем, она сама его узнала, несмотря на темноту:
— Здравствуйте, Борис Андреевич.
Он сразу вспомнил и голос, и духи, и Сочи: Рита Земцова.
— Вы?.. Вот так неожиданность…
— Ничуть не бывало. Я знала, что мы окажемся рядом. Собственно, я сама попросила об этом, когда мне позвонили насчет премьеры.
Он, как и в тот раз, на корте, не нашелся, промедлил с ответом, но она и не стала его дожидаться.
— Я просто подумала — сколько же это может продолжаться? Мы с вами расстались тогда, в Сочи, такими друзьями, верно? А прошло почти полгода — и ни я вам не звоню, ни вы мне… Я ведь знала, что вы непременно будете здесь, ну вот я и подумала… Вы ведь не слишком огорчены этим соседством?..
Он не успел ответить — спектакль начался.
По тому, как уже через несколько минут послушно притих зал, какая отзывчивая, чуткая воцарилась в нем тишина, как подалась вперед, чтобы не проронить ни слова, Рита, Иннокентьев понял, что не ошибся, не преувеличил: победа будет полная. И он поймал себя на том, что искренно, без каких-либо оговорок или сомнений радуется этой победе, этому празднику и даже как бы по некоему бесспорному праву разделяет его с Митиным, Дыбасовым, Венгеровой, Элей и всеми, кто поставил на эту карту. Он был сейчас не просто на их стороне, не просто с ними, а как бы одним из них, и радость его была чиста и бескорыстна. И он опять с щемящим чувством пустоты и печали вспомнил о Глебе — вот уж кто бы порадовался от души, вот уж кто больше, чем все другие, имел право на эту радость…
Он был, так же как и все, захвачен спектаклем, не пропускал ни слова, отдался весь происходящему на сцене, но в то же время — и не вопреки, а именно потому, что все, что там, на «арене», происходило и о чем там говорили, было близко и понятно, как бы адресовалось лично ему, — в голову пришла упрямая, неотвязная мысль: почему он не вошел тогда, в Париже, в ту последнюю лавочку под аркадами?.. Хотя бы для того, чтобы наверняка удостовериться, что Леры там нет. Чтобы уже — никаких сомнений… Какой такой опасной для себя правды он тогда испугался, обошел ее стороной?..
А что, подумал он, если бы за толстым стеклом зеркальной витрины с муляжами в нижнем дамском белье он, увидя типичное для парижанки-продавщицы — нет, пожалуй, все-таки для владелицы собственного дела, собственной модной бутик — лицо, ухоженное, с туго обтянутыми глянцевитой, без единой морщинки кожей скулами, тщательно, волосок к волоску, уложенная прическа, стандартное парижское лицо, — он узнал бы в ней, в этой похожей на всех других парижанке, — Леру?..
Если бы…
Он представил себе это так живо, словно все произошло с ним на самом деле или даже происходит прямо сейчас.
У Леры было такое спокойно-приветливое, профессионально радушное лицо, что ему пришло на ум, не была ли она предупреждена загодя о его приходе, не ждала ли его.
Узнав ее, он остановился в нерешительности, не зная, улыбнуться ли, протянуть ли дружески руку или кинуться к ней, разрыдаться от радости и печали.
Самое удивительное, подумал Иннокентьев, что он успел бы в то же мгновенье удивиться не только тому, что не может решить, как повести себя, как проявить свои чувства, но и тому, что не понимает, что испытывает к ней на самом деле.
Лера, видно угадав, что он то ли не узнает ее, то ли не уверен, она это или не она, одним быстрым движением руки сняла очки с дымчатыми стеклами, как снимают маску, чтобы за этой маской, за этим новым и незнакомым ему лицом он увидел и узнал прежнее ее лицо.
И голос ее, когда она удивленно и как бы испуганно окликнула его, показался ему таким же чужим, как и лицо, далеким и неискренним. Но и в себе самом в это короткое, тут же улетучившееся мгновение он услышал такую же вымученную, постыдную искусственность.
— Боря!..
Она перегнулась через прилавок, он подошел поближе, успел увидеть под стеклом все те же чулки, трусики и лифчики в кружавчиках, тоже перегнулся через них, они потянулись друг к другу, чтобы обняться, но прилавок был слишком широк, Иннокентьев лишь коснулся ее щеки кончиком носа.
И вообще он с каким-то странным, пугающим его облегчением поймал себя на том, что преступно, позорно спокоен и что все, чего он ждал и боялся, думая об этой встрече с Лерой, не случилось, не произошло — ни с ним, ни с нею.
— Это я… — сказал он, все еще держа ее руку в своей над прилавком и не зная, отпустить ему ее или не отпускать.
Она сама высвободила руку и, не забыв убрать с прилавка свои очки, приподняла доску, разделявшую их, и вышла к нему.
— Борька…
А он опять не знал, обнять ли ее и поцеловать теперь, когда уже ничего не мешало это сделать.
Поцеловал неловко, будто стесняясь то ли ее, то ли самого себя. Она тоже поцеловала его и, легко рассмеявшись, достала из кармана голубого строгого платья носовой платок, вытерла следы помады с его щеки.
— Еще скажут, что ты тут с француженками любовь крутил…
— Вот так… — только и сказал он на это, — вот так вот…
— Я знала, что ты в Париже, читала в газетах, да и наши сказали заранее. Беспроволочный телеграф, совсем как в Москве. — И, подняв на него глаза, почти прежние свои глаза, светло-карие, с розоватыми белками, долго глядела на него, горестно покачала головой, — А виски уже седые… совсем седые виски! — И, как бы смягчая свои слова, добавила поспешно: — Я тоже совершенно седая, только крашусь, женщине в Париже нельзя распускаться, тут это сразу бросается в глаза. — И опять поглядела на него, спросила с тревогой: — Как я выгляжу, Боря?..
— Замечательно, — сказал он, — просто замечательно, ты ничуть не изменилась, абсолютно.
Она и вправду нисколько не постарела, была такая же, как прежде, и тем не менее совершенно другая.
Он не мог понять, что же в ней так разительно измени лось, и невольно, чуть отстранившись от нее, пристально оглядел.
— Понимаешь, — поспешила она, будто страшась того, что он может сейчас сказать ей, — тут ни в коем случае нельзя стареть, в Париже, особенно при моей работе… О, с этим здесь нельзя шутить! Я ведь весь день на людях, не так выглядишь, не так улыбнулась, не такое у тебя сегодня выражение лица — и… — Она не договорила потому, наверное, что поняла, что он в ней увидел.
Изменилась не она, — думал бы Иннокентьев, не отводя глаз от ее лица, — это я изменился… Это просто изменилось мое отношение к ней, просто она для меня сейчас уже совсем другая… совершенно другая, незнакомая и чужая женщина… женщина, которую я никогда не знал и никогда не любил. Совершенно чужая, незнакомая и безразличная мне женщина, и ничего страшнее этого не могло случиться… теперь мне уже никогда не вспомнить, любил ли я ее или нет. Я знаю, что любил ее, но вспомнить этого уже не могу… — думал он, глядя на Леру, и она читала это на его растерянном, далеком лице. То есть не то, что он думал, а лишь то, что было ответом на ее вопрос: не постарела ли? — да, прочла она на его лице, постарела, подурнела, и этого с нее было достаточно.
Они помолчали, не зная, что еще сказать друг другу и что им делать дальше.
Иннокентьев смотрел на нее, на ту, что стояла перед ним, и искал в ней ту, что жила вот до этой самой минуты в его памяти и которую он так мучительно надеялся вновь найти в Париже, и вот — нет ее, оказывается, в Париже, как нет давно и в Москве. Ту, прежнюю, не то что в Париже, ему ее и в самом себе уже не отыскать никогда. А нашел он совсем другую, вот эту, что стоит перед ним и не знает, что ему сказать, а он не знает, что сказать ей, совершенно чужую и никогда им не любимую, даже смешно подумать, чтоб он когда-нибудь мог любить вот эту, и сердце его бьется ровно, как у космонавта перед стартом.
Она вздохнула, мотнула упрямо головой, словно отметая прочь все вычитанное на лице Иннокентьева и в его молчании, спросила:
— Ну как ты живешь? — И, будто нарочно подчеркивая, что ответ, по правде говоря, не очень-то ее интересует, тут же спросила с гораздо большим любопытством: — Что Москва?..
И он стал рассказывать ей всяческие московские новости, разные разности тоном человека, где-то в Ереване или Новосибирске встретившегося с другим москвичом, не слишком ему знакомым, который на недельку-другую раньше его уехал из Москвы и без особой нужды выспрашивает о последних столичных новостях, чтобы быть в курсе происходящего, когда еще через недельку вернется восвояси.
Они стояли посреди тесного магазинчика, сесть было не на что, и за все это время никто не вошел в лавку, никто даже не остановился на улице, чтобы поглазеть на выставленные в витрине товары.
Он прервал свой рассказ, спросил с искренним недоумением:
— Слушай, мы вот уже битый час разговариваем, а — ни одного покупателя! Так ты, пожалуй, вылетишь в трубу!
— Кручусь, — ответила она неопределенно. И объяснила: — Я работаю от универмага «Прэнтан», — она так и сказала по-московски: «универмаг», — ну, арендую, что ли, у них этот магазинчик, они не прогорят, можешь за них не беспокоиться, а я… я тоже, в общем, вполне свожу концы с концами. Не жалуюсь.
Но даже это ее «не жалуюсь» не огорчило его, хотя, когда он думал все эти годы о встрече с нею и представлял себе эту их встречу, самое главное и важное для него были именно ее горькие сожаления о случившемся, пусть даже и не высказанные вслух, но без этих ее сожалений и бессильных упреков самой себе встреча эта была бы, в его представлении, совершенно невозможной и бессмысленной.
«Что же это со мною?! — удивлялся он, но и удивление это было какое-то отстраненное, вчуже, будто опять речь шла не о нем, а о ком-то другом, постороннем, — Что же это?!»
— Вот что, — прервала его рассказ Лера, — сегодня суббота, в три я уже закрываю. Ты обедал?
— Я совершенно не голоден, — соврал он.
— А я как раз поела бы. Или у тебя дела?
— Да нет…
— Я скоро, ты подожди…
Она вышла наружу, взяв из-за прилавка железный крюк на длинной палке, опустила с его помощью решетчатые жалюзи, закрывающие витрину, вернулась в лавку.
— Погоди, я быстренько переоденусь.
Заперла на ключ кассовый аппарат, положив не пересчитывая дневную выручку в сумочку, ушла в заднюю комнату, которую Иннокентьев по привычке тут же окрестил подсобной.
— Я придумала, куда мы пойдем есть! — крикнула она оттуда неожиданно молодым, бодрым голосом, тем московским своим голосом прежних лет, и тут на самый милый и короткий миг у него больно защемило сердце.
Она переодевалась за дверью в задней комнатке, не переставая оживленно и перескакивая с одного на другое говорить:
— Собственно, мне и нечего тебе рассказать. Живу. Когда лучше, когда хуже, а — надо жить. Париж не тот город, где можно расслабиться, опустить руки и ждать манны небесной. Ты себе и представить не можешь! Честно говоря, это самое трудное здесь. А так — надо жить, вот только иногда…
В этом ее «иногда» Иннокентьеву послышалось все, чего он ждал от этой их встречи, на что уповал, представляя ее, — и сожаление, и упрек самой себе, и признание своего поражения — но теперь все это уже не имело никакого значения.
Он сделал шаг к входной двери, стараясь не шуметь, отворил ее и вышел на улицу.
Тогда — даже если бы все это и случилось на самом деле, а не вообразилось ему только сейчас — он не мог бы себе объяснить, почему поступил так.
Теперь, пожалуй, мог бы. Но и это уже не имеет никакого значения. Не судьба, очень просто…
Хлопали долго, оглушительно, требовательно, но и тут Дыбасов исхитрился пренебречь традициями — ни он, ни автор пьесы, никто из актеров не вышел на поклоны. Зрители примирились и с этим, не торопились к выходу, снова высыпали, как в самом начале, на пустую арену, не расходились.
Лишь минут через десять появились Дыбасов и Митин с усталыми, осунувшимися от волнения лицами, к ним кинулись, обступили плотным кольцом, жали руки, по-театральному горячо и напоказ целовали.
Иннокентьев даже и не пытался пробиться к ним, ждал, пока волна поздравлений схлынет.
Опять, как вначале, Настя Венгерова сама нашла его, неслышно подошла сзади.
Ну?..
Иннокентьев ничего не ответил, просто взял ее руку и, склонившись, поцеловал. И тут же как бы увидел себя со стороны и смутился — что за манерность… Но жест его был искренен, а слов, чтобы выразить то, что пробудил в нем спектакль, у него и вправду еще не было.
Митин вырвался из кольца поздравляющих, подошел к Иннокентьеву, предложил не слишком настойчиво:
— Ты не поедешь с нами? Поедем, там будут все, заодно и расскажешь, какое у тебя ощущение от всего этого.
— Еще успеем, не горит. Да ты и сам видишь, как принимали, какие уж тут разговоры.
Они обнялись. Игорь тут же поспешил на чей-то зов, убежал.
Иннокентьев сам подошел к Дыбасову, молча пожал его потную, холодную ладонь.
Дыбасов с ожиданием, но вполне спокойно и даже, как показалось Иннокентьеву, без особого любопытства поглядел ему в глаза.
— Ты победил, галилеянин, — сказал Иннокентьев пришедшую ему на ум несколько минут назад фразу и опять внутренне поморщился, как и тогда, когда целовал Насте руку: дешевое пижонство!
— Я рад, — только и сказал Дыбасов и, уже было отойдя от него, задержался на миг, добавил, не скрывая насмешки: — Я рад, Борис Андреевич, что вы с самого начала были нашим верным сторонником и ходатаем.
Иннокентьев понял, что эту фразу, как он свою, Дыбасов припас загодя.
Последние зрители ушли в гардероб, на арену высыпали с воплями радости разгримировавшиеся актеры.
На улице уже почти не осталось машин. Иннокентьев остановился на тротуаре, чтобы закурить, и тут вплотную к нему подъехали чьи-то «Жигули», правая дверца открылась, и голос Риты Земцовой сказал из машины:
— Не подвезти ли вас, Борис Андреевич?
Иннокентьев нагнулся к дверце, опять услышал летучий запах ее духов.
— Спасибо, я на машине.
— Жаль, — спокойно согласилась Рита, но, помолчав секунду, решительно предложила: — В таком случае нырните сюда, хоть посидим чуточку на прощание.
Иннокентьев послушно сел в машину рядом с нею. Рита дала задний ход и отъехала метров на двадцать от арки в темноту.
— Я курю, ничего? — спросил он.
— Конечно. И я закурю.
Она чиркнула зажигалкой, сине-желтое пламя выхватило из темноты мраморную гладкость лба и медную, почти красную прядь волос над ним. Иннокентьев явственно вспомнил зимнюю, занесенную свежевыпавшим снегом дорогу в Никольское, метель, пронизывающую до костей стужу и лицо Эли в красном кружке прикуривателя. И еще на короткий, тут же унесшийся прочь миг что-то остренько и больно кольнуло сердце, будто тончайшая струнка какая-то, нежнейшая какая-то ниточка с неслышным звоном лопнула и оборвалась…
— Только давайте не говорить о спектакле, ладно? — донесся до него как бы с другого края света голос Риты.
— Тогда о чем же мы будем?.. — Он и вправду не знал, о чем с ней говорить.
— Это уж ваша забота. Я дама, пусть даже и сама навязалась вам, ваше дело меня развлекать.
А он, как ни старался, не мог придумать, чем бы ему ее позабавить.
Из машины было видно, как вышли из-под арки артисты с Митиным и Дыбасовым, весело и счастливо о чем-то наперебой болтали, тесно сгрудившись в ожидании отставших. Иннокентьев поискал среди них Элю, но ее не было, либо отсюда ее было не угадать в темноте, потому все они расселись в несколько машин, стоявших у обочины в переулке, затарахтели на больших оборотах остывшие двигатели, машины свернули одна за другой за угол.
Переулок стал совсем пустой, едва освещенный единственным фонарем, горевшим под аркой.
— Ну?.. — насмешливо напомнила о себе Земцова. — Не хотите разговаривать, так хоть пригласите куда-нибудь.
Иннокентьев посмотрел на часы на приборном щитке — поздно, ни в один ресторан уже нет смысла ехать.
— Куда там… — виновато сказал он, — в Москве в этот час даму пригласить положительно некуда. Ума не приложу, что может приличный и хорошо воспитанный молодой человек предложить в этой ситуации очаровательной и наверняка привередливой даме…
— В этой ситуации, — неожиданно серьезно сказала она, — приличному молодому человеку ничего не остается, как пригласить очаровательную даму к себе, Борис Андреевич, мне ли вас этому учить? — И поскольку он, смешавшись от ее прямоты, не сразу нашелся, что ответить, она это сделала за него: — Но вы, по-видимому, никак не решитесь, и потому очаровательная дама сама приглашает вас к себе.
— Зачем? — спросил он в упор, повернувшись к ней лицом в тесном салоне «Жигулей», отчего их лица оказались совсем близко, почти вплотную.
— Ну, Борис Андреевич, вы даете!.. — рассмеялась она низким, горловым смехом, и это вырвавшееся у нее ненароком расхожее выражение опять на миг напомнило ему Элю и ее такой же низкий, горловой смех. — Приличные молодые люди не спрашивают об этом дам!
— Нет, — он и сам удивился тому, как прям и как спокойно-решителен, — я спросил — зачем это вам?
Она ответила так же прямо и трезво:
— А вам не приходило в голову, что это нужно не только мне, но и вам?.. Хотя что тут скрывать — я ведь затем и пришла на спектакль, затем и ждала, пока вы выйдете… Дело в том, милейший Борис Андреевич, что совершенно не исключено, что я еще тогда, в Сочи, а может быть, даже и раньше в вас влюбилась. Ну, не влюбилась, пожалуй, кто же в наши дни способен на такой подвиг души, но думать о вас все эти месяцы я думала, вот вам крест. А не звонила потому, что полагала, что в подобных случаях мужчине больше пристало это сделать первым. Если он хочет, разумеется. Но я почему-то думала, что вам этого хочется. Если уж совсем честно, то я и сейчас так думаю.
Он взял ее за руку в тонкой кожаной шоферской перчатке в дырочках, наклонился, чтобы поцеловать, но она мягко убрала ее.
— И давайте-ка не будем детьми, Боря, поздновато уже нам. В том смысле, что нечего темнить и прятаться от самих себя, во всяком случае я не собираюсь играть с вами ни в жмурки, ни в прятки. И машина не самое приспособленное место для первого свидания, вы не находите?..
Он очень серьезно согласился:
— Хоть на край света!
— А ваше авто мы оставим здесь как вещественное доказательство того, что я насильно вас похитила?..
Он вышел из машины, нашел свою в самом конце переулка, отпер, прогрел двигатель, поехал за Ритой следом до тихого, безлюдного арбатского переулка, где она и жила в большом новом доме.
15
Свадьба Иннокентьева и Земцовой, приуроченная к 13 января, была не то чтобы скромной, а, как окрестила ее сама Рита, приватной. На даче в Опалихе собрались самые близкие, человек пятнадцать, не больше, ни на ком не было ничего нарядного — свитера, лыжные костюмы: намечалась вылазка с пикником и шашлыком прямо в лесу, на снегу, да и вообще все торжество мыслилось не столько как свадьба, сколько как вполне традиционная встреча старого Нового года; просто-напросто собрались ближайшие друзья и кое-кто из родственников провести денек на чистом воздухе, благо январь в том году стоял тихий, мягко-снежный, а заодно и поздравить молодых с законным браком, выпить шампанского за их счастье, поострить и повеселиться беззлобно на их счет — вот и вся свадьба.
А уже в конце апреля, распрощавшись — «хоть и, надеюсь; не навсегда, еще вернешься, куда ты денешься», как сказал ему на дорожку Помазнев, — с телевидением, Иннокентьев уехал с женой в Женеву, в советское представительство при одном из множества цетров ЮНЕСКО. Женитьба и новое его назначение не были никак меж собой связаны — эту работу ему предложили задолго до его случайной встречи с Ритой на премьере у Дыбасова, и он тогда уже подумывал, не согласиться ли, — но именно совпадение этих двух событий сулило, как уверял себя Иннокентьев, начало совершенно новой жизни, полную в ней перемену.
Рита любила его, в этом он мог быть уверен, да и он ее, конечно же тоже, хотя само слово «любовь» и не было, может быть, в его представлении самое подходящее: это было что-то совсем другое, совсем не похожее на то, что было у него с Лерой, и уж и вовсе не то, что он испытывал к Эле, — что-то гораздо более покойное и устойчивое.
Может быть, дело просто-напросто в возрасте, думал он о новой своей жизни и о новом для него чувстве, какое связывало его с Ритой. Пятый десяток, да и ей тридцать четыре, глупо было бы ждать и надеяться на что-то иное. Наверное, в этом возрасте такая она и есть, любовь. И то, что у него сейчас есть, это, наверное, и есть счастье, или как там ни назови, хотя каких-нибудь десять, даже шесть лет тому назад он бы наверняка хотел себе совсем другого счастья и другой любви. Собственно, они у него и были — спасибо, сыт по горло. Все хорошо, убеждал он себя и ничуть не грешил против правды, все нормально.
Именно это Элино словцо «нормально» точнее всего выражало для него то, как он теперь жил и что думал об этой своей новой жизни.
Работы у Иннокентьева в Женеве было по горло, приходилось много ездить по миру, он даже не каждый год мог позволить себе воспользоваться отпуском, в Москве бывал только короткими наездами и мало кого из друзей-приятелей успевал повидать.
Надолго вернулись они в Москву лишь через два с половиной года. Срок работы Иннокентьева за границей подходил к концу, и приехал он, собственно, за новым назначением, никак еще не решив, что именно выбрать из того, что, по его сведениям, будет ему предложено. Честно говоря, он несколько подустал от долгой жизни на чужбине, требующей постоянного напряжения, и склонялся к тому, чтобы найти себе занятие и должность по душе дома.
Иннокентьевы и оглянуться не успели, как пролетели эти несколько коротких московских недель, как опять укладывать чемоданы, опять загружать их бесчисленными посылками «с оказией», заполнять записную книжку приветами, поручениями, просьбами.
Все это время в Москве только и было толков что о новом спектакле Дыбасова, но Иннокентьевы собрались на него уже под самый конец, за несколько дней до отъезда.
Театр Дыбасова уже чуть ли не полтора года как переехал из спортзала в перестроенный специально с этой целью старый, давно уже бездействовавший кинотеатр неподалеку от Трубной.
В холодновато-белом зале с темно-синими креслами с высокими спинками, похожими на сиденья в самолете, было просторно и неуютно. Иннокентьев вообще не любил современные театральные помещения, предпочитая им старые, где, кажется, сам тяжелый бархатный занавес, люстра с потускневшими висюльками, вытертые локтями парапеты лож — тоже часть праздничного представления.
Может быть, и поэтому ему, как, впрочем, и Рите, спектакль понравился не очень, было что-то натужное, навязчивое в том, как актеры играли подчеркнуто современными людей далекого девятнадцатого века, а режиссер, как бы не доверяясь сообразительности зрителей или же, напротив, вовсе не беря их в расчет, не снисходя к ним, более всего был озабочен, чтобы они ни на миг не забывали, что именно он и никто иной — истинный и полновластный создатель этого зрелища, а актеры для него всего лишь орудия, инструменты, необходимые для реализации его замысла, как глина, стек, молоток и долото — для скульптора.
Может быть, Иннокентьев тут что-то и преувеличивал, что-то ему было просто не по нутру в этом спектакле, но он поразился тому, как все это не похоже и далеко от аскетически простого и ясного до самой мелочи, исполненного неподдельной боли и чувства «Стоп-кадра», да и как это вообще не похоже на самого Дыбасова, каким он его знал прежде.
В антракте они с Ритой не поднялись со своих мест в партере — наверняка в фойе их поджидает Дыбасов, и им не миновать изворачиваться, похваливая увиденное, либо говорить ему малоприятные слова, а этого как раз делать и не надо было: вся Москва была от спектакля в полнейшем и единодушном восторге.
Они и не заметили, как подошла и присела на свободное место сзади них Настя Венгерова, Впрочем, им уже говорили, что Настя вот уже год как перешла в труппу Дыбасова, а у Ремезова лишь доигрывает старые спектакли.
На этот раз Настя была не в скромном, как на премьере «Стоп-кадр», платье, а в белом комбинезоне с сужающимися книзу и перехваченными на щиколотках брюками и с чем-то вроде армейских шевронов на рукаве, что делало ее похожей на фигурантку какого-то бродвейского шоу из жизни астронавтов.
— Ну как все это на ваш европейский взгляд? — спросила она после того, как они расцеловались и поохали насчет того, как долго не виделись и сколько воды утекло с той поры, а вот ведь ничуть не изменились, особенно, ясное дело, Рита и Настя, но в голосе ее был не вопрос, даже не любопытство и желание услышать их искренний ответ, а всего лишь как бы само собой разумеющееся ожидание очередных восторгов.
Дали второй звонок, она встала и уходя напомнила:
— Я не прощаюсь. После конца мы с Романом Сергеевичем будем ждать вас в вестибюле, пойдем куда-нибудь поужинать, спектакль кончается рано.
Второй акт нисколько не переменил ощущения Риты и Иннокентьева, и им вовсе не улыбался предстоящий ужин с режиссером — придется прикидываться, говорить не то, что думаешь, хотя повидать Дыбасова и понять, что же за перемены, судя по спектаклю, в нем произошли, Иннокентьеву было любопытно.
Настя и Дыбасов ждали их. На Дыбасове была распахнутая, как всегда, на груди рубашка, но поверх нее — не драный свитер или кургузая замшевая курточка, как когда-то, а синий бархатный пиджак, серебристо блестевший на сгибах. И еще успел заметить Иннокентьев, что невысокий, узкоплечий Дыбасов стал носить ботинки на высоком каблуке, отчего у него странно изменилась походка, и теперь он ходил, чуть подскакивая при каждом шаге, словно птица на тонких и хрупких ногах.
Одеваясь в комнате администратора, они договорились посидеть где-нибудь в нешумном ресторане. Настя предложила старый «Националь».
Машина Иннокентьева стояла у самого подъезда, он направился к ней, бросив на ходу:
— Садитесь, я только дворники на всякий случай надену.
Но Венгерова сказала ему вдогонку:
— А мы на своей. Поедем друг за дружкой, там встретимся.
Они расселись по машинам, вырулили на проезжую часть, медленно двигаясь в густой толпе выходящих из театра, свернули на Неглинную.
Рита не удержалась:
— «Мы на своей»… Что они, поженились, так надо понимать?..
И уже в Охотном ряду, когда Иннокентьев притормозил, чтобы пропустить поток машин справа, с улицы Горького, Рига задала за него вопрос:
— А — Эля?..
Иннокентьев никогда с тех самых пор, как они встретились втроем в Сочи, не говорил с ней об Эле. И Рита тоже ни разу о ней не заговаривала, как не говорила она с ним никогда и о Лере. Временами Иннокентьеву казалось даже подозрительной, а то и хорошо рассчитанной эта ее молчаливая чуткость. Как и то, что она никогда, ни при каких обстоятельствах не совершала по отношению к нему не только естественных в семейной жизни ошибок или оплошностей, грозящих хоть как-то потревожить их обоюдный мир, но и уходила от подобных чреватых размолвок, даже когда касался опасных тем он сам. Но он не давал этим мыслям хода — скорее всего из подспудного сознания, что и он любит ее тоже больше рассудком, чем чувством.
Скажи мне, какого счастья ты для себя хочешь, приходило ему иногда на ум, и я скажу, кто ты.
— А — Эля?.. — спросила Рита, и Иннокентьев подумал, что за все эти почти четыре года он, собственно, и не вспоминал об Эле. То есть вспоминал, конечно, но так издалека, как будто не о ней и не о себе с нею, а о каких-то совершенно посторонних, чужих ему людях.
Швейцар в потускневших золотых галунах — не тот ли самый, что и четыре года назад, когда они пришли сюда с Элей? — и не подумал их впускать, пришлось Иннокентьеву силой протиснуться в дверь, когда кто-то из нее выходил, и, как в тот раз, потребовать метра. И метр тоже был наверняка тот же, что четыре года назад, время над такими не властно, — непроницаемый и надменно-вежливый, он безразлично выслушал Иннокентьева, на этот раз не узнав его в лицо, и опять, как некогда, сам проводил всех четверых наверх, на второй этаж, в тот же самый памятный Иннокентьеву зал в золотисто-коричневых обоях в стиле модерн начала века, подвел к столу и сам выдвинул дамам стулья.
Иннокентьеву показалось, что и столик, за которым они расселись, тоже тот самый, у окна, но он не был в этом уверен.
А вот меню, взглянул Иннокентьев на карточку, меню точно нисколько не изменилось. Дыбасов, сидящий напротив, прервал его ностальгические мысли, спросил в упор:
— Вам не понравился спектакль, Борис Андреевич?
— С чего вы взяли? — попытался уйти от прямого ответа Иннокентьев.
— Потому что он и не должен был вам понравиться. И не спорьте, — холодно отрезал Дыбасов.
— Я и не спорю. Я только спрашиваю — почему вы так думаете?
— Пожалуйста, без дискуссий, — живо откликнулась на их тон Рита. — Мы не затем сюда пришли.
— Отчего же? — возразила Настя. — Роману Сергеевичу очень важно знать, что думает в действительности Боря. И вообще, пусть мужчины говорят о чем хотят, а мы с вами, Рита, выберем, чем их кормить.
И они с Ритой углубились в изучение меню.
Казалось, Дыбасов только этого и ждал.
— Потому что, — продолжал он еще резче и недружелюбнее, — мы с вами, Борис Андреевич, на этот раз сходимся.
— Вот сошлись за одним столом, и я рад этому, представьте себе…
— Потому, — не дал увести себя в сторону Дыбасов, — что мне этот спектакль тоже не нравится. Он пуст и манерен. Холоден, как песий нос. И не увидеть этого вы не могли.
Удивленный Иннокентьев не успел ему ответить — подошел официант, и они с Дыбасовым должны были по требованию дам заняться заказом. Переговоры с официантом взял на себя Дыбасов, и в его голосе Иннокентьев услыхал те самые не терпящие возражений ноты, присущие, как правило, всем режиссерам в разговорах с нережиссерами. А ведь еще четыре года назад, подумал Иннокентьев, в Дыбасове этого не было. А если и было что-то в этаком роде, то это следовало отнести на счет его неуверенности в самом себе…
Они чокнулись и выпили: Дыбасов и Настя — за встречу и возвращение Иннокентьевых в Москву, те — за новый театр и за будущие его победы.
По тому, как внимательно и преданно слушала Дыбасова Настя, не сводя с него глаз и ревниво следя, какое впечатление производит то, о чем он говорит, на Бориса и Риту, было ясно, что он так и только так живет теперь — зажав в железный кулак всех, кто вокруг него, всех, кто нужен ему, а заодно и всех, кто просто-напросто любит его. Впрочем, пришло на ум Иннокентьеву, любить его — во всяком случае, так, как он сам понимает любовь, — это значит отдаться полностью на его суд и расправу, слепо и верно служить ему и его театру, никаких сомнений, никакого инакомыслия или независимости он не потерпит. Настоящий главный режиссер, подумал о нем Иннокентьев, прирожденный, такому палец в рот не клади и на узком мостике ему не встречайся…
И, будто подслушав его мысли, Дыбасов, воспользовавшись тем, что женщины были заняты друг другом, сказал неожиданно устало:
— А знаете, Боря, почему у меня получился именно такой спектакль и никакой другой и не мог получиться?.. — Он помолчал, глядя в окно, там уже кружились в воздухе первые в году, сиротливые снежинки, тающие, не успев долететь до земли. — Потому что я стал — главный.
Понимаете, мне теперь надо все время доказывать всем, в том числе и самому себе, самому себе даже больше, чем всем остальным, что я имею право на это — быть главным. И артисты идут за мной не потому, как это было раньше, во времена того же хотя бы приснопамятного «Стоп-кадра», что им и мне одного и того же надо, что все у нас общее, все пополам, а потому лишь, что я — главный… Хорошо, если хоть верят, что я знаю, куда веду свой кораблик. А ведь я далеко не всегда это знаю, совсем не убежден, что не напорюсь на мель или на подводный камень. Но я не смею даже подать виду, у меня теперь одна забота — не позволить им усомниться в моем праве вести их за собой, даже если это для меня крест тяжкий… Такая это проклятущая профессия — главный… И может быть, я больше всех прикован цепями к этой галере. Потому что даже сбежать, даже дезертировать мне уже не дано — это все равно что самоубийство. Я должен ежечасно прятаться за самоуверенное, выверенное ремесло, за то, что неизвестно какой дурак назвал мастерством!.. Мастерство — это когда все знаешь, все умеешь, но когда ты уже все знаешь и умеешь, какого черта тебе заниматься этим делом?! Тогда уж — конец, кранты!.. Нет, Боря, не подумайте, я далеко не все уже умею, о всезнании и речи нет, но я — главный, я обязан делать вид, что все знаю и умею, а они все обязаны делать вид, что верят, будто я все знаю… Просто-напросто я в заговоре со своими артистами, только и всего. И только она, — почти пренебрежительно, как показалось Иннокентьеву, кивнул Дыбасов в сторону Насти, Настя, не расслышав его слов, но почуяв, угадав кивок, повернула к нему лицо и улыбнулась, и в этой ее улыбке было столько восторженного обожания, что Иннокентьеву стало на миг страшно за нее, — только она, — продолжал Дыбасов, когда Настя повернулась вновь к Рите, — искренно и как-то даже по-рабски верит мне, но мне, увы, не этого от нее нужно, не одного этого, мне от нее правда нужна беспощадная и чтобы было кому поплакаться в теплые коленки… Разве не того нам с вами от них надо?!
Они не заметили, как не раз и не два мимо их столика прошел официант, всем своим видом намекая, что время их вышло, пора и честь знать. Наконец подошел и сам метр и, извинившись, положил на стол листок со счетом.
Пока Дыбасов и Иннокентьев препирались по поводу того, кому из них платить, дамы встали из-за стола.
— Мы пойдем взглянем на себя в зеркало, — сказала Настя, — ждите нас в гардеробе.
Иннокентьев посмотрел в окно — там, оказывается, шел настоящий снег, он уже не таял, а оседал пышными хлопьями на деревьях Александровского сада, успел, пока они ужинали, выбелить кремлевские крыши, купола и зубцы стены, неторопливо выплясывал в оранжево-желтом сиянии уличных фонарей, и стало непреложно ясно, что зима на носу и что новый год не за горами.
— Что — Эля?.. — спросил Иннокентьев, и было непонятно, задал ли он этот вопрос Дыбасову или самому себе.
И по тому, как резко Дыбасов повернул к нему лицо — до этого он тоже молча смотрел в окно. — Иннокентьев понял, что он давно уже ждет этого вопроса. Но ответил на него не сразу, может быть, вопрос этот, хоть он его и ждал, застал его врасплох.
— Не знаю… — сказал он задумчиво, и лицо его передернулось болезненной гримасой. — Не знаю.
Иннокентьев не стал настаивать, да и в этом «не знаю» был, собственно, весь ответ.
— Она ушла из театра сразу, как мы переехали в новое помещение, — добавил после молчания Дыбасов, — уж не помню, из-за чего… Собственно, никакой особой причины для этого у нее и не могло быть. Просто взяла и ушла. Она ведь… — Но не договорил. — Правда, к тому времени у нас с ней… Одним словом, все уже было позади, так уж получилось. Я тогда вертелся, как карась на сковороде, — новый театр, новое помещение, репетиции, я набирал актеров… Честно говоря, мне было не до нее тогда, я и не заметил, как она исчезла… — И повторил с той же гримасой не то боли, не то печали: — Она ведь… разве ее поймешь?..
— И — все?.. — спросил Иннокентьев, и опять не столько Дыбасова, сколько, может быть, самого себя.
— Видишь ли… видишь ли, Борис… — Дыбасов впервые за все годы их знакомства сказал Иннокентьеву «ты», — так устроена жизнь, что таким, как мы с тобой, да и всем, нам подобным, нужны сперва женщины, которые приходят к нам, когда нам плохо, когда невыносимо, когда мы только еще карабкаемся на вершину и одному богу известно, вскарабкаемся ли и устоим ли на ногах… а потом, когда пусть даже на самую первую ступеньку взобрались, нам нужны другие, с кем не поражения делить, не шишки и царапины зализывать, а — победы праздновать, удачи… такие, как моя Настя или твоя Рита… Хотя по отношению к Насте я, пожалуй, несправедлив. Ну да все равно. Одним словом, такие, которые наши удачи чуют загодя, как кошки землетрясение, и приходят накануне, не раньше. — Он опять помолчал, и когда заговорил снова, в его голосе послышалась Иннокентьеву не прикрытая ничем — ни иронией, ни жестокостью — потерянность, — А может, мы и сами, когда ухватываем наконец удачу за хвост, уже не нужны ей, Эле?.. И она этот миг тоже чует загодя и успевает уйти так, что мы этого и не замечаем. Она и от этого нас оберегает — от тщетных угрызений совести… — Он устало погасил окурок в пепельнице. — Не знаю, Боря, ни что с ней, ни где она… Только вот ведь — говорим мы о ней и помним, и совесть мучает… И положа руку на сердце, это единственное, о чем нам за весь вечер и хотелось говорить, а не про эту муть, которую мы пробалтываем по привычке, не тратя на нее ни мысли, ни чувства… — И опять его лицо передернуло болезненная, как тик, гримаса, — Чувства — вот чего ей от нас надо было, чувства наипростейшего, элементарнейшего! Просто — любви! А именно этого-то в нас и не оказалось, нет ее в нас, отучили мы себя от этого ремесла, забыли напрочь. А может, не было этого в нас и от роду, не запрограммированы мы на такие простенькие, немудрящие вещи, как любовь. Я иногда думаю — это от профессии: все, что в нас есть такого — любовь, доброта, сострадание, жалость, боль, наивность, — мы в дело пускаем, пропади оно пропадом, на радость и забаву чужим, далеким людям, лиц которых нам даже не разглядеть со сцены, а для жизни, для близких, для собственного употребления, наконец, его и не хватает, расходуем все без оглядки, напропалую, проматываем… Горькая у нас профессия, Боря, жестокая, иногда — мученическая, да куда денешься?.. А скажи кому-нибудь из нас: брось, скинь этот крест с плеч, живи, как все, радуйся жизни! — охотников не найдется… — И вдруг вне всякой видимой связи с тем, что только что говорил, рывком бросив на белую накрахмаленную скатерть руки со сжаты ми кулаками, отчего на них разом взбухли толстые, вот-вот лопнут от натуги, жилы, не то простонал, не то пригрозил кому-то: — Но я все равно буду делать свое дело, будь оно неладно! До гробовой доски! Потому что ничего другого у меня нет, ничего другого мне не нужно, ни во что кроме я не верю! В одно это — в проклятое мучительство, самоистязание, именуемое искусством! Буду, черт меня раздери! И ты еще ахнешь, когда придешь на следующий мой спектакль. Мне есть что сказать! Кровь горлом, а — скажу, ты ахнешь еще! Все вы! И что главный — не беда, и что кораблик утлый — пускай, я знаю, куда мне плыть, к какому берегу. И театр у меня будет живой, не то что сегодняшнее скоморошество, вот увидишь, зря ты меня поспешил в тираж списать!.. Честь, добро, любовь, правда — вот для чего мне нужен мой театр единственно, можешь мне поверить… Каждому свое, Боря, а мне — не кесарево, а — богово, потому что… потому что такая уж у меня профессия, одним словом. Ты еще ахнешь, ох как ахнешь!.. — И, помолчав, заключил с доброй, печальной улыбкой, и в этот миг Иннокентьев готов был ему все простить: — А Эля… где-то она есть, непременно, куда ж она денется, Эля…
И вдруг Иннокентьеву представилось совершенно въявь, точно так же как тогда, на премьере «Стоп-кадра», он представил себе несостоявшуюся свою встречу с Лерой, — он совершенно ясно увидел, какой была бы его встреча с Элей теперь, когда все давно кончилось, все позади.
Это непременно случится в набитой битком ранней пригородной электричке — хотя как он окажется в этом переполненном до отказа поезде?! — он увидит ее в противоположном конце вагона и совсем не удивится этому.
И так он явственно все увидел, что ему показалось, что все это с ним уже было на самом деле, что не из воображения, не из будущего, а из какого-то несостоявшегося и все же совершенно реального прошлого пришло к нему — не «будет», а «было» — и было так: она стояла у дверей в тамбуре в своем вытертом, на все времена джинсовом костюмчике, стиснутая толпой так, что и рукой не пошевелить. Она стояла к нему вполоборота, почти спиной, и он узнал ее не в лицо, а по тому, как она, выпятив нижнюю губу, привычно сдула челку со лба. Она его не заметила, и первым движением Иннокентьева было сойти с поезда на первой же остановке. Поезд и затормозил, остановился на какой-то платформе, но ему было не пробраться сквозь плотную толпу к дверям, да он и не пытался, стоял как вкопанный в своем конце вагона и неотрывно смотрел на Элю, никак не решаясь подойти к ней, хоть и распрекрасно знал про себя, что подойдет.
За окном мелькало летнее Подмосковье, березы в нежной, не успевшей пожухнуть листве, чистое, без единого облачка небо, перечеркнутое плавно провисшими ниточками электропроводов вдоль железнодорожного пути.
Он стал пробираться к ней, поминутно натыкаясь на чьи-то локти, наступая на чьи-то ноги и извиняясь, и больше всего боялся, как бы она не вышла на какой-нибудь остановке до того, как он продерется к ней сквозь давку.
Он и сам не знал, зачем ему это: ведь все давно кончено, быльем поросло, и что он ей может сказать, о чем спросить — как она, где работает, как жизнь?.. И в чем, наконец, он должен повиниться перед ней, в чём оправдаться, да и в чем он, если вдуматься, перед ней виноват?!
Но когда он пробрался к ней, она подняла на него глаза, разом признала и не удивилась, ни о чем не спросила и ему тоже не дала ни о чем спросить, только и пропела свое неистребимое, все и всем прощающее, но и все и всех ставящее без пощады на место:
— Норма-ально!..
Вот что пронеслось как наяву в мыслях Иннокентьева, пока они с Дыбасовым, провожаемые вежливой и бесстрастной улыбкой вышколенного метра, спускались вниз, в гардероб.
Потом, выйдя вчетвером на припорошенную свежим снегом улицу, они еще долго стояли у подъезда «Националя» на уже пустой в этот час Манежной, не наговорившись там, в ресторане.
И наконец, дружески и мило распрощавшись, разошлись по своим машинам.
Ехать по только что выпавшему снегу было скользко, машину то и дело заносило, баранка плохо слушалась рук.
Рита о чем-то болтала рядом, но Иннокентьев не отвечал ей, да и не слышал, о чем она говорит, очень уж скользко и опасно ездить в гололед.
И неожиданно для самого себя сказал вслух, перебив Риту на полуслове:
— Нормально!..
Она умолкла, с удивлением покосилась на него.
— Нормально, — уговаривал он себя, — нормально…
Да так оно, собственно, и было.
Повесть: ШАТАЛО
Мальчик снова был тут как тут.
Самое странное, подумал он, что я опять не услышал его шагов, как и в тот, первый раз.
Тогда он бесцельно свернул вниз, в круто сбегающую к Солдатскому базару узкую улочку, вымощенную крупным, отполированным до сухого блеска булыжником, и вдруг улочка ему представилась — совершенно пустынная, ни души, залитая до краев фиолетовой, густеющей вечерней тенью, тесно сжатая отвесными каменными берегами домов, — руслом давно обмелевшей и высохшей реки, от которой только и осталась память, что эта аккуратно обкатанная потоком времени серая галька на дне.
Его собственные шаги, отраженные каменными берегами, гулко и отчетливо отдавались в уплотняющейся вместе с тенью тишине. Шагов же мальчика за собой он не слышал, это он помнил хорошо.
Мальчик возник как-то сразу, когда он неожиданно для самого себя вдруг остановился, словно с ходу ударившись лбом о внезапно возникшее давнее воспоминание, у старого дома с забранным решеткой квадратным отверстием в тротуаре над окном подвального, вровень с землей, этажа.
Он сразу, словно это было с ним вчера, все вспомнил. И вот тут-то, тоже сразу, словно бы из ничего или из той же внезапной, нежданной памяти, возник и мальчик. Именно возник, иначе, иди мальчик за ним, он бы непременно услышал его шаги за спиной.
Тогда, сорок с лишним лет назад, возвращаясь с третьей, вечерней — не хватало классных комнат, — смены из школы, они, несмотря на темень и промозглый, ветреный холод, делали большущий крюк из Сололак до Солдатского базара и шли сюда, в эту опрометью сбегавшую вниз улочку, где в старом доме — да, именно в этом, он не мог ошибиться, — была пекарня, по-местному — «тория», они еще говорили — «пурня», потому что хлеб по-грузински — пури.
Да, именно здесь, он не ошибся. Снизу, из квадратной этой зарешеченной дыры, из, казалось, бездонных ее недр, вместе с бледным, вялым светом мощно шел вверх, наружу, запах, живительнее и насущнее которого ничего на свете быть не могло. Они обступали молитвенно-молчаливым кружком решетку и, сосредоточенно глядя вниз, на плотно забеленное мучной пылью стекло подвального окна, сквозь которое все равно ничего было не разглядеть, вдыхали с благоговейной жадностью упоительно-сытный, удушливый, чуть кисловатый от привкуса тлеющего древесного угля, теплый запах свежеиспеченного лаваша.
Они тогда были постоянно голодны. Голод для них был не бедой, которую можно отвести, от которой можно уклониться, он был просто неотвратимой и потому естественной частью их тогдашней жизни.
Этот сказочный запах не имел ничего общего с сырым запахом тех тяжелых коричнево-черных, как выгоревший антрацит, кирпичей, которые выдавали — шестьсот граммов на работающего, четыреста на иждивенца — по карточкам в булочной — и которые не вызывали в нем никаких воспоминаний о прежней, довоенной, жизни. А вот этот, идущий из окна торни, был запахом не одного только хлеба, но именно той самой мирной жизни, которую его детская память сберегла не умозрительно, не с помощью ненадежных понятий и суждений, а — запахов: почти воздушного золотистого теста и ванили, когда на рождество в доме пекли пироги, а на пасху — куличи, или злого жара горчицы, когда он бывал болен и мама ставила ему на грудь ненавистные, хоть и спасительные горчичники; празднично-веселого запаха мандариновой кожуры в зимние каникулы или приторно-сладкого, только что выжатого бабушкой через дуршлаг виноградного сока под конец каникул больших, летних. Запахам можно довериться, если что забыто умом или даже чувством.
Они могли часами стоять так, тесным кружком, вокруг решетки, не пророня ни словечка, чуть осоловелые, может быть, даже слегка одурманенные, насыщаясь до отвала этим запахом свежего хлеба и отогреваясь его теплом, которое парило недвижным, невидимым глазу округлым облачком над подвальным окном.
И вот тут-то мальчик и появился.
Он молча и отрешенно, словно был здесь совершенно один, уставился вниз, на грязно-белое бельмо окошка.
Мальчик был странно одет: парусиновые или скорее даже сурового полотна брюки, слишком широкие и с вышедшими бог знает как давно из моды манжетами, выкрашенные неровно, пятнами, кубовой краской, но синими, вдруг явственно вспомнил он, они так и не стали, а сделались почему-то бурыми, с фиолетовым оттенком. И туфли с задранными кверху носами были на нем тоже парусиновые, некогда белые, их чистили, еще вспомнил он, зубным порошком, но у мальчика они были, под стать штанам, выкрашены черной ваксой, и сквозь ваксу сиротски проступал проплешинами их первоначальный цвет.
Мальчик тоже удивленно, недоверчиво и будто дивясь разглядывал его плетеные светло-коричневые мокасины. Потом взгляд мальчика медленно и, как ему показалось, испуганно стал подниматься выше — на его кремовые вельветовые брюки, на такой же пиджак, задержался на темно-бордовом в белую и синюю полоску галстуке и остановился, наконец, на его лице.
И вдруг во взгляде мальчика он прочел, что тот его узнал. То есть не узнал — где он мог его видеть, когда?! — а какая-то догадка мелькнула в его глазах, разгадка какая-то, и они стали еще недоверчивее и испуганнее.
Он вновь поглядел вниз, на окно за решеткой, — нет, там теперь никакого света не было, окно наверняка давно, годами, не мыли, да и никакой торни в подвале уже нет, хлеб теперь пекут не в этих самодельных печах-колодцах, как некогда, а на хлебозаводе.
Когда он поднял глаза от подвального окна, мальчика рядом уже не было, в вязких сумерках где-то в нижнем конце улицы мелькала чья-то легкая, неразличимая тень.
И вот теперь мальчик опять был тут как тут.
Поточная улица, выложенная таким же крупным, вылощенным неторопливым, упрямым ходом времени булыжником, местами такая узкая, что, если расставить руки, можно разом коснуться глухих, с редкими окнами, стен на противоположных ее сторонах, вела вверх, к подножию Мтацминды.
Он никак не мог найти ворота своего давнишнего, тех времен, дома.
Дом был, остался, вот он: задняя его стена из побуревшего красного кирпича с несимметрично и отсюда, с Поточной, высоко, на уровне второго этажа, пробитыми окошками, дом — вот он, но войти во двор, найти ворота он не мог. Ворот не было, их заложили кирпичом, заплата была относительно недавней, кирпич в ней другого, более светлого цвета.
Он стоял в растерянности один на безлюдной улице, пышущей полуденным сухим жаром раскаленного солнцем кирпича стен и булыжника мостовой, и не очень понимал про себя, зачем он здесь и чего ему надо.
Вот тут-то и объявился опять мальчик.
Он бежал сверху, со стороны Мтацминды, спуск был так крут и горбат, булыжник так неровен и скользок, что, подумал он, даже при желании мальчик не мог бы остановиться, инерция бега гасилась лишь в самом низу, на пересечении с другой улицей.
Мальчик и пробежал мимо него, даже не заметив, но вдруг поскользнулся и упал, больно ударившись коленом о камень.
Правым коленом, вдруг резко-отчетливо вспомнил он, у меня и сейчас временами ноет это колено, и на коленной чашечке поныне остался грубый, выпуклый белый рубец. И еще он с внезапной яростью вспомнил, что упав, он тогда перво-наперво подумал не о боли, а о том, не треснуло и не порвалось ли изношенное суровое полотно его единственных, неровно выкрашенных кубовой краской штанов.
Он безотчетно нагнулся и нащупал ладонью сквозь плотный рубчатый вельвет тот давний шрам.
Мальчик поднялся с трудом на ноги, сквозь продранную штанину на разбитом колене расплылось ярко-алое пятно, и, с натугой волоча ногу, заковылял к дому и исчез в воротах, которых только что не было.
Уходя в ворота, мальчик на ходу мельком оглянулся на него, и в его взгляде, кроме удивления и испуга, которые он прочел в нем еще в прошлый раз, у бывшей торни, а также нынешней боли, ему почудилась еще какая-то молчаливая, смутная укоризна, упрек, что ли, но — в чем?.. И еще — давешняя разгадка, в которую не мог же он — взрослый человек, тертый калач! — поверить!..
Он нашел все-таки новый вход во двор — за углом, в коротком глухом тупичке.
Двор был совершенно пуст, мальчика и след простыл.
Жизнь сложилась, думал он вразброс, стоя в нерешительности посреди двора, залитого плотным, хоть сожми его в горсти, солнечным светом, в пятьдесят ее уже не перебелишь, не пересочинишь наново. Да ему и не в чем ее
укорять, как и самого себя тоже. Это мальчишками мы ждем от нее чего-то невероятного, не выразимого словами, ни на что и ни на кого не похожего. И лишь с годами начинаешь привыкать к мысли, что невероятное, никакими словами не выразимое чаще всего или даже неизбежно оборачивается несбыточным, просто-напросто невозможным, и ничего тебе не остается, как примириться с этим. А еще очень может быть, что это — невероятное и несбыточное — всего лишь синонимы, стоит только заглянуть в толковый словарь. Или даже иначе — может быть, жизнь и есть как раз проторенный не одним тобою путь от невероятного к несбыточному. Только вот откуда мальчику-то знать, что, умножая знания, мы умножаем скорбь?.. Поживи вот с мое, думал он без насмешки, но и без обиды, без укора, поживи с мое, вот тогда-то мы бы и поговорили, а сейчас что ж… Поживи, узнаешь.
Хотя, тут же усомнился он и в этой мысли, вот я: пожил, узнал, а — что я знаю? Что я знаю такого неоспоримого и не боящегося сомнения, чего еще не знает мальчик?..
И все-таки его надо отыскать, мальчика. Ничего нельзя оставить без ответа. Нельзя уклоняться от вопросов, даже если заведомо знаешь, что на них нет ответов. Мальчика надо непременно отыскать.
Память, еще подумал он, странная это штука на поверку, память… Питаясь неведомо чем, она прямо-таки на глазах обрастет новыми, вполне достоверными подробностями, как молодыми листьями и побегами дерево по весне, забытыми или и вовсе никогда не существовавшими лицами, светом и запахами далекого и, казалось бы, давно отвергнутого прошлого или какого-то неведомого будущего, на которое к тому же у тебя нет никакого права… И тут уж, подумал он, совершенно не имеет значения, было ли это все с тобою на самом деле или же ты это сам напридумал, наплел себе на досуге… Собственно говоря, прошлое состоит отнюдь не из одних непреложных фактов, не из одного того, что было на самом деле, — иначе мы не стали бы до конца своих дней денно и нощно достраивать, перекраивать, досочинять это наше собственное прошлое, чтобы в конце концов прийти к убеждению, что то, чего у нас не было, чем обошла нас жизнь — такое же неотъемлемое наше достояние и так же честно и по заслугам нам доставшееся, как и то, что и взаправду выпало нам на долю. И ни то, ни другое нам незачем от себя утаивать или вычеркивать из памяти, иначе получится что-то вроде уличной моментальной фотографии, на которой запечатлено наше лицо, но нет нас самих.
Память об одних несомненных фактах не в состоянии поспеть за нашей неутолимой жаждой созидать самих себя, даже если это созидание обращено вспять, в прошлое. И тут уж в дело идет все без разбора, и то, что было, и то, чего не было, и важное, первостепенное, и всякая всячина, пусть и самая малая мелочь, одним словом — все, что под руку попадется…
Они сразу же, как попали сюда в сорок первом в эвакуацию, поселились в этом дворе. Сперва, правда, они жили некоторое время у тети Мани Поповой, тут же, во дворе, в ее крошечной двухкомнатной — если можно было назвать комнатами две каморки с подслеповатыми окошками, выходящими на Поточную улицу, — квартире, и лишь сколько-то спустя сняли у дворника-курда перегороженный пополам тонкой фанерной стенкой полуподвальный коридор бывшей — до революции, разумеется, — женской гимназии, безо всяких удобств: один кран и один толчок на весь густо и тесно заселенный двор. В образовавшихся таким образом вытянутых кишкою клетушках-пеналах, где едва помещались вдоль продольной стены две железные, без матрацев, койки и, чтобы обойти их, приходилось передвигаться боком, они и прожили всей семьей до конца войны.
Но прежде этого с ними были еще дед и бабушка…
И тут он вспомнил, с чего, собственно, началась их новая жизнь в этом городе и в этом дворе: дедушкино пальто.
А, значит, памяти не миновать и Сабуртало, барахолки.
Смысл слов и понятий, подумал он, меняется быстрее, чем старимся мы сами. В ту пору слово «барахолка» означало совсем другое, чем сейчас, нечто гораздо более важное, без чего была бы просто невозможна их тогдашняя беженская жизнь.
Отец, провинциальный бессарабский адвокат, был, что называется, интеллигентом в первом поколении, выучившимся на медные гроши. А вот мать, а стало быть, и дед, ее отец, происходили из старой, чуть ли не в пятом колене, образованной южнороссийской семьи. Дед, окончивший еще до японской войны Дерптский университет, в первую мировую был уже полковником медицинской службы, а после Февральской революции начальствовал над снабжением медикаментами и прочим необходимым всех госпиталей Румчерода. Этим и объясняется, почему после Октября так получилось, что он застрял в перешедшей к румынам Бессарабии и, за неимением лучшего, завел в Бендерах свою аптеку и бактериологическую лабораторию.
Дед — до революции опять же — не раз избирался мировым судьей, и в доме долго хранилась его судейская бронзовая — или медная? — цепь из крупных плоских звеньев, находящих одно на другое подобно чешуйкам панциря, с нагрудным знаком в виде двуглавого орла, которую он надевал на шею, председательствуя в суде.
Дед замечательно играл на старом, с облупившимся кое-где лаком «Шредере» и вообще, как не без ревнивого укора подтрунивала над ним куда более простолюдинского происхождения бабушка, был «помешан на искусстве».
Кроме всего прочего, он состоял заместителем, или, как тогда это называлось, товарищем председателя русского офицерского землячества в Бессарабии. Вторым товарищем председателя был бывший прапорщик и знаменитый в начале века «русский богатырь», силач и цирковой борец, некогда соперник самого Ивана Поддубного, дедов приятель Иван Васильевич Заикин, тоже осевший и доживавший свой век в захолустных Бендерах.
В дни румынских королевских праздников дед в порядке патриотической демонстрации надевал свой старый, слежавшийся в шкафу и сильно пахнущий нафталином белый полковничий мундир и долго прохаживался, не торопясь, по Харузинской, скрежеща по тротуару колесиком длиннющей шашки с болтающимся на боку темляком. Тем не менее офицеры местного гарнизона всегда приглашали его в свое собрание, обращаясь к нему на иисьме не иначе как «домнул колонел» — «господин полковник», но дед из соображений чести ни разу на эти приглашения не откликался.
Согласно семейному преданию, свою знаменитую песню «Что за ветер в степях молдаванских» Вертинский сочинил именно в дедовом доме, после того как простоял целый день на обрыве над Днестром, глядя на противоположный, такой близкий и совершенно недоступный русский берег.
Так вот, незадолго до освобождения Бессарабии, то есть всего за какой-нибудь год до начала войны, дед сшил себе темно-серое суконное пальто с каракулевым воротником широкой шалью.
На третью же неделю войны, в первых числах июля, вся большая семья, спасаясь от нашествия, двинулась на восток и пересекла на открытой железнодорожной платформе под палящим летним солнцем бескрайнюю, всю золотую от зреющих хлебов Малороссию, как по старой привычке называл ее дед, затем, по его же выражению, «землю Войска Донского» и через неполный месяц выгрузилась в Армавире.
Тут их по старинке называли не эвакуированными — это слово прижилось лишь впоследствии, а — беженцами.
Они прожили лето и начало осени все вместе в одной комнате в глинобитном доме на окраине города, за огородами яростно и жадно билась в слишком тесных для нее берегах шоколадно-коричневая пенистая Кубань. Спали они на полу, на расстеленных коврах, и однажды вечером, когда укладывались спать, кто-то закричал не своим от ужаса голосом: «Тарантул!» Мама и бабушка бросились опрометью вон, а мужчины стали опасливо перетряхивать ковры, и тут-то тарантул обнаружил себя, как-то боком и вместе молниеносно метнулся с ковра на глиняный пол, кто-то из взрослых настиг его и раздавил ногой — этот омерзительно-жирный звук еще долго потом стоял в ушах, — но тут с его спины веером брызнули во все стороны маленькие тарантулята, за ними стали гоняться и давить их каблуками, вся ночь ушла на эту охоту.
Осенью пришел ответ на дедушкино, как он сам его называл, прошение в Москву, в Комитет обороны, его вернули в прежнем чине в армию и назначили заместителем начальника военного госпиталя в Закавказский округ. К тому же в Тбилиси жила дедова сестра, тетя Маня. Стояло уже начало ноября, зарядили дожди, но ехать им опять пришлось на открытой платформе, груженной оборудованием какого-то поспешно перебрасываемого с оккупированной территории на восток завода.
К этому времени немцы взяли в первый раз Ростов, и теперь что ни день в Армавире и вообще на всей Кубани объявляли воздушную тревогу. Немецкие самолеты, вероятно разведчики, низко и как бы вразвалочку пролетали над притихшим, затаившимся городом, но не бомбили. Они были уверены, что торопиться им некуда.
Но на рассвете, когда тащившийся черепахой эшелон, простояв всю ночь на станции Невинномысская, двинулся в путь и отъехал на каких-нибудь полтора километра, они сбросили свои бомбы. За несколько минут до этого на станции взвыли сирены, паровоз замедлил ход и остановился, люди стали прыгать с платформ и скатываться по крутой насыпи вниз, обдирая в кровь руки и лицо о жесткую прихваченную первыми ночными заморозками траву. И тогда-то они и налетели от хвоста состава, не слышные за воем сирены и визгом тормозов, летели так неторопливо и так низко, что можно было успеть разглядеть четкие, с острыми, режущими гранями желтые кресты на плоских черных крыльях и даже свесившуюся набок, чтоб получше рассмотреть цель, голову летчика в тесно обтягивающем ее кожаном шлеме, со сверкнувшими мгновенно на солнце стеклами защитных очков.
Бомб было девять, по три с каждого самолета, он это хорошо помнил, наверное, он невольно считал их про себя, запомнил острый, буравящий ухо свист их в воздухе — все ближе, все ниже, все нестерпимее, а вот грохота разрывов память не сохранила, наоборот, врезалась какая-то еще более ужасная и нестерпимая тишина после взрывов и сквозь нее — едва уловимый слухом нежный шорох осколков и поднятой в воздух земли над головой.
Дед и бабушка не успели соскочить с платформы, бабушку убило на месте, ее всю прошило десятками осколков — тело, лицо, ноги были в мелких рваных ранках, а дед был еще жив, ему оторвало левую ногу, и два крупных осколка пробили навылет грудь. Он скончался той же ночью в местной больнице, не приходя в сознание.
Дед был в том самом тяжелом суконном пальто с воротником шалью.
Их похоронили на следующий день рано утром — чуть потеплело, и все окутывал плотный туман, — тут же, на кладбище, рядом с железнодорожными путями, в наспех выкопанной неглубокой могиле, одной на двоих. В головах воткнули в мягкую, жирную после осенних дождей землю кусок ржавой водопроводной трубы, чтобы потом когда-нибудь, после войны, найти могилу. Ничего другого под рукой не было.
Много лет спустя по дороге в альплагерь на Домбае он сошел с поезда — станция теперь называлась иначе: Невинномысск, станица успела стать городом, — но не только могилы, но и самого кладбища найти ему не удалось. Там, где по памяти следовало быть кладбищу, стояли огороженные высоким забором заводские корпуса.
Так что дед и бабка остались, как сказали бы они сами, без «последнего пристанища».
«О чем это я и к чему?.. — растерянно думал он, стоя посреди старого двора на Поточной улице. — Ах да, дедушкино пальто…»
Одну из крошечных тети Маниных комнатушек занимал почти целиком большой овальный обеденный стол темного орехового дерева. Вот на этом-то столе и расстелили дедушкино пальто, и мать мокрой тряпкой смывала с сукна запекшуюся на груди коростой коричневую кровь. Но когда она выжимала тряпку в стоявший тут же, на столе, эмалированный тазик, с тряпки стекала не коричневая, а бледно-алая жидкость, запекшаяся кровь как бы вновь оживала. Это была дедушкина кровь, но тогда все думали уже не об этом, а о том, как бы поаккуратнее ее смыть и заштопать понезаметнее дыры от осколков, словно бы накладывая запоздалые спасительные швы на дедушкины раны, чтобы можно было продать пальто на барахолке в Сабуртало.
Надо было жить.
Потом-то, после того первого раза, когда они поехали на барахолку с дедушкиным пальто, он бывал там чуть ли не каждое воскресенье, в базарный день. В дело пошло, вещь за вещью, все, что они успели взять второпях с собой из дома: дедушкины и отцовские костюмы, бабушкины и мамины платья и белье, столовое серебро, дедовы карманные серебряные часы фирмы «Лонжин», серебряная же его тяжелая папиросница с монограммой, ковры бессарабской ручной работы, все мамины шелковые, и фильдекосовые, и фильдеперсовые чулки и даже его альбом с марками.
Он отчетливо и ярко вспомнил эти марки — верблюды и пальмы на бледно-кофейных и серовато-голубых, вытянутых в высоту марках Сомали и Эритреи или Тринидада и Тобаго, ощерившиеся носороги на марках Французской Экваториальной Африки или Бельгийского Конго, серебристый абрис профиля Георга V на зелененьких английских полупенсовиках, французская Марианна в сбившемся на затылок фригийском колпаке, бельгийский Леопольд и итальянский Виктор-Эммануил… Но гордостью коллекции были не имеющие особой филателистической ценности празднично-яркие, на плотной лаковой бумаге, очень крупные треугольники и ромбы Тувы и Монголии.
Пошли они все, весь альбом, если ему не изменяет память, за два кирпича полусырого, тяжелого и кислого пайкового хлеба.
Сабуртало…
Старый двор совершенно не изменился — тесно обстроенный облупившимися, невысокими, в два этажа, ветхими строениями со сплошными деревянными галереями вдоль каждого, с шаткими лестницами и скрипучими переходами с галереи на галерею, с яростной путаницей квартир, дверей и вещей на них, с беззастенчиво вывешенным на просушку небогатым пестрым бельем, словно флаги расцвечивания на севшем на вечную мель корабле.
Если пройти двором насквозь, то напротив, через улицу, должно стоять бордовое кирпичное здание собственно гимназии, впрочем, ходили слухи, что это была даже не просто гимназия, а чуть ли не пансион благородных девиц Святой Нины, в котором до войны помещалась партшкола, а в войну — тыловой госпиталь Черноморского флота. Во дворе же, несколько в стороне, дряхлела заброшенная, с забитыми наглухо дверьми, бывшая гимназическая церковь. Но тогдашние дворовые мальчишки, отбившиеся от материнских рук и чьи отцы почти все ушли на фронт с первых же дней войны, давно сломали запоры, и церковь, пустая, гулкая, прожаренная беспощадным летним зноем, пахнущая многолетним тленом и сухой, жаркой пылью, стала их потаенным прибежищем, чем-то вроде укрытого от посторонних глаз клуба или даже родного, им одним безраздельно принадлежащего дома. Тут они осваивали мужское искусство курения, играли на деньги в «очко» и «железку», прятали от бдительного родительского ока трофейные скабрезные открытки, которыми приторговывали или обменивали их на табак раненые черноморские морячки.
Он медленно обошел неправильный прямоугольник двора, узнавая и не узнавая его.
Тогда была война, и все, в том числе и старый этот двор, в котором он жил, виделось совсем в ином, чем теперь, свете.
Сорок лет назад двор жил привычной, будничной тыловой жизнью. Вот тут, в полуподвале рядом с коридором, в котором он сам прожил всю войну, обитал дворник-курд с толстой, молчаливой женой и дочерью, носившей странное имя Ледиджен, — звучно-иноплеменное, оно было всего-навсего простодушным соединением английских «леди» и «Джен», неведомо почему обольстивших некогда слух дворника; впрочем, и он сам, и его жена звали дочь на местный манер: Ледиджан; толстуха-молчальница безропотно убирала за мужа двор и общую на всех жильцов уборную, в то время как он с самого утра садился у дверей своего полуподвала на низенький табуретец и, положив па другой открытые нарды, монументально каменел в ожидании партнера, который не заставлял себя долго ждать и приходил со своим стулом. В глубине двора жил сапожник по имени Сурен, тачавший из добытой неизвестно какими путями дефицитной кожи мягкие чувяки и нашлепывающий набойки на заношенную до последней степени обувь жителей округи, сидя в некотором подобии собачьей будки у ворот, выходящих на Поточную, и замечательный тем, что мог болтать без устали с заказчиками, не вынимая изо рта мелких сапожных гвоздиков. У сапожника имелась дочь Нора, крайне некрасивая пятнадцатилетняя девица, сводившая тем не менее с ума вступивших в немилосердную пору быстрого возмужания дворовых мальчишек не по годам развитыми, тугими, упруго и тяжко перекатывающимися при каждом ее шаге шарами грудей под тонким, трещащим под напором плоти ситцем платья.
Она казалась им — теоретически по крайней мере — абсолютно доступным, но практически, увы, недосягаемым для них сосудом разврата. Сама она, несомненно, догадывалась о производимом на них впечатлении, но не только не стеснялась этого, а, напротив, проходя мимо кого-нибудь из них, еще мощнее покачивала щедрыми формами.
Всякий раз, встречаясь с ней во дворе, старый врач-грузин, живший тут еще с дореволюционных времен в казенной гимназической квартире с женою, бывшей начальницей гимназии, — в войну их уплотнили и оставили лишь одну комнату из прежних трех, — всякий раз, встречаясь с Норой, старик брезгливо отворачивался и делал шаг в сторону, словно боясь то ли замараться об эту купель порока, то ли подпасть под ее нечистые чары.
В реквизированных у врача и его жены комнатах было общежитие работающих по мобилизации в госпитале медицинских сестер — он вдруг вспомнил даже их имена: Манана, Сильва, Этери, Наташа. Это были совсем юные девочки, недавние школьницы, они нередко подкармливали дворовую ребятню госпитальными харчами, хотя им и самим еды доставалось в обрез.
У одной из сестер, у Этери, вспомнил он, был патефон с двумя или тремя заезженными довоенными пластинками: «Рио-Рита», «Брызги шампанского», «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу» и еще что-то в этом же роде, и вечерами в общежитии собирались такие же молоденькие выздоравливающие флотские офицеры — впрочем, тогда этого слова — «офицеры» — в обиходе еще не было, были «командиры», — и под звуки заигранных, спотыкающихся на каждом такте старых шлягеров эти вчерашние мальчики и девочки танцевали до упаду танго, фокстрот и уинстеп, пели хором «Синий платочек» и «А волны бушуют и плачут…».
Деревянные галереи вдоль внутреннего фасада дома были увешаны перекинутыми через парапет тюфяками и подушками, с этого и тогда, вспомнил он, начинался день: хозяйки проветривали постель, снимали с веревок просохшее за ночь белье.
Он поискал глазами теннисный корт, — когда-то прямо напротив окон его полуподвала был заброшенный теннисный корт, в теннис на нем никогда не играли, до тенниса ли было в войну, они гоняли на нем тряпичный или, если повезет, и настоящий футбольный мяч, когда сбегали с уроков «на шатало». Вот еще одно забытое и ненароком всплывшее слово, подумал он ностальгически, интересно, знают ли его сегодняшние мальчишки?..
Слово было образовано из русского корня и грузинского окончания, его и переводить-то не надо было, и так яснее ясного: сбежать с уроков и шататься по городу.
И вдруг он почувствовал себя именно сбежавшим «на шатало» — из привычной своей жизни, из обыденного, набившего оскомину каждодневья, от самого себя нынешнего, каким он волей или неволей стал за эти сорок промелькнувших как один миг бесконечных лет, как тогда шатающимся без цели по полузабытому и вновь неспешно обретаемому давнишнему своему городу — без нужды, разве что в поисках самого себя прежнего.
Корта не было, вместо него стояло стандартное жилое здание, на пятачке перед ним гомонили сегодняшние дети.
Он прошел узким проходом между бывшим кортом и бывшим своим жильем, мимо подвальных, забранных частой металлической сеткой окон коридора, в котором некогда жил, нагнулся и заглянул в них — теперь это был, по-видимому, опять просто коридор, никто тут не обитал, перегородки, делившей его пополам, как не бывало, сквозь давно не мытые стекла он разглядел сваленные как попало, одна на другую, старые парты, списанную за ненадобностью школьную мебель, разбитые фаянсовые раковины — видно, теперь здесь был склад ненужных, отслуживших свое вещей.
Полуподвал, в котором жил дворник-курд с молчаливой толстухой женой и дочерью Ледиджен, тоже был наглухо забит, видно, и тут давно никто уже не проживает.
Он прошел двором дальше, вглубь.
Подняв голову и заслонив от слепящего солнца ладонью глаза, он посмотрел вверх на второй этаж, — там прежде жил сапожник Сурен с дочерью Норой, некогда, вдруг вспомнил он и почувствовал, как краска давнего стыда залила ему лицо, совратившей его и лишившей невинности на пропахших сухой пылью, источенных древоточцем хорах бывшей гимназической церкви.
На галерее как раз снимала с веревок просохшее белье толстая женщина с квадратной спиной под выцветшим ситцевым халатом с темными пятнами пота под мышками, низким, хрипловатым голосом разговаривающая с кем-то в комнате. Она не доставала до веревки и, взяв табурет, взобралась на него, потянулась руками к белью, халат задрался выше колен, и он увидел ее ноги, короткие, густо поросшие черными волосками, и сразу узнал их. Она, не глядя вниз, обернула лицо в сторону двора — нет, лица бы он никогда не узнал, голова ее была совершенно седа, в неряшливо торчащих во все стороны сивых лохмах, и он подумал, что человек старится как бы по частям и не одновременно: Норино лицо состарилось гораздо раньше ее ног.
Нора так и не поглядела вниз и, сняв белье, ушла в дом, да если б и поглядела, подумал он с облегчением, наверняка бы тоже не узнала его.
На первом этаже тут когда-то жила тетя Маня Попова, но он не был уверен, жива ли она еще, ей и в войну-то было, по его тогдашним понятиям, немало лет, она ему казалась глубокой старухой. И вдруг он с удивлением произвел простейший подсчет: на самом деле она была тогда моложе, чем он сейчас, ей наверняка не было и пятидесяти, а ведь он не считает себя не только стариком, но даже и пожилым человеком — мужчина средних лет, о таких говорят: в расцвете сил. Теперь-то ей было бы под девяносто, едва ли она так зажилась на свете. А уж муж-то ее, мелкий конторский служащий из бывших белых офицеров, которого она и в глаза и за глаза называла не иначе, как Поповым, по фамилии, или белым недобитком, наверняка умер раньше нее.
У дверей первого этажа сидела на низеньком детском стульчике какая-то древняя старушка; тень от одичалого винограда, обвивавшего деревянные столбы галереи, падала ей на лицо, и от этого оно казалось совершенно зеленым, мертвенно-тинистым и походило на лицо утопленницы или до срока состарившейся от печали андерсеновской Русалочки.
Но прежде чем он успел ее разглядеть и догадаться, кто она, и как бы для того лишь, чтобы помочь ему это сделать, появившийся невесть откуда — из слепящего полуденного света или из зеленой, тинистой тени винограда — мальчик подошел к тете Мане и сказал:
— Тетя Маня, в магазине сегодня по карточкам сахар не дают, завтра будут.
Он уже не хромал, колено зажило, только на правой штанине виднелся грубый, неумелый, толстыми суровыми нитками шов.
Но тетя Маня мальчику не ответила, даже не повернула головы, а он вдруг вспомнил, что тогда, сорок лет назад, тетя Маня Попова его почему-то недолюбливала да и ко всей их семье относилась недружелюбно и даже не старалась этого скрыть.
Но теперь она посмотрела на него спокойно и без удивления, словно бы сразу узнав и даже давно ожидая этой их встречи.
Он подошел к ней, она не встала со стула, а только протянула к нему руки — не протянула, подумал он, а скорее воздела, так будет точнее, — и ему пришлось низко наклониться, чтобы обнять ее, но до лица ее он все равно не дотянулся, детский стульчик, на котором она сидела, был слишком низенький, он только и сумел, что коснуться губами ее макушки — сквозь реденькую сухую седину просвечивала пергаментная, в старческих коричневых накрапинках кожа черепа. И еще он успел услышать запах, который исходил от тети Мани, — несильный, но стойкий и резкий, это не был запах неухоженного тела или давно не стиранного платья, ни даже нежаркого пота старческого бессилия, хотя все это тоже было в нем, — нет, это был совсем особый, не истребимый уже ничем запах самой старости, решил он про себя и невольно отстранился от тети Мани, и ее руки, воздетые к нему и легшие без тяжести на его плечи, обреченно соскользнули вниз на колени.
— Садись, — сказала тетя Маня, и он подивился тому, что голос у нее прежний — сильный, властный, и, узнав ее голос, он сразу признал и ее всю. Сквозь зеленую тень, падающую на ее лицо и застоявшуюся в глубоких морщинах и подглазьях, он увидел ее такою, какой она была когда-то — со следами былой, знающей себе цену привлекательности, которую она уже тогда, сорок лет назад, стоически-ревниво оберегала и подчеркивала слишком яркой губной помадой, насурмленными бровями и ресницами, густо положенными на отцветающие щеки румянами.
Ни румян, ни помады, но лицо ее было по-прежнему самоуверенным и горделивым, она все еще помнила себя роковой женщиной двадцатых и тридцатых годов, это было в пей неколебимо, и, может быть, единственно этим она и держалась до сих пор.
— Садись и рассказывай. Садись, иначе я буду тебя плохо слышать.
Но сесть ему было не на что, он опустился перед ней на корточки, сидеть так, да еще на солнцепеке, было неудобно, он скоро устал и вспотел, но встать не решился, так и оставался в этой неловкой позе все время их разговора.
Он рассказал ей все — а на самом деле ничего — о том, что произошло с ним за эти годы, ограничившись одними событиями: о смерти матери и отца, о работе, неудачной женитьбе и о взрослой уже дочери, но его рассказ был похож всего лишь на прерывистый пунктир, который он не стал ни обводить сплошной линией, ни заполнять рисунок красками, оттенками, светотенью истинной правды о своей жизни, которая, собственно говоря, словам и не поддается.
Да тетя Маня и не слушала его или попросту не слышала, думая о своем и уйдя в свое, в то, что все эти сорок лет было собственной ее жизнью, о которой она тоже едва ли бы смогла ему что-то доподлинно рассказать словами. А может быть, ей многого уже было и не вспомнить.
Мальчик не уходил, стоял рядом и недоверчиво, как ему казалось, слушал его, тоже наверняка думая совсем о другом и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
— Я рада за тебя, — прервала его на полуслове тетя Маня, ничего в его рассказе ее не взволновало, не тронуло. Она жила в своем неприступном мире, обращенном в прошлое либо же, очень может быть, в еще не имеющее ни цвета, ни запаха, но неминуемое и уже близкое будущее, которого она не боялась и к которому давно была готова. — Я рада за тебя, у тебя все хорошо, я так и думала. У меня тоже все хорошо, видишь — я жива и даже здорова, если это слово в моем возрасте вообще имеет хоть какой-нибудь смысл. А все остальное… Нет, нет, ты не подумай, что мне чего-нибудь надо, у меня все есть. Кстати, тебе деньги не нужны? Молодым всегда не хватает денег, а я не знаю, куда мне их девать — и пенсия, и сдаю угол двум очень милым студенткам, они аккуратно платят, а мне ведь давно уже ничего не нужно. — И, чуть поразмыслив, попросила с несмелой надеждой и вместе с тем по-женски капризной, кокетливой уверенностью, что ей ни в чем и никто не посмеет отказать: — Разве что маслины… Я всегда обожала маслины, а теперь их у нас совершенно не стало, и мне иногда ночью снится, что я ем маслины, знаешь, такие сочные, мясистые, и выплевываю косточки в море… то ли в Гаграх, то ли в Батуме… При чем тут море — ума не приложу!
Мальчик поднял на него глаза, ожидая, что он ответит.
— Я их вам завтра же принесу, тетя Маня. Нет ничего проще, у нас в гостинице, в ресторане, их наверняка сколько угодно, и я завтра же…
— Ты остановился в гостинице? — с не очень искренней обидой прервала его опять тетя Маня. — Мог бы, кажется, и у меня, места, как всегда, хватило бы.
— В «Иверии», — объяснил он и чуть было не проговорился: — Я ведь не знал, что… — но вовремя спохватился.
— Что я еще жива? — договорила за него тетя Маня и рассмеялась неожиданно молодым смехом, голова ее, и плечи, и даже руки, бессильно лежавшие на коленях, узловатые, с подагрическими утолщениями на сгибах пальцев, тоже в коричнево-ржавых старческих крапинках, мелко затряслись, и он только тут заметил, что ногти на этих обезображенных старостью пальцах тщательно покрыты ярко-красным свежим лаком. — Куда я денусь? Я и не спешу, это всегда успеется. — И завершила свою мысль, указав пальцем с ярко-алым ногтем вверх, на небо: — Тем более что там таких, как я, пруд пруди.
— Я принесу вам маслины завтра с утра, — повторил он свое обещание, — И если вам нужно еще что-нибудь, из Москвы нетрудно прислать. Не стесняйтесь, тетя Маня.
— Вот уж чего я никогда не умела, так это стесняться, — опять кокетливо рассмеялась она, — для этого я всегда слишком нравилась мужчинам. Если хочешь знать, я потому и вышла за этого недобитого беляка Попова, что он был единственный, кто никогда не замечал, что я хорошенькая. И никогда не понимала, зачем он-то женился на мне. Может быть, потому, что без меня ему было бы еще страшнее жить, чем со мной. Мужчины меня вообще когда-то ужасно боялись. Я и твоему отцу тогда страшно нравилась, потому-то я и не любила твою мать.
Когда он распрощался с тетей Маней и пошел обратно залитым немилосердным солнцем двором, который один, вопреки всему, вопреки тому, что тетя Маня стала древней старухой и старухой стала даже Нора, — один двор оставался таким же, каким был сорок лет назад, — тетя Маня глядела ему вслед, но не видела его. Она уже может разглядеть, подумал он, только свое прошлое или свое будущее, хотя и это для нее уже одно и то же, и границы меж ними ей уже не различить.
Когда он напоследок оглянулся, заходя за угол дома, мальчика уже не было, тетя Маня сидела в полном одиночестве в густой неподвижной тени одичавшего винограда и, казалось, на глазах растворяется в ней, становится и сама тенью.
Проходя опять мимо окон полуподвала, в котором некогда жил, он вспомнил еще вот что: ранним утром во двор приходили крестьяне из окрестных деревень, привозили на низкорослых, ко всему безучастных, грустных осликах, с висящей клочьями на впалых боках серо-бурой шерстью и с миниатюрными, словно бы игрушечными копытцами, молоко, козье и коровье, и прохладную даже в самый удушливый зной простоквашу, и двор оглашался долгим и звеняще-высоким их криком: «Ма-а-ацо-о-они! Ма-ацо-о-они!..» Крик будил его, он просыпался и, не вставая с узкой и жесткой койки, выглядывал в окно, лишь наполовину поднимавшееся над землей, и только и мог в нем разглядеть, что тоненькие, хрупкие, в набухших жилах, серые осликовы ноги на сбитых копытцах да ноги хозяина в толстых, грубой крестьянской вязки, некрашеных шерстяных носках и в перевязанных бечевкой старых, потерявших блеск резиновых калошах, и больше ничего.
— Ма-а-ацо-о-они! Ма-а-ацо-о-они!..
И вместе с запоздалым эхом этого голоса в памяти как бы настойчиво воскресали прежние звуки, краски и запахи города, звуки, краски и запахи давно развеянной на семи ветрах жизни.
Стояла томительная, недвижная жара, асфальт под ногами плавился, в нем отчетливо отпечатывались следы каблуков, и, не задумываясь, помимо воли он направил шаги на улицу, всю в уже отцветающих каштанах и акации, где стояла некогда его сорок третья школа.
Он свернул за угол и увидел на табличке название улицы: Мачабели. И тут же безо всякого усилия памяти вспомнил: Капелька. И мальчик опять был тут как тут, шел рядом, приноравливаясь к его широкому, торопящемуся невесть куда шагу.
Он так никогда и не узнал, почему ее звали Капелька. Настоящего ее имени он тоже никогда не знал.
Капелька жила на Мачабели, он вспомнил до мельчайших подробностей ее дом, и — вот он: светло-коричневый, с облезшей штукатуркой и с кариатидами в виде ангелочков или, может быть, скорее купидонов с отбитыми носами и крылышками под балконом второго этажа, и самый балкон — чугунный, с тонкими витыми колонками, а под балконом — вход в просторный, прохладный даже в летнюю жару барский подъезд, выложенный в виде шахматной доски черными и серыми плитками и с чугунной лестницей, уходящей широкой, щедрой дугою вверх.
Он вспомнил и день — начало мая, и час — послеполуденный, самый душный. Он шел по Мачабели и еще издали услышал из открытого окна первого этажа звуки рояля. Это были не гаммы — до войны его самого почти силком обучали музыке, и за четыре года он успел люто возненавидеть хроматические гаммы и этюды Гедике, — а что-то ему незнакомое, нежное и хрупкое. Теперь-то он бы сказал, что это был Шопен, но тогда он этого знать не мог. Наверное, все-таки Шопен, подумал он и как бы вновь услышал это нежное и несмелое прикосновение чьих-то легких пальцев к клавишам. Он и теперь не мог бы объяснить, почему замедлил тогда шаг, прислушиваясь, как завороженный, к музыке из распахнутого окна.
В окне, упершись локтями в подоконник, глядела на улицу, одновременно прислушиваясь — это было написано на ее умиленном и вместе строго-требовательном лице — к тому, что играл кто-то за ее спиной в комнате, старая женщина с большой седой головой и с характерным медальным профилем, очки на кончике ее орлиного носа вспыхивали на солнце остренькими искрами. Одна дужка была сломана, вместо нее за ухо старухи уходила красная шерстяная нить.
Поравнявшись с окном, он хотел было убыстрить шаги, но это у него почему-то не получилось, а старуха, не поворачивая головы, громко сказала назад, в комнату, глубоким и зычным голосом:
— Ты совсем не считаешь, Капелька! Ты все время, чири ме, сбиваешься со счета, придется купить тебе метроном, как последней дурочке! — И стала считать за эту самую дурочку Капельку: — Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре…
Из глубины комнаты невидимая с улицы девочка ответила серебристо-звонко:
— Я считаю, бабушка! Ты смотришь на улицу и ничего не слышишь, тебе просто кажется!
— Не спорь со старшими, Капелька! Я могу быть на другом конце города, на Авлабаре или в Дидубе, а все равно слышу, считаешь ты или не считаешь!
И снова раздался серебристый, теперь с капризной интонацией голос невидимки Капельки:
— Ах, бабушка! Ты всегда так! Я же тебя знаю — скажешь, а потом сама жалеешь!
Не отдавая себе в том отчета, он остановился как вкопанный под окном, словно его приковал к месту этот звонкий и капризный голос.
Он стоял колом перед самым носом высунувшейся в окно старухи с неряшливо торчащими во все стороны седыми кудельками и с ужасно, должно быть, глупым видом уставился на нее.
— Тебе что, мальчик? — заметила его старуха. — Ты к Капельке? — И, повернув голову, сказала в комнату: — Капелька, к тебе какой-то молодой человек, очень похожий на кавалера! — И опять ему: — Можешь войти в дом, мальчик, я не кусаюсь, и — почему я тебя не знаю?
И сразу же, будто она все это время пряталась за спиной бабушки, в окне появилась, словно выпорхнула из-под локтя старухи, девочкина голова в таких же, как у бабки, торчащих во все стороны вихрах, но только совершенно черных, прямо-таки ослепительно черных, с нежно-смуглым, отливающим лимонно-матовым сиянием лицом и с такими — на этой лимонной, матовой смуглоте, под этими горящими черным пламенем волосами — неожиданно голубыми, цвета не неба, не моря даже, а чего-то иного, гораздо голубее, чище и нестерпимее, глазами, что ему стало прямо-таки больно и страшно на нее смотреть, и, невольно зажмурившись, он попятился назад, чуть не оступился и кинулся бегом прочь.
А вслед услышал вызывающе-насмешливый, на этот раз понарошку капризный Капелькин голос:
— Это не ко мне, это совершенно чужой кто-то, ходят тут всякие, а ты, бабушка, еще с ними разговариваешь!..
Он бежал до самой школы и не мог взять в толк, что его напугало прямо-таки до смерти — не Капелька же, не ее капризный и высокомерный голосок: «Ходят тут всякие!» — и, тупо уставившись в черную доску, просидел истуканом все пять уроков, не слыша ни учителя математики по кличке «Чиновник», ни замечаний исторички «Пифы».
Назавтра, однако, он пошел опять в школу не прямой дорогой, а той же улицей Мачабели. Музыки из окна на этот раз слышно не было, но в окне в той же, что и вчера, позе, будто она и не уходила на ночь, сидела старуха, и когда он, испугавшись, что она его узнает и окликнет, хотел было проскочить незаметно мимо, она все-таки узнала его и окликнула:
— Мальчик! Мальчик! Ты почему не здороваешься, мальчик?!
Он невольно приостановился, как и вчера, прилипнув подошвами к размягченному зноем асфальту, но даже простого «здрасте» выжать из себя не мог.
— Ты беженец, да, мальчик? Эвакуированный? — Старуха была настроена словоохотливо, а может, ей просто нечего было делать. — Ты откуда, гмерто чемо?
Но он опять, как накануне, припустился бежать, и только мелькнули в голове вызубренные к уроку литературы стихи — «бежал, как заяц от орла».
А она крикнула ему вслед зычным своим, беззастенчивым голосом:
— Ты не бойся, чего ты боишься? Приходи еще, это ничего, что вы с Капелькой не знакомы, я вас познакомлю, у нас гоми есть и лобио, ты же наверняка голодный, тебе, чтоб расти, кушать надо, скажешь, нет?!
Как угадала старуха, каким чутьем, что он не здешний и — самое обидное, самое унизительное! — что он голоден, всегда голоден и стыдится этого даже больше, чем своих выкрашенных буро-фиолетовой кубовой краской и ставших ему не по росту короткими старых брюк?!
И хотя он тут же дал себе слово, что больше никогда в жизни не пойдет в школу этой дорогой, ни за какие посулы не пройдет мимо окна со старухой, но назавтра он опять был тут как тут, и старуха в окне тоже была тут как тут, но на этот раз без очков на красной шерстяной нитке, и потому не увидела его, во всяком случае, не признала даже тогда, когда, услышав те же нежные, несмелые звуки рояля из комнаты, он опять остановился под самым окном.
Все это происходило на следующий год после того, как ввели раздельное обучение и их сорок третья школа стала мужской, а девочек перевели в другую, на той же улице, но несколькими кварталами ниже. Он не знал даже, в той ли школе и в каком классе учится Капелька, и, сколько ни поджидал ее, укрывшись в подъезде соседнего с женской школой дома, так ни разу и не увидел.
Все мальчики в их классе еще с тех времен, когда обучение было нераздельным, «дружили» с девочками, записки с предложениями «дружить» так и порхали на уроках от парты к парте, подобно белым откормленным голубкам с базарных открыток: «Люби меня, как я тебя», но Ламара Гвелисиани, самая красивая и надменная девочка в классе, наотрез отказала ему:
— Нет, с тобой дружить я не собираюсь, потому что я вообще не такая.
И вот однажды, когда он, спрятавшись в пропахшем кошками подъезде, поджидал Капельку, не кто иной, как не простившая ему своего отказа «дружить» с ним Ламара вошла в этот самый подъезд вместе с двумя подружками и, ничуть, по всей видимости, не удивившись, застав его здесь, громко сказала, указав на него испачканным фиолетовыми чернилами пальцем:
— Вот он как раз, я же вам говорила! Ну тот, который торчит каждый день под окном у Капельки! А дружбу еще предлагает другим! — и, гордо отвернувшись от него, прошла мимо к лестнице.
Подружки пропорхнули за нею, на каждой ступеньке оборачиваясь и безо всякого стеснения разглядывая его с головы до ног и откровенно прыская в такие же измазанные химическими чернилами ладошки.
До конца учебного года он так ни разу ее не увидел, хоть и проходил два раза на дню мимо ее окна на Мачабели, из которого иногда была слышна музыка и где неизменно сидела в одной и той же позе Капелькина бабушка.
Но то ли у бабушки разбились очки, то ли она постоянно забывала их надевать, но она уже больше никогда не узнавала его и не окликала.
А потом начались каникулы, Капельку, вероятно, увезли на дачу в Цагвери или в Патара-Цеми или отправили в пионерский лагерь, потому что за все лето — а он продолжал что ни день приходить сюда, к ее дому, — из окна больше не слышна была музыка и не видна была в нем со своими седыми, торчащими во все стороны космами и характерным профилем бабка.
А еще потом, вспомнил он с уж и подавно безнадежной печалью, после начала нового учебного года от той же жестокосердной Ламары Гвелисиани он узнал, что летом Капелька умерла. «От туберкулеза, — сказала Ламара и с нарочитой, неискренней жалостью пояснила: — От чахотки».
Он виновато покосился на мальчика — тот отрешенно и завороженно глядел на бывшее Капелькино окно, за которым сейчас наверняка жили совершенно другие, чужие люди: ведь мальчик не может знать о смерти Капельки! Он все еще там, в том знойном, нескончаемом лете, в нетерпеливом ожидании ее возвращения. Мальчик не знает, что она умерла сорок с лишним лет назад, ждет ее, хоть, может быть, и не догадывается еще, что любит, и наверняка не простил бы ему, если б мог узнать, что за все эти сорок лет он только сейчас в первый раз вспомнил Капельку…
А он и этого не вправе сказать мальчику, не вправе оправдаться, потому что для этого ему пришлось бы обгонять время, а у времени свой собственный ход, своя размеренная поступь, и никому не дано в это вмешиваться.
Тем более что все равно никто не в силах ничего исправить, никто никого ни от чего не может уберечь или хотя бы предостеречь.
Да и мальчика рядом уже не было.
Он прошел до конца улицу Мачабели, она упиралась в серое трехэтажное здание школы, но заходить внутрь не стал — зачем? Едва ли он найдет там хоть одного из учителей, у которых он когда-то учился и которые могли бы его вспомнить. Через открытые железные ворота он заглянул во двор, теперь он ему показался гораздо меньше и теснее, чем прежде. Он поискал глазами и нашел водопроводную трубу, спускавшуюся вниз вдоль крутого скалистого склона горы, которая замыкала собою школьный двор.
На длинном гребне горы и в долине по ту ее сторону была таинственная, как им тогда казалось, и в те годы небезопасная даже в дневное время Комсомольская аллея и еще более пустынный и заброшенный Ботанический сад.
Потом, в первые послевоенные годы, на гребне, лицом к городу, был сооружен огромный, метров в тридцать высотою, профиль Сталина, собранный из светящихся неоновых трубок. Неоновый свет тогда был и вообще-то в новинку, и горящий пульсирующим сиянием Сталин как бы парил над городом, не угасая, всю ночь, и лишь с первыми лучами солнца электричество отключали.
С вершины горы во двор школы спускалась — пусть и не совсем отвесно, как им тогда казалось, но все же под довольно крутым углом — водопроводная труба толщиною с руку взрослого мужчины и длиною, как они тогда друг друга пугали, с добрую сотню метров, лишь в двух или трех местах прикрепленная кронштейнами к камню.
Теперь и длина трубы оказалась раза в четыре короче, и наклон ее не таким устрашающим, но, думал он, стоя во дворе своей бывшей школы, по ней наверняка и сегодня, отвоевывая себе место под солнцем и уважение одноклассников, бесстрашно спускаются мальчишки — сверстники его тогдашних лет.
Суть заключалась в том, чтобы вскарабкаться, цепляясь руками и осторожно упираясь подошвами в каменные уступы, до того места, где труба окончательно отходит от скалы, и, ухватившись руками за кронштейн, оторвать ноги от твердой опоры, одним движением перекинуть и обнять ими трубу, тот же маневр проделать и с руками, прижаться к ней всем телом, затем ослабить объятия и, подчиняясь только что усвоенному в классе закону всемирного тяготения, заскользить вниз к такой отсюда, с высоты, далекой, почти недостижимой земле, где за тобою следят не знающими жалости глазами дожидающиеся своей очереди соискатели славы.
В трубе что-то угрожающе урчит и булькает, она прогибается под тяжестью твоего тела, вибрирует, как живая, эта дрожь передается и тебе, скольжение, как ты ни прижимайся, ни обхватывай судорожно руками и ногами холодный металл, все убыстряется, ты страшишься заглянуть вниз, в надвигающуюся на тебя с чудовищной скоростью пустоту, горят ладони, обдираемые в кровь об изъеденную ржавчиной, грубо-шершавую, как наждак, поверхность трубы, ветер перехватывает дыхание, закладывает ватой уши, ты летишь все быстрее, все неудержимее в бездну, слышно, как жалобно лопаются на заду единственные твои, давно прохудившиеся штаны, но ты уже ничего не соображаешь, поскорее бы земля, кажется, ты больше не выдержишь и разомкнешь затекшие, бесчувственные руки и грохнешься насмерть, но ты не успеваешь додумать свою последнюю думу, как, весь в холодном поту, больно ударяешься пятками о твердую почву, все, конец, ты живой, хоть ноги и не слушаются тебя, мелко и унизительно дрожат, в глазах набухают и лопаются кровавые пузыри, но — ты ликуешь!
После этого испытания можно было жить с гордо поднятой головой.
Чаще всего, вспомнил он, возвращаясь вновь к центру города, «на шатало» они сбегали в кино — вот в это, он сразу нашел его, наискосок от Дворца пионеров, — просиживали по три сеанса подряд, знали наизусть и наперед оповещали криками или безудержным смехом зал о следующем эпизоде, и особенно рьяно — на «боевых киносборниках» первых лет войны, в которых вопреки тому, что на самом деле происходило на фронте, победы над глуповатыми, смешными до идиотизма фашистами доставались нам играючи и малой кровью, и, что теперь может показаться по крайней мере странным, этой неправде с экрана они безоговорочно верили, потому что именно этого от него и ждали, на это уповали, а стало быть, не такая уж это для них была и неправда.
В сорок третьем, даже в конце сорок второго уже крутили американские и английские картины — кинопомощь доблестному союзнику оказалась проще, чем открытие долгожданного второго фронта: «Северная звезда», «Сестра его дворецкого», «Багдадский вор» с Конрадом Вейдтом, «Маугли», до колик смешной «Джордж из Динки-джаза», трогательная и такая далекая от войны «Серенада Солнечной долины» с наивной простушкой Сони Хенни, — песни из этого фильма распевали еще много лет спустя, да и поныне их еще можно услышать, «Три мушкетера» с братьями… дай бог памяти, знаменитые три брата-комика, вот только как их звали, ему уже не вспомнить…
И хотя в этих фильмах правды было еще меньше, чем в «боевых киносборниках», они и в них находили что-то совершенно им необходимое, что-то помогающее им жить и смеяться, веселиться до упаду даже в те тяжкие дни.
А потом, в сорок третьем и сорок четвертом, стали крутить уже и фильмы трофейные — «Девушку моей мечты», например, и — всю войну, как и до нее, как и долго после, — нестареющий «Большой вальс».
Чушь какая-то, пустяки лезут в голову, досадливо отмахнулся он, сидя в душной тьме, кинозала, а куда более важное, значительное забывается, улетучивается без следа… Ведь не для того же я здесь, чтоб вспоминать эти глупые фильмы, не для того сижу в этой набитой до отказа, пропахшей потом и карболкой эвакопункта киношке моего детства!..
Мальчик сидел в темноте рядом, лузгал семечки — единственное доступное тогда лакомство — и сплевывал шелуху в кулак, от него тоже кисло и жарко несло потом. На штопаном-перештопаном полотне экрана уходил от погони, запросто обводил вокруг пальца врагов и без промаха отстреливался Неуловимый Ян.
От волнения мальчик все время ерзал в скрипучем кресле, при каждом удачном выпаде д’Артаньяна или убитом фашисте радостно вскакивал с места и кричал во все горло вместе со всеми, на каждый поцелуй с экрана откликался самозабвенным чмоканьем.
Он то и дело косился на мальчика, но в темноте плохо различал его лицо и вспоминал, как летом не то сорок второго, не то сорок третьего вся их семья без промедлений откликнулась на призыв местной киностудии: «Граждан, имеющих одежду западного стиля, просят явиться на студию для съемок в массовых сценах кинофильма „Неуловимый Ян“, — тогда в городе было несметное множество эвакуированных именно из западных, лишь перед самой войной присоединенных новых республик и областей, и далеко не все еще беженцы успели выменять на продукты или распродать на барахолке в Сабуртало свою одежду „западного стиля“.
Правда, потом, когда он смотрел фильм, то ни себя, ни кого-либо из домашних ни в одном кадре не нашел и до слез огорчался по этому поводу.
Если вдруг рвалась ветхая лента, мальчик вместе со всем залом топал ногами в стоптанных парусиновых туфлях, выкрашенных черной ваксой, и истошно кричал киномеханику: „Сапо-ож-ник!“
Когда он вышел из кино, зной улицы показался ему еще томительнее и неотвратимее. Он перешел на противоположную сторону проспекта и медленно пошел каштановой аллеей, каштаны уже отцвели, свечи их пожелтели и осыпались, мимо Дворца пионеров, где он пропадал некогда каждый вечер допоздна, и лучших часов в его жизни, пожалуй, никогда после не было — не потому ли, что тогда он не ведал не только того, что с ним будет потом, но и того, чего у него так и не будет, чему так и не сбыться, хотя тогда-то он свято верил, что все будет, все сбудется, как в песне из „Детей капитана Гранта“: „Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет“.
Но как это растолковать мальчику?.. И — нужно ли?..
Он пошел вниз, минуя Хлебную площадь, к Майдану. Базара здесь уже не было, площадь, где раньше с утра до позднего вечера гортанно переругивались торговцы, истерически кудахтали привезенные на заклание куры, где терпеливо и безнадежно перебирали иссохшими ногами немолодые ишаки с обреченно-печальными глазами, где висели елочными рдяными гирляндами перец и молочно-жемчужными — чеснок и одуряюще пряно шибали в нос травы — кинза, цицмат, тархун, — площадь теперь была пустой и чистенькой. Из серных бань по соседству сладковато пахло, как и встарь, сероводородом. Кура текла маслянисто-пенная, Метехский замок упирался в небо островерхой кровлей, но — ни гомона базарной толпы, ни мечети Шах-Аббаса, ни Ишачьего моста…
Он повернул обратно, кружил наугад по узким, сплетенным в частую сеть переулкам и тупичкам, по стершимся в памяти воспоминаниям, но ветры не возвращались на круги своя, всему свое время и свой срок. Он кружил вслепую по собственной памяти, собирал по крохам себя прежнего, как археолог по черепкам — давно истаявший мир.
Ему захотелось прохладного, терпко пощипывающего небо вина, свежей зелени, кисловатого тушинского сыра, хрупко лопающейся на зубах редиски… Он вспомнил, где это наверняка найдет — в том погребке на Пушкинской улице, где всегда, даже в самую жестокую жару, не душно и вино всегда холодное и свежая закуска.
Погребок в те времена назывался „Симпатия“, едва ли его переименовали, он был одной из тогдашних достопримечательностей города. Длинный и узкий подвал — по одному ряду столов вдоль каждой стены, — в который вела крутая каменная лестница со слишком высокими ступенями, был расписан портретами выдающихся исторических деятелей всех времен и народов от Сократа до, соблюдая хронологический порядок, наших дней. Безвестный вывесочных дел мастер, бродячий базарный художник на скупо ограниченном пространстве охватил почти целиком всемирную историческую эволюцию, причем — и это было самое замечательное в анонимном его произведении — у всех изображенных лиц мужского пола, включая Сократа, Александра Македонского, Петра Первого, Наполеона, Багратиона и так далее, были черные, щегольской стрелкой, кавказские усы, густые кустистые брови и глаза с поволокой, чуть навыкате, и все они, как один, были одеты в форменные френчи защитного цвета по моде времен военного коммунизма.
Женские портреты — царица Тамара, к примеру, или Екатерина Великая — тоже были практически неотличимы один от другого, все, как на подбор, красивые несколько выспренной, резкой красотою.
Он прошел Пушкинскую из конца в конец, но „Симпатии“ не обнаружил, как и другого погребка, поближе к Солдатскому базару, „Олимпии“. Он вернулся обратно и стал медленно, дом за домом, искать исчезнувший погребок и нашел его — крутые, слишком высокие и узкие ступени вели в прохладный сумрак, но вместо прежней висела новая вывеска, что-то вроде „Буфет № 4 гортреста столовых и ресторанов“. Он спустился вниз — ошибки быть не могло, хотя на неровно побеленных стенах не было и следа от былых изображений великих людей кисти безвестного живописца.
Он хотел было уйти отсюда, бежать от еще одного зряшного, обманувшего его воспоминания, но уж слишком знойно было снаружи, да и ноги гудели от усталости.
Он сел за столик под высоким, у самого потолка, окном, кроме него, в подвальчике не было ни души, видимо, час еще слишком ранний, решил он. Буфетчик, стоявший в мечтательно ленивой позе за своей стойкой, и не подумал подойти к нему и принять заказ, как то было заведено в прежние дни. Он даже вспомнил имя прежнего официанта — Вано. Пришлось встать самому и подойти к буфету, но на вопрос: что есть? — буфетчик только волооко повел головой в сторону прикнопленного к стене и пожухлого от времени листочка с меню.
В нем значились на закуску одни пельмени. Когда-то, подумал он без укора, тут и слова-то такого не знали — пельмени, раньше тут знали одни хинкали…
О зелени и сыре и речи не могло быть, это он понял, не задавая вопросов, по выражению буфетчикова лица.
Он взял бутылку вина, оно оказалось довольно холодным, и тарелку крупных серых пельменей, плавающих в мутноватом бульоне, и вернулся к своему столу.
Когда-то, вспоминал он, наливая вино в не слишком прозрачный стакан, когда-то, в первые студенческие годы, они пробавлялись тем, что в день стипендии приходили вчетвером или впятером сюда, в былую „Симпатию“, часам к шести вечера, когда погребок бывал пуст, и брали бутылку вина и немножко сыра и зелени, но не притрагивались к питью и еде, нетерпеливо глотая голодную слюну и дожидаясь, пока ресторанчик заполнится настоящими завсегдатаями, кредитоспособными вечерними кутилами и Вано подаст на их столы изобильную выпивку и закуску, и лишь потом, приглядевшись и безошибочно выбрав среди них подходящую компанию, посылали ей — „от нашего стола — вашему столу“ — единственную свою непочатую бутылку. Уловка была не нова и не слишком хитра, да они и не скрывали свою цель — достаточно было взглянуть на их отощавшие студенческие лица, но действовала без осечки: они не успевали и глазом моргнуть, как — „от нашего стола — вашему столу“, но в обратном направлении — Вано нес им полдюжины ответных бутылок, одуряюще-остро дымящиеся шашлыки, гору зелени, из которой выглядывала розовая редиска, пунцовые помидоры, снежно-белый круг сыра. А те, кто одарил их безвозмездным этим пиршеством, и не поворачивали к ним голов на могучих красных шеях, не смущали их ожиданием благодарности. И они, стараясь изо всех сил не торопиться, не уронить себя, насыщались впрок, до следующей стипендии.
Он не стал есть пельмени, они и на вид были невпрожев, пил, нетороясь, вино, еще хранящее, казалось, прохладу врытого в землю глиняного крестьянского квеври.
Мальчик возник за столом так же незаметно, как и в прошлые разы, сидел на краешке стула, подперев ладонями подбородок и глядя на него неотрывно своими серыми глазами из-под длинных, чуть загнутых кверху ресниц.
Он впервые увидел так близко, впритык лицо и глаза мальчика и, главное, его руки, подпиравшие подбородок, в особенности пальцы — толстые, распухшие, красные какой-то нездоровой желтоватой краснотою, и вспомнил: ну да, школу тогда и зимою почти не топили, да и дома жестяная самодельная „буржуйка“ с выведенным под прямым углом в окно коленом трубы, раскалившись докрасна и истошно потрескивая, тут же остывала, не только опилки, даже сырые, мелко распиленные дрова сгорали в ней мгновенно. Да еще скудное тогдашнее питание, авитаминоз или как это называлось, и руки уже с осени обмораживались, наливались этой водянистой краснотой, пальцы становились похожими на сардельки и не отходили даже за лето.
Вано — потому что теперь это был прежний Вано из прежней „Симпатии“, он даже нисколько не постарел и не изменился за эти годы, все в той же своей не бог весть какой свежести белой куртке — подошел к столу и поставил на него запотевшую бутылку и блюдо с сыром и зеленью, на ней, казалось, еще поблескивали капельки утренней росы, сказал безразлично: „От того стола — этому столу“, — и, не дожидаясь, как и тогда, ответа, ушел обратно за свою стойку.
Он повернул голову, огляделся — подвал был по-прежнему совершенно пуст, никто не мог прислать эту бутылку „от нашего стола — вашему столу“, этого просто некому было сделать. И тем не менее — вот она, и сыр, и зелень тоже, и мальчик — тут как тут.
И на стене — так ему почудилось по крайней мере — сквозь известку проглянули, все на одно лицо, в полувоенных френчах защитного цвета, лики исторических деятелей всех времен и народов. Мальчик не сводил с него внимательных, взыскующих невесть чего глаз, но теперь его присутствие уже не казалось ему странным.
— Кушай, бичо, — сказал мальчику из-за своей стойки Вано, — ты же голодный, зачем стесняешься?
Мальчик, не поблагодарив, не улыбнувшись, взял кусок хлеба в одну руку, помидор в другую и стал есть скупо и не торопясь, слизывая языком крошки с губ.
Вано из-за стойки следил за мальчиком серьезными и жалостливыми глазами.
Он повернулся к Вано, спросил, кивнув на мальчика:
— Ты не удивляешься?..
Вано пожал плечами как бы с укоризной за самый этот вопрос:
— Я давно ничему не удивляюсь, дорогой. А если и удивляюсь, так не тому, что было когда-то, а тому, что стало теперь. С тобой так разве не бывает? — И, кивнув в свою очередь в сторону мальчика, сказал как неопровержимое доказательство: — Его же это не удивляет…
Он вдруг вспомнил ни к селу ни к городу старую, времен сорок третьей школы, расхожую и теперь уже и не взять в толк что означавшую присказку: „Чечевицалобио, гамарджоба, Гогия…“
Мальчик продолжал аккуратно и неспешно есть, не глядя ни на кого, и он не знал, оставшись с ним с глазу на глаз, о чем говорить, чего мальчик ждет от него и в чем он должен перед ним повиниться.
У мальчика были давно не стриженные каштановые волосы, они свисали на шею сальными косичками.
А может быть, думал он, незаметно и с опасливым, ревнивым любопытством изучая мальчика, может быть, говорить вовсе не обязательно. Если все получилось так, а не иначе и мальчик — вот он, то нет ничего удивительного, если он знает обо мне не меньше, чем я о нем. Но тут ему пришло в голову: а знает ли он на самом деле правду о мальчике, помнит ли, не растерял ли ее?..
Но и молчать тоже было нельзя, не то мальчик подумает, что он отмалчивается и увиливает от ответа.
— Ты ешь, ешь, — сказал он невпопад; мальчик и без его понуканий продолжал есть хлеб с сыром и помидор. — Ты на меня не обращай внимания, я сыт.
И поймал себя на том, что это-то и был ответ. Он сыт, да. Он давно уже и бесповоротно сыт. Он даже не помнит, когда был в последний раз голоден, забыл, как это бывает. Как бывает, когда постоянно хочется есть и после третьей, вечерней смены в школе ты делаешь огромный крюк, чтобы насытиться хотя бы запахом свежего хлеба из окна подвальной торни. Или какими жадными глазами ты глядел часами на зеркальные витрины первого „коммерческого“ гастронома — это было уже незадолго до того, как отменили карточки. Или вкус, вкуснее которого ничего на свете и вообразить нельзя было, первого за всю войну мороженого — там же, на углу площади, напротив „коммерческого“ гастронома: мелкие, гладкие шарики ядовито-розового цвета, отдающие горьковатой сладостью сахарина… Я давно уже сыт, сытость стала для меня уже не потребностью, а привычкой, а ничто, как привычка, не отшибает так верно память об иных временах.
Неподалеку от того первого в войну кафе-мороженого, на площади, рядом со зданием штаба Закавказского фронта висела большая, во все зеркальное окно, карта военных действий, на которой ежедневно отмечали флажками положение на фронтах: красные флажки — наши позиции, черные — немецкие.
— Но она ведь кончилась! — неожиданно вырвалось у него. — Она давно кончилась, мы победили!..
Мальчик вскинул на него глаза, и в них была такая недоверчивость, такая тревога и надежда, что у него перехватило дыхание.
Ну да, конечно, чувствовал он, как в горле встал ком, сорок второй, еще только лето сорок второго, наши еще отступают, черные флажки неумолимо теснят их на восток и на юг, загоняют в горы, в Сальские степи, перевалили за Дон и прижимают к берегу Волги. Еще до конца далеко, еще ничего не известно, и только бог знает на чем основанной верой, точнее даже — полнейшей, абсолютной невозможностью, неспособностью не верить в этот конец, в непреложную победу, мы тогда и держались, и каждый день ходили на площадь к карте, и молча смотрели, как черные флажки теснят красные вправо и вниз…
Мальчик машинально, не сводя с него глаз, полных тревоги и ожидания, надкусил помидор, и по его подбородку потек розовый прозрачный сок с мелкими желто-зелеными зернышками. Он вытер подбородок ладошкой, тыльная ее сторона, как и обмороженные пальцы, была вяло-припухлой, казалось, ткни — и из нее тоже потечет такая же желто-розовая нездоровая жидкость. Не дожевав, мальчик встал из-за стола, и он понял, куда тот торопится.
— Да, — сказал он. — Пойдем.
Они вышли вдвоем из прохладного сумрака бывшей „Симпатии“ в пропахшую бензиновыми парами духоту улицы, пересекли площадь, прошли подземным переходом на противоположную сторону к серому зданию штаба.
Еще издали он увидел витрину, в которой в войну вывешивали карту, никакой карты теперь там, естественно, не было и быть не могло, там висели какие-то сатирические плакаты на сегодняшние международные темы.
Но когда они с мальчиком, протолкавшись сквозь густо снующую по проспекту праздную толпу, подошли вплотную к окну, карта в нем висела. Ее пересекала сверху донизу, чуть наискось, с северо-запада на юго-восток, линия фронта, и это было похоже на черно-красный запекшийся рубец, располосовавший пополам живое тело.
Флажки по сравнению со вчерашним передвинулись еще дальше на восток, прижались к Волге, уткнулись в предгорья Главного хребта на юге.
Они стояли рядом, глядя неотрывно на карту, а вокруг сновала веселая, шумная, неунывающая толпа, и никто, кроме них, не смотрел в сторону окна с картой, никто не остановился перед ней — она ведь и вправду давно кончилась, война, сорок лет прошло, и в толпе, которая молодо и беззаботно обтекала его и мальчика, было уже, пожалуй, немного таких, кто бы помнил эту карту и некогда часами простаивал перед ней в скорбной неистребимой надежде.
И все-таки нас двое, думал он упрямо, я и мальчик, и если даже нас осталось бы на свете только двое, и этого было бы достаточно, чтоб не забыть, чтоб помнить. Забыть — все равно что предать, думал он, стоя перед картой, пересеченной не зарубцевавшейся — даже сейчас, через сорок лет — красно-черной полосной раной.
Но мальчика рядом уже не было, как и карты в окне штаба, по проспекту текла мирная, беспечная толпа. В этом городе, думал он, влившись в нее, никто никогда и никуда не торопится, в нем все еще жива человеческая потребность просто ходить без цели и без нужды по улицам, улыбаясь встречным и здороваясь чуть ли не с каждым вторым, такое впечатление, что все тут друг другу родственники или, на худой конец, соседи и друзья.
Как много во мне и хорошего и дурного от этого города, с благодарностью думал он, медленно двигаясь вместе с толпой по проспекту.
Он вдруг вспомнил совершенно отчетливо, почти въявь, то переполнявшее его, рвущееся вон из сердца самое, может быть, светлое и чистое чувство тех дней: огромная, с высоченными, под самый потолок, окнами палата в подшефном госпитале, во дворе которого он и жил, на стульях, на койках, на подоконниках и просто на полу сидят обмотанные по самые глаза, запеленатые в белую марлю и бинты и оттого похожие на снежных баб раненые, костыли меж колен, руки на дощечках словно живут своей недвижной жизнью отдельно от тел, и из-под белых повязок на бледных, почти таких же мертвенно-белых лицах — нетерпеливые, требовательно ждущие, жадные глаза.
Тогда он знал, чего они ждут от него, и когда он читал им ломающимся мальчишеским голосом, едва слышным из задних рядов, со стоящих у противоположной стены госпитальных коек, волнуясь и торопясь, задыхаясь от волнения и торопливости, „Убей его“ или „Жди меня“, он и они были — одно, как одна на всех была тогда и война и судьба. Он просто произносил вслух и „с выраженьем“, как учили его в драмкружке Дворца пионеров, их собственные слова и мысли, пусть и зарифмованные кем-то другим, и ни единым словом, ни единой интонацией не лгал им, не посмел бы солгать. Теперь он твердо знает, что тогда-то наверняка был счастлив.
Счастлив?! — удивился он самому себе. Война, смерти, голод, эти забинтованные по самые глаза искореженные люди, эти живые культи без рук и без ног, и его задыхающийся от волнения голос, и запах недоступного свежего хлеба из решетки торни, и затемненный город, и обмороженные, красные, как сардельки, пальцы, и войне не видно конца, а в победу можно только слепо верить, и все это вместе — счастье?.. Понять этого не дано, сдался он, это нужно просто помнить.
Он не пошел назавтра к тете Мане — маслин в ресторане не оказалось, не пошел и на следующий день, и на третий, все некогда было, недосуг, все откладывал — не горит. А на четвертый, в среду, на его имя пришла в гостиницу местная телеграмма без подписи: „Тетя Маня умерла похороны в пятницу приходи“. Когда он пришел в дом умершей тети Мани, там никого, кроме двух молоденьких студенток-жиличек да Норы, которая упорно делала вид, что не узнает его и даже не догадывается, кто он, никого не было. Он удивился и встревожился — глупо, одернул он себя, я становлюсь мистиком либо и вовсе схожу с ума — что и мальчика тоже нет.
В двух маленьких, темноватых комнатках, одну из которых, переднюю, занимали жилички с их небогатым студенческим обиходом, стоял такой же, как и от живой тети Мани, невыветриваемый запах старости и тления.
Тетя Маня лежала на том самом обеденном столе, на котором некогда его мать смывала запекшуюся кровь с дедушкиного пальто. Гроб еще не привезли, привезут только завтра, в четверг, объяснили виновато девочки. Тетя Маня лежала на столе, одетая в старое, в крупных броских цветах, сильно пахнущее нафталином крепдешиновое платье с оборками и накладными ватными плечами по моде сороковых, а может быть, и тридцатых еще годов, из-под платья виднелись ее ноги в лакированных туфлях-лодочках на непомерно высоком каблуке, ноги казались совершенно молодыми, стройными, с нежной и гладкой кожей под тонкими шелковыми чулками.
На подоконнике и на столе лежало несколько сиротливых веток свежей темно-зеленой хвои, а в изголовье тети Мани, в высоком фаянсовом кувшине, букет последней в этом году белой махровой сирени.
И вдруг на невысоком, с потускневшей пятнами полировкой буфетике у противоположной стены он увидел тарелку с крупными, сочными, лаково лоснящимися маслинами, а в другой — несколько косточек от съеденных ягод, их было немного, этих косточек, видно, тетя Маня ела маслины бережно, скупо, чтобы растянуть удовольствие и чтобы их хватило подольше.
Кто-то все-таки принес ей маслины, кто-то успел, подумал он и знал, кто это сделал за него.
В пятницу тетю Маню похоронили на старом кладбище в Навтлуге, рядом с рынком и новой станцией метро, все было совершено быстро и споро, и, когда все было кончено, он сказал девочкам-жиличкам, что непременно сам позаботится о памятнике, специально приедет для этого из Москвы, и дал себе слово, что сделает это.
Мальчика на похоронах не было, но он мысленно как бы взял его в свидетели и поручители своего обещания поставить на могиле тети Мани памятник.
Потом он нашел выход с кладбища и окунулся с головой в живой, настырный мир базара, в его крикливую, не помышляющую о смерти и вечности сутолоку.
На бедных — пришло всего несколько соседей — поминках по тете Мане он то и дело встречался глазами со взглядом Норы и понял, что она его с самого начала узнала и все ждет, что он и сам с ней заговорит и все вспомнит.
Он и вспомнил все, сидя напротив нее за уставленным нехитрой закуской поминальным столом.
Грехопадение его — это, наверное, именно так, забытым в наши времена словом и следовало назвать — совершилось в заброшенной гимназической церкви, летом, между девятым и десятым классом, в каникулы. Впрочем, подумал он, как бы защищаясь от чего-то, никакого следа, кроме долго мучившего его чувства собственной нечистоты, оно в нем не оставило.
Узкая и шаткая железная лестница вела на хоры, под самую крышу, где толстый слой пыли и птичьего помета покрывал деревянный рассохшийся настил. На балках кровли гнездились голуби, воздух был до того горяч и плотен, что дышать тут было вмоготу только молодым легким.
Вот сюда-то, на этот прямо-таки пышущий жаром, словно раскаленная духовка, чердак, в его застоявшийся, шуршащий голубиными крылами сумрак, однажды знойным бесконечным летним полднем и привела его Нора.
Намекнула, поманила, и он покорно и тупо, словно налившись свинцом тошнотворно-сладкого дурмана, последовал за нею, ступени прогибались и раскачивались под их, его и Нориными, шагами, и он, поднимаясь следом за ней, только и видел что ее стоптанные, со сбившимися на сторону каблуками босоножки на деревянной подошве.
Все, что произошло затем в удушающем пекле чердака, на дощатом настиле, покрытом мягкой, горячей пылью, затвердевшими сизыми комками голубиного помета и жеваными, докуренными до картонного мундштука „бычками“, этот первый в его жизни урок любви и греха — все это потом долго вспоминалось ему как что-то такое опаляюще, угарно постыдное и порочное, что хотелось все забыть и защититься от неумолимой памяти.
Сидя напротив друг друга за небогатым столом, они с Норой не обменялись ни словом. Но после поминок она вышла проводить его во двор и, лишь остановившись проститься в воротах, спросила:
— Так ты хорошо живешь? Мне говорила тетя Маня, пусть земля ей будет пухом.
А он вдруг, неизвестно с чего, почувствовал смутную, но настоятельно требующую покаяния вину перед нею:
— Нора, я потому ни о чем с тобой так и не поговорил, что…
Но она не дала ему досказать:
— Говорить — зачем?.. Я и так все знаю — где ты и где я…
Он не нашелся, что возразить на это, и она, так и не дождавшись его ответа, усмехнулась:
— Зачем говорить, если ничего не помнишь?..
Двор был плохо освещен, и ему было не видать ее лица, и потому он так и не понял, что она имеет в виду и то ли укоряет его, то ли просто улыбается в темноте.
— Я все помню, но»..
Она опять не дала ему договорить:
— Зачем «но»?. Я просто все помню, хотя тоже — зачем?.. Я все хорошее помню, так мне больше нравится. Хорошего в жизни не много, надо беречь, разве не так?
И на это ему тоже нечего было возразить.
Они оба, не сговариваясь, повернули головы в глубь двора и не столько увидели, сколько угадали в сгущающейся темноте купол бывшей гимназической церкви.
Он вышел из ворот и поднялся Поточной улицей к подножию Мтацминды, но не воспользовался старым фуникулером, пошел пешком по широкой, осыпающейся под ногами каменистой тропе-серпантину, мимо Пантеона — он вспомнил краем памяти надпись на гробнице Грибоедова: «…но для чего тебя пережила любовь моя?..» — и оказался на плоской вершине Давидовой горы. Здесь было гораздо светлее, чем внизу. Он прошелся по пустым уже в этот поздний час аллеям, подошел к парапету и долго глядел вниз, где, сколько хватало глаз, в дробной россыпи желтых, красных, синих и фиолетовых вечерних огней, прорезаемой короткими, искристыми вспышками трамвайных и троллейбусных дуг, тесно раскинулся город.
Мальчик стоял рядом и молчал, опершись локтями на балюстраду и подперев ладонями подбородок. Огни внизу нежно и робко перемигивались, и не хотелось говорить чтобы не нарушить голосом и словом эту покойную, кроткую нежность.
Город стал впятеро больше против того, каким был раньше, раздался, ушел за горизонт, а ведь прежде отсюда, с вершины Мтацминды, было видно, где он кончается, и окрестные деревни тоже были видны. А невысокие, пологие горы, обрамляющие чашу долины, были не зеленые, как сейчас, а песчано-желтые и бурые с тех давних пор, как, по преданию, кто-то из кавказских наместников из страха перед набегами абреков-лезгин велел вырубить вокруг города леса. Впрочем, очень может быть, что это произошло и гораздо раньше, во времена неисчислимых нашествий персов или турок. А теперь деревья вновь выросли, и к прежним краскам, присущим городу, пепельно-сиреневой, палево-охристой, блекло-голубой, прибавилась еще эта малахитовая и изумрудная зелень молодого леса.
Вечер мягко и неспешно гасил краски, они становились еще нежнее и текучее, прозрачное марево стояло над городом, уплотняясь, густея на глазах, и ярче, отчетливее стали огни внизу. Мальчик глядел напряженно и сосредоточенно вниз и направо, в сторону Сололак, и, следуя за взглядом мальчика, он тоже посмотрел туда — там, на Мачабели, жила когда-то Капелька.
Он и мальчик долго молчали, завороженные игрою ночных огней. Потом он все-таки не удержался и спросил:
— Ты помнишь Капельку? — И тут же сообразил, что Капельку мальчик не может помнить, потому что он не знает еще, что она умерла, и она для него все еще жива. И ему вдруг пришло в голову, что в самом его вопросе, в самом знании того, чего мальчику еще знать не дано, было что-то очень похожее на предательство.
Надо было и это как-то мальчику объяснить, все рассказать начистоту, исповедаться и неведомо в чем повиниться, но сделать этого он все равно не смог бы: мальчика уже не было рядом, как и города с его мерцающими внизу огнями, а было в играющих на серо-голубой глади лучах только что вставшего солнца — море.
Это было в предпоследний год войны и через два года после смерти Капельки.
Очень может быть, что к тому времени мальчик успел уже забыть Капельку, в том его возрасте все проходит и забывается быстро и почти безболезненно, на молодом теле раны и ссадины зарубцовываются легко, шрам зарастает новой, молодой кожей, и его уже и не различить, и только через много лет — вот как сейчас — вспоминаешь о нем, и он начинает саднить, напоминая о забытой утрате.
Он поехал тогда в пионерский лагерь в Махинджаури и впервые в жизни увидел море. Он с полнейшей ясностью вспомнил, даже не просто вспомнил, а как бы пережил вновь и с новой, удесятеренной силой и живостью свое тогдашнее потрясение, когда на рассвете — их привезли в лагерь ночью, и моря они не увидели, только слышали из автобуса и потом из палаток его однообразный, немолчно и мерно рокочущий голос, а утром он проснулся первым, еще и солнце не встало, в каком-то необъяснимом лихорадочном возбуждении, в радостной тревоге, — когда он на рассвете вышел из палатки и наугад, на шум прибоя, продравшись сквозь густые заросли высокого, в два его тогдашних роста, бамбука, вышел на крутой берег, сбежал по узкой тропинке вниз и вдруг оказался с ним лицом к лицу. Море лежало бескрайнее, ничем не стесненное, даль была скрыта предрассветной дымкой, и горизонта было не видать, и оттого казалось, что море сливается с небом, что небо над головой — это то же море, только опрокинутое вверх ногами.
Все в мире было морем, мерцающим нежно-серым, бледно-голубым покойным блеском, на котором вспыхивали навстречу встающему солнцу серебряные гребни мелких и плоских волн, и все это напомнило ему бабушкино, из далекого детства, платье из серого, мягко струящегося и матово отблескивающего на сгибах шелка.
Завороженный, он вошел в море по лодыжки, по колено, по грудь, он так бы шел и шел до невидимого горизонта, но тут вдруг оступился на галечном неровном дне, невольно повернулся лицом к берегу — и ахнул: берег был так же прекрасен, как море, очень может быть, что он тоже был морем, потому что так прекрасно могло быть только море. Весь крутой прибрежный склон был объят фиолетово-голубым, сиреневым, лиловым пламенем цветущей гортензии, обрушивающимся водопадом на узкий пляж, и сладковатый, душный предутренний запах цветов мешался с солоноватым, свежим, терпким — моря.
Он стоял рядом с мальчиком по грудь в воде, она снисходительно пошлепывала их сильными мягкими ладонями, обтекала их тела, будто снимая с них форму для отливки будущей бронзовой от загара статуи, легонько их покачивала, и от этого кружилась голова и мир вокруг казался зыбким и неустойчивым.
В глазах мальчика было такое радостно-испуганное выражение, такая восторженная растерянность перед не вмещающимся в нем непостижимым этим и бескрайним миром, такой страх, как бы это все не оказалось вдруг оптическим обманом, летучим миражем или просто-напросто несбыточным сном, приснившимся ему на рассвете, что ему стало жаль мальчика, и еще он позавидовал ему: сколько же еще ему предстоит вот так удивляться, не верить собственным сбывающимся снам, сколько же ему еще глядеть на мироздание вот такими же испуганно и радостно раскрытыми глазами! И сколько совсем иных, куда более суровых испытаний, на которые так щедра жизнь, потребуется, чтобы погасить в них жадный, бескорыстный блеск ожидания и неведения.
Они поплыли, мальчик и он, мерно и неспешно разгребая руками плотную воду, плыть было легко, сейчас они были опять одно и видели все вокруг одними и теми же глазами, но он и тут знал наперед то, чего мальчик знать не мог: что им и на этот раз, и вновь, и опять, а однажды — навсегда предстоит разделиться и расстаться, но даже это не могло иметь никакого значения, потому что жизнь знает свое дело лучше нас.
За год до этого Леван, одноклассник и первый друг, привел его в спортзал «Динамо» в секцию бокса — в ту пору, в последние военные годы и первые послевоенные, когда страна начала понемногу отходить от войны, бокс снова стал властителем мальчишечьих дум. Тем более что в сорок третьей школе учителем физкультуры был предвоенный чемпион в наилегчайшем весе — тогда это называлось «вес мухи» или «вес пера» — Зураб Канделаки, а секцией в «Динамо» руководил тяжеловес Сандро Навасардов, единственный достойный соперник на ринге великого, уж и вовсе почти мифического Николая Королева.
Они пошли записываться в секцию втроем — Леван, он и Гия Арошидзе, но на первой же тренировке Гия повернулся к противнику спиной и стал меленько и трусливо улепетывать от него вдоль канатов ринга, и тот никак не мог его настичь и коснуться огромной, словно палица неандертальца, перчаткой. Навасардов тут же, не раздумывая, отчислил Гию из секции и даже не посмотрел ему вслед, когда тот, посрамленный и глотая слезы стыда, шел к выходу из спортзала.
Однажды физрук пионерлагеря принес на линейку две пары старых боксерских перчаток и поинтересовался, нет ли среди ребят кого-нибудь, кто занимается боксом. Оказалось, что еще один мальчик, заводила, драчун и любимец всего лагеря, тоже ходил в секцию.
Физрук отмерил шагами квадратную площадку у флагштока, весь лагерь выстроился вдоль четырех сторон этого воображаемого ринга, бой был назначен из трех раундов, по две минуты каждый.
Господи, до чего же он тогда казался самому себе один-одинешенек на всем белом свете! Весь лагерь беззастенчиво болел за его противника. Несмотря на оглушительный ор, стоявший вокруг, он слышал, как гулко, вот-вот вырвется из ребер, бьется его сердце и собственное свистящее дыхание, но слезы из глаз были не от боли ударов, не от усталости или страха, а от сознания этого своего полнейшего одиночества, малости и затерянности своей в огромном и пустом чужом мире.
Он не сомневался, что проиграет.
В перерывах между раундами он уходил за живой квадрат зрителей и садился на скамейку перевести дыхание, в то время как вокруг его соперника бурлила и громко выражала свои восторги толпа болельщиков.
Во втором перерыве к нему подошел физрук и спокойно, почти равнодушно сказал:
— По очкам ты впереди. Не мандражь, все нормально.
Но он и не мандражил, потому что наперед знал, что все равно проиграет, как бы ни старался и сколько бы очков ни набрал, потому что есть ли на свете поражение горше и окончательнее одиночества?..
Но, и примирившись с неизбежностью проигрыша, он бился до последнего, с лютым остервенением.
Исход боя должен был решиться не судейством физрука, а решением большинства зрителей. И тут произошло нечто совершенно неожиданное для него, на что он и надеяться-то не смел: все в один голос отдали по справедливости победу не своему кумиру, а ему с великодушием истинных ревнителей честной мужской борьбы.
Может быть, пришло ему в голову, именно тогда-то я и поверил и буду, по всему видать, верить до конца своих дней, что, вопреки всему, справедливость в этом мире все-таки в конце концов торжествует.
Но, и присудив ему победу, все, однако, тут же его покинули и пошли гурьбой утешать побитого, побежденного, но не поверженного в их глазах своего любимца, а о нем, победителе, напрочь забыли.
Он пошел, шатаясь от изнеможения, по тропинке к морю, рухнул на гальку пляжа и долго плакал, бессильный унять слезы, потому что понял на своей шкуре — вот еще один урок, извлеченный на всю жизнь из тех коротких трех раундов боя, — что ни одна твоя победа не стоит платы, которую ты за нее уплатил.
Он сидел на жарко нагретой гальке, море сочувственно и едва слышно плескалось у его ног, а он все никак не мог успокоиться и беспомощно, горько — хоть и прошла с того дня целая жизнь — плакал, когда к нему подошел мальчик, сел рядом на корточки и ничего не сказал, не стал его утешать и золотить пилюлю, просто сидел рядом и молчал, бросая плоские камешки в воду, но и этого его. молчания и того, что он рядом, было довольно, чтобы одиночество притупилось и отступило и мир вокруг вновь вернул себе все неистовство своих красок.
Он спустился один с Мтацминды, была уже ночь, пошел было к себе в гостиницу, но всякий раз, дойдя до поворота к ней, не решался покинуть ночной город. Ему казалось, что, запершись в своем номере, он упустит этой ночью что-то очень важное, что одно может пролить свет на все, чем он страждет, и, не загадывая — куда, снова и снова кружил по безымянным в темноте улочкам и тупичкам, где из распахнутых настежь окон слышались неусыпные голоса — напряженно-контральтовые женские и гортанные, хрипло вибрирующие мужские, там смеялись, переругивались, выясняли отношения и объяснялись чуть выспренно в любви, подсчитывали дневную выручку и маялись старческой бессонницей: город и не думал засыпать.
Он дошел до Оперы и остановился у тумбы с афишами: «Трубадур», «Абессалом и Этери», «Тоска», «Кармен», «Паяцы»… — репертуар не слишком изменился, музыка одна упрямо не поддается переменам.
Гиина тетка работала в опере суфлером. Она-то и пристроила их, его и Гию, подрабатывать в массовке. Дело было нехитрое, а платили по-царски: тридцать рублей за выход Правда, теперь-то, после двух денежных реформ, эти тридцать рублей обернулись бы тридцатью копейками, но тогда, даже при жуткой дороговизне на все, чего нигде, кроме как на черном рынке, было не достать, это были какие-никакие, а деньги, которых им вполне хватало на папиросы «Темп» — рубль штука, семечки, воду с сиропом на сахарине «у Лагидзе» и ежедневное, как восход и заход солнца, кино.
В массовых сценах они с Гией изображали то пейзан, шумно радующихся приезду бродячего цирка в «Паяцах», то восторженных поклонников корриды в «Кармен», то пай-мальчиков в бархатных кафтанчиках, в шелковых чулках и башмаках с серебряными пряжками на роковом балу у Лариных, то чертенят в «Вальпургиевой ночи» и прочее в такое же роде. Желающих пробиться на сцену было пропасть, и если бы не Гиина тетка, им бы, по ее же выражению, никогда не увидеть огней рампы.
Слепили глаза прожектора и софиты, гремела из оркестровой ямы музыка, толстые тенора в туго, вот-вот лопнут, обтягивающих их круглые, как арбузы, животы широких шелковых поясах и с красными от натуги плоскими лицами стояли как вкопанные на авансцене, не сводя глаз с дирижера в видавшем виды, лоснящемся фраке. За спиной дирижера все тонуло в непроглядной тьме огромной, пугающей пещеры зала, только в первом ряду угадывались бледными пятнами лица зрителей, пахло пропыленным сукном кулис, острым, кислым потом балерин кордебалета, сладковатыми запахами грима и вазелина. Как только раздвигался тяжелый темно-зеленый бархат занавеса, руки и ноги сводила судорога оцепенения, они делались как деревянные, обильно стекал по лицу пот, смывая грубо положенный грим и щипля глаза, взрослые артисты миманса больно заталкивали тебя локтями назад, чтобы самим протиснуться поближе к рампе, в антрактах и после конца спектакля в гримуборных было так тесно и душно, что потом, выйдя на улицу, он никак не мог надышаться свежим ночным воздухом. После первого спектакля Гиина тетка, поджидавшая у служебного подъезда, поздравила их почему-то с «боевым крещением». И это-то в те времена, когда боевое крещение означало нечто совсем иное, геройское и связанное непременно с опасностью для жизни! Но возражать тетке они не стали.
Напротив Оперы, у входа в бездонный, казалось, подвальчик и сейчас, далеко за полночь, торговали цветами — бледные в темноте гвоздики, грустно-желтые нарциссы, мерцающие белым восковым свечением каллы.
В переулке в булочную как раз привезли свежий, еще горячий ночной хлеб, хлеб еще дышал жаром печи, и запах его душно растекался по безлюдной улочке. Больше нигде в мире не торгуют хлебом в такой полночный час, подумал он с благодарностью, и, ладонью ощущая живое тепло хлеба, шел по улице, неторопливо отщипывая от него кусок за куском, и над ним, словно невидимый нимб, стояло облачко хлебного духа.
У круглого здания новой Филармонии сидело несколько молодых людей, один из них негромко, словно боясь нарушить тишину, пощипывал струны гитары, у гитары был такой же низкий, мужественный, голос, как и у поющих, они пели тихо, не для других — для себя и так слаженно и стройно, будто долго спевались.
По их голосам и по выводимой ими мелодии, неспешной, сдержанно печальной, — чуть хрипловатый низкий голос ее зачинает, ведет, потом к нему присоединяется второй, оба голоса как бы берутся за руки, помогая друг другу взбираться все выше и выше, их догоняют и братаются с ними третий, четвертый, пятый, а вот, наконец, и последний, самый высокий, почти фистулой, но все равно мужественный и сильный, — по мелодии и голосам он ясно представил себе этих молодых, статных, со смелыми и вместе почтительными глазами, узкобедрых, крепконогих юношей, и вдруг он мысленно увидел их не в модных нынче джинсах, не в пестрых рубашках и батниках в обтяжку, а в ладно, словно влитые, сидящих на них темно-синих форменных пиджаках с разрезом сзади, с серебряными шевронами в виде крылышек вразлет на груди и на левом рукаве, рука в кожаной перчатке, и в ней зажата другая перчатка, узкая синяя пилотка с серебряным «крабом» над самым переносьем сидит чуть набекрень.
Тех уж нет, подумал он с чем-то похожим на запоздалую и благодарную зависть, из них мало кто уцелел…
Как он завидовал им тогда, этим мальчикам из летной спецшколы!.. Не училища, а именно школы, пятнадцати и шестнадцатилетним юнцам, чуть постарше, чем был он сам в те годы. Как он завидовал им, стройным и ловко уверенным в себе, небрежно и чуть надменно помахивающим на ходу кожаной перчаткой, зажатой в левой руке. На школьных вечерах девчонки из старших классов женской школы танцевали только с ними, им одним позволяли провожать себя домой, и цокот первых в их девчачьей жизни каблучков едва поспевал за размашистым, пружинящим шагом завтрашних Чкаловых и Покрышкиных, в темноте светились серебряным огнем шевроны-крылышки, и девичий, чуть понарошку оживленный смех мешался в тени акаций с еще ломающимися басками их кавалеров.
Мало кто из них вернулся оттуда, с Клухорского перевала. Тогда, поздней осенью сорок второго, говорили, что — ни одного, но это скорее всего было преувеличением, легендой. Кто-нибудь да вернулся, кто-нибудь да остался цел, кого-нибудь пуля миновала. Кто-то из них, уцелев тогда и сменив потом синий мундирчик на гражданский, с годами все более мешковато сидящий пиджак, постарев и обрюзгши, доживает свой век под какой-нибудь из этих городских крыш, а может статься, что хоть кто-то из юношей, так слаженно и негромко поющих у Филармонии, как раз сын или даже внук одного из тех, кто уцелел тогда на Клухорском перевале.
А очень может быть, что это было вовсе и не на Клухоре, а где-нибудь еще в горах или предгорьях, но Клухор тогда для Закавказья значил почти то же, что там, на Волге, — Сталинград. Во всяком случае, это слово значило куда больше, чем просто название перевала.
Господи боже мой, вспоминал он с щемящей, светлой печалью, подумать только — война, самые тяжкие ее дни, немцы — в двух шагах, по ту сторону гор, в витрине рядом со штабом Закфронта на карте военных действий красные флажки, что ни день отступают все дальше на восток, к Волге, а на школьных вечерах мы все равно, наперекор всему танцуем под разбитое пианино или под дребезжащий, искажающий до неузнаваемости голоса и мелодию патефон — «Хау ду ю ду, мистер Браун», «Сыграй мне лунную рапсодию…», — играем во «флирт цветов» и пишем записки девочкам, не слишком уверенно кружащимся в вальсе на высоких каблуках материных «лодочек», чудом избежавших барахолки, и влюбляемся, и ревнуем наших ветрениц к спокойно-уверенным в себе, сдержанно-горделивым мальчикам из спецшколы, и строим планы на будущее, далекое и недостижимое, как какое-нибудь созвездие Гончих Псов, и острим, и смеемся до колик собственным шуткам, и жизнь наша только начинается, и нет, не может быть ей никакого конца и предела…
Может быть, поэтому тоже — «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».
Он вспомнил, как плакал в классе на уроке литературы «Сансаныч» Савинов, когда пришло известие об их гибели, — он преподавал словесность и им, в спецшколе. Он приходил на уроки в такой же, как у них, шинели с серебряными крылышками на рукаве и форменными пуговицами, и на околыше его по штатски мятой фуражки был такой же, как у них на пилотках, «краб». Он был еще не дряхлый старик с аккуратным клинышком седой бороды и с глуховатым голосом, и было странно и неловко видеть, как трясутся у него плечи и как он весь будто обмяк и осел, когда плакал навзрыд перед всем классом в день получения известия о гибели своих учеников.
Тогда в городе говорили, что один из дней осени сорок второго, когда все было — на краю, на последней черте, их, старшеклассников спецшколы, выстроили во дворе, дали каждому по винтовке образца 1893 года, системы Мосина и направили форсированным маршем на перевал, в самое пекло, и они не дрогнули и не вернулись оттуда.
Говорили, что многие годы спустя там, на перевале, туристы все еще находят то стреляные гильзы от «трехлинеек», то латунные пуговицы с крылышками вразлет, то потускневший, полуистлевший «краб». Так ли это или не так, но есть правда, которую не нужно перепроверять и искать ей неопровержимых улик и доказательств, потому что это правда не одного только непреложного факта, а нечто гораздо большее, и в это нужно просто верить.
Где-то в неразличимом дальнем конце улицы шли — тишина чутко сберегала все звуки — несколько девушек в модных в то лето туфлях на деревянной платформе, шаги дробно и вразброд отдавались от асфальта: трик-трак, трик-трак, трик-трак…
Этот резво отскакивающий от стен спящих домов и удесятеренный эхом звук — трик-трак, трик-трак — разбудил и поднял со дна памяти вот что: длинная, по четыре в ряд, колонна пленных немцев — уже идет сорок третий год, сорок четвертый, предпоследний, — шагает центром города, и так каждое утро и каждый вечер. Немцы идут из своих казарм где-то на окраине города на стройку в верхнюю его часть, в сторону Коджори.
По утрам он просыпался пораньше, чтобы успеть сбежать вниз к тому времени, когда там будет проходить колонна пленных. Другие колонны вышагивали по другим улицам, и в этот час над городом стоял дробный, сухой стук по асфальту тысяч ног, обутых в самодельные сандалии на деревянном ходу: вырезанная из еловой или сосновой доски подошва, ничем снизу не подбитая, да две, крест-накрест, перепонки, выкроенные из солдатского ремня.
Он стоял на обочине тротуара вместе с прочими любопытствующими и, как и они все, недоверчиво глядел на шагающую не в ногу колонну и был не в состоянии, в голове не укладывалось, поверить в то, что видел: вот они, смертельные враги, еще вчера стоявшие на Волге и на Клухорском перевале, страшные, не знающие пощады и жалости, ненавидимые всеми силами души, и ненависть эта была сполна оплачена тремя долгими годами унижений, отступлений и неистребимой надежды тогда, когда и надеяться-то уже не на что было, — вот они?! Вчерашние победители и покорители — в этих деревянных «трик-траках», в коротких шортах и майках, оставляющих открытыми здоровые, молодые — главное, молодые, совсем юные! — загорелые дочерна на стройке ноги, плечи, руки… Поражало и не верилось тому, что они оказались просто молодыми и нормальными парнями, некоторые даже — мальчишками, одним словом, обыкновенными людьми.
Три года питались его вера и жажда справедливого воздаяния одним этим — ненавистью, гневом и презрением к врагу, и он знал, что имеет на то святое, неотъемлемое право. Мальчик, стоявший с ним рядом, тоже молчал и прятал глаза, не решаясь поверить происходящему.
Колонна прошла, цокот деревянных подошв удалялся, замирал, становился глуше, теперь это опять были всего-навсего деревянные сабо, голоса и смех веселых и беззаботных полуночниц в дальнем конце улицы.
Мальчик все еще стоял рядом. Он обнял его за плечи и подумал, что теперь-то уж непременно должен рассказать ему главное — то, ради чего, собственно, и не вернулись с перевала те мальчики в синих пиджаках с серебряными шевронами или вернулись не все: она все же кончилась, война, мы победили, и был тот майский, оплаченный сполна день, и что мальчик — счастливчик, потому что у него этот день еще впереди.
Он чувствовал ладонью, какие у мальчика еще не окрепшие, хрупкие плечи, как он беззащитен и уязвим, и подумал, сколько еще всякого свалится на эти его плечи и какими они должны будут стать крепкими и нечувствительными, чтобы все вынести и не дрогнуть, потому что, кроме того майского солнечного дня, ему еще предстоит и целая жизнь… Наутро он вызвал такси и, минуя Мцхета и Светицховели, поднялся на Зедазени.
Было воскресенье, какой-то храмовый праздник, и на залитом ярким солнцем и потому казавшемся беспечно веселым кладбище в Мцхета было полно народа, сидели живописными, многофигурными семейными кланами вокруг могил, расстелив на траве скатерти белое на зеленом, источали потоки крупных, до рези в глазах, искр грани стаканов, алело в них густой невинной кровью вино, принесенное в бутылках с высокими горлышками, заткнутыми вылущенными кукурузными початками, золотились продолговатые домашние хлебцы: поминали усопших.
И даже на Зедазени, на головокружительной поднебесной высоте, откуда видна чуть не половина этой богу угодной земли, вокруг древней церквушки, такой величественно малой и одинокой, были люди, сидели кружком за расстеленными скатертями с поминальной трапезой, и он не пожалел, что приехал напоследок именно сюда.
Он вошел в церковку, перед темными, уже неразличимыми ликами теплились две свечи, и в прохладной тишине было слышно, как потрескивают язычки желтого робкого пламени, слегка дрожала и колебалась его собственная, без четких очертаний, тень на стене.
В узкую прорезь двери ломилось и никак не могло вломиться внутрь огромное, во всю землю, сияние солнечного полдня, неслышно прошуршала по плитам пола наружу, к свету и теплу, ящерица.
Он вышел из церкви на свет, далеко внизу лежала зеленая, и бурая, и пепельно-желтая земля, воздух над ней дрожал и струился, и оттого казалось, что и мир внизу — горы, пастбища, виноградники, желтые созревающие поля и недостижимый горизонт — тоже струится и течет неведомо куда, медленно вращаясь вокруг недвижной, как стержень мироздания, Зедазени.
И вот что еще надо растолковать мальчику, думал он, не вмещая в себе неохватный окоем внизу, вовсе не в том дело, не в том суть, что я достиг всего, о чем и мечтать, может быть, не смел тогда, сорок лет назад, это-то ничего не меняет. Как и то, что я стал именно тем, кем мечтал стать в те времена, — достигнутая окончательно, бесповоротно цель каким-то странным, необъяснимым образом перестает быть самой собой, превращается в нечто очень смахивающее на собственную свою противоположность… И пусть, пусть! — очень важно растолковать это мальчику, хоть и по его ли слабым силенкам вековечный этот парадокс?! — пусть меж целью или мечтою и тем, чего ты достигнешь, добившись ее, если не пропасть, то уж по крайней мере выжженное поле, пепелище ошибок и разочарований — все это лишь оборотная сторона правды, ее изнанка, всего лишь малая, хоть и неотвратимая ее половина, а вся правда в том, что надо жить, и жизнь — одна, и ничего прекраснее ее у нас нет, и выбора нам тоже не дано.
А на то, чтобы помнить об этом, на нас и возложено бремя памяти. Он сошел вниз, к дороге, разбудил дремавшего на заднем сиденье таксиста и вернулся в город.
Мальчик больше не появлялся, и он пробродил весь остаток дня без устали по городу, потом вернулся в гостиницу, заказал на утро машину в аэропорт, расплатился за номер и едва лег в постель, как уснул крепким, без сновидений и воспоминаний сном, а на рассвете его разбудил звонок администратора, но он и без него уже проснулся и был бодр и свеж, и не было во рту привычного утреннего ржавого привкуса и вялой, скучной мысли, что вот — надо начинать опять все сначала. Он запаздывал — регистрация в аэропорту уже закончилась, и ему пришлось с чемоданом в руке идти в одиночку через все летное поле к самолету. Воздух над самолетом, прогретый запущенными уже двигателями, струился восходящими потоками, опять, как вчера на Зедазени, горизонт, а вместе с ним и весь мир тоже струился и тек неведомо куда.
Он поднялся последним по трапу, стюардесса тут же задраила дверь, трап убрали, вой двигателей стал надсаднее, и самолет начал выруливать на взлетную полосу, тяжело подрагивая на стыках бетонных плит.
Салон был набит до отказа, и только где-то посредине, вразброс, осталось несколько свободных мест.
Он пристегнул ремни, откинул назад до упора спинку кресла, вытянул ноги, достал свежие газеты, устроился поудобнее. Самолет тяжело прогрохотал колесами по взлетной полосе, незаметно и плавно оторвался от земли и стал набирать высоту.
Сквозь стекло иллюминатора было видно, как внизу тает, испаряясь сиреневым, голубым и лиловым маревом город, вот он лег покорно под крыло, потом, словно раздумав, круто встал на дыбы, и все это для того лишь, чтоб дотянуться до него, пожать ему на прощание руку. Острыми ребристыми конусами взметнулись в прощальном этом взмахе шатры Сиони, Метехи и Кошуэти — и все пропало, ушло на дно души, где ему и храниться вечно, впрок, про черный день.
Но прежде чем, закрыв глаза, проститься со всем и уснуть, он успел услышать, как кто-то легкий, почти бесплотный прошел по ковровой дорожке вдоль салона, откинул соседнее сиденье и, не спросясь, сел рядом.
Тут как тут, мелькнуло у него в голове, но он не стал открывать глаза: кто это?
Повесть: ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Чип умер двенадцати лет, от старости.
Отец купил его Ольге ко дню рождения в тот год, когда она пошла в школу, а когда Чип умер, Ольга перешла на третий курс медицинского.
Однако на самом деле Чип умер в более преклонных летах: отец купил его в зоомагазине на Кузнецком уже достаточно зрелым кенарем, обученным множеству колен и трелей, а ведь это дается только временем. Но в семье все равно возраст Чипа исчисляли с того самого Ольгиного дня рождения, когда он появился в доме.
Впрочем, если смотреть в лицо непреложным фактам, то и семьи к тому времени никакой уже не было, и никакой это был не подарок, а замаливание греха, жалкая попытка улестить собственную совесть.
Дело в том, что за два месяца до этого отец ушел из дома.
Но об этом — ниже.
В доме остались четверо: Ольга, мать, бабушка — мамина мама, и парализованный после инсульта, недвижимый и безгласный дед — бабушкин муж. И хотя в трехкомнатной квартире у Ольги была отдельная, девятиметровая, комната, Чипа поселили у бабушки — она настояла на этом из боязни, что ночами Чип будет мешать девочке спать. На самом же деле бабушке жилось очень тоскливо и одиноко, хотя рядом, на своей длинной и узкой железной кровати, лежал больной дед. Но своей немотой и полнейшей отрешенностью он только усугублял бабушкино одиночество.
Бабушка прожила с дедом целую жизнь и всю жизнь любила его, и теперь она никак не могла привыкнуть к мысли, что этот парализованный, изменившийся до неузнаваемости и, собственно, чужой старик — тот самый человек, с которым она прожила столько нелегких, но, как ей теперь казалось, беспечальных, добрых лет, с которым она играла в молодости в любительских спектаклях в Народном доме Казанской железной дороги, где они оба служили — он инженером-путейцем, она — телеграфисткой, и который, нет еще и года, как, идучи домой по Разгуляю, вдруг грохнулся среди бела дня наземь и пролежал в декабрьском грязном снегу не менее часа, пока его не забрала вызванная кем-то из прохожих «скорая» в Басманную больницу, откуда его через полгода выписали вот этим новым, незнакомым и чужим стариком.
Чип скрашивал бабушкино одиночество в те долгие ночные часы, когда она чувствовала себя никому не нужной.
Со временем бабушке стало казаться, что она научилась понимать или, по крайней мере, по-своему толковать щебетание Чипа в ответ на ее сетования или просто будничные замечания насчет погоды, здоровья или непонимания со стороны дочери и внучки.
Иногда она даже беседовала с Чипом как бы на равных.
Все очень страдали от ухода отца, особенно же он сам. Он ужасно мучился собственной унизительно-неразрешимой виной, а ведь он был добрый и совестливый человек, до бессильных слез любивший дочку и, как это ни странно звучит при сложившихся обстоятельствах, чрезвычайно привязанный к семье и дому. Вполне возможно, что и ушел-то он единственно потому, что не мог изо дня в день прикидываться и лгать себе и всем и этой ложью унижать в собственной душе свою любовь к дочери и семье, в том числе и к бывшей своей жене.
Чувство неотмолимого греха не отпускало его ни на день, ни на час, но, как это ни странно, этот тяжкий душевный груз был вместе с тем непостижимым каким-то образом сладостен и даже, если угодно, мучительно милосерден, ибо, как казалось самому отцу, он-то и оставлял хоть какую-то надежду на прощение или хотя бы на искупление вины.
Пусть не сейчас, не сразу, но когда-нибудь в будущем…
И отец и мать старались всячески уберечь Ольгу от «травмы», от унизительного, как им казалось, понимания того, что произошло в семье. Но она, несмотря на свои семь лет, все понимала, пусть и не умом, а одним сердцем.
Не исключено, что в семь лет это одно и то же — ум и сердце. Потом, правда, это проходит, и ум и сердце начинают жить порознь.
Родителям же от сознания того, что, оберегая дочь от «травмы», они и сами стали выше дрязг, пошлых, оскорбительных сцен и взаимных попреков, — от сознания этого им становилось чуть легче на душе.
Во всяком случае, уже не так важно было, что о них думают и как все это выглядит со стороны.
Итак, Чип поселился у бабушки в комнате. На ночь клетку накрывали старой скатертью и убирали на шкаф. Чип, пошуршав в темноте крыльями, умолкал и до самого утра не подавал голоса.
И лишь дед, у изголовья которого на всю ночь оставляли бледный ночник, не спал и, мыча про себя что-то нечленораздельное для других, но полное глубокого смысла для него самого, косился красным, налитым кровью после инсульта глазом в сторону шкафа, и было ясно, что Чипа он не любит и ревнует к нему бабушку.
Кроме Чипа и бабушки, никто в эту комнату, собственно, и не заходил: матери было некогда — работа, магазины, дом, а потом, когда Ольга пошла в школу, — уроки с нею, ну и, само собою, спасительные, как хватание за последнюю соломинку, разговоры с приятельницами по телефону далеко за полночь; Ольге же и вовсе было не велено сюда ходить: считалось, что своим мычанием и налитым кровью глазом дед может ее напугать. Но Ольга боялась не деда с его красным глазом и неопрятной, колючей седой щетиной на лице, а запаха залежанного тела, спертого воздуха, лекарств, судна, в которое дед ходил, — нечистый этот запах болезни и безнадежности страшил ее больше, чем сам дед.
Днем, а именно на то время, которое Ольга, вернувшись из школы, приготовив уроки и погуляв час-другой во дворе, проводила в своей комнате, бабушка переносила Чипа от себя к ней. В Ольгины обязанности — в этом взрослые видели некий особый педагогический умысел — входило убирать Чипину клетку, насыпать в кормушку свежего конопляного семени и менять в блюдце воду.
Поначалу Чип занимал и даже поражал Ольгу, она подолгу зачарованно следила, как он ест, как чистит клювом перышки или почесывает лапкой шею, как пьет, булькая в горле водой и запрокидывая голову, или же как, склонив ее набок, косит золотисто-шоколадной бусинкой глаза, переводя взгляд с предмета на предмет мелкими, дергающимися рывками, словно заводная игрушка. Либо же слушала, как он, прочистив горло, выводит свои коленца и рулады и, закончив музыкальную фразу или внезапно оборвав ее на неразрешенном гармоническом перепутье, тем же мигом уронит головку набок, словно критически и даже недоверчиво прислушиваясь к отзвуку своего пения в воздухе.
Но через несколько месяцев Чип не то чтобы ей надоел, просто уже ничего нового, неожиданного она в нем больше не обнаруживала, да и уроков задавали все больше, времени стало не хватать не то что на Чипа, но даже на то, чтобы погулять во дворе («девочка совершенно лишена кислорода», — привычно сетовала мать), и в итоге так вышло, что Чип окончательно и безвыездно остался жить в бабушкиной комнате и прожил там всю жизнь и пережил деда, и бабушку, и Ольгины детство и юность.
Двенадцать лет для пернатых это все равно что для человека сто. Девяносто как минимум.
А и деду и бабушке далеко не было девяноста, когда они умерли.
Под старость Чип поседел. Его перья и особенно пух на груди и брюшке стали белесыми, будто поросли печальной плесенью. А в молодости он был до того желт, едко-лимонно желт, что у Ольги, когда она долго на него смотрела, пощипывало глаза, как от запаха дедовых лекарств.
Иногда Ольга задавалась вопросом: что думает Чип по поводу всего, что творится в доме? И — вообще?
Бабушка утверждала, что вполне понимает не только щебетание и пение кенаря, но и, если угодно, даже читает его мысли. Ну, пусть не мысли в общепринятом, человеческом, так сказать, смысле слова, но то, что у Чипа есть свое вполне сложившееся и определенное отношение к миру (невзирая на то, что, казалось бы, этот мир ограничен для него стенами одной лишь комнаты или, более того, даже прутьями клетки), в этом бабушка нисколько не сомневалась.
Как бы там ни было — имел ли Чип свою точку зрения на происходящее или не имел, — но волею обстоятельств или, если угодно, судьбы он стал свидетелем и даже, не побоимся этого слова, участником всех событий, которые имели место в доме и семье на протяжении двенадцати лет.
Целой птичьей жизни.
Впрочем, человеческий век тоже довольно-таки короток.
Когда родилась Ольга, отцу с матерью было по двадцать четыре года, они были однолетки. Подросши и скоро приобщившись к ежевечернему сидению у телевизора, она никак не могла взять в толк, каким это образом ее вполне еще молодые родители помнят и даже лично видели такое невообразимо давнее, совершенно для нее уже историческое событие, как война.
Помнили они конечно же не самую войну, а лишь эвакуацию, бесконечную холодную дорогу в «теплушках», скудную жизнь в скученных и настороженных чужих городах, продуктовые карточки и страх, которого не было страшнее, потерять их в хмурых, серых очередях, и — совсем уже далеко и нечетко, на самом краю детской их памяти, — надсадный вой воздушной тревоги и веселые, игривые белые облачка зенитных разрывов в беззащитно-ясном московском небе первых месяцев войны.
Тем не менее отец и мать почти с гордостью считали себя детьми той войны, и Ольга часто ловила их на том, как, смотря по телевизору фильмы про войну, особенно документальные, или даже просто слушая «Войну народную», или «Этот День Победы», или песню из «Белорусского вокзала», у них увлажняются глаза и светлеют лица, и они, пряча друг от друга эти слезы, сопят и шмыгают носом.
Чип же, когда по телевизору показывали фильмы про войну и раздавались громкие (бабушка с годами стала терять слух, и телевизор приходилось включать на полную громкость) взрывы и стрельба, беспокойно метался по клетке, перелетал с жердочки на жердочку, опрокидывая блюдце с водой, и жалобно, словно взывая о милосердии, пищал. Но стоило накинуть на клетку скатерть, как он тут же успокаивался.
Зато музыкальные фильмы он смотрел или, точнее, слушал с несомненным удовольствием, уронив как бы в сладостной истоме голову набок. Бабушка утверждала, что прослушав музыкальную передачу, Чип тут же пытается воспроизвести ту или иную мелодию. В его пении бабушка отчетливо различала заимствования или вариации на темы различных выдающихся композиторов, от классиков до наших современников.
Уйдя с Казанской железной дороги, бабушка в тридцатые и сороковые годы, в том числе и всю войну, работала на Центральном телеграфе, но в любительских спектаклях уже не участвовала.
Дед объяснял бабушкину измену любительскому театру ее, как он безжалостно выражался, погрязанием в тине быта.
При этом он сознательно или бессознательно упускал из виду, что вслед за бабушкой, и, кстати, очень скоро, он тоже отказался от сценической карьеры, пусть даже и любительской.
В отличие от бабушкиного ухода из мира изящных искусств, свой собственный добровольный отказ он обосновывал соображениями сугубо художественного порядка. Даже, если угодно, философского.
Дело в том, что дед напрочь и даже с каким-то сладострастным остервенением отрицал драматургию Чехова, Андреева, Горького, не говоря уж о тех, кто объявился после них. Для него русский театр начинался и кончался одним Островским.
Бабушка. не без ехидства объясняла этот дедов ригоризм тем, что в пору его увлечения сценой дед имел наибольший и, собственно, единственный успех на Казанской железной дороге в заглавной роли в «Красавце-мужчине» Островского, все же остальные созданные им на подмостках образы проваливались с неизменной последовательностью.
Дед, если верить сохранившимся старым фотографиям — блеклая кофейно-коричневая печать на просторных паспарту из толстого, добротного, какого уже давно не делают, картона с золотым тисненым вензелем фотографического ателье где-нибудь на Кузнецком или, скажем, на Арбате, — на этих старых фотографиях дед и вправду был очень красив и, судя по самоуверенному и даже чуть надменному выражению лица, знал за собой эту красоту и, скрестив на груди руки с наследственно длинными и слабыми пальцами, глядел с карточки чрезвычайно неприступно.
Считалось, что инсульт и, как следствие инсульта, паралич и полная неподвижность (впрочем, вначале не полная — первые два или даже три года дед передвигался самостоятельно по комнате, опираясь на палочку и волоча правую ногу) имели причиной его приверженность к вину.
Действительно, последние лет десять, предшествовавшие инсульту, дед был склонен к этой слабости. Пил он, правда, не водку, а недорогой, цвета химических чернил, портвейн и мадеру, а также еще не исчезнувший из продажи в те годы кагор. Пил и дома, один, сидя у окна и глядя насупленным, недобрым взглядом в тесный двор дома на Разгуляе (тогда вся семья еще жила в одной комнате старой коммунальной квартиры), и в случайных заведениях но пути с работы домой — в «стекляшках» и «деревяшках», которых пруд пруди у «трех вокзалов».
Дед никогда не бывал пьян по-простецки, «по-черному», то есть до потери человеческого образа. Пил он, как сам не без чувства собственного достоинства объяснял, по-старинному, как то и подобает интеллигентному человеку, а именно — был постоянно, с самого утра, особенно как вышел на пенсию, не пьян, но и не трезв. В этом состоянии он становился раздражителен и агрессивен, хотя при всем этом оставался в пределах приличий и даже подчеркнутой вежливости по отношению к домашним, но эта нарочитая, высокомерная благовоспитанность была для них тягостнее, чем откровенное пьяное тиранство.
Впрочем, Чипа в доме тогда еще не было, и по поводу дедова печального порока и едкого характера он не мог иметь сколько-нибудь определенного мнения.
Кстати, в связи с дедушкиной профессией инженера-путейца было бы непозволительно не упомянуть о том, что Чип однажды совершил путешествие по железной дороге. Когда семья получила вот эту новую трехкомнатную квартиру в пятиэтажном панельном доме на Ямском поле и, прежде чем в нее въехать, надо было ее капитально перестроить и отделать, все, в том числе, естественно, парализованный дед и Чип в своей клетке, выехали на лето на дачу в Купавну. В Москве остался один отец, который убил весь свой очередной отпуск, да еще взял месяц за свой счет, на ремонт этой первой в жизни семьи отдельной квартиры с совмещенным санузлом, балконом и мусоропроводом на лестничной клетке.
Впрочем, в тогдашней нервотрепке никто, даже бабушка, не запомнил, да и, честно говоря, не обратил внимания, как перенес Чип путешествие в поезде.
Когда, через сколько-то лет после смерти деда, Ольге впервые разрешили за праздничным столом попробовать красного вина, ей пришло в голову, что оттого-то и был таким красным, налитым кровью дедов неживой глаз, что пил он всю жизнь красное вино. Но из всего вышесказанного вовсе не следует, что деда в семье терпели с трудом или, того хуже, не любили. Или что он, в свою очередь, не любил Чипа. Правда, последнее никогда уже с полной точностью установить не удастся.
Отец относился к Чипу далеко не ровно. С одной стороны, как уже отмечалось, когда он принес его Ольге и увидел Ольгины широко распахнутые от восторга и счастья глаза и чуть потеплевшие, чуть смягчившиеся глаза ее матери — к тому времени его уже, собственно, бывшей жены, — ему поверилось, что рано или поздно вина его и грех будут если и не забыты и прощены, то хоть станут не так безжалостны; с другой же стороны, Чип был как бы постоянным, неумолимым напоминанием об этой его вине и более чем что-либо другое свидетельствовал, что нечего строить по этому поводу прекраснодушных и, если смотреть правде в глаза, совершенно тщетных иллюзий.
Вот почему, приходя к Ольге, отец не мог без душевного смятения и тоски глядеть на Чипа и слышать его фиоритуры.
Считалось, что отец «влип».
Слово это — «влип», как простейшее и все приводящее к общему знаменателю объяснение, пришло в дом извне, а именно, от ближайшей материной подруги Регины.
Чипа Регина не любила из глубоко принципиальных соображений. Она вообще считала, что брать от отца какие бы то ни было подарки — она говорила: «подачки» — предел унижения собственного (имелось в виду — материного) достоинства.
Дело в том, что в свое время Регинин муж тоже «влип», и ее не знающая удержу принципиальность произросла на горькой почве собственного опыта.
Эта недвусмысленная и не оставляющая никакой лазейки формулировка — «влип» — была безупречна тем, что с порога отметала самое предположение о возможности какой бы то ни было любви, страсти, душевного тяготения и прочего в этом роде. Влипнуть можно лишь в историю, точнее, если уж называть вещи своими именами, в дерьмо. Следовательно, все происшедшее можно — и должно! — объяснить лишь нравственной слепотой отца, с одной стороны, а с другой — расчетливой порочностью той, которая его увела от матери.
Таким образом, преступление отца как бы несколько умалялось отсутствием заранее обдуманного злостного намерения, а отсюда просто-таки логически вытекало, что, открыв ему глаза на неприглядную правду, его можно — и должно! — спасти, вырвать из хищных лап совратительницы и вернуть в лоно семьи, но при этом не прощать, никогда и ни при каких обстоятельствах не прощать! — напротив, денно и нощно напоминать ему о его вине, тыкать в нее мордой (еще одна выстраданная всей жизнью формулировка Регины), чтобы весь остаток своих дней он покорно и униженно ее искупал. Похоже, единственно с этой целью отца и следовало вернуть в лоно.
Будет ли лучше и покойнее от этого кому бы то ни было, в том числе хотя бы и самой матери, Регину совершенно не занимало: справедливость должна восторжествовать любыми средствами и любой ценой.
Считалось, что Регина — «цельная натура».
Чип Регину тоже не жаловал и замолкал всякий раз, как она приходила в дом. А она называла его всегда только в третьем лице: «эта птица».
Ольге же Чип, особенно в молодые его годы, напоминал соловья из андерсеновской сказки. Причем не того настоящего, живого, а другого — искусственного. Чип и вправду был почти ненатурально красив: празднично-желтая, блестящая от ежедневных купаний в блюдце с водой грудка, отливающие медью или даже, если угодно, чистейшим золотом спинка и крылья, бледно-коралловые хрупкие лапки с растопыренными перламутровыми коготками. Несомненно, все эти несколько вычурные и даже, может быть, выспренние сравнения тоже пришли из андерсеновской сказки.
Но главное в Чипе были его глаза-бусинки, поразительно осмысленные и пытливые.
А если прибавить к этому его пение, этот сокрытый в его груди нежнейший органчик, способный извлекать такие колоратурные изощрения, такое пленительное бельканто, то невольно приходило в голову, что он весь — произведение высокого вдохновения великого мастера, а не слепой игры природы.
Итак, как уже отмечалось выше, отец «влип».
Когда это случилось, мать, по совету той же Регины, ограничила общение отца с Ольгой одним разом в неделю, по пятницам, от трех до шести.
Но драконовский, как он был задуман, этот распорядок продержался недолго.
Во-первых, именно по пятницам отец нередко бывал занят либо же, наоборот, мать оказывалась как раз в эти часы дома, а весь смысл этого графика заключался именно в том, чтобы они не встречались.
Во-вторых, отец частенько забывал о времени и задерживался, и мать, вернувшись с работы, заставала его, и ей ничего не оставалось, как, демонстративно хлопнув дверью, запереться у себя в комнате.
В-третьих, позже, когда Ольга училась уже в четвертом классе, в шестом, в седьмом, отец занимался с ней математикой, физикой и прочими противопоказанными неокрепшему детскому уму отвлеченными науками и засиживался допоздна.
Однако со временем повседневная, все перемалывающая, все переиначивающая на свой живой лад жизнь стала брать свое, и отец уже чуть ли не через день, и даже без звонка, приходил в прежний свой дом.
А впоследствии случалось подчас и так, что они весь вечер проводили втроем — отец, мать и Ольга, или даже вчетвером — отец, мать, Ольга и бабушка, пили на кухне чай с бабушкиными оладьями с клубничным вареньем и смотрели по телевизору фигурное катание, «Клуб кинопутешествий» или еще что-нибудь такое, от чего нельзя оторваться.
Кстати, забота о корме для Чипа лежала на отце. В зоомагазинах на Кузнецком или на Арбате не всегда бывало в продаже конопляное семя или канареечная смесь, и отцу приходилось ездить на Птичий рынок, к черту на рога.
Аппетит у Чипа был завидный, но более всего он любил мелко-мелко нарезанную свежую морковь. Бабушка где-то прочла, чуть ли не в «Науке и жизни», что именно морковный витамин более всего необходим птицам в неволе. Ольга же терпеть не могла сырой моркови.
Впрочем, Чип не был свободен в выборе. Никто и никогда ему не предлагал, скажем, хрустящий картофель в целлофановом пакетике или, к примеру, изюм в шоколаде.
Конфеты и картофель приносил Ольге отец. Мать, особенно вначале, была этим крайне недовольна: дома девочку кормят простой и здоровой пищей, какую едят все нормальные дети, а отец пичкает ее бог знает чем, и получается, что каждый его приход превращается для Ольги в этакий, видите ли, праздник, а дни с мамой и бабушкой — серые будни!
Отец безропотно с ней соглашался, но хрустящий картофель и изюм или орехи в шоколаде или хоть те же бананы, торт «Прага» и пепси-колу приносить продолжал;
Кстати говоря, однажды, в отсутствие бабушки, отец с Ольгой дали Чипу поклевать орехов в шоколаде. Мигом с ними разделавшись, он долго и скандально требовал еще, и ничего такого с ним не случилось. Ольга не удержалась и проговорилась бабушке, та ужасно переполошилась и, вопреки абсолютной очевидности, утверждала, что наутро у Чипа стул был внушающий опасения.
И хотя Чип не заболел, бабушка никогда не могла простить Ольге и особенно отцу этого случая и даже когда, много времени спустя, Чип сломал левую лапку, она с непреклонной убежденностью связывала этот несчастный случай с теми давними орехами в шоколаде.
Но об этом — ниже.
Дед был интеллигентом, как он сам утверждал, не то в четвертом, не то в пятом колене, а бабушка происходила непосредственно от кустаря-гравера, делавшего до революции и некоторое время спустя памятные надписи на внутренней стороне крышек серебряных и золотых карманных (других, наручных, тогда, собственно, и не было) мужских часов фирмы «Лонжин» и «Павел Бурэ», а также на подстаканниках и реже на столовом серебре.
Сама же бабушка в юности работала в дорогом магазине игрушек и всяческих сувениров, а попросту говоря — всевозможных безделушек, принадлежавшем дальней своей богатой тетке, на бывшей Тверской.
Эта бабушкина тетка приходилась совсем дальней родственницей известному московскому купцу и владельцу фабрики золотой канители К. С. Алексееву. Впрочем, он был более известен под фамилией Станиславский и вошел в отечественную историю как великий реформатор русской — и не только русской — сцены.
Так что, работая в магазине тетки и частенько бывая и даже временами живя в ее доме, бабушка уже в ранней юности не раз и не два, по ее словам, общалась и с самим Константином Сергеевичем, и со многими прочими корифеями тогдашнего властителя дум, а именно — Московского общедоступного художественного театра.
Не отсюда ли проистекало раннее и столь сильное увлечение бабушки, а затем и деда, сценой, пусть даже и любительской?
От дедовых родных и предков — земцев, земских врачей, приват-доцентов и инженеров-изыскателей, прокладывавших в конце прошлого и начале нынешнего века первую Байкало-Амурскую железную дорогу, от их библиотек, собраний гравюр, картин и автографов знаменитых современников, от ореховой, обитой вытертой от времени кожей кабинетной мебели, писем, девичьих стыдливо-потаенных дневников и переписанных от руки в альбомы в темно-вишневых бархатных переплетах стихов Надсона и раннего Блока или Северянина и несложных фортепьянных пьес Скрябина и Стравинского — от всего этого ничего или почти ничего не сохранилось, не дошло до наших дней.
А вот от прадедушки-гравера и его жены, Ольгиной прабабки, дочери незадачливого купца, державшего некогда мелочную торговлю на том же Разгуляе, не говоря уж о бабушкиной тетке, владелице магазина дорогих безделушек на бывшей Тверской, от них, как это ни странно, осталось и пережило две, а то и три русских революции и уж никак не менее двух мировых войн бесчисленное множество разнообразных вещей и вещиц, заполнявших до самой бабушкиной смерти все полки, полочки, висячие шкафчики и высокие, черного, облупившегося местами лака тумбы в ее комнате.
Почему-то история необычайно и даже, если угодно, капризно, чтоб не сказать — слепо, избирательна в смысле того, что она оставляет и чего не оставляет в наследие грядущим поколениям на пепелищах великих переломов и смутных времен.
Бабушкина комната была битком набита фарфоровыми и фаянсовыми фигурками собачек всевозможнейших пород и мастей, жеманных пастушек, маркиз в пудреных париках, Пьеро, Коломбин и печальных Арлекинов, счастливых поселян и поселянок с розовыми щечками и васильковыми глазками, а также целой толпой пай-мальчиков в коротких бархатных штанишках и курточках с белыми отложными воротниками («маленькие лорды Фаунтлерои» — непонятно для Ольги называла их чохом бабушка).
У многих из них исторические потрясения поотшибали носы, тонкие, хрупкие пальчики, а некоторым даже головы, и они так и стояли, беспалые и обезглавленные.
Время не знает ни пощады, ни милосердия.
Кроме изделий массового, как бы мы сейчас сказали, производства из фарфора и фаянса начала века (именно так, кстати, и назывался этот несколько упадочный, чуть лениво-изнеженный эклектический стиль, а точнее — «модерн начала века», хотя, к слову сказать, по-французски тот же стиль называется «fin de siécle» — «конец века», что, по зрелом размышлении, лишний раз убедительно доказывает полнейшую относительность всех общепринятых систем координат и точек отсчета), кроме них на полках и за зеркальным стеклом огромного бабушкиного букового буфета (резьба по дереву: подстреленные утки с бессильно свисающими вниз головами на неестественно длинных шеях, ягдташи, патронташи, голова вепря с ощеренными клыками и прочий охотничий аксессуар) было еще превеликое множество коробочек и шкатулок из сандалового дерева, по сей день пахнущих тепло и нежно то ли самим старым деревом, то ли едва уловимым, тревожащим память запахом далеких, невозвратно канувших времен; зеленые на высоких изящных ножках два бокала старинного венецианского стекла; бронзовые или «под бронзу» настольные лампы в виде обнаженных наяд и Артемид с колчаном со стрелами на боку, на которые вместо былых абажуров с фестончиками и оборками были нахлобучены совершенно неподходящие самодельные колпаки из дешевого ситца; морские раковины с матово-розовым светящимся нутром, в котором, если приложить их к уху, все еще неистовствовал тропический океанский прибой, неизменно напоминавший бабушке Вертинского: «в бананово-лимонном Сингапуре».
А еще в бабушкиной комнате на круглом столе, покрытом с тех пор, как заболел дед, не старинной камчатной скатертью с тяжелой бахромой по краям, а обыкновенной клеенкой в крупную клетку, стояло лубяное лукошко и в нем пасхальные яйца: стеклянные — зеленые и синие, приятно-прохладные даже на вид, празднично расписанные деревянные и просто оставшиеся с прошлогодней и даже позапрошлогодней пасхи обыкновенные крашенки.
Более всех в семье любил эту не такую уж древнюю, с исторической точки зрения, старину не кто иной, как Чип.
Дело в том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпускали полетать по комнате. Самое странное, что эта идея принадлежала именно бабушке. Странно потому, что, скажем, к Ольгиной свободе и самостоятельности бабушка относилась куда более сурово: вплоть до четвертого класса бабушка неукоснительно провожала Ольгу в школу, хотя та находилась в двух шагах от дома и улица была тихая, с односторонним движением; более того, даже во дворе Ольге разрешалось гулять исключительно под бабушкиным присмотром, и именно бабушка с достойным удивления упорством сопротивлялась, к примеру, покупке велосипеда или коньков — зимою во дворе заливали водой баскетбольную площадку и ЖЭК даже нанял, правда за счет родителей, тренера по фигурному катанию.
А вот Чипа бабушка поначалу выпускала почти ежедневно из клетки, предварительно захлопывая наглухо дверь на балкон и все окна и форточки, чтобы он не улизнул на улицу.
Чип с нескрываемым восторгом, мелко и шелковисто шурша на лету лимонно-желтыми крыльями с более светлой, почти белесой изнанкой, совершал облет бабушкиной комнаты.
Вот тут-то и обнаружились его художественные, чтоб не сказать эстетические, пристрастия: он садился исключительно на головы пастушек и фаунтлероев, обожал блестящие пасхальные яйца, отдавал должное экзотическим раковинам и, если буфет оказывался случайно открытым, венецианскому стеклу, но с совершеннейшим пренебрежением относился к предметам современного обихода, даже если это был бюстик Бетховена или фигурка гоголевского Собакевича, изготовленные, к слову сказать, из того же фаянса.
Впрочем, о вкусах не спорят, даже если речь идет о вкусах молодого, мало что успевшего повидать в жизни, да к тому же и воспитанного в неволе кенаря.
Кстати говоря, самое время и место упомянуть без ложного стыда или ханжеского лицемерия, одной нелицеприятной правды ради, что до конца Чиповых дней пол его так и не был установлен с достаточной степенью точности. Утверждение отца, будто высокое искусство пения под силу только кенарям, то есть особям исключительно мужского пола, ни в Большой Советской Энциклопедии, ни у Брокгауза и Ефрона подтверждения не получило, а специальной литературы по орнитологии в доме не было.
Жертвами предрасположенности, или, точнее, пристрастия Чипа к «модерну начала века», или, как уже отмечалось выше, к «fin de siécle», стали два старинных — к счастью, не те, венецианского стекла, а обычных хрустальных — бокала и групповая фарфоровая композиция, изображавшая счастливое пейзанское семейство. Композиция упала на пол, и многодетная семья еще недавно таких беспечных поселян оказалась расчлененной в прямом и фигуральном смысле слова: мать лишилась любимых чад, а все вместе — отдельных частей тела.
Склеить эту фарфоровую идиллию отказались даже в специальной мастерской на Красной Пресне.
В этих хранившихся в бабушкиной комнате совершенно, казалось бы, бесполезных безделках была жива и как бы даже носилась в воздухе чуть ностальгическая, трогательно-минорная память об иных временах, иных людях, об ином и позабытом житье-бытье.
Итак, отец «влип».
Впрочем, об этом несколько ниже.
Итак, Чип летал по бабушкиной комнате.
Забегая вперед, следует сказать, что эти его полеты, эти если угодно, краткие, но «сладкие глотки свободы» пришлось, к сожалению, прекратить, и не по одной, а по двум не зависящим от чьей бы то ни было злой воли причинам: во-первых, по уже упомянутой выше, а именно — разбитые хрустальные бокалы и разъятая на невоссоединимые части семейка фарфоровых поселян. Во-вторых же, Чип сломал ногу.
Сейчас, однако, важно другое.
Важно, как относился к этим полетам Чипа дед.
Когда Чип возник в доме, дед уже был безнадежно прикован к постели. Впрочем, это только так говорится — прикован к постели. Он действительно большую часть времени проводил на своей длинной и узкой кровати, к тому же очень высокой, так что даже дед, при своем довольно-таки внушительном росте, сидя на ней, едва доставал пятками до пола, но раза два или три на дню его высаживали в кресло. Это было дачное кресло из дюралевых гнутых трубок и натянутой на них толстой, шершавой парусины. Отец приделал к ножкам четыре колесика на подшипниках, кресло стало, как выразилась Регина, «мобильным», и деда, кроме всего прочего, возили на нем в туалет.
Когда деда высаживали в кресло и он сидел в нем, скособочившись на правую, больную сторону и вперившись единственным своим невредимым глазом с тоскою и жадностью за окно (хотя никто не мог с уверенностью знать, видит ли он что-нибудь там, за окном, а если и видит, отдает ли себе отчет в том, что видит), — бабушка про него совершенно серьезно говорила: «Дед гуляет».
А Чип, бывало, летал в это время по комнате.
Деда плотно укутывали до самого подбородка одеялом, края которого еще и подтыкали под него с боков, как будто от взмахов Чиповых крыльев в комнате возникал такой сквозняк, что дед мог простудиться.
Поначалу, когда Чип только осваивал бабушкину комнату, в нее набивалась вся семья поглядеть на это зрелище.
Бабушка садилась на дедову кровать, и ее ноги, крошечные, тридцать третьего размера (обувь она себе покупала в мальчиковом отделе «Детского мира», но об этом несколько ниже, к бабушке придется еще не раз и не два возвращаться), совсем по-детски болтались в воздухе.
Мать с Ольгой на коленях устраивалась на стуле у двери.
Отец при полетах Чипа присутствовал не более двух или трех раз, от силы раза четыре, прислонясь спиной к дверному косяку этаким бедным родственником. Едва ли есть нужда напоминать, что отец в это время уже не жил в доме, а лишь приходил навещать Ольгу. Впрочем, не уйди отец из дома, не испытывай он горькую потребность в искуплении своей вины, очень может быть, что Чип и вовсе бы тут не появился.
Но со временем это зрелище, как, впрочем, и всякое другое, всем приелось, мать и Ольга перестали приходить в бабушкину комнату, да и сама бабушка, выпустив Чипа из клетки, теперь-занималась своими делами либо и вовсе уходила на кухню к плите и готовке.
И Чип летал один по бабушкиной комнате.
Впрочем, в комнате оставался — еще дед. Но, судя по поведению Чипа, он деда совершенно не замечал, во всяком случае, вел себя так, будто того можно было не принимать в расчет.
Что же касается деда, то он не сводил с Чипа взгляда. В его глазах, точнее — в единственном его здоровом глазу, темно-карем с зеленоватым отливом, загоралось тревожное, напряженное выражение.
Кстати говоря, так и не было ясно, видит ли он тем, другим, пораженным болезнью и налитым кровью глазом или же обходится одним этим, здоровым.
Как бы там ни было, а дед неотступно следил взглядом за рваным, рывками, полетом Чипа по комнате, и, следуя за ним, дедов здоровый зрачок вращался словно бы на шарнире.
Чип летал как-то. судорожно, чтоб не сказать — истерично, чертя в воздухе острые, колючие зигзаги и неправильные треугольники.
В полете Чипа, в смене направлений, в чередовании скоростей и углов атаки было невозможно усмотреть ни осмысленного побуждения, ни осознанной необходимости, ни, на худой конец, хотя бы простой последовательности причин и следствий.
Чип взлетал под самый потолок, садился там на круглый стеклянный плафон и, озирая с орлиной этой, головокружительной высоты комнату, не находил ничего более подходящего, как чистить клювом перья на груди и на брюшке и почесывать лапкой шею; затем кидался вниз головой, словно бы во все потерявший веру самоубийца с моста, но на полпути к верной гибели менял решение, на едва уловимую долю секунды зависал в воздухе и, изнемогая то ли от ужаса перед столь только что близкой смертельной опасностью, то ли, напротив, от нежданного счастья чудесного спасения, садился на веер ближайшей фарфоровой маркизы либо же на гладко причесанную головку пай-лорда Фаунтлероя, чтобы тут же, торопливо хлопая немощными от долгой жизни в неволе крыльями и изо всех сил отталкиваясь лапками, перелететь еще куда-нибудь.
Именно таким образом нашла свою погибель семья беспечных пейзан, а также два бокала из горного хрусталя русской работы начала века.
Итак, Чип летал.
Чип летал, а дед неотступно, с завистливой тоской следил за ним. Пораженный, налитый кровью дедов глаз был пуст и бесстрастен, как всегда. Но здоровый… Он становился прежним — и даже не просто таким, каким был до паралича, он словно бы вновь становился таким, каким был давным-давно, в бесследно канувшие времена дедовой невозвратной молодости. Такими Ольга видела дедушкины глаза лишь на старых, с золотым вензелем фотографического ателье карточках. Такими были глаза у того чуть надменно-красивого студента в серо-голубой форменной тужурке с полупогончиками, какими бабушка его помнила до последнего своего вздоха — того несравненного исполнителя заглавной роли в «Красавце-мужчине», молодого, полного сил и нетерпеливых упований русского потомственного инженера-путейца, свято хранившего (она сгинула без следа в революцию) переписку своего отца-путейца с Гариным-Михайловским, путейцем же и изыскателем первой транссибирской магистрали.
Но ни бабушка, ни тем более Ольга не видели и не могли увидеть полного надсадной зависти и тоски выражения дедова здорового глаза, жадно следящего за полетом Чипа.
Конечно же никто не может хотя бы с приближенной точностью сказать, о чем думал или что чувствовал дед, следя за полетом Чипа по комнате.
Но то, что дед о чем-то упорно и, можно даже предположить, страстно думал в эти минуты, — несомненно.
Может быть, о том, что вот, жизнь кончена.
И что кончилась она задолго до того, как придет спасительная смерть.
И что это несправедливо и жестоко.
Вполне допустимо также предположить, что, глядя на Чипа, дед думал о свободе. О том, как относительно и неопределенно само понятие свободы, а уж сам человек или, как в данном случае, даже птица совершенно не может отдать себе отчет в степени собственно свободы или несвободы.
Вот Чип (так, вполне вероятно, думал или мог думать дед, или, по крайней мере, вправе предположить мы, что он мог так думать), Чип почти наверняка убежден, что не свободен по той простой причине, что полет его (точнее, даже не самый этот полет, а его, Чипа, изначальная, родовая предназначенность для полета) ограничен узкой и длинной (5,5 м на 2,5 м) и низкой (2 м 60 см) бабушкиной комнатой, в то время как всякой птице по неоспоримому естественному праву принадлежит не более и не менее как все поднебесье. И в силу этого ограничения он, Чип, несвободен.
Деду в детстве, в молодости, да и в вполне зрелые годы тоже мечталось о свободе. И чем дальше назад, к детству, тем неоглядней и горделивей была эта вожделенная степень свободы.
Теперь же максимальная, предельная степень свободы, которой хотел для себя дед, была свобода, наверняка представлявшаяся Чипу предельной и унизительнейшей несвободой: возможность невозбранно двигаться, передвигаться хотя бы в той же тесной бабушкиной комнате. Но тут же дед вспоминал войну, вернее, не самую войну, а свое ранение и госпиталь, госпитальную койку, на которой он лежал после ранения и контузии, и неотступную, ни на секунду не отпускавшую чудовищную боль и этой болью питавшиеся мысли о смерти, как единственном от нее избавлении; тогда он был готов, ни мгновения не колеблясь, только предложи ему кто-нибудь, с радостью и слезами счастья согласиться вот на эту нынешнюю свою несвободу: лежать неподвижно и даже умирать, но — без боли и в своей постели, в своем доме.
И тут ему пришла или, точнее, могла прийти, даже, если угодно, неминуемо должна была прийти, еще одна мысль, самая странная, самая страшная: единственная и наконец беспредельная свобода, которая теперь еще может напоследок улыбнуться ему и о которой он вправе мечтать и призывать ее, была — смерть.
В этой жесточайше трезвой и ясной мысли была такая унизительность и вместе такой вернейший залог того, что тут-то (точнее — там) его уже ничто не устрашит, никто никогда с ним ничего уже поделать не сможет, что дед громко и нетерпеливо застонал.
Чип испугался дедова стона и перелетел с настольной лампы «под бронзу» на лукошко с пасхальными крашенками.
Чип не понимал деда, как, впрочем, и дед не понимал Чипа.
Дед, как уже было упомянуто выше, был потомственным, в четвертом или даже пятом поколении, интеллигентом. Об этом уместно лишний раз напомнить хотя бы с тем, чтобы объяснить склонность деда — и до инсульта, и после — к самоанализу, а также к мучительным и бесплодным поискам ответов на вопросы, на которые ответов заведомо нет.
Он искал, если угодно, своего места под солнцем, точнее — в системе мироздания.
Дед и его отец, точно так же, как, несомненно, и деды и прадеды, иначе они не были бы интеллигентами, тем более русскими интеллигентами, много и напряженно думали о себе и о мироздании.
Они были уверены, что думают о себе в соотношении с божьим миром совершенно бескорыстно. Более того — с полнейшим самоотвержением и готовностью принести себя в жертву во имя общего блага.
Юношей, особенно в студенческие годы, дед мечтал о революции или, вернее, о Революции как о высшей и единственной форме Свободы. Причем, и это извинительно по младости его тогдашних лет, перед его мысленным взором представала не та свобода, которая восторжествует и воцарится в результате революции, а ничем не ограничиваемая, никем не упорядочиваемая свобода самой Революции как трагически-прекрасного всеисторического действа.
Революция ему представлялась именно таким вот всечеловеческим праздничным театральным действом с пламенными монологами вдохновенных народных трибунов, с несчетными и вместе стройными толпами послушных их воле статистов на баррикадах, подсвеченных, словно бы огнями рампы, кровавым отсветом мятежа, со стремительными взлетами прямого как стрела исторического сюжета и завершающим его торжественно-монументальным очищающим катарсисом.
Но революция пришла совсем иною — обыденной, неряшливой, слепо безудержной в своей жажде безотлагательного, жестокого, хоть и справедливого, возмездия. Она жгла родовые, из века в век, гнезда, библиотеки, семейные архивы и девичьи альбомы с переписанными от руки стихами и нотами несложных фортепьянных пьес, пахла гарью, ворванью, прогорклым деревянным маслом и застарелым простолюдинским потом. Но главный для деда в ту пору ее запах был запах страха.
Дед не мог избавиться, не мог перебороть в себе этот нежданный и унизительный страх.
Теперь свобода, единственно желанная и полная, представлялась ему свободой от страха.
Потом вместе с революцией и гражданской войной пришел конец и страху перед ними. Начались долгие — правда, это теперь кажется, что долгие, а на самом деле это были промелькнувшие как один огнедышащий миг два коротких десятилетия от двадцать первого года до сорок первого, — начались годы восстановления, нэпа, пятилеток, индустриализации, коллективизации, стахановских починов, напряженной подготовки огромной страны к неминуемой, как все понимали, войне, и к деду пришли другие страхи — безымянные, неуловимые, от которых ни спрятаться, ни тем более отвести их невозможно.
Впрочем, все эти малые страхи были лишь наследием того большого, неотступного страха, которого дед хлебнул с лихвою в революцию. С ними еще можно было жить.
А тот большой страх — дед этого не мог со временем не понять — был страхом не перед самой революцией, не перед ее неизбежной жестокостью, кровью и возмездием, а страхом перед безжалостной правдой, перед тем, что не оправдались, не осуществились юношеские прекраснодушные упования мальчика из «хорошей семьи».
Это был страх перед самой жизнью, перед разом рухнувшими иллюзиями и книжно-идеальными мечтаниями о синей птице.
Птица же — в данном случае имеется в виду отнюдь не метерлинковская, вспорхнувшая во времена дедова отрочества с подмостков уже упомянутого вскользь Художественного общедоступного театра, а обыкновенный и, по чести говоря, ничем особенно не примечательный кенарь по имени Чип, — пока недвижный дед, следя за нею печальным и жадно-завистливым взглядом своего единственного живого глаза, думал или, по крайней мере, предположительно мог думать свою обращенную вспять думу, в это время, шелковисто хлопоча крыльями, носилась по бабушкиной комнате, перелетая с одного «fin de siécle» на другой.
Дед думал.
Если бы кто-нибудь в это время наблюдал за выражением дедова лица, то несомненно бы заметил, как недобрая и вполне объяснимая обстоятельствами зависть и ревность к Чипу сменяются умиротворением или по меньшей мере примирением с неизбежностью: не он, так хоть Чип свободен и — летает.
Как ни странно это может показаться, но деда излечила от страхов война.
Война, которой, казалось бы, ничего на свете страшнее нет.
Дед, хоть и не воевал на передовой, а всего-навсего служил в железнодорожных войсках за линией фронта, навидался на ней страшного по горло. Впрочем, слово «служил», как и слово «воевал», в смысле участия деда в войне, не самые подходящие, в данном случае надо бы, скорее всего, сказать — «прошел войну» или, может быть, «выполнял свой долг».
Как бы там ни было, все эти четыре года — с июля сорок первого по сентябрь сорок пятого — между тем, как жил дед и что делал, с одной стороны, и с другой, его мыслями и убеждениями, короче говоря, его душой, не было не только, как прежде, пропасти, не только противоречия или хотя бы двусмыслицы, но даже трещины, даже узкой и невидимой глазу трещинки.
Потом, после войны, до самой своей болезни и даже до самой смерти, дед вспоминал об этих четырех страшных, выше всяких человеческих сил годах как о лучшем времени своей жизни.
О времени, когда он был и оставался самим собою до конца и когда, собственно, от него и требовалось лишь одно: чтобы он был и оставался самим собою, но до конца, до самого последнего и, если понадобится, смертного конца.
Так понимал он тогда свой долг, и выполнять этот долг было легко душе.
Четыре года, день за днем, он делал все, чего от него требовала война, делал не по принуждению, не из страха, не ради того, чтобы казаться тем, кем на самом деле он не был, а единственно лишь потому, что ничего другого он не мог, не хотел и не считал нужным делать. И поэтому дед на войне никого и ничего не боялся. Кроме смерти, разумеется, но на то и война, с этим приходилось считаться.
Дед пришел с войны совсем другим человеком, и поначалу бабушку это приводило в недоумение и даже пугало, но со временем она привыкла к нему новому.
Правда, возвратившись с войны и вновь поступив на ту же работу в службе пути Казанской железной дороги, дед вскоре начал пить. Может быть, он стал пить потому, что боялся, как бы не вернулись к нему вновь его былые страхи. Или даже, не исключено, потому, что они и на самом деле вернулись. А жить с слепым страхом в душе дед уже не мог.
Дед проболел почти полных тринадцать лет, последние пять не вставая с постели, а два — так даже не пересаживаясь с кровати в свое кресло на колесиках.
Теперь он ходил под себя, и никакие уговоры, никакие окрики и причитания бабушки не могли тут ничем помочь. Он лишь виновато и вместе сердито косился на нее своим налитым кровью глазом и мычал что-то, полное раздражения и укора.
Когда дед начинал мычать, Чип метался в испуге по клетке, натыкаясь грудью на металлические прутья.
А бабушка плакала едва слышными, мелкими слезами, уткнувшись лицом в кухонное полотенце или передник.
Мать, если это происходило во время приходов отца к Ольге, начинала почему-то на него кричать, будто он был виноват в дедушкиной неизлечимой болезни и в том, что ни у кого уже не было ни сил, ни нервов и неизвестно было, сколько это может еще так продолжаться.
Отец и сам в такие минуты чувствовал себя вдесятеро виноватее, и грех его перед всеми казался ему чернее самого черного предательства.
Когда дед умер, Ольге было двенадцать лет.
Взрослые по-прежнему полагали, что ребенка может оградить от душевных травм хлипкая, из прессованной древесной стружки дверь, и пытались свести Ольгино общение с больным дедом до минимума.
Но и об Ольге — ниже, хотя бы потому, что у нее времени и простора впереди было гораздо больше, чем у кого-либо другого, жизнь ее еще только начиналась.
Чего никак нельзя было сказать о Чипе. Потому что птичий век много короче, и Чип старился день ото дня. С годами на него почти перестали обращать внимание. Кроме бабушки, разумеется.
Чип стал неотъемлемой частью дома, быта, более того — как бы частью обстановки квартиры, вроде мебели, книг, бабушкиного «fin de siécle» или вечно испорченного смесителя в ванной. К нему привыкли и пригляделись, и кроме необходимости купить и не забыть ему насыпать в кормушку конопляного семени или канареечной смеси и налить свежей воды в блюдце, попутно вычистив клетку и сменив в ней бумажную подстилку, — кроме этих простейших забот, никто в доме — опять же кроме одной бабушки — не испытывал по отношению к нему никаких иных обязательств.
К тому же его перестали выпускать из клетки, и он не летал больше по бабушкиной комнате.
Теперь случалось даже так, что бабушка забывала закрыть скатертью его клетку на ночь, и он до утра мучился бессонницей.
Бабушка всегда была душою дома, его, как было принято некогда говорить, добрым гением.
Собственно, бабушка всю жизнь держалась единственно на своей доброте.
В свое время она даже не окончила гимназии и была вынуждена пойти работать в магазин своей дальней богатой родственницы на бывшей Тверской по той простой причине, что надо было кормить себя и помогать многодетной и малоимущей семье.
Короче говоря, человека добрее и душевнее бабушки представить себе было совершенно невозможно. Во всем и во всех она видела одну доброжелательность, она была готова всем без разбора безоговорочно верить, и, вероятно, именно поэтому мало кто отваживался ее обмануть или обвести вокруг пальца. Для этого надо было быть совсем уж отпетым негодяем. А если ее и обманывали или попросту обсчитывали или обижали, то лишь в случае полнейшей очевидности обиды она не решалась ее отрицать, но тут же приводила такие веские объяснения неблаговидным поступкам обидчика, что не только она сама, но и все вокруг склонялись к тому, что его можно и даже следует если и не простить, то, на худой конец, хотя бы понять.
В бабушке просто-напросто сказывалась привычка жить с детства в большой, неимущей семье, привычка к зависимому положению приказчицы в магазине у тетки, к длительному — до самых последних лет, когда она вместе со всеми переехала вот в эту трехкомнатную отдельную, квартиру, — проживанию в коммуналке на Разгуляе. Да и вообще к быту двадцатых, тридцатых и сороковых годов, с его скученностью, скудностью, постоянными перебоями со снабжением. Эти характерные особенности быта тех лет породили в бабушке, как это ни парадоксально, именно доброту, открытость и такое сердоболие, что она могла показаться на сторонний и не очень проницательный взгляд наивной почти до полной дурости, почти юродивой. В том, само собой разумеется, смысле юродивой, какой в это слово вкладывали в давние времена: юродивый — не от мира сего.
Кстати говоря, в наш век люди «не от мира сего», во всяком случае в массе своей, почти совсем повывелись. Как вывелись, к примеру, и многие редкостные звери, птицы и даже отдельные виды никому не причинявших вреда легкомысленных бабочек.
Хотя, с другой стороны, было бы смешно и даже нелепо внести людей не от мира сего в Красную книгу природы.
Выше уже упоминалось о том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпускали полетать по бабушкиной комнате. Со временем он настолько к этому привык и даже обнаглел, что если бабушка хоть на мгновение забывала закрыть дверь, он стрелой — впрочем, это скорее напоминало не стрелу, а маленькую огненно-желтую молнию — вылетал из комнаты и, словно бы потеряв голову от счастья, носился по квартире. Стоило неимоверных усилий водворить его обратно в клетку.
Раза два, летом, Чип вылетал в открытую по недосмотру форточку наружу, во двор, но оба раза дальше балкона мигрировать не отважился, садился там на бельевую веревку и, раскачиваясь на ней словно бы в задумчивости, внимательно и без особого удивления взирал на беспредельность Божьего мира.
Хотя, само собой разумеется, никто не возьмет на себя ответственность строить ни на чем, собственно, не основанные догадки о том, что именно думал, раскачиваясь на бельевой веревке, Чип по поводу беспредельности этого мира.
И тем более никто нс возьмется ответить, движимый какими соображениями или, может статься, даже убеждениями, Чип предпочел распахнувшейся перед ним свободе возвращение в тесную клетку, пусть даже эта клетка и была ему родным домом.
Однажды, выпорхнув из бабушкиной комнаты, Чип метался бешено-желтой шаровой молнией по всей квартире.
Реакция членов семьи на подобные его эскапады была совершенно различной: Ольга от души развлекалась, мать носилась за Чипом с полотенцем в руках, пытаясь загнать его обратно в бабушкину комнату, бабушка же пребывала в паническом страхе, что Чип вылетит в форточку и тут же станет добычей не знающих пощады дворовых кошек.
Дед, забытый всеми на своей длинной и узкой железной кровати, в таких случаях ощущал, как никогда остро и обреченно, свое одиночество, и сердце его переполнялось тоскою по Чипу и — как ни трудно в это поверить, зная нрав деда и его сложные отношения с Чипом, — бессильной любовью к нему, а если посмотреть на это дедово чувство с философской точки зрения, то и ко всему сущему вообще.
Так вот, в тот раз Чип вылетел молнией из бабушкиной комнаты, и опасность состояла в том, что на кухне, по случаю июльской жары, было распахнуто настежь окно.
Чип перелетел с книжных полок на пианино фабрики «Красный Октябрь», расстроенное со времен отцова отступничества от музыки (о чем будет. упомянутого ниже) и давно никуда не годное, и уселся там на куст или, точнее, на букет желтых и рдяных кленовых осенних листьев: мать каждый год, до начала ноябрьских дождей, ездила в недальнее Подмосковье и возвращалась оттуда с ворохом пожелтевших, но еще не окончательно увядших и обесцвеченных кленовых и частично дубовых листьев, подсушивала их не слишком горячим утюгом, и они стояли в большой керамической вазе на пианино, сохраняя свою свежесть — если это слово уместно употребить в отношении сухих осенних листьев — до следующего ноября.
Бабушка называла их «неопалимая купина».
Итак, Чип уселся на «неопалимую купину», не испытывая никаких сожалений о содеянном, ни тем более укоров совести. Но тут под ним неожиданно подломился стебелек, на котором столь хрупко держался сухой лист, и Чип, не успев даже взмахнуть крыльями, провалился внутрь керамической вазы, и было слышно, как он забился там в ужасе в кромешной тьме.
Но еще больше Чипа испугалась бабушка, да и мать с Ольгой тоже. Мать кинулась к пианино и одним махом вытащила из вазы и бросила на пол ветки с листьями — они тут же, сухо и мертво шурша, рассыпались в бронзовый прах — и извлекла из вазы насмерть перепуганного Чипа.
Но лишь после того, как его водворили обратно в клетку, точнее даже на следующий день, обнаружилось, что он сидит на жердочке, вцепившись в нее одной только ланкой и подогнув под себя другую, и в полном укоризны и невысказанного горя молчании.
Странное дело — казалось, лишь сейчас все вдруг увидели и убедились, как полна неукротимой, хоть и неслышной, не бросающейся в глаза решительности бабушка, словно бы вся ее жизнь, особенно после того, как заболел и окончательно слег дед, не была одним сплошным доказательством именно этой ее тихой, как бы смущающейся самой себя энергии.
На следующее же утро бабушка соорудила из картонной коробки из-под обуви временную клетку для Чипа, наделала ножницами аккуратные дырочки, чтобы воздух беспрепятственно в нее проникал, выложила изнутри ватой и, не мешкая, кинулась с притихшим Чипом в коробке в районную ветеринарную лечебницу.
Ольга поехала вместе с ней — ехать надо было довольно далеко, с двумя пересадками, и за всю дорогу бабушка не проронила ни одного слова.
Ветеринар в лечебнице подтвердил, что у Чипа сломана лапка, но мало чем мог помочь.
С тем и возвратились домой
В последующие несколько дней бабушка не отходила от клетки Чипа, утешала и отвлекала его разговорами, и даже дед притих, словно бы и он принимал близко к сердцу Чипову беду. На самом же деле очень возможно, что сосредоточенный на собственной своей беде дед и не заметил беды Чипа.
Через неделю, как велел врач, бабушка осторожно сняла с лапки тугую повязку, но Чип остался навсегда инвалидом. Лапку он никогда уже так и не смог разогнуть, но боли, по-видимому, никакой не чувствовал и не очень горевал по поводу своего увечья.
Если посмотреть на жизнь с философской, точнее — со стоической точки зрения, то все проходит, все забывается на этом свете.
Как бы там ни было, Чип прекрасно научился обходиться одной лапкой. Правда, полеты по бабушкиной комнате на этом прекратились.
Судя по тем же старым фотографиям, бабушка никогда не была так картинно красива, как дед. Но она была на них прелестна — другого слова тут не подыскать, и даже очень уместно, что она отдает некоторой, если угодно, старорежимностью, некой позабытой в наш деловой век несмелой женственностью.
На одном из снимков бабушка была в плоской, чуть набекрень, белой меховой шапочке, и подбородок ее утопал в таком же пушистом воротничке стоечкой. У нее было нежное, милое лицо с маленьким, откровенно простолюдинским носиком, такой же маленький, бантиком, рот, и половину ее лица занимали глаза.
Даже на потерявшей от времени глянец фотографии было видно, какие они у нее лучистые, просто-таки сияющие добротой и тихой радостью. Разве что чуточку испуганные — то ли от робости перед страшноватым ящиком под черной суконной накидкой, то ли от необходимости долго сидеть с застывшей на лице напряженной улыбкой («улыбнитесь, барышня, и не двигайтесь, прошу вас!»), то ли бабушка вообще испытывала что-то вроде легкого испуга или, точнее, пугливого недоумения перед жизнью. Во всяком случае, даже сейчас, пронесенный через всю жизнь, в глазах ее теплился — именно теплился, именно доброе, отрадное тепло излучали ее глаза, — этот легкий испуг — удивление.
Но он ее только красил, даже в старости.
Вероятнее всего, она не боялась жизни, вернее, боялась не жизни, а того, что ее простые и доверчивые представления об этой жизни могут быть обмануты или как-то унижены.
Вообще главная и обезоруживающая всех, кто ее знал, черта была в ней именно терпеливая и даже не требующая взаимности доверчивость. Что не мешало ей меж тем быть не только душою, но и главою семьи, хотя и властолюбивый и вздорный дед никогда этого не замечал и рассмеялся бы в лицо всякому, кто осмелился ему это сказать.
Бабушку было нетрудно представить себе княгиней
Волконской или Трубецкой, едущей за мужем-декабристом в бескрайнюю сибирскую ссылку. Или сестрой милосердия на севастопольских редутах в Крымскую кампанию. Или народоволкой даже, стреляющей в градоначальника-изувера, осмелившегося назвать на «ты» безымянного студента. Впрочем, нет, совершенно невозможно и даже святотатственно представить себе бабушку, поднявшую руку на кого бы то ни было.
Но так же легко и просто бабушку можно было вообразить и кем-нибудь поскромнее, побудничнее. Скажем, сиделкой при неизлечимом больном (каковой она, собственно, и была при дедушке тринадцать лет кряду), пряхой за прялкой в курной избе или попросту терпеливо и молча, с ненавязчивым достоинством стоящей в двадцатые, тридцатые, не говоря уж о военных сороковых годах, в бесконечных очередях за хлебом, за керосином, за ливерной колбасой.
Она и в молодости была хрупкого сложения, тонкокостна, неприметна. А к старости еще больше ссохлась, и уже лет в двенадцать Ольга ее переросла чуть ли не на целую голову. Выше уже было упомянуто о том, что бабушка носила мальчиковую обувь тридцать третьего размера и покупала ее себе в «Детском мире» на Лубянской площади.
Бабушка так и говорила — Лубянская, а не площадь Дзержинского. И вообще называла московские улицы и переулки старыми, до переименования, названиями: Мясницкая, Воздвиженка, Хамовники, Поварская, Пречистенка — в ее устах они звучали как-то необыкновенно уютно и мирно.
В войну — вторую, то есть Отечественную, — бабушка возвращалась после вечерних или ночных сцен на Центральном телеграфе с бывшей Тверской на Разгуляй через весь затемненный огромный город — метро в эти ночные часы уже не работало, чаще всего и трамваи не ходили, либо же их надо было ждать часами, и бабушка шла, бывало, пешком, не боясь ни темноты, ни немецких налетов, ни комендантских патрулей.
Бабушка ничего не боялась. Вернее, боялась, но делать было нечего и надо было идти.
Вот это «надо» — надо — было заложено в бабушке от рождения, и она делала все то, что надо, так же естественно, тихо и без аффектации, как дышала, ела, пила, как любила деда и мать — свою дочку, как любила Ольгу. И как любила отца, своего зятя. На любви бабушки к отцу следует остановиться особо и без отлагательств.
Кстати говоря, именно в тот давний день Ольгиного рождения, когда, как уже было упомянуто, отец принес в дом молодого и полного радужных надежд Чипа, бабушка и сказала ему, глядя на него снизу вверх — отец был вдвое ее выше — своими ставшими к старости еще более лучистыми глазами: «Ты мой первый и единственный зять, и я тебя буду любить всегда, так и знай».
Так вот, когда по укоренившемуся в обиходе выражению материной лучшей подруги Регины, отец «влип» и между ним и матерью происходили долгие, изматывающие (особенно тем, что их приходилось вести вполголоса, чтобы не услышала материн беззащитный плач семилетняя Ольга за стеной) мучительные объяснения, когда дед, все еще тогда понимавший, грозно мычал и угрожающе размахивал здоровой рукой, сидя в своем дачном кресле на колесиках, — одна бабушка не изменила своего отношения к отцу, именно она шла открывать, когда он звонил в дверь, а если он приходил в отсутствие матери, всякий раз — и не с каким-либо дальним умыслом, а так же просто и естественно, как прежде, — предлагала ему поужинать или попить чаю.
Бабушка полюбила отца с первого взгляда еще в тот день, когда мать привела его в их коммунальную квартиру на Разгуляе. А однажды полюбив, бабушка ни за что, никаким насилием воли над сердцем, разлюбить уже не могла.
Это бабушкино незыблемое отношение к отцу после того, как он «влип» и когда затрещали по всем швам семья и дом — тот самый дом, который бабушка своими руками строила по крохе, по зернышку всю свою жизнь, — может быть, и было единственное, что, в известном смысле, выделяет эту печальную историю из тысяч и сотен тысяч таких же печальных и таких же, по правде говоря, будничных историй, а также побудило хрониста приняться за настоящее, выносимое на общий суд, жизнеописание.
Двадцатый век, как убеждает нас личный жизненный опыт и научно обоснованные статистические выкладки, нивелирует не только внешние формы нашего существования, но и самые наши чувства. Мы стали угрожающе похожи друг на друга, и наши несчастья и удачи тоже.
А это уж — дальше некуда.
За научно-технический, а если посмотреть шире — и вообще за всяческий исторический прогресс приходится расплачиваться.
Более того, очень может быть, что эта ординарность или, если угодно, среднеарифметичность форм жизни и социального поведения имеет отношение не только к людям, но в той или иной степени, и к царству пернатых.
Возьмем в качестве примера, а точнее — объекта для наблюдений и умозаключений, хоть того же Чипа.
Вполне допустимо, что ввергнутый судьбою в клетку Чип маялся не только своей бедой, а именно — своей несвободой (правда, довольно, как принято сейчас говорить, комфортной, с птичьей хотя бы точки зрения), но и тем, что эта его беда — слепок, калька с беды тысяч и тысяч канареек, заключенных в такие же клетки, едящих в неволе ту же канареечную смесь, или конопляное семя, или пусть даже мелко нарезанную свежую морковь. И так далее и тому подобное. А что может быть горше и унизительнее, чем сознавать, что ты, как личность, и твоя судьба как две капли воды похожи на тысячи и миллионы тебе подобных ила их судьбу, что нет ни в тебе, ни в твоей планиде ничего из ряда вон выходящего.
Едва ли конечно же можно до конца быть уверенным, что Чип заходил так далеко в своих размышлениях о самом себе, в своих, если уместно это выражение, ламентациях, но нельзя не согласиться с тем, что он вполне имел на это право.
Иной раз, когда он вдруг замирал в неподвижности на жердочке, поджав под себя увечную лапку и глядя с тихой меланхолией за окно, на зеленую листву деревьев, сильно разросшихся за годы его неволи, на небо за ними и выше их, на бегущие по небу облака, казалось, что он сосредоточен именно на подобных умозрительных, окрашенных легкой элегичностью мыслях.
Птичьих конечно же, но — все же.
Он ведь тоже, как та же, к слову, Ольга, рос, из дитяти, желторотого птенца, наивного и доверчиво-восторженного, перешагнул в канареечную свою юность, отрочество, молодость, мужал, становясь с годами зрелым, пожившим на этом свете и достаточно на своем веку навидавшимся немолодым кенарем.
И вот — старость.
Птичий век, как уже отмечалось выше, короче человечьего, и тут едва ли мог служить Чипу утешением тот факт, что и человечий век, если смотреть правде в лицо, очень и очень недолог.
Ах как недолог!
Будучи младше Ольги, по крайней мере, на семь лет, Чип стремительно догнал ее и обогнал: Ольга была еще только на пути от девочки к девушке, еще только расцветала, дожидаясь своего часа, а Чип уже перешагнул порог старости, стал увядать, седеть, лысеть и в один прекрасный день внезапно, как казалось всем вокруг, перестал петь.
Жизнь коротка.
И тем не менее отец «влип».
Он с ходу, очертя голову — как все, и в первую очередь Регина, считали, — влюбился в женщину, у которой уже было два мужа, ребенок — ровесник Ольги и, по слухам из достоверных источников, перепроверенных той же Региной, тьма любовников.
Но отцу это было решительно все равно, он пребывал в том состоянии, когда море по колено. Более того, все приводимые ему в предостережение неоспоримые факты он перетолковывал в пользу своей новой пассии: она была несчастна с двумя мужьями, натерпелась, набедовалась и теперь сумеет вдвойне оценить мирное и покойное счастье, которое обрела наконец в его, отца, лице; что же до несколько избыточного списка романов и прочих летучих увлечений, то и эта сторона ее биографии свидетельствует лишь о том, что она мучительно и упорно искала истинной, одной на всю жизнь любви; наличие сына говорит, в свою очередь, о том, что и с нелюбимым мужем — не то с первым, не то со вторым, отец этого пока не знал с достаточной точностью, — она хотела создать настоящую, надежную семью.
Новая отцова жена была моложе матери и, если смотреть фактам, даже неприятным, в лицо, несколько красивее, свежее и — вот это уж было очевидно даже на непредвзятый взгляд, — гораздо более, чем мать, светская, модная и уверенная в себе женщина.
Впрочем, у нее было много и других, менее бросающихся в глаза, но зато неизмеримо более пригодных для обыкновенной семейной жизни достоинств. Например, она совершенно не умела огорчаться по мелочам, портить себе и другим настроение, а также была абсолютно не приспособлена к постоянному выяснению отношений, чем так часто и столь многие злоупотребляют в семейной жизни.
Отец влип (на сей раз кавычки совершенно ни к чему) пс самые уши.
Он был счастлив.
Новая его жена, кроме данных, собранных и систематизированных Региной и в общем и целом соответствующих реальной действительности, была еще и замечательный музыкант-аккомпаниатор, концертмейстер Московской консерватории.
Ну и, надо полагать, что и в более интимном, сокровенном смысле — что в лексиконе Регины называлось не иначе как грубыми, малопечатными словами (борьба за справедливость и безупречную нравственность не стесняется в выражениях), — и в этом смысле тоже, судя по всему, отец нашел свое счастье.
Оно продолжалось недолго.
Впрочем, все на этом свете, если смотреть с философской точки зрения, конечно.
В том смысле, что всему рано или поздно приходит конец. Но нам всегда кажется, что — рано.
Отцова новая жена не была, как сейчас принято говорить, запрограммирована на длительные чувства и привязанности. Это была не ее вина, ни даже беда, поскольку она сама в этом особой беды не видела. Пока она любила — а вовсе не исключено, что она и отца искренне и даже по-своему глубоко, хоть и непродолжительно, любила, — пока она любила, не было жены более покладистой, нежной и даже верной, если это слово вообще уместно в данном контексте. Такой она была и с первым мужем, и со вторым, и с третьим — то есть с отцом, — такой она останется, надо полагать, до скончания своего века. Хотя он тоже, увы, недолог.
Тем не менее, «влипнув» и переженившись, отец был донельзя счастлив. Если конечно же можно назвать счастливым человека, испытывающего неотступное чувство горькой вины. Человека, у которого при одном взгляде на дочь и на свой прежний дом навертываются на глаза жалкие слезы и он запирается в ванной, чтобы никто этих слез не увидел.
Судя по всему, можно, ибо отец, несмотря ни на что, был несомненно счастлив.
Очень возможно, что в том, что отец влюбился именно в эту женщину, а не в какую-либо другую, сыграло определенную роль как раз то обстоятельство, что она была музыкантша.
Дело в том, что отец и сам когда-то был музыкант. То есть, точнее, музыкантом он так и не стал, но в свое время поступил и три года проучился в Гнесинском на отделении народных инструментов.
Родство душ или хотя бы призваний — это тоже, кроме, разумеется, всего прочего, в подобных ситуациях нельзя сбрасывать со счетов.
На отделение народных инструментов отец поступил потому, что, еще учась в музыкальной школе, бредил возрождением народной музыки на самой, разумеется, современной, обновленной исполнительской основе.
Еще в школе отец пытался, и небезуспешно, сколотить то оркестр балалаечников, то ансамбль рожечников или гудошников, то даже концертную группу исполнителей на гребешках в сопровождении деревянных ложек. Начинания имели шумный успех, но как-то быстро и незаметно даже для самого отца увядали.
В те достославные шестидесятые годы начинаний вообще было хоть отбавляй.
В Гнесинский отец поступил на отделение народных инструментов единственно с этими далеко идущими замыслами.
Он отпустил негустую рыжеватую бородку, рыжеватые же, точнее, пепельные с ржавым отливом волосы до плеч, и в один прекрасный день дошел в своем рвении до того, что попросил бабушку сшить ему косоворотку.
Бабушка не сразу принялась за дело, да и негде было достать выкройку: искусство шитья косовороток к тому времени успело порядком позабыться, как и искусство игры на гребешках или деревянных ложках.
Но вскоре настоятельная необходимость в косоворотке сама собой отпала, поскольку отцу стало не до музыки.
Отца погубил спорт.
Как впоследствии, по словам всей той же Регины, его погубила слепая страсть.
Отец с детства играл в теннис и уже в девятом классе музыкальной школы получил первый разряд. Когда он поступил в Гнесинский, выяснилось, что институту он нужен как теннисист в не меньшей, а очень может быть, и в гораздо большей степени, нежели как музыкант и ревнитель народной музыки.
Беда всех наших художественных учебных заведений заключается в том, что в них спортивная работа сведена практически к нулю. Вот почему отец был счастливой находкой для ректората и комсомольской организации. На карту была поставлена честь и достоинство одного из самых славных музыкальных заведений столицы, и отцу пришлось, образно говоря, сменить скрипичный ключ на теннисную ракетку.
Впоследствии ему не раз приходило в голову, что в том был перст судьбы.
Полной правды ради надо, однако, сказать, что теннис и на самом деле был вторым его призванием или, на худой конец, увлечением и, как показало дальнейшее, не менее сильным, нежели музыка. Это-то его, как уже отмечалось выше, и погубило.
Правда, он стал гордостью института.
В те годы отец играл и за сборную «Буревестника», и за сборную Москвы, а однажды был даже включен кандидатом в студенческую сборную страны, но на Универсиаду так и не поехал по не зависящим от него обстоятельствам.
Раза два он выиграл даже у молодого Томаса Лейуса, а кто такой был в те времена Томас Лейус, объяснять не приходится.
Тренировки, сборы, соревнования съедали без остатка все его время, на музыку и вообще на учебу его не оставалось. Ну и успехи — первая ракетка «Буревестника», третья ракетка Москвы — тоже кружили голову, обещали славу. Не надо сбрасывать наконец со счетов и поездки за границу, в те годы это было особенно заманчиво, как все неизведанное. Впрочем, это и сегодня кого хочешь собьет с толку.
То есть, если воспользоваться ретроспективно Регининой позднейшей формулировкой, отец тогда тоже «влип».
И тоже был совершенно счастлив, вот что примечательно.
Тут невольно приходит на ум несколько риторический вопрос: может быть, мы именно и единственно тогда и бываем счастливы, когда «влипаем»? В широком, разумеется, смысле слова.
Кстати говоря, уходя навсегда из дома, отец, из каких-то одному ему ведомых соображений, впрочем, может быть, и по случайной забывчивости, не взял одну из своих старых ракеток — ту самую, которой он в единственный раз выиграл студенческое первенство страны. Можно предположить, что он оставил ее не столько как память о себе и о главной в своей жизни удаче, сколько потому, что очень хотел, чтобы и Ольга научилась играть в теннис. Ольга не научилась, а вот Чип очень любил во время своих эскапад садиться передохнуть на эту ракетку, висевшую на гвоздике в коридоре. Мелко перебирая лапками, он поднимался и опускался по струнам, которые служили ему чем-то вроде шведской стенки.
Бабушка никогда не забывала, убираясь в квартире, стереть с ракетки пыль.
Ракетка и по сей день висит там же на стене в коридоре, но пыль с нее теперь вытирают редко. Потому что нет уже ни бабушки, ни Чипа, да и все поросло быльем и ракетка ни у кого уже не вызывает никаких воспоминаний. Висит и висит.
Впрочем, все уже упомянутое выше, как и то, чему еще предстоит быть изложенным ниже, есть не что иное, как более или менее последовательное и ни на что не претендующее жизнеописание рядовой, ничем, собственно говоря, не примечательной канарейки, а вовсе не опыт извлечения из простых и неопровержимых фактов каких бы то ни было далеко идущих умозаключений.
В жизни вообще всего интереснее факты. Собственно говоря, она и состоит из одних фактов. Независимо от того, соответствуют ли эти факты нашим представлениям о ней или не соответствуют.
К примеру, смерть деда стала несомненным фактом задолго до того, как он умер.
Дед был обречен, все это знали, как знали и то, что одна только смерть может избавить его от мук полной неподвижности и в последние годы почти растительного существования. Более того, все понимали, что смерть избавит не только его, но и всех остальных, прежде всего бабушку, от не меньших и вполне, в отличие от деда, осознаваемых страданий.
Дед проболел тринадцать лет, и почти столько же прожил в доме Чип.
Все понимали, что смерть в данном случае — благо и избавление, и тем не менее делали все, что было в их силах, чтобы эта смерть наступила как можно позже.
Потому что, кроме страданий, страха смерти и так называемого здравого смысла, есть еще круговая порука всех живых перед лицом смерти. Ведь и с тобою самим может случиться нечто подобное — и неизбежно, неотвратимо случится! — и ты вправе рассчитывать, что близкие будут твою жизнь отстаивать так же упрямо и терпеливо, как ты отстаивал чужую.
Иначе чем объяснить, что старую, никому уже, если смотреть правде в лицо, не нужную птицу — речь идет все о том же Чипе — ни бабушка, ни Ольга, ни даже менее их сентиментальная мать не захотели отдать в живой уголок бывшего Ольгиного детского сада, когда заведующая садом, приятельница матери, предложила это им из самых, кстати говоря, добрых побуждений?
Мать никогда особенно и не занималась Чипом — для нее он навсегда так и остался (хотя, очень может быть, она и самой себе в этом не признавалась) зарубкой, болезненно напоминающей о предательстве отца; Ольга, выросши, им тоже мало занималась; оставалась одна бабушка, а она стала совсем старенькой, и на ее руках был безнадежно больной дед. Да и самому Чипу в живом уголке было бы, очень может быть, куда веселее, там бы он опять почувствовал себя нужным и интересным для других.
И все-таки решено было его не отдавать.
А дед умер.
Когда его обмыли, выбрили, гладко причесали и обрядили в выходной темно-серый, раза четыре за всю его жизнь надеванный костюм и в полосатую рубаху с галстуком, хотя при жизни дед галстуков, во всяком случае после революции, никогда не носил, и он лежал, выпрямившись впервые за все последние тринадцать лет во весь рост на своей длинной и узкой железной кровати, он опять стал похож на старые свои фотографии, на «красавца мужчину» из стародавнего любительского спектакля на Казанской железной дороге.
Дед умер сразу после полуночи, и бабушка до самого утра не сказала об этом матери и Ольге, не стала их будить и всю ночь просидела одна, если не считать Чипа, рядом с мертвым, холодеющим дедом. И лишь под утро, в сером, зыбком свете февральского позднего рассвета, увидела это — а именно, что дед вдруг стал похож на себя прежнего, давнего, и вдруг вспомнила, что та же мысль поразила ее, когда он вернулся с войны, избавившись или, точнее, переборовши, пусть и не навсегда, пусть даже ненадолго, свои былые безымянные страхи.
За тринадцать лет болезнь так исказила дедовы черты, да и в его характере выказала самые тяжелые для окружающих стороны — эгоизм, брюзгливость, раздражительность, он так далеко ушел от всего и всех в свою болезнь, в недвижность и немоту — и от бабушки, как это ни странно, дальше и бесповоротнее, чем от всех остальных, — что все эти последние годы ей было никак не узнать в нем того, прежнего.
Она заботилась о нем, выхаживала, кормила с ложечки, подставляла судно, стирала замаранные простыни, выбиваясь из сил, переворачивала с боку на бок, чтоб у него не образовались пролежни, но делала она все это не для того, прежнего, знакомого и близкого, каким он был для нее всю ее жизнь, а для ничего общего не имеющего с тем, прежним, чужого раздражительного старика, каким он стал.
А умерев, он опять стал похож на самого себя, и бабушка сразу его признала.
Если раньше, выхаживая этого чужого старика, ночами она плакала о том, прежнем, то теперь, в ночь, когда он умер, она плакала о них обоих — и о том, прежнем, и об этом, недвижном и безъязыком, к которому она успела привыкнуть и привязаться за эти тринадцать лет.
Тогда же бабушка поймала себя на мысли — и не удивилась ей, не испугалась, — что и она тоже как бы стала в эту ночь собою прежней, той далекой и, казалось, безвозвратно забытой милой девушкой с Разгуляя с чуть испуганным нежным лицом и вечно удивленными глазами, какими она глядела со старых фотографий на толстых картонных паспарту.
Они опять встретились, бабушка и дед.
Впрочем, она знала, что главная и окончательная, бесповоротная встреча им еще только предстоит.
Она надеялась, что теперь этой встречи ждать уже недолго.
На время дедовых похорон и поминок клетку с Чипом перенесли в Ольгину комнату и на весь день закрыли скатертью. Это случилось с ним впервые — одиночество и темнота так надолго, но Чип перенес их безропотно. Он был уже и сам очень стар и готов ко всему, а может быть, по-своему тоже горевал о деде.
А заодно и о собственной своей старости, а также, возможно, о том, что, по всему видать, уже недолго ждать того часа, когда эта тьма скроет от него навсегда свет дня.
Если, согласно новейшим научным данным, признано с неоспоримой достоверностью, что киты или, скажем, слоны чуют загодя свою смерть и выбрасываются на берег или уходят помирать в одиночестве в чащу леса, почему нельзя предположить, что и малый кенарь способен на то же, пусть даже вопреки тому, что прожил всю жизнь среди людей и понабрался от них много лишнего и ложного.
Тем более что Чип уже изрядно и устал от жизни.
За дедовым гробом шло («шло» — так говорится лишь по привычке, никто не шел, а все поместились, вместе с обитым красной материей и пахнущим сырыми сосновыми дровами гробом, в одном погребальном автобусике) совсем немного народа. А если уж называть вещи своими именами, то и никого, кроме бабушки, матери, Ольги и отца, да еще двух или трех дедовых старых товарищей по Казанской железной дороге или по войне.
Похоронили его на Преображенском кладбище, в ограде среди старых могил: его матери, его сестры и мужа бабушкиной сестры, погибшего в войну.
Был конец февраля, оттепель, под ногами таял и хлопал желтый кладбищенский снег.
Собственно, Ольга плохо знала деда — она родилась через два месяца после того, как деда разбил паралич, и, когда к нему впервые привели годовалую внучку, дед уже почти совсем не разговаривал. Он ласково и как-то виновато глядел на нее и, пытаясь дотянуться своей здоровой рукой и погладить ее по голове, замычал громко и нечленораздельно. Ольга испугалась, заревела в голос, потом долго не могли ее успокоить.
Со временем страх перед больным дедом, перед его налитым кровью глазом и грозным мычанием прошел, но осталась память об испуге при первой встрече с ним.
Выросши, Ольга испытывала по отношению к деду не любовь, а чуть опасливую, на расстоянии, жалость. И жалость скорее даже не к нему, а к бабушке — за то, что ей приходится из последних сил ухаживать и ублажать деда, выносить за ним судно, выслушивать его нетерпеливое мычание.
Бабушка была цепью прикована к больному деду, никуда не могла выйти, разве что в соседнюю молочную или булочную, и даже вечерами, когда она, покормив и напоив его чаем из горлышка чайника, уходила на кухню смотреть телевизор, дед и тут не давал ей покоя, теребил безо всякой надобности, а скорее всего, из какой-то бессильной мести всем здоровым за свою собственную хворь и беспомощность.
Ольга жалела конечно же и деда, но бабушку больше, а виною всех бабушкиных бед был дед и его болезнь.
Ей запали надолго в память хмурые, тесные и скользкие от разъезжающегося под ногами февральского снега кладбищенские аллеи, сырое и низкое небо над головой, голые,
мокрые стволы берез. Но более всего ее поразила бесчисленность могил — могильных плит, крестов и запущенных, с отбитыми углами и нечеткими, стершимися надписями памятников. А еще печальнее и страшнее показались ей набрякшие от сырости искусственные венки на свежих могилах. Крашеная стружка слиняла, лужицы под венками тускло и маслянисто отсвечивали всеми цветами радуги.
У отца, который бросился помогать могильщикам, разумеется, не управившимся к условленному часу с рытьем ямы, ботинки были в ржавой глине, и было слышно, как при каждом шаге чавкает в них вода.
Пришлось довольно долго дожидаться, стоя куцей, продрогшей толпой вокруг длинной и узкой, как дедова железная кровать, на которой он пролежал недвижно тринадцать лет и на которой умер, тележки на колесиках с дедушкиным гробом. Гроб закрыли крышкой — с неба сыпал меленький, промозглый февральский дождь со снегом.
Но потом все произошло так быстро и споро, что Ольга ничего и не успела запомнить: могилу выкопали, заколотили гвоздями крышку, опустили на длинных осклизлых веревках гроб в яму, засыпали мокрой, слипшейся землей.
Комья тяжелой глины гулко ударялись о крышку гроба, и казалось, что гроб пуст.
Потом, дома уже, вернувшись с кладбища и моя в ванной руки, Ольга долго принюхивалась к той, которой бросила ком глины в могилу, и ей чудилось, что рука крепко и теперь уже навсегда пропахла дедушкиными лекарствами, нечистыми простынями, стоялым воздухом комнаты, в которой он болел и умер, и еще новым, страшным запахом мокрой глины, запахом разверстого, безобразного в своей бесстыдной наготе чрева земли.
На следующее утро, еще не успев даже толком проснуться и припомнить вчерашнее, она первым делом поднесла руку к носу и с облегчением уверилась, что та ничем не пахнет.
Но самый этот запах кладбища, могилы запомнился ей глубоко, и когда она думала о деде, прежде всего приходил на память именно этот запах нагло-жадной, ненасытной земли.
А Чип надолго пережил деда, и нет никакой уверенности в том, вспоминал ли он его.
Так уж сложилась дедова жизнь, что — кроме, разумеется, близких — его смерть мало кем была замечена.
Надо признать, что это было несправедливо.
Дед прожил долгую и не такую уж бесполезную жизнь. К тому же, несмотря и даже вопреки своим былым страхам, прожил ее честно и достойно. Он был хороший инженер, и его ценили на Казанской железной дороге, в свое время он увлекался изобретательством — тогда это называли упорно рационализаторством — и сконструировал не один довольно-таки оригинальный и полезный для дела механизм или даже, если угодно, агрегат, у него были авторские патенты, бабушка их хранила вместе со старыми фотографиями и письмами в дальних глубинах шкафа, где вообще доживали свой век многие совершенно бесполезные вещи.
Дед воевал, и, опять же, честно и достойно. И если на войне ему тоже бывало страшно, то он старался преодолеть или хотя бы не выказывать свой страх. И пусть у него Не было боевых орденов — одни, да к тому же не самые почетные медали, — пусть дедовы изобретения не были лампочкой накаливания Эдисона — Яблочкова, ни даже тормозом Вестингауза — дед прожил свою жизнь как подобало.
Как подобало интеллигентному человеку, сказал бы он сам.
Но оказывается, этого мало для того, чтобы за твоим гробом шла притихшая толпа опечаленных друзей или хотя бы сослуживцев.
Как это ни покажется странно, но, если исключить войну, которую он, не колеблясь, считал самым высоким делом и событием всей своей жизни, — как это ни покажется даже сомнительно со стороны, но, перебирая в памяти свою жизнь и самого себя, дед прежде всего вспоминал любительские спектакли в Народном доме Казанской железной дороги, «Красавца-мужчину» (фрак, белый пластрон рубашки, сверкающий цилиндр и трость с набалдашником из пожелтелой слоновой кости в виде львиной головы) и бабушку — такой, как на той давней фотографии: удивленное, чуть испуганное юное лицо, лучистые, в пол-лица, глаза, из-под меховой, несколько набекрень, шапочки выбивается прядь мягких волос.
И при деде, и после его смерти на всех семейных торжествах — днях рождения Ольги, матери, на Новый год, рождество и пасху — бабушка неизменно пила (пила — опять же не точное слово: она отхлебывала из маленькой, водочной, рюмки один глоток, и тут же у нее начинала кружиться голова, лицо ее краснело, и она на глазах молодела и смущалась этой своей невесть откуда взявшейся молодости и молодого блеска глаз) — бабушка всегда пила один кагор, а когда он окончательно исчез из продажи, то покупалось обыкновенное красное вино, втайне от бабушки в него добавляли сахара и говорили ей, что это кагор.
Дед, когда начал пить, тоже пил один кагор. Впрочем, он называл кагором и дешевый липкий портвейн.
Дед никогда не знал другой женщины, кроме бабушки. Даже на войне.
При этом, по ее же словам, он всю жизнь тиранил ее вечной раздражительностью, мелким самодурством. Бабушка и в глаза ему говорила, что характер у него — не сахар.
Но она его любила и такого. Других мужчин, кроме него, для нее просто не существовало на свете. В самом прямом смысле слова: она их не замечала, не видела. Это были просто прохожие, знакомые, сослуживцы, и только.
Мир меняется.
И Чип менялся. Он седел, особенно грудка и брюшко, голова его заметно облысела, пушок едва прикрывал желтоватую, пергаментную кожу. Впрочем, может быть, это была не просто старость, а какая-нибудь болезнь.
Вскоре после того, как умер дед, в новой отцовой семье начало происходить неладное. Но сам отец об этом узнал, как водится, последним.
Первой принесла на хвосте эту новость конечно же Регина. Какими-то неведомыми путями она все и обо всех узнавала раньше их самих.
Отец и прежде считал, что жизнь вообще ему не удалась.
Когда его включили в сборную и он выиграл личное первенство страны среди студентов, стало ясно, что надо выбрать что-нибудь одно: музыку или теннис.
На самом же деле выбор был уже сделан: за время тренировок и соревнований отец совершенно запустил занятия, отстал по всем дисциплинам, особенно по специальности, но главное и, как вскоре выяснилось, необратимое заключалось в том, что в нем самом угас интерес к обновлению народной музыки. Он и не заметил, как это произошло. А если отмечал про себя что-нибудь в этом роде, тут же приходила успокоительная мысль: вот пройдут очередные состязания, и он навсегда вернется к музыке, к серьезному делу. Но, выиграв, скажем, межвузовские соревнования, он тут же, естественно, начинал готовиться к городским, за городскими неумолимо надвигались республиканские, всесоюзные, Универсиада… И хотя он выше первого места на студенческом первенстве, да и то один-единственный раз, не поднимался, а только входил в первую десятку, в первую пятерку, но и этого было достаточно, чтобы тешить свое честолюбие и иметь как бы внутреннее право отодвигать, откладывать музыку на завтра, на послезавтра, на потом.
Очень, кстати сказать, распространенный случай.
Конечно же это говорит в первую очередь о том, что отец был человек слабый и безвольный.
Однако, если взглянуть непредвзято на всю остальную его жизнь, в частности на его отношение к матери после того, как он с ней расстался, к Ольге, бабушке и даже к деду и Чипу, то факты говорят об обратном. Во всяком случае, так полагал он сам.
Регина же утверждала, что отец всегда и во всем выбирал путь наименьшего сопротивления.
Кстати говоря, в этом смысле судьба Чипа тоже дает пищу для размышлений. Выше уже упоминалось о том, как, выскользнув из бабушкиной комнаты на кухню, а оттуда через открытую форточку во двор и доставив тем бездну беспокойств и тревог всей семье, он через некоторое время вернулся оттуда как ни в чем не бывало. Не говорит ли это, хотя бы на уровне гипотезы, о том, что, вернувшись в клетку с кормушкой и блюдцем со свежей водой, Чип тоже выбрал в жизни путь наименьшего сопротивления, а именно, предпочел неизвестности и превратностям свободы сытость и безопасность несвободы?
Впрочем, перед отцом этот вопрос стоял не так односложно: или — или.
Ведь отец даже в пору самых главных своих теннисных успехов верил, что музыка никуда от него не уйдет и он рано или поздно к ней вернется.
К тому же это зависело не от него одного.
Дело в том, что, когда от отца уже нельзя было ждать новых блистательных достижений, вдруг выяснилось, что в институте у него сплошные «хвосты», а профессор по специальности сменился, пришел другой, очень далекий от симпатий к какому бы то ни было виду спорта, они с отцом не нашли общего языка, да и без этого сдать все «хвосты» и наверстать упущенное было очень и очень непросто, чтоб не сказать — невозможно. Отец, застигнутый врасплох и оскорбленный в лучших своих чувствах новым, далеким от прежнего попустительства, отношением к себе ректора та и общественных организаций, еще недавно не чаявших в нем души, ушел из института недоучившись.
Впоследствии он утверждал, что даже хлопнул на прощание дверью.
Но, вопреки его ожиданиям, никто его не отговаривал от этого шага, не умолял остаться.
К тому же родилась уже Ольга, и надо было кормить семью, а на студенческую стипендию не очень-то разгуляешься.
У отца по сей день сохранились нотные тетрадки с его собственными юношескими переложениями мало известных народных мелодий. Но он давно в них уже не заглядывает, они лежат в старом драном портфеле, закинутом за шкаф, вместе с совершенно не нужными уже, постылыми грамотами и медалями, завоеванными на различных спортивных соревнованиях, который, кстати говоря, он даже забыл взять с собой, когда уходил из семьи.
Институт он бросил сам, а из большого спорта все равно не миновать было уйти: возраст. Да и техника мирового тенниса ушла далеко вперед.
Пришлось навсегда расстаться с мечтами — впрочем, отец не очень обольщался насчет их достижимости и в более молодые и бесшабашные времена, — об Уимблдоне и Кубке Дэвиса.
Однако он был мастер спорта, известный в недалеком прошлом теннисист, и его охотно взяли в «Динамо» тренером по работе с детьми. У него, кстати говоря, вообще была педагогическая жилка, и дело пошло неплохо. Кроме того, он стал давать частные уроки на динамовских кортах на Петровке.
Росла Ольга, ее надо было вывозить летом на дачу, семья получила новую трехкомнатную квартиру на Ямском Поле, деньги были нужны.
Ну и так далее и тому подобное.
Последним отзвуком юности и юношеских упований было то, что, когда по радиоточке на кухне передавали музыку — настоящую, серьезную музыку, — отец молча выключал репродуктор. В семье к этому привыкли и не спорили с ним. Хотя бабушка очень любила слушать радио, когда возилась у плиты. Но с годами она стала понемножку глохнуть, так что это уже не имело такого значения.
Тем более что репродуктор бабушке заменял Чип. Правда, он тоже со временем постарел и перестал петь. И хотя это несомненно совершенно случайное и ни о чем не свидетельствующее, с материалистической хотя бы точки зрения на мир, совпадение — Чип перестал петь накануне дедовой смерти.
А вскоре после смерти и похорон деда начались нелады в новой семье отца.
Ольге тогда шел шестнадцатый год, Чипу, соответственно, девятый или, очень может быть, — о чем уже упоминалось вскользь — даже десятый.
Условно можно считать, что, по человеческим масштабам, Чип уже перевалил за пенсионный возраст.
Да и отцу тогда было уже за сорок. Тоже немало, особенно для спортсмена, пусть даже и бывшего. Потому что про отца говорили (да и он сам про себя) не «бывший музыкант», а «бывший спортсмен».
Хотя на самом деле он был отнюдь не «бывший», а еще вполне молодой и здоровый человек, правда, начавший грузнеть и седеть — седеть он начал рано, с висков. Дела его в детской спортивной школе шли как нельзя лучше, дети его любили, он умел с ними разговаривать совершенно на равных. На Петровке тоже от жаждущих приобщиться к теннису не было отбоя — этот спорт стал не просто модой, но и чем-то вроде отличительного знака принадлежности к престижной части общества, то есть даже не самый теннис, а, скорее, спортивная одежда и обувь фирмы «Адидас» и ракетки с эмблемой «Данлопп», «Вилсон» или, на худой конец, «Доннэй».
Все, казалось бы, шло прекрасно, и все разом рухнуло.
Отцова новая жена была красива, а быть красивой совсем не так просто, как может показаться со стороны: но приходится ломать себе голову, что делать с собственной красотой, а также над тем, что годы идут, и точнее — уходят, как вода в песок.
К тому же отцова жена была до чрезвычайности жизнелюбива, а это тоже недешево обходится: хочется, чтобы твоя жизнь была наполнена радостями и удачами, чтобы она вообще была — одна сплошная радость и удача.
А это уже не только непросто, но и небезопасно.
Отцова новая жена задумывалась над жизнью именно в этом смысле: ей ужасно хотелось (и она была совершенно уверена в том, что имеет неоспоримое на это право) беспрестанного праздника, праздника изо дня в день, вечной легкости и беспечального, не слишком обременительного для души счастья.
Как ни странно, все это ей прямо-таки шло в руку.
В том числе и отец.
Он был добрый, покладистый, легкий человек и любил ее нежно и даже пылко — случай не такой уж частый в наш, мягко говоря, психастенический век.
Во-вторых, она была хорошим аккомпаниатором и часто ездила в зарубежные поездки, а значит, проблема модных «шмоток», как она сама выражалась, очень и очень немаловажная для женщин вообще, а для таких, как отцова жена, особенно, разрешалась довольно-таки просто.
Ну и так далее, и тому подобное.
Но и ей шло уже к сорока и она все чаще задумывалась: что дальше?
Особенно неотступно одолевали ее подобные мысли, когда она придирчиво и с растущей тревогой рассматривала себя, обнаженную, во весь рост, в зеркале или когда с жадным любопытством пролистывала модные журналы «Вог» или «Эль».
Отец в таких случаях только посмеивался и в благодушном неведении надвигающейся катастрофы говорил о своей новой жене, что она «слишком женщина».
Что там ни говори, а с годами — а, как уже отмечалось несколько выше, дело шло к критическому для современной женщины возрасту — все в ее жизни (и в ее жизни с отцом, естественно, тоже) ей наскучило, приелось, отдавало будничной преснятиной и, главное, не сулило никаких сногсшибательных или хотя бы неожиданных перемен в обозримом будущем.
Как бы там ни было, но слепой случай распорядился так, что аккомпаниатор некоего известного французского скрипача — имя и фамилия, само собой, не играют особой роли — во время московских гастролей серьезно заболел, и отцову новую жену вызвали в Госконцерт и в ультимативной форме предложили аккомпанировать приезжей знаменитости.
На что она — имеется в виду отцова жена — дала, разумеется, свое согласие.
Она была очень способной и опытной аккомпаниаторшей, и на нее можно было положиться.
Знаменитость же оказалась сравнительно молодым (между тридцатью и сорока годами), милым и обаятельно-доступным человеком, лауреатом конкурсов имени Чайковского и имени Лонге (соответственно первая и третья премии), чем-то напоминающим бывшего спортсмена, даже более того — бывшего теннисиста (что можно, с известным допуском, считать не просто случайным совпадением, а если угодно, злой иронией судьбы), с такими же седыми висками и загорелым даже среди зимы лицом, как у отца.
То ли это роковое обстоятельство, введшее, может быть, новую отцову жену в заблуждение, или, что тоже вполне вероятно, показавшееся ей и вправду указующим перстом судьбы, то ли, если не побояться смотреть правде в лицо и называть вещи своими именами, тот несомненный факт, что француз был гораздо увереннее в себе и, само собой, жовиальнее отца, но она влюбилась в него без памяти и к тому же с первого взгляда, точнее — с первого концерта в Малом зале Московской консерватории.
Не в оправдание ей, а все той же нелицеприятной правды ради, следует со всей определенностью упомянуть, что отцова новая жена была человеком увлекающимся, легким, если уместно так выразиться, на, подъем, но ни в коем случае — расчетливым или тем более корыстным.
Вероятнее всего, она просто-напросто, ничего, по своему обыкновению, не загадывая наперед, влюбилась в этого француза так же без оглядки и махнув на все рукой, как в свое время влюблялась в предыдущих своих мужей, в том числе, само собой, и в отца.
Тем более что это новое ее увлечение было несомненно подготовлено и предвосхищено тем самым фатальным в ее возрасте вопросом: что дальше? К тому же тут сказалась в очередной раз ее несколько, как уже отмечалось выше, избыточная любвеобильность.
Все решилось в течение каких-нибудь трех гастрольных недель, предусмотренных контрактом скрипача с Госконцертом.
Первым делом застигнутый врасплох, растерянный и раздавленный отец прибежал, естественно, к матери.
Мать при первых же лихорадочных словах отца не удержалась от характерного для любой женщины в подобной ситуации восклицания: «Я так и знала». Впрочем, может быть, она воскликнула и иначе: «этого следовало ожидать», или «так тебе и надо», либо же «за все рано или поздно приходится расплачиваться» — с абсолютной точностью никто этого знать не может, так как разговор они вели с глазу на глаз, запершись в материной комнате.
Правда, ее комната граничила с комнатами Ольги и бабушки, перегородки были тонкие, панельные, и Ольга с бабушкой не могли не слышать того, о чем говорили отец с матерью.
Тем более что отец был возбужден, чтоб не сказать — доведен до полного отчаяния, и не соразмерял своего голоса с необходимостью не быть услышанным дочерью и бывшей тещей.
Собственно, он орал во все горло, мало стесняясь в выражениях.
Потом он побежал опрометью, как это с ним случалось и тогда, когда они расходились с матерью, в ванную и долго там рыдал, хлюпая носом и громко сморкаясь.
Но самое удивительное и не объяснимое общепринятой логикой заключается в том, что не успел он выскочить за дверь и укрыться в ванной, как и мать и бабушка — Ольге это было отлично слышно благодаря безупречной звукопроницаемости московских новостроек второй и третьей категории — тоже зарыдали.
Причем, а это уж и вовсе не укладывается ни в какие рамки, обе — от жалости к отцу.
Потом, когда он пришел несколько в себя — на это ему потребовался не год и не два, — отец уже был в состоянии посмеиваться над собой и над этой историей с французом. Но это был, как принято в таких случаях говорить, смех сквозь слезы.
Ольга как раз тогда проходила в школе Гоголя.
Собственно говоря, это выражение — «смех сквозь слезы» — вполне применимо и к Чипу. К его пению в неволе, например. Или к тому, каким смешным казался он сам со стороны — той же Ольге хотя бы, — когда метался из угла в угол по клетке и бился головой и грудью о прутья, или же когда, выпущенный из клетки, судорожно и нелепо натыкаясь на стены, стекла окон, люстры и прочее, летал по бабушкиной комнате — а ведь это он, собственно говоря, рвался на волю, на свободу.
Со стороны это, должно быть, действительно выглядит смешно. Или даже жалко.
Что же до отца, то все дело в том, что он очень любил свою новую — теперь уже, увы, бывшую — жену. И сам того, вероятно, не осознавая, долго не мог поверить, что и она, эта красивая, хрупкая, обольстительная женщина («блестящая женщина», как сказали бы когда-то), любит его тоже. Честно говоря, он ждал с замиранием сердца — особенно в первые годы, потому что со временем он свыкся со своим счастьем и даже уверовал в его незыблемость, — ждал, что все вот-вот кончится, рассеется, как радужный туман, как мираж какой-нибудь.
Потому что он сам, тщательно это утаивая даже от самого себя, считал себя неудачником.
Со стороны он казался, наверное, именно неудачником: начав с музыки, с мечты о служении, так сказать, изящным искусствам, он кончил тем, что учит неловких детишек, из которых едва ли хоть один выйдет в чемпионы, теннису, который и ему самому изрядно осточертел в заштатной ДЮСШ, и дает за деньги, очень и очень к тому же небольшие, «левые» уроки поспешающим за модой незамужним девицам и не первой молодости старшим научным сотрудникам.
Много спустя, когда умерли и дед, и бабушка, и Чип, а Ольга уже училась в медицинском и влюбилась и собиралась замуж, когда отцу и матери было уже под пятьдесят и вместе с возрастом снизошла на них некоторая умиротворенность, отец с поразившей его самого ясностью вдруг подумал, что на самом деле он прожил удивительно полную, не дававшую ему ни минуты передышки, ни мгновения пустоты, а значит — по крайней мере, с философской точки зрения, — счастливую жизнь.
Дело в том, что в глубине души отец был уверен, что ему так и не удалось завоевать в своей жизни ни одного главного приза. Это выражение — «приз» — следует в данном случае толковать расширительно, а не только в смысле рода его занятий, а именно — тенниса. Ему казалось, и, если смотреть фактам в лицо, небезосновательно, что слава и успех (сначала предполагаемая музыкальная слава, а затем и спортивная) обошли его стороной. Во всяком случае, обманули его ожидания.
В юности и молодости отец грезил именно славой. То есть всеобщим, не знающим исключений и сомнений признанием. Попросту говоря, поголовной восторженной любовью.
А поскольку и музыка и спорт — занятия публичные, открытые для обозрения и суда всех и каждого, то и славы ему хотелось громкой, шумной, с аплодисментами, с цветами, с фотографиями и интервью в газетах.
Так вот, когда в жизни отца объявилась эта обольстительно-яркая, полная неотразимого очарования и не омрачаемой никакими сомнениями уверенности в этой своей неотразимости женщина, вполне естественно, что он воспринял ее как тот самый вожделенный главный приз, который столь долго не давался ему в руки.
Вполне возможно, что он был недалек от истины. Хотя бы потому, что, по мнению многих авторитетов как прошлого, так и настоящего, любовь — разумеется, в высшем или, точнее, даже возвышенном смысле слова — есть единственная цель, единственное благо и единственная награда человеческой жизни.
Отцу не оставалось ничего иного, как довериться собственному счастью. Что и сделал бы, надо полагать, на его месте каждый. Да и некогда, собственно говоря, было раздумывать.
В старину бытовало расхожее выражение — «золотая клетка». Так вот, если Чип, как и все прочие пернатые в его положении, попал в клетку не по своей воле и, о чем уже упоминалось выше, маялся своей неволей, то люди, в том числе и отец, сами ищут себе золотой этой клетки и со слезами восторга замыкают ее за собой на нерушимый засов.
Человеческий мир, как и царство пернатых, таит в себе еще немало загадок.
После разрыва и развода со второй женой и ее отъезда с французским скрипачом, естественно, во Францию, отец остался, казалось бы, совершенно один.
Не говоря уж что — у разбитого корыта.
На самом же деле это было вовсе не так. По крайней мере, не совсем так.
Во всяком случае, дело обстояло отнюдь не так просто, как могло бы показаться на сторонний и не очень проницательный взгляд.
Во-первых, он стал бывать почти ежедневно в старом, точнее — в прежнем своем доме, то есть у Ольги, матери и бабушки. Если это объяснить единственно тем, что тут его жалели и были преисполнены желания помочь ему, как он сам выражался, зализать раны, подобная версия будет отнюдь не исчерпывающей.
Его здесь любили.
О незыблемости любви к нему бабушки уже упоминалось.
Об отношениях Ольги с отцом будет полно и подробно рассказано ниже.
Что же касается матери, то она любила его уже, разумеется, не прежней любовью, не той, которой она любила его, когда была его женой и когда они жили вместе, как и не той болезненной и несколько мстительной любовью, которую она испытывала к нему, когда он ушел из семьи. Нет, теперь это была ровная, чуть печальная и если не все, то многое простившая любовь-дружба, любовь-сочувствие, любовь-память, черпающая свое постоянство из совместно прожитых с отцом годов, из общих, уже не жалящих душу воспоминаний о том молодом и добром, что было в прежней их жизни.
К тому же мать просто-напросто была хорошим и верным человеком.
А быть доброй и верной по отношению к бывшему мужу — явление не менее редкостное и достойное удивления, чем вообще любовь как таковая.
Но вот что и в самом деле может показаться совершенно неправдоподобным, во всяком случае с естественнонаучной точки зрения, так это то, что, когда брошенный, оставшийся, казалось бы, в полном одиночестве отец стал почти ежедневно приходить в прежний свой дом, — именно тогда Чип вдруг неожиданно запел вновь.
До этого в течение, по крайней мере, полутора или даже двух лет он хранил полнейшее молчание. Старость, подумали все с грустью, все проходит.
Но Чип, ко всеобщему удивлению, вновь запел. Правда, ненадолго. Фигурально говоря, это была его лебединая песнь. Хотя на самом деле, как известно, лебеди не поют.
Правда, в пении Чипа уже не было той самозабвенности, того упоения собственным голосом и виртуозностью, характерными для него прежде. Он более не склонял голову набок, как бы вслушиваясь в отзвуки своей песни, еще звенящие в воздухе, и не закатывал самодовольно свои глазки-бусинки. Не стало также прежнего изыска в его фиоритурах, прежнего изощренного блеска в руладах и каденциях. Его искусство стало проще и сдержаннее. В нем как бы зазвучали некая высокая, покойная мудрость, некое светлое примирение с жизнью, с ее неотвратимой, если воспользоваться музыкальной терминологией, кодой, с ее заключительным аккордом, свойственное зрелой поре большого мастера, его осеннему, озаренному нежарким последним солнцем дню.
Однако, что бы там ни было, Чип вновь запел.
Кстати говоря, тот душевный покой и примирение с тем, что жизнь сложилась именно так, а не иначе, которые столь явственно проявились в зрелом искусстве Чипа, снизошли в той или иной степени и на всех прочих членов семьи.
Если, разумеется, слово «семья» вообще уместно в данном контексте.
На отца с матерью, в частности.
Мать все эти годы прожила не так пусто и безрадостно, как может показаться иному излишне торопливому читателю нашего правдивого, хоть и беглого повествования. Точнее — хроники. Или даже — жизнеописания, как то явствует из самого названия выносимого на общий суд сочинения. Хотя, строго говоря, в нем нет ничего сочиненного или домысленного, так что в данном случае слово «сочинение» не следует понимать слишком буквально. Матери было к тому времени уже за сорок, но она все еще была на удивление молода и жизнеобильна.
Сама ее профессия как бы предполагала в ней эту моложавость: она была врачом-косметологом.
Трудно уверить своих пациенток в пользе, чтобы не сказать — в чудодейственности косметических процедур и манипуляций, если ты сама в твои сорок с лишним лет не являешь собою наглядного примера возможности победить время и неумолимые, казалось бы, следы, оставляемые им на женском лице. Впрочем, может быть, в данном контексте было бы лучше сказать — на лике женщины.
Кстати говоря, сама мать как раз и не прибегала к помощи косметологии.
Она даже давно бросила подкрашивать волосы, и выяснилось, что седина, кое-где уже посеребрившая ее голову, скорее красит ее, чем старит, придавая, особенно в разгар лета, ее загорелому, без единой морщинки лицу некий ореол повелительницы собственного возраста. Подглазья ее стали глубже, темнее, отчего большие серые глаза, унаследованные ею от бабушки и, в свою очередь, переданные в наследство Ольге, казались еще больше и лучистее.
Во всем остальном она тоже доверилась собственной счастливой натуре, и о ней никак нельзя было сказать — «врачуя, исцелися сам».
Самое же замечательное и необъяснимое в ней было то, что, работая в Институте красоты на Калининском, мать никогда, ни под каким видом не брала со своих пациенток денег сверх того, что они платили в кассу института, ни даже дорогих подарков — разве что цветы, коробку конфет или в особо трудном и требующем максимума усилий и внимания случае — флакон французских духов.
Хотя, с другой стороны, нет и не может быть слишком высокой платы за красоту и свежесть возвращаемой тебе молодости.
В результате — и об этом вполне уместно упомянуть, — даже при отцовских ежемесячных ста рублях, которые он давал матери и Ольге, денег в семье всегда было в обрез.
Собственно говоря, все в доме теперь держалось на матери. После смерти деда бабушка сильно сдала, почти — а со временем и вовсе — не выходила из дома, гуляла, по ее собственному выражению, лишь на балконе, благо деревья во дворе за эти годы еще больше разрослись и превратились, опять же по ее словам, в настоящий лес. Ольга училась уже в десятом классе, не за горами был аттестат и пугающее даже при одной мысли о нем поступление в институт, в какой — еще решено не было, так что помощи от нее было немного.
Нельзя сказать, чтоб за эти годы в жизни матери не появлялись мужчины. Однажды она даже сделала было попытку — «провела эксперимент», как она сама впоследствии говорила с чуть вымученной усмешкой, — завести новую семью. Эксперимент продолжался около полугода, новый мамин муж, тихий и робкий доктор геологических наук, океанолог, даже переехал жить в материну комнату, но был он так скучен и бесцветен, что ее без того не очень пылкая привязанность к нему скоро превратилась в едва сдерживаемую зеленую тоску, и он, безмолвно собрав в чемодан свои коллекции экзотических раковин, окаменелых морских звезд и нежно-розовых обломков коралловых рифов, которые всю жизнь собирал и таскал с собою, ушел из материной жизни так же незаметно и покорно, как и появился в ней.
Были и другие — один толстый и огненно-рыжий журналист-международник, замечательный своим жизнерадостным и почти обаятельным цинизмом и тем, что ел сырой котлетный фарш. Был еще длинный и сухопарый инженер-машиностроитель с больной печенью и печальными, усталыми глазами, но ни один из них так и не пустил корней в материной жизни.
Причиной тому была, как это ни покажется парадоксальным, неубывающая с годами ее молодость, точнее говоря — почти по-юношески прямолинейный максимализм: мать все еще ждала, надеялась и верила в новую большую любовь.
Что там ни говори, а, на поверку, пятый десяток, умиротворенность души и несколько увядшая острота желаний — отнюдь не панацея от жажды полного и непреложного счастья.
На меньшее мать была не согласна.
Иногда, не сговариваясь, она и отец встречались глазами и тут же, смутившись или даже словно бы испугавшись того, что они смогут прочесть во взглядах друг друга, отводили их, и тогда Ольге казалось, что они, боясь в этом признаться не только друг другу, но даже каждый самому себе, подумывают втайне о том, не начать ли все снова?..
Но поскольку «снова» в этих обстоятельствах могло означать лишь «сначала» — начать жизнь сначала, а они знали по собственному опыту, что это невозможно, что это никому еще не удавалось, вот они и отводили глаза и молчали.
Собственно говоря, это был бы тот самый путь наименьшего сопротивления, на который уже была установлена выше определенная точка зрения.
А отец и мать были еще вовсе не так стары и не так еще устали от жизни с ее вечным ожиданием несбыточного, чтобы согласиться на повторение уже однажды пережитого, а не мечтать о чем-то совершенно новом и неведомом.
Иногда у Ольги складывалось впечатление, что она гораздо старше и многоопытнее отца с матерью.
Впрочем, лишь до того дня, когда пришла и ее очередь в первый раз влюбиться и испить эту чашу до дна.
Во всем доме один лишь Чип не испытал восторгов и горечи любви.
Любовь обошла его стороной.
В жизни же прочих членов семьи любовь всегда играла первостепенную, чтоб не сказать — основополагающую, роль. Как, впрочем, и отсутствие любви. Отсутствие любви ими переживалось как беда, как худшее из зол.
Несомненно, что жажда любви и тоска по ней — такая же сильная, пламенная страсть, как и сама любовь.
Собственно говоря, это всего лишь две стороны одной медали.
Короче говоря, мать жила в постоянном и нетерпеливом ожидании любви. Это в ее-то годы. Хотя, как уже упоминалось выше, она не только внешне, но и внутренне была все еще молода. Достаточно сослаться хотя бы на тот факт, что по субботам и воскресеньям она, надев синий тренировочный костюм (синий цвет был ей очень к лицу, и она это знала) и штормовку, с тяжеленным рюкзаком за плечами, приставала на Белорусском вокзале к какой-нибудь группе завзятых туристов и отправлялась с нею — то есть с совершенно незнакомыми и гораздо моложе ее годами людьми — в турпоход по Подмосковью, невзирая на погоду. Пасмурное, холодное небо или даже дождь радовали ее не меньше, чем безоблачная летняя теплынь. Она с одинаковым восторгом любовалась весенней поляной в золотой россыпи одуванчиков и сиротливым осенним березняком, не говоря уже о праздничной радости, которую рождал в ее душе зимний лес, сверкающий до рези в глазах снежными блестками и воскрешающий в памяти далекую юность с ее лыжными вылазками в Сокольники, с ее воскресными, в электрических разноцветных отражениях на гладком, блестящем льду, катками в Парке культуры, с острой сладостью эскимо или пломбира в лютый рождественский мороз, с первыми поцелуями — как гладки, нежны и холодны были щеки ее и того, кого она неумело и бесстрашно целовала, щеки и губы пахли морозом, праздником, новогодними каникулами…
Однажды мать даже заставила робкого и совершенно не спортивного доктора геологических наук купить себе ботинки с коньками и потащила его с собой на каток на Патриаршие пруды. Правда, ничего хорошего из этого не получилось, если не считать порванных связок голеностопного сустава океанолога.
Этот вечный бой с неумолимостью времени поддерживал в ней не только физические силы, но и силу духа.
Мать умела радоваться жизни, и в этом она была полной противоположностью отцу.
Отец был человеком скорее меланхолического склада души.
Кстати говоря, вторая отцова жена обладала сполна такой же жизнерадостностью, таким же брызжущим жизнелюбием, что и мать. И тем не менее, они были совершенно, просто-таки непримиримо разные. В том смысле, что вторая отцова жена радовалась радостям жизни, а мать — самой жизни, жизни как таковой.
Очень даже может быть, что отец любил именно этих двух женщин — а в том, что он любил и одну и другую, сомневаться не приходится, — как раз за это, общее им обеим, радостное мироощущение. И вероятнее всего потому, что ему самому его недоставало. Отец был веселый, смешливый, легкий и даже легкомысленный человек, но при этом он постоянно и остро ощущал необратимый — всегда и неизменно в одну сторону! — ход времени, вечное его убывание, жил прошлым, сожалением о нем и вообще воспоминаниями больше, чем надеждами на еще несбывшееся. За всякой безмятежностью он с жесткостью рентгеновского луча видел печальное или, по крайней мере, повседневное ее, как он сам выражался, Зазеркалье.
Из этого, однако, вовсе не следует, что отец был, скажем, ипохондриком. Ничуть не бывало. Просто он, говоря опять же языком музыки, то есть языком его собственной юности, наряду с каждым чистым, полным звуком слышал его дальнее глухое эхо, вместе с каждым тоном — его обертон. Эту отцовскую черту очень точно выражают известные строки поэта: «мне грустно и легко, печаль моя светла». Отец с полным основанием мог бы подписаться под ними.
Можно смело утверждать, что нечто очень схожее с подобным умонастроением — «печаль моя светла» — свойственно и отдельным представителям царства пернатых, тому же Чипу хотя бы. Многие его опусы и музыкальные пассажи были сочинены — а точнее, исполнены — в несомненном миноре. И это несмотря на постоянное наличие в кормушке конопляного семени или канареечной смеси, а в блюдце — свежей, дважды на день сменяемой бабушкой воды.
И все же глубоко не прав был бы тот, кто взял бы на себя смелость утверждать, будто в основе минора и элегической грусти Чипова музицирования лежала односложная неудовлетворенность жизнью.
Печаль, очень может быть, есть не что иное, как оборотная сторона бескорыстнейшей радости и полноты жизни, мужественное, хоть и горестное, понимание того, что эта полнота и несказанная прелесть уходят.
Это вовсе, разумеется, не значит, что надо постоянно только и делать, что печалиться об этом и лить бесполезные слезы.
Отнюдь.
Печаль, собственно говоря, это наша плата за радость.
И уж вовсе нет никаких оснований полагать, что отец был человеком минорного — в вышеупомянутом, само собой, смысле — склада души потому, что считал себя неудачником. Дело обстояло решительно противоположным образом: он и считал себя неудачником именно и единственно в силу того, что был от рождения человеком несколько печального умонастроения.
Будь он настоящим, прирожденным неудачником, он непременно завидовал бы баловням судьбы.
Отец им не завидовал. Он их даже по-своему жалел.
Что же касается до его предопределенного, казалось бы, самими нынешними холостяцкими обстоятельствами его жизни одиночества, то тут дело приняло и вовсе неожиданный оборот.
Выше уже было упомянуто, что семья — или, во всяком случае, нечто очень близкое, если не быть ригористом, к понятию «семья», включающему в себя ответственность, заботу и тревоги о ближних, чувство собственной необходимости им и получаемое в ответ (именно в ответ, а не взамен) тепло и те же заботы и тревоги, — в этом смысле семья у отца как бы была, и даже более того, ему подчас казалось, что теперь она у него есть в большей степени, нежели прежде. Речь, разумеется, идет об Ольге, матери и бабушке.
И никакой, как казалось отцу, роли не играет то обстоятельство, что он живет не под одной крышей с этой своей семьей, а на другом конце Москвы, точнее — у черта на рогах, в Чертанове.
Но и там он был не один.
Короче говоря, бабушка была не единственной его тещей.
У второй отцовой жены была мать, и эта мать — вторая отцова теща — жила вместе с дочерью и очередным ее мужем, то есть с отцом, в недорогой кооперативной квартире в Чертанове. И когда ее дочь уехала со своим скрипачом-французом во Францию, эта вторая по счету отцова теща осталась с отцом в Чертанове.
Не исключено, что она просто-напросто несколько подустала от неутомимой влюбчивости, точнее — от неиссякаемой, прямо-таки пугающей любвеобильности собственной дочери.
К тому же тут, в Москве, была могила ее мужа, который умер еще до того, как их дочь вышла замуж за отца.
Не исключено также, что она, как и бабушка, тоже любила отца.
Как это ни покажется неправдоподобным со стороны, но похоже, что тещи любили отца больше или, по крайней мере, дольше, чем жены. Конечно же подобное явление — редкость и уж во всяком случае исключение из правила.
Кстати говоря, вопреки распространенному мнению, далеко не каждое исключение призвано подтверждать общепринятое правило.
Во всех прочих отношениях вторая теща отца была совершенно другим человеком, нежели бабушка. Если угодно, диаметрально или даже полярно противоположным.
Вторая отцова теща была светской женщиной.
Покойный ее муж был в войну морским офицером на Северном театре военных действий. Правда, он служил в интендантстве.
В комнате тещи на стене, на самом видном месте — над телевизором, висела мужнина фотография первого послевоенного года, до демобилизации: чуть нахмуренное, крупное лицо, остриженные ежиком, в первой легкой седине волосы, золотые капитан-лейтенантские погоны, золотой же пояс и на нем, искрясь в свете трехсот-ваттовых ламп фотографического ателье, — кортик.
Теща и по сей день хранила в ящике буфета этот офицерский золоченый кортик и награды мужа. Среди них было два ордена Отечественной войны и один Красной звезды: интендант интенданту тоже рознь.
На противоположной стене висел такого же формата и в такой же латунной окантовке портрет самой тещи, сделанный в тот же день и в том же фотоателье на улице Горького, напротив Центрального телеграфа, у знаменитого в те времена фотомастера Файбусовича.
На портрете у нее был высоко взбитый по тогдашней моде, волною, кок, высветленные перекисью роскошные волосы, несколько искусственный — по требованию фотомастера — и смелый наклон головы.
После демобилизации тещин муж работал сначала главным администратором, а потом, до самой пенсии и скорой после пенсии смерти, — заместителем директора Дома кино на улице Воровского, или, как сказала бы покойная бабушка, на Поварской.
Отсюда, собственно говоря, и светскость тещи.
За долгие годы работы мужа в Доме кино она не манкировала ни одним просмотром, ни одной премьерой, ни одним банкетом или приемом для иностранных кинематографистов, не говоря уж о фестивалях и всевозможных кинонеделях, и очень скоро стала — так ей, во всяком случае, хотелось думать — совершенно своим человеком в мире экрана.
Она поразительно легко и быстро усвоила не только внешний блеск, свойственный этому миру, не только все профессиональные выражения типа «крупный план», «некоммуникабельность», «монтаж», «новая волна» и прочее в этом духе, но и стала чем-то вроде неофициальной гостеприимной хозяйки Дома кино — сценаристы и режиссеры целиком доверялись ей в том, что касалось выбора меню, рассаживания гостей и иных деталей премьерных банкетов и коктейлей для зарубежных коллег.
Со временем и ее суждение о том или ином фильме стало немаловажным фактором в формировании единого и обязательного для всех общественного мнения.
Кстати говоря, она еще и сейчас, в свои шестьдесят с немалым, давно овдовев и поневоле отойдя от светского коловращения, не теряла, по ее собственному выражению, форму, регулярно красилась под блондинку и делала педикюр, и если смотреть на нее со спины, так ей вообще можно было дать не больше пятидесяти. Ну от силы — пятьдесят пять.
Отца она приняла и полюбила далеко не сразу. Растерянная и даже напуганная избыточной любвеобильностью дочери, она просто-напросто опасалась самого факта третьего (и, как вскоре выяснилось, отнюдь не последнего) брака дочери. Поэтому она еще долго с опаской и недоверием приглядывалась к отцу.
К тому же в мире, в котором она столько лет жила и к которому — пусть даже не прямо, а лишь по касательной — принадлежала, профессия теннисного тренера с незаконченным высшим образованием была не из самых престижных.
Хотя на самом деле, если отвлечься от этой, собственно говоря, наносной, нахватанной светскости, она была человеком простым, добрым и благожелательным.
Тещин муж умер персональным пенсионером республиканского значения, что называется, в одночасье, в гостях, поднося ко рту рюмку: инфаркт.
Вообще статистика с неоспоримой достоверностью доказывает, что все наши неурядицы и беды случаются, как правило, именно тогда, когда мы — во всяком случае, так нам кажется самим — достигаем пика полного благополучия.
С другой же стороны, не исключено, что это всего лишь неизбежная плата за него. Очень может быть, что в природе, как живой, так и неживой, действует некий пока не познанный и на современном уровне науки не доказуемый опытным путем закон всеобщего равновесия.
Все до копейки оставшиеся после мужа сбережения теща вложила в массивный памятник из полированного гранита. На зиму она укрывала его от непогоды прозрачным полиэтиленовым полотнищем. Посещала она могилу на кладбище при старом крематории не менее двух, а то и трех раз в месяц, убирала ее и высаживала с весны цветы и траву, и это, собственно, стало теперь единственным делом ее жизни.
Если не считать забот об отце после того, как ее дочь уехала со своим скрипачом во Францию.
Кстати говоря, именно могила мужа и необходимость присматривать и ухаживать за ней и были главным доводом, когда она наотрез отказалась уехать с дочерью и ее новым мужем.
Отец называл ее за глаза «экс-тещей».
Короче говоря, «экс-теща» осталась жить с отцом, ухаживала за ним, кормила, обстирывала, ждала с беспокойством, когда он задерживался где-либо допоздна. Они даже смотрели вместе по телевизору хоккей, футбол, сопотские фестивали и фигурное катание в те редкие вечера, когда он оставался дома.
Более того — и это непреложный факт, которому, однако, читатель вправе, по своему усмотрению, верить или не верить, — со временем Ольга, бабушка и, что может показаться и вовсе невероятным, даже мать не только познакомились со второй отцовой тещей, но и стали ездить друг к другу в гости.
Возил их с Ямского Поля в Чертаново и обратно отец, который к тому времени, залезши в неоплатные, во всяком случае в обозримом будущем, долги, купил машину — одиннадцатые «Жигули» цвета «коррида», что, по мысли дизайнеров, означает «кровь на песке». Но потом они стали ездить и сами, на метро, тем более что не надо было делать пересадок.
Неисповедимы пути господни.
Как уже упоминалось выше, отец никому не завидовал. А стало быть, он не был на самом деле неудачником. Ибо классический неудачник, подобно огурцу, состоящему, как известно, на девяносто процентов из воды, состоит в той же пропорции из зависти.
Зависть — то самое первичное сырье, из которого жизнь наладила массовое производство неудачников. Причем, что характерно, можно чувствовать себя обойденным и быть снедаемым лютой завистью, даже будучи осыпанным регалиями и почестями. Потому что в глубине души каждый знает себе истинную цену.
Собственно говоря, отец всю свою жизнь был дилетант — сначала в музыке, потом в теннисе.
Более того, он по самой своей природе был именно дилетант — в расширительном, разумеется, смысле.
Очень может быть, что именно в этом и состояло его обаяние.
Не исключено также, что за это его и любили женщины. Это давало им ощущение некоторого превосходства над ним. Они могли его не только любить, но и жалеть. Женщинам это совершенно необходимо. До поры до времени конечно же. Потом они начинают тосковать по мужчинам с сильной волей, твердым характером и неукоснительной программой жизни.
Но, с другой стороны, от таких мужчин они тоже скоро устают, и их снова тянет к слабым, неуверенным в себе и требующим от них жалости и сочувствия.
Принцип маятника.
Отец имел успех у женщин.
Он был интересен им странной и даже, пожалуй, несколько загадочной смесью спортивной мужественности, этакого доморощенного, отечественного плейбойства с некой зыбкой, без видимых причин, печалью и неутолимой жаждой чего-то, чему они и имени-то не знали.
Они восхищались им и вместе глядели на него несколько по-матерински: с обожанием, но снисходительно и даже чуть сверху вниз.
Он был довольно-таки сложной молекулой, отец.
Особенно же его любили дети и подростки. Он на удивление легко и сразу, безо всяких усилий со своей стороны, находил с ними общий язык. Просто-напросто он разговаривал с ними как равный с равными. Впрочем, так оно и было на самом деле: он и был, в известном смысле, ребенком, подростком с седыми висками. Хотя со временем стал грузнеть, отяжелел, и теперь не только виски, но и вся голова у него стала если уместно это расхожее выражение, перец с солью.
Кроме того, он был прирожденным педагогом, в данном случае — тренером. Он не мог да и не стремился сделать из своих учеников мастеров и чемпионов, но научить их любить теннис и его простые, естественные и доступные радости — это он умел.
И этого с него было достаточно.
Отца огорчало, что ему так и не удалось привить Ольге любовь к спорту. Как и то, что она не стала музыкантом. То есть не пошла по его стопам.
Он считал, что Ольга вообще пошла в мать. Он был даже доволен этим: если сам он считал себя неисправимым дилетантом, то мать, на его взгляд, была воплощением профессионализма, и не только в том, что касалось ее специальности: мать, за что бы ни бралась, все делала уверенно, спокойно, и все, как считал отец, ей удавалось.
И все же про себя он печалился, что дочь пошла не в него, а в мать.
Хотя на самом деле все обстояло совершенно наоборот, и Ольга росла полнейшим его повторением и подобием. Все в ней самое глубинное и не подверженное переменам было как раз от него.
Верхний слой ее характера — упорство, настойчивость, трудолюбие и даже некоторый раздражавший, точнее, ставивший в тупик отца педантизм были действительно унаследованы ею от матери. Но все, что было под этим верхним слоем и что составляло самую суть, или, точнее, тип ее души — мягкость, неуверенность в себе, неумение довести до конца дело, начатое, казалось бы, с такой настойчивостью и педантизмом, ее затаенная мечтательная грусть, которую она, как впрочем, и сам отец, упорно прятала за иронической колючестью суждений и слов, — все это было несомненно от него.
Ольге, как и отцу, было непросто жить.
А уж когда она вырастет — правда, это уже выходит за рамки настоящего жизнеописания, поскольку задолго до этого Чипу предстоит умереть, и вместе с этим неизбежным событием жизнеописание исчерпает себя и те скромные задачи, которые оно перед собой ставило, — когда Ольга станет совсем взрослой и уйдет, как говорится, в самостоятельное жизненное плавание и станет все решать за себя сама и сама же нести бремя содеянного и несодеянного, — ей будет, по всей видимости, и вовсе непросто жить.
Но до этого было еще далеко.
Чип был еще жив и вполне, казалось, здоров, более того, как уже упоминалось, он опять, после почти двухгодичного перерыва, стал петь.
А бабушка занемогла.
Она держалась долго и стойко.
Ее жизнь была не из самых легких и безоблачных. Даже напротив. Один дед чего стоил — даже до болезни, более того — даже в молодости еще, в лучшую их с бабушкой пору, с его страхами, брюзгливостью, мелким и, в общем, безобидным, но утомительным тиранством, не говоря уж о его приверженности к вину.
Ну, и прочие тяготы, заботы, неустройства, а также всевозможные исторические потрясения и катаклизмы — все это ложилось в первую очередь на слабые бабушкины плечи.
Бабушка слегла.
И, словно чуя беду — а пернатые, как известно, даже землетрясения или, скажем, цунами чуют загодя, — Чип вновь перестал петь.
Теперь уже окончательно.
Врачи бабушкину болезнь определяли по-всякому, и почти наверняка каждый из них был по-своему прав: это были хорошие врачи, материны товарищи еще по институту, внимательные, опытные. Некоторые из них, в отличие от матери, стали профессорами и докторами наук, а один так даже академиком.
На самом же деле бабушка умирала от старости.
Точнее говоря, от усталости: она просто устала жить.
Дедову узкую и длинную железную кровать с пружинной сеткой убрали сразу после его смерти, и бабушка лежала в своей комнате на диване с валиками и высокой спинкой.
Дедову кровать отдали пионерам, ходившим по квартирам в поисках металлолома. У них в школе, как выяснилось, был даже план по сбору металлолома. Они унесли дедову кровать с веселыми, радостными криками. Впоследствии, надо полагать, кровать переплавили и сделали из этого старого, тоже уставшего от долгой жизни металла что-нибудь полезное.
Закон сохранения вещества.
Сложнее обстоит дело с примерами из жизни, с непреложностью подтверждающими всеобщий закон сохранения энергии.
Куда ушла и во что превратилась, например, энергия долгой дедовой жизни?
А теперь — бабушкиной?
Не та энергия — механическая, химическая и прочая, расходуемая без остатка на дело, на дела, на делание дел и дела, — другая: та, что кипела, переливалась через край или, наоборот, уходила на самое дно и там безмолвно таилась до поры, дожидаясь своего срока, — энергия, если угодно, сердца, ума, души?
Куда все это ушло?
И вообще — в философском, разумеется, смысле — куда все уходит?
Все вышеизложенное, само собой, никак не должно восприниматься как подвергание сомнению, тем более как отрицание закона сохранения энергии или же закона сохранения вещества, как и всех прочих физических, химических и так далее и тому подобное законов, не говоря уж о материалистическом взгляде на мир вообще.
Отнюдь.
Но — все же.
Всем было ясно, что бабушке уже не встать. Даже Чипу — иначе с чего бы ему умолкнуть навсегда именно в эти дни?
Знала это и бабушка. Она тоже умолкла, как и Чип.
Вообще с годами они стали чем-то очень похожи, бабушка и Чип.
Мать не в первый раз бросалась спасать бабушкину жизнь. Несколькими годами ранее — уже после дедовой смерти, когда бабушка стала сдавать и стариться, увядать прямо на глазах, — она простудилась, «гуляя» на балконе.
Воспаление легких, к тому же двустороннее, даже в ее тогдашнем возрасте, — не шутка. Мать всю ее исколола уколами, ставила горчичники, грелки, поила чаем с малиной, доставала из-под земли дефицитнейшие лекарства.
Воздух из бабушкиных легких вырывался с трудом, но не с хрипом, а с едва слышным, без жалобы, шипением.
Материны друзья-врачи, навещавшие на дому бабушку, прятали глаза и разводили руками — они были уверены, что бабушкины дни сочтены.
И все же мать выходила ее. Это было почти чудо.
Во второй раз чуда ждать было нельзя. Бабушка не болела, а угасала.
И Чип перестал петь.
Когда мать уходила на работу, а Ольга — она уже была студенткой первого курса — на занятия, приезжал дежурить у бабушкиной постели отец. Он на эти часы отменял все занятия в детской спортивной школе и на динамовских кортах на Петровке, сидел у бабушкиного изголовья, давал по часам лекарства, сажал на судно, поил водой из горлышка фаянсового чайника из давно разрозненного кузнецовского сервиза, разговаривал с нею, когда она была в состоянии разговаривать.
Но чаще бабушка впадала в забытье, в рыхлую, бездонную дрему, и тогда-то и было слышно, как вырывается из ее легких воздух с едва слышным шипением.
Бабушка умирала так же тихо, застенчиво и без жалоб, как и жила.
Когда она задремывала, отец уходил в соседнюю, материну или Ольгину, комнату, садился в кресло и пытался читать. Но внимание его было не в состоянии ни на чем закрепиться, из памяти тут же испарялась только что прочитанная страница, и отец просто сидел, глядя невидящими глазами за окно, на начинающие невнятно желтеть и краснеть листья разросшихся деревьев — было начало осени, первая половина сентября, — и не столько думал, сколько вразброд, бессвязно и без мысли вспоминал.
А за стеной были бабушка и Чип, оба старые, обреченные и безмолвные.
Время от времени отец вставал, неслышно отворял дверь в бабушкину комнату и на цыпочках переступал порог и, если бабушка не дремала, видел, как она, неловко повернув голову на высоких подушках, глядит неотрывно снизу вверх на Чипа.
Чип сидел недвижно на жердочке в своей клетке и тоже, только сверху вниз, молча глядел на бабушку.
Словно между ними шел долгий, без слов, разговор о самом главном, насущном и теперь уже наверняка неотложном.
Отец так же тихо возвращался в соседнюю комнату, садился в кресло, брал книгу и тут же ронял ее на колени и, уставившись в окно, вспоминал.
Впрочем, это были даже не воспоминания, а бессвязные их обрывки, слабые тени мыслей о том, что было за эти долгие, казалось даже — безначальные, годы с ним, с матерью, с бабушкой, с Ольгой и со всеми прочими, кто так или иначе прошел через его и их жизнь, пропав бесследно или оставшись в ней навсегда. А также о том, как скоро все проходит. И еще о том, что изо всех людей на земле он более всего задолжал за свою жизнь именно бабушке.
Он знал, что самой бабушке никогда не приходила и не могла прийти в голову мысль о том, что кто-то — дочь ли, внучка, зять, покойный ли муж или тот же Чип — чего-то ей недодали, чего-то самого главного и нужного так ей и не сказали, чем-то не поделились.
Или хотя бы. на худой конец, не помолчали рядом с ней об этом самом главном и неотложном.
Эта маленькая, слабая и тихая женщина, теперь уже старуха, теперь уже не жилец на этом свете, всю свою жизнь не только везла на себе дом, хозяйство, стояние в очередях за хлебом насущным, но была сердцем и душою семьи — и даже тогда, когда семья эта бесповоротно распалась. Более того, именно благодаря ей, никогда ни во что не вмешивающейся, не лезущей в чужую жизнь, именно благодаря ей эта семья, даже распавшись, каким-то странным, необъяснимым образом продолжала существовать.
И вот — бабушкин век подходит к концу.
Медицина была бессильна.
И даже любовь — тоже.
Едва вздымались, жадно глотая воздух, и опадали легкие, отказали почки, пульс еле-еле прослушивался.
Отец сидел и думал о том, что бабушка всю жизнь отдавала, отдавала, отдавала себя — свою заботу, любовь, тревогу и ненавязчивую нежность — и ничего не только не требовала взамен, но и удивилась бы и смущенно замахала своими тоненькими, кожа да кости, руками с узловатыми пальцами и пожелтевшими, обломанными ногтями: не надо! Как можно даже подумать об этом?!
В бабушкиной комнате висела большая отцова фотография в старинной деревянной рамке с облупившимся темным лаком. Бабушка не сняла ее со стены и тогда, когда отец разошелся с матерью и ушел из дома. Регина, уже не раз и не два упомянутая выше материна лучшая подруга, бурно возмущалась, проводила с бабушкой долгие нервические разъяснительные беседы, требовала от матери, чтоб та не сидела сложа руки и не давала себя в обиду, мать тоже устраивала сцены, даже кричала на бабушку и плакала, но бабушка так и не убрала фотографию.
На ней отец был снят в давние свои годы, еще студентом и чемпионом Москвы, вскоре после того, как они с матерью поженились.
Фотограф его снял на корте, сразу после победной финальной партии, с ракеткой в руках, разгоряченного, потного, счастливого, с пестрым полотенцем вокруг сильной, молодой шеи. Отец тогда еще носил свою рыжеватую бороду и длинные прямые волосы до плеч, он их повязывал, чтоб не мешали во время игры, шерстяной ленточкой вокруг лба.
На фотографии, если бы ему дать вместо ракетки в руки топор или, скажем, меч, он был бы похож на древнерусского веселого и бойкого мастерового или ратника.
Потом, когда жизнь пошла размеренной и отмеренной на годы вперед невалкой поступью и в ней не стало уже места для мечтаний о музыке или, на худой конец, о том, чтобы стать первой ракеткой страны и выиграть, скажем, Уимблдонский турнир, он сбрил бороду, остриг волосы и из иконописного воина или мастерового превратился в обыкновенного современного, шестидесятых и семидесятых годов нашего столетия, молодого, потом — не очень молодого, а спустя — и вовсе погрузневшего, седеющего человека без особых примет.
По обеим сторонам от этой фотографии на бабушкиной стене висели еще две: отец и мать, он — в белой накрахмаленной рубашке и при узком, жгутиком, галстуке, она — в платье с подложенными по тогдашней моде ватой плечиками, в день их помолвки; вторая — Ольга восьми или девяти месяцев от роду, впервые вставшая на ножки и крепко вцепившаяся ручонками в край деревянной решетки ее детской кроватки, толстощекая, с вздернутым носиком, повязанная цветастым материным платком, — «купчиха», называла Ольгу на этой фотографии бабушка.
И — ни одной бабушкиной фотографии, ни одной фотографии покойного деда.
Иногда, входя на цыпочках в комнату умирающей бабушки, отец заставал ее повернувшейся лицом не к Чипу, а к висящим невысоко на стене этим фотографиям.
Бабушка и с ними вела свой безмолвный разговор о самом насущном и неотложном.
Словно она хотела напоследок что-то такое объяснить дочке, зятю и внучке наиважнейшее и совершенно необходимое им, чтобы они все наконец поняли, и тогда она со спокойной душой сможет их покинуть.
Бабушке всю жизнь казалось, что она всем чего-то недодала.
Мать вся извелась, хотя и она яснее ясного понимала — она хоть была и косметолог, но все же врач, — что ничем бабушке уже не помочь. Но она бежала сломя голову каждые три часа с работы домой, хватая первое подвернувшееся такси, чтобы сделать вовремя совершенно уже бесполезный укол, измерить давление, сдать на анализ мочу или кровь, напоить и накормить бабушку, сменить ей постельное белье и повязки с мазью — у бабушки пошли по всей спине и ягодицам пролежни, незаживающие трофические язвы темно-лилового, зловещего цвета.
Именно в эти трудные дни и недели сполна проявилась в матери ее упорная, целеустремленная воля и то, что она называла «чувством долга» и что на самом деле было просто добротой и любовью, которые она, словно бы стесняясь их, прятала за унаследованной от своего отца, Ольгиного деда, безапелляционностью и окриком.
Доброта, долг и воля — именно из этих черт складывался сильный, иногда даже трудный для домашних характер матери.
Правда, свою личную жизнь она так и не сумела наладить. Очень может быть, что именно благодаря этому своему характеру.
Ольга приходила после трех, а иногда и четырех «пар» из института, после анатомички, лабораторных занятий и физкультуры, как она сама говорила, «без задних ног», кидалась помогать матери, но все делала невпопад, не по-материному, отчего меж ними вспыхивали короткие, но бурные стычки с взаимными упреками, криком и хлопаньем дверьми.
Собственно говоря, Ольгу всегда воспитывала бабушка — матери было недосуг, отец давно жил отдельно. Бабушкино воспитание состояло в том, чтобы снять с внучки какие бы то ни было домашние заботы и дела. Отец и мать настаивали, чтобы Ольга с малолетства сама стелила за собой постель, мыла посуду, убирала свою комнату, а когда она стала постарше, то и стирала всякое мелкое свое белье. Ольга не спорила, но покуда она умывалась утром в ванной, бабушка неизменно успевала застелить ее кровать и приготовить завтрак. А пока Ольга после обеда или ужина хоть на секунду выходила из кухни, бабушка молниеносно перемывала всю грязную посуду. О стирке и уборке комнаты и речи быть не могло, все это бабушка переделывала, пока Ольга была в школе, а мать на работе.
До самой бабушкиной смерти Ольга так и не научилась толком ни готовить, ни стирать, ни шить — все делала бабушка. Мать устраивала бабушке по этому поводу сцены, обличала ее в потакании Ольге, в том, что она хочет вырастить из внучки тунеядку и белоручку, и призывала на помощь, как она говорила, авторитет отца.
Бабушка виновато выслушивала их поучения и пени, беспрекословно со всем соглашалась, но упорно продолжала делать за Ольгу все.
После бабушкиной смерти Ольга всему научилась и все делала охотно и быстро и, моя посуду или стирая, думала с щемящей болью о бабушке.
Все эти два месяца бабушкиной болезни, точнее — бабушкиного умирания, Ольга ходила притихшая, испуганная, и видно было по ней, как она взрослеет день ото дня.
Она очень любила бабушку, но прежде как-то не задумывалась над этим, и вообще, как она теперь понимала, печалясь и стыдясь, мало о бабушке думала. Бабушка была, как была сама жизнь, дом, детство, небо, лето, весна, зима. Как была она сама, Ольга, и весь необъятный, неизъяснимый мир вокруг. А о том, что ты есть и есть целый мир вокруг тебя, об этом как-то не думаешь.
А бабушки не стало.
О Чипе в течение этих семи или восьми тяжелых недель попросту забыли. Впервые за все годы его жизни в доме мать и Ольга забывали убирать его клетку, а однажды он двое суток провел впроголодь и даже без свежей воды в блюдце.
Но Чип не роптал и не сетовал, он, очень может быть, понимал, что сейчас не до него.
Зная хоть сколько-нибудь Чипа и его биографию, невозможно ставить под сомнение, что он, проживший всю жизнь, если можно так выразиться, бок о бок с бабушкой, более того, живший одной с нею жизнью, а если уж идти до конца — воспитанный и сформировавшийся в нравственном климате этой семьи и ставший, наконец, не побоимся этого слова, полноправным ее членом, — можно ли ставить под сомнение, что Чип чувствовал и переживал вместе со всеми беду, постучавшуюся, как говорилось в старину, в двери дома?!
И только тогда мы получим ответ на вопрос: почему Чип именно в это время перестал петь.
Очень может быть, что подобный вывод вызовет нарекания или даже недоверчивую усмешку со стороны ученых-орнитологов. Но Чип любил бабушку, а любовь объясняет многое такое, в чем наука плутает как в трех соснах.
Бабушка умерла.
Был конец сентября, бабье лето никак не кончалось.
Стояли такие ясные, чистые дни, и ночи тоже были прозрачные, словно отлитые из темного стекла, искрящегося вспышками высоких звезд, в полдень так красно и жарко полыхали клены, березы и осины, так молодо-свеж был по утрам воздух, что от счастья и собственной чистоты и легкости, а также от чуть горчащего, как крепкий бабушкин чай, предощущения того, что с недалекими уже дождями вся эта чистота и хрупкость посереет и облетит и что вообще все так непрочно, хрупко на этом свете, — от всего этого хотелось плакать такими же чистыми и свежими слезами.
В такой-то день бабушка и умерла.
В отличие от деда ее кремировали: в ограде семейного участка на Преображенском кладбище стало уже тесно.
Урна с прахом занимает гораздо меньше места, чем гроб.
Ограда поржавела и покосилась, некогда белый памятник из пористого известняка на могиле Ольгиной прабабки, дедушкиной матери, потемнел и осел, каменный крест над ним был отбит еще в войну случайным осколком от немецкой бомбы.
Надо бы все приводить в порядок, и решено было этим заняться потом, когда урна с бабушкиным прахом будет, как говорили в старину, предана земле.
«Прах» — было новое для Ольги слово. Прежде оно встречалось ей лишь в старых книгах или в официальных сообщениях о похоронах государственных деятелей и разных знаменитостей, и оно казалось ей устаревшим и даже чуточку смешным.
А теперь оно стало простым, обыкновенным и потому пугающим.
Кремация прошла как-то тихо, неприметно, и не она запомнилась Ольге, матери и отцу. В автобусе опять поместились все — и родные, и несколько соседей по дому, и единственная оставшаяся в живых давняя, еще со времен коммунальной квартиры на Разгуляе, бабушкина близкая подруга Глафира Васильевна, тоже очень старая, тучная, едва передвигавшаяся на толстых, разбухших ногах в теплых домашних тапочках. Ну и, разумеется, вторая отцова теща.
В крематории не пришлось ждать очереди, не было ни речей, ни долгого прощания.
Сразу же после кремации бабье лето неожиданно оборвалось, грянула слякотная осень, зарядили холодные, наводящие тоску дожди, хоронить урну было нельзя — земля набухла, напиталась водой, могла осесть и даже провалиться в яму, надо было дожидаться весны.
Нелицеприятной истины ради надо сказать, что не кто другой, как все та же Регина, с присущей ей энергией и готовностью заниматься чужими делами так же рьяно, как собственными, — не кто иной, как Регина, помогала матери обмыть бабушкино тело и, пока все ездили в крематорий, приготовила все для поминок, накрыла стол, убрала квартиру. Поминки тоже были тихие, немноголюдные, бабушка и при жизни не любила и даже боялась толчеи, шумного застолья.
Никто в эти дни не вспомнил, что Чипу забыли задать корм и налить в блюдце свежей воды.
Когда все разошлись, мать, Ольга и отец остались втроем. Если не считать Чипа.
За стеной была пустая, теперь уже бывшая бабушкина комната, им было страшно туда входить, и они не знали, как им теперь без бабушки жить и что с ними будет дальше.
Потом это прошло.
Бабушкину комнату убрали, все тщательно вымыли, проветрили, и было решено, что впоследствии — не сейчас, после — сюда переедет из своей девятиметровой комнаты Ольга. Но свободных денег на переустройство бабушкиной комнаты долго еще не было, и она не один еще год стояла нежилая и пугающая своей пустотой.
Правда, там продолжал жить Чип.
Впрочем, и он вскоре умер.
Но об этом ниже.
Запомнился же Ольге, матери и отцу и врезался навсегда в память не день бабушкиной кремации и поминок, а совсем другой день, а именно когда они в мае следующего года поехали в крематорий, получили там белую, топорно отлитую из алебастра урну и похоронили ее на Преображенском кладбище.
Так в тот год совпало, что этот день пришелся на девятое мая — День Победы и одновременно на первое воскресенье пасхи.
К тому же это и день поминовения усопших.
Когда они приехали с урной на Преображенское, их поразило невообразимое количество народа на кладбище.
Захоронение урны не заняло слишком много времени — отец заранее договорился с кладбищенскими рабочими, как ни странно, в этот день они были, против обыкновения, совершенно трезвые, быстро и споро выкопали яму, зарыли в нее цементную кубическую нишу, в которую затем поставили урну, засыпали землей, подровняли холмик, получили свою десятку и заторопились дальше.
Мать и Ольга вымели за ограду мусор, высадили в землю купленные на соседнем Преображенском рынке цветы, вымыли со стиральным порошком прабабкин каменный памятник с отбитым крестом.
Почти у каждой могилы копошились люди, их было в этот день не счесть. И были они какие-то притихшие, спокойные, доброжелательные, охотно одалживали друг другу лопату, веник, банку с серебряной или бронзовой краской.
Стояла солнечная, непривычно теплая для начала московского мая погода, уже застенчиво зеленели первые листочки, полезла из жирной кладбищенской земли первая трава.
И все это вместе было похоже на радостный и, несмотря на как бы разлитую в воздухе и отражавшуюся на лицах людей покойную печаль, светлый праздник.
На каждой могиле — почти на каждой, потому что немало было и могил неухоженных, забытых, — лежали домашние пасхальные куличи, магазинное печенье и конфеты и разноцветные, пестрые яйца-крашенки: поминали усопших.
Управившись с бабушкиной могилой, отец, мать и Ольга пошли к центру кладбища, к братским могилам и Вечному огню.
На улочках-аллеях было не протолкаться, над головой нежарко сияло весеннее солнце.
Ближе к Вечному огню народу стало еще больше.
На братских могилах, в том числе и на могилах безымянных солдат, многие из которых были не москвичами, а сибиряками, казахами, украинцами или кавказцами и у которых не могло быть в Москве родственников и близких, — на всех могилах тоже лежали цветы, куличи и праздничные крашенки.
В покойной, светлой тишине стоял какой-то едва уловимый ухом, нежный и дальний не то звон, не то мелодичное серебряное позвякивание. Он стоял еле слышной, ускользающей, но неизменной нотой в густо-солнечном воздухе, и было неясно, откуда он доносится.
Вечный огонь горел на покатом, со срезанной вершиной, постаменте из темно-красного гранита над главной братской могилой. Пламя то вскидывалось красным и желтым, то становилось в ярком солнечном свете прозрачным и исчезало из глаз.
Серебристый легкий звон происходил оттого, что люди, подходившие к Вечному огню или проходившие мимо, бросали на гранитный цоколь серебряные и медные денежки, монеты ударялись с певучим, долго дрожавшим в воздухе звуком о полированный камень и скатывались вниз, к широкому основанию. Вся земля вокруг Вечного огня была в белых и желтых кружочках монет.
Никому, даже бойким Преображенским, сокольническим и черкизовским мальчишкам, не приходило в голову поднять монетку и прикарманить ее.
Монеты блестели на солнце, и может быть, от этого их блеска навертывались на глаза слезы.
Негромкий, нежный звон денежек о камень стоял в воздухе, и было похоже, что тысячи маленьких серебряных колоколов благовестят вразнобой.
Они долго стояли втроем у Вечного огня, мать держала Ольгу за руку, и Ольга чувствовала, какая у нее горячая, напряженная рука. Отец обнял ее за плечи — Ольга сильно выросла за последний год-два, просто-таки вымахала, переросла мать и почти сравнялась с отцом.
Справа, и слева, и сзади, и спереди молча стояли десятки и сотни людей, не сетуя на толчею, не проталкиваясь вперед и никуда не торопясь.
Очень может быть, что это был первый и единственный такой светлый и чистый праздник во всей бабушкиной жизни. Пусть это даже и произошло после ее смерти и она ничего этого не увидела.
Потом они, не переговариваясь и не обмениваясь впечатлениями, поехали с Преображенки домой, точнее — к матери и Ольге, на Ямское Поле, на отцовых «Жигулях» цвета «коррида».
Отец молчал и думал о том, что, когда он умрет и уйдет в землю, ему больше всего на свете хотелось бы слышать хоть изредка, хоть раз в году над своей могилой этот нежный, хрупкий звон.
Мать и Ольга тоже молчали.
Ольге казалось, что она открыла сегодня в себе и в людях новый, совершенно неведомый ей до сих пор мир. И она надеялась всей душой, что сегодняшнего дня ей хватит на всю жизнь.
А мать вдруг вспомнила старое, давным-давно забытое слово, которое она слышала когда-то в детстве от своей бабки, бабушкиной матери: причащение, причастие.
Не в церковно-ритуальном конечно же смысле. В философском, если угодно.
Впрочем, философия — это от ума, это работа и плод выверенного, бесстрастного разума. Философия тут ни при чем.
Чип весь этот день провел дома в полном одиночестве.
Теперь он уже не страдал даже от него — он стал слишком стар и для этого.
В философском опять же смысле — в данном случае как раз вполне уместном, — старость — это и есть окончательны!! и бесповоротный уход в одиночество. Или, по крайней мере, привычка к нему. Точнее даже — потребность в нем. Наверное, так нам легче приготовиться к одиночеству смерти, свыкнуться с мыслью о ней. В конце концов, смерть — это и есть вечное одиночество, не более того.
Единственным человеком в семье — хотя это и слишком сильно сказано, точнее было бы: «единственным близким семье человеком», — который продолжал испытывать к Чипу повышенный интерес и всякий раз, приходя в гости, ждал и даже понукал Чипа вновь запеть, как то и подобало, на его взгляд, уважающему себя кенарю (или канарейке, выше уже отмечалась некоторая двусмысленность и неразбериха в этом вопросе), была вторая отцова теща, мать его уехавшей со скрипачом-французом второй и теперь уже, собственно, бывшей жены. Она еще надеялась услышать Чипово пение.
Дело в том, что прежде — так уж сложилась ее жизнь — она ни разу не слышала канареечного пения.
Но Чип молчал. Он уже никак не походил на андерсеновского соловья, выкованного из червонного золота, с изумрудами или рубинами вместо глаз и с волшебным музыкальным механизмом внутри. Он стал похож, скорее, на больного желтухой старого, печального воробья.
Он был уже не броско-лимонного цвета, перья и особенно пух на груди и брюшке поседели и стали всего лишь неопределенно-охристы. Голова его и вовсе облысела и глаза уже не глядели на мир веселыми бусинками, а словно бы затянулись полупрозрачной, тусклой пленкой.
Теперь Чип большую часть дня сидел отрешенно на жердочке, вцепившись в нее из последних, убывающих сил единственной своей здоровой лапкой и поджавши под себя увечную, и дремал или, очень может быть, уходил в себя и в воспоминания о своей пусть и прожитой в неволе, в клетке, но все же такой дивной и такой некогда безбрежной жизни.
Иногда он в этой своей полудреме не удерживался на жердочке и сваливался вниз, на дно клетки. Но и больно ударившись, он не жаловался, и не пенял на судьбу.
Есть все основания полагать, что он догадывался, что жить ему осталось недолго.
А жизнь, что ни говори, даже за решеткой, в данном случае за прутьями клетки, дается только раз, и расставаться с нею не так-то легко.
Надо также думать, что мысли его (если конечно же допустить, что пернатые вообще способны мыслить) были невеселые.
Каким бы это запоздалым парадоксом ни показалось стороннему наблюдателю или даже самому хронисту и жизнеописателю, именно теперь Ольга вновь, как двенадцать лет назад, полюбила Чипа.
Очень может быть, она просто созрела для любви вообще.
Теперь уже она вместо отца ездила за конопляным семенем или канареечной смесью на Кузнецкий и Арбат, меняла Чипу воду в блюдце и бумажную подстилку на дне клетки.
Ей даже казалось, что она — как когда-то бабушка пение Чипа — понимает его молчание.
Когда она глядела на престарелого, безмолвного Чипа, на нее накатывала печаль.
Впрочем, это была странная печаль — в ней было больше томительной, изматывающей надежды, больше ожидания неведомо чего, чем горечи и сожалений. Это была даже, можно сказать, вовсе и не печаль, а то, что в старину называлось «томление духа».
А может быть, и плоти.
Ей было уже девятнадцать лет, она училась на втором курсе медицинского, была мечтательна, прямодушна и преисполнена нетерпения, а любви не было.
У нее до сих пор не было ни одного мальчика. Она ни разу не влюблялась, и в нее тоже никто еще не был влюблен.
Душа ее и сердце «томились». Ей казалось, что она уже отчаялась ждать.
Собственно говоря, Ольга была уже не только готова к любви и для любви, но и — любила. Вот только предмет этой любви пока отсутствовал.
Иногда Ольгу охватывало смятение. Ей казалось, что любви уже не дождаться, что все позади и впереди ничего ее не ждет. Довольно распространенный, чтоб не сказать — типичный, случай, если иметь в виду ее девятнадцать лет.
Когда Ольгино смятение и, не побоимся этого слова, испуг перед будущим подступали к горлу и требовали выхода, сочувствия или хотя бы простого понимания, отец и мать переводили все в шутку и, как в подобных случаях поступают все родители, позабыв о собственной томительной жажде любви в свои девятнадцать лет, утешали ее стертыми и мало обнадеживающими сентенциями вроде «все впереди», «куда ты торопишься», «все в свое время» и так далее и тому подобное.
У взрослых вообще наблюдается нечто вроде аберрации памяти или, точнее, притупления уставшего, оглохшего от грохота и торопливости жизни слуха на молодое, нетерпеливое сердце.
Красивой в полном смысле слова Ольгу, очень может быть, и нельзя было назвать, но выросла она тоненькой, высокой, на длинных, по моде, ногах, с едва выступающей, по той же неумолимой моде, грудью, а талия у нее была такая, что отец своими большими, сильными руками теннисиста почти мог ее обхватить.
У нее были большие, совсем как у матери и бабушки, но только еще больше и лучистее серые глаза. Даже не серые, а какие-то дымчато-синие, в мелких серебряных брызгах или, точнее, искорках. А волосы были в отца — густые, пепельные с совершенно бронзовым отливом. Она их носила то «конским хвостом», то рассыпала тяжелой, плотной волной по плечам, но отец больше всего любил, когда она собирала их в тугой узел на затылке. Тогда становилась видна ее высокая, нежно-юная шея, и когда она ходила в летних открытых сарафанах на бретельках, то и покатые, округлые и вместе еще трогательно детские плечи.
Отец вообще любил ее без памяти, а теперь, когда от него ушла вторая его жена и он остался, собственно говоря, совершенно один, Ольга стала его единственной, если можно так сказать, страстью.
Ольга тоже его очень любила и страдала, когда он — ей для этого не нужны были его слова — казался самому себе обойденным судьбой.
Но вслух они об этом меж собой никогда не говорили.
Она и с матерью далеко не всем делилась. Мать была менее, чем отец и сама Ольга, склонна к рефлексированию, к бессмысленному самокопанию.
Очень может быть, у нее попросту не хватало на это ни времени, ни сил.
Отец считал, что Ольге надо специализироваться по психиатрии. Мать же была категорически против — она знала, что такое работа врача вообще, а психиатра особенно, сколько на это нужно физических сил, самоотвержения и терпеливости.
Она хотела, чтобы Ольга пошла по ее стопам и стала косметологом.
Но окончательное решение вопроса насчет будущей специальности оставалось за Ольгой. Иногда, глядя на дряхлеющего на глазах Чипа и на его подогнутую под брюшко увечную ногу, Ольге приходила мысль стать ветеринаром и лечить птиц. Чип меж тем угасал, как еще совсем недавно угасала бабушка.
Временами Ольге казалось, что бабушкина душа неизъяснимым каким-то образом переселилась в Чипа. Что Чип и бабушка как бы слились в одно и что новая, вспыхнувшая в ней именно после смерти бабушки любовь к Чипу — это просто-напросто недоданная, не израсходованная при жизни бабушки нежность и жалость к ней.
Она любила и жалела Чипа, кроме всего прочего, и из какого-то неотступного чувства вины перед покойной бабушкой.
Любовь к Ольге пришла совершенно внезапно, когда она, вконец отчаявшись ее дождаться, готова была махнуть на себя рукой и за неимением лучшего заняться всерьез наукой.
Он ездил на мотоцикле.
При этом он был виолончелистом и учился в том самом институте имени Гнесиных, в котором учился — точнее, недоучился — отец.
Мотоцикл был без коляски, но он придумал и сконструировал хитроумное приспособление, позволяющее приторачивать виолончель вдоль мотоцикла, справа.
У него вообще были сверх, разумеется, музыкальных еще и разнообразнейшие технические задатки. Например, он сделал для Ольги параллельный телефон — до этого телефон существовал только в материной комнате, и Ольге приходилось бежать сломя голову на каждый звонок, и часто она добегала, когда в трубке раздавались уже ехидные гудочки отбоя, — так вот, он установил в Ольгиной комнате самодельный аппарат, состоящий из одной трубки с приделанным к ней диском с цифрами, очень похожий на полевую рацию.
Его чуть ли не каждый день останавливали и штрафовали «гаишники»: притороченная к мотоциклу виолончель никак не предусматривалась правилами уличного движения.
К тому же он всегда повсюду опаздывал и превышал скорость.
А вообще он был высоченный и до чрезвычайности тощий, чуть надменный и немногословный мальчик хрупкого и даже несколько женского склада. Это впечатление усугублялось тем, что на его смугло-бледном лице под густой и рассыпающейся на обе стороны копной черных волос постоянно лежала розовая, почти прозрачная, как бы девичья, тень румянца.
Только руки — крупные, широкие ладони, длинные, сильные пальцы — были мужские и, казалось, принадлежали не юноше, а совершенно взрослому человеку.
Когда они впервые встретились, Ольга не только не запомнила, но просто даже и не успела разглядеть его лица.
Она, как всегда, опаздывала на занятия, и даже не на первую, а на вторую «пару», и, стоя на остановке восемьдесят второго автобуса на улице «Правды», «голосовала» безнадежно вытянутой рукой. Но машины — и такси и леваки — проносились мимо, не обращая на нее никакого внимания.
И когда около нее резко, с каким-то истерическим визгом притормозил мотоцикл (в тот первый раз без притороченной к нему виолончели; потом-то они преотлично приспособились ездить втроем: он, Ольга и виолончель) и некто в защитном шлеме и очках во все лицо сказал традиционное в подобных случаях: «Вам куда?» — Ольга, в полнейшем цейтноте, взобралась на заднее сиденье и, обхватив за талию спасителя-мотоциклиста, помчалась с ним на адски тарахтящей машине — предназначенной, как заметила впоследствии мать, больше для самоубийства, чем для безопасного передвижения, — сначала по Ленинградскому проспекту, потом по улице Горького (по Тверской, как бы непременно уточнила покойная бабушка), по Садовому кольцу до Зубовской и направо, к своему второму медицинскому.
В тот день она впервые села на мотоцикл.
Ей это пришлось по душе.
Когда он домчал ее до института, она едва удосужилась бросить ему на ходу «спасибо».
Даше если бы она и обернулась, то лица его все равно бы не увидела — он так и не снял очки и шлем.
Но у нее и обернуться-то не было времени. Точнее, ей это и не пришло в голову.
За весь день она ни разу о нем не вспомнила — ни сидя на лекциях, ни на лабораторных, ни к вечеру, когда, совершенно выдохшаяся и измотанная, вышла из института.
Однако самое необъяснимое во всей этой истории заключается в том, что, не вспомнив о нем ни разу за весь день, Ольга ничуть не удивилась и даже сразу, без малейших колебаний, узнала его, когда, выйдя из института, обнаружила, что он ее ждет на том самом месте, куда доставил утром.
Она ждала любви — и вот любовь явилась, что ж тут удивительного?!
Она удивилась лишь его лицу, когда увидела его без очков: ей показалось, что именно его — с этим его лицом, с этими рассыпавшимися на обе стороны прямыми черными волосами и с этим смугло-розовым, словно бы светящимся изнутри румянцем, с его, наконец, мотоциклом и виолончелью, — одним словом, что именно его-то она и ждала.
Вот это-то полнейшее, как ей теперь казалось и в чем она мгновенно, но раз и навсегда, на веки веков, уверилась, совпадение ее ожиданий с нежданно нагрянувшей реальностью ее и поразило.
К тому же, как выяснилось, его звали Олег, и это имя ей тоже показалось давно знакомым, полным некоего тайного, устойчивого значения, другого имени у него и не могло быть.
Случилось так, что в тот же день, к вечеру, когда заходящее городское солнце неспешно изливалось на прощание на Москву-реку, на Нескучный сад на противоположном берегу и на притихшую после часа «пик» Фрунзенскую набережную, отец ехал на своих «Жигулях» цвета «коррида» на лужниковские корты. Он ехал по широкой, пустой набережной и думал бог весть о чем.
И когда навстречу ему на строжайше наказуемой правилами дорожного движения, вплоть до лишения водительских прав, скорости — навстречу ему и мимо него — пронесся бешеный мотоцикл с двумя седоками, в этот короткий, почти иллюзорный миг, когда мотоцикл и «Жигули» поравнялись и умчались в противоположные стороны, отец успел увидеть и запечатлеть, как на моментальном фотоснимке, в памяти смуглое, сосредоточенное и даже чуть нахмуренное от напряжения и ответственности лицо парня в шлеме за рулем, а из-за его плеча, прижавшись подбородком к этому плечу и всем телом — к спине парня, которого она тесно обхватила руками за талию, счастливое и чуть испуганное, испуганно-счастливое от бешеной этой скорости и тугого ветра лицо девушки с разметанными, летящими как бы отдельно от нее пепельно-бронзовыми волосами.
И в то же мгновение отец безошибочно, до острой и сладкой боли, сжавшей безжалостной рукой его сердце, узнал в этой девушке с разметанными волосами — не свою дочь, нет, — а свою собственную юность, свою первую, с такими же испуганно-счастливыми глазами, любовь, а в парне — самого себя, того давнего, с рыжеватой бородкой и длинными, по плечи, волосами, повязанными вокруг лба шерстяной ленточкой, что делало его похожим не то на бойкого мастерового, не то на древнерусского ратника.
Хотя, собственно говоря, у отца никогда, ни в юности, ни после, не было мотоцикла и он никогда не мчался на нем с недозволенной скоростью с девушкой, всем телом тесно прижавшейся к нему и с разметанными по ветру волосами.
Единственное, о чем он успел подумать в этот краткий, мгновенно умчавшийся в прошлое миг, — это о том, что парень превышает скорость, а это рано или поздно добром не кончится, и что первый же «гаишник» оштрафует его и за скорость, и за то, что на девушке не было шлема.
Это он подумал, а всему остальному — молодости, скорости, бесстрашию и испуганно-счастливым глазам девушки — успел всего лишь позавидовать.
Хотя, как уже упоминалось выше, он был по природе совершенно не завистлив.
А на следующий день умер Чип. Точнее, той же ночью.
Утром мать вошла в бывшую бабушкину комнату и увидела, что Чип лежит на дне клетки на спине, лапками кверху.
Он умер конечно же от старости, но всем — отцу, матери, Ольге и даже не менее их печалившейся по этому поводу второй отцовой теще — пришло в голову, что умер он потому, что все написанное ему на роду и приговоренное судьбою прожить, увидеть, быть свидетелем или даже не побоимся опять этого слова, участником, — все это имело место и осуществилось, и теперь он был вправе с чистой совестью и чувством исполненного долга, от которого он никогда не уклонялся, тоже уйти.
Чип пел, пока пелось, и о том, о чем пела его душа, и ни разу не сфальшивил. И умолк он тогда, когда петь ему стало больше не о чем.
Он имел полное право уйти.
Чипа уложили в картонную коробку — это с ним, как упоминалось выше, уже однажды было, — на этот раз из-под духов «Южная ночь», выложенную изнутри ватой, и на белизне ваты он опять казался празднично-желт, и вновь стал похож на кованного из червонного золота андерсеновского соловья с теперь уже навсегда сломанным музыкальным механизмом в грудке.
Коробку обернули в оставшуюся еще от деда чертежную кальку, перевязали крест-накрест розовым шнуром, обнаруженным на самом дне бабушкиного, все еще не до конца разобраного шкафа, среди старых и совершенно уже никому не нужных безделок, которые просто не поднималась рука выбросить.
Похоронили его за городом, в лесу, на двадцать третьем километре Минского шоссе. Поехали вчетвером — отец, мать и Ольга на отцовых «Жигулях» цвета «коррида», а сзади, на своем мотоцикле с притороченной сбоку виолончелью, Олег. Был конец мая, лес уже зеленел распахнуто и просторно, невдалеке пел первый майский соловей — живой, не андерсеновский.
Отец достал из багажника саперную лопату и, кряхтя с непривычки, вырыл яму под старой, лохматой сосной с темной почти до черноты хвоей. Копать было нелегко, мешал слежавшийся за долгие годы плотный слой мертвой хвои, он пружинил, и никак было не добраться до земли.
Когда яма была вырыта, коробку с Чиповым телом — хотя, очень может быть, в данном случае как раз было бы уместно слово «прах» — положили на дно, Ольга засыпала ее землей, потом старой, тускло-бронзовой, как и Ольгины волосы, хвоей, затем отец и мать наломали свежей и укрыли ею могильный холмик.
Олег все это время стоял чуть поодаль, в стороне, и не мешал им.
Они постояли втроем — отец, мать и Ольга, — молча, думая каждый о своем.
Но им так только казалось — что каждый о своем, на самом деле они думали об одном и том же.
Потом они пошли к машине, а Олег к своему мотоциклу, и поехали обратно, в Москву.
Думали же они о том, что вот — кончилась одна жизнь и надо начинать другую.
В том смысле, что надо жить.
Но об этом — ниже.
Роман: ПОМИНКИ
…и тут он вдруг понял, что ведь и это было частью того же самого — это яростное желание, чтобы они были безупречны, потому что они для него свои и он для них свой, эта лютая нетерпимость к чему бы то ни было, хоть на единую кроху, на йоту нарушающему абсолютную безупречность, эта лютая, почти инстинктивная потребность вскочить, броситься, защитить их от кого бы то ни было всегда, всюду, а уж бичевать — так самому, без пощады, потому что они свои, кровные, и он ничего другого не хочет, как стоять с ними непреложно, непоколебимо; пусть срам, если не избежать срама, пусть искупление, а искупление неизбежно, но самое важное — чтобы это было единое, непреложное, неуязвимое, стойкое одно: один народ, одно сердце, одна земля…
Уильям Фолкнер1
Ночь он проспал беспробудно, без сновидений, и проснулся рано — солнце ударило в глаза. Он забыл вчера задернуть штору, окно выходило на восток, и, как только солнце поднималось над домом напротив, оно сразу заполняло комнату плотным, осязаемым, казалось, на ощупь светом.
Он проснулся легко, разом и разом же увидел все — шоколадно-серые цветы на обоях, телевизор в углу, будильник на ночном столике, розовый шар лампы над головой — так резко и отчетливо, что зажмурил глаза не от хлынувшего в комнату солнца, а именно от этой резкой отчетливости предметов. И сразу почувствовал нетерпение какое-то лихорадочное, необходимость немедленно вскочить с постели, куда-то торопиться, что-то предпринять, от чего-то защититься.
Но он не сразу сообразил, в чем дело, и, только обшарив взглядом комнату и увидав на телевизоре белый прямоугольник конверта, все вспомнил, собрал в кулак: разрешение ОВИРа Бенедиктову Юрию Павловичу на выезд из СССР для воссоединения с семьей.
Он сел на кровати, паркет холодил ступни — солнце еще не успело нагреть пол, да и какое в начале апреля солнце… Начало апреля, восьмое число, весна, на деревьях, он видел в окно, уже набухли ранние почки, вот-вот брызнут из них упрямые, торопливые листья. Весна, потом будет лето, все будет, было всегда, как было тысячу тысяч раз: весенняя Москва, летняя Москва, осень, зима и опять весна, только не будет уже тут его, Бенедиктова Юрия Павловича.
В комнате было холодно и неуютно, как бывает лишь весной, когда прекращают топить, холод шел от пола, от стен, особенно от немой, без привычного зимнего булькания и воркования, батареи: одного взгляда на стылый ребристый металл было довольно, чтобы тебя пронял озноб. Но солнце за окном уже совсем весеннее, веселое, и небо тоже весеннее, налившееся ясной, беспримесной синевой.
Он встал, протопал босыми пятками к телевизору, взял конверт, вернулся к постели и снова укрылся одеялом, но желание перечесть письмо прошло, он просто держал его перед глазами, рассматривая яркую марку: космический комбайн «Союз-Аполлон».
— Жребий брошен, — выплыло безо всякого смысла из памяти, — Рубикон перейден. — И совсем уж невпопад: — Карфаген должен быть разрушен.
«Образование, — подумал он, — Момзен, „История Рима“. Плутарх, Светоний, Сенека, Тит Ливий, Тацит. А в результате — белый конверт, табула раза, дальняя дорога…»
Бенедиктову было сорок четыре года, начинать все сначала — он это знал — уже поздно, никаких иллюзий, никаких надежд на то, что там он сможет начать все сначала. А ехать — уже не миновать.
Еще вчера, да, вчера, до четырех часов дня, когда он, вернувшись домой, обнаружил в почтовом ящике этот овировский конверт, — еще вчера он надеялся, хоть и не признавался себе в том, что получит отказ, что все останется как было. Ну пусть и не совсем как было, но он все же увидел бы, как московская весна перельется в московское лето, осень, зиму — и опять наступит весна, он нашел бы какую-нибудь работу, с голоду не подох бы, в нашей стране никто с голоду не подыхает, он что-нибудь придумал бы, выкарабкался как-нибудь…
Еще вчера.
Месяц на сборы, на то, чтобы продать книги, мебель, чтобы съездить в Одессу к сестре и на могилу мачехи, — могилы отца он не знает, не знает даже, была ли у отца могила или же он похоронен в наспех вырытой в вечной мерзлоте яме вместе с другими заледенелыми трупами. А могилы матери и вовсе не отыскать — война, фронт, военврач, краткое извещение: «Пропала без вести». Месяц на то, чтобы распроститься с друзьями и, собственно говоря, с самим собой, каким он был и каким знал себя до вчерашнего дня, — месяц, чтобы оборвать все нити, перерезать все вены и артерии, кровь будет вытекать, медленно дымясь, алая венозная и черная артериальная, или наоборот, он не помнит точно. За все про все — один короткий месяц.
Он натянул одеяло на голову, лег на бок, подтянул колени к животу. В какой это стране хоронили мертвецов именно в такой позе, на боку, с согнутыми в коленях ногами?.. Но вспомнить не мог. Хорошо сохранившиеся останки неизвестного происхождения, установить не представляется возможным. Тесная могилка, уютненький склепик — чисто, сухо, тепло. И в изголовье — ничего: ни креста, ни полумесяца, ни шестиконечной звезды, не говоря уж об имени и фамилии, гражданстве, месте и времени рождения, национальности, профессии, социальной принадлежности, избирался — не избирался, состоял — не состоял, ненужное зачеркнуть. Кроме металлической «молнии» от ширинки, никаких иных предметов быта или культа не обнаружено. Особых примет — тоже, если не считать некоторого утолщения (мозоли, нароста) на третьей фаланге среднего пальца правой руки, косвенно указующего на долголетнее пользование орудием типа «вечное перо».
Вечная память.
И все же он встал, принял душ, побрился, вымыл после завтрака посуду — привычное дело, заурядные заботы, размышлять при этом можно совсем о другом или вовсе ни о чем. Он подумал, что сейчас единственное его спасение в том, чтобы жить именно так: не размышляя, не задумываясь, не видя и не оценивая себя со стороны, а складывая жизнь, сопрягая ее из обыденных, простейших, как детали детского «конструктора», действий и поступков, неизбежных необходимостей, в которых ни ум, ни сердце не участвуют. Простейшие арифметические действия, сложение, например, при котором за слагаемыми, за самим процессом сложения не разглядеть итоговой суммы.
Он оглянулся через плечо, увидел себя в ледяной зеркальности шкафа: сорок четыре, ни годом меньше, но и не больше, вполне еще благопристойный мужчина, вступивший в лучшую пору зрелости, прекрасная пора, очей очарованье. Прекрасная форма, завидное здоровье, твердое положение в обществе, спокойный взгляд в будущее, удовлетворенное честолюбие, удачливость в делах — вот что прочел бы в зеркале любой сторонний наблюдатель, любой непредвзятый соглядатай. Но сам-то Бенедиктов знал, что заключенный в глубине зеркала его двойник был вовсе не им, Бенедиктовым, а кем-то совершенно другим. Словно отражение в гладкой и холодной поверхности отделилось от оригинала, чьим нелицеприятным повторением ему надлежало быть, как бы даже отреклось от него, выставив в насмешку над ним лишь то, что сам оригинал старательно напяливал на себя, чтобы быть — как все.
Ведь отказывали же в выезде другим, некоторые по году, а то и дольше живут «в отказе», а он, не прошло и месяца со дня подачи заявления, получил этот конверт с разрешением! Он, который еще вчера так надеялся и даже был уверен в глубине души, так убаюкивал себя возможностью отказа, иллюзией незыблемости своего суверенного права на свободу выбора хоть в самое последнее мгновение!..
Но и тут он лгал себе. Нет, не лгал, а просто видел — вот как сейчас увидел бы его самого в зеркале чужой, равнодушный взгляд — не полное, трехмерное отражение правды, а лишь двухмерное, без перспективы и глубины, усеченное ужасом перед свершившимся и теперь уже непоправимым фактом.
А факт заключался в том, что самый его поступок был отнюдь не свободным выбором между чем-то и чем-то, а всего лишь неотвратимым итогом событий и обстоятельств, от него не зависящих и им не управляемых. А стало быть, и мнимый этот выбор, и самый поступок были несвободны, обескровлены с самого начала.
И не только его отражение в зеркале отреклось от него, Бенедиктова, но и сам он, приняв это решение, отрекался не просто от родных пенатов, друзей, привычек, привязанностей, но и от самого себя прежнего, того, кем он был, каким себя знал.
И все же он теперь испытывал некоторое облегчение, словно свалился камень с плеч, тяжесть непосильная упала с души — еще вчера за ним как бы еще оставалось некое подобие последнего слова: я передумал, я беру свое заявление назад, я остаюсь! — и сама эта возможность мучила неопределенностью, таила в себе пытку сомнением, а сегодня все уже позади, сегодня он уже бессилен что-либо изменить, Рубикон перейден, корабли сожжены, от Карфагена осталось одно пепелище. Облегчение пришло вместе с такой опустошенностью, с такой тусклой усталостью, с таким безразличием к тому, что будет с ним там, что, звоня по телефону Паше Ансимову, он сам поразился равнодушию собственного голоса:
— Получил. Вчера. Через месяц.
Он вышел из дома, солнце сияло вовсю, но на Садовом кольце было ветрено и зябко. Он пошел пешком к Смоленскому бульвару, чтобы договориться в комиссионном насчет продажи мебели. В этот ясный, продутый свежим весенним ветром день все — дома, люди, машины, витрины — виделось особенно резко и выпукло, как в увеличительное стекло. Две девочки прошли навстречу, коленки у них были голые — первые весенние ласточки. Белизна их незагоревших коленок, их раскрасневшиеся от ветра щеки, и беззастенчиво счастливые глаза, и вымытые до блеска по случаю солнечной погоды автомобили, и полыхание стекол в окнах домов — все было таким ослепительным, таким сулящим одну радость и беззаботность и так не вязалось с тем, что произошло с Бенедиктовым и что его ожидало, так несовместимо было, что он вдруг подумал: а что, если и конверт, и ОВИР, и отъезд, и все-все — дурной сон, ничего этого нет, потому что этого не может быть никогда, этого представить себе даже нельзя, господи!..
Но сговаривался он в комиссионном насчет мебели вполне деловито и сговорился наилучшим образом: оценщик придет завтра, осмотрит мебель, а приедут за нею накануне или за несколько дней до его, Бенедиктова, отъезда, он их поставит в известность, как только купит билет. Товаровед не спросил, отчего оп продает всю обстановку разом, товаровед и сам все просек, у него были умные и плутоватые глаза, он догадывается о причинах этой распродажи оптом, но не позволит себе ни о чем расспрашивать, все будет в лучшем виде, не в его правилах обижать клиента, ну и себя, ясное дело, тоже, — тут он улыбнулся Бенедиктову дружелюбно и заговорщически, — он своего не упустит, но и клиента не обмишулит, — а глаза его цепко ощупывали лицо Бенедиктова: явно русак русаком, стопроцентно, куда же он-то намылился?! — да и мебель у него наверняка модерн-стандарт югославский или гедеэровский, на ней тоже немного башлей набежит, антиквариат-то давно уже весь продан-перепродан, а ведь главный профит в нашей системе именно что от антиквариата, а теперь, у кого он еще есть, такие цены заламывают, что хрен что на нем заработаешь, — но клиенту он все равно поможет чем может, симпатичен ему этот клиент, но неужели — из этих?! «Как насчет отъезда уточните, тут же приедем заберем, деньги, ясное дело, по продаже, хоть кому можете доверенность оставить, а насчет оценки — завтра с двух до пяти, лады? Желаю счастья».
И от этой хитрованской, запанибрата, напористости, с которой разговаривал товаровед, и от собственной своей будничной деловитости, и от того, как просто и легко оказалось расстаться с прежней жизнью — с постелью, на которой ты спал и видел счастливые сны, со столом, за которым работал, и со столом, за которым ел хлеб свой насущный, и с книжными полками, на которых стоят в ряд молчаливые твои учителя, их сжатая на века в коленкоровых корешках мудрость и бесстрашный опыт, — от того, как легко и просто оказалось расстаться со всем тем, что делало осязаемой и реальной самую его жизнь, Бенедиктов, выйдя из магазина на набережную, поймал себя на том, что там, в полусумраке комиссионки, пропахшем тлением старого, рассохшегося дерева, ему и самый его отъезд не казался таким уж трагичным, скорее чем-то вполне будничным и заурядным: продаем старую мебель, купим новую, покончим со старой жизнью, начнем новую, отрясем старый прах с наших ног.
Он пересек, жмурясь от бьющего в глаза солнца и от резкого ветра с реки, набережную, перешел на другую сторону, остановился у гранитного парапета, уперся локтями в ноздреватый, холодный камень.
По Москве-реке ходили уже речные трамвайчики, ослепительно-белые на серой, чуть подсиненной отражением неба воде, вода была густа, медлительна, по ней плыли радужными павлиньими хвостами масляные пятна, стекла в рубках трамвайчиков выстреливали прямо в глаза солнечными вспышками, река билась с жирным плеском о камень набережной. Сесть бы на этот кораблик и уплыть!.. Москва-река, Волга, Волго-Донской канал, Каспий или Черное море — сбежать, замести следы, уйти под воду, затаиться, дождаться, пока все забудется, дотянуть до лучших времен и — как ни в чем не бывало: в чем дело? я ничего не знаю, не помню, никакого отъезда, никакого ОВИРа, вы что-то путаете, где мой стол, моя кровать, мои полки с книгами? мне просто надо было побыть одному, в чем дело?! оставьте меня в покое, я вернулся, все в порядке!
Или перейти через реку, напротив — Киевский вокзал, купить билет на ближайший поезд, укатить куда глаза глядят, паспорт в кармане, я гражданин, у меня права и обязанности, снять номер в деревянной районной гостинице или даже просто койку, но только чтоб у окна, белая свежая простыня, подушка колется перьями, тяжелое шерстяное одеяло, укрыться с головой, перехитрить время, спать и не просыпаться и не видеть никаких снов — «какие сны в том смертном сне приснятся?..» — проснутся: доброе утро, в чем дело?! И — все на месте, никаких перемен, никто ни о чем не спрашивает, разве что: где ты был? я волновалась, места себе не находила — уехал, ничего не сказав, не предупредив, я же тебя люблю, я люблю тебя, я не могу без тебя, без тебя я просто умру!..
«Без меня… — подумал он. — Все это будет: река, вокзал, трамвайчики, поезда, солнце, ветер, эта набережная, и этот тип из комиссионки, и мой стол, за которым будет есть свой хлеб кто-то другой, и полки с книгами, все это будет — без меня».
Но представить себе Москву, и солнце, и ветер, и книги без себя он не мог, нельзя себе представить мир, в котором тебя нет, жизнь, в которой ты отсутствуешь. Что же до предстоящей ему там жизни, Бенедиктов не только был не в силах представить себе ее, но и гнал от себя эти мысли, боялся в них заглянуть и увидеть свое отражение на дне колодца в черной воде.
Он поднялся мимо гостиницы «Белград» обратно на Смоленскую, перебирая в уме дела, которые ему предстоит сделать в ближайшие дни, часть — даже сегодня: голландское посольство — за въездной визой, австрийское — за транзитной, букинистический — договориться насчет продажи книг, нотариальная контора — копия диплома, копия водительского удостоверения, потом — в Одессу к сестре и на могилу мачехи, потом…
Он стоял на троллейбусной остановке у высотного здания МИДа, троллейбусы приходили и уходили один за другим, «букашка», десятка, семнадцатый, а он все стоял, он забыл, что ему надо делать, куда идти. Голова была пустая, в ней свободно гулял этот резвый весенний ветер, солнце режет глаза, закроешь веки — багровые круги и шары еще долго буравят зрачок.
Весна, весной на улицах девушек становится вдвое больше, они расцветают первые, а уж за ними тянутся почки, листья, трава, цветы, они кажутся все до единой долгоногими вестницами счастья. Боже, если бы я мог полюбить одну из них, любую, наугад, первую, которая пройдет мимо, если бы только я мог полюбить, если бы я мог позабыть ту, которой уже нет и полюбить эту, — господи, я прошу у тебя такой малости! — то чары развеялись бы, рок отступил и — никуда ни ехать, ни бежать, ни менять кожу… Господи! Такая малость!..
…Улица Герцена, начало осени, воскресенье, восьмой час вечера. Ни души — вся Москва на дачах, в лесу, по грибы: прощание с летом. Я жду тебя у театра Маяковского, солнце еще не зашло, тень делит улицу пополам. Каждый шаг, шуршание автомобильных шин, человеческая речь отчетливо слышны издалека, стены размашисто отражают звуки, и, стоя у театра, я слышу, как смеются дежурные гаишники у Никитских ворот. Безлюдно, просторно, и от этого светло и печально на душе. Я жду тебя, тебя все нет, плотная синяя тень перемещается, ширится, словно вода в прилив, заполняет собою высохшее асфальтовое русло улицы. Я гляжу, как надвигается на противоположный тротуар тень, и когда она лизнула бордюр тротуара, там, в самом конце улицы Герцена, у Манежа, раздалось отчетливо и дробно: «цок-цок-цок-цок». Это ты идешь легко и ловко на своих «шпилечках», я услышал и понял, что это ты, раньше, чем увидал тебя, — «цок-цокцок», я дождался тебя, на тебе, я это ясно вижу издали, что-то синее-синее, а над синим — твое лицо под разметавшимися волосами, «цок-цок-цок», ты переходишь улицу, и от смены света, оттого, что с солнца ты вошла в тень, лицо твое вдруг вспыхивает, загорается розовым сиянием. Ты идешь ко мне, как свечечка, и я бросаюсь к тебе навстречу, чтобы — не дай бог! — ветер не задул эту свечечку, чтобы ты донесла ее до меня, и вдруг понимаю, как я люблю тебя.
2
День рождения — Бенедиктову исполнилось тридцать три — он отпраздновал, как было заведено уже многие годы, в мастерской Левы Борисова. Собрались все свои — Ансимов, Левашов, Дима Куликов, Гена Конашевич — кореши, единоутробные братья, набилась тьма народа. Так уж повелось, что все более или менее значительные события жизни, дни рождения — Лева их упрямо называл почему-то «днями ангела», — свадьбы, разводы, получение гонораров, удачи свои и неудачи они всегда обмывали в просторной — метров двести квадратных — Левиной мастерской на чердаке старого московского дома на Молчановке.
Борисов был один из самых близких Бенедиктову друзей. Они сошлись тесно еще со студенческих Юриных лет и, несмотря на разницу в годах — Борисов был лет на двенадцать старше, — дружба их была на равных, и за долгий этот срок они не наскучили друг другу, редко ссорились, а поссорившись, скоро и легко мирились.
Борисов прошел всю войну, от первого дня до последнего, сначала разведчиком, потом начальником полковой разведки, кончил ее майором и, вернувшись после победы в Суриковский институт, из которого и ушел на фронт, окончил его по классу живописи и был самым что ни есть убежденным реалистом. За дипломную свою работу — «В госпитале», огромное полотно, четыре на три метра, — он получил Сталинскую премию, а вместе с нею и все блага, которые она в те времена предполагала: обильные заказы, тиражирование репродукций с них, персональные выставки, цветные обложки и вкладыши в «Огоньке», членство в выставкомах и разнообразнейших правлениях и секретариатах и, наконец, вот эту необъятную мастерскую на Молчановке, из окон которой открывался просторнейший вид на Кремль, на еще только строившиеся тогда на площади Восстания, на Смоленской и в Котельниках высотные здания с готическими шпилями, на разливанное море Замоскворечья. Посредине мастерской стояло возвышение для моделей, Лева его называл не иначе как «подиум» и частенько, придя ночью домой безнадежно пьяным, засыпал, в пальто и ботинках, на этом «подиуме».
Успехи его были шумны, доходны, но недолги. Через несколько лет после получения премии Борисов ударился в прямо противоположное реализму направление и, словно бы торопясь и боясь безнадежно отстать, пустился во все тяжкие: импрессионизм, постимпрессионизм, сюрреализм, кубизм, примитивизм, правда, дойдя до абстракционистов, он остановился как бы в раздумье, пауза эта затянулась до бесконечности, и в конце концов он окончательно забросил живопись и целиком обратился к скульптуре.
Собственно говоря, все последние годы он лепил одну и ту же фигуру — Истину. Десятка полтора вариантов в человеческий рост стояло по углам его мастерской, укрытые влажными рогожами. Истина давалась ему нелегко, лишь недавно он остановился, как сам утверждал, на последнем варианте, но и его неустанно, изо дня в день переделывал: угловатая, с острыми грудями и тонкими, длинными ногами с по-детски мосластыми коленками девочка-девушка стояла, потянувшись на цыпочки и запрокинув назад голову, защищая от солнца глаза слабой, нежной рукой, — истина, по мысли Борисова, обжигает глаза, слепит их нестерпимым огнем. Фигура и в самом деле была хороша, в ней была и неутолимая жажда человека приблизиться к истине, и страх его перед нею.
Борисов был огромен, под два метра, тучен, с всегда встрепанными седеющими космами. Отчаянный любитель ночи напролет спорить на отвлеченные философские и божественные темы, хлебосол и краснобай, он был друг и приятель всех московских знаменитостей — поэтов, космонавтов, гомеопатов, ученых, непризнанных гениев и людей решительно без определенных занятий. Мастерская его стала чем-то вроде клуба или салона, куда можно прийти незваным в любое время суток, особенно после закрытия злачных заведений, когда — недопито и мучит смертельная жажда.
Господи, — когда и июльский этот день шестьдесят четвертого года, и все это безмятежное и такое короткое десятилетие кануло в прошлое и испарилось, будто его и не было, — господи, думал через много лет Бенедиктов, куда все это подевалось — и тот день, и время, и сами мы, молодые, доверчивые, так преданно дружившие друг с другом, не ведавшие сомнений и пророчившие себе одни удачи и победы?.. И узнать ли, отыскать ли нам в себе нынешних тех, беспечальных и восторженных, что сидели на вознесшемся над двухдесятиязычным градом чердаке, в каждом углу которого стояла еще не обретшая окончательного облика, укрытая влажной дерюгой Истина? Где мы? Куда девались?..
За столом напротив Бенедиктова сидели Конашевичи — Гена, архитектор, уже успевший получить первые награды на двух или трех конкурсах, правда, ни одному из его проектов так никогда и не было суждено быть осуществленным в натуре, и его жена Таня. Таня привела с собой свою подругу Майю Гошеву, которую Бенедиктов едва знал, — он с ней познакомился прошлым летом в Ялте и тут же напрочь позабыл, она показалась ему тогда просто хорошенькой и свеженькой столичной девочкой из тех, каких пруд пруди.
Но теперь, сидя напротив нее, он впервые увидел так близко ее лицо, темно-карие глаза с розоватыми белками, глядящие на него открыто и безбоязненно и, как ему почудилось, с насмешливым укором: что же ты все смотришь и смотришь на меня, неужто сразу, еще тогда, прошлым летом, не разглядел меня, не угадал?..
День ангела близился к концу, за окнами стояла уже темень, стол был уставлен грязной посудой, неопрятные остатки еды утыканы мокрыми желтыми окурками, на дне чашек со следами губной помады по краям стыла глянцевитая кофейная жижа, сигаретный дым ел глаза.
Бенедиктову вдруг обрыдло и затянувшееся это застолье, и пустые, тысячу раз слышанные и никого ни к чему не обязывающие разговоры, и похожий на кудахтанье гигантской курицы Левин захлебывающийся голос, и остроты его, над которыми он первый и громче всех смеялся, — и захотелось ему оказаться не здесь, а за городом где-нибудь, в лесу, на воле, и чтоб никого вокруг, кроме — Майи.
Потом он, как ни старался, не мог вспомнить ничего из того, о чем говорилось за сто, лом, за что пили, кого и за что хвалили или ругали, о чем судачили, что говорил и делал он сам. Не вспомнить было ему, не восстановить в памяти, как они ушли из Левиной мастерской, куда подевались все остальные, как очутились они с Майей в Красной Пахре на даче Конашевичей. Осталось же только это — шорохи леса, начинавшегося сразу за дачей, ровный, как накат моря, шум сосен, теплый запах свежескошенной травы с опушки, текший в распахнутое настежь окно, немые вспышки зарниц далеко за лесом, отражавшиеся фосфорически в зеркале на противоположной от окна стене, и рядом с собой, на шатком, скрипучем дачном топчане, ее покорное, бесстрашное, неутомимое тело, и — ни опаски, ни угрызений, ни тени сомнения в том, что никуда теперь ему от нее не деться, не спастись бегством.
Ты мне снишься каждую ночь. Уже прошло полгода — где там! — год, скоро год! и за окном опять весна, опять капель, опять небо синее, — а ты мне снишься каждую ночь.
И еще мне снится, будто у меня выпадают зубы. Без боли, легко, словно они у меня не проросли в деснах кривыми, крепкими корнями, а приживлены на скорую руку, стоит пошевелить языком — и они вываливаются на подставленную ладонь. Говорят, это к расставанию, к утрате. Что ж, пусть и задним числом, а примета верная.
Хотя, если посмотреть правде в глаза, не по тебе одной я маюсь, а — по себе самому, тому, прежнему. Это похоже на то, как наутро после ампутации человек тоскует не по своей руке или ноге, отрезанной и уже погребенной на госпитальной свалке, а по самому себе прежнему и себя самого прежнего, неусеченного, ему и не хватает.
Уже поздно, второй час, за окном капает с крыши, в открытую форточку тянет талой водой и бензиновой гарью города, я сейчас лягу, погашу свет и усну, чтобы ты опять явилась мне и опять от меня отреклась, не дожидаясь третьих петухов.
3
О начальственном звонке на студию по поводу своего сценария Бенедиктов узнал, как водится, последним.
С Пахры он вернулся в Москву только к вечеру и первым делом отключил телефон — ему не хотелось слышать ничей голос, ни с кем ни о чем говорить, потому что ничто сейчас не могло быть важнее того, что с ним произошло там, на Красной Пахре.
Но и уснуть он тоже не мог, долго лежал без мыслей на продавленном диване, пружины ворчливо скрипели, когда он тянулся на локте за сигаретой и спичками. Потолок над ним был весь в трещинах и скучных рыжих потеках — когда-то у верхних соседей протекла батарея, — и он все считал, чтобы уснуть, эти трещины, всякий раз сбиваясь со счета.
Проснувшись утром, он взглянул на часы — ему казалось, что он проспал не меньше суток, но часы стояли, он забыл их завести накануне. Он включил телефон, чтобы узнать время, но тот, словно всю ночь только этого и ждал, тут же торопливо и тревожно затрезвонил, и в трубке послышался вежливый, безличный голосок Ирочки, секретарши Николая Сергеевича Синицына, директора объединения на студии:
— Юрий Павлович? Доброе утро, Юрий Павлович. Николай Сергеевич просит вас приехать к нему сегодня. Прямо сейчас. Как только сможете. Спасибо.
— А сколько сейчас времени, Ирочка?..
— Четверть десятого. Девять пятнадцать. Мы вас ждем.
И, не дав ему спросить, зачем он понадобился Синицыну и что за спешка такая с утра пораньше, Ирочка положила трубку.
Но в голосе ее Бенедиктову послышалась какая-то непривычная, подчеркнутая официальность, которая никак не вязалась с их, его и Ирочки, добрыми отношениями, и это встревожило его: он уже достаточно пожил в мире кинематографа — тертый калач, стреляный воробей, — чтобы не улавливать в голосе даже не начальства, а и секретарши начальства грозящие бедой, предвосхищающие ее интонации.
Не успел он, поговорив с Ирочкой, положить трубку, как телефон тут же опять забил тревогу прямо-таки колоколом с пожарной каланчи.
— Ты спишь?! — проорал ему в ухо голос Сергея Левашова, мембрана телефона придавала его голосу те реверберационные модуляции, которые так обожают звукорежиссеры, — Ты спишь?! Спишь, кретин, когда твою «Клетку» именно в эти минуты закрывают?!
— Кого закрывают? — не понял его со сна Бенедиктов. — Кто?..
— Если и не закроют, так в лучшем случае законсервируют на веки вечные, а это — что в лоб, что по лбу!.. Я тебе звонил вчера весь день, ты что — отключил телефон? Или, может быть, вообще не в курсе?!
Левашов поставил четыре сценария Бенедиктова, и две из этих четырех картин принесли ему и Юрию имя, призы на кинофестивалях и устойчивую — в той мере, в какой вообще есть что-либо устойчивое в зыбком мире иллюзиона, — почву под ногами, а ничто, как известно, не связывает так прочно режиссера со сценаристом, как общая удача.
К тому же Бенедиктов знал, что за напористой категоричностью Левашова, за его профессионально самоуверенным лицом с выдающимся вперед подбородком, за что его на студии прозвали «щелкунчиком», с жесткой линией рта под пшеничными усами, дугами спускающимися вниз наподобие старорежимных генеральских подусников, за его холодными голубыми глазами — за всем этим хоронится и боится быть узнанным и разоблаченным скрытный, все подвергающий сомнению — в том числе и себя, — нерешительный и вежливый мальчик из «хорошей семьи». За всем этим привычным киношным маскарадом, за реквизитом моды и ремесла — потертыми джинсами, стоптанными замшевыми башмаками, за дымчатыми стеклами очков в квадратной, в пол-лица, оправе — грустный, загнанный вечной суетой, переваливший за сорок человек и, как полагал Бенедиктов, надежный и верный его друг.
— Уже звонили?! — завопил в трубку еще истеричнее Левашов, — Так спозаранку?.. Плохо дело, совсем плохо!..
— Что случилось, Сергей? — никак не мог взять в толк Бенедиктов. — Ты можешь — членораздельно, черт побери?!
— Ты что, прикидываешься или и вправду ничего не знаешь?.. — не поверил ему Левашов, — Вчера на студию звонил наш куратор из Госкино, ну, эта старая крыса Аблынин, а он пальцем не пошевельнет, пока не провентилирует вопрос где надо. Я узнавал, у меня там свои люди. А вот кто за его спиной стоит — это нам еще предстоит узнать. Короче, потребовал картину в производство пока не запускать, накидал кучу поправок, не оставил от сценария камня на камне!.. Причем письменно ничего не прислал, все на словах, а хуже этого ничего и быть не может — сами, мол, проявите бдительность, а уж Синицын с Сидоркиным ее проявят, можешь не сомневаться! Это тот случай, когда им не поправки нужны, а чтобы мы с тобой как раз отказались делать поправки, тогда они с чистой совестью закроют картину, мы сами и виноваты окажемся: зачем отказались, не прислушались к критике?.. Ладно, чего тут огород городить по телефону, протри глаза, через полчаса я за тобой заеду, жди внизу, время не терпит!.. — и бросил трубку, а Бенедиктов свою еще долго держал у уха, прислушиваясь к меленьким и злым сигналам отбоя — ту-ту-ту-ту, — и во рту у него было кисло и клейко, на душе — пусто, ему не хотелось ни ехать на студию, ни защищаться, доказывать — что? кому?! — а хотелось лишь опять отключить телефон, завесить окна плотными, не пропускающими ни света, ни звуков шторами, укрыться с головой, забыть об опасности, которая нежданно-негаданно выскочила из-за угла, строя гнусные рожи и скаля черные, плотоядные зубы. Но он знал, что все равно не миновать защищаться, доказывать, изворачиваться, иначе нехитрый этот механизм сработает наверняка, без осечки, его шестеренки и маховики всегда наготове, одно нажатие рычага — и закрутились, заскрежетали, перемалывая зубьями все, что велено перемолоть, переварить и извергнуть.
Сюжет «Лестничной клетки» был прост, он носился просто-таки в воздухе: в новый дом на застраиваемой окраине Москвы, в соседние квартиры на одной лестничной клетке вселяются два старика, два пенсионера. Обоих выбирают в домовый комитет, они заседают, решают вопросы озеленения, оборудования детской площадки, наглядной агитации, борются с нарушителями правил общежития, и не сразу, не вдруг эти двое узнают друг друга: один из них в тридцать седьмом был безвинно осужден, второй — вел его дело, допрашивал, готовил «материал», который и лег в основу обвинения и приговора. Узнали друг друга, но — где грань между возмездием и местью, между правом на расплату и правом на прощение, на забвение?.. — идет жизнь, будничная, повседневная, они живут рядом, на одной лестничной площадке, заседают в товарищеском суде, два старика, одиноких, больных, одни и те же заботы, газеты, очереди, кефир по вечерам, и даже телефон — спаренный.
Бенедиктов понимал, что эта его вещь — а написалась она разом, никогда прежде ему не писалось так свободно, — не просто удача, а — перелом жизни, порог, за которым он теперь не сможет, да и не захочет писать, как раньше, жить, как раньше — легко и беспечно. Написав этот сценарий, он и сам изменился, вернее, сперва изменился он, а уж потом написался сценарий, написанное было итогом, первой жатвой этой его человеческой перемены. Поздно, конечно, меняться в тридцать три года, так ведь тут — ни торопить, ни торопиться, тут уж как бог на душу положит.
Он вышел на улицу, она была безлюдна и тиха, еще не пала на город полуденная жара, воздух был так прохладен и свеж, что, подумал Бенедиктов, идти бы и идти утренними пустынными переулками, твердо памятуя, что все твои беды, неудачи и оплошности — сущая чепуха, дырка от бублика, вся цена им — пучок пятачок!
Но левашовский «Москвич» затормозил у подъезда с истошным скрежетом, Бенедиктов сел в машину, и Сергей, не дожидаясь, пока он захлопнет дверцу, рванул с места.
Только выехав на набережную, Левашов, не отрывая глаз от влажного, недавно умытого поливальными машинами асфальта, заговорил отрывисто:
— У тебя хоть есть какие-нибудь догадки, отчего это они так круто переменили отношение к сценарию?..
— Откуда?! — пожал плечами Бенедиктов, и вдруг ему захотелось, прямо к горлу подступило, поделиться с Сергеем главным, единственно для него сейчас важным: — Мне не до того, Серый, совершенно… Я, кажется… знаешь, я, кажется, влип…
— Еще бы… — сквозь зубы пробормотал Левашов. — И если бы один ты! Даже пусть и я! Так ведь вся группа, картина уже запущена… Еще бы не влипнуть!..
— Я не о том, я, кажется, влюбился, Серый, вот что…
По ту сторону реки, словно кто-то включил невиданной силы рубильник, вспыхнули золотым слепящим сиянием купола Новодевичьего монастыря, Бенедиктову даже почудилось, что сквозь грохот грузовиков на набережной издалека, едва различимо, ветер принес чистый, хрупкий колокольный звон. И с удивлением и благодарностью подумал, что, не будь у него сейчас Майи, он бы места себе не находил от тревоги и беспокойства, бился головой о стенку…
— Что ты думаешь делать? — прервал его мысли Левашов.
— Делать?.. — не сразу услышал его Бенедиктов. — А что тут вообще можно?..
— Только не валяй дурака! — вскинулся Сергей и еще теснее сжал рулевое колесо руками, светлые волоски курчавились из-под рукавов рубашки, — Делать! Именно! И не вообще — прямо сейчас! Что ты собираешься сказать Синицыну?
— Это зависит от того, что он скажет сам.
— Ничего он не скажет! Он ждет, что мы ему скажем. Ты! Пойми, его положение тоже не из легких, он запустил картину, дал «добро», и вдруг оказывается, что попал пальцем в небо! Не ты от него — он от тебя ждет помощи.
— Помощи? Что я могу?!
— Можешь. Он одного теперь хочет — выиграть время. Чтобы ты согласился на поправки, забрал сценарий на доработку. А там — пройдет время, страсти поутихнут…
— И он опять запустит картину?
— И не подумает! Просто тогда он сможет все спустить на тормозах, спишет убытки и — «прощайте, скалистые горы». Тихо, мирно, никто и не колыхнется!
— Ну, а по-твоему, что я должен?..
Левашов не ответил, неотрывно глядел на дорогу.
И тут Бенедиктов повторил:
— Знаешь, я, кажется, влюбился… То есть даже не кажется, а… Одним словом, что-то произошло. Что-то произошло, и от этого все остальное…
— Нашел время, действительно!.. — Левашов едва ли его даже услышал, а уж не понял — наверняка.
— И ничего я, Сергун, переделывать не стану. Знаешь, что ни говори, уже четвертый десяток, а мы все в коротких штанишках бегаем, все выпрашиваем пряника, все боимся Бармалея и Бабу-Ягу… Не буду, Сережа, не уговаривай.
— Мне-то что?! — зло огрызнулся Левашов. — Не твой сценарий — так еще какой-нибудь сниму, их на студии, дерьма этого, хоть отбавляй. Плевать! Он, видите ли, влюбился, ему, видите ли, не до грубой прозы!.. Плевать я хотел на тебя, если уж на то пошло!..
«Вот тебе и надежный, верный друг!..» — скорее удивился, чем возмутился, про себя Бенедиктов, а Левашов, будто подслушав его мысли, добавил:
— Как и ты на меня, впрочем. Можно подумать, мне нужен твой сценарий — искореженный, урезанный, одно название останется…
…В кабинете Синицына окна были затенены шторами, и вертелся под потолком пропеллер вентилятора, деревянные панели стен были увешаны фотографиями кадров из картин, вошедших, по общему суждению, в «золотой фонд».
Николай Сергеевич не приподнял со стула свое грузное, расплывшееся от сидячей жизни тело, не пошел им навстречу, и это было знаком плохим. Он сидел, углубившись в чтение передовой статьи в утренней газете, и лишь жестом пригласил их обоих подойти к столу и сесть. Кресла были глубокие, обитые прохладной кожей. «Мягко стелет…» — подумал, опускаясь в кресло, Бенедиктов.
Синицын дочитал до конца передовую, аккуратно сложил газету вчетверо, бережно положил на край стола и только после этого, не поднимая на Левашова и Бенедиктова глаза, спросил спокойно, но настойчиво:
— И что будем делать?
Левашов и Бенедиктов решили промолчать, не лезть первыми на рожон.
Но и Синицын не торопился выложить на стол свои карты.
Николай Сергеевич начал свою жизнь в искусстве в тридцатые годы гримером, образования ни специального, ни сколько-нибудь законченного не имел, но зато был человеком доброжелательным, незлобивым и к тому же неоднократно битым, что и воспитало с годами в нем, наряду с осторожностью и осмотрительностью, также и понимание простой, но далеко не всегда и не для всех очевидной истины: его собственная карьера и благополучие зависят от тех, кто делает это самое кино, — от режиссеров, сценаристов, операторов, администраторов, и, стало быть, их-то ему и надо беречь и пестовать, правда не давая при этом слишком много воли. Во всяком случае, сам Николай Сергеевич крови не жаждал и никогда без видимых причин или без указаний сверху никого за жабры не брал. Тем более что тот же жизненный опыт подсказывал ему, что ни при каких обстоятельствах не следует жечь за собой все мосты, неизвестно, чем все еще может обернуться назавтра. Пути господни неисповедимы и еще менее предсказуемы. Тут надо прежде всего быть диалектиком.
Останься он на своем, по праву и по способностям ему принадлежащем месте — тем же гримером хотя бы, — быть бы ему и вовсе добрейшим и полезнейшим человеком. Но когда сидишь в высоком, не по росту, кресле и ноги твои, без опоры, беспомощно болтаются в воздухе, не достигая до матери-Земли, поневоле станешь делать и думать не то, что хочешь и умеешь, а то, что велят.
Его вопрос: «Что будем делать?» — повис в прохладном воздухе кабинета, колеблемом бесшумными лопастями вентилятора.
Николай Сергеевич медлил, и Бенедиктову с Левашовым было ясно, что он еще не принял никакого решения, не «прозондировал» еще окончательно это дело, не располагает полной и недвусмысленной информацией, которая одна только и могла бы его освободить от тяжкой необходимости принимать собственное, самостоятельное решение.
Николай же Сергеевич колебался, следовательно, был глубоко несчастен.
— Что ж… — не выдержал затянувшегося молчания Бенедиктов, — стало быть, делать нечего…
— Тебе — конечно! — взорвался вдруг Николай Сергеевич. На студии знали за ним и привыкли к этим его неожиданным, на ровном месте, взрывам, он мог завестись на целый час, кричать и топать ногами, материться, грозить всеми казнями и пытками, но скоро отходил и назавтра начисто забывал о своем гневе и угрозах, да и никто, собственно, кроме зеленых новичков, не принимал их всерьез. — Тебе — конечно! Вольный художник! Надомник! Кустарь-одиночка!.. — гремел на весь кабинет Николай Сергеевич. — С тебя взятки гладки! С гуся вода! Закроют этот сценарий — напишешь два новых и ко мне же придешь, я же тебе деньги плати, авансы за пачкотню за твою! А с меня — стружку, с меня — семь шкур!.. За тебя! За него! — ткнул он, захлебываясь яростью, в Бенедиктова и Левашова пальцем. — За вас за всех, обормотов гениальных! Феллини проклятые! Де Сики! А шишки все — на меня! Как гран-при ваши, пальмовые ветви вшивые — так вам, а как под задницу — так мне!..
И тут же, словно поймав его на более чем неуместном в присутствии подчиненных порыве откровенности, зазвонил один из четырех стоявших на столе телефонов: низкий, знающий себе цену, негромкий зуммер.
Синицын мгновенно осекся, ошарашенно поглядел на телефон, потом взял трубку, но не сразу приложил к уху, а прокашлялся, поправил сбившийся на сторону галстук:
— Синицын слушает. Да, Анатолий Лукьянович, я слушаю…
Бенедиктову ц Левашову не было слышно, что говорит по телефону Синицыну Анатолий Лукьянович, но было нетрудно догадаться, что речь идет именно о них.
— Они как раз у меня, — ответил Николай Сергеевич невидимому собеседнику. — Да, именно обсуждаем. Сами понимаете, Анатолий Лукьянович, вопрос непростой… Нет, я на них не давлю, но… Хорошо, Анатолий Лукьянович, ровно в двенадцать ноль-ноль… — и бережно, будто боясь причинить неосторожностью обиду Анатолию Лукьяновичу, положил трубку на рычаг.
Положил, уставился на телефон отрешенным взглядом, молчал.
— Не гора к Магомету, — прервал молчание Левашов, — так Магомет к горе…
— Дорого, боюсь, нам это твое магометанство встанет… — неожиданно устало и покорно сказал Николай Сергеевич. И вдруг стало видно, что он уже стар, и устал, и болен, и осточертело ему, доконало его это кино, обрыдло ему все, а сил бросить, махнуть рукой — нет.
Самое удивительное во всем этом, подумал Бенедиктов, так это то, что Синицын и вправду преданно любит это самое кино и их любит — его и Левашова, и вообще всех тех, кто делает под его началом кино, любит нежной, иногда даже заискивающей любовью и старается помочь, остеречь, когда это можно сделать, не слишком рискуя собственным благополучием в этом мире, состоящем из тысяч и тысяч честолюбий и тщеславий, интриг и самопожертвования, истинных талантов и отпетого жулья. И не только любит, думал Бенедиктов, но и, пообтершись за полвека обо всех Эйзенштейнов, Роммов, Пудовкиных, Довженко, толкаясь в фойе и просмотровых залах бесчисленных кинофестивалей, он если не вкус и знание, так, на худой конец, хоть чутье приобрел, инстинкт, способность на нюх отличить настоящее от подделки, и именно в этом его ахиллесова пята, потому что должность требует от него производить не одни только шедевры, но и то, что называется попросту продукцией. Раздвоение личности, думал с сочувствием о Николае Сергеевиче Бенедиктов, а это не проходит даром. И кончит он непременно инфарктом, никуда ему не деться. А жаль старика. Новый-то уж наверняка будет безо всяких там ахиллесовых пят. Жаль старика.
Очень может быть, что и сам Николай Сергеевич думал о том же, не отрывая взгляда от телефона. Наконец он поднял глаза на Левашова и Бенедиктова, поглядел на них безо всякого выражения, надел очки и, погрузившись опять в чтение той же передовой, которую изучал до их прихода, сказал сухо:
— В двенадцать нас ждет генеральный директор. Все. Пока, во всяком случае.
Они вышли из кабинета.
Коридоры всех наверняка в мире киностудий похожи на сумеречные тоннели, прорубленные в толще глухой горы, на лабиринт, где ни входа, ни выхода, ни надежды выбраться из него, но и — ни желания выбраться.
Бесконечный — ни конца, ни начала — мир потерянных шагов, заплутавшихся жизней, освещенный зыбким лучом кинопроектора. Болотный огонек, завлекающий тебя в топи и волчьи ямы, манящий сладким дурманом славы и всякий раз ускользающий от тебя, неуловимый: вот он, на расстоянии вытянутой руки, ты опаляешь кончики пальцев его пляшущим огнем, чуешь ноздрями едкий его дым, надежда и ожидание разливаются по жилам, чтобы потом, когда дурман пройдет, оставить по себе лишь тяжкое похмелье. Но назавтра ты вновь ринешься в это бесконечное синбадово путешествие по тем же — ни конца, ни начала — коридорам, к берегам, которых нет, к цели, которая тает на глазах всякий раз, как ты ее достиг, и ты вновь и вновь возвращаешься к точке пересечения несуществующих долгот и широт, с которой начинал свой бег в этом беличьем колесе.
Исшарканный подошвами серый паркет, тьма дверей, пишущих машинок, прожекторов, юпитеров, софитов, пратикаблей, съемочных камер, мавиол, монтажных столов, микрофонов, усилителей, микшеров, ассистентов, осветителей и монтажеров, бутафорских корон и никогда не стрелявших ружей, бледных щек с актерским, напрокат, румянцем, коробок с пленками, похожих на олимпийские диски древних и вместе на судки с стылыми столовскими щами, тонны бумаги, исписанной сценариями, режиссерскими разработками, сметами, отчетами, приказами, выговорами и благодарностями, гулкая пустота ночных павильонов, прокисший воздух худсоветов и редколлегий, невнятное эхо произносимых на них слов, речей и покаяний, и ныне, и присно, и во веки веков, тени былых жизней, упрятанные за стеклом стеллажей дипломы, гран-при, золотые и серебряные кубки, из которых никто и ни когда не утолял жажды, свидетельства былых побед и громовых триумфов, провалов и неосуществленных замыслов… но это был его, Бенедиктова, мир, и он его любил и ненавидел, как любишь и ненавидишь самого себя в трезвом, не знающим пощады одиночестве бессонницы. Здесь ему сражаться, отступать и наступать, наносить удары и зализывать раны, падать замертво и подниматься как ни в чем не бывало, биться всякий раз до крови за то, что, собственно говоря, всего лишь плод твоей же собственной фантазии. Каких-нибудь семьдесят с небольшим страничек вымысла на машинке через два интервала…
Ровно в двенадцать они вошли в кабинет генерального директора студии.
Синицын был уже там.
Генеральный вышел из-за стола, пошел им навстречу, улыбаясь широко и дружелюбно:
— Садитесь, товарищи, пожалуйста, — и вернулся за свой стол.
Левашов и Бенедиктов опустились в кресла, стоящие перед столом, Синицын же сидел поодаль, по правую руку от начальства, на стуле с высокой, прямой спинкой, и как бы должен был присутствовать, но не участвовать в разговоре.
— Ну-с, дорогие, — сказал после короткой паузы Сидоркин, — что будем делать?
Левашов не удержался, мрачно огрызнулся:
— Нас уже спрашивал об этом Николаи Сергеевич час назад.
Синицын только заерзал на стуле, ничего не сказал.
Сидоркин и не покосился на него, по-прежнему ободряюще смотрел на Бенедиктова и Левашова, а руки его привычно перебирали бумаги на столе, цветные карандаши, сигареты, зажигалку, переставляли с места на место, солнце играло в золоте обручального кольца и в стекле японских часов на запястье.
Левашов с Бенедиктовым и Синицын смотрели не на лицо Сидоркина, а неотрывно и внимательно следили за его руками, словно ради этого только и пришли сюда, и именно от них, от сидоркипских рук, зависит решение их дела.
— Тем более, — мягко и с необидной усмешкой сказал Сидоркин, — за час вы наверняка и ответ уже нашли. Не кто-нибудь, а ведущий наш режиссер, ведущий сценарист, вам и карты в руки.
Сидел спокойный, ладный, молодой, улыбался, только руки его продолжали свою неутомимую работу.
Он был другого поколения начальник, нежели Синицын, иной закваски. От Синицына и его довоенной генерации молодые отличались не только образованностью, учеными степенями, знанием иностранных языков, не только повадкой, манерой держаться — подтянутые, сдержанные, неболтливые, в меру модно, но и неброско одетые, не только хорошо выверенным знанием собственной жизненной цели, но и твердой уверенностью в том, что если цель и не оправдывает средств, то уж наверняка требует гибкости в ее достижении.
— Тем более, — повторил Сидоркин и снял очки, поигрывая ими, — Я жду, товарищи. Вот хотя бы вы, Юрий Павлович. Или вы, Сергей Алексеевич. Пожалуйста.
Бенедиктов и Левашов разом, будто сговорившись, взглянули на Синицына — тот сидел на стуле, широко расставив толстые ноги и упираясь в колени руками, смотрел в пол, молчал.
Сидоркин перехватил их взгляды:
— На Николая Сергеевича не поглядывайте, он свое еще выслушает, можете быть уверены! — И добавил чуть холоднее и официальное прежнего: — А с критикой надо соглашаться или не соглашаться, ее надо проанализировать и сделать полезные выводы.
— Так ото ведь не критика, — Бенедиктов старался говорить как можно спокойнее и рассудительнее, — это, насколько я знаю, всего-навсего телефонный звонок. И — чей?..
— Это — окрик! — опять не удержался Левашов. — Требование закрыть картину!
— Ну, закрывать или не закрывать — это нам с вами решать, на то мы тут и сидим, — словно бы даже обиделся Сидоркин, — А точнее — вам. Вам и Юрию Павловичу.
— Нам?! — подскочил в кресле Левашов, — Ну, знаете!..
— Сценарий был обсужден в главке, — так же спокойно и рассудительно вмешался Бенедиктов, — принят, утвержден, а теперь тот же главк…
— И сценарий, и режиссерская разработка! — опять вскинулся Левашов. — Три раза обсуждали! Утвердили единогласно! И вы сами тоже, между прочим, Анатолий Лукьянович!
— А как же можно было его не утвердить?! — удивился совершенно искренно Сидоркин. — Как же не утвердить, если написал его не кто-нибудь, а Юрий Бенедиктов, я ставить собирается опять же не кто-нибудь, а Сергей Левашов?! Не люди с улицы!.. Конечно, утвердили. В том числе и я, вы совершенно правы. Утвердил и поддержал, несмотря на многие — очень многие, не скрою от вас! — опасения. Но именно тогда, когда я как раз собирался вам их высказать, пришлось ехать в спешном порядке в Италию, на фестиваль. Так уж получилось. Помнишь, Николай Сергеевич? — Но к Синицыну опять не обернулся. — Мы как раз вместе с тобой и ездили. Я тебе тогда еще в гостинице — помнишь? — говорил, что не надо бы, по-моему, спешить, надо дать ребятам еще раз подумать, прикинуть, обмозговать… Но — утвердил, а как же. А вот что не успел толком поговорить, все высказать — это уж и моя вина, нечего все на главк сваливать, — Повернулся наконец к Синицыну: — Верно, Николай Сергеевич? У тебя опыта побольше, чем у нас всех, вместе взятых, разве я неверно говорю?
— Само собой, — развел руками Николай Сергеевич, — само собой… — но смотрел по-прежнему в пол.
Бенедиктову вдруг до смерти все надоело, захотелось встать и уйти, сбежать к Майе, он вдруг понял, что все, что происходит сейчас в кабинете Сидоркина, — ложь и лицедейство и лишь Майя — не ложь, не мираж. У него есть Майя, и сейчас он встанет, ничего им всем не скажет, не попрощается даже, не повернет головы, уйдет и тут же о них забудет. Нужно только сейчас встать и уйти, не оглядываясь.
Но он не встал, не ушел.
— …вам и решать, — говорил меж тем дружелюбно, но и предостерегающе Сидоркин, — Не мне и не Николаю Сергеевичу, а именно вам. И откреститься от этого, как вы изволили сказать, ничейного звонка нам никто не позволит. Скажем так — художническая совесть не позволит. Тем более что и я, и Николай Сергеевич видели и тогда, видим и теперь в сценарии много нечеткого, непродуманного… И длинноты, и растянуто, и характеры слабо очерчены, без перспективы… Одним словом, не мы, а вы сами должны…
Но Бенедиктов опять потерял нить того, о чем говорил Анатолий Лукьянович ровным, дружеским тоном, и вся эта история со сценарием казалась ему такой незначащей, не имеющей никакого отношения к нему, к тому, что на самом деле сейчас с ним происходит, будто не о нем шла речь, а о ком-то постороннем и совершенно ему безразличном, а важно было лишь то, что случилось с ним прошлой ночью на Красной Пахре.
— …именно вам, — все еще говорил Сидоркин. — Подумайте, поразмыслите, дело терпит, во всяком случае до завтра. Приходите завтра и… Особенно вы, Сергей Алексеевич, вы как-никак главная фигура, и ответственность за будущий фильм именно на вас, если уж говорить совершенно откровенно. Одним словом, если вы придете завтра и скажете — критику учтем, поправки внесем, сделаем все, чтобы… Что ж, нам останется только согласиться. Лично я возражать не буду, хотя… хотя на вашем месте я бы семь раз отмерил, прежде чем… Подумайте до завтра, как говорится, утро вечера мудренее…
Синицын сидел в той же позе, не опираясь на спинку неудобного стула, а наклонившись вперед и по-прежнему уставившись в пол.
Они поднялись.
Синицын тоже встал, упираясь руками в колени.
— Ты останься, Николай Сергеевич, — остановил его Сидоркин, и тот послушно опустился вновь на стул.
«Недолго уже тянуть старику», — подумал о нем Бенедиктов, направляясь к двери.
Но когда они — он и Левашов — были уже на пороге, их настиг сзади, из-за спины, голос Сидоркина:
— И ты, Левашов, тоже.
«Не удержался-таки… — усмехнулся про себя Бенедиктов, закрывая за собою дверь. — Ему бы не при мне остановить Сергея, ему бы это как-то потоньше, посубтильнее…» Он знал, о чем будет без него говорить с Сергеем Сидоркин. Игра была открытая, беззастенчивая, и сейчас Сидоркин там, за дверью, делал решающий ход. Все очень просто. Проще пареной репы.
Секретарша в седеньких кудельках подняла от бумаг глаза, сказала Бенедиктову с нескрываемым осуждением:
— Вам звонили, товарищ Бенедиктов. По телефону Анатолия Лукьяновича.
— Мне? — удивился он. — Сюда?.. Кто?
— Женский голос, между прочим. Не назвался. Сказал, что ждет вас внизу, у проходной.
Бенедиктов подошел к окну и сразу, не ища глазами, увидел за сквозной оградой студии Майю — она сидела на приступочке ограды, читала книжку, держа ее на высоко поднятой голой коленке, и ела из целлофанового пакетика хрустящий картофель.
Бенедиктову показалось, что он слышит отсюда, с высоты третьего этажа, как хрустит рассыпчатый картофель па белых и крупных, как у детей, Майиных зубах.
В открытом окне надувалась парусом тюлевая занавеска, им казалось, что это и вправду парус и они плывут по темной реке, освещаемой с берега-улицы качающимся на ветру фонарем, волны реки мерно раскачивают лодку, одеяло и подушка давно сползли на пол.
Потом за окном засерело, залиловело, медленно стало заниматься утро, город оживал, зашуршали за окном подошвы ранних прохожих, шины автомобилей, загремела во дворе мусороуборочная машина, заскрежетала по асфальту метла дворника, но хмельная, душная оторопь не проходила, не иссякала жажда, не утолялся голод.
— Как ты узнала, что я на студни?..
— Узнала, и все. Наитие.
— А как узнала телефон?
— По справочной. Я подумала, уж директор-то наверняка в курсе, где тебя найти.
— И ты ждала там все утро?..
— Ну и что?.. Я читала книжку, потом ела мороженое, потом картофель, потом опять читала… И запомни — я все про тебя знаю.
— Что ты знаешь обо мне?..
— Что ты меня любишь — этого с меня достаточно.
Утро заполнило уже город до краев, грохотало, лязгало, кричало, торопилось, опаздывало, — но что им было до всего этого?!
И тут настойчиво и громко позвонили в дверь.
Юрий взглянул на часы — было уже около одиннадцати. Он натянул трусы, пошел в переднюю, линолеум щекотно холодил пятки. Он приоткрыл входную дверь, не снимая ее с цепочки.
За дверью стоял Левашов, взъерошенный, заросший щетиной, с осунувшимся лицом, словно он, а не Бенедиктов провел бессонную ночь.
— Открой! — нетерпеливо выкрикнул Сергей и дернул за дверь.
— Погоди. Сейчас, подожди.
Юрий вернулся в комнату. Майя, словно никто и ничто не могло ее потревожить, лежала на свернутой жгутом простыне.
— Там пришел Сергей…
— Я мешаю? — и не пошевельнулась она.
— Нет, но… Пойди в ванную. Мы с ним недолго.
— Я ужасно хочу есть. Я пойду туда, а ты мне чего-нибудь дай поесть. Хоть что-нибудь, я будто целый год не ела.
— Посмотри в холодильнике, — он никак не мог найти свои брюки, одежда, его и ее, была разбросана по всей комнате, где тут что найдешь…
И тут ему вдруг бросились в глаза, как вызывающе красны, кроваво-алы напедикюренные ногти на пальцах ее ног, и почему-то в этих ухоженных алых ногтях ему почудилось что-то такое, чего он в ней до сих пор не подозревал и что таило в себе какую-то опасность для него.
Ничуть не смущаясь своей наготы, она прошла на кухню, достала из холодильника банку с квашеной капустой, вытащила из нее длинную белую прядь, даже на вид кислую и холодную, отправила себе в рот, капуста свисала из уголка ее губ, и так же неторопливо, царственно-бесстыдно прошествовала с банкой в руке в ванную.
— Нет ли у тебя черного хлеба, хоть бы корочки?.. И сигареты?.. Может быть, у него есть сигареты… — И прикрыла за собой дверь.
Бенедиктов поднял с пола подушку и одеяло, сунул под подушку Майкины кофту, юбку, лифчик, пошел в переднюю, отпер дверь:
— Извини…
— Ты не один? — спросил, подозрительно оглядывая комнату, Левашов, — Мне надо, чтобы — один. Ты не один?
— Считай, что один, — сказал Бенедиктов. — Там, — он кивнул в сторону ванной, — Майя.
— Это кто — Майя? — встревожился еще больше Левашов.
— Майя?.. — Юрий и сам не знал, как сказать, кто ему Майя, — Одним словом, считай, что мы одни.
— Это слишком серьезно — то, зачем я пришел, чтобы какая-то Майя… — Он прислушался: в ванной, за шумом льющейся воды, было слышно, как Майя напевает что-то.
— А это, — Бенедиктов повел глазами в сторону ванной, — это, Сергей, еще серьезней… во всяком случае, для
меня сейчас ничего серьезнее нету. У тебя сигареты есть? Мы ночью все выкурили.
— Как знаешь, — неодобрительно пожал плечами Левашов и стал рыться в карманах. — Этих Май у тебя всю жизнь была полна коробочка, так что… На, — он протянул ему пачку сигарет.
Бенедиктов взял из пачки сигарету, прикурил от зажигалки, пошел к Майе.
В ожидании, пока наполнится ванна водой, Майя внимательно и придирчиво разглядывала себя в зеркале. Зеркало было большое, во всю дверь, и Майя в нем помещалась вся. Юрий открыл дверь, Майя поглядела на него тем же отрешенным взглядом, каким только что рассматривала себя в зеркале, будто и в его глазах ища свое отражение. Он протянул ей сигарету.
— Кто это? — спросила она о Левашове, — А черного хлеба у него нет? — затянулась, вынула левой рукой сигарету изо рта, а правой, всеми пятью пальцами, полезла в банку с капустой, хрупала ею вкусно, сок стекал ей на грудь, — Ты спроси, вдруг у него и хлеб есть, черненький…
Левашов стоял у окна, глядел наружу, длинный, нескладный, в вытертых добела на тощем заду джинсах. Он не обернулся к Юрию, заговорил быстро, сбивчиво, словно их вчерашний разговор и не прерывался:
— Ты должен понять! Тебе легко, твой сценарий напечатан, тысячи человек его уже прочли. Он уже существует. А я… Ты должен понять, черт побери!
— Я стараюсь… — Бенедиктов знал, зачем пришел Сергей, что скажет и в чем будет убеждать, знал, и ему было жалко Сергея. И все равно это было предательство. Предательство, трусость и малодушие, — Я ведь вчера еще все понимал. Еще вчера знал, что ты мне скажешь.
— Неправда! — высоким, неестественно тонким голосом выкрикнул Левашов и одним оборотом сухого, плоского тела повернулся к Юрию, но и теперь смотрел не на него, а мимо, в угол, на постель с выпроставшейся наполовину из наволочки подушкой, из-под которой выглядывал Майин лифчик. — Неправда! Я и сам вчера еще ничего не знал! И всю ночь! Я даже ехал к тебе и тоже ничего еще не знал, я, если на то пошло, только сейчас, в эту минуту…
— Знал, — прервал его Юрий, — знал ты все наперед, Сергей. Я на тебя не в обиде, просто…
— Не просто! — тем же срывающимся голосом крикнул Левашов, — Все не просто! Не упрощай! Я не для того сюда пришел, чтобы ты….
Венедиктову стало зябко, ветер из открытого окна остужал потную спину, он протянул руку, взял с постели смятое одеяло, накинул себе на плечи.
— Зачем же ты пришел? Чтобы я согласился с тобой, чтоб сказал — ты прав, чтоб посочувствовал? За этим?..
— Я пришел как к другу! — выкрикнул напоследок Сергей и вдруг сник, отвернулся опять к окну, ссутулилась плоская, костистая его спина. Махнул рукой и сказал печально: — Только ты не поймешь…
Юрий забрался с ногами в кресло, укутался одеялом.
— Говори, я пойму. Я и так все понял. Ты говори, я слушаю.
Но Левашов умолк, словно из него вышел весь воздух, опустился на пол, сел, прислонясь спиной к ребрам батареи под окном, вытянул во всю комнату длинные ноги в облысевших замшевых башмаках, вытащил из кармана сигарету, закурил.
Долго молчали.
— Не хочешь — не надо, — сказал наконец Бенедиктов, — Не надо. Лучше я тебе скажу, зачем ты пришел. А?..
— Ну?.. — с опаской поднял на него глаза Левашов. — Могу себе представить… — Он подтянул к лицу острые коленки, уткнулся в них подбородком, глядел на Бенедиктова глазами приблудного пса, готового к тому, что его ударят.
— Ты пришел ко мне потому, что ищешь ссоры, хочешь расплеваться, чтобы потом совесть у тебя была, как ты надеешься, чиста, чтобы все свалить на мой характер, на мое упрямство… Или, — он отмахнулся от протянутой к нему Сергеевой руки, — или для того, чтобы услышать от меня: выхода нет, иначе нельзя… Ты наделал в штаны еще раньше, чем мы вошли в кабинет к Сидоркину.
— Я никому не позволю!.. — вскочил на ноги Левашов и больно ударился спиной о выступ подоконника, сморщился от боли, коротко простонал, крикнул еще надрывнее: — Никому!
Но Юрий и тут не сжалился, он понимал — это конец их с Левашовым дружбе, доверию, конец всему. Как же это он не подозревал прежде в Сергее этой трусости и малодушия?! Левашов всегда слыл человеком несгибаемых принципов и сам никому не прощал какого бы то ни было отступничества, на всех худсоветах и обсуждениях он громил, не оставляя камня на камне, любую конъюнктурщику, о его неподкупности и стойкости ходили легенды, и вот, когда впервые дошло до дела, когда нужно было найти в себе самом хоть каплю, хоть тень стойкости, — вот он, Левашов, кишка тонка оказалась…
Дважды предал Левашов: его, Бенедиктова, своего друга, и — самого себя. Двойное отступничество, а уж это — дальше некуда.
Бенедиктову вдруг опостылело все это, слова уже ни к чему. Их пути — его и Левашова — разошлись. Нет больше Левашова. Сгинул.
— …потому что я об экранизации «Пиковой дамы» мечтаю вот уже девять лет! — надсадно кричал Левашов, возвышаясь коломенской верстой над съежившимся в кресле Бенедиктовым, — Девять лет! Ты это знаешь не хуже меня! И не давали до сих пор! А вчера Сидоркин… Да и не в одной «Пиковой даме» дело, ты ведь знаешь, о чем я хочу сделать картину! О самом главном! Ежа им всем запустить под череп!.. А вчера Сидоркин — пожалуйста, хоть завтра, хоть в двух сериях, хоть широкоформатный, японскую пленку пообещал на всю картину, любую смету утвердить… Так что же — ради твоих интересов?..
— «Твоих»… — отметил вслух Бенедиктов, — уже не «наших», а «твоих», скоро как…
— Тебе достаточно бумаги и чернил, а мне студия нужна, нужны деньги, пленка, артисты, смета… Неужели ты не понимаешь?! — уже осипшим голосом докрикивал свое Левашов. — Тебе-то легко — чернила и бумага, а я… Если я «Пиковую» сниму так, как задумал, если получится, так потом я не то что твой сценарий — я черта лысого смогу снять!.. Только наберись ты, лях тебя побери, терпения, не дразни гусей!..
Из ванной неожиданно вышла завернутая в мохнатое полотенце Майя — мокрая, капельки воды скатывались по коже, мокрые волосы туго облегли ее голову, и Бенедиктова поразило, какая маленькая и изящная у нее голова, — вышла Майя, босая, мокрые следы на полу, и рукою в блестящих бусинах воды — Левашову на дверь: вон!
— Пошел вон! Вон! Чтоб ноги твоей!.. — и пошла на него с вздетой мокрой рукой, гневная, злобная: — Вон, дрянь! Тварь!..
Левашов попятился к двери и уже с порога, второпях выкрикнул напоследок Бенедиктову:
— Дурак! Самовлюбленный индюк! Блядун!..
Полотенце соскользнуло с Майиных плеч, вода стекала на паркет, набегала лужицей вокруг ее маленьких, нежных ступней с ярко и, как опять бросилось в глаза Бенедиктову, пугающе красными ногтями.
В тот вечер, когда я дожидался тебя на улице Герцена и ты пришла на своих «шпилечках», мы спустились Суворовским бульваром к Арбату.
У старого метро на площади торговали напоследок лиловыми осенними астрами и георгинами, выныривали бесшумно из тоннеля машины, новый Гоголь на бульваре был торжествен и величав, будто никогда не сжигал своих «Мертвых душ».
Мы пересекли Арбат, нырнули с головой в путаницу переулков с названиями, напоминающими о забытой, давно угасшей жизни.
Была уже ночь, шаги громко отдавались в тишине, эхо резво скакало в темноте впереди нас, особенно от твоих «шпилечек» — «цок-цок-цок-цок», вокруг редких фонарей цвело похожее на одуванчик радужное сияние, и под каждым фонарем мы останавливались и целовались, и ладонями я слушал, как жадно бьется твое сердце.
Мы забрели в какой-то двор — детская площадка, качели, песочница, избушка на курьих ножках, все окна были темны, все давно спали, никто нас не мог увидеть, да мы и не думали об этом, нам было наплевать — ни страха, ни осторожности.
Но вот — любила ли ты меня?.. Даже тогда?!
4
Срочную телеграмму из Одессы, от сестры, принесли ночью в половине второго.
Разносчик телеграмм долго звонил в дверь — у Бенедиктовых были гости, звонок услышали не сразу.
«Выезжай немедленно мама скончалась похороны послезавтра Ира».
Бенедиктов ждал этой телеграммы, мать умирала долго, мучительно — рак.
Стоя в передней с телеграммой в руках — из комнат слышны были музыка, голоса, утробный, кудахтающий смех Левы Борисова, — он вдруг подумал: не мать — мачеха, чужая, собственно, женщина, на которой отец женился в короткий перерыв меж лагерями, на поселении, в сорок седьмом, незадолго до смерти и через четыре года после гибели на войне первой жены, их с Ирой матери. Чужая женщина, которую он впервые увидел в пятьдесят шестом, двадцатипятилетним уже мужчиной, но и он, и сестра называли ее даже про себя матерью — отчего?.. В память об отце, которого они и помнить не могли? Или потому, что и родную мать они помнили плохо?..
Любили ли они мачеху? Слово «любовь» было тут не самым подходящим, она вообще мало располагала к любви: жесткая, категоричная, неулыбчивая, но было в ней что-то, что привлекало людей, что заставляло их если и не любить ее, так почитать, подчиняться, заботиться о ней.
Серафима Марковна жила вместе с Ириной в Одессе и за все годы была в Москве раза четыре всего, да и то гостила не у Юрия, а у своей давнишней, двадцатых и тридцатых еще годов, подруги. Высокая, сухопарая, с изуродованными ревматизмом руками, с гладко зачесанными назад редкими седыми волосами, с твердым взглядом из-за очков в старомодной круглой металлической оправе, она жила всегда своей отдельной, независимой от кого бы то ни было жизнью, дружила и общалась главным образом с бывшими сотоварищами по безвинной беде, ходила по инстанциям, выбивая для них квартиры, пенсии, лекарства, путевки, и писала — ежедневно, строго с восьми до одиннадцати, — воспоминания, которые она сама называла «записками» или — чаще — «журналом». Записки свои Серафима Марковна никуда не носила, не пыталась опубликовать, но работать не переставала, исписывая своим мелким, очень четким почерком тощие ученические тетрадки в клетку.
Собственно говоря, Серафима Марковна умирала весь последний год.
Пять лет назад, когда у нее обнаружили рак, ее лечили лучетерапией, потом мучительнейшей химиотерапией и гормональными препаратами, развитие болезни удалось затормозить, наступила долгая, в два с половиной года, ремиссия. Серафима Марковна чувствовала себя вполне сносно, временами даже бодро, даже поверила в полное и окончательное выздоровление, опять сидела каждое утро над своим «журналом». Но потом все началось сызнова, метастазы расползлись хваткими щупальцами по ее уже не сухопарому, а иссохшемуся, изъеденному болезнью старому телу — кожа да кости, отказали ноги, были поражены лимфатические узлы, и вся она исходила сквозь незаживляемые трофические язвы липкой сукровицей, гнилой лимфой, приходилось менять по два раза в сутки бинты и простыни. Боль ужесточалась день ото дня, и Серафима Марковна теперь жила на одних наркотиках, более двух-трех часов без укола она не могла, и только поразительно здоровое ее сердце не сдавалось. Умирало в ней все — тело, кровь, лимфа, железы, легкие, печень, и лишь сердце и мозг упрямо сопротивлялись умиранию.
«…мама скончалась похороны послезавтра». Теперь уже — завтра.
Он был у нее в последний раз месяца три назад — сестра сообщила ему, что никакой надежды нет, никто не может сказать, когда наступит конец: через год, через месяц, через день.
Слегши окончательно и поняв, что ей уже не встать, и что Ире, падчерице, не по силам ухаживать за нею, делать уколы, менять бинты и белье, кормить с ложечки, и, главное, что нельзя ей умирать в одной комнате с внуком, незачем мальчику видеть ее умирание, Серафима Марковна переехала, вопреки просьбам и протестам Иры, к своей подруге — солагернице, жившей на окраине города в маленьком саманном домике, затерявшемся вместе со своим огородиком и полудюжиной яблонь и виноградных лоз между пяти и девятиэтажными корпусами новых кварталов.
Мать не лежала, а сидела, опираясь спиной на высоко взбитые подушки, — лежать она уже не могла из-за пролежней, стала вдвое худее, глаза глядели, казалось, из бездонных черных провалов, но не изменилось ни выражение ее лица, ни жесткая складка у рта, ни ясный, тоже жесткий и твердый взгляд. Изменилось ее тело, но не она сама.
В низкой, почти пустой комнате с марлевыми накрахмаленными занавесками на по-деревенски маленьких окнах, в которые лезла из сада пыльная зелень деревьев, да еще затененной густой листвой дикого винограда, буйно облепившего дом снаружи, и образовавшей зеленый навес над тесным двором, стоял, несмотря на какую-то сиротскую чистоту намытого пола и свежепобеленных стен, невыветриваемый запах лекарств и гнилостной сукровицы, выделявшейся из всех пор умирающего тела. Юрий едва превозмогал тошноту, сидя рядом с кроватью матери на шатком табурете, и мучительным усилием заставлял себя не отводить взгляда от ее лица.
— О болезни говорить не будем, — с самого начала потребовала Серафима Марковна, — с этим покончено.
— Что значит — покончено?! — неискусно возразил Бенедиктов. — Именно теперь тебе надо особенно тщательно лечиться!
— И в прятки тоже играть не будем, — настояла она. — Ты кури. Ты ведь куришь? Я бросила, трудно, задыхаюсь. Кури, тогда запах не такой гадкий. Ты чувствуешь этот запах?.. Прости, но с этим ни я, ни Лиза ничего не можем поделать.
Лиза, Елизавета Григорьевна, была та самая лагерная ее подруга, у которой она теперь жила.
— Никакого запаха я не… — опять попытался он соврать, но она и тут его оборвала:
— Кури. И не лги. Всю жизнь не терпела лжи. А теперь тем более.
— Почему — тем более?.. — ничего глупее спросить он не мог.
— Времени мало, — спокойно и как о чем-то само собой разумеющемся ответила Серафима Марковна, — надо его беречь. Поэтому будем говорить не обо мне, а о тебе.
— Почему обо мне? Я не для того приехал…
— Потому что у тебя времени больше, — упрямо стояла на своем мачеха, — значит, говорить о тебе — перспективнее.
Она любила и часто употребляла это слово — «перспективно», оно в ней осталось от давней, до войны и лагеря, партийной и журналистской жизни.
— Над чем ты работаешь? — спросила она. — Кури, мне даже лучше, когда дым. Жаль, что ты не куришь трубку, трубочный табак еще пахучее. Кури. Так что ты сейчас пишешь?
— Все то же, — пожал он плечами. — Сценарий для телевидения.
— Многосерийный? — оживилась она. — Народ сейчас отдает предпочтение многосерийным. Жаль, у Лизы нет телевизора.
— Я сегодня же куплю и привезу тебе, — поспешил он. — Тут есть антенна?
— Не надо. Лучше расскажи мне на словах, о чем ты пишешь. Ты же всегда жалуешься, что фильмы имеют мало общего с тем, о чем ты сам хотел. Только после. Сейчас нам надо… — она замялась, подыскивая слова, — сейчас нам с тобой надо не о кино, а о жизни. — И, поглядев настойчиво в его глаза, закончила: — С твоего позволения.
Это тоже было ее привычное выражение — хваля или, наоборот, выговаривая кому-то, а это она делала гораздо чаще, чем хвалила, — она непременно, как бы смягчая свой жесткий, без обиняков тон, прибавляла: «с вашего позволения».
Это «с вашего позволения» уходило, вероятно, еще дальше, чем «перспективно», в глубь ее жизни — ко временам ее интеллигентского детства в просторном и даже по тем временам чуть старомодном доме бессарабского провинциального врача («все болезни, а также бактериологические анализы», — золотыми буквами на черной овальной доске у входной двери), ко временам гимназической ее юности — белый передник, пальцы в фиолетовых чернилах, рождественские и пасхальные открытки с накладными, из серебряной фольги, ангелочками, извозчики с красными кистями на лошадиной сбруе и свечами в фонарях: «с вашего позволения».
— Во-первых, мой «журнал», — заговорила она после короткого раздумья. — Мои записки. Ты знаешь, о чем я.
— Да.
— Я их закончила. И я хочу, чтобы ты их прочитал. Все — и то, что ты уже читал раньше тоже, от начала и до конца. Чтоб у тебя было цельное впечатление, а не урывками. Лиза их перепечатала. Правда, она плохо печатает, с ошибками…
— Я выправлю. Ты об этом хотела со мной?..
— Не только. Где Лиза, пора уже укол… Она пошла за молоком. Ничего, я потерплю, не тревожься. Нет, я не только об опечатках, — вернулась она к своей мысли. — Я долго думала, что с ними делать. Публиковать их нельзя, не время, это может вызвать ненужные в данный момент времени толки. Я их никуда и не посылала. Ведь не напечатают? — все же спросила она, и в голосе ее, вопреки ее же словам, была надежда.
— Боюсь, что нет. Считается, что незачем бередить старые раны, раз справедливость уже восторжествовала и порок наказан. Во всяком случае, в обозримом будущем.
— Да, я знаю, — спокойно согласилась она. — Но я все равно должна была их написать. Чтоб никто не смел забыть, как это было. Забыть, что — было.
— Я понимаю.
— Да. И я надумала послать их…
— Туда?! — не удержался он, пораженный. — Ты имеешь в виду…
— Я думаю послать их в ЦК, — перебила она его, — Там они могут пригодиться. Рано или поздно. Во всяком случае, там найдут, что с ними сделать. А ты что имел в виду, когда сказал — туда?.. Только не лги. Терпеть не могу, когда лгут.
— Я стараюсь, — ушел он от прямого ответа. — Я делаю это только в крайних случаях.
— Я не знаю таких случаев, — отрезала мать. — Разве что под пыткой. Меня не пытали, я не знаю — может быть, и я бы не устояла. А уж тебя-то никто пытать не будет.
— Надо надеяться, — согласился он. — За это, кажется, можно быть спокойным.
— Я решу, на это у меня еще есть время. Но один экземпляр, разумеется копию, я оставлю тебе, другой — Лизе. На всякий случай. А может быть, и оба — Лизе, она их сбережет лучше тебя. Не обижайся. К тому же, может быть, ты и не захочешь его хранить у себя, может быть, это может тебе повредить. Ведь может?
— Это не имеет никакого значения, об этом брось и думать. Все будет, как ты сама решишь.
— Я решу. Но ты сам должен сказать мне. Можешь не отвечать сегодня. То есть я даже прошу тебя не отвечать сейчас, я хочу, чтобы ты подумал. Я не хочу, чтобы это как-то тебе или Ире повредило. Подумай и скажи. Ты ведь не завтра уедешь?
— Конечно, не завтра. Я побуду сколько надо. — И поспешил исправить оплошность: — Сколько ты захочешь.
— Я тебя долго не задержу. У тебя всегда дела… Кстати, — вспомнила она о самом главном и даже приподняла голову с подушек. — Кстати, я очень прошу тебя, чтобы ты не подумал, будто я отдаю тебе свой «журнал» потому, что я… что мое состояние… — Она долго и мучительно искала слово, которое бы все объяснило, ничего не скрывая и вместе ничего не называя по имени, — Только потому, что мое состояние не перспективно.
— Я не хочу об этом и слышать! — взял он ее за высохшую, невесомую почти руку и почувствовал, что рука эта покрыта холодным и липким, неживым каким-то потом. — Ты же сама сказала — ни слова о болезни.
— Я не о болезни, — усмехнулась она и посмотрела ему прямо в глаза. — Совсем о другом. Но я не боюсь.
— Ты никогда ничего не боялась, — он не отпускал ее руки, хотя липкий этот пот был ему неприятен и страшен. — И тебе нечего бояться.
— Я писала свой «журнал» и написала его потому, что я коммунист. — Она всегда так о себе говорила: не «коммунистка», а — «коммунист», ибо была твердо уверена, что идеи и убеждения сводят на нет все и всякие различия меж их приверженцами, — И я поступаю как коммунист. Впрочем, не убеждена, что ты меня понимаешь.
— Почему же?.. — уклонился он. Их разговоры с матерью на подобные темы никогда ни к чему не приводили.
— Потому что ты не коммунист. Я поступаю так, потому что это мой долг как коммуниста, а вовсе не из авторского тщеславия, я, слава богу, не писатель. — Слова «писатель», «художник» она всегда произносила с едва скрываемой снисходительностью, ибо важны для нее были идеи в чистом виде, а не художества и прочие изыски, которые, на ее взгляд, таили в себе узурпацию права на не общепартийный, обязательный и единый для всех взгляд на вещи, а — на индивидуальный и, значит, анархистски-безответственный, стало быть, в итоге — оппортунистический, — И если я знаю какую-нибудь правду, необходимую, по моему убеждению, и полезную для партии, я не вправе ее скрывать. Даже если это может повредить мне лично. Более того — даже если это может повредить тебе. — И прибавила по привычке: — С твоего позволения.
— Ну, знаешь ли… — не удержался он.
— Партия не лжет никогда! — незыблемо и почти торжественно перебила она, и обескровленные, белые ее губы сомкнулись еще жестче. — Партия — это вовсе не те, которые… Но партия как таковая — как ум, честь и совесть эпохи… — Произнесши эти слова, застеснялась: — Прости, я не то хотела сказать, я знаю, есть слова, которые при всей своей правильности так приелись, что… Но их сказал Ленин. А он никогда не лгал.
Она глядела на него не мигая запавшими в черные провалы глазами, она не осуждала его, не укоряла — она жалела его, жалела за его неверие в идеи, которые несгибаемо исповедовала сама, ибо всякие другие идеи были для нее вовсе не идеи, а, в лучшем случае, заблуждения.
— Ах, мама!.. — понял он ее взгляд. — Разница между мной и тобой лишь в том, что я хотя бы стараюсь понять тебя, хотя бы признаю за тобой право думать так, как ты думаешь, ты же но то что не хочешь понять — ты меня просто не слышишь, не признаешь моего права на…
— Не признаю, — прервала она его. — Нельзя позволять человеку ошибаться. Тем более в таких вопросах, как идеи. Это слишком дорого может обойтись.
— Кому? — невольно усмехнулся он.
— Кажется, это не ты и тебе подобные, — почти с горделивостью ответила она, — а я без малого двенадцать лет… — но не закончила своей мысли: она никогда, ни при каких обстоятельствах не говорила вслух слова «лагерь» или «тюрьма», хотя ее «журнал», от первой до последней строчки, был именно о лагере и о тюрьме, и там, в этих ученических тетрадках в клетку, с таблицей умножения на обложке, она ничего не утаивала, не прятала и вершила без пощады свой суд над всем тем, что осмелилось посягнуть на ее — ее и Ленина — идеи.
Серафима Марковна сидела перед пасынком, опираясь на высоко взбитые подушки, прямая, высохшая, наполовину уже мертвая, но — несдавшаяся, не отрекшаяся от себя и своей жизни.
А теперь она умерла: «Выезжай немедленно мама скончалась».
Тело матери перевезли с квартиры Лизы, где она умерла, к Ире. Мать лежала в обитом красным кумачом гробу, пахнущем сырым деревом, изнутри гроб был выстлан белой простыней, и тело тоже покрыто простыней, и на этом белом противоестественно резко выделялось темно-желтое, почти коричневое мертвое лицо Серафимы Марковны.
Квартира у Иры была маленькая, тесная, в типичном старом южно-российском дворике, охваченном с трех сторон низенькими одноэтажными, сложенными из пористого известняка домами с открытыми верандами, в передней было не развернуться, и гроб с телом матери пришлось втаскивать и потом вытаскивать наружу через окно.
В скудно освещенной, тесной комнате стояли, заняв все свободное пространство вокруг гроба, человек семь или восемь друзей Серафимы Марковны с скорбно-непроницаемыми лицами, людей, которых привело сюда и собрало вместе не просто горе и человеческое участие, но — и может быть, прежде всего, — долг по отношению к товарищу по судьбе. Выражение их лиц, когда Бенедиктов обошел их всех, пожимая руки, и они тоже, в меру старческих, убывающих в них сил жали руку ему, — выражение их лиц яснее ясного говорило, что сочувствовать ему они, конечно, сочувствуют, но скорбь скорби рознь, и есть у них некое право на особую скорбь и на самое покойницу, которого у него нет и быть не может.
Мать лежала в дешевом гробу, и тени листьев дикого винограда, обвивавшего колонки веранды, окрашивали ее лицо в зеленоватый оттенок и играли на нем, создавая иллюзию движения и жизни.
Все молчали в терпеливом ожидании, когда будет подан погребальный автобус.
— Почему вы решили не завтра хоронить, а сегодня? — спросил Бенедиктов шепотом сестру. — Ведь в телеграмме было — послезавтра?..
— Суббота, — шепотом же ответила она.
— Ну и что? — не понял он. — При чем здесь суббота?..
— В субботу нельзя.
И Бенедиктов сообразил, что речь идет об еврейском кладбище, и удивился еще больше:
— Но почему — на еврейском?!
— А где же еще?.. Она же и была еврейкой, ты что, запамятовал?.. И у нас тут так принято, понимаешь? Ты считаешь, я что-то сделала не так?..
Он ничего не ответил сестре, да и что тут теперь скажешь — поздно…
Всю свою жизнь, думал он, стоя у изголовья гроба покойной мачехи, всю свою жизнь быть воинствующей интернационалисткой и так яростно ратовать за то, что нет и не может быть для евреев, во всяком случае для советских евреев, иной родины, иного прибежища, кроме СССР, и вот теперь, после смерти, которая уж наверняка стирает и отменяет все различия расы и вероисповедания, быть погребенной именно на еврейском кладбище!.. Это она-то, не знавшая ни слова по-еврейски, всегда себя считавшая коммунистом по убеждениям и исконно русской интеллигенткой по воспитанию и отношению к жизни, по самому укладу ее…
И еще он подумал, что, где ее ни погреби, она и после смерти останется такою же, какой была всю свою жизнь, даже смерть не в состоянии поколебать ее веры в то, что на том свете, как и на этом, человеческое в нас выше родового и племенного, общее важнее розного.
Кладбище круто карабкалось вверх по желтому глинистому склону. Место, отведенное для могилы мачехи, было на самом верху, в новой части кладбища, у стены. От ворот гроб несли на руках, и, хоть иссохшее тело было наверняка совсем легким, гроб был тяжел, давил на плечи. Было жарко, парило перед дождем; пока гроб донесли до свежевырытой ямы, Бенедиктов совсем взмок. Он поразился, как тесна эта яма и как глубока кажется, хотя на самом деле вовсе не глубока — мертвых от живых отделяют каких-нибудь полтора метра сухой желтой глины.
К Бенедиктову подошел один из друзей Серафимы Марковны и спросил, можно ли открывать траурный митинг, но эти слова показались Юрию такими чужими, так не вяжущимися с памятью о покойнице и с тем, что он сам сейчас испытывал, что он наотрез отказался, ответив, что они с сестрой предпочитают похоронить мать без надгробных речей.
Сестра первая подошла проститься с матерью. Гроб стоял не на козлах, о козлах могильщики забыли, а просто на выброшенной из могилы глине; чтобы дотянуться до лба матери, Ире пришлось стать на колени, она поцеловала мать в лоб и, поднявшись, машинально отряхнула глину с юбки и, послюнив носовой платок, аккуратно вытерла коленки.
Бенедиктов вслед за нею поцеловал мать в мертвый темно-желтый лоб. Лоб был влажный, прохладный, и Юрий содрогнулся от ужаса и отвращения — ужаса и отвращения живого ко всему мертвому: как мог труп матери в жару, от которой у живых взмокли и прилипли к телу потные рубахи, таить в себе эту неживую прохладу? как не высох, не испарился со лба покойницы этот липкий пот?!
Юрию никогда уже не забыть было плотные, глухие удары комьев ссохшейся глины о крышку гроба. Могилу засыпали, подровняли, обложили холмик цветами.
И все.
Просто, скоро, деловито. Не ритуал даже, не обряд, а цепь простейших действий, мышечных движений, никак не выражающих печали и одиночества, которые должен испытывать человек у свежей могилы другого человека, которого он любил, который был частью его собственной жизни.
У ворот их обступили кладбищенские нищие, нетерпеливо дожидавшиеся своей дани, Бенедиктов сунул одному из них десятку, чтобы тот поделился с остальными; нищий и не подумал его благодарить, он принял деньги как неотделимую часть самого обряда погребения. Друзья покойной попрощались подчеркнуто сухо, сообщив, что они сейчас соберутся у кого-нибудь из своих, чтобы произнести те самые речи, которые Юрий и Ира не дали им сказать у могилы.
Ира с семьей тоже уехала, а Бенедиктов повернул назад, в тесные кладбищенские улочки и тупики.
В нижней, старой части кладбища, в негустой тени от разросшихся вразброд акаций могильные камни стояли потемневшие, позеленевшие от времени, с отбитыми краями и едва различимыми древнееврейскими надписями, и было в этом запустении, в этой замшелой тишине нечто решительно несовместимое с ярко освещенными летним солнцем верхушками деревьев, с жарко-синим небом, проглядывающим сквозь листву над головой.
Под высеченными в мягком, крохком песчанике семисвечниками и шестиконечными давидовыми звездами стояли едва уже различимые имена — бесчисленные Абрамы, Иосифы, Ицхаки, Сарры, Ривы, Соломоны, Моисеи, присяжные поверенные и мелкие лавочники, прогоревшие коммерсанты и несостоявшиеся философы, неуемные коммивояжеры и уездные врачи, после смерти заточенные на этом кладбище точно так же, как их деды и прадеды прожили свои запуганные жизни в тесных кварталах еврейского гетто.
На многих памятниках под старыми письменами стояли свежие надписи, выведенные по камню белой масляной краской, с именами тех, кто сгинул в последнюю войну без погребения: «В память о безвременно погибших от рук немецких фашистов дорогих наших…» Или пропавших без вести в Бабьих ярах и Майданеках, и Юрия поразила в этих свежих надписях их скорбная покорность судьбе. Будто живые, чтя память погибших, принимали их гибель как нечто естественное, само собой разумеющееся, во всяком случае — неизбежное. Словно погибшим на роду было написано погибнуть в печи крематория или в безымянных рвах, словно сама их гибель таила в себе некое изначальное назначение их жизней.
В этой молчаливой покорности, явленной живыми на примере мертвых, была странная несовместимость с той упрямой ежедневной борьбой за место под солнцем, к которой заветом собственного бога было приговорено это племя. Кричащее, необъяснимое противоречие между фанатизмом надежды и фатальностью покорности, между настырностью жизнелюбия и неизбывной печалью и скорбью, между исступленной верой в несбыточное — и тысячелетним знанием, что все проходит и ничего не будет такого, чего уже не было, между песнью песней Соломона и Екклезиастом, между Ротшильдом и Спинозой, скрипкой и конторскими счетами…
Солнце уже садилось за кирпичную стену кладбища, последние лучи падали косо на ветхий камень надгробий, ветер шевелил листву и ровно, едва слышно шелестел в ней. Бенедиктов присел на нагретую солнцем плиту, в траве шебуршали кладбищенские старожилы — ящерицы, жуки, муравьи, гусеницы; если прислушаться, подумал он, можно, наверное, услышать и могильных червей, роющих свои ходы от могилы к могиле. Он думал не о Серафиме Марковне, а о себе, о том, что — вот, уже скоро сорок, полжизни, даже больше, чем половина, и ему повезло, во всяком случае, если сравнить его жизнь с жизнью отца и матери, с жизнью Серафимы Марковны, на его долю выпало куда более доброе и снисходительное время. Он жил как хотел или почти так, как хотел, не знал ни голода, ни ежечасных страхов, ни покорного ожидания неминучей беды. Он любит и его любят, собственно говоря — он счастлив, полон сил, все еще впереди, у него есть Майя и его работа, любовь и любимая работа, только это одно и может служить оправданием тому, что вот он, Юрий Бенедиктов, полный сил и обласканный жизнью, живой и невредимый, сидит на могильной плите, попирающей чужую, давно сгинувшую жизнь.
Он встал, отряхнул брюки, погасил каблуком недокуренную сигарету и пошел вниз, к воротам кладбища.
За воротами, во дворах на противоположной стороне улицы наливался соком ранний виноград, бледно желтели мелкие плоды на низкорослых яблонях, пахло бензином.
Бенедиктов понюхал свои руки — ему казалось, что они все еще пахнут тем липким и влажным тлением, которое исходило от мертвого лба матери. Но живые запахи города были сильнее, настойчивее, они начисто перечеркнули почудившийся ему запах смерти.
Любила ли ты меня? Если бы знать…
Я — как чеховские сестры: убит барон, уходит полк, рушатся надежды, сгорели дотла добро и любовь, а они так ничего и не поняли: «Если бы знать, если бы знать…»
После развода с первой моей женой я снимал на Юго-Западе комнату в двухкомнатной квартире — вторая была заперта на ключ, хозяева-внешторговцы уехали надолго за границу, потом нас там стало двое, мы спали на чужой постели, смотрели чужой телевизор, звонили по чужому телефону, но это был наш дом. Быть может, это и был единственный наш дом, гораздо более наш, чем та кооперативная квартира, которую мы через полтора года купили на улице Усиевича, не говоря уж о просторном барском жилище в Вспольном переулке, последней нашей обители, из которой ты и сбежала.
Это был наш дом, потому что там была наша жизнь, не моя, не твоя, а — наша. Широкие, во всю стену, окна выходили на юг и на восток, до самого вечера в них щедро лилось солнце, и весь мир нам виделся из них в золотом сиянии.
Утром ты убегала на работу, а я садился за кухонный стол — белый скользкий пластик отбрасывал на потолок и стены веселые солнечные блики — и писал сценарий о любви. О нашей любви, и в нем ты была — Майей, а я — Юрием, я не изменил даже имен, чтобы ты все время была у меня перед глазами, ничего не придумывал, не высасывал из пальца, я хотел, чтобы в этом сценарии все сохранилось таким, как было у нас с тобой. Это был наш сценарий, он принадлежал тебе в такой же мере, как и мне, мы оба, в сущности, были его авторами, я взял на себя лишь нехитрые обязанности летописца.
Потом, в четырнадцать тридцать, я включал учебную программу телевидения и встречался с тобой: ты вела урок французского языка, вела его для меня одного, смотрела с экрана мне прямо в глаза и учила всем этим грамматическим премудростям — пассэ сэмпль, пассэ композэ, кондисионель, аксан эгю, аксан сиркомфлекс, но все это означало для меня лишь одно: «Я тебя люблю», эти слова были независимы от галльских спряжений и склонений, от синтаксиса и орфографии. «Я тебя люблю», — говорила ты мне с экрана, и я упоенно повторял за тобой: «Же т’эм, же т’эм, же т’эм», а ты — там, за экраном, — поправляла мое произношение: «Же т’эм…»
Мы жили на этой квартире с января по ноябрь — зиму, весну, лето, осень, — но теперь, вспоминая тот год, я помню только лето: зеленую плоскую лужайку напротив окон, дальше, за соседними домами, три огромных пузатых трубы теплоцентрали, над ними всегда висело в полнеба облако пара в желтых и палевых пятнах, а еще выше — синее веселое небо. Я помню только синее и зеленое, словно весь этот год был одним сплошным солнечным воскресным днем.
Потом, когда кончался урок французского: «О ревуар, шерзами, а апре д’мен» — и твоя улыбка исчезала с экрана, я бросал работу и ждал тебя.
Теперь-то, перебирая в памяти все семь наших общих лет, вновь и вновь испытывая их на вкус, на запах, на зубок, я начинаю подозревать, что постоянная твоя солнечность, вечная твоя улыбка были всего лишь защитной окраской, мимикрией, и больше всего на свете ты страшилась обыденности, всего того однообразного, будничного, из чего, собственно, слагается нормальный человеческий век на земле, и лишь мельтешение пестрых перемен делало для тебя жизнь ощутимой, реальной, сущей.
Когда я однажды спросил тебя, не жаль ли тебе расставаться с платьем, которое ты недавно еще так любила и в котором была так хороша, ты ответила, как-то даже не поняв самого вопроса: «Я ни к чему не привыкаю, у меня никогда не было никаких привычек». Привычек, привязанностей, воспоминаний… ты легко рвала и легко начинала все сызнова, без боли вычеркивая из памяти прежнюю жизнь. Ты и меня-то — кому же еще это сказать тебе, как не мне! — ты и меня наверняка оставила без сожалений, просто вычеркнула из памяти.
Ты — такая. И такую я тебя любил. Но это уж моя печаль.
5
Телефон зазвонил приглушенно, и голос в нем тоже был негромкий и вежливый:
— Юрий Павлович? Здравствуйте, Юрий Павлович. Простите за ранний звонок.
Бенедиктов машинально взглянул на часы — без четверти одиннадцать, стекло часов отбросило на стену солнечный зайчик. И почему-то он сразу понял — ни тогда, ни потом он так и не мог взять в толк, каким чутьем он это понял, — откуда звонят.
— Нет… — ответил он и увидел, как скачет по стене обезумевший солнечный зайчик. — Нет, я уже…
— Еще раз простите, что потревожил, — голос в трубке был мягок, но и настойчив, — но если вы не возражаете, мы бы хотели…
Бенедиктов увидел совсем близко округлившиеся от испуга глаза Майи. «А ведь она ничего не может слышать, — удивился он, — я сам едва слышу этот голос, откуда она может знать, что…»
— Да, — сказал он, — конечно, но…
— Прекрасно, — отозвался мягко голос, — стало быть, если для вас это удобно… Ну, скажем… Сегодня четверг?
— Четверг, — подтвердил машинально Бенедиктов.
— Стало быть, завтра пятница, суббота и воскресенье выпадают… — размышлял вслух голос в трубке. — Значит, в понедельник. В понедельник, в четырнадцать нольноль, если у вас, конечно, нет других планов, Юрий Павлович.
«Четверг, пятница, суббота, воскресенье… — пронеслось в голове Бенедиктова, — Целая вечность!..»
Но согласился тем не менее:
— Ладно… хорошо. — И, словно бы чувствуя себя виноватым за собственное неведение, спросил: — А… где?
— Это очень просто, — поспешил его успокоить голос. — Вы ведь знаете Кузнецкий мост?
— Знаю, — Бенедиктов услышал свой собственный голос, чуть экранирующий от мембраны телефона, и подивился его спокойной обыденности. — Знаю, конечно.
— Дом двадцать четыре, там табличка еще есть, найти нетрудно.
— Двадцать четыре… — повторил он и почувствовал, как Майина рука сжала его руку, ладонь ее была сухая и холодная. «Такая жара, — удивился он, — с утра такая жара, а пальцы у нее совсем ледяные».
— Лады, — подвел итог телефон, — в понедельник, четырнадцать ноль-ноль. Еще раз простите, что…
И тут у Бенедиктова вырвалось помимо воли:
— Зачем?.. То есть что, собственно…
Но телефон не дождался его вопроса — дробные гудочки отбоя: ту-ту-ту-ту… Как и его заполошившееся невесть отчего сердце.
— Зачем?.. — одними губами спросила Майя и повторила быстро: — Зачем, зачем?!
Трубка все еще меленько пульсировала в его руке: ту-ту-ту-ту…
Он положил ее на рычаг, и Майя прижала его потную руку к своей груди: он услышал, как и ее сердце выстукивает тот же запыхавшийся код: ту-ту-ту-ту…
Он взглянул поверх ее головы в окно и с удивлением обнаружил, что в мире ничего не изменилось: все так же слепяще бьет сквозь желтые занавески солнце, так же спокойно и лениво колышутся верхушки деревьев, так же верещит внизу, во дворе, детвора. Ничего не изменилось.
Но в понедельник утром, проснувшись один — Майя, как всегда, встала раньше его и, не став будить, уехала на Шаболовку, — в пустой, залитой поздним утренним солнцем квартире, он вдруг наитием каким-то, мгновенным усилием памяти вспомнил и понял, зачем его позвали туда и чего им от него надо.
Это случилось с ним полгода назад, прошлой осенью.
Поскольку Майя работала диктором на иновещании и, кроме того, еще вела по телевидению уроки французского языка, ей ежемесячно присылали по почте из посольства дамский модный журнал «ELLE».
Как-то в ее отсутствие Бенедиктов стал от нечего делать листать лакированные, чуть липкие от типографской краски страницы свежего журнала и вдруг ахнул: молоденькая манекенщица на фотографии была просто-таки Майкиным двойником. То же розово-смуглое лицо, те же крутые, матово отблескивающие тугой кожей скулы и карие, широко посаженные глаза под шапкой тяжелых черных волос, падающих на невысокий гладкий лоб, и чуть угловатые плечи тоже были ее, Майкины. На манекенщице было нарядное платье из легкой зеленой ткани, ветер облепил ее ноги и бедра травянистого оттенка шелком или как там еще называются эти полу-воздушные, невесомые ткани — крепдешин, креп-жоржет, шифон, муслин… Манекенщица была так поразительно похожа на Майю, что, наткнувшись ненароком на фотографию, Бенедиктов долго не мог оторвать от нее взгляд.
Но, принявшись в ожидании Майи за вчерашние газеты, он вскоре позабыл и о журнале, и о манекенщице с Майиным лицом.
Майя пришла с работы к восьми, усталая, выжатая как лимон, с двумя тяжеленными сумками в руках, — по дороге домой она еще и обошла магазины, и тут же, переступив порог, вспомнила, что забыла купить хлеб и сахар, и не может ли Юра, пока она будет готовить обед, сбегать в булочную?
Вернувшись с покупками, он заглянул на кухню, но Майи там не было, сумки с продуктами лежали неразобранными на подоконнике.
Он зашел в спальню — Майя лежала ничком на кровати, уткнувшись лицом в ладони. Рядом с ней он увидел журнал, открытый все на той же странице: манекенщица с Майиным лицом, в нежно-зеленом платье.
— Что случилось, Майка? Что с тобой? — присел он на кровать, взял ее руку в свою. — Что стряслось?..
Она выдернула руку, снова спрятала лицо в ладони.
— Ничего! — зло простонала она. — Уйди! Ничего!..
— Что происходит, Майя?.. На работе что-нибудь?
— При чем тут работа… Уйди! Я же прошу тебя, не надо! Ради бога, ничего не надо… Ну уйди хоть на минуту, я прошу!..
Он взглянул мельком на фотографию в журнале и, поняв, поразился:
— Ты — из-за этого?!
— Или хотя бы помолчи… Молчи! Ничего не надо!..
Он снова взял ее за руку, на этот раз она ее не отняла.
Ладошка была горячей и мокрой от слез, в расплывшейся туши.
— Дай мне платок, — попросила она, — И не смотри на меня.
Отвернувшись от него, она утерла слезы. Потом встала, подошла к зеркалу, долго смотрелась в него.
— Ну вот… — сказала она тихо, — глупо, глупо… И платок испорчен, не отстирается, это английская тушь.
— Из-за чего ты? — опять не удержался он, — Неужели из-за…
— Ты не поймешь, — не дала она ему договорить. И добавила с усмешкой — то ли над ним, то ли над собой: — Где тебе… И не в этом вовсе дело.
— Тогда в чем же? — не отступался он.
— «В чем, в чем»… Ладно. Это действительно глупо, прости. Я приму душ. И не входи ко мне, я прошу.
Она ушла в ванную, а он остался сидеть на кровати, смотрел с ненавистью на лакированную шлюху с пустым, идиотски-счастливым, как ему теперь казалось, лицом, — с чего это он взял, что она похожа на Майю?! Кукла без какой бы то ни было мысли в глазах, парижская дешевка!..
Майя вышла из ванной.
— Помоги мне начистить картошку, — позвала она его. — Поедим, и я тут же лягу. Безумный какой-то день сегодня!
Он пошел за нею на кухню, чистил картошку над мусорным ведром, Майя разделывала цыпленка. Сразу запахло чесноком, укропом, киндзой.
— Прости меня, — сказала она, не отрываясь от дела. — Просто я и вправду устала. Вообще устала! — повторила она резче. — С Новокузнецкой на Шаболовку, с Шаболовки — опять на Новокузнецкую… А потом — магазины, очереди, пудовые эти сумки… И все торопятся куда-то, никто никому не улыбнется, не уступит… Ты-то сидишь дома, ничего этого не знаешь…
— Я понимаю, — согласился он, — хотя…
— Вот именно — хотя!.. — перебила она его. — Если бы ты по-настоящему понимал, никакого «хотя» у тебя не было бы… — Но тут же, не дав ни себе, ни ему раздражиться: — Просто устала, и все тут. Пройдет. Полежу, посплю, наведу марафет и — пройдет. А потом мы куда-нибудь пойдем. Ты придумай что-нибудь замечательное, пока я полежу, ладно?
Но, видимо, ей все-таки было невмоготу таить про себя то, из-за чего она только что так огорчилась:
— Ты говоришь — платье…
— Я не сказал — платье, — поспешил он, — я только спросил.
— Да, платье, — призналась она. — Если хочешь — платье, как это ни глупо. Как ни смешно. Но для тебя это просто платье, а для меня… Ты заметил, как она похожа на меня?.. — Но опять не дала ему ответить, ее мысль упрямо стремилась куда-то, хотя она и сама наверняка еще не знала куда, — Очень похожа, да?
— Очень, — согласился он осторожно и пошутил: — Я даже подумал сгоряча, не ты ли сама, тайком…
— Ну да! — рассмеялась она, но смех ее был невеселый, — Сам Диор специально для меня придумал это платье!
— Это диоровская модель?! — изобразил он удивление и восторг. — Я не прочел, что там написано.
— Для этого не надо ничего читать! — Майя будто даже обиделась за Диора. — Его из тысячи моделей сразу узнаешь. Конечно, Диор. — И тут же отмахнулась: — A-а… глупости! Диор, не Диор… Зато у нас сегодня цыпленок табака будет. Я только не знаю, осталось ли ткемали? Погляди в холодильнике.
Цыпленок, придавленный большой кастрюлей с водой, шипел на огне. Майя накрывала на стол — розовая крупная редиска, темная зелень киндзы, алые щеки помидоров.
— Нет ли чего-нибудь выпить? — спросила Майя, — Я хочу выпить. Неужели ничего нет?
Он достал из холодильника початую бутылку «Эрети», разлил вино в стаканы.
— По-моему, ты намерена произнести тост, — подвинул он к ней стакан.
— Да, — сразу согласилась она. — И скажу. И знаешь, за что? За нее. (Юрий понял, о ком она: о манекенщице из журнала.) И за ее платье. И за то, чтобы… — Но остановилась, тряхнула головой с какой-то отчаянной, мстительной решимостью: — За то, чтобы она хоть разок постояла в очереди за паршивой импортной курицей и потом добиралась до дому в переполненном метро в часы «пик». И чтоб там ей изорвали в клочья ее диоровское платье и еще обматерили вдогонку!
— За что ты ее так?.. — удивился он. — Разве она виновата, что…
— А я — виновата?! — вдруг оттолкнула она от себя тарелку, вилка со стуком упала на пол. — Я виновата? В чем? Нет, ты скажи, в чем я виновата?!
— Ни в чем, — как можно мягче сказал он, — но это уж и вовсе глупо, Майка… Ведь если бы тебе предложили поменяться с этой парижской шлюшкой местами…
— Ты прямо как на политзанятиях! Да и не о платье я говорю! Совсем не о платье!.. Ах, все не о том, не о том… — В глазах ее опять стояли бессильные слезы, — Велика радость — какое-то платье… Но я — женщина! Женщина, и мне нужно что-то такое, я и сама не могу сказать что, но такое, чтобы я не забывала, что я женщина, и ты не забывал… — Она закрыла лицо ладонями. — Господи, какую пошлятину я несу, но это — так, так… Нет, ты не знаешь — где тебе! — как это гадко, как унизительно бегать по всей Москве за какими-нибудь жалкими босоножками или лифчиком, звонить спекулянтам, умолять их, лебезить, говорить им «вы», а они тебе «ты», и еще радоваться, если они перепродадут тебе какое-нибудь старье ношеное-переношеное, и никакими химчистками не вытравить из него чужого запаха… Или то, что я за сапоги плачу месячную свою зарплату, а за пальто — все мои деньги за три месяца вперед… Или что экономлю на мелочах и скрываю от тебя, обманываю, говорю — отдала десятку, а отдала тридцать: говорю — тридцать, а отдаю сотню… Ты знаешь, как это противно?!
— Я понимаю… — начал было он, но она опять не дала ему договорить:
— Не понимаешь, нет! Для этого надо быть женщиной!.. — Потом опустила глаза в тарелку, вздохнула глубоко, словно от чего-то на век отказываясь. — С этим ничего не поделаешь, я знаю, ничего не изменить… — Подняла на него глаза и сказала вдруг так, будто решалась на неслыханную смелость, от которой у нее самой перехватывает дух: — Я хочу такое платье! Я ужасно хочу это платье, слышишь?! Можешь смеяться, презирать меня, но я хочу! — и так же неожиданно рассмеялась, напряжение спало, будто его и не было секунду назад. Она умела вот так, безо всяких, казалось бы, усилий отходить, на все махнуть рукой. — Вот за это и выпьем!
— За что — за это? — он поднял стакан с вином, глядя на нее и не понимая.
— За то, чтобы оно у меня было, это чертово платье! — чокнулась она с ним. — И оно у меня будет! — Переполошилась, кинулась к плите: — Цыпленок! Он же давно сгорел!..
Но наутро, проснувшись, Бенедиктов увидел, что она лежит рядом и внимательно изучает все ту же фотографию со своим парижским двойником в платье от Диора.
Бенедиктов вскоре напрочь забыл это все, Майя тоже ни разу ни о чем не вспоминала, а месяца через три, в декабре, он поехал с Сидоркиным и Синицыным в Париж, — речь шла о предполагаемой совместной постановке, но из этой затеи, как и следовало ожидать, ничего не получилось, французы требовали для себя полной свободы рук. В последний день, накануне возвращения домой, в номер Бенедиктова позвонил снизу, из вестибюля гостиницы, Корреспондент парижского отделения американской телевизионной компании NBC, представился Жоржем Демари и попросил его ответить на несколько вопросов о советском кинематографе. Он застал Бенедиктова одного случайно — Сидоркин с Синицыным поехали с прощальным визитом к несостоявшимся французским партнерам. Демарн неоднократно бывал в Москве, вполне сносно говорил по-русски, на интервью ушло едва ли больше получаса. Бенедиктов располагал своим временем до самого ужина и решил напоследок прогуляться по Парижу, Демари вызвался его проводить.
Был канун рождества, на Елисейских полях, на бульварах развешивали рождественские лампионы, шары, звезды, гирлянды, в Люксембургском саду устанавливали огромную, пахнущую свежей хвоей елку: вокруг нее толпились в радостном предвкушении праздника и каникул аккуратные дети в сопровождении еще более аккуратных и тоже радостно-возбужденных бабушек с предпраздничными (покупками.
Они шли не торопясь под аркадами Лувра, где в густой тени каменных сводов прячутся мелкие магазинчики, Жорж с чисто американской непосредственностью перешел с Бенедиктовым на «ты», не без знания предмета толковал о кино, о музыке, о Париже, о том о сем. Опускался пепельный, прозрачный зимний вечер, зажглись огни в витринах. Перед одной из них Бенедиктов остановился как вкопанный — за зеркальным стеклом, в самом центре витрины, словно бы само собой парило в воздухе то самое зеленое платье из модного журнала.
— Надо же!.. — не удержался он.
— Ты о чем? — не понял его Демари.
Бенедиктов не знал, как ему объяснить.
— У меня, знаешь ли, жена ужасно красивая… То ли совпадение, то ли случай… Но ей очень хотелось, чтобы я привез ей именно такое платье, ей вообще идет все зеленое…
— Скоро рождество, — кивнул Демари на витрину, — купи.
Бенедиктов только усмехнулся, пожал плечами, двинулся дальше.
Демари все понял, предложил как нечто само собой разумеющееся:
— Я в марте должен быть у вас в Москве, ты мне отдашь.
— Но ведь это платье от Диора, наверняка очень дорогое.
— Какое там от Диора! Диор в таких лавчонках не торгует. И стоит-то оно… — Он вернулся к витрине, чтобы разглядеть цену. — И стоит оно каких-нибудь пятьсот франков, это чуть больше ста ваших рублей. Еще и поторговаться можно, не стесняйся.
Так Бенедиктов купил это платье и уже назавтра, приехав к вечеру из Шереметьева, отдал Майе картонную коробку, перетянутую шелковой лентой:
— На. И сразу надень. Я хочу поглядеть.
— Что это?.. Что-нибудь очень красивое?
— Пойди надень, я подожду.
Заинтригованная Майя ушла в спальню, а он, даже не присев, стал с жадным любопытством проглядывать накопившиеся за эти полторы недели московские газеты.
— Юра… — услышал он ее голос из-за спины.
Он обернулся — она стояла перед ним в проеме двери, и в глазах ее, будто вобравших идущее от платья весеннее лесное свечение, были торжество, и благодарность, и боязнь, что Юра этого ее торжества не поймет. Она успела надеть и другие туфли на высоченном каблуке, и прическу как-то изменить, взбить ее, что ли, он не сразу и понял.
— Майка! — только и мог он развести руками. — Это просто неправдоподобно! Этого не может быть!..
— Потому что не может быть никогда, я знаю… — Но тут же нетерпеливо потребовала: — Как оно мне?.. Только правду!
— Та дешевка с фотографии тебе в подметки не годится! То есть… то есть я просто не знаю, до чего ты красивая! До чего ты…
Она подошла к нему, тесно обняла, потянулась к его губам.
— Обними, не бойся, оно не мнется, можешь меня сколько угодно тискать… Я лучше нее, да?..
— Да она замухрышка, уродина рядом с тобой!
— Правда?.. — смеялась она счастливым смехом. — Нет, правда?.. — И неожиданно решила: — Знаешь что, я его не стану снимать. Мы прямо сейчас поедем куда-нибудь поужинать, надо же мне его обновить!
— Я тебе его к Новому году купил, через пять дней Новый год, наберись терпения!
— Не хочу! Мы прямо сейчас отметим и твой приезд, и это платье обмоем, и все, все, все! Прямо сейчас! Ты не понимаешь, что для меня это платье… Именно — это! И то, что ты мне его привез… Ты и представить себе не. можешь! Не спорь, пойдем, еще только половина девятого, успеем!
Но никуда попасть в Москве в этот час уже невозможно, и они конечно же оказались в итоге все в том же переполненном, шумном, угарном от пережаренного на кухне шашлыка Доме кино, и под липкими, беззастенчиво-искательными взглядами подвыпивших завсегдатаев Майя чувствовала себя белой вороной в своем платье с открытыми плечами и спиной. Уже через четверть часа от радостного, победного ее возбуждения не осталось и следа, недопив, недоев, она взмолилась:
— Хватит, надоело! Уйдем отсюда!..
Вернувшись домой, она сразу сняла с себя платье, кинула его на стул, подытожила с усталым безразличием:
— Я так и знала, что оно мне ни к чему, — И усмехнулась с горечью: — Что оно мне не к лицу. Я отдам его Тане Конашевич, ты не обидишься?..
В марте Демари действительно прилетел по делам в Москву и сразу же позвонил Бенедиктову:
— Я прямо из аэропорта. Нет, я звоню из гостиницы, из «Националя», боялся, что не застану тебя дома.
— Я сейчас приеду, — обрадовался Юрий, — мне как раз надо в центр. Да, — вспомнил он, — ты, наверное, не успел еще обменять свою валюту, я привезу тебе долг. Как — какой долг?.. А пятьсот франков, ты что, позабыл?.. — Но беспамятным был не Жорж, а он сам: ему бы сообразить, что Демари звонит не откуда-нибудь, а из «Националя», не Жоржу, а ему самому бы быть поосмотрительнее.
И вот, проснувшись в этот июньский понедельник, за три часа до назначенного ему времени, он вдруг разом вспомнил ту давнишнюю и, собственно, совершенно чепуховую историю и мигом понял: вот оно! Телефонный звонок от иностранца, к тому же из «Националя», к тому же о каких-то долгах, о валюте…
Прохладное, затененное кремовыми занавесками бюро пропусков было похоже на «предбанник» любого рядового учреждения, с выкрашенными голубой или светло-кофейной масляной краской стенами, с стоящими вдоль них жесткими стульями и непременной табличкой «Не курить». Справа от двери в стене было окошко, защищенное двойным стеклом. Бенедиктов подошел к нему, наклонился и сказал сидящему по ту сторону лейтенанту в форменной рубашке с расстегнутой — жара, духота! — верхней пуговицей.
— Меня вызывали. Моя фамилия Бенедиктов.
— Кто вызывал? — равнодушно, не поднимая на него глаз, спросил лейтенант.
— Не знаю. Вернее, я не расслышал… По телефону.
Лейтенант прервал его коротко:
— Ждите. Пригласят.
Ясность и покой, пришедшие к Юрию утром вместе с пониманием того, зачем и по какому поводу его пригласили сюда, улетучились, как лужа на асфальте под жарким солнцем, в голове стало душно и пусто, словно в запертой на лето городской квартире с задраенными наглухо фрамугами.
Кроме него в бюро пропусков было еще двое — женщина, едва ли не дремавшая на своем стуле, и мужчина в темном, несмотря на жару, костюме. Мужчина читал «Красную звезду», Бенедиктову было не видать за газетой его лица.
Но стоило Бенедиктову присесть на ближайший стул, как мужчина опустил газету и, словно бы сразу его узнав, встал и направился к нему с протянутой рукой:
— Здравствуйте, Юрий Павлович, мы вас ждем.
И Бенедиктов узнал давешний, по телефону, голос.
Пожав ему руку, человек («как мне его называть, — подумал второпях Бенедиктов, — я даже не спросил его имени-отчества, вот незадача!») направился к двери рядом с окошком в стене, сказал что-то лейтенанту, тот ему громко ответил:
— Ясно, — и назвал его по имени и отчеству, но Бенедиктов отчетливо услышал только «Борис», а вот отчество… то ли Иванович, то ли…
«Что ж, — подумал он, — буду называть его Борисом Ивановичем, ошибусь — поправит». Он прошел в дверь вслед за Борисом Ивановичем мимо дежурного, который даже не взглянул в его сторону, не спросил ни пропуска, ни паспорта.
Пройдя несколько шагов по узкому коридору, они вошли в зашторенную такою же, как в бюро пропусков, неплотной занавеской комнату, где, кроме шкафа слева от двери, небольшого, выкрашенного коричневой краской сейфа на подставке, а в глубине, у окна, канцелярского письменного стола с креслом, спинкой к окну, и, напротив, по другую сторону, стула для посетителей, никакой мебели не было. Стены были гладкие, без портретов и плакатов. Лишь на столе, под настольной лампой на ножке-кронштейне, Бенедиктов не сразу обнаружил маленький бюстик Дзержинского с мушкетерской бородкой.
— Садитесь, Юрий Павлович, — пригласил его Борис Иванович, заходя за стол, — устраивайтесь.
«Будьте как дома», — подумал за него Бенедиктов, но усмешка погасла, не дойдя до губ.
Он сел. Борис Иванович подошел к окну, привычным движением откинул чуть штору, сквозь узкую щель солнечный луч упал на лицо Бенедиктова.
Борис Иванович уселся за стол, вынул из ящика зеленую папочку-скоросшиватель (Дело №… начато… окончено…), но не стал ее раскрывать, взглянул с располагающей к откровенному разговору улыбкой на Бенедиктова:
— Само собой, Юрий Павлович, о нашей беседе… Кстати, большое вам спасибо, что сразу отозвались на нашу просьбу и нашли время… Само собой, очень бы желательно, чтобы о нашей беседе никто… такие уж у нас правила, поймите нас правильно, Юрий Павлович.
И Юрий Павлович, не успев даже осмыслить хорошенько того, о чем его просили, поспешил заверить Бориса Ивановича:
— Естественно… Я могу даже…
— Нет, зачем же!.. — отмахнулся Борис Иванович. — У нас с вами просто беседа, не более. Ни о чем другом не может быть и речи, пожалуйста, не беспокойтесь!
— Я и не беспокоюсь, — снова поторопился Бенедиктов. — Уверяю вас, что… — Но в чем он должен был уверить Бориса Ивановича, он не знал, знал лишь, что важнее важного было, чтобы тот именно поверил ему, поверил в его готовность прямо и четко отвечать на любые вопросы и тем самым снял с него ощущение некой без вины виноватости, которое он все эти дни после телефонного звонка чувствовал, и презирал себя за это.
Словно подслушав его мысли, Борис Иванович сказал, глядя ему прямо в глаза:
— Все, что мы тут делаем, — исключительно в ваших интересах, Юрий Павлович, поверьте. У нас одна задача — помогать, оберегать, если надо — защищать даже…
— От чего? — опешил Бенедиктов. — От чего меня защищать?
Глаза у Бориса Ивановича были серые, спокойные, разве что, показалось Бенедиктову, далекие какие-то, не пускающие внутрь, в то, о чем он сейчас про себя думал.
— Вас?.. — удивился Борис Иванович. — Я имел в виду — вообще. От чего лично вас защищать, помилуйте, Юрий Павлович?! Вас-то!.. — и широко улыбнулся, обнажив белые, молодые, плотно, без прогалов, пригнанные друг к другу зубы. — Известнейший сценарист, известный писатель… И поверьте, в вашу писательскую, как говорится, кухню мы никоим образом не собираемся вмешиваться… тем более что ваш брат, уж извините за такое слово, не любит до срока выносить на всеобщий суд свое творчество, верно?.. А вот напечатаете — мы и читаем, интересуемся…
Борис Иванович, порывшись в ящике, достал оттуда пачку «Явы», протянул ему:
— Курите. Или не курите?
И от этого обыденного жеста, и оттого, что Борис Иванович курит ту же, что и он сам, расхожую «Яву», у Бенедиктова почему-то полегчало на душе. И глаза у Бориса Ивановича, если приглядеться, вовсе не такие непроницаемые, как ему только что показалось, и лицо самое обыкновенное, ничем особым не примечательное, таких на улице, в любых учреждениях, в очередях, в вагонах метро пруд пруди, ничего в нем ни опасного для него, Бенедиктова, ни грозящего карой за вину, которой на нем к тому же нет, лицо как лицо, подумал про себя с облегчением Бенедиктов, и бреется он электрической бритвой, вон, светлые волоски щетинятся на кадыке и под нижней губой, наверняка брился второпях, опаздывал на работу, ехал через весь город на автобусе и на метро с пересадкой…
Он затянулся поглубже сигаретой и решил не торопить события.
Борис Иванович тоже помолчал, аккуратно стряхивая пепел в латунную, в форме кленового листа, пепельницу, потом сказал, как бы приглашая Бенедиктова взять на себя инициативу:
— Ну-с, Юрий Павлович?..
— Я вас слушаю, Борис Иванович, — как можно спокойнее отозвался Бенедиктов.
— Почему вы решили, что меня зовут Борисом Ивановичем? — удивился тот, но не дал Бенедиктову ответить: — Собственно, это я от вас жду… — но так и не уточнил, чего он именно ждет от собеседника, улыбнулся подбадривающе: — Если вы, конечно, не против.
— Я не знаю, чего вы от меня, честно говоря, ждете… Вероятно, вы хотите меня о чем-то спросить?
— Спросить?.. — задумался тот, — Скорее, посоветоваться.
— Со мной? — удивился Бенедиктов. — О чем?
— Вы — писатель, — с подчеркнутой уважительностью сказал Борис Иванович, — вам и карты в руки. Вы ведь не торопитесь? — неожиданно спросил, и в голосе его, в интонации Бенедиктову послышалось что-то вроде усмешки. Нет, подумал он, не так-то уж он прост, Борне Иванович или как его там зовут на самом деле, с ним держи ухо востро!..
Этот неожиданный поворот, к которому он был совершенно не готов, выбил Бенедиктова из колеи. Он опять поспешил помимо воли:
— Зачем же? Давайте уж сразу!
— Вечный цейтнот… — неизвестно на что и кому пожаловался Борис Иванович и стал листать лежащую перед ним на столе зелененькую папку…
— Что касается нас, — проговорил наконец Борис Иванович, и Бенедиктов подивился произошедшей в нем прямо на глазах перемене: ни следа давешней улыбчивости и шутливости, он стал деловит, сух, сдержан, — что касается нас, Юрий Павлович, то у нас к вам нет никаких претензий.
— Кто это — мы? — попытался вернуть разговор в прежнюю интонацию Бенедиктов и выжал из себя что-то вроде улыбки, — То есть кто это — вы?
— Ну, скажем так — ваши читатели, — не ответил улыбкой на улыбку Борис Иванович, — Читатели, зрители. Самые, можете не сомневаться, внимательные и доброжелательные. Мы ведь все читаем, все смотрим, — прибавил он и, помолчав, подтвердил: — Все.
— Что ж… спасибо за внимание, — только и оставалось что отшутиться Бенедиктову.
— Но вот то, что о вас пишут там…
— Где? — не сразу понял его Бенедиктов.
— Там, — кивнул Борис Иванович головой назад, через плечо. — Пишут, говорят…
— Писателю приятно, когда о нем говорят… — ушел от прямого ответа Бенедиктов. — А что?..
— Что говорят, кто, с какой целью… Они без выгоды для себя, Юрий Павлович, и пальцем не пошевелят.
— Не знаю… не знаю, что вам и сказать, Борис Иванович… — Бенедиктов и вправду не знал, что на это ответить. — Я полагаю, если говорят, тем более — хвалят советское кино, это только на пользу…
— На пользу, конечно, — согласился собеседник, — но вы ведь и сами… — и совершенно неожиданно: — Вот, к примеру, прошлой зимой в Париже, в декабре, кажется…
«Горячо, — подумал даже с некоторым облегчением Бенедиктов, — сейчас о Демари спросит…»
— Именно, — заглянул в папку Борис Иванович, — двадцать четвертого декабря вы дали интервью американской телекомпании Энбиси, не согласовав этого с руководителем делегации…
— Я показал потом это интервью товарищу Сидоркину, он его вполне одобрил.
— Постфактум. Нет, вы в полном праве, Юрий Павлович, давать интервью кому угодно и о чем угодно, на вашу гражданскую ответственность. Но, с другой стороны…
И тут Бенедиктов вдруг яснее ясного понял, что не в интервью его упрекает или обличает Борис Иванович, не в интервью как таковом, а в самом том факте, что он, Бенедиктов, позволил себе дать это интервью, не согласовав с Сидоркиным, тем самым нарушив уклад и порядок, на страже которых как раз и стоит Борис Иванович, в защите которых и заключается его роль и долг.
— А знаете ли вы, Юрий Павлович, кто такой этот самый Жорж Демари, которому вы дали интервью?..
— Демари? — переспросил он, оттягивая ответ. — По-моему, довольно симпатичный господин… общительный, образованный…
— Общительный… — усмехнулся Борис Иванович, опять обнажив ослепительно-белые, молодые не по возрасту зубы, — само собой, общительный.
— К тому же, — с удивившим его самого простодушием — этакий Иванушка-дурачок! — увел разговор в сторону Бенедиктов, — к тому же, кому, как не вам, — он обвел взглядом комнату, как бы давая понять, что не одного Бориса Ивановича имеет в виду, — кому, как не вам, его знать лучше, чем знаю я, ведь он много раз бывал в Москве, даже снимал фильм о Кремле, о Третьяковке, о народных промыслах… Разве их не проверяют, прежде чем пускать к нам? — он сделал ударение на «нам», как чуть раньше на «вам».
— Проверяем, можете на нас положиться, Юрий Павлович, — заверил его без улыбки Борис Иванович. — Можете, как говорится, спать спокойно.
— Кто же этот Демари? — Бенедиктов изобразил на лице крайнюю степень любопытства. — Шпион?
— Шпионы только в детективах теперь бывают, — усмехнулся Борис Иванович, — то есть шпионы в старом смысле. Кстати, как вы относитесь к детективам?.. — спросил неожиданно, но тут же себя одернул: — Впрочем, не о том у нас разговор, — Поглядел на часы, присвистнул: — Действительно, заговорились!.. На чем это мы с вами остановились? — И вспомнил без посторонней помощи: — На Демари. Жорж Демари. Именно о нем я и хотел вас попросить…
— О чем?! — опять помимо воли вырвалось у Бенедиктова, хотя еще в самом начале разговора он твердо решил для себя: не спрашивай! не торопи! не высовывайся!
— О самой малости, — успокоил его Борис Иванович. — Вы же инженер человеческих душ, Юрий Павлович, психолог. Нам как раз ваше-то мнение о Демари и интересно. Набросайте нам коротенько конечно же, на двух-трех страничках…
— Я вам уже все сказал, — упорствовала в Бенедиктове осторожность, — да и что я о нем знаю? Один раз видел в Париже…
— И четыре раза в Москве, Юрий Павлович, — укорил его, как бы сам сожалея о том, Борис Иванович. — И в гостях у вас был, и угощали вы его обедом в «Арагви», и возили в Архангельское, в Загорск, хотя иностранцам без особого разрешения туда не положено. Ого! — взглянул он снова на часы, — В пятнадцать тридцать у нас совещание…
«Всё знают!.. — пронеслось в мозгу у Бенедиктова. — И про Загорск, и про „Арагви“, и про Архангельское… Всё!»
— Так лады? — Борис Иванович встал, вышел из-за стола, — Две-три странички, от силы четыре. Так сказать, психологический портрет, не более того. Ваше впечатление о нем как писателя. Впрочем, можно и как просто гражданина, — как бы мимоходом, не придавая этому особого значения, добавил он.
«Новый жанр… — подумал про себя с тоской Бенедиктов и усмехнулся, глядя прямо в глаза Борису Ивановичу, — пусть знает, что я о себе самом думаю!..»
— Кстати, — вспомнил вдруг Борис Иванович, — кажется, вы собираетесь осенью на кинофестиваль в Западный Берлин?.. — Задумался, потом сказал: — Я там бывал… Трудный город, особенно в настоящий момент… Если вдруг будут затруднения — милости просим, все, что от нас зависит, не стесняйтесь! — И тут же о другом, в упор: — Что же вы такое задолжали Демари, что сразу же, не успел он сойти с самолета, поспешили к нему в гостиницу?.. — Но ответить Бенедиктову не дал: — Впрочем, наверняка ничего серьезного… Не думайте, никаких там валютных или еще каких-нибудь дел мы не подозреваем, не тот вы человек, да и Демари тоже… Но… — И помолчал, как бы не сразу решаясь сказать: — Но будьте впредь осторожнее, Юрий Павлович, и с Жоржами разными, и с деньгами, да и… и с телефонами тоже. Не надо, Юрий Павлович, вы же серьезный человек.
Бенедиктов спросил его напрямик:
— Мой телефон прослушивается?
Борис Иванович только пожал плечами:
— Я не АТС. — И вновь как бы неожиданно для самого себя вспомнив: — Да, кстати, не забыть бы — о Майе Александровне…
— О Майе? — похолодел Бенедиктов.
— Женские дела, мелочь… Тряпки, обувь, парфюмерия, в магазинах всего этого нет, приходится пользоваться спекулянтами, не она одна. Но, знаете ли, если в записной книжке у какой-нибудь фарцовщицы — вдруг да телефон вашей жены? Это ведь по-разному можно истолковать, всем не запретишь, а Майя Александровна на радио работает, диктор, ответственная должность…
— За Майю Александровну можете не… — повысил было голос Бенедиктов, но тут же сдержался: — Я за нее — хоть правую руку!
— Чем же вы тогда писать будете, Юрий Павлович?! — весело рассмеялся Борис Иванович и тут же извинился: — Шутка, не обижайтесь. Жена Цезаря, как говорится, вне подозрений. Или, — запнулся он, — я путаю, не жена, а мать?.. Да, вот еще что — ваша мать…
— Мачеха, — в который раз помимо воли поторопился Бенедиктов, и краска стыда за эту подлую, пошлую спасительную уловку бросилась ему в лицо.
— Мачеха, да, — согласился Борис Иванович. — Но не та мать, что родила, а та, что воспитала. Она умерла, если я не ошибаюсь?
— В шестьдесят восьмом, — резко оборвал его Бенедиктов и уличил себя: не уточнение — отречение. — И при чем тут она? Какое она может иметь отношение…
— Я к тому, что у нее, у вашей покойной мачехи, вроде бы брат есть то ли в Америке, то ли…
— Я о нем ничего не знаю. И не уверен, жив ли еще…
— Будем надеяться, — успокоил его Борис Иванович. — Но мы отвлеклись, да и что вам или мне до него… И времени у нас уже всего-ничего… Да, совсем забыл, а ведь вот что — мы тут считаем, что ваш сценарий, ну, «Лестничная клетка», что эта ваша вещь — во всех отношениях… Конечно же кино осторожничает, да и журналы, издательства, театры… Уж мы их убеждаем — смелее, товарищи, смелее, чего тут опасаться, кого, это же все глубоко наши люди, советские!.. — И уже провожая Бенедиктова к двери: — Одним словом, творческих вам успехов, Юрий Павлович, а уж на премьеру очередную — не забудьте!.. — Но на полпути остановился, вспомнив еще об очень важном: — Да, мы же еще собирались — о детективе!.. Никогда не пытались писать?
— Нет, — как бы оправдываясь в непростительном промахе, развел в дверях руками Бенедиктов, — никогда. И без меня, знаете ли, вполне хватает.
— Жаль! — искренне посетовал Борис Иванович и, взяв его за локоть, предложил тоном человека, вступающего с другим в дружеский, но и не без риска разговор: — А что, если попробовать, а, Юрий Павлович?.. Мы бы, как говорится, всей бы душой — архивы, дела, документы… А, Юрий Павлович?.. Вы не сразу отвечайте, это надо обдумать, я понимаю. И к тому же я это просто так, пришло на ум, всего-то. Личное мое пожелание, так сказать… — И, крепко пожимая ему руку на прощание уже в бюро пропусков, напомнил: — А насчет этих двух-трех страничек — не горит, как время выкроите. Я вам и напоминать не буду, сами, как управитесь, позвоните, я вам сейчас телефон свой дам. — Он написал номер телефона на листке, вырванном из блокнота, еще раз крепко пожал руку. — Я вас не тороплю, но и время, как говорится, не резиновое… И — от руки, пожалуйста.
…Оказывается, на улице была гроза и прошла, вдоль обочин, пенясь у коллекторов, текли мутные потоки, улица пестрела зонтами. Бенедиктов глотнул свежего после грозы воздуха и, шлепая по лужам, пошел следом за потоком вниз, к Неглинной, мимо витрин книжных лавок и Дома моделей, мимо очереди за бананами и другой — на выставку графики, обыденная улица, обыденные лица, и мысли у всех этих людей на улице тоже наверняка были привычные, будничные.
Он написал, ничего не сказав Майе, эти несколько страничек, переписал их дважды набело крупным, расчетливым почерком, начиная с самого верха и кончая у нижнего края страницы, чтобы никто не мог вписать туда ничего такого, чего он сам не написал, и был очень доволен своей тактической уловкой.
Поразмыслив, решил, вопреки своему уговору с Борисом Ивановичем, не звонить ему, не напоминать о себе, — в конце концов, это нужно не ему, а тому же Борису Ивановичу, вот пусть сам и побеспокоится! Надо же и чувство собственного достоинства иметь, убеждал себя Бенедиктов, не мальчишка же я нашкодивший, в самом деле!..
И стал ждать.
Но никто ему не позвонил ни через неделю, ни через две, ни через месяц. Сложенные аккуратно листки он убрал в ящик, чтобы они не попались на глаза Майе. А еще через месяц-другой, так и не дождавшись звонка Бориса Ивановича, он сжег листки в пепельнице, пепел бросил в унитаз и стоял над ним, пока вода не смыла все без следа.
Теперь я понимаю задним умом, что тогдашняя наша обитель — и не только наша с тобой — была как не нанесенный ни на какие карты, ни в какие лоции островок, затерянный в хмурых пространствах, о которых мы и не хотели догадываться, подмываемый подпочвенными водами, которые мы не желали, духу не хватало, принимать в расчет, — крошечный, беззащитный материчок, где цвела и истаивала наша счастливая, удобная, но такая, на поверку, призрачная жизнь.
Как в театре, когда, доверчиво принимая на веру разыгрываемый на подмостках вымысел, не хочется думать о том, что в конце концов занавес непременно опустится и не миновать выйти из теплого, праздничного зала в промозглость и слякоть улицы.
6
Все, что осталось от покойной мачехи, Бенедиктов оставил сестре. Единственное, что он взял себе после похорон, кроме копии «журнала» Серафимы Марковны, был старинный барометр, принадлежавший, собственно, даже не ей, а, еще ранее, отцу и чудом сохранившийся с тех далеких времен.
Барометр был в виде резного по дереву барельефа: кабанья голова, скрещенные охотничьи ружья, ягдташ, подстреленная утка с безжизненно свисающей вниз головой. На круглом застекленном циферблате среди прочих атмосферных предуказаний было и — «Великая сушь».
А летом семьдесят второго года на Москву и впрямь обрушилась Великая сушь.
Но, вспоминая потом это лето, Бенедиктов начинал отсчет не с июня, когда неслыханная жара накрыла город душным маревом и горели вокруг леса и торфяники, а — с ранней весны, с февраля даже: именно в феврале ему удалось наконец обменять квартиру на улице Усиевича на другую, более просторную, в Вспольном переулке.
Обмен тянулся долго: новая квартира, которую они, за немалую доплату, нашли в Вспольном, была, по утвержденным нормам, слишком велика для двоих, и всю осень и зиму Бенедиктов писал заявления, заручался ходатайствами, ходил по инстанциям — райжилуправление, райисполком, депутатские комиссии, управление по распределению жилплощади, Моссовет, опять депутатские комиссии… И лишь к февралю все благополучно разрешилось, и через неделю они с Майей въехали в новую квартиру.
И начался ремонт.
Квартира была старая, в большом «сталинском» доме с высокими лепными потолками, с эркерами и балконами, с просторным холлом и множеством встроенных шкафов и чуланов, но в чудовищном по запущенности состоянии: обои свисали угрюмо шуршащими на сквозняке полосами, плитка на кухне и в ванной отваливалась не то чтоб от неосторожного прикосновения, но от одного, казалось, звука голоса, полы надсадно скрипели, и при каждом шаге из них выскакивали, как бы подброшенные вверх пружиной, рассохшиеся паркетины, а уж лепнина с потолка обваливалась просто сама по себе.
Начался ремонт, и тут-то Бенедиктов горько пожалел о своей удаче в Моссовете и о погубленном, в результате, на корню по меньшей мере годе жизни — короче, ремонт было не закончить.
И вместе с обрушившимся на Бенедиктова ремонтом, который, как известно, «хуже пожара», на Москву обрушился пожар небывало, невиданно знойного лета. А вскоре и всамделишные лесные пожары заполыхали вокруг столицы.
Когда содрали со стен задубевшую шкуру обоев, выворотили во всех комнатах паркет, вынесли на свалку ванну, умывальник и унитаз и из-под сбитой плитки выглянула шершавая, будто изъеденная волчанкой стена, квартира превратилась в нечто похожее на сумрачное, продуваемое всеми ветрами становище неандертальца. По этому отданному на поток и разграбление жилищу бродили лениво, в полупьяной дремоте плотники, штукатуры, маляры, сантехники, газовщики и паркетчики, присаживаясь распить очередной «пузырь» на связанные стопками и сваленные по углам книги, и на переплетах верхних томов четко отпечатывались круглые, точно казенная печать, донца бутылок и стаканов, ядовито-красные — от дешевого портвейна и вяло-желтые — от водки, но и те и другие — невыводимые, вечные.
Бенедиктов бегал по магазинам и складам, доставал доски, белила, немецкие обои, иранскую плитку, чешский унитаз, каждый вечер распивал с мастерами тошнотворно-теплую водку, покорно выслушивал их бесконечные истории и анекдоты, матерился, чтобы подольститься к ним, задыхался от пыли, краски, запаха олифы и лака. Ночью ему снились жуткие, непотребные слова — «заподлицо», «циклевка», «дрель», у слов были подлые рожи, слова сидели голыми задами на «Братьях Карамазовых» и «Короле Лире», от них разило позавчерашним перегаром, а также жидкостью от тараканов. Утром он просыпался в липком поту и с ужасом осознавал, что то был не сон, а всего лишь продолжение вчерашнего дня и предвосхищение сегодняшнего. Ремонт не продвигался, казалось, ни на шаг, напротив, по-рачьи пятился назад, к первозданному хаосу.
А Москва меж тем и вовсе обезумела от духоты и грозной лесной гари.
В этом бредовом чаду Бенедиктов не успел даже удивиться факту почти невероятному: Майя — Майя, которая все годы их совместной жизни добровольно и с веселой энергией брала на себя все хозяйственные заботы, более того, ревниво оберегала свое право единолично заниматься домом, — Майя неожиданно взяла у себя на работе отпуск, уехала на Рижское взморье, и даже не по путевке, а «дикарем», рассчитывая, по ее словам, на свою кузину Мусю, жившую в Риге и снимавшую каждое лето дачу на побережье. Уехала в самый разгар ремонта, невразумительно сославшись на усталость, на то, что не отпускают головные боли и от нее мало проку, лучше уж она отдохнет и, вернувшись с новыми силами, заменит его, Юрия, — Майя уехала, и ему было недосуг даже удивиться этому непохожему на нее поступку, заподозрить неладное…
Жара в Москве не спадала, красный столбик градусника, словно кровь в трубке для переливания, полз все выше и выше, казалось, градусник вот-вот лопнет и кровь хлынет из него обжигающей струей. С юга и юго-запада, со стороны Внукова и Кунцева вползала в столицу удушливая черная гарь горящих лесов и коричневая, в темно-лиловых подпалинах — торфяная. Ветра не было, и онемелая туча зависала, тяжко колыхаясь, над городом. Свертывались в трубочку и вянули на глазах листья на деревьях, больницы до отказа заполнили инфарктники и астматики. Народ, словно в чуму, в холеру, кинулся вон из города, вывозили детей, а те, кто остался, жили, задыхаясь, с задраенными форточками. На городских пляжах в Серебряном бору, на Ленинских горах, на канале было яблоку негде упасть, даже в центре города, на набережных — Фрунзенской, Софийской, Бережковской — москвичи искали спасения в мутной, маслянистой реке.
И вместе с огнедышащим накатом Великой суши, незаметно поначалу, робко плеснула, набежала пеной на берег, откатила и вновь набежала другая волна: отъездов.
Именно летом семьдесят второго года эта волна стала набирать силу, правда, пика своего она достигла позже, в семьдесят третьем и семьдесят четвертом, чтобы уже в семьдесят пятом пойти постепенно на убыль. И хотя разрешения на отъезд из страны давались главным образом евреям, а также их женам-нееврейкам и детям-полукровкам, волна этого исхода так или иначе коснулась и многих других — их друзей, знакомых, сослуживцев, соседей.
Ремонт меж тем, как это ни поразительно, шел к концу, из хаоса и разрухи вырастал дом, одевался в обои, паркет и метлахскую плитку, обставлялся новой мебелью, гляделся, любуясь собою, в зеркала, — дом, очаг, тихая пристань, где жить бы — не тужить, укрываться от непогод и злых ветров, сидеть у камелька долгими зимними вечерами, любить друг друга и умереть в один день…
А Великая сушь к середине сентября пошла на убыль.
В первую же ночь после твоего возвращения с Рижского взморья мы не могли до самого рассвета уснуть из-за духоты и дымной гари, вползающей в окно, ты лежала рядом далекая, чужая, сосредоточенная на какой-то своей, не отпускавшей тебя ни на час затаенной мысли, и я тоже молчал, ожидая, чтобы ты заговорила первая и рассеяла мои невеселые предчувствия, но ты сказала совсем о другом:
— Все уезжают…
Я понял, что ты имеешь в виду.
— Ну уж и все… Но все равно — грустно…
— Грустно… — согласилась ты, но в твоем согласии был и вопрос, который ты не решалась задать мне вслух. А может быть, ты его задавала вовсе не мне и не от меня ждала ответа, а мучительно искала его в самой себе.
И, тут совсем отчаявшись отыскать, спросила все-таки:
— А тебе никогда не приходило в голову?.. Ну, чтобы… Вернее, о том, что… — но не договорила. И, только помолчав, объяснила: — Нет, не подумай, я говорю не обязательно о нас с тобой, ты-то никогда не уедешь…
Я на это даже ничего не сказал — куда мне ехать?! зачем? Я — дома, и у меня есть все, чем и ради чего жить: ты, работа, дом, друзья… Я и не очень-то испугался твоих слов, нас — двое, и если я никуда и никогда не уеду — сама мысль об этом смешна и нелепа! — то, значит, и ты тоже!
А ты лежала в темноте и ждала, только того и хотела, чтобы я кинулся спорить, опровергать тебя, только тогда ты бы осмелилась сказать мне все, что мучит тебя. Не дождавшись, упрекнула с какой-то давней, наболевшей обидой:
— Ты ведь всегда думаешь только о себе, всегда о себе одном… — и отвернулась к стене, укрылась с головой простынею.
И тут я вдруг впервые подумал: а что, если ты уж одна, и говоришь о себе одной, и эти твои мысли — только твои мысли, не наши, как прежде, как всегда, а только твои?..
Но ты не дала мне найти ответ на этот свалившийся на меня нежданно-негаданно вопрос:
— Я тебе скажу — ты только не перебивай, я все равно скажу, а ты верь или не верь, твое дело! — я не знаю, смогла бы уйти от тебя или нет. Не знаю. Или даже просто изменить тебе. Наверное, смогла бы. Как всякая женщина всякому мужчине. Наверное, смогла бы. Не сейчас, так когда-нибудь. Если полюблю кого-нибудь. Или если даже не полюблю, а хотя бы увлекусь, потеряю голову хоть на день, на час… Не знаю. Я не святая, и ты это всегда знал. Я не могу дать клятву, что не изменю тебе. Но для этого мне надо разлюбить тебя, только и всего… А пока я люблю… Не знаю, может, моей любви ненадолго хватит, не навсегда… может, меня вообще ненадолго хватает, уж я такая, но пока я тебя люблю… — Но и себя ты была не в состоянии дослушать до конца. — Не знаю! Не знаю! И ни о чем меня не расспрашивай!..
Я и не стал допытываться, пытать тебя. Мне ли было не знать, что ты никогда не умела отличать следствие от причины, путала их местами…
Ты всегда боялась и ненавидела зиму, осень, стужу, дождь, ненастные вечера, хмурые утра, набитые толпой автобусы, некрасивые лица, морщины, усталость, старость — только бы всегда весна, только бы май, только безоблачный полдень, вечный праздник.
Мне ли было не догадаться, что теперь тебе одно остается — вырвать листок из календаря, чтобы не знать, забыть напрочь, что — осень, поздно светает, рано темнеет, осадки, туман, ветер северный, луна в последней четверти…
7
Уезжал Гроховский, скульптор, и проводы его — как и многих других и до и после него — были устроены в мастерской Левы Борисова на Молчановке: свою Гроховский уже сдал МОСХу, а другой жилплощади у него никогда и не было; сколько себя помнил, он жил в комнатке при мастерской.
Гроховский начал поздно, после войны, возвратясь с нее тридцатилетним, всего хлебнувшим мужчиной, в тридцать один только поступил в Суриковский институт, в тридцать шесть окончил бы его, не будь отчислен в сорок восьмом за космополитизм. В те годы он подрабатывал писанием — с фотографий — портретов для клубов и сельских Домов культуры, жил впроголодь, но — не сдавался.
Коренастый, рано обрюзгший, с лицом и сутулой спиной грузчика, матерщинник и драчун, он вкалывал с утра до ночи, не зная устали, работал зло, с какой-то угрюмой надсадностью. Но вещи у него получались нежные, хрупкие, лепил он главным образом женское тело — торсы, грудь, ноги, шею, пол-головы, пол-лица, вторая половина будто была снесена взрывом, грубо отсечена, и оттого нежное это, беззащитное полулицо словно взывало о милосердии.
После пятьдесят шестого о Гроховском, однако, заговорили, и молва, как это чаще всего и бывает, поспешила воздать ему сторицей то, чем обделяла прежде. Теперь Гроховский ходил в московских гениях. В его мастерской стало постоянно людно, к нему потянулись отечественные коллекционеры, а за ними и иностранцы, покупали все нарасхват, платили, на взгляд самого Гроховского, щедро, а на самом деле — раскупали его вещи за бесценок, за несколько, собственно говоря, бутылок виски или десяток блоков американских сигарет. У него стали водиться деньги и молоденькие, плоскогрудые модели с подведенными синей тушью бесстрашными глазами, с ногтями в облупившемся малиновом маникюре. Одевался же он и выглядел по-прежнему неопрятно, всегда в одних и тех же замызганных глиной штанах из чертовой кожи и растянутом, домашней вязки, свитере.
На официальные выставки его по-прежнему не допускали, он старел, уходили силы, угрюмость и молчаливость его стали почти маниакальными, молоденькие натурщицы уже не радовали его, открылся цирроз печени, и стало пошаливать сердце. В семьдесят втором он решил уехать — не то в Париж, не то в Штаты, подал заявление и тут же, к собственному своему удивлению, получил разрешение на отъезд.
Собственно, Бенедиктов никогда с ним особенно близок не был, в мастерской его бывал от случая к случаю, да и знал он его через Леву Борисова.
На проводы пришли художники, друзья и однокашники Гроховского, пришли друзья его друзей и друзья Левиных друзей, пришли искусствоведы и натурщицы, пришли и вовсе никому не ведомые лица, а также те, кто, хотя их никто никуда не приглашает, присутствуют всегда и везде.
Борисов чувствовал себя в этой гомонящей, многоликой толчее как рыба в воде, ходил от гостя к гостю, угощал, развлекал, смешил и сам смеялся громче всех своим остротам. Да и все прочие были тоже вполне в своей тарелке, оживленные и веселые, как в новогоднюю ночь.
И лишь Гроховский — Бенедиктов не сводил с него глаз, — лишь он один был растерян, не в силах взять в толк, что с ним происходит и что происходит вокруг него, не зная, куда девать себя и свои тяжелые, натруженные руки, не понимая, зачем здесь все эти люди, о чем говорят, чему смеются. К нему то и дело подходили, о чем-то просили, давали советы, хлопали по плечу с подчеркнуто печальным или, наоборот, нарочито беззаботным выражением лица, а он лишь вымученно улыбался им, забившись в угол, где стояла Левина Истина, и казался совершенно здесь неуместен.
И хотя Бенедиктов, собственно, не имел никакого отношения ни к отъезду Гроховского, ни к нему самому, это его собственное похмелье в чужом печальном пиру вселяло в него какую-то смутную, гложущую тревогу, что-то очень похожее на укор самому себе неведомо за что.
И на лицах многих из гостей он видел — или же ему казалось, что он видит, — ту же тревогу и вину.
К нему подошел Паша Ансимов — нарядный, как всегда, в бархатном небесно-синем пиджаке и черном галстуке бабочкой.
Паша Ансимов в ту пору уже перевалил за пик своей славы, а еще несколько лет назад казалось, что радио и телевидение для того только и существуют, чтобы заполнять эфир его песнями, редкий фильм выходил без его имени в титрах.
Паша был щедр и широк, за ним повсюду тянулся хвост молодых и ждущих своего часа неудачливых «лабухов», они кормились и пили на его деньги, и никому из них — в том числе и самому Ансимову — не приходило в голову, что пик славы и удачи — это и есть та самая точка, за которой почти неизбежно начинается дорога под уклон.
Многолетний роман Ансимова с известной всей Москве красавицей и модницей Евой Горбатовой состоял, казалось, из одних ссор и расставаний. Но всякий раз она отпускала его на все четыре стороны без упреков и слез и, то ли с горя, то ли в отместку ему, пускалась во все тяжкие, но все случайные и краткосрочные ее возлюбленные были для нее на одно лицо, потому что любила Ева одного Пашу. И он всегда, рано ли, поздно ли, возвращался к ней, чтобы затем вновь расплеваться, а Ева опять не печалилась, продолжая безудержно тратить себя, словно спеша раз и навсегда отгореть, отлюбить отпущенное ей судьбою.
— Вечеруха ничего себе, — сказал Бенедиктову светским голосом Ансимов. — Лично я уже поймал кайф. А ты что давишь клопов?
— Слишком много евреев, — заметила Горбатова, которая и сама была наполовину, по матери, еврейка. — Слишком много молодых бородатых иудеев…
— Жидоморка, — оборвал ее Ансимов. Его дед был до революции правой рукой Шульгина, в пятом году подписывал полным своим именем статьи в «Киевлянине», призывавшие к погромам, и Паша до сих пор остро переживал это постыдное фамильное обстоятельство, хотя, в то же время, при знакомстве с каждым новым человеком спешил поведать о нем — из комплекса вины или простонапросто из тщеславия. — А ты их пускай в свою койку по одному, — посоветовал он Еве, — со временем, глядишь, ты их полюбишь и в массе.
— Непременно, — согласилась она, — вот только разделаюсь с тобой. Нет, Юра, — обратила она к Бенедиктову свои серые, огромные глаза, обезоруживающие даже хорошо знавших ее биографию людей своей целомудренностью, — нет, правда, Юра, ты мне объяснишь, почему я всю жизнь люблю это? — она указала кивком головы на Анисимова. — Всю мою жизнь! Мой первый и единственный. Почему?!
— Можно подумать, это я лишил тебя невинности, — огрызнулся Паша, но вид у него при этом был вполне самодовольный, — Как будто я тот Колумб, который первый крикнул про тебя: «Земля!»
— Нет, Паша, — с нежданной печалью сказала Ева, — Нет, не ты. Я вообще не уверена, лишал ли меня кто-нибудь невинности, это было так давно… И вообще — была ли я когда-нибудь невинна?.. — И она потянула Ансимова за руку, они отошли, затерялись в толчее.
— Кто эта антисемитка? — неожиданно спросил кто-то во весь голос у самого уха Бенедиктова, — Сука эта — кто?!
Бенедиктов обернулся. Над ним возвышался высоченный, обросший до плеч вьющимися черными волосами молодой человек. Он весь был — борода и кудри, из них выглядывали лишь горящие настойчивым блеском глаза. Парень был не то что высок — он был огромен, широкоплеч, красив ассирийской, высокопарной какой-то красотой. Туго обтягивающая его торс майка, потертые джинсы, а также сандалии на босу ногу сидели на нем как вечерняя тройка.
Из-за его спины объявился еще один, маленький, щуплый, похожий на подростка, в очках с толстенными стеклами.
— Боря, не надо эксцессов, — сказал ему второй, — Общество может не понять.
— Зато она поймет, что к чему, потаскуха! — отрезал тот через плечо, — И ее хахаль в бархате! Кто они? Я тебя спрашиваю? — вновь обратился он к Бенедиктову. — Ты что, глухой?!
— Боря, возьми себя в руки, — снова попытался его урезонить тот, сзади.
— Заткнись! — отмахнулся от него Боря. И, положив тяжелую руку на плечо Бенедиктова, потребовал: — Кто? Ты с ней разговаривал.
Бенедиктов движением плеча ушел из-под его руки:
— Я не люблю, когда со мной на «ты», я люблю вежливых мальчиков.
— А по ряхе не любишь? — спросил его Боря. — Публично?
— Не надо, Боря, — взмолился маленький, — тут не место.
— Вас обижать я не собирался, — сказал Боря Бенедиктову уже миролюбивее, — а кто эта дрянь — не хотите, не надо. — И неожиданно протянул Бенедиктову руку: — Борис Лернер.
Бенедиктов назвал себя.
Лернер несколько удивился:
— Тот самый?.. — но не стал объяснять, что он под этим имел в виду.
Очкарик тоже подал Бенедиктову руку:
— Ценципер, искусствовед, — И прибавил, смущенно улыбнувшись: — Внештатный, — Улыбка у него была милая, мальчишески-застенчивая.
Лернер сказал:
— Вы должны извинить нас, что мы все время об одном: евреи, неевреи, антисемиты, неантисемиты… я понимаю, как это может раздражать других. Вас раздражает? — спросил он в упор Бенедиктова.
Бенедиктов помолчал, ему не хотелось отделаться вежливым, ни к чему не обязывающим ответом:
— Не то чтобы раздражало… Просто я не думаю, что так уж надо постоянно сыпать соль на собственные раны…
— Соль?! — вскинулся Ценципер. Очки все время съезжали с его крохотного, совсем не иудейского носа, — Вы что, тоже считаете, что мы преувеличиваем, заостряем… одним словом, что мы сами же во всем и виноваты?!
— Заткнись, — оборвал его Лернер, — Дай человеку сказать. А что ты скажешь, всем известно заранее. Ну?! — нетерпеливо переспросил он Бенедиктова. — Не раздражает. Но?..
— Раздражает то, что я сам начинаю испытывать какую-то вину, какой-то комплекс, хотя, поверьте, я не…
— Вы лично — да, — прервал его Лернер, — предположим. Но вина, о которой вы говорите, — не придуманная, вы согласны?
— Как первородный грех! — не удержался Ценципер.
— Ну, первородный грех — он на всех, — не согласился Бенедиктов, — без различия. Особенно на вас, — усмехнулся он певольно, — вы ведь, надо полагать, твердо убеждены, что Адам и Ева были евреями?
— А кем же еще?! — возмутился Ценципер.
Лернер тоже усмехнулся, и Бенедиктов подивился печали этой его усмешки:
— Раз их выгнали из собственного дома…
— Собственно говоря, — добавил Ценципер задиристо, — Адам был первым в мире эмигрантом.
Лернер рассмеялся неожиданно весело и громко:
— Ему бы как раз и отказали в разрешении на выезд: он же вкусил от древа познания, значит, знал какие-то райские государственные и военные тайны… Его бы хрен выпустили! — Он смеялся заразительно, молодо и — ни тени недавней печали.
В мастерской стало не продохнуть, несмотря на распахнутые настежь окна: табачный дым, распаренные тела множества людей, запахи сырой глины, гул голосов, яростные споры о ближайшем или необозримо отдаленном будущем, и — надо всем, все забивая: этот уехал, этот подал документы, этот ждет вызова, этому отказали…
Борисов ходил именинником от одних гостей к другим, больше всех пил, меньше всех пьянел, огромный, тучный, в расстегнутой до пупа рубахе, казалось, это не из-за Гроховского, не по случаю прощания с ним собрались здесь все, а — Левы ради, его хлебосольства и радушия. О Гроховском все, кажется, и впрямь позабыли, он, совсем уже пьяненький, угрюмый, с загнанными глазами на кирпично-красном лице, все стоял рядом с Истиной — сама неуклюжесть близ ее беззащитной хрупкости, не в силах уже скрывать растерянность за вымученной веселостью, как это было в самом начале вечера и как это вообще бывает с людьми, решившимися на крайний, отчаянный шаг и скрывающими даже от самих себя необратимость собственного решения. Он казался тут совершенно лишним, ненужным, при нем гостям приходилось поневоле прятать беззаботное свое оживление, в его присутствии было неловко говорить о постороннем. И даже Борисов, казалось, тяготился Гроховским. И когда тот, и вовсе уже нагрузившись и раза два пытавшийся затеять, для отвода души, драку, был отведен в соседнюю с мастерской комнату и уложен одетым в постель и тут же надсадно захрапел, все вздохнули с облегчением.
В толчее и неразберихе проводов Бенедиктов не сразу увидел белокурую голову Тани Конашевич. Она стояла у дальней стены в компании своего мужа-архитектора и еще одного молодого или, скорее, моложавого, спортивной стати человека, которого Бенедиктов ни разу прежде не видел ни у нее, ни с ней. Таня тоже его заметила, кинулась к нему сквозь толпу гостей.
— Юрик! Родной! — От нее пахло коньяком и крепкими, сладкими духами, и, коснувшись щекою ее щеки, он ощутил жирный слой тона, растопленного жарой. — И ты здесь! Все здесь! Все! Прямо как на премьере в «Современнике»!
— А я и не знал, что ты знакома с Гроховским.
— С Гроховским?.. — искренно удивилась она. — Это кто?
— Таня! — укорил ее подошедший вслед за нею, вместе с их спортивного склада спутником в светло-кофейном блейзере, Гена, — У тебя все вон из головы! — И, указывая рукой на их спутника, спросил Бенедиктова: — Вы не знакомы?
Спутник вежливо поклонился, протянул было Бенедиктову руку, но Таня, нетвердо стоявшая на ногах, ухватилась за нее:
— Вся Москва здесь! Я теперь всегда буду на проводы ходить! Так интересно!..
Конашевича кто-то отозвал в сторону, они остались втроем. Кофейный блейзер сказал сдержанно, но дружелюбно:
— Мы не знакомы, но я знаю Юрия Павловича. Давно.
— Откуда?.. Что-то, извините, не припомню.
Танин спутник чуть застенчиво улыбнулся.
— Москва не так уж велика… Где-нибудь наверняка виделись, вероятнее всего, — обвел он глазами мастерскую, — где-нибудь в этом роде, в гостях. Московская светская жизнь.
— А где Майка? Почему она не с тобой? — полюбопытствовала Таня.
Бенедиктов был ошарашен ее вопросом:
— На Взморье, — и с тревогой взглянул на Таню. — Ты что, не знала?!
— На Взморье?.. — сделала она большие глаза. — Как — на Взморье?..
В сердце Бенедиктова мигом вполз холодненький, скользкий страх — страх, что вот сейчас, сию минуту его подозрения последних дней подтвердятся, загадка будет разгадана, и вдруг окажется, что это загадка только для него, а все другие — все! весь этот сброд! эта шушера! — давно знают разгадку и только посмеиваются, жалостливо кивая головами у него за спиной.
— На Взморье?.. — Таня осеклась и, как показалось Бенедиктову, мгновенно протрезвела. Потом спохватилась: — Ну да! Я просто забыла. Совсем из головы вылетело!
Бенедиктов отвел глаза — Таня врала грубо и неумело, но не тут же, при всех, уличать ее, прижать к стене. Врала, зная, что он ей не верит!..
— Где Гена? Вечно куда-то пропадает, потом напивается с какими-то кретинами, а я тащи его домой на закорках!.. Извини, Юра, мы еще увидимся… — заторопилась она, хоть Бенедиктов знал, что и это неправда: не Гена, робкий и непьющий человек, а она напивается всякий раз, и не его, а ее приходится потом доставлять домой полумертвую.
Но ее спутник не пошел за нею, остался рядом с Бенедиктовым у открытого окна, за которым переливалась ночными огнями Москва.
— Вы — друг господина Гроховского? — из одной вежливости, как показалось Бенедиктову, спросил его собеседник.
— Нет, Борисова, хозяина мастерской. С Гроховским я знаком разве что шапочно. И почему — «господина»?..
— Ну, теперь-то он уж во всяком случае не «товарищ», — уклончиво ответил тот, и Бенедиктову послышалось в его тоне равнодушие человека пришлого, со стороны, которому все, что творится вокруг, не слишком интересно, — Не знакомы, а вот ведь — пришли его проводить…
Бенедиктов не понял, то ли собеседник его осуждает, то ли, наоборот, ставит ему это в заслугу.
— Как и вы, собственно, — прервал он его резче, чем ему самому хотелось. Но про себя он знал, отчего это с ним: из-за Таниного наглого вранья, из-за того, что она — да и она ли одна! — знает что-то про Майю, чего он сам не знает и что таит в себе нечто опасное, унизительное для него.
— Как и я, собственно, — охотно согласился с ним тот и опять, то ли в укор, то ли в похвалу, добавил: — Вы — русский, я русский, а ведь вот же, оба мы пришли сюда и поневоле вынуждены принимать участие…
— В чем? — насторожился Бенедиктов.
— В том, что принято называть «еврейским вопросом», — развел, улыбаясь, руками собеседник. — Конечно, если принять на веру, что этот вопрос — вселенский, всех волнует и все ищут на него ответа…
— А вы?.. — перебил его Бенедиктов. — Кстати, как прикажете вас величать?
Тот взглянул на него с той же чуть застенчивой улыбкой, пожал плечами, словно сам удивляясь тому, что сейчас скажет:
— Меня зовут, представьте, Иван. По-русски, разумеется, дома меня, конечно, называют несколько иначе.
Хотя я — русский и даже православный, — И опять развел руками, словно стесняясь: — Одним словом — Ваня.
Так вот что настораживало в нем Бенедиктова, он это только сейчас понял: хотя этот Ваня и говорил на чистейшем русском языке, но именно безупречность и какая-то застывшая, неживая округлость его речи выдавали в нем иностранца, для которого русский — не родной или, по крайней мере, не слишком часто употребляемый язык.
— Я? — не забыл о вопросе Бенедиктова Ваня. — Нет, отчего же, меня он тоже занимает, хотя… Видите ли, население земного шара вот-вот перевалит за пять миллиардов, а их — каких-нибудь пятнадцать, кажется, миллионов… Положа руку на сердце, уважаемый Юрий Павлович, так ли уж нас с вами волнуют судьбы кхмеров каких-нибудь или малайцев? В одной только Индии ежегодно умирает от голода народу куда больше, чем всех евреев на белом свете вместе взятых. А от меня требуют, чтобы я непременно тоже искал ответа на этот проклятый вопрос… Впрочем, — смутился он и даже, как показалось Бенедиктову, покраснел от неловкости, — ваша матушка была, помнится, тоже… вернее, мачеха. Естественно, что вы не можете не смотреть на это несколько иначе.
— И все-то вы знаете… — только и оставалось усмехнуться Бенедиктову, а про себя он подумал: кто же он такой, этот милый и обаятельный — вот даже краснеет от смущения! — заграничный Ваня?..
— Все мы знаем чуть меньше, чем сами полагаем, и чуть больше, чем полагают другие, — вежливо отшутился Ваня и поспешил заверить Бенедиктова: — Нет, я не антисемит, упаси бог! Скорее — даже наоборот, но… — И совершенно неожиданно обратился к Бенедиктову с вопросом, на который едва ли ждал ответа: — Как вы полагаете, Юрий Павлович, с чего начался антисемитизм? В самом начале, с истоков, если можно так выразиться, когда на них еще — ни христопродавства, ни варварства и нетерпимости наших просвещенных времен?.. — Но, по-видимому, ответа он действительно не ждал, потому что тут же перескочил совсем на другое: — Что же до моего всезнания, как вы изволили заметить, то просто я имел счастье читать записки вашей матушки, чрезвычайно интересный документ, я бы даже сказал — выдающийся. — И, не дав Бенедиктову опамятоваться, помахал кому-то в толпе рукой: — Извините, меня Геннадий зовет, ему одному с Татьяной не управиться. — Но, прежде чем протянуть ему на прощание руку, вынул из бумажника визитную карточку: — Позвольте вам презентовать, может быть, когда-нибудь и пригодится. Впрочем, мой телефон вы и так могли бы узнать у Конашевичей. Был чрезвычайно рад лично познакомиться, Юрий Павлович, поверьте. — И тут же пропал в толчее.
Прежде чем взглянуть на визитную карточку Вани, Бенедиктов кончиками пальцев ощутил, как гладок и тверд этот квадратный кусочек картона, у нас на таком визитки не печатают. На нем латинскими или даже скорее готическими затейливыми литерами было выведено золотом: «Жан-Пьер Егорофф». И более всего ошарашило Бенедиктова это двойное «ф».
Подошли попрощаться Ансимов и Ева. Пьяный Ансимов держался еще более вальяжно, чем трезвый, а Ева, наоборот, была тиха и грустна.
— Не пропадай, старик, — величаво пожал Бенедиктову руку Паша. — Мы пойдем. Очень клевая вечеруха задалась, верно? Как в лучшие наши времена.
— Как на похоронах, — негромко сказала Ева, — будто кого-то хоронят… Того же Гроховского, что ли, или меня… Будто все мы прощаемся и никогда больше не увидим друг друга…
Они ушли. Ансимов, стараясь сохранить как можно более прямую осанку, опирался на руку Евы, и она вела его, как поводырь слепого, — свою первую и единственную любовь, все прочие в счет не шли.
И снова как из-под земли за спиной Бенедиктова возник Лернер в сопровождении все того же Ценципера. Ценципер, видимо, изнемог от бесконечных, изматывающих дискуссий все об одном и том же, был бледен как мел, едва держался на ногах и прислонился плечом — маленький, тщедушный подросток — к Лернеру, как к стене.
— И вот еще что, на прощанье, — сказал Лернер, будто разговор его с Бенедиктовым и не прерывался, — вот еще что… Почему мы уезжаем? Почему?! Не эти, — он презрительно повел вокруг головой, — не вся эта шушера! Я не о них! А вот почему я уезжаю…
— Мы, — напомнил о себе Ценципер, — мы, Боря…
— Это ничего не решит, Лернер, — услышал его откуда-то из недоступной ни для кого другого дали собственных своих неразрешимых вопросов Бенедиктов. — Все дело в том, что обетована нам — и нам, и вам, всем! — не какая-то мифическая Палестина, не только этот клочок земли, которого и на глобусе-то не найдешь, обетована нам вся земля, Боря… Обетованная земля — это весь шар земной, Лернер, и тут уж никому, ни нам, ни вам, друг без друга никак не обойтись. И вообще — ни «нас», ни «вас» нету, бредни это, чушь собачья, — есть «мы», Лернер, и никому от этого никуда не деться.
— Вы знаете, как это осуществить? — спросил его в упор Лернер. — Как примирить одно с другим?.. Я не знаю.
Мастерская уже почти опустела, из соседней комнаты слышен был надсадный храп Гроховского, пьяный Борисов раскинулся неохватными своими телесами на «подиуме», последние гости, успевшие напрочь забыть, зачем они пришли сюда и кого и куда провожали, не спеша расходились.
Бенедиктов вышел на улицу, ночь была тихой, лунной, Москва глухо ворочалась во сне, воздух пахнул гарью и дымом Великой суши.
Бенедиктов вспомнил, что дома его никто не ждет, что Майи нет, Майя неизвестно где, и неизвестно, есть ли она еще у него, и что будет с ним и с нею — тоже неизвестно. Ему стало так одиноко, так пусто на душе, что все, что только что было там, в мастерской, — даже этот странный и чреватый невесть чем разговор с выскочившим как черт из табакерки Егороффым, да и вся эта поминальная горечь чужих проводов в землю обетованную, чья долгота и широта никому не известны по той простой причине, что точка их пересечения всегда в тебе самом, где бы ты ни находился, — все это, услышанное, говоренное, думанное, потеряло для него всякий смысл, и лишь одно было важно: Майя.
Была уже осень, за окнами лил дождь, Вспольный отблескивал черным зеркалом мокрого асфальта, облетали липы. Мы лежали рядом под мерный шорох дождя на нашей семейной постели, только что сделанной на заказ, — запоздалое ложе любви в новом нашем, возведенном для долгого, покойного и прочного счастья доме.
Я докурил сигарету и погасил свет, мы лежали в темноте и молчали, слышали ровное дыхание друг друга, и молчание наше доставалось нам недешево: мы оба знали, о чем молчим, и больше всего страшились заговорить, сказать об этом вслух.
В темноте я потянулся на ощупь за новой сигаретой, спичка вспыхнула и погасла, и, когда она погасла, ты сказала едва слышно:
— Я вот что хотела, Юра… То есть я не хотела, но… Ты меня все спрашиваешь — что случилось, когда, почему?.. Так вот — да, есть другой, неважно кто, ты его все равно не знаешь, но я его люблю, и мы с ним уедем. Ты хотел знать. Так вот — я уезжаю.
Ты повторила, думая, что я не услышал:
— Есть другой, я его люблю, и я уезжаю с ним…
Ты сказала:
— Я не виновата, что все кончилось, никто не виноват. И я не хотела этого. И молчала не потому, что обманывала тебя, я не хотела обманывать, я просто еще надеялась. Я знаю, ты не поверишь, но я надеялась, что это не всерьез, пройдет, перемелется, что я справлюсь с этим сама. Я и сейчас не хочу этого, поверь, я боюсь, у меня разламывается голова, мне тыщу раз приходило на ум — лучше я выброшусь из окна! А ты ничего не замечал, вот за что я больше всего тебя ненавидела — что ты такой слепой, глухой, ничего не видишь, не хочешь мне помочь!.. Я боюсь, понимаешь?! Мне страшно!.. И не сегодня у нас с тобой все кончилось, не вчера, давно уже, но ты этого не понимал, не придавал значения, а я женщина, женщина лучше чувствует, раньше…
И, не дождавшись опять от меня ответа, ты сказала:
— Вот даже сейчас ты отмалчиваешься!.. И не в том дело, люблю я тебя или не люблю, теперь я и сама этого уже не знаю, теперь мне легче думать, что никогда и не любила, с самого начала… Да и какое это теперь имеет значение, чему это может помочь?! Я чужая стала, нет, не только тебе, я сама себе чужая, как будто это уже не я, а кто-то другой… И все мне чужое, все и всё, и ты тоже, ты — в первую очередь, может быть, именно потому, что я тебя все-таки любила… Это — беда, Юрочка, беда!.. Но что я могу поделать?! Я влюбилась как последняя дура, как девчонка, он уезжает, уже заявление подал, а мне сорок скоро, это — последний мой раз, пойми, последний! Если не сейчас, то уже никогда… Это все, что у меня осталось, — последний мой раз! И я решилась, как это мне ни страшно. Я еду, Юра…
И тогда я, не узнавая собственного голоса, спросил с великолепным, словно бы отрепетированным загодя спокойствием идиота:
— Куда?
Мне бы в ответ тебе — «я люблю другого, я уезжаю с ним» — ненавидеть тебя, презирать, прибить, испытывать к тебе гадливость и омерзение, — а я любил тебя сильнее, чем прежде.
Господи, какая на меня обрушилась гора любви!
Я не услышал твоего ответа на мое «куда?» — да и нетрудно было догадаться куда, тут и спрашивать было не о чем! — я задохнулся от этой своей любви, я исходил криком, униженно просил, убеждал, юродствовал, уж не помню, что я бормотал тогда, какие слова, какие доводы и мольбы, этот бессвязный бред длился всю ночь: только бы ты осталась, только бы не ушла!..
Я говорил, говорил и, не веря, верил, что все можно повернуть вспять, все можно друг другу простить и все начать сначала! Но тот дальний, потаенный уголок сознания, который всегда в нас трезв, часовой этот знал: ничего не повернуть, ничего не исправить.
Вся беда была в том, и мы это оба понимали, что мне любви твоей надо, а вот ее-то, малости этой, и не было уже в тебе. Ты могла мне в ту ночь обещать все: верность, преданность, заботу, но — не любовь. Тут ты была бессильна.
А ночь между тем серела, и когда квадрат окна налился гнилостным осенним рассветом, ты сказала, и я едва тебя расслышал:
— Прости.
8
Все эти последние дни у него не шла из головы, как заигранная, застрявшая на одном и том же месте пластинка, глупая песенка начала все тех же шестидесятых годов; «Ариведерчи, Рома, гуд бай, оревуар…» — может быть, потому, что он знал, что Майя поедет сначала в Вену, потом в Рим, а уж оттуда — невесть куда.
О чем бы он ни думал — впрочем, ни о чем другом, кроме Майиного отъезда, думать он не мог, — как ни пытался взять себя в руки, все одно и то же, одно и то же: «Ариведерчи, Рома»…
Никакого «ариведерчи» не будет, никакого «оревуар», никакого «до свидания» — только «прощай». Он впервые понял всю чудовищность этого слова: никогда.
Никогда больше не видеть, не слышать, не ощущать теплоту и нежность ее тела, никогда больше не коснуться его, не просыпаться ночью, чтобы убедиться, что она рядом.
Ни-ког-да!
Все эти два месяца, с того дня, когда она подала в ОВИР заявление, и до того, как получила разрешение, и еще месяц до ее отъезда он ни на миг не переставал упорно и тупо верить, что ничего не будет, что все уладится, никуда она не уедет, раздумает, сжалится над собою и над ним.
Она ушла с работы, распродала все свои зимние вещи — дубленку, теплые сапоги, свитера, кофты, она думала, там — ни холодов, ни промозглой осени. Она жила как в потемках, потерявши себя прежнюю и мучительно ища в себе новую себя, оборвавшую связи с былой жизнью, отрекшуюся от нее. Она словно даже лихорадочно спешила отречься и все забыть, чтобы хоть в тот короткий миг, когда самолет оторвется от взлетной полосы, быть в силах обмануть себя, что — не о чем жалеть, не по чему убиваться.
«Ариведерчи, Рома…»
Эта песенка вертелась у него на языке, в ней сошлись для него, как в фокусе, вся его растерянность и бессилие, он бормотал ее как заклинание, вышагивал по улицам и повторял, повторял про себя. Ему казалось, что она не только утишает остроколющую боль в сердце, но и может заговорить ее, как заговаривают кровь.
Все его мысли выстраивались в одну бессвязную цепочку, в жалкую мольбу: господи! сделай так, чтобы все стало, как было, сделай так, чтобы все сгинуло как дурной сон, я все ей прощу, все забуду, господи, верни мне ее, я буду любить ее денно и нощно, я теперь знаю — жить можно только любовью и прощением, я буду добр и терпелив, я удушу в себе обиду и спесь, я готов на все, господи, меня так измочалило, так растоптало, я приму все, что ты мне ни пошлешь, на что ни обречешь, даже если это и будет несправедливо, даже если это будет мне не по силам, только верни ее, не дай ей уйти, господи, только не это!..
Двадцатого марта она ушла утром из дома — теперь они жили порознь, она в спальне, он в кабинете, и во сне все то же: «Ариведерчи, Рома…» — а через несколько минут позвонила снизу, из автомата:
— Юра… я даже не знаю, как… Я вообще не знаю!..
В почтовом ящике… ну, там, в подъезде, в ящике… там письмо пришло… да, разрешение… Я не знаю!.. — Он услышал в трубке стон, она повесила трубку на рычаг: ту-ту-туту-ту…
Ариведерчи.
И все же и тут он не потерял жалкой надежды: в последний миг, у трапа самолета, она ужаснется, кинется к нему: «Нет, не могу, не хочу!»
Она не хотела никаких проводов, но друзья и подруги все равно придут, без проводов не обойтись, он знал, что не выдюжить ему этих проводов, не железный же он, всему есть предел!..
В тот вечер, ничего ей не сказав, он уехал, колесил вслепую до полуночи по городу, по пустынным улицам, не отдавая себе отчета, где он, но помимо воли круги его блужданий сужались, его бессознательно влекло к центру, к Садовому кольцу, в Вспольный переулок.
Квартира была залита светом, из гостиной раздавались голоса и смех, видно, набежала тьма народа, кто-то рассказывал что-то смешное, все хохотали, и все это было похоже не на проводы, не на поминки по целой жизни, а на веселую, беспечальную вечеринку.
Он прошел к себе, никто его и не услышал, окно с прошлой ночи было затянуто шторой, полный мрак. Он сидел в темноте, никто и не догадывался, что он тут, рядом, никто его не хватился. Отрезанный ломоть.
Он слышал из-за двери ее голос — оживленный, взбудораженный, будто она уезжала не навсегда, не уходила безвозвратно из его жизни, а стало быть, и из своей, а — ненадолго, на юг, в отпуск.
Он остался на этом берегу, она уже — на том, на недоступном, ему уже до нее не докричаться, он здесь, она там, но как она может, как она смеет думать и говорить сейчас о чем-то, кроме него, как может смеяться чьим-то глупым и плоским шуткам, а не сидеть с ним рядом, здесь, в темноте, и прощаться с ним, оплакивать его и себя и их долгую, единственную жизнь вместе, их одно на двоих никогда, как она смеет? Неужели и в этом воля твоя, господи?!
Дай мне ее забыть, господи!
Дай мне сил, протяни мне руку! Я испил свою чашу до дна, капля за каплей, выворотил память наизнанку и не искал ни оправдания себе, ни поблажки, я сам приговорил себя к этой муке, но сколько же еще, господи?!
Отшиби у меня память, вытрави из нее наши первые дни и последние и целую жизнь, которая пролегла между ними, и шум сосен за окном дачи, и зеркало, в котором вспыхивали и гасли зарницы, а балтийские закаты гасли медленно и нехотя, нежные, текучие краски, дымчатый блеск моря, потом все окутывалось голубым сухим туманом, и в Подмосковье снег празднично скрипел под ногами и ломило глаза от нестерпимой белизны, осенью в сквозном лесу на жесткой предзимней голубизне неба нестерпимо белы были нагие стволы берез, а в нашей комнате печь топилась сосновыми дровами, руки были в клейкой смоле, к ночи печь раскалялась докрасна… но сколько же еще, господи?! Доколе?..
9
Через каких-нибудь полгода после Майиного отъезда Бенедиктову позвонил Андрей Латынин, руководитель недавно созданного театра-студии, — «студией» как бы подчеркивались его новаторские, экспериментальные, далеко идущие планы.
С Латыниным театральная Москва связывала главные свои надежды, несмотря на то что ему шел уже пятый десяток. Он успел поставить несколько нашумевших — и по справедливости — спектаклей в «Современнике», на Таганке, о них спорили до хрипоты, превозносили без меры или так же непримиримо ниспровергали и охаивали, в итоге спектакли, как правило, запрещались, что только подогревало его популярность, и всякий раз он с молодым не по годам пылом все начинал сначала и — по мнению как доброжелателей, так и недругов — снова и снова «лез на рожон».
Вероятно, только этим и следовало объяснить его предложение Бенедиктову поставить «Лестничную клетку» в театре.
Она и впрямь вполне годилась для этого — много диалогов, одно, собственно говоря, место действия, очень может быть, для театра она подходила даже больше, чем для кино. Бенедиктов быстро, недели за три, переписал сценарий, разбил его на картины и акты, дописал несколько сцен, сократил число действующих лиц, и получилось вполне годное для сцены сочинение. Латынин обещал все взять на себя — заключение договора, читку на труппе театра, прохождение через Министерство культуры. Бенедиктову велено было лишь терпеливо ждать дня, когда его сочинение «увидит огни рампы».
Но вскоре дело застопорилось, забуксовало на месте: городское управление культуры, видимо прослышав о давнем не то запрете, не то затянувшейся на неопределенное время консервации «Клетки» в кино, никак не решалось дать свое «добро» на постановку. Выше управления было Министерство культуры. Латынин и ринулся туда, прихватив с собой Бенедиктова.
В управлении театров их приняла вполне приятная на вид женщина лет пятидесяти, с открытым, интеллигентным лицом — спокойные глаза, высокий лоб, никакой косметикқ, доброжелательная улыбка. Она говорила не отштампованными раз и навсегда и ни к чему не обязывающими словами, а живо, искренно, и Бенедиктов сразу проникся к ней доверием и уверенностью, что уж она-то им с Латыниным — союзник.
Из окна кабинета Елены Михайловны была видна островерхая кровля старинного особняка, со всех сторон обстроенного более поздними, многоэтажными домами, по кровле, перестилая жестяные листы и гремя ими, ползали рабочие. Часть кровли была свежеокрашена ярко-малиновой краской, и этот бьющий в глаза, радостный, четко обозначенный на фоне белесого предзимнего неба цвет вселял в Бенедиктова почти физически ощутимую надежду, что все будет хорошо, все образуется, Елена Михайловна не даст их с Латыниным в обиду.
Разговор шел откровенный и, как казалось Бенедиктову, без подводных течений — Елена Михайловна и не собиралась скрывать своего благорасположения к Бенедиктову, ни дружески-покровительственного отношения к Латынину, ни своего — правда, чисто читательского, подчеркнула она, чисто субъективного — интереса к «Лестничной клетке».
— Я лично не вижу в ней ничего такого, — доверительно говорила она, — из-за чего она не могла бы увидеть света. Пусть не в кино, там, возможно, существует иная точка зрения, не знаю, но что касается театра…
— Стало быть, благословляете?! — поторопился Латынин. На его не первой свежести, под свитером с широким вырезом, рубашке была оторвана верхняя пуговица, и
Елена Михайловна нет-нет, а поглядывала на его открытую жилистую шею с смешанным выражением жалости и осуждения. — Тогда позвоните в городское управление — и делу конец!..
— Вы торопите события, — с мягкой полуулыбкой прервала его Елена Михайловна, — вы торопите события, Андрей Анатольевич. Во-первых, мое личное мнение, которое я вам высказала, это не более чем мое мнение, а не мнение всей нашей репертуарной коллегии. Во-вторых… — она чуть замялась, поглядела в окно на малиновую кровлю, помедлила, — во-вторых, будь это даже мнение коллегии, не в нашей практике навязывать его кому бы то ни было. К тому же…
— Но вы ведь — министерство! — нетерпеливо вскричал Латынин. — Кому же, как не вам!
— …к тому же, — словно не услышав его восклицания или великодушно пропустив его мимо ушей, продолжала Елена Михайловна, — московское управление пользуется, по существу, такими же правами, как и мы, полной самостоятельностью. И наши отношения с ним вовсе не таковы, чтобы… Все очень сложно, Андрей Анатольевич, поверьте… — И на этот раз ее полуулыбка стала полу-печальной, — Все очень непросто, это только со стороны кажется — снял трубку, позвонил…
— Но вы же — министерство! — даже всплеснул руками Латынин. — Высшая инстанция!
— Вышестоящая инстанция не должна связывать руки нижестоящей, не должна мешать ей проявлять собственную инициативу, Андрей Анатольевич, — отвела его довод Елена Михайловна, — Мы вмешиваемся лишь в крайних случаях.
Бенедиктов прекрасно понимал, что это не так, тем более что тут как раз именно и был крайний случай, просто Елена Михайловна уходит от ответа, от ответственности, хотя, очень может быть, лично она и хотела бы им помочь.
— Что ж… — сказал он, благодарный ей хотя бы за добрые намерения, пусть и неосуществившиеся, что ж… — и поднялся было с кресла.
— Погоди ты! — потянул его вниз за рукав Латынин. — Значит, что же, ничего нельзя поделать?! Ну, пусть вы, Елена Михайловна, не можете, но, в таком случае, Георгий Иванович? Я ему тоже оставил экземпляр пьесы и просил прочитать… Давайте пойдем к нему!
Елена Михайловна молча вынула из ящика и положила на стол первый машинописный экземпляр «Клетки».
— Вот он, Андрей Анатольевич, — сказала она с почти искренним сочувствием. — Георгий Иванович передал его мне.
— Не читая? — никак не мог взять в толк Латынин. — Даже не прочитал?!
— Он поручил это мне.
— Но вы ведь сами сказали, что лично вам…
— Это так, — подняла на него все с тем же сочувствием глаза Елена Михайловна, — это так, поверьте. Но я одна не вправе…
— Зачем же он дал вам читать пьесу, если знает, что вы не вправе решить этот вопрос? — не унимался Латынин, — Это же нонсенс! Если никто, кроме самого Георгия Ивановича, не может разрешить или, наоборот, окончательно запретить…
— Мы ничего никогда не запрещаем… — В голосе Елены Михайловны впервые прозвучало раздражение, но она тут же взяла себя в руки и опять заговорила мягко и доброжелательно: — Мы ничего не запрещаем, Андрей Анатольевич. У нас нет даже такого права — запрещать. И желания тоже.
— Если только он может, — настаивал торопливо Латынин, — то почему же ему самому не прочитать пьесу и… Ведь, если я вас правильно понял, пусть даже вы, Елена Михайловна, скажете нам «да»…
— Вы правы, — теперь в ее голосе слышалось одно желание поскорее закончить затянувшийся и неприятный этот разговор, — как, впрочем, и если я скажу «нет».
Солнце ушло за тучу, и свежевыкрашенная кровля за окном, только что радостно и празднично малиновая, стала, как показалось Бенедиктову, угрюмо-багрова.
— Мы, к сожалению, не понимаем друг друга, Андрей Анатольевич, — заключила Елена Михайловна, — министерство, и в том числе наша коллегия, занимается не частными вопросами, а — общими. Частные вопросы решаются на местах, в данном случае — в городском управлении. Представьте, если бы мы стали заниматься всеми пьесами, всеми внутритеатральными тяжбами, и вообще… Вы только представьте! Что же до меня лично, то — поверьте…
Разговор был исчерпан, ждать от Елены Михайловны было ужо нечего, настаивать не на чем, даже Латынин и тот растерянно примолк. Пора и честь знать.
— Кстати, — совершенно неожиданно поинтересовалась па прощание Елена Михаиловна у Бенедиктова, назвав его при этом не Юрием Павловичем, как называла на протяжении всего их почти полуторачасового разговора, а «товарищем Бенедиктовым», — кстати, товарищ Бенедиктов, я слышала, будто ваша жена…
— Бывшая жена! — кинулся, почуяв недоброе, на помощь Бенедиктову Латынин.
— …ваша жена, — не услышала его опять Елена Михайловна, — уехала, я хочу сказать — эмигрировала?..
— Какое это имеет отношение к делу?! — оборвал ее снова Андрей.
— Никакого, — обиделась Елена Михайловна и взялась за какие-то папки, лежавшие на столе. — Разумеется, никакого. Я просто так, к слову… Всего вам доброго, желаю всяческих успехов, — и, надев очки, углубилась в бумаги.
— Дура! — громко, не боясь быть услышанным или именно желая, чтобы его услышали, ругался Латынин, спускаясь бегом; Бенедиктов едва поспевал за ним по широкой лестнице с бронзовыми литыми перилами. — Бюрократка! Чиновница копеечная, винт без гайки, а строит из себя…
— Круг замкнулся, — попытался отшутиться Бенедиктов, но чувство полной беззащитности и бессилия, только что испытанное им, не проходило.
— Какой там еще круг! Не придумывай! Она же мелкая сошка, ничего не стоит найти на нее управу, уж мне-то ты можешь поверить, я-то стреляный воробей! Не преувеличивай. И откуда только у вас, у интеллигентиков доморощенных, эта совершенно неадекватная реакция? Чуть что — лапки кверху! За правое дело бороться надо, Юрий Павлович, бороться и не сдаваться! До победного конца, иначе не бывает!.. — И уже в гардеробе, надевая видавшую виды куртку с капюшоном, спросил: — Это ты насчет того, что она о жене спросила? Так ведь обыкновенная сплетня, а ей интересно узнать из первых рук, она же весь день взаперти в своем кабинете сидит, любопытство прямо-таки гложет — что там снаружи делается? Не принимай близко к сердцу. Я ведь и до министра доберусь, можешь не сомневаться, со мной такого еще не бывало, чтобы я не дожал того, чего мне нужно! А на таких, как эта дамочка, обижаться или, того более, пугаться ее — других поищите!
Но Бенедиктова не покидало глупое и жалкое опасение нежданной какой-то угрозы, чувство без вины виноватости — за что? в чем? перед кем?! — и, как он себя ни уговаривал, что страхи эти ни на чем не основаны, ничего поделать с собой был не в состоянии.
Ты в ту ночь еще вот что сказала:
— Мне страшно. Нет, не с тобой мне страшно, с тобой как раз я как за каменной стеной, но когда я выхожу за эту стену, мне становится так страшно, что и не сказать… будто все затаилось, подстерегает за углом, чтоб испугать меня, сбить с ног… Я тебе не рассказывала, а все вот с этого-то и началось: я возвращалась домой в автобусе, села в центре, совсем поздно было, второй час, у Никитских все вышли, я одна осталась, совершенно пустой автобус, мне через одну выходить, но ни на следующей остановке, ни потом он не остановился, я подумала — ничего, выйду на Пресне, но он и там не остановился, едем, едем, и так страшно, что… Я стучу в кабинку водителя, а он не оборачивается, и мне вдруг так холодно стало, будто это уже не я, а кусок льда, вместо сердца — лед, и если бы его милиционер не остановил, он что-то там нарушил… Он открыл дверь, я выскочила, темно, не знаю, куда идти, в какую сторону, и так страшно, ты понимаешь?.. И пусть даже мне все это приснилось, все равно — мне с тех пор страшно жить, понимаешь? Мне стало навсегда страшно, слышишь?! Мне теперь кажется, что вся моя жизнь — как этот автобус пустой…
10
И все же он сделал еще одну, последнюю попытку.
Он знал Ингу Романовскую очень давно — лет двадцать тому, шестнадцатилетней девочкой, выпускницей хореографического училища, она снималась в его первой картине. На съемки она неизменно приезжала вместе с матерью, тоже балериной, уже отставной. Мать привозила с собой в сумке бутерброды, рыночный творог и термос с разбавленным молоком кофе. И все в съемочной группе относились к Инге с заботливой нежностью взрослых к ребенку. Да она и была тогда еще ребенком — худенькая, с проглядывающими сквозь кожу ребрышками, убыстренно дышащими под неразвитой грудью, с длинными и слишком сильными при ее хрупкости ногами, которые она побалетному ставила чуть врозь.
Инга хоть и не сделала карьеры примы, но и не застряла в кордебалете, танцевала во втором и третьем составах главные партии в «Коппелии», «Щелкунчике» и даже в «Дон Кихоте».
Она приглашала Бенедиктова на все свои премьеры, никогда не забывала поздравить его с Новым годом, а в феврале — почему-то — с Днем армии, непременно присылала из заграничных гастролей открытки с видами Лондона, Нью-Йорка, Токио, время от времени они перезванивались.
Инга вышла замуж, муж ее был журналист-международник и постоянно жил за границей, и, собственно, замужеством и семьей в полном смысле слова их брак назвать было нельзя.
Вскоре после отъезда Майи Инга позвонила ему и сама предложила повидаться.
Они встретились днем в полупустом зале «Кафе-мороженого» на Пушкинской площади: она, по старой привычке, говорила ему «вы», а он ей — «ты», с первых же слов его словно прорвало, вышибло затычку, и он, не страшась показаться смешным и жалким и того, что она его не поймет или поймет не так, говорил, говорил — и не мог выговориться. Он не жаловался Инге, не плакался, а просто пытался не столько даже ей, сколько самому себе объяснить, хоть что-то понять во всем, что с ним происходит, и хоть на краткий миг освободиться от распирающей его боли.
Она слушала, не перебивая, не переспрашивая, все понимая, и лишь изредка, когда ему становилось совсем уж невмоготу, прикасалась своей легкой ладонью к его руке, и тогда у него чуть отлегало от сердца.
Они просидели в кафе до самого вечера, потом он отвез ее домой, они сговорились вновь встретиться.
Так начался их роман, если эти отношения можно было назвать романом. Это было скорее похоже на отношения, которые могут возникнуть между только что пошедшим на поправку больным и врачом, осторожно помогающим ему встать на ноги.
Была ли то любовь? — Бенедиктов не задавал себе этого вопроса.
В театре только что выпустили новый спектакль, Инга в нем танцевала главную партию, и теперь надолго, месяца, по крайней мере, на четыре, была свободна от утренних репетиций, если не считать обязательного во все времена, изнурительного, до седьмого пота, «класса».
Они виделись ежедневно, он заезжал за ней в театр, и они проводили весь день вместе, а если у нее не было спектакля, то и вечер.
Всякий раз, когда она танцевала, он приходил в театр к последнему действию, и когда артисты выходили на поклоны, Инга находила глазами Бенедиктова в крайней ложе правого бенуара и, по-балетному низко приседая, кланялась ему, чуть не касаясь одной коленкой пола и разводя в стороны, словно крылья, худые, легкие руки с оттопыренными, согласно ритуалу, кистями.
Инга все более и более привязывалась к нему, все чаще по утрам звонила первая, не дожидаясь его звонка, и в ее отношении к нему дружеское, ровно-спокойное уступало все больше место какой-то нервной, затаенной напряженности. Это не то чтобы тяготило его, но он чувствовал какую-то необъяснимую свою вину перед Ингой — в чем? за что?!
Он понимал: если что и угнетает ее, очень гордую и очень, как это ни нелепо, когда речь идет о женщине, обманывающей своего мужа, чистую, бегущую всякой двусмысленности и пошлости, так это роль любовницы. Она любит его, Бенедиктов знал это, но хочет быть его любимой, а не любовницей, а для этого ей надо уйти от мужа, что, по ее убеждению, было бы предательством, а предательство было ей чуждо и пугало ее еще больше, чем пошлость. Но так — Бенедиктов и это понимал — долго продолжаться не может, у нее просто-напросто не хватит сил.
Их роман тянулся уже около года, в Москве опять стояла ранняя, бойкая весна, солнце пригревало уже совсем по-летнему, даже вечерами не спадала духота. Каждый день, после «класса», они ездили в Серебряный бор, на Москву-реку, брали лежаки и загорали у самой воды. Инга натиралась ореховым маслом, от которого кожа ее пахла чуть горьковато, и Бенедиктов, глядя на нее со стороны — но именно, все чаще и с все растущим чувством вины ловил он себя, со стороны, как бы вчуже, — поражался юной стройности ее тела. Ему нравилось смотреть, как кожа ее день ото дня делается все темнее, становясь кофейно-оливкового — «египетского», как она сама его называла, — оттенка.
В тот день Инга была молчаливее и отрешеннее обычного, и Бенедиктов вдруг понял, что сегодня не миновать разговора, который они все оттягивают, отмалчиваются, зная оба, что ни к чему хорошему он не приведет. И что его, как ни беги, как ни откладывай, рано или поздно не миновать.
Бенедиктов не удержался, спросил:
— Слушай, Инга… если б я сказал, что хочу жениться на тебе?..
Она ответила не сразу, спокойно и даже безразлично, будто речь шла вовсе не о ней:
— Ты этого не скажешь, Юра.
— Почему?
— Потому что ты этого не хочешь.
— И все же?..
— Я тебе уже ответила.
— Но — если бы?.. — настаивал он, хотя понимал, что она права и что разговор, собственно, бессмыслен. — Все же, Инга?..
— Ты хочешь знать, что бы я тебе ответила, если бы ты на самом деле предложил мне руку и сердце?
— Да.
— Я бы отказала тебе, Юра. А если б не отказала, то очень скоро в этом раскаялась.
— Тебе плохо со мной? — не поверил он.
— Мне с тобой замечательно.
— Так в чем же дело?!
— Именно в этом. Только ты этого не поймешь.
Та, подумал Бенедиктов, тоже мне говорила: «Ты этого не поймешь». Чего же такого я в них не понимаю — ни в Майе, ни в Инге?.. Я ведь и вправду влюблен в нее, думал Бенедиктов, мне ее постоянно недостает, и я веду себя с нею, как и должен вести себя влюбленный мужчина… хоть и знаю, что это — не любовь. Влюбленность без любви — оказывается, и так бывает…
— Ты думаешь, я не люблю тебя? — не удержался он.
— Я это знаю, — так же спокойно ответила она и даже не повернула к нему головы, продолжала лежать на спине, словно главная и единственная ее забота сейчас была не упустить ни одного лучика солнца, словно ничего ей на свете не было важнее этого «египетского», оливкового загара.
— Почему?! — нетерпеливо привстал он и потянулся за сигаретами, которые лежали на Ингином лежаке. Рука его коснулась ее тела, и он почувствовал, как прохладна, несмотря на жаркое солнце, ее кожа. Он взял из пачки сигарету, снова улегся на спину. — Почему?
— Потому что ты любишь другую.
— Кого?! — вдруг раздражился он. — Что ты сочиняешь?!
— Хорошо, не буду. Только никогда больше не задавай мне глупых вопросов. Лучше прикури мне сигарету.
— Как знаешь, — неизвестно на что обиделся он.
Он долго не мог прикурить сигарету, ветер гасил пламя зажигалки. Инга не курила по-настоящему, так, изредка покуривала, не затягиваясь, но ей шло, когда она курила, — лицо ее становилось при этом задумчивым, она держала сигарету на отлете длинными, без маникюра, пальцами, щурясь от дыма.
Разговор этот бессмысленно было продолжать, ничем хорошим окончиться он не мог. Он походил не на предложение руки и сердца, а скорее на прощание. А с него хватит прощаний!..
И все же он задал еще один вопрос:
— Ну… а ты?..
— Юра, ты обещал не задавать больше вопросов. Тебе непременно хочется, чтоб я ответила?
Он помедлил, прежде чем сказать «да». Хватит с него прощаний, объяснений, сведения счетов! Все это уже было, было!..
И все-таки сказал:
— Да.
Она помолчала, потом погасила сигарету о край лежака.
— Это надо понимать так, что ты меня спрашиваешь — люблю ли я тебя?.. Да, — сказала она, и при всем ее спокойствии голос ее дрогнул. — Да, я люблю вас, Юрий Павлович, не буду скрывать. И если уж на то пошло, весь этот год с вами я была счастлива. Представьте себе. Целый год. Хоть и всегда знала, что вы меня не любите. Подожди! — решительно отвела она его протестующий жест. — И не спорь!.. Не любите, Юрий Павлович. Вернее, любите, да не меня. Нет, и не Майю, я думаю. Не Майю ты теперь любишь, не живую Майю, а — свою любовь к ней. Память о своей любви к Майе. И это заполняет все ваше, уж извините за высокопарность, сердце, Юрий Павлович, мне в нем места не остается. Как и всем другим тоже, одно утешение. И все же я была с вами счастлива, вполне.
— Чем же?.. — вот уж об этом ему не следовало спрашивать, хватит с него и так чувства вины перед нею!
— Тем, что я вас любила, этого мне было достаточно.
— В таком случае, — усмехнулся он, — в таком случае я должен быть самым счастливым человеком на свете. Если б, разумеется, было правдой, что я все еще люблю Майю.
— Это правда, Юра, — Инга перевернулась на живот, придерживая рукой расстегнутый купальник. Она сняла темные очки и повернула лицо к Бенедиктову. Глаза у нее были не печальные, как он ожидал, а скорее насмешливые.
«Над чем это она смеется?»— подумал он озадаченно.
— Это правда, — повторила она. — Но тебе непременно подавай взаимность. А тысячам людей было бы довольно и такой любви, безответной, у них-то нет никакой. Вы счастливейший человек на свете, Юрий Павлович, вас можно показывать за деньги. И в этом мы с вами в равном положении, мне не на что пенять. Я ведь давно вас люблю, Юрий Павлович, очень может быть, что я полюбила вас еще тогда, девочкой, когда снималась в вашем фильме. И еще может быть, что когда Майя уехала, я вдруг подумала, что… Глупый разговор! — оборвала она сама себя, и насмешка в ее глазах погасла. — Глупый, нелепый и…
— И?.. — переспросил он ее упрямо, с каким-то мучительством над нею и над самим собой.
— И наверное, Юра, последний, — ответила она ровно и снова надела очки. Теперь он уже не видел ее глаз, — И больше никогда не будем об этом, слышишь? Ни-ког-да!
— Чего ты ждешь от меня? — спросил он после долгого молчания. Солнце палило немилосердно. Не обгореть бы, подумал он невпопад и повторил: — Чего ты хочешь?
— Чего хочу?.. — переспросила Инга и ответила не сразу: — Я хочу, чтобы ты замолчал. А еще больше я хочу остаться одна.
— Ты хочешь, чтобы я ушел?
— Нет, — опять усмехнулась она, — не в таком прямом смысле.
«Зачем, зачем я требую от нее того, что должен решить и сделать сам?! — корил он себя. — Почему я хочу все взвалить на нее и потом утешаться тем, что не я, а она сама все решила?..»
И все же сказал вслух:
— Может быть, ты хочешь, чтобы я вообще исчез?..
— Глупости!.. — поморщилась она и закончила, отвернувшись от него: — В конце концов, я могу быть одна и при тебе.
Господи, взмолился он про себя, ты же видишь, знаешь, я очень старался полюбить ее! И полюби я ее — все, может быть, было бы спасено. Инга — единственная женщина на свете, с которой у меня могло бы это получиться!.. Не получилось…
Еще одно прощание, подумал он, и еще одно никогда.
И, словно подслушав его мысли, Инга сказала, не поворачиваясь к нему:
— Впрочем, ты, наверное, прав, лучше нам, если уж на то пошло… Если ты только сможешь, не звони мне больше, исчезни… И если, конечно, я сама смогу… Прости.
Проходят недели, месяцы, времена года, память мутнеет, как старое зеркало, отражение в нем становится с каждым днем бледней и туманнее. Ты возникаешь теперь в ней какими-то обрывками, клочьями воспоминаний. Это похоже на потемневшую от времени картину — часть лица, блеск взгляда из мрака, целого уже не объять глазом, не восстановить. Теперь-то я уж и вправду теряю тебя.
Но еще страшнее представить, что тебя могло бы у меня вообще не быть…
11
Дима Куликов — Бенедиктов проучился с ним в одной группе все пять институтских лет — покончил жизнь самоубийством: принял десятка два таблеток намбутала, и, не дождавшись действия снотворного, повесился на собственном шарфе в прихожей.
Димино лицо глядело из гроба бледным до синевы, неживым пятном. Узнать его было нельзя, смерть исказила привычные черты: при жизни оно было нервно-изменчивым, непостоянным, и лишь глаза всегда жили одним и тем же выражением удивления, доброты и детской незащищенности. Но теперь глаза были закрыты, лицо застыло, и недвижный его покой ничего общего не имел с живым Димкой.
На похороны пришло много народу — те, кто начинал вместе с Димкой, кто жил с ним бок о бок, его однолетки, коллеги-киношники.
Это была первая смерть в их поколении, первая брешь. Им было всем чуть больше сорока — совсем еще молодые, на середине жизненного пути, и бессмысленность, неожиданность Димкиной смерти не просто преисполнила их искреннего горя, но и испугала. Дима был один из них, и его смерть была смертью одного из них, была для каждого не просто потерей друга, но и потерей части самого себя. Это было прощанием не только с Димкой — однокашником, корешом, но еще и прощанием с их верой в собственную неуязвимость.
Впервые за многие годы собравшись вместе — жизнь развела их, разбросала, — на Димкиных похоронах, они вдруг с удивлением обнаружили, какими разными стали, как погрузнели и поседели, и, испугавшись этой перемены, вдруг потянулись друг к другу и к временам их прежнего нерасторжимого дружества. Они стояли в молчании тесной толпой вокруг Димкиного мертвого тела в тщетной надежде хоть сейчас вновь стать чем-то единым, той самой «новой волной» шестидесятых годов, так и не докатившейся до берега, разбившейся по пути на мелкие, разрозненные брызги.
Иных уж нет, думал Бенедиктов, стоя в толпе былых приятелей у Димкиного гроба, а те далече, а уж Димка-то так далеко, что теперь до него не докричаться, да и ему уже не услыхать того, что говорится над его мертвым телом.
Странная у Димки была судьба, да и сам Димка — странная фигура. Из множества задуманных и сочиненных им сценариев он написал едва ли три или четыре, и только один из его фильмов имел настоящий успех. Лучшие свои сюжеты — а придумывались они им щедро, на ходу, — он тут же выбалтывал, проговаривал, уступал другим за бутылку коньяка, за пол-литра, за сто граммов и потом, видя их на экране, не признавал, да и признав, не требовал даже извинений.
Пьянчужка, неудачник, вечный должник всех буфетов и забегаловок, где его знали как облупленного и, тем не менее, продолжали поить и кормить в долг, не состоявшись, не осуществившись в деле, Дима Куликов, как это ни странно, состоялся и осуществился как личность.
К Бенедиктову кто-то протиснулся сзади, громким шепотом сказал на ухо:
— В караул пойдешь? К гробу? — и, не дождавшись ответа, сунул ему в руки черно-красную траурную повязку.
Бенедиктов стоял в головах гроба, ему было видно неживое, застывшее Димкино лицо и вокруг лица тех, кто пришел проститься с Димкой. Дима был не просто один из нас, думал Бенедиктов, стараясь не глядеть на Димкино лицо, Дима был, наверное, неудачник за всех за нас, он каким-то образом оплачивал своей неприкаянностью наши мелкие и торопливые удачи, наши потуги на грошовое благополучие. Димка, очень может быть, и пил потому, что трезвому ему было совестно участвовать в этой нашей игре, в которой все мы кто больше, кто меньше, а участвовали. Димка просто платил по нашим счетам.
Бенедиктову казалось, что самой своей смертью Димка вопрошал его, Бенедиктова, о чем-то необычайно важном, на что, однако, ответа у него нет. Да и по глазам остальных, толпившихся вокруг гроба, он видел, что и они читают на Димкином мертвом лице тот же вопрос и так же ищут и не могут найти в себе ответа. И хотя он уже знал, что все проходит, все забывается, забудется и это Димкино лицо, и этот его безответный вопрос — все проходит, но должен же остаться в них во всех хотя бы отзвук этого не произнесенного вслух вопроса, хоть стыд от того, что ответа у них — нет!..
Потом были речи, говорили коротко, сбивчиво, кто-то из говоривших плакал, и всем было неловко: достоинства мертвого Димки вызывали теперь восхищение, которое, когда он был жив, никому бы и в голову не пришло, и в этом была неправда и лицемерие, потому что запоздалые эти похвалы были адресованы не столько Димке, сколько самой смерти, словно живые, хваля мертвого Димку, как бы льстили смерти, улещивали ее в предвидении собственной неминуемой, рано или поздно, встречи с нею.
На кладбище Бенедиктов должен был ехать с Ансимовым и Евой Горбатовой. Паша никак не мог завести машину, сел аккумулятор, и, с опозданием добравшись до Ваганькова — мокрая, чавкающая под ногами глина, голые деревья, могильные плиты и памятники, осыпанные прелой листвой, — они долго плутали по пустым осклизлым кладбищенским аллеям. Не у кого было даже спросить, где хоронят Димку. Они и вовсе отчаялись и уже пошли в ранних осенних сумерках назад, к выходу, но тут им навстречу вышла из-за поворота сильно поредевшая толпа тех, кто хоронил Куликова. Кто-то, оскользнувшись на мокрой глине и схватившись за руку Бенедиктова, сказал на ходу:
— Что же ты? Уже похоронили, опоздал.
Бенедиктов и Ансимов с Евой долго стояли у свежей
Димкиной могилы — рыжая глина продолговатым, наспех насыпанным холмиком, в головах несколько венков с лентами, табличку с именем не успели заказать. Дождь пошел сильнее, вода стояла ржавой лужей вокруг могилы, и лишь Димке, подумал Бенедиктов, лишь Димке там, в могиле, тепло и сухо. Уж теперь-то он нашел безотказное гостеприимство, теперь-то уже не придется ему, напившись и не смея явиться домой, звонить ребятам и просить о ночлеге или же, если дело было летом, ночевать, свернувшись калачиком и аккуратно подложив под голову стоптанные ботинки, на скамейке где-нибудь на Тверском или Суворовском. Димка обрел наконец все, что было ему живому заказано. Тепло, надежно, трезво. Прощай.
Уже в машине Ева попросила:
— Я не хочу на поминки, мальчики, к ним ко всем. Поедемте куда-нибудь, только чтоб больше никого, только вы и я. Или просто покружим по городу, а потом вы поедете туда одни, без меня.
Ансимов ничего не ответил, поехал куда глаза глядят.
И лишь много спустя сказал, не оборачиваясь к Бенедиктову и Еве, сидевшим рядом на заднем сиденье:
— А все-таки надо было бы выпить за упокой Димкиной отлетевшей души…
— Не надо о Димке, — сказала Ева, — я прошу. Пусть каждый про себя. Не надо слов.
Ансимов спросил, все так же не оборачиваясь, у Бенедиктова:
— От Майки есть что-нибудь? Извини, если я лезу не в свое…
— Дура! — вдруг с злым раздражением воскликнула Ева. — Дура!..
А Бенедиктов подумал, что впервые за все время после отъезда Майи он сегодня ни разу не вспомнил о ней, впервые сегодня его отпустила цепкая память. Весь день он думал о Димке, о смерти и о самом себе, искал ответа на Димкин неизреченный вопрос, и, странное дело, Майя к этому не имела уже никакого отношения.
— Почему — дура? — возразил Еве Ансимов, — Я не о том, что она ушла от Юры, тут она сто раз дура! Но почему дура, если отвалила за бугор? Что ей оставалось еще делать?
— Дура, — повторила Ева, — потому что глупо искать за тридевять земель того, чего нет в тебе самой.
— А чего не было в Майе? — полюбопытствовал Ансимов.
Бенедиктов, как бы издалека слушая их, подумал, что они говорят о Майе в прошедшем времени, словно о мертвой, будто она умерла и исчезла навсегда, как Дима Куликов. И себя самого тоже поймал на том, что слушает их и не перебивает, словно предмет их разговора не имеет и к нему никакого касательства.
— Чего не было в Майе, по-твоему? — настаивал Ансимов, — Она что, первая, кто навострил лыжи? Или последняя? То, что произошло у них с Юрой, этого со стороны не просечь, это они одни знают, но то, что она решила слинять…
Они и обо мне, подумал Бенедиктов, говорят так, будто и меня здесь нет, будто и я не в счет…
А вслух сказал и сам поразился, как это уже не раз случалось с ним в последнее время, собственному спокойствию:
— А я не хочу — о Майе. Ты не хотела о Диме, я не хочу о Майе. Что вам-то до нее?!
— Извини, — сказал Паша, — я не думал, что ты все еще…
— Все еще, — не дал ему досказать Бенедиктов. — И кончим об этом.
— Все еще!.. — усмехнулась в темноте салона Ева и зло кинула в спину Ансимову: — А ты думаешь — это вообще проходит?! Как ты только пишешь свои шлягеры о любви?!
— Нахальства в тебе явно поприбавилось, — проворчал себе под нос Ансимов.
Они долго молчали.
— Помните, — сказал невпопад Бенедиктов, — Димка говорил: последнюю свою рюмку я тяпну на собственных поминках…
— Помянем Димку, хоть и без водки, — отозвалась Ева. — Он не сбежал от своей судьбы.
У Речного вокзала Ансимов повернул обратно, но теперь за всю дорогу они не сказали друг другу ни слова, и в этом их молчании, думал Бенедиктов, была зрелая, оплаченная опытом целой жизни — а теперь и смертью Димки Куликова, смертью одного из них, — готовность с достоинством принять мир таким, какой он есть, и свой удел — тоже: спокойно, без суеты, без страха.
Ансимов завез Еву домой на Зубовскую, а они с Бенедиктовым поехали в Новоконюшенный, к Конашевичам, — из всех Димкиных близких друзей у них была самая просторная квартира, и поминки по Диме решено было справить там.
Со дня отъезда Майи Бенедиктов впервые переступал порог их дома, и, если бы не поминки, он никогда бы этого не сделал — он не мог простить Тане ее ложь и то, что она покрывала Майину ложь.
Когда они с Ансимовым добрались наконец до Конашевичей, поминки шли уже к концу.
В передней такой знакомой Бенедиктову по прежним временам квартиры их встретила Таня:
— Сколько же можно?! Мы думали, вы уже не придете. Остались, слава богу, одни свои. В кои-то веки все опять собрались вместе!..
Когда они с Пашей раздевались у вешалки, из кухни в гостиную, с блюдом какой-то еды в вытянутых руках и в кухарочьем фартуке, повязанном вокруг пояса, прошел тот самый Ваня — Бенедиктов его сразу признал, — с которым Таня его познакомила на проводах Гроховского, и Бенедиктову беспричинно вдруг пришло на ум, что сейчас должно произойти что-то важное, решительное и чего ему но миновать, как он ни старайся.
Ансимов ушел в комнату, а Бенедиктов замешкался у вешалки, и, когда Ваня прошел обратно на кухню. Таня остановила его и представила Юре:
— Вы не знакомы? Это — Ванечка, друг… даже не знаю, как сказать, друг дома, что ли. Одним словом, это — Ваня, он-то тебя хорошо знает, сто раз расспрашивал о тебе.
Ваня снял с себя фартук, протянул Бенедиктову руку:
— Собственно, я уже имел однажды честь…
Таня ушла в комнату:
— Извини — тьма народу, всех надо накормить, напоить, ублажить…
Бенедиктов и Ваня остались одни в передней.
Этот неведомо откуда свалившийся как снег на голову человек вызывал у Бенедиктова и любопытство, и опаску вместе.
— Не знаю, кто вы Тане и Гене, — сказал он, вешая на крючок куртку, — но ваш интерес ко мне, о котором сказала Таня, простите…
— Надеюсь, вам я буду такой же друг, как и им, — улыбнулся Ваня открыто и чуть застенчиво. — Со временем, конечно. Я давно, по правде говоря, искал встречи с вами.
— Зачем это вам?
— Чтобы поближе познакомиться, поговорить… Хоть бы и сегодня. Только не сейчас и не здесь, разумеется, не стоя же на ногах в прихожей… — И, поймав взгляд Бенедиктова на фартуке, который он держал в руках, улыбнулся еще шире, — Да, кухарничаю… Меня для того сегодня Конашевичи и позвали. Я, к сожалению, никогда не знал слишком близко покойного Дмитрия Куликова, но вот помочь по кухне… Я вообще отменный кулинар. Кстати, у меня и сейчас мясо в духовке… — И, повязав опять фартук вокруг пояса, направился на кухню, на ходу очень серьезно объяснив Бенедиктову: — То есть в первую очередь — кулинар, по призванию, всем остальным я занимаюсь без особой охоты…
Бенедиктов прошел в комнату.
Таня была права: он увидел здесь всех прежних своих приятелей — тех, давних времен. Он сел в кресло в углу, вся стена за его спиной была занята громоздкой музыкальной системой — магнитофон, проигрыватель, тумбы динамиков, полки с пластинками и кассетами. В прежние времена он и Майя любили забежать к Конашевичам просто так, без приглашения, только затем, чтобы покайфовать вечером под музыку — у Гены были отличные записи.
Бенедиктов сидел в углу, в глубоком, покойном кресле, колени его приходились вровень с лицом. За эти три года, что он перестал бывать у Конашевичей, он как бы выпал из этой компании, от него отвыкли, да он и сам чувствовал себя здесь случайным гостем. Впрочем, все изменились — и они, и он.
Изменения коснулись не столько их лиц, думал он, разглядывая их всех в полумраке комнаты, освещенной лишь одним торшером под большим желтым абажуром, изменилось скорее выражение их лиц. Изменилась манера говорить и держать себя, повадка, словно бы эти знакомые ему по прежним временам лица принадлежали теперь другим людям.
И ему опять пришло в голову то же, что и тремя часами раньше у гроба Димы: если прежде, лет десять назад, они были каждый как бы лишь частью, молекулой чего-то единого и нерасторжимого, подобно муравьям или пчелам, которые только вместе, только вкупе составляют цельный, жизнеспособный организм, то теперь на их лицах лежала печать особости, несхожести судеб и биографий, которые выпали каждому из них на долю и — разъединили их, развели на все четыре стороны света, и каждый из них стал таким, каким стать ему было написано на роду.
Бенедиктов не сразу услышал сквозь неотвязные свои мысли музыку и не сразу узнал голос поющего. Но, узнав знакомый голос и глядя вокруг, на тоже примолкших и слушающих этот голос былых друзей, он поймал себя на том, что сейчас, под эту песню, лица их уже не кажутся ему чужими и незнакомыми, как за минуту до того, что они все, и он вместе с ними, как бы вернулись в собственное свое прошлое, в ту самую их пору весенних распутиц и невнятных ожиданий. Тихий, глуховатый голос звал их вернуться к самим себе, какими они некогда были, и лица их тоже стали такими, какими были тогда, — открытыми, доверчивыми, бескорыстными: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке…»
К Бенедиктову подошла Таня, тихо позвала:
— Пойдем, я хочу поговорить… Пойдем!
Он пошел за нею в спальню, там никого не было.
— Выпьешь? — спросила Таня, садясь на кровать, — Ты совсем не пьешь теперь? — и налила в две рюмки коньяк из бутылки, стоявшей на низеньком столике.
Юрий сел напротив нее на пол.
— Дима повесился потому, что ему даже пить надоело, — пришла к странному умозаключению Таня и задала вопрос, который Бенедиктов давно от нее ожидал и который ему задавали все: — Что — Майя? Ты что-нибудь знаешь о ней?
— А я сам по себе совершенно уже тебе неинтересен? — усмехнулся он без обиды.
— Мне — можно, — поставила она свою рюмку обратно на стол, — я Майку очень любила. Хотя перед ее отъездом мы и…
— Знаю, — оборвал он ее. — Все знаю.
— Ты о том, что она приходила к нам с этим ее?..
— И об этом тоже! — еще резче пресек он эту тему. — Не думай, все уже перегорело, я не в укор тебе…
— Я была не вправе отказать. Майя тоже все про меня знала.
— Неужто и ты грешна?! — с откровенной насмешкой полюбопытствовал Бенедиктов.
— А я что, рыжая?! — зло огрызнулась она и тут же рассмеялась: она и вправду была рыжая, только перекрашивалась в блондинку. — А насчет Майи…
— Я не хочу о Майе, хватит!
— А что до Майи, — не услышала она его, — так она просто влипла. Любовь. Глупая, пошлая, а любовь. Ты не поверишь мне, я знаю, но я женщина, я ее понимаю лучше. Майка просто влипла, и ей теперь наверняка плохо…
— Это все, что ты мне хотела сказать? — вдруг все стало ему невмоготу.
— Нет… — Таня замялась, — Ваня… ну, тот, с которым я тебя только что познакомила…
— Ну?.. — насторожился Бенедиктов.
— Он хотел с тобой поговорить.
— Потому-то ты и позвала его на поминки?.. Он — кто?
— Понятия не имею, — призналась Таня. — Француз, кажется, или, может, из Французской Канады. Но он хороший. И ты ему симпатичен, он сам сказал.
— Зачем я ему?
— Он тебе понравится, вот увидишь, — ушла от ответа Таня. Впрочем, может быть, она и не знала, зачем он этому Ване — не то кулинару, не то французу, не то просто другу дома, как она сама его представила. — А ведь ты все еще ее любишь, Юрочка, — покачала головой не то с удивлением, не то с завистью Таня. — Ладно, не прикидывайся, меня-то тебе нечего стесняться! Любишь, и слава богу! Это такая редкость по нынешним временам! И Майка проиграла! Ей, дурехе, захотелось, чтоб сказка стала былью! Чтоб счастье пощупать можно было, понюхать, как духи, натянуть на задницу, как импортные колготки!.. Дура, дура!..
Но Бенедиктову все это было уже все равно, тем более что он сегодня уже слышал то же от Евы Горбатовой.
В спальню, не постучавшись, вошел Егорофф.
— Я не помешал? — остановился он на пороге.
— Нет, — с безадресной яростью бросила Таня. — Я вас оставлю. И рюмок всего две, — кивнула она на столик. — К тому же место хозяйки — среди гостей, даже на поминках. — Пошла к двери, на пороге обернулась к Бенедиктову, сказала о Ване: — Поговори с ним. Он, кажется, лучше, чем можно подумать. Хотя я знать не знаю, о чем он собирается с тобой говорить: — Вышла, прикрыв за собою плотно дверь.
Егорофф сел на ее место, но тут же пересел в кресло, стоявшее у стены, откинулся на спинку, и лицо его ушло в тень.
Бенедиктов подумал, что никогда, пожалуй, не сможет называть вслух этого невесть откуда взявшегося, непонятного, улыбчивого человека по имени Ваня, но тут же поймал себя на том, что про себя он называет его не Егороффом, с двумя «ф» на конце, а именно Ваней.
Он поднялся с пола, пересел в кресло напротив Вани. Меж ними был столик с наполненными Таней рюмками.
Ваня кивнул на них:
— Ведь нам не обязательно сразу пить, верно?
— Не обязательно, — согласился Бенедиктов.
Они помолчали. Бенедиктов решил не начинать первым разговора — его искал Ваня, сам на него напросился, черта с два он станет облегчать ему задачу!..
— Я очень люблю Окуджаву, — прислушался Ваня к голосу за стеной.
— Вы об этом собирались со мной говорить? — сухо спросил Бенедиктов, — Не думаю, что только ради этого Таня так аккуратно прикрыла дверь.
— Татьяна всегда все преувеличивает, — развел руками Ваня. — Но как раз в данном случае… — Он встал, подошел к двери, взялся за ключ и сказал, словно прося извинения: — Просто чтоб нам не мешали… Если вы не против, конечно, — но, не дожидаясь согласия Бенедиктова, повернул ключ в замке.
Сел на прежнее место, вновь уйдя в тень, лишь его руки попали в полосу света от настольной лампы, и Бенедиктов увидел, какие у него длинные, женственные пальцы.
— Юрий Павлович, — заговорил после молчания Егорофф, — начнем с того, что я давно искал этого разговора и, признаюсь, готовился к нему.
— Начнем, — осторожно согласился Бенедиктов.
— Начнем также с того, — продолжал как бы в нерешительности Ваня, — что я к вам отношусь не только с чрезвычайной и искреннейшей почтительностью, но и, верьте моему слову, с глубочайшей симпатией.
— Мне остается только поблагодарить вас, — невольно ответил в том же старомодно-церемонном тоне Бенедиктов.
— И наконец, — продолжил Ваня, — начнем с того, так нам будет проще и прямее, начнем с того, что я о вас знаю все.
— Так уж и все?.. — почувствовав подвох, попытался
отшутиться Бенедиктов. — Я и сам о себе далеко не все, кажется, знаю…
— Если хотите, я о вас не знаю разве что того, чего вы и сами о себе не знаете, — ответил шуткой на шутку Ваня.
— По-моему, — взял Бенедиктов со стола рюмку, — самое нам время выпить на брудершафт, — и усмехнулся про себя: с кем же еще пить на брудершафт, как не с человеком, который знает о тебе все и, сверх того, объясняется тебе в искреннейшей почтительности и глубочайшей симпатии?.. Но тут же сказал гораздо суше: — Может быть, обойдемся без преамбул? Я вас слушаю.
Ваня согласно кивнул, подался вперед, отчего лицо его вышло из тени, и сказал на своем слишком безупречном русском языке:
— Мы готовы издать мемуары вашей матушки, Серафимы Марковны. И хотя они, насколько я понимаю, не охраняются у вас авторским правом и мы могли бы их напечатать, ни с кем не консультируясь, я все же почел за долг испросить вашего согласия, Юрий Павлович, как ее наследника и душеприказчика.
Бенедиктов, как это ни странно, не удивился, не был захвачен врасплох — эта мысль почему-то пришла ему на ум еще тогда, при первой встрече с Егороффым на проводах Гроховского, и — вот она, разгадка его давешней подспудной опаски.
— Откуда они у вас? — ушел он от прямого ответа на предложение Вани. — Откуда вы вообще о них знаете?
— Это не имеет никакого значения и не меняет сути дела. И вам, Юрий Павлович, лучше в это не вдаваться, поверьте слову, лучше не знать — кто, как… — И поспешил его успокоить: — Можете не тревожиться, мы располагаем копией отнюдь не с тех экземпляров, которые хранятся у вас и у вашей сестры. Так что вы — вне подозрений, смею вас заверить.
— Вы — владелец издательства? — спросил Бенедиктов, глядя в упор на Ваню. — Какого?
— Не совсем, — ответил тот. — Но я действую от имени «Имка-пресс», вы ведь знаете это издательство? И по их поручению веду с вами переговоры. Это солидная фирма.
Из соседней комнаты был едва слышен глуховатый голос: «Дай каждому понемногу и не забудь про меня…»
— Чего же вы хотите от меня? — спросил, не отрывая взгляда от лица Вани, Бенедиктов, — И никаких переговоров я с вами, извините, не веду. Вы спросили, я вам ничего не ответил, только и всего.
— Но вы и не ответили отказом, — с обезоруживающей улыбкой заметил Ваня. — Чего нам от вас надо?.. Я уже сказал — всего лишь вашего согласия на печатание мемуаров вашей матушки, ничего более. Лучше бы, разумеется, в письменном виде, так было бы вернее и для нас, в для вас, но, учитывая ваши местные обстоятельства, издательство готово целиком положиться, Юрий Павлович, на ваше устное заверение.
— Зачем вам это надо? Вы же только что сказали, что и без моего согласия могли бы опубликовать «журнал» матери? Зачем же?
— Единственно затем, — пояснил Ваня, — что мы должны быть уверены, что после выхода книги вы не опротестуете этот акт в вашей печати. — И тут же уточнил, словно извиняясь за невольную бестактность: — Я имею в виду — в советской печати. К тому же есть еще одна сторона, немаловажная и, полагаю, не вовсе вам безразличная, Юрий Павлович. Ваше согласие, письменное ли, устное, автоматически закрепляет за вами абсолютные права, как юридического наследника покойной Серафимы Марковны, на получение гонорара как за самое издание, так и за все последующие переводы на прочие языки…
Бенедиктов решительно пресек его:
— Мать никогда не задумывалась над этой, как вы изволили выразиться, стороной. А теперь, после ее смерти, самый этот разговор, извините, бессмыслен. Я не желаю об этом говорить.
— А — о сути дела?.. — спросил настойчиво Егорофф и, не дав ему ответить, перевел разговор на другое: — Кстати говоря, не в одном только гонораре сложность. И, увы, тут мы бессильны — это решительное требование некоторых кругов у вас на родине…
— Каких еще кругов? — вспылил Бенедиктов, но сдержался, спросил спокойнее: — Я не понимаю, о чем и о ком вы говорите?..
— Так вот, здесь, в Москве, я столкнулся с категорическим требованием некоторых кругов изъять из рукописи те пассажи, — он так и сказал: не «места» или «фрагменты», а именно «пассажи», — где автор не слишком, скажем так, почтительно пишет о священнослужителях, церкви и вообще о Господе Боге. Они считают, что этого не следует печатать ни при каких обстоятельствах.
— Она не верила в бога, да, — подтвердил Бенедиктов. — Но это дело ее собственной совести.
— Тем не менее автор выдает с головой свой атеизм, а, как считают эти круги, при нынешних обстоятельствах…
— Автор давно умер, — оборвал его Бенедиктов, — Она умерла, как и жила, атеисткой. У нее была своя вера, но вам этого не понять, — И невольно прибавил с неожиданной печалью: — Может быть, как и мне.
— Как и те пассажи, — не услыхал его возражений Егорофф, — где речь идет о ее вере в то, что марксизм — пусть и без крайностей и ошибок «культа личности», я цитирую самого автора, — единственное учение, которому принадлежит будущее. Это, на взгляд тех же кругов, о которых я говорю, роковое заблуждение, пусть у данного автора и вполне, не сомневаюсь, искреннее…
— Она верила в это всю свою жизнь, — не дал ему договорить Бенедиктов. — И именно эта ее вера, или, на ваш взгляд, заблуждение, и побудила ее написать то, что она написала. В этом весь смысл ее книги.
— А может быть, и трагедия ее жизни?.. — не то опечалился, не то возразил Бенедиктову Егорофф. — Я уже сказал, это мнение и требование не издательства, которое я представляю, а определенных кругов, стоящих вне моей компетенции, но с которыми мы тоже не считаться не можем.
— Да кто они такие, эти ваши круги, черт побери? — взорвался-таки Бенедиктов. — Какое мне дело до них?!
— Кстати, я хотел бы воспользоваться случаем и высказать мое о них впечатление, может быть и беглое, ошибочное, однако же… А заодно узнать и ваше мнение… — То, чем он хотел поделиться с Бенедиктовым, видно, и на самом деле живо занимало его и было почему-то очень важно. — Те лица, с которыми мне довелось познакомиться тут, у вас, произвели на меня, за редким исключением, впечатление, как бы вам сказать… Простите, но мне нелегко подобрать выражение, особенно по-русски… но они мне показались личностями эйфорическими… Да, именно так — эйфорическими, так они, извините, пуритански нетерпимы… Вы этого не находите?.. Если я говорю что-нибудь не так, вы должны меня простить, может быть, я их мало узнал или совсем не понял… И вообще все это напоминает мне… Знаете, у нас на Западе есть такие маленькие театрики, некоммерческие, почти любительские, билеты на их спектакли не продаются в кассе, а раздаются только друзьям и знакомым… Так вот — только поймите меня правильно! — мне кажется, что авторы и герои спектакля, о котором я говорю, в глубине души более всего опасаются как раз того, что в зал придет не заранее приглашенная и благожелательная публика, а, как у нас, в Европе, говорится, человек с улицы, толпа. Я понятно говорю?.. И что этого человека с улицы они опасаются даже больше, чем ваших властей предержащих. Нет?.. Вы не согласны со мною?.. — и настойчиво заглянул ему в глаза.
— Не пойму, уж извините, почему вы заговорили об этом именно со мною? — уклонился от этой темы Бенедиктов. — Речь шла, помнится, совсем о другом.
— Речь идет о России! — с неподдельным чувством воскликнул Ваня, — О судьбах России, как ни выспренно это может прозвучать!
— Что вам, собственно, до России? — поднял на него глаза Бенедиктов, — Россия — тут, вы — там…
— Русским, — настоял Ваня, — можно быть и оставаться, живя и не в России, Юрий Павлович. Вспомните хотя бы князя Курбского. Да, наконец, Герцен!
— Вне России, со всеми ее болестями и бедами? Быть русским со стороны?!
— И тем не менее! Я — русский, вы — русский, неужели нам не понять друг друга?! Я с вами, Юрий Павлович, совершенно откровенен, как на духу, — огорчился Егорофф, — а вы будто опасаетесь меня… Вы русский, я русский… — повторил он как заклинание и негромко, с искренней болью выдохнул — Доколе, господи, доколе?!
— Что вы знаете о России, Ваня? — Бенедиктов и не заметил, как все-таки назвал его вслух Ваней, — Но если вас действительно интересует мое мнение… Так вот, Россия — какая она на самом деле, нравится ли она кому бы то ни было, вам ли, даже мне, кому угодно, или не нравится, — она обойдется без доброхотов, без вас, Ваня, как, очень может быть, и без меня, хоть и горько в этом признаваться… А вот мы без нее… — но договаривать не стал — не им это было сказано, не им выстрадано.
— Доколе?! — еще тише, одними губами повторил Егорофф и, вздохнув, словно ставя точку на своих невеселых размышлениях, вновь перешел к делу: — Однако вернемся, Юрий Павлович, как принято говорить, к нашим баранам, я имею в виду ваше согласие на… — но остановился, как бы ожидая, что собеседник сам закончит за него эту мысль.
Но Бенедиктов вдруг вспомнил мать — твердую, несгибаемую ее властность, жесткую складку тонких губ, обесцвеченные болезнью, не лгавшие никогда глаза, и комнату, сиротски-опрятную, с накрахмаленными марлевыми занавесками на окнах, затененных разросшимся диким виноградом, в которой она умирала и где стоял невыветриваемый запах лекарств и умирания, и это ее «с вашего позволения»…
— Нет, — резко сказал он, — ни одной строчки, ни одной запятой я не позволю изменить, не ждите моего согласия, его не будет. — И, поймав на себе удивленный и, как ему показалось, насмешливый взгляд Егороффа, вдруг с ужасом понял, что попался, как муха в мед, что невольно как бы дал согласие и теперь ему отступать уже некуда и поздно, и потому-то и глядит на него Ваня с откровенной насмешкой, что только того и добивался, только того и ждал.
Егорофф тут же откликнулся с полнейшей готовностью:
— О’кей! Ни одной строчки, ни одной запятой, полная гарантия! О’кей! Или, как у нас, русских, заведено, по рукам! — привстал с кресла, перегнулся через столик, протянул Бенедиктову руку.
— А разве я дал вам согласие? — не подал ему своей Бенедиктов. — И не подумаю! Ты торопишь события, Ваня!
Тот услышал это его «ты»:
— Вот хоть и на брудершафт не выпили, а… — И, будто не услышав оскорбительного тона Бенедиктова, улыбнулся: — Что ж, давай на «ты».
Но Бенедиктов не ответил ему, молчал.
— Хорошо, — согласился с его молчанием Егорофф, — останемся на «вы». Но, может быть, вы позволите называть вас не по отечеству, — он так и сказал: «по отечеству», а не «по отчеству», — а просто Юра?.. Вы меня — Ваней, я вас — Юрой?..
— Сколько угодно, — пожал плечами Бенедиктов: разговор исчерпан, точка поставлена.
Но Ваня это истолковал по-своему:
— Спасибо. Так, стало быть, вот я о чем еще хотел… Что ни говори, а денежную сторону нам с вами все-таки придется обусловить…
— Но я ведь дал вам уже свой ответ! — стоял на своем Бенедиктов.
Но Егорофф будто и не слышал его:
— Сейчас, в данный момент времени, вам эти деньги, может быть, и не нужны. Но кто знает, не понадобятся ли они вам впоследствии…
— Когда?! — вскинулся Бенедиктов и вдруг испугался: Ваня от своего не отступится!
— Когда-нибудь, — неопределенно развел руками Ваня, — кто это может знать наперед… — И, опять мягко улыбнувшись, процитировал: — «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?..» Во всяком случае, Юрий, можете положиться на меня, ни один сантим из гонорара вашей матушки не сможет быть израсходован без вашего согласия. Или — и вашей сестры, Ирины Павловны, это вам самим решать, ваши семейные финансовые отношения. Кстати, — неожиданно вспомнил, — вы не поддерживаете связи с вашим дядюшкой в Хайфе?..
— Какой еще дядюшка в Хайфе?.. — растерялся Бенедиктов.
— Ну как же!.. Ваш дядя, родной брат Серафимы Марковны, архитектор, очень состоятельный человек, он еще в двадцатые годы там поселился… Матушка вам ничего о нем не рассказывала?.. Ах да! — спохватился он. — Анкеты, автобиографии… Но если вы пожелаете, я обязательно пришлю вам его адрес… — И, не дожидаясь ответа Бенедиктова, не дав ему, как и тогда, на проводах Гроховского, опамятоваться, сказал, глядя в глаза: — Впрочем, может быть, вы пожелаете, чтобы этими деньгами могла распорядиться Майя Александровна?.. Простите, если я был бестактен, но…
— Не надо! — выдохнул из себя Бенедиктов и почувствовал, как разом сделался совершенно беззащитен. — Не надо о ней!..
Но Ваня довел свою мысль до конца:
— Я недавно вернулся из Штатов, недели две назад, и видел Майю. — И тут же исправил свою оплошность: — Извините великодушно — Майю Александровну. Недели две с половиной назад, не больше. Случайно.
Бенедиктов облизнул языком ставшие разом сухими губы, спросил как мог равнодушнее:
— Как она?..
Ваня ответил не сразу, оглаживая своими женственными, нежными пальцами рюмку:
— Не знаю… думаю — несчастна. Впрочем, может быть, она сама этого не осознает… — И, подняв на него полный сочувствия и понимания взгляд, добавил: — Она — одна, насколько я мог понять. Одна и… — но завершить свою мысль не успел, в дверь постучалась Таня:
— Мальчики! Зачем вы заперлись? Юра, Ваня, откройте! Все уже ушли, одни вы… Откройте!
— Мы хотели, помнится, на брудершафт, — усмехнулся Бенедиктов напоследок, — что ж, давай, другого случая не будет, Егорофф… — и подчеркнул это двойное нерусское «ф», на большее его не хватило.
Когда он вышел из подъезда в пустынный Новоконюшенный переулок, была уже зима — снег за несколько часов успел укрыть асфальт, крыши, ветви деревьев первой непрочной белизной, в свете уличного фонаря плясала, радуясь своему часу, снежная кутерьма, и все вокруг было бело и чисто.
Я теперь ловлю себя на том, что мне нужно усилие памяти, чтобы вспомнить тебя. Вспомнить, какая ты. Нет, стоит мне закрыть глаза, и я легко могу заставить себя увидеть, какая ты была и тот или иной наш с тобой день, в том или ином платье, но какая ты была вообще — ты, та, что прожила со мною целую жизнь и которую я любил, — нет, не могу…
Напрасный труд, я знаю.
12
Андрей Латынин оказался не одинок в своей, правда, так и не осуществленной попытке поставить «Лестничную клетку» на сцене.
Ее перевели и инсценировали в нескольких театрах за рубежом, сначала в соцстранах, потом и на Западе. Бенедиктов получал одно за другим приглашений на премьеры, но так и не съездил ни на одну из них — то ли был не слишком настойчив, не добивался решительно где надо, то ли потому, что после отъезда Майи ему вообще было не до этого. Ему отказывали под благовидными предлогами — исчерпан лимит «человеко-дней» заграничных командировок, трудности с валютой, усложнились отношения с той или иной страной, отказы были шиты белыми нитками. Бенедиктову казалось, что он упирается лбом не в запертую на все засовы железную дверь, а в вату, в какой-то вязкий кисель: «Разрешить следует лишь в том случае, когда никак нельзя запретить».
К тому же он понимал, что теперь и отъезд Майи нельзя сбрасывать со счетов — как-никак бывшая жена эмигрировала за границу, хотя по очевиднейшей логике вывод из этого обстоятельства должен был быть извлечен как раз прямо противоположный: он не поехал с нею, он предпочел отказ от любимой женщины отказу от Родины, могут ли быть более веские доказательства его верности своему гражданскому долгу, его права на полное доверие?! Но логика логикой, а по собственному опыту он знал, что далеко не всегда опасливые чиновники руководствуются ею, принимая то или иное решение, логика чаще всего тут ни при чем.
Но когда летом семьдесят шестого года пришло из Лондона очередное приглашение на премьеру «Клетки», он твердо решил: не уступлю, костьми лягу, а своего добьюсь, ни удавов больше, ни кроликов!
Пьесу репетировали в маленьком театрике в Сохо, специально набрали для спектакля труппу, предполагалось, в случае успеха, играть его ежедневно в течение всего зимнего сезона, а если дела пойдут хорошо, то и дольше.
Театр был крохотный, мест на полтораста, тут находили себе пристанище, как правило, авангардистские товарищества молодых и упрямо бьющихся за место под солнцем актеров.
Прошли лето, осень, стоял уже октябрь, англичане слали письмо за письмом, Бенедиктов ходил с этими письмами по различным инстанциям и кабинетам, обивал пороги, день премьеры приближался, наступил, прошел, но он тем не менее не сдавался и, наконец, написал письмо и попросился на прием к начальнику управления внешних связей Министерства культуры Борису Севастьяновичу Бокову.
Через несколько дней он позвонил Бокову, тот оказался у телефона и ответил ему, что в курсе дела и готов принять его хоть завтра, часа в три.
Назавтра, захватив с собой все письма и приглашения, Бенедиктов отправился на Арбат. Стояла уже поздняя осень, с низкого неба сыпала снежная крупа, наждаком шуршала по асфальту. В недавно отремонтированном сером здании министерства напротив Вахтанговского театра еще пахло краской и известкой, длиннющие, петляющие под острыми углами коридоры были безлюдны. Он поднялся на шестой этаж, долго искал дверь с нужной табличкой, постучался и, не дождавшись ответа, нажал на ручку, вошел внутрь.
За письменным столом, вполоборота к двери и повернувшись лицом к окну, сидел человек в темном костюме, с телефонной трубкой у уха. Он указал Бенедиктову рукой на стул и снова отвернулся к окну, слушая, что ему говорили по телефону и лишь время от времени повторяя: «Лады… лады…»
Когда он положил наконец трубку на рычаг и повернулся лицом, Бенедиктов разом, без колебаний узнал в нем Бориса Ивановича, старого его знакомого по Кузнецкому мосту.
«Как же мне его называть, — почему-то прежде всего пришло на ум Бенедиктову, — Борисом Ивановичем или Борисом Севастьяновичем?..»
А Иванович-Севастьянович сказал суховато, хоть и вежливо:
— Садитесь, товарищ Бенедиктов, устраивайтесь. Я вас слушаю.
Он не мог не узнать Бенедиктова — пусть даже не в лицо, но ведь из заявления, наверняка лежавшего перед ним на столе, он знает, что это он, Бенедиктов! Значит, не хочет узнавать, значит, к этому приглашает и просителя: не вспоминать о той их, первой встрече. Таковы здесь, значит, правила игры, и Бенедиктову ничего не остается, как принять их.
Принять, потому что сразу, в то самое мгновение, когда он узнал в Борисе Севастьяновиче Бориса Ивановича, он понял, что истинное препятствие делу, ради которого он пришел сюда, заключается вовсе не в самой «Клетке», ни даже в том, что его бывшая жена эмигрировала за границу, а в том, сомнений нет, что Борис Иванович — или Борис Севастьянович, какое это имеет значение! — наверняка помнит, не забыл и не простил ему того, что тогда, после их встречи на Кузнецком, он обманул его, обманул его доверие, увильнул, не позвонил. Тем самым он нанес личную обиду Борису Ивановичу, и не ему одному, само собою.
Эта мысль предстала сейчас Бенедиктову такой простой и ясной, что все сразу встало на свое место, тягостная неизвестность обернулась простейшей арифметикой.
Разговор исчерпал себя и не начавшись.
И все же не состояться он не мог: Бенедиктов напросился на прием, Боков согласился его принять, заявление лежит на столе, дожидаясь окончательной резолюции, отступать им обоим некуда.
Но что они будут говорить друг другу — совершенно неважно, главное, что при этом будет думать каждый из них, и им обоим надо не столько прислушиваться к произносимым словам, сколько к тому, о чем ни тот, ни другой говорить вслух не станет.
— Я вас слушаю, Юрий Павлович, — повторил Боков и, достав тем же, что и в первую встречу, движением из ящика стола сигареты, протянул пачку Бенедиктову: — Курите. Или не курите?
Потянувшись через стол за сигаретой, Бенедиктов невольно оглядел Бориса Ивановича. Тот явно переменился — ни дешевого, плохо выглаженного пиджака, ни повязанного тугим узлом мосторговского галстука. На нем был вполне модный и несомненно импортный, финский или голландский, темно-серый костюм с широкими лацканами, белоснежная сорочка, одноцветный строгий галстук. Он переменился, Борис Иванович, и в лице его тоже появилось нечто новое — оно стало покойнее, что ли, увереннее в себе. Он стал сановитей — нашел точное слово Бенедиктов, — он просто перешел в другую весовую категорию, только и всего.
— Мне нечего добавить к тому, что я написал в заявлении, — сказал Бенедиктов, прикуривая от протянутой Борисом Ивановичем зажигалки, — Вы ведь ознакомились с ним?.. — И неожиданно для самого себя с этаким вызовом, с гаерством неуместным добавил: — Борис Иванович.
Борис Иванович и глазом не моргнул, прикурил в свою очередь и как бы мимоходом поправил Бенедиктова:
— Борис Севастьянович. — И, глубоко затянувшись сигаретой, откинулся на спинку кресла-вертушки, — Естественно, ознакомился.
— Стало быть, не вы меня, а я вас слушаю, — улыбнулся Бенедиктов и тут же устыдился этой унизительной, заискивающей улыбочки, такое к себе почувствовал отвращение, что, не сделав и двух затяжек, смял в пепельнице сигарету и демонстративно усмехнулся: — Если у вас есть, что мне сказать.
А в ответ на свой вызов как бы услышал, во всяком случае, ему показалось, что он и в самом деле слышит, что подумал в этот миг Борис Севастьянович.
«Есть, — услышал он. — Есть-то есть, только я тебе все равно этого не скажу».
«Так ведь я и так знаю, — подумал про себя в ответ Бенедиктов. — И ты знаешь, что я знаю».
«Конечно, знаешь», — услышал Бенедиктов ответную реплику: спектакль разыгрывался по законам надлежащего жанра, это было похоже на театр мимики и жеста, где все актеры — глухонемые, но зрители слышат все, что они должны услышать, из наушников, вделанных в подлокотники кресел. — «Конечно, знаешь, но что из того, что знаешь?..»
Вслух Борис Севастьянович сказал другое:
— Мы внимательно и, поверьте, очень доброжелательно ознакомились со всеми деталями, но, к сожалению, не нам это решать.
«Врешь, — подумал Бенедиктов, — именно вам решать, больше некому».
А Борис Севастьянович завершил вслух свою мысль:
— Это вне прерогативы Министерства культуры, поскольку речь идет не о пьесе, которую министерство у вас, Юрий Павлович, приобрело или заказало, а значит, и обязано было бы нести за нее ответственность во всех отношениях., а о, назовем уж вещи своими именами, киносценарии, на который у вас договор совсем с другим ведомством. Вот туда-то вам бы и обратиться…
— Но ведь речь идет о театральном спектакле, приглашение пришло от театра. Госкино не имеет к этому ни малейшего отношения! — перебил его Бенедиктов.
Но Борис Севастьянович будто и не услышал его:
— Мы консультировались, более того — всячески старались посодействовать вам… Что же до нашего министерства, то, поверьте, мы тут бессильны. Как говорится, и хотели бы в рай, да… — Помолчал и прибавил погодя, глядя в глаза Бенедиктову: — Тем более при данных конкретных обстоятельствах.
— Каких обстоятельствах? — не сдавался Бенедиктов. — Что вы имеете в виду?
— Если вас не удовлетворяет мой ответ, — не отвел глаза Борис Севастьянович, — попробуйте записаться на прием к министру, я могу помочь вам встретиться с ним, он вам лично на все ответит. Я могу позвонить ему хоть сейчас, — и потянулся к телефону, а Бенедиктов вновь услышал, что Борис Севастьянович думает на самом деле:
«Если ты настаиваешь, я позвоню министру, и он тебя, можешь не сомневаться, примет и даже обласкает, наговорит все, что в таких случаях следует… Неужели ты такой, мягко говоря, настырный?..» — и уже было начал набирать номер по внутреннему телефону.
Но Бенедиктов остановил его:
— Судя по всему, эта моя встреча с министром ничего уже не изменит, я так вас понял, Борис Иванович? — На этот раз Бенедиктов назвал его прежним именем без умысла.
— Севастьянович, — вновь поправил его тот, — наверное, у вас есть знакомый — Борис Иванович, вот вы все время и путаете. А я — Борис Севастьянович. Впрочем, это неважно.
— Борис Севастьянович, — согласился Бенедиктов и вновь услышал мысли собеседника.
«Чего там, — слышал он Бориса Севастьяновича, — называй меня хоть Васей, не в этом дело. Не трать понапрасну усилий. А в том дело, что, как видишь, круг замкнулся. Полный круг. Мы своей точки зрения не меняем. И знаешь почему? Ты ведь выйдешь отсюда и обязательно все выболтаешь своим дружкам. Ты думаешь, что этим выставишь нас в невыгодном свете, что это будет нам во вред. Дудки! Наоборот даже, если хочешь знать. Посочувствуют тебе твои дружки, повозмущаются, потешатся словоблудием, а про себя выводы сделают, какие надо. Поверь мне, у меня опыт по этой части. Факт. Вот так-то. Как нужно вам чего-нибудь от нас, в ту же заграницу, к примеру, так к нам бежите: помогите, дяденьки хорошие! А как нам от вас нужно, так вы и нос воротите?! Из-ви-ни-те, Юрий Павлович!»
А вслух сказал Бенедиктову:
— Не огорчайтесь. Еще не один сценарий напишете, Юрий Павлович, не одну пьесу. Будут приглашения — милости просим, поддержим, можете не сомневаться. Вы поймите, для нас это даже важнее, чем для вас. Для вас — просто еще одна премьера за рубежом, просто приятно, что перевели ваше произведение, поставили постановку, не более. А для нас это факт политический — советскую пьесу поставили в Лондоне или в Нью-Йорке, ее придут посмотреть тысячи простых американцев, это же лучшая пропаганда! Мы на эти вещи смотрим шире, и прежде всего — политически. Так что на нашу поддержку в будущем можете твердо рассчитывать, Юрий Павлович.
И Юрию Павловичу ничего не оставалось, как сказать:
— Спасибо. Надеюсь. — И встать, пожать Борису Севастьяновичу руку и несолоно хлебавши уйти.
…На Арбате дождь сменил снежную крупу, ветер бросал в лицо холодные плевки осеннего ненастья.
Круг замкнулся, думал Бенедиктов, пробираясь сквозь будничную арбатскую толчею, замкнулся круг… И не в том было дело, что его не пускают в Лондон, плевать на Лондон. Круг замкнулся, он это ощущал почти физически. И не в Борисе Севастьяновиче или Борисе Ивановиче дело, они всего-навсего — ножка циркуля, очертившего вокруг него этот замкнутый круг.
«Что ж… — думал Бенедиктов, идя Арбатом к Садовому кольцу, — что ж…»
Я — как человек, разобравший остановившиеся вдруг, единственные свои часы — колесики, маятники, винтики, шестеренки — и бессильный собрать их вновь, заставить их опять отсчитывать время, заставить это время двигаться — вперед ли, вспять…
Вокруг меня все торопятся, спешат, опаздывают, сверяют на бегу часы, у одних они идут вперед, у других отстают, и лишь мое время — остановилось, застыло.
Может быть — но я в этом не посмею признаться даже самому себе, — может быть, я уже не люблю тебя?..
13
Билет был куплен на десятое мая, самолет улетал из Шереметьева в семь двадцать утра, багаж надо было привезти на таможенный досмотр накануне.
Из квартиры вывезли мебель, книги, люстры, холодильник, телевизор, деньги за все были получены, он оставил себе ровно столько, чтобы съездить на могилу мачехи, остальное отдаст сестре. С друзьями он распрощается накануне отъезда, он никого не будет звать, кто захочет, и так придет, это будут не первые проводы в мастерской Борисова. «Тризна» — называл их Лева.
Он прилетел в Одессу в среду, сестра была на работе, и потом у нее еще были уроки в вечерней школе, она не могла пойти с ним на кладбище.
Стоял тихий, безветренный день; притомившись торопливым буйством южного апреля, природа подремывала, набиралась сил перед последним рывком в лето.
Бенедиктов шел крутым подъемом через старую часть кладбища, мимо скособочившихся, замшелых могильных камней, люди, погребенные под этими камнями, давно истлели и рассыпались в прах, истлели и рассыпались в прах и те, кто поставил эти памятники умершим до них, память о тех и о других тоже истлела и стала прахом, вечно лишь время, думал Бенедиктов, лишь жизнь и смерть, лишь неустанное превращение одной в другую. И все-таки имя этому не смерть, а — жизнь.
За годы, что он не был здесь, верхняя, новая часть кладбища так разрослась, что он заблудился. Он хорошо помнил, что, когда хоронили мачеху, между ее могилой и кладбищенской стеной было пустое пространство, желтая глина и песок, но теперь до самой стены тесно стояли новые памятники, огражденные выкрашенной серебряной краской решеткой, некоторые ограды увенчивались жестяными крышами с как бы игрушечными водостоками и коньками, будто мертвецов заперли в тесные домики-клетки, и если бы они и восстали в день страшного суда из своих могил, то все равно не смогли бы продраться сквозь железные прутья, даже трубный глас не освободит их из вечного плена. Бенедиктов кружил и кружил, ступая по чьим-то надгробьям, перешагивая через свежие, не огражденные еще могильные холмики, в ботинки набился песок.
Он так и не нашел могилу мачехи. Принесенные с собою цветы он положил к памятнику, на котором пониже полустершихся древних письмен было написано от руки выцветшей краской: «…а также в память всех тех, кто пропал без вести…» — и пошел вниз, к выходу.
Всю ночь они молча просидели вдвоем с сестрой на веранде, увитой диким виноградом с еще не распустившимися листьями, из распахнутых окон слышался во дворике храп и бессвязное бормотание спящих, плач проснувшегося ребенка и сонный голос убаюкивающей его матери.
Они не говорили, не плакали, просто молча горевали о том, что редко виделись, мало любили — брат и сестра — друг друга тогда, когда это еще можно было, откладывали любовь и сердечность на завтра, на потом.
А наутро он улетел обратно в Москву.
Восьмого он отвез — Ансимов вызвался ему помочь — багаж на таможню в Шереметьево, и весь день, с раннего утра до вечера, они провели там в беготне и хлопотах. Юный таможенник, с почти детским лицом, роющийся в чемоданах, перетряхивающий со скучающим видом книги; безразличные ко всему на свете молоденькие пограничники; преисполненные чувства собственного превосходства иностранцы с огромными кофрами из натуральной кожи; юркие носильщики, перетаскивающие эти кофры с места на место, скрежеща колесиками своих тележек по плитам пола; радостно-возбужденные советские туристы в наглаженных, только что из химчистки костюмах и начищенных до нестерпимого блеска ботинках, — и лишь к вечеру, вконец измочаленные, Бенедиктов и Ансимов покатили обратно в Москву.
Над Ленинградским шоссе стояло чистое весеннее небо, тоненький серпик луны таял в нем обсосанной лимонной долькой, машин было совсем мало — воскресенье, выходной, к тому же канун праздника: завтра девятое, День Победы. Редкие «КамАЗы» с прицепами и громоздкие туши фургонов «Булгарэкспорта» держали путь на север, их обгоняли запоздалые дачники на шустрых «жигульках», да в обратном направлении — велосипедисты в пестрых майках, с запасными шинами портупеей через плечо.
Но поближе к Москве небо затянула угрюмо-серая, с бурым подбрюшьем туча, и разом ударила первая в этом мае гроза с фейерверочными молниями, по кузову машины мелко забарабанил град.
— Заедем ко мне, — предложил Ансимов, вынырнув из тоннеля на Соколе.
За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова — устали, да и что еще можно сказать: все, конец, послезавтра самолет…
— Нет, — ответил Бенедиктов, — я, пожалуй, к Левке.
— Поехали ко мне, — настаивал Ансимов. — Поехали, не дури. Хоть потреплемся напоследок.
— Успеем, еще целые сутки впереди, — И подсчитал: — Больше — ночь, день да еще ночь.
— Много… — усмехнулся Паша.
— Целая жизнь, — согласился Бенедиктов.
— Странно, — заметил после долгого раздумья Ансимов, — когда хотят сказать: «очень долго», «много времени», говорят — «целая жизнь». Глупо! Ведь смерть гораздо дольше жизни. Уж точнее бы — «целая смерть»…
— Можно и так, — не стал спорить Бенедиктов, — зависит от взгляда.
— Левка небось уже вдугаря, он жутко переживает… Поехали лучше ко мне.
— Нет. Он ждет, я обещал.
— Мое дело экипаж подать, — сдался Паша, — а там — как барин… — Он свернул, не доезжая Маяковки, на Брестскую, потом направо, на Садовое, — А завтра?..
— До завтра еще дожить надо, — отшутился Бенедиктов и вдруг поразился пришедшей ему неожиданной мысли: — Или лучше — не надо?.. А?..
Анисимов не ответил, он перестраивался в правый ряд у площади Восстания, ему было но до того.
Борисов был и впрямь пьян, в той первой стадии «кайфа», когда его кашей не корми, а дай пофилософствовать или, как он сам определял это состояние, «метать икру».
Огромный, краснорожий, с выпирающим из низко обвисших брюк животом, в рубахе с оторванными пуговицами, из-под которой лезла наружу поросшая седыми завитками жирная грудь, он сидел в продавленной соломенной качалке, и казалось чудом, что она не разваливается под ним. На полу рядом с качалкой стояла бутылка водки, сильно уже уполовиненная, в мастерской не продохнуть было от застарелого табачного духа.
— Я ждал, — сказал высокопарно Лева вошедшему без стука Бенедиктову — дверь мастерской запиралась лишь в отсутствии хозяина на пудовый, музейной ценности амбарный замок. — Я ждал, входи. Пей. И — молчи. Потому что говорить буду я.
Бенедиктов сел на стоящий посреди мастерской «подиум», взахлеб сделал несколько глотков из початой бутылки.
— Хорошо пьешь, — похвалил его Лева. — Но стесняйся, запасы практически неисчерпаемы, не экспортная нефть. — И, перегнувшись через подлокотник, достал из-под качалки еще две бутылки. — Пей и молчи. Тебе сейчас самое время умолкнуть. Говорить буду я.
Бенедиктову и при желании невмоготу было говорить — ни слов в нем, ни мыслей — пустота, словно в пещере, где только гулким эхом отзывается чужой голос. И водка тоже показалась ему без вкуса. И — без смысла.
Но и Борисов, вопреки своему обещанию, тоже молчал, глядя в пол меж огромных шаров своих колен, обтянутых линялым вельветом.
За окном с крыши и с первой, робкой, еще майской листвы редко падали крупные капли недавней грозы.
— Все? — после душного молчания не то вопросил, не то печально удивился Лева, и эхо отозвалось Бенедиктову: о-о-о…
И захотелось Бенедиктову плакать, но и слез не было.
Борисов поднял голову, однако посмотрел не на него, а поверх него в угол, где, полуприкрытая давно высохшей, заскорузлой рогожей, стояла недоконченная Истина.
Он бросил ее, так и не долепив, и не потому даже, что усомнился, хватит ли ему таланта и сил, чтобы закончить работу, а просто однажды поутру, после долгого и очищающего душу запоя, он прозрел, что у истины, как и у искусства — а это для него было одно: истина и искусство, — нет и не может быть окончательного, неизменного лика.
Так она, незавершенная, и стояла в дальнем углу: обнаженная женщина-ребенок, московская, шестидесятых годов девчонка, заломившая руки и одной из них прикрывшая глаза, чтобы защититься от нестерпимого жара правды. Но вместе с ужасом перед нею на лице девочки этой, с неразвитой грудью и выпирающими ключицами, была еще и почти высокомерная полуусмешка-полуулыбка гордости за некое всезнание, за разгадку тайны.
— Все… — ответил сам себе Борисов и перевел глаза на Бенедиктова. — Завтра?
— Послезавтра, — устало уточнил тот, — в семь утра. Десятого, а сегодня только восьмое.
— Еще больше суток, — высчитал Борисов, — уйма времени, — И спросил то ли с укором, то ли с завистью: — К ней?.. — Но опять сам себе ответил: — К ней!
— И все-то ты знаешь… — досадливо пожал плечами Бенедиктов.
— Знаю, — подтвердил Борисов и стал похож на грузного, объевшегося всеведением Будду. — Я все знаю. Я-то — все! И что обиднее всего — наперед. Все! — стукнул он грязным кулачищем по подлокотнику хрупкой качалки, — Все!..
Бенедиктов нагнулся, подобрал с пола у ног Борисова бутылку, сорвал с нее жестяную пробку, порезав при этом глубоко палец, жадно отпил из горлышка.
Из порезанного пальца сочилась кровь, но боли не было. Бенедиктов сунул палец в рот, слизывая кровь.
— Собственной кровью закусываешь?! — удивился Лева и вдруг загорелся, заговорил без удержу, как и обещал: — Собственную кровушку попиваем! Водка с кровью, коктейль а-ля рюсс!.. Потому что все мы русские, до мозга костей, до камней в печени — рус-с-кие! Без различия, без исключений! Потому что — что такое Русь? Это — боль, боль, боль! Боль не за одного себя, а за все человечество распроклятое, которое хрен нас способно понять с этой нашей болью! Боль, и печаль, и тоска по несбыточному… Русские!.. — Он поднялся на ноги, качалка заходила ходуном, и теперь он был уже не разжиревший Будда с Молчановки, а волжский забубенный бурлак в истлевшей под бечевой на груди рубахе и с красной рожей пугачевца, с неизбывной тоской по истине и мятежу в отбеленных водкой очах. — Мы — русские! — рявкнул он и потряс над головою обоими кулаками. — Пей свою кровь! Заглушай ею ужас свой и непотребство! Да не вылакай ее до дна, там она тебе еще сгодится. Там — особенно! Потому что ты и там будешь — русский. Не француз, не американец, не патагонец — везде русский, всегда! Попомни! Заруби себе!..
И снова ударило в пустой пещере эхо, перекатываясь и сотрясая своды.
— И на собственном отпевании тоже кровью своей причастишься! — грохотнул напоследок Борисов, испустил из груди вздох долгий и мучительный и упал снова в качалку. Рухнув, сказал тихо и совершенно трезво: — А вот поминки по тебе мы с тобой завтра еще здесь успеем справить… — Не глядя, нашарил у своих ног бутылку, зубами сковырнул пробку, долго пил из горлышка, потом понюхал собственный жирный локоть и сказал еще тише: — И все же есть у тебя, у сукина сына, твоя Майка…
— Была… — Пить Бенедиктову больше не хотелось, и эхо в пещере тоже ни на что уже не отзывалось.
— Есть! — не согласился с ним Лева. — И я тебе не то еще скажу! Теперь-то она у тебя есть даже больше, чем прежде, когда она была с тобой. Больше, потому что теперь, когда у тебя ее уже нет, она — вся твоя! Навеки!.. А раньше-то… — вдруг вновь опьянел он до беспамятства, — раньше-то…
— Что — раньше?! — заледенело сердце у Бенедиктова. — Ты пьян, скотина! Не ври!..
Но Борисов не слышал его:
— Раныпе-то — ого-го… Ого-го!..
Но Бенедиктов вдруг поймал себя на том, что — ни гнева, ни отчаяния, ни омерзения, одна ледяная печаль.
Лева вдруг затрясся всем центнером своего протравленного насквозь алкоголем мяса и жира, заколыхались щеки, грудь, живот, качалка под ним затрещала. Он плакал щедрыми пьяными слезами навзрыд, плакал о Майе, о себе, о Бенедиктове, обо всех разом.
Окно мастерской выходило на крышу. Бенедиктов выбрался на нее, под ним был разлив приарбатских, поварских, моховых и, на том берегу, замоскворецких переулков.
Над городом уже струился ранний рассвет, но ты летишь завтра на заход, на запад, и за тобою будут течь, догонять тебя эти ранние московские зори, настигать, наступать на пятки, но — не догнать им тебя уже…
Бенедиктову захотелось есть — с утра маковой росинки во рту не было, он удивился себе: не рыдать, заламывая руки, не оплакивать свою жизнь и свое завтрашнее прощание с нею, а просто — есть.
Он вернулся в мастерскую. Борисов спал, уронив набок голову и сложив толстые, влажные губы с запенившейся в уголках белой слюной в детскую безвольную улыбку.
Бенедиктов нашарил в маленькой, занавоженной до мерзопакостности кухоньке черствые хлебные корки, обветренную докторскую колбасу; ни то, ни другое есть было нельзя. Он зажег газ, налил в мятую алюминиевую кастрюльку воды из-под крана, накрошил в нее хлеб и колбасу и стал варить себе сиротский супчик.
Утром, когда он проснулся на голых досках «подиума», Борисова уже не было. Рядом, под обрубком гипсовой руки, лежала записка: «Пьянь, скот, свинья, крокодил! Пьянь, пьянь, пьянь! Ни слову не верь! Если уйдешь без меня, помни: в семь — проводы, всех обзвонил, все придут, все беру на себя. Но лучше — никуда не уходи. И — плюнь! Плюнь! Лев».
«Не верь, — значит, все помнит, а раз помнит, что спьяну наболтал…» — как-то вчуже подумал Бенедиктов.
Он разделся, пошел в уборную, в которой была и Левина ванная — ржавый душ над унитазом, долго стоял без единой мысли в голове под холодными, колючими струями воды.
Он шел по пустой, притихшей Москве, на улицах прохожих было мало, над подъездами висели праздничные флаги.
Он перекусил по пути в стеклянной забегаловке и пошел бульваром в сторону Пушкинской площади. На бульваре народу было побольше, на лацканах мужских пиджаков, на немодных платьях пожилых женщин едва слышно потренькивали медали, и он вспомнил: девятое, День Победы.
Он спустился по улице Горького к Охотному и свернул налево, к Большому театру. Стояла непривычная для начала мая жара, все оделись в светлое, девушки — с открытыми, незагорелыми руками, безоблачное небо было совсем уже летним.
В скверике у Большого, вокруг фонтана и у колоннады, и напротив, на тротуаре у Малого, было не протолкаться. На ухоженных клумбах полыхали огненные язычки тюльпанов, и в руках у всех тоже были красные тюльпаны и гвоздики. Ветераны, и мужчины, и женщины, были при орденах, вся грудь в орденах, реже — орденские планки в несколько рядов.
Бенедиктов поразился: какие они все уже немолодые и как их уже немного среди праздничной, в большинстве своем молодой толпы.
В памяти разом всплыл май сорок пятого, и слово Родина, естественно и как бы все ставя на свои места, пришло ему на ум, и ему это не показалось ни странным, ни кощунственным — это слово в мыслях и в сердце человека, который завтра на рассвете навеки покинет ее, трижды отречется…
На скамейке, в тени еще не распустившегося куста сирени, сидели одни женщины, с увядшими, будничными, ничем в любой другой день не примечательными лицами матерей, бабушек, тещ, свекровей, в платьях и кофтах, на которых так, казалось, неуместны — не мундир же, не пропыленная, пропотевшая фронтовая гимнастерка! — так невпопад ордена. И у каждой в руках были пожелтевшие, нечеткие снимки военных времен, они ахали, узнавая, и печалились, не узнавая на них друг друга, и смеялись молодым, тех лет смехом, и радовались, что вот — четыре года войны и три десятка послевоенных, а они живы и опять вместе, и не такие еще старые, и хоть все меньше их год от года, все реже письма и весточки друг от друга, а все же — вот он, живой и вновь молодой, их женский воздушный полк ночных бомбардировщиков, девчачий полк, где все были тогда невесты, а многие так и остались навеки — в небе и в земле — невысватанными невестами, а те, что вернулись, повыходили замуж и родили детей, а те им — внуков, и теперь вот — заботы, и радости, и денежные затруднения, и разводы, правда уже не свои, а детей, и проклятый квартирный вопрос, и пенсия невелика, не хватает, а все же вот они, девчонки отдельного воздушного полка, хоть и не узнать им себя на этих старых, с обломанными уголками, неконтрастных фотокарточках, где они остались навеки молодыми пилотами, штурманами и башенными стрелками с выбивающимися из-под залихватски заломленных пилоток мелкими кудряшками, которые они, прежде чем сфотографироваться в коротком перерыве между воздушными боями, круто завили накаленной на огне бивачной коптилки вилкой.
Они нестройно пели, глядя в бумажку со словами, которую держала в оттянутой руке одна из них, свои старые, невозвратной их юности песни: «Синий платочек», и «Темную ночь», и «Землянку», и «Мне сверху видно все, ты так и знай…»
Видно ли им было тогда сверху, с высоты ночных слепых полетов над своею и чужою землей, во тьме, подстерегающей их «юнкерсами» и «мессерами», распарываемой соцветиями зенитных залпов и догоняющих друг друга трассирующих пулеметных очередей, в парении своем меж жизнью и смертью, — виден ли им был с неповторимой больше никогда этой высоты сегодняшний день — не этот майский, торжественный, блещущий орденами и салютами, а просто будничный их сегодняшний день: в бесцветных мелких заботах и радостях повседневья, в очередях и вечной нехватке времени и денег, сегодняшний мирный их день, который тогда, с той высоты грезился им таким ярким и вечно праздничным и ради которого, собственно, они и летели в ночное небо навстречу смерти?..
«Темная ночь, только пули свистят по степи…»
И конечно же — «Ты меня ждешь…».
Бенедиктов проталкивался сквозь толпу и сливался с нею, жил ее ожившими, не замутненными временами воспоминаниями о днях бескорыстия, самоотвержения и кровного родства всех со всеми — святыми, чистейшими днями. Он был сейчас, как никогда, одним из них, каплей в их море.
В другом конце сквера, поближе к колоннаде театра, стояли кучкой, громко разговаривая, хлопая друг друга по плечам и шумно, долгими мужскими объятиями встречая вновь прибывающих, танкисты-разведчики тридцать четвертой танковой армии Рыбалко, — Бенедиктов прочел это на рукописном плакатике, который кто-то из них прикрепил к стволу дерева, рядом с картой, на которой красной чертой был обозначен путь армии от Волги до Шпрее. Среди них было и несколько все еще кадровых полковников и подполковников, и даже один генерал в светло-сером мундире с золотым шитьем и погонами, но больше отставников с вполне уже штатскими повадками, некоторые — с обожженными, в красных рубцах и заплатах лицами.
У фонтана в центре сквера неподвижно стоял человек с сине-багровым испитым лицом, в поношенном, лоснящемся на локтях и лопатках пиджаке и в стоптанных туфлях на босу ногу. Негнущимися, отечными пальцами он держал перед собой у груди квадратный кусок картона с слинявшей от времени надписью фиолетовыми чернилами: «Аджимушкай, новороссийский комсомольский спецполк». Никто к нему не подходил, все шли мимо, на ходу косясь на плакатик, — видно, не было среди толпы ни одного из тех новороссийских, краснодарских и армавирских вчерашних десятиклассников, из которых мало кто вышел живым из каменоломен Аджимушкая.
Среди толпы ходила высокая, худощавая немолодая женщина, на груди у нее были приколоты английскими булавками две фотографии, а над головой, в высоко поднятой руке, она держала третью. И со всех трех карточек глядело одно и то же лицо молодого мужчины: на одной — в довоенной полосатой футболке, на второй — в мятой, с двумя «кубарями» в петлицах, фронтовой гимнастерке, а на той, которую женщина держала над головой, — в кителе с капитанскими погонами и двумя медалями на груди. Женщина пробиралась сквозь толпу молча и отчужденно, ей уступали дорогу и провожали горьким взглядом: она и через тридцать лет все еще искала отца, или мужа, или жениха, все еще ждала, и фотография над ее головой была как хоругвь с ликом Спаса.
Слезы подступали к глазам Бенедиктова, застревали в горле, и хотелось ему всех обнять, стать ими всеми — и этими женщинами-летчицами, и танкистами этими с обожженными, залатанными багровыми лицами, и сыновьями их, и внуками, и этой женщиной с фотографией в высоко поднятой над головой руке. Он был один из них, и без них его попросту не было.
Вечерело уже, площадь быстро пустела, на асфальте валялись затоптанные тюльпаны и гвоздики, на забытом однополчанами плакате «14-я гвардейская танковая армия» сидел приблудный, мирный и сытый городской воробей, чистил перышки.
«Пойти домой…» — подумал Бенедиктов, но вспомнил, что дома у него уже нет, да и вообще слово «дом» — теперь не для него.
Он пошел Охотным рядом, Манежной, свернул на Калининский, мимо Ленинки, мимо Музея архитектуры, мимо кинотеатра «Художественный», мимо «Праги» и роддома имени Грауэрмана, где он родился сорок четыре года назад, а теперь в последний раз проходит мимо.
Начинало темнеть, и стало прохладно. На углу Садового Бенедиктов увидел телефонные кабинки, взглянул на часы — Борисов давно ждет, уже собрались в мастерской друзья-приятели на проводы, надо дать о себе знать.
Левин номер был занят, Бенедиктов набирал его еще и еще. В соседнюю кабинку вошла второпях девушка, почти девочка еще, кинула в щель монетку, набрала номер, но, по-видимому, и ее телефон был занят, она нетерпеливо набирала его опять и опять.
Бенедиктову показалось, что он где-то уже видел ее, откуда-то знает — эти большие, широко расставленные глаза, пухлый рот с выгоревшим на солнце беленьким пушком над верхней губой, рыжеватую челку, закрывающую лоб по самые брови… За этим ее лицом ему почудилось другое, детское, которое он когда-то знал.
Левин телефон все был занят, Бенедиктов вышел из кабинки.
И одновременно с ним вышла из своей и девушка, они встретились глазами, и Бенедиктову вновь почудилось, что он ее знает, но кто она, где и когда он мог ее видеть — воспоминание ускользало. Она повернулась и пошла было в сторону Арбатской площади, модные сабо на высокой платформе дробно зацокали по плитам тротуара.
Девчушка почувствовала, что он глядит ей вслед, обернулась, метнула в его сторону оскорбленный взгляд и, прежде чем отвернуться и уйти, привычно сдула, чуть вытянув губы, челку со лба. И тут он узнал ее:
— Оля… Оленька?..
Она обернулась опять и тоже узнала его:
— Дядя Юра?!
— Оля… Неужели это ты, Оля?!
Оля, Оленька, дочь — нет, даже внучка, ну да, внучка его соседей по дому на Ямском Поле, где он некогда, почти двадцать лет назад, снимал комнату, Оля, которая родилась, когда он был уже вполне зрелым человеком… Он сторожил ее, когда бабушка ходила в гастроном напротив или на Бутырский рынок и просила его посидеть с ней…
— Ты меня узнала? — обрадовался Бенедиктов… — Как же это ты меня узнала, Оля?!
— Но вы ведь тоже меня узнали…
Бенедиктов подошел к ней, протянул руку, она без смущения вложила в нее свою нежную, легкую ладошку.
— Я тебя узнал, потому что… — но он и сам себе не мог объяснить, как это он ее сразу признал после стольких лет и, главное, почему вдруг так рад этой встрече. — Я тебя узнал, потому что… ну, наверное, потому что ты не изменилась…
— Ну уж!.. — обиделась она.
Он глядел на нее и думал, что вот — он встретил девочку Олю, которая, собственно, не имеет к нему и к его жизни никакого отношения, совершенно чужая девочка Оля, но, повстречав ее сейчас, он как бы встретился с самим собою — прежним, тогдашним, невообразимой уже давности.
— Ты куда, Оля?.. Такая взрослая… Тебе сколько?
— Я в этом году уже школу кончаю! Через полтора месяца. — И, с беспокойством оглянувшись на телефонные будки, вспомнила: — Меня ждать должны были… но то ли я опоздала, то ли…
— Может, это я как раз тебя и ждал? — пошутил он и удивился близости к истине этой пришедшей ему незваной мысли: — Может, это я как раз тебя и ждал?..
— Опоздала… — призналась Оля. — Спешила, спешила, а… — Но, тряхнув челкой, словно отметая все печали, спросила: — А вы как живете, дядя Юра? Я все ваши фильмы смотрю, даже перед ребятами хвастаю: мы с Юрием Бенедиктовым соседями были…
— А я уезжаю… — вырвалось у него. — Уезжаю я, Оленька.
— Далеко?
— Дальше не бывает…
— Завидую… Я тоже мечтаю путешествовать. За границу небось?
— За границу… и даже еще дальше… — Бенедиктову стало не по себе от этого жалко-ироничного, самоуничижительного тона, которым он почему-то говорил о себе. — За границу добра и зла. Сейчас как раз проводы. То есть мне надо идти на проводы… — И вдруг, неожиданно для самого себя, предложил: — Слушай, а ты не хочешь меня проводить?.. То есть… то есть мне бы очень хотелось… одним словом, если ты не спешишь…
— Не зна-аю… — неуверенно протянула она. — Я-то — никуда, а вас ждут, сами сказали…
— Ну и пусть! — решился он. — Пускай их! Им и без меня весело. Выпьют за меня, помянут… Не хочу на собственных поминках быть тамадой. Ты меня и проводишь. Идет?.. Честно говоря, может быть, мне этого-то как раз и надо…
Она с недоверием, даже с опаской поглядела на него из-под медной своей челки, — но это все-таки был дядя Юра, и подозрения ее рассеялись.
— Давайте. Я же говорю — опоздала. Хоть могли бы и подождать! — кинула она с негодованием в сторону телефонных автоматов. И вдруг загорелась наверняка давней и совершенно для нее недостижимой мечтой: — В Дом кино?! Я никогда еще не была в Доме кино!..
Он взял ее под руку.
— Нет, Оленька… Туда нельзя. Понимаешь, мне туда никак уже… — Но, чтобы она не очень огорчилась, соврал: — Сегодня там закрыто, День Победы, ты забыла?.. Мы распрекрасно посидим где-нибудь здесь, на Арбате, тут ведь полно всяких заведений.
Они перешли подземным переходом на противоположную сторону и, сунув швейцару трешку, не стали ждать в очереди, а с ходу прошли в «Метелицу».
Официантке тоже пришлось сунуть трешку, но зато она раздобыла для них маленький столик на двоих, правда у самого оркестра, так что говорить друг с другом было совершенно невозможно, словно музыканты более всего были озабочены тем, чтобы помочь людям не слышать и не понимать друг друга.
Но Бенедиктов и рад был этому — он не знал, о чем говорить с Олей, не знал, какие мысли роятся под медной ее челкой, боялся, что она не поймет его, да и он сам не сможет ничего объяснить ей.
Они заказали бутылку шампанского, кофе и мороженое. Гремел оркестр, Оля непроизвольно отбивала ногами ритм под столом и, ловя себя на этом, виновато улыбалась ему, но через минуту опять забывалась. На дешевенькой импортной маечке было написано по-английски: «Лучше любовь, чем война», но едва ли она, подумал Бенедиктов, знает английский. Как и любовь, впрочем. Пальцы, которыми она держала бокал с шампанским, были с детскими еще, коротко остриженными прозрачными ноготками.
Вот она сидит перед ним, юная женщина — «Лучше любовь, чем война», — сдувает легким дыханием челку со лба, девочка, странным образом вобравшая в себя всю безоблачность и ясность его, Бенедиктова, молодых лет, словно это его юность и ясность перелились в нее, стали ее юностью и ясностью. И он подумал, что, наверное, это-то и есть бессмертие.
Он видел, что Оля заскучала, что ей до смерти хочется потанцевать. Ее уже несколько раз приглашали, но она всем отказывала, не желая обидеть Бенедиктова или, может, быть, ожидая, что он сам пригласит ее. Но ему было не до танцев, и, когда к ней подошел еще один кавалер, Бенедиктов, не дав ей отказаться, кивнул: иди.
Он не сводил с нее глаз, теряя и находя в толпе танцующих, она возвращалась к столику лишь на мгновенье, ее тут же опять приглашали, и она вновь и вновь плясала без устали.
Ей было неловко танцевать на высоких платформах, она то и дело оступалась, а когда возвращалась, скидывала под столом свои сабо, давала ногам подышать и отдохнуть. Но в одном из танцев сабо подвернулось, слетело с ноги, она нагнулась и подобрала его и, ловко сдернув с ноги и второе, продолжала танцевать как ни в чем не бывало, будто не впервой ей отплясывать вот так, босиком, помахивая в воздухе своими сабо.
И никто из танцующих не удивился этому, наоборот, ее пример заразил и других — одну, другую, третью, и был в этом не вызов, а просто раскованность и безразличие к тому, как это выглядит со стороны и что о них подумают и скажут, какая Бенедиктову в его молодые годы и не снилась.
Они, думал без зависти Бенедиктов, иные, свободнее и независимее, чем был он и его сверстники. Лучше ли, хуже, а — иные, как их ни называй — акселератами, скептиками, прагматиками или трезвыми мечтателями. И ему, Бенедиктову, их никогда уже не догнать.
Он вдруг безмерно, смертельно устал.
И все-таки, думал он, мы сделали свое дело и большего, может быть, сделать и не могли, не дано это было нам, но мы были семенами, брошенными временем в эту землю, хоть взрасти на ней и заколоситься жатвой уже не нам, а вот этим, нынешним. Что ж…
Оля плясала.
Он поглядел на часы — двенадцатый, четверть двенадцатого.
Он не стал ее окликать, нс стал прощаться, расплатился с официанткой. Оля все плясала: «хоп-эй-хоп!» — что ей до него, она — на этом берегу, он — уже на том.
Он пробрался сквозь толчею танцующих, вышел на улицу.
Новый Арбат был иллюминирован, в четырех огромных парусах министерских зданий во все двадцать или сколько их там этажей горели окна, образуя праздничные буквы: «9 МАЯ». Бессонно вертелся вокруг своей оси аэрофлотовский глобус, маня в дальние дороги.
Он вышел мимо Пашкова дома на увитый провисающими дугами праздничных гирлянд Каменный мост. Ни на мосту, ни на набережной вдоль подсвеченной прожекторами кремлевской стены не было ни души.
Он остановился на смотровой площадке, нависшей над темной, маслянисто поблескивающей водой, оперся локтями на парапет, долго глядел вниз.
В воде отражались островерхие башни, зубцы стены, Большой дворец, золото Ивана Великого.
Он взобрался на парапет, ощутил ладонями и грудью тепло вобравшего за долгий день солнечный жар камня и неловко, с усилием перевалился через него.
1974 1987



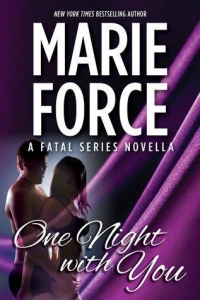



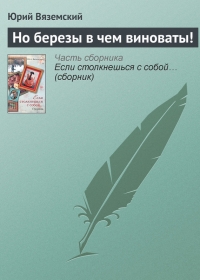
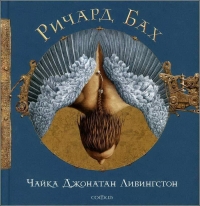
Комментарии к книге «Антракт: Романы и повести», Юлиу Филиппович Эдлис
Всего 0 комментариев