Сергей Рокотов Карточный домик (повесть)
1
«Горь-ко! Горь-ко! Со светлой вершины дано нам отныне в бескрайние дали взглянуть! Ребята! Будьте щедры на труд, любовь и крики рождений! Добра вам и света! А я желаю черной жизни молодым! Пусть квартира будет с хрусталем на черном бархате! Пусть ложками едят черную икру! И пускай ездят только на черной „Волге“! Ура! Горь-ко! Горь-ко!»
Прошло часа полтора, а ночь упрямо не наступала. Видны были под сизым, бирюзовым в оранжевых перьях на западе небом вспаханные, взбухшие от дождей зеленоватые поля до горизонта, прозрачные леса, поблескивала темная вода в колеях извилистых горбатых проселков. Я стоял в тамбуре, прижавшись лбом к холодному дребезжащему стеклу, а колеса словно отпечатывали сказанное нам полдня назад во Дворце бракосочетаний: у вас есть мо-ло-дость о-ба-я-ние лю-бовь и чис-тое мир-ное не-бо но счасть-е са-мо по се-бе не да-ет-ся в сов-мест-ной жиз-ни прояв-ляй-те доб-ро-ту и рас-суди-тель-ность не обра-щай-те вни-ма-ния на ме-ло-чи соз-да-вай-те проч-ную со-ветскую семь-ю чем креп-че семь-я тем прочнее на-ше об-щество тем ближе мы к ком-му-низ-му. Вот до тех домиков, хитрил я, — и пойду в вагон. До сосны. До озера. До переезда. Но не уходил, потому что хорошо было стоять одному в прохладном тамбуре. Въехали на мост и захотелось крикнуть что-нибудь, как там, под нашими сверхзвуковыми бомбардировщиками, от которых дрожат горы, или на броне в грохоте и лязге, или в тиши — в барханах на привале после боевой операции, когда, казалось, ложку от усталости до рта не донесешь и шея голову не держит, точно у младенца, мы начинали вопить в дюжину луженых, охриплых, облепленных пылью глоток, колотить по котелкам, каскам, камням, и Миша или Шухрат поднимались, за ними Валера Самойлов, потом Резо и постепенно, но быстрей, быстрей раскручивали, заводили лезгинку, или гопака, или какой-нибудь танец аборигенов острова Фиджи, и усидеть никто не мог, разве уж совсем сынки, салаги — даже взводный усидеть не мог порой.
— Ты шизо, тебе лечиться надо, а не жениться! — услышал я сзади Олин голос и понял, что не удержался, в самом деле заорал под грохот колес по мосту. — Ты что?
— Так как-то вырвалось. Извини.
— Да, муженек… Ты меня все больше пугаешь. Пошли-ка в вагон.
Взяв в купе полотенце и зубную щетку, Оля ушла умываться. Я ждал ее в коридоре. Вспомнился тот солнечный день в начале марта, когда мы подали заявление в загс. Мы должны были встретиться в двенадцать, но в половине первого ее еще не было. Я бродил вокруг памятника Тимирязеву и, не зная, откуда она придет, смотрел то налево, на улицу Герцена, то на скверик перед церковью, в которой венчался Пушкин, то на бульвар, и думал о том, что три года еще не прошло с выпускного вечера, когда мы проходили всем классом здесь, у Никитских, к Красной площади, но это больше тысячи дней и ночей, уж не говоря про часы, минуты и секунды, а закрыть глаза, зажмурить посильней — и не было этих трех лет. Опоздав на час с лишним, она приехала на такси. «Извини», — сказала. Районный загс был закрыт на ремонт. На метро мы поехали во Дворец на Ленинский проспект, где кафе «Аист». Нам выдали бланк. Заполняла его Оля, потому что меня и в школе ругали за почерк, теперь он стал совсем корявым. «Желая по взаимному согласию вступить в брак, — прочитала она тихонько вслух, — просим его зарегистрировать в установленном законом порядке. После регистрации брака желаем — носить общую фамилию мужа или жены или остаться при добрачных фамилиях». Оля посмотрела на меня. Я пожал плечами — она обиделась. «Так тебе, значит, безразлично, какая у меня будет фамилия? — „Возьми мою, если хочешь“. — „Нет уж. Раз так, я останусь с папиной“. Я согласился. Потому что очень она любила своего отца, очень много он для нее значил. Я хорошо помню его лицо в ту минуту, когда он узнал, что мы решили пожениться. „Вот оно что… — Семен Васильевич посмотрел на меня, будто впервые увидел. — Ну, что ж… если сами, без родителей решили…“ А позднее, когда опустели тарелки с закуской и бутылка, одутловатое набрякшее лицо Семена Васильевича сделалось свекольного цвета, он вывел меня на лестничную площадку покурить и там сказал трескучим своим голосом, астматически дыша: „Ты пойми, Олька — все для меня“. „Да, я понимаю“, — ответил я. „Ни черта ты не понимаешь. Но когда-нибудь поймешь. Ладно. Ты вот что скажи, почему орден свой не носишь?“ „А у меня его нет“, — сказал я. „То есть как — нет? А дочка мне сказала… Э, брат…“ Я хотел объяснить, что орденом я награжден, но еще его не вручили, так чаще всего и бывает, ордена приходят позже, и у Павла Владычина было, и у многих… Но после его „Э, брат“ ничего объяснять я не стал. Да и при чем тут есть у меня орден, нет — неужели он, фронтовик, не знает, что у каптера порой больше орденов и медалей, потому что с офицерами дружен, чем у кого бы то ни было? Впрочем, может быть, и знал когда-то: лучших ребят чаще пуля находит, чем ордена… Знал — но забыл. И он долго еще рассуждал на лестничной площадке об орденах, о всяческих наградах, о том, что ничего от человека не остается в конце концов, а награды остаются, внук или правнук возьмет их в розовенькие пухлые свои ручонки, чтобы поиграться, — и вспомнится, память крови заговорит.
Я не знал, что такое память крови. Но я знал нашего взводного, у которого никаких наград не было, потому что он любого начальника мог послать. И внуков уже не будет. „Награда, это ж, понимаешь… Значит, он даром жизнь прожил, понимаешь? Ну а самому-то пришлось пострелять? Да что ты в лице меняешься, верю, есть у тебя орден. Но орден-то ордену рознь — вот в чем загвоздка, как говорят. Ладно, чего уж… — махнул рукой Семен Васильевич. — Вы-то что могли?“
Назначили свадьбу на седьмое мая. Оля сказала, что не хочет всю жизнь маяться. „Нельзя ли на конец апреля?“ — „Все занято“. — „А на июнь?“ — „На июнь еще рано, приходите через месяц“. — „Ладно, — махнула рукой Оля. — Маяться так маяться“. Купив бутылку вина, мы поехали к Павлу Владычину. Он спал, соседи его разбудили. Прихрамывая, в тельнике и широченных штанах, со всклокоченной гривой Павел вышел в коридор. Я сказал, что мы подали заявление. Он не поверил спросонья, но Оля подтвердила, и Павел, кивнув нам в сторону своей комнаты, отправился на кухню. Принес сыр и колбасу, банку скумбрии в томате, конфеты. Сели. Я разлил. Яркое мартовское солнце светило в окно и пронизывало бутылку с вином и стаканы. Блестела дверца платяного шкафа. „Тогда уж надо бы… — сказал Павел, но не договорил. Встал, принес четвертый стакан. Наполнил его до краев, сверху положил кусок хлеба. — Давайте, — сказал он. — За вас“. Не успели мы выпить, как пришел брат Павла, Гарик, а вслед за ним трое афганцев — Толик, Саня и Виктор; Павел служил с ними в ДШБ[1], а я застал лишь Виктора Гармаша, но вскоре он дембельнулся. Афганцы тоже принесли с собой выпивку — и понеслось: „За тех… Зеленые левей взяли, а мы зашкалили и прямо на „духов“ головной дозор — полоснули они по нам с Толиком, суки, мы за дувал перевалились и оттуда „эфками“… Давайте, ладно, мужики, девушке тоска все это слушать! За женщин предлагаю стоя!.. Не, я точно слышал, летом выводить будут… А с Васькой Александровым что, не слыхал никто? В Ташкенте в госпитале — эрэсом обе ноги. Выше колен. Ну, за ребят! Не чокаются! Мы как за живых… Коль, значит ты не шутишь, гулять на свадьбе будем в мае? Какие шутки…“ „Хотите погадаю?“ — в разгар предложил нам непьющий Гарик. „Хотим!“ — обрадовалась Оля. Мы отошли в угол комнаты и сели вокруг сундука, заменяющего журнальный столик. Но едва лишь Гарик достал колоду, Павел, вынырнув из спора, сказал. „Вы имейте в виду: у Гарика шулерские карты. Я вам не советую“. Мы послушались, хотя Оля настроилась — она любила, когда ей гадают. Гарик на брата не обиделся, потому что вообще не умеет обижаться. Стал показывать фокусы, а Оля тем временем строила на сундуке карточный домик, и он получился у нее очень красивый. Но только она отвернулась — домик рухнул. „Я же говорил, — заметил с улыбкой Павел. — Слишком много эти карты врали на своем веку“. На кухне Оля все-таки попросила Гарика погадать — и он нагадал, что будем мы жить долго и умрем в один день, как в сказке. И еще многое нагадал, и все было более или менее хорошо. Оля верила.
Потом, как всегда у Павла в Слободе, уходили и приходили, и приносили с собой и приводили, выяснялись отношения, звенела расстроенная гитара, басил, хрипел магнитофон. „Вот мы и встали в крестах да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка, смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы — ни к чему!“ Когда кто-то привел с улицы или из соседнего ресторана девочек и вскоре равномерно, словно двуручной пилой бревно пилили, заскрипела за перегородкой раскладушка, мы с Олей вышли и по черной лестнице поднялись на крышу. Видна была в зеленовато-палевых мартовских сумерках вся старая Москва и излучина Москва-реки. Мы сели на гребень, обнялись. Тепло от ее бедра проникало в меня сквозь материю, бродило во мне, как вино, и пьянило, и не верилось снова, что я, которого могло — должно бы, по теории вероятности, хоть и мало что в этой теории я понимаю — не быть, это я, по крайней мере раза три-четыре уже ни на что не надеявшийся, я обнимаю ее, любимую свою, невесту. „И часто к вам на мальчишники такие девочки заходят?“ — спросила Оля. „Витька“. — „Он ужасный… Крикливый. Он шлюх привел? Я думала, Павел твой“. — „Нет, Витька. Говорит, пока жив, буду все, что шевелится, — за тех, кто там остался навсегда“. — „Какой-то бред! А он там был вообще? На самом деле воевал?“ — „Конечно. Ранен был. Медалью „За отвагу“ награжден. И мечтает туда вернуться“. — „Вернуться?“ — „Ему кажется, что там была жизнь. А здесь лишь подобие“. — „И тебе так кажется?“ Я не ответил. „Ты меня пугаешь. Но ты совсем не такой, как этот Виктор. Какой-то он… — она не договорила, загрохотали по железу шаги и появился сам Виктор; нас он не заметил. — Легок на помине хороший человек“, — прошептала Оля, прижимаясь ко мне. Виктор закурил. Отхаркался. Расстегнул молнию и, шатаясь, стал мочиться с крыши. Я хотел окликнуть, но сообразил, что хуже будет, если он обернется. Оля, зажмурившись, ждала. Виктор уходить не думал. Что-то в окнах напротив привлекло его внимание, он перегнулся через ограждение и смотрел, а потом как заорет в колодец двора: „Эй, козлы! Мы кровь проливали, а вы совокуплялись тут!“ „Заткнись, Витька“ — сказал я. „Молчи, салабон! — отрубил он и продолжал вопить надрывно на всю Москву: — Вы бакшишев, гостинцев к Первому мая не получали, паскуды! Под „градом“ не бегали! В танке, суки, не горели! До той крыши допрыгнешь? — сказал мне. — Мажем на литруху!“ Оля с усмешкой и с вызовом взглянула на меня. „Мажем“, — сказал я, поднимаясь. „Спорьте, — сказала Оля. — И прыгайте. Желательно, сразу головой вниз. А я пошла“. — „Подожди“. — „Нет, нет. Держи пари“. „Разбей, — попросил ее Виктор. — На литр белого“. „Сколько угодно, — она разбила наши руки. — Прыгай“, — сказала мне. „Ты не уходи“. — „Хочешь, чтобы я видела?“ „Жених и невеста, тля! — не выдержал Виктор — Я невест не держу — гони за литрухой, Колян!“ Крыша противоположного дома была немного ниже. Жесть по краю заржавела, скорчилась, кое-где порвалась и не выдержала бы человека, так что прыгать надо было дальше, к решетке. „Кончай, Витек, дуру валять“, — сказал я, но он лишь отмахнулся и стал карабкаться на гребень. „Не прыгнет, — Оля улыбалась. — Он не сумасшедший“. А я знал, что прыгнуть он мог, надо было схватить его, увести вниз и пить — но я сидел рядом с Олей неподвижно, боясь сознаться себе в том, что хочу, чтобы Виктор прыгнул и сорвался, потому что слишком много в нем было того, что делало всех нас братьями-близнецами, искупавшимися в кипящем котле с кровью, и смерть его — надеялся я тогда, но открываюсь — а если не хватит мужества открыться, то вообще не имеет смысла писать, все будет враньем — только теперь, спустя годы, когда всем уже почти все с нами ясно, — смерть его дала бы шанс жить мне, жить нам. Он побежал вниз, оттолкнулся, но ухватился в последний момент за сломанный поручень пожарной лестницы и жалко, некрасиво повис, раскачиваясь над двором-колодцем. Я вытянул его. Минут пять он, абсолютно белый, молча сидел между нами, его колотило, мы его старались успокоить. Захныкал как-то по-детски или по-стариковски, слезы полились. „Уйди“, — шепнула мне Оля, я отошел, сел за трубой, а она положила его голову к себе на колени и стала гладить, что-то нашептывая, а меня она никогда по голове не гладила, и я не выдержал, вышел. Виктор бросился на меня, как раненый медведь, мы сцепились, покатились по крыше и оказались бы внизу на асфальте, обнявшись, как братья, если бы не вывалила вся компания и нас не разняли. Поздно вечером на улице Горького у телеграфа Витька схватил сзади за косу безобидного хипаря или металлиста и щелкнул по затылку, тот завизжал, вывалили из подворотни его волосатые оборванные дружки в заклепках и цепях — в 117-е отделение милиции на Пушкинскую мы пришли вскоре после того, как на патрульной машине туда привезли Виктора. Он и в отделении орал: брызжа слюной, размахивал руками, тельняшку на груди рвал, его скрутили и затолкали в камеру, а нас слушать не стали. Вышел он через полмесяца осунувшийся, утихомиренный, сказал, что на все забил и всех в гробу видал. Из семнадцати моих знакомых москвичей-афганцев уже троих посадили. Один милиционеров измордовал на День ВДВ[2], другой комсомольского секретаря вместе с креслом из кабинета вышвырнул, третий повара в столовой у себя на заводе окунул головой в щи. Ребята, мол, интернациональный долг выполняли, говорили адвокаты, нервы и тэ дэ и тэ пэ — не помогало. Закон у нас един для всех, твердили судьи.
2
…Она появилась в коридоре вагона, пахнущая земляничным мылом и зубной пастой. Я обнял ее за талию.
— Пусти. Пусти, слышишь?
По густой черноте за окном бежали матовые приглушенные светильники и хромированные ручки дверей купе. Мерно стучали колеса на стыках рельсов. И мне ничего в жизни больше не нужно было, только стоять вот так с Олей, прижавшись друг к другу.
— Пусти, я спать хочу.
В купе было темно. Позвякивали на столе стаканы в подстаканниках, белела в развернутой газете яичная скорлупа.
— Полезай к себе, — прошептала Оля.
Я забрался на верхнюю полку, а она стала раздеваться. Я слышал, как шуршали, потрескивая, ее водолазка, колготки. Когда она улеглась, я наклонился и посмотрел — глаза ее были уже закрыты.
— Спокойной ночи.
— Спо-кой-ной но-чи, — ответили мне ее засыпающие губы.
Я лежал одетый при свете ночника и смотрел в потолок с дырочками, с какой-то ручкой, и думал о том, что означают надписи: "закрыто" — "открыто". Потом я стал думать о нашем поезде. Представил, как он идет ночью под звездным небом, а вокруг голые весенние поля и леса, и дома, в которых спят люди, и всем что-то снится. Когда я был там и когда только вернулся, я уверен был, что сниться теперь мне будет одно и то же. И вот прошло почти полгода, но еще ни разу не приснилось ничего. Нет, сны, конечно, бывали — про детство, про школу, как сдавал экзамен по химии и как прыгал первый раз с парашютом в девятом классе. Но не было снов, которых ждал, и это ожидание выматывало. Иногда по ночам казалось, что видел я все, что было там, в кино. Или слышал от кого-то. Может быть, от ребят в военкомате, от Павла Владычина, когда в самом начале, только я приехал в часть, мы сидели с ним после ужина в курилке и он рассказывал. Светились окна палаток, кто-то чистил рядом сапоги, смеялись на соседней скамейке, подметали у входа в столовую, а в горах, силуэты которых едва угадывались, жужжал вертолет, слышны были то отрывистые, то длинные очереди. Вот тогда мне Павел и рассказал все, что потом со мной было. И взводный подошел, дополнил. Забренчала неподалеку гитара.
Гранатовый цвет, гранатовый цвет, гранатовый цвет на дороге. И нас уже нет — ушли мы в рассвет…Не думал, что стук вагонных колес так похож на пулеметные очереди. К черту! При чем здесь? Под стук колес хорошо вспоминать о детстве, о днях рождения, о том, как просыпался, зная, что подарок лежит в изголовье. И песню под него можно напевать. И стихи. Но стихов я не помню. Разве что "Мой дядя самых честных правил…" И Маяковского — о советском паспорте. Учительница литературы как-то отправила в соседний жэк, чтобы я там с пафосом прочитал Маяковского пенсионерам и шестнадцатилетним, только получившим паспорт. От волнения забыл в том месте, где про змею двухметроворостую, и ушел с позором. Поехали с ребятами в парк Горького кататься на американских горках, и все надо мной измывались. Я злился. Я тогда был комсоргом класса.
…И нас уже нет — ушли мы в рассвет, ушли мы в рассвет по тревоге…— Может быть, ты все-таки погасишь свет? — послышался снизу раздраженный шепот.
— Оль, — свесился я с полки. — Помнишь, как мы в парке культуры на американских горках катались?
— Помню. Ты мне мороженое тогда не купил.
— У меня денег не хватило. А у Андрея Воронина всегда хватало.
— Ты опять?
— Я просто вспомнил, как он купил тебе эскимо.
— Не эскимо, а в стаканчике за двадцать. А ты чуть не лопнул от ревности.
— Неправда твоя.
— Ты спать будешь?
— Буду. Спокойной ночи, — сказал я и выключил ночник. Но лучше бы я этого не делал, потому что штора на окне была опущена и стало совсем темно.
Минут десять я пролежал с открытыми глазами. А как только опустил тлеющие от бессонных ночей веки — очутился в лазуриговых горах, полетели над головой красные трассеры. Я перекатился за камень и едва не упал с полки, лишь в последний момент успев ухватиться за соседнюю. Задел спавшего пассажира. Голый по пояс, жирный, пере-перепуганный, он вскочил, ударился лбом о потолок.
— Вы с ума сошли? — сказал он, придя в себя.
— Извините.
— Да что извините, так заикой человека на всю жизнь можно сделать!
Проснулась и пожилая женщина внизу.
— То они шепчутся тут, то целуются… Девушка, совесть у вас есть?
— При чем тут девушка? — спросил я таким голосом, что женщина сразу отвернулась. Мужчина тоже ничего не говорил и вскоре захрапел, будто назло.
Полежав еще некоторое время с открытыми глазами, я включил ночник и при свете незаметно уснул.
3
Не доехав до города, в котором во время войны был ранен ее отец и жили мои товарищи по службе Игорь Ленский и Юра Белый, мы сошли на полустанке. Поезд скрылся за еловым лесом, Оля помахала ему вслед рукой. Стало тихо. На платформе кроме нас никого не было.
— Ты меня любишь? — спросила Оля.
— Люблю.
— А почему ты никогда об этом не говоришь? Говори. А то я забуду. Где мы там будем ночевать? Я хочу, чтобы первая брачная ночь у нас была на сеновале.
— Откуда весной сеновал?
— Ну, тогда на русской печке. Сколько тебе было лет, когда тебя увезли отсюда?
— Двенадцать.
— Значит, ты почти ничего не помнишь? Как пахнет в лесу! Ужасно длинная была зима, правда? Мне казалось, что она никогда не кончится
Мы шли по разбитой тракторами, будто "градом" — реактивными снарядами, дороге, обходя лужи. Пахло прелью и уже новыми, нарождающимися листочками, и влажным мхом, и смолой. Дошли до Хлябова. Изба, где мы жили с теткой, была заколочена, почернела, покосилась, нижние венцы сгнили. Пошли дальше по улице, и я не узнавал домов, когда-то нарядных, с наличниками, а теперь совсем мертвых. Изгороди были повалены или их вовсе не было. Сиротливо глядели в небо "журавли".
— Невесело здесь у вас, — сказала Оля.
На скамейке у колодца сидел старик в телогрейке и валенках. Это был Филиппыч. Он учил нас делать поплавки, вытачивать стрелы для луков, мастерить ловушки. Во время войны он был сапером и любил рассказывать, сидя на завалинке, лузгая неспелые семечки, шелуха от которых липла к бороде, как в сорок третьем они стояли по грудь в ледяной, замерзающей уже речке и держали на себе мост, а солдаты по нему перетаскивали орудия и проезжали машины. Мы слушали рассказы Филиппыча и жалели, что поздно родились. Нам тоже хотелось минировать дороги, взрывать мосты, косить из автоматов фрицев почем зря. На краю поля мы построили блиндаж и штурмом брали его. В рукопашной мне свернули скулу и тут же попытались вправить, — я едва не потерял сознание от боли. Но не плакал. И Филиппыч сказал при всех ребятах, что со мной он в разведку бы пошел. Последние одиннадцать месяцев войны Филиппыч воевал в каком-то особом подразделении, о действии которого — как он говорил — рассказать можно будет только по разрешению и даже не министра обороны, а непременно всего советского правительства. И Филиппыч ждал решения, а вместе с ним и ордена и прибавки к пенсии. Правительства менялись, плюрализм приходил на смену культу личности, период застоя — волюнтаризму, а решения не было. Все те, кто когда-то смеялся над Филиппычем, разъехались по городам или поумирали. Смеялся и я с мальчишками. А теперь сам оказался в таком же примерно положении, мы были — но нас не было.
— И Александровы уехали? — спрашивал я Филиппыча. — И Сантанеевы?
Он кивал, поглядывая на Олю.
— И Жучковы?
— Жучковых-то ни одного не осталось, — ответил Филиппыч. — Васька угорел пьяный, Сашка, сын его, утоп, брат его, Толик, на мотоцикле, и сестра удавилась, а мать ихняя, Зоя, она той весной… И Макаровых нет.
— А магазин или что-нибудь у вас здесь есть? — спросила Оля.
— Магазин-то есть, как же. В Федотовке-то есть магазин, как же.
До Федотовки было семь километров. Мы попросили у Филиппыча картошки, соли, хлеба и лука. Спустились к озеру. Оно уменьшилось едва ли не наполовину и почти все заросло.
— А вот и дуб, про который я тебе рассказывал. Тогда под ним вода была, представляешь?
— Не представляю.
Солнце было низко. Холодало. Я собрал валежник, приволок высохшую ольху и пару сосенок с медными иглами. Построив на сухой бересте шалашик из веток, поджег. Вспомнилось, как наловив под дождем окуней, мы варили здесь на костре уху, перед закатом выскользнуло из-под туч солнце, засверкало и заискрилось все, и дым от нашей ухи, прошитый жемчужными нитями, стелился по траве, по ивняку, по стеклянной поверхности озера.
— Я не видела эту зажигалку, — сказала Оля. — Дай-ка посмотрю. Откуда она у тебя?
— Трофейная.
— Ты что, у кого-то ее там отнял?
— Нет. Нашел. Зашли в пустой дом, а она там валяется на полу.
— А почему дом был пустой?
Я переломил несколько сосновых веток и положил в костер. Иглы вспыхнули, заплясали в огне, скрючиваясь.
Зажигалка лежала рядом с "духом", который отстреливался из пулемета и ранил в живот Валеру Самойлова. Граната, брошенная Павлом, выворотила "духу" внутренности, но упал он, видно, не сразу или полз, и поэтому окровавленные кишки тянулись через всю комнату, от стены к стене. А на полу еще дымились миски с пловом, валялась согнутая ложка. И вдруг глаза убитого открываются… Как об этом расскажешь? Или о запахе, который стоял в том кишлаке под вечер, когда мы с Павлом и еще двумя ребятами вернулись по заданию комбата за документами. Днем на солнце было семьдесят пять, если не больше — термометры зашкаливало. Почти сварившиеся за день трупы, почерневшие раны облеплены зелеными, синими мухами и какими-то коричневыми жучками. С нами был молодой солдат, вчерашний студент-психолог, он все шутил по дороге, каламбурил, стихи про электрика Петрова, о студентах своих рассказывал. А как увидел трупы, подкатила к горлу каша, что была на обед. Со словами "я сейчас, ребята, сейчас" он привалился плечом к дувалу, трясясь от спазм. Мы разыскали сумку с документами, собрали кое-какие трофеи по мелочи, а когда вернулись, обезглавленное его тело плавало — как мне в первый момент показалось — в луже крови. Правая рука так и осталась поднятой, согнутой, с крепко сжатым кулаком — он пытался защищаться. Мы видели, как они уходили по сопке. Двое. Но сил за ними гнаться не было. Постреляли — и плюнули. Психолога все равно не оживишь, а отомстить за него и за других ребят — мы еще отомстим. Когда тащили труп в лагерь, из кармана выпала фотография, на которой был изображен погибший — тогда еще мальчик лет шести — сидящим на пони в зоопарке.
— Да ну тебя, — сказала Оля. — Иногда ты совсем чужой бываешь. Ты словно уходишь от меня куда-то. О чем ты думаешь?
— О тебе, — сказал я, наклонился и поцеловал ее в разгоряченную от костра щеку, в губы — она рассмеялась.
— Ты совсем не умеешь целоваться. Как ребенок маму целуешь. Во-первых, почему у тебя всегда глаза открыты?
— Кто их знает?
— Раньше тебе не говорила, боялась, ты обидишься. Но теперь ведь мы с тобой родные, правда? Глаза надо закрывать, когда целуешь жену. И губы у тебя каменные. И язык. Давай я тебя поцелую. Только ты меня слушайся.
Глаза я так и не закрыл, мне хотелось смотреть на Олю. Упругим горячим языком она медленно вошла в меня, захватив постепенно и властно мои губы, я хотел подчиниться, но не получилось и от этого злился на себя, и не мог до конца забыть мысль о том, кто ее научил целоваться, а язык ее был быстр, требователен и нежен одновременно, и что-то беспрестанно говорил мне, не издавая ни звука, умоляя, бранил, ласкал, и я наконец сдался, откинувшись на спину, скользкое илистое дно ушло из-под ног, понесло по бурлящему горячему арыку, я плыл, не думая уже ни о чем и ни о ком, течение становилось все быстрей и быстрей, мелькали ветви, плясали и кружились облака, сливались в одно облако, огромное, мягкое, теплое, обволакивающее, я погружался в него, я парил, я тонул в нем…
— Нет, нет, не здесь, — оторвалась от меня Оля, поднявшись на колени. — Нет.
— Почему?
— Потому что, — она одернула водолазку. — Как ты думаешь, у этого Филиппыча может быть в доме чистое постельное белье?
— Сомневаюсь, — я сел, приходя в себя.
— Значит, еще потерпим. Сколько уже терпели.
— А как же сеновал, русская печь?
— Нет. Вот приедем, примем душ в гостинице… Ну так ты мне расскажешь про зажигалку?
— Это была мина-сюрприз. Спасибо Павлу, а то…
— Что такое мина-сюрприз?
— Ну, вот термос, например, однажды нашли в блиндаже. Показался слишком тяжелым. Колба облеплена была черным пластитом повышенной мощности. Налили бы туда горячий чай, пластит расширился бы и рвануло. Детские игрушки взрываются в руках у малышей. Конфеты, апельсины…
— Боже мой. Лучше не рассказывай.
Я стал закапывать в малиново-сизые угли картофелины. Оля пошла к воде. Сумерки, по-весеннему прозрачные, незаметно покрывали озеро и лес. Я вспомнил, как на поле за озером мы ловили майских жуков. Они летели из леса, словно истребители на бреющем, а мы стояли в ряд, пригнувшись, вглядываясь в такие же сумерки, и ловили кепками. Когда перекладывали их из кепок в банки, они гудели, вырывались из рук, перебирая лапками и стараясь раскрыть крылья. Ловили до темноты и совсем уж в темноте шли к Юрию Павловичу, который потом замерз по пьянке вместе с отцом в кювете, пить парное молоко с хлебом. Сколько же лет назад это было? Почти десять.
Вальдшнеп промахнул над озером. За ним еще один, трепеща крыльями, хоркая.
— Это утки? — спросила Оля, и ей отозвалось эхо из-за ивняка.
— Вальдшнепы, — сказал я. — Иди картошку есть.
— Готова?
Я выкатил из углей картофелину и стал жонглировать ею. Остудив немного, с хрустом разломил пополам — в лицо пахнуло густым картофельным духом, задымилось рассыпчатое, белоснежное в сумерках картофельное нутро.
— Беги скорей, а то остынет!
— Бегу! — Оля подбежала, по-девчачьи раскидывая ноги в стороны. Присела на корточки и взяла у меня половинку. Боязливо прикоснулась к ней губами. Подула. Разломила еще раз пополам и, растопырив, вытянув губы, чтобы не обжечь откусила.
— Ну как?
— Вкуснятина, — пробормотала Оля с каким-то норвежским акцентом.
— Посоли, вот соль. Лук почистить?
— А как же! И чтобы ни от кого из нас не пахло, одновременно откусим, по команде. Да? Мне кусочек и тебе. Давай — три-четыре!.. Ну вот. Теперь опять можно целоваться. Знаешь, хорошо, что мы выпивку с собой не взяли. Ясно, чисто так в голове.
— Да, — согласился я. — Хотя грамм двести бы сейчас…
— Когда ты с папой выпивал, мама испугалась, уж не алкоголик ли ты. Кто их знает, говорит. Ну рассказывай.
— О чем?
— Как ты меня любишь. И как мы с тобой жить будем.
— Хорошо будем.
Когда мы ушли от озера, была уже ночь. Ночь словно залили разбавленными водой и перемешанными разноцветными чернилами, сквозь которые едва проступали звезды. Впереди над деревушкой висела синевато-темная мгла, а за спиной у нас все еще светилась слабая красноватая заря.
— Как красиво, — оглянувшись, сказала Оля. — Если бы не было так холодно, можно было бы на улице спать.
— Ты замерзла?
— Нет. Ты забыл, что я никогда не мерзну? Но все равно обними меня.
4
Олю Филиппыч положил на кровать у печки, а меня на тюфяке на полу. Сам лег за перегородкой и тут же захрапел — что-то забулькало у него в горле, заскрипело, как проржавевшие дверные петли.
— Везет нам с тобой, — вздохнула Оля и отвернулась к стене.
— Оль, — прошептал я минут через десять. Но она не ответила.
А я опять не спал. Едва прикрою глаза — над самой макушкой, обжигая кожу, свистят трассеры, прицельно работает их "сварка", крупнокалиберный пулемет, а деваться некуда, я зажат между камнями в полной темноте. Кажется, что если и не попадут в меня и не влетит ко мне в гнездо граната, то я сам улечу. Душа вылетит. Если она есть. Но ее нету. Этому нас научили в школе на уроках анатомии. Где ей поместиться? Все человеческие органы известны. Ясно, нету. И бояться нечего. Все отлично. Вот только спать не могу, а так все отлично.
Глядя в потолок, обклеенный газетами, я стал вспоминать прошедшую зиму, которая незаметно промелькнула. С Олиной студенческой компанией мы отмечали Татьянин день, начало каникул — сперва в "Ладье" на Пушкинской, потом у кого-то дома, потом на вокзале, куда вся компания поехала нас с Олей провожать, и на прощанье она целовалась со всеми в губы. У них так принято.
Мы жили с ней на берегу водохранилища, моря, как его там называют, в пансионате. Покупали свежий творог и молоко. Ездили на автобусе в город, ходили по музеям, слушали камерную музыку. Обедали в жарко протопленном охотничьем ресторане, где стояло чучело огромного медведя, по стенам развешаны были старинные ружья, оленьи рога, полыхал камин и подавали подогретое красное сладкое вино с тмином.
В начале февраля дни были ясные, морозные. Позавтракав, мы надевали у крыльца лыжи и по склону, покрытому плотным муаровым настом, спускались. Сперва Оля визжала от страха, падала, но я научил ее поворачивать на ходу и тормозить. По укатанной лыжне пересекали море. Лениво покрикивали, махали синеватыми крыльями галки, мелькала тут и там неспокойная сорока. Попадались заячьи следы и какого-то зверька поменьше. Через мраморный сосновый бор, сквозь солнечный дым в серебряно-заиндевелых ветвях, выходили к монастырю, давно не действующему. Во дворе его похоронен автор слов гимна "Боже, царя храни". Какими судьбами его занесло туда? Были и другие русские могилы. Тяжелые сиреневые снега лежали на крыше полуразвалившейся часовни, на ограде и крестах, и мы молча бродили, взявшись за руки, между заброшенными могилами, думая каждый о своем. Возвращались под вечер, когда сдержанно шумели сосны и зеленело на западе небо. У дверей стряхивали веником снег, отдирали прилипшие к шерстяным носкам льдинки. Приятно было в носках идти за Олей, трогательно уменьшившейся в росте, по холодным гладким поскрипывающим половицам, и потом пить чай, глядя в окно на сумерки и друг на друга, и смотреть по цветному телевизору программу "Время", какой-нибудь фильм, утопая в мягких подушках дивана, тихонько разговаривая в гулком, пахнущем деревом и мебельным лаком фойе, и целоваться, крепко прижавшись друг к другу. Хорошо об этом вспоминать.
И о том, как мы зашли в костел, украшенный еловыми ветками, на вечернюю службу в честь какого-то праздника. Я раньше не бывал в костелах и меня поразила своей красотой дева Мария — поразило то, как она похожа на мою Олю. Но сказать об этом я не решился, потому что она бы рассмеялась.
Глядя в потолок, обклеенный пожелтевшими газетами, я думал о времени. Идет оно по-разному, хотя считается, что всегда одинаково. Почему такими долгими были дни в детстве? Почему урок истории пролетал мгновенно, а алгебра тянулась и тянулась? Мне и прежде мысли о времени не давали покоя. Часы разбирал. Беспрерывно узнавал время по телефону, пытался уличить тетю, не зная, что голос записан на пленку. Подолгу смотрел на огромные напольные часы, словно гипнотизируя стрелки. Но это была игра. А в лазуритовых горах, когда окружили "черные аисты", и особенно потом, в штольне, я понял, что время действительно зависит от нас. Будь я корреспондентом, одним из тех, что прилетали к нам в лагерь, расспрашивали, как и что и почему, и по приказу мы устраивали для них показательный бой, вернее, бойню, где все заранее и известно и расписано по нотам, и они улетали довольные, чтобы рассказывать дома о своих подвигах, — будь я корреспондентом, сказал бы, что ночь длилась целую жизнь. Может, и дольше. Вообще, в армии время шло иначе, чем на гражданке. Растягивалось и сжималось. Перезарядить в бою автомат — дело нескольких секунд. Но кажется, что целый час, а то и вечность, потому что чувствуешь себя не бойцом-десантником, а мишенью в тире.
Я вспоминал, как жил в этой деревушке. Помогали взрослым сено сушить. В лапту играли. Ловили окуней в озере, устраивали морские бои, переплывали его на спор вдоль и поперек, а потом, дрожа, с посиневшими губами, покрытые гусиной кожей, отогревались на солнце. Я часто озеро вспоминал. Возвращались с Павлом с боевой. Воды с хлоркой, пантацидом, оставалось по глотку, а топать до "зеленки", до оазиса, где нас ждали, километров двенадцать. По прямой. А так — вдвое больше. Тащим на себе каждый килограммов по семьдесят. Молчим, потому что слово, даже самое короткое, отбирает энергии столько же, сколько девять метров по песку после боевой, в горных ботинках и с грузом. Шухрат рассчитал. Да и при малейшем движении язык прилипает к шершавому нёбу, как к броне пальцы на морозе. И вот я гляжу на свои разбитые, разбухшие от пота, пыльные ботинки, точно сами по себе шагающие, а вижу озеро, золотистую рябь, слышу кваканье лягушек, и с кончика носа, со лба на губы капает не горячий горький пот, а прозрачные, пахнущие камышом и рыбой холодные капли медленно скатываются, и ничего нет вокруг, и не было боевой, в которой мы потеряли троих, а всегда будет только детство, бесконечное, как небо за облаками, плывущими по озеру.
Но чаще всего я вспоминал деревушку в учебке, где все было впервые — ночные тревоги и ночные отчаяния, когда не хотелось жить и лишь воспоминания спасали, марш-броски, стрельбы, выяснения отношений со стариками и дедами, которые после отбоя приходили из соседнего полка отбирать у нас новые ремни, сапоги, шапки, а взамен нахлобучивали свои старые и заставляли благодарить за это. Здесь в Хлябове, я научился не бояться ударов по лицу, здесь мне выбили первый — молочный еще — зуб и разбили нос, и я одержал первую свою победу. В учебке дед-сержант потребовал, чтобы мы, салаги, отнесли его на простыне в сортир, потому что за семьсот с лишним дней службы он устал ходить туда пешком, и мы понесли, печатая строевой шаг, но перед входом в сортир я отпустил свой угол простыни и дед упал в зловонную лужу — после отбоя сержанты завели меня в каптерку, их было четверо, пьяных, в подкованных сапогах, я понял, что лучше не сопротивляться; но потом никого уже на простынях в сортир у нас не носили.
И здесь однажды утром вломилось в меня, словно самоходка в дувал, первое, самое первое, что не забывается. С Вовкой Куроедовым и его мамой, самой красивой женщиной на свете, тетей Дуней, мы дотемна возили сено и заночевать решили на сеновале неподалеку от пасеки. Перед сном тетя Дуня рассказывала нам грудным убаюкивающим голосом о детстве, о том, как они с подругами лешего на болоте искали, наряжались, на танцы ходили за четырнадцать километров и как смешно ухаживал за ней Вовкин отец, только отслуживший тогда армию… Я уснул, но сразу и проснулся — проспав часов пять; душной ночью тетя Дуня сбросила брезент, которым мы укрывались и, едва забрезжил рассвет, ослепила меня сквозь веки млечная белизна ее полной груди с темно-коричневым, сжавшимся, пупырышками покрытым от утреннего холода соском, которого кончик носа моего и губы почти касались. Сердце провалилось, я не мог его отыскать — да и не искал. Я лежал, затаившись, и весь прежний мир, привычный, ясный, рушился, как в кино Берлин под бомбежкой. Рассветало, и я больше всего, больше смерти боялся наступающего дня, но и мечта у меня в тот момент была одна — чтобы поскорее день наступил; я словно ждал своего собственного рождения. А тетя Дуня, отгоняя комара во сне, уронила мягкую тяжелую кисть мне на затылок, подалась вперед — деваться было некуда. Так я и лежал, не дыша, умирая от удушья, но ничего не желая больше, чем умереть, а уже сочилось сквозь листья солнце, как мед, жужжали на пасеке пчелы и в деревне пели петухи. После ночных марш-бросков в учебке, — не в первые минуты, когда ты не человек, а просто организм, пытающийся отдышаться, погодя — покрывало теплой влажной пеленой то утро, и нежный, словно одуванчик, холодок тайком от самого даже тебя проползал по шву подворотничка, струился меж лопатками, и желчь, и горечь, и обида на весь свет, все привкусы, которые почувствовать на языке и в сердце может лишь тот, кто бегал многокилометровые марш-броски в противогазе с полной боевой, исчезали, их смывал вкус молока и меда.
На войне, конечно, те учебные марш-броски казались школьными уроками физкультуры. На войне, как называли мы боевые операции, я трижды падал и умирал и меня — вместе со своим РД[3] и оружием — тащил на себе Павел, и Володя Шматов тащил, а привыкнув, отвоевав пять войн за два с половиной месяца, я так же вытаскивал молодых, не раненых, но даже сознание терявших от усталости и кислородного голодания, когда пешкодралом, оставив броню внизу, без перекуров карабкались мы на трех опорах с нулевки почти на пять тысяч метров. Но там уж не до воспоминаний.
И еще я вспоминал деревушку, когда над лагерем проплывали по осени треугольники журавлей. Однажды под вечер мы лежали в засаде не спавши, не жравши, моросил холодным дождь, чернели по бокам и внизу скалы — и вдруг летят. Нас было двенадцать, не считая взводного, и все задрали головы, как по команде. Смотрели молча. Каждый уверен был, что журавли видели недавно крышу его дома, будь то в деревне или в городе, на Брянщине или за Уралом. С размашистым посвистом летели, с надтреснутыми, усталыми кликами, от которых сжимало горло. И тут ударил из пулемета Миша Хитяев — началось. Я успел заметить сквозь дым в мгновенно сгустившихся сумерках, что клин сразу сломался, его разметало по небу, но вот же глупые птицы — вместо того чтобы удирать в Африку или куда они там направлялись, возвращаются и, выстроившись в клин, как на строевых занятиях, вновь проплывают над нами, ведущими бой, словно желая увести нас за собой от смерти.
Я подумал об Оле. О том, как у нее шло время, пока я был там.
Позапрошлой осенью она написала мне с Черного моря — дождь, шторм, скучно и грустно. Письмо лежало у меня во внутреннем кармане хэбэ пока не истерлось, а Миша Хитяев, выросший на море, всю дорогу травил байки о пляжных девочках с шоколадным загаром и как там, у него на Мысе, все легко и просто: "приглашаешь в боулинг, или на корт, или на водном велосипеде прокатиться…". Однажды после отбоя я помахался с ним, никто из ребят не понял — из-за чего.
Думая об Оле, я заплакал и не заметил, как рассвело. С утра шел дождь, мы сидели в размытых глинистых окопах, ждали наступления. Вторые сутки ни согреться, ни просушиться. Представлялась эта страна иной — знойной, выжженно-белой, с оливками и кипарисами на фоне черного звездного неба, с тавернами, холодным, из погреба вином, гитарными переборами, блеском черных глаз и малиновых губ и взмахом тонких смуглых сильных нежных рук над головой, изгибом стана, треском кастаньет… Почему мне вспомнилась Испания? И какое она имеет ко мне отношение? Устал я. Выспаться бы. От Севильи до Гренады, от Гренады до Кандагара… от Джелалабада до Гвадалахары…
Должно быть, я все-таки немного поспал, а проснулся от чувства, будто на меня кто-то смотрит.
На меня смотрел сверху Сталин. Глаза с морщинками и усы у него были добрые. Аншлаг первой полосы "Правды" гласил, что вождю и учителю исполнилось семьдесят лет. Дальше шли поздравления. Сорок девятый. Вскоре расстреляли деда. Он воевал в Испании и был ранен. Воевал на финской и отморозил пальцы на ногах. Он был врачом, хирургом, работал с Бурденко во время войны. Делал операции на мозге. Сотни человек спас от смерти. И его расстреляли. Неизвестно где.
Я много думал о деде. Читая книги о войне в Испании, воображал себя мчащимся на танке или на самолете, или шагающим по пыльной дороге в Барселону, которая почему-то представлялась мне прекрасной женщиной, и я завоевывал ее, в мальчишеских мечтах каких переплетений только нет, я мечтал, чтобы у меня в жизни тоже была своя Испания, как у деда, но я стал бы знаменитым на весь мир героем, пролившим кровь за справедливость, за свободу чужого народа, ничто не могло соперничать с этой моей великой и тайной мечтой, и когда мы с Павлом Владычиным сидели после ужина в курилке, в первый или во второй вечер, а вокруг чернели горы, кружил дежурный вертолет, выпуская красные огоньки, доносились пулеметные очереди, и пахло чем-то пряным, горьковатым, и слышалась неподалеку чужая речь, казалось, что не афганские звезды надо мною, а звезды Испании и испанские цикады стрекочут, и сердце колотилось от счастья, все бурлило во мне, я не мог дождаться рассвета, чтобы идти в бой, не зная толком, против кого, да и мало меня это тогда заботило.
И вот я о чем часто думал: почему от меня скрывали то, что случилось с дедом? Я спрашивал отца, когда мы встречались, спрашивал маму, она отвечала, но все время одно и то же, и ясно было, что она не хочет, чтобы я знал даже половину, даже четверть правды. Я спрашивал учителей на уроках истории и литературы о том, что происходило в Испании. Они отвечали абзацами из учебника; спрашивал, почему уничтожили перед самой войной лучших полководцев, почему погибло у нас больше двадцати миллионов, а у немцев, воевавших чуть ли не со всем миром, — восемь, почему проигравшая в войне Германия процветает, судя даже по телепередачам, почему тех, кто был в плену и в окружении, после войны пересажали, расстреляли, что это был за процесс врачей в конце сороковых — начале пятидесятых годов — учителя вовсе не отвечали, делали вид, что не слышат, хотя я громко спрашивал, и однажды завучу пожаловались, а завуч так объяснила: отсутствие отцовского воспитания сказывается, только безотцовщина может задавать столь безапелляционные вопросы; больше я безапелляционных и вообще никаких вопросов не задавал и к любимому когда-то предмету — истории — постепенно интерес утратил.
А на службе — во многом благодаря Павлу Владычину — вновь стал задаваться вопросами. И главный из них: за что расстреляли деда, прошедшего три войны? Поверить в то, что он враг народа, шпион или убийца в белом халате, по-моему, никто не мог бы. За что? За что расстреляли и уничтожили в лагерях сотни тысяч, миллионы людей? "За то, что они верили", — сказал как-то Павел. Я этого понять не мог. И до сих пор не могу. И еще Павел сказал — уже на гражданке, недавно: "Революция обычно пожирает своих детей. Это еще Анатоль Фраис заметил. А мы, считай, правнуки. И все же… Ты знаешь, что самым страшным будет для матерей погибших наших ребят? Не закрытые цинковые гробы, нет. То, что выяснится рано или поздно — ошибочка вышла с войной. Напрасная она была".
Оля во сне чмокнула губами и откинула руку. За перегородкой было так тихо, что я забеспокоился, не скончался ли Филиппыч? Встал, заглянул к нему. Он лежал лицом вверх на высоких подушках с неплотно закрытыми глазами. Торчала в потолок клочковатая бородка. Морщинистое бескровное лицо его было бледно-зеленым. Я наклонился и прежде, чем услышал слабое дыхание Филиппыча, успел подумать о том, как не похожа смерть старика на смерть молодого человека.
Подошел на цыпочках к Оле. Девочка моя родная, прошептал, борясь с желанием поцеловать приоткрытые сухие губы. Любимая моя. Не верю. Не верю никому.
5
Было уже совсем светло, когда я спустился к озеру, неправдоподобно гладкому. Верхушки елей бронзовели от зари, а стволы их внизу были скрыты туманом, словно подрублены. Поблескивали на берегу бурые лужицы вешней воды. Я подошел к дубу по бывшему дну, достать которого удавалось не всем — так было глубоко. Испокон века с этого дуба прыгали хлябовские мальчишки. Полез однажды и я. Хорошо помню, как подтягивался, карабкался с ветки на ветку, потому что не хватало роста, цеплялся ногами, как обезьяна, чуть ли не зубами, и все-таки залез. Когда глядел на дуб снизу, казалось, что ничего страшного, другие прыгают — и я. Пока лез, вниз старался не смотреть. И вдруг — лишь добрался до заветного сука, глянул — свело все внутри, перехватило дыхание, потому что не озеро лежало далеко внизу, а лужа, хоть и большая. Я хотел тут же спуститься и сделать вид, будто ничего не было, но уже трещали внизу ветки и шуршали листья, слышались голоса. Тогда я быстро, рискуя сорваться, забрался на самый верх и затаился. Парни — их было четверо и все намного старше меня — прыгать не торопились. Белокожие, мускулистые, в длинных черных сатиновых трусах, с неумело выколотой татуировкой на плечах и руках, по-деревенски жилистых, они сели на сук и закурили. Заговорили о женщинах, о рыбалке, о мотоциклах. Потом об армии: салаги, сачкодавы, присяга, дембельский аккорд… А я сидел, почти висел сверху, между тонкими ветвями, готовыми вот-вот обломиться, и завидовал. Докурив, парни стали прыгать. Один сиганул сразу, не раздумывая. Другой — сделав на суку нечто вроде разминки. Третий — тоже помедлив, поглядев вниз, — ринулся в бездну, растопырив белые кривые ноги, с громким отчаянным матом. Как они входили в воду, я не видел, но слышал всплески и радостные их голоса, смех, счастливую ругань. Поспорив о том, кто лучше вошел в воду, у кого было меньше брызг, парни оделись, причесались и пошли на танцы. Я остался один над озером. Подумал об армии, которая, несмотря на то, что рассказывали отслужившие, в глубине моего воображения была чем-то совсем неопределенным, но чаще связанным то ли с Испанией, где воевал дед, то ли с неведомыми далекими и прекрасными городами, башнями, на которые я зачем-то водружал знамена… Я вспомнил плакат, висевший у нас в школе: "В жизни всегда есть место подвигу!" Где оно, это место? И способен ли я на подвиг? Еще совсем недавно, полчаса назад, ничего не было легче, чем спуститься с дуба и уйти домой. Но теперь я сделать этого не мог. Что-то во мне включилось, пока я висел на ветках и завидовал парням. Теперь я уже должен был прыгнуть, хотя никого вокруг не было и никто бы мой полет не увидел. Как и мой позор. Но я обязан был себя победить. Теперь — или никогда. Так я решил.
И я пошел по суку, как на плаху, к разветвлению, с которого прыгали парни. Встал там в полный рост, напряг мускулы, набрал полную грудь воздуха. Солнце садилось, выхватывая напоследок то несколько еловых верхушек, то красноватые стволы, то драночные крыши деревушки, то край озера. Потом разлились сумерки. Все более злобно, презрительно пищали и кусались, впивались жальцами в кожу, путались в волосах комары. Становилось холодно. А я все стоял и все больше себя ненавидел. Я смотрел на лес, на крышу дома, в котором меня ждало парное молоко, хлеб с вареньем из голубики и вот-вот должно было начаться по телику кино про войну. Я смотрел вниз, на темнеющую воду. Она то приближалась, то вдруг неимоверно отдалялась и у меня начинала кружиться голова. Я закрыл глаза и считал до десяти. До ста. Мне было страшно, я наконец признался себе в этом и теперь пытался понять, что это такое — страх. Чувство, которое спит или дремлет где-то внутри, просыпается, точно большая дикая кошка, то серая с полосами, то огненно-рыжая с белыми подпалинами, а то черная, и нет ничего на свете трудней, чем обмануть ее и снова усыпить или вообще не обращать внимания на то, как она скребется и мяучит, и вопит мерзким голосом. Много раз я пытался задушить ее, хватал за горло, сдавливал изо всех сил — но она выскальзывала и орала еще громче, еще противней. И за хвост я ее ловил, но она, словно ящерица, оставляла хвост у меня в руках. Я смотрел вниз, пытаясь выманить кошку до конца, и когда она на этот раз темно-болотного цвета, появилась вся, вместе с длинным хвостом, когда заглянула желтыми глазами мне в глаза и коснулась лапами моего лица, не успев еще выпустить когти, я прыгнул, отринув кошку, в темноту — полетел сперва ногами вниз, но в воздухе меня перевернуло на бок, потом вперед, и я ударился о воду грудью и лицом. Выплыв на берег, заметил, что из носа льет кровь. Грудь и лоб пылали, перед глазами не рассеивался туман, голова гудела и летели вверх горячие стрелы. Но я был счастлив. Я понял, что такое страх. Я победил.
Прошло шесть лет и кошка снова заглянула мне в глаза, а глаза у нее на этот раз были кровавые. Я видел, что Павла зацепило, когда он, крикнув "делай, как я!", одним броском проскочил ущелье. Виду он не подал. Из-за камня выругался — весело, как только он один умел в такие минуты. Крикнул, чтобы я не тянул кота, и что-то еще крикнул, и дал ответную очередь, прикрывая меня. Я подумал: откуда он знает про кошек? Хотя нет, подумал я об этом позже, конечно. Когда проскочил ущелье и в темноте мы с Павлом, раненным в ногу, спустились к броне. А там, в ущелье, под пулями, каждая из которых могла просверлить мне в голове аккуратненькую дырочку диаметром пять и сорок пять сотых миллиметра или разнести череп и вместе с ним все мои воспоминания, всю девятнадцатилетнюю жизнь мою в клочья, я ни о чем не думал. Но я помню, что возникло у меня перед глазами за мгновенье до броска — тот самый дуб, с которого я прыгнул в детстве.
Я подошел к дубу. От основания до воды было теперь шагов тридцать. Оглядевшись, я быстро забрался наверх. Сел на ветку верхом. И вдруг, вдохнув всей грудью с такой силой, что захолонуло что-то внутри, я заулыбался, как дурачок, глядя на розовеющее небо, на облака, на деревню, на высохшее болото, где собирали когда-то клюкву. Мне бы и еще из детства что-нибудь вспомнить или подумать, как дальше буду жить, с Олей, ведь все теперь иначе. О жизни подумать. Но совсем пусто было в голове. Пусто и радостно. И теряющие смысл, сливающиеся, будто голоса весенних птиц, слова кружились: как-хо-ро-шо-как-здо-ро-во-что-жив-жив-жив!..
Вот так же, когда только прилетел в Москву и еще не получил из багажа свой дембельский чемодан, я сидел возле аэропорта на скамейке, умывался родным русским снегом и улыбался. А прохожие смотрели на меня и думали: пьян.
Покраснела, заискрилась от солнца и задымилась трава и я вернулся в деревню. Где-то мычала корова. Сидя на завалинке, Филиппыч плел корзину.
— Доброе утро!
— Доброе, доброе, — прищурившись, взглянув на небо, закивал старик. — Как спалось?
— Спасибо, отлично.
— На озере были? — он почему-то перешел на "вы".
— Да, прогулялся.
— Обмельчало наше озеро.
— Да.
— А супружница ваша дремлет ишо. Видная из себя женщина. Яркая. Как с обложки. Детишки-то имеются?
— Нет пока.
— А что?
— Не успели еще. Я не понял вчера, все из деревни уехали? Никого не осталось?
— Как не остаться — осталось. Вот я, к примеру.
— Простите.
— Сантанеевы остались.
— А говорили, что уехали.
— Так то ж молодые. А старухи остались — сестры. Чернуха остался.
— Дед? Ему лет сто уже, да?
— Не, ста не будет, не. Годов девяносто, не боле.
— А Куроедовы?
— Таких что-то не припомню.
— Дядя Петя, тетя Дуня…
— Курощуповы? Они давно уж: Петю бульдозером пополам.
— Как?
— С получки возращался, уснул на дороге, его и… Дунька пила крепко, пока не пропала.
— Как пропала?
— Пропала, да и все тут. Может, подалась куда. Это косца Вовку, сынка их, в третий или четвертый раз за разбой приговорили.
— А Юрка Ершов?
— Рыжий такой, конопатый? Лешки Ершова сын?
— Да.
— Его при исполнении этого… тырцинанального долгу.
— В ДРА?
— А? Гга, вдыра, вдыра. Вганистане. Привезли по весне гроб цинковый. С окошечком. Цельный день от станции везли, дороги-то все разжижило. Окошечко махонькое, что там сквозь него видать? Ну схоронили, как положено. Поминки. А месяц спустя другой цинковый привозят. Солидный такой из себя майор сопровождает: ошиблись, мол. Попутали, значит.
— Бывает.
— А вы откель знаете? — навел на меня поверх очков взгляд Филиппыч.
— Рассказывали.
— Не должно такого быть. В нашу воину такого не бывало.
— Так уж и не бывало.
— Не бывало! Порядок был. Это теперича всем на все накласть. Который год рапорта подаю в сельсовет, чтобы срочно меры принимали от мышей и особливо от крыс! В том году приезжали со станции, наливай, говорят, папаш, по стакану монопольной. А где взять-то ее, монопольную? Ну, принес им от сестер продукт, литровую самого качественного. Закусили, пофукали. Все в ажуре, говорят, папаш. И у Чернухи пофукали. И у сестер. Мы им красненькую. А осенью от ихнего фуканья еще больше крыс стало. И все как на подбор — с кошку. Я уж и так с ними, и этак — пустое. Может, вы там у себя в столице на центральной станции скажете.
— Скажу, — пообещал я и ушел в избу, потому что мышино-крысиная тема меня не очень занимала.
Оля не спала — читала заголовки газет на потолке:
— "Любимый отец и великий учитель", "Четвертый том сочинений И. В. Сталина на таджикском языке", "Солнце нашей жизни", "Трудящиеся всего мира видят в великом Сталине верного и стойкого поборника мира и защитника жизненных интересов народов всех стран. Великий Сталин зажег в сердцах всех простых людей земного шара непоколебимую веру в правое дело за мир во всем мире, за национальную независимость народов, за дружбу между народами".
Читала все это Оля серьезно, даже торжественно. И вдруг рассмеялась.
— Ты чего? — спросил я, присев на кровать и поцеловав ее в сухие теплые губы.
— Так, ничего. Вон там, в углу, видишь? "В Макеевке оберегают зажимщиков критики". Ты давно встал?
— Не очень.
— Солнце, да?
— Да.
— Здорово. Я голодная. Что мы будем есть на завтрак?
— Что-нибудь сообразим.
— Ну тогда иди соображай, ладно? А я пока оденусь. Что ты сидишь? Поцелуй меня и иди.
Я вышел. Оказалось, что Филиппыч уже позаботился. На столе перед домом нас ждала трехлитровая банка молока, свежий творог в миске, дюжина отборных крупных яиц, буханка хлеба. Оля умылась, и мы сели за стол. Небо было ярко-голубое, без облачка, и на его фоне хорошо видно было, как за ночь выпростались, расправились листки сирени. Солнце поднялось уже высоко, трава подсохла, блестели, переливались капли влаги на банке. В поднебесье носились стрижи или жаворонки. Не переводя дух, я выпил больше литра молока, вздохнул и промолвил, вытирая рукавом подбородок:
— Вот о чем я мечтал.
— А всю банку сможешь? — улыбнулась Оля.
— Смогу.
Прощаясь с Филиппычем, я хотел дать ему деньги, он стал отказываться — "к нам, старикам, редко кто заглядывает, а тут земляк", — но я сунул ему в карман ветхой телогрейки трешку и он долго благодарил.
— Так вы насчет мышей и особливо крыс не забудьте, — напомнил старик. — А то жизни от них никакой.
6
В город мы приехали под вечер восьмого мая.
Всюду краснели флаги и плакаты и звучала песня "День Победы".
В гостинице неподалеку от вокзала Семен Васильевич через знакомых забронировал для нас двухместный номер. За стойкой никого не было. Администраторша появилась, вытирая салфеткой пальцы, минут через двадцать. Не сразу она нашла нашу бронь, и мне почему-то казалось, что она не найдет ее никогда. Заполнив анкеты, заплатив, мы поднялись на лифте на третий этаж. Прошли по длинному коридору, застеленному дорожкой. Взяли ключ у горничной. Номер был большой, с окном на площадь, телефоном и телевизором. Оля сразу включила телевизор, но работал он плохо, его нужно было настраивать.
— Вечером посмотрю, — сказал я, сзади обнимая ее, наклонившуюся над телевизором, но она, изогнувшись, выскользнула, отступила к стене, порхая поднятыми пальцами.
— Во-первых, дверь открыта и может войти горничная, — сказала она. — А во-вторых, не теперь, потом. Когда стемнеет. Я сейчас быстренько приму душ и мы погуляем, ладно? И поужинаем в ресторане.
Она открыла чемодан и долго выставляла на тумбочку у кровати флакончики разной величины, формы, цвета, с круглыми, плоскими и тоненькими многогранными крышечками. Потом, выкурив сигарету, стала развешивать в шкафу платья, юбки, джинсы, кофточки.
— Сколько ты с собой набрала!
— А как же? Ведь у нас с тобой свадебное путешествие! Не смотри, я разденусь. А впрочем, — она сняла через голову платье, — если хочешь, можешь не отворачиваться. Ты ведь мой муж, а родного мужа глупо стесняться.
— Нет ничего глупее, — согласился я, чувствуя, что краснею, и отвернулся к окну. Спросил: — А бывают и неродные мужья?
— Сколько угодно. Красиво, когда женщина в чулках, правда? У меня только одна пара, а колготок целая куча. Ты мне подаришь красивые чулки? Почему ты отвернулся? Тебе неприятно на меня смотреть?
— Дурочка ты.
— Из переулочка. Расстегни.
Я подошел, расстегнул, она посмотрела на меня через плечо, почти в упор. Я сжал ее голову ладонями, приблизил лицо к лицу так, что носы наши сплющились, глаза стали огромными и черными, и зовущими, и я не выдержал — резко развернул, привлек к себе всю, обнаженную, упругую, теплую, стал целовать, шептать что-то умоляющее, безумное, и поднял ее на руки, понес, целуя, но с криком "псих ненормальный!" она яростно вырвалась, оцарапав мне щеку до крови, и убежала в ванную.
Я отошел к окну. Почудилось, что машины, дома, вся площадь залита кровью и в крови — лицо той девочки, распахнутые, точно живые, огромные ее глаза. Мы ворвались в кишлак, откуда стреляли эрэсами, подбили две наши пехотные машины, ночью. Ни мужчин, ни стариков, ни мальчишек не было, успели уйти. Мы прочесывали кишлак в поисках оружия. Ночью на боевых операциях мы подавали сигналы, предупреждая друг о друге свистками. Мелькнула тень — свисток — свой; другая тень — я припал спиной к дувалу, врос в него, свистка не было вечность, секунды две или даже три и, чтобы опередить, в падении я полоснул короткой очередью — и услышал детский вскрик. Подбежал, осветил фонариком. Это была девочка лет одиннадцати, длинные, в ее рост, волнистые волосы разметаны были по земле. Первая мысль, помню: не стриглась ни разу с рождения. Рядом лежал кувшин, из него что-то тихонько струилось. Я поднял кувшин, напился и, услышав слева в темноте несколько свистков, пошел дальше на проческу. О девочке я не думал до тех пор, пока незадолго до рассвета, выставив посты, мы не остановились на привал в доме на отшибе; я сразу лег и провалился в сон, но проснулся — ее черные, опушенные густющими ресницами глаза смотрели на меня и будто улыбались, и сколько я ни ворочался с боку на бок, никуда от этих глаз не мог спрятаться. На улице уже светало. Небо было разрисовано малиново-оранжевыми полосами, предсказывающими пекло. Она лежала там, где я ее оставил, и казалась спящей — нежно розовели в отблесках восхода щеки, покрытые золотистым пушком, тоненькие прозрачные пальчики левой руки были плотно сжаты в лодочку и словно намеревались зачерпнуть пригоршню мокрого от крови песка и слепить кулич или что-нибудь такое, что лепят дети в песочницах. Я отцепил саперную лопатку, начал копать. За спиной кто-то длинно заковыристо выматерился. "Ты что, в натуре охренел? — Володя Шматов хлопнул себя по ляжкам. — Выступаем, за тобой послали, а ты никак могильщиком заделался?" — "Помоги, Володя, вдвоем мы быстро…" — "Ты ее?" "Нет", — соврал я. "Мы тут как на ладони простреливаемся, пускай сами закапывают!" — "Старухи? Ты знаешь, что с ней в такую жару будет к вечеру?" — "Ну, а тебе-то что! Черпак ты, черпак, войны не понял! Пошли быстро!" — "Пока не закопаю, не уйду", — сказал я и стал копать, хотя совсем уже было светло и бегал у меня по спине, повернутой к горам, от шеи к пояснице шершавый холодок. Шматов стоял, глядел на меня, как на сумасшедшего, лишь глухо матерясь. И вдруг завопил истошно, что мне еще пахать, как медному котлу, а ему девяносто два дня до приказа и он не хочет, чтобы ему башку здесь расколошматили из-за какой-то грязной сучки, что, мол, кончит меня к такой-то матери — автомат вскинул, передернул, — что козел я и раздолб, если не понимаю, что все они враги заклятые, были, есть и будут, пусть и не сама она мину противопехотную поставила бы, такую, на которой его землячок Валера Пискунов неделю назад подорвался, так сыновей бы нарожала целый взвод и они стреляли бы по нашим с гор, из-за дувалов, резали бы, жгли, пытали, и столько бы еще ребят погибло, а я — хоронить! — он подошел и треснул мне кулаком в нос, я его — головой в живот, и тут взметнулись фонтанчики, заскакали по земле камешки от пуль. Меня спасло тело мною убитой: одна пуля застряла у нее в груди, другая — в бедре. А она все смотрела.
Почему я об этом вспомнил? Неужели теперь и Оля будет с этим сопряжена?
Надо заставить себя забыть. Все забыть. Вспоминать только детство, школу и то, что началось двенадцатого декабря прошлого года, когда я умывался снегом в аэропорту.
В ванной зашумела вода. Прислушиваясь к всплескам, к песенке про собаку и дворника, которую тихонько напевала Оля, я смотрел на площадь. И снова, в который уже раз после возвращения, мне показалось странным, что едут машины, троллейбусы, спешат куда-то мужчины и женщины, модно одетые девушки и парни, вон идет по той стороне в обнимку парочка, она в мини-юбке, в разноцветных сапогах, с всклокоченными фиолетовыми волосами, он — в цепях, в железных собачьих ошейниках, — а там в это время, может быть, в эту самую секунду такие же, как он, ребята…
Но забыть, забыть. О чем-нибудь другом думать. Я никогда не жил в настоящей гостинице. Мы с мамой ездили в другие города, но останавливались у родственников или у знакомых. Однажды в общежитии. И в доме колхозника, где шесть человек в комнате. А здесь и всю жизнь можно было бы прожить. Картина Саврасова "Грачи прилетели". Тумбочки лакированные. Люстра. Графин. Телевизор опять-таки, который надо будет настроить. Хотел сам забронировать номер, позвонил еще в апреле. Но оказалось, что это невозможно. Даже Олиному отцу удалось с большим трудом. Опять Семен Васильевич. "Что бы мы без папы делали?" — сказала Оля, узнав, что и билеты на поезд в свадебное путешествие нам достал ее папа через своего давнишнего знакомого полковника, ведающего воинскими кассами. А Семен Васильевич, похлопав меня по плечу, сказал: "Эх ты, пехота". Я ответил, что служил не в пехоте. Но когда он начинает говорить, то не слышит никого, а потом, смачно зевнув, лязгнув стальными коронками во рту, уходит, ложится спать. И он сказал, приготовившись к зевку: "Все вы — пехота".
За дверью ванной стало тихо.
— Черт побери! — ругалась Оля, вращая краны. — Ну я так и знала, ну просто уверена была, что вода кончится. Мне везет. Тихий ужас прямо! Слава богу, хоть мыло успела смыть.
Она вышла в длинном махровом халате, с мокрыми взъерошенными волосами. Улыбнулась.
— Почему ты мне не говоришь с легким паром?
— С легким паром.
— Чертов водопровод. Чуть-чуть воды не хватило для полного кайфа. Что ты стоишь как истукан?
— А что мне делать?
— Во-первых, не грубить. А во-вторых, быстренько обнять свою девочку и поцеловать. И сказать, что любишь. Учить тебя всему…
— Крепко обнять? Чтобы мы с тобой стали одним?
— Конечно. Только с ума не сходи.
Потом, когда высушила феном волосы и накрасилась, она сказала:
— Глупый ты. Как ты не понимаешь, что я хочу, чтобы у нас с тобой все красиво было. А не так.
Она надела клетчатую красно-черную юбку, кожаный пиджак и туфли на высоких каблуках.
— Возьми плащ, замерзнешь, — сказал я.
— Ты что, забыл, что скоро лето?
Мы вышли. В Москве в это время совсем уж темно, а здесь ночь все не наступала. Бледно-зеленое в коричневатых разводах небо за темными резными силуэтами старых домов было похоже на театральный задник.
Оля взяла меня под руку, и мы чинно двинулись от площади по проспекту мимо тускло освещенных витрин. Народу было много, поблескивали в толпе ордена и медали фронтовиков, приехавших в город на День Победы. Завтра с утра будут митинги, встречи, слезы, цветы, песни, а сегодня фронтовики не спеша дефилировали по проспекту и улицам, асфальт которых остался неисковерканным гусеницами "тигров" и "пантер", хотя были немцы совсем близко.
— Папу в нескольких километрах от города ранило, — сказала Оля. — Хорошо, что мы сюда приехали, правда? Я бы ни за что не пошла под фатой к вечному огню или еще куда-нибудь. А вот так приехать в город… Ты не обижайся на папу, когда он тебя учит. Он ведь жизнь прожил. И какую.
— Я и не думал обижаться.
— Если бы не они… — сказала Оля, глядя на фронтовиков. — Представляешь, они совсем молодыми тогда были. Как мы. Или даже еще моложе. И вот теперь впервые, может быть, с тех пор встречаются. Представляешь?
— Представляю, — ответил я, хотя плохо себе это представлял и однажды сказал Оле, но она назвала меня циником. А меня действительно удивляло, что так много народу знало друг друга на войне. Я вот, например, не знал почти никого даже из соседнего ДШБ — десантно-штурмового батальона, в котором служил раньше Павел. И нас, этот вот самый наш батальон, они знали плохо, и однажды их борзой прапор, едва ли не вплотную подойдя, открыл огонь из пулемета с брони по двум нашим ребятишкам, спускавшимся с сопки, — за "духов" принял.
— Я так люблю, когда папа рассказывает про войну, — говорила Оля. — Он иногда про одно и то же по-разному рассказывает, но ведь столько лет прошло. Страшно. Мне иногда снится война: родители потеряли меня, я куда-то бегу, бегу, а вокруг бомбы взрываются… Знаешь, о чем я думаю, когда просыпаюсь после таких снов? Я бога или еще кого-то там благодарю за то, что у нашего поколения войны не было. Это страшно. Мы даже представить себе не можем, как это страшно. Смотри, — Оля указала подбородком на низенькую коренастую женщину, могучая грудь которой, увешанная орденами и медалями, переливалась в бликах фонарей.
— Да, — сказал я.
— А почему ты свой орден никогда не надеваешь? — спросила Оля. — Ты его взял с собой?
— Взял, — сказал я.
— А когда мы поедем к твоему Онегину?
— К Игорю Ленскому? Съездим.
7
Мы вышли на набережную. Немного постояли и пошли вдоль чугунной ограды. Вода была темно-бурой, в ней отражались сморщенные, точно подушечки пальцев от стирки, огни. Я взял Олю за руку, а она вдруг рассмеялась.
— Ты что?
— Ничего. Я просто вспомнила, как весной в девятом классе мы с тобой вот так же вдоль Москва-реки бродили. Помнишь? И ты боялся взять меня за руку. Это в тот вечер было, когда тебя комсоргом избрали. Ты такой важный был на собрании, такой смешной.
— А потом мы сидели на скамейке, и я все-таки взял тебя за руку.
— Нет, я первая. Туча над Ленинскими горами была похожа на медведя, и я сказала тебе об этом, взяв за руку. А ты сделал вид, что не заметил. И сказал, что не на медведя похожа туча, а на слона.
— Она и была похожа на слона. С хоботом.
— Не было никакого хобота.
— Был.
— Не было. Прекрати со мной спорить!
— Почему?
— Потому что я женщина, ты должен мне уступать.
— Ладно. Если женщина просит…
— Прекрати пошлить.
— Песня такая есть. В армии ее любят.
На большой скорости пронесся "ЗИЛ", чуть не обдав нас водой из лужи.
— Идиот, — погрозила ему кулаком Оля. — Пьяный, наверное. А что бы ты сделал, если бы он меня сейчас сбил? — спросила она. И добавила с ударением: — Насмерть.
Я не ответил.
— Слушай, — сказала Оля. — Я тебя все хотела спросить… Раньше, конечно, надо было, но лучше поздно, чем никогда. Там у тебя был кто-нибудь?
— Ты об этом у меня уже раз двадцать спрашивала.
— Да? Не помню. Ну так был?
— Где?
— Ну, в госпитале, скажем. Ты ведь больше месяца там пролежал. И такие письма мне писал оттуда хорошие. А один парень…
— Какой?
— Неважно, ты его не знаешь.
— Какой парень?
— Боже мой, ну приятель Андрюшки Воронина, на одном курсе учатся. Они, кстати, через два месяца лейтенантами запаса уже будут.
— А…
— Что — а? — посмотрела на меня Оля. — Что значит это твое "а" идиотское? Ты ревнуешь? Так и скажи, что ты ревнуешь и веришь всему тому, что про меня наговорили тебе перед свадьбой.
— Я не верю, — сказал я.
— Многозначительные твои междометия мне надоели, понятно?
— Понятно. И что же этот парень?
— Он тоже служил в армии и у него был роман с медсестрой. Он рассказывал, как бегал к ней в самоволку по ночам. А там у вас, говорят, любая за двадцать чеков…
— Он был там?
— Нет, он под Москвой служил.
— А что он еще говорит?
— Что все оттуда фирменное тряпье привозят — куртки, пуловеры…
— Я же привез тебе свитер.
— Он ведь велик мне, его папа носит. А кроме свитера…
— Ничего, — сказал я.
— Но это неважно. Так как насчет медсестричек? Как ее звали?
— У меня не было романа с медсестрой. И вообще никаких романов не было.
— Ах, да, — улыбнулась Оля. — Я и забыла. Ты же страхолюд такой на фотографиях. Слава богу, я тебя в жизни лысым не видела. Близко бы не подошла.
— А Андрея Воронина все ж таки заставили подстричься на военной кафедре, — сказал я вдруг зло, с армейской интонацией, так, как разговаривают между собой деды в курилке, обсуждая ершистую салагу. — Классная была шевелюра.
Оля посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. Пошла по набережной.
— Оль.
Она молчала. Я взял ее за руку, думая, что она вырвет свою руку, но она не вырвала, и от этого почему-то защемило, тяжко и темно стало на душе. То же было в госпитале, когда я лежал без сна и думал о ней: где она, с кем она?
Хорошенько выспавшись — для этого нужны были как минимум две подряд ночи от и до, — помывшись в бане, я порой не знал после отбоя, куда деваться, выть готов был, как шакал, зубами стискивал что попадалось, однажды бушлат, который был вместо подушки, насквозь прокусил, но тетя Дуня все спала на сеновале, не подозревая ни о чем. И снилась она мне часто. А Оля не снилась. Лишь однажды, кажется, за все два года, за семьсот тридцать восемь ночей она пришла ко мне, в коротеньком летнем платьице в горошек, которого я никогда на ней не видел, а на голове у нее был венок из васильков и ромашек. Я что-то похожее в кино видел. Она опустилась на корточки, наклонилась надо мной, я хотел поднять руку, чтобы дотронуться, но рука была слишком тяжела или ее вообще не было, как у Резо, моего соседа по койке справа, уверявшего медсестер, что советский больной — самый здоровый больной в мире. Оля улыбалась, лицо ее было освещено солнцем, скользили тени от деревьев, гладили ее щеку, ее губы, ее шею. Ясные спокойные глаза мне говорили что-то нежное, и я отвечал, долго мы вели этот безмолвный разговор и понимали друг друга, как никто, никогда, а едва губы ее разомкнулись — я проснулся. Это была не Оля. И не тетя Дуня. Наклонилась надо мной рано утром врачиха, которая заходила к нам в палату накануне, и у Резо кончик носа побелел, Шухрат застонал, у всех нас дух перехватило, как только мы ее увидели, потому что была она той самой, фотографию которой мечтает наклеить себе в дембельский альбом и обвести разноцветными фломастерами любой солдат, русский, белорус, грузин, латыш, — и независимо от того, кому сколько осталось до дембеля. Она была величественной и неприступной, как английская королева. Говорили, что жена генерала. Звали ее Анна Алексеевна. Однажды после отбоя я вышел из палаты, доковылял до туалета, покурил. На обратном пути увидел свет в ординаторской, услышал голоса — майора, командира хирургического отделения, и ее глубокий, низкий, ироничный голос: "ты сам знаешь, а ля герр ком а ля герр, на войне как на войне, и ничего бесплатно не дается… Что? Повтори. Ха! За такую женщину? А ты меня случайно не спутал с одной из своих медсестер? Ну хорошо, хорошо. Запри дверь. И свет потуши…" Я не спал в ту ночь. Под храп Резо, протяжный и печальный, как грузинская песня, я глядел в потолок палаты. И целый год потом слышал ее голос за дверью. А майору на утреннем обходе на вопрос, как я себя чувствую, так ответил, что через десять минут был выписан из медсанбата и следующей же ночью на боевой "зеленке" едва не заглотил пулю — она пролетела в сантиметре от верхней губы; но я даже пожалел, что не заглотил.
— А все-таки ты в армии поглупел, — сказала Оля в темном глухом переулке, выходящем на проспект. — Надоело. Пошли в гостиницу.
— О чем ты думаешь? — спросил я, помолчав.
— Ни о чем.
— Так не бывает.
— Бывает, — вздохнула она. — Я есть хочу.
Ресторан в гостинице на наше счастье был открыт.
— Что вы нам посоветуете? — спросила Оля массивного сочногубого официанта.
— Посоветую на диету сесть, — сострил тот. — Не потому, что вам это необходимо, девушка, а потому, что знаю нашу кухню.
— А все-таки? — сказал я.
Официант пожал круглыми плечами.
— Берите, что хотите, — сказал. — Все в меню указано. И побыстрей, а то кухня закроется.
— Принесите, пожалуйста, порцию икры… — начала Оля, но сочногубый ответил:
— Икры нет.
— Два салата из огурцов…
— Нет огурцов. Из салатов — только "фирменный".
— Хорошо, — согласилась Оля. — Ромштекс возьмем или бифштекс?
— Ни того, ни другого. Гуляш. Если остался. И рыба.
— Какая еще рыба? — сказал я.
— Жареная, — не взглянув на меня, ответил официант. К нему подошел модный парень в широких мраморных штанах, что-то шепнул и они удалились; вышел парень из ресторана со свертком в руках. — Ну так что решили? — спросил нас официант.
— А взбитые сливки у вас есть?
— Вы что, смеетесь, девушка?
Оля, огорченно отложив меню, заказывала то, что осталось на кухне, а я сидел и смотрел на наш столик как бы со стороны. Возвышается над нами этот мордастый официант и глубоко ему плевать на нас. Он даже не презирает, мы для него пустое место. И ни черта мы не можем, потому что пикнем — уйдем голодными. А он уверен в себе, как гранитная глыба. Но даже не это обидно, другое: что Оля, моя гордая, капризная, своенравная Оля говорит с ним, глядит на него снизу, будто провинившийся ребенок на строгого воспитателя в детском саду. Да и я тоже.
8
Молча мы съели салат "фирменный" из вареной картошки с луком, взялись за гуляш, почти холодный, с немыслимой подливкой. В армии, конечно, обо всем этом я и не мечтал. Но армия есть армия. Один раз, правда, Шухрат нам приготовил потрясающий плов — когда мы раздобыли морковь, черный молотый перец, свежую баранину в виде месячного барашка, изюм… Всю ночь пировали. Но это один только раз.
— Какое-то невеселое у нас с тобой свадебное путешествие, — заметила Оля.
— Почему?
— Я и сама думаю: почему? — она подняла глаза. — Может быть, действительно подождать надо было до июня? Хоть потеплело бы. Как ты думаешь?
— Я думаю, что ждать не надо было, — ответил я. Настроение мое поднималось с каждым кусочком гуляша и глотком вина. — Давай еще выпьем.
— Давай, — сказала Оля и, отставив мизинец, двумя пальцами взяла фужер за высокую граненую ножку. — Выпьем, — глаза ее казались совсем темными, глубокими, и я видел, как усталость и раздражение в них понемногу переливаются во что-то иное, то, чего я любил и чего не находил в ее глазах давно. — За что? За любовь, — ответила она себе и выпила. Сморщила нос. — Все-таки дикая кислятина этот твой "Рислинг".
— Мой, — улыбнулся я, коснувшись под столом ее ноги, а она смотрела на меня сквозь блестящее стекло фужера. — Оленька, — шепотом я назвал ее, как прежде, до армии.
— Что Коленька? — прошептала она в ответ.
— Я тебя люблю.
— Спасибо, — она опустила фужер. — Помнишь, в детстве была игра, кто кого переглядит?
— Помню.
— Я у всех выигрывала. Давай.
Она выиграла. Я глядел, глядел и мне стало казаться, что я тону в ее зрачках, и пошел бы ко дну, не моргни я и не спрячь глаза, как только в зале притушили свет.
Оля захлопала в ладоши.
— Закругляйтесь, молодые люди, — сказала официантка, подсчитывая выручку на счетах.
— У нас еще мороженое с вареньем, — вспомнила Оля.
Я отправился на поиски сочногубого и не сразу отыскал его в лабиринтах.
— Мороженое принесите, пожалуйста.
— А уже нет мороженого, — почему-то с вызовом ответил он. — Закрыто все…
— Мы ждали больше получаса, — сказал я тихо. — Принесите, пожалуйста.
— Ты что, угрожаешь мне? — он поднялся со стула.
— Я вам не угрожаю, — постарался улыбнуться я. — Может быть, у меня просто голос такой. Мы заказали мороженое и…
— А в милиции не хочешь мороженого покушать? А?
— Не понял.
— Сейчас поймешь. Володя, — позвал он, и из глубины лабиринта появился жующий милиционер. — Здесь пьяный.
— Я пьяный? — Возможно, потому, что бывал в ресторанах всего несколько раз в жизни, я опешил. — Я?
— В чем дело, гражданин?
Я хотел объяснить, но кровь бросилась в голову, задрожало что-то, точно закипая, вверху грудной клетки, и я в самом деле, должно быть, стал похож на пьяного. Со мной теперь часто такое, даже из-за пустяков.
— Пройдемте, — милиционер, щуплый человек лет тридцати с рыженькими усиками, цепко ухватил меня за руку выше локтя и повел в зал.
— Что ты натворил? — Оля испуганно вскочила, уронив стул. — Что он натворил, товарищ милиционер?
— С вами, гражданин?
— Да, конечно, мы… у нас свадебное путешествие, товарищ милиционер, — выпалила она, показывая обручальное кольцо.
— Оль, — сказал я. — Ну при чем здесь?
Милиционер крепко держал меня.
— Отпустите его, пожалуйста, — попросила Оля, и он отпустил, готовый в любой момент снова схватить.
— Документы у вас имеются?
Оля поспешно вытащила из сумочки паспорт. Проверив, милиционер потребовал и мой паспорт. Из-за столиков на нас смотрели с любопытством.
— Мы здесь, в гостинице, живем, — сказала Оля, — В триста седьмом номере.
— Ясно, — сказал милиционер. — Чтобы больше этого не было. — Он вернул мне паспорт и ушел.
Появился официант.
— С вас одиннадцать восемьдесят восемь.
Я заплатил. Оля вышла из ресторана, а я дожидался сдачи.
— И две копейки? — осведомился сочногубый, бросив гривенник. Монетка прокатилась по скатерти и упала на пол.
— Поднимите, — сказал я.
Ненавистно пыхтя, он поднял.
— Что, две копейки тебе еще?
— Да, — сказал я. — Еще две копейки.
Оля сидела на диване в фойе. Там было много народу, в основном фронтовики. Разговаривали они в полный голос. Смеялись.
— Зачем ты? — спросил я.
— Что?
— Про свадебное путешествие.
— Ты можешь мне объяснить, что произошло?
— Я сказал, что он забыл принести мороженое.
— И все?
— И все.
— Не ври.
— Я не вру.
— Ладно. Я так испугалась, когда он тебя вывел.
— Чего ты испугалась?
— Не знаю. Сама не могу объяснить. Ты очень нервный какой-то.
— Пошли?
— Подожди. Посидим немножко здесь.
— Хорошо. — Я сел рядом с ней, сунув руки в карманы, чтобы скрыть дрожь, с которой никак не мог справиться.
Помолчали, глядя на фронтовиков, толпящихся у стойки и заполняющих бланки за низенькими столиками.
— Их три процента всего осталось, — сказала Оля. — Даже меньше.
А из нашего батальона, думал я, каждый третий вернулся на родину грузом № 200 на "черном тюльпане". Но тут же выругал себя за то, что не сдерживаю обещания не вспоминать. И опять вспомнил — когда Оля заговорила о том, как в восьмом классе меня забрали в милицию за драку с мальчишками, отнявшими у нее на улице банку консервированного компота, — я вспомнил другую драку. Если можно так назвать.
Была ночь. Нас с Витей Левшой окружили на сопке в лазуритовых горах. Сколько их было, мы не знали, а они знали, что нас двое, и хотели взять живьем. Мы отстреливались, пока были патроны. "Шурави коммандос, сдавайся!" — заревел в тишине мегафон. А потом на русском — и я узнал голос…
— О чем ты опять? — спросила Оля. — Пошли в номер. Ужасно пошло звучит, да? В номера…
Мы подошли к лифтам, но нас окликнули сзади, из-за стойки:
— Ребята, вы не из триста седьмого будете?
— Будем, — ответил я, спиной почувствовав недоброе. Голос у администраторши был липкий и приторный, как патока.
Открылись двери лифта. Надо было нам войти, подняться, запереться в номере, тогда бы бабушка надвое сказала. Но мы этого не сделали. Мы подошли к стойке, держась за руки, и администраторша с сахарной улыбкой на морщинистом напудренном лице попросила у нас, кивая на фронтовиков, прощения за то, что приехали участники Великой Отечественной войны, однополчане, должны были приехать еще вчера, но приехали сегодня, только что, а номера все заняты, из пятьсот восемнадцатого пришлось женщин переселить, из четыреста третьего и вот триста седьмой двухместный очень нужен.
— Вы уж простите, молодые люди, мы виноваты, но вы нас простите, завтра утречком все уладим, я обещаю, а эту ночку как-нибудь…
Я отошел. Оля что-то говорила администраторше, а потом вдруг громко незнакомым мне, чуть ли не истеричным голосом:
— Да дело не в том, что мы не можем провести ночь друг без друга! И вообще, какое вам до этого дело?
Администраторша продолжала размазывать по стойке патоку, пока Оля не сказала:
— Тогда мы вообще из вашей гостиницы уйдем.
— Что ж, — равнодушно ответила администраторша. — Дело ваше. Галь, выпиши квитанции.
— Не нужно нам никаких квитанций!
С трудом мне удалось закрыть Олин чемодан, потому что запихнула она туда платья и юбки как попало. Мы спустились, но мне пришлось вернуться, потому что Оля оставила в ванной тапочки.
— Давай лучше вернемся, — сказал я на улице.
— Ни за что. Я себя не в дровах нашла. А на твоем месте я бы не молчала, а…
— Что?
— Если бы я не знала, то я бы ни за что не поверила, что ты воевал.
9
Заехав в одну, во вторую гостиницу и услышав: "нет мест", мы отвезли вещи на вокзал в камеру хранения и снова попробовали устроиться в гостиницу.
— Двухместный? — переспросил швейцар, сонный дядя с пушистыми усами, похожий на Сталина с той фотографии в газете на потолке у Филиппыча.
— Да, — ответил я, — мы муж и жена.
Швейцар, зевая, долго изучал наши паспорта. Сверил фотографии с оригиналами.
— Только что, значит, расписались?
— Да. Вчера.
— Позавчера, — поправил швейцар, взглянув на часы. — А почему так поздно паспорт получил? — он подозрительно прищурил глаз.
— Да не сидел я, папаш, — улыбнулся я, — в армии служил.
— В армии? А где именно? В каких войсках?
— Это имеет значение?
— Ладно, в армии так в армии. Сам служил, давненько, правда.
— Вы нас поселите?
— Нет, — сказал он, но возвращать паспорта почему-то не торопился.
— Что — нет?
— Двухместных.
— Тогда одноместный.
— И одноместных нет.
— А что есть?
Усы швейцара, глаза, все лицо его поползло вдруг куда-то мимо нас, мы и оглянуться не успели, а он уже расшаркивался у дверей, за которыми маячили яркие одежды. Это были пьяные молодые иностранцы. Один из них поскользнулся и рухнул бы, не подставь ему швейцар, низко пригнувшийся, свою спину. Чаевые, должно быть, выразились в конвертируемой валюте, потому что вернулся дядя улыбающимся.
— Суоми, — с отеческой нежностью в голосе пояснил он. — Так вам надолго, ребятишки?
— Да хоть на ночь.
— А точнее?
— Дня на три, — ответила Оля.
— Паспорта я ваши оставляю. Вот вам ключи. Как ехать — сейчас нарисую. Впрочем, уже поздно. Берите на площади такси и поезжайте. Двухместных номеров нет, зато двухкомнатная квартира со всеми удобствами в наличии, — он подмигнул.
— Цена? — спросил я.
— Ну… по два червончика, скажем, устроит в сутки?
— С каждого?
— Да что я, Змей Горыныч какой, — разулыбался дядя. — Живите — любитесь на здоровье. Мы с женой на дачу перебрались, так что никто вас не побеспокоит. Белье в шкафу. Рядом универсам, лес прекрасный. Хоть весь медовый месяц живите. Только не ссорьтесь, — он снова подмигнул. — По пустякам.
— Хоп, — сказал я.
Мы взяли из камеры хранения чемодан и сумку и поймали такси.
— Не, ребят, — зевнул таксист. — За один счетчик вас туда никто не повезет. Обратно-то порожняком пилить.
— Ладно, два счетчика, — согласился я.
Мы погрузили вещи и поехали по ночному городу.
— Мне так стыдно, — прошептала Оля. — За то, что я в гостинице устроила. Фронтовики, пожилые люди, им ночевать было негде, а я… Но когда она начала про то, что мы как-нибудь переспим друг без друга одну ночь, и все стояли, слушали… Я не выдержала. Я хамка, да? Я эгоистка, да?
— Не бери себе в голову.
— Но все к лучшему. — Оля ущипнула меня за палец.
— Конечно.
— Будем жить одни в двухкомнатной квартире. Я не люблю гостиницы.
— Я тоже.
— В них все чужое, казенное.
— А там, куда мы едем?
— Мы представим себе, что это наша квартира.
— Хорошо, — сказал я, привлекая ее к себе. — Представим.
— А на самом деле, если даже папе и удастся пробить, то все равно квартира у нас будет не раньше, чем через три года. В лучшем случае. Ведь размениваться-то они ни за что не захотят. Ума не приложу, где мы с тобой будем жить?
— Что-нибудь придумаем.
— С родителями? Или в комнате с твоей мамой?
— Снимем.
— Ты не знаешь, что это такое — снять в Москве квартиру или комнату. Да и на какие шиши, интересно? На мою стипендию?
— И на мою.
— Итого — восемьдесят, пусть девяносто. Это если ты еще поступишь.
— Поступлю.
— А квартира стоит не меньше сотни в месяц. И это, естественно, не в центре, а где-нибудь в Конькове-Бирюлеве. Или еще дальше.
— Ничего, — сказал я. — Что-нибудь придумаем.
— Думай, думай… муж. Объелся груш. Я точно знаю только одно: с родителями нам не жить.
— Подрабатывать буду. Может, сразу же на вечернее поступлю.
— Ну и толку? Что ты умеешь делать-то? Вагоны разгружать? Ведь ты до армии ничем не занимался, кроме своего дзюдо.
— Электриком работал.
— Да, я помню, — рассмеялась Оля. — Без году неделю. А знаешь, сколько у папы профессий! Двенадцать! Он и шофер, и плотник, и… Ладно, что об этом говорить. Который час?
— Четверть второго, — сказал я, глядя в окно на темные дома и тускло светящиеся через один фонари.
— Я завтра весь день просплю. А что мы вечером будем делать?
— Посмотрим.
Машина свернула с проспекта на бульвар, потом на узкую неосвещенную улочку, въехала через арку во двор, за которым город кончался и начинался лес.
Я заплатил, и мы вышли. Светились из всего огромного панельного дома только два окна на восьмом этаже.
— Это наши, — со смехом сказала Оля. — Нас ждут.
— Кто?
— Не знаю. Домовой. Или ведьмы. Но я уверена, что ключи у нас именно от той квартиры. Ведь нам везет с тобой.
Мы поднялись и сразу стало ясно, что Оля права. Из-за обитой дерматином двери с номером, который написал нам на листочке швейцар, доносилась рок-музыка, топот и пронзительно, хрипло кто-то визжал.
— А может быть, мы дом перепутали?
— Тридцать девять корпус два.
— Что будем делать?
Сказать я ничего не успел — дверь распахнулась, выбежала зареванная, с размазанной по лицу краской девушка, за ней здоровенный волосан-бородач в свитере и полосатых трусах.
— Заходите, ребят, — басом бросил он нам через плечо и убежал, сотрясая лестницу, вниз.
— Зайдем?
— А что нам остается? — улыбнулась Оля. — Здесь хоть весело, судя по всему.
— День Победы уже отмечают.
— Чем это пахнет?
— Что-то знакомое…
10
Мы вошли и через пять минут сидели на диване между длинноволосыми мутноглазыми сонными девушками и такими же парнями. Пили сухое вино из двух стаканов, потому что больше посуды не было. В соседней комнате ревел магнитофон. На кухне выясняли отношения — кто-то кого-то предал и продал, но пытался доказать, что все как раз наоборот
— Здорово, да? — толкнула меня под локоть Оля. Глаза ее блестели. — Я тебе не говорила, я как раз об этом мечтала, когда мы таскались из гостиницы в гостиницу: чтобы шумная большая компания, чтобы музыка. Я люблю. Мы ведь с тобой совсем еще молодые, да?
— Конечно, — согласился я.
— И мы ведь будем иногда вот так гулять?
— Будем.
— Здорово, что мы никого здесь не знаем, и нас никто не знает, но никто даже не удивился, что мы пришли почти в два часа ночи.
— По-моему, здесь ничем не удивишь.
— Тебе не нравится?
— Нравится.
Подошел волосан-бородач, успокоивший на лестнице девушку, которая оказалась хороша собой, с монгольским разрезом больших глаз. Он посадил ее рядом с нами, она закинула ногу на ногу, демонстрируя белые ажурные колготки, и попросила спички. Я ответил, что не курю. Она стала разглядывать шрам у меня на запястье.
— Больно?
— Нет, — сказал я.
— Я умею снимать любую боль, — она прикоснулась к шраму кончиком мизинца,
— Она правду говорит, — сказал бородач. — Кстати, что вы как не родные сидите? Меня Митя зовут, — он пожал руку сперва Оле, потом мне.
Он оказался племянником переехавшего на дачу швейцара. Мы сказали, что из Москвы, ночевать нам негде. Племянник ответил, что никаких проблем быть не может. И добавил утробным басом: "чуваки".
— Вы танцуете? — он взял Олю за руку и увел.
Сосед, прыщеватый очкастый юноша лет восемнадцати, стал яростно мне доказывать, что лучше "Дип пёпл" в мире группы нет и быть не может. Я согласно кивал, а он хватал меня то за локоть, то за колено, напевая какие-то мелодии. Потом вдруг исчез, вернулся и потребовал, чтобы я слушал, но за стеной сменили его любимую кассету, и он снова исчез. Теплой ногой к моей ноге прижалась девушка с монгольскими глазами, с торчащими розовыми и зелеными прядями завитых волос. Спросила, в чем я вижу смысл жизни и уходит ли, на мой взгляд, талант, если он был; вообще, что такое талант? Парни смотрели сонными нетрезвыми глазами. Оля все не появлялась. Девушка, которую звали Анжела, вывела меня на середину комнаты и мы стали танцевать, не обращая внимания на музыку. Она прижималась ко мне. За столом спорили о каком-то знаменитом гитаристе, который к нам в страну почему-то никогда не приедет, о фильме, который у нас никогда не пойдет. И еще о многом спорили, неожиданно соскальзывая с темы на тему. А я молчал, но не только потому, что мне нечего было сказать. Снова, как в тот вечер в начале февраля, когда мы собирались классом у Андрея Воронина, я чувствовал себя в компании лишним. Мне трудно будет забыть, как смотрели на меня одноклассники, и как я пытался в разговоре под них подделаться, шутить, но ни черта не получалось, и как потом на кухне и на лестнице расспрашивали, будто обязаны были, и девчонки учили танцевать, словно выполняя комсомольское поручение, я чувствовал, что все они и жалеют меня и им скучно, и чувствовал, как постепенно перестают они меня замечать, зациклившегося на смерти, — "Не зацикливайся, старичок, на смерти, — посоветовал мне одноклассник, — жизнь продолжается", — меня, состарившегося за два года лет на двадцать, они, занятые своими разборами, и я уж вовсе чужим, ненужным становлюсь, уйди я — никто бы и внимания не обратил, кроме Оли; но тут подошла Наташка Самкова, что-то сказала и потом вдруг: "мне так жаль всех вас, которые были и теперь там…" — я помню, как потемнело у меня в глазах, не столько от смысла слов, сколько от интонации, от взгляда ее, затрясло всего изнутри, и я едва с собой совладал, а то бы не знаю, что сделал. Анжела, вихляя бедрами, снова потащила меня танцевать и прижималась еще крепче, и спрашивала, нравятся ли мне ее духи. А Оля не появлялась. И потом, совсем недавно встретил у метро Зинаиду Викторовну, нашу классную руководительницу, у которой сын служил в шестьдесят восьмом году в Чехословакии, и она нам много рассказывала на уроках новейшей истории о том, как счастливы были чехи, когда наши танки вошли в Прагу и стали на Вацлавской площади, — а тут вдруг: "мальчик… — и слезы на старушечьих глазах, — я знаю, все знаю, мне девочки говорили, что ты был тяжело ранен… Бедный мальчик…" Взяв меня в углу за руки, глядя в глаза, Анжела читала с придыханием свои стихи без рифмы и без смысла. Потом потребовала, чтобы я сделал критический разбор. Потом потащила меня на кухню и познакомила со своими братьями, один из которых был эстонцем, а другой — жгучим кавказцем. Анжела сказала, что я ей симпатичен, что она порами чувствует во мне то, чего катастрофически не хватает ей в других особях мужского пола. Кавказский брат сверкнул золотыми фиксами. Обругав братьев, взяв с подоконника сумку, Анжела вывела меня на лестницу и, погладив меня ладонью по груди, сказала, что хочет со мной покурить тет-а-тет. Вышел на площадку очкастый юноша, спросил, не могу ли я достать "Хедвотэр" за любые бабки. Анжела лениво покрыла его матом и прогнала. Села на ступеньку. "Хоть с тобой поторчим по-человечески. Ты с войны вернулся?" — "Как ты узнала?! Тебе сказали…" — "Никто мне ничего не говорил. Я осколки в тебе вижу". — "Правда?" — "Глупыш, — прошептала она, облизывая пухлые губы. — Я же экстрасенс. Знаешь, у меня никогда не было мужчины, начиненного железом. В обычном, пошлом понимании у меня вообще мужчин не было, потому что я страшусь пошлости. Я девочка. Пойдем наверх". — "Зачем?" — "Пойдем, дурак, пока я не передумала!" Я покорно поднялся за ней, на лестнице, ведущей на чердак, она усадила меня, а сама встала на колени, но едва лишь прикоснулась ко мне со словами "вот здесь осколок и здесь" — я вскочил. "Боишься?" — "Просто не хочу". — "А как ты хочешь, чтобы я тебя приласкала?" — "Никак". — "Чеки у тебя есть?" — "Чеки тебе нужны?" — "Нужны, — сказала она, глядя мне в глаза, и зашипела, похожая на гюрзу: — Нужны! Импотент проклятый, думаешь, я спесиаль подъездная, да? Ты способен лишь убивать женщин и детей, ненавижу, ты весь в крови и не надейся, не отмоешься, фашист…" "Заткнись!" — я схватил ее за горло, но отпустил, она обмякла, не сопротивлялась и не сказала больше ни слова, открыла трясущимися пальцами сумочку, вытащила папиросу, прикурила — и тут только я понял, почему такой странный, хорошо знакомый мне запах стоит я квартире. Хотя должен был понять и раньше. Бросился по лестнице вниз, в квартиру, в другую комнату и не сразу в полумраке там разглядел Олю, которую с двух сторон обнимали Митя и другой парень с вовсе уже осоловевшим взглядом. Племянник гладил Олино колено, юбка ее была задрана, рубашка на груди расстегнута. Прикрыв глаза, откинувшись на спинку дивана, она курила папиросу — медленно, глубоко затягивалась и еще медленней выпускала густой дым изо рта, изломанного, с размазанной вокруг помадой, обезволенного, согласного на все. Я подошел. Взял папиросу, передал ее Мите, пробасившему: "Присоединяйся, старикаш". Я стал поднимать Олю с дивана, но появилась Анжела: "Куда ты ее тянешь, что ты с ней делать собираешься, импо-82, в ванночке купать?" "Пошла ты!" — рявкнул я, "Ты нашей Анжелочке не груби старикаш", — сказал Митя и, не вставая с дивана, ударил меня ногой в живот. Я отлетел к стене, бросился на него, но сзади шарахнули по голове чем-то тяжелым, вроде кассетного магнитофона, я упал, били ногами, Анжела, визжа, все норовила попасть мне каблуком в висок или в глаз, я откатился под стол, поднял его спиной, припечатал к стене двоих — и тут уж им не светило, племянника я сразу и надолго отключил, остальные волосатые убежали.
11
Светало. Я шел быстро, слыша за собой торопливый, сбивчивый стук каблуков. Я не оборачивался, пока не дошли до бульвара. Там я остановился, чтобы сменить руку — чемодан казался тяжелее, чем днем.
— Подожди, — сказала она со злостью. — Я устала.
Я посмотрел на нее.
— Застегнись.
Она неверными пальцами застегнула пуговицы.
— Извини, — сказала она фальшивым, развязным голосом.
Я пошел по бульвару, и она пошла за мной. Она спотыкалась.
Я шел широким, размеренным шагом и, как на марше, старался не думать о том, что позади, что впереди, уворачиваться от недобрых мыслей, летящих навстречу прямо в лоб из предрассветной мглы. Небо над крышами высвечивалось. Зеркально блестели на верхних этажах черные окна и лужицы на асфальте с отражающимися в них бледно-фиолетовыми фонарями. Пахло городским, с бензиновой примесью, туманом, влажной землей и травой. Я свернул на проспект.
— Я больше не могу, ты слышишь? — сказала Оля четверть часа спустя; голос у нее был уже другим. — Ты слышишь? Коля. Я не могу больше. У меня болят ноги.
Я не оборачивался.
— Коля. Ну пожалуйста… Ну у меня правда очень болят ноги, я не могу! Слышишь? Я не пойду дальше. Иди один.
Шагов через сто, возле клумбы с тюльпанами она опустилась на скамейку и сняла туфли. Я прошел вперед, остановился возле стенда с газетами.
"На фоне знаменитого моста Тауэр в Лондоне был дан старт необычайного морского плавания. В день своего двадцатилетия англичанин Бил Нийл отправился отсюда в дальний путь к берегам Балтики. В качестве средства передвижения он воспользовался… обыкновенной ванной, которую почти каждый городской житель имеет у себя дома. На "корме" ванны установил легкий мотор".
А где я был в день своего двадцатилетия? В санчасти валялся с ангиной, которую заполучил на войне в горах. И ребята притащили мне полный рюкзак винограда, крупного, продолговатого, вроде "дамских пальчиков", и кишмиша, без косточек. Никогда мне больше такого сладкого винограда не поесть. Я об одном жалел — что на дембель нельзя будет с собой пару рюкзачков винограда захватить, чтобы угостить Олю. А какие абрикосы там были! А дыни! Капитан-танкист, приехавший на второй срок, сказал: "Прихожу я у себя в Минске на рынок, приценился — вот это ни фига себе, думаю. Тут же и решил сюда вернуться. Хрена вам лысого, а не двадцать пять рублей за дыню! Одни афгань куда еще ни шло. И то в базарный день. Про гранаты уж не говорю".
О чем я думаю? Нарочно, чтобы о другом не думать. Оглянулся — Оля смотрела на меня. Снова стал читать газету, но не читалось. Прошел еще шагов тридцать. Остановился.
— Коль, — позвала она.
Глупым показалось обижаться на нее, под горлом до сих пор что-то клокотало. Но я чувствовал облегчение после разминки — впервые с тех пор, как вернулся. Я подошел. Она снизу жалобно смотрела на меня.
— Сядь, — тихо сказала она.
Я сел.
— Поближе, — сказала она.
Я подвинулся.
— Еще ближе, — прошептала она, подбирая на скамейку ноги и медленно склоняя голову мне на плечо. — Обними меня. Пожалуйста. Как ты страшно дерешься… Не обижайся. Я не хотела, честное слово.
— Чего не хотела? — сказал я.
— Ничего, — она посмотрела на меня. Глаза ее, усталые, нежные, были так близко, что я отвернулся, потому что голова начала неприятно кружиться. — Ты когда-нибудь сможешь меня простить?
Я молчал. На тополь грузно уселась ворона. Замяукала где-то во дворе кошка. Прогрохотал за домами грузовик, должно быть, с прицепом. Снова сомкнулась над городом тишина.
— Я просто хотела, — едва слышно проговорила Оля, ластясь, как котенок, — хотела почувствовать то же, что и ты.
— Я?
— Я сперва не знала, что они мне подсунули, а потом… Ну прости меня!
— А потом?
— Хочешь, я сяду к тебе на колени?
— Садись. А что было потом?
— Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Ты думаешь, я совсем дурочка и не пойму. Но я не дурочка. Нет. И мне больно, что ты так обо мне думаешь Тебе очень нужно кому-нибудь рассказать. Отца у тебя нет… ты его ни разу не видел с тех пор, как вернулся. У мамы своя семья, свои заботы, хотя она и любит тебя. Друзья? Те, с кем ты дружил до армии… в общем, они не друзья уже. Думаешь, я не понимаю? Павел Владычин? Но, во-первых, он старше тебя, а во-вторых, вы были там, теперь здесь… Ты мучаешься, потому что чувствуешь себя одиноким. Совсем одиноким. Я ведь не совсем тебе чужая. А? Ну ответь же!
— Не совсем.
— А я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, что я знаю. Про то, как там живут. Знаю, что там курят анашу, потому что ее полно. Она там вроде как у нас приправа к столу.
— Это тебе тоже однокурсник Андрея Воронина рассказывал?
— Нет. Ведь ты курил, правда?
— Пробовал, — сказал я.
— Вот и я захотела попробовать. Чтобы… прорваться, хоть как-то приблизиться к тебе. Ты далеко от меня. Я не говорила, думала, ты постепенно вернешься, станешь самим собой… Понимаешь?
— Не понимаю.
— Не будь жестоким. Я люблю тебя.
— Да. Я видел. Там, на диване.
— Не надо, я прошу. Я тебя очень прошу.
— Ладно. Не буду.
— Расскажи.
— Что?
— Где и как ты ее впервые курил? И что ты чувствовал? — Она устроилась на скамейке поудобней, укрыла ноги юбкой.
— Поспи лучше немного.
— Я не хочу спать.
Что я мог ей рассказать? После двух суток, проведенных под снегом и дождем в засаде, мы начали "операцию возмездия". Но сами попали под пулеметный огонь и реактивные снаряды подошедшего по ущелью со стороны границы подкрепления. Вырвались с потерями. Отбить удалось всех, потому что сколько ушло на боевую операцию, столько должно и вернуться. Вечером, добравшись до лагеря, отправив трупы в Джелалабад, согрели на сухом спирте консервы, поели немного и накурились, и хохотали, вспомнив, как наш молодой — "дух" — Санников, впервые попавший под такой обстрел, пытался укрыться от "утеса" — крупнокалиберного пулемета — за жиденьким кустиком, и как взводный тащил его оттуда за ногу, а "дух" брыкался. Страшен был тот хохот в ночи. Игорь Ленский пел под гитару и после каждой фразы мы взрывались, хотя смешного ничего не было. Миша Хитяев на руках бегал. И как-то вдруг все схлынуло. Почернело на душе. А потом лежали с Юрой Белым рядом в спальных мешках, он рассказывал о мореходке, об океанских теплоходах со многими палубами, с бассейном, с успокоителями качки, а меня мутило, чуть не выворачивало, и я изо всех сил старался держаться, не показать Юрке. Он рассказывал о Флориане, острове, где самые красивые в мире женщины и круглый год цветы, и ананасы с бананами, и луна в полнеба — будь оно все проклято, думал я, видя лунную дорожку, уходящую за горизонт, и как выплескиваются на камешки серебристые языки волн, поблескивают водоросли, и обнаженных, с распущенными волосами мулаток, купающихся при луне. Я все и всех ненавидел в ту минуту. Меня колотило изнутри. В горах хохотали, рыдали и выли шакалы. Шумела под ухом рация. Было очень холодно. Я старался дышать как можно глубже, наполняя легкие воздухом, словно надувая воздушные шары, но чтобы Юрка не услышал. Понемногу дрожь унялась. Я смотрел на звезды и думал о том, что несколько часов назад застрелил человек двенадцать из АКСа[4] и столько же, если не больше, уложил гранатами, и потом под скалой добил одного ножом в ухо. Но нет во мне жалости. Ничего нет. Жалость, страх, сомнения — все это я погасил в себе давно, еще когда прицелился и выстрелил впервые по живому, а не по мишени на стрельбище, и увидел, что не промахнулся, что бесформенная, окровавленная груда мяса лежит на дороге в том месте, где стоял человек с противотанковой гранатой, предназначавшейся нам. Но теперь другое. Я одеревенел и мог стрелять в таком состоянии сколько угодно и по кому угодно. Анаша? Нет. Ее действие кончилось, остался лишь легкий желтовато-зеленый, как тина, туман в мозгу и под веками. Тогда что? В бою звереешь, это понятно. А теперь? Это не было "чувством охотника", о котором твердил взводный, которое мы должны были искать и воспитывать в себе каждый день и каждую ночь. Я не воспитал. Не нашел. Хоть и не корежили, не выжигали мне душу тогда, как теперь, слова эти — "чувство охотника". Но то было другое. Будто проснулся во мне кто-то первобытно-жестокий, примитивный, дремучий, подчиняющийся лишь инстинктам. Ничего не было — ни детства, ни школы. И никого. А кругом только враги. Я один. И надо спасать себя, потому что никто не спасет и не поможет. Как угодно. Стрелять. Взрывать. Резать. Бить. Зубами рвать. Когтями — и потом выковыривать штык-ножом из-под ногтей застывшую кровь. Я чувствовал, как схожу с ума. Но вдруг горький вкус слез появился во рту — вспомнилось, я плакал в детстве, когда сосед застрелил из двустволки возле нашего забора бездомного рыжего щенка. И я заплакал, глядя в звездное небо. Мне стало легче. Шумела хрипло рация под ухом. Выли, хохотали шакалы. Юра спал.
Что я мог ей рассказать?
— Ты молчишь… — она подняла голову. — Ты знаешь, когда вы встретились с Павлом, с остальными, меня не оставляет чувство… Ты только не обижайся, ладно?
Я кивнул.
— Мне все кажется, что вот отец и его друзья воевали, была настоящая война…
— Ясно, — сказал я и встал. — Пошли.
— Куда?
Я взял вещи и пошел по проспекту. Оля надела туфли и пошла за мной.
— Ты же обещал, что не обидишься.
— Я не обиделся.
— Ну правда, Коль. Мне все кажется, что вы…
— В войну играли, — сказал я.
— Не совсем, конечно, я знаю, там даже убивают, но… Помнишь тот четвертый стакан с вином, который наполнил Павел, когда мы пришли к нему после загса? Зачем? Для кого это? Я видела в кино про войну, что так делают… Ну объясни мне, пожалуйста.
— Этот стакан для нашего командира взвода, — остановившись, сказал я. — Он меня два раза от смерти спас. С Витей Левшой нас окружили в лазуритовых горах, Витя подорвался, а я заполз в штольню, раненый, и уже с жизнью прощался, и тут… Если бы не он, то ничего бы у нас с тобой не было. И не только меня он спасал — наш комвзвода. Поэтому Пашка и поставил стакан. Они с Пашкой были друзьями. Что тебе еще объяснить?
— Командира убили?
— Да.
— Ну а почему ты мне раньше об этом не сказал? Почему ты все скрываешь от меня? Папа и его товарищи, когда собираются, так много рассказывают, а вы…
Моросил дождь. С гор дул пронизывающий ветер. Но мы стояли расстегнутые и не отворачивались. Нас провожали на дембель. "Сынки, — говорил, то и дело прокашливаясь, замполит. — Не пугайте вы там никого, на гражданке, моя к вам просьба. Не надо. Все равно правду не расскажешь. Да и не поверят вам".
— Кто он был, ваш командир взвода? — спросила Оля.
— Что значит — кто?
— Ну, какой?
— Обыкновенный. Старший лейтенант. За его голову миллион долларов давали.
— Кто?
— Они. Им за каждого нашего солдата платят — деньгами, лазуритом, рубинами. За десантника — пятнадцать-двадцать тысяч. За подбитый танк — сто пятьдесят тысяч.
— А за голову командира миллион?
— Да, — сказал я, вспомнив, как ночью, поднявшись в полный рост на выступе в скале, взводный матерился страшным голосом в ответ на приказ сдаваться, а по нему били из автоматов и пулеметов, сверкали трассеры. Он был как заколдованный.
— Почему ты улыбаешься?
— Да так. Ты замерзла, пошли.
— Нет, нет, — сказала Оля. — Подожди. Прости меня. Но ведь ты знаешь, в газетах ничего почти не пишут о том, как вы… Верней пишут, конечно. И по телевизору показывают. Но… Я страшную вещь поняла. Сейчас. Что никогда до конца не пойму тебя. Сколько бы мы с тобой ни прожили.
— А мама твоя понимает отца?
— Война — это было совсем другое дело. Вся страна воевала. Мама сама была на трудфронте. Работали по двадцать часов, голодали… Она мне рассказывала, как впервые попала под бомбежку — повалились друг на друга, а бомба свистит и неизвестно, где упадет… И как за ее подругой по полю самолет гонялся… Скажи, а они, против кого вы воевали, они… совсем на нас не похожи?
— Похожи. Однажды ночью сидели у костра с пленным, моим ровесником из Кабула. Отец учитель, мать врач. О Достоевском говорили — "Братья Карамазовы" любимая его книга.
— Правда?
— И Чехова он читал. И Ремарка. И о поп-музыке говорили. Напевал мне песни Стива Уандера. Они вообще народ музыкальный.
— И что стало с этим пленным?
— Не знаю. Утром увезли. Он у меня все адрес в Москве просил: переписываться, мол, будем.
12
В такси было тепло. Оля прижалась ко мне. Тихонько замурлыкала, прикрыв глаза.
— Помнишь, Оль, в заявлении: мы взаимно осведомлены о состоянии здоровья каждого из нас… Мне кажется, я обманул тебя, поставив подпись. Осколки-то ладно, ерунда. Доктора говорят, что они сами выйдут со временем. Но что-то другое. Руки-ноги на месте, а такое ощущение, будто калека и скрыл это от тебя. Где-то внутри калека.
— Глупый мой, — нежно погладила меня Оля по голове.
— Когда в феврале собирались классом, я стариком себя чувствовал. И вот теперь. Честное слово.
Подъехали к гостинице. Дверь была заперта. Я стучал минут пятнадцать. Опухший со сна, со вздыбленными усами швейцар вышел из темноты и долго вглядывался в наши лица. Открыл. Я молча отдал ему ключи.
— Что стряслось?
— Все в порядке. Передумали. Неустойку заплатить?
Он вынес паспорта. Налетел влажный северный ветер.
Хлестались у нас над головой ветви деревьев, метались лихорадочно кусты. Скомканная газета волочилась по площади. Мы пошли на вокзал, чтобы снова сдать вещи в камеру хранения. Народу на вокзале было немного — все, кому нужно было, приехали или уехали на День Победы.
В пять утра открылся буфет. Мы съели холодную жирную курицу, запили ее мутной бурдой под названием "кофе сладкий". Руки вытереть было нечем.
— Как мне все это надоело, — сказала Оля, вытаскивая из сумочки финский носовой платок из набора, подаренного на свадьбу. — Все. И у меня ужасно болят ноги. И я хочу спать.
Мы пошли между рядами, высматривая свободные места, сели с краю, прильнули друг к другу, но Оля вдруг вздернулась, будто прикосновение ко мне ей неприятно.
— Что? — спросил я.
— Я совсем забыла, что у тебя удостоверение о праве на льготы, что ты приравниваешься…
— Забыла? — сказал я.
— Почему ты никому не показываешь удостоверение?
Удостоверение я показывал. Контролерам в электричке.
Это было в начале весны, когда мы с Олей возвращались из Загорска. Три года назад мы ездили с ней в Абрамцево, тоже ранней весной, и, лежа над ущельем в засаде, засыпая в горах и наперед зная, что утром придется отдирать вмерзшие в лед волосы, десятки километров преодолевая марш-броском по барханам с "лифчиком"-боекомплектом — гранатами, рацией, АКС, а то и с пулеметом на плече, с разобранной ракетной установкой, в таком пекле, когда даже подшипники на вертолетах плавятся, — я мечтал, чтобы Абрамцево повторилось. И мечта моя сбылась. Ночью шел снег, а утром из окна электрички глазам было больно смотреть, так все искрилось, сверкало, мокро радостно блестели прогалины — островки в снежном море. Лед на пруду истончился, под ним зеленела вода, но мальчишки катались на коньках и на санках. Снег был липкий, влажный. Оля слепила большой комок, бросила и попала мне по шапке и ужасно смеялась, а я догнал ее, поднял на руки и мы вместе рухнули в сугроб. Удивительные в тот день у нее были глаза. Хмельные от света, от воздуха, от близости друг к другу, бродили мы, о чем-то беспрерывно болтая, по усадьбе и по лесу, где на сиреневом, покрытом шершавой коркой снегу в тени елей лежали, точно игрушечные, шишки и иголки, и светились пятна солнца, салатовые, палевые, голубые, янтарные. Потом мы поехали в Загорск. В лавре, слушая песнопение, Оля призналась, что прошлой весной, когда так долго не было от меня писем, она пошла в Елоховскую церковь и поставила за меня свечку. "Я не верю в бога, — прошептала она, глядя на размахивающего кадилом священника. — Но к кому еще я могла обратиться? Кого попросить?" Купола в сумерках отливали малиново-лиловым. Вечерний звон сулил нам столько радости впереди, когда мы всегда, каждую минуту будем вместе, что боязно было дышать, и говорил мне одному, а больше никто не слышал: "Вот она — награда, настоящая награда за все, о чем не можешь ты никому рассказать, храни ее, не потеряй". В темноте уже, усталые, с промокшими ногами, голодные, пришли на станцию. Электричка уходила, а следующую надо было ждать целый час, и билеты взять мы не успели. "Авось", — улыбнулась Оля, и я поцеловал ее, и мы целовались, стоя в прокуренном, исцарапанном гвоздями тамбуре, до тех пор, пока не легла мне на плечо рука и не услышали мы откуда-то сверху каркающий голос: "Так, ваши билетики, молодые люди". Я начал оправдываться мол, бежали, не успели… Контролер, высоченный, со своих двух метров глядел на нас, и я казался себе мальчишкой, укравшим в магазине самообслуживания сдобную булку, и теперь размазывающим по лицу слезы вместе с соплями. "Штраф", — сказал гигант, проверяя билеты у остальных в тамбуре. Подошла толстая контролерша. Молча стала качать головой, глядя на Олю, отвернувшуюся к окну. О нынешней молодежи начала, о том, что только и думают, как облапошить государство, которое их и кормит, и поит, и одевает, да и понятно, горя не знали, на всем готовом с пеленок, потому и вырастают хапуги, дармоеды, вот в старые времена… "Ишь, вырядилась!" — с ненавистью кивнула контролерша на Олю, а контролер каркнул сверху, как ворон: "Штраф". Я бы заплатил, но у меня осталось всего два рубля. Чувствуя, что Оля вот-вот расплачется, я достал удостоверение и пролепетал что-то жалкое. А они повертели в руках и вернули: "Это нас не интересует". Как будто я им квитанцию из прачечной подсунул. И я снова, в который раз за каких-то два с половиной месяца гражданки почувствовал себя беспомощным, как будто под огнем растерял весь боекомплект и в последнем "рожке" кончились патроны. Даже хуже. Потому что там не было Оли.
— Мы сейчас же пойдем в ближайшую гостиницу, — сказала она. — Ты положишь свое удостоверение и потребуешь, чтобы нас поселили.
— Не буду я ничего требовать, — сказал я.
Но в половине седьмого мы вошли в гостиницу под названием "Салют". Сонная женщина из-за стойки нам ответила, мельком взглянув на удостоверение, что гостиница закрыта на спецобслуживание, но если мы подойдем после двенадцати, то, возможно, что-нибудь освободится.
— Спасибо, — сказал я.
Мы вышли на площадь, не глядя друг на друга, измученные, опухшие. Отупело стали смотреть на лозунги и плакаты, вывешенные в честь Дня Победы. На легковые и грузовые машины, движущиеся по кругу.
— Хороший город, — сказала Оля. — Спасибо тебе, дорогой, за это свадебное путешествие.
— Зачем ты так?
— И что мы теперь будем делать? — с недобрым смешком спросила она, ежась от холодного ветра. — Не знаешь? И я не знаю. Только сдается мне, что мы всю жизнь вот так проживем. Если проживем.
— Что ты имеешь в виду? — дернул меня кто-то за язык горячими шершавыми пальцами.
— То и имею, — она подняла руку с оттопыренным безымянным пальцем и как-то задумчиво и отрешенно посмотрела на помутневшее кольцо. — Ты прекрасно понимаешь.
— Почему?
— Надоели мне твои идиотские вопросы!
Она пошла по краю тротуара, и я пошел за ней. Она остановилась возле кинотеатра. Там шел двухсерийный фильм про войну.
— Ты смотрел?
— Да.
— Я тоже, но делать нам с тобой в этом городе больше нечего.
Проболтавшись до девяти, промерзнув, мы купили билеты и сели в фойе, дожидаясь начала сеанса. В тепле разморило, но спать на свету, под фотографиями белозубо улыбающихся киноартистов было неудобно. Оля стала заниматься со мной английским. Мое произношение раньше забавляло ее, ей нравилось меня передразнивать, но теперь раздражало, хотя она, будущая преподавательница, и не показывала виду, терпеливо повторяя межзубные и альвеолярные звуки. У меня выходило все хуже. Я замолчал. "И кому это все надо?" — тихо, будто самой себе сказала она и больше ничего не говорила. С неприязнью мы смотрели на входящих в кинотеатр.
Операция была задумана для того, чтобы взять — живым или мертвым — главаря банды муллу Ахмада. Но он ушел, переодевшись в женщину, под паранджой. Опять ушел. Полгода назад он сидел в городской тюрьме и лишь когда убежал, сняв троих человек, мы узнали, что это был он, Ахмад, сын миллионера, окончивший Оксфордский и еще какой-то университет, учившийся и в Москве. До городской тюрьмы он пробыл четыре дня у нас в батальоне. Переводчик-таджик уехал, и мы объяснялись с пленным на пальцах, жалея, что он не знает английского, который мы проходили в школе. Говорили ему все, что о них думаем, что сделаем с ними в скором будущем. Он кивал, улыбался и норовил подать нам всем руки, а то и обнять. Мы смеялись. Называли его Гришкой. Потом выяснилось, что по-английски он все-таки немного лопочет — научил хозяин, на которого он батрачил в глухом кишлаке. Еще мы поняли, что читать и писать он не умеет, что бандиты убили его родных, увели женщин и силой заставили идти в банду, но по нашим солдатам он не стрелял и готов поклясться в этом. Было ему лет двадцать шесть. Он давно не брился, и у него отросла иссиня-черная борода. Взгляд его больших глаз был чуть рассеянным, как у близоруких, умиротворенным, порой даже ласковым. Он говорил, что мечтает побывать на родине Ленина, о котором много слышал. Однажды на рассвете, когда мы вернулись с удачной боевой операции, он окликнул нас с Володей Шматовым, показал, как переливаются бриллиантовые капли росы на броне и, прикрыв глаза, тихонько запел. Очень хорошо он пел, хоть и совсем не по-нашему. Мы присели рядом на траве, заслушались, глядя на золотящиеся, а с другой стороны — густо-синие, почти черные скалы. Воздух был удивительный, прозрачный и словно насыщенный крупицами серебра, всю долгую холодную ночь очищавшим его. И так тихо, что дух захватывало. Подошли ребята — Шухрат, Серега, Витя — тоже сели на траву, стали слушать, забыв, что не ели, не спали, что у китайских кроссовок сгорели подошвы от ночного пятидесятикилометрового марша по камням… Дней через десять после того, как мулла бежал из тюрьмы, два наших отделения попали в засаду. Володю Шматова мы нашли распятым на арче. Ему отрезали все, что можно было отрезать, и содрали кожу, а перед казнью долго пытали кипящим маслом. Жители кишлака сказали, что это дело рук Ахмада, поклявшегося самой страшной клятвой: всех нас, "ночных дьяволов", весь батальон во главе с нашим "Иисусом" — комбатом распять. Вскоре мулла спалил кишлак, жители которого нам помогали. Никого в живых он не оставил. Всем окрестным мальчишкам платил по сто, а то и по триста афганей за каждую дырку в трубопроводе, за любую пакость. Заваливал нас "дезой", подсылая перебежчиков и "доброжелателей" из кишлаков. Возвращался из Пакистана с караванами, нагруженными несметным количеством оружия и боеприпасов. Несколько десятков человек сам застрелил из снайперской винтовки. И вот он опять ушел. А спустя две недели нас с Витей Левшой окружили и, когда у нас кончились патроны, заревел мегафон в тишине: "Шурави коммандос, сдавайся!" И я узнал его голос, когда он сказал на русском: "Десантники, сдавайтесь. Это говорю я, мулла Ахмад".
Прозвенел звонок. Мы вошли в зал и тотчас, лишь погас свет, уснули, привалившись друг к другу.
13
Проснулся я от взрывов и не сразу сообразил, что сижу в кинотеатре. Кричали: "За родину! Ура!" Я облизал невкусные растрескавшиеся губы. Оля спала. На экране рушились под бомбами дома и мосты, строчили из автоматов, забрасывали пулеметные гнезда гранатами, сшибались в рукопашной. В прошлый раз я смотрел эту картину тоже сквозь сон и мало что запомнил. Нам в лагерь привезли ее после самой удачной на моей памяти операции — без потерь мы захватили огромный склад с боеприпасами, продовольствием, одеждой. Приняли душ, поужинали. Фильм начался, когда стемнело. Кое-кто из ребят сразу захрапел, но большинство держались, потому что кроме кино и писем какая у солдата радость? Комментировали с юмором. "Ну дает Санек! — говорил Миша Хитяев, у которого брат служил в показательной Таманской дивизии под Москвой и писал, что за полтора года службы и с псами-рыцарями успел перед кинокамерами повоевать, и с Наполеоном, и с белогвардейцами, и за Москву в сорок первом году бился, и Будапешт взял — остался лишь Берлин на дембель. — Ну, Санек…" "Завидуешь?" — спросил кто-то. "Не-а", — ответил Миша Хитяев. Павел, сидевший рядом, толкнул меня в бок, чтобы разбудить, но я не спал. "Они "За родину!" кричали, когда шли в бой, — сказал Павел. — А мы материмся или молчим, как рыбы. Мне кажется, самое страшное в любой войне — немота. Когда права не имеешь…" Я младше Павла и об этом не задумывался. Я просто воевал. Выполнял приказы. Ждал писем от мамы и от Оли. Ждал, когда привезут кино. Счастлив был, если удавалось набить брюхо и поспать часа четыре кряду. Газетку почитать спокойно, присев где-нибудь за кустом и повесив ремень на шею. Сперва, конечно, трудно было. В первом моем бою, верней, уже после боя, когда прошли по полю, устланному кровавыми, перемешанными с песком и пылью обрубками, кусками пехоты, попавшей под массированный артобстрел, мне стало плохо. Думал, не привыкну. А потом привык. Почти ко всему. Даже о женщинах научил себя не думать, хотя это было трудно. Смотрели фильм про войну, зная, что завтра весь день — отдых. Постираться можно будет. Просто полежать. Посмотреть на облака. И тут рассекла экран очередь из крупнокалиберного пулемета. Стреляли с гор. Ребята проснулись, но никто не стал прятаться, залегать, разве что несколько молодых повскакивали, а мы, деды, стали свистеть и топать ногами, совсем как на гражданке, когда рвется у киномеханика пленка или что-то там в аппарате заедает. Но когда эрэсы запукали, засвистели и зашелестели — тут уже мы врассыпную.
— Мы где? — спросила Оля.
— В кино, — улыбнулся я, глядя на ее заспанное лицо.
— А, — сказала она и снова опустила веки, положила голову мне на плечо.
Полутора часов хватило и больше я не спал. Я думал о нас с Олей. О том, что ни эта ночь, ни это утро ничего не значат. Раздражение прошло, не оставив следа. Она любит меня. Любит. И все вранье, что про нее говорили. Много злых людей. Завистливых. Мелочных. Они не знают, что есть гораздо более важные вещи в жизни. И стоит она гораздо дороже, чем они думают. А злых много. Жестоких. Ну и черт с ними.
Я вспомнил Олю девочкой-пятиклассницей, какой увидел ее, когда переехал в Москву и стал учиться у них в классе.
Солнечным осенним днем она вышла после уроков и вдруг сказала мне: "Пойдем мороженое купим". Девчонки из класса и мальчишки, Андрей Воронин, с которым я недавно дрался за школой, глядели на нас, и я не знал, как поступить. К тому же у меня не было ни копейки. Сказать, сама иди? Но ведь я мечтал о том, чтобы пройти вот так с ней по улице, поговорить о чем-нибудь, как взрослые, и, может быть, потом даже взять за руку. С первого сентября, с той минуты, как увидел ее, — мечтал. Она была выше ростом и смотрела на меня, глаза ее и бант с блестками в волосах, блестели на солнце. "Сама иди", — ответил я, залившись краской, и не нашел, как скрыть это. Я тогда все время краснел. Как впрочем, и теперь.
Прошло полтора года. Мы учились во вторую смену, и как-то зимним вечером Оля подходит ко мне в раздевалке и говорит: "Ты бы не мог меня проводить? Папа уехал, а мама задержалась на работе, и она сказала, чтобы кто-нибудь из мальчиков меня проводил до подъезда. У нас там темно во дворе и хулиганы". "Ладно", — ответил я, пожав плечами, будто для меня это обычное дело — и покраснел, но успел ловко уронить шапку.
Помню, как мы шли, сперва по проспекту, потом свернули на улицу и на перекрестке, подождав, пока проедет грузовик, Оля сказала: "Ты не хочешь мне помочь?" Я взял ее портфель с радостью, которую никогда потом не испытывал, она рвалась наружу, под крыши домов, в темно-фиолетовое зимнее московское небо. Я умолял стрелки часов остановиться, чтобы мы никогда не дошли до ее подъезда. Чтобы шли вот так по улице, под аркой, где гулко, оглушительно, радостно хрустел у нас под ногами снег, и шли по дорожкам двора, где хулиганы перебили фонари, и чтобы доносились от голубятни их хриплые пьяные голоса; мне и боязно было, подрагивало в коленках, но я счастлив был, ожидая, представляя, как подойдут к нам двое, трое блатных и… В тот вечер я впервые почувствовал себя мужчиной. Я уверен был, что отдам за Олю жизнь. Я и теперь уверен.
Мы пошли на каток в Лужники, и она учила меня катиться спиной, а у меня не получалось. Сидели в раздевалке. Разговаривали. И потом я снова зашнуровывал ее высокие ботинки с фигурными коньками. Она положила одну ногу на другую, я опустился перед ней на колени и вдруг прикоснулся — случайно, страшась и мечтая об этом — прикоснулся пальцами к ее ноге, упругой икре, обтянутой мягкой белой шерстью рейтуз. Мы катались по кругу под музыку, и шел снег, кружили снежинки, переливающиеся на свету серебряным, рубиновым, аметистовым, она ловила их ртом, ее теплая рука в варежке была в моей руке… Засмотревшись на небо, я упал, больно ударился об лед затылком, и она гладила меня по голове, улыбаясь, и шептала: "У кошки боли, у собаки боли, у мышки боли, а у Коленьки заживи". И она прикоснулась губами к краешку моих губ.
"Наши победили?" — вскакивала моя бабушка, проспав перед телевизором весь фильм. Так же примерно и Оля, и опять не сразу сообразила, где она — подумала, что дома.
Мы вышли. От света заболели глаза.
Прошли немного и уперлись в толпу, за которой под духовой оркестр в колонне по шесть маршировали веселые фронтовики, увешанные орденами и медалями.
— И сегодня, как сорок лет назад… — бодро говорил кто-то в мегафон.
"За Родину!" — кричали фронтовики, идя на смерть. Те, с которыми я воевал два года, кричали "Аллах акбар" (Аллах велик). А нам оставалось лишь материться, поднимаясь в рукопашную. Нет ничего страшнее, чем смерть с матерщиной на устах. И когда воюешь, воюешь, штык-ножом колешь, с землею срастаешься в "оборонке" под пулями, таскаешь на себе по центнеру, голодаешь, спишь в снегу между камнями и вдруг саданет по темечку: ради чего? "Многие не поняли революцию, — говорил приехавший к нам в лагерь начальник "Хада" — афганских сил безопасности. — Безграмотный народ. В отдельных провинциях еще четырнадцатый век — тысяча триста шестьдесят второй год наступает. Душманы им платят, дают оружие, а с оружием можно и награбить сколько хочешь, и женщин набрать. Служат сперва в нашей армии, затем у душманов и документы получают там, и там — на всякий случай. Танки подрывают чаще не душманы, а обычные крестьяне, мальчишки и этим зарабатывают на жизнь". "Сколько здесь ни воюй, все без толку", — послышалось с задних рядов. Мы думали, замполит начнет про многострадальный афганский народ, про интернациональный долг, но он лишь посмотрел в ту сторону, откуда донеслись слова, и ничего не сказал.
Мы пошли обратно, свернули на проспект, увешанный флагами. Там тоже движение было перекрыто, кричали, хлопали, потом грянул прямо над нами из рупора марш "День Победы".
— Мы с тобой чужие на этом празднике, — сказала Оля грустно. — Пошли куда-нибудь.
Так мы шатались по городу от одной праздничной толпы к другой. Устали. Оля сказала, что хочет выпить вина. Я купил "бомбу" ноль-восемь. Ни у Оли в сумке, ни у меня в кармане бутылка не поместилась, пришлось держать ее в руке.
— А где будем пить? — спросила Оля.
— В подъезде, — ответил я. — Помнишь, как под Новый год в десятом классе?
— Помню. Здорово было.
— И теперь здорово! Сейчас вмажем…
— А ты помнишь, в девятом классе на твой день рождения ты подрался с Олегом, когда он сказал в магазине, где фронтовики все лезли и лезли за водкой без очереди: "Надоели эти недобитки". И Олег избил тебя. Потому что был уже кандидатом в мастера по боксу. А до этого вы спорили, что сильней, бокс или твое дзюдо. Помнишь?
— Помню.
— И потом мы на комсомольском собрании обсуждали поведение комсорга. Наташка Самкова особенно бушевала, крови требовала. А Андрей Воронин заступился за тебя. И я. А ты сидел в углу с фингалом, так ни слова и не сказал. Но сейчас я не хочу пить в подъезде.
— Давай дворик какой-нибудь найдем.
— В милицию не заметут?
— Напугал тебя вчерашний лейтенант в ресторане, — улыбнулся я.
— Никто меня не напугал, — сказала Оля. — И потом, неужели это вчера было? Да. Вчера. А мне кажется, что уже так давно "Со светлой вершины дано вам отныне… Ребята! Будьте щедры на труд, любовь и крики рождений!" Как ты думаешь, что такое крики рождений?
— Не знаю.
— "Создавайте прочную советскую семью и помните: чем крепче семья, тем прочнее наше общество. Тем ближе коммунизм".
Мы прошли по набережной, где дул ветер, бились о гранит волны, тащились по слезоточивому небу налитые мутью тучи. Свернули во двор, похожий на колодец, но там играли дети. Другой двор был весь завешан бельем и там тоже играли дети, и мужики в плащах и кепках резались в домино
— А почему мы не едем к Онегину, доброму твоему приятелю? Может быть, и нет никакого Онегина-Ленского в помине? Ты его придумал?
— Придумал? Зачем?
— Ну… я все твержу, что у тебя нет друзей, вот ты и придумал этого своего Ленского — друга, живущего в другом городе. А?
— Поехали, — сказал я.
— На такси?
— На метро.
— Почему ты так рассвирепел?
— Надоело.
— Что тебе надоело?
— Все.
— И я?
— Надоело, что ты меня все время в чем-то пытаешься уличить. В идиотизме чаще всего.
— Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав.
— Какого черта! — вскрикнул я, споткнувшись о чью-то ногу в вагоне.
— Прекрати, — сказала Оля. — А то ведь мне тоже может надоесть твое хамство.
— Прости.
Молча мы доехали до конечной станции, молча простояли на автобусной остановке под дождем минут двадцать. В автобусе народу было битком, пахло мокрой резиной и синтетикой. Я спрашивал, когда будет магазин "Диета", но никто мне ответить не мог и названия улицы, которое у меня было записано, никто не знал. Оля отрешенно смотрела в окно. Я увидел впереди большой стеклянный магазин с надписью "Диета" наверху.
— Оля, сходим, — сказал я и огрызнулся на окружающих, не выдержав: — А вы говорили — нет такого!
— Так это ж новая "Диета", сынок, так и сказал бы.
Пошли через пустырь с остатками бревенчатых изб, свалками, выкорчеванными липами. Оля молча шла впереди, не оборачиваясь. Возле голубятни остановились. Паренек лет четырнадцати чистил нагул, над головой у него на жердочках сидели мокрые сонные надувшиеся турманы, монахи, чайки.
— Чего надо? — угрюмо осведомился парень.
— Ничего не надо, — пожала плечами Оля. — А почему ты такой злой?
— Здесь вам не выставка, ясно?
— А если по шее? — осведомился в свою очередь я.
Паренек с ненавистью посмотрел на меня, на Олю, сплюнул сквозь щелочку между зубами, но промолчал. Открыл дверцу и на четвереньках влез внутрь голубятни.
— Ты никогда не гонял голубей? — спросила Оля.
— Гонял. С Лешкой Томилиным, ты же помнишь.
— Помню. А я никогда не держала живого голубя в руках.
— Хочешь? — я шагнул к голубятне, но Оля остановила:
— Стой, сумасшедший! Он позовет своих малолетних бандитов и они…
Я усмехнулся, хотел открыть нагул, но Оля быстро пошла по тропинке. Я догнал ее.
— Я уже не хочу, — сказала она. — В детстве хотела, но боялась. Однажды в открытое окно залетел белый голубь и стал биться о стекло. А поймать его руками я боялась. Хотела полотенцем, но он все сильней бился. Ушла в школу. А когда вернулась, он мертвый лежал под батареей. Весь подоконник был усыпан окровавленными перышками. Я плакала. Я чувствовала себя убийцей. Втайне ото всех похоронила голубя во дворе под деревом, крестик маленький поставила. И ночью стихотворение написала, посвященное ему.
— Стихотворение? Ты писала стихи?
— Да.
— Я не знал.
— Ты много чего не знал, — сказала Оля. — И не узнаешь никогда.
— Почему ты так говоришь?
— Потому что знаю. Потому что ты думаешь только о себе.
— Я?
— Ты. Все мужчины эгоисты. Вот собираетесь вы у Павла в этой вашей Слободке, кричите, спорите — но никогда не поймете, вам просто дела нет до того, что пока вы там из своих крупнокалиберных пулеметов строчили и с парашютами прыгали, тем, кто вас ждал, было гораздо хуже — вашим родителям, вашим…
— Девушкам, — сказал я, обнимая ее за талию.
— Ужасно пошлое слово! Когда я слышу по радио передачу для воинов — "подруги", "девушки" — меня тошнит.
— А как иначе скажешь?
— Не знаю. Никак. Это все вранье.
— Что — это?
— Все. "Не плачь, девчонка…" Вообще все. И то, что пишут в газетах про вас, и то, что папа и его друзья рассказывают. И мама. Верней, не вранье, конечно, нет — но и не вся правда. А разве бывает полуправда? Разве бывает, например, полубеременность? Нет, не бывает. И от этого все. Моего деда расстреляли в тридцать седьмом году. А я только прошлой зимой об этом узнала, говорили, погиб на какой-то стройке на Дальнем Востоке. И о том, что папа — как сын врага народа — в штрафном батальоне должен был кровью искупить вину, которой не было. И еще много лет скрывал это от мамы. И они потом скрывали от меня. Знаешь, как в спорте палочку передают эстафетную. Эстафета вранья.
— Ты мне не говорила.
— А зачем? Ты бы лучше стал относиться к моему отцу?
— Я к нему хорошо отношусь.
— Ты думаешь, я дурочка? Я не вижу ничего?
Я пожал плечами.
— Ну пойдем мы к Ленскому или не пойдем?
— Ты не хочешь?
— Спросил с надеждой он, — усмехнулась Оля. — Я вижу, что ты не хочешь.
— Пойдем, — сказал я и убыстрил шаг, но в этот момент нас обогнал на велосипеде голубятник; отъехав шагов на тридцать, он повернулся и обругал нас матом.
— Вот гад, — развел руками я, потому что больше ничего не оставалось: гоняться за ним по пустырю, чтобы надавать подзатыльников, было бы смешно. — Что мы ему плохого сделали?
— Ничего. Но кто-то другой, наверное, сделал. Ничего просто так не бывает.
— Какая ты у меня умная, — улыбнулся я, и Оля улыбнулась.
— Опять-таки эстафета. Скажи честно, почему ты не хочешь идти к своему Игорю Ленскому? Он высокий? Он блондин или брюнет?
— Зачем тебе?
— Просто интересно. Ты помнишь, в школе в восьмом классе я Ольгу играла в "Евгении Онегине"? А тут Ленский.
— Он на того Ленского не похож.
— И я на ту Ольгу не похожа. Скорее, на Татьяну.
— У Игоря Ленского руки нет, — тихо сказал я.
— Как?
— Очень просто. Вот восемнадцатый дом. Корпус один. Шестой этаж.
"Ленские — 2 звонка". Я позвонил. Открыла дверь женщина.
— Вам кого?
— Игорь дома?
— Проходите. Игорек, к тебе!
— А, привет.
— Познакомься. Это моя жена. Оля.
— Игорь. Проходите. Какими судьбами?
— Сели в поезд и приехали. Заранее, правда, билет взяли.
— Погулять?
— Ну да… У Оли здесь отец воевал.
— А. Понятно. Садитесь, в ногах правды нет.
— Да мы на минутку, так просто…
— Ну ладно — если так просто.
— Да нет, мы сядем, Игорь.
— Видишь кого-нибудь из наших?
— Пашку часто. Толика вижу. Саню. Виктора Гармаша. Помнишь Виктора из ДШБ?
— Нет. А как вообще дела? Работаешь?
— В институт буду поступать.
— В какой?
— В МГУ. На исторический. А ты?
— Я работаю.
— Где?
— В сберкассе.
— Поступать никуда не думаешь?
— Не знаю.
Помолчали.
— Ну… мы пойдем?
— Смотрите.
— Ладно, Игорек. Бывай. Рад был тебя повидать.
— Я тоже.
— Пока.
— Пока. А Юрка Белый поступил на капитана учиться, не знаешь? — спросил я в дверях.
— В морге работает на Урицкого. При мединституте. Вы бы к матери Саши Волкова зашли, она одна. Рада будет.
— Какого Саши Волкова?
— Не помнишь? Черпаком был, когда мы дембельнулись. Длинный, ушастый такой. В "вертушке" сгорел. Зайдите, одна она.
14
Мы долго шли по улице молча.
— Он до армии учился в музыкальной школе, — сказал я.
— Боже мой.
— Почти по плечо ему руку. Говорил я тебе, что не надо было ходить. На тебе лица нет.
— И ничего нельзя было сделать?
— В каком смысле?
— Там, наверное, врачи чудовищные. Чуть что — они не раздумывая…
— Ему не врачи. Наши ребята.
— Ваши?
— Да, ночью. "Духи" нас купили. Засела их группа наблюдения между двумя нашими взводами и открыла огонь. По нам. Мы ответили, думая, что второй взвод километра на три от нас отстал. А он как раз за "духами" в этот момент был.
— Значит, ты сам и стрелял по своему другу?
— Какая разница, я или не я?
— И вы так спокойно разговаривали… Боже мой.
Автобус сразу подошел. Оля села на свободное место, я встал рядом. Поехали мимо одинаковых серых панельных домов. За спиной разговаривали о передаче "Утренняя почта". Впереди мальчишки спорили о каком-то последнем диске. Я вдруг услышал голос Игорька: "Ребята, играть я вам больше не смогу". Спокойно так сказал, когда мы несли его к броне на плащ-палатке. Будто закурить у него попросили, а он ответил, что одна осталась, а ночь в карауле стоять. Как бы извиняясь. Покажи это в кино про войну — не поверили бы. Вот если б орал музыкант, потерявший руку, или плакал. У бывшего защитника "Таврии" из десантно-штурмового батальона "бакшиш", то есть, подарок к Седьмому ноября — реактивный снаряд — оторвал обе ноги выше колен. Хорошо помню: пук — шелест — вспышка — грохот с волной — тишина. Футболист не рыдал, не выл. Он только задышал сразу как-то странно-громко, часто, по-собачьи. И сознание не потерял. Он сказал: "а мне ноги" в ответ на слова старшины, сидевшего у входа в убежище: "мне руку оторвало". И это не был шок или действие промедола. Потом футболист попросил меня, потому что я был ближе, рассечь штык-ножом лоскуток кожи, на котором висела еще нога: "Что она болтаться будет, как эта, все равно уже не прирастет".
Автобус дернулся — я едва успел ухватиться за поручень.
— Возьми билеты, — сказала Оля.
Я пошел, взял, отдал Оле, она проверила — не счастливые. Она вздохнула и отвернулась к окну, испещренному мелкими дождевыми каплями. Мы ехали мимо развороченного экскаваторами оврага. Автобус снова дернулся перед светофором, я больно ушибся коленом об угол сиденья и лишь потом, когда мы были уже на улице, а автобус ушел, с Олиной помощью я восстановил в памяти, как бросился к шоферской будке, рванул дверцу, но на мое счастье дверца оказалась заперта, а может быть, рванул ее в другую сторону, — и тут же ко мне подскочила Оля и выволокла меня из автобуса.
— Ты просто параноик, я поняла, буйный шизофреник!
— Извини, — твердил я, опустив глаза. — Извини.
— Я боюсь тебя, я боюсь с тобой оставаться, ты понимаешь? Я не представляю, как мы будем с тобой жить!
— Я больше не буду, Оль. Извини.
Она остановила такси и мы вернулись в центр, поехали по набережной.
— Улица Урицкого далеко? Где мединститут.
— Нет, — ответил таксист, — у вокзала.
— Поехали туда.
— В морг? — спросил я.
— Это как нельзя более соответствует настроению. К тому же, я никогда не была. А ты не хочешь повидать своего боевого товарища?
Мы зашли на вокзал, купили билеты и поехали в мединститут. Он был закрыт. "А для морга самая работа в праздники, — сказала нам пожилая вахтерша. — Прямо, налево, еще раз налево и еще, а потом направо вниз. Вы не возражайте только ему, Юрке. Нервенный он".
Едва мы спустились в полумраке по лестнице, как погрузились в плотный терпкий запах, незнакомый Оле и хорошо знакомый мне; я и прежде замечал, что запахи включают память быстрей и беспощадней чего бы то ни было, но тут был явный обман, потому что накатила вдруг веселость, зазвучали в памяти нетрезвые гортанные голоса, переливчатая музыка, и я не сразу вспомнил, как отвезя на афганской "бурбухайке" в морг груз 200 — пехоту, одного "самоварщика" — минометчика, одного нашего и двоих разведчиков, попавших под "град", — мы с Мишей Хитяевым загуляли в Джелалабаде, отмечая его день рождения, и так славно посидели в каком-то дукане на окраине, что проснулись под утро на "губе" и, лишь начинали вспоминать вчерашнее, — едва не падали на цементный пол тюрьмы от хохота: было что вспомнить.
Не сразу я узнал Юру — там он ходил всегда стриженный почти "под нулевку", а теперь оброс, свешивались на уши грязные, слипшиеся, словно сиропом голову облил, волосы, кустилась редкая бороденка. А он меня сразу узнал. И показалось, что мы только вчера простились. Но мы обнялись и долго молча стояли так, обнявшись, а вокруг на столах лежали желто-зеленые голые трупы, и я забыл, что Оля здесь со мной.
— Уйдем отсюда, — сказала она. — Я не могу… я не знала, что это так. Вы пообщайтесь, а я на улице подожду.
Зажав пальцами ноздри и по сторонам не глядя, она торопливо вышла. А мы еще долго молчали.
— Давай за встречу, — предложил я.
— У меня прозрачный есть, — сказал Юра, уже изрядно выпивший. — Не брезгуешь?
Он достал из-под стола пузырек, мы сели, выпили граммов по пятьдесят спирта с каким-то нехорошим привкусом. Юру совсем развезло. Шатаясь, он стал ходить между столами и рассказывать, подхихикивая по привычке, и с видимым удовольствием, точно краснодеревщик о своей мебели: этот удавился, тот, без головы, на мотоцикле под поезд, девчонка газом траванулась, старик сгорел, тетка из окна выпрыгнула, старуха от старости, мальчишка под автобус угодил… Мы еще немного выпили.
— Нравится работа? — поинтересовался я.
— Как на праздник каждый день хожу. Еще будешь?
— Нет, спасибо.
Он допил спирт. Поговорили о ребятах.
— У Игоря Ленского был. Он сказал, чтобы к матери Саши Волкова зашли. Помнишь такого?
— Я его чуть не убил, козла, — ответил Юра. — Однажды на подъеме выдохся и мины свои выбросил в кусты. А "духи" следом шли, нас же этими минами и накрыли в "зеленке". Ты в госпитале был.
— Чего уж теперь… Он в "вертушке" сгорел, знаешь?
— Знаю. Привезли цинковый ящик, закопали на Федосьевском, а мать с родственниками ночью пришла, выкопали, открыли — там земля. Она военкому чуть глаза не выцарапала. До сих пор уверена, что жив ее Саша. Ты к ней не ходи. Она всех нас, которые вернулись, даже Игоря Ленского, ненавидит. А может, правда, жив? Поддам хорошенько… — Юра замолчал, лицо его вдруг постарело, зависли надо ртом морщины. — И кажется, мы там в войну играли, как в детстве, и попадали ребята понарошку. Помнишь, во дворе, "падай, а то играть не буду!"
— Каждый день поддаешь?
— Стараюсь принимать на грудь. А ты? Клевая с тобой телка — где подцепил-то, у нас уже?
— Это не телка. Жена.
— Ну ты даешь. Ну это ты здорово придумал. Это ж надо обмыть!
— Нет.
— Что, брезгуешь? Что, забыл, да, как мы…
— Кончай!
Стукнула входная дверь — реаниматоры привезли очередной труп.
— Юра, — сказал я в коридоре. — А как же бананово-апельсиновая и вся в цветах Флориана, про которую ты нам рассказывал? Уже не хочешь туда плыть? Быть капитаном?
Он долго пьяно на меня смотрел.
— Нет никакой Флорианы, ты понял? И ни хрена нет. Все туфта, что нам с детства в головы вдалбливали. Вся история с географией — туфта. Знаешь, что такое пушечное мясо? Мы с тобой. Затем нас и откармливало государство коржиками.
— Какими еще коржиками?
— Которые бесплатно в школьном буфете давали. Помоги жмурика закинуть.
Он долго меня не отпускал, я еле вырвался, и он кричал, что уроет меня, если еще встретит, потому что я предал ребят…
— Так и будем с тобой таскаться? — сказала Оля, дотронувшись до газеты, в которую была завернута бутылка. — Давай, наконец, выпьем. Где угодно. Мне наплевать.
Проехав несколько остановок на троллейбусе, примостились на пустыре за трехметровой обшарпанной стеной с колючей проволокой наверху. Посреди пустыря была свалка. Там было множество ворон. Оля села на перевернутый ящик, я — на кирпич.
— Прекрасно, — сказала Оля.
Откуда-то доносилось: "битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Побе-еды…"
Я перевернул бутылку и стал колотить кулаком по донышку, чтобы выбить пробку. Она вылезла на несколько миллиметров, но дальше не шла.
— А я наконец-то ноги промочила, — радостно заявила Оля, глядя на наполнившиеся водой следы от туфель. Ноги она держала на весу. Я поискал глазами и увидел невдалеке фанерку. Принес, подстелил. Взял в руки ее ступню, как в детстве голубя, и поцеловал.
— Она же мокрая, дурачок, — сказала Оля и погладила меня по голове.
Я положил голову к ней на колени
— Накрой меня, — сказал я.
— Чем?
— Чем-нибудь. Юбкой.
— Глупый ты мой, — сказала Оля, высвобождая подол из-под моей щеки, и накрыла мне голову. — Маленький глупый мальчик. Хороший…
Рассказать ей? — подумал я. Нет, стыдно. И смешно. Однажды в ночном бою я вдруг сделал "открытие": человек, во всяком случае, мужчина, произошел не от обезьяны, а от страуса. Прицельно работал их миномет, "трассы" сверкали, в любой момент реактивный снаряд мог жахнуть, а мне вдруг — не от страха, нет, я уж не сынком был, но и не совсем дедушкой — захотелось спрятать голову Оле под юбку. "Страусиное" это чувство мгновенно смылось, я его прогнал пинками, но запомнилось.
— Тепло тебе там, бесстыдник? — спросила Оля. — А девочка твоя наверху замерзла. Вылезай, слышишь? И открывай скорей вино. Ты там заснул?
Голос у нее был нежный. Нежными были ее руки, ее бедра. От нее пахло нежностью. Мне захотелось заплакать. Слезливый я стал. И ничего поделать с собой не могу.
— Ну хватит, вылезай, — Оля подняла юбку. — Так бы и прожил всю жизнь у меня под юбкой?
— Ага. Всю жизнь.
Порыв ветра поднял со свалки тучу пепла, взлетели вороны, закаркали. Я протолкнул пальцем пробку внутрь и подал Оле "бомбу".
— Прямо из бутылки? Ладно. Господи благослови. Тихий ужас…
Она стала пить, откинув голову, прикрыв глаза, но пробка поднялась и застряла в горлышке.
— Никогда не пила ничего более гадкого, — сморщившись, сказала Оля, но протолкнула мизинцем пробку и выпила еще.
Я тоже выпил. Портвейн бухнул по голове, словно мешком, потому что давно не ели и почти не спали. Но первая волна улеглась. Прошел озноб. На свалку, на забор с колючей проволокой, на все вокруг смотреть стало веселей.
— Алкаши мы несчастные, — улыбнулась Оля, вытаскивая из сумки пачку "Явы". — Пили портвейн из горла, дурь курили — так проводили они месяц медовый.
Она задумалась, глядя на свалку, и вдруг разразилась полупьяным похабным смехом. Но сразу оборвала.
— Расскажи, — попросила, — как убили командира взвода.
— Зачем тебе?
— Я хочу знать, как убивают. Расскажи.
— Сейчас, здесь?
— Сейчас, здесь. Как?
— На дороге. Из нашего АКМа[5].
— Почему из нашего?
— У них много нашего оружия. Мы сопровождали колонну. Везли хлеб в высокогорные кишлаки. Там весь хлеб пожгли. А уже поздняя осень была. Они бы, может быть, и не напали, если бы им не донесли, что взводный там. За ним все время охотились. Ну, и вечером, незадолго до темноты, кумулятивными снарядами они подбили, как всегда, головную машину колонны и замыкающую. Был бой. И взводного убили.
— Все? — спросила Оля, — Это все, что ты можешь рассказать?
— Его не сразу убили. Сперва в руку ранили. А потом…
— Что?
— Олька, не умею я рассказывать.
— А что ты умеешь?
— Не знаю. Он лежал один на дороге, а подползти к нему мы не могли. Очень плотный был огонь. И "ЗИЛ" рядом пылал. И осветительные снаряды повесили. Светло было, как днем.
— А почему он сам не уполз с дороги?
— Не мог. Они ему и вторую руку перебили. И потом играть начали; только он шевельнется, сразу пули рядом ложатся, в нескольких сантиметрах. А взводный матерится, он, понимаешь, должен был стоя последнюю пулю принять. Но с перебитыми руками как встанешь? И кровь, я не видел, чтобы из одного человека столько…
— Ужас.
— Ну вот.
— И убили?
— Нет. Долго не убивали. Ему почти удалось однажды подняться. Но они и ноги ему перебили.
— А вы лежали и смотрели.
— А что, что мы могли, ну что?!
— Во-первых, не ори на меня. Во-вторых, я не верю, что ничего нельзя было сделать. Гранату какую-нибудь бросить туда, откуда они стреляли. Мне папа рассказывал, как в Варшаве…
— Папа. В Варшаве. Папа у тебя герой.
Я хотел еще сказать Оле, что последнее перед смертью слово командира было "мама". Я бы не поверил, что человек может так кричать. Распятый на дороге, взводный закричал, чтобы услышали крик дома, в России: "Ма-ма!!", и крест-накрест его прошили длинными очередями, потому что появился наш "шмель", вертолет огневой поддержки, и им стало уже не до игры. Мы отомстили. Лишь на рассвете ушли от кишлака, и дым стоял за нашей спиной. А взводный, рассказывали ребята, которые понесли его в лагерь, очнулся и все смотрел, смотрел на небо и на горы, а жизнь не уходила, такая жизнь, равной по силе которой, может, и не было больше, разве что в былинные времена. В лагере мы положили взводного на лафет БМП[6]. Дали салют — три одиночных выстрела. Поцеловали его все по очереди. Ночью Пашка молча рыдал.
Но ничего этого я не сказал Оле.
— Не буду я тебе больше рассказывать.
— Дело твое, — она вытащила сигарету, стала ее разминать.
Мы долго молчали, глядя на ворон.
— Не буду, — повторил я. — Не надо ничего этого тебе знать.
— Ах, вот как? — отхлебнув из бутылки, она поставила ее на землю. — Ты решаешь, что мне надо, а чего не надо?
— Пусть твой папа тебе про войну рассказывает.
Она прикурила и с наслаждением глубоко затянулась.
— Не хочешь?
— Нет, спасибо.
— Железобетонная все-таки у тебя воля. Ты настоящий мужчина.
Скривив в непонятной усмешке вишневые от вина губы, закинув ногу на ногу, Оля посмотрела на меня из-под опущенных ресниц. Мне стало неприятно. Я спросил:
— Ты о чем?
— Все о том же, — она затянулась, держа сигарету кончиками пальцев, а усмешка на губах сделалась брезгливой и она не пыталась это скрыть. — У тебя воля, ты настоящий мужчина. Какой же может быть мужик без силы воли?
На улице прогрохотал грузовик.
— Помнишь, как мы пришли к твоему другу, я карточный домик строила?
— Помню, — сказал я.
Она задумчиво посмотрела на меня.
— А вот у меня никакой нет воли, — она снова отпила из бутылки. — Я раз двадцать собиралась бросить, и писала тебе, что бросила, помнишь? Но ничего у меня не получается. Ты меня научишь? Заставишь? Ты способен меня заставить? Знаешь, почему я вышла за тебя? Нет, я люблю тебя, конечно. Но еще — сказать? Я уже говорила… Мне безумно надоели все эти полумужчины, которые слоняются с рыбьими глазами у нас по институту, по улице Горького, по ялтинской набережной… Всюду. Ни в чем, и в себе прежде всего, не уверенные, вечно сомневающиеся… Надоели, понимаешь? Когда ты вернулся, ты мне казался настоящим рыцарем. Не знаю, может быть, я все выдумала. Извини. Не обижайся. Я вечно выдумываю. А хорошо сидим, да? Я и представить себе не могла, что в своем свадебном путешествии буду сидеть на пустыре возле свалки и пить портвейн из горла, и что мне будет так клево. Ты знаешь, прошлой зимой я ловила такси на Садовом кольце, и останавливается частник, приглашает в свою "Ладу". А у него там стерео, штучки разные иностранные…
— Зачем ты мне это рассказываешь?
— Глупый, ничего ж не было. Я бы и не села к нему, но холод, снег с дождем… — Оля замолчала и, склонив голову, поджав губы, внимательно на меня посмотрела. — А почему ты собственно так со мной разговариваешь? — спросила не своим голосом. — Кто дал тебе право? В конце концов, что хочу, то и рассказываю. Это уж, знаешь, мое личное дело. И он пригласил меня к себе домой на чашку кофе, и…
— Не надо, Оля.
— Что не надо? Что?!
— Не кричи.
— А почему это я не должна кричать?
— Тогда кричи.
— Ах, так! — она вскочила, бутылка, стоявшая у нее в ногах, повалилась и вино полилось в грязь. — Все, — сказала она, когда в бутылке ничего не осталось. — Довольно. С меня хватит. Привет.
— Это правда, Оля? — сказал я, и она остановилась, враждебно на меня глядя.
— Что?
— То, что мне рассказывали о тебе?
— Что я… Что я вообще подряд со всеми?
— Что ты делала аборт от Андрея Воронина — лейтенанта запаса.
— Ты… ты с ума сошел? — Оля побелела, у нее задрожала нижняя губа. — И ты, естественно, всему этому веришь?
— Я не знаю.
— Не знаешь? И как же ты женился-то на мне?
— Это правда? — повторил я.
— Что пробы негде ставить?
— Насчет аборта.
— А если правда? Что тогда? Ну что? Разведешься со мной? Да разводись хоть сегодня! Жаль, загсы закрыты. Ничего, завтра приедем в Москву…
— Оля, успокойся…
— Пошел ты… — она полоснула мне по лицу ненавистным взглядом, повесила сумку на плечо и ушла, обходя лужи, а я глядел на нее и что-то мешало мне встать и даже окликнуть ее.
Она плакала в подъезде, когда я разыскал ее. Если я верю всякой пакости, сказала, значит, все вранье насчет того, что люблю. Я попросил прощения, но она твердила: "шлюха, шлюха, развратная продажная тварь, со всем институтом переспала, со всей Москвой!" Я сел рядом с ней на ступеньку, обнял ее. Поцеловал, слизнул со щеки слезинку. Сказал, что не верю.
— Поклянись.
— Клянусь, — сказал я, но она плакала.
Она никогда не думала, что в свадебном путешествии будет пить портвейн рядом с вонючей свалкой. Не думала, что ее выгонят из гостиницы в первую брачную ночь, что голодная, усталая, с мокрыми ногами будет скитаться по этому чужому холодному городу, где она никому не нужна…
Оля говорила так, будто одна сюда приехала, будто меня вовсе нет. Вспоминала, как ездила в детстве с папой в разные города и как хорошо было, как их встречали и возили на машине, показывали и рассказывали, угощали… Она думала, что и теперь так будет. Но все по-другому.
— Никакого аборта ни от кого я не делала! Но если бы даже и делала, кто был бы в этом виноват? Я ведь не мумия, я живой человек. Женщина. Кто меня бросил на целых два года? Кто сдал экзамены в институт, а потом нарочно забрал документы, чтобы…
— Чтобы что? — спросил я.
— Ничего, — ответила Оля. — Чтобы доказать себе что-то. Думал, героем вернешься, да? Никому здесь не нужно ваше геройство! Да и что вы там…
— Замолчи, Оля, — сказал я.
— Ударь меня. Ты умеешь это делать. Ты же герой, а я б…
— Ты не б…. — сказал я. — Ты просто дура.
— Дура, — сказала она тихо, покорно, и долго молчала — Но у меня больше не будет в жизни свадебных путешествий, ты понимаешь? Да, мне хотелось быть красивой, поэтому я набрала с собой столько платьев, и чтобы все вокруг было красиво, и была вкусная еда, вкусное вино, и чистая широкая постель с накрахмаленным бельем, и чтобы светило солнце и все улыбались… Не понимаешь? — она вскинула воспаленные, в слезах глаза. — Прости меня, — сказала она. — Но я хотела, чтобы все у нас было по-другому. Прости.
Молча я взял ее за руку и вывел из подъезда. Моросил дождь. Дребезжали, стучали от ветра отливы на окнах. Навертывались на древки флаги.
— Ты меня не можешь любить, — сказала Оля. — Или ты не любил меня до армии. Потому что это два совершенно разных человека — ты тогдашний и ты теперешний. И я другая. Это у нас с тобой просто детство было, а не любовь А сейчас… Я сразу, когда ты вернулся, поняла, что ничего у нас с тобой быть не может.
— Почему же… зачем ты согласилась выйти за меня замуж?
— Честно? Не обижайся. Ты такой растерянный был, неуклюжий, лишний в нашей обычной жизни… такой жалкий.
— Пожалела? Спасибо.
— Нет, я тебя люблю, но… не слушай меня, я действительно дура. Не слушай!
До поезда оставалось еще пять часов. Мы пошли по улице в центр, я держал Олю под руку. В парке звучала песня "День Победы". Блестели под дождем медали и ордена фронтовиков.
— Ты стыдишься своего ордена? — спросила Оля. — Ты его не считаешь за награду, потому что вручили не торжественно, а в пыльном, заваленном бумагами кабинете военкомата?
— Я его считаю за награду, — сказал я. Отошел к стене, вытащил из кармана коробочку и привинтил Звезду на пиджак.
Мне и в самом деле вручили ее, как я рассказал Оле. Вызвали. Полчаса ждал в коридоре, вошел. Майор долго что-то писал, не обращая на меня внимания. Входили и выходили люди, а я стоял у дверей. Потом майор поднялся, пробормотал что-то, глядя в окно, сунул мне коробочку и сказал почему-то раздраженно: "Следующий". Если честно, я думал, будет иначе. Но разве в этом дело?
— Идет тебе, — улыбнулась Оля. Глаза ее все еще были мутными от слез.
— Куда ты хочешь, чтобы мы пошли сейчас? — сказал я.
— В самый лучший ресторан, — сказала Оля. — И чтобы ты там заказывал для меня музыку.
Я спросил у прохожего, какой в городе ресторан считается лучшим. Он назвал, но добавил, с сомнением глядя на мою Звезду, что попадем мы туда сегодня вряд ли.
— Попадем, — сказал я и взял Олю за руку.
У дверей ресторана толпился народ, в основном фронтовики.
— Очередь, — сказала Оля.
Я остановился, соображая, что предпринять, а Оля, спросив, кто последний, заняла очередь. Перед ней стояло человек пятнадцать.
— …я ему тут прикладом, значит, хрясь по фашистской роже! — вспоминал кряжистый, весь в орденах, с седыми ресницами фронтовик в шляпе, вскидывая крепко сжатые круглые волосатые кулаки. — И ногой! Гляжу, а сзади прет на меня…
— …вынесли мы его на плащ-палатке, — говорил другой.
— …в самом конце апреля сорок пятого, — говорил третий, — может, в тот самый час, когда Гитлера сжигали, если, конечно, его…
— …Нет, а ты помнишь…
— …свалил я его с двух ударов, а на меня с бруствера еще двое здоровенных таких эсэсовцев — им тогда "язык" позарез был нужен…
"Десантники, сдавайтесь! — услышал я сквозь голоса фронтовиков у ресторана и шум машин на площади и музыку из окон. — Это говорю я, мулла Ахмад". И все вдруг стихло. Показалось, что слышно темноту. У Вити в ТТ[7] оставалось два патрона, но ТТ мы называли "мухобойкой". У меня был пистолет-нож с одной малокалиберной пулей. И две гранаты на двоих. И две тротиловые шашки. "У умного солдата и рукавица гранатой может стать", — говорил взводный. И он умел это делать. Я размахнулся и швырнул в сторону пустой "рожок". Они тут же открыли на звук огонь, и Витя точно бросил оборонительную гранату. Снова стихло. Лишь кто-то из них слабо стонал внизу. Прошло минут пять. Зная, что нас двое, но по рации мы могли вызвать подкрепление, они поползли. Ахмад тем временем через мегафон чуть ли не шутя описывал, что он с нами сделает, если мы не сдадимся, и что-то о Москве, о наших женщинах, но разобрать было трудно. "С-сука!" — закричал Витя, поймав в прибор ночного видения одного, который подполз к нам совсем близко, и застрелил его из пистолета. И тут же человек восемь вскочили, но моя "эфка" разметала их, на скале над нами повис обрывок белой чалмы. Мы поняли, что нас окружили "черные аисты" — пакистанский отряд специального назначения, командос. Поняли, что вряд ли уйдем.
Группу фронтовиков пропустили в ресторан. Прошло время и кряжистый, с седыми ресницами, вышел на улицу кого-то встретить или просто покурить. А мы все стояли. С козырька над входом в ресторан падали холодные капли, одна попала мне за шиворот и покатилась между лопатками.
— Дай ему трешник, — тихо сказала Оля, кивнув на швейцара, у которого на форменном кителе тоже поблескивали две медали.
— Что?
— Три рубля… Да разве ты можешь, — вздохнула Оля. — Ладно. Будем стоять.
Кряжистый снова что-то рассказывал, размахивая кулаками. Подошли еще фронтовики, кто-то назвал кряжистого Теркиным. Улыбались.
И когда кроме тротиловых шашек и ножей у нас не осталось ничего, мы отползли к обрыву и, обнявшись на прощанье, — были б на нас кресты, крестами бы обменялись, как на Руси было принято, — стали спускаться. На нижнюю площадку первым спрыгнул Витя. Я не видел, что там произошло, слышал лишь крик, от которого у меня онемели и перестали сгибаться руки. Но в темноте внизу раздался чистый русский мат, и я очнулся, справился с руками. Спрыгнул. Витя дрался с двумя "аистами", из-за камня торчала чья-то неживая нога. "Коля, держись!" — крикнул Витя, метнулась сверху тень, но я опередил, и кошачий визг издало то, что было натренированным, обученным убивать человеческим телом, а теперь бесформенно извивалось и дергалось, пронзенное лезвием. "Сзади, Ко-ля" — рявкнул Витя, отбивая прикладом удар. Я отскочил, не совсем удачно увернувшись, и саданул здоровому бородачу ногой в пах.
— …ну, падла фашистская, заполучи! — бушевал кряжистый, налитое кровью лоснящееся лицо его было страшным. — За родину! За товарища Сталина! — он пригибался, уходя от невидимых ударов и нанося по дождю размашистые удары прикладом, ногами, головой.
Оля подняла воротник куртки, вжав голову в плечи, смотрела на него.
Я подошел к двери и рванул ее на себя. Дверь была заперта. Швейцар посмотрел на меня, как на рыбу в аквариуме, зевнул и отошел.
— Откройте, — сказал я.
"Прыгай! Прыгай! — заорал Витя, я обернулся, он пнул меня головой в живот, и тут же раздался взрыв. Но я уже лежал на дне ущелья в снегу. Острые камушки рассекли мне лоб и щеку. Витя подорвал тротиловой шашкой себя и их, которые были на площадке. Пока "аисты" собирали останки, я успел отползти под скалу и обнаружил там узкий лаз в штольню. Раздевшись, я проскользнул туда и втащил вещи. Поискал в темноте камень, чтобы завалить лаз, но не нашел. Было так тихо, что казалось, они услышат сверху стук моего сердца и дыхание. Я почти не дышал, но от этого сердце стучало еще громче. Сперва я ни о чем не думал, лежал ничком и ждал, сжимая в окровавленной руке тротиловую шашку. Нож я выронил, когда падал. Спустя несколько минут я почувствовал, что левая рука не сгибается и не двигается.
— Откройте, — сказал я и постучал костяшками пальцев по стеклу, но швейцар не обратил внимания. — Откройте!
— Ты чего шумишь, пацан? — приблизился ко мне кряжистый. Увидев мой орден, он крякнул, крутанул головой и сказал — Звезда? Так ты…
Все, кто был у ресторана, смотрели на меня. И Оля.
— Ты сопляк, — сказал кряжистый, тяжело задышав. — Сними лучше, спрячь и никому не показывай. Мы Родину защищали, мы кровь за Родину проливали, а вы…
Перетянув кое-как набитую осколками руку, вколов два промедола, я лежал ничком, прижавшись щекой к ледяному камню, и ждал, силы уходили и мне хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Тошнило, я еле сдерживался. Совсем рядом послышались шаги. Голос. Мне казалось, я понимаю: "Он где-то здесь, второй шурави, уйти он не мог". Другой голос. Может быть, в старости я все отчетливо вспомню, что чувствовал там, в штольне, о чем думал. Говорят, такое бывает. Жизнь свою, как пишут, я не вспоминал. И в той части души или мозга, где обычно помещается страх, было пусто. Пыток нечего бояться — тротиловая шашка со мной, она не подведет. А чего еще бояться? Смерти? Нет, я не боялся смерти в тот момент. Я завидовал, если можно это назвать завистью. Ах, как я завидовал отцам и дедам — фронтовикам! Не было бы счастливей меня человека на земле, если б имел право я выползти из проклятой, хоть и спасшей жизнь штольни, подняться в полный рост и со словами "за Родину!" пойти на них — пусть даже с голыми руками. Но права такого и воли на это я не имел — вот в чем дело. Я мог лишь думать о Родине. Россия, Родина, держава… Не даром слова эти женского рода. И если пришлось бы рвануть шашку, то умер бы я, подумав о маме и об Оле. И тете Дуне. И значит — о Родине. Умер бы я — сколько бы ни говорили теперь и ни писали, что все было зазря — за Родину, этого у меня никто не отнимет. Потому что только за Родину, в конце концов, не страшно умирать. За ту, которая далеко и которая ничего обо мне не узнает. Которую еще три дня назад видел по телевизору — заснеженную милую мою Москву, Садовое кольцо, площадь Маяковского. В Москве ночью минус пять — семь, по области до минус десяти, днем — ноль — минус два, слабый снег. Снег в Москве. Снежок. А я здесь. И никто не знает. Умереть не страшно, я понял. Я это точно понял. Тем более, если готов, если навидался смерти, ходил с ней чуть ли не в обнимку и даже любовью по ночам занимался — под "градом". Если минуту назад твой товарищ подорвал себя. Если истекаешь кровью и почти уже нет сил ни на что — только лечь на шашку. "Смерть — курва", — говорил взводный. "А что мне ее бояться? — улыбался Миша Хитяев. — Пока я есть — смерти нет, когда она придет, меня уже не будет". Язык наткнулся на острый обломок зуба, и я вспомнил, что собирался завтра, верней, сегодня, ехать в госпиталь. Пломбировать бы зуб не стали, там нечего пломбировать. И нерв бы уже не вытаскивали, что самое паршивое. Рванули бы корень — и все дела. Но теперь уж никаких дел. С Мишкой в море после дембеля не съезжу. И об университете уж не мечтать. Ни о чем не мечтать. Снова голоса. "Разулу-ллах-иллаха-илла-ллах… Аллах акбар…" Похоже, они молились. И мне бы помолиться — вот о чем я подумал. Хоть и не верил никогда в бога. "Отче наш…" — откуда мне помнить? Но не присягу ж наизусть читать. Не пионерскую клятву. А с матерщиной на устах смерть самая поганая, хуже звериной — Павел прав. А если жить останусь? Ты сопляк, сказал кряжистый. Так он сказал. Сними лучше, спрячь и никому не показывай. Мы Родину защищали, мы кровь за Родину проливали, а вы там… Если жить останусь буду жить. Жить. Жить. Жить. И тут я вспомнил из какого-то кино: "Отче наш, иже еси на небеси. Да пресвятится имя твое…" Вспомнил! Боже, дева Мария, сделайте, ну сделайте так, чтобы я остался жить, ну хоть чуть-чуть пожил бы, ну хоть годик, месяц, ну неделю!.. Это я лицом в свою теплую кровь ткнулся — вот и вспомнил про жизнь. Нет, думал я, прислушиваясь к скрипу снега под ногами "аистов". Умереть не страшно, нет. Хорошо бы еще их с собой на тот свет побольше уволочь. И жаль, конечно, что на этом свете от меня ничего, ни кровиночки не останется. Что тут сделаешь, мало прожил. Хотя могло бы уже сыну или дочери моей быть тогда года три. И какая-нибудь родинка бы повторилась. Кривая мизинца. Волосы. Ладно. Не узнают — вот что страшно. Завалит в этой штольне — и никто не узнает. Как про деда не узнали. Ты сопляк, сказал кряжистый. Мы кровь за Родину проливали, а вы там, вы… Они думали, что если убивали там, то и здесь им все можно!
Голоса исчезли. Я оглох, будто контузило. Я видел искореженные лица, мне кто-то что-то говорил, кричал, тыча пальцем в орден, кто-то издалека смотрел на меня с жалостью, Оля схватила меня за руку и пыталась увести — но я окаменел. Теперь я понимаю, что никогда не был, не чувствовал себя столь близким деду, не под Гвадалахарой и не на финской, а где-то у нас на Севере или в подвале в центре Москвы, — как тогда, лежа в заброшенной штольне. Мистика, конечно, но я бы мог поклясться, что слышу удары его сердца и они совпадают с моими, слышу его дыхание, вижу его серые глаза, глядящие в нацеленное в них дуло, — и вижу неживое, мертвое уже совсем, запорошенное снегом лицо деда с замерзшим на бескровных губах вопросом, неподвластным времени и тлену, вопросом, на который я и ответить не мог, не успел: "За что?" От Севильи до Гренады… от Гренады до Берлина… до Лубянки, Магадана… до Джелалабада… Сыну моему или дочери могло быть уже года три. Но через три года и девочка с огромными, смотрящими на меня глазами могла родить дочь или сына. И этого не будет. Слепым автоматным выстрелом я разрубил нить, которая тянулась бы тысячелетия. Я, чужой этой земле, этим камням, холодным, мертвым — вечным. А глаза ее смотрели на меня. "Он где-то здесь, второй шурави, уйти он не мог".
Толстые волосатые пальцы потянулись к моему ордену. Коля, держись! — услышал я Витин голос. И — прыгай! Поперек горла встало что-то кроваво-распирающее, бешено пульсирующее, не дающее жить. Я хотел сказать, но продраться смог бы лишь крик. И все же я выдавил хриплое: уберите руки. Коленька, Коля, пойдем, пойдем отсюда! Вы!.. Как вам не стыдно, у вас нет совести! Он не виноват, он ни в чем не виноват, его туда послали! Господи, ну как же жить! Почему никто никого не понимает, не хочет понять, почему все такие жестокие! Его послали туда, понимаете?
— Мы его не посылали, — услышал я.
— Ах, не посылали! — взвизгнула Оля. — А если бы ваш сын… Он вместо вашего сына… Неужели никогда вы так и не поймете друг друга?! Пойдем, миленький, успокойся, ну пожалуйста!
— Пойди, успокой его, — ухмыльнулся кряжистый. — Успокой щенка.
— Вы сами, сами во всем виноваты! — взлетела вдруг Олина сумка и ударила кряжистого по лицу, потом еще кого-то, раскрылась, посыпались тюбики, флакончики, деньги. — Это вы, вы!.. — истошно кричала Оля. — Только троньте его, только попробуйте, я не знаю, что сделаю! Я вам всем глотки перегрызу! Он самый лучший, он…
Снова взлетела сумка, кто-то перехватил, и Оля разъяренно бросилась в толпу — но я успел поймать ее за руку.
— Пойдем, — сказал я. — Пойдем.
И мы пошли по улице под дождем. На привокзальной площади Оля остановилась, посмотрела мне в глаза, словно собираясь сказать что-то очень важное. Но ничего не сказала.
До поезда мы дремали и читали праздничные газеты в зале ожидания. Объявили посадку, мы вышли на перрон. Там шумели, хохотали, толкали друг друга призывники — в драных вылинявших телогрейках, узких школьных пиджачках, с рюкзаками и хозяйственными сумками, стриженные под машинку и длинноволосые, с гитарами и даже аккордеоном.
…А если что не так, не наше дело, Как говорится, Родина велела, Как славно быть ни в чем не виноватым, Совсем простым солдатом, солдатом…Мы подождали, пока они пройдут к задним вагонам. Капитан и с другой стороны старшина все пытались хоть немного подровнять колонну, как они ее называли, по шесть, но ребята валили табуном, заполнив весь перрон. Задирая девчонок, подставляя друг другу ножки, играя на ходу в "жучка". Выделялся из шума и гама вместе с четкими гитарными аккордами сильный сипловатый тенор.
Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, С нашим атаманом не приходится тужить…Игорь Ленский с Мишей Хитяевым пели эту песню. Она взводному нравилась.
Мы вошли в наш СВ — никогда до этого в спальных вагонах ни я, ни Оля не ездили.
— Наконец-то, — выдохнула Оля и медленно опустилась на постель. — Как же я устала, знал бы мир.
Она разулась, легла и еще до того, как поезд тронулся, уснула. Проснулась часа через два.
— Мы уже едем? — спросила, облизнув сухие губы. — А почему ты не спишь?
— Не хочется пока.
— Я очень хочу пить.
— Может быть, чаю? Он, правда, остыл уже…
— Нет, воды. Принеси, пожалуйста.
Я принес, она жадно выпила весь стакан и попросила еще, но передумала, как только я открыл дверь.
— Подожди. Сядь. Помнишь, ты говорил, что Виктор хочет обратно туда вернуться? Помнишь?
— Помню.
— И там, возле этого проклятого ресторана, ты подумал об этом? Скажи!
— Нет.
— Правда? — она крепко сжала мою руку обеими руками.
— Правда. Воды принести?
— Больше не хочу воды, — сказала, глядя в глаза. — Иди ко мне. Не надо тушить свет, я хочу, чтобы мы видели друг друга. Помоги…
Через полчаса, прикрывшись простыней, вытирая полотенцем пот с моего лба, она сказала:
— Только ради бога… Я знаю, ты сумасшедший, но возьми себя в руки. Будь мужчиной. Это бывает. У тебя действительно никого раньше не было? Это бывает в первый раз. И я виновата, и устали мы ужасно. Сколько ты ночей не спишь? Думаешь, это не сказывается? Хочешь, мы завтра опять сойдем на твоей станции и поживем в деревне несколько дней? А? В какой-нибудь заброшенной избе. Сейчас ведь тепло уже. Ты будешь ловить рыбу в озере, я буду варить из нее уху. Парное молоко будем пить по вечерам… Хочешь?
— Хочу, — сказал я.
Вскоре она опять уснула, отвернувшись к стене, — будто ничего не случилось. А я не спал. Лежал одетый и слушал стук колес. Под утро тихо вышел из купе. Постояв в тамбуре, пошел по составу, спотыкаясь о чемоданы, мешки, торчащие ноги. В вагоне, где ехали призывники, у входа, уронив голову на руку с красной повязкой, спал дневальный. Напротив, в отсеке, спали капитан и старшина. Я прошел дальше. Запахи были совсем не армейские — пахло пивом, лимоном, курицей, туалетной водой, флакон с которой, наверное, разлился у кого-нибудь в рюкзаке. И спящие не храпели и не хрипели, как мы во сне, и не орали, и не матерились, а тихонько по-детски посапывали. Я сел на боковой столик. И вдруг сердце дернулось и замерло, покатились по спине холодные капли пота: впереди, через две секции, я увидел знакомый затылок, стриженый, круглый, с двумя макушками. Подошел — лопоухие уши, родинка на шее. Костя Парамонов, которого застрелили в упор, когда мы ночью прочесывали кишлак. Бред. Я и в самом деле схожу с ума. А это кто внизу? Витя Левша,
— Витька!
— Чего? — заворочался опухший во сне губастый парень, совсем на Витю непохожий.
— Курить есть?
— На столе там.
Взяв папиросу и спички, я вышел в тамбур. Закурил. Голова от первой же затяжки пошла кругом. Перед глазами все поплыло. Я курил и смотрел на красную ручку стоп-крана, утопленную в стене. В разбитое окно дул холодный сырой ветер, но я не отходил, я подставлял ему пылающее лицо, шею, грудь. Огоньки срывались с папиросы и бились о стену, словно живые, и падали, и гасли. Все быстрее стучали колеса, казалось, они догоняют друг друга. А все спят. И машинист с помощником спят, иначе не проскакивали бы станции одну за другой. И красные семафоры. Если я схожу с ума — ладно. А если нет, и мы действительно несемся к гибели?
Я взялся на ручку стоп-крана и с силой дернул на себя. Ручка не работала. Выглянув в окно, я увидел, как состав изгибается на повороте — словно хвост гигантской ящерицы. Туман сзади. И туман впереди. Я пошел по составу вперед, но дверь вагона-ресторана была закрыта, я выбил локтем боковое окно, вылез на крышу и пополз на четвереньках по-пластунски, едва удерживаясь под напором ледяного ветра, крыши были мокрыми, скользкими, добравшись до тепловоза, я свесился вниз, заглянул в кабину — там никого не было, ни машиниста, ни помощника, но стукнула у меня за спиной дверь, кто-то вышел в тамбур, и я понял, что заснул стоя, как после ночных нарядов в учебке мы засыпали на утреннем разводе в строю.
Я вернулся в купе.
— Это ты?
— Я.
— Где ты был?
— Курил.
— Курил?! — она вскинулась. — Ты же бросил! Как ты мог? Ты же обещал, ты клялся, что больше никогда не будешь курить!
— Что с тобой, Оля?
Она уткнулась лицом в подушку.
— Оленька, ты что? Милая, ну не плачь, пожалуйста. Из-за того, что я выкурил одну несчастную "беломорину"…
— Да! Из-за того!
— Прости, пожалуйста. Ну я не буду… Успокойся.
— Дурак ты, — прошептала она, дрожащими руками привлекла меня к себе. — Дурак. У меня даже встать не было сил. Я думала…
— Что ты думала?
— Какой же ты дурак.
15
Мы развелись зимой, через полгода после нашего грустного свадебного путешествия. Без скандалов, без нервотрепки — тихо, покорно, точно не имели иного выбора, подали заявление и вскоре получили свидетельство о расторжении брака. Я снова вышла замуж, жила с мужем в Венгрии, родила двух девочек, построили кооператив, дачу, недавно сменили машину, работаем, отдыхаем на Куршской косе у родителей мужа или на Черном море, на Мысе, куда папа достает нам через друзей хорошие путевки. В общем, все слава богу. С Колей я иногда общаюсь по телефону — он звонит, поздравляет с праздниками, и я звоню, тоже поздравляю. Хотя поздравлять-то особенно не с чем. С исторического факультета МГУ — куда он неожиданно для всех поступил, сдавал экзамены на пятерки, получал повышенную стипендию — его из-за какого-то скандала выгнали, верней, перевели на заочное, но он сам потом ушел. Куда-то еще пытался поступать, работал дворником, грузчиком, даже могильщиком, кажется, — и пил. Однажды мы с мужем встретили его с бывшими однополчанами в пивном баре "Жигули". Не видела его года два и не сразу узнала — постарел, стерся, сжался, загнанность появилась в глазах и в то же время какая-то волчья готовность кусать, рвать, если нападут. Были там Виктор, преуспевающий кооператор, Саша, Павел Владычин, тоже себя не потерявший, и еще двое. Они отмечали какую-то годовщину. Муж согласился подсесть, выпить с ними водки из-под полы. Коля уже был пьян, а после этого стакана его вовсе развезло. "Нет, ты скажи, — привязался он к мужу, — почему я, я должен перед кем-то оправдываться, чего-то скрывать, таить, виноватым себя чувствовать, как будто что украл или убил…" — "А ты не убивал?" — не сдержалась я. Он долго молчал, глядя в кружку. Икнул. Посмотрел на мужа, меня не удостоив взглядом. "Убивал, — тихо ответил. — Да, убивал. Убивал. Потому что на войне убивают. Для того она и война. Нас учили убивать. Нам приказывали убивать. И мы убивали. По приказу. И без приказа. Потому что нас убивали. С нас кожу сдирали. Нам… отрезали. Потому что все враги. От сопливого мальчишки до старухи, которая норовит тебе в плов мышьяка наложить. Или еще какой-нибудь гадости. Все враги, ты можешь понять? Вся страна. Все. Было это хоть где-нибудь когда-нибудь? Ошибочка, говорят, вышла. Времена застоя. А у нас все время ошибочки — начиная с семнадцатого года. Уничтожили десять миллионов — ошибочка. Еще десять — еще одна. Еще двадцать — ошибочка. Или перегиб, как они выражаются. А мы-то в чем виноваты? Нас-то за что? Нет. Не буду я виниться и оправдываться. Никогда. Убивал! И детей убивал. И стариков. И пленных кончал — ножом в ухо. И насиловали — взводом…" — "Врешь ты, Коля, — сказала я. — Я же знаю, все ты врешь". Но он на меня не взглянул. "И кишлаки сжигали дотла. И…" Он выпил водки, запил пивом, уронил голову на руки. "Отрубился, — сказал Виктор. — Ладно, мужики, я поехал — дела". — "Поезжай, — прохрипел Коля. — Все проваливайте к долбанной матери. Не-на-вижу… — Он стал подниматься, Павел сзади его удерживал. — Я не-на-вижу…" — "Кого ты ненавидишь?" — с усмешкой поинтересовался трезвый Виктор, а Коля лишь мотал головой из стороны в сторону и хрипел: "Не-на-ви-жу…" Потом он вырвался из рук Павла, поскользнулся, ударился лицом об угол стола, хлынула кровь. Я взяла мужа за руку, повела к выходу. За колонной оглянулась — окровавленный, истерзанный, страшный, он смотрел мне вслед, и я вдруг увидела того мальчишку, который провожал меня, нес мой портфель по темному двору, мечтая, чтоб на нас напали хулиганы. Если бы они тогда напали. Метрдотель с двумя милиционерами уже лавировали торопливо между столиками. Но внимания никто не обращал. Все пили теплое, разбавленное в меру пиво. Вязли и тонули голоса в дыму.
Примечания
1
ДШБ — десантно-штурмовой батальон (здесь и далее прим. ред.)
(обратно)2
ВДВ — воздушно-десантные войска
(обратно)3
РД — рюкзак десантника.
(обратно)4
АКС — автомат Калашникова складной.
(обратно)5
АКМ — автомат Калашникова модернизированный.
(обратно)6
БМП — боевая машина пехоты.
(обратно)7
ТТ — самозарядный пистолет системы Токарева.
(обратно)
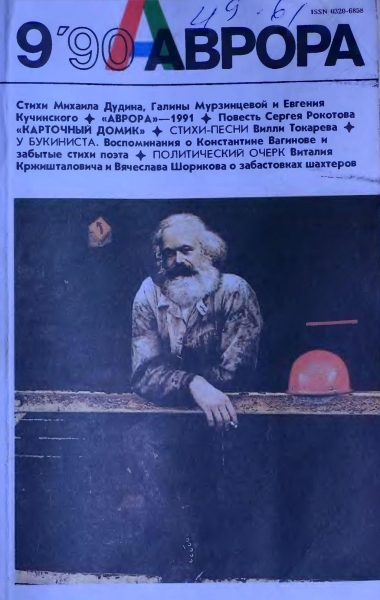










Комментарии к книге «Карточный домик», Сергей Григорьевич Рокотов
Всего 0 комментариев