В древней «Саге об Инглингах», написанной, как считается, в начале XIII века, сказано: «Фрейр заболел, и, когда ему стало совсем плохо, люди стали совещаться и никого не пускали к нему. Они насыпали большой курган и сделали в нем дверь и окна. А когда Фрейр умер, они тайно перенесли его в курган и сказали шведам, что он жив, и сохраняли его там три года. Все подати они ссыпали в курган, в одно окно — золото, в другое — серебро, а в третье — медные деньги. И благоденствие и мир сохранялись. (…) Когда (же) все шведы узнали, что Фрейр умер, а благоденствие и мир сохраняются, они решили, что так будет все время, пока Фрейр в Швеции, и не захотели сжигать его, и назвали его богом благоденствия, и всегда с тех пор приносили ему жертвы за урожайный год и мир».[1]
У Ингве Фрея (это шведский вариант написания имени языческого бога Ингви Фрейра), о котором много вспоминают герои настоящей повести, было другое имя и фамилия. Ингве Фреем его назвали в честь военного корабля, потому что, как сказано в книге, он был солдат, а «солдатам специально давали короткие клички, чтобы ими удобнее было командовать».
Но книга Стига Клаэсона в целом не о нем, хотя в повести, как и в саге, фигурирует «древнее захоронение» и даже находятся люди, берущиеся защищать могилу Ингве «от всяких гробокопателей и ловцов легкого счастья», хотя они прекрасно знают, что «могила» эта — вовсе не могила, а просто остатки фундамента старого дома, где некогда обитал настоящий Ингве Фрей, шведский солдат на поселении, доживший до весьма преклонного возраста 102 лет.
Что это? Анекдот? Шутка? Мистификация?
И то, и другое, и третье. Хотя есть у истории, рассказанной шведским писателем, и более серьезный, можно сказать, трагический смысл. «Мы любим Ингве Фрея» — повесть-предупреждение, напоминание о том, что «нерушимая» связь времен может нарушиться, может «порваться» и тем самым поставить современного человека на грань существования, за которой кончается многовековая культурная традиция и начинается духовный вакуум, с легкостью заполняемый модными сиюминутными стереотипами поведения, не имеющими твердой нравственной основы.
Конечно, крестьянская культура, об исчезновении которой с болью и горечью пишет шведский писатель, это только часть культурного наследия нации, хотя и очень важная его часть. Герои Клаэсона, престарелые хуторяне, оказались в обстановке «культурного вакуума» не по своей вине, просто они пережили свое время, и время же, согласно неведомым и непостижимым для них законам — скажем точно — капиталистической рационализации сельскохозяйственного производства, разрушило их деревенскую среду, лишив ее основы — осмысленного целенаправленного труда, ставшего ненужным. Теперь, когда и для этих крестьян стала актуальной «проблема досуга», у них есть время поразмыслить о прошлом и понять: именно тяжелый, подчас непосильный труд наполнял их жизнь содержанием, он был их проклятием, но он же был и источником их представлений о красоте, радости жизни. Теперь, когда труд стал бессмысленным, стала бессмысленной и их жизнь, их народная культура. Им некому передать свою землю и традиции. Они — последние.
«Последними», хотя и в несколько ином смысле, ощущают себя и наезжающие на хутор молодые люди: разбитной фотограф Петтерсон и его подруга Анита. Они — последние, кто видит почти нетронутую красоту ночного озера, ведь в своем весьма практичном воображении Петтерсон уже строит планы коммерческой застройки его берегов мотелями, гриль-барами и доходными пансионатами. Планы эти, по его мнению, вполне может осуществить человек менее совестливый, чем он сам, Петтерсон.
У него, парня довольно жесткого и уже загрубевшего в жизненных баталиях, находится достаточно сочувствия к престарелым обитателям хутора — настолько поражают они стойкостью, терпением и усмешкой, с которыми переживают свою старость и одиночество, хотя вся обстановка на хуторе кричит о переживаемой здесь трагедии. Поэтому, отвечая на спокойные сетования одного из крестьян на искусственную изоляцию, на то, что общество бросило их на произвол судьбы, Петтерсон честно предупреждает: «Сейчас вы свободны. Вы, хоть и заперты в лесу, но свободны… Ты привык общаться с людьми, ты с шумихой справишься. Но остальные не справятся. А когда власти заметят, что вы не справляетесь, вас увезут отсюда силой».
Где выход из создавшейся ситуации для «аборигенов» хутора? Они отнюдь не питают иллюзий относительно городского дома для престарелых или «другого столь же гуманного учреждения». Им остается одно — с честью и достоинством продержаться на своей земле до конца…
Достоинства же им не занимать, именно оно заставляет Петтерсона, который, по словам одного из хуторян, «берет деньги за все», если не принять, то хотя бы уважать их незамысловатые взгляды на жизнь и смерть, на то, что в жизни хорошо и что плохо. А ведь взгляды эти так разительно отличаются от его собственных — писатель дает понять, сколь многое в поступках и мыслях Петтерсона зависит от текущего момента, от практической сиюминутной выгоды. При всем желании Петтерсон ничем не может помочь крестьянам, для этого он слишком занят самим собой, да к тому же, как выясняется, крестьяне и сами не приняли бы от него никакой помощи, они зорко охраняют свою независимость, считая, что «знакомство не должно быть слишком близким». На-против, это они, жители Выселок, кое-чему учат фотографа: Петтерсон уезжает от них иным, чем приехал, — с чувством большего понимания боли другого человека, сложности и противоречивости жизни, может быть, даже вины за происходящее, хотя и скрывает это от самого себя искусственно патетическим «наигрышем».
Ошибкой было бы думать, что Клаэсон идеализирует шведскую деревню прошлого, о которой столь сильно и гневно писали такие крупные шведские писатели, как Ян Фридегор (1897–1968) и Ивар Лу-Юхансон (род. 1901), в немалой степени способствовавшие своим пером устранению в Швеции наихудших проявлений социального зла. Герои Клаэсона много вспоминают и о голоде, и о тяжелом труде, и о прямой несправедливости. Иное дело, что они именно вспоминают о прошлом, а не переживают его заново: человеческой памяти более свойственно хранить счастливые, радостные минуты, и даже воспоминания о перенесенных тяготах окрашиваются в ней нотками ностальгической грусти о молодости или гордости от сознания, что человек пережил все. В этом, как и во всем остальном, автор повести остается верен правде жизни, проявляя незаурядное искусство описания природы и быта деревни, характеров крестьян и их чудаковатостей, что, в общем-то, несколько необычно для писателя-горожанина.
Ведь в отличие от многих других шведских литераторов, разрабатывавших в своем творчестве тему деревни, включая сюда Вильхельма Муберга (1898–1973) и упоминавшихся Я. Фридегора и И. Лу-Юхансона, Стиг Клаэсон (род. 1928), как и герой его повести Петтерсон, — коренной стокгольмец. Он — сын ночного сторожа, его детство и юность прошли на улицах пролетарского района города, и ему, по-видимому, пришлось многое на них повидать прежде, чем в 1952 году он не закончил Академию художеств и не приобрел через несколько лет после этого известность как художник-иллюстратор и писатель. С начала литературного дебюта в 1956 году до настоящего времени им опубликовано более 37 книг — романов, повестей, сборников очерков и рассказов, в основе которых большей частью — конкретные факты жизни, встречи с людьми, впечатления от многочисленных поездок по стране и за рубеж. Во всем написанном Клаэсоном ощущается принципиальное стремление непредвзято взглянуть на известные события и факты, дать им новое, иногда, может быть, непривычное истолкование. Писатель, как правило, отталкивается от конкретных явлений жизни и избегает широковещательных и особенно навязываемых ему извне обобщений. Вместе с тем в его книгах сильна чисто журналистская струя желания непосредственно повлиять на жизнь, помочь отчаявшимся, отвергнутым обществом людям — неважно, будь этот человек старуха-пенсионерка, изверившийся во всем на свете писатель-интеллектуал, неудачливая актриса или безработный. К писательским особенностям Клаэсона можно отнести и его влечение к парадоксальным, иногда анекдотическим случаям, вскрывающим подчас глубинные противоречия действительности.
По-видимому, именно интерес писателя к непридуманным проблемам жизни и обусловил обращение его к теме гибели традиционного уклада жизни шведской деревни и ее самобытной культуры, С момента выхода четвертой книги «Крестьяне» (1963) эта тема стала в творчестве писателя едва ли не главной и нашла свое наивысшее воплощение в повести «Мы любим Ингве Фрея», единодушно признанной шведской критикой «маленьким шедевром». Именно в этой книге, как представляется, публицистическая острота социальной критики Клаэсона наиболее последовательно и органично сливается с рисуемым им лирическим образом природы и глубокой постановкой вечных тем литературы — жизни и смерти, молодости и старости, равнодушия и любви.
Описываемые в повести события происходят почти двадцать лет назад, но социальные и нравственные проблемы, раскрываемые в ней, не теряют своей актуальности. По-прежнему и в Швеции и в других странах мира продолжается наступление на природу и на выработанный многими поколениями людей нравственный порядок вещей, объявляемый иногда «крестьянски-патриархальным и устаревшим», но которым в практической жизни мы пользуемся, к счастью, и поныне. Книга учит нас вниманию и участию к тем, кто по старости ли или просто по неспособности не успевает за движением времени, все более и более обгоняющим в нашу эпоху естественный ритм человеческой жизни, то есть учит не показной, а истинной гуманности, лишний раз напоминая, что одним из таких людей может со временем стать каждый из нас. «Новое — это хорошо забытое старое». Есть своя глубокая «экологическая истина» и в любви героев Клаэсона к своей земле, только такая любовь может, по-видимому, определить наше мудро-рациональное отношение к природе и неотделимому от нее человеку.
Б. ЕРХОВ
I
Человек, который свое отработал, в голубой рубашке, черных брюках на помочах и в начищенных ботинках медленно шел к озеру и к своему почтовому ящику.
Человек, который свое отработал, одет в выходную одежду. Он даже побрился и слегка причесал седые волосы прежде, чем выйти из дому на солнцепек.
Солнце сияет с ясного неба, а человеку надо пройти всего только до своего почтового ящика.
Но вот что странно — вышел он с непокрытой головой.
Человек, который свое отработал, не ходит к своему почтовому ящику с непокрытой головой. Почтовый ящик стоит у шоссе.
Правда, отметим справедливости ради, что человек наш на минуту-другую замешкался, выбирая, что бы ему надеть: шляпу или фуражку, но так, ничего не выбрав, и вышел из дому.
Он над чем-то задумался.
И идет с непокрытой головой чисто по рассеянности.
Человек идет через лес. Но не прямиком через лес, а по лесной тропинке. По ней он обычно ходит к озеру. Но идти ли к озеру, к почтовому ящику ли, к шоссе ли — все это одно и то же.
Путь туда — один.
Потому что почтовый ящик находится у шоссе, а шоссе в этом месте примыкает к лесному озеру.
Или, может быть, лучше описать всю эту ситуацию так? Узкое гравийное шоссе соединяет один поселок с другим и проходит где-то между ними мимо лесного озера. К озеру ведет и другая дорога — лесная, пересекающая шоссе под прямым углом Тут, на перекрестке, и стоит почтовый ящик.
Добавим еще, что между поселками примерно миль пять. Расстояние пустячное. Во всяком случае, проехать его на машине даже по неудобному для движения гравийному шоссе — пустяк. А потому как между поселками нет вроде бы ничего, кроме одного леса, может, водитель машины и удивится, увидев просвет в лесу, а в просвете небольшое озеро. Такое вполне возможно в жаркий летний день. Может, водитель даже остановится на несколько минут и отметит с удивлением, что и здесь, между поселками, видно, кто-то живет. Иначе к чему на шоссе установлен почтовый ящик?
Значит, кто-то здесь живет.
Только и всего.
И никакой фантастики в этом нет. Просто кто-то здесь живет.
Возможно, даже несколько человек.
И те, кто здесь живет, ходят либо к озеру, либо к почтовому ящику, либо к шоссе. Для них это — не одно и то же.
Человек медленно идет к своему почтовому ящику.
И не для того, чтобы получить письмо или газету. Он идет к почтовому ящику, чтобы подвергнуть его тщательному осмотру и выяснить, нужно ему делать вместо него новый или нет.
Но задумался он даже не об этом. Человеку, который свое отработал, сколотить новый почтовый ящик не стоит ничего. Он задумался над тем, как новый почтовый ящик установить.
В том, что устанавливать его придется, у него сомнений нет. Через несколько месяцев вся Швеция переходила на новую систему дорожного движения. С левостороннего движения на правостороннее.
Соответственно, и человек, который свое отработал, должен перенести почтовый ящик с одной стороны шоссе на другую, что он и собирался сделать, но не тяп-ляп и на скорую руку, а основательно, как требует того важность работы.
Хороший почтовый ящик должен выдерживать любую непогоду: и дождь, и ветер, и снег. Поставишь его слишком близко к проезжей части — трейлеры с лесом и снегоочистители могут зацепить его, установишь слишком далеко — почтальону нужно будет выходить из машины.
Человек, который свое отработал, идет к своему почтовому ящику медленно, он обдумывает свою проблему неспешно, зная, что рано или поздно решит ее.
Так, может быть, нам, людям, свое еще не отработавшим, помочь и решить ее побыстрее? Тем более что и проблемы-то никакой не существует. Ведь есть давным-давно утвержденные Министерством связи предписания, каким должен быть почтовый ящик и как он должен устанавливаться.
Все это верно, да только вот наш человек относится к категории так называемых «свое отработавших», «вольных людей», а они плевать хотели на всякие там предписания. Поэтому лучше взглянем на сам почтовый ящик — сооружение, о котором водители автомашин, притормаживающие у озера, говорят, что оно не от мира сего. Хотя, по нашему мнению, оно как раз, наоборот, — от сего мира.
На первый взгляд может показаться, что это — обычный кухонный стол с поставленным на него старым ульем и прибитым сверху скворечником. Присмотревшись внимательнее, вы обнаружите, что это и на самом деле кухонный стол, улей и скворечник, снабженные дверцами и замысловатой сигнализацией из фанерных стрелок, показывающих: есть в ящике отправление или нет и какое это отправление — письмо или посылка.
Поэтому воздержимся от непрошеных советов и не будем оскорблять чувств мастера. Он сам как-нибудь догадается поставить в нужном месте столб, а на него повесить обыкновенный почтовый ящик.
И на этом, скажем, все его проблемы будут решены.
Человек дошел наконец до своего почтового ящика. Четырьмя гвоздями он прибивает к зеленому улью объявление: БОЛЬШЕ РАБОТУ НЕ ПРИНИМАЮ.
С этого момента округа на расстоянии семи миль теряет своего сапожника.
Бывший сапожник — Эмиль Натаниэль Густафсон, старик семидесяти двух лет от роду, быстро оглядывается, обнаруживает, что стоит один на шоссе без головного убора, и, словно очнувшись, резко поворачивается и спешит домой той же дорогой, какой пришел.
Он идет лесом мимо большого причудливой формы валуна и старого муравейника, взбирается на невысокий, но очень скользкий зимой в гололед, бугор, проходит через калитку в развалившейся каменной изгороди.
Перед ним — открытое место.
Человек идет мимо коровника с тремя пустыми стойлами и поднимается к дому.
Местность здесь горбится, и, кроме своего дома, человеку видно еще крышу соседнего. Тут же сараи и всякие другие пристройки. Дома стоят прямо, они выкрашены и хорошо ухожены.
Вокруг домов растут яблони. В тени лип — колодец.
Сияет солнце.
Трава скошена и свезена, на покосе — свежая зелень. Цветет картошка.
Идиллия!
В идиллии живут, кроме Густафсона, его младшая сестра Эльна и соседи — Эриксон и Эман.
В документах на владение землей идиллия именуется Эстенторп, но никто никогда не называл ее иначе, как Выселки.
Местность вокруг Выселок тоже имеет свое специальное название, она называется редконаселенной. Но, хотя она населена редко, люди здесь живут.
Они, по старой традиции, продолжающейся уже не один век, привыкли величать себя «вольным народом» — вольными мужчинами и вольными женщинами Многие из них были свидетелями того, как возникали на этой земле первые поселения, как поселения росли и становились многолюдными и как потом жизнь стала покидать их, пока почти не покинула.
Теперь в лесу осталась горстка людей.
У них нет автомашин. И нет желания переезжать в другие места.
Они брошены всеми. Иногда они сидят в одиночестве и удивляются: какая все-таки странная непривычная тишина опустилась на их край! Они словно проспали жизнь и проснулись только сейчас в этой тишине.
Им не понять, как же прогресс, развитие, о котором так много трубили вокруг, мог привести к столь странно-му результату — безмолвию?
Неужели их обманули, и именно тишина была запланирована здесь с самого начала?
Большинство жителей этих мест свое отработали, но — давайте подчеркнем это раз и навсегда — особых материальных трудностей не испытывают. Как знать, возможно, и другие трудности мы им только приписываем?
Одно ясно — все они принадлежат к меньшинству, почти не знакомому с автомобилем. Они — нация пешеходов. Поэтому дорога до почтового ящика кажется им неблизкой, дорога до магазина — далекой, ну, а о дороге до церкви, что в городе, и говорить нечего.
Случается, нападет кое на кого из этих отшельников черная тоска, и тут уж недалеко до веревки где-нибудь в дровяном сарае. Правда, происходит это лишь с немногими, сравнительно молодыми. По-настоящему старые люди крепко привязаны к жизни: они должны присматривать за тем, чем владеют, на что положили долгие годы труда. Они защищали и будут защищать свои владения, пока их силком не поволокут в дом для престарелых.
А вот туда-то они не хотят, что-что, а это они знают.
Они будут крепко держаться за свои клочки земли, отстаивая ее, но столь же упорен и терпелив и их главный враг — лес. Это лес грозится забрать у них то, что было отнято у него столетия назад.
Естественно было бы предположить, что еще эти люди борются с тишиной, но это не так. Они просто живут с ней рядом, бок о бок.
Вы скажете: у них есть телевизоры! Но что, ответьте, может предложить вольному народу наше современное телевидение?
Не этих же странной наружности американских поп-звезд и столь же странных шведских?
А новости, программы международных новостей?
Нет, какие уж тут могут быть новости!
Для забытого всеми народца пешеходов не существует по-настоящему ни новостей, ни развлечений.
Они свое отработали, и весь их труд, все их терпение превратились словно по мановению руки злого волшебника в одну пустую тишину. Никто, конечно, на такое не рассчитывал. Или, может быть, кое-кто все же рассчитывал? Может, все это было рассчитано заранее, очень тщательно и рационально, и только беспечные землепашцы, прохлаждающиеся теперь в тени рощ, отказываются в это поверить? Трудно сказать. Пешеходы, во всяком случае, не в состоянии идти в ногу со временем, они не поспевают за ним и отказываются понимать его точно так же, как отказываются переезжать отсюда в другие места.
Да, вот такой, поистине великой, может быть привычка к какому-то гектару каменистых пастбищ и полей. Люди могут любить даже невозможный заброшенный в лесах клочок земли.
Современному человеку трудно это понять, потому что он считает, что все здесь в прошлом было так, как сегодня. Мы просто не в состоянии представить себе ничего другого.
Но не всегда жизнь здесь была такой, как сегодня.
Хотя… Нужно принимать жизнь такой, какова она есть.
— Нужно принимать жизнь такой, какова она есть, — сказал Густафсон сестре, когда вернулся домой и снова сидел у себя на кухне. — Не думал я раньше, что мы будем жить так. Раньше будущее казалось другим. А сейчас и будущего нет. Стало тихо. А почему? Никто не знает. Чего-то мы недоучли, и никто нас на этот счет не просветил.
Вот так, Эльна! — сказал он, повысив голос. — Я закрыл свою лавочку и не приму больше в починку ни одного башмака. Я свое отработал, а на жизнь нам все равно хватит!.. Не знаю только, к чему мне завтра приложить руки?.. Первым делом, конечно, сколочу почтовый ящик. Обычный ящик нормального размера. По-том повешу его на столб у шоссе в подходящем месте. Еще надо бы прибить к столбу что-то вроде вывески или дорожного указателя. А то ведь, когда все в наших местах еще больше переменится, никто и знать не будет, где мы живем.
— И Выселки будут принимать за какой-то памятник старины, — подхватила Эльна.
Эти ее слова скоро вспомнятся Густафсону.
Они вспомнились ему, когда, смастерив новый почтовый ящик, он выпилил из фанеры стрелку дорожного указателя и положил ее на верстак. Густафсон уже занес над ней кисть, чтобы написать ВЫСЕЛКИ, как вдруг вспомнил, что хутор-то так не называется. Выселки — это прозвище.
Старик смутился. Настоящего названия Выселок Эстенторп никто в округе не знал. Все звали Выселки Выселками.
Но хутор, черт побери, так не назывался!
Что же писать?
Хотя… какое кому до них дело! Кому они нужны! Выселки скоро станут принимать за памятник старины, Так ведь сказала Эльна?
И Густафсон сгоряча вывел на указателе: ПАМЯТНИК СТАРИНЫ.
Соседи Эриксон и Эман помогли ему поставить столб, на который повесили почтовый ящик, и сверху прибили указатель с надписью.
Соседи, конечно, спросили, что это сапожнику вздумалось написать на фанерке, но Густафсон отмахнулся от них, сказав, что все это выдумки Эльны.
Старики понимающе кивнули головами. Они знали: Эльна была в свое время большая выдумщица.
II
В одиннадцать утра Эльна приготовила кофе, и старики Эриксон, Эман и Густафсон сидели у дома сапожника на садовых стульчиках за самодельным крашенным суриком столом, который сапожник как-то сколотил зимой от делать нечего.
Стоял прекрасный летний день, и было воскресенье — первое воскресенье после того, как у шоссе был водружен новый почтовый ящик. Рядом в доме Эльна слушала по радио воскресную службу.
Старики тоже слушали службу. Эльна была немного глуховата.
Старики сидели в жилетках и в шляпах и дышали легким теплым ветерком. Они сидели спиной к застекленной веранде, служившей в доме сапожника парадным. У них давно уже вошло в обычай — по воскресеньям пить утренний кофе у Эльны. Вообще-то каждый вел свое отдельное хозяйство.
Эриксон и Эман жили в другом доме хутора. Хозяином был Эриксон, он владел землей, но Эман жил у Эриксонов с самого детства, и обоих стариков можно было считать братьями. Им было по семьдесят пять лет.
На хуторе всегда во все времена жили две семьи — Эриксоны и Эманы.
Первыми разъехались Эманы. Девять братьев один за другим покинули Выселки еще в молодом возрасте. На хуторе остался старший — Нильс, бывший для других больше отцом, чем братом.
Его и оставили.
Эриксон был средним из выводка в шестнадцать детей. Он лучше всех приноровился к крестьянскому труду и выкупил хутор. Он вдовел и имел от своего брака двух детей: один жил в Мальме, другой — в Стокгольме.
Эриксон вдовел уже восемнадцатый год.
Еще у Эриксона была сестра, она жила в доме для престарелых в городе, остальные братья и сестры либо умерли, либо жили в эмиграции в Америке.
От них почти не приходило вестей.
У Густафсона и Эльны было тринадцать братьев и сестер. Половина поумирала от дифтерита и испанки еще в младенчестве.
С теми, кто оставался, еще поддерживалась кое-какая связь. Связь, однако, не особо крепкая — до визитов на Выселки дело не доходило никогда.
Четверо стариков, оставшиеся на хуторе, делили здешнюю тишину поровну и жили в относительном мире и спокойствии.
Все вместе они собирались обычно в мастерской сапожника и еще, конечно же, по вечерам в горнице у Эльны. Здесь стоял телевизор.
Густафсон называл Эриксона и Эмана на «ты». Эман же и Эриксон никогда не называли Густафсона иначе, как сапожником. Еще они называли его Густафсон, но на «ты» не называли никогда. Отчего так сложилось, никто не знал. Но, как сложилось, так сложилось.
Лет девять назад хозяйство Эриксона держалось еще вполне сносно. Тогда у него были две коровы. В самые лучшие времена у него были три коровы и две свиньи. Но девять лет назад молокозавод, принимавший у Эриксона его продукцию, отказался от нее.
Эман всю жизнь подряжался на ту работу, которую ему предлагали. В основном он помогал другим крестьянам в лесу на торфоразработках. После того, как умерла жена Эриксона, он помогал только Эриксону.
Работы всегда было много, а теперь не занятые ничем старики бесцельно слонялись по полям и выгонам. Они сдерживали кое-где наступление леса, чистили дренажные канавы, вырубали кустарник.
Эман держал полтора десятка кур. Вообще-то держал он их больше для того, чтобы было на ком сорвать злость. Эман ненавидел своих кур лютой ненавистью.
Но куры все-таки нарушали тишину, они кудахтали.
Старики сидели у застекленной веранды и пили свой утренний кофе.
— Гм… — начал Эриксон, — слышал я, что наш местный сапожник задвинул под лавку мочильный чан и повесил на крюк свой фартук. Так?
— Да, — сказал сапожник, — я свое отработал.
С его стороны потребовалось известное мужество, чтобы признаться в этом. Темные глаза сапожника смотрят растерянно, они словно извиняются.
И Эман и Эриксон — высокие худые люди с обветренными лицами. У сапожника кожа побелее, и он более плотного сложения. У всех трех густые седые волосы. У Эмана большие усы.
В стариках есть что-то нервозное, невысказанное.
Старость стала нервной.
У этих трех людей не осталось никого, кроме них самих.
И кроме Эльмы. Но Эльна, невысокая кругленькая женщина, в последние годы болела.
Мужчины молча беспокоятся за нее. Эльна — их защита. По-своему она защищает стариков от того, чтобы их не потащили в дом для престарелых или в другое столь же гуманное учреждение. А раз на кухне есть женщина, то в доме вроде бы все в порядке.
С Эльной ничего не должно случиться.
— Да, все, я покончил с работой, — сказал Густафсон.
— Пожалуй, и я тоже, черт побери, покончу с курами, — сказал Эман. — От них одна морока. К чему куры, если другой скотины нет? Сверну-ка я им шеи, вот что!
То же самое Эман говорит каждое воскресенье.
— На этот раз они управились еще быстрее, — сказал Эриксон. — Даже слишком быстро. Не очень-то прибрались за собой.
Он говорит о сенокосе. С сенокосом, на который у Эриксона и Эмана уходило, когда они работали одни, не меньше двух недель, теперь управились за один час.
А ведь прежде это была самая замечательная и важная пора лета. Она требовала особого порядка — и чтобы косы были остры, как бритва, и было чего вдоволь попить в поле, и стояла в доме на столе добрая еда, а в небе яркое солнце. Что же осталось от сенокоса теперь?
Сено Эриксона скупал на корню ближайший сосед — молодой хозяин фермы. Раз в лето он приезжал утром на тракторе с автоматической косилкой, скашивал траву, сгребал, тут же нагружал ее в прицеп механическими вилами и уезжал. На все про все уходил примерно час.
Но работал молодой хозяин неаккуратно. С полвоза сена осталось на лугах. Прежде такое считалось смертным грехом.
Эман и Эриксон уже решили взять в понедельник грабли и прибраться на покосе.
— Быстро-то это быстро, но вот некрасиво, — сказал Эриксон. — Если бы такое довелось увидеть отцу.
— Строгий он у тебя был — сказал Эман. — Любил порядок. Он бы не принял такую работу.
Но старики работу приняли.
Когда они в первый раз продали сено, то с нетерпением ожидали молодого хозяина. Они, как и всегда, основательно подготовились к сенокосу, купили продукты и выпивку. Эльна наготовила и припасла столько снеди, что ее хватило бы на несколько дней. Но у забравшего их сено молодого хозяина не оказалось свободной минуты даже на чашечку кофе.
Он не выпил даже одной чашки кофе. Что же это за сенокос?
Прежде в эту пору вставали спозаранку, шли, взмахивая косами, тесно, наступая друг другу на пятки, пог ручейками сбегал по шее и по спине. На луг выходили женщины с корзинами и подавали кофе прямо на траве, а в домах кухни дышали печным жаром и дрожал воздух от гудения мух.
Сенокос медленно менялся.
Но таким, как теперь, он быть не мог. Он не мог длиться всего час!
И все-таки он длился теперь всего час, и старики понемногу смирились с этим.
Эльна неожиданно выглянула из двери и сказала:
— С дороги к нам кто-то идет.
Хуторяне, сидевшие лицом в противоположную сторону — к полузаросшему пастбищу с развалившимся сараем, который они все еще называли летним коровником, вздрогнули, выпрямили спины и все, как один, взглянули на носки своих ботинок.
Чужак!
По тону голоса Эльны стало ясно: она не узнала идущего к дому человека.
Это было необычно. Обувная мастерская осталась на всю округу одна, и ее обитатели знали всех здешних в лицо.
Шел кто-то незнакомый.
Старики ждали.
Из-за угла дома, быстро огибая его, показалась молодая пара: мужчина и женщина. Вид трех стариков, сидевших за столом на открытом воздухе, тоже застал их врасплох.
С точки зрения хуторян, пришлые были очень молодыми людьми.
— Добрый день, — поздоровался молодой человек, делая шаг к старикам. — Не могли бы вы показать нам дорогу к памятнику старины, который находится, как кажется, где-то здесь?
Старики молчали.
— Там, на шоссе, мы увидели указатель и решил поинтересоваться — продолжал молодой человек.
— Все правильно, — неожиданно ответил сапожник. — Если пойдете вот этой тропинкой дальше мимо старого сарая, то встретите груду камней. Но там не на что особенно смотреть.
— А что это такое? — спросил молодой человек. — Могила?
— Вообще-то мы не знаем точно, — сказал сапожник. — Хотя, наверное, это могила. Это — могила.
— Пойдем посмотрим! — предложила молодая женщина.
— Я провожу вас. — И сапожник поднялся с места. — Никто особо этим памятником не занимался, и он, наверное, здорово зарос.
Сапожник пошел по тропинке к летнему коровнику. Молодая пара следовала за ним.
Сапожник и молодые люди миновали летний коровник, подошли к краю пастбища и остановились. Сапожник начал что-то показывать.
— Единственно, что там есть, — сказал Эриксон Эману, — это камни от развалин дома старого Ингве. Там лежат рядком несколько камней. Но не собирается же сапожник показывать их?
Как раз их сапожник — или, скажем, бывший сапожник, а теперь человек, который свое отработал, — и показывал.
— Вот! — сказал он. — Вот старая могила. Как я говорил, выглядит она не очень внушительно. За ней никто не следит, не ухаживает, не рубит чертов кустарник. Как раньше в свое время делали.
Молодые люди обошли вокруг камней, оставшихся от фундамента дома старого Ингве.
— Здесь похоронен викинг? — спросила женщина. — Из тех, что жили в древние времена?
— Точно неизвестно, — сказал сапожник. — Но жил он в старые времена. Известно, что звали его Ингве, но вот примерно и все, что известно. Мало известно. Звали его Ингве — Ингве Фрей.
— Разве Правление лена не обязано охранять и содержать в порядке такие места? — спросил молодой человек.
— Может быть, — сказал сапожник. — Может быть, и обязано. Но, наверное, денег у них нет или времени? А может, памятник наш не очень значительный.
— Вы сами могли бы позаботиться, чтобы он не зарастал.
— Раньше мы так и делали, — сказал сапожник. — Раньше. До тех пор, пока это место не объявили заповедным. Теперь, после того, как оно объявлено памятником старины, никто не имеет права делать здесь все, что ему вздумается.
— Здесь красиво! — сказала молодая женщина, взглянув на верхушки деревьев над домами. — Красиво. Но зимой, наверное, скучновато?
— Да, — сказал сапожник, — пожалуй. Хотя скука для нас — вещь новая. И не зависит она, как мне кажется, от времени года. Конечно, зимой сюда к памятнику при-езжает меньше народу. Хотя, случается, приезжают. Памятник старины — забава для лета, для отпускников… Вы — тоже в отпуску?
— Да, — ответил молодой человек. — Сначала собирались за границу, но потом решили поездить здесь, у себя по стране. Мы уже побывали в Сконе и теперь едем к Эстерсуниу.
— И вы особо интересуетесь памятниками старины? — спросил сапожник, сам не зная, почему он задал этот странный вопрос.
— Особо мы ими не интересуемся. Смотрим все, что есть. Не так уж много в нашей стране достопримеча-тельностей. И здесь, в лесу, встретить памятник старины мы не ожидали.
Сапожник пристальнее взглянул на молодого человека. Потом сказал:
— Вы насчет лесов не думайте… Леса запросто могут отвести глаза кому угодно. В них много чего есть. Взять хотя бы наши большие города — они все находятся в лесу. Кроме Мальме в Сконе.
— Может быть, — сказал молодой человек, с удивлением взглянув на сапожника, который вдруг стал напоминать птицу, готовящуюся вспорхнуть в воздух. Сапожник отчаянно махал вытянутыми руками.
Сапожник махал руками по очень простой причине. Ему не хватало воздуха. Он помогал движениями рук работе своих легких.
И куда его черт понес? Он только что — и ведь никто его не заставлял — указал приезжим на камни от дома старого Фрея и сказал, что это — памятник старины. Он помнил дом, что стоял здесь, хотя не мог помнить самого Фрея. Но дом и жену Ингве Юсефу он хорошо помнил с раннего детства. Старуха дожила до ста трех лет и умерла, когда сапожнику было семь лет, а Эриксону и Эману — по десять. Их отцы общались с Ингве и рассказывали детям все, что сами слышали от Фрея о его жизни в девятнадцатом веке и что сам Фрей, в свою очередь, слышал от своих дедов о происходившем здесь в восемнадцатом и семнадцатом веках.
Вчерашний день у Выселок был долгий. Это только завтрашнего дня у них не было.
— Вы плохо себя чувствуете? — спросил молодой человек.
— Ничего, — сказал сапожник, — пройдет. Иногда мне не хватает воздуха. Трудно дышать. Я ведь немолодой, а своя болячка у каждого есть. Пойду домой. А вы, давайте, смотрите, если вам интересно.
— Мы пойдем с вами, — сказал молодой человек. — Мы оставили машину на лесной дороге. Может, она загораживает проезд.
— Вряд ли загораживает. Загораживать проезд тут некому.
— Откуда вы знаете, может, еще кому-то захочется взглянуть на памятник? Погода прекрасная, и проехать можно. Хотя мы про это не знали. На указателе, том, что на шоссе, не проставлено расстояние до памятника. А должно бы стоять. Вам бы это тоже не помешало. Люди знали бы дорогу на хутор.
«Сорву-ка я этот чертов указатель», — подумал про себя сапожник.
Они отправились обратно к мастерской Густафсона, и, когда проходили мимо летнего коровника, на глаза молодой женщине попался незнакомый предмет — косовина с приспособленным вместо деревянной ручки коровьим рогом.
— Что это? — спросила она.
— Это — косовина, — объяснил сапожник. — Палка для косы.
Женщина озадаченно смотрела на палку. Вещь эта была удивительная, ни на что не похожая.
— Красивая штука, — сказала она. Молодой человек тоже заинтересовался.
— Вы не продадите ее нам? — спросил он.
— Не знаю, — сказал сапожник. — Это — вещь Эриксона. Спросите у него! Да и к чему она вам? Уж покупать, так с косой.
— Нет, — сказала женщина, — она и так красивая. Особенно из-за рога. Смотрите, какой он гладкий!
— За рог удобнее держаться, чем за дерево, — сказал сапожник.
— Так вы думаете, этот самый Эриксон нам косовину продаст?
— Думаю, продаст, — сказал сапожник.
— Хотя, кто его знает, — вдруг добавил он, — Эриксон любит старые вещи.
— Вы не спросите его от нашего имени, может, он продаст нам ее за двадцать пять крон?
— За сколько? — переспросил сапожник. — Хорошо, я спрошу.
И спросил.
Эриксон вытянулся на стульчике, как старая сухая жердь. Он едва сумел выдавить из себя согласие. Ему отдали деньги, после чего молодые люди поблагодарили всех и ушли.
— Вот это да… — только и сказал Эриксон.
— Чудно, ничего не скажешь, — засмеялся сапожник. Эман не сказал ничего. Двадцать пять крон за старую косовину!
— Пошли сорвем указатель! — предложил сапожник. — Я задыхался, когда рисовал его, вот и напутал.
Старики немного подумали.
— Пускай остается! — сказал вдруг Эман.
— Да, пусть сидит себе на столбе! — подтвердил Эриксон. — Деньги эти мы истратим на общество, а сейчас отложим их в отдельный ящик в твоей мастерской.
— А если кто еще приедет и будет спрашивать, где памятник?
— Ты о чем, о могиле Ингве?
— Мы знаем, где она.
— Проводим!
III
Людей, которые свое отработали, ничем не удивишь, Их можно застать врасплох, испугать, ошеломить, но удивиться их заставить нельзя.
Свое удивление они прячут под долгой молчаливой улыбкой. Затем оно, как и все остальные переживания стариков, переходит в чувство усталости.
Именно усталость и почувствовали обитатели Выселок в тот день, в воскресенье, после того, как новый почтовый ящик сыграл шутку с молодыми людьми, пустившимися на розыски памятника старины. Шутку, конечно, сыграл с ними не почтовый ящик и не выставленный над ним указатель, а сами старики. Это они обманули молодых людей, выдав им за памятник старины развалины дома и продав негодную старую палку.
Все это так. Но, с другой стороны, они свою косовину никому не навязывали. Молодые люди сами предложили купить ее за двадцать пять крон. И никакого особого ущерба, как кажется, при этом не понесли. Напротив, они даже обрадовались.
Эман и Эриксон молча улыбались. Внешне они ничем не выказали своего отношения к выходке сапожника, словно она их не касалась.
Но они и не одобрили его желания снять указатель. Наоборот, сказали, чтобы тот оставался на своем месте.
Спрашивается, почему?
Отчасти потому, что они не верили, чтобы шутка сапожника повлекла за собой какие-то серьезные последствия.
И еще, может быть, потому, что вообразили: на руки им сдали крупный козырь.
Они сидели теперь с этим крупным козырем на руках и собирались пустить его в ход, чтобы подтвердить самим себе: они еще живы, они еще на свете есть.
Естественно, они могли бы разъяснить молодым людям идею Эльны — сказать им, когда те спросили о памятнике старины, что такой памятник в округе имеется.
И не один и не два, а три. Вот они, памятники, — сидят за столом и пьют кофе.
Памятники — они сами.
Но они этого не сказали.
Больше того, за негодную старую палку, которую все равно выбросили бы или сожгли в печке, старики получили с молодых деньги.
То, что для них было негодным старьем, в глазах молодых имело ценность именно из-за своей старости и рукодельности, ведь они не собирались пользоваться той штукой, которую купили, да и само ее предназначение представляли себе весьма смутно.
У современной молодежи завелись деньги. И странные увлечения.
Все эти вопросы требуют ответа, но было бы бессмысленно спрашивать его со стариков, которые, как было сказано, устали и улеглись после обеда немного отдохнуть. Впрочем, они делали так всегда, не только в этот день.
Эриксон прилег на деревянную лавку у себя на кухне, а Эман захрапел в своей комнате. Эльна смотрела по телевизору повтор вчерашней передачи, и только один Густафсон лежал без сна и покоя в своей комнатке на чердаке.
В отличие от крестьян, у него всегда был хороший сон, но в этот день Густафсона охватило непривычное беспокойство.
Беспокоился же он по той простой причине, что вслед за воскресеньем должны были наступить будни.
Следующий день был понедельник — первый понедельник в жизни Густафсона, когда дверь его мастерской будет закрыта для посетителей или, по крайней мере, для их поношенной обуви.
Он, естественно, как обычно, сядет в мастерской — где же еще ему сидеть? — но ему не к чему будет приложить руки.
Самое важное, чему он выучился за свою долгую жизнь, была его работа. Он давно усвоил: работа для мастерового-это друг, который никогда ему не изменит. Она не бросит его в любой беде.
И вот теперь он сам бросал работу. Он свое отработал.
Оставалось одно — умереть.
Отец Густафсона в свое время работал до самой смерти, пока его не стало, а теперь не стало самой работы.
Значит, он должен был заниматься чем-то иным.
Он мог, например, рыбачить. Он так и делал время от времени, делая паузы в работе. Но он не мог сидеть и удить рыбу, делая паузы в ничегонеделании.
О могиле Ингве Фрея Густафсон даже не вспомнил.
Не думал о ней и Эриксон, лежа на деревянной лавке у себя на кухне. В дреме он слышал, как кто-то постучал в дверь и вошел. Наверное, сапожник или Эльна.
Кто же еще? Никого другого здесь не было.
Эриксон услышал, как кто-то откашлялся и сказал:
— Извините за беспокойство, но я пришел по поводу памятника старины, который находится где-то здесь.
Эриксон открыл глаза.
Человек средних лет в нейлоновой рубашке с брюшком и редкой растительностью на голове стоял в кухне у двери и смотрел на Эриксона.
— Что? — сказал Эриксон.
Он пытался что-то понять. Он знал, что должен подняться, но не мог.
Незнакомец в нейлоновой рубашке смотрел на Эриксона.
— Я говорю о памятнике старины, что находится где-то здесь, — сказал он. — Где он?
Эриксон молчал.
— Я увидел на шоссе указатель, — отчетливо, чтобы Эриксон мог понять, сказал незнакомец. — На указателе написано, что здесь где-то есть памятник старины, но на нем не написано, сколько до памятника надо проехать. И больше никаких других указателей нет. Может, вы скажете, как добраться до памятника?
— А, это вы о могиле, — вдруг услышал Эриксон свой собственный голос-Вы о ней? О памятнике старины?
— Да.
— Я только надену ботинки и пойду провожу вас.
— Не беспокойтесь! Просто скажите, в какую сторону идти.
— Вас много?
— Четверо. Я выйду к остальным, мы подождем. Эриксон с трудом натянул на ноги обувь. Он думал.
Потом причесался, надел пиджак и шляпу и вышел наружу.
Во дворе тесной группкой, словно чего-то опасаясь, стояли люди: незнакомец, еще один господин в нейлоновой рубашке и две одного возраста с мужчинами дамы.
— Здравствуйте! — сказал Эриксон. — Я тут лег, немного вздремнул.
— Я обращался к вам по поводу памятника старины, — напомнил незнакомец, полагая, по-видимому, что Эриксон уже забыл о том, что было сказано ему пять минут назад.
— Пойдемте, я покажу вам! — сказал Эриксон.
И с Эриксоном во главе маленькая группа прошествовала мимо мастерской Густафсона. Видел их сапожник или нет, осталось неизвестно, во всяком случае, он не показывался.
Группа прошла мимо старого летнего коровника, и в надлежащий момент Эриксон указал на камни, оставшиеся от дома старого Ингве Фрея.
— Вот! — сказал он.
Он не смотрел на незнакомцев и на камни. Эриксон не отрываясь смотрел в лес, моля бога, чтобы ему не пришлось чего-нибудь объяснять.
— Гм… — сказал незнакомец. — Так это могила? Древнее захоронение?
— Да — сказал Эриксон. — Люди говорят, что это могила.
— А что говорит экспертиза?
— Кто? — не понял Эриксон.
— Наука. Ученые, которые занимаются такими вот памятниками старины. Люди, приказавшие установить на шоссе указатель. Они-то знают, что это за могила?
— Само собой, — сказал Эриксон. — Согласно науке это — могила. В могиле лежит Ингве Фрей.
— Что-то знакомое, — сказал приятель незнакомца. — Откуда не знаю, но что-то такое я уже слышал. Так это, значит, могила Ингве Фрея? — спросил он, сделав несколько шагов вперед и остановившись примерно на том месте, где стояла печь, а сейчас рос большой красный куст можжевельника.
— Точно, — сказал Эриксон и только понадеялся, что господа не доберутся до местной церкви и им не попадут на глаза настоящие могилы Ингве Фрея и его Юсефы.
— Он был ховдингом, вождем викингов? — спросил незнакомец.
— Чего не знаю, не буду говорить, — сказал Эриксон. — Но вряд ли он был ховдингом. А вот, что он был большой и известный в наших краях человек, это — точно.
— Вам бы надо поставить на пути сюда еще несколько указателей. И небольшую табличку с разъяснениями. Чем только занимается краевед лена?
— Согласен, — сказал Эриксон.
— Вообще-то странно, что в этих местах обнаружился древний памятник.
— В самом деле?
— Да. Насколько я знаю или, может быть, знал, люди живут здесь не так уж давно.
— Нет, люди жили здесь с давних-давних времен, — возразил Эриксон. — Другое дело, что они особо себя не выказывали. Но жить здесь люди жили. Хотя теперь их осталось немного.
— Я сам вижу, что здесь тихо и пусто, — сказал незнакомец. — В нашей шведской деревне стало теперь тихо и пусто.
— Ну, что пусто, я бы не сказал, — снова возразил Эриксон.
— Нет, нет, я знаю, в деревне сейчас тихо и пусто. Когда я был мальчишкой, все было по-другому. В детстве я подолгу жил в деревне. Не в этих, конечно, краях. Вы просто не замечаете, как в деревне сделалось пусто из-за туристов, что приезжают навещать вашего славного Ингве Фрея. Но в других местах, где туристам делать нечего, там сейчас совсем пустыня. Больше не осталось простых крестьян, деревенских чудаков. А колоритные были фигуры… Деревня — мертва. Так, конечно, и должно быть. Это — закон развития.
— Деревня не мертва, — упрямо возразил Эриксон.
— Хорошо! Ну вот ты здесь живешь, — сказал незнакомец и взглянул на Эриксона. — Разве тебе не одиноко? Что ты делаешь целыми днями?
— За многим нужно присматривать, — устало сказал Эриксон. — Работы больше, чем кажется с виду. Взгляните хоть на этот памятник старины! Он весь зарос из-за того, что никто не смотрит за ним. То же самое случится с моей землей, если я перестану за ней присматривать.
— Ты держишь корову?
— Нет, скотины я не держу.
— Ну, так тогда, — сказал незнакомец, — тогда ты можешь все здесь продать и переехать жить в город или в поселок.
На это Эриксон ничего не ответил.
— Понимаю, наверное, трудно бросить свою усадьбу, — продолжал незнакомец. — Современное общество слишком шумно и динамично для таких, как ты, привыкших к тишине и к лесу. К покою.
— Это верно, — согласился Эриксон. — Но никто не думал раньше, что все будет так, как сейчас. Думали, всегда найдутся люди, которые возьмут землю и будут ее пахать. Таких всегда было много. Но сейчас их больше нет.
— Это все законы развития. Необходимость, — сказал незнакомец. — Вы — владелец усадьбы или были им?
— Это моя земля, — ответил Эриксон. — Раньше в деревне была молодежь. А потом мы вдруг остались одни без молодых. Нам некому передать землю… Мы свое отработали.
— Скажите, а не могли бы власти, отвечающие в нашей стране за памятники старины, платить вам, чтобы вы поддерживали здесь чистоту и порядок? Я вижу, здесь есть над чем поработать… Или, может, стоит разрыть могилу, разыскать там что-нибудь и устроить небольшой музей? Никто не производил здесь раскопок?
— Нет, — сказал Эриксон, — здесь никто не копал. Наверное, наш памятник старины — очень незначительный. Да что я знаю.
— Но все-таки указатель на шоссе поставили. Значит, чем-то памятник интересен. Правда, на указателе не хватает цифры, обозначающей расстояние. И еще надо бы поставить несколько указателей по дороге.
Теперь уже Эриксон, как до него сапожник, стал судорожно хватать воздух ртом.
— Это верно, — с трудом выговорил он. — Мы об этом уже думали. Но, понимаете ли, переход на новое движение все спутал: никто не знает, как должны устанавливаться указатели и в каких местах.
— Да, с переходом на новое движение явно напутали, — согласился незнакомец. — Интересно, как справятся с ним здешние коровы и лошади?
— Какие коровы и лошади? — возмутился Эриксон. — Здесь нигде нет ни коров ни лошадей! Некому выходить на шоссе. И нет больше лесных выгонов.
— Всё, не как раньше, — сказал незнакомец.
— Да, все не так, как раньше.
— Я много времени проводил в деревне, когда был маленький. Как здорово было тогда! Все работали. И с какой радостью работали! Вы теперь, наверное, скучаете по работе на земле?
— Не знаю, — улыбнулся Эриксон. — Вот уж не знаю.
— Кто косит у вас траву?
— Молодой хозяин, он живет по соседству. Мы продаем свое сено на корню. Хотя он, наверное, приезжает больше из жалости, чтобы наши дома совсем не потерялись в траве. Ему самому трудно. Он еще молодой, а уже весь в долгу.
— Что же он не бросит хозяйство? — спросил приятель незнакомца. — Зачем он держится за него, если оно себя не окупает?
— Не знаю, на это трудно ответить.
— У него есть коровы?
— Нет! Раньше были. Но, чтобы забирать у него из лесу молоко, завод должен был посылать машину, а это заводу невыгодно. Хотя скотины молодой хозяин держал немало — коров двенадцать-пятнадцать.
— Раз молокозаводу это было невыгодно, винить никого нельзя, — сказал приятель незнакомца.
— Я никого и не обвиняю, — сказал Эриксон. — Просто очень уж это странно, что за свежим молоком теперь нужно ездить за тридевять земель. Что-что, а молоко у нас всегда было. Теперь мы покупаем его в мясной автолавке или заказываем по телефону в магазине, чтобы нам его прислали… У нас есть холодильник и морозильный шкаф.
— У вас и это есть, — удивилась одна из дам. — Ну, тогда вы живете совсем современно.
— А что нам делать, — ответил Эриксон. — Иначе не выдержали бы наши женщины. Да и мы сами тоже. Мы ведь немолодые.
— Все это хорошо. Но не лишается ли деревня тем самым своего особого шарма? — сказал незнакомец. — Я видел, у вас на кухне пол накрыт дорожками из синтетики. Уж они-то никак не могут заменить наших старых исконных, из настоящих лоскутов.
— Их проще содержать в чистоте, — сказал Эрик-сон. — Стирать старые дорожки было сущее наказание. А синтетические довольно ополоснуть.
— У вас, наверное, остались старые лоскутные дорожки? — спросила одна из дам.
— Я их свернул и сложил на чердаке. Дорожки делала жена. Я их на весь свой век настирался.
— Скажите, — спросила та же дама, что завела разговор о дорожках, — может быть, вы продадите их нам? Вы ведь все равно ими не пользуетесь. Можно хотя бы на них взглянуть?
— Да это же обычные дорожки из тряпок. Их давным-давно сшили моя жена и Эльна. Синтетические куда удобнее. Эльна тоже так считает.
— Они очень потертые? Те, что у вас на чердаке?
— Нет, — сказал Эриксон. — Они не старые и не драные, какие бывают. Они — непотертые.
— Ой, ой! — сказала другая дама. — Нам так хочется на них взглянуть!
— Взглянете — успокоил их Эриксон. — Я их вам покажу.
IV
Послеполуденное солнце ярко светило на окрашенную суриком садовую мебель перед застекленной верандой Густафсона. Здесь Эриксон разместил приезжих. Он решил, что так будет лучше: в случае чего Эльна недалеко, он всегда сможет позвать ее. Потом он отправился к себе домой и разыскал лоскутные дорожки. Они лежали на чердаке завернутые в грубую оберточную бумагу. Дорожек было много, и он взял с собой не все.
Внизу в дверях Эриксон столкнулся с Эманом. Тот вернулся из коровника, где держал своих кур: они гуляли там у него по коровьим стойлам. Эман нес миску, полную яиц.
— У нас тут собралась целая компания приезжих, — сказал Эриксон, — им хочется взглянуть на старые до-рожки.
— Зачем это?
— Не знаю. Их жены интересуются.
— Половиками?
— Ими самыми.
— И они из-за этого приехали?
— Нет, вообще-то они приехали посмотреть на дом Ингве. Но потом почему-то заговорили о дорожках. Ты представь, им не нравятся наши, синтетические.
— Смотри! Это не те люди, что стоят и разговаривают с Густафсоном?
— Густафсон вышел? Ну, тогда я пойду!
— Я с тобой. Отнесу Эльне немного яиц. Мои ведьмы снова снеслись.
Густафсон о чем-то оживленно разговаривал с приезжими у своей веранды. Эриксон с зажатыми под рукой дорожками приблизился к ним, а Эман, обогнув дом, не замеченный никем, проскользнул к Эльне через вход со стороны кухни.
Эриксон положил дорожки на садовый столик и взглянул на Густафсона.
— Вот, смотрите! Ими еще не пользовались.
Оглядев присутствующих, он смутился. Он как будто помешал, прервал лекцию, которую читал приезжим сапожник.
— Да, вот так он и делал, — продолжал тот как ни в чем не бывало, — так он и делал, наш старый Хуртиг, когда вши кусали его в спину. Брал кота за хвост и протаскивал его по своей спине. Котище выпускал когти и царапался… А когда и это не помогало, он говаривал? «А не потянуть ли еще кота за хвост?» — и проделывал все опять.
Густафсон поднял руку и показал своими разбитым,! пальцами мастерового, как котище выпускал когти.
«Наверное, уже принял», — подумал Эриксон.
Дамы забрали у него лоскутные дорожки и раскатали их прямо на траве. Дорожки были сшиты прилежно, ровные разноцветные полоски на них чередовались правильно, образуя скромный незатейливый узор. Дорожки были добротные, настоящие.
К удивлению стариков, дамы показали, что знают толк в рукоделии и ценят настоящую работу.
Они ничего не сказали. Дорожки говорили сами за себя.
Приезжие стояли молча.
Они уже успели насидеться на самодельных стульчиках и с интересом осмотрели небольшой ухоженный сад из нескольких яблонь и груши с причудливо изогнутым стволом, под которой цвели пионы. Они заметили цветы в горшочках, стоявшие на застекленной веранде, и чистоту недавно прибранной мастерской. Сейчас они стояли в тени высокой яблони на газоне, где цвел клевер. В клевере жужжали пчелы. По ступенькам, ведущим на веранду, ползали черные муравьи. Все здесь казалось очень маленьким, почти миниатюрным. И, может быть, потому, что эти люди редко выбирались на настоящую природу, здешняя тишина понемногу стала угнетать их. Дальний и ближний лес, обступавший Выселки во всех сторон, сдавливал грудь.
Они вдруг представили себе, что живут тут, и явственно почувствовали, как лес, одиночество и осенняя темень сводят их с ума.
Шелест леса — грозная тишина.
Даже из своей чердачной комнаты сапожник уловил, как проскальзывают в их голосах нотки инстинктивного страха.
Но его попытка развлечь приезжих несуразной болтовней лишь подчеркивала тишину, делала ее более резкой — слышимой.
Приезжие испугались, когда поняли, что тишина, как оказывается, тоже может говорить.
И вот любовно сшитая лоскутная дорожка, раскатанная во всю свою длину на траве, изменила все.
Ее узор — спокойное чередование широких черных полос с узкими светло-зелеными, белыми и коричневыми вдруг отодвинул лес.
Узором дорожки заговорило время.
Заговорил вчерашний день Выселок.
В теплой несовременной, пахнущей кофе, ягодами я супом кухне садится на плетеный стул женщина. На полу играют поленьями и деревянными ложками маленькие дети, а их бабка, стоя у печи, помешивает ложкой суп, отмахиваясь свободной рукой от мух. На лавке у стены спят кошки, а об оконное стекло бьются два овода. За столом сидит старик и вполголоса читает катехизис. Слышно, как с сеновала на кухню идут взрослые сыновья и хозяин. Дверь кухни приоткрыта, и в ее теплый воздух проникают запахи свежего сена.
За окном играет ветвями рябина. Лес стоит далеко-далеко.
Женщина, сидящая на плетеном стуле, шьет дорожку, вкладывая в работу весь свой вкус и уменье. Дорожка одним своим видом должна показывать, что в доме, где она лежит, живут работящие люди, и потому он простоит веки вечные. Дорожка должна говорить женщинам, собирающимся на посиделки, и мужчинам, садящимся за стол, что хозяева дома воспитывают своих детей в строгости и заботятся о своих стариках. И делают они это не только из любви к близким, но и рада земли, на которой живут. Ради того, чтобы попала она в надежные руки и перешла от вольных мужчин и вольных женщин к их детям, ставшим такими же вольными мужчинами и женщинами, привычными к испытанию счастьем и горем, морозами и засухой, обилием и недородом, больной скотиной и скотиной здоровой, смертью и родами.
И так во веки вечные.
Которым неожиданно наступил конец. Конец наступил не медленно и не постепенно. Вечность закончилась сразу, вдруг.
На Выселки опустилась тишина. Лес ждал. Сначала тут вырастет трава, потом кустарник. Дренажные ка-навы порастут высокими березками и ольхой. Потом усадьбу займут сосны и закроют опавшими иглами следы человека и его работы.
И нельзя будет сказать, жили здесь люди или не жили.
Кое-кому хотелось бы этот процесс ускорить. К Эриксону приходил однажды человек, предложивший ему бесплатные саженцы, если Эриксон согласится посадить на своих полях лес. Эриксон ответил ему, что охотно пойдет на это.
Но человек походил-походил по земле Эриксона, а потом вернулся в дом и сказал, что лес здесь сажать не стоит.
— У вас и так в доме темно, — сказал он. — А если посадить лес, станет еще темнее.
Эриксон не нашелся, что ему ответить. Незнакомец, его приятель и их жены смотрели на лоскутные дорожки, лица их были серьезны.
Эриксон и Эман заметили это, но ничего не поняли.
— И вы хотите, чтобы дорожки из синтетики заменили вам настоящие? — сказал незнакомец. — Эх, вы! Это же не то!
— Да нет, — ответил Эриксон, — получается то же.
— Это же ручная работа!
— Вы, кажется, нас не понимаете, — вздохнул Гу-стафсон. — Мы хотим, чтобы в домах у нас было чисто. Нужно поддерживать чистоту. А чтобы держать лоскутные дорожки в чистоте, за ними нужно много ухаживать, их нужно стирать с мылом в холодной воде, как рабочую одежду. Раньше мы ходили с ними на озеро, но теперь у нас не хватает на это сил… Эльна тоже считает, что дорожки из синтетики гораздо практичнее.
— И вы больше не шьете лоскутных дорожек?
— Да зачем они нам? У нас их и так много. Мы ими не пользуемся. Зачем таскать тяжелые лоскутные дорожки, когда есть хорошие и легкие из синтетики?
— Но дорожки из синтетики не такие уютные, — сказала одна из дам.
Сапожник почти разозлился.
— Я понимаю, что вы, фру, хотите сказать. Но поймите и вы, что лоскутные дорожки можно держать только в большом хозяйстве, где много рабочих рук. Красивые вещи нужны для общения… А у нас здесь хозяйство маленькое, а общество и того меньше.
— Вы продадите их? — спросила та же дама. Эриксон широко улыбнулся.
— Я как-то об этом не думал. Я не торгую дорожками.
— Разве они сделаны не на продажу? Вы же сами сказали, что ими ни разу не пользовались. И у вас они есть еще.
— Да, есть, — терпеливо объяснял Эриксон, — но делали мы их не на продажу. Мать моя, жена моя и Эльна шили дорожки из лоскутков просто для того, чтобы у нас эти дорожки были. Никто не виноват, что их не довелось использовать. Просто черед до них не дошел… Когда я умру, то в сарае найдут дрова, которые я заготовил, и их тоже не используют… Вы поняли, о чем я говорю?
Эриксон засмеялся. Он, по-видимому, считал, что все это очень смешно.
Конечно, вид красивых дорожек и в нем вызвал воспоминания. Но он не опечалился и не загрустил, как другие. Вместо этого ему сделалось смешно. Ему сделалось смешно оттого, что они когда-то верили, что дорожки им пригодятся. Эта наивная вера казалась теперь смешной. Но Эриксону стало смешно и оттого, что незнакомец, чужак, пытался втолковать ему, что дорожки — красивы. Какое ему до этого дело! Есть вещи нужные и есть вещи ненужные — вот и все!
И как раз сейчас пресловутые дорожки были вещами ненужными.
И он, черт побери, от них избавится!
— Я продам их! — сказал он. — Но возьму дорого.
— Мы уплатим вам десять крон за метр, — сказала одна из дам.
Незнакомец измерил шагами дорожку и сказал:
— Длина четырех штук будет вместе примерно девятнадцать метров. Для большей уверенности положим двадцать метров.
— Что решите, хозяин? — спросила дама.
— Я сказал, что продаю, значит, продаю. — Эриксон искоса взглянул на сапожника.
Но тому хотелось выступать в роли продавца дорожек не больше, чем Эриксону.
— Их нужно связать, — сказал сапожник. — Пойду схожу за веревкой.
— Мы заберем их и так, — предложил незнакомец. — Машина недалеко, у опушки леса. Мы не знали, можно ли сюда проехать.
— Перевязать их все равно не мешает, — сказал сапожник.
Он собрался за веревкой потому, что не хотел глядеть, как Эриксон будет получать за дорожки деньги.
— Я пойду подгоню машину, — сказал незнакомец. — А потом предлагаю обмыть покупку.
И он пошел за машиной.
— У вас здесь красиво, — сказала одна из дам. — И сад очень аккуратный.
— Это сад Эльны, — сказал Эриксон. — Она все время возится в нем со своей морковью да с цветами. Но даже такая работа иногда ей не по силам. У нее камни в почках. Теперь, после того, как сапожник закрыл мастерскую, он будет помогать ей в саду. Он у нас свое отработал.
— Он всю жизнь был сапожником?
— Да, он чинил обувь с самого детства. Его отец держал мастерскую, и Густафсон начал работать рано.
— Как же все-таки он сводил концы с концами? — спросила другая дама.
— У сапожника всегда было много работы, — сказал Эриксон. — Сначала он сам делал ботинки и тачал сапоги, но потом и обувь и материал стали другими. Когда появились резиновые сапоги, он сразу потерял много заказов. Но он продолжал чинить обувь, как раньше. Всего несколько лет назад он как-то зимой сшил дамские сапоги. Зимой-то работы мало. Снег не так сильно изнашивает обувь. Еще он чинил и мастерил конскую сбрую, пока лошади в округе не перевелись… Он и волосы людям стриг. Совсем как парикмахер.
Эриксон не знал, зачем он рассказывает обо всем этом. Но ему хотелось как-то защитить сапожника.
— Было время, когда люди не выбрасывали обувь, — добавил он.
— Вы тоже всегда здесь жили? — спросила дама.
— Да. Не так уж много мы повидали.
— Телевидение, наверное, явилось для вас событием?
— Нет.
— Но вы служили срочную службу в армии? — спросил приятель незнакомца.
— Мы не служили. И сапожника и меня освободили от службы из-за того, что мы были единственными кормильцами в семьях. Тогда-то нас было здесь много; Самое большее в одно время здесь жило человек сорок.
— Ой! — удивилась дама.
— Так и было.
— И вы все жили на доход от клочка земли и маленькой мастерской?
— Теперь бы не смогли жить, а тогда жили. Дама задумалась. Потом спросила:
— Вы голодали?
— Нет, — ответил Эриксон, — мы не голодали… Но те, кто жил на хуторе до нас, голодали. Нам рассказывали про голод… Но сами мы не голодали. Эриксон немного помолчал.
— А в городе в то время голодали, — добавил он наконец.
Подъехал на своей машине незнакомец, и сапожник аккуратно связал дорожки в один тюк.
Потом незнакомец налил каждому из стариков по рюмке водки. Сами приезжие выпить не захотели, но приятель незнакомца передумал и сказал, что чокнется со стариками. Густафсон сбегал для него за рюмкой.
Старики стояли, держа каждый свою рюмку, и не знали, что сказать.
— Ваше здоровье! — сказал приятель незнакомца.
— Честь вам и спасибо, — сказал сапожник.
— Честь и спасибо.
Приезжие сели в машину и помахали старикам рукой, в точности как малые дети, когда они уезжают в конце лета из деревни обратно в город.
— Ты, Густафсон, возьми деньги и положи их в ящик к тем остальным. Жалко, что Эман пропустил даровое угощение.
— Хорошо. Но ты знаешь, Эриксон, — осторожно начал сапожник, — когда я бегал за рюмкой в мастерскую, я как раз и думал привести сюда Эмана. Он должен был сидеть у Эльны, он приносил ей яйца. И вот, странное дело, Эльна и Эман сидели в кухне не одни… В кухне еще кто-то сидит и разговаривает с ними. Он, должно быть, вошел в дом с другой стороны, и мы его не за-метили.
Старики помолчали.
— Интересно, — продолжал Густафсон, — это не наш ли памятник старины привел его сюда?.. Говорил я, надо было сорвать этот дурацкий указатель.
— А я уже ничего не понимаю, — сказал Эриксон. — Я во всем этом не понимаю ничего.
— Тут и понимать нечего. Сейчас у всех отпуска. Вот народ и разъезжает на машинах туда-сюда. Сами не знают, куда себя деть. А раз есть памятник старины, чего же на него не взглянуть? Народу интересно.
— Но наши-то люди, — возразил Эриксон, — рабочие с лесопилки и с завода, они же знают, что нет здесь никакого памятника.
— Так они — тоже в отпуску! Гоняют на машинах в других местах. Даже наш почтальон взял отпуск. Вместо него почту развозит другой, временно нанятый… И ни тот ни этот понятия не имеют, есть у нас памятник старины или нет… Да, как ты думаешь, хозяин, сколько лет должно быть настоящему памятнику старины?.. Ну, чтобы все в него поверили?
V
Через служившую парадным входом веранду и при-хожую сапожник и Эриксон прошли на кухню.
В прихожей они на миг остановились. Действительно Эман с кем-то на кухне разговаривал.
Рядом с ним на деревянной скамье сидел худощавый лет тридцати молодой человек. Увидев стариков, он встал и поздоровался с ними за руку.
Он представился как Ниссе — Ниссе Петтерсон из Стокгольма.
На Петтерсоне были светло-коричневые кожаные туфли, узкие черные брюки на красных подтяжках и белая рубашка. На голове у него сидела шляпа. Он не снял ее, когда вошел в дом, не снял и теперь, когда здоровался.
Ниссе Петтерсон зашел, чтобы кое о чем спросить хозяев дома, но Эман сказал ему, что с вопросом, как у него, лучше всего обратиться к сапожнику.
— Я слушаю, — сказал сапожник.
И Петтерсон изложил ему быстрой скороговоркой, что вообще-то он сейчас в отпуске, что ему в принципе не полагается отпуск, но достался по сходной цене жилой автоприцеп, и поэтому он поехал отдыхать.
Хотя возиться с этой колымагой — одно божье наказание, и он готов все бросить ко всем чертям и вернуться домой. Сюда он заехал по ошибке, но уже наделал в своей жизни столько ошибок, что одной больше — другой меньше значения не имеет. Он заметил лесное озеро, съехал на обочину неподалеку от почтового ящика и оставил машину там. У озера было так свежо и приятно, что его, Петтерсона, обуяла вдруг абсолютно сумасшедшая жажда свежего воздуха, и он с удовольствием остался бы там, на берегу, денька на два — на три.
Весь вопрос в том, можно ли ему там остаться?
— А как же, — сказал сапожник. — Нам все равно, мы не против… Да и кто вам может помешать?
— Но мне сдается, — сказал Петтерсон, — что по шоссе проходит трасса трейлеров, развозящих лес. У водителей трейлеров тоже сейчас отпуска? Сейчас вся Швеция в отпуску, но я не знаю, как в этом отношении обстоят дела у водителей трейлеров?.. Если я никому не помешаю там, на шоссе, и никто моего фургона не зацепит, то с удовольствием останусь на несколько дней…
— Со мной еще девушка, — дополнил свою речь Петтерсон. — Ей очень понравились здешние кувшинки. Она от них сделалась совсем ненормальная… Кто-нибудь из вас не проводит меня и не посмотрит, правильно я поставил машину? Я потом отвезу его обратно. Эман сказал, сюда можно проехать.
— Проехать можно, — подтвердил сапожник.
— Или пошли все вместе, я познакомлю вас со своей девушкой. Она не видела настоящего крестьянина даже на открытке. Вы можете оставить вашу даму одну? Он а, кажется, не выходит далеко из дома?
— Да, Эльна далеко не ходит, — сказал сапожник.
— Но вы-то, мужики, пойдете? Только минуту подождите меня. Я слетаю тут, взгляну на памятник старины. Может, его стоит снять? Я фотограф. Мне нужно сфотографировать девицу, что я привез с собой, и хорошо бы найти для этого интересный фон.
— Там все заросло, — поспешил заявить сапожник.
— А вы до сих пор не припасли топора?
— Но, — сказал Эриксон, — на местах, где стоят такие памятники, трогать ничего нельзя.
И сапожнику и Эриксону стало вдруг не хватать воздуха.
Человек в шляпе был опасным типом.
— Кто это вам сказал?
— Так постановило Правление лена, — вяло ответил Эриксон.
— А с каких это пор, — бросил старикам на ходу Петтерсон, — с каких пор Правление лена стало приказывать вольным крестьянам, что им делать и как?
Петтерсон ушел.
— Ты думаешь, он найдет? — спросил сапожник Эмана.
— Я описал ему дорогу.
Эльна взглянула на стариков. Эльна была не очень старая, лет на десять младше сапожника. Она была невысокая и кругленькая, но не особенно сильная. Сильной она была, наверное, в молодости.
Но в ее карих смеющихся глазах до сих пор чувствовалась сила. Эльна была умной.
Хотя плохо слышала.
— Что здесь происходит? — спросила она.
— Это ты сказала, — прокричал ей сапожник, — что нас здесь скоро будут принимать за памятник старины! Вот мы и отыскали кое-что постарше нас!
— Что?
— Камни от дома старого Ингве! — прокричал сапожник.
— Эман рассказал мне, что ты, Эриксон, стал торговать дорожками?
— Это все из-за камней старого Ингве! Старые половики все равно лежат без дела! Люди с ума посходили! У всех отпуска!
— Стыдно и грешно обманывать народ, — сказала Эльна. — Но продай заодно и мои!.. Синтетические дорожки лучше.
— Так мы им и сказали! — прокричал Эриксон. — Но им вроде бы не нравятся синтетические!
— Им нравится старое дерьмо! — прокричал Эман. Неведомо откуда на кухне снова появился Ниссе Петтерсон.
— В озере разрешено рыбачить?
— А кто вам помешает? — сказал сапожник.
— Тогда одолжите мне лопату, я нарою червей. Рыба в озере есть? Впрочем, не все ли равно! Попробую половить, мы же на отдыхе.
— Я вам найду червей, — сказал Эман. — Я знаю примерно, где копать.
— И еще одно. Там, на берегу, есть лодка. Я возьму ее?
— Само собой, — разрешил Эриксон. — Мы проводим тебя. Весла-то спрятаны.
Все пошли к озеру. Шли цепочкой один за другим. Первым шел сапожник, за ним — Петтерсон с банкой червей, за Петтерсоном — Эриксон и Эман.
— Насчет памятника старины, — неожиданно сказал Петтерсон. — Это — шутка?
Сапожник резко остановился.
— Что? — сказал, он. — Это обычный памятник старины… Могила Ингве Фрея.
— Какая могила? Это развалины старого дома. Остатки фундамента.
— Да?
Сапожнику нечего было сказать. Больше всего на свете ему бы хотелось провалиться сейчас сквозь землю. Ему было стыдно.
— А Ингве Фрей был? Или вы тоже придумали его?
— Ингве Фрей был. Эриксон помнит его. Мне, когда старый Ингве умер, было пять лет. Ингве был злой, как черт, столетний старик. Он служил в солдатах. Я до сих пор помню его Юсефу.
— И когда они сыграли в ящик?
— Они не сыграли в ящик, — возмутился сапожник. — Они похоронены у церкви, как все другие.
— Я так понимаю, — сказал Петтерсон, — вы — люди вольные. Но на дорожном указателе обязательно должно стоять расстояние до памятника. Сколько до него примерно?
— Метров четыреста будет.
— Это и надо вписать.
— Я его сорву, — сказал сапожник, снова трогаясь с места. Теперь он шел заметно быстрее. И коленки и голос у него дрожали.
— Должен же я был как-то объявить округе, что свое отработал. А Эльна сказала, что нас на Выселках скоро станут принимать за памятник старины. Вот я и написал сгоряча ее слова на указателе, когда устанавливал новый почтовый ящик.
— Срывать указатель не надо, — спокойно заявил Петтерсон. — Но его надо усовершенствовать. А у могилы Ингве Фрея поставим мемориальную доску с разъяснениями… Нужно написать там что-нибудь такое: здесь издревле покоится Ингве Фрей. Он был воином и вождем. Юсефа оберегала его очаг.
— Я сорву фанерку!
Теперь остановился Петтерсон. Он сказал:
— Я всерьез говорю. Чего нам не хватает в нашем лесу — учти, я тоже теперь здесь живу — так это памятника старины. Священной могилы. Своего героя… Кто еще в наши дни помнит Ингве Фрея?.. Никто!.. Никто, кроме нас!
Они перешли через дорогу к озеру и скоро были у фургона. Домик на колесах удобно расположился среди березок и ольховника и совсем не загораживал дорогу воображаемым трейлерам с лесом. Как раз на этом месте раньше стояла лесопилка.
Возле фургона сидела голубоглазая блондинка в купальном халате.
— Познакомьтесь с Анитой, — представил ее Петтерсон. — Она без ума от здешних кувшинок…
— А это, — продолжал он, обращаясь к Аните, — трое вольных людей — члены-основатели только что организованного клуба друзей Ингве Фрея…
— И имя это мне что-то напоминает, — медленно добавил Петтерсон. — Вы никогда не слышали о корабле под таким названием?
— Нет, — сказал сапожник.
— Теперь весла. Покажите мне, где они?
Эман показал пальцем на березу. У ее ствола стояли два весла.
— Анита, дорогая, не принесешь ли ты мужчинам пива? Нам нужно кое-что обдумать.
Мошкара нудно гудела вокруг мужчин и Аниты, пока они, храня торжественное молчание, пили пиво. Старикам было не по себе, они устали от суматохи.
Поэтому они даже не улыбнулись, когда на шоссе появился еще один автомобиль, притормозивший неподалеку от нового почтового ящика.
Из машины вышли мужчина и женщина и направились к группе.
— В этом озере разрешено рыбачить? — спросил мужчина.
Навстречу ему поднялся Петтерсон. Старики сидели.
— Разрешено. Но только не спиннингом. Можно ловить на удочку.
— Если здесь на удочку ловить, — сказал мужчина, — так только с лодки.
Он оглядел озеро. Солнце сверкало в его мелкой ряби. Почти везде у берега рос камыш. Ловить рыбу удочкой можно было только в двух-трех местах с противоположной стороны.
— Красиво — вздохнула женщина. — Хорошо бы здесь покататься.
И она увидела наполовину скрытую камышом лодку.
— Мы не могли бы нанять вон ту лодку?
— Могли бы, — ответил Петтерсон. — Вы можете нанять ее за десять крон.
Мужчина повернул к нему голову.
— А еще за пять крон получите удочку и банку червей.
Мужчина больше не раздумывал. Он вынул кошелек и отсчитал из него пятнадцать крон.
Петтерсон принес весла и помог спустить лодку. Он вошел по колено в воду и провел лодку через камыши, а потом, вернувшись к старикам и Аните, отдал пятнадцать крон Эриксону.
Эриксон, ничего не сказав, деньги взял.
— Народ совсем посходил с ума, — сказал Эман. — Все словно сбесились в отпуску. Мы сегодня уже продали одним старую косовину.
— Продали что? — спросил Петтерсон.
— Палку для косы, — объяснила Анита.
— А ты это откуда знаешь?
— Знаю. Я не из города.
— Понятно. Раз ты не из города, значит, из деревни, из лесу. Вот почему ты в лесу как дома.
— В лесу нельзя быть как дома.
Эриксон по-прежнему сидел, зажав в ладони пятнадцать крон, и затравленно глядел то на Петтерсона, то на Аниту.
— Вы, наверное, устали? — сказала Анита.
— Я не устал, — сказал Эриксон. — Голова немного кружится. Со мной такое бывает. Из-за слишком высокого давления.
Надо сказать, что у Эриксона часто кружилась голова, и происходило это, когда он нервничал. Эриксоя вообще был нервной личностью.
Он плохо спал. Прогресс, развитие или новые порядки в деревне не имели к этому никакого отношения. Бессонница преследовала его всю жизнь.
Даже подростком в школьные годы он спал плохо. Хотя он всегда ложился рано. Может быть, теперь из-за телевизора он ложился чуть позже. Но он все равно рано вставал — и теперь и прежде. Он много работал, но усталость не давала желанного сна.
Его мать заметила, что сын плохо спит, и не раз говорила ему: самое главное — это хорошо отдохнуть. И не давать себе задумываться.
Поэтому Эриксон ложился рано и отдыхал. Он старался не задумываться, не думать вовсе. И он научился не думать. Но задумывался от этого не меньше.
Над чем же он задумывался, он сказать не мог. Но каждую ночь подолгу лежал с открытыми глазами: ему все казалось, что он что-то забыл или не успел сделать за прошедший день, становившийся, таким образом, незавершенным, неполным.
Но что это была за работа, которую он никак не успевал сделать за день, он вспомнить не мог.
Эриксон так и не привык к бессоннице и, случалось, специально изнурял себя тяжелым трудом для того толь-ко, чтобы легче заснуть.
Но свою бессонницу он хранил в тайне. У него вообще не было привычки жаловаться на что-либо, и он не рассказал о своей бессоннице даже доктору, который считал, что у него слишком высокое кровяное давление.
Он жаловался только, что у него иногда кружится голова.
Подобным же образом вели себя и сапожник и Эльна. И Эман. Люди на Выселках не любили жаловаться.
Конечно, случалось, что они жаловались на жизнь вообще, но на конкретные трудности, признание которых действительно могло бы им помочь, они не жаловались никогда.
— Если вам плохо, полежите у нас в домике, — предложила Анита.
Эриксон отказался, а сапожник вспомнил, что им пора домой. Эльна наверняка уже ждет их.
Но старики сидели.
Петтерсон, кажется, не был таким уж опасным типом.
— Вы, фру, в самом деле родом из деревни? — спросил сапожник.
— Да, хотя я из мест, что подальше на севере. Анита родилась в деревне. Она долго жила в лесу и знала тип людей, с которым встретилась в лице трех стариков. Беда их была не в старости, а в том, что они до времени стали ненужными. Может быть, она даже знала, отчего они стали ненужными, но она пожила свое в лесу и потому промолчала.
Но она узнала крестьянина, у которого не осталось больше скотины, и мастерового без заказчиков.
— Вы держали много коров? — спросила она.
— Три, — сказал сапожник.
Из этих слов Анита узнала, что Эриксон и Эман были той лошадью, держать которую на хуторе они не могли из соображений экономии.
Ниссе Петтерсон тем временем зорко следил за перемещениями лодки на озере.
— Они, кажется, поссорились, — сказал он. — Мужик гребет сюда, как будто за ним черт гонится… Кстати, он забыл уплатить нам за парковку машины.
— А разве он должен? — спросил Эман.
— Должен.
— Я в этом не участвую, — сказал сапожник. Он поспешно поднялся, а вслед за ним встали и Эриксон с Эманом.
— Нас ждет Эльна, — сказал сапожник. — До свиданья!
— Завтра мы оформим ваш памятник, — сказал Петтерсон.
— Чего не знаю, того не знаю, — ответил сапожник. — Посмотрим.
Старики заторопились назад. Они перешли шоссе и быстро углубились в лес.
Первым шел сапожник. У старого муравейника, не оборачиваясь, он сказал:
— Они не расписаны… Провалиться мне на этом месте, если они расписаны.
VI
Человек, который свое отработал, проснулся рано утром у себя в комнате на чердаке и немного полежал не вставая.
Был понедельник — первый день рабочей недели. Едва открыв глаза, он уже знал: сегодня — теплый и приятный день. Он слышал сквозь сон, как незадолго до него проснулись куры.
Человек заводит свои карманные часы, лежащие рядом на столе. Тут же, на столе, валяются последний номер местной газеты и альманах «Интересное чтение», подаренный ему кем-то шесть лет назад.
Комната на чердаке — небольшая, и сапожник живет в ней только летом. Зимой он живет внизу. Вполне возможно, что больше жить здесь летом он не будет. Лестница, ведущая наверх, — крутая и неудобная. Человеку старому или с больными ногами пользоваться ей трудно.
Эльне тоже трудно подниматься наверх, поэтому всю необходимую уборку сапожник делает сам.
Он медленно встает с постели и начинает свой день с того, что вешает выходную одежду на крюк и накрывает ее сверху большим листом оберточной бумаги. Резинки для носок он сует в ботинки, а сами ботинки заталкивает под кровать.
Он надевает обычную будничную одежду.
Уже почти семь утра. Слышно, как на кухне Эльна бренчит кофейными чашками.
Сапожник надевает синюю рубашку, брюки из чертовой кожи и фуражку. Ноги он всовывает в туфли, которые ему не принадлежат. Кто-то сдал их в починку, да так и забыл забрать. Сапожник их носит давно.
Человек, который свое отработал, одет. На нем обычная повседневная одежда.
Он спускается по крутой лестнице в маленькую прихожую, берет с полки ключ, выходит на веранду и вставляет ключ в замок на двери мастерской. Потом он сходит с веранды к яблоне, облегчается по-малому и приветствует утро.
Сапожник мог бы прямо пройти на кухню. На кухне есть туалетная комната со смывным бачком, но это туалет Эльны. Сапожник не пользуется им без крайней необходимости.
На траве лежит роса.
Сапожник огибает угол дома и входит в него через другую дверь со стороны кухни.
Эльна уже приготовила ему завтрак. На столе — чашка кофе с булочками. Сама Эльна пьет кофе, стоя у плиты.
Сапожник проводит расческой по голове и смотрится в зеркало. Потом садится за стол. Он пьет кофе мелкими глотками и закусывает его булочкой.
Эльна не говорит ему ничего. Она слышала, как он по привычке вставил ключ в замок на двери мастерской. Обычный звук, она слышала его уже тысячи раз. Но она ничего не говорит.
Выпив кофе, сапожник обычно шел в мастерскую. Он работал там весь день, выполняя то, что наметил для себя заранее.
Но на сегодняшний день у него не намечено ничего. Мастерская закрыта.
Сапожник рассеянно стучит пальцами по столу. Уже сейчас за утренним кофе он ощущает себя праздным бездельником. Раньше он посмеивался, встречая в газете фразу «проблема свободного времени». Больше над этим выражением он смеяться не будет.
Эльна смотрит на него. Как всегда, по утрам, она ходит босая в цветастом домашнем халате. Цветы на ткани халата — большие и яркие.
Что будет делать сапожник в этот день и во все оставшиеся «дни своей жизни?
Эльна смотрит на брата и ему не завидует.
Она заметила, как сильно изменился Эриксон за последнее время. Каким он стал рассеянным.
— Эриксон плохо выглядит, — говорит она.
— Он всегда такой! — кричит ей сапожник. — Это все от беспокойства! От его всегдашнего зряшного беспокойства!.. Он ведет себя так, словно весь в долгу! Но нет у него никаких долгов!
— Он плохо выглядит, — упрямо повторяет Эльна.
— Он такой же, как всегда! — кричит сапожник. — Это все от вчерашней суматохи! Он от нее устал!
— Все-таки с ним что-то не то.
— А как с ним быть тому? Беда с ним, с Эриксоном! Хоть и беды никакой нет! Они с Эманом собирались сегодня почистить дренажные канавы! Они мне сами сказали об этом вчера!
— Лучше бы прибрались на покосах, — говорит Эльна. — Там валяется с полвоза сена. Непорядок это.
— Кому мешает непорядок в наше, время! — кричит сапожник. — Я, пожалуй, сам пойду там приберусь. Мне все равно нечего делать.
— Оставь все, как есть.
— А почему бы мне не подышать свежим воздухом и не сделать что полезное? Думаешь, интересно сидеть в мастерской, уткнувшись носом в дырявый башмак? Особенно в такой, как сегодня, день?
— Оставь все, как есть, — повторяет Эльна. — Оставь работу Эриксону и Эману. Они и так не знают, куда себя деть. Ты им не поможешь, а только навредишь.
Сапожник знает, что Эльна права. Он берет еще булочку. Наливает себе еще чашку кофе.
Покончив с булкой и выпив кофе наполовину, сапожник поднимается и идет в горницу к Эльне. Он вынимает из комода бутылку и наливает несколько капель водки себе в кофе.
— Не знаю, за что бы мне взяться? — кричит он.
— Ты себе что-нибудь придумаешь, — говорит Эль-на. — Только бы был здоров.
— А чего мне болеть! Ты во всем видишь одну беду!
— Эриксон плохо выглядит, — опять повторяет Эльна.
— Он такой же, как всегда!
— Он беспокоится.
— Может, он беспокоится за Хильду? — спрашивает сапожник.
Хильда — сестра Эриксона. Она живет в доме для престарелых. У нее было кровоизлияние в мозг, и она парализована. Хильда — чуть младше Эриксона. Параличом ее разбило семь лет назад.
— Скорее он беспокоится, как бы самому не слечь, — говорит Эльна.
И сразу же умолкает. Все они на Выселках боятся одного и того же. Того, о чем не принято говорить.
— Он зря беспокоится! — кричит сапожник. — У него нет долгов! А картошки и дров ему хватит!.. Это у него голова кружится! От слишком высокого давления! Он износился, выдохся, наш Эриксон! И Эман тоже износился!.. Мы все здесь износились!..
— Или, может, не износились? — задает себе вопрос сапожник. И тут же отвечает: — Может, и не износились!.. Нам не дали износиться! Для нас это слишком большая роскошь!
— В роскоши мы не живем, — вторит ему Эльна. — Мы живем хорошо, но до роскоши не дожили.
— Многим приходится хуже!
— Бог свидетель, многим. По телевизору показывают, как люди плохо живут. Особенно в других странах.
— Новости посмотреть — все равно, что послушать отца, когда он рассказывал про голод! Хорошо еще, что все это от нас далеко!
— Мы живем хорошо.
— Ты не понимаешь, Эльна, — громче прежнего кричит сапожник, — не понимаешь, каково это мне, когда нечем заняться! Мастерская-то закрыта!
— Ты этого тоже не понимаешь, — спокойно говорит ему сестра. — Еще не понимаешь. И зря беспокоишься. У тебя тоже нет долгов.
Сапожник смотрит в окно: Эриксон и Эман уже вышли на покос и убирают граблями оставленное молодым хозяином сено.
— Не пригласить ли стариков позавтракать? — кричит он. — Я вижу, они там уже работают!
— Разве роса уже сошла?
— Еще нет. Но скоро сойдет. Они подбирают сено, что наши работнички порастеряли на дороге!
— Как не совестно оставлять после себя такую работу?
— Для них что сено, что солома! — кричит сапожник. — Они берут только то, что само идет в руки! К чему хорошая работа, если без нее можно обойтись! Хорошо работать — невыгодно! Он весь в долгу, молодой хозяин! И все из-за машин, которые должен держать!
— Но с хозяйством он справляется.
— Мы знаем, что справляется! А вот как они, в городе? Знают ли?
Сапожник снова смотрит в окно.
— Эриксон не выглядит плохо! — кричит он.
— Да, когда работает. Я тоже не говорю, что он болен. Просто выглядит он нездорово. Но, когда он работает, ничего такого не видно.
— Да и вообще ничего не видно! У него мельтешит в глазах, когда он смотрит телевизор и еще когда он нервничает. Но это у нас у всех одинаково. А больше он ни на что не жалуется, кроме как на вставные зубы. У него от них десны болят!
— Он к ним не привык, — говорит Эльна. — И, наверное, не привыкнет. Вчера он целый день их носил из-за того, что понаехало много народу… Чего их потянуло к дому старого Ингве?
— Черт знает, из-за чего! У них же у всех отпуска! Они думают, что здесь на Выселках есть памятник старины. Народ сейчас интересуется памятниками старины. Всем старым. Но только очень старым. Мы для них недостаточно старые.
— Недостаточные для чего?
— Недостаточно старые для того, чтобы вызывать у них интерес. А вот памятники старины у них интерес вызывают. Я потому и поставил на шоссе указатель.
— Что он показывает?
— Дорогу к нам! Чтобы люди знали, где мы живем! Сейчас все разъезжают! Но указатель еще не готов! В него надо вписать расстояние!
Эльна вопросительно смотрит на брата.
— Расстояние досюда! Иначе указатель не похож на настоящий! Так сказал Петтерсон, тот самый, что приехал на машине с прицепом!.. Он приехал с девушкой! Мне кажется, что они не расписаны!
— Как она с виду, не неряха? — спрашивает Эльна. — Сам-то парень вроде опрятный, хоть и не снимает шляпы.
— Я не знаю, неряха она или нет! Она была в халате, когда я ее видел! И еще, она знает, что такое косовина! Может, она даже знает, что такое фуганок! Она не теряется! Видно, что с Севера!
Сапожник плеснул себе кофе в чашку и еще капнул в него водки. Потом отнес бутылку обратно в горницу к Эльне и спрятал ее в комод.
Он снова сел за стол и отпил из чашки.
— Она наверняка знает, что такое фуганок! — вдруг крикнул сапожник, уже ни к кому не обращаясь. — А вот Петерсон не знает!.. Петтерсон наверняка не знает, что такое фуганок! А про косовину, наверное, и не слыхал!.. Не расписаны они!.. А те, другие, — расписаны!
— Какие другие?
— Те, кто нанимал у нас лодку! Они наняли нашу плоскодонку и заплатили за это десять крон! Люди с ума посходили! Потом, когда выгребли на середину, стали ругаться! Так сказал Петтерсон!.. Он точно с ней не расписан! Не знал, что она из деревни! А должен был бы знать! Но вид у нее не деревенский! Вид у нее, как у настоящей городской фру!.. А он фотограф!
— Кто он?
— Петтерсон! Тот, кто приехал на машине с прицепом! Он фотограф! Он фотографирует девушек! Вот ока для чего ему нужна! Он должен ее сфотографировать… Нет, они не расписаны, точно не расписаны!
— Тебе-то что?
— Мне ничего! Мне это ничего, но это неправильно! Он сказал, что я должен проставить в указателе расстояние!.. Я, пожалуй, возьму кисть и краску и пойду впишу его!
— Какое расстояние?
— До памятника старины! До могилы!
— Ты выпил лишнего.
— Это ты во всем виновата! Ты сказала, что нас здесь скоро будут принимать за памятник старины!.. Я не хочу быть памятником!.. Поэтому в указатель надо вписать точное расстояние до дома Ингве. Досюда от шоссе — четыреста метров! И отсюда до Ингве — примерно пятьдесят метров. Значит, всего будет четыреста пятьдесят. Их я и впишу.
— Зачем? — спрашивает Эльна.
— Иначе указатель не будет, как настоящий! Так сказал Петтерсон! А вообще ты во всем виновата!
Эльна не ответила. Она не понимала по-настоящему, о чем толкует сапожник.
— Как можно жить тем, что фотографируешь девушек? — кричал сапожник. — Нельзя этим жить! А вот деньги получать за это можно! Он даже банку червей, которых Эман накопал для него, продал за пять крон!.. Он продал червей той паре, что расписана!.. Тем, кто нанял лодку!
— И вы взяли деньги?
— Деньги взял Петтерсон. Он берет деньги за все! Еще он хотел взять две кроны за то, что они поставили там машину. Но мы тогда ушли! Мы не захотели в этом участвовать!.. Вот у Эриксона и закружилась голова! Он занервничал, и у него голова пошла кругом. Оттого он и выглядел нездорово! Он нервничал из-за денег!
— Выглядит он плохо.
— Он такой же, как всегда! Но вчера он нервничал! На могилу съехалось слишком много народу!
— На чью могилу?
— На могилу Ингве! Наш памятник старины — это могила Ингве!
Эльна замолчала. Она не могла понять, о чем говорит сапожник.
Выдумка стариков никак не доходила до ее сознания. Правда, Эльна поняла, что речь идет о чем-то серьезном. Раз уж Эриксон вдруг стал торговать лоскутными дорожками, то дело было серьезное. Ей хотелось хорошенько расспросить обо всем сапожника, но она не знала, как к этому подступиться.
— Сколько выручил Эриксон за дорожки? — спросила Эльна.
— По десять крон за метр! — выкрикнул сапожник. Эльна задумалась.
В кухне стало тихо. Что сейчас будет делать сапожник? Пойдет в мастерскую? Или придумает себе что-нибудь другое?
Сапожник поднялся.
— Вон он идет! — крикнул он. — Я ухожу!
Сапожник увидел в окно, как к дому шагал Петтерсон. Он был одет во все вчерашнее: белую рубашку, черные брюки на красных подтяжках и светло-коричневые туфли. На голове у него по-прежнему сидела шляпа.
Сапожник не успел скрыться в мастерской. Петтерсон застал его в прихожей. Волей-неволей пришлось ему вернуться с Петтерсоном на кухню.
— Добрый день! — сказал Петтерсон. — Я еду в город и хотел спросить, не надо ли вам чего-нибудь? Или, может, вы сами со мной поедете?.. Да, где у вас тут церковь?
— Церковь вам зачем? — спросил сапожник.
— Хочу отыскать могилу.
Сапожник повернулся к Эльне и прокричал ей:
— Тебе нужно что-нибудь в городе? Он вот сейчас туда едет!
VII
Было уже около девяти утра, когда Ниссе Петтерсон, насвистывая на ходу, вернулся с Выселок к своему фургону. Он осторожно постучал в дверь фургона и одновременно окинул озеро взглядом.
Озеро было почти круглое, метров пятьсот в диаметре, и не имело, как сказали Петтерсону старики, своего названия. На южной его стороне, где стоял фургон, берег был каменистый и заросший кустарником, камыши тут, на илистом мелководье, росли редко, и большую часть водной поверхности покрывали широкие листья кувшинок; белые их цветки плавали в воде, желтые чуть над ней поднимались. На северном конце камыши росли гуще, именно там должны были водиться щуки, если они еще в озере не перевелись. С севера к озеру примыкало торфяное болото, тянувшееся из чахлого редкого леса. Настоящий лес рос на западном берегу, он спускался с высокого холма прямо до воды, но оттуда же далеко в озеро вдавался длинный клин мелководья, на котором стояли сейчас, погрузивши ноги на полметра в воду, два лося. Лоси стояли и смотрели в сторону Петтерсона.
Из болота в озеро впадал один ручей, другой, всего в нескольких метрах от фургона, вытекал из него. Если уж приспичит охота покупаться, сказали Петтерсону старики, лучше места не сыскать. Чуть подальше в лесу лежало еще одно такое же озеро. Жители Выселок вызвались показать его Петтерсону. Они вообще охотно показывали ему все, что бы он ни захотел.
С восточной стороны мимо озера проходило шоссе; на берегу здесь ничего не росло, здесь был один камень.
Петтерсон смотрел на озеро. По поверхности его пробегала нервная рябь, лоси, стоя в воде, в упор смо-трели на него.
Что-то во всем этом было дикое и опасное.
После того как Петтерсон вошел в дом и спросил, не нужно ли кому что-нибудь в городе, они с сапожником отправились в мастерскую и немного посидели там. Сапожнику не захотелось оставаться на кухне. Мастерская была привычнее, здесь он подолгу разговаривал с заказчиками и с разным пришлым людом. Петтерсон по дороге к дому сапожника уже успел поздороваться с Эриксоном и Эманом и спросить у них, не нужно ли им чего в городе, но получил на свое предложение решительное «нет». Правда, через какое-то время старики передумали и пришли в мастерскую, чтобы сказать об этом.
Старики не раздумывая отказались от услуг Петтерсона по очень простой причине. К ним ни разу еще не приезжал человек, который бы без всякой подготовки, даже не переодевшись, способен был сесть в машину и умчаться в город. Поездка в город была, по их понятиям, делом сложным и обстоятельным. Свобода передвижения, которую предоставляет человеку автомобиль, была для них непривычной и пугала.
А Эльна сориентировалась сразу. Она попросила Петтерсона купить ей соли для ножных ванн и бутылку питательной смеси для домашних цветов — ну, ту самую, что надо разводить в воде для поливки.
Петтерсон отметил что-то в маленькой книжечке.
Потом у нее возникла еще одна просьба. Раз уж Петтерсон все равно собирается посетить церковь, не возьмется ли он отвезти и поставить цветы на могилах ее родственников. Пионы скоро отцветут.
— Хорошо, я отвезу цветы, — согласился Петтерсон.
— Он отвезет цветы! — прокричал сапожник Эльне.
— Эльна у нас плохо слышит, — добавил он, обращаясь к Петтерсону.
Петтерсон это уже сообразил.
— Скажи ей, чтобы она сейчас не срезала пионы. Я не знаю, готова ли Анита. Скорее всего она еще спит. Я подъеду на машине попозже и тогда заберу цветы.
Петтерсон передоверил сапожнику прокричать все это на ухо Эльне.
Покончив с делами, сапожник и Петтерсон пошли в мастерскую. Здесь они немного посудачили об озере.
— Однажды зимой, уже очень давно, — сказал сапожник, — мой дядя, живший тогда вместе с нами, прихватил топор, пошел и вырубил на середине озера прорубь. А потом нырнул в нее. Отец его выловил, но было уже слишком поздно…
— При случае, — сказал он, закончив свой рассказ, — купи мне бутылку водки и несколько пачек курева Я иногда курю. И еще купи карамели для Эльны. Я заплачу за карамель, но скажу, что конфеты от тебя.
Петтерсон, ничего не сказав, отметил что-то в книжечке.
— И еще купи мне игрушку — модель — из тех, что нужно собирать самому. Модель корабля или поезда… Дядя так и утонул… У меня есть две сети, которые можно поставить на озере. Мы могли бы их поставить с тобой. Лучше всего на северном конце. Эман и Эриксон вряд ли захотят рыбачить, но вдвоем мы с тобой управимся. У меня и перемет есть.
В мастерскую вошли Эриксон и Эман.
— Вам ничего не надо в городе? — спросил сапожник. — Он вот едет туда.
— Он может зайти в магазин?
— Да, — ответил сапожник.
— Тогда пускай купит нам по бутылке водки, — сказал Эман.
— И ничего другого? — спросил Петтерсон.
— Пусть еще передаст цветы Хильде в больницу. Он все равно будет проезжать мимо, — сказал Эриксон.
— Хильда — это сестра Эриксона — объяснил сапожник. — Она парализована.
— Наверное, вам будет некогда, — сказал Эриксон.
— Ничего, я в отпуску, — ответил ему Петтерсон. — Я заеду к вам позже, чтобы забрать цветы. Я уже договорился с Эльной.
— Купи еще бутылку сладкого вина для нее, — попросил Эман. — Деньги мы тебе отдадим.
— С деньгами уладим, — сказал Петтерсон.
Он запихнул свою книжечку в задний карман брюк и поднялся со стула.
— Поеду к церкви взглянуть на настоящую могилу Ингве Фрея. Найти ее трудно?
— Нетрудно, — успокоил сапожник. — Церковь огорожена каменной стеной, а могилы Ингве и Юсефы возле нее, неподалеку от дома пастора. Дом узнаешь сразу, он — большой и желтый.
— Пастор сейчас здесь?
— Нет, — сказал Эриксон. — Он на Канарских островах. У него ревматизм.
— Вы не ходите в церковь?
— Раньше ходили, — ответил за всех сапожник. — Теперь ездим редко. Больше смотрим телевизор… Я слышал, что два наших прихода будут сливать, и у нас не будет больше своего пастора. А пасторский дом отдадут в наем.
— Жаль, поп у нас стоящий, — сказал Эман.
— Кстати, — спросил Петтерсон, — как вы добираетесь до города? На автобусе?
— Нет, автобусы здесь больше не ходят, — сказал сапожник. — Раньше ходили два раза в неделю. Но, после того, как в поселке перестали останавливаться пассажирские поезда, автобус отменили, он себя больше не оправдывает… Мы теперь, когда нам надо в город, нанимаем машину. Никакой транспорт здесь больше не останавливается. Вот уже пять-шесть лет.
— Я скоро приеду обратно и заберу цветы, — сказал Петтерсон и ушел.
Петтерсон смотрел на лосей и шумевший позади них лес. Шелестели верхушки сосен и шуршали листья стоявшей рядом осины. Все вокруг шуршало и шелестело.
— Черт побери, — ругнулся Петтерсон. — Лоси и дерьмо!
Петтерсон открыл дверь ключом, вошел и разбудил Аниту.
Он поставил чайник на плиту, чтобы вскипятить воду для кофе, а Анита голая вышла на солнце.
— Прикройся! — крикнул Петтерсон. — Там, на озере, стоят двое и смотрят. Сейчас поедем в город!
— Что нам делать в городе?
— Нужно осмотреться, купить продукты. И еще водки для стариков… Представь себе, эти бедолаги ездят в город только на такси.
— Очень себе это представляю.
— Как же это? На кой ляд существует тогда Крестьянская партия, если некому присмотреть за порядком в деревне?
— Считается, что так и должно быть. Что все это издержки переходного периода.
— Переходного к чему?
— Наверное, к тишине.
— Лучше бы ты одела чего на себя.
— Смешно. С каких это пор ты стал таким стыдливым?
— Не стыдливым, — сказал Петтерсон, — а пуганым. Я стал пуганым… Я, пока стоял здесь и слушал все эти шорохи, шелест и шуршание, не на шутку испугался Сам себя напугал. Я где-то читал, что лошади обладают такой способностью — пугать самих себя. Мне теперь кажется, я их, этих лошадей, понимаю… Лоси все еще там?
— Там.
— Вот дьяволы! Заходи, скроемся от них здесь! Не хочу, чтобы они на нас глазели. Оденься!
Анита быстро оделась. Она начала красить ресницы, но Петтерсон помешал ей.
— Сегодня обойдешься без косметики. В здешних местах лучше быть незаметным, слиться, так сказать, с местностью… Какой все-таки взгляд у этой тупой скотины! У сапожника был дядя, который бы меня понял. Однажды, рассказал мне сапожник, в зимнюю ночь дяде вздумалось слиться с местностью. Он проделал во льду прорубь и сиганул в нее… Я бы ни за что не смог жить здесь зимой.
— Я тоже.
— Ты же родом из деревни?
— Как раз поэтому. Там, где я родилась, леса гораздо больше, чем здесь. По соседству у нас тоже было озеро. Холодное и черное, глубокое озеро. Когда я росла, мы держали четыре коровы. Хозяйство держалось на матери. Отец погиб в тот год, когда я родилась. Он водил автоцистерну с молоком и однажды в ледяную новогоднюю ночь отравился выхлопными газами. А я, как только закончила школу, сбежала в Стокгольм. Все, кто только мог, сбежали оттуда. Мать после этого ушла в море.
— Слушай, ты случайно не из Вермланда? Вы там, деревенские, все немного тронутые. Мать ушла в море… Что-то я о таком не слыхал. Это отцы, братья…
— А моя ушла.
— Ясно. Но меня интересовало не это.
— Ты сам спросил.
— Я спросил, почему ты не смогла бы жить здесь зимой. Я не спрашивал, почему ты не смогла жить в лесах, где родилась. А теперь, пора отсюда сматываться побыстрее! Нужно еще заехать к старикам за цветами… Мы поедем на деревенское кладбище. Мне хочется взглянуть на настоящую могилу Ингве Фрея… Все-таки не понимаю, как у стариков могла родиться эта странная идея насчет памятника старины?.. Глупо! Нет ничего скучнее памятников… Ты все же скажи, почему не смогла бы здесь жить?
— Я этих стариков знаю, — сказала Анита. — Я узнаю их глаза. Они — лишние, и чувствуют себя лишними, понимают, что все сделанное ими — ненужно и бесполезно. Я, в отличие от тебя, не боюсь леса, но не хочу видеть этих людей, положивших жизнь на клочок земли, который через пятнадцать лет зарастет лесом. Через пятнадцать лет на месте Выселок будет шуметь лес.
— И из-за этого твоя мать ушла в море?
— Нет, не из-за этого. Но стариков я знаю.
— Не такие уж они несчастные, — сказал Петтерсон. — Если человек способен на шутки вроде этого памятника старины, не такой он несчастный… Хотя кто знает… Сапожник ведь сказал, что ничего они не придумывали, а просто нашли у себя кое-что постарше их самих… Ясное дело, старость — не радость. А они — старики. Но они молодежь по сравнению с Ингве… А теперь, поехали!
— Можно я немного покрашусь?
— Нет, нельзя, — отрезал Петтерсон. — Побудем какое-то время ненормальными! Сольемся с этим ненормальным местом!.. Это ж ненормально, что сюда не ходит автобус! А чертов поп лежит себе вверх брюхом на Канарских островах.
— Нам бы лежать рядом.
— А шведское лето? Говорят, что нет ничего лучше нашего шведского лета. И что тебе нужно, если у нас здесь — и озеро с кувшинками, и лодка, и солнце.
— А сами мы едем в город.
— Конечно. Не можем же мы торчать здесь целый день! Сама должна понимать… И потом эти две скотины: они стоят и глазеют на нас. От одного их вида можно спятить… Поехали, дорогая фру, поехали!
Петтерсон пошел к машине.
— Где твоя камера? — спросила Анита.
— В машине.
— Сфотографируй лосей!
Петтерсон остановился. Улыбаясь, он повернулся к Аните.
— Ну нет, такую цену я за свой душевный покой платить не намерен. Эту рогатую скотину, солнце в воде и холм с лесом я и так запомнил. К чему же еще снимать?.. Ни к чему! Все равно такого снимка я не осмелюсь показать никому… Я должен сфотографировать тебя. Все остальное — просто фон. А у меня такое чувство, что скотинка на озере не захочет быть просто фоном. Глупейшее положение. У меня на руках два диких лося и девка, чья мать ушла в море… Еще немного, и я наймусь на работу в какой-нибудь «Евангелический листок»… Я ведь не имел раньше дела с двумя лосями и девкой, чья мать ушла в море… И не приходилось мне сидеть и болтать запросто утром — да еще в понедельник — с двумя старыми лапотниками. Единственное, что я здесь понимаю, — это памятник старины. Это, пожалуй, знакомо… Буду держаться этого памятника.
Впрочем, ты права, — неожиданно закончил свою тираду Петтерсон. — Лосей сфотографировать надо.
Петтерсон достал из машины фотокамеру и штатив.
Он взглянул в камеру и, ввинтив телеобъектив, отступил на шаг.
— Взгляни!
Сам Петтерсон опустился рядом на камень.
Анита посмотрела через объектив.
— Мрачновато, а? — сказал Петтерсон. — Теперь поправь резкость и нажимай на спуск. Сними их сама! Я боюсь, у меня просто руки трясутся от страха… Я тебе рассказывал о своем детстве? Оно тихо и мирно прошло в Стокгольме в доме на улице Томтебугатан. И за все время, что я прожил там, никто даже не намекнул мне, что когда-нибудь я столкнусь с двумя дикими лосями носом к носу. Никто не предупредил меня, что судьба может заготовить такое испытание. Я видел парочку-другую чудаков за вокзалом Карлберг, вот и все. Потом я научился щелкать камерой и делать нужную заказчикам дешевку. Сейчас я понимаю, нужно бы больше заботиться о качестве. Но кто заплатит мне за это качество? Вряд ли кто будет пускать слюни перед снимком настоящего дикого лося… История твоего детства, Анита, прямо-таки сразила меня в самое сердце… Только как, черт побери, положить ее на музыку для гармошки? В Швеции ведь обожают нашу деревенскую гармошку, хотя она не переставая врала и врет шведам… Пусть только кто-нибудь попробует переложить для нее мою «Жизнь на улице Томтебугатан». Я сразу уличу его во лжи… Но внешне ты, Анита, не похожа на деревенскую.
— Я не стыжусь, что из деревни.
— Разве я говорил, что ты должна стыдиться? Я спросил, почему ты не похожа на деревенскую.
— Наверное, по той же причине, что и все остальные. Большинство твоих девушек, Ниссе, знают о коровах, скотных дворах и лесах намного больше, чем ты думаешь.
— Шутишь? Что-то не верится.
— Готово! Я сняла их.
Петтерсон уложил фотокамеру и другие принадлежности в машину.
— Смываемся!
Машина тронулась с места.
— Так ты думаешь, что большинство наших красавиц и всемирно известных кинодив лишены невинности сопливыми подпасками?
— Ты очень хорошо выразился, Ниссе, — сказала Анита. — Так оно и было на самом деле.
VIII
Петтерсон с Анитой вернулись из города к концу дня. Сапожник уже поужинал и сидел в своей мастерской, постигая трудное искусство ничегонеделания, когда машина с молодой парой подъехала к дому. Сапожник сразу же, заслышав машину, поднялся с места, но пересилил желание выйти и встретить гостей в дверях. Он сет и стал ждать.
Он не хотел и не должен был выказывать нетерпения.
В то время, как нетерпение мучило его. Несмотря на прекрасную погоду, сапожник весь день почти не выходил из дому. Он, конечно же, сходил к шоссе и внес необходимое уточнение в дорожный указатель, вписав в него «450 м». Он постоял у столба с почтовым ящиком и понаблюдал за парой лосей на другом конце озера, но после этого к полному отчаянию Эльны только слонялся по дому: из мастерской на кухню и из кухни обратно в мастерскую. В конце концов Эльна не выдержала и дала ему поточить ножи, но сапожник знал, что ножи в точке не нуждаются. Это он и прокричал Эльне:
— Я не собираюсь заниматься ненужным делом! — прогремел он над самым ее ухом.
Он не собирался заниматься ненужным делом. Но какое дело было тогда нужным? Нужного дела не было. И с этим сапожник смириться не мог.
Надо было что-то придумать.
— Ты можешь, — сказала ему Эльна за ужином, — сделать, как другие. Взять отпуск.
Почему бы и нет?
Сапожник обдумывал эту мысль все время, пока поджидал Петтерсона и Аниту. Еще он хотел напомнить Петтерсону, что они вместе собирались поставить на озере сети.
Петтерсон и Анита внесли в мастерскую сделанные в городе покупки и сели каждый на свой стул. На минуту в комнате воцарилась тишина. Сапожник поднялся и сходил за рюмками.
Вернувшись, он прибрал вещи на верстаке и поставил на него рюмки и сахарницу.
— Хорошо съездили? — спросил сапожник.
— Съездили хорошо, — сказал Петтерсон. — Правда, в городе сейчас почти никого нет. Людей совсем немного.
— У городских сейчас отпуска. Но в окрестностям города, должно быть, косят?
— Не заметно, чтобы косили.
— Понятно, — с разочарованием в голосе протянул сапожник, словно он всерьез верил, что во всех других местах, кроме Выселок, сенокос и теперь продолжался, как заведено было с незапамятных времен.
— Еще по рюмке? — предложил он. — И закусим сахарком.
— Мы нашли могилу Ингве, — сказал Петтерсон. — Ну и пожил же старый хрыч. Он родился в 1799-м и умер в 1901-м.
— Понятно, — сказал сапожник. — Понятно. Эриксон еще помнит его. Я помню его старуху. Про него говори-ли — злой был мужик. Отцу то и дело приходилось бегать его успокаивать, когда ему приходило в голову, что все еще идет война, и он палил из ружья в кого ни попало. Он был солдатом. Правда, в старости он почти уже ничего не видел и стрелял плохо… Оно и понятно. Он дожил до ста двух лет.
Сапожник задумался. Возможно ли, что он, Эриксон и Эман проживут здесь еще лет двадцать пять — тридцать?.
Что он будет делать все это время?
— Лучше не дожить до такой старости, — сказал сапожник.
Это невозможно. Тридцать лет! Целая человеческая жизнь!
— Странно — сказал Петтерсон, — Эриксон, с которым я только что говорил, в свою очередь, разговаривал когда-то с человеком, родившимся всего через семь лет после убийства Густава III.
— Понятно, — в который уже раз сказал сапожник. — Эриксон в детстве бегал у старого Ингве на посылках. Мой отец тоже много общался с ним. Ингве был злой мужик, но маленьких любил. А его Юсефа была добрая. Ее я помню, как будто видел вчера: как она входит к нам сухонькая, сгорбленная и вся чернявая на вид и занимает у нас горящие угли, чтобы разжечь дома печку. Она, старуха, жила не очень-то современно.
— Она тоже дожила до ста лет, — сказал Петтерсон. — Была на десять лет моложе старика.
— Да, когда она умерла, ей было не меньше ста, — согласился сапожник. — Я ее помню, она смахивала на согнутую кочергу.
— У них были дети? — спросила Анита.
— Юсефа родила десятка два детей, — сказал сапожник. — Сколько из них выжило, сказать трудно. Знаю только, что у нее было много детей, но о них мне никто ничего не рассказывал… Но не хотел бы я сам дожить до ста лет. Представить не могу, что бы я делал здесь еще столько времени. Слонялся бы по хутору?.. Чудно все-таки, что никто не будет здесь жить после нас на Выселках. Нас тут, можно сказать, искоренили. Но вы не должны считать, что я ничего не понимаю в современной жизни. Наверное, все так и должно быть. Мелкие хозяева и кустари выжить теперь не могут. Времена переменились. И времена, конечно, должны меняться. Мы просто не понимали этого в свое время. А теперь я не понимаю одного — как и где мы в свое время оплошали? Конечно, многое можно списать на войны. Первая мировая война со всеми ее ограничениями, продовольственными карточками и другими строгостями заставила народ зарегистрироваться, или, по-другому говоря, записаться официально, как кого зовут и где и когда кто родился. Так попала в загон масса вольных людей, которые до этого переезжали и гуляли по всей стране. А во время второй мировой войны нам, мелким крестьянам и кустарям, вдруг объявили, что мы — основа жизнеобеспечения страны. Теперь-то нам ясно: все, что говорилось тогда и делалось, было временной мобилизационной мерой, но тогда мы этого не поняли и легко попались на удочку. Крестьянам раздали искусственные удобрения, протравленные семена и, главное, дали деньги на мелиорацию. До войны ни одна косилка, даже на конской тяге, не могла пройти по нашим лугам. А сейчас по ним может гулять любая, какая угодно сложная машина. Сейчас на наших лугах не найдешь и камешка. Крестьянам надо бы вовремя понять, что все эти займы и даровые ссуды — временно, что не надо верить посулам такого заманчивого будущего. И точно! Как только война кончилась, о нашем будущем сразу забыли. После войны власти напрочь забыли о нас, простых крестьянах. Эриксону тяжело лежать ночами без сна и думать, как же все-таки получилось, что его гладенькие луга снова зарастают кустарником? У него тяжелые думы, у нашего Эриксона. Он всегда плохо спал. У него есть дети, от которых он почти не получает вестей. Но он их по-своему понять может. Он их не винит, им тоже приходится поворачиваться и некогда вспоминать об отце. И вы еще должны понять, что крестьянин вроде Эриксона очень строго воспитан в том, что касается привязанности к земле, которую он обрабатывает. Он, как бы вам это ни показалось странным, воспитан в духе готовности к неурожаю, к голодному году, как тот, что был в 1866-м. То время оставило глубокую борозду в памяти крестьян, и, само собой, запомнилось отцу Эриксона. А от него память о голоде перешла к самому Эриксону. Он должен всегда чувствовать уверенность, что готов в случае чего встретить голодный год. А с чем он встретит его сейчас? Голодный год! Сейчас и понятия о нем никто не имеет! Эриксон сильно горевал, когда продал последнюю корову. Но он столько же страдал от того, что должен был платить за нее налог. Смысла этого налога он так и не понял. Он многого не может до сих пор понять, наш Эриксон. Мне в этом отношении легче. Сюда, в мастерскую, приходили люди, чтобы оставить или забрать обувь, и они обычно долго засиживались у меня и рас-сказывали и о том и о сем. Здесь бывали и старики, и молодые, и женщины с детьми. У меня из одних разговоров складывалась картина, что происходит сейчас или что было в прошлом. Но вот о том, что произойдет в будущем; я из разговоров ничего не вывел. А вообще-то мы живем здесь неплохо. У нас нет долгов, и нам хватает дров и картошки. Нам даже вполне хватает денег, Мы в свое время немного отложили на черный день, и теперь можем ни в чем себе не отказывать. Но мы не можем измениться в своей сути. Мы ждем и боимся голодного года, чувствуем, что должны быть готовы к нему… Теперь, когда мы свое отработали, и у нас, как у всех других, появилась проблема свободного времени! f Сапожник засмеялся, он смеялся так сильно, что ему пришлось смахнуть выступившие на глазах слезинки. Он плеснул в свою рюмку немного водки.
— Так что у нас огромная историческая память, — сказал он.
По спине Петтерсона забегали мурашки. Он схватил с полки рашпиль и почесал им себя.
— Я видел, ты доделал указатель, — сказал он. — Сегодня туристы не приезжали?
— Нет, — сказал сапожник, — сегодня никто не приезжал поминать Ингве… Наверное, посещение древних могил — занятие для выходных дней. А если у тебя чешется спина, поступай, как делал наш старый Хуртиг! Он чесался кошкой. Брал кошку за хвост и проводил ей по спине, а кошка выпускала когти и царапалась. Когда и это не помогало, Хуртиг говаривал: «А не потянуть ли мне еще раз кота за хвост?»
В этот момент в мастерскую вошли Эриксон и Эман.
Эриксон сразу понял, что сапожник немного принял. Сапожник поднялся.
— Я принесу рюмки ребятам. Мы уже тут пару раз чокнулись, так что вам догонять. Садитесь!.. Я еще приведу Эльну, чтобы она тоже выпила свою маленькую рюмку портвейна. Петтерсон ничего не забыл. Он не из забывчивых.
В мастерской снова воцарилась тишина. Сапожник отсутствовал долго. Он ждал, когда переоденется Эльна, которой не хотелось показываться Аните в домашнем халате.
— Я посчитал, — сказал Петтерсон, — и, по моим расчетам, выходит, что вы двое, помнящие Ингве Фрея и даже разговаривавшие с ним, разговаривали с человеком, который родился всего семь лет спустя после убийства Густава III.
— Его убила знать, — сказал Эман.
— И что из этого? — спросил Петтерсон.
— А разве это неправда? — сказал Эман. — Я сам слышал об этом. Так поется в одной песне. Ее помнил мой отец.
— Вполне возможно — сказал Петтерсон. — В песне все правильно… Но я хочу сказать о другом. Так вот, Ингве, в свою очередь, разговаривал с людьми, родившимися в начале восемнадцатого века, а те помнили кое-что рассказанное их отцами, жившими в семнадцатом. Если хорошенько подумать, так этому конца нет. Нет конца традиции.
— Но теперь ей конец, — припечатал Эман.
— Недаром говорят, что нужно беречь и охранять памятники старины, — сказал Петтерсон.
— Много было народу в городе?
— Почти никого.
— В окрестностях уже, наверное, все скосили? Или они там работают вовсю? — это спрашивал Эриксон.
— Мы никого не видели, — сказал Петтерсон.
— Вообще-то им там есть чем заняться, — сказал Эриксон, обращаясь больше к самому себе, чем к кому-либо другому. — Но, наверное, и там тоже косят быстро. И половину, как теперь заведено, оставляют на лугах… Ты был в больнице?
— Да, — ответил Петтерсон.
— А внутрь ты не вошел? Нет, ты, конечно, не вошел.
В мастерской появился Густафсон, следом за ним семенила мелкими шажками Эльна. Она надела платье, чулки и туфли.
Улыбаясь, она поздоровалась с Анитой.
Сапожник придвинул к верстаку еще два стула, но Эльна не захотела садиться. Она просто хотела побыть вместе со всеми.
Налили рюмки. Эльне налили портвейн, а раз Эльна пила портвейн, то и Аните тоже налили портвейн.
— Эльна плохо слышит, поэтому ей нужно кричать, чтобы она расслышала, — сказал сапожник Аните.
— Подумать только, вдруг кто придет, — сказала Эльна, — а мы сидим здесь, устроили праздник в будний день.
— Сюда никто не придет! — прокричал сапожник. — Я закрыл свою лавочку! Я свое отработал! Мы все теперь в отпуску!.. Вечером мы поставим с Петтерсоном перемет. Хотя теперь, пожалуй, уже не успеем. Мы завтра поставим сети!
— А сейчас давайте выпьем! — предложил сапожник. — Подайте мне мою цитру!
— Чего? — спросила Эльна.
— Подайте мне мою цитру! — рявкнул сапожник. — Это собственные слова Ильи-пророка!.. Пусть колодцы ваши наполнятся водой!
— А не кажется ли вам, — сказал он, — что мы забыли о человеке, который собрал нас здесь и которого мы поминаем?.. Давайте заберем все с нашего стола, возьмем с собой наших девушек и пойдем к памятнику старины! Сегодня хороший теплый вечер, немного, наверное, осталось таких вечеров. Сейчас самое время пойти поклониться человеку, могилу которого мы взялись охранять. Так пойдемте к старому Ингве и оградим его прах от всяких гробокопателей и ловцов легкого счастья!.. Помните тот случай, когда ограбили гробницу Тутанхамона и как проклятие преследовало тех, кто оскорбил его могилу?.. Я помню, словно все это случилось вчера… Мы пойдем к памятнику и проклянем над ним тех, кто посмеет искать сокровищ и богатств в древних развалинах дома Ингве и Юсефы.
— И объявим нашего Ингве святым! — выкрикнул Эриксон и сунул свои вставные зубы в карман. — Мы сами это сделаем, раз наш поп продался иностранцам и греет себе пуп в далекой стране!
— Пойдем! — крикнул сапожник. — Но подайте мне мою цитру!
— У меня уже заготовлена речь, — сказал Петтерсон.
— А я даже не видела памятник, — сказала Анита. — Вы, Эльна, видели памятник? — прокричала она на ухо Эльне.
— Много раз, — сказала Эльна и засмеялась. — Я все-таки останусь, пожалуй, здесь.
— Нет! — прокричал Эман. — Девушки пойдут с нами!
Анита взяла Эльну под руку и сказала:
— Мы пойдем.
Эльна кивнула головой и снова засмеялась. Мужчины забрали все со стола, и вся компания шагнула из духоты мастерской в теплый летний вечер.
Эльна дала нести свою бутылку портвейна Аните, а сама взяла сахарницу.
Сапожник указывал направление, и все чередом на нетвердых ногах пошли к памятнику старины.
Скоро памятник оказался у них под ногами. Странная процессия просто вошла на него. Стол накрыли на остатках кирпичной кладки, по-видимому, от печи. Но «накрыли стол» — громко сказано: на кирпичи поставили рюмки и сахарницу, и все расположились вокруг, кто как сумел.
Сапожник налил рюмки.
— Теперь нам, мужчинам, нужно закурить, если мы не хотим, чтобы нас закусали комары, — сказал он. — У меня припасена пачка курева.
В тишине закурили и выпили первую рюмку. Потом поднялся Петтерсон.
— Вольные женщины и вольные мужчины, — оказал он, — мы собрались здесь этим вечером, чтобы поклониться праху Ингве Фрея и его супруги. Мы должны воздать должное людям, возделывавшим эту тощую землю чугь не сто лет. Что творилось здесь в том столетии, как они жили, мы давно забыли, но знаем точно, что почти сто лет Ингве любил и ненавидел эту землю, а его Юсефа родила ему двадцать детей. Мы — тоже дети Ингве. Он — наш предок, а Юсефа — наша мать… Так выпьем за тебя, Ингве Фрей, старый злющий солдат!.. И пусть сердца наши затерзает злая тоска, если мы забудем, кто ты есть!.. И, черт побери, мы тебя не забудем!
Петтерсон сел. Поднялся Эман и сказал:
— Мы все, стоящие здесь, обещаемся своей честью и совестью высоко нести твое знамя, Ингве! Ты считал время от времени, что все еще идет война, и палил в нас из ружья. И ты был в своем праве. А сейчас можжевельник вырос из твоей печки, и мы, истинно говорю тебе, не собираемся рубить его.
— Покойся в мире! — прокричал Эриксон. — Пусть будет навечно проклят тот, кто посмеет оскорбить твои мощи!.. Верь моему слову!
— Как здесь красиво, — сказала Эльна. — Немного теперь таких красивых летних вечеров. Можно ходить в одной кофточке… Вы не замерзли, фру?
— Нет, — сказала Авита. — Я не замерзла. Посидели молча.
Время от времени мужчины выпивали по рюмке и вслушивались в звуки летнего вечера.
То ли от присутствия, то ли от отсутствия чего-то Петтерсона кидало в дрожь.
— Вот, — неожиданно сказал сапожник. — Мы почтили могилу речами и молчанием… Подайте мне мою цитру!.. Давайте теперь встанем, если это нам удастся, и споем «Прекрасна эта земля», а потом разойдемся по домам… Мы с Петтерсоном поставим завтра сети… Завтра снова будет день.
И маленькая группа людей встала, вытянувшись у памятника старины, и пропела, следуя за сапожником, все стихи псалма «Прекрасна эта земля».
Пение согласно отзывалось в душе каждого.
IX
Летний вечер медленно переходил в ночь, и на несколько часов должна была воцариться если не темень, то почти абсолютная тишь.
Возбужденные событиями вечера, Петтерсон и Анита возвратились к своему фургону. Озеро лежало чистое, как зеркало. Застыла даже листва осин. Было слышно, как журчал неподалеку в лесу ручей и как билась в камышах плотва. Роса уже стала выступать на траве, а в низеньком кустарнике пауки плели свои сети. Где-то далеко под молочно-белой луной ухал филин.
Пыль на шоссе улеглась, комары уснули.
Ничего не говоря, Петтерсон кинул весла в лодку и Анита вошла в нее. Петтерсон положил еще фляжку на нос лодки и оттолкнулся от берега. Он не спеша провел лодку через листья кувшинок и камыши. Когда они вышли на чистую воду, он сложил весла и предоставил лодке плыть самой по себе.
Не торопясь, медленно Петтерсон оглядел озеро.
— Вот, значит, как выглядит наша шведская летняя ночь, — сказал он. — Теперь я знаю, как выглядит на-стоящая Швеция летними ночами… А знаешь ли ты, Анита, что мы — последние, кто видит все это собственными глазами?.. Мы последние, кто на себе ощущает, как стихает над землей ветер, как он ложится на нее, чтобы подремать или, может быть, послушать ночь, как мы сами… После нас этот странный факт не испугает больше никого… Потому что вон там, за шоссе, я выстрою тридцать летних домиков для отдыхающих. А с этой стороны шоссе соответственно построю тридцать мостков для лодок… На месте, где стоит наш фургон, я вырублю кусты и построю стоянку для автомобилей с небольшим гриль-баром, который будет открыт круглосуточно… На лесистом холме с противоположной от шоссе стороны я возведу более капитальные и комфортабельные дома. Часть из них будет сдаваться внаем даже зимой. Домов будет двадцать или двадцать пять… А на северном заболоченном берегу можно построить мотель с плавательным бассейном, лодочной станцией и ларьками-сосисочными… Конечно, нечистоты придется сбрасывать прямо в озеро, и спортивную рыбалку сосредоточим у северного берега. Мотель возьмет на себя организацию специальных рыбалок-сафари… Благотворительному клубу «Лайонз» тоже найдется место на холме… Озеро по ночам будет сверкать неоновыми огнями мотеля, а музыка из гриль-бара будет разгонять тишину. Ветер здесь будет дуть все время, не стихая, а листва осин дрожать постоянно.
Петтерсон умолк.
— Здесь это случиться не может, — сказала Анита. — Нет, — ответил Петтерсон, — здесь это может случиться, если мы не будем осторожнее… Ты поймешь меня, если я скажу, что мотель будет называться «У Ингве Фрея», а гриль-бар-«Гриль баром Юсефы»… Стоит хоть немного начать эксплуатировать наш памятник старины, и конца этому не будет.
— В Швеции такого случиться не может, — сказала Анита. — По крайней мере, здесь, в глубинке. Мы ведь можем себе позволить дешевые поездки на теплые пляжи в Испанию и на Багамские острова. Да и в Африку тоже.
— Да, но это не может продолжаться бесконечно. Нашему благополучию рано или поздно наступит конец. Вряд ли даже наши дети смогут позволить себе поездки на пляжи в теплые края. Шведы, черт возьми, раскаются, что не ценили родной природы. Они научатся сидеть в лодках на наших озерах, ежиться от прохлады и наслаждаться отечественными жареными сосисками и, музыкой из транзисторов. Шведское лето до сих пор ведь имеет хорошую репутацию среди нас, шведов, благодаря тому, что живы еще люди, с удовольствием вспоминающие, как они когда-то в детстве проводили лето в деревне. Но если туристические поездки за границу будут продолжаться и дальше, то скоро шведы будут вспоминать только испанские пляжи своего детства… Они и знать не будут, что существовала когда-то традиция проводить лето на лоне родной природы… Памятник старины на Выселках может восполнить им такую традицию… И не будет никакой необходимости лгать, утверждая, что памятник старины — это чья-то древняя могила. Сойдут и развалины старого дома… Люди будут приезжать сюда, чтобы посидеть в лодке на озере, которое очень скоро назовут Око Ингве Фрея, и будут очень удивляться, как кому-то в свое время пришла в голову немыслимая идея поселиться и жить здесь, в лесу. То, что здесь хорошо жить летом, они, возможно, поймут, но вот как прикажете понимать, что люди жили здесь и осенью и зимой? Они сразу же заговорят о мрачных осенних сумерках, о зимнем одиночестве и тут же чистосердечно признаются, что ни бельмеса во всем этом не понимают. «Здесь, по всей видимости, когда-то жили люди, — вот что они скажут. И подумают: — Как могли они жить здесь?»
— Ты очень глубокомыслен, — сказала Анита. — Разве так следует разговаривать с девушкой волшебной ночью?
Петтерсон взглянул на Аниту, когда-то оскорбленную подпаском, и вдруг увидел в темноте ее смеющиеся синие глаза, румяные круглые щеки и мягкие светлые волосы.
«Вот что нужно оберегать тебе от нечестивцев и ловцов легкого счастья», — подумал он.
Но вдруг почувствовал себя посторонним наблюдателем, чужаком.
Что же такое Швеция?
Одной летней ночью Петтерсон с приятелем катался на моторной лодке по Стокгольмским шхерам. Они причалили к пристани на острове Мэйя и увидели на ней широкоплечего белокурого парня-гиганта, стоявшего в небрежной позе и мечтательно глядевшего куда-то в ночь.
Приятель Петтерсона восхищенно замер, любуясь парнем, а потом смеясь сказал:
— Черт возьми, Петтерсон. Ей-богу, мне сейчас захотелось стать девкой.
Это была Швеция. Швеция была в нескольких бескорыстно брошенных легких словах.
Швеция — это скромное желание, высказанное летней ночью.
Петтерсон улыбнулся. Он посмотрел на грудь, ноги и бедра Аниты.
— А я, я хотел бы стать сейчас тем типом, — вслух сказал он. — Давай до дна, выпьем эту ночь!.. Но будем пить ее спокойно и долго… Мы — последние.
— У тебя, наверное, было немало таких ночей чя том холодном озере, откуда ты родом? — сказал Петтерсон. — Или не было? Что такой больше не будет — ясно.
Петтерсон отхлебнул глоток из фляжки и передал ее Аните.
— Знаешь, иногда мне хочется нюхать табак, как это делали парни в старину. Представь себе: мы возвращаемся с танцев. Танцплощадка уже далеко, но до нас доносятся оттуда звуки оркестра. Я немного пошумел там, когда очищал площадку от подонков из соседней деревни. У меня в кармане кисет с табаком, а под глазом здоровенный фонарь… И ты, что идешь рядом, любишь меня.
— Я люблю тебя, — сказала Анита.
— Нет, тебе это кажется, — сказал Петтерсон. — Это действует на тебя летняя ночь. Твоя способность критически мыслить отказала под воздействием белой луны и обычной водки.
— Это все равно.
— Чертова лодка протекает! Возьми ковшик!
— Разве это не все равно? Я тебе не нравлюсь?
— Я-то, — сказал Петтерсон. — Я люблю тебя. Но это не все равно. Ты для меня что-то вроде праздничного колокольного звона. Нашу постель должны бы устилать старые праздничные программки Дня шведского флага.
— А постель из мха тебя не устроит? — засмеялась Анита. — Ты будешь любить меня на постели из мха. И не говори, что я напоминаю тебе звон колоколов. Я не напоминаю тебе ничего. Ничего из того, что ты видел или слышал… Это действует на меня лунная ночь. До нее меня не было.
— Ты напоминаешь мне плетеную корзину, полную зимних яблок, — сказал Петтерсон. — И еще бочонок меда… Нам придется спать на мокром от росы одеяле.
— На мхе.
— В этих местах много любили, когда здесь жили люди. У Юсефы было двадцать детей… Ты не мерзнешь?
— Немного.
— Поплывем домой?
— Не домой, — сказала Анита. — Греби вон туда!
Петтерсон сделал несколько гребков в направлении, которое указала Анита.
— Возьми фляжку! — сказал он.
Петтерсон работал веслами медленно и тихо. Он вез в лодке женщину.
— Мы не можем оставаться здесь дольше, — сказал он. — Это было бы нехорошо по отношению к старикам. Мы для них что-то вроде свалившегося на голову приключения и можем зря растревожить их, вывести из равновесия.
— Тут ты ошибаешься, — сказала Анита. — Никакое мы для них не приключение. Люди, живущие здесь, на Выселках, переживают все по-своему. То, что ты называешь приключением, — для них всего лишь забавный эпизод. Им все это забавно. Приключения не входят в их распорядок жизни и не могут входить. Старики не любят неизвестности. И, если бы им нужно было в город, они скорее вызвали бы такси, чем поехали с тобой.
— Почему?
— Они считают, что знакомство не должно быть слишком близким. Пока ты общаешься со стариками здесь, ты — их гость. Но за пределами Выселок они оказались бы целиком у тебя в руках. Ты для них слишком быстрый. Они не могут тягаться с тобой. Самое странное, как мне кажется, это то, что ты совсем не понимаешь стариков, в то время как они тебя раскусили. Но понимание вещей всегда помогало им выжить. А тебе понимать не обязательно. Ты выживешь и так… Сапожник, пока идет из дому к своему почтовому ящику, получает впечатлений куда больше, чем мы по всей дороге отсюда до Стокгольма. У нас многое вошло в привычку, а они никогда ни к чему не привыкают. Они постоянно настороже. Их жизнь проходит в постоянном напряжении, они все время тревожатся и беспокоятся… К лесу невозможно привыкнуть.
— Ты не огорчишься, если мы пробудем здесь недолго? — спросил Петтерсон. — Ты можешь меня понять?.. Я надеюсь, поймешь. Надеюсь, что и старика поймут. Но мы не уедем завтра же. Я обещал сапожнику порыбачить с ним завтра вечером. Ему не с кем рыбачить, другие старики рыбалку не любят. Мы поставим завтра сети.
— Кажется, я понимаю — сказала Анита. — Я тоже пообещала Эльне, что ты сфотографируешь оба дома на Выселках да и самих стариков тоже. Но Эльна сказала, что нужно предупредить их заранее, чтобы они как следует приготовились и приоделись. И не нужно снимать их скрытой камерой в обычной рабочей одежде. Я пообещала, что ты не будешь делать этого. Они хотят сфотографироваться все вместе, сидя, приодетыми и причесанными.
— Я все сделаю, как они хотят. Точно, как они хотят. Подайте мне мою цитру!
— Эльна говорит, что ты похож на детектива из телепостановки. Они тоже не снимают шляпы, входя в дом.
— И из-за этого она считает меня грубияном?
— Думаю, нет… Люди типа Эльны никого не осуждают… Просто ты для нее — человек, который, войдя в дом, не снял шляпы. Дело здесь не в осуждении, а в отношении. Она не собирается тебя воспитывать. Просто, что было, то было… Кстати, сапожник считает, что мы с тобой не женаты.
— Но мы и в самом деле не женаты.
— Да. И сапожник это понял. Мне сказала Эльна.
— А что считает сама Эльна?
— Ничего. Эльна ничего не считает… Ты, Ниссе, повидал много девушек, но не разбираешься в женщинах типа Эльны.
— Да, — сказал Петтерсон, — возможно. Не разбираюсь. Хотя и у меня была мать. У меня, как и у всех других.
Лодка достигла середины озера, и Петтерсон сложил весла.
Ночь скоро кончалась. Через какое-то время взойдет солнце и проснется ветер. Снова торжественно и тревожно зашелестят верхушки сосен. Потом зажужжат мухи, запищат комары, побегут по своим делам муравьи, выползут на открытые места ужи, чтобы лечь и погреться на солнце.
Петтерсон хотел бы, чтобы эта ночь не кончалась.
Каждому гражданину Швеции выделяется только одна летняя ночь. Одна, а не две и не три.
— Грести? — спросил он.
— Да, — сказала Анита. — Мы поплывем дальше.
— Куда?
— Я знаю, куда.
Петтерсон стал грести в сторону, куда указала Анита. К месту на болотистом берегу неподалеку от шоссе.
— Почему ты никогда не говорила мне, что ты из деревни? — спросил Петтерсон. — Правда, я сам мог бы догадаться.
— Я же сказала.
— Только, когда мы приехали сюда. Если бы разговор не зашел об этой… косовине, ты бы не сказала. Хотя… Этим сейчас не хвастают. Во всяком случае, на моей родной улице Томтебугатан.
— Ты опять? Лучше вспомни, что я тебе напоминаю. Напоминаю я тебе корзину с яблоками?
— Напоминаешь. Хотя, глядя на тебя, мне больше вспоминается дверь на чердак. Я медленно открываю ее, а за ней сплошная темнота. Но я знаю, что на чердаке стоит корзина с зимними яблоками. Я иду в темноте, но знаю, что где-то в ней есть яблоки.
Петтерсон почти опрокинулся назад, когда лодка неожиданно натолкнулась на берег. Он выпрыгнул на сушу и подтянул лодку. Потом он сел на берег, глядя, как Анита, держа туфли в руках, спокойно шагнула из лодки в воду.
— Тепло, — сказала она, — вода почти горячая. Она подошла и села рядом с Петтерсоном.
— Мы — последние, — сказала Анита. — Идем, а то скоро утро.
Она взяла Пирсона за руку и повела его вдоль озера к болоту.
На посеревшем небе Петтерсон увидел черные очертания полуразрушившегося торфяного завода.
И там же он заметил низенький сарай для просушки торфа.
Анита медленно вела его к сараю. Они шли по мягкой болотистой почве среди вересковых зарослей, земля пружинила на каждом шагу.
Время остановилось.
Они шли медленно друг за другом по траншее, оставшейся от торфоразработок. Траншея становилась все глубже. Уже много лет, как никто не брал отсюда торф, но на сухом дне так и не выросла трава.
Петтерсон больше не видел озера. Его лицо находилось теперь вровень с вереском.
На постели из мха, говорила Анита.
— Анита, — окликнул Петтерсон.
Анита повернулась и очень осторожно сняла с Петтерсона его шляпу.
X
В половине восьмого вечера в четверг сапожник постучал в дверь фургона, но никто ему не ответил. Дверь была заперта.
Через плечо сапожника были перекинуты две сети. Он удивился, что в фургоне никого не оказалось, отнес сети в лодку и сложил их там. Потом он сходил за веслами и стал ждать.
Вечернее солнце грело ему затылок, сапожник сидел, повернувшись лицом к фургону. Машина Петтерсона стояла на Выселках. Он с женой не мог уйти далеко.
В самом деле, не прошло много времени, как появился идущий медленными широкими шагами Петтерсон. Шляпа его была надвинута на лоб, и он тянул сигарету с таким видом, как будто только что решил труднейшую задачу.
— Добрый вечер! — сказал сапожник.
Петтерсон взглянул на него:
— Здорово, сапожник!
Сапожник, увидев Петтерсона, выбрался из лодки и пошел к нему навстречу.
— До того, как поставить сети, давай выпьем, — предложил он. — Я взял с собой на случай, если тебе нездоровится после вчерашнего. Нам на Выселках всем нездоровится. Мы сегодня только отдыхали.
Он отдал бутылку Петтерсону.
— Мы все сегодня болели, как на второй день рождества… Придется снять туфли и носки. Эта лохань протекает. Мы сами ее когда-то построили, уже очень давно. Нам нужно переправиться на другую сторону озера. На северный конец. Если есть в озере рыба, она гуляет там.
Сапожник сел, снял туфли и носки и закатал брюки выше колен. Потом он вошел в лодку.
— Оттолкнись! Я сяду на весла. Грести полезно, когда у тебя сидячая работа. Возьми с собой бутылку! На случай шторма на море.
Петтерсон толкнул лодку и впрыгнул в нее. Он перебрался на корму, закурил и угостил сигаретой сапожника.
— Где твоя жена? — неожиданно спросил сапожник.
— Ты разве не встретил ее? Она должна была пойти к вам за машиной. Но она, наверное, пошла по дороге, а не тропинкой.
— Неправильно, нужно было идти тропинкой. Так она, ты говоришь, пошла за машиной? Сейчас все водят машины. Все. Эльна ждала, что вы оба придете. Твоя жена сидит, наверное, с Эльной на кухне. Эльна обещала дать ей какие-то кухонные рецепты и хотела что-то подарить.
— Вы смогли бы жить здесь без нее? — спросил Петтерсон.
— Я не смог бы, — сказал сапожник. — Хотя и Эрик-сон и Эман умеют хорошо готовить. Сам я готовить не умею. Мне никогда не приходилось этим заниматься. В доме всегда были женщины… Хуже всего, что у Эль-ны слабое здоровье. Она подолгу болеет. Конечно, иногда приходят в голову разные мысли, что будет здесь без нее. Что-нибудь будет. Приспосабливаешься ко всему.
Сапожник сложил весла.
— Меня они никуда не упрячут! Никого из нас! Ни за какие деньги!.. Пока можем, мы будем заботиться друг о друге. Мы долго ухаживали за сестрой Эриксона. Хотя, в конце концов, мы сдались. Нам пришлось отвезти ее в больницу. Хильда стала совсем беспомощная, и больница была ей необходима.
— А за вами кто-нибудь присматривает? — спросил Петтерсон.
— Прежде к старикам на хутор приезжал пастор. Но теперь и он сам состарился. Сейчас он болен и уехал за границу подлечиться на курорте… В поселке живет медсестра. Она тоже в отпуску. Но обычно она всегда рядом. Когда у нас не было телефона, она раз-другой в месяц обязательно навещала нас. А теперь, в случае чего, мы сами можем позвонить ей в любую минуту. Хуже было в самое первое время, когда я еще не научился говорить по телефону. Эльна все равно ничего не слышит. Правда, звонят нам редко. У нас не было телефона много лет… Электричество у нас тоже не очень давно. Сейчас-то мы живем хорошо. Жаль только, что как раз теперь, когда мы зажили хорошо, у нас отобрали связь с городом. Вроде бы должен был ходить мимо автобус. Но пускать его невыгодно. До поселка и обратно мы добираемся на попутных самосвалах, возящих щебенку. Но в поселках нам делать нечего. Там почти не осталось стариков. А молодых мы никого не знаем… Нам бы хотелось иметь возможность ездить в город. Хочется иной раз походить по улицам, посмотреть, как живут теперь люди. Дом для престарелых тоже в городе, и мы знаем многих, кто в нем живет… Хотя сами мы туда не хотим. Нет, туда мы не хотим… Здесь, в лесу, — хорошо, хотя тебе это трудно понять. Но в лесу и вправду хорошо! Ни у кого из нас нет долгов. Единственно, чего нам здесь не хватает, так это связи с городом. Эману иногда приходит в голову мысль переехать туда жить, но он не смог бы. Он не городской… Эману кажется, что он бы нашел там себе занятие. Он хочет сгребать листья в парках или чистить снег зимой. Он-то хочет, но захотят ли другие, чтобы это делал Эман. Кому нужен согнутый старый мужик, который, конечно, работать умеет, но работает медленно, по-своему, как работает только он. В городе не хватает работы даже молодым. Молодые тоже стремятся в большие города, да только там нет квартир… В больших городах трудно с жильем… Нет, придется Эману остаться здесь и срывать свою злость на курах… Да и Эриксон не сможет жить без него один. Мне кажется, что не сможет.
Сапожник быстро в такт работал веслами, и скоро они оказались у цели, на северном конце озера. Сапожник подал сеть Петтерсону.
— Опускай грузилами вниз! Здесь, у камыша, стояли колья, к которым крепили сети. Видишь?
Сапожник указал на колья.
— Сможешь привязать?
— Да.
— Хорошо, — сказал сапожник. — Мы поставим одну сеть по направлению к центру озера, а другую — вдоль камыша… Ты знаешь, что такое фуганок?
— Нет.
Поставили сети. Одну в направлении к центру озера и другую вдоль камыша.
Дул теплый южный ветерок. Там, где стояла лодка, водную поверхность рябило, но остальное озеро лежало тихое и гладкое.
— Здесь однажды утонул мужик, — сказал сапожник. — Он пошел в большой лес ловить свою лошадь и переправился на другой берег в лодке. Когда он поймал ее, то вздумал переправиться обратно тоже в лодке, а лошадь заставил плыть за собой. Так вот, далеко он от нее не уплыл. Она все пыталась влезть в лодку и, в конце концов, перевернула ее. Это была другая лодка, не эта, в которой мы сидим. Мужик камнем пошел на дно.
— Я, пожалуй, хлебну из бутылки, — сказал Петтерсон.
— Потом передай мне! — сказал сапожник. Он сложил весла, предоставив лодке скользить по воде своим ходом. Он никуда не торопился.
Рассказ о мужике и о его лошади странно поразил Петтерсона. Чем, он не знал. Он никогда не представлял себе, что лошадь, оказавшаяся в воде, может, как человек, пытаться спастись в лодке, случись она поблизости.
— А что стало с лошадью? — спросил Петтерсон.
— Она повернула обратно, вышла на берег и понесла. Сначала мы нашли тело мужика, а потом все вместе, кто тут тогда жил, устроили облаву. Лошадь была молодая. Она сорвалась в овраг и сломала хребет. Я ее не видел, но Эриксон вместе со всеми ловил ее и потом рассказал нам.
— У Эриксона никогда не было своей лошади?
— Не было. На весеннюю пахоту и сев приходилось лошадей нанимать. А в другое время вместо лошади впрягали Эмана. Я тоже впрягался и помогал Эману быть лошадью, когда в том была особая нужда, ну, как, например, когда мы сажали картошку… Здесь, в наших местах, никогда не держали много лошадей. Пашни у нас слишком маленькие. Поэтому любая крестьянская работа стоит много труда.
Сапожник потихоньку стал грести по направлению к дому.
— Те, кто вовремя уехал отсюда, устроили свою жизнь, — сказал он! — А кто остался, не смог устроить… Народ начал разъезжаться в конце войны, когда многие побывали в армии и увидели, что и в других местах люди живут. Мы к тому времени были уже слишком старые, чтобы начинать все заново… Видно, кто остался здесь, родились, чтобы здесь остаться. Наши корни в этой земле, и никуда мы от нее не денемся. И мы ни в чем не изменились за все эти годы. Это все вокруг нас изменилось. И изменилось к лучшему. Только вот связь, связь с городом, у нас забрали, и мы от хорошей жизни ничего по сути не получили. Нас все равно как за-перли в лесу. Хотя раньше мы никогда не чувствовали, что отрезаны от жизни. Так что можно сказать: никогда мы не жили так хорошо и так плохо, как сейчас.
— Я не заметил у вас на шоссе большого движения, — сказал Петтерсон.
— Сейчас ездят одни отпускники, — сказал сапожник. — Что-то не очень они интересуются нашим памятником старины. Или, может, он годится только для развлечения в выходные дни? Следующее воскресенье тоже выдастся хлопотное, как думаешь?
— Я думаю, что нам нужно пойти и похоронить Ингве навечно. И нужно сделать это еще до воскресенья.
— Ты так думаешь?
— Да.
Сапожник сложил весла.
— Вы когда уезжаете?
— Скоро. До воскресенья уедем. Я весь день раздумывал над вашим памятником. Он, конечно, видный из себя и интересный, и когда о нем узнают в местной газете, то обязательно напишут. Потом, возможно, сюда приедут люди, с телевидения ’ Новый исторический памятник — всегда хороший материал. После этого вас уже не оставят в покое.
— Хочешь сказать — раскроют наш обман?
— Вряд ли, — сказал Петтерсон. — Кому нужно выяснять, настоящий это памятник или нет? В общем-то, он и вправду настоящий. Просто здесь появится много любопытных. Вы окажетесь на виду… И тогда… тогда явятся к вам и пастор и медсестра.
— Что я хочу тебе сказать, — с расстановкой проговорил Петтерсон, — вам после этого трудно будет защититься. Вы станете общей собственностью и потеряете свободу. Сейчас вы свободны. Вы, хоть и заперты в лесу, но свободны. У вас нет долгов… Ты привык общаться с людьми, ты с шумихой справишься. Но остальные трое не справятся. А когда власти заметят, что вы не справляетесь, вас увезут отсюда силой… Вот какие дела.
— Да, история… — сказал сапожник. Он немного помолчал, а потом неожиданно ухмыльнулся: — Не забудь, мы ведь поклялись охранять покой старого Ингве. Он по-кой заслужил.
Сапожник повел лодку через камыши к берегу, и Петтерсон увидел, что Анита уже пригнала машину с Выселок. Она стояла спиной к озеру и с кем-то разговаривала.
— Анита с кем-то познакомилась, — сказал Петтерсон.
Сапожник оглянулся на берег.
— Это молодой хозяин, — вполголоса сказал он. — Тот, кто покупает у Эриксона сено. Он, наверное, заинтересовался нашим указателем.
Сапожник подвел лодку, и молодой хозяин вытянул ее нос на сушу.
— Судно прибыло в порт, на борту все в порядке! — отрапортовал сапожник.
— Ты куда-то едешь? — спросил он у молодого хозяина. — Познакомься! Это Петтерсон. А эта фру — его жена… Хочешь выпить, Виклунд? У Петтерсона в лодке есть бутылка.
Виклунд был долговязым и сильным молодым человеком со льняными волосами и большими руками. Он был одет в рабочий комбинезон, а его машина стояла рядом с петтерсоновской.
— Принеси пива, Анита! — скомандовал Петтерсон. Он поздоровался с Виклундом.
— Я еду в поселок, — сказал Виклунд. — Но решил сначала поговорить с тобой, Густафсон. Я увидел тебя на озере из своей машины.
— Понятно, — сказал сапожник.
Пришла Анита с бутылками пива и с рюмками. Все уселись.
— Я выпью только пива, — сказал Виклунд. — Я хотел спросить тебя про указатель, который ты установил на столбе, — сказал он, отхлебнув из бутылки. — Что это ты придумал, сапожник? Откуда здесь памятник старины? Ты и я, мы же прекрасно знаем, что никакого памятника здесь нет. Я разговаривал с почтальоном, и он сказал мне о твоем указателе, вот я и понесся сюда. Мне, конечно, все равно, ты можешь ставить у себя на хуторе какой угодно памятник, но тогда, скажи мне, что я должен отвечать людям, когда они меня спросят. Хорошо еще, что никого сейчас нет, все в отпуску… Что мне говорить?
— Тебе это покажется странным, — сказал сапожник, — хотя ничего странного в этом нет. Ты знаешь, что Выселки по-настоящему не называются Выселками. Они называются Эстенторп. Мой и Эльнин дом отделен от Выселок. И участок, на котором стоит наш дом, тоже как-то должен называться. Мы отделились в этом году на случай, если Эриксон будет вынужден продать землю. Раньше, когда разговор об этом не заходил, отделяться нужды не было. Вот Эльна и решила, что надо дать нашему участку свое название — Памятник старины, а я, чтобы все об этом узнали, установил на шоссе указатель.
— Не хитри, Густафсон, — сказал Виклунд. — Я же сам оформлял ваше отделение. Я понимаю — ваш участок тоже должен как-то называться, но зачем же ты врешь, что назвал его Памятник старины? Мне кажется, мы вписали в документы на землю другое название, хотя какое, убей не помню.
— Я тоже не помню, — сказал сапожник. — Надо бы взять бумажки, взглянуть. Правильно, это ты помогал нам оформлять документы… Во всем виновата Эльна.
— Не думаю, — возразил Виклунд. — И еще, скажи мне на милость, для чего ты вписал туда расстояние — 450 метров?.. Ждешь гостей?.. Но я так понял, что ты закрыл свою мастерскую. И мастерская, пока ты в ней работал, тоже не имела названия.
— Ладно, сейчас я тебе все объясню. Дело в том, что я решил установить на шоссе новый почтовый ящик. Ящик все равно нужно переносить из-за перехода на новое движение. Заодно я решил прибить к столбу указатель, который бы показывал дорогу на Выселки. Но вот штука-то — Выселки Выселками не называются, а про Эстенторп здесь тоже никто не слышал. Вот я и написал на указателе "Памятник старины", когда растерялся и вспомнил заодно, что говорила Эльна. Когда я сообщил ей, что бросаю работу, она сказала, что наши Выселки скоро будут принимать за памятник старины.
— А Эльне хотелось бы, чтобы ты работал? — спросил Петтерсон.
— Работы больше нет, — сказал сапожник. — Я свое отработал. Ну а расстояние я вписал из-за того, что такой уж порядок. Если на указателе написано — Памятник старины, то должно быть обозначено и расстояние до него. Вот так.
— Чертовски глупая история, — сказал Виклунд. — Не нужны тебе больше, сапожник, ни указатель, ни почтовый ящик. Теперь почта будет доходить только до поселка. Сюда они больше ездить не будут.
— А как же с нами? Мы почту получать не будем?
— Почту буду доставлять вам я. Все равно я часто езжу в поселок. Хотя, похоже, и меня здесь тоже скоро прикончат… Теперь на старой станции в поселке не будет останавливаться даже товарняк. И весь новый инвентарь мне нужно будет привозить из города самому… Кстати, я завтра еду в город, так что, если чего нужно, скажи, Густафсон! Поеду в Сельскохозяйственный банк делать очередной заем. Я уже весь в долгу как в шелку и занимать мне не страшно. Надо взять у них такую ссуду, чтобы они сами побелели от страха и пожалели, что со мной связались!
Виклунд поднялся и попрощался со всеми.
— Может, заеду к вам на обратном пути, — сказал он. — Тогда и посидим. Здесь, в лесу, все-таки чертовски одиноко. Одни только памятники старины!
Виклунд засмеялся.
— Вы только представьте себе, — продолжал он, — моя собственная жена у меня же взяла отпуск! Поехала в Стокгольм, погостить у сестры. Так она мне и сказала: беру у тебя отпуск. Отпуск! В самый сенокос!
Виклунд сел в машину и уехал.
— Крестьяне в наше время — одни, — сказал сапожник.
— А он почему остался здесь? — спросил Петтерсон.
— По той же причине, что и Эриксон. Он здесь родился. Здесь его корни… У него не хватило духу уехать. Он не может бросить землю. Хотя считает себя, если здесь останется, конченым человеком… У него хозяйство недостаточно большое. Оно вообще-то большое — Виклунд иногда с ног сбивается, но недостаточно большое, чтобы с ним считались… Жена не раз говорила ему об этом.
XI
Виклунд уехал, и сапожник остался один с Петтерсоном и Анитой. Известие, что доставка его почты будет отныне зависеть от доброй воли какого-то третьего лица, сильно расстроило сапожника. В этом он усмотрел еще одно лишнее доказательство, что старики с Выселок больше никому не нужны и кое для кого они вроде бы уже не существуют.
— Конечно, нас — тех, кто не умеем водить машину, — меньшинство, — рассерженно твердил сапожник. — И, как меньшинство, мы, конечно, понимаем, что должны приспосабливаться к другим. Но мы все-таки — большое меньшинство. В этой стране осталось немало крестьян… Возьмем хотя бы озеро. Раньше в нем водились раки, а теперь их больше нет. В лесу водилась птица: глухари и тетерева, но теперь и их больше нет. В этом году мы видели всего одного зайца, да и того почти ручного, он приходил к нам на Выселки. Время от времени мы видим еще лосей и косуль, но и их только потому, что в округе есть большое охотничье хозяйство… Много чего здесь больше нет, но старые согнутые крестьяне еще остались… Они еще живы, хоть им и запрещено пользоваться автобусом и железной дорогой. А теперь вдобавок и почту им возить тоже не будут… Если доставлять нам почту будет Виклунд, это значит, он будет появляться у нас на Выселках, по крайней мере, через день. А если мне это нё нравится?
Анита попыталась успокоить сапожника и сказала, что такое положение сейчас почти везде. С каждым днем в лесах становится все тише.
— Ты, может быть, и права, — ответил ей сапожник, — да только для нас это утешение маленькое… Я ведь, в общем, не против тишины. Но только смотря какой. Раньше, когда становилось тихо, все равно что-нибудь, да было слышно. Иной раз дальний выстрел из дробовика, или, как кто-то рубит дрова в лесу, или, как мычит где-нибудь на хуторе бык или работают машины в поселке. А теперь даже бензопилы не услышишь… Тишина стала не той, что была раньше — пустой, что ли?.. Раньше можно было остановиться и слушать, что происходит вокруг… А теперь, слушай не слушай, все равно ничего, кроме шелеста листьев да писка комара, не услышишь… Времена меняются, это понятно, но я совсем не думал, что со временем изменится и тишина. А попробуй-ка кто из нас, скажи, что нынешняя тишина стала другой? Тут же признают тебя тугоухим и упекут в ближайший дом для престарелых как «источник повышенной опасности» на дорогах… Я не хочу в дом для престарелых… Я не глухой… Я еще хорошо вижу. После того, как в лес перестали выгонять скотину, он зарос травой и кустарником. Маленькие коровьи тропки пропали, и ходить теперь по лесу трудно. Лес стал диким. Но так не должно быть! Я думаю, все-таки все здесь еще переменится. В один прекрасный день лес займет в жизни человека место, какого у него нет сейчас и никогда не было. Люди научатся получать от него больше, чем просто древесину. Сейчас заниматься лесом невыгодно, а о том, что невыгодно, люди не думают. Но в будущем откроют, что лес может давать много больше, чем просто дрова и бумагу. Что именно это будет, я не знаю. Но верю, что так будет. Я слышал, человек скоро научится извлекать пищевые продукты из морской воды. Может, он научится извлекать их и из леса… По-другому быть просто не может… Пусть я этого и не дождусь… Хотя опять же, кто знает? Ингве дожил до ста двух лет. Но мне нечего делать здесь еще тридцать лет… Не знаю даже, к чему бы приложить руки завтра. Не могу же я в обычные рабочие дни собирать и разбирать игрушку, которую ты мне купил? Ее я оставлю на субботы и вечера. Хотя вечерами мы смотрим телевизор. Сейчас, хочешь не хочешь, нужно смотреть телевизор, всегда может кто-нибудь приехать, и нужно о чем-то разговаривать. Телевизор как тема для разговора очень удобен.
Сапожник говорил долго, а когда выговорился до конца, из поселка вернулся Виклунд. Он поставил свою машину рядом с фургоном Петтерсона.
— Теперь я могу с вами посидеть, — сказал он. — Я ездил в авторемонтную мастерскую в поселок, но там словно все вымерли. Наверное, уехали в Италию или еще куда… Правду говорят, что у черта на куличках отдыхать дешевле, чем дома, в Швеции?
— Говорят, — сказал Петтерсон. — Говорят, что намного дешевле. Может, приготовить кофе? Он хорошо идет с водкой. Мне понравилось.
Анита занялась приготовлением кофе.
— В поселке прошел слух, — сказал Виклунд. — Какой-то приезжий нашел вчера в нашей округе памятник старины. Где он его нашел, человек этот толком объяснить не сумел. Вы что-то ему показывали?
— Мы показали развалины дома Ингве, — сказал сапожник.
— Это того сумасшедшего солдата, о котором все рассказывал дед? Того, что палил из ружья в людей?
— Да, — сказал сапожник.
— Но ведь видно, что это просто развалины дома?
— Народ посходил с ума, — сказал сапожник. — Какие-то горожане чуть не насильно заставили Эриксона продать им лоскутные дорожки.
— Интересно. Ты, пожалуй, оставь на шоссе эту вывеску! Слушай… а ты не нарочно все это подстроил? Но тогда тебе нужно срочно перестраивать мастерскую под закусочную. Будешь торговать кофе с горячими сосисками. — Хотя я, черт возьми, никак не представляю тебя в фартуке за стойкой!
— Я сорву указатель, — сказал сапожник. — Может быть, не сегодня, но сорву обязательно!
— Что ты будешь делать теперь, после того, как закрыл мастерскую? — спросил Виклунд.
— Что-нибудь придумаю. Пришла Анита и принесла кофе.
— У вас, надо думать, отпуск? — спросил Виклунд.
— Нет, — ответил Петтерсон. — Мне не полагается отпуск. Я просто езжу фотографирую, но мы решили остановиться здесь и отдохнуть.
— Он фотографирует женщин, — сказал сапожник.
— Это окупает себя? — спросил Виклунд.
— Это единственное, что себя окупает. Девочки. Все остальное журналы не берут. Берут девочек… Я, кстати, собираюсь завтра сфотографировать Выселки. Скажи об этом Эльне и старикам!.. Потом я сфотографирую памятник старины.
Виклунд засмеялся.
— Я всерьез говорю, — сказал Петтерсон. — Мне нравится памятник сапожника.
— Ты малость свихнулся, — сказал Виклунд. — Хотя я тоже чокнутый. Сижу один на хуторе, который за десять лет вродё бы укоротился, стал меньше, усох. А ведь, когда был жив отец, хутор считался большим. Теперь же я должен расширяться. Так мне все говорят. Банк дает какую угодно ссуду. Мне придется купить землю у Эриксона. Мне на что-то в этом роде уже намекали… И вот в самый сенокос жена уехала в Стокгольм!.. В следующий раз она, наверное, уедет еще дальше. Куда-нибудь за границу. Но это, наверное, будет даже дешевле… Ей не нравится жить здесь, в лесу. И я ее понимаю, хотя для меня это ничего не меняет. Я-то останусь здесь… Похоже, хозяйство мое все-таки вылетит в трубу. Но я должен остаться здесь. Скоро, кроме нас, в лесу никого не будет… И даже если бы я захотел, я все равно не могу оставить хутор. Никто не захочет сидеть здесь один. А я могу сидеть. Мне это ничего. Все мои воспоминания связаны с хутором, без них и я бы здесь не остался… А сын не пойдет по моей дорожке. Нет, похоже, что не пойдет. Ему десять лет, а он уже тянется к людям в поселок… Он считает, что дома у нас скучно. Дома и вправду скучно… Но только я считаю, что это ничего, что у нас скучно. У человека допоен быть талант на веселье, а у меня такого таланта нет. Иногда я приезжаю сюда ловить рыбу на удочку, вот и все мое веселье.
— Мы поставили сети, — прервал его сапожник. — Раньше на Выселках мы часто рыбачили.
— Ну, это было давно, — продолжал Виклунд. — А я ничего не успеваю. В общем-то, у меня не так много работы. Но каждым вечером ложусь спать и думаю: все-таки что-то забыл. Что забыл, мне так и не удается вспомнить, но вот, что позабыл сделать что-то, помню. И полночи не могу заснуть. Это, наверное, что-то вроде самогипноза… Но гипноз это или нет, а полночи не спишь… Сейчас машины работают быстро. У меня должно бы оставаться много времени. Но использовать его на себя мне все равно не удается. Наверное, и этому надо учиться. "Иной раз думаешь: в старину крестьянам приходилось легче. Они жали себе рожь серпами от зари до зари и не успевали думать ни о чем, кроме работы. А сейчас думать успеваешь, а мысли невеселые… Как у тебя, Петтерсон, остается время от работы? Фотографировать девушек занятие приятное.
— Не такое приятное, как считают. Кому приятно, а кому и нет. Почти все время уходит на уговоры. Девиц, которые хотят сняться на обложку, немного.
— Ну, наверное, в Стокгольме их хоть пруд пруди?
— В Стокгольме их тоже немного. Их везде мало. Те, кого стоило бы снять, соглашаются редко. А если соглашаются, то не хотят, чтобы фотография публиковалась. Так что не работа, а одна горильня… Но, конечно, назвать это тяжелой работой нельзя. Тут ты прав. Но, не снимая девочек, в нашем деле, в фотографии, не продвинешься. Да и ничего не заработаешь тоже.
— Вот как? — сказал сапожник. — Самое время идти домой.
— Я отвезу тебя, — предложил Виклунд. — Мне все равно нужно к вам. Мне нужен Эман. Хочу попросить его, чтобы он помог. Он сможет?
— Отчего не сможет, — сказал сапожник. — Эриксон приглядит за его курами. Старики измаялись, сами не знают, какую бы работу себе придумать.
— Силенка-то у него осталась? — спросил Петтерсон.
— У Эмана осталась, — сказал Виклунд. — У него осталась.
— Так я приду рано утром, — сказал сапожник, обращаясь к Петтерсону. — Мы должны вытащить сети рано утром.
— Во сколько?
— Примерно в шесть. Мы всегда вытаскивали сети рано. Я возьму с собой кофе в термосе… Да, пока не разошлись. Может, пойдем сорвем указатель?
— Оставь ты его! — сказал Виклунд. — Что тебе. Пусть твой памятник постоит еще немного. Дед мне много рассказывал об этом Ингве. Он его боялся. У Фрея была, кажется, старуха?
— Да, я помню ее, — сказал сапожник. — Она дожила до глубокой старости.
— Времена меняются, и мы вместе с ними, — сказал Виклунд. :
— Нет, тут ты ошибся, — сказал сапожник. — Мы не меняемся со временем. Просто становимся старше.
— Отец тоже так говорил, — подтвердил Виклунд.
— Я тут рассказал Петтерсону, как твой отец утонул, переправляясь через озеро с лошадью.
Петтерсон чуть не поперхнулся кофе.
— Но ты этого не помнишь.
— Нет, Я тогда был маленький, — сказал Виклунд.
— Вы здесь, что, в вашей деревне, все чокнутые! — возмутился Петтерсон. — Пожалейте нервы хилого горожанина. Может, я боюсь темноты?
— Он сюда не придет, так что бояться нечего, — сказал Виклунд.
— Да, — сказал сапожник. — Он сюда больше не явится…
— Вот жена твоя ничего не боится, — добавил он. — Она из лесов, как мы. Хотя жила подальше, на Севере… Она даже знает, что такое фуганок. И что такое косовина… Петтерсон не знает, что такое косовина.
— Мы на Томтебугатан с косовиной дела не имели. Куда ни посмотри, нигде ни одной косовины… Перед тем, как разойтись, выпьете посошок?
— Выпьем! — согласился Виклунд. Петтерсон налил мужчинам, себе и Аните.
— Может, вы придете и потрамбуете у меня сено? — спросил девушку Виклунд. — Правда, развлечение это не-большое.
— Я знаю, — сказала Анита. — Я больше не трамбую сена. Я натрамбовалась его на всю жизнь… Потом сутки ходить не можешь.
— Это так, — сказал сапожник. — Что правда, то правда.
— А вы не скучаете по деревне? Хоть немного? — спросил Виклунд.
— Не знаю. Кажется, не скучаю.
— Понятно. Моей жене вовсе здесь не нравится. Нам с ней трудно жить. Она хочет, чтобы я продал землю и переехал в город. Но что я буду делать в городе? Я ничего не умею. Да и на хутор сейчас покупателя не найдешь… Мой сын сразу же, как только сможет, уедет отсюда… Я его держать не буду. Пусть делает, как хочет!.. Но сам я останусь здесь.
— Разве ваша жена родом не из деревни? — спросила Анита.
— Родом она из деревни, но что с того. Ее воспоминания никак не связаны с моим хутором, как, например, у меня. Моя земля для нее ничего не значит…
Из деревни-то она из деревни, — продолжал Виклунд. — И деревней сыта по горло. Теперь ей хочется слышать человеческие голоса, общаться с людьми…
Пускай ездит в город! Лучше Стокгольм, чем Филадельфия… Но уехать в сенокос! Ты когда-нибудь слышал что-нибудь подобное, сапожник?
— Такого раньше не потерпели бы. Ее бы выдрали!., Хотя я ее понимаю.
— Я тоже понимаю, — сказал Виклунд. — Некоторым образом. Хотя почему она выбрала сенокос?.. Нашла себе удовольствие ходить в жару по городским улицам.
Петтерсон вспомнил городские улицы в летнюю жару и подумал; что прогуливаться по ним — великое благо.
Он ничего не сказал.
Он затосковал.
Он задумался.
Если этот долговязый пенек так же сильно привязан к своей земле, как я к моей старой Бирке, то он никогда не уедет из этих лесов. Скорее он отпустит жену на все четыре стороны.
— Больше мне нельзя оставаться никак, — сказал сапожник.
— Садись в машину! — сказал Виклунд. — Спасибо за кофе и за общество!
— Так завтра утром, не забудь! — крикнул сапожник Петтерсону. — Рано утром!
Тот помахал ему рукой.
Когда машина уехала, Петтерсон сказал:
— Я понимаю, деревенским лаптям достаётся. Но могли бы помолчать о своих утопленниках. В сущности, это — страшно… А они шутят. Нашли забаву.
— Они не шутят, — сказала Анита. — Они иногда шутят, чтобы скрыть серьезность, с какой относятся к случаю. И вспоминают его постоянно, чтобы не забыть:.. По таким случаям в деревне ведут отсчет времени… Ты, например, помнишь только сам случай, а они все, что случилось до него, одновременно с ним и после… Ты теперь для них — тоже особый случай. Они будут вспоминать тебя каждое лето. Ты и памятник старины — теперь для них одно и то же. Они не забудут, ни как ты был одет, ни какая у тебя была походка, ни как ты говорил и что сказал тогда-то и тогда-то. В их памяти все отпечатывается накрепко — не так, как в нашей. Они ничего не забывают… И они никогда не заговорят теперь об Ингве Фрее, чтобы не вспомнить при этом и о тебе. Ну, и наоборот — тоже.
— Ты так считаешь?
— Я знаю..
— Тогда надо бы вести себя осторожнее. Я, кажется, тоже не забуду Выселок.
— Ты забудешь, — сказала Анита. — Забудешь. Ты быстрый, много ездишь, перемещаешься, меняешься… А они, раз и навсегда, — одни.
Петтерсон задумался.
— А плесни-ка мне еще немного в чашку, — вдруг весело сказал он. — И объясни покороче, что такое фуганок?
XII
Точно в шесть утра в среду сапожник разбудил Петтерсона. Он принес с собой термос с кофе и булочки, и они позавтракали в лодке.
Ночью моросил дождь, и день занимался пасмурный. Облака плыли низко над самыми верхушками деревьев. Ветер дул с севера. Из лесу поднимался туман.
В воздухе чувствовалась сырость. Всюду пахло торфом, тиной, мокрой древесиной и корой.
Изменились и краски местности. Озеро стало белым, а лес почти черным. Прежде сухое бесцветное шоссе стало отливать тонами темной охры, а в придорожных кюветах засветились лютики.
Но, несмотря ни на что, погода была приятная.
На ногах у сапожника были резиновые сапоги, а поверх своего рабочего комбинезона он надел старый пиджак. Он был небрит и весел.
Сапожник говорил тихо, словно боялся кого спугнуть или опасался, что их подслушают.
— Теперь отпускам конец, — говорил он. — К вечеру соберется дождь, от северного ветра добра не жди. Тем, кто еще не убрал сено, надо поторапливаться. Еще бы солнца с недельку. Рыба наверняка проснулась ночью. Эриксон вставал и слышал, как шел дождь. Это Эриксон приготовил нам кофе. Эльна еще не поднялась.
— Почему Эриксон встает так рано? — спросил Петтерсон.
— Он привык, — сказал сапожник. — Раньше крестьяне поднимались спозаранку. А теперь не выходят ил дому, пока не сойдет роса. Они теперь засиживаются по вечерам, с тех пор, как появилось телевидение. Эриксон и Эман тоже встают теперь не так рано, как прежде.
— Эман работает сегодня у Виклунда. Работать он сможет?
— Сможет. Его только не нужно подгонять, и не нужно вмешиваться в его работу. Но, понятно, тягаться с молодым он не может. Хорошо, что у Виклунда нет молодого работника. Он сам всё делает. А его мальчишка — не в счет, он — прилежный, но ему всего десять лет, так что Эман с ним справится… Вообще-то сила у него была, у нашего Эмана. Он до сих пор крепкий… А теперь, поплыли! Я сяду на весла. А ты оттолкнись… Да, силенка в свое время у Эмана была. Из-за этого он такой разбитый. У Эриксона такой силы не было, и ему с Эманом повезло.
Сапожник не спеша выводил лодку из камышей.
— Сегодня мы не поплывем прямиком через озеро, — сказал он. — Пойдем вдоль берега. Болтаться посередке при северном ветре — удовольствие маленькое… У Эриксона есть сын в Стокгольме. Кроме как на рождество, он отцу не пишет. И сюда тоже ни разу не заглядывал. У него жена из Лидинге. Наверное, он стесняется показать ей Выселки. Но у него есть машина, и мог бы он заехать поговорить с папашей часок-другой. Он — какая-то большая шишка в Стокгольме, не помню, как называется его должность… Твоя тоже постеснялась сказать, откуда она родом.
— Ты говоришь об Аните? — спросил Петтерсон. — Не думаю, что она постеснялась. Просто она, по-моему, не хочет много вспоминать. Отец отравился во время войны выхлопными газами в машине, а мать тоже умерла… Я ее не спрашивал, но она, кажется, не тоскует по дому… И потом, Анита мне не жена.
— Понятно. Вы, значит, не расписаны. Лучше не говорить об этом Эльне.
— Почему?
— Я думаю, Эльна этого не поймет. Вы, значит, не расписаны…
— Да. И до Аниты я тоже не был женат. Сейчас, как я понимаю, жениться рискованно. Вот тебе пример — Виклунд. Жена уехала от него в самый сенокос.
— Мы не скажем Эльне, что вы не расписаны?
— Лучше не говорить.
— Раньше бы вам это так просто не сошло. Хотя и в мое время всякое случалось. И тогда делали девкам детей… Раньше какой только народ здесь не шастал. Мужики, которые работали на лесопилке, и рабочие, что строили шоссе. Лихие люди! И потом еще бродяги, цыгане, говорят, что и шпионы были. У них на баб был наметанный глаз. Но всех их больше нет… Отец воспитывал нас в строгости. Эльна вряд ли поймет вас с Анитой… Бродяг в наших местах не осталось. Им пришлось прописаться во время войны, чтобы получать свои продовольственные карточки. Ну а потом навалилась на них наша бюрократия и съела.
— Никогда об этом не думал, — сказал Петтерсон. — Но, наверное, все так и было, как ты говоришь.
— Так и было, — подтвердил сапожник. — Продовольственные карточки помогли задержать весь шалый народ, и после этого общество их из своих лап не выпускало. Многие не хотели знать над собой никакой власти, но им пришлось прописаться. Это безработица в тридцатые годы выгнала народ из дому. Хотя многие бродяжили просто потому, что хотели быть вольными птицами… Я тоже хотел открыть передвижную мастерскую, но дела дома не отпустили. И на военную службу меня тоже не взяли. Тогда бы я, может, повидал свет. Один Эман у нас кое-что видел. Он служил в Лапландии во время первой мировой. Он не любит об этом вспоминать. Видно, набрался там страху. Он боялся других призывников… А я бы с удовольствием посмотрел Лапландию.
— Еще не поздно съездить.
— Может быть, не поздно, — сказал сапожник. — А может быть, и поздно.
— Ты приезжай посмотреть Стокгольм! Приедешь, остановишься у меня. Я покажу тебе город.
— Я, конечно, не поеду, — сказал сапожник, — но всё равно, спасибо за приглашение! Я знаю, что был бы в тягость. Ты бы все время спрашивал самого себя, кто это к тебе приехал? Ты бы не узнал меня в городе, да и я бы тебя там не узнал… Но все равно, за приглашение спасибо!
Сапожник подвел лодку к кольям, и они молча вытащили сети.
Рыбалку можно было считать удачной. Они поймала шесть больших окуней, с десяток плотвичек, маленькую щучку и еще одну щуку граммов на восемьсот-девятьсот.
Сапожник обрадовался. Он наслаждался рыбалкой. У него был настоящий отпуск.
— Если пройдет хороший дождь, я нарою червей, — сказал он. — У меня есть перемет крючков на сто, мы могли бы закинуть его. В озере водятся угри, и, разразись гроза, они будут клевать. Но ты, наверное, уедешь?
Петтерсон не ответил.
— Куда ты денешь плотву? — спросил он. — На еду она вряд ли годится.
— Да, она костистая. Но Эман варит ее с укропом и с солью и ест остуженную. Говорит, что вкусно… Остальное отдам кошкам.
— Разве у вас есть кошки? Я не видел.
— У нас живут две. Они не любят, когда на хуторе посторонние, и приходят только, когда мы одни. Кошки провожали меня сюда до полдороги и уже, наверное, дожидаются там. Они всегда так делают. И им всегда что-нибудь перепадает… Пошли потихоньку домой?
— Тебе надо бы назвать лодку «Ингве Фрей». Был один такой знаменитый корабль. Ты никогда про него не слышал?
— Нет, — сказал сапожник. — Не слыхал. Но, наверное, нашего Фрея назвали в честь того корабля. У Ингве Фрея скорее всего были другие имя и фамилия, но солдатам специально давали короткие клички, чтобы ими удобнее было командовать. Возьмем, к примеру, нашего Хуртига — того самого, что чесался кошкой. Настоящее его имя было Андерсон. Он хватал кошку за хвост и протаскивал ее по спине. «А не потянуть ли мне кота за хвост?» — так он говаривал… Мы в самый раз с тобой наловили рыбы. Сегодня среда, и как раз по средам два раза в месяц к нам приезжает рыбная автолавка. Они должны приехать и сегодня… Придется купить у них селедку. Нужно хотя бы для виду делать у них покупки, а то они совсем перестанут приезжать… Забери ты, Петтерсон, весь улов!
— Я возьму только щуку, что поменьше, — сказал Петтерсон. — Мы с Анитой с удовольствием попробуем рыбу из вашего озера. Озеро красивое. Оно чертовски красивое.
Сапожник медленно вел лодку вдоль берега к шоссе. Он осторожно окунал лопасти весел в воду и при каждом гребке поворачивал голову через плечо, словно к чему-то прислушивался.
— Ты что-то услышал? — спросил Петтерсон.
— Ничего, — ответил сапожник, — я ничего не услышал… В такую пасмурную погоду ты, наверное, не сможешь фотографировать?
— Освещение хорошее. Оно лучше, чем прямой солнечный свет. Ты хочешь, чтобы я сфотографировал только дома? Вы сами не хотите сняться на их фоне?
— Это было бы несправедливо по отношению к Эма-ну, — сказал сапожник. — Он же сегодня работает у Виклунда. Мы не можем фотографироваться без Эмана. Нас теперь в лесу осталось слишком мало, и мы не можем позволить себе ничего такого, что могло бы нас поссорить… А Эман — человек чувствительный. Хотя мы здесь все такие. Раньше, случалось, мы схватывались, да еще как, но теперь мы себе этого не позволяем. Нехорошо, если от тебя придет на Выселки фотография, а на ней не будет Эмана… Ты лучше сфотографируй как следует наши дома… И потом, Эриксона сейчас тоже нет дома. Он в лесу. Он хотел пройти вдоль телефонной линии, посмотреть, не зацепились ли где ветки за провода. Они с Эманом уже проделали такой обход на прошлой неделе, но Эриксон, видно, забыл об этом. А может быть, ему просто хочется сходить в лес. Теперь он ходит в лес без дробовика, а раньше всегда брал его с собой. Но, после того, как он продал скотину, Эриксон и охотиться не желает. Хотя, по правде говоря, здесь и охотиться не на что.
— Разве охота в этот сезон разрешена? — спросил Петтерсон.
— Сейчас не разрешена. Но мы никогда не обращали внимания на все эти запреты. Мы же местные, и всегда охотились совсем немного… Рыбалка да охота — дело случая… Но сегодня нам с тобой повезло. Все, как я говорил. Если и осталась рыба в озере, то только на этом северном конце. В других местах я больше одной-двух плотвичек не вылавливал… В озере осталось мало рыбы. Здесь слишком много рыбачат. Поселковые ребятишки, если они не на каникулах, как сейчас, целыми днями стоят на берегу со спиннингами. Поэтому мы и прячем весла. Они иной раз возьмут лодку, а вытянуть ее как следует на берег забудут, а потом ищи ее свищи, куда прибьет ветром. Хорошо еще, если она не застрянет в камышах. Тогда, чтобы ее вынесло на берег, нужна настоящая буря.
— И часто такое случается? — спросил Петтерсон.
— Пару раз случалось. Была у меня на озере верша, но пропала весной в прошлом году. Наверное, кто-нибудь зацепил ее спиннингом и стащил на глубину. Озеро местами очень глубокое — шесть-семь метров, да еще такой же слой ила… Тому, кто здесь утонет, не позавидуешь.
Сапожник направил лодку в заслонявшие берег камыши.
— Давай говорить потише, чтобы не разбудить твою жену! Ей, наверное, непривычно вставать в восемь утра, — вполголоса сказал сапожник. — А мы с тобой на берегу еще попьем кофе.
Лодка ткнулась в берег, и сапожник вытащил ее на сушу.
— Судно прибыло в порт. На борту все в порядке. Они допили кофе из термоса. Булочки оставили Аните.
Сапожник вынул из кармана полиэтиленовый мешок и стал укладывать в него рыбу.
— Вот так, — сказал он, — сегодня мы порыбачили в море Тиберия. Мы поймали сто пятьдесят три рыбы… И хоть много было рыбы в сетях, но не порвались сети… Вроде бы собирается дождь. Конец отпускам!.. Ты с женой тоже уедешь?
— Скорее всего, — сказал Петтерсон. — Мы все-таки устроили себе отпуск на четыре дня. И провели его хорошо.
— Ты придешь фотографировать дома?
— Приду. Мы с Анитой придем после обеда.
— Сети можно, ставить и в одиночку, если работать осторожно, — сказал сапожник. — Старики не хотят рыбачить. А Эльна запрещает мне ходить на рыбалку одному… Мне нужно чем-то занимать себя, двигаться, делать что-то, а то я сам не знаю, что с собой сделаю Без дела ты — человек конченый… Мы становимся совсем старые. Я не знаю, что с нами будет… Наверное, в один прекрасный день нас просто уволокут отсюда.
— Ну нет, сапожник, — сказал Петтерсон, — тебе еще жить да жить, пока ты не станешь таким же древним, как Ингве Фрей.
— Я над этим думал. Не считай, что я над этим не думал. Многое может случиться за тридцать лет… Мы, конечно, будем цепляться за свои дома, пока хватит сил.
Сапожник собрался домой. Он положил термос и кофейные чашки в пакет с рыбой и связал сети.
— Спасибо за помощь! — сказал он Петтерсону.
— Тебе спасибо! Ты, сапожник, не беспокойся попусту. Никто за вами сюда не явится.
— А я так думаю, что явится… Слушай, Петтерсон! Ты сегодня рыбачил со мной в море Тиберия, к истинно, истинно говорю тебе: когда ты молод, то сам опоясываешь чресла свои и идешь, куда хочешь, но, когда ты станешь старым, возденешь руки небу и другой опояшет твои чресла поясом и поведет тебя, куда ты не хочешь… Вот так. Так все и есть.
XIII
Петтерсон разбудил Аниту только в десять утра. После того как сапожник ушел к себе на Выселки, он почти два часа провел у своего фургона, вышагивая по шоссе взад и вперед. Петтерсону казалось, что он напряженно вынашивает какую-то идею, в то время как на самом деле он впал в обычную для обитателей этих лесов задумчивость.
Аните захотелось после сна искупаться, и Петтерсону пришлось вывезти ее на лодке подальше от берега. Чяесь, ничего не опасаясь, он позволил ей нырнуть в воду. Сам он не купался. Он сторожил Аниту. Каким бы красивым ни казалось Петтерсону озеро, безопасным местом он его не считал.
На обратном пути к берегу он рассказал Аните о своей утренней рыбалке с ее новозаветной моралью. Он сказал ей, что они с сапожником поднялись ни свет ни заря и поймали на завтрак щуку.
— Поедим и сфотографируем дома на Выселках, — сказал он. — А потом двинем отсюда!
— Куда?
— В Стокгольм. Сядем в машину и рванем, не оглядываясь, к улицам моего детства. В мою дорогую древнюю Бирку, где, как мы здесь выяснили, не происходит ничего… Здесь же, в деревне, происходит слишком много чего. И хоть сапожник жалуется, что на Выселках стало тихо, здешняя тишина оглушила меня… После такого удара легко разувериться в жизни. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы не оставаться больше одному… Я стал плохо спать. Наверное, и мне тоже придется теперь бодрствовать по ночам и слушать, как шелестят камыши над морем Тиберия… Больше на беззаботность рассчитывать нечего… Ты ни на минуту не должна оставлять меня одного, Анита! Обещай!
— Это я тебе обещаю, — засмеялась Анита. — Никогда бы не подумала, что тебя можно так расшевелить. Тебе нужна нежность, мальчик.
— Мне не нужна нежность. Было бы сочувствие.
— Да, но как только ты ступишь на мостовые, по которым гулял с маменькой, сочувствия у тебя будет хоть отбавляй. А я тебе стану не нужна.
— Ты была здесь со мной все время. Ты можешь меня понять.
— Да что с тобой стряслось? Ты подружился с деревенскими стариками и сапожником, который придумал памятник старины. Вот, кажется, и все? Правда?
— Да ничего особенного не случилось, но и того, что случилось, — достаточно.
Петтерсон пристал к берегу и как следует вытащил лодку на сушу.
— Пойду уберу весла, где они стояли. Больше по этому морю я не ездок… Это — море Тиберия… Так сказал сапожник. Ты что-нибудь слышала об этом море?
— Да.
— Мне, конечно, на все начхать… И не говори мне, что все это означает. Меня, видно, всю жизнь держали в темноте и в невежестве… Но я уже знаю, что такое косовина, и хватит того… А сейчас давай завтракать!
Петтерсон и Анита испекли маленькую щуку. Ели на открытом воздухе молча. Погода по-прежнему была пасмурная, но дождь не шел и, судя по всему, не ожидался.
— Хорошо, что нет дождя, — сказал Петтерсон. — Одной капли довольно, чтобы Виклунд заторопился. А тогда Эману будет нелегко.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю. Я все знаю, что тут творится. Я знаю здешний народ. Погода все-таки скверная. Эман не сможет отдохнуть после обеда… А отдых ему нужен… Давай соберем вещи заранее, оставим только большую камеру и штатив. Надо подать машину назад и прицепить фургон. Когда вернемся с Выселок, нам останется только сесть и поехать… Мы поедем домой. Я продам фургон. Он свою службу сослужил. Впредь мы будем останавливаться только в гостиницах и занимать номера исключительно над ресторанными залами, где играет громкая музыка… Мы не скажем старикам, что уезжаем. Они разволнуются и начнут раздаривать нам свое добро. Прощаться всегда трудно.
Петтерсон и Анита собрали вещи и прицепили к автомашине фургон. Забрав фотокамеру и штатив, Петтерсон отправился по лесной тропинке на Выселки. Анита молча пошла за ним.
На ступеньке лестницы, ведущей на застекленную веранду, сидел, поджидая их, сапожник.
Он сказал молодым людям, что Эльна уже накрыла кофе в своей горнице и что там все готово, — осталось сесть за стол. Он проводил Петтерсона и Аниту к Эльне, а сам исчез.
— Наверняка пошел за угощением, — сказал Петтерсон. — Я не смогу отказаться, Анита. Ты поведешь машину?
— Не теряйся, мальчик! Если нужно, я поведу ее всю дорогу, от начала до конца.
— Если он уж очень будет нажимать, тебе придете? еще щелкнуть их дома, — сказал Петтерсон. — Наша остановка здесь превратилась в один праздник… Что ж, пусть будет праздник!
Вернулся сапожник с угощением, которое поставил на стол. Он принес еще пачку сигарет и пепельницу.
После этого он осторожно заглянул на кухню и махнул Эльне рукой.
— Кофе с водкой хорошо идут в осеннюю, как сейчас, погоду, — сказал он.
Эльна внесла в комнату кофейник. Она была в платье и в фартуке, но босая. Эльна поклонилась, улыбнулась всем и разлила кофе по чашкам. После этого она вновь пропала на кухне.
— Эльна не сядет с нами? — спросила Анита.
— Она занимается кофе, — сказал сапожник. — Она придет и посидит с нами после третьей заварки… Я, пожалуй, пойду принесу рюмки. Мы выпьем пару рюмок кофе с водкой. Хотя вы, фру, наверное, откажетесь сейчас, посередине дня?
— Да, пожалуй, откажусь — сказала Анита. Сапожник и Петтерсон налили себе кофе с водкой.
— От Эриксона вам привет, — сказал сапожник. — Он хочет, чтобы ты сфотографировал его дом со стороны фасада. Иначе будет заметно, что он не успел подобрать разбросанное там сено. Траву косил Виклунд, и, как кажется, чуть не половину оставил на месте. Стыд один! Хорошая работа в наше время обходится слишком дорого.
— Хорошо, я сниму его дом так, что будет видно один фасад, — сказал Петтерсон.
— Выпейте кофе, фру, — предложил сапожник, — а мы нальем еще по рюмке.
Вошла Эльна, разлила кофе по чашкам и снова пропала.
— А как ты хочешь, чтобы я снял твой дом? — спросил Петтерсон.
— Тебе виднее. Снимай, как надо, только захвату мастерскую! Все-таки это в ней я зарабатывал себе на хлеб.
— Ты сам посмотришь через объектив и решишь, как снимать — сказал Петтерсон. — Я сфотографирую твой дом сколько хочешь раз. И пришлю сколько угодно снимков.
— Я за все заплачу. Ты не беспокойся! — заверил саложник.
— С деньгами уладим, — сказала Анита. — Как у вас здесь прохладно и красиво!
— У Эльны красиво, — согласился сапожник. — Эльна поддерживает здесь свой порядок. Даже я не знаю, что находится на всех этих закрытых полочках. Знаю только, что лежит сверху в сундуке. Я держу в нем кое-какие свои вещи.
Снова вошла с кофейником Эльна и налила всем кофе. На этот раз она пришла со своей чашкой и с подносом, на который поставила кофейник.
Сапожник передал бутылку Петтерсону, и тот налил себе еще рюмку водки с кофе. То же проделал сапожник.
— Может быть, у Эльны есть какие-нибудь пожелания? Я говорю о фотографиях, — сказала Анита.
— Фру спрашивает, какие ты хочешь фотокарточки? — выкрикнул сапожник.
— Я не знаю, — сказала Эльна. — Хочу только, чтобы меня на них не было. Я не хочу фотографироваться одна.
— Не бойся! — выкрикнул сапожник. — Сама загляни в фотоаппарат, если ему не веришь!
Эльна покраснела.
Она налила всем еще кофе.
— Очень жаль, — сказала Анита, — что вы не собрались все вместе и общего снимка не будет. Но, может быть, мы сфотографируем хозяев дома — Густафсона и Эльну?
— Не стоит, — сказал сапожник. — Не стоит этого делать.
Анита поняла его.
— Все, — сказал Петтерсон, — больше мне пить нельзя. По крайней мере, до того, как сфотографирую дома. Потом можно продолжить. Если, конечно, немного отдохнуть.
— Мы с Эльной так и собирались сделать, — сказал сапожник.
Петтерсон поднялся.
— Спасибо большое за угощение, — сказал он. — Пойду снимать. И начну, нравится это вам или нет, с развалин дома Ингвё.
Петтерсон ухватил штатив и фотокамеру и отправился в путь. Анита осталась поговорить с Эльной, а сапожник решил выйти, когда очередь дойдет до Выселок.
К памятнику старины он идти не хотел.
Петтерсон не торопился и работал тщательно. Сапожник помогал ему и заглядывал в объектив, когда снимали мастерскую и весь его дом с двух разных точек.
Ему очень понравились оба вида.
Он помогал Петтерсону и тогда, когда тот снимал дом Эриксона, хотя в объектив больше не заглядывал. Вместо этого Густафсон подробно словами описывал, какую часть дома надо захватить в кадр, а какую — нет.
Сапожник старался запоминать свои слова, ему предстояло дать обо всем отчет Эриксону.
— Эриксон больно беспокоился, что ты напечатаешь снимки его дома в газете, — сказал он.
Петтерсон заверил его, что не собирается этого делать.
Закончив работу, оба вернулись в горницу Эльны, но женщины к тому времени успели перейти на кухню. Туда же пошли и сапожник с Петтерсоном.
— Всё готово! — выкрикнул сапожник. — Он ловко работает, Петтерсон! Фотоаппарат у него отличный, Надо за это выпить!
— Эльна подарила нам красивое полотенце. Она сама сшила его, — сказала Анита Петтерсону. — Я не знаю, чем бы отдарить ее.
Сапожник и Петтерсон чокнулись.
Эльна улыбнулась и покраснела.
После этого гости распрощались с хозяевами. Петтерсону хотелось поблагодарить Эльну за полотенце, но он не знал, как это делается, и скомкал благодарственные слова: — Спасибо, большое вам спасибо! Еще увидимся!
— Честь вам и спасибо! — попрощался сапожник.
Петтерсон и Анита медленно брели с Выселок к опушке леса и вошли в лес. На пути они ни разу не оглянулись.
— Ты не сказал сапожнику, что мы не женаты? — спросила Анита.
— О чем ты? Я уже не помню, что ему говорил. Я столько выпил, что ничего не соображаю.
— Эльна сказала, что мы не должны говорить об этом сапожнику. Он бы нас не понял.
— А как узнала об этом Эльна?
— Мы не носим колец.
— Разве мы их не носим? Тогда я срочно займусь превращением фургона в пару колец.
— Ты хочешь на мне жениться?
— Ты рехнулась? Нам же понадобятся кольца.
Петтерсон остановился на дороге.
— Черт возьми, ну что прикажешь им делать! — сказал он. — У меня прямо перед глазами стоит эта картина, как они все четверо цепляются за угол дома, чтобы их не уволокли туда, куда они совсем не собираются.
— О чем ты говоришь?
— А ты считаешь, что они еще смогут здесь протянуть?
— Смогут. Смогут, пока у них есть Эльна.
— А потом?
— Потом я не знаю.
Анита пошла быстрее, за ней заторопился и Петтерсон. Он немного опьянел.
— Если бы я мог, я запретил бы эту тишину. Она, как… как бесконечная периодическая десятичная дробь, вот!.. Хотя с моим слухом запретить тишину непросто… Юсефа и ее двадцать детей будут сниться мне всю жизнь… Я не говорю уж о самом Ингве… Хотя я люблю его! Это я один люблю его!.. Разве ты не понимаешь, Анита, — я сообразил. Кто-то придет к ним, чтобы опоясать их чресла и увести туда, куда они не хотят.
— Ниссе, очнись! — сказала Анита. — Тебя дурачит лес. Держись за мою руку, городской мальчик, держись крепче, чтобы тебя не переехала машина! Мы уже у шоссе.
— Это шоссе, — бормотал Петтерсон, — это та самая узкая дорожка, о которой столько говорится в писании… Давай найдем дорогу пошире — ту, по которой идут нечестные, но страстные натуры!.. Закинь камеру на заднее сиденье, и поехали!
Петтерсон еще раз взглянул на озеро.
— Прощай, море Тиберия! Прощай, Око Ингве Фрея!
Анита завела машину и медленно подкатила ее к шоссе.
— Все-таки мы неплохо провели здесь время, — сказала она. — Мы хорошо погуляли. Я успела даже посадить земляничное пятно на платье… Поехали?
— Остановись! — вдруг закричал Петтерсон. — Остановись сейчас же!
Машина остановилась.
— Мы ничего не забыли? — спросил Петтерсон.
— Нет, кажется, ничего. Всё при нас.
— Скажи-ка мне быстро, Анита, когда любишь, какое еще возникает чувство?
— Не знаю. Наверное, чувство ревности. Да, сразу же возникает ревность.
— А против ревности есть только одно средство, — сказал Петтерсон. — Нужно спрятать от чужих глаз того, кого ты любишь… Мы все-таки кое-что забыли… Да выходи, выходи! Поможешь мне снять указатель, который поставил сапожник.
Петтерсон и Анита вышли из машины и общими усилиями сорвали крепко прибитую к столбу стрелку.
— Мы возьмем ее с собой. Повесим ее над кроватью, — сказал Петтерсон. — И никому не скажем, от-куда она у нас взялась.
С указателем под рукой Петтерсон перешел черен дорогу и взглянул на странное сооружение, которое сапожник считал своим почтовым ящиком.
Он взглянул на объявление сапожника: БОЛЬШЕ РАБОТУ НЕ ПРИНИМАЮ.
Он долго смотрел на надпись, словно не понимал, что эти слова означают.
Потом вернулся к машине, бросил указатель в багажник и сел рядом с Анитой.
— Поехали! — коротко сказал он. — Ну и лето выдалось!
XIV
Человек, который свое отработал, забылся у себя на чердаке неспокойным послеобеденным сном.
Ему кое-что приснилось.
Ему снилось, что свое он еще не отработал. Он сидел в мастерской, и вся она была завалена поношенной обувью, которую ему предстояло починить. Работа была срочная, и сапожник трудился в поте лица своего. Он стучал молотком, забивал гвозди, шил иглой, резал то хорошую натуральную кожу, то искусственную, то сырую резину, то картон, то пробку. Он чинил ботинки, наделяя их скрипом, или, наоборот, устраняя в них скрип. Люди, собравшиеся со всей округи, толпились босые у его мастерской и терпеливо дожидались своей обуви. А сапожник сражался то с детской обувью, то с грубой рабочей обувью, то с нарядными дамскими туфлями всевозможных видов: от простых с застежкой — до тонких модельных с позолотой на коже.
Сапожник спал, а пальцы его рук самопроизвольно шевелились, и проснулся он усталым и выдохшимся. Спина у него вспотела, и он подумал, что надо бы сменить на себе нижнее белье.
Он лежал и глядел на потолок.
Ему и раньше доводилось чинить во сне уже починенную днем обувь. Он привык, что не только дни, но и ночи его состояли из одной и той же работы.
Правда теперь, когда он свое отработал, чинить обувь во сне показалось ему крайне обидно.
Нужно найти какое-то новое, желательно, как можно более утомительное занятие, чтобы и подсознание ею примяло и усвоило тот неопровержимый факт, что мастерскую он закрыл навсегда.
Только что ему придумать?
Сапожник сел на кровать и просидел так несколько минут. Он посмотрел на часы.
Стрелки показывали четыре часа после полудня. Чувствовалось, что перед тем, как лечь, он крепко выпил Нужно было выйти прогуляться. Сапожник взглянул в окно. Погода стояла все та же, серая и унылая, но дождя не было. Можно выйти и погулять.
Он мог бы пойти к озеру поболтать с Петтерсоном и Анитой. Эльна еще спала, а больше на Выселках сейчас никого не было.
Сапожник сменил на себе белье, оделся и причесался. Потом он спустился по крутым неудобным ступенькам вниз и вышел наружу через парадную дверь.
Наверное, ему стоило бы переодеться в выходную одежду, ведь он шел к шоссе. Но, так как он все же шел не к шоссе, а к озеру, переодеваться в выходную одежду было ни к чему. Правда, он шел еще за свежей газетой. Он шёл, следовательно, к своему почтовому ящику и к озеру. Сапожник запутался.
Он медленно приблизился к опушке леса. Проходя мимо коровника, он вспомнил, что куры Эмана наверняка остались некормлены, взял косу, скосил немного свежей травы и бросил ее курам.
Потом, опершись на косу, он долго стоял на одном месте. Он глядел на поле за коровником, подмечая, что оно стало зарастать.
Лес оказался быстрее и, главное, упрямее, чем Эриксон и Эман. Трава на этом поле, видно, совсем не заинтересовала Виклунда, а, оставив на таком поле траву, защититься от наступления леса было невозможно.
Дренажные канавы по краям поля уже поросли молодыми березками, осинками, ольхой и ивняком.
Виклунда тоже можно было понять. Трава здесь росла ни на что не годная. В основном один татарник, копытник да ромашка.
Сапожник вышел на поле. Он вглядывался в него, вслушивался.
Над татарником и ромашкой должны бы порхать желтые и голубые бабочки. В цветках должны бы жуя£ жать шмели и пчелы.
С каких пор пропали здесь бабочки, шмели и пчелы.
Сапожник повернулся, пошел обратно и поставил косу на место у стены коровника. Он снова повернулся и пошел по тропинке в лес.
Он медленно шел к своему почтовому ящику.
Немного не дойдя до шоссе, он остановился, наклонил голову набок и прислушался. Он услышал белку, но, кроме нее, не услышал ничего.
Ни звука.
Он сделал еще несколько Шагов и оказался у своего почтового ящика. Газета валялась прямо на шоссе. Служащий, временно заменявший почтальона, просто вы-швырнул ее из машины.
Сапожник подобрал газету и сунул ее себе под руку.
Он уже увидел, что указателя над новым почтовым ящиком не было: Петтерсон уехал.
Он быстро перешел через шоссе и оказался у лодки.
Он сел в лодку и, зажав обеими руками голову, стал глядеть на озеро.
Где-то жаловался нырок.
Сапожник предчувствовал, что не застанет Петтерсона и Аниту. Но все-таки он очень удивился тому, как затосковал по ним.
Он даже улыбнулся, когда понял это.
Он улыбнулся над своим удивлением.
Но он не мог до бесконечности сидеть в лодке. Ему бы не хотелось, чтобы кто-нибудь застал его за тем, что он, бездельничая, сидит в лодке. До вечера оставалось еще слишком много времени.
Правда, он свое отработал.
Больше того, он известил об этом всю округу.
И все-таки вся натура сапожника противилась тому, чтобы в тишине и спокойствии наблюдать, как течет мимо него жизнь. Этому он еще должен был выучиться. Больше не оставалось ничего.
Человек, который свое отработал, закурил и пошел обратно домой.
Он прошел мимо причудливого большого валуна и мимо старого муравейника, взобрался на небольшой бугор и миновал бывшие ворота в бывшей каменной ограде.
У дверей коровника стоял Эриксон и жевал во рту былинку.
— Я хотел задать курам корму, но ты уже опередил меня.
— Да, — ответил сапожник.
— Поле зарастает, — сказал Эриксон. — Но вряд ли мы можем этому помешать. Лучше бы сами посадили на нем в свое время лес.
— Да, — повторил сапожник. И потом вдруг добавил:
— Они уехали.
— Понятно, — сказал Эриксон. — Наверное, им в конце концов стало скучно здесь, у шоссе. Парень привык к людям… Он сфотографировал дома?
— Да, — сказал сапожник. — Он сфотографировал наши дома. Он сфотографировал их точно, как мы хотели. Я сам смотрел через объектив.
— Он настоящий парень, — сказал Эриксон.
— Мы все здесь знаем, что он настоящий, — сказал сапожник. — И она тоже ему пара, хотя они и не расписаны.
Эриксон жевал былинку.
— Я ведь пришел сюда не из-за кур, — сказал он. — Мне нужно было встретить тебя… Эман умер.
— Что? — не понял сапожник.
— Звонил Виклунд. Эман трамбовал у него сено, и вдруг, работая, почувствовал, что ему нездоровится.
Он пошел в дом, чтобы немного отдохнуть, и когда Вик-лунд зашел за ним, то увидел, что Эман уже лежит мертвый.
— Эльна об этом знает?
— Нет.
— Что нам делать?
— Мало, что мы можем сделать. Виклунд не смог дозвониться ни до врача, ни до пастора. Он поехал на машине в город, чтобы приготовить все для похорон.
— Нам нужно сообщить Эльне, — сказал сапожник.
— Да, нужно, — сказал Эриксон. — А потом мы пойдем с тобой к Виклунду. Не стоит оставлять там Эма-на… Виклунд хотел заехать за нами на машине, но я сказал ему по телефону, что мы за то же время доберемся до него, если пойдем прямиком через лес. Мы пойдем вдоль линии электропередачи.
— Да, это займет столько же времени.
— На многих он работал, — сказал Эриксон. — И жаль, что умер не дома. Наверное, ему хотелось бы умереть дома… Он так и умер, работая на других. Нужно перевезти его домой.
— Нужно перевезти его, — повторил сапожник.
— Я поставил матрац от дивана на козлы, что стоят у тебя в твоем дровянике, — сказал Эриксон. — Мы положим его на матрац. В моем дровянике совсем нет места.
— Ты все хорошо сделал.
— Мы не можем оставить его у Виклунда. Это было бы неправильно.
— Это было бы неправильно, — повторил сапожник. — Нам не стоит оставлять его там.
— Нужно, наверное, переодеться. Одень сапоги! В лесу сыро.
— Надо все рассказать Эльне. Если она увидела в окно, как мы стоим тут и разговариваем, то уже, наверное, почуяла неладное.
— Зайдем на минуту ко мне, — предложил Эриксон. — Я согрел кофе. Может быть, нам стоит выпить по рюмке водки.
— Пожалуй.
Старики пошли к дому Эриксона.
— Странно все-таки, что нет больше такого человека, как Эман, — сказал Эриксон. — Он был такой сильный и выносливый… У скольких хозяев он работал, а вот теперь отошел совсем незаметно. Незаметно, что его больше нет.
— Да, — сказал сапожник. — Это совсем незаметно. Попили кофе на кухне у Эриксона и выпили по рюмке водки. Разговор не клеился, каждый думал о своем.
— Ты лучше обедай теперь у нас, — предложил сапожник. — Эльне все равно готовить, что на двух, что на трех.
— Как Эльна примет все это?
— Не знаю. Я пойду и расскажу ей. Потом вернусь сюда.
Сапожник ушел.
Он решительно шагнул в горницу Эльны и рассказал ей обо всем, что случилось. Потом вернулся к Эриксону.
— Эльна сказала, чтобы мы надели наши лучшие костюмы, — сказал он. — И давай поторопимся!
Сапожник переоделся в своей комнате на чердаке и затем сошел вниз к Эльне, которая, сложив руки на коленях, тихо сидела на скамье.
— Съешь бутерброд на дорогу! — сказала Эльна. Сапожник отрицательно покачал головой. Эриксон был уже готов и ждал его у двери в мастерскую.
Старики углубились в лес и пошли просекой вдоль линии электропередачи. Когда они проходили мимо летнего коровника и развалин старого дома, Эриксон сказал:
— Эмана теперь никто не примет за памятник старины.
— Да, никто не примет, — подтвердил сапожник.
— Может, ты теперь будешь помогать мне по хозяйству? — спросил его Эриксон. — Здесь есть еще, к чему приложить руки… Обуви ты больше не чинишь.
— Да, с этим делом покончено, — сказал сапожник. — Починкой обуви я больше не занимаюсь… Я мое отработал.
Примечания
1
Пер. М. И. Стеблин-Каменского. — В кн.: Круг Земной. М., 1980, с. 16.
(обратно)


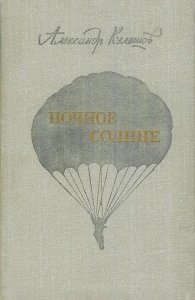


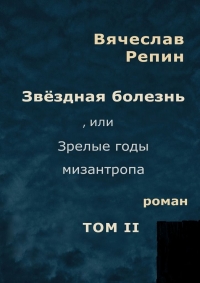

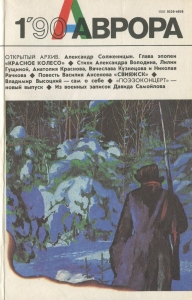
Комментарии к книге «Мы Любим Ингве Фрея», Стиг Клаэсон
Всего 0 комментариев