БОНУС. ОТШЕЛЬНИК
Я обладал тобой, как в сновиденьи,
И был царем — до мига пробужденья.
(с) Уильям Шекспир
Я отпустил ее? Нееет. Отпускать – это не то слово. Я ее оторвал от себя с кусками своего мяса, сухожилий, обрывками оголенных нервов. И стоял там у окна, истекая кровью, потому что выковыривал ее из своей грудной клетки голыми руками, разодрал плоть, обхватил пальцами дико пульсирующее сердце, наполненное ею, и вышвырнул в распахнутое окно. Думаете, это было просто? Вам когда-нибудь приходили в голову мысли о суициде? Неважно какие? Пусть даже просто мимолетные? Что они вызывают… вот эти жуткие мысли о собственной смерти от своих же рук? Панику? Ужас? Боль?
Считаете, самоубийца решается на этот шаг спонтанно? Нееет! Этому предшествуют месяцы боли, взвешивание всех плюсов и минусов, попытки себя уговорить, прислушаться к уговорам других, справиться с дикой агонией, найти причины остаться в живых, смысл этой самой жизни. Пресловутый и воспетый всеми психиатрами, считающими, что его можно отыскать во всем, стоит лишь захотеть. Грязная ложь, призванная обчистить ваши карманы и накормить вас пилюлями. За которые фармацевтические компании будут класть себе монетки в карманы чистеньких пиджаков и отутюженных рубашек. Иногда он исчезает этот смысл и нет его, сука, больше ни в чем. Весь мир изменяет цвет на черно-серый, даже солнце кажется тусклым, как с негатива. Вот тогда смерть представляется каким-то сказочным избавлением от панической тоски по тому, чего никогда не случится.
Но это все не то… я не покончил жизнь самоубийством, отпустив ее. Потому что самоубийство – это слишком просто и трусливо. А я любил ощутить всю меру боли, монстра надо наказать за то, что посмел мечтать о слишком многом и тянуть свои лапы к свету. Все было намного хуже, я перебил себе хребет, вывернул себя наизнанку раздробленными костями и остался жить вот в этом несовместимом с жизнью состоянии. Без кожного покрова, с оголенными проводами нервов под обугленным от ожогов мясом. Больно? Да, мне больно, но, оказывается, в этом и был весь смысл – болеть ею.
Понять, что я ничтожный червь, недостойный ползать и извиваться у ее ног обычным куском дерьма.
Я сделал этот первый шаг в самое пекло - приехал к ней домой. Словно вошел в иной мир и увидел его ее глазами. Чистыми, не замутненными грязью, ложью и лицемерием. Глазами, умеющими смотреть на мир с состраданием и любовью. Это как чудовищное откровение – вдруг увидеть то, чего у тебя никогда не было, и понять, что значит истинное и абсолютное обожание матери своего ребенка, что значит фанатично ценить свою семью, даже если она тебе не дала ничего кроме куска хлеба, стакана воды и ЛЮБВИ. Именно так. Заглавными буквами. Все блага мира меркли перед этим несметным богатством – быть кому-то нужным и, да, быть чьим-то смыслом жизни. Тем самым, который я с кровью и мясом отдал этой худенькой, поседевшей и осунувшейся женщине, похоронившей сына.
Я, как самая грязная тварь, выползшая на свет, начала щуриться и верить, что не так уж она и отвратительна, если солнце и ее греет. А потом вдруг понял, что я и Надя – это два разных мира, и я не имею никакого права тащить ее за собой в мою липкую и вонючую реальность. Смотрел ее фотографии, где она такая юная, чистая… где она, в жизни до меня, искренне смеется, радуется просто тому, что живет, а перед глазами стоит ее заплаканное лицо с неизгладимой грустью в огромных глазах. И я вдруг понял… понял, что готов сдохнуть, лишь бы она улыбалась и была счастливой… даже не со мной. Хочу знать, что солнечная девочка больше никогда не заплачет. А я… я без нее сколько смогу, столько и проживу, просуществую, проползаю в своей тьме наощупь. Ведь у меня света больше не будет.
Самое сложное было не отпустить ее, а заставить поверить, что я ее использовал, заставить поверить, что я и есть то самое чудовище из ее кошмаров, которое обглодало ее душу. Слышать ее рыдания, мольбы и проклятия и не ответить на них. Молчать и проклинать себя. Но я верил, что душа Нади исцелится. Она еще не успела испачкаться и испортиться из-за меня. К ней не пристало ни одно пятно от моих лап, которыми я осквернял ее чистоту и марал ее сердце. Она сможет. Моя девочка очень сильная, и я, скорее всего, ей и на хрен не нужен.
Когда она кричала и звала меня, я делал то же, что когда-то делал после очередного ухода отца из дома – я срезал кожу на запястье. Ровными полосками сдирал ее, и эта боль все равно не могла заглушить ту, что причинял ее уход. Оказывается, остаться одному в своей замогильной клетке было до дикости страшно… ведь я успел поверить, что и у монстров есть шанс стать человеком.
Там у окна, когда она посмотрела мне в глаза своим дождливым небом, затекающим каплями слез, я пригвоздил ножом к подоконнику ту руку, что хотела дернуть ручку и распахнуть его настежь, чтобы я, жалкий и ничтожный слабак, не заорал ее имя и не позвал обратно, чтобы не упасть перед ней на колени, не вцепиться в ее ноги и не рычать, как безумный: «не пущу… будь оно все проклято – не пущу!». Но ведь тогда все мои чувства к ней не более, чем мой личный эгоизм… а я боготворил солнечную девочку так, как люди не боготворят святых. Я мечтал для нее, о ней. Представлял ее свободной, загибался от боли, но не смел даже подумать о том, чтобы лишить свободы снова.
А потом я превратился в ничто. В нечеловека, в неживотное, в ничтожество, которое заливалось алкоголем до беспамятства и спало на полу в подвале, окруженное ее портретами, ее запахом на кушетке. Мне стало плевать на бизнес, на сделки, на все… Марк махнул на меня рукой и занимался всеми моими делами, пока меня разрывало на куски от одиночества и звериной тоски по своей девочке.
Там, в ее доме я оставил себе маленькую надежду, сложенную вчетверо. Надежду, что она все же со мной, потому что я ей был нужен, что все, что сказано было ее губами на мне, подо мной, мне – правда. Но чем больше времени проходило, тем больше я понимал, что нет… что все было лишь жалкой мечтой и иллюзией. Она избавилась от монстра и начала жить в свое удовольствие. Она получила то, что жаждала всей своей душой – свободу от меня! Но я перевел на ее счет достаточную сумму денег, чтоб она стала по-настоящему свободной и жила так, как всегда мечтала, если даже не захочет ко мне вернуться. Перевел в тот же день, когда и оставил ей записку. Хотя… я пытался осуществить ее мечту и вместо этого отнял ее навсегда. Ни мои деньги, ни мои связи не спасли ее брата. Мне было больше нечем держать Надю… и стало незачем. Я хотел, чтоб она была со мной, потому что ей это нужно. Мне стало ничтожно мало просто ее присутствия и тела. Но, оказывается, солнечной девочке было больше нечего мне предложить.
После недели беспробудного запоя, я жестко выдернул себя из него и поехал к ней. Да, я это сделал. Поехал следом, чтобы таскаться всюду в машине с затемненными стеклами и подыхать от желания выйти и прикоснуться к ней, дотронуться хотя бы кончиками пальцев до ее лица. Я все еще надеялся… что пройдет еще один день и еще один – она вернется. Поймет и вернется ко мне.
Но она не возвращалась – она жила дальше своей жизнью. А я… я все еще жил ею. Последней точкой стало известие о ее беременности. Как же я ждал, что она сообщит мне. Я стискивал смартфон в руках двадцать четыре часа в сутки, я на него молился, но она не звонила. И когда увидел ее в одной из клиник… испугался, что избавится от ребенка. Это был дичайший ужас, это было ожидание смертельного удара… но она оставила. Конечно, оставила. Моя нежная девочка с сердцем размером с Вселенную (где все равно не нашлось мне места) не смогла бы так поступить. Только не она.
И тогда я уехал. Не смог больше видеть, как она без меня… Может, кто-то на моем месте потребовал бы законных прав на ребенка, встреч, попытался бы этим манипулировать… но не я. Каким отцом может стать такой, как я? Что я дам своему ребенку? То, что мне в свое время дал мой отец? Я слишком жуткое отродье, чтобы пытаться трогать своими грязными лапами ее ребенка. Раз не сообщила, то моим она его точно не считает. И я решил, что это ее право. Я отнял у нее достаточно, чтобы она заслужила эту счастливую жизнь без меня.
Думал, на расстоянии станет лучше. Надеялся, что исцелюсь и сам, но при этом понимал, что против смертельных заболеваний лекарства еще не придумали, а я болен настолько тяжело, что хриплю в агонии, и нет ни единого шанса, что процесс будет обратим. Приговор вынесен и даже приведен в исполнение.
Я подолгу смотрел на свое отражение в зеркале и говорил сам с собой, говорил с отражением, которое показывало Огинского далеко не Франкенштейном, но я-то знал, что оно лжет. Знал, что там под идеальными чертами лица живет жуткий урод с оскалом вместо рта. Иногда мне хотелось срезать с этого лица маску и посмотреть на то прежнее лицо. Настоящее. Лицо, которое все боялись и ненавидели. Меня тошнило от фальшивой и правильной рожи, вылепленной докторишками, плебеями моего отца. Сам не знаю, какой дьявол в меня вселился, но я уволил всех слуг, раздал им пособие и рекомендательные письма. Уволил весь персонал к такой-то матери. Разогнал всех до единого. Дом опустел. Мы остались с ним наедине. Два одиноких монстра.
Дальше я смутно помню, что происходило, я, видимо, полил все здание бензином и подпалил, бросив зажигалку. Я видел, как все горело, включая ее дневники. Те самые проклятые дневники или письма, или что она там писала в своей тетрадке, лживое и пустое, как и моя вера в то, что меня можно любить… Они горели. А я бросал в языки пламени один за другим листы бумаги и выл зверем. Какая разница теперь, какой облик примет мое безумие, ведь мы наедине - я и мои дьяволы, мы сожжем дотла эту обитель, где призрак моего отца карабкается по стенам и, развернув голову задом наперед, скалится на меня дикой и злорадной ухмылкой.
«Ты похож на меня, Роман, ты такой же конченый и гребаный ублюдошный сукин сын».
«Нееет, мы с тобой разные… ты готов был убить каждого, кто мешал тебе жить, как ты хотел, а я сожгу и тебя, и себя, чтобы не жить так, как когда-то жил ты. Я убью тебя два раза, отец. Тебя и тебя во мне».
«Дааа, мой мальчик, сжигай все к такой-то матери и себя не забудь, потому что самое мерзкое в этом доме – ЭТО ТЫ! До твоего рождения здесь проходили балы, здесь смеялись гости и родня, а когда ты родился, этот дом превратился в склеп. Уничтожь и его, и себя!».
Нет, любви не существует, у той дряни, которая поразила меня, совсем иное название, и я его так ни разу не услышал и не произнес, потому что оно нечитабельно и не произносится вслух, как самое тяжкое проклятие. И я смотрел, как преисподняя разверзлась перед моими глазами… а потом я все же вынырнул из тьмы.
Ослепленный вспышками боли, я орал. А может быть, мне казалось, что я ору, потому что мое горло разрывало на части. Задыхаясь от дыма и от хохота, я вдруг понял, что лежу на выгоревшей лужайке перед пылающим домом, где-то вдалеке пищат серены, и в этот раз мне не удалось отправиться в ад. Наверное, в этом и есть мое наказание – продолжать агонизировать бесконечно.
Потом, когда наконец-то смог встать с больничной койки и увидеть свое лицо, я весело рассмеялся. Я хохотал, как умалишенный психопат – Франкенштейн вернулся. Вот он - смотрит на меня больными глазами и ржет вместе со мной. Мы с ним узнали друг друга - больше нет масок. Вот они мы настоящие. Я и мое отражение. Я отказался от пластических операций. Зачем? Прошли те времена, когда меня волновало чье-то мнение о моей внешности. Теперь я наслаждался, когда в глазах собеседника мелькал ужас. Мне нравилось поворачиваться той стороной, где кожа было искореженной уродливыми шрамами, а потом смотреть, как мой оппонент прячет взгляд. Выбивать их из привычного комфорта своим уродством и упиваться реакцией. Страх был вкуснее всех из них, и самой кислой – жалость. Едва ощущал ее – выносил приговор. Мог просто разнести чью-то компанию, чтоб вместо жалости ненавидели и боялись.
Почти сразу я переехал в дом своего дяди. Мне там было намного уютней, чем в своем склепе, который сгорел и не оставил во мне и следа сожалений. Мать умерла спустя несколько недель. То ли ее добило сожжение дома, то ли она переволновалась за меня (что маловероятно), но ее сердце не выдержало, и она просто не проснулась в одно хмурое дождливое утро. Я организовал ее похороны и закопал ее рядом с отцом. Как хотела она и ужасно не хотел он. Насолить ублюдку было приятно даже спустя много лет после его смерти. Пусть лежит под ее истерическим надзором и проклинает меня с того света. Было ли мне жаль свою мать? Не знаю. Возникла еще одна дыра в груди. Болела ли она? Наверное, когда у человека переломаны все кости и он еле дышит от боли, он не заметит, если ему сломать еще одну.
Мне болело… но я воспринял это как должное. Для меня она умерла много лет назад, когда я держал ее за ноги и обмочился от ужаса.
А потом в одну из бессонных ночей вдруг понял, что одиночество сводит меня с ума. Не помню, как оказался у приюта и забрал того пса. Самое смешное - я не мог его найти среди всех лающих существ, а он… он меня узнал. Хромоногий Лавруша и обгоревший Огинский составили прекрасную пару. По вечерам я выжирал коньяк, а он грыз свою кость рядом и иногда отбирал у меня бокал. Мы ругались, и я уступал ему, отдавал бокал и засыпал на диване, иногда прямо в туфлях. Во сне чувствовал, как мой пес стягивает их с меня. Иногда смотрел на него и вспоминал, как Надя гладила эту страшную морду и трепала за ушами. Я тогда ужасался ее поступку. Мне казалось, что после этого нужно непременно отмываться в хлорке и сжечь всю одежду.
Бывало, я все же не выдерживал и требовал сообщить мне - что она сейчас делает. Как и раньше. За ней постоянно следовали мои люди. Не потому что я следил за ней, а я боялся, что ей могут навредить.
У меня хватало врагов. Один Неверов чего стоил. Но ему мы с Марком приготовили западню, и он вот-вот должен был в нее попасться… Только вместо Неверова в западню попалась моя солнечная девочка.
Я сам себе не поверил, когда мне доложили, что она приехала к сгоревшему Багровому закату. Боль захлестнула с новой силой. Боль и злость какая-то неуправляемая. Я не хотел, чтоб она меня нашла. Запретил всем говорить - где я.
Но… я не знаю, какие дьявольские силы помогли ей меня найти. Даже Марик не сразу смог. Первые дни я валялся тут в одиночестве и не хотел видеть даже его. А ведь я ее почувствовал. Знаете, как собака чует хозяйку, сначала вскидывает голову, шевелит ушами, ведет носом, а потом вскакивает на все четыре лапы и несется как ошалелая. Так и я вскочил с дивана и бросился к окну при звуке подъезжающей машины.
Светящиеся шашки такси в кромешной тьме полупустого района мерцали желтыми огоньками. Сюда больше не к кому приезжать, я купил все здание целиком, и в нем кроме меня никого не было. Увидел ее и глаза закрыл. Грудную клетку тут же разворотило изнутри и обожгло, как серной кислотой. Нашла! В это не верилось так же, как и в то, что она вообще находится здесь так близко ко мне. Не верилось, как людям не верится во все потустороннее. Я задернул штору и выключил свет. Спрятался в привычной темноте.
На меня обрушилась свинцовая глыба понимания – я не должен ее сюда впустить. Не должен принять ее жалость за что-то иное и довольствоваться этим, пользуясь ею и отбирая ее жизнь и ее выбор. Потому что жалость – это не выбор. Это слабость, в которой чаще всего придется сильно раскаяться. Я надеялся, что она решит, что здесь никого нет, и уйдет, но Лавруша… чтоб его! Он ее узнал и взвыл, завизжал, всеми своими собачьими силами стремясь к ней, к его спасительнице. Мы вместе с ним стояли по ту сторону от двери, он драл ее лапами, а я ногтями, прислонившись к ней лбом и открыв рот в немом вопле. Каждое ее рыдание, как плетью по обнаженному мясу, каждое слово - ржавыми гвоздями под ногти. Уходи, малышка! Уходи! Нет меня здесь… остался только монстр жуткий, и ему больше нечего тебе предложить, кроме уродливой морды и развороченной грудины без сердца, ты ведь его забрала и раздавила своими маленькими ножками.
– Ромаааа, открой мне. Я знаю, что ты там. Слышишь? Я знаю! Впусти меня!
Господи, маленькая, куда впустить? Обратно в бездну, в логово больного зверя? Зачем? Я же заразный. Уходиии! Твоя жалость ему не нужна!
– Почему ты делаешь это с нами? С собой? Зачем ты себя наказываешь? Боишься меня? Боишься, что я причиню тебе боль? А про меня ты подумал? Подумал, какую боль ты причиняешь мне. Сколько боли ты обрушил на меня за все это время и продолжаешь рвать меня на части. Я полумертвая, Ромаааа. Ничего не хочется без тебя. Только одно и держит… слышишь? Что ж ты за зверь такой, чудовище, готовое корчиться от боли и грызть до костей других, но не позволить приблизиться к себе. Впусти! Меня!
Нет, девочка, ты живаяяя! Это я гниющее ничто, которое заразит тебя своим разложением. Что ж ты мне душу рвешь, Надяяя?! Замолчи… не говори больше ни слова! Не смей! А самого трясет, и я бьюсь лбом о дверь, раздирая обивку ногтями все глубже. Там, в нескольких сантиметрах наркотик… там чистейшая доза забвения, за дверью жизнь, и мне страшно ее впустить, чтобы тошнотворный запах моего мрака не сожрал ее нежный аромат. Наверное, я заорал, когда услышал ее удаляющиеся шаги. Да, я орал… ментально орал так, что мне казалось, у меня из ушей льется кровь и все стекла в доме потрескались. Я орал ей «не уходииии». Беззвучно и в то же время так громко, что сам ослеп и оглох.
И вдруг меня словно вышибло из реальности мощным безжалостным ударом прямо под дых - я снова услышал ее голос:
– Я люблю тебя, Роман Огинский. Слышишь, упрямое чудовище? Я тебя люблю! Я хочу быть с тобой… и мне плевать – есть у тебя деньги или нет. Плевать, какой ты сейчас - красивый или страшный. Я тебя люблю, ясно?! Люблю тебяяя, Ромааа! Это тыыы! Ты не умеешь любить, и нет… нет, никто тебе не нужен! Никто!
И я проиграл… щелкнул замком и отчаянно обессиленный этой войной с самим собой застонал вслух ее имя.
Не помню, что она мне говорила, когда нашла меня у окна… я не слышал, это было неважно, у меня в голове взрывалось ее «я люблю тебя, Рома» тысячами брызг, ослепляя и заставляя сходить с ума от… нет, не счастья, у всего, что связано с ней, нет никакого названия. Счастье слишком ничтожно по сравнению с тем, что испытывал тогда я.
Я только помню, как раздевал ее, снимал с нее мокрые вещи одну за другой, словно разворачивая диковинный подарок, согревал в своих руках ее ступни, ее пальчики на ногах и на руках, целовал каждый миллиметр ее тела и трясся от бешеной одержимой любви и от нахлынувшей похоти, утопающей в болезненной нежности. Никогда еще я не испытывал к ней подобный дьявольский коктейль из всего, что мужчина может чувствовать по отношению к женщине.
Словно узнавал заново ее тело, отыскивал на нем знакомые родинки, обводил пальцем мой любимый шрам от аппендицита, которого она так стеснялась, осыпал поцелуями выпуклый живот, дразнил кончиком языка ее соски, уже давно кончив прямо в штаны, едва лишь увидел ее грудь обнаженной и коснулся руками, сосал самые кончики, слегка покусывая, и возбуждался снова от ее тихих стонов вперемешку со слезами.
Я ласкал ее, а она плакала и стонала, извиваясь и выгибаясь навстречу моему рту. В эту ночь я любил ее только ртом. Каждый клочок ее тела зализывал, как голодный зверь. Мне не хотелось ее сожрать, мне хотелось всю ее исцеловать и вылизать, пометить собой во всех уголках и складках ее тела, слизать с нее все чужие запахи.
Когда добрался до ее нежных мокрых складочек, раздвинул дрожащими пальцами и кончил еще раз, едва кончик языка дотронулся до пульсирующего клитора, и она распахнула ноги шире, выстанывая хрипло:
- Ромааа, - а меня прострелило острейшим оргазмом, и я принялся жадно вылизывать ее под собственные судороги, пока она не потекла мне на язык вслед за мной, заставляя рычать от удовольствия, судорожно сжимаясь в сладких спазмах наслаждения. Да, я рычал от ее оргазма громче, чем от своего собственного. Меня от него выкручивало и колотило крупной дрожью.
А под утро, обессиленная моими ласками, она обхватила мое лицо ладонями и прошептала:
- Я хочу быть твоей, Рома. Всегда. Всю жизнь хочу быть только твоей. Всегда, слышишь?
Я кивал и не мог сказать ни слова, зарываясь лицом в ее волосы и привлекая к себе на грудь. Ты и так моя, солнечная девочка. Оказывается, ты больше моя, чем я сам мог подумать. Ты – это я. Моя самая лучшая часть.
Просто я не знал, что ты есть… и что ты отыщешь меня среди моего мрака.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg







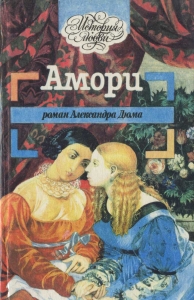

Комментарии к книге «Отшельник (Бонус от автора)», Ульяна Соболева
Всего 0 комментариев