Дж. П. Моннингер Пойми и прости
Андреа и Кристине
Я хотел бы закапывать что-то драгоценное в каждом месте, где когда-либо был счастлив, чтобы потом, будучи старым, безобразным и несчастным, вернуться, найти эту вещь и все вспомнить.
Ивлин Во. Возвращение в БрайдсхедПролог
Выпускной
Среди всех людей есть лишь один человек, который идеально сфотографирует тебя и двоих твоих лучших друзей в тот самый день выпуска из Амхерстского колледжа в штате Массачусетс, и это твоя мама. Как известно, мамы паршиво справляются с камерами и просто ненавидят, когда их просят фотографировать, но, используя свою особую материнскую магию, прежде чем взрослая жизнь навсегда тебя поглотит, мама изо всех сил старается тебе угодить и запечатлеть знаменательный момент. Удивительно то, что этот снимок совсем не похож на все остальные, которые так любят родители, — где ты шагаешь к сцене и позируешь в выпускном платье. На этом снимке вас трое — молодые девушки, вся жизнь впереди, вечерние платья колышутся от мягкого бриза Новой Англии, а амхерстские дубы стремятся прямо к солнцу, пока вы гордо держите свои фальшивые дипломы прямо над головами — это обязательное явление на всех выпускных. И никто другой. Не твои родители, не подруга Констанция со своими сестренками в милых сарафанах. Не выдача диплома, не рукопожатие с ректором и даже не заключительный момент, когда все подбрасывают свои идиотские шапки вверх, словно квадратные вращающиеся летающие тарелки.
Это что-то одновременно значимое и неважное. А этот снимок в профиль, на котором вы сидите на складных стульях, щурясь от солнца и немного приподняв головы, чтобы лучше слышать торжественные речи! Люди, сидящие рядом, притворяются, что не замечают фотографа, который вот-вот нажмет на кнопку. Твоя мама, словно ниндзя, изворачивается, фотографируя вас, но Констанция все равно оказывается на первом плане. Светловолосая и полная надежд, такая добрая и до того невинная, что при ее виде к горлу подступает ком. Затем Эми, темноволосая и задумчивая, но в то же время душа компании, которая не может жить без смеха, шуток, дикой энергии, подколов и поддержки. В ее глазах всегда покой и доброта. Да, она тоже смотрит немного вверх.
А потом уже ты. Глядя на девушку на фото снова и снова, десятки, сотни раз, ты пытаешься понять, уловить эмоцию в ее глазах. Кто эта выпускница факультета маркетинга, дважды стажерка, девушка, которую в конце лета ждет престижная прибыльная должность специалиста инвестиционного банка? Ее уже не узнать: за последние четыре года она неимоверно изменилась, стала рассудительнее, возможно, мудрее. На смену девочке пришла женщина. И все же смотреть на нее просто невыносимо, потому что видишь ее прежнюю уязвимость, недостатки и стремление быть лучше. Ты третья среди своих подруг, та самая помешанная на порядке, которая постоянно решает вопросы, та, к которой всегда обращаются за помощью и советом. Цвет твоих волос — где-то посредине между светлыми локонами Констанции и угольной копной Эми. Ты — кость, когда они — хрящ, ты — гравитация, когда они — полет.
Одно мгновенье за все четыре года. Оно охватило все на свете. Через каких-то пару недель вы уже будете в Европе — как говорят, колесить по земному шару, изучать исторические места и просто потрясать этот чертов мир, но сейчас, в этот самый момент, вы на пределе всего возможного и невозможного. Твоя мама видит и понимает это, но теперь ты смотришь на фото и не можешь не думать о том, что в тот самый миг ваши сердца бились в унисон и в каждой из вас было то чувство — чистое и бесконечное чувство, — что вы можете доверять друг другу до конца жизни.
Это последний миг перед тем, как в твоей жизни появится он, — миг, когда ты даже не можешь об этом догадываться. Конечно же, позже ты будешь думать, где же он был в тот самый момент, когда именно он решил подойти к тебе, и вспоминать, как мир остановился для вас двоих. Твоя жизнь больше никогда не будет прежней. Вся твоя жизнь до встречи с ним будет казаться сплошным ожиданием, зависшим в воздухе, а сама встреча — судьбой, счастьем и неизбежностью. Джек, твой Джек, твоя единственная большая любовь.
Часть первая
Амстердам
1
Вот в чем загвоздка: все это не приключилось бы, если бы поезд до Амстердама не был переполненным. Эта толкучка была невыносимой, каждый жаждал сделать хоть глоток свежего воздуха, каждый кипел от злости, и я, сев на свободное место, тут же опустила голову, пытаясь не смотреть по сторонам. Я читала «И восходит солнце». Да, это традиция: выпускница колледжа читает Хемингуэя во время первого путешествия в Европу с подругами. Но мне было плевать. Немного ранее я уболтала Констанцию и Эми выпить по чашечке кофе с коньяком в парижской кофейне под названием «Два маго» и побыла в компании голубей в Люксембургском саду. Мне не хотелось покидать Париж. Не хотелось прощаться с широкими аллеями, народом, играющим в боулз в саду Тюильри, кофейнями, крепким кофе, смешными маленькими клаксонами на мопедах, картинами, музеями и масляными блинчиками. Не хотелось прощаться с ранними утрами, когда работники кофеен подметали брусчатку и поливали клумбы серебристой водой из черных шлангов, с вечерами, когда можно было учуять запах дыма и каштанов, а старички с длинными удочками сидели у воды на треногих табуретах, время от времени забрасывая леску с наживкой в Сену. Я не хотела покидать книжные лавки на набережной, заплесневелые полки, уставленные старыми, пожелтевшими книгами, уличных художников, которые приходили к реке и рисовали маслом немыслимые пейзажи, которые никогда не смогут заменить те неописуемые пейзажи. Не хотела забывать «Шекспира и компанию», английскую книжную лавку, далекое эхо Хемингуэя и Фитцжеральда, ночные купания в фонтане Риц и прищуренные глаза Джойса, проедающие твое сознание, как голодная мышка. Я не хотела расставаться с горгульями, с их удивительными каменными глазами, глядящими сверху вниз с кафедральных соборов, Нотр-Дама и сотни других церквей. На их белых лицах иногда виднелись таинственные черные прожилки, словно камень тоже может плакать.
Говорят, невозможно покинуть Париж — он сам уйдет из твоего сердца, если захочет.
Я же попыталась увезти Париж с собой. В Париже я читала «Праздник, который всегда с тобой», «Прощай, оружие!» и «Смерть после полудня». Все эти книги были на моем iPad — такая вот карманная библиотека Хемингуэя, — и, хотя я путешествовала с Констанцией и Эми, Хемингуэй тоже был со мной.
Так вот, я читала. Было уже достаточно поздно. Наши путешествия по Европе длились две с половиной недели. Впереди был Амстердам. Констанция уснула рядом со мной — она читала «Жизнь святых», совершая собственное духовное путешествие, изучая все, что только связано со святыми, и любуясь каждой статуей, поставленной в их честь. У нее была особая страсть к теме своей диссертации — агиография. Эми протиснула голову в щель между нашими сиденьями и завела разговор с поляком по имени Виктор. От Виктора пахло сардинами, на нем была камуфляжная куртка, но Эми продолжала пихать меня в бок локтем каждый раз, когда он говорил что-то, на ее взгляд, милое. Ее голос тут же стал высоким и мелодичным, а это значило, что она пытается очаровать парня. Виктор был привлекательным и обаятельным, его голос был хрипловатым, как у Дракулы, и Эми, очевидно, питала огромные надежды.
Именно тогда и появился Джек.
— Не могли бы вы подержать? — спросил он.
Я не обратила внимания. Не поняла, что этот вопрос адресован мне.
— Мисс?
Затем кто-то повесил рюкзак мне на плечо.
Я посмотрела вверх. То была наша первая встреча.
Мы уставились друг на друга, не в силах отвести взгляд.
— Что? — спросила я, осознав, что пора заполнить паузу.
Он был прекрасен. На самом деле этого описания мало. Он был очень высоким, метра два, и к тому же стройным. На нем были обычные оливковая толстовка и синие джинсы, но то, как они на нем сидели, делало этот наряд самым оригинальным в истории нарядов. Кто-то или что-то однажды сломало его нос, и теперь он изгибался в форме апострофа. У него были хорошие зубы и улыбка, украшенная ямочками на щеках. Совсем скоро он тоже поймет, что это оно. Его волосы были черными и кудрявыми, но не афро, а как у члена Общества мертвых поэтов. Я не оставила без внимания и его руки; они были огромными и тяжелыми, будто он не боялся работы, и напомнили мне — всего немного, совсем чуть-чуть, потому что это звучит глупо даже в мыслях, — руки Хью Джекмана, мать его, Росомахи. Этот парень казался безразличным, тщательно растягивая слова. Тем не менее подмигиванием он дал понять, что его что-то рассмешило и он захотел поделиться этим с тобой. Было неясно, в чем дело и как это относится ко мне, но уголки моих губ предательски приподнялись. Меня разозлило, что он заставил меня улыбнуться, и я попыталась опустить взгляд, но его глаза не позволили мне это сделать. Он ехидно пялился на меня, а затем я снова услышала его просьбу.
— Пожалуйста, не могли бы вы подержать это, пока я взберусь наверх? — спросил он, снова протягивая мне рюкзак. Он не отводил взгляд.
— Взберетесь куда?
— Сюда, наверх. На багажную полку. Вот увидите.
Он взвалил свой рюкзак мне на колени. И я подумала: «Ты мог бы оставить его в проходе, Росомаха». Но затем он достал спальный мешок, расстелил его на багажной полке напротив меня, и я не смогла не оценить его способности. Меня впечатлила его широкая спина, и, когда он наклонился за рюкзаком, я смущенно опустила взгляд.
— Спасибо, — сказал он.
— Не за что.
— Джек, — сказал он.
— Хезер, — сказала я.
Он улыбнулся. Устроил рюкзак вместо подушки и взобрался наверх. Полка оказалась слишком узкой для него, но он втиснулся и пристегнулся ремешком, чтобы не упасть, если поезд будет слишком качаться.
Он взглянул на меня. Какое-то время мы снова не могли оторвать друг от друга взгляда.
— Спокойной ночи, — прошептал он.
— Спокойной ночи, — ответила я.
2
Звучит глупо, но по тому, как человек спит, можно много чего сказать о его характере. Люблю наблюдать за спящими людьми. Иногда я даже фотографирую их, хотя Констанция и говорит, что это странно. Во всяком случае, я наблюдала за Джеком в небольших вспышках, как в кино. Поезд мчался вдоль уличных фонарей, которые периодически освещали его лицо. По выражению лица спящего человека можно понять, спокоен ли он, трус или смельчак, весельчак или серьезный.
Джек спал мирно, лежа на спине. Его ресницы были густыми — да, у него отличные, пушистые ресницы, — а зрачки время от времени шевелились под веками в фазе быстрого сна. Его губы приоткрылись, слегка оголив зубы, а руки скрестились на груди. Этот мужчина был просто прекрасен, и я дважды поднималась на ноги, чтобы размять спину и полюбоваться на него поближе. Черно-белые вспышки напомнили мне фильмы Феллини.
Я все восхищалась им, когда вдруг зазвонил мой телефон. Мамазавр.
— И где теперь моя любительница приключений? — спросила мама, попивая утренний кофе. Я представила ее на нашей кухне в Нью-Джерси, ее наряд ждет на вешалке на втором этаже, пока она пьет кофе и ест свой безуглеводный завтрак из крохотной тарелочки.
— Еду в Амстердам, мам.
— О, как интересно. Ты уже покинула Париж. Как девчонки?
— Все хорошо, мам. Ты где?
— Дома. Пью кофе. Папа уехал в Денвер по делам на пару дней. Он попросил меня набрать тебя, у нас накопилась целая тонна писем для тебя из Банка Америки. Кажется, что-то по кадрам, еще страховка, но, я думаю, некоторые из них все-таки стоят твоего внимания.
— Я помню, мам. Я уже говорила по телефону с кадровиками.
— Слушай, я всего лишь передала его слова. Ты же знаешь, папа переживает. Он любит, когда все под контролем, тем более ты будешь работать на его друга.
— Я знаю, мам, — сказала я. — Они не наняли бы меня, если бы не были уверены, что я справлюсь с работой. Мой средний балл — 3.9, и мне предлагали целых три должности. Я знаю французский, немного японский, хорошо пишу и произвела хорошее впечатление на собеседовании, а еще…
— Конечно, — перебила мама. Она прекрасно все это знала, да и я вела себя слишком самоуверенно. — Конечно, милая. Я не имела в виду ничего плохого.
Пытаясь сохранить равновесие, я сделала глубокий вдох.
— Знаю, что меня ждет бумажная работа, но я подготовлюсь в августе, прежде чем приступить к ней. Скажи папе, чтобы он не переживал. Все будет хорошо. У меня все под контролем. Ты ведь знаешь, я никогда не бросаю начатое. Ему не стоит волноваться. И, на секундочку, я просто помешана на точности.
— Я знаю, солнышко. Он просто немного запутался, вот и все. Он хочет, чтобы ты увидела Европу, но эта работа очень много для него значит. Инвестиционно-банковские услуги, милая, — это…
— Я поняла, мам, — сказала я, представив, как этот «Тирекс» поднимает меня с земли своими клыками, а я беспомощно болтаю ножками. Я перевела тему на своего кота. — Как дела у мистера Барвинка?
— В последний раз я видела его еще утром, но он где-то недалеко. Он настолько толстый, что у него уже складки свисают, но это животное все равно не прекращает есть.
— Поцелуешь его за меня?
— Как насчет того, чтобы я просто погладила его за тебя? Он грязный, милая. На нем наверняка куча микробов, я даже боюсь подумать сколько.
— Мам, он живет с нами уже пятнадцать лет.
— Думаешь, я не знаю? Это ведь я кормлю его и вожу к ветеринару, ты знала об этом?
— Я знаю, мам.
Я перевернула свой iPad. Меня раздражало собственное отражение на экране. Почему я должна спорить с мамой о коте по дороге в Амстердам? Какой-то бред. К счастью, Эми пришла мне на помощь, проскользнув мимо. Она многозначительно подняла брови. Виктор последовал за ней. Бог знает, куда они пошли, но Польшу вот-вот завоюют.
— Слушай, мам, мы уже подъезжаем к Амстердаму, — соврала я. — Нужно собирать вещи. Передай папе, что я займусь бумагами, как только приеду домой. Обещаю. Скажи, чтобы он не волновался. Я списывалась с людьми из офиса, так что в сентябре приступлю к работе с новыми силами. Все в порядке. К тому же они, кажется, рады принять меня и одобрили, что я отправилась в эту поездку. Они меня поддержали, мам, потому что знают, что потом я выложусь на полную.
— Хорошо, милая. Тебе решать. Береги себя, хорошо? Обещаешь? Я люблю тебя. Поцелуй и обними девчонок.
— Будет сделано, мам. Люблю тебя.
Она положила трубку. Этот Мамазавр точно из Юрского периода, а ее ноги оставляли огромные вмятины в земле. Я закрыла глаза и попыталась уснуть.
3
— Что читаешь?
Было уже достаточно поздно. В конце концов я так и не смогла заснуть. Эми не вернулась. Констанция же, кажется, выспалась за всех нас. Хемингуэй унес меня в Испанию, страну алкоголя и корриды. Фиесты. Горных ручьев с форелью. Я настолько увлеклась чтением, что совсем не заметила, как Джек сел на соседнее сиденье.
— Прошу прощения? — сказала я, прижав iPad к груди.
— У меня ноги занемели спать там. Не сразу, но через некоторое время. По крайней мере, я хоть немного поспал. Хочешь попробовать? Я подсажу.
— Если бы я хотела, то сама залезла бы.
— Я просто предложил, ничего такого.
— Тебе придется пересесть, если моя подруга вернется. Это место занято.
Он улыбнулся. Кажется, я вела себя как стерва. Наверное, сработал защитный механизм. Он был настолько красивым — и знал это, — что мне хотелось задеть его самолюбие. Моя шея покраснела. Предательница. Она всегда краснеет, когда я нервничаю, радуюсь или стесняюсь. Сдавая экзамены в Амхерсте, я была похожа на фазана. Обычно я надевала водолазки, чтобы прикрыть шею, но это лишь усугубляло ситуацию.
— Ты читала, верно? — спросил он. — Я видел, как ты переворачиваешь страницы. И как тебе эти электронные книги? Я не особо их люблю.
— Можно вместить множество книг в одно небольшое устройство.
— Ура, — насмешливо, но кокетливо сказал он.
— От них много пользы в путешествиях.
— Я считаю, что книга должна быть твоим спутником. Читаешь ее в особом месте, например в поезде, по дороге в Амстердам, а потом, дома, ставишь ее на полку, а через много лет она напомнит тебе о молодости. Такой вот остров воспоминаний. А если ты любишь эту книгу, то можешь дать ее кому-то почитать. И тогда она станет еще ценнее. Взяв ее в руки, ты сможешь встретиться с давним другом. Цифровой файл на такое не способен.
— Какой ты правильный. Книги приходится таскать за собой с места на место, упаковывать, распаковывать, снова упаковывать. И так далее. А iPad вмещает в себя столько книг, сколько не поместится ни на одной полке.
— Я не доверяю устройствам. Хитроумный механизм.
Сказав это, он выхватил iPad из моих рук и взглянул на него. Это произошло настолько быстро, что я не успела помешать ему. Как в кино: симпатичный парень, поезд, фонари, аромат еды из вагона-ресторана, иностранные языки, приключения. Он снова улыбнулся. Это была убийственная, заговорщическая, озорная улыбка — улыбка, которая предвещала удивительные приключения.
— Хемингуэй? — спросил он, прочитав первую страницу. — «И восходит солнце». Все настолько плохо.
— Что плохо?
— Ну, знаешь, вся эта тема Хемми… Париж, поцелуи со старушками на скотобойне, вино, импрессионисты, — что тут говорить. Обычная романтика бывшего патриота в Европе. А может быть, даже я-хочу-стать-писателем-и-жить-на-чердаке. Может, все еще хуже, чем я думал. Я думал, женщины больше не читают Хемингуэя.
— Мне нравится его пессимизм.
Джек взглянул на меня. Он явно не ожидал услышать это. Даже немного отклонился назад, чтобы лучше меня рассмотреть. Это был оценивающий взгляд.
— Восточное побережье, — осторожно сказал он, словно выбирая мороженое. — Джерси, быть может, Коннектикут. Папа работает в Нью-Йорке. Возможно, Кливленд или Хайтс. Может, я ошибаюсь, но это вряд ли. Насколько я близок?
— А ты сам откуда?
— Вермонт. Но ты так и не ответила, угадал ли я.
— Продолжай. Я хочу, чтобы ты рассказал все свои догадки.
Он снова посмотрел на меня. Мягко прикоснулся к моему подбородку. Меня поразили его навык пикапа и нежность его прикосновения. Джек осторожно повертел мое лицо из стороны в сторону, сосредоточенно рассматривая меня. У него были прекрасные глаза. Моя шея горела, как красная фланель. Я бросила быстрый взгляд на Констанцию, чтобы проверить, не разбудили ли ее наши голоса, но она по-прежнему спала. Ее и пушкой не разбудишь.
— Ты недавно выпустилась из колледжа. В Европу ты поехала с подругами… Из женской общины? Нет, вряд ли. Ты слишком умна для такой ерунды. Возможно, вы вместе работали над студенческой газетой. Колледж престижный, я прав? Если это Восточное побережье, то, значит, колледж Святого Лоуренса или Смита, что-то в этом роде.
— Амхерст, — сказала я.
— Ого, настолько умна. Сейчас непросто попасть в Амхерст. Или хорошие связи, что из этого? Так насколько ты умна на самом деле? Хм-м? Мы это еще увидим. Читаешь Хемингуэя в Европе — впечатляюще, но до ужаса банально.
— Ты нахал, ты в курсе? Высокомерный нахал. Хуже не бывает.
— Я просто выделываюсь, чтобы произвести на тебя впечатление. Дело в том, что ты мне нравишься. Понравилась с первого взгляда. Если бы у меня был хвост, я бы распустил его и стал бы танцевать вокруг тебя, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность. Как у меня получается? Это работает? Хоть немного? Чувствуешь трепет в груди?
— Ты мне нравился больше, пока не открыл рот. К слову, намного больше.
— Ладно, недотрога. Сейчас посмотрим. Мама заставляла волонтерствовать в благотворительности. Папа — деловой человек. В корпоративном, не предпринимательском смысле. Но это всего лишь мои догадки. Во всяком случае, куча бабла. Ты читаешь Хемингуэя, а значит, питаешь любовь к искусству, но не доверяешь ему, ну, потому что оно не практичное. Биографию Хемингуэя знаешь наизусть, верно?
Я сделала глубокий вдох, кивнула, приняв его слова, а затем медленно начала:
— А ты старомодный зеленый вермонтский нахал, который слишком много болтает, возможно, читает, — я не оставила это без внимания, — владеет небольшим имуществом, которое позволяет путешествовать по миру, знакомясь с девушками и поражая их своим остроумием, мудростью и эрудицией. И делаешь ты это не из-за секса, тебе это не нужно. Тебе нравится заставлять девушек влюбляться в тебя и восхищаться тем, какой ты распрекрасный, ведь это то, на чем ты помешан. Поэтому ты с такой легкостью болтаешь о Хемми, будто он твой друг, но на самом деле тебе далеко до Хемингуэя. Он преследовал идеалы, недоступные такому, как ты, ведь ты просто шут. Уходи, потому что Эми вот-вот вернется.
Он улыбнулся. Если я его и обидела, он не выдал этого взглядом. Джек игриво отклонился.
— Просто вытащи свой нож из моей груди, прежде чем я уйду.
— Прости, Джек, — сказала я, но тут же не удержалась, чтобы не пошутить над его именем. — Тебе не говорили, что ты похож на ужасную версию Хью Джекмана?
— Росомахи?
Я кивнула.
— Сдаюсь. Ты победила. Пощади.
Он начал было вставать, как вдруг выхватил мой календарь из-под iPad.
— Только не говори, что это «Смитсон». «Смитсон» с Бонд-стрит? С ума сойти, самый дорогой и вычурный ежедневник в мире? Только не говори, что это он.
— Это подарок на выпускной. И он был по скидке, поверь. Он достался мне практически бесплатно.
— Не представляю, кому нужен дорогущий календарь, чтобы чувствовать себя хорошо.
— Пунктуальным людям. Людям, которые хотят помнить о всех планах. Людям, которые хотят достичь хоть чего-то в этом мире.
— О, и ты — одна из них?
— Пытаюсь быть такой.
— И все же сколько он стоит?
— Не твое дело. Иди доставай кого-то другого.
— Боже мой, — сказал он и бросил ежедневник обратно мне на колени. — Ты правда веришь в то, что если ты достигнешь лучших результатов, то попадешь на огромную доску почета где-то в небе? И какая-нибудь супермамаша погладит тебя по головке, а все остальные будут тебе аплодировать?
Мне захотелось ударить его. И я чуть не ударила.
— Ты правда думаешь, Джек, что путешествия по Европе и попытки быть потерянной романтичной душой сделают из тебя что-либо иное, кроме циничного алкоголика в баре, раздражающего всех вокруг?
— Ого, — сказал он. — А ты путешествуешь просто для резюме? Чтобы на одной из коктейльных вечеринок похвастаться, что была в Париже? Почему же ты тогда здесь, если путешествия для тебя означают лишь это?
— Они не означают лишь это, Джек. Но хипстеры, помешанные на вечеринках, Париже и военно-полевом романе, — что ж, они жалкие. Некоторые из нас верят в то, что можно изменить мир. И действительно это делают. Так что да, иногда мы покупаем ежедневники с Бонд-стрит, чтобы организовать свой день. Это называется «прогресс общества». У нас есть автомобили, самолеты и, да, iPad и iPhone. Смирись, вермонтский мальчик.
Он усмехнулся. Я чуть не улыбнулась в ответ. Должна признать, с ним было весело спорить. Не думаю, что он воспринимал это всерьез. Казалось, единственное, что его беспокоило, — это то, что мы не могли оторвать друг от друга взгляда.
— Неплохо. Признаю, ты молодец. Мне нравится твоя страсть. Ты за словом в карман не лезешь, верно?
— Это все, на что ты способен? Назвать меня язвительной мегерой, Джек? Я могу предугадать все, что ты мне скажешь. Я образованна и чертовски умна. Так что катись отсюда, Джек Вермонтский. Иди созерцай великую важность своего существования или сочини сюжет для романа, который ты никогда не напишешь. Найди кафе, где сможешь сидеть и представлять разговоры о мнимой важности с мнимыми иностранцами, которым нравится думать, что они немного глубже, чем мы, нищие духом, невежественные деловые люди. И тогда ты почувствуешь себя ужасно нужным. Будешь смотреть на землю со своих небесных высот и пускать в нас молнии.
— Мнимые иностранцы? — спросил Джек, улыбаясь. Он засмеялся, и мне пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не сделать то же самое.
— Мне продолжать? Или ты уловил мысль?
— Я тебя понял, — сказал он и медленно встал. — Думаю, у меня отлично вышло. А ты?
— Великолепно.
Он демонстративно вышел в проход — о, у него было прекрасное тело — и снова запрыгнул на свою спальную полку. Улегшись, дождался, пока я посмотрю на него. И показал мне язык. Я, естественно, ответила ему тем же.
4
Примерно на этом моменте все остановилось. Моя шея горела, я с трудом контролировала свое дыхание. На счет «десять» я закрыла лицо руками, пытаясь совладать с собой. Беспокоила мысль о том, что меня так легко раскусить, ведь я действительно из Нью-Джерси, мой папа действительно работает в крупной корпорации, а мама — действительно член Юношеской лиги. Раздражало, что я настолько предсказуема, простушка, которую такой умник, как Джек, сможет раскусить в первые же минуты знакомства. А еще мне не понравилась желчь, которую я выплеснула на него. Хотя, опять же, он пересек черту. Я смотрела на него, пока свет уличных фонарей все так же играл на его лице. Несколько месяцев, с тех пор как рассталась с Брайаном, своим бывшим из колледжа, я не подпускала к себе мужчин. Мне по-прежнему не верилось, что я привела его домой и даже наряжала вместе с ним елку, а потом узнала, что он на спор отымел какую-то девицу за неделю до этого. Он был пьян, а девицей оказалась местная барменша с широкими бретелями лифчика и белыми тонированными волосами. А надоумили его на это друзья. «Слабо, слабо, слабо! Ха-ха-ха! Еще по одной!» — скандировали они. Поэтому Брайан отправился к ней в машину, или к себе в машину, или в ближайший переулок, где они и переспали. Очевидно, это ничего не значило, но все, что я помню, — темно-бордовые вельветовые штаны Брайана, на которые я смотрела снизу вверх, пока он стоял на стремянке и брал елочные игрушки из моих рук, папа делал напитки в баре, а мама, Тирекс, суетилась по дому в штанах с завышенной талией от Элен Фишер за $300, набросив на плечи тонкий свитер. Бинг, мать его, Кросби играет по ящику Пандоры. Признаю: тогда я была на седьмом небе от счастья. Рождество за городом, снег за окном, праздничная атмосфера и все такое… Пока его друг, Ронни Эверс, не прислал мне фотографию на Facebook. На ней Брайан держал Бренду-барменшу, одетую в узкие джинсы, за поясницу, высунув язык, словно рок-гитарист, а она, обхватив его своими ножищами, отклонилась назад, словно ковбойка.
Я обшарила все соцсети, нашла еще пару фото в Twitter, после чего последовала сцена в нашей старой гостиной: мы натянуто шипели, словно старые радиаторы.
— Как ты мог? С ней? Ты изменил мне с ней?
— Это была шутка. Пари! Я был пьян.
— О боже, Брайан. Ради бога.
— Да все нормально… Господи, полегче, Хезер. Ты в курсе, что мы даже не обручены?
— Пошел ты, Брайан!
Вот так мы разрушили свой маленький Эдем. Мы расстались на следующий же день. Он бросил сумку на заднее сиденье своего седана «Вольво» и уехал в сопровождении рождественских огоньков. Возвращаясь домой, я увидела мистера Барвинка, нашего древнего кота, который наблюдал за мной из окна на втором этаже.
Так вот, Джек. Констанция по-прежнему спала. Эми по-прежнему не вернулась. Вагон погрузился в этот особый беспокойный полусон, когда люди пытаются уснуть, но продолжают просыпаться. Из соседнего вагона-ресторана пахло кофе. Время от времени, словно в голливудской драме, тормозя или меняя направление, поезд издавал мрачные звуки: да-а-а-ды-ды-ды-ды-да-а-а. Эффект Доплера, помню это еще с физики на первом курсе.
Я решила выпить кофе. Подкравшись к Джеку на цыпочках, сфотографировала его на свой iPhone. Он не проснулся. Мне стало стыдно за свое грубое поведение, поэтому я заказала два латте, решив: если он откажется от кофе, его обязательно выпьет кто-нибудь другой. Пока проводник делал кофе, я рассматривала фотографию. Джек был страшно привлекателен, но спал, словно мертвец. Интересно, что это значило? Брайан всегда спал беспокойно, его вечно мучила бессонница. Джек же весь погрузился в сон.
Я принесла заказ в свой вагон. Обе мои руки были заняты, так что это оказалось намного сложнее, чем можно представить. Я остановилась рядом с Джеком в надежде разбудить его взглядом. И это сработало. Может быть, он почувствовал мое присутствие? Не знаю, но, увидев меня, он улыбнулся, и это была милая, невинная улыбка. Так улыбаются лишь маме на десятый день рождения.
— Я взяла тебе кофе, — сказала я. — Это наименьшее, что я могла сделать, учитывая твою жалкую жизнь.
— Позволь мне встать.
Я отошла и подождала. Он медленно отстегнулся и соскользнул вниз. Впервые мы вот так стояли рядом. Мне до ужаса льстило то, насколько он больше меня. Огромные плечи, мышцы… Стена, а не мужчина.
— Можем выйти в тамбур, — сказал он, складывая спальный мешок. — Жалкий, бездарный вермонтский мальчишка с небольшим имуществом не прочь подышать свежим воздухом.
Я кивнула:
— Ты такой и есть. Печально, но факт.
Он закончил возиться со спальным мешком и взял свой кофе. Следуя за ним до тамбура, я размышляла, считается ли мой жест знаком внимания.
5
— Прости, что вел себя как придурок, — сказал он. — Я иногда перебарщиваю.
— С женщинами?
— Наверное.
— А вообще ты любишь хвастаться?
— Только если рядом есть девушки, красивые, как ты.
— Как давно ты придумал эту фразу?
— Не так давно. Что, если я действительно так думаю? Может, я правда считаю тебя красивой. Вот какого ты роста?
— Метр шестьдесят восемь.
— Ты знала, что это идеальный рост? Воздушные гимнасты примерно такого же роста. Человек-ядро тоже. Да, люди, которыми стреляют из пушки… Ровно метр и шестьдесят восемь сантиметров.
— Ты это только что выдумал.
— Это известный факт. Все об этом знают. Если ты захочешь устроиться на работу на карнавале, на собеседовании такой вопрос зададут тебе первым. Даже укротители львов примерно такого же роста.
— Ты работал в цирке?
— Конечно.
— Но ты намного выше.
— Женщинам нужно быть метр шестьдесят восемь. Рост мужчины неважен, особенно если он работает за кулисами. Этим я и занимался. Я в основном зазывал людей бросать мячи в бутылки. Простой уличный зазывала.
— Не верю ни единому твоему слову.
— И… и однажды меня укусил лев. Наверное, ты снова не поверишь. Прямо в бедро. В мясистую часть. Я тогда спал, когда она появилась из ниоткуда — львица по кличке Конфетка. Она славилась скверным характером, но у меня никогда не было проблем с Конфеткой. Она виновато смотрела на меня, словно хотела извиниться, но это у нее в крови, в конце концов. Я был всего лишь ночным перекусом.
— У тебя талант выдумывать на ходу, только вот меня надолго не хватит.
Он пожал плечами и сделал глоток латте. Мы стояли между двумя вагонами и смотрели друг на друга, опершись на противоположные стенки. Рельсы, казалось, летели у нас под ногами, а в воздухе витал неясный аромат сенокосных угодий, золы, возможно, дождя и механический запах мотора.
— Я часто думаю о том, почему Конфетка отпустила меня. Эта мысль прямо преследует меня.
— Может, ты невкусный. Это случилось в Вермонте?
— Я был в Стамбуле. Длинная история. Прости. Я нервничаю, когда слишком много болтаю. Или слишком сильно стараюсь. Иногда я не могу остановиться, вот как сейчас. Мой существенный недостаток.
— Я бы не стала называть этот недостаток существенным. Просто недостаток.
— А я надеялся, что ты назовешь меня байроническим героем.
— Думаю, если ты на это надеешься, то ты уже не байронический герой. Ipso facto.
Он взглянул на меня и отпил еще немного. Кофе был не особо вкусным.
— Ipso facto? — спросил он. — Латынь для большей важности?
— В силу самого факта. Враг моего врага ipso facto мой друг.
— Ты отличница, да?
— А если и да, то что здесь плохого?
— Лишь то, что ты любишь выслужиться. Именно поэтому пользуешься календарем от «Смитсон». У тебя хоть когда-то были оценки ниже пятерки? Конечно, не считая уроков физкультуры.
— Думаешь, я не способна получить пятерку по физкультуре?
— Думаю, что тебя всегда звали играть в вышибалу, чтобы побросать тебе в голову мячом, ведь ты такая отличница. Ipso facto.
— Ты всегда все обо всех знаешь? Или только обо мне?
— О, я знаю тебя. Ты типичная староста. Та, которая всегда украшает спортзал к дискотеке. Девочка на лестнице. Девочка с лентами.
— А ты лодырь и эгоист, который живет в своем маленьком мирке.
— Мне нравится. Живет в своем маленьком мирке. Видишь? У тебя талант.
— О, слава богу. Я бы зачахла без твоего одобрения.
Он посмотрел на меня из-за стакана и улыбнулся.
— А какой у тебя недостаток? — спросил он. — Существенный или наоборот?
— Почему я должна говорить тебе?
— Потому что мы в поезде, едем в Амстердам. Нам нужно говорить о чем-то. Тебя дико тянет ко мне, так что наше общение можно назвать флиртом, хоть ты ни за что в этом не признаешься.
— А ты не страдаешь от недостатка уверенности в себе, правда?
— Дело в том, что меня тоже дико тянет к тебе. К тому же когда наши взгляды встречаются, они задерживаются на какое-то время. Знаешь, что я имею в виду? Ты знаешь, Хезер из Северного леса.
Я покачала головой. Он был прав во всем. И меня выводило из себя, что он прекрасно осознавал свою правоту.
— Твой недостаток, помнишь? — спросил он. — Я от тебя не отстану. Это еще один мой минус. Я иногда слишком настойчив.
— Мой недостаток сложно описать словами.
— Попробуй.
Я сделала глубокий вдох. Любопытно, почему иногда нам так хочется признаваться в самых сокровенных секретах незнакомцам в поездах? Так или иначе, я продолжила:
— Когда я поднимаю голову вверх и вижу самолет, я всегда надеюсь, что он вот-вот упадет. Тотчас. Не знаю, хочу ли я этого на самом деле, может, это моя извращенная фантазия, но именно этого я всегда жду. Я представляю, как нахожу разбитый самолет где-нибудь на лугу и спасаю людям жизни.
— Это не изъян. Это психоз. Тебе нужна помощь. Обратись к специалисту.
Я сделала глоток кофе. Поезд громко загремел, проезжая какую-то эстакаду.
— А когда невеста идет к алтарю, — продолжила я, — мне всегда хочется, чтобы она споткнулась. Мама никогда не разрешала мне сидеть с краю, потому что боялась, что я выставлю ногу в проход.
— Ты уже когда-нибудь так делала?
Я покачала головой:
— Пока нет, но однажды сделаю. Вообще-то, это может быть любое официальное мероприятие. Любой праздник, куда приходят нарядными. Просто обожаю, когда люди дерутся и толкают друг друга лицом в торт. Ничего не могу с собой поделать. Жизнь была бы слишком скучна без семейных разборок.
— Ах вот в чем дело — ты анархистка. Вероятно, ты будешь примерной гражданкой лет до сорока, а потом войдешь в какую-нибудь опасную группировку и будешь расхаживать по улицам в униформе и с мачете на шее. Тебе нравятся мачете?
— Даже больше, чем ты можешь подумать.
— Значит, Южная Америка.
— Что за радикальное обобщение? У всех в Южной Америке есть мачете?
— Естественно. А ты не знала?
— А какое оружие привлекает тебя?
— Садовые ножницы.
— Ха, садовые ножницы? Почему же?
— Мне просто кажется, что их недооценивают.
— Знаешь, когда ты рядом, мне постоянно хочется тебя ударить. Иногда ты спасаешься, даже не догадываясь об этом.
— Некоторые люди называют это природным очарованием. Или сумасбродством. Зависит от ситуации.
Джек сделал глоток кофе и выглянул из-за стакана. Какая-то часть меня хотела поцеловать его, а какая-то — плеснуть кофе в его самодовольную физиономию. Впервые в жизни меня настолько поразил мужчина — все в нем.
— Сколько тебе лет? — спросила я. — У тебя ведь должна быть какая-то профессия. Ты вообще работаешь?
— Сколько лет ты мне дашь?
— Десять.
Он взглянул на меня.
— Мне двадцать семь, — сказал он. — А тебе сколько?
— Джентльмен никогда не спросит даму о возрасте.
— Думаешь, я джентльмен?
— Думаю, никто в здравом уме не назовет тебя очаровательным.
— Ты не ответила.
— Двадцать два, — сказала я. — Скоро двадцать три.
— Твои родители поздно отдали тебя в школу?
— Нет!
— Наверняка так и было, просто они тебе не сказали. Такое бывает, знаешь.
— Я хорошо училась. Ты ведь сам сказал.
— Конечно, ведь родители дали тебе целый год, поэтому у тебя было преимущество перед одноклассниками. Ты была старше других. Я уже таких встречал. На самом деле это до ужаса несправедливо. Все школьные годы у тебя было преимущество.
— А ты сидел за задней партой? Делал вид, что рисуешь, или был непонятым поэтом? Настолько банально, что у меня аж зубы болят.
— Какую одежду я носил?
— Ах, с чего начать? Джинсы, конечно. И футболка с географическими названиями… Нет, нет, кажется, я поняла. Футболки с логотипом компании «Джон Дир» или что-то типа «Металлическое оборудование». Что-то утилитарное… Или пролетарское. И у тебя были длинные волосы, как сейчас, только ты еще вытаскивал один локон, ну, чтобы он загадочно свисал, ведь ты такой весь таинственный поэт. Я права? Значит, ты был простачком, сыном фермера, но с глубоким внутренним миром. Все это шло в комплекте? Или собрано вручную?
— Никакой сборки.
— А твоей стабильной оценкой была четверка. Возможно, четверка с минусом. К учебе относился хорошо, но несерьезно. Мог пропустить пару домашних заданий, ленился, но читал, и учителей это устраивало. Девушка? Хм-м-м. Хулиганка. Возможно, девчонка, которая пасла овец. Или коз, так даже лучше. От нее пахло духами и навозом, а еще она, как и ты, чудесным образом обожала книги и поэзию. Такая себе Шерон Олдс[1].
— Ты прямо видишь меня насквозь. Обжигаешь душу своей проницательностью.
— Ее назвали в честь какого-то растения… Или времени года. Саммер. Хейзел или Олив. А может, Майский Жук.
На какое-то время мы замолчали. Интересно, зашла ли я тогда слишком далеко? Наши глаза встретились. Поезд покачнулся, Джек поднял стакан и осушил его. Казалось, мы вот-вот поцелуемся. Это было неизбежно. Я осознала, что он нравится мне слишком сильно. Но затем вышел парень и закурил, хоть это и было абсолютно противозаконно. Он сказал нам что-то на английском, но я не разобрала ни слова из-за шума. Незнакомец походил на велосипедиста: крепкие ноги и бейсболка с укороченным козырьком. Но я не была уверена в своих предположениях.
За ним вышли два приятеля, одетых примерно так же. «Видимо, у них что-то вроде группового тура», — подумала я и поймала на себе взгляд Джека. Мы внимательно осмотрели друг друга. Он улыбнулся — это была теплая, но немного грустная улыбка. Значит, разговору пришел конец и нужно уходить. Что-то в этом роде.
— Готова? — спросил он, кивая в сторону нашего вагона.
Я кивнула. Вот и все.
6
За полчаса до Амстердама вернулась Эми, правда, без Виктора. Джек ушел в вагон-ресторан.
— Где граф Дракула? — спросила я.
— Бо-же-мой, — сказала она и плюхнулась рядом со мной.
— Польша завоевана?
— Скажем так, европейские нации снова встретили меня с распростертыми объятиями.
— Ну ты и распутница.
— Не сдерживай свою внутреннюю шлюху, Хезер.
Она изобразила что-то вроде танца и спела какую-то дурацкую песенку. Ее пение разбудило Констанцию. Она привстала и оглянулась вокруг, очевидно, не понимая, где находится. На ее щеке красовался отчетливый след от дорожной подушки. Наконец, осознав, что она в поезде, и увидев танцующую Эми рядом, Констанция заскулила и уткнулась головой в колени.
— Только не это, — сонно пробормотала она.
— В графе Дракуле есть что-то такое, — сказала Эми. — Он очень милый.
— Ты перепихнулась с Дракулой? — спросила Констанция, медленно потирая лицо. — У кого-нибудь есть вода?
— Держи, — сказала Эми, достав рюкзак из-под сиденья и протянув подруге бутылку. — Одна я умираю с голоду?
— Сыр и яблоки, — сказала я.
В этой поездке я была главной по снабжению провиантом. У меня всегда была еда. Иногда, как я и говорила Джеку, я была немного слишком организованна — такое вот наследство от Мамазавра.
— Они не очень далеко?
Я наклонилась в поисках своего рюкзака. Эми достала доску для нарезания в форме груши, которую мы купили спустя неделю после наших путешествий. Она помещалась в рюкзак и стала нашим импровизированным столиком. Мы достали свои швейцарские ножики, я выложила яблоки, французский чеддер, два стебля сельдерея и арахисовое масло. Пришлось поискать получше, чтобы откопать багет — я разломила его надвое, чтобы он не торчал из рюкзака. Вскоре он уже лежал рядом с яблоками.
— Я долго спала? — спросила Констанция.
Она намазала арахисовое масло на ломтик яблока и тут же проглотила его.
— Три, может, четыре часа, — сказала я.
— Что я пропустила? Кто такой этот граф Дракула?
— Поляк, который сидел рядом с нами, — сказала Эми. — Его зовут Виктор. А фамилия звучит так, будто кто-то чихнул. Кстати, он пригласил нас на вечеринку в Амстердаме. Я записала адрес.
— Так где он? — спросила я, привстав и оглядевшись вокруг. — Ты измотала его до смерти?
— Это была достойная битва, — сказала Эми.
— Я хочу посмотреть на него, — сказала Констанция. — Я не заметила его, когда мы садились.
Я пару раз откусила хлеб. Затем отрезала сыра и съела еще хлеба. Эми поделила первое яблоко на три дольки. Я съела одну. Пару минут мы молча ели, и я чувствовала себя счастливой. Я взглянула на Констанцию, выражение ее лица было серьезным и сосредоточенным, а красивые светлые волосы сияли в тусклом свете. Она была самой симпатичной из нашей троицы, но мальчики интересовали ее меньше всего. Она любила книги, но от Хемми была далека. Ее интересовали исследования, святые для нее были семьей, к которой она приходила, когда жизнь становилась слишком скучной. Именно к ней мы обращались, когда хотели узнать, как зовут того или иного персонажа с картины или скульптуры. Она изящно ела, осторожно нарезая сыр и хлеб и складывая их в аккуратные стопочки, пока Эми, темноволосая и более полная, толстым слоем намазывала арахисовое масло на что попало и ела с удовольствием, в котором отражалось ее отношение к жизни. Я познакомилась с ними на первом курсе в Амхерсте, была у них дома, видела, как они рыдают из-за парней, напиваются, получают пятерки, доказывают свое совершеннолетие в барах, танцуют до упаду. Видела, как Эми играет в лакросс, словно сумасшедшая, а Констанция ездит на своем небесно-голубом велосипеде, аккуратно сложив книги в корзинку, и любуется красотой кампуса, дубов и арок, несмотря на свою легкую близорукость. Глядя на них в мягком прерывистом свете, видя, как они едят, улыбаются и болтают друг с другом, я ощутила, что неимоверно их люблю.
— Я люблю вас, девчонки, — призналась я. — Хочу поблагодарить вас за эту поездку, за все. Не хочу, чтобы мы когда-либо теряли друг друга. Вы обещаете?
— Что это на тебя нашло? — спросила Эми с набитым ртом.
Констанция кивнула и потянулась к моей руке. Эми пожала плечами, а затем положила свою руку поверх наших. Мушкетеры. Впервые мы сделали этот мушкетерский жест возле ресторана под названием «Лорд Джефф», когда, напившись, решили, что мы настоящие подруги.
— Один за всех, и все за одного, — сказали мы. И с тех пор это стало нашим секретным кодом. — Un pour tous, et tous pour un.
Когда мы доели завтрак, поезд затормозил в Амстердаме.
7
— Вы знаете, где остановитесь? — спросил Джек.
Мы стояли в проходе и ждали, пока вагон хоть немного освободится. Эми и Констанция уже подходили к выходу, но у мужчины, который загораживал путь Джеку, никак не получалось достать сумку с багажной полки. Моя шея горела лишь оттого, что я просто стояла рядом с ним.
— Мы зарезервировали места в хостеле, — сказала я. — Называется «Кокомама». Мне понравилось название.
— Ты всегда занимаешься организационными вопросами?
— Не совсем. Я просто люблю порядок.
— Сказала девушка с ежедневником от «Смитсон».
Я пожала плечами. Он был прав.
— Может быть, мы пойдем на вечеринку, на которую нас пригласил тот знакомый Эми, Виктор. Кажется, это где-то в центре Амстердама, в квартире с видом на канал.
— Мой друг Раф — австралиец, но у него есть здесь знакомые. У него знакомые по всему миру. Я путешествовал много, но Раф — он прямо Марко Поло. Он тебе точно понравится. Большую часть года он пасет овец в глубинке, копит деньги, а потом путешествует. Если ты скажешь мне адрес, то мы тоже подойдем. Я хотел бы встретиться с тобой снова.
— Кажется, он разносторонняя личность. Я не знаю адреса, но Эми должна была его записать. Могу спросить ее, когда мы выйдем из поезда.
Мгновение мы молчали. Мужчине впереди наконец удалось достать сумку с полки, и люди позади нас захлопали в ладоши. Эми с Констанцией уже исчезли на платформе.
— Слушай, — тихо, чтобы слышала лишь я, сказал Джек. — Я считаю, нам следует поступить следующим образом. Мы выходим из поезда, он испускает клубы пара из-под колес, и тогда, как в старом кино, мы должны впервые поцеловаться. Мы оба этого хотели, так что не стоит упускать эту возможность.
Было сложно не улыбнуться. Я отвела взгляд, медленно продвигаясь по вагону. Моя шея пылала.
— Это обязательно? — спросила я. — И с чего ты взял, что я хотела поцеловать тебя? Это твоя лучшая попытка?
— Ну же. Будет что внукам рассказать. А если ничего не получится, если сегодня мы не встретимся на вечеринке, то что мы теряем? Всего поцелуй.
— Насколько долгим должен быть поцелуй?
— О, таким, чтобы запомнить его навсегда.
— Хотя мне нелегко это признать, есть в тебе что-то особенное.
— На самом деле я не считаю, что читать Хемингуэя — плохо. Не хотел обидеть тебя, — признался он. — Чтение Хемингуэя в Европе — это очень важно. Я правда так думаю. Мне нравится, что тебя интересует его пессимизм. Я просто пытался найти с тобой связь.
— А если поцелуй все испортит? Не все поцелуи прекрасны.
— Наш будет именно таким. Думаю, ты тоже это знаешь. Значит, ты согласна поцеловать меня?
— Только ради наших внуков.
— Надеюсь, там будет пар, а если нам повезет, то еще и дождь.
— Предупреждаю, я только что ела арахисовое масло.
— Принял к сведению.
Удивительно, насколько долгим может быть путь от середины вагона к выходу из него. Мне не хватало смелости даже взглянуть на Джека. Рюкзак впился мне в плечи. Я немного наклонилась и увидела, что Эми с Констанцией ждут меня на улице. Я помахала им рукой. Они помахали в ответ. Джек шел позади меня, и было до безумия странно и необычно. Я ведь не относилась к тому типу девчонок, что бы это ни значило. Я не импульсивная. Я никогда не стала бы целовать парня, с которым только что познакомилась в поезде до Амстердама.
Но это случилось. Я вышла из поезда, обернулась, он легко спрыгнул со ступеньки и обхватил меня своими большими, сильными руками. Я совсем не была готова к тому, что его тело настолько сильное и крепкое. Поначалу это казалось глупым, мы выглядели словно черепахи с этими дурацкими рюкзаками за спинами, но затем это стало чем-то большим. Я чувствовала, что Эми и Констанция смотрят на нас, разинув рты, но Джек прильнул губами к моим губам, и я закрыла глаза.
Наверное, это шутка. Это должно было продлиться одну секунду. Но этот поцелуй был прекрасен, наверное, лучший в моей жизни, и я не знаю почему, но, когда Джек отпустил меня, мне хотелось продолжить.
Я повернулась к девочкам. Они обе держали перед собой телефоны, фотографируя нас, а когда опустили их, я не смогла сдержаться и рассмеялась, видя их ошеломленные лица.
— Какого черта? — спросила Эми.
— Когда ты успела? — спросила Констанция.
Джек простодушно улыбнулся. Эми пришла в себя и дала ему адрес вечеринки. Мы обменялись номерами.
— Увидимся вечером, — как всегда вежливо сказала Констанция.
— Этим можно утешаться, правда? — сказал он, процитировав последние слова из книги «И восходит солнце», а затем взглянул на меня и ушел.
8
— Котенок, ты должна заполнить ВСЕ формы, которые тебе присылает Банк Америки. Срочно!
— Обязательно, папуль. Попроси маму налить тебе виски и расслабься.
— Мне не нужен виски. Мне нужно, чтобы моя дочь сделала то, что пообещала.
— Будет сделано. Я всегда делаю то, что обещаю.
— Когда?
— Когда Луна перейдет в седьмой дом. А Юпитер поровняется с Марсом.
— Прекрати шутить, Хезер. Мне сейчас не до этого.
— Прости, пап. Я позабочусь об этом, как только смогу.
— Не обнадеживает, правда?
— Пап, обещаю, я займусь этим. Отсюда это сложно, но для меня это превыше всего. Клянусь.
— Пожалей отца.
— Хорошо. Люблю тебя. Больше никаких лекций.
— Теперь мне действительно нужно выпить.
Каждый раз, приходя на вечеринку, ты думаешь: да или нет? Какая-то часть тебя хочет убраться прочь из шумного сборища незнакомцев, кричащих друг другу на ухо, чтобы услышать хоть слово, и от мелькающих огней. Ты знаешь наперед, что ванные будут заняты всю ночь, пол будет липким от пива и других напитков, какой-нибудь выпендрежник будет ошиваться неподалеку, закусив нижнюю губу и глядя на тебя взглядом, говорящим: «Еще десять минут — и эта крошка будет моей». Ты видишь эту вечеринку насквозь: брачный ритуал, массовое спаривание, — и тебе хочется развернуться и уйти, ведь ты выше этого, лучше этого, все это не для тебя.
Но вторая часть тебя сопротивляется.
И тогда ты думаешь: «Всего один коктейль». Или: «Почему бы и нет?» И, возможно, если музыка достойная, ты проникнешься всеобщим весельем, посмотришь на своих подруг — они посмотрят на тебя в ответ, пожмут плечами, не зная, стоит ли оно того, — и ты поднимешь брови. Обычно они поднимают брови в ответ. Затем — вы ведь столько раз делали это вместе — вы медленно войдете в толпу, боком проталкиваясь между людьми, время от времени нащупывая руку подруги, чтобы не потеряться. Будете двигаться в направлении бара. Частенько какой-нибудь придурок будет хватать тебя за зад, а иногда еще хуже — поднимет руки вверх, словно под прицелом, его промежность будет стремиться в твою сторону, а от него самого будет ужасно вонять выпивкой, — ты скорее пройдешь мимо и наконец попытаешься докричаться до бармена, чтобы сделать заказ. По обе стороны бара, если бар вообще есть, на тебя будут коситься парни, а ты будешь пытаться игнорировать их, делая вид, что заказать напиток — главная цель всей твоей жизни, потому что тебе не нужны случайные знакомства. И наконец, если вам повезет, бармен заметит вас. Ты выкрикнешь название напитка, он кивнет, ты расплатишься, передашь напитки подругам, и вы втроем сделаете по большому глотку, потому что почувствуете, что это вам необходимо.
Вот где мы очутились спустя пять минут после того, как пришли на вечеринку Виктора.
По крайней мере, помещение было стильным. Возможно, именно поэтому мы не ушли. Это был большой индустриальный лофт с кирпичными и металлическими элементами, огромными светильниками и широкими окнами с видом на канал. Музыка была отстойной — европейский техно-поп с однообразным тактом и неумолимым скрежещущим ритмом, — но устоять было невозможно. Я вручила Констанции и Эми по джин-тонику. Они благодарно кивнули и отпили коктейли. Я заплатила бармену. Он прикоснулся чеком ко лбу, раскланялся и поспешил обслуживать остальных.
— Не видишь его? Джека? — проорала Эми мне на ухо, когда я подошла к ним.
Я покачала головой. Он мне не звонил, так что я даже не была уверена, что он придет. Конечно, я расстроилась бы, если бы так и случилось, но мне не особо хотелось допускать такой вариант. Во всяком случае, я слишком много думала о нем и рассматривала фото, где он спит, нездоровое количество раз. Я помнила его поцелуй, помнила его взгляд в тамбуре, между вагонами. Все мое тело помнило. Все в нем — внешность, обаяние и даже рост — подходило под описание идеального для меня мужчины. Странно, но это правда. Если бы можно было купить себе мужчину в магазине и все мужчины, которые у меня были, висели бы на вешалках, я однозначно выбрала бы Джека. Приложила бы его к себе, взглянула бы в зеркало и тут же поняла бы, что он мне как раз.
К тому же мне нравились наши с ним разговоры. Рядом с ним я чувствовала себя пьяной.
— Изумительное место, — прокричала нам Констанция. — Это бар или чья-то квартира?
Эми подняла руку, чтобы сказать, что не знает, да и ей все равно.
— Еще рано, — сказала она мне.
— Уже почти одиннадцать, — ответила я.
Она пожала плечами.
Поэтому мы сделали кое-что до ужаса девичье, нелепое и в чем-то великолепное. Мы стали танцевать в треугольнике, лениво двигаясь, потягивая коктейли и медленно передвигаясь к середине танцпола. Вдруг я осознала, что прошло уже достаточно много времени. Нам было хорошо. Джин начинал оказывать свое действие, а когда это случалось, то каждая из нас начинала танцевать по-своему. Эми качала задницей, словно светлячок, а Констанция танцевала на цыпочках, словно пыталась достать что-то с верхней полки, но пока не решилась поднять руки. Я не могла смотреть на них без улыбки. Когда дело доходит до танцев, от своего истинного «я» не удерешь.
Нас окружили несколько парней, пытаясь подобраться поближе, а мы просто посмотрели друг на друга, совещаясь: «Да? Нет?» Они были не очень симпатичными. Эми прикусила трубочку и едва заметно покачала головой, и мы тут же поняли, что это «нет». Мы продолжали танцевать и пить. Коктейль был почти безвкусным. Парни ушли, и мы подошли друг к другу. Эми начала делать нелепые движения, которые любил один парень из Амхерста по имени Леонард. Он был суперботаном, но по-своему очаровательным. На первом курсе мы увидели, как самозабвенно он танцует, и с тех пор постоянно копировали его движения. Мы назвали этот танец «Средство для отпугивания парней» и использовали такую фишку, если хотели отвадить навязчивых ухажеров на танцполе. Теперь, благодаря Леонарду, Эми каждый раз смешила нас его танцем. Она овладела им в совершенстве и танцевала только для нас, пока мы с Констанцией заливались хохотом, а люди вокруг пытались ее не замечать. Она делала это идеально.
В конце концов Констанция схватила Эми за руку и повела нас к окну. Что это был за вид! Свет фонарей отражался в канале, превращая воду в россыпь звезд.
— О чем думаешь? — прокричала Констанция мне на ухо. — Думаешь, он придет?
— Не знаю, — прокричала я в ответ.
— Разве ты не записала его номер? Можешь позвонить ему и спросить, что такое он вытворяет, — сказала Эми.
— Звучит отчаянно.
— Да, отчаянно, ну и что? Когда тебе хочется пиццы или суши, ты ведь звонишь в службу доставки? — спросила Эми.
Констанция покачала головой. Вряд ли она слышала, о чем мы говорим.
— Ну, если мы остаемся здесь, то нужно больше напитков, — сказала Эми.
— Ты хочешь остаться? — спросила я. — Мы не должны оставаться только из-за Джека. Не настолько мне это и нужно.
Но я врала, и они прекрасно это понимали.
— Еще один коктейль, — сказала Констанция. — И пойдем.
— Ты видела Виктора? — спросила я Эми.
Та покачала головой. От крика у меня уже болело горло. Я осушила последний бокал и была готова уходить, как вдруг поняла, что приехал Джек. Не понимаю как, но я знала это наверняка.
Эми закусила трубочку и немного качнула головой, словно намекая: «Он там, прямо у тебя за спиной».
9
Я не оборачивалась. Лишь стояла и пускала пузырьки трубочкой. Взгляд Эми метался между мной и тем, кто был у меня за спиной. Она даже немного наклонила голову, всем своим видом говоря: «Ну же, он прямо сзади, что ты делаешь?»
Моя шея начала пылать. Я сделала последний глоток джин-тоника. Не отводила взгляд от девочек, притворяясь, что безумно увлечена разговором. Мне не хотелось, чтобы он понял, что с его приездом эта ночь стала намного интереснее.
Но это было так — я чувствовала это шеей.
Он подошел к нам и улыбнулся. Было слишком шумно для разговоров, поэтому я ответила ему улыбкой и кивнула. Было непонятно, что делать дальше. В некоторых клубах можно было дождаться паузы, но только не в этом. Не в этой квартире. Музыка не переставала громыхать, люди — танцевать, а Джек казался немного некстати. Я подумала, что он не любит танцевать.
— Это Раф, — завопил Джек, рупором приложив ладони ко рту для лучшей слышимости.
Он кричал изо всех сил, но я все равно едва его слышала. Так или иначе, все кивнули.
— Он пасет овец в Австралии, — продолжил Джек, набрав полные легкие воздуха. — Отличный парень. Когда-то мы путешествовали вместе.
— Привет, дамы, — сказал Раф. Он обладал более резким голосом, поэтому его было лучше слышно.
Я взглянула на Рафа. Он был симпатичным, крепким, но не таким высоким, как Джек, с рыжеватыми волосами и ослепительной счастливой улыбкой. Его акцент — даже те два слова, которые он произнес, — звучал восхитительно. На нем была австралийская стеганая куртка. Было слишком жарко для такой одежды, но он, казалось, носил ее постоянно. Раф держал в руке большую банку пива. Он улыбнулся и поднял за нас тост.
Я не сразу поняла, что он смотрел не на Эми, как бывало обычно, а на Констанцию. А ее взгляд был прикован к нему. Даже Эми заметила это и, посмотрев на меня, подняла брови: «Действительно?» Сложно было представить Констанцию с пастухом из австралийской глубинки.
— Нашим внукам точно понравится эта история, — сказал Джек мне на ухо.
— Правда?
— Абсолютно. Раф будет свидетелем на нашей свадьбе. Пускай наша свадьба происходит здесь и сейчас.
— Кто может клюнуть на это? На весь этот трюк со свадьбой?
— Ты клюнула, разве нет?
Я покачала головой, но мой живот с этим не согласился.
— Пора выпить, — сказала я и позвала остальных. — Эй, Джек Вермонтский угощает в этот раз!
Мы направились к бару. Прошли половину танцпола, как вдруг люди закричали и засуетились. Это было стадное чувство. Какая-то девчонка поскользнулась и упала на колено, но никто не помогал ей. Кто-то начал смеяться, приговаривая что-то непонятное на немецком. Джек прижал меня к себе, чтобы защитить от чужих локтей и кулаков, а я заметила, как Раф прижимает к себе Констанцию. Эми не было видно, но я надеялась, что она где-то позади. Что бы ни случилось, она всегда умела постоять за себя. Я огляделась и увидела причину всеобщего беспокойства.
Два парня, оба ужасно пьяные, оба скинхеды, танцевали посреди танцпола, выставив из штанов члены. Они мочились прямо на пол, их пенисы свободно болтались, а руки восторженно возвышались над головами. Они кричали что-то о том, как же хорошо писать, и самозабвенно танцевали. Шатаясь на ногах, они едва держали равновесие. Просто трясли своим достоинством и мочились. Когда они подходили к толпе, она пятилась от них, вопя и визжа, пока эти двое отбивали друг другу «пять», явно гордясь своим чудачеством. Это был наихудший тип чудаков на вечеринках, и я совсем не ожидала увидеть нечто подобное в Европе.
— Ужас, — сказала Эми позади меня. — Фу, кошмар.
Парни начали двигаться в нашем направлении.
Народ сбился в одной половине зала, и нам было некуда идти. Эта пробка из людей упиралась прямо в бар, так что отступить мы не могли. Я взглянула на глупые лица приближающихся танцоров. Они, казалось, были абсолютно довольны собой и жизнью, не замечали никого и ничего вокруг себя, кроме музыки и своих болтающихся членов. Каждые пару шагов они испускали из них струи, а толпа с отвращением пятилась, словно по команде.
— Они идут сюда! — закричала Констанция, изо всех сил пытаясь протиснуться между людьми. — О боже!
— Это отвратительно! — заорала Эми.
Несколько парней попытались подобраться к танцорам поближе и схватить их, но те мастерски увернулись, обороняясь членами. Как иногда бывает с пьянчугами, танцоров сопровождала какая-то глупая, смешная удача. Они смеялись и подходили все ближе, словно угрожая своими пенисами.
Они напоминали мне пресловутых скунсов на садовой вечеринке и, черт возьми, были хороши в своем деле.
Может, Джек и не вышел из ночи и не спрыгнул с белого скакуна, но он сделал шаг вперед. Словно щит, он надел на руку крышку от резинового мусорного бака. Изумленная публика, увидев своего героя, начала смеяться и аплодировать. Раф позвал друга и вручил ему туфель на высоком каблуке. Спустя секунду я осознала, что это была босоножка Констанции. Джеку требовалось второе оружие, чтобы бить танцоров по пенисам, если они подберутся слишком близко. Держа босоножку за носок, он несколько раз повторил защитное движение. Скунсам, казалось, было плевать на планы Джека. Они лишь пили пиво из огромных банок, которое тут же перемещалось в их мочевые пузыри.
Я взглянула на Констанцию и Эми. Девочки, разинув рты от удивления и восторга, наблюдали зрелище. Раф держал Констанцию под руку.
Все было до того странно — отвратительная ситуация, два неуправляемых скинхеда, — а Джек, играя на публику, сделал из этого забавное шоу. Он медленно расхаживал по периметру круга, приветствуя толпу, словно римский гладиатор, а зрители ухали и смеялись в ответ своему спасителю. Он делал выпад в сторону танцоров, изображая нападение, а они пятились, не выпуская из рук свое оружие. Затем, наконец разработав свою стратегию, они перешли в наступление, подходя к Джеку с разных сторон: один пытался напасть сзади, пока второй отвлекал спереди.
Я смотрела на Джека, вспоминая о нашем поцелуе и о том, как его рука касалась моей поясницы.
Наконец он атаковал танцоров. Закрылся щитом в полной готовности отразить струю мочи, которой они в него целились, и скинхеды дали слабину. Джек ударил босоножкой по пенису одного из танцоров, и парень умчался прочь, пряча свое добро в штаны. Второй подкрался к Джеку сбоку, и тот ринулся к нему. Он шарахнул идиота своим щитом, и тот стремительно попятился, пытаясь удержать равновесие, но в конце концов рухнул на пол, как бревно. Его банка с пивом укатилась в толпу. Джек, запрыгнув на парня, схватил его за ногу и начал вытирать им, словно шваброй, пол. Толпа была в восторге от зрелища, а еще два парня стали кружиться вокруг них. Второй танцор — тот, который сбежал, — нерешительно попытался вступиться за друга, но зрители тут же прогнали его. Пораженный скинхед побрел прочь, бросив товарища на произвол судьбы.
Джек сделал победоносный круг и торжественно поднял щит над головой. Наши взгляды встретились, и я подумала: может ли оказаться принцем парень с крышкой от мусорного ведра вместо щита и босоножкой вместо меча, победивший драконов, которые вместо огня извергали свои ядовитые жидкости?
10
— Папа есть папа. Ты ведь знаешь, милая. Веселись.
— Я и так веселюсь. Но папа все портит.
— Он не специально. Он просто переживает. И ничего не может с собой поделать.
— Вообще-то я и так СЛИШКОМ держу все под контролем. И ты это знаешь. Он тоже.
— Просто развлекайся. Кстати, я убралась в том шкафу и раздала нашу старую одежду.
— Какую еще одежду?
— Тебе прямо срочно необходимо знать это? Голубое платье с длинными рукавами. Ты уже несколько лет не надевала его. А мне нужно место в шкафу!
— Тоже мне проблема, мам. Как мистер Барвинок?
— Много гуляет.
— Ладно, мне пора бежать. Поцелуй девочек.
— И заставить их плакать[2]?
— Я скучаю.
— Я тоже скучаю.
Раф путешествовал ради джаза. По крайней мере, он так сказал, и мы в три часа ночи пошли за ним в место под названием «У Смарти» на крохотной улочке недалеко от канала в центре Амстердама. Он пообещал, что это того стоит, и после нескольких шотов, полдюжины джин-тоников и амстердамской марихуаны мы просто не могли отказать. Он привел нас в какой-то бар в подвале. Интересно, как в Амстердаме могут быть бары в подвалах, если весь город завис на уровне моря? Но я была не в состоянии размышлять о строительном искусстве. Я повисла на Джеке, Констанция — на Рафе, а Эми — на Альфреде, чьи пальцы напоминали мне клавиши пишущей машинки.
Виктор, граф Дракула, так и не появился на той вечеринке. Джек был знаком с ним, но я не знала, что именно их связывало.
Официантка с огромными бицепсами и таким взглядом, словно она может плюнуть тебе в напиток или унести тебя домой, хочешь ты того или нет, посадила нас за столик рядом с сортиром. Нам пришлось пробираться боком между маленькими столами, а музыка обволакивала нас, не желая отпускать. Черный парень играл на саксофоне, экспериментируя со звуком, заставляя его выть, изгибаться и тянуться. Как только мы уселись, Раф наклонился к нам и рассказал о музыканте.
— Это Джон П, — сказал он с забавным и приятным австралийским акцентом. — Он из Нигерии, но теперь живет здесь. Не думаю, что остальные ребята очень известные, но сессионные сидят…
Это все, что мне удалось расслышать. И то с трудом. К нам подошла официантка, и мы сделали заказ — коньяк с водой. Она кивнула и умчалась прочь, словно женщина, вброд переправляющаяся через болото. Я была в тумане и немного дезориентирована, но счастлива. Конечно, я — не Хемингуэй, а Амстердам — не Испания после Первой мировой, но за всю свою жизнь мне тогда удалось максимально приблизиться к любимому писателю.
— Я бы поставил семерку нашему поцелую на платформе. А ты? — спросил Джек, обняв меня.
— Так много? Я думала над шестеркой, а может, даже над пятеркой с половиной.
— Ты правша в поцелуях. Я так и думал.
— Как ты узнал?
— Большинство людей — правши. Если встретишь левшу в поцелуях, обрати внимание, у них у всех есть небольшой плавник сзади на шее. Почти незаметный, но он есть.
— Плавник?
Он кивнул.
— Это малоизвестный факт, — сказал он.
— Проблема в том, что мне никогда не ставили ниже девяти. Мои поцелуи могут погубить мужчину для всех остальных женщин. Я просто цитирую то, что мне говорили.
— Поэтому я и снизил балл, — сказал он. — Я мог поднять до десятки, но не хотел, чтобы ты падала в обморок.
— А зачем нужен плавник?
— Какой плавник?
— Ты только что говорил о плавнике. Тот, который сзади на шее.
— Люди Атлантиды. Они все левши в поцелуях.
— Так вот как можно их определить.
— А еще они не станут есть тунец. И любую другую рыбу. Это уже каннибализм.
— Понятно. А обычный человек может быть левшой в поцелуях?
— Нет, на моем пути таких не встречалось.
— Насколько опасно поцеловать гражданина Атлантиды?
— Крайне опасно. На первое свидание обязательно нужно взять пакетик соуса тар-тар, так, на всякий случай. Очевидно же, что тар-тар — это криптонит для того, кто вышел из Атлантиды.
— Ты всегда так делаешь?
— Как?
— Рассказываешь небылицы.
— Ты ведь не думаешь, что у меня сейчас нет соуса тар-тар в кармане?
— Нет, думаю, нет.
Он отклонился назад, цокнул языком и покачал головой.
— Водитель, повар или уборщик? — поинтересовалась я.
— Что? — спросил он, положив руку мне на бедро, и посмотрел мне в глаза так, что я чуть было не потеряла самоконтроль.
— Водитель, повар или уборщик? — повторила я, пытаясь игнорировать его руку и взгляд.
— Я должен выбрать что-то одно?
Я кивнула. Нужно было убрать его руку. Я прогнула спину.
— Уборщик. Я люблю готовить и вожу лучше Джеймса Бонда.
— Но ты больше похож на Росомаху.
— Мне убрать руку?
— Смотря куда.
Улыбнувшись, он убрал руку, и мы стали наблюдать за игрой музыкантов.
Официантка принесла заказ, как раз когда композиция закончилась. Раф кивнул и зааплодировал, мы повторили за ним. Любопытное зрелище — когда музыканты находят друг друга в мелодии. Любопытно и то, что Джон П — это нигериец, играющий на саксофоне в европейском баре, а мы приехали из Соединенных Штатов и все находимся здесь и сейчас. Может быть, во мне тогда говорила марихуана — кто знает, — но, сделав обжигающий губы и язык глоток коньяка, я посмотрела на девочек и улыбнулась. Эми и Констанция медленно моргали и качали головами под музыку.
Мой телефон зазвонил. Я поняла это не сразу и, достав его из кармана, увидела номер Брайана на экране. Бывший. Я не слышала о нем целое лето и думала, что он только и делает, что рыдает в подушку по ночам. И из дома не выходит. Ностальгируя по чему-то, что на самом деле уже давно забыл. А может, он и вправду скучал по мне. По привычке или из любопытства я чуть не нажала большим пальцем на зеленую кнопку, но затем подумала головой. Джек даже не смотрел на меня, а может, ему было все равно.
Я решила, что больше никогда не заговорю с Брайаном. Поставив телефон на беззвучный режим, сунула его в карман.
— Увидимся в хостеле, — прошептала Эми мне на ухо, когда группа сделала перерыв.
— Ты даже не знаешь этого парня, — сказала я.
— Никто из нас не знает этих ребят, — ответила Эми. — Не волнуйся, я позвоню тебе. Мы собираемся выпить с другой компанией. Кажется, один из них — маг. Ты часто видишь магов в Амстердаме? К тому же поезд ведь только после обеда?
— В два пятьдесят.
Я проверила расписание в телефоне.
— Два пятьдесят, — повторила я.
— Я вернусь в хостел намного раньше, так что не волнуйся. Посмотрим, как пойдут дела с Летучим Голландцем. Завтра все расскажу. А ты останешься здесь, будешь слушать музыку?
— Пока что не знаю. Я немного устала.
— Лови момент. Я о Джеке. Он по уши в тебя влюблен. К тому же он просто красавчик.
— А Констанция?
Мы посмотрели на подругу. Она сидела рядом с Рафом, видимо, слушая его разговор о джазе. Она выглядела живой и абсолютно счастливой и даже обнимала Рафа за поясницу. Мы с Эми переглянулись, она покачала головой.
— Она променяла нас на пастуха, — сказала Эми. — Я ни разу не видела ее такой влюбленной.
— Он милый.
— Да, очень. Мне нравится его акцент.
— Ладно, договорились, — сказала я, подводя итог. Для меня всегда было важно, чтобы последнее слово оставалось за мной. В этом заключался мой единственный талант. — Увидимся в хостеле. Позвони, если что-то поменяется. И не пытайся успеть все и сразу.
Я старалась сконцентрироваться и убедиться, что поняла все правильно, хотя на самом деле была пьяной и уставшей. Я знала, что мы должны уехать из Амстердама пораньше, но не могла вспомнить почему. Нам нужно было пересесть на какой-то поезд и, кажется, встретиться с двоюродным братом Эми в Мюнхене или Будапеште, а может, и с сестрой, я не помнила. Кроме того, этот сценарий напоминал мне «Три монеты в фонтане», слащавый старый черно-белый фильм о трех девчонках в Риме. Каждая из них бросает монетку в фонтан, потом звучит душераздирающая музыка, и в песне они задают вопрос: «Какую же монету благословит фонтан?» Прежде чем я уехала, Мамазавр заставила меня посмотреть этот фильм с ней по «Нетфликсу»[3]. Это один из ее любимых.
Все происходило слишком быстро, и я не доверяла уровню нашего опьянения. К тому же я не доверяла Альфреду, Летучему Голландцу с пальцами — клавишами пишущей машинки. Я решила, что он слишком долговязый и неуклюжий, словно спаржа-переросток, одним словом, он мне не нравился. Но он нравился Эми или, по крайней мере, она хотела с ним уйти, и я просто пыталась не осуждать, когда дело доходило до ее пассий, поэтому кивнула, поцеловала ее в щеку и попросила быть осторожной. Она сказала, что постарается, после чего взяла Альфреда под руку и ушла прочь.
Я осталась с Джеком.
— Хочешь, уйдем? — спросил он, когда Эми поднялась по лестнице и выскользнула на улицу, исчезнув в ночи. — Я знаю одно место, которое тебе необходимо увидеть.
— Я устала, Джек.
— Устала от меня или просто устала?
— Не от тебя.
— Тогда место, которое я должен тебе показать… Раф помог обозначить его на карте. Нам придется искать его вместе.
Ему удалось смягчить меня. Скоро наступит утро, улицы наполнит аромат кофе и выпечки, я в Амстердаме, впервые в жизни, но едва держалась, чтобы не сомкнуть глаза. Я сама не знала, чего хотела, хотя одного хотела наверняка — быть рядом с Джеком.
— Совсем скоро рассвет, — заторможенно сказала я.
— Что лишь приукрашает ситуацию.
— Я скажу Констанции, что мы уходим, — сказала я и встала.
Я приняла решение, не зная, что принимаю решение. Джек позвал официантку и оплатил счет подготовленными заранее деньгами, пока я объясняла Констанции план.
11
— После Второй мировой войны мой дедушка направлялся домой, но это заняло довольно много времени. Около трех месяцев, а может, даже немного больше. В какой-то степени виной этому были разрушенная Европа и отсутствие надежного транспорта, но он решил пойти в обход. Именно так Раф сказал, когда я рассказал ему эту историю. Мой дед не особо любил говорить об этом. Каким-то он был скрытным, словно чувствовал свою вину. Но он вел дневник, и я теперь его исследую. Ты спросила, чем я занимаюсь, — вот чем, — сказал Джек, повернувшись ко мне. — Возможно, звучит как «ничего важного», но это важно для меня. Я пообещал себе это сделать и теперь выполняю обещание.
Мы гуляли около получаса, и улицы действительно заполнил аромат кофе и выпечки. Солнце еще не встало, но темнота отступила, потеряв свою власть. В окнах и каналах замелькали розовые блики, но отчетливо разглядеть что-либо было по-прежнему трудно. В окне одной квартиры, под фонарем, мы увидели кота. Он тоже взглянул на нас, наклонился и принялся вылизывать свою лапу.
— А чем ты занимался, прежде чем начал исследовать его дневник?
— В основном журналистикой. Менял мир к лучшему. Так ведь говорят? Я окончил Вермонтский университет, факультет связи с общественностью. Даже не знаю, существует ли журналистика теперь, в эпоху интернета, но тогда это имело смысл. Окончив колледж, я устроился репортером в Вайоминге, в небольшой газете, рядом с хребтом Уинд-Ривер. Знаю, знаю, это далековато, но тогда я подумал, что смогу повлиять на общественность в небольшом городишке, тогда как в большом городе буду простым начинающим репортером без опыта. Я даже решил, что провинциальные газеты — передовая всей журналистики, но это уже совсем другая история. Это была прекрасная газета, и я писал все подряд, набивая руку. У меня был начальник по имени Уолтер Гудноу, такой старомодный журналист, которых теперь уже не сыщешь. Он нагружал меня работой, но помимо этого разрешал писать статьи от себя и помогал мне. Редактировал мои работы. Я тоже много редактировал, а еще заметил за собой тенденцию бесцеремонно высказывать свое мнение при написании работ, которые меня интересуют. Уолтер называл меня бунтарем, но на самом деле все было не настолько плохо. Я проработал там около трех лет.
— Почему ушел?
— Ну, я решил, что настал момент что-то менять. Уолтер тоже так считал. После того как случилось кое-что не очень хорошее, я решил взять перерыв. Сделать паузу в своем журналистском пути к мировому господству.
— И все это время ты вынашивал идею исследования дневника?
— Я не знал, с чего начать. Мне нужна была помощь. Кто-то, кто помог бы мне начать жизнь с начала. Моему деду пришлось сделать это после войны.
— Но ты ведь вернешься в журналистику?
— Таков мой план. Уолтер назвал это фантазией Кларка Кента. Ты журналист, но помимо этого ты Супермен. Если ты зависим от газет, то это на всю жизнь. Ничего тут не поделаешь.
— Мне нравится, что ты идешь по маршруту дедушки.
— На самом деле я просто посещаю самые главные точки, без особого порядка, но не думаю, что это столь важно… Я все болтаю и болтаю, а ты, наверное, проголодалась?
— Ты не болтаешь, но я действительно не отказалась бы от кофе и тоста. Это была долгая ночь.
— Как только встретим следующую пекарню, зайдем, — сказал он.
Но все было еще закрыто. Мы застряли где-то между веселой ночью и адским утром. Я все еще была пьяной и медлительной. У меня болели ноги, и я понемногу начинала переживать об Эми и Констанции. Мы и раньше разделялись в поездках, но обычно это случалось спустя несколько дней в новом городе. Все это было слишком быстро, слишком безрассудно, и я готова была сказать Джеку, что собираюсь взять такси и отправиться в хостел, но он нашел открытую пекарню. Это была просто дыра в стене, обычный прилавок, но когда пожилая женщина увидела, что мы заглядываем внутрь, то открыла дверь и впустила нас.
Мы сделали большой заказ. Три багета в бумажном пакете, два круассана, один шоколадный эклер, плитка шоколада и два дымящихся кофе. Джек заговорил с женщиной по-английски, но она ответила по-немецки. Он попытался сказать что-то по-немецки, и это довольно хорошо сработало: они беседовали пару минут, он спрашивал дорогу, после чего кивнул, ухватил меня за локоть и увел прочь.
— Пей свой кофе. Я знаю одно место, где мы можем поесть, — сказал он, заразительно улыбнувшись. Его явно переполняло радостное предчувствие. — Она сказала мне, как туда пройти. Мы уже близко.
Кофе был вкусным. Я вдруг поняла, что замерзла. Может, из-за голода, может, из-за алкоголя или марихуаны, которую мы курили, но по моей спине пробежал холодок. Джек раскрыл пакет и поднес его к моему носу. Попросил меня понюхать багет, чтобы никогда в жизни не забыть этот момент.
— Ни за что не подумала бы, что ты такой романтик, — сказала я, когда он убрал пакет. — Ты осуждал меня за чтение Хемингуэя, а сам-то куда хуже.
— Что противоположно романтику? Мне всегда было интересно.
— Наверное, циник. Человек, который знает цену всему и ничему не знает ценности.
— Ого, — сказал Джек. — Ты что, философствуешь здесь в четыре утра?
— Это не так уж и сложно, Джек Вермонтский.
— Ты ведь даже не знаешь моей фамилии, верно?
— А ты мою знаешь?
— Мэрриуэзер.
— Мимо.
— Альбекурке. Постлуэйт. Смит-Хиггинботом. Наверняка какая-нибудь двойная. Я угадал?
— Скажи мне свою, а потом я тебе скажу.
— Только давай без замашек Румпельштильцхена.
— Ты не можешь прожить и минуты, не сменив тему разговора, верно?
— Да и нет.
Он улыбнулся. У него была чертовски привлекательная улыбка.
— Давай оставим наши фамилии при себе, — сказала я. — Тогда тебе будет сложнее найти меня, когда ты безнадежно в меня влюбишься. Это будут увлекательные поиски.
— А вдруг я уже безнадежно в тебя влюблен?
— Слишком быстро. Обычно мужчине требуется полтора суток, чтобы понять, что он готов умереть за меня.
— Хезер Постлуэйт, точно.
— Кажется, ты меня куда-то вел?
— Ты все усложняешь. Джек и Хезер или Хезер и Джек? Какой вариант звучит более естественно?
— Хезер и Джек.
— Ты ведь сказала наугад.
— «Джек и Хезер» звучит как название магазина свечей.
— А что не так с магазином свечей? «Джек и Хезер» звучит эвфонично, и ты это знаешь.
— Эвфонично? Решил использовать латинское слово, изо всех сил пытаясь соответствовать более умному собеседнику?
Мы замедлили шаг. Прежде чем Джек ответил, я учуяла новый аромат. Он не был похож на запах каналов и круассанов, но это было что-то знакомое и приятное, что-то, что я точно знала, но не могла вспомнить. Джек улыбнулся, и я попыталась понять, в чем дело.
— Пойдем, — сказал он, и я пошла.
12
На здании висела вывеска: «Nieuwe Kalfjeslaan 25, 1182 AA Amstelveen». Запах исходил откуда-то из-за широкой, полукруглой, тяжелой черной двери с такими же тяжелыми металлическими деталями. Я ничего не понимала, а Джек улыбнулся и потянул ручку двери на себя. Скрипучие петли завизжали, словно в фильме о Франкенштейне. Джек приложил палец к губам и улыбнулся.
Я хотела сказать, что он уже шумит и, наверное, разбудил кого-нибудь, но он проскользнул внутрь, прежде чем я успела открыть рот. Я осмотрелась, пытаясь понять, куда же мы все-таки пришли, но затем мысленно пожала плечами и все же последовала за ним. Тем более что у него был пакет, полный еды.
Поняв, где мы находимся, я широко улыбнулась.
Это был манеж. De Amsterdamse Manege. До чего же красивое место. Несмотря на возраст помещения, о нем тщательно заботились: стены были покрыты белой штукатуркой, а пол покрывали галька и сосновая стружка. На стенах висела дюжина эмблем и гербов. А по периметру подворья отдыхали лошади в старинных стойлах. Они мирно и сонно свесили головы над дверями, словно крючки для одежды у камина. Джек взял меня за руку и повел к первому стойлу.
— Эту лошадь зовут Яблочко, — сказал он, прочитав табличку на голландском.
— Привет, Яблочко, — сказала я.
Я погладила ее гриву и щеку. Эта лошадь была прекрасна, не как те, загнанные и хромые, которых можно увидеть на американских манежах, и я медленно обхватила ее руками. От нее пахло всем добрым и светлым.
— Мой дедушка приходил сюда после войны, — прошептал Джек с немного влажными глазами, поглаживая Яблочко одной рукой. — Он писал об этом месте, но я не был уверен, что оно сохранилось. Он говорил, что лошади давали ему надежду после всего, что ему пришлось увидеть на войне. Он всегда уделял особое внимание животным и детям. Этому месту он присудил три звезды. Это его высшая оценка.
— Как ты узнал, что это именно здесь?
— Никак, честно. Он просто писал об этом месте в своем дневнике. Я сотни раз перечитывал его записи, но сомневался, что лошади по-прежнему здесь. В смысле, конюшня. Я знал примерный район города, и Раф сказал мне, что слышал что-то о манеже здесь. Та женщина из пекарни дала мне последнее направление, и вот мы здесь.
— В детстве я немного ездила верхом.
— Я рад, что тебе нравятся лошади, — сказал он.
— Я люблю животных, — сказала я и подошла ко второму стойлу. — Всегда любила. Как эту зовут?
— Сигнет, думаю. Это значит Лебеденок.
Я достала телефон, чтобы сфотографировать лошадь, но Джек остановил меня.
— Не могла бы ты не фотографировать? — спросил он.
Я опустила телефон.
— Почему нет?
Он медленно опустил руку на нос Сигнет. Его голос был серьезным, но мягким.
— Я не хочу обесценивать этот момент, — сказал он. — Или превращать его в обычное фото. Я просто хочу быть здесь с лошадьми, вот и все. И с тобой. Ненавижу, когда люди фотографируют все на свете. Это значит, что то, что происходит сейчас, больше никогда не повторится, словно сделать фото — единственное, что мы можем. Выставить их в Facebook. Но из-за этого мы забываем о своих чувствах в этот момент. Во всяком случае, это лишь мое мнение.
— Ты хоть что-нибудь фотографируешь?
Он пожал плечами, покачал головой.
— Я хочу запомнить этот момент рядом с тобой, — сказал он. — Хочу помнить Сигнет, запах кофе, навоза и лошадей. Я хочу думать о том, как дедушка был здесь, о радости и облегчении, которые ему приносили лошади. Я не знаю. Может, это немного глупо.
— Не думаю, что это глупо, Джек.
Я посмотрела на него. Мне нравилась его новая, другая сторона.
Погладив лошадей, мы взобрались на стог сена в самом центре подворья. Пошел небольшой дождь, и сено свалили под навес. Мы залезли на самый верх и уселись поудобнее. Сено незабываемо пахло неизведанными полями, дождем и мягкими движениями лошадей. Что может быть лучше? Мы ели багеты, эклер и все остальное. Вкус еды казался непревзойденным, и мне просто не верилось, что все это происходит со мной.
— Довольно неплохое первое свидание, — словно прочитав мои мысли, сказал Джек.
— Одно из лучших в моем списке. Так значит, это свидание?
— А как бы ты это назвала?
— Эми сказала бы, что это интрижка.
— И все-таки я думаю, что это своего рода свидание.
— Ладно.
— Ты надолго в Европе? — спросил он, сменив тему.
— Еще недели две-три. Осенью мне нужно возвращаться и приступать к работе. Меня взяли в одно учреждение.
— Куда?
— В Банк Америки.
Он взглянул на меня.
— Мы можем это поправить, — сказал он.
— В этом нет нужны.
— Ты уверена? Тебе не пойдет деловой костюм.
— Больше подойдет костюм судьи?
— Что правда, то правда.
Наши провода немного пересеклись. Я не знала, почему или что это значило, но почувствовала, что мы оба думаем об одном и том же, переоцениваем вещи. Я вспомнила, как он рассказывал о редакторе, который называл его бунтарем.
Джек посмотрел на меня, отодвинул пару тюков сена назад и придвинул парочку по бокам, сделав для нас маленький диван. Он откинулся назад и, обхватив меня руками, прижал к себе. Я положила голову ему на плечо, гадая, как же он поступит в момент огромного соблазна, но он оказался умнее. Повернув мое лицо к себе, он поцеловал меня и прижал еще ближе, несмотря на то что ближе было некуда.
— Будь рядом со мной, — прошептал он.
— Ты хочешь спать здесь?
— Ну, можно было бы уснуть в постели, но мы делали это тысячу раз. А так мы можем поспать в объятиях друг друга, рядом с лошадьми, в Амстердаме, и запомнить это до конца нашей жизни. Разве стоит говорить об этом?
— Это твой принцип?
— Что-то в этом роде.
— Ты не ищешь легких путей?
— Я просто хочу прочувствовать все на свете. Насладиться жизнью. Это банально?
Мне не давали покоя его слова по поводу Банка Америки, но я поняла его немного лучше.
— Я все еще принимаю решение, — осмелилась сказать я.
Немного позже наше дыхание стало ровным и синхронным, и аромат сена заполнил все вокруг.
13
Я проснулась от запаха сигаретного дыма. Не сразу поняла, где нахожусь. Джек спал рядом со мной. Дождь лил еще сильнее. Постепенно ко мне начали возвращаться воспоминания о прошлой ночи. Я села, слегка запаниковав. Я не имела понятия, который час, и была уверена лишь в одном: прошлой ночью мы гладили лошадей. Тучи заслоняли солнце, так что даже примерно нельзя было предположить, утро сейчас или вечер. Вопрос происхождения сигаретного дыма озадачивал меня до тех пор, пока я не поняла, что кто-то курит внизу, под навесом, возможно, во время обеденного перерыва. Тогда я услышала чьи-то голоса. Джек медленно сел рядом со мной и, прижав палец к губам, расплылся в улыбке.
— Мы в ловушке, — прошептал он и чуть не расхохотался.
— Который час?
Он пожал плечами.
То ли десять, то ли миллион мыслей пронеслись у меня в голове. Во-первых, мне нужно было пописать. И срочно. Сено придало мне вид сумасшедшей. Я потрогала рукой волосы — они торчали во все стороны. Казалось, мои губы и горло были покрыты шоколадом, а пальцы были жирными и грязными из-за лошадей.
Затем я вспомнила об Эми и Констанции. Посмотрела в телефон, но девочки мне не писали.
И было лишь шесть сорок восемь утра. Вот что еще мне сообщил телефон. Брайан оставил голосовое сообщение, но мне не хватило смелости прослушать его.
— Как мы выберемся отсюда? — спросила я Джека.
— Просто слезем. Мы не сделали ничего плохого.
— А как насчет взлома с проникновением?
— Сделаем вид, что только закончили заниматься сексом, — сказал он, широко улыбнувшись, смял бумажный пакет и оглянулся вокруг. — Всем нравятся парочки. Тем более что они могут сделать?
— Они могут вызвать полицию.
— За то, что двое занимаются сексом в стоге сена?
— Но мы не занимались сексом.
— Но ты хотела.
Я толкнула его в плечо. Он засмеялся. Мы услышали шаги внизу и мужской обеспокоенный голос.
— Кто там? — крикнул он.
По крайней мере, мне показалось, что он сказал именно это. Он кричал на голландском.
— Мы уснули, — ответил Джек. Он повторил слово «спать» на немецком.
Затем второй голос присоединился к первому, и это значило, что самое время слезать и расплатиться за свои поступки. Может, они подумали, что мы бездомные. Может, решили, что мы воры. Джек слез первым. Он повернулся и помог мне спуститься. Двое мужчин — один молодой, второй старый — сделали пару шагов назад и повернулись, чтобы посмотреть на нас.
— Мы пришли посмотреть на лошадей и уснули, — сказал Джек.
Старик покачал головой. Мы явно ему не понравились. Но тот, что помоложе, — парень, который курил сигарету и тем самым, скорее всего, нарушил правила, делая это рядом с сеном, — ответил нам на приемлемом английском:
— Нехорошо то, что вы сделали.
У него были худое лицо и пышная копна волос, торчащих, словно колючки. Он поморщил губы.
— Простите, — сказал Джек. — Мы гуляли допоздна. Мы не сделали ничего плохого.
Старик сказал что-то молодому напарнику. Парень ответил. Затем старик поспешил прочь.
— Он собирается вызвать полицию. Вам лучше поспешить. Их станция находится неподалеку, так что совсем скоро они будут здесь.
Он поменял слова местами так, что получилось «будут они скоро». Он говорил совсем как Йода из «Звездных войн».
Джек схватил меня за руку, и мы побежали к выходу.
На полпути домой — после того как мы побывали в ресторане, сходили в уборную и взяли еще кофе — Джек остановился около брусчатого моста. Прямо под ним, в реке, плавал лебедь.
— Мой дедушка писал о лебедях в своем дневнике. Думаю, он не ожидал увидеть их здесь. Казалось, он смаковал каждое проявление природы, ведь это означало, что они выжили… Что жизнь продолжается.
— Ты можешь найти ту часть о лебедях?
— Я помню ее почти наизусть, но погоди.
Он достал из кармана дневник размером с маленькую Библию, с резинкой посередине. Это действительно была Библия, по крайней мере для Джека. Он облокотился на перила моста и медленно открыл дневник. Не знаю почему, но я представляла себе этот дневник как большую, широкую книгу — как альбом, наверное, — но, увидев его реальные размеры, поняла, что в моих предположениях не было никакого смысла. Примерно такую книжку мужчина и будет носить с собой после войны. Чтобы класть ее в карман, как делал Джек, и вытаскивать, когда понадобится сделать запись. Он не особо отличался от моего ежедневника.
— Я думала, он будет больше, — сказала я, прислонившись к нему, чтобы заглянуть в дневник.
— Женщина никогда не должна говорить такие вещи мужчине.
Он не отрывал взгляда от книги, осторожно перелистывая страницы. Я ударила его в плечо. Мне нравилось, как бережно он обращался с дневником. Он совсем не торопился, напротив — задерживался на каждой странице. Дважды останавливался, чтобы показать мне серые, потрепанные временем фотографии своего деда, спрятанные между страниц, — высокий, статный мужчина с грустными, уставшими и пустыми глазами. Что делало выражение его лица еще печальней, так это не совсем удачная попытка улыбнуться на камеру. Ему никак не удавалось скрыть всю горечь и ужас, через который он прошел во время Второй мировой войны.
Я прислонилась щекой к плечу Джека. Мне хотелось наблюдать, как его руки медленно листают тонкие страницы дневника. Наконец он нашел, что искал, и наклонил книжку ко мне. Затем, сменив голос на торжественный, но тихий, с любовью прочел:
— Лебедь плавал по крохотному озерцу, выгнув шею совершенной дугой. Угол утреннего света отразил лебедя в кристальной воде, и их тут же стало двое: словно повторяя друг за другом, двигаются в унисон.
Внизу страницы дедушка Джека сделал маленький набросок лебедя, плавающего среди кувшинок.
— Это прекрасно, Джек. Настоящая поэзия, правда.
— Мне кажется, этим он хотел мне что-то сказать. Порой он упоминал это в разговорах. Кроме того, он много читал, в основном романы XIX века. Он делился со мной своими книгами, и каждый год мы вместе перечитывали «Айвенго». Мы читали его на крыльце по вечерам, перед сном. Я обожал эту историю и эту традицию. Наверное, именно поэтому я напал на тебя за твой iPad. Ты когда-нибудь слышала, чтобы говорили, что книги — это места, в которых мы бываем?.. Или что, когда мы встречаем людей, которые читали те же книги, что и мы, это значит, что мы бывали в одних и тех же местах? Мы уже знаем кое-что о них, ведь они жили в тех же мирах, что и мы. Мы знаем, зачем они живут.
Джек покраснел. Впервые я видела его румянец, и он мне понравился.
— Мне нравится, что ты так предан литературе.
— Ну, по крайней мере, дедушкиному дневнику.
— Это единственный экземпляр? Ты не против, если я посмотрю?
— Я сделал одну копию. Перепечатал его, чтобы запомнить каждое слово. Наверное, звучит глупо. Но, если честно, я мог бы прочесть его наизусть.
— Совсем нет, — сказала я, медленно взяв книгу в руки.
Дневник оказался довольно увесистым. Я открыла его и увидела надпись. Имя его дедушки — Вернон, — номер его военного билета и адрес: Брэдфорд, Вермонт, США. Рядом с надписью был набросок танка. Непонятно, немецкого или нашего.
— Он вырос на ферме. Его всегда впечатляла природа, к тому же он умел действительно красиво писать. Мне кажется, он был опустошен. Эта поездка придала ему сил. Наверное, я тоже этого жду. От своего путешествия.
— Я бы хотела почитать этот дневник, с твоего позволения.
— Ты будешь пятым человеком, кто это сделает. Прежде его читали мама, папа и бабушка.
Я вернула ему дневник. Он осторожно закрыл его, закрепил резинкой и сложил в карман. Затем взял меня за руку, и мы просто смотрели, как лебеди изящно плывут вверх по течению. Он попросил меня обратить внимание на то, как переливаются их перья. Джек сказал, что когда-то лебеди питались одним лишь светом, но боги решили, что их красота может стать разрушительной, и сделали так, чтобы все эти прекрасные птицы ели траву. Но лебеди все равно продолжали получать достаточно света, и теперь, если присмотреться, можно заметить его между их перьев.
Этот момент не нуждался в запечатлении.
И мы не нуждались ни в чем.
14
В хостеле я приняла, наверное, лучший душ в моей жизни. Вымыла каждый сантиметр своего тела и хорошенько промыла волосы. Стоя под потоком воды, я непрерывно думала о Джеке. При каждом воспоминаний о нем мое тело вздрагивало в небольшом спазме. Джек Вермонтский. Пусть я не знала его фамилии, я знала имя его дедушки и то, что он из Брэдфорда, штат Вермонт. Теперь Джек был просто Джеком, моим рыцарем со щитом в виде мусорной крышки, моим ночным заклинателем лошадей. Слишком большой процент моих мыслей был посвящен ему.
Выйдя из ванной, я обнаружила новое сообщение от Констанции. Она пришла к такому же выводу, что и я: мы слишком быстро уезжаем из Амстердама. Мы ведь и вправду ничего не видели, кроме вечеринки, а у нее был целый список достопримечательностей. Ах да, я вспомнила: мы уезжаем из-за Эми. У нас была назначена встреча в Праге, и хотя я не помнила деталей, наш план допускал лишь вечер и часть дня в Амстердаме. Не самый лучший план, но Эми так и не появлялась, а значит, мы не могли ничего менять. Я написала Констанции, что лучше придерживаться плана. Она неохотно согласилась и сказала, что Раф назвал ее «моя Шейла».
Я села на кровать и позвонила папе. Он долго не отвечал, но, когда наконец ответил, я поняла, что он на какой-то встрече и ему неудобно говорить. Он часто бывал занят. Папа всегда говорил быстро, с паузами, а на заднем фоне шумели люди.
— Привет, милая, — сказал он. — Как там великий европейский тур?
— Здорово, папа. Мы в Амстердаме. Это великолепный город.
— Сколько вы еще пробудете там?
— Думаю, уже сегодня уезжаем. Так быстро, потому что нам нужно в Прагу, встретиться с родственниками Эми.
— Что ж, это хорошо, — сказал он, после чего прикрыл телефон рукой и обратился к кому-то другому. Когда папа на работе, завладеть его вниманием практически невозможно, даже по телефону. Хорошо хоть, что дома он всегда добряк.
— Слушай, — сказал он, — я разговаривал с Эдом Белмонтом, и он очень рад, что ты присоединишься к его команде. Да, работать придется много, но оно того стоит. Лучшего места ты не найдешь. В этом нет сомнений. Но он сказал, что ты все еще не заполнила бумаги. Нельзя ведь так, Хезер. Ты и сама знаешь.
— Я поняла, пап. Я разберусь с этим, обещаю.
— Повтори, пожалуйста, еще раз, — сказал он.
— Я сказала, что разберусь с бумагами, — повторила я, — слово скаута.
— Хорошо, просто это ставит меня в неловкое положение перед Эдом. Я-то думал, что ты уже разобралась. В бизнесе важно произвести хорошее первое впечатление.
— Я знаю, пап.
— Если бы ты знала, то мы бы сейчас об этом не говорили.
Ну вот, опять. Снова он принялся за свое. Я понятия не имела, чего он от меня ждал. Я даже не знала, знал ли он, в чем смысл этого разговора. Да, он пытался успеть все и сразу, я это понимала — с коммерческой точки зрения, — и ему хотелось, чтобы я сделала то, что обещала. Но он сам уговорил Эда Белмонта нанять меня, а теперь его не устраивает, что я не разобралась с бумагами раньше времени. Я была недостаточно заинтересованной и увлеченной, и это противоречило правилам бизнеса. Если я вошла в его мир, то должна играть по его правилам.
В то же время, казалось, он был счастлив, что я отправилась в Европу. Его взгляды были противоречивыми и сложными. Он, вероятно, не догадывался об этом.
— Папуль, я знаю свои обязательства и ожидания Эда Белмонта и его команды. Знаю. C’est pas tes oignons.
— Что?
— Это по-французски. Это значит, что это не твои проблемы.
Его снова кто-то отвлек. Видимо, его оскорбили мои слова.
— Это мои проблемы, Хезер! Что я всегда говорю? Не за свое дело не берись, а за своим делом не ленись. Иначе не бывает.
— Я знаю, пап, — сказала я, чувствуя, как моя шея краснеет, а кровь кипит. — Это не твои заботы. У меня с командой Эда полное взаимопонимание. Все будет хорошо.
— Просто позвони им, хорошо? И сообщи мне, когда все будет сделано.
— Я разберусь, пап.
— Не забывай, что Эд — такой же старый ворчун, как и я. Мы спим спокойнее, если знаем, что все под контролем.
— Пап, ты не старый ворчун. Ты древний ворчун.
Он засмеялся. Какими бы мрачными ни были грозовые тучи, мне, казалось, удалось их прогнать.
— Милая, мне пора бежать. Я рад, что у тебя все хорошо. Как дела у твоих подруг?
— Все хорошо. Мы отлично проводим время.
— Славно, славно. Молодость бывает лишь однажды, верно? Так ведь говорят? Ладно, милая, я…
Его голос прервали какие-то трансконтинентальные помехи. Я не стала перезванивать. А даже если бы перезвонила, он не поднял бы трубку. Только не на работе.
15
— Я потеряла все свое барахло! Все! Телефон, права, паспорт, что там еще! Я самый тупой и бестолковый американский турист за всю историю туристов! — сказала Эми, наконец придя в себя в кафетерии хостела.
Ее не было все утро, и наконец, одолжив телефон у прохожего, она позвонила и сказала нам не ехать на вокзал и оставаться там, где мы есть. Ничего толком не объяснив, она сказала лишь, что оказалась в нехорошей ситуации и что винить нужно лишь «ее, идиотку». Теперь же, сидя на маленькой кухне, она выглядела как дикарка — ее черные волосы торчали, словно шляпа британского гренадера, — и была достаточно зла, чтобы кого-нибудь убить.
— Наверное, я выронила все, когда положила пальто на диван на той вечеринке. У меня все лежало в той косметичке, с лягушками… Ну, вы знаете. Хотя кто знает? Может, она выпала, когда я подняла пальто, а может, и раньше… Настолько идиотская ситуация, у меня просто слов нет. Эми, офигенная и, мать твою, всемогущая Эми, которая пойдет куда угодно, сделает что угодно! И вот до чего это довело. Тупица, приехавшая из США.
— Косметичка была с тобой в джаз-клубе, в который нас повел Раф? — спросила я.
— Да, да, поверь мне, я думала об этом уже тысячу раз. Я даже ходила в квартиру, где снимала пальто, но там ничего не нашли. Хозяин квартиры был очень любезен. Он сказал, что свяжется со мной, если что-то узнает. Он заставил меня дать ему свой номер, а я взяла его.
— Думаешь, кто-нибудь мог украсть ее?
— Может быть, но вряд ли. Я просто потеряла эту хрень. Ну как можно быть такой невнимательной безголовой тупицей?
Констанция села рядом и взяла подругу за руку. Я никогда не видела Эми такой потрясенной и не могла обвинять ее. Во всей этой истории не было никакого смысла, по крайней мере на этой стадии, потому что она не умела рассказывать по порядку. Все мы были слишком пьяны прошлой ночью, чтобы ясно помнить детали. Хотя основные события понемногу всплывали в нашей памяти.
Самое главное — то, что у нее не было документов, денег, телефона, вообще ничего.
— Ну что, что, что мне делать?! — воскликнула она. — Я полная неумеха! Что за дура!
— Ну же, выше нос, Эми, — сказала я. — Всякое бывает. Это жизнь. Мы все уладим. Просто небольшое недоразумение.
Я не осмелилась посмотреть на Констанцию, потому что точно знала, что она пришла к тому же выводу, что и я. Эми просто облажалась. У нас не было времени, чтобы пройти все сложности процедуры получения нового паспорта, кредитных карточек и так далее. Именно это так злило Эми. Она тоже знала это.
— Все хорошо, милая, — сказала Констанция. — Это недоразумение. Хезер права.
— Нет, ничего подобного. Я даже с трудом вернулась сюда! Я вообще не могу перемещаться без паспорта. Всех моих кредиток тоже нет. Нужно их заблокировать и позвонить маме с папой. Они будут в шоке, это точно. Они предупреждали меня об этом.
— Все родители предупреждают о подобном, — сказала я.
— Да, но я вечно теряю барахло! Ненавижу себя. Даже во втором классе я теряла рукавички каждый день. Клянусь! Моя мама настолько устала от этого, что заставила меня носить носки брата на руках!
Мы не сдержались, ее слова рассмешили нас. Не сразу, но в конце концов Эми осознала всю абсурдность ситуации. Она закрыла лицо руками и рассмеялась. Это был истерический смех, но, по крайней мере, смех.
Эми взяла мой телефон, чтобы сделать не меньше тысячи звонков. Она позвонила родителям и рассказала о случившемся, снова расплакалась, успокоилась, все объяснила, а затем, кивая, записала целый список номеров. Мы звонили из кафе недалеко от вокзала. Оно называлось «Ван Гог». Мы сидели на улице, пили воду и кофе, закусывая крекерами с сыром. Мало-помалу Эми вспомнила все события предыдущей ночи, но общая картина не пролила свет на пропажу косметички. Ее уже нет. И то, как она пропала, не имело никакого значения.
После обеда мы раскошелились на комнату в отеле «Холландер». Эми сказала, что не перенесет хостел, и мы с Констанцией в складчину получили очаровательный номер с маленьким балконом и видом на канал. Это была крупная затрата, образовывающая дыру в бюджете, который мы так тщательно планировали весь весенний семестр, но это было необходимо. Как только мы вошли в комнату, Эми пошла в душ и не выходила так долго, что нам с Констанцией пришлось проверять, все ли в порядке. Каждый раз она заверяла, что все нормально, но мы не особо ей верили.
Ее родители звонили полдюжины раз, отчаянно пытаясь взять ситуацию в свои руки из Штатов. Они предложили ей поехать домой. И хотя сначала я согласилась, что это необходимо, — каждый раз, пытаясь придумать другое решение, я заходила в тупик, — но, когда день плавно перетек в вечер и Эми вышла в полотенце с как никогда напряженным лицом, я засомневалась. Хотя кредитки уже были заблокированы, заменить паспорт будет непросто. Для этого нужно время, все это знают, а у нас было всего две, может, три недели. Она потеряла всю наличку, около семисот долларов. Я смотрела, как Эми вместе с родителями взвешивает все за и против. Полнейшая неразбериха.
Мы собрались с Рафом и Джеком на ночное фондю и уселись вокруг маленького столика с котелком сыра в центре и сосисками с хлебом на тарелке. Это было забавное кафе под названием «Булл Стоун», насколько мы смогли перевести, нестандартное для туриста место. Раф знал о нем — казалось, Раф знал все на свете. Вся эта нелепость котелка с сыром и толкотни вокруг стола оказалась именно тем, в чем нуждалась Эми.
Невозможно предвидеть эти ночи. Ни за что не предугадаешь то спонтанное веселье, которым наслаждались мы. Можно спланировать вечеринку, уладить все детали, подать вкуснейшую еду, отменные напитки, и весь план может провалиться. У нас не было оснований быть такими счастливыми и беззаботными, нашему смеху не было причины. Каждый бокал пива прибавлял нам сил, а сырное фондю, хлеб и сосиски медленно съедались, становясь все вкуснее, и я подумала о том, как же мне нравится здесь сидеть, как я люблю друзей, как Джек подходит мне, а Раф подходит Констанции и насколько бесстрашная на самом деле Эми. Я посмотрела на Джека сотни раз, ловя его взгляд на себе, и не могла не подумать о том, что никогда не встречала такого, как он. Я никогда не чувствовала такого комфорта, такой гармонии рядом с парнем, а когда он спросил, хочу ли я прогуляться, я ответила, что спрошу у Эми, все ли в порядке, и если все нормально, то да, да, конечно!
16
— Твой любимый фильм? — спросил Джек.
— «Бэйб».
— Ты шутишь. Фильм о свинье-овчарке?
— Я люблю Бэйба. Любимый серьезный фильм? Ты этого хочешь? — спросила я, сидя у бара, впритык к нему. — «Моя собачья жизнь».
— Не слышал о таком.
— Скандинавский. Шведский, наверное. А какой твой любимый? — спросила я.
— «Лоуренс Аравийский» или «Гладиатор».
— Хороший выбор. А если какой-то один?
— «Гладиатор», — ответил он. — Любимое время года?
— Осень. Не оригинально, я знаю, но это так. Твое?
— Весна, — сказал он. — Именно весной я проводил прекрасное время на ферме у бабушки. Словно все спало долгое время и наступило долгожданное утро, когда все просыпается.
— Вермонтская ферма, — сказала я, пытаясь сложить пазл его жизни. — Когда твои родители разошлись, ты проводил время с бабушкой и дедушкой?
Он кивнул. Я понятия не имела, который час. Наверное, около полуночи, но мне было все равно. Бар, в котором мы сидели, не собирался закрываться и выставлять нас за порог. Барменом оказался высокий тощий мужчина с полуседой бородой, который явно выдерживал ночные смены благодаря компьютерным играм. Он едва отрывал взгляд от монитора, когда в бар приходили люди. Это заведение нам посоветовал таксист. Оно называлось «У Авраама».
— Ты устала, Хезер Постлуэйт? — спросил Джек немного времени спустя. — Мне провести тебя домой?
— Да, конечно. И нет, пока нет.
— Расскажи мне о своей работе. Ты собираешься работать в Банке Америки? Нью-Йорк, все дела?
Я кивнула. У меня не было настроения общаться на эту тему, но он ждал ответа, и мне пришлось отреагировать.
— Инвестиционно-банковские услуги, — осторожно начала я. — Буду работать с тихоокеанским бизнесом… В основном с Японией. Я немного знаю японский. Скажем так, свободно им владею. Именно это сделало меня ценным кандидатом для нескольких компаний. Приступаю пятнадцатого сентября. Буду много путешествовать, туда-сюда, и придется много работать. Это прекрасная возможность.
— И хорошо оплачиваемая должность.
— Да, больше, чем я заслуживаю. Чем кто угодно заслуживает, наверное. Но это даст мне большие возможности.
— Это для тебя так важно?
— Что важно?
— Деньги. Богатство. Гармония работы и жизни.
Я принимала его слова слишком близко к сердцу. Мне хотелось, чтобы мой рассудок прояснился. Я уловила неодобрение в его вопросе, какое-то осуждение, и мне это не нравилось. Осуждение — последнее, в чем я нуждалась. Я сделала глоток из бокала и посмотрела в окно. Одинокий уличный фонарь отчаянно отгонял тьму от зданий.
— Прости, — сказал он. — Я переборщил с реакцией. Ты кажешься такой… живой. Я никак не могу представить тебя сотрудником крупной компании. Специалистом по инвестиционно-банковской деятельности.
— Инвестбанкиры живут в обычном мире, — сказала я, изо всех сил пытаясь держать равновесие, — и они любят мир и ценят его.
— Хорошо, — сказал он. — Я понял.
Не думаю, что он мне поверил. Он взял меня за руку, притянул ее к себе и поцеловал мою ладонь. Затем посмотрел на меня.
— Мне очень жаль Эми. Думаешь, она теперь поедет домой?
— Наверное. Она справится, но с практической точки зрения, если ей не заменят паспорт и все необходимые документы в короткий срок, ей придется отправиться домой завтра или в ближайшее время.
— Наверное, это самое разумное решение. Жаль, конечно.
— Да, это печально. Мы вместе планировали эту поездку. Мы всю весну обсуждали наше путешествие, а теперь все закончилось, вот так просто. Удивительно, как быстро все может измениться.
— Кажется, ты не большая поклонница перемен.
— Наверное, нет. Не знаю.
— Любишь планировать?
— Пожалуй. Ты нет?
— Мне немного лень планировать. Я люблю неожиданности.
— А я девочка с планировщиком «Смитсон».
— Это я уже понял. А у меня вот старый дневник на резинке. У тебя дома комод?
— Шкаф. Обувь стоит в ряд. Я расставляю приправы и специи в алфавитном порядке.
— А я больше отношусь к типу людей, которые надевают грязную одежду из корзины для белья.
— Как ты борешься с морщинами?
— Даю им волю. Пускай живут и делают что захотят.
— М-да, я бы так не смогла. Всю жизнь быть похожим на морщинистого бассет-хаунда[4].
— Я люблю бассет-хаундов. Что тебе в них не нравится?
— Не знаю, но я не хотела бы быть одним из них. Какие-то они морщинистые и толстомордые. Ты не похож на бассет-хаунда, Джек.
— И кто же я тогда?
— Хм, наверное, одна из упряжных собак. Я не уверена. Я пока плохо тебя знаю.
— А ты одна из этих стриженых пуделей?
— Надеюсь, нет. Я всегда видела себя лабрадором-ретривером.
— Ты точно не лабрадор. Лабрадоры добродушные и радуются даже грязному теннисному мячику в зубах.
— Я добродушная. Хотя грязный теннисный мячик — это, пожалуй, слишком.
Немного позже в бар вошел мужчина с коробкой, в которой стояла статуэтка Девы Марии. У него были ужасные зубы и суровое лицо. Его руки казались самыми тяжелыми руками в мире, с темными вытянутыми пальцами и ладонями толщиной, наверное, с головку молота. Его шею обвивал красный платок, но он не был священником. Он поставил коробку на барную стойку и спросил нас, да и всех остальных, хотим ли мы помолиться статуэтке. Я никогда не видела ничего подобного: она была сделана из упаковочного ящика, покрыта проволокой, а еще мужчина установил небольшой фонарик позади верхнего каркаса, словно Пресвятая Мать стоит в луче небесного света. Констанция точно офигела бы от такого зрелища. Но ни владелец бара, ни другие посетители не заметили ничего странного в этой коробке и самой Деве Марии, которая распростерла руки, приветствуя мир, а ногой прижала змею к земле. Если же и заметили, то не показали этого.
— Можно сделать пожертвование? — спросил Джек на английском.
Мужчина кивнул.
— Сколько?
— Сколько хотите.
Джек сунул руку в карман и дал ему несколько монет. Затем повернулся ко мне.
— Ты молишься?
— Если давно, то не считается.
— Я не часто молюсь, но сегодня, кажется, нужно. Не каждый день увидишь саму Деву Марию в баре.
— Звучит как начало плохой шутки.
— Боюсь, Богу может быть одиноко.
К моему удивлению, он закрыл глаза и начал молиться. Я изучила его прекрасный профиль, торжественное выражение лица и попыталась присоединиться к нему, но не смогла. Закончив молитву, он перекрестился и кивнул мужчине с Девой Марией в коробке. Мужчина кивнул в ответ. Это была поздняя ночь, и незнакомец, казалось, понимал, что людям может понадобиться молитва.
17
На рассвете я легла в постель к Эми. До чего же было приятно наконец отдохнуть. Она повернулась, пробормотала что-то и снова провалилась в глубокий сон. В погоне за чем-то или убегая от кого-то, она начала двигать ногами, словно крутя педали, а затем успокоилась и снова задышала ровно. Я взглянула на ее лицо и попыталась представить, что ей пришлось пережить. Но у меня совсем не было на это сил.
Около полудня Констанция принесла нам в постель поднос с кофе, хлебом и круассанами. Она разложила тарелки и белые накрахмаленные салфетки прямо перед нами. Я села, облокотившись на подушки, и попыталась проснуться. От кофе исходил невероятный аромат. Круассаны, лежащие между блюдцами с малиновым джемом и кубиками сливочного масла, напомнили моему желудку, что я проголодалась.
— Твоя мама звонила два раза, Эми, — объявила Констанция, разливая кофе по чашкам и добавляя сливки. Констанция просто обожала чайные сервизы. — Я сказала ей, что разбужу тебя в полдень. Уже даже позже.
— Мне нужно в туалет, — ответила Эми. — Дай мне полчаса, прежде чем придется думать о маме и всем остальном.
Эми встала с кровати и вернулась через несколько минут. Она расчесала волосы и почистила зубы. Сев на постель, взбила подушки за спиной.
— Я не могу думать больше ни о чем, кроме кофе и вкуснейшего круассана, — сказала она. — Спасибо тебе, Констанция. Ты спасла мою жизнь.
— Я принесла их из столовой на первом этаже. На удивление вычурная. В смысле, столовая. Думаю, этот отель намного лучше, чем мы думали.
Я подождала, пока Констанция нальет мне кофе и передаст чашку. Я обхватила ее двумя руками и прижала к груди.
— Ладно, — радостно сказала Эми, словно уже смирилась с потерей документов. — Карты на стол. Кто влюбился?
Констанция покраснела, а я просто опустила взгляд. Подруга по-прежнему мешала кофе, добавляя сливки. Я почувствовала, как моя шея, как всегда, краснеет.
— Ого, — сказала Эми в ответ на наше молчание. — Это значит, что вы обе влюбились. Боже, точно! Вы не шутите? Вы ведь не шутите, правда?
— Возможно, влюбляюсь, — сказала Констанция, смягчив голос. — Возможно. Слишком рано делать выводы. Но он мне очень нравится. Ужасно нравится.
Она закончила приготовление своего кофе и поднесла чашку к губам. Ее глаза радостно сияли. Она была счастлива и влюблена или, как она сказала, почти влюблена, и это было видно.
— В конце концов ты окажешься на овцеферме в Австралии, и я не переживу этого ужаса! — завизжала Эми, выпучив глаза. — Крошка Шейла. Как романтично! Как нелепо и романтично! Как они их называют? Не сельскохозяйственная… ферма. Овцеводческая ферма, правильно?
— Понятия не имею, — сказала Констанция.
— Еще как имеешь, маленькая врушка. Ты наверняка уже размечталась. Ветер раздувает твои волосы, вокруг — кенгуру, красные пески, овцы, а на вас надеты белые скатерти. Верно, Хезер?
— Ну кто, как не Констанция? — согласилась я.
— А ты… ничуть не лучше. Джек, Джек, дровосек! Ладно, значит, нам понадобится два платья для подружек невесты, если только вы не решите пожениться в одно время… Совместная свадьба, двойная свадьба! Вот как мы поступим. Отличный способ сэкономить деньги. А теперь скажите мне, почему я должна быть подружкой невесты? Вечно я — подружка и ни разу не невеста!
— Возможно, ты немного торопишься. Джеку такой вариант может не понравиться. Докладываю последние новости.
— Разве? — спросила Эми, игриво взглянув на Констанцию.
— Он ненавидит условности. Или, по крайней мере, так думает. Стремится быть таким. Он раскритиковал мои планы насчет работы в Банке Америки. Говорит, что офисные работники не умеют жить и любить мир.
— Ой, это лишь слова. Он просто позерствует, — сказала Констанция. — Он без ума от тебя. Все это видят.
— Он может быть добрым и искренним, а через минуту уже ораторствовать на тему того, как нужно жить. Лови момент, ищи приключений, не думай о завтрашнем дне…
— Ты и правда влюбилась, — сказала Эми и засмеялась. — Тебе было бы плевать на его слова, если бы он не вызывал у тебя эрекцию.
— Девчачью эрекцию, — поправила я.
— Еще рано всерьез думать об этом, — сказала Констанция, пытаясь защитить меня. — Мы просто веселимся.
— Вы, девчонки, бросаетесь в омут с головой, — сказала Эми. — Ох вы и шлюшки.
Это было мило и смешно, но где-то в душе я понимала, что Эми слишком старается. Она тоже это понимала, но должна была продолжать. Все остальное — звонки от мамы с папой, поездки в консульство и позорное возвращение домой раньше времени — лежало на поверхности. Она, как и мы, знала это, но мы должны были притвориться храбрыми и сильными.
Мы допили кофе и съели круассаны с ярко-красным джемом. В один момент Констанция соскользнула с постели и открыла шторы и окна — в комнату ворвался легкий ветерок. Ветер игриво приподнимал прозрачные белые занавески, и, наверное, мы все подумали об одном: именно эту Европу, именно это двухстворчатое окно, именно эти занавески, колышущиеся в полуденном бризе, стоит увидеть и запомнить навсегда.
Когда телефон снова зазвонил откуда-то издалека, мы знали, что это мама Эми, или консул, или кто-то другой, но точно насчет документов. Магия покинула нас, и мы убрали поднос с постели, смели крошки, и Констанция, набрав полную ложку джема, положила ее в рот, словно отчаянно пытаясь запомнить этот момент. Под мягкое колыхание штор начался новый день.
— Дело в свете, верно? — спросил Джек.
Мы не покидали Амстердам. Мы не могли оставить Эми одну, пока она не уладит проблемы с документами или не примет окончательное решение ехать домой. Кроме того, мы не хотели уезжать от Джека и Рафа. Мы стояли перед «Молочницей» Яна Вермеера. Это казалось таким странным — наконец видеть оригинал картины, которую раньше приходилось наблюдать лишь в школьных учебниках. И вот он, скромный портрет кухарки, опорожняющей кувшин в миску. Свет — мягкий, утренний — освещает стол справа, словно наполняя кухню спокойствием. В небольшом буклете, который мне дали на входе в Рейксмюсеум[5], я прочла, что большинство художественных критиков считают, что Вермеер использовал камеру-обскуру, чтобы запечатлеть кухарку и точно определить угол падения света на содержимое картины. Можно заметить блики света на фартуке кухарки, а также на ободке кувшина. Но Вермеер даже превзошел камеру-обскуру и все остальное, чтобы воссоздать атмосферу тихого домашнего уюта. Дело было в свете, как Джек и сказал, и я зачарованно любовалась картиной. Из всех произведений искусства, увиденных мной в Европе, эта картина пока что была моей любимой.
— Увидев «Мону Лизу» в Париже, — сказала я, — я не испытала ничего особенного. Но это…
К моему горлу подступил ком.
— Да, — сказал Джек.
— Совсем как живая, словно сидит в соседней комнате. И этот свет, он словно ждет, чтобы его заметили.
— Да. Я тоже так вижу.
— Она настоящая, и даже больше. Кажется, в этой картине кроется сущность всего… Прости, я знаю, что это звучит напыщенно, преувеличенно и просто глупо… Этот свет такой обычный, но кажется, что в нем — весь мир, понимаешь?
Джек взял меня за руку. Не знаю, почему меня все это настолько тронуло. Это был тяжелый день, Эми постоянно ссорилась с родителями по телефону, а меня все не покидала мысль о том, что совсем скоро мне придется сесть в самолет до Нью-Йорка, где меня ждет карьера, которая, по сравнению с прекрасной простотой работы Вермеера, казалась громкой и сложной. Все вокруг было каким-то беспокойным, совсем не таким, как мне хотелось. А картина — мы с Джеком весь день провели в Рейксмюсеуме, то теряя, то снова находя руки друг друга, — ранила меня своей красотой. Это не был Париж Хемингуэя, но чувство было то же самое — та же возвышенная простота, которая пронзила мое сердце, чтобы просочиться внутрь.
— Я знаю, что нам нужно, — сказал Джек. — Ты мне доверяешь? Это отличное противоядие дню в музее.
— Не уверена, что мне хочется приключений прямо сейчас.
— Захочется. Обещаю. Пойдем. Нам нужно уйти от прошлого и устремиться в будущее.
— Если бы это было так просто.
— В чем дело, Хезер?
— Weltshmerz, — сказала я, ощущая, как мои губы преодолевают тяжесть этого слова. — Немецкое слово для выражения мировой боли и усталости от жизни. Суть в том, что физическая реальность не может отвечать требованиям разума. На втором курсе я писала курсовую на эту тему. Я запомнила это слово, потому что оно описывает настроение, которое появляется у меня временами.
— Вельт?.. — спросил он.
— Weltshmerz. Безымянный ужас и усталость от мира. Такое вот определение.
— Бр-р, — фыркнул он. — Художественные музеи всегда так на тебя влияют? Если да, то нам придется избегать их.
— Прости. Я не люблю быть такой.
— Не стоит. Пойдем. Это недалеко. Я нашел это место в последний раз, когда был в Амстердаме.
У меня не было сил сопротивляться. Джек взял меня за руку и вывел на улицу. Спустя пять минут мы стояли в фехтовальной студии недалеко от сада Рейксмюсеума. Сама идея фехтовальной студии, мысль о том, что можно променять жизнь на рапиру или шпагу, или как там они называются, казалась такой нелепой, что у меня слегка приподнялось настроение. Джек сказал что-то дежурному и кивнул в ответ. Дежурным был парень с треугольной бородкой. Он был похож на Зорро, но не был умопомрачительно красив.
— Сейчас будем сражаться, — сказал Джек, вручив свою кредитку Зорро. — Сражаться до смерти. Когда почувствуешь экзистенциальный страх, нужно будет выйти за пределы допустимого. Ты должна противостоять смерти.
— Джек… — начала я и тут же осознала, что понятия не имею, что хочу сказать. У меня не было никаких предубеждений насчет фехтования. Наверное, ни у кого не было. Но я по-прежнему была сбита с толку и нервничала.
— Тебе станет лучше, обещаю. Это лучший способ избавиться от… Как ты там говорила?
— Weltshmerz.
— Да, от weltshmerz, — сказал Джек и забрал свою кредитку. — Доверься мне. Невозможно утратить вкус к жизни, если сражаешься за нее.
— Я не знаю, как фехтовать, Джек. Я никогда этого не делала.
— Идеально, — сказал он, взяв в руки оборудование.
Две белые формы изобретательно оборачивали пару фехтовальных рапир. Джек взглянул на меня. Зорро вручил мне шляпу пасечника. Это был шлем с сеткой спереди. Видимо, нужно было подключиться к датчикам, записывающим удары. Несколько минут Зорро объяснял Джеку, как подсоединить костюмы к этим датчикам.
— Ну, ты поняла, да? — спросил Джек, когда Зорро закончил. — Просто защитный костюм.
— Мы будем сражаться? Прямо сейчас? Ты это имеешь в виду?
— Когда мы начнем, ты не сможешь думать ни о чем, кроме нашей дуэли. Доверься мне. Твоя кровь закипит в жилах.
— Безумие какое-то.
— Конечно безумие. Все безумие. Весь мир — безумие. Разве ты не знала, Хезер? Ты не знала, что все вокруг — мошенники, а в соседней комнате находятся настоящие взрослые?
— Я очень азартная, Джек. Ты должен это знать. Если ты собираешься сражаться со мной на мечах, то учти, я буду беспощадной и бескомпромиссной.
— На рапирах, — поправил он. — А теперь иди в женскую раздевалку и надевай костюм. Закроешь свои вещи на ключ. Приготовься встретить свою безвременную смерть на конце моего меча.
Я посмотрела ему в глаза.
— Все это фехтование — какое-то оно фрейдистское. Сконцентрировано на пенисе.
— Именно.
— Это могут быть твои последние минуты жизни, Джек. Насладись ими.
— Посмотрим.
Зорро засмеялся. Он наблюдал за нашей перепалкой.
— Американцы, — сказал он и покачал головой.
— Да, черт возьми, — сказала я, повернувшись к нему, и взяла форму со стойки.
Стоя напротив мужчины, от которого ты без ума, в фехтовальном костюме и держа шпагу в руке, осознаешь несколько вещей. Во-первых, невозможно выглядеть стройняшкой в фехтовальном костюме. Во-вторых, если тебе повезет, твой мужчина будет стоять напротив тебя и выглядеть в каком-то роде великолепно, повернувшись под особым углом, чтобы избежать потенциального ранения. Его улыбка решительная и радостная. Это досадно, но, в-третьих, ты замечаешь, что твой дискомфорт подпитывает его удовольствие. Он приподнимает свой шлем и улыбается тебе, предлагая поменять угол локтя во время выпада, а тебе хочется поцеловать его, убить его и прежде всего вонзить меч ему прямо в грудь, чтобы ощутить победу хоть на миг, ведь большую часть времени он делал из тебя подушечку для булавок.
— Да ты просто неудержимая, — говорил Джек после нашей двадцатой, пятидесятой, сотой схватки. — Кто знал? Я и не догадывался. Настоящая Хезер — отчасти социопат.
— К бою, — сказала я лишь потому, что мне нравилась эта фраза.
— Сейчас, только шлем надену.
Моя рука дрожала. Все мое тело дрожало. Каким бы ни был мой weltshmerz, его уже не было. Джек был прав. Моя кровь бушевала, энергия била ключом, пока Джек медленно опускал свой шлем. Он улыбнулся, и шлем тут же скрыл его улыбку.
Я бросилась в атаку.
Если бы час назад кто-нибудь сказал мне, что я превращусь в кровожадную дикарку с рапирой в руке, я бы назвала этого человека сумасшедшим. Но я действительно превратилась в дикарку. Безумную дикарку. И наслаждалась рапирой в своей руке и опасностью, которую я воплощала. Лучший вид единоборства. Мое тело было обессилено, но я не могла остановиться.
Я ринулась вперед, Джек пересек мою рапиру, заскользил своим лезвием по моей шпаге и мягко кольнул кончиком оружия прямо в грудь.
— Туше, — сказал он.
— Туше, — согласилась я.
Я продолжала нападать. Мы оба были настороже. Все указания Джека вылетели из моей головы. Мне просто хотелось крови. Мне хотелось победить его. Я жаждала ощутить, как мое лезвие пронзает его плоть, осязать этот удар, удар всерьез, как однажды сказал учитель по фехтованию Гамлету в финальной сцене. Я даже была готова к тому, чтобы меня ранили, лишь бы ранить в ответ. Безумие.
Какая разница? Все равно я не добилась особых успехов. Джек увернулся от моей слабой атаки и метнулся в сторону. Затем, сделав выпад, снова уколол меня кончиком рапиры, прежде чем я успела что-либо сделать.
— Черт! — воскликнула я.
— Это требует времени.
— Вязание требует времени. Я хочу крови.
— Да ты сама фрейдистская чертовка.
— Ты сам напросился, Джек. Ты открыл эту банку с червями. Я тебя предупреждала.
— Хорошо, давай покончим с этим. Я забронировал помещение на час.
— Не могу поверить, что делаю это.
— Неплохо, а?
Я кивнула и приняла позицию в знак того, что готова к схватке. Джек кивнул и сказал:
— К бою.
Я подалась вперед.
Но в этот раз, прежде чем он парировал мою атаку, я нарочито отступила. Вывернула запястье и сделала следующий выпад. Вряд ли он стал бы мне поддаваться, но мое лезвие молниеносно скользнуло вперед и укололо его в предплечье. Это не был настоящий удар, но за час попыток лучше у меня не выходило. Джек сделал шаг назад и поднял шлем.
— Думаю, это было касание, — сказал он.
Я подняла свой шлем. Мы стояли, тяжело дыша, и я осознала, что никогда в жизни не ощущала себя настолько живой и страстной. Я сорвала шлем с головы, помчалась вперед, бросилась ему в объятия и поцеловала его так крепко, как никогда и никого. Он уронил шпагу и напрягся от моего веса. Сделав пару шагов назад, он оперся о мягкую стену крохотной студии и прижался губами еще сильнее. Пот, кровь, гнев и азарт смешались в великолепном пронзительном поцелуе.
Мы не говорили. В этом не было нужды. Мы не могли остановиться, и я вдруг почувствовала, как наши тела двигаются слаженно, переключаясь на вторую, тысячную, миллионную передачу, а затем жестокость сменила нежность, он остановился и посмотрел мне в глаза.
— Это новая Хезер, — прошептал он.
— Та же, что и раньше, — сказала я, с трудом хватая ртом воздух.
— Ты меня поражаешь.
— Заткнись.
Он снова поцеловал меня. Поцеловал настолько страстно, что я ощутила, как моя спина и ребра прогнулись под давлением стены. Он был силен. Невероятно силен. Я обхватила его ногами, и да, мы оба определенно думали о сексе, но помимо этого во всем процессе крылось нечто большее, большее, чем weltshmerz, и это нечто подавляло любые фальшивые мысли и дешевые эмоции. Я желала его тело, все целиком, но в то же время мне хотелось чего-то большего, такого же светлого, как картина Вермеера, чтобы мягкий утренний туман обволакивал чашу в руках кухарки. Мне хотелось его пота, и его силы, и его кинжал. Конечно, все это было безумно фрейдистски, это очевидно, но разве это имело значение? Даже если бы он прижал меня к стене настолько сильно, что мы проделали бы в ней дыру, словно герои мультфильмов, я не перестала бы целовать его. Откуда-то издалека раздался глухой стук, и Джек, оторвавшись от моих губ, медленно повернулся. Мы увидели робкого Зорро на пороге с папкой в правой руке.
— Ваше время вышло, — краснея, пролепетал он.
— Простите, — кивнул Джек, и я сползла с него.
Кровь по-прежнему кипела в моих венах, и мне пришлось опереться рукой о стену, чтобы не упасть. Мы еще долго не прикасались друг к другу, зная, что любое прикосновение может вмиг разжечь огонь.
18
— Раф позвал меня с собой в Испанию. Ближе к концу нашей поездки, — сказала Констанция. — В Малаге будет джазовый фестиваль, и он хочет, чтобы я поехала с ним.
Она больше ничего не сказала. Мы стояли в ванной и чистили зубы, глядя на отражение друг друга в огромном зеркале над раковиной.
Я улыбнулась. У меня было слишком много зубной пасты во рту, и пришлось ее выплюнуть, чтобы сделать это должным образом.
Констанция приостановилась и взглянула на меня. Ее глаза слезились.
— Это может быть правдой? — спросила она. — Может, это сон? Или мы просто выдумали все это?
Она сказала это так нежно, что мое сердце дрогнуло. В ее словах было столько нежности, столько воодушевления, что, казалось, она сама не ожидала от себя такой искренности.
— Вы с Рафом? Да, — сказала я, — думаю, это оно. Ты нашла свою правду.
Правда — это слово, которым мы втроем пользовались для определения единых, неделимых вещей. Эми, я и Констанция были правдой. Холодное пиво на бейсболе, открытый камин в крохотном уютном баре, аромат травы весенним утром, сирень, жужжание пчелы, бьющейся о стекло снова и снова, — все это правда.
— Кажется, да, но это ведь сумасшествие? Я не знаю, что и думать. Правда, не знаю. Я знаю его лишь день, может, чуть больше. И я пообещала родителям оставаться с вами.
— Не думай. Просто слушай свое сердце. Сделай то, что оно скажет, и посмотрим, что из этого выйдет. Мы ведь приехали в Европу не для того, чтобы не отходить друг от дружки, верно?
Она взглянула мне в глаза. Затем выплюнула зубную пасту и вернулась к реальности.
— Ну, я все равно никуда не поеду без тебя, — сказала она, наклонившись к крану. — Я бы ни за что так не поступила, но я ведь не знаю, как там у вас с Джеком дела… Если бы мы могли поехать все вместе, быть может… Клянусь, у меня такое чувство, словно я под дозой. У меня никогда такого не было.
— А когда этот джазовый фестиваль?
— Где-то на последней неделе нашего путешествия.
— Езжай с ним. Я не знаю, какие планы у Джека. Но даже если мне придется немного попутешествовать одной…
Констанция покачала головой:
— Нет. Ни в коем случае. Я даже рассматривать такой вариант не стану. Я не оставлю тебя одну в Европе.
— Во всяком случае, я бы хотела вернуться в Париж, — сказала я и сразу же убедилась в правильности своего решения. — Может, у меня получится уговорить Джека поехать. Мы вылетаем из аэропорта имени Шарля де Голля, так что я могла бы улететь на пару дней раньше. Посмотрим. У него есть друг с квартирой в Вене. Он планирует поехать к нему. Все разрешится само собой. Очень много наших ровесников сейчас путешествуют по миру.
— Он — твоя правда, — сказала Констанция, поднявшись и посмотрев мне в глаза. Она вытерла рот полотенцем. — Я точно знаю. Когда он рядом, ты становишься совсем другой, ты оживаешь. Это восхитительно. И он тоже без ума от тебя. Раф так сказал.
— Я не знаю, чем все это закончится. Я словно рыбак, который внезапно поймал огромную рыбу. Невозможно предсказать нечто подобное, — сказала я. — Все так нелепо, правда? Во время первой поездки в Европу мы запали на парочку мальчиков.
— Хотя они не совсем мальчики, да?
Констанция не отводила от меня взгляд. Она не позволит мне так просто отпустить Джека и Рафа. Она не позволит мне сравнить их со школьными влюбленностями и сумасшедшими романами, которые быстро начинались и быстро заканчивались. Она отложила полотенце.
— Нет, они не мальчики, — сказала я, по-прежнему глядя на нее. — Но, думаю, у Джека есть секрет. Не знаю какой, но за этой поездкой в Европу что-то скрывается. Я не могу понять, он гонится за чем-то или бежит от чего-то. Но все явно не так просто. И я не могу добраться до сути.
— Ты спрашивала его?
Я покачала головой:
— Нет, не напрямую. Но это чувство меня не покидает. Чувство недостающего элемента. Он выпытал у меня немного о работе в Банке Америки… И сделал вывод, что это уничтожит мою душу. Я уже говорила.
— Ты можешь загуглить его. Я гуглила Рафа и узнала, что он зарегистрирован на всех джазовых платформах. Мне аж самой стал интересен джаз.
— О боже, я ведь даже не знаю его фамилии. Он просто Джек Вермонтский. До чего же абсурдно! Напомни мне спросить его фамилию, хорошо?
Констанция кивнула, прополоскала свою щетку и снова взглянула на меня. Она дотянулась до моей руки и сжала ее. Не отводя взгляда, моя подруга снова кивнула.
19
Наш первый скандал, или размолвка, или ссора, или кто-этот-человек-и-почему-я-из-всех-людей-в-мире-провожу-время-именно-с-ним-знак-вопроса-знак-вопроса-знак-вопроса… произошел за столиком — одним из тех самых приторно-милых столиков, которые я постоянно замечала в Европе и никогда не видела в Штатах, — у канала на окраине города. Вечером мы с Констанцией должны были сесть на поезд до Берлина, поэтому мы с Джеком решили арендовать два черных велосипеда — вездесущие велосипеды, встречающиеся по всему Амстердаму (Джек даже придумал милую метафору о том, что велосипедные дорожки — словно муравьиные тоннели, а голландцы — муравьи-листорезы, которые несут зелень в свои гнезда), и провести утро, катаясь по городу. Естественно — это ведь везунчик Джек — погода пошла нам навстречу. Играя бликами на водах каналов, город освещало идеальное, не слишком палящее, но достаточно теплое солнце. Джек, смеясь, держал меня за руку, мы останавливались, флиртовали и даже дважды целовались в живописных местах. Вода сияла на солнце, город дышал чистотой и свежестью, а цветы, великолепные цветы, были повсюду.
А затем появился Джек-волк.
Он не собирался сносить мой домик.
Он появился с улыбкой, ланчем и высоким, слегка запотевшим бокалом пива. Он был самым привлекательным мужчиной на свете. Облокотив свой велосипед на мой, он сидел напротив меня в крошечном ресторане на крошечной улице с крошечной брусчаткой. Что может быть лучше?
— Ты уверена, что хочешь это услышать? — невинно спросил он. — В этом нет ничего особенного. Просто теория, но тебе она, наверное, не понравится.
— Конечно уверена. Я всегда открыта теориям. Ну же!
— Это кое-что, что я читал, вот и все. Это пришло мне на ум, когда ты заговорила о Нью-Йорке. Я где-то читал, что Нью-Йорк — это тюрьма, которую заключенные построили для себя. Вот и все. Просто чья-то идея.
— Продолжай.
— Ты уверена, что хочешь это слышать? Это просто точка зрения.
— Точки зрения — это хорошо.
Джек сделал глубокий вдох и поднял брови, словно ему предстоит объяснять чужое мнение. Он повторно проговорил заявление, подчеркивая, что оно принадлежит кому-то другому.
— Что ж, если следовать цепочке рассуждений, то как-то так. Жители Манхэттена обитают на этой крошечной земле, притесняя друг друга, и чтобы сделать свою жизнь стоящей, они питают иллюзию, что делают нечто важное. Если ты добрался сюда, значит, сможешь добраться куда угодно… Все это дерьмо лошадиное. Поэтому они творят искусство и фильмы, и все это — какая-то часть тюремной платы. Ты должен обеспечить им развлечения, а иначе народ поднимет мятеж. Но если пройтись по улицам и, сняв розовые очки, посмотреть вокруг, то можно увидеть грязь, мусор и бездомность. Какая-то часть этого — правда в любом большом городе, но именно в Нью-Йорке действует какое-то самодовольное правило, твердящее: «Мы — лучшие в мире». Между тем большая часть усилий уходит на то, чтобы привести образ жизни в порядок. Нью-Йорк помешан на статусе-кво. Иногда создается впечатление перемен, например когда в город приезжает цирк или предстоит премьера фильма, но на самом деле ничего не меняется. В музеях чередуются выставки, и все их обсуждают, затем проходят благотворительные балы, и все принимаются обсуждать платья, новые наряды и моду… Я не знаю, Хезер. Наверное, в моих словах нет смысла. Как я уже говорил, это лишь то, что я прочел.
Но в его словах был смысл. Даже больше смысла, чем он думал, но не того смысла, который он хотел вложить. Какое-то время я не отвечала. Я понятия не имела, откуда это шло, но порочная часть меня хотела услышать больше, хотела услышать весь объем его суждений. Я хотела узнать, зачем ему разрушать мой мир лишь для того, чтобы сделать свой лучше. Мужчины иногда так поступали. Я уже видала подобные случаи.
— Разве нельзя сказать примерно то же самое о каком-нибудь другом городе? — мягко спросила я. — Это ведь просто результат того, что люди живут близко друг к другу.
Он сделал глоток пива. В тот момент от выглядел великолепно. Мышцы на его предплечье сплелись и изогнулись.
— Возможно. Наверное, можно. Но, кажется, именно за этим люди и съезжаются в Нью-Йорк. Все стремятся попасть туда с таким рвением, что мне не до конца понятно, чего именно они хотят. Даже самые богатые люди Нью-Йорка владеют меньшей площадью, чем мой дед владел в Вермонте, учитывая то, что он считался бедняком. Они живут в квартирах, подвешенных над землей, деля их со швейцарами, нянями и бухгалтерами. Тебе нужно переживать, в какую школу отправить Джонни и Джилл, ведь это должна быть особенная школа. Летом вы едете в Хэмптонс или летите на Нантакет, и все это безумно напоминает огромный конвейер. Все это так фальшиво, по крайней мере, для меня, поэтому, когда ты говоришь о том, что будешь жить в Нью-Йорке, я не знаю, что это значит. Совсем.
— Понятно, — сказала я, обдумывая его слова. — Не особо вдохновляет. Я заметила, ты переключился от общего к более конкретному. Это больше не теория, верно? Теперь это касается меня.
— Я знал, что это ранит твои чувства, я не хотел этого. Больше всего не хотел. Нужно было молчать.
«Да, — подумала я, — нужно было молчать».
— Мне нужно время, чтобы проглотить это, — сказала я, отклонившись назад и пытаясь привести дыхание в норму. — Как гром среди ясного неба.
— Ты злишься, — сказал он. — Я обидел тебя. Ну же, прости.
— Единственное, чего я не могу понять, — это то, зачем ты хотел причинить мне боль.
— Я не хотел.
— Явно хотел, Джек. Я уезжаю в Нью-Йорк через несколько недель, чтобы начать новую жизнь, а ты говоришь, что я еду в тюрьму, построенную такими же, как я. С чего вдруг ты решил мне это сообщить? Это как-то должно было меня развеселить?
— Прости, Хезер. Мне очень жаль. Иногда мне кажется, что идеи — это… весело. Небольшие мысленные эксперименты. Прости. Я дурак.
— Ты не дурак. Если бы ты был дураком, я бы не приняла это так близко к сердцу. Но ты выбрал эту тему в по-настоящему замечательный день. Я не понимаю. Какая-то пассивная агрессия. Даже когда мы спали на сене, ты сказал, что это можно исправить. Меня можно исправить. Это снисхождение.
— Я не хотел, чтобы так вышло.
— В этом все определение пассивной агрессии, верно? Я пытаюсь придумать другую причину, почему ты заговорил об этом, но у меня не получается. Ты уже давно хотел сказать свое мнение о моем выборе профессии. И ты сказал. Но сделал это окольным путем, верно? «Это не мое личное мнение, боже упаси, это лишь теория, о которой я читал».
— Зачем мне делать тебе больно?
— Потому что моя жизнь отличается от твоей. Потому что у меня есть работа и карьера, которая обеспечит мне хорошую жизнь. Может, ты завидуешь.
— Ну и кто теперь пытается сделать больно?
— Ты первый начал. Я просто радовалась солнцу и пила свое пиво. Кроме того, твоя теория — такой бред, что у меня слов нет. Люди должны где-то жить, Джек. Некоторые живут в Вермонте, а некоторые — в Нью-Йорке. И все мы развиваемся. Я удивлена, что ты в своем возрасте до сих пор этого не знаешь. Ты хочешь сказать, что в Вермонте все счастливы в середине января? Ты когда-нибудь слышал о лихорадке вследствие клаустрофобии? Люди сходят с ума от всего этого снега, льда и темноты. И кто теперь в тюрьме?
— Ты меня убедила, но если Нью-Йорк — такое распрекрасное место, то какая-то там социальная теория не должна была задеть тебя. Все это время мы с тобой играли в угадайку о нашем прошлом, о том, кто мы такие, но на самом деле я знаю, кто ты. Поэтому ты так отреагировала. Ты отреагировала, потому что боишься, что твоя жизнь превратится в рутину, ты станешь инвестбанкиром, боже мой, об этом я и говорю, ведь в твоем календаре «Смитсон» уже давно расписано все твое будущее буковками с завитушками.
— Тебе не задеть меня, ты, самодовольный дурак. Прости, но ты действительно самодовольный дурак. Ты просто нахал. Я должна была заметить это раньше. Я тебе не какая-нибудь глупая девица, которая поддастся влиянию твоих теорий социальной справедливости. Если Нью-Йорк — тюрьма, то и все остальные города — тоже. Это просто остров со множеством своих достоинств и недостатков. Это жизнь.
— Это лишь кое-что, что я прочел, Хезер. Кое-что, что, как я думал, будет интересно обсудить. Ты придаешь этому большее значение.
— Мне наплевать, что ты там прочел, Джек. Честно, мне наплевать. Меня волнует то, что ты пытаешься подорвать мой мир, просто чтобы… Как ты говорил? Просто чтобы поиграть с идеями? Очаровательно, Джек. Так не делают просто из элементарной вежливости.
— Ах, ради бога, Хезер, ты слишком бурно реагируешь!
— Снова моя вина, верно? Великолепный Джек Вермонтский ни в чем не виноват… Виновата лишь я.
— Боже, это новая сторона медали под названием Хезер.
— Правда? Можешь поставить себе один балл. Ты такой придурок, ты даже не представляешь. Серьезно. Ты думаешь, что ты весь такой свободный и классный… Как ты можешь судить меня? А ты просто слоняешься где попало…
— Ты переходишь на личности.
— А ты не переходил на личности, когда говорил, что я вот-вот закроюсь в тюрьме? Что ты можешь исправить это? Исправить меня? Я должна была сказать: «Вот это да, Джек, какая прекрасная и интересная мысль!»? Я просто буду медленно хоронить себя в этом ужасном городе.
— Возможно, это действительно немного бестактно.
— Так значит, это мое неуравновешенное восприятие? Верно?
Именно тогда я осознала, что не нужно было делать этого.
Не нужно было побеждать. Не нужно было спорить. Не нужно было никого ни в чем убеждать. Нужно было просто встать и уйти. Джек был обворожителен, как дьявол, он был привлекательным мужчиной и знал о своем обаянии, но, правда, зачем мне это нужно? Меня ждала работа. Вот-вот начнется моя карьера. Спорить не было никакого смысла. Если бы мы встречались несколько месяцев, то да, хорошо, я бы попыталась докопаться до истины, но ведь все было иначе. Меня необычайно обрадовало осознание того, что я могу просто встать, улыбнуться, попрощаться и изящно удалиться.
Именно так я и поступила.
— Знаешь что, Джек? Прости. Вот правда, прости. Я не хочу ссориться. Уверена, ты отличный парень, но, возможно, мы все-таки не подходим друг другу. Видимо, у нас разные взгляды на жизнь. Кто знает? Я не нуждаюсь в твоем благословении, чтобы поехать в Нью-Йорк и начать карьеру, а тебе не нужно мое разрешение, чтобы и дальше блуждать по Европе. Я сочту это за прекрасный флирт, замечательный, что бы там ни было, и на этой ноте отпущу тебя. Если когда-нибудь будешь в Нью-Йорке, заходи ко мне, в тюрьму.
— Ты серьезно? Ты уходишь? Я думал, у нас было прекрасное утро.
— Это утро было волшебным, Джек. Спасибо тебе за него. Когда кто-то говорит тебе, что у него есть план на твою жизнь и он получше твоего, что ж, нужно бить тревогу. Следует обратить на это внимание. Без обид, ладно? А я просто засяду на этом ничтожном острове Нью-Йорка и буду мирно ждать своей смерти.
— Ой, прекращай, Хезер.
— Нет, клянусь, не парься. Кстати, это была шутка, насчет смерти. Так даже лучше, клянусь. Через пару недель я вернусь в Нью-Йорк и буду занята под завязку. Я пойду на запад, а ты отправляйся на восток, Джек. Без проблем, все в порядке.
— Хезер, я прошу прощения. Ты права. Прости меня.
Пока я стояла перед ним, меня посетила мысль.
Я когда-то давно читала об этом. Там было что-то вроде: «Необходимо закончить однажды начатое». Ты стремглав мчишься к выходу, не останавливаясь. Выходишь на улицу, не оборачиваешься. Не стоит вытаскивать ящики комода, если только не собираешься опорожнить их.
У меня было двоякое чувство. Часть меня твердила: «Умница, избавься от этого придурка».
А вторая часть меня думала: «Он прав, я слишком бурно реагирую. Что я делаю, зачем бросаю важного для меня человека, которому, кажется, нравлюсь я и который к тому же красив, как чертов дровосек из фильма?»
Но ведь если ты начал, то должен закончить.
Я оставила Джека, не оплатив свой заказ. Он не бежал за мной — хотела ли я этого? — но я не могла просто развернуться и посмотреть, что же он делает. Подойдя к велосипедам, я поняла, что нужно эффектно закончить начатое.
Чтобы сесть на свой велосипед, я должна была подвинуть его. Судьба сыграла свою роль. Подняв его велосипед со своего, я осознала, что без особых усилий могу сбросить его в канал. Канал находился слегка снизу от места, где мы оставили велосипеды, и так вышло, что забор, граничащий с каналом, представлял собой небольшую посадочную площадку. Мой мозг сделал мгновенный расчет, и я осознала, что могу толкнуть велосипед к каналу, хоть и не было никаких шансов, что он поедет прямо и не упадет.
Поэтому я его толкнула.
Мне хотелось толкнуть и Джека. Настолько сильно он меня задел.
Его велосипед покатился вперед, лениво двигаясь в сторону канала. Перекинув ногу через раму, я нажала на педаль и увидела, как его велосипед, ударившись об ограду, падает в сторону канала. Часть меня ликовала и хотела кричать, а часть рвалась схватить велосипед, остановить его и вернуть Джеку, но кровь в моих руках, ногах и особенно в шее вскипела до максимума.
Его велосипед остановился, вяло покручивая колесом в воде канала, и я уехала прочь. Достать его будет проще простого, что, наверное, хорошо, но к тому моменту, когда я разогналась, мои глаза наполнились слезами.
Берлин
20
— … веселитесь, сучки.
— Мы любим тебя, Эми.
— Люблю вас обеих. Не переживайте… Все хорошо. Сегодня еду домой.
— Береги себя.
— Хорошо.
— Если бы ты была с нами!
— Ты это только что написала? Не забывайте присылать мне фотки.
— Не забудем. Вот фотография Констанции.
— Уже по вам скучаю.
— Мужчина нужен мне в жизни примерно так же, как дыра в голове. Как рыбам нужен велосипед, — сказала я Констанции, которая не отводила взгляда от картины перед нами. — Он растоптал мои чувства, он все испортил. Честно, теперь, когда мы с ним на расстоянии, я стала лучше понимать. Не знаю, чем я думала. Я вообще не думала, наверно, в этом дело. Думала своим мозгом Барби.
— Мозгом Барби?
— Ну, знаешь, Кен и Барби в своем домике в Малибу. Кен и Барби идут танцевать. Мозг Барби. Вся эта романтическая чепуха.
Она кивнула.
Солнце затерялось где-то среди городских зданий, удлинив тени. Это был Музейный остров Берлина в четыре часа дня. Предвещая дождь, тучи затянули большую часть неба. Мы с Констанцией находились в Старом музее. Помимо него, мы также были в Новом музее, Музее Боде, Пергамском музее и в Старой национальной галерее. Сказать, что картины, статуи, полотна, старинные наконечники стрел и копий, керамические осколки и колючая проволока необычайно дополняли друг друга, — ничего не сказать. Я обожала музеи, обожала искусство и культурные выставки, но по сравнению с Констанцией я была полной лентяйкой. Она превратила мои ноги в резину, она сделала из меня ноющую желейную массу. Мы провели три с половиной дня в Берлине, будучи лучшими туристами, каких только можно себе представить. Мы видели все. Мы делали все. Невозможно было найти такую достопримечательность, рядом с которой мы бы не сфотографировались, еды, которую мы не попробовали бы, и лавок с безделушками, в которых мы не побывали бы, чтобы хорошенько запомнить эту поездку. Если бы путеводители «Мишлен» и «Плэнет Гайд» выдавали награды за «тщательное изучение крупного европейского города», мы с Констанцией в два счета заняли бы первое место.
Пять звезд.
А теперь небо затянули свинцовые тучи, и я чувствовала себя уставшей и недовольной.
— Тогда тебе ни к чему видеться с ним снова, — наконец сказала Констанция, медленно переходя к следующей картине. — Так будет лучше. Игнорируй мозг Барби.
— Точно. Проще простого.
— Во всяком случае, мы с Рафом собирались встретиться. А Джек пускай возится с дневником деда.
— Через месяц я выхожу на работу.
— Ты разобралась с бумагами?
Она не смотрела на меня, она совсем не отводила глаз от картин. Констанция никогда не злилась, но и не упускала ничего. Она знала, что я никак не могла разобраться с банковскими документами.
— Почти, — сказала я. — Не совсем.
— Ты не расстаешься с дневником «Смитсон», но при этом не разобралась со своими делами? Ты открываешь свой ежедневник чаще, чем люди открывают Библию. Я в шоке.
— Я все сделаю. Боже, ты совсем как мой папа.
— Ты уверена, что Джек не заставил тебя пересмотреть свой выбор? Это совсем на тебя не похоже. Благодаря ему ты наверняка кое-что переосмыслила. Это нормально.
— Ой, он несет чушь. И все это чушь. Теперь Джек — лишь корабль, растворившийся в ночи. Все кончено.
— Правда? — спросила она, подняв брови. — Хорошо, как скажешь.
— Ты не веришь?
— Я полагаю, мое мнение здесь ничего не значит.
— Да, он корабль. Большой, уродливый экскурсионный корабль высотой в полтора километра, на котором подают слишком много еды и целый день грохочет отвратительная безвкусная музыка. Он очарователен, признаю, но все же. У меня сейчас нет на него времени.
— Конечно нет.
— Если бы я сейчас была где-нибудь в другом месте, понимаешь, психологически… я не знаю… может… может, тогда я бы подумала. Но он вел себя ужасно грубо.
— Поэтому ты тысячу раз в день проверяешь почту, чтобы убедиться, что он тебе не написал? Вот такая у тебя тактика? Хороший план, если ты хочешь дать ему отпор. И дело совсем не в твоем мозге Барби.
— Ты пытаешься убить меня, Констанция? Сначала ты таскаешь меня по всем выставкам Берлина, а теперь дразнишь меня Джеком.
— А мне казалось, ты ненавидишь Джека.
— Нет, я его не ненавижу. Мы просто не подходим друг другу так, как мне казалось.
— Сдается мне, ты преувеличиваешь.
— Мне нужно выпить. Я немного запуталась.
— Совсем скоро мы купим выпить, обещаю.
— Мне нужно много. Ты ведь не считаешь, что Нью-Йорк — это тюрьма, которую мы строим для себя?
— Нет, я так не считаю, солнышко.
— Как можно сказать такое человеку, который через несколько недель едет в Нью-Йорк? По крайней мере, это невежливо.
— Да. Я согласна.
— Мне плевать на саму теорию, но зачем быть таким грубым?
— Это тайна вселенной.
— Все мужчины идиоты, как ни крути.
— Определенно, идиоты. И всегда ими будут.
— И зачем же тогда мы с ними возимся?
Констанция пожала плечами и взяла меня под руку. Музей поражал красотой, а легкий ветерок наконец принес с собой дождь. Я поежилась и осознала, что пора прекращать думать о нем — о Джеке. Это глупо и по-детски, но я никак не могла избавиться от чувства, что действительно приняла его слова слишком близко к сердцу. Может, я упустила свое счастье? Может, нужно было бороться немного дольше? Словно ты несколько часов примеряла вещи из секонд-хенда и, наконец найдя нужную вещь, решила не покупать ее. Не то чтобы ты не могла без нее жить, но тебя все равно гнетет мысль о том, что ты просто ушла. А потом ты постоянно думаешь, не забрал ли ее кто-нибудь, такая ли она замечательная, как ты помнишь, и осознаешь, что если бы просто купила эту проклятую вещь, то сейчас не думала бы об этом. Джек был наихудшим видом всевозможных «темных лошадок» — привлекательный, умопомрачительный парень, который допустил ошибку, сказав неподходящие слова в неподходящий момент.
Это такой психологический трюк? Если сказать человеку не думать о розовом слоне в пачке, он ведь не сможет думать о чем-то другом. Джеку пошла бы пачка.
После музея мы пошли к пограничному пункту Чекпойнт Чарли. Это был один из тех редких случаев, когда мы не знали, куда именно направляемся, но все равно поехали поглазеть на достопримечательность. Мы гуляли, болтали, глазели на витрины, и вдруг Констанция сообщила, что мы добрались до открытого Музея союзников в Целендорфе. Я заставила ее поклясться, что она не привела нас туда специально, и она, перекрестившись, подняла два пальца вверх.
— Клянусь, это вышло случайно, — сказала она. — Я так же устала, как и ты. Последнее, чего мне хотелось, — это пойти в еще один музей.
— Ты никогда не устаешь.
— Я уже устала.
Мы стояли, глядя на пешеходов, снующих туда-сюда. Я знала, что пограничный пункт назывался Чекпойнт Чарли, но больше не знала об этом месте ровным счетом ничего. В путеводителе «Лавли Плэнет» Констанция читала, что это легендарные ворота Берлинской стены, известные под названием Чекпойнт Чарли. Не знаю почему, но вид Берлинской стены и мысль о том, что люди были убиты в борьбе за свободу, вызвала огромный ком у меня в горле. Вот она, самая что ни на есть тюрьма, самая настоящая. Я взяла Констанцию под руку, и мы поплелись по брусчатке вдоль различных исторических объектов пропускного пункта. Мы остановились, чтобы почитать о Питере Фетчере, немецком подростке, которого подстрелили 17 августа 1962 года во время попытки сбежать из Восточного Берлина. Согласно описанию, запутавшись в колючей проволоке, он истекал кровью, пока не умер на глазах у людей. Американские солдаты не могли освободить его, так как он частично находился на территории СССР. Восточно-немецкие солдаты не помогли парню, боясь спровоцировать западных охранников. Весь идиотизм ситуации, бессмысленность этих границ и политические разногласия вызвали во мне беспокойство.
— Наверное, во всем Берлине эта выставка понравилась мне больше всего, — сказала я Констанции, когда мы наконец закончили и отправились за выпивкой. — Мне кажется, она невероятная. Не знаю почему, но я правда так думаю.
— Это грустная глава истории.
— Нельзя ограждаться от реальности. Не совсем. Не надолго. Именно это заставил меня понять Чекпойнт Чарли.
— Пойдем, возьмем тебе выпить и миску супа.
Я кивнула. Нечто в Чекпойнт Чарли вновь зажгло во мне желание путешествовать. Чтобы понять мир, нужно его увидеть. Впервые за долгое время я ощутила правильность своего выбора работы, плана, который для себя составила. Как бы банально это ни звучало, мне хотелось быть гражданином мира. Все было хорошо. Я чувствовала себя отлично. И когда в небольшом кафе к нам подошли два немца, чтобы предложить выпивку, — парни возраста Питера Фетчера, — я отказала им, потому что мы с Констанцией были неистовыми любовницами, которые наслаждаются медовым месяцем и не нуждаются в мужской компании. Из всех способов избавиться от мужчины этот был лучшим в моем опыте.
Я проснулась в 1: 37 ночи. В горле пересохло, а разум был все так же затуманен после двух мартини, которые я выпила прошлым вечером. Мой телефон показал, что сейчас 1: 37, затем 1: 38, а потом 1: 39. Я проверила, нет ли сообщений от Джека. Ничего. Проверила эсэмэс. Ничего. Нэнси из отдела кадров Банка Америки прислала мне форму, связанную с чрезвычайными ситуациями. Я не стала вчитываться, просто отправив письмо в папку под названием «Банк Америки». Новый файл занял место среди других неотвеченных запросов, и я снова отложила это на потом. Я винила Джека в том, что утратила свою собранность. Я винила его за то, что игнорирую запросы и все сообщения из Банка Америки. Болван Джек.
Джек не был моей правдой. Просто один из парней.
Я заблокировала телефон и стала вслушиваться в дыхание людей вокруг. Размеренное дыхание Констанции меня успокаивало. Еще две девочки, обе из Ирландии, вернулись поздно вечером и уснули под пьяное бормотание друг друга.
Я подумала о слове «бормотание». До чего же точно оно описывает свое звучание. Бессмысленно, но в 1: 41 ночи эта мысль показалась мне необычайно разумной. «Слякоть» — еще одно слово, которое звучит так же, как выглядит. Слякоть и бормотание. Слякоть должна быть слякотью. Бормотание идеально выражает свою сущность.
Я привстала и, сунув руку в рюкзак, достала свою бутылку с водой. Открутила крышку и жадно присосалась к бутылке. Положила воду рядом с собой и подумала о том, что мне не помешало бы сходить в уборную и пописать. Но покидать постель не хотелось. Не хотелось окончательно просыпаться. Моя голова раскалывалась, и я медленно села.
Решила отгонять от себя мысли о Джеке. Напрочь. Это было не сложно, и я гордилась своей новой решимостью. У меня были и другие дела. Целая куча дел. Банк Америки, новая квартира в Нью-Йорке, сотрудничество с Японией, путешествия, мистер Барвинок, самый старый кот в мире, Эми с Констанцией и еще дюжина друзей, которым вот-вот предстоит начать свою карьеру. Глядя на ситуацию трезво, я осознала, что Джек — сущая ерунда. Он просто был в моей жизни. Но в список моих дел он не попадет. Скорее в черный список.
К тому же я поняла, что мы совсем не подходим друг другу. Он — свободолюбивый импульсивный романтик, а я ценю постоянство. В этом он был прав. Я ориентирована на карьеру. Я — черепаха, а он — заяц. Я — муравей, а он — кузнечик. Это не делало кого-то из нас правым, а кого-то виноватым, мы просто разные. Это правильная точка зрения, и я радовалась, что наконец со всем разобралась.
— Вот так, — прошептала я, не ожидая, что мой голос прозвучит так громко в этой крошечной комнатушке.
Нет места в списке. И так слишком много всего.
21
На следующее утро я провела какое-то время в ванной, задерживая дыхание.
Я всегда делала это. В детстве целое лето я ходила в бассейн с мамой, и моим любимым занятием — занятием, которое приносило мне спокойствие, умиротворенность и чувство безмятежности, — было нырять в прозрачно-голубую воду и смотреть вверх, на небо. Лишь задержав дыхание, я могла заставить весь мир замолчать. Я слышала, как кровь циркулирует по моему телу. Биение моего сердца вдруг становилось чем-то сакральным, а мир, суета и безумие повседневности растворялись и меркли, как и обеспокоенная мама с кофе в руке, которая всматривалась в воду, проверяя, жив ли ее ребенок. А я лежала, исполненная спокойствия, пока хрустально-чистая вода отбрасывала тень на дно бассейна. Это и есть расстановка. Тогда я могла остановить целый мир. Поэтому, закрыв глаза в ванне хостела, я сделала глубокий вдох и открыла глаза, наблюдая, как мир постепенно замедляется.
Это сработало. Это всегда работало.
Я была под водой. Я посмотрела вверх и увидела шишковатый потолок над раковинами, услышала гудение труб где-то надо мной, но эти вещи меня не касались. Я представляла, что я — морской житель, ламантин или устрица, и, глядя на мир над собой, ощущала полное умиротворение. Лучи солнца постепенно проникали под воду, и я медленно и со свистом выдохнула. Вдруг откуда ни возьмись появилась одна из ирландок с растрепанными волосами и в помятой пижаме.
— Медитируешь? Ну ты даешь, — сказала она, громко хлопнув дверью. — Все, на что мне хватает сил по утрам, — это хорошенько пописать, но я скоро уйду, не обращай на меня внимания.
Я кивнула и снова задержала дыхание. Черепаха. Вот кто я теперь.
За двадцать семь евро я купила одноразовый пропуск в тренажерный зал, который мне посоветовала женщина в хостеле. Это последнее, что мне хотелось делать, но я чувствовала, как вчерашний мартини отравляет меня изнутри, поэтому решила хорошенько позаниматься. Пропотеть. Утомительный час нагрузок на мышцы наверняка поможет мне отвлечься от назойливых мыслей. Как и задержка дыхания под вымышленной водой, упражнения почти всегда помогали.
К тому же Констанция должна была сделать несколько звонков. Этим утром она наконец решила отдохнуть от искусства и истории святых.
Стоя на рецепции и слушая, какие тренажеры можно использовать, я сделала небольшое примечание: все тренажерные залы в мире выглядят примерно одинаково. В этом зале под названием «Работяга», если я правильно перевела, было много широких окон, вдоль которых выстроились два десятка велотренажеров. Велосипеды — они и в Африке велосипеды. Я взобралась на второй справа, установила самый легкий уровень сложности (постепенно набирающий градиент, все выше и выше) и принялась крутить педали.
Я пила воду. Крутила педали. Нашла информацию о Чекпойнт Чарли и прочла ее. Отправила Эми сообщение и сказала, что скучаю по ней. Очень скучаю. Написала маме, попросила ее поцеловать мистера Барвинка и расчесать его. Попросила ее поиграть с ним мышкой на веревке. Почитала еще немного о Чекпойнт Чарли, включая короткое эссе о том, до чего же сложно было добиться пропуска с Восточного в Западный Берлин.
Тем временем я неплохо вспотела. Мой хвостик шлепал мне по плечам. Блондинка немка улыбнулась мне и взобралась на соседний велосипед. Я улыбнулась ей в ответ. Она была примерно моего возраста. Я повернулась, чтобы посмотреть, не хочет ли она меня перегнать или похвастаться своей выносливостью, но она была не из тех. Она была расслаблена и, казалось, просто хотела спокойно провести время. У нее тоже был хвостик, но она носила его немного выше на затылке, чем я.
Проехав километр, я учуяла запах алкоголя в своем поту. Вытерла шею и руки белым полотенцем и продолжила.
Проехав два километра, я почувствовала, что крутить педали становится сложнее. Мое сердце стучало все сильнее, словно вот-вот разорвется. Но я продолжала ехать на своем виртуальном велосипеде, пытаясь не сбавлять темп.
Проехав три километра, я увидела Джека.
Вроде бы. Мне пришлось выпрямиться на педалях и, прищурившись, посмотреть вниз, на улицу. Джек не мог просто так появиться, решила я. Он не мог явиться из ниоткуда. Может, у меня случился инсульт. Или галлюцинации. Я остановилась и посмотрела на девушку справа. Она читала электронную книгу и совсем не обращала на меня внимания. Но я должна была как-то убедиться, что мне ничего не мерещится.
Прежде чем снова выглянуть в окно, я посчитала до трех, четырех, десяти.
Почему-то я подумала о Безумном Максе. Вздор. Подумала о том, как люди выпрыгивают из тортов, о напряжении, которое испытывают другие, прежде чем увидят их. Именно так появился Джек. Его образ был четким и ясным, и лишь уличная суета пешеходов слегка загораживала мне вид.
Он смотрел вверх, на здание. Он облокотился на самый красивый автомобиль из всех, что мне приходилось видеть, — крошечный серебристый кабриолет «мерседес» с сияющей эмблемой на капоте.
Я слезла с велосипеда, подошла к окну и набрала его номер. Он нажал «ответить» и приложил телефон к щеке. Улыбнулся, глядя на здание, но я не думала, что он меня видел.
— Что ты здесь делаешь? — спросила я. — Какого черта, Джек?
— И тебе привет, Хезер.
— Ты не ответил на вопрос.
— Я приехал к тебе. Хочу извиниться.
— Как ты узнал, где я?
— Констанция сказала.
— Ты преследуешь меня, Джек.
— Я не преследую тебя, Хезер.
Я не знала, что сказать. Наклонилась поближе к окну, чтобы рассмотреть его получше. Мне даже пришлось прислониться лбом к стеклу.
Я слегка ненавидела его за то, что он нашел такой красивый спортивный автомобиль в Германии. Злилась и в то же время была в восторге от того, как он выглядит, облокотившись на эту машину. Несправедливо, когда убийственное обаяние сочетается с кабриолетом, взъерошенными волосами и темно-синим свитером с нашивками на локтях.
— Чего ты хочешь, Джек?
— Увидеть тебя.
— Что если я не хочу тебя видеть?
— Тогда скажи мне это, и я уйду. Это проще простого, Хезер.
— Ты вел себя как последний болван, ты знаешь?
— Да, знаю. Чтобы загладить свою вину, я принес тебе это.
Он обернулся к машине и достал что-то с пассажирского сиденья. Я не сразу поняла, что это.
— Это что, «Бен и Джерри»? — спросила я.
— Мороженое со вкусом шоколадного брауни. Твое любимое. Ты однажды упомянула это. Видишь, я слушал.
— Значит, ты хвастаешься «мерседесом» с «Беном и Джерри» и думаешь, что тебя простят?
— Я лишь надеялся, что ты увидишь, что я пытаюсь.
— Пытаешься что?
— Пытаюсь сказать, что не хочу, чтобы все кончалось.
Наконец он нашел меня в одном из окон. Мой папа всегда спрашивает: «Ты в деле или нет?» Иногда жизнь заставляет делать выбор. Ты с Джеком или нет? На моем iPhone не было ответа на этот вопрос, я не готовилась к этому испытанию. Я не могла вычислить ответ на этот вопрос с помощью диаграмм или анализа рынка, не могла предвидеть, спрогнозировать и здраво оценить плюсы и минусы этого решения.
Ты в деле или нет?
Это Джек. Он всегда будет импульсивным, всегда будет движущейся мишенью, всегда будет неожиданностью — приятной или нет. Он всегда будет вызывать у меня дикие эмоции — счастье и возбуждение, — всегда будет бросать мне вызов и нечаянно делать больно. Будет появляться без предупреждения и занимать большую часть моих мыслей. Он вручит мне меч и скажет биться с ним насмерть. Но, несмотря на все это, какая-то часть меня понимала простую истину: все это время мы не отводили друг от друга взгляда.
Я подняла палец, показывая, что спущусь через минуту. Закончила вызов и обернулась, чтобы протереть после себя велосипед. Немка удивила меня одним-единственным словом на английском.
— Мужчины, — сказала она и покачала головой.
— Я был неправ, а ты права, — сказал Джек, обходя машину. — И я прошу прощения.
— И в чем же я была права?
— Это викторина?
— Может, и так. Может, с тобой по-другому нельзя.
— Я не готовился. Придется импровизировать.
— Едва ли. Посмотрим, как это у тебя получится.
Он был чертовски хорош. У меня в животе все сжалось. Идиотское чувство, но я ничего не могла с этим поделать. Он улыбнулся. Примерно так же он улыбался во время нашего фехтовального поединка.
— Ладно, Хезер. Я признаю, что иногда могу быть бестактным. Я не должен был называть Нью-Йорк тюрьмой, учитывая то, что ты вот-вот туда поедешь. Я полный олух. Я сказал полную глупость, не обдумав последствий.
— Да уж, ты точно олух.
Людям приходилось обходить нас, чтобы пройти. Мы стали пресловутым речным камнем. Мы вынуждали воду обтекать нас. Одна пожилая леди в черном платке и с букетом астр кивнула нам и зашагала вниз по улице.
Джек подошел ближе. Я тут же ощутила резкий прилив крови к шее.
— На автомагистрали мы можем гнать сто шестьдесят километров в час, — наклонившись к моему уху, прошептал он. — Ты когда-нибудь ездила на такой скорости? Тебе понравится. Ты никогда не забудешь эту поездку.
Он отстранился. Я смотрела на него секунд десять. Он тоже не отрывал от меня взгляда.
— Сперва скажи, что ты дубина, — сказала я.
— Ты дубина.
— Нет, скажи, что ты дубина.
— Хорошо, ты дубина.
Он улыбнулся. Я обожала его улыбку.
Он прекрасно понимал, что я на крючке. Он снова достал мороженое.
— Оно растает, если мы его сейчас же не съедим, — сказал он. — Вот это будет трагедия.
— Куда ты хочешь поехать?
— Я заприметил одно местечко.
— Какое?
— Расслабься, Хезер. Поверь мне. Ты можешь мне доверять, ты знала об этом?
— Разве?
— Я ведь могу неправильно понять твои слова. Ты хочешь или можешь довериться мне?
— Ты мне нравишься, Джек, но то, что ты сделал, — полный провал.
— Я знаю, и мне жаль, что так вышло. Не могу пообещать, что это не повторится, но я не хотел обидеть тебя.
— А мне кажется, хотел. Именно это меня и пугает. Именно это ранит больше всего.
Он кивнул.
Я была от него без ума.
И тут я вспомнила, как я выгляжу. Ничего привлекательного. У меня не было зубной щетки. Не было сменной одежды, и я по-прежнему была вся потная.
Моя шея, как всегда, горела. Я чувствовала, что моя футболка промокла от пота.
Сделав глубокий вдох, я обошла машину сзади. Когда я открыла дверь, он повернул меня к себе и поцеловал. Тут-то и возникла та самая животная страсть. Мне казалось, что я не могу поцеловать его достаточно крепко, как будто моей силы было мало. Этот поцелуй был похож на тот, в фехтовальной студии. Он наклонил меня назад, и мне казалось, что я вот-вот сломаюсь пополам. Я протянула руку и прижалась к его груди, и уже ничто в этом мире не имело значения, кроме поцелуя Джека, его тела, запаха древесины, земли и рек.
Не помню, сколько времени мы целовались, но лишь спустя несколько минут я осознала, что моя спина все-таки не сломалась, и заметила, что я почти сижу на пинте мороженого.
22
Я взглянула на спидометр: мы ехали со скоростью почти сто сорок километров в час. Джек сидел на пассажирском сиденье, поедая ложкой шоколадное мороженное.
— Ох, до чего же вкусно, — сказал он. — Это точно. В детстве мы называли лакомства син-син. Так вот, это точно син-син.
Он дал мне кусочек. Син-син, что бы это ни значило.
Я надавила на газ и разогналась до ста сорока пяти.
— Я ускоряюсь, — сказала я.
Он кивнул и продолжил кормить меня из ложки, кормить меня син-син.
Если ехать со скоростью примерно 161 км/ч, можно почувствовать, как ветер раздувает твои щеки. Нет ничего сложного в том, чтобы вести машину, которая несется как пуля.
Ты просто понимаешь, что в любой момент можешь подорваться или перевернуться, но тебе абсолютно плевать. Разинув рот, ты ждешь, пока великолепный шоколадный вкус коснется твоего языка, и выжимаешь как можно больше из этой машины, жмешь газ и поворачиваешься к Джеку, милому Джеку, который просто наслаждается моментом, ничуть не нервничая. Он упивается скоростью и терпеливо делится мороженым, пока твои руки заняты, а ты вопишь от восторга, думая, почему раньше не ездила так быстро, почему раньше не додумалась арендовать «мерседес» в Германии и почему не позволяла мужчине кормить тебя мороженым, пока расплывчатые пейзажи пролетают мимо.
Я выжала до 172 км/ч.
Это было немного слишком.
Джек кивнул, и я снизила скорость до нормы.
Словно наконец вернулась в реальность.
— Ну как тебе? — спросил Джек, давая мне последнюю ложку «Бен и Джерри».
— Удивительно.
— Тебе ужасно идет вождение. Словно ты одержима.
— Я чувствовала себя одержимой.
— Мне не понравилось быть вдали от тебя, Хезер. Это как-то неправильно.
Я сделала глубокий вдох. Мне нужно было немного протрезветь от скорости, хотя мое тело по-прежнему дрожало.
— Нью-Йорк — не тюрьма, которую я строю для себя. Это начало моей карьеры. Я буду работать, буду путешествовать, и я собираюсь окружить себя хорошими людьми, буду заниматься благотворительностью и любить щеночков, что в этом плохого, Джек? Почему для тебя это тюрьма?
— Это не так. А если бы я поехал с тобой, то это уже не была бы тюрьма, верно? Мы были бы в ней вместе.
— Ты хочешь поехать со мной?
— И ты даже не скажешь, что мы только познакомились? Что нам нужно время?
— Ты не ответил, хочешь ли поехать со мной.
— А мы будем спать вместе?
— Ты по-прежнему не ответил.
— Я бы с тобой поехал. Да. Наверное, может быть. Да.
Я кивнула. Я ничего не могла с собой поделать. Я понятия не имела, удалось ли нам наконец достичь взаимопонимания. Открыла рот, чтобы кое-что разъяснить, но тут же закрыла его. Впервые в жизни мне не хотелось, чтобы все было прозрачно. На такой скорости совершенно неохота выбирать выражения. Особенно в такой момент.
Он взял меня за руку и отпустил лишь тогда, когда мне нужно было переключить скорость.
Я регистрировалась ни с чем. Ни сумки, ни чемодана, ни чехла для одежды. Ничего. От меня пахло потом, а на голове был обычный хвостик. В хостеле это не стало бы большой проблемой. Но это был не хостел. Отнюдь.
Это был пятизвездочный отель на бульваре Унтер-ден-Линден, под названием «Адлон Кемпински», с убийственным видом на Бранденбургские ворота. Невероятное зрелище. В таком месте остановились бы мои родители. Огромный стильный вестибюль украшали шикарные пурпурные кресла и высоченные растения в горшках. Невероятно большая регистрационная стойка, суетливые коридорные и швейцары бросают решительные взгляды. Каменный пол скрипит под ногами, а в воздухе витает благопристойная тишина, хорошая и успокаивающая, обещающая, что персонал ни за что не отвлечется на всякий электронный вздор, как это делают работники большинства современных учреждений. Хотя отель был новым, он обладал особой элегантностью и безмятежностью.
— Номер на двоих, — сказал Джек. — Я делал резервацию.
— Да, сэр.
Мне нравилась эта сторона Джека. Мне нравилось то, как он общался с регистратором, нравилось, насколько мне комфортно в его компании. Нужно отдать ему должное, он наверняка смотрелся бы органично и на Вермонтской ферме или в милом отеле. Мне нравилось, как он принимал за должное то, что мы остановимся в одной комнате, вместе поднимемся на лифте и зайдем в наш номер. Я не придерживалась феминистской позиции, и мне нравилось, как он взял на себя ответственность за наш комфорт. Я потратила годы старшей школы на мальчиков, которые нервно оглядывались вокруг, пытаясь понять, чего от них хотят. Джек был совершенно другим. Он явно путешествовал достаточно много и имел опыт в совершении подобных операций.
— Прежде чем мы поднимемся в наш номер, нужно купить тебе платье, — сказал он, расплатившись. — Еще немного, и мы сможем отправиться в наш номер.
— Платье?
— Для ужина. Нам ведь нужно поужинать, верно? Говорят, у них отличный ресторан.
— Джек, это дорого…
Он наклонился и поцеловал меня. Он уже все оплатил. Хотя я точно не знала.
— Ты уверен?
— Я просто пытаюсь произвести впечатление.
Он взял меня за руку и вывел к небольшому ряду бутиков рядом с отелем. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Я планировала потренироваться, перекусить салатом, а теперь, спустя несколько часов, могу сказать, что ездила на дикой скорости, съела целую кучу шоколадного мороженого, да еще и заселилась в самый шикарный отель в моей жизни. Как ни странно, я была совершенно спокойна, словно Джек — это тот, кто мне нужен, хотя разум был абсолютно с этим не согласен. Я чувствовала себя — как ни абсурдно — его девушкой. Это было самое начало знакомства мужчины и женщины, когда они остаются наедине. Тем не менее мне казалось, что мы пересекли важную линию.
Мы ведь вместе мчались со скоростью 170 км/ч.
Мы зашли в бутик, похожий на немецкую версию Гэп, как мне показалось, неплохой. Мне тогда вообще было сложно адекватно что-то оценить. Как только мы зашли, подошла женщина-консультант и спросила, может ли она чем-то помочь. Она отлично владела английским. Я не сразу ответила. Джек сделал это за меня.
— Нам нужен наряд для этой девушки, для ужина. И, наверное, какие-нибудь базовые повседневные вещи.
— Да, конечно. Пройдемте сюда.
Я взглянула на Джека. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Кто он такой? Я последовала за консультантом, которую, как мы узнали немного позже, звали Гильда. У нее были черные блестящие приглаженные волосы. Мне сразу же понравились ее ботинки.
На шопинг мы потратили около часа. Примеряя вещи и дефилируя перед Джеком — покрутись, да, хорошо, угу, оно не морщится, подходит по длине, — я пыталась вспомнить, делала ли я когда-нибудь покупки с мужчиной. Моим окончательным и неизменным ответом было «нет». Никогда. Но мне понравился шопинг с Джеком. Мне нравилось натягивать на себя одежду, слышать, как он болтает с Гильдой, а потом удивляться его вкусу, глядя в трельяжное зеркало. Кроме того, ему нравилась одежда, по крайней мере на мне, ведь всего за час я перемерила дюжину платьев и повседневных нарядов. Меня возбуждало позирование для него. Он смотрел именно на меня, а совсем не на платья. Отнюдь.
— Это так странно, — сказала я ему, когда мы наконец выбрали платье в мелкий цветок, которое кокетливо подскакивало при движении. Мне нравилось платье, которое понравилось Джеку, и мне нравилось то, что у нас с ним совпадали вкусы.
— Я никогда раньше не ходила на шопинг с мужчиной. Тебе правда нравится ходить за покупками с женщинами?
— Не совсем. Мне нравится шопинг с тобой. Может, нужно купить что-нибудь еще?
— Я буду носить это платье, пока тебя не начнет тошнить от меня. Мы ведь завтра возвращаемся?
— Да.
— Мне до завтра хватит и одного наряда.
Мы целовались, пока Гильда пробивала и упаковывала платье. Выйдя на улицу, поцеловались снова. Я заставила Джека подождать и позвонила Констанции. Не хотелось бы, чтобы она решила, что меня похитили. Но она отвечала спокойно и не выказала ни капли удивления, услышав, что я с Джеком в другой части города.
— О, дорогая, я рада, что ты с ним, — сказала она. — Несмотря на то что ты его ненавидишь, конечно же.
— Ты сказала ему, где я.
— Я подумала, что если ты действительно не захочешь его видеть, то всегда сможешь сказать ему «нет».
— Спасибо.
— Обращайся.
Я нашла Джека в вестибюле. Он ничего не сказал, а лишь взял меня за руку и повел к лифту. Он ни на секунду не отпускал моей руки. Когда дверь лифта отворилась, мы вошли внутрь. Это был элегантный лифт, тяжелый и массивный, с латунным поручнем по периметру. Как только за нами закрылась дверь, Джек обхватил меня руками и поцеловал. Это было нечто большее, чем просто поцелуй. Он жадно пил меня. Прижав меня к стене, он дал волю рукам, лаская все мое тело. Мы ни на секунду не прекращали целоваться, а когда лифт наконец остановился, мне пришлось опереться рукой о стену, чтобы прийти в себя.
— Лучшая поездка в лифте в моей жизни, — сказал Джек.
Я кивнула. Я пока не доверяла себе, чтобы что-нибудь сказать.
Он взял мою руку и повел меня вперед, по коридору, устланному коврами. Шагая рядом с ним, я призналась себе, что вся эта анонимность гостиницы безумно меня возбуждает. Никто нас не знал. И никто не мог потревожить. Я сжала его руку. Он открыл комнату, не отпуская моих пальцев.
Мы вошли внутрь, и он закрыл дверь на замок. Это был очаровательный номер. Покрывало поблескивало позолотой, что, возможно, выглядело бы ужасно в отеле победнее, но качество себя оправдало, и это сработало. На полу лежал толстый сизый ковер. Джек пересек комнату и открыл шторы. Из окна, хоть и не целиком, виднелись Бранденбургские ворота. Их было сложно разглядеть, но Джек попросил меня подойти поближе, что я и сделала. Он обнял меня сзади. Поцеловал мою шею.
Это было практически невыносимо.
— Я пойду в душ, — прошептала я, трепеща, пока его губы перемещались с моих плеч к шее. — Мне нужно в душ.
— В этом нет нужды.
— Есть, еще какая. Я быстро. Поверь мне. Я не буду мыть волосы, но мне нужно ополоснуться.
— Ладно, иди. А после этого я буду долго тебя целовать. Ты ведь не против?
— Конечно нет.
— Думаю, мы зря купили платье.
— Почему?
Его губы не отрывались от моей шеи. Казалось, мое тело медленно превращается в патоку.
— Потому что мы вряд ли пойдем ужинать. Вообще куда-либо. Это наш мир, и мы не должны покидать его.
Я почувствовала, как он кивнул позади меня.
— Хорошо, — сказал он.
Я откинулась назад. Это Джек. Он идеально подходил мне по размеру. Я медленно сняла с себя его руки и, развернувшись, поцеловала его. Вечер в Берлине.
Гостиница «Адлон Кемпински» должна была получить награду за лучшие махровые халаты в истории человечества. Я нашла два таких в ванной. Взяла тот, что поменьше, и надела. Да, я ограничилась халатом. Войдя в комнату, увидела, что Джек, сидя в огромном кресле, смотрит в окно. Я тихонько подкралась к нему. Он выключил свет — или решил вообще его не включать. Вся комната была пропитана мягким серо-голубым светом.
Джек усадил меня себе на колено, и мне пришлось быстро поймать подол халата, чтобы он не распахнулся. Он поцеловал меня в губы. Нежно, медленно и долго-долго. Мне не верилось, что я столь легко умещалась на его колене. Он целовал меня снова и снова, до тех пор пока наши губы окончательно не привыкли друг к другу. Я ощущала влажность своей кожи после горячего душа, и его тело словно отвечало взаимностью.
Еще секунда — и он развяжет пояс моего халата.
Он смотрел мне прямо в глаза. Я засмущалась и чуть было не закрылась, но он едва заметно покачал головой, и я расслабилась, еще больше погрузившись в его объятия.
Он медленно приоткрыл халат, сантиметр за сантиметром. Его руки касались лишь ткани. Он наклонился, чтобы снова поцеловать мои губы, затем отодвинул халат еще немного. Трудно было сохранять спокойствие. Он плавно коснулся моей груди, живота, бедра. Словно разворачивал нечто ценное, не спеша. Мое тело само стремилось к нему в руки, отступало и вновь рвалось к нему. Периодически он наклонялся, чтобы поцеловать меня, но всегда возвращался к халату, все увереннее касаясь моей кожи. Казалось, я открываюсь ему. Как бы абсурдно это ни звучало, я и была халатом, это меня открывали. Он медленно перемещал руки, скользя по моей коже. Осторожно притронулся к моим соскам, так нежно, что мне с трудом давалось самообладание. Поцеловал меня и, крепко схватив мои запястья одной рукой, завел их мне за голову. Он был силен, и я чувствовала себя инструментом, лежащим на его коленях, словно вещь, которой можно пользоваться, играть или продать. Затем он, с трудом сдерживаясь, поднял мои руки выше, сдавил их туже и скользнул рукой между моих ног. Я была готова отдаться ему, я ждала его, и он смотрел на меня, словно говоря: «Да, теперь это все мое». Я дрожала, пытаясь дотянуться до его губ, но он поднял меня на руки и понес в кровать.
23
Плоть. Его тело на моем.
Его губы на моих, мягко, а затем стремительно. Белые занавески гостиничного номера, дыша вместе с нами, заполняли комнату, а затем отступали, колеблясь в вечернем свете. Аромат из сада достигал нас, лишь когда мы приостанавливались на секунду, прежде чем он снова приближался ко мне, заставляя забыть обо всем на свете. И мы целовались, целовались снова, и этот секс, великолепный секс, не такой, какой бывал у меня раньше, не настолько приторный, банальный и приземленный. Этого не поймешь, пока не почувствуешь.
Джек. Мой Джек. Его тело просто прекрасно, а мое, белое и мягкое, — прямо под ним. Я обхватила его ногами, а он с силой вдавливал меня глубже и глубже в постель. Разные позы, более развратные, более дерзкие. Кровь подступала к моей коже, и это дикое, сумасшедшее чувство могли успокоить лишь его губы, мягкие и возбуждающие. Мы смотрели друг другу в глаза — как ни банально, — но что мы еще могли сделать? Вечер в Берлине, весь мир словно затих, и лишь занавески продолжали подниматься и падать. Возможно, пойдет дождь, а мы просто лежим в постели: он глубоко внутри меня, не двигаясь, целует меня на этой кровати, что витает где-то на острове вермеерского света. Я целую его в ответ, не хочу отпускать, и мы молчим, даже не пытаясь заговорить. А затем страсть снова возрастает, становится озорной и прекрасной, превращаясь во взрыв поцелуев, прикосновений и неописуемых порывов. Мне хотелось, чтобы он вывернул меня наизнанку, взял меня, каждый мой сантиметр, и дал что-то в ответ, нечто, что у него есть для меня.
Его тело идеально. Совершенно. Оно было сильным, большим и крепким, его движения были изящными, а наши тела ни на секунду не разъединялись. Когда он был готов начать заново, то смотрел на меня, не отводя глаз. Казалось он был готов заниматься этим снова и снова. Я целовала его, прижималась еще ближе, пока белые занавески по-прежнему развевались от садового ветра. Я едва сдерживала плач, ведь если все это действительно происходит со мной, хотя бы доля всего этого, то я пропала, потерялась, абсолютно погибла, и ничто не спасет меня.
— У нас с тобой был секс, а я ведь даже не знаю твоей фамилии.
— Отлично. Теперь можешь корить себя за свое распутное поведение.
— У тебя плохая фамилия? Поэтому ты скрываешь ее от меня?
— В каком смысле плохая?
— В смысле, я не знаю, Панкейк или что-нибудь в этом роде.
— Думаешь, меня зовут Джек Панкейк?
Я поцеловала его в плечо, чтобы скрыть улыбку. Это был идеальный момент. Поднялся сильный ветер и начал настойчиво стучаться в окна гостиницы. Мы лежали под прекрасным белым пледом, простыни сияли чистотой, контрастируя с темным деревом кровати и комода. Тело Джека было таким теплым, а все вокруг — таким ленивым, тихим и гладким.
— Квиллер-Куч, — прошептал Джек мне в волосы. — Такая у меня фамилия.
— Нет, ты врешь.
— Совсем нет. Честное слово. Я знаю, она звучит странно.
Я оттолкнулась и взглянула на него. Его глаза были закрыты. Я не могла прочесть его.
— Тебя зовут Джек Квиллер-Куч? Ты это на ходу сочиняешь, Джек. Это невозможно.
— Я не сочиняю. Меня и правда так зовут.
— Покажи кошелек. Хочу проверить твои водительские права.
— Ты можешь называть меня Джек Вермонтский, если хочешь. Или Джек Панкейк.
— Значит, какой-нибудь несчастной однажды придется выбирать: оставить свою фамилию или же стать миссис Квиллер-Куч. Думаю, ее решение предсказать несложно.
— Это абсолютно нормальная фамилия. Моя мама оставила свою фамилию, Квиллер, и соединила ее с фамилией папы, Куч. Поэтому я — Квиллер-Куч.
— Просто это так чокнуто звучит. Джек Квиллер-Куч. Будто ты пират или кто-нибудь в этом роде. Или британский десерт.
— Я мог бы изменить ее на Джек Панкейк.
— Лучше на Джек Вермонтский. Мне нравится.
Он поцеловал меня и прижал к себе.
— Джек Квиллер-Куч. Нужно будет к этому привыкнуть. Я даже не уверена, что верю тебе. Ты ведь не шутишь?
— Думаю, эта фамилия слишком длинная для имени. В этом вся проблема. Звучит неравномерно. Мне больше твое имя нравится. Хезер Малгрю. Какое у тебя среднее имя?
— Кристина. «Малгрю» всегда напоминало мне название какого-нибудь гриба, растущего в подвале. «О, это же малгрю!»
— Ты очень странная. Хезер Кристина Малгрю. Мне нравится. Так значит, когда мы поженимся, ты будешь Хезер Кристина Малгрю Квиллер-Куч. Сама себе адвокатское бюро.
— Разве мы уже женимся? И я возьму твою фамилию? Ты точно решил?
— Это неизбежно.
— Ты говоришь это для большего эффекта? Это плохая привычка. Ты должен изгнать эту привычку.
— Не думаю, что можно изгнать привычку.
— А что можно?
— Думаю, сатану.
Он повернул меня на бок и обнял сзади. Его дыхание щекотало мне ухо. Я почувствовала, как его тело содрогнулось в полудреме. Я еще долго смотрела, как занавески развеваются на ветру. Это Джек. Джек Квиллер-Куч. Мы встретились в поезде, впервые поцеловались на платформе, а теперь занимались любовью в Берлине. Все это случилось слишком быстро, слишком легко, чтобы окончательно поверить, что это правда. Я вела спортивную машину на бешеной скорости, а теперь этот очаровательный мужчина дремал в обнимку со мной. Я решила, что должна запомнить этот момент. Должна как-нибудь его запечатлеть, ведь однажды стану старой и дряхлой и наверняка захочу сесть на солнышке и вспомнить Джека в этой белоснежной постели, наше общее удовольствие, вкус шоколадного мороженого и то, как его тело обвивало мое, словно дерево обвивает камень.
Краков, Прага, Швейцария, Италия
24
Мы сели на ночной поезд Берлин — Краков. Я даже не планировала ехать в Польшу, но Раф убедил нас, что она восхитительна, а мы доверяли Рафу в отношении путешествий, ресторанов и джаз-клубов. Краков — старый город — был объектом всемирного наследия. Так сказал Раф. После Кракова идет Прага, следующий город, который следует посетить, если ты молод, легок на подъем и ищешь приключений. Джек, как и я, никогда не был в Польше, поэтому мы сидели рядом, медленно листая путеводитель Констанции «Лоунли Плэнет» на коленях, и выбирали достопримечательности, которые хотим увидеть. Раф и Констанция спали напротив нас. Голова Констанции лежала на шее Рафа, словно она — его драгоценная скрипка. Я пару раз сфотографировала их — мне хотелось, чтобы Констанция видела, до чего же они милые.
Теперь мы пары. Таким было новое осознание. Это казалось таким естественным и простым, что мне иногда приходилось встряхиваться, чтобы понять, что именно изменилось. Констанция и Раф. Джек и Хезер. Даже в темноте, в свете домов, станций и одиноких ферм, мелькающих за окном, я знала, что Джек рядом. Теперь я знала его тело, как бы то ни было знала его лучше, знала вес его руки на моих плечах и его пальцы, держащие мои. Банально говорить, что наши грани размылись, что мы слились, в некотором роде, тем не менее это было правдой. Из-за того что мы путешествовали вместе, все казалось каким-то ускоренным; невозможно было скрыть своих чувств и предпочтений. Мы путешествовали с рюкзаками за плечами, и целый мир казался лишь короткими моментами спокойствия и радости, прекрасных, великолепных зрелищ, звуков и запахов. Я смотрела на мир глазами Джека, а он — моими.
Около полуночи мы с Джеком выскользнули в вагон-ресторан и заказали водку у древнего бармена за барной стойкой. Это был низкий мужчина с огромными бакенбардами, подчеркивающими его челюсть. Эти баки были полупрозрачными, словно туманный рассвет, будто кто-то пытался навести фокус на его лицо, но так и не смог. Или будто одуванчик решил улыбнуться. В самом центре его лба расположилась крупная родинка, а его руки, вместо того чтобы подниматься, казалось, ползли к бутылкам и бокалам. Я бы дала ему лет семьдесят. В его глазах были желтоватые линии, которые напоминали мне нити бечевки.
Он налил нам водки из двух бутылок одновременно. Мы улыбнулись и осушили стопки. Бармен покачал головой.
— Американцы? — уверенно спросил он на английском.
Мы кивнули.
— Мой дядя умер в Чикаго, — сказал бармен. — Давным-давно.
— Нам очень жаль, — сказал Джек.
Я кивнула.
— Я хотел проведать его, но так и не успел. Он красивый, Чикаго?
— Может быть, — сказал Джек. — Я был там проездом. А ты, Хезер?
— Нет, простите.
— Озеро Эри, — сказал бармен и улыбнулся. — Мой дядя, он всегда рассказывал об озере Эри.
— Это большое озеро, — согласился Джек. — Великое озеро.
Джек ему подыгрывал. Мне нравилась его доброта к этому мужчине. Нравилось его рвение слушать и говорить.
Тем временем бармен поднял один палец и наклонился под стойку. Он достал бутылку водки и показал нам этикетку. Это была «Зубровка», известная фирма, которую мы только что видели в «Лоунли Плэнет». Одним из туристических советов было попробовать эту водку, как только будет возможность. Почему бы и не сейчас?
Бармен налил нам еще по одной. Он обернул стопки вокруг своей оси, как он сказал, на удачу и от бед.
— Вы к нам присоединитесь? — спросил Джек. — Это честь для нас — угостить вас.
Бармен пригрозил нам пальцем:
— Я не позволю вам платить за это. Вы слишком молодые. Это подарок. Говорят, она сделана из слез ангелов… Понимаете?
— Да, — ответила я.
— Хорошие напитки всегда грустные. Они приносят нам жизнь, но напоминают об умерших. Согласны?
Я кивнула. Джек тоже. Бармен жестом призвал нас пить. Правда. Первый глоток водки огнем спустился по моему горлу. А «Зубровка» была на вкус словно горная вода. Я совсем не разбиралась в водке и ее разновидностях, но разница с тем, что я пробовала раньше, была огромная. Бармен вернул бутылку на полку.
— Очень мило с вашей стороны, — сказала я. — Спасибо.
— Мягкая, — сказал он, выровнявшись.
— Да, очень.
— Когда-то Америка была прекрасной страной, — сказал он, сложив руки на бокалы перед собой. — Теперь слишком много бомб. Бомбы повсюду, с беспилотниками, кораблями, просто бомбы. Америка никогда не устанет от бомб.
— Я понимаю, как это выглядит со стороны, — сказал Джек. — Иногда нашим людям приходят в голову забавные решения.
— Тем, кто страдает от этих бомб, это совсем не кажется забавным.
— Да уж, — согласился Джек. — Не кажется.
Мы заплатили, оставив бармену щедрые чаевые. Когда мы вернулись, Раф и Констанция уже не спали. Они сложили ноги на наши сиденья и убрали их, увидев нас. Констанция держала «Лоунли Плэнет» на коленях. Несомненно, искала места, связанные со святыми. Она всегда отличалась в планировании досуга.
— Вы что, пили без нас? — спросил Раф. — Я чую водку.
— Еще какую, — ответила я. — Начинается на «з».
— «Зубровка», — блаженно протянул Раф. — Это как отыскать давнего друга. Бывали у меня веселые ночки с «Зубровкой». Вы знали, что ее признали целебной?
— Она сделана из слез ангелов, — сказала я.
— Забавно, а я слышал, что из утиных слез, — сказал Раф. — Ветер сдувает слезы с утиных глаз… Только зимой.
— Я должна попробовать эту водку, — сказала Констанция, не поднимая глаз от путеводителя. — Вы меня убедили.
И тогда Джек увидел северное сияние.
— Не может быть, — сказал Раф, глядя в окно. — Мы сейчас примерно на пятьдесят пятом градусе. Чтобы увидеть северное сияние, нужно быть как минимум на шестидесятом.
— Откуда ты знаешь, на какой мы широте? — спросила Констанция, ошеломленно вытаращив глаза.
— Это мой нервный тик, — сказал Раф. — Тебя это пугает? Я всегда знаю свои точные координаты. Да, это странно.
— Не совсем. Это меня заводит.
Милый диалог между Рафом и Констанцией. Тем временем Джек поднялся с сиденья и попытался получше рассмотреть северное сияние. Он щурился, почти в упор глядя сквозь стекло. Я выглядывала из-за его плеча, но это было похоже на любой другой источник света. Хоть я никогда не видела северное сияние, вряд ли его можно было с чем-то спутать.
— Это заправка! — наконец сказал Раф, устремив взгляд туда же, куда смотрел Джек. — Это просто неоновая вывеска!
Джек смущенно развернулся.
— Он прав, — сказал он. — Такой вот жизненный урок.
— В следующий раз, когда увидишь северное сияние, убедись, что это не вывеска на заправке, — сказала я. — Нужно запомнить это правило.
— Ну, я не знаю, — тихо и спокойно сказала Констанция, не отрывая глаз от книжки. — Я восхищаюсь людьми, которые настолько сильно хотят увидеть северное сияние, что видят его в вывеске на заправке. Мечтатели.
— Спасибо, Констанция, — негодуя, сказал Джек и сел рядом со мной. — Рад, что хоть кто-то понимает.
— Когда слышишь стук копыт, думай, что это лошади, а не зебры, — сказал Раф. — Верно?
— Когда слышишь стук копыт, думай, что это единороги, — сказала Констанция, подняв на нас глаза. — Вот как нужно жить.
Поезд подъехал немного ближе к той самой заправке. Туман рассеялся, и мы увидели действительно зеленую вывеску, которая действительно потерялась в ночном тумане, но все же то было не северное сияние.
Немного позже я уснула. Раф и Джек еще долго обсуждали природу реальности, наши знания, то, как мы доверяем интуиции и что принимаем за правду. Как мне показалось, они обсуждали, почему Джек увидел именно северное сияние, и какое-то время я еще слушала их рассуждения. Мало-помалу сон овладел мной, а когда я проснулась, поезд уже тормозил в Кракове. Это было раннее утро, солнце еще не встало, и пронзительный скрип колес о рельсы, казалось, вот-вот разбудит весь мир.
— Я хочу тебя похитить, — сказал Джек после обеда. — Я отведу тебя в место, куда ты ни за что не отправилась бы одна, но тебе необходимо посетить его. Мне тоже.
— Это плохой способ заставить человека делать то, что ты скажешь, Джек.
— Поверь мне на слово, — сказал Джек. — Наша жизнь вот-вот изменится.
Я не понимала, шутит он или говорит всерьез. Мы стояли возле уличной лавки с едой и поедали сырные сосиски с жареной картошкой из газетного кулька, мокрого от масла. Джек обожал есть на улице, к тому же ему безумно понравился Краков. Раф снова был прав: Краков обладал невероятным очарованием Старого Света. Мы успели подняться на Вавель, прекрасный замок над Краковом, и собирались съездить на север, к известному кирпичному замку Мальборк за Гданьском. Краков был не настолько испорчен туристами, как Париж или Амстердам, тем не менее был довольно людным городом.
— Водки бы к нашему обеду, — сказал Джек, смакуя слова. Он мокнул сосиску в острую горчицу рядом с сэндвичем. — Нужно выпить за неизрекомое.
— Невозможно пить за неизрекомое. Неизрекомое невозможно узнать.
— Ах, вообще-то можно, мисс Амхерст. Неизрекомое — это то, за что пьют. Каждый тост в мире посвящен неизрекомому, даже если сами пьющие не знают об этом.
— Ты за словом в карман не лезешь, верно, Джек Квиллер-Куч?
— Я просто рассадник неизрекомых слов.
— И наша жизнь сегодня изменится?
— Без сомнения.
— Неизрекомо?
Он кивнул.
Мы были по уши влюблены.
Наши взгляды встретились. Мы не были на горной вершине, на берегу синего океана или на цветущем лугу. Мы были в центре Кракова. Не знаю, как он, но я чувствовала себя то ли влюбленной, то ли излишне сентиментальной. Он повернулся с улыбкой, и я улыбнулась ему в ответ. Мы молчали. Вокруг нас что-то происходило, я это знала, но весь мир не имел никакого значения. Был только Джек со своей смущенной и мягкой улыбкой, которая звала меня разделить с ним удовольствие быть здесь, в иностранном городе, любить и знать, что мы покорим весь мир, если захотим, если останемся вместе. Мой оптимизм постепенно развеялся, и в мою голову влетел крохотный комарик сомнения, который жужжал: «Нет, нет, ничего не бывает так просто. Это не так просто, это не случается так быстро, ты не любишь его, он просто тебе нравится, и ты вернешься в Нью-Йорк, и все, не смотри на него, ведь его глаза — это кроличья нора. Если продолжишь смотреть — будешь падать, падать, падать…»
Но мы не отводили друг от друга взгляда.
Хорошо, что он не пытался поцеловать меня или сделать что-либо еще — это лишь усугубило бы ситуацию. Мы стояли и тонули в глазах друг друга, и, может быть, я и смотрела на других мужчин, но это было чем-то особенным, чем-то пугающим и прекрасным. И даже если бы я умерла в тот же момент, я знала бы, каково это — смотреть на кого-то и видеть, что чья-то душа слилась с твоей и вы дорожите этим взглядом, этим мигом, словно редким сокровищем, и больше не боитесь остаться в одиночестве, никогда.
— Ладно, — сказал Джек, отведя взгляд. — Доедай, и пойдем.
И мы пошли.
25
Джек недолго скрывал от меня наш пункт назначения. Спустя тридцать минут на поезде от Кракова мы стояли у входа в соляную шахту. Из всех мест, которые я хотела бы посетить в Европе, соляная шахта, наверное, стояла бы в самом конце списка.
— Соляная шахта? — спросила я. — Ты привез меня в соляную шахту?
— В соляную шахту, — подтвердил он.
— В Европе, в одном из самых прекрасных городов, мы променяли действительно стоящую красоту на…
— …соляную шахту, — повторил Джек. — Но это не простая соляная шахта. Она называется «Величка». Ее нельзя не посетить.
— Кому нельзя?
— Это обязательно должно касаться кого-то?
— Ты мне скажи.
— Наверное, должно. Кому нельзя не посетить? Нет, это вряд ли.
— Неубедительно, — сказала я. — Почему именно соляная шахта?
— Ты ведь имеешь в виду, соляная шахта «Величка», да?
— Да, конечно.
— Потому что шахта больше не производит соль. Теперь это этакое национальное сокровище.
— Соляная шахта — сокровище?
— Из отсеков соорудили часовни с канделябрами. Это должно быть довольно красиво.
— Так же красиво, как соляная шахта.
— Да, так же красиво.
— Ты странный, Джек.
— Я съел много соли в своей жизни. Пришло время узнать, как ее добывают.
— Это что-то вроде истории происхождения соли?
— Да, как-то так.
Мы стояли у входа. Джек держал меня за руку. Я взглянула на него пару раз, пытаясь оценить степень его заинтересованности. Я знала его достаточно хорошо, чтобы понять, что соляная шахта его заинтриговала. Его привлекала незаурядность, непривычность этой прогулки. И соляная шахта явно была для него в новинку.
— Что еще есть в соляной шахте? Только не говори…
— Соль, — перебил он меня.
— Кроме соли. Я надеюсь, мы увидим не только соль.
— Тебе мало мира, сооруженного внутри соляной шахты? Тебе не угодишь, Хезер.
— Так это и есть то, что изменит нашу жизнь? Мы больше никогда не сможем смотреть на соль по-прежнему? Ты это имеешь в виду?
Он кивнул. Могу сказать, ему было весело. Ему нравилось все: поездка на поезде, потенциальная абсурдность достопримечательности в соляной шахте, неизбежная причудливость людей, однажды решивших сделать национальное сокровище из обычной соляной шахты. Он наклонился и поцеловал меня, заключив в объятия.
— Люди, которые вместе посещают соляные шахты, — вместе навсегда. Ты знала об этом?
— Я не знала, — прошептала я, уткнувшись в его рубашку. — Ты в этом уверен?
— Соль — это основа жизни. Соль и водка, конечно. Если мы пойдем в соляную шахту вместе, это будет нашим обещанием вечной преданности.
— Мир — не выдумка, Джек. Надеюсь, ты знаешь. Надеюсь, ты помнишь, что это не для меня.
— Кто сказал?
— Никто. Просто так устроен мир.
— Прямо сейчас ты со мной в Польше. На пути к соляным приключениям. Если бы три месяца назад кто-нибудь сказал тебе, что так будет, ты решила бы, что это выдумка.
Я кивнула. Он был прав.
Мы разомкнули объятия, оплатили вход и вошли внутрь.
Я тут же осознала, что изнутри все выглядело совсем не так, как я ожидала. Когда слышишь «соляные шахты», представляешь себе груды белоснежных минералов, абсурдную попытку превратить мертвую индустрию во что-то большее, лишь бы содрать с посетителей побольше денег. Но ожидало нас нечто совершенно другое. Во-первых, это место назначили объектом всемирного наследия, и я увидела, как на лице Джека постепенно появляется ухмылка. Из брошюры на регистрационной стойке мы узнали, что добыча соли продолжалась с XIII по XXI век и окончательно прекратилась лишь в 2007 году. Тем временем шахтеры вырезали четыре часовни из каменной соли, украсив их статуями святых и выпарив соль, чтобы сделать из нее кристаллы для восхитительных канделябров, свисающих с потолков. До чего же необычное сочетание обыденности — что может быть банальнее, чем соль? — и возвышенности, которая выходила за рамки каких-либо ожиданий.
— О Джек, — прошептала я. — Как же здесь красиво.
— Эти шахты посещали Коперник, Александр фон Гумбольдт, Фредерик Шопен… И даже Билл Клинтон.
— Я и подумать не могла. Констанция обязана увидеть это.
— Я хотел увидеть это место вдвоем, с тобой.
— Как ты узнал…
Но то, как он узнал, не имело ни малейшего значения. Пока мы спускались по деревянным ступенькам на глубину 65 метров, он рассказал мне историю о венгерской принцессе по имени Кинга, которая приехала в Краков и приказала шахтерам копать до тех пор, пока они не уткнутся в самое дно. Она была вынуждена покинуть родину и в последний момент бросила свое обручальное кольцо в соляную шахту в Марамароше. Ударив в камень, глубоко в польской земле шахтеры нашли соль. Они принесли соляную глыбу принцессе Кинге и раскололи ее. Каким же было их удивление, когда внутри глыбы они увидели ее кольцо. После этого случая принцесса Кинга была признана покровительницей соляных шахтеров.
— Что? — расхохоталась я, когда он закончил рассказ. — В этом совершенно нет смысла.
— Конечно есть.
— Она выбросила кольцо в Венгрии, а шахтеры нашли его в Польше?
— В твоем сердце нет ни капли романтики, Хезер. Чем лучше я тебя узнаю, тем яснее это проявляется.
— Мне нужна целостность сюжета, Джек.
Он обернулся, когда мы достигли нижней ступени деревянной лестницы. Протянув руки, он взял меня за бедра и медленно поднял на руки. Он мог держать меня над головой сколько угодно. Это было эротично, прекрасно и мило одновременно. Мы поцеловались и еще долго не могли разъединиться.
Почему? Я полностью отдалась ему.
Я не могла ему противостоять. Я теперь не представляла жизни без его губ. Мое тело обмякло в его сильных, крепких и надежных руках, и он медленно прижал меня к своей груди, словно я была спасательным жилетом. Наш поцелуй становился все более страстным. Это продолжалось до тех пор, пока я не почувствовала, что могу отключиться прямо у него на руках. Казалось, я села на поезд, который вел прямо в его тело и разум. Из этого поезда не было выхода, не было пути обратно: куда Джек — туда и я.
Осторожно — лишь спустя несколько минут — он поставил меня на землю. Его губы медленно оторвались от моих.
— У нас уже привычка целоваться на платформах, — сказал он. — Это хорошая привычка.
— Замечательная привычка.
— Соляные шахты?
— Куда угодно, Джек.
Он кивнул. Я взяла его под руку, и мы отправились к подземному озеру, которое, как писалось в брошюре, просто нельзя не увидеть.
26
Констанция взобралась на механического быка в Праге. Она была пьяна. Она была счастлива. Она была влюблена.
Но ей не следовало залезать на быка, механического или любого другого.
— Оседлай его, ковбойша! — вопил Раф.
Он тоже был пьян.
Мы все были пьяны и чувствовали себя прекрасно. Мы провели день в крошечном хойригере — винном баре с мясной нарезкой и аккордеоном, — попивая вино весеннего урожая. Что-то в этом дорожном образе жизни и бессонных ночах сделало нас ошалело-счастливыми. Мы много смеялись. Смеялись так, как смеются старые друзья, не скрывая свою натуру за дымкой алкоголя и ломтиками сыра. Нам нравилась Чехия, несмотря на то что никто из нас не мог выговорить «Чехословакия». Нам нравился аккордеон, мы долго обсуждали, почему он не распространен в Штатах или Австралии, несмотря на то что — как сказал Раф — это самый универсальный инструмент, когда-либо сделанный руками человека. За несколькими кувшинами вина между нами развернулась дискуссия о том, насколько сильно похожи аккордеон и гармонь, после чего мы дружно вывалились из хойригера и перекочевали в европеизированный бар где-то в центре Праги, недалеко от Орло или Пражских курантов, где Констанция и взобралась на быка.
— Кажется, это плохая идея, — сказала я то ли сама себе, то ли сразу всем. — Или самая лучшая идея.
Констанция подняла руку над головой, словно ковбойша, и медленно начала вращаться вместе с быком, скачущим между ее ног. Это выглядело сексуально и красиво. Мне нравилось наблюдать, как Констанция выходит за рамки своего привычного благоразумия. Она всегда была наименее спортивной из всех моих знакомых, но если ей было нужно, она с легкостью становилась ловкой и быстрой. Она всегда умела сохранять равновесие.
— Она справится, — сказал Джек.
Он обнял меня за талию.
Констанция кивала каждый раз, когда встречалась с нами взглядом. У нее было великолепное, смешное выражение лица. Оно говорило о том, что все в порядке, никаких проблем, бык у нее под контролем, и все это вместе было, наверное, наиболее безбашенным из всего, что Констанция когда-либо делала. Оператор кивнул ей, и она кивнула ему в ответ. Они в каком-то смысле поняли друг друга.
Затем она начала вращаться быстрее.
— Надеюсь, у нее не начнется морская болезнь, — сказал Раф.
— Она хороший моряк, — сказала я. — Она с детства плавает.
Я вдруг поняла, что по пьяни сморозила глупость, но ничего не могла с собой поделать. Несколько человек — это был ранний вечер или поздний день, что-то среднее, так что бар только начинал заполняться толпой, — улюлюкали, когда Констанция брала новый уровень. На этом быке она выглядела мифически. Я готова была поставить огромную сумму денег на то, что она представила себе какой-нибудь миф, может, о Европе и Зевсе, потому что ее глаза сияли: она выглядела счастливой как никогда. Святая Констанция верхом на быке Крита или какая-нибудь другая подобная чепуха. Я сделала пару фоток и отправила их Эми. Она должна была это видеть. Не каждый день везет созерцать Констанцию на механическом быке в Праге. Я даже не взглянула на Джека, который всегда отличался особенным, странным отношением к фотографиям.
Затем бык начал брыкаться. Вместо того чтобы просто вертеться, он скакал как сумасшедший, пытаясь сбросить ее. Констанция шлепнула рукой по быку, чтобы поймать равновесие, и кивнула в знак того, что держит ситуацию под контролем.
— Она самородок, — сказал Джек. — Чертов самородок.
— Она самая красивая женщина в истории человечества, — сказал Раф, не отрывая от нее взгляда. — Даже слишком красивая.
— Она намного красивее внутри, чем снаружи, — сказала я.
Раф взял меня под руку. Его глаза были слегка влажными.
Держа друг друга под руку, мы стояли и смотрели, как Констанция катается на быке. Она не сломалась до самого конца, но это далось ей с трудом. Когда оператор остановил быка, люди радостно захлопали в ладоши. Констанция помахала рукой, хоть и держалась в седле немного неуверенно. Раф подошел к ней и снял с быка. Констанция поцеловала его, и он поцеловал ее в ответ. Глядя на них, я точно знала, что они поженятся. Проще простого. Как бы то ни было, эти двое были созданы друг для друга.
— Он любит ее, — сказала я Джеку. — Любит ее каждой клеточкой.
— Да, любит. А она его?
— Определенно.
— Им хорошо вместе.
В это самое мгновенье кто-то из нас должен был сказать что-то о любви или серьезности намерений. На наши головы неизбежно спустилось это осознание. Конечно, я не сомневалась, что мы влюбляемся или уже влюблены, что бы это ни значило. Но мы не могли сказать это напрямую, и я не знала почему. Я подумала о том самом нелепом старомодном понятии, что мужчина должен признаваться в любви первым. Согласно традиции, женщина не должна сбрасывать бомбу под названием «Л» первой. Это основное женское правило. Мы намекали на это, подобравшись ближе к признанию в Берлине и Польше. Но то самое слово ускользало от нас. Мы посмотрели на счастливых Рафа с Констанцией и отошли друг от друга, объяснив это тем, что нужно еще выпить. Я обняла Констанцию, а Раф вызвался угостить всех выпивкой в честь великой наездницы Констанции. Мы смеялись и веселились так же, как раньше, но мне не давала покоя одна мысль: как мы можем быть так близки, но так осторожны друг с другом?
Поздней ночью Джек уговорил меня отправиться на молочную баржу. Раф с Констанцией вернулись в хостел. Джек взял визитку мужчины, с которым познакомился в баре, — он был братом капитана судна, если я правильно поняла, — но, когда мы назвали адрес пирса водителю, ему пришлось спрашивать дорогу у двух других таксистов. Водитель наклонился к лобовому стеклу, чтобы лучше видеть дорогу, и, как мне казалось, мы ехали очень долго. Я понятия не имела, где мы находимся, лишь догадывалась, что это какая-то промышленная зона. Лишь время от времени свет наших фар вспышками отражался в воде. Мы проехали реку под названием Влтава, если меня не подвели мои знания географии. Но за всеми зданиями и строительным оборудованием трудно было что-либо разглядеть.
Когда мы подъехали к барже, Джек дал капитану визитку, которую взял в баре. Кажется, он тайком заплатил и экипажу, потому что их неприязнь сменилась дружелюбием в считаные секунды. Экипаж состоял из трех мужчин в черной одежде и вязаных шапках. Насколько я поняла, то была их униформа, но они разошлись по своим делам, и у меня не было шанса это уточнить. Баржа — плоское грязное судно с небольшим краном на левом борту — отчалила от дока после полуночи. Двигатель ужасно пах дизельным топливом, но в конечном счете выхлопная струя осталась позади.
Мы сидели, облокотившись на каюту, и изо всех сил пытались укрыться от ветра. Эта ночь выдалась особенно темной, и я понятия не имела, откуда экипаж знает, куда плыть. Канал или русло, по которому мы плыли, был лишь черной змейкой на черной земле. Время от времени луна и мерцающие звезды освещали палубу, мы слышали уханье совы, а немного позже, когда лодка набрала скорость, распознали крик цапли, заметив ее на причале полуразрушенного дока.
Мы прижались друг к другу. Какое-то время мы молчали. Джек этого не показывал, но, быть может, он переживал по поводу того, что затащил меня на лодку к незнакомым людям. Заметив, что я замерзла, он расстегнул свою стеганую куртку и пустил меня к себе погреться. Мы вместе плыли в темноте, слушая, как звук двигателя отражается от деревьев, выстроившихся вдоль воды. Именно этого Джек хотел от Европы. Он считал, что любой дурак может сходить в музей. Нужно быть исследователем, искать особенности в банальных вещах. Он не станет довольствоваться музеями, соборами и достопримечательностями, чтобы отправиться домой и поставить галочку напротив еще одного города. Быть просто туристом — это не для него. Ему хотелось глубокой связи с землей и людьми, и, должна признать, катание на барже я точно запомню на всю жизнь. Ночь, когда Констанция оседлала быка в Праге. Река Влтава. Смесь ароматов воды, города и дизеля с оттенком промышленности.
— Надеюсь, они не отвезут нас в Россию, — прошептал Джек. — Будем надеяться, они вернут нас в Прагу в конце концов.
— Думаешь, нас выкрали?
— Может быть. Я почти уверен, что в какой-то момент нам придется прыгать за борт и уплывать прочь, чтобы спастись.
Я прижалась ближе и внимательно посмотрела на него. Он по-прежнему был самым привлекательным мужчиной из всех, кого я встречала. Иногда мне приходилось напоминать себе, что я рядом с ним, что в каком-то смысле он теперь мой.
— Думаю, твоему дедушке понравилось бы такое приключение.
Он пожал плечами и обнял меня крепче.
— Он был хорошим человеком, — сказал он. — Я не знаю всего о его путешествии по Европе. Знаю лишь, что после войны он направлялся домой, но понятия не имею, как он решал, куда ехать. Словно просто странствовал по городам. Уверен, что он был потрясен всем, что произошло на войне.
— Наверное, все было перевернуто вверх дном. Города были опустошены.
— Он ведь сам приехал с молочной фермы в Вермонте. В этом и загвоздка. Сложно представить его здесь, в Европе. Бабушка говорит, у него была большая душа. Он дышал полной грудью.
— Ты ведь любил его?
Он снова пожал плечами. А затем кивнул.
— Я провел с ним много времени. Скажем так, отношения моих родителей не были самыми гладкими. Поэтому летом я ездил к дедушке с бабушкой и помогал им по хозяйству. Кстати, в поезде ты кое в чем ошиблась. У меня толком нет имущества. Лишь небольшая сумма от продажи дедовой фермы. Ненавижу думать об этом. В смысле, о продаже фермы.
— А твои родители живы?
— Да. Мама пытается устроить свою жизнь в Калифорнии, а папа переехал в Бостон. Им было плевать на ферму, поэтому они решили продать ее. Папа вырос на ней, и его аж тошнило от нее. Я пытался их отговорить. На самом деле я даже хотел управлять ею.
— И они отдали тебе деньги от продажи?
— Они поделили их на три части. Мне кажется, они взяли меня в долю только из-за чувства вины. Они знали, что я хотел оставить ферму. Они выгодно продали ее, когда цены на землю в Вермонте подскочили. Рядом есть лыжный курорт, поэтому на месте фермы новые владельцы построили гостиницу и магазины домашнего декора. Вот так.
— Мне так жаль, — искренне сказала я.
— Если честно, мне жалко не дом. Наверное, его нужно было продать давно. Но земля… И амбар. Я всегда любил наш амбар. Пока я учился в колледже, то пытался достать денег из государственного реестра, чтобы отремонтировать его. Я узнал все об этом. Наша нация постоянно теряет амбары, поэтому государство поддерживает их сохранение. Во всяком случае, я был простым студентом, который любил своего деда. У меня ничего не вышло, а самостоятельно отстроить амбар — очень дорого. Если сразу же не заменить дырявую крышу, потому будет поздно.
— Кажется, я ошибалась в тебе там, в поезде.
— Как бы то ни было, есть люди, которым еще сложнее.
Спустя какое-то время лодка перешла на левую сторону реки, и один из рабочих, тощий мальчуган с выступающими передними зубами и в синем комбинезоне, на немецком попросил нас подвинуться. Как мне объяснил Джек, они собирались загружать молоко. Джек спросил, как его зовут, и мальчуган, улыбнувшись кроличьими зубами, сказал:
— Эмиль.
— Мы можем чем-то помочь? — спросил Джек и, встав, подал мне руку.
— Помочь? — переспросил Эмиль и рассмеялся.
Он крикнул что-то в окно каюты, и капитан, бородатый пузатый моряк, хрипло бросил что-то в ответ, но его слова утонули в звуках двигателя. Третий член экипажа, видимо старший помощник капитана, уже стоял в носовой части судна, готовясь бросить кому-то веревку. Покинув быстрые воды, баржа покачнулась. Эмиль шмыгнул к корме, наверное, чтобы перебросить веревку на другой конец судна. В сумраке мы разглядели лишь слабые очертания деревянной пристани рядом с глубокой, бесконечной пустотой.
Лодка замедлила движение, двигатель затих, и веревки со свистом рассекли темноту. Капитан что-то выкрикнул, кто-то ему ответил, и мы, дрожа от холода, увидели сотню, пять сотен серебристых канистр с молоком на пристани, которые ждали, пока их загрузят на палубу.
Мы наблюдали, как первые десять канистр погрузили на борт. Их перемещали на небольших поддонах. Эмиль направлял груз, пока старший помощник орудовал краном. Капитан не удосужился выйти из каюты, но мы учуяли запах его трубки, когда ветер донес дым до наших носов.
Пять или шесть человек помогали с пристани. Они в основном молчали, лишь иногда выкрикивая направления. Сие действие освещал яркий прожектор, возле которого скопился рой мотыльков, похожих на миниатюрных ангелов. Через некоторое время мы с Джеком стали помогать Эмилю погружать поддоны в нужном порядке. Было несложно, но очень долго, хотя с нами процесс пошел быстрее. Эмиль смеялся каждый раз, когда смотрел на нас. Старший помощник промолчал, а мужчины на пристани отпустили пару шуток о том, что парню наконец-то хоть кто-то помогает. Запечатанные канистры с молоком запотели от такого контраста температур: молоко, в отличие от воздуха, было теплым. Свет играл бликами на нашем серебристом грузе.
Расставив молоко, мы выгрузили огромную кучу пустых поддонов. Это было сложнее всего, и теперь Эмиль не хихикал над нашей помощью. Мы спускали под десять поддонов по крану. Сложив их в стопки на пристани, мужчины отвязали цепь и бросили ее нам.
— Моему деду это понравилось бы, — сказал Джек, перекрикивая рев двигателя, когда мы, покончив с работой, отчалили от берега. — Он сравнил бы это с тем, чем он занимался дома, на ферме. Он был хорошим фермером.
— Но теперь ведь у них есть грузовики, верно?
— Это точно. Может, они приверженцы старых методов. Вода — более дешевый способ перевозки вещей.
Мы стояли у перил и любовались природой. В основном пейзаж был темным и бесформенным, но кое-где виднелись домики с фонарями и иногда доносился лай собак. Под нашими ногами шумела вода. Прежде чем сделать вторую остановку, лодка разогнала группу лебедей, которые уплыли прочь, словно оригами, невероятно спокойные, белые и величественные.
Мы снова помогли Эмилю, поэтому работа не заняла много времени. В этот раз капитан вышел из своей кабинки и отпустил пару шуток в наш адрес, деловито держа трубку в руке. Он сказал, что нанял бы нас к себе на судно, а когда мы отчалили, он вернулся через пару минут со свежим хлебом, завернутым в газету. Вручил нам два длинных багета и маленькую масленку меда. Остальное отдал Эмилю и старшему помощнику.
Мы разломили хлеб пополам и начали макать его в мед. Этот вкус был похож на ночь и траву, что едят коровы. Похож на причал. Было безумно вкусно и сладко, и Джек, наклонившись, поцеловал меня губами со вкусом меда.
К тому времени, когда лодка вернула нас в исходную точку, было очень поздно, почти утро. Мы даже подружились с членами экипажа. Первый луч солнца осветил реку, придав ей золотое свечение. Это напомнило мне детство. Помню, как зимой приходила после катания на коньках или санках, и мир замирал, казался таким искренним, не таким, как всегда. И так же сильно, как тебе хотелось пойти домой и отогреться, было сложно покинуть улицу, попрощаться со свежим воздухом, ветром и свободой. Отправляясь домой, я всегда чувствовала себя предательницей, которая отвернулась от милого друга. Именно так я ощущала себя сейчас. Сойдя с лодки на твердую поверхность пирса, я почувствовала, как оставляю позади детство.
— Спасибо, — сказала я Джеку, когда мы попрощались с экипажем.
Капитан снова пошутил насчет того, чтобы взять нас на работу. Он сказал что-то вроде того, что — я не уверена, что правильно перевела, — от нас больше толку, чем от Эмиля. Эмиль расплылся в своей кроличьей улыбке. Вот и все.
— Это была невероятная ночь.
— Мне нравится твой образ жизни, Джек.
— Тогда, — сказал он, — когда мы смотрели на Рафа с Констанцией…
Я остановилась и взглянула на него.
— Я знаю, что мы хотели сказать друг другу. Правда. Но я не хочу торопить события. Я не хочу тебе врать.
— Хорошо, Джек.
— Я без ума от тебя, Хезер.
— Я знаю. Я чувствую то же самое.
— Но я пока что не хочу произносить то самое слово. Это слишком легко и предсказуемо. Я хочу, чтобы все вышло само собой.
— Так вот какой ты внимательный, — сказала я и толкнула его плечом.
— Стараюсь.
— Тогда ты просто обязан купить мне завтрак.
— Наши приключения всегда заканчиваются завтраком.
Он взял меня за руку. Мы дошли до конца причала, а когда обернулись на крик ребят с баржи, поняли, что нас никто не звал, — это была лишь чайка, обманувшая нас.
27
12 июля 1946 года
«Я приехал в небольшой швейцарский лагерь неподалеку от Валлорба. Я безумно устал и едва стою на ногах. Один приятель посоветовал мне посетить крепость Коль де Жун. Сама крепость была вырезана из камня и служила защитой от вторжений. Этот приятель — тощий парень из Бруклина по имени Дэнни — сказал, что это настоящее чудо инженерного искусства. Мне нравятся подобные вещи, но сейчас мое сердце разрывается от тоски, и все, чего мне хочется, — это оказаться дома. Сумерки всегда напоминают мне о ферме. Мою душу отягощает груз, но я не знаю, как от него избавиться».
— Думаю, это примерно здесь, — сказал Джек, указывая на руины перед нами. Я ни разу не видела здания, которое подверглось бомбардировке, — по крайней мере заброшенного. Это было похоже скорее на скелет здания, которому совсем не удалось сохранить свою тождественность. Покойное здание, лишь оболочка чего-то, что некогда дышало жизнью, а теперь лишь бездыханно лежит, разбросав потроха. Если бы Джек не следовал записям из дневника деда, если бы мы не спросили дорогу у тысячи прохожих на французско-швейцарской границе, мы никогда не нашли бы это место. Близлежащий лес охватил значительную часть каменной кладки и чугунные прутья, которые, по-видимому, служили для того, чтобы покрывать крышу. Березы, все еще молодые, отбрасывали пятнистую тень на бугристые реликвии фабрики. Со стороны Альп дул прохладный ветерок. Раф и Констанция отправились в Испанию на джазовый фестиваль. Мы с Джеком остались вдвоем.
— Значит, он остановился где-то здесь?
— Да. Он описывал разбомбленное здание. Он писал, что сильно истощен. У него на сердце лежал груз.
— Ты ведь тоже это чувствуешь, верно? Здесь происходили ужасные вещи.
Джек кивнул. Его глаза тщательно сканировали пейзаж, пока он пытался понять, что именно произошло. Он присел рядом с грудой кирпичей и перевернул несколько в поисках имен, подсказок об истории здания.
— Что это за здание? — спросила я, осторожно ступив на старую разбитую дорожку. Казалось, хуже состояния просто не бывает.
— Веревочная фабрика. Мой дедушка рассказывал, что здесь, в сгоревшем здании, жили три семьи. Он поделился с ними своим провиантом, а они дали ему кофе. Тогда это считалось роскошью. Скорее всего, этот кофе был краденым, но он не стал им ничего говорить. В дневнике он написал, что кофе был черный и ужасный на вкус, но они подавали его с такой гордостью, что пришлось сделать вид, будто ему нравится.
— Ты и правда любил дедушку. Это видно в каждом твоем действии.
— Он был добр со мной. Он понимал меня как никто другой.
— Как он пришел к решению приехать сюда?
— Честно, не знаю. Думаю, он просто хватался за любую возможность. Бродил пешком, садился на любой поезд или судно. У меня нет полного понимания, как именно он перебирался от места к месту, потому что он не всегда писал о своих передвижениях в дневнике. Может быть, он просто хотел увидеть, что война сделала с миром. Он просто направлялся домой, но я не знаю, как именно он строил свой маршрут.
Джек стоял и толкал кирпичи носком ботинка.
— Думаю, мой дед пробыл в Берлине как минимум неделю. Мне кажется, он нашел его ужасным и в то же время потрясающим. Всё, каждая частичка жизни, требовало переосмысления. Нельзя было просто вернуться к старой жизни, к старым понятиям. Просто нельзя. Он постоянно повторял это в своем дневнике.
— А потом он приехал сюда? После Берлина?
— Не сразу. Перед Швейцарией было еще несколько мест.
Мы изучили здание со всех сторон, пробираясь сквозь заросли разных кустарников и ольхи. Пришлось соблюдать предельную осторожность, потому что почва была непрочной. Джек останавливался пару раз, чтобы проверить несколько груд камней или кирпичей, которые сохранили видимость структуры. Но лес сожрал здание, березы и осины трепетали в свете подкрадывающейся осени. Что бы здесь ни произошло, что бы ни стало результатом мировой войны, теперь это принадлежало земле. Подходящий мемориал.
Джек становился другим, когда дело доходило до мест из дневника его дедушки. Он серьезнел. Вместе мы нашли два места. Это третье. Казалось, он пытался встать на место деда, отправиться назад во времени, чтобы понять, о чем тогда думал его родной человек. Эти попытки словно подавляли его. Я не понимала, хочет ли он видеть меня рядом с собой в такие моменты. Он, как и раньше, был нежным, часто брал меня за руку, но так же часто отталкивал меня, чтобы сосредоточиться на своей главной миссии. Он напомнил мне человека, который, выбирая парусник, беспокоится о том, чтобы палуба не прогнила, но в то же время ищет изысканный дизайн и представляет, как его лодка будет держаться на воде. Я приспособилась говорить как можно меньше в такие моменты.
— Ну, мы должны идти, — наконец сказал он, остановившись на тропинке и уперевшись руками в бока. — Здесь больше не на что смотреть.
— Пойдем, когда будешь готов, Джек. Некуда спешить.
— Я не могу осознать, что он и вправду был здесь. Не знаю почему. Такое чувство, будто ему было больно.
Я кивнула.
— Может, он боялся возвращаться домой, — сказал Джек. — Может, это была одна из причин.
— Чего ему бояться?
Он пожал плечами. Я заметила, как его охватили эмоции. Мне хотелось утешить его, но я сдерживала это желание. Его несчастье разбивало мне сердце. То, как он любил дедушку, насколько часто его вспоминал, насколько был одержим этой поездкой, путешествием, которое пережил его дед после войны. Когда кое-что не сходилось или сходилось, но не так, как он планировал, я не могла спросить его об этом напрямую. Я давно решила, что если он захочет посвятить меня во что-то, то сам сделает это. И я не стану ничего разнюхивать или просить его рассказать.
— Думаю, я все. Нужно найти место, где мы остановимся.
— Хорошо, Джек.
— Спасибо, что ты со мной.
Я слегка погладила его по спине.
— Это загадка. Я не понимаю, что он искал.
— Ты ведь говорил, что вряд ли это было что-то одно. Может, он и сам не знал, что именно искал.
Джек кивнул.
— Ты даже не сделаешь пару фотографий? — спросил он меня.
Я вытащила телефон и сделала около десятка фоток. Он ничего не сказал. Я пыталась запечатлеть все что можно. Я не стала спрашивать, почему он не против этих фотографий, но обычно было довольно проблематично заснять наши приключения. Наверное, он ответил бы, что эти фотографии необходимы ему для исследования.
Мы уехали после обеда и отправились в Валлорб. Джек хотел увидеть крепость, которую описывал его дед в дневнике. Она находилась в горах Коль де Жун, куда мы и собирались отправиться на следующий день. Было слишком поздно, чтобы исследовать что-то вечером, поэтому мы нашли ресторан и заказали комплексный обед.
Вот где мы снова столкнулись лбами. Наша собственная Вторая мировая.
28
Миллион лет назад моя семья поехала на Запад, на каникулы, в Йеллоустоун. Мне было двенадцать. Когда мы добрались до Небраски, папа решил, что нужно понаблюдать за ежегодной миграцией песчаных журавлей. Был как раз подходящий сезон, и он заявил, что Джейн Гудолл, известный приматолог, советовала это место как один из мировых центров миграции животных. Мама просто пожала плечами, и мы отправились дальше. В любом случае нам было более-менее по пути.
Я помню журавлей, но еще лучше я помню ливень над широкими равнинами Небраски, под который мы попали одним вечером. Буря надвигалась с Запада, застилая все на своем пути. Мы ехали по магистрали, играя в неизбежную игру высматривания разных номерных знаков, когда папа вдруг наклонился ближе к лобовому стеклу и с изумлением сказал:
— Погода сыграла с нами злую шутку.
Буря была у меня на зубах, на небе, на кончиках пальцев. Шторм полностью поглотил нас. Наша машина превратилась в иглу, глубоко впивающуюся в эпидермис грозовой тучи, пока наконец мы не поняли, что происходит.
— Это что, торнадо? — спросила мама, опираясь одной рукой о лобовое стекло, а второй держа камеру.
Папа покачал головой, прислонился ближе к стеклу, чтобы посмотреть вверх, и повторил:
— Погода сыграла с нами злую шутку.
Именно эта фраза пришла мне на ум, когда Джек вдруг помрачнел как туча.
Мы сидели друг напротив друга, потягивая соленый консоме, и ждали, пока официант наполнит наши бокалы шампанским, как вдруг я распознала признаки надвигающейся бури и поняла, что уже поздно пытаться предотвратить разруху. Джек улыбнулся. И тогда-то погода взяла свое.
— Интересно, что принесет нам завтрашний день. Я не хотела бы знать все, меня больше интересует степень определенности, — сказала я, чувствуя, как краснеет моя шея. — Хотя бы это. Разве это плохо?
— Просто… — сказал он и, улыбнувшись, отвернулся.
Что происходит? Я понятия не имела. Как от этих прекрасных романтических путешествий в полном согласии мы вдруг пришли к новому конфликту, еще и в столь замечательной обстановке (мы были в туристическом ресторане с клетчатыми скатертями и супницами на стенах)? «Погода сыграла с нами злую шутку», — подумала я, несмотря на то что Джек немного оживился и наклонился ближе ко мне.
— В этот раз дело не в Нью-Йорке, — сказал он. — Да, дело не в том, что Нью-Йорк — это тюрьма, которую мы строим для самих себя. Дело во взгляде на жизнь.
— Ты похож на ребенка, когда пытаешься говорить о таких вещах.
— Каких?
— Когда ты делаешь эти великие провозглашения. Ты ведь сам только что сказал, что Нью-Йорк может стать прекрасным местом для процветания карьеры. Что он может стать местом, где ты можешь начать свой путь к мировому господству в журналистике. Ты только что это сказал, Джек. Или я сошла с ума?
— Все не так просто. Отнюдь.
— Я теперь даже не знаю, что ты имеешь в виду. Ты действительно хочешь поехать в Нью-Йорк со мной? Ты ничего не обязан делать. Никто не угрожает тебе пистолетом. Мы обсуждали это, но мы ведь ничего не решили, верно? Верно.
— Меня беспокоит значение этих слов.
— Каких слов?
Он снова улыбнулся. Я осознала, что ненавижу его улыбку в такие моменты. Это была больше не улыбка, а защитная реакция.
Официант вернулся с вином. Мы улыбнулись ему. Этот вечер был полон улыбок. Джек сказал что-то на французском. Официант улыбнулся. Может, мне стоило подняться, сделать вид, что мне нужно в уборную, сделать что угодно, чтобы прервать траекторию этого разговора.
Одновременно с этим мое сердце разрывалось.
Когда официант удалился, Джек взял напиток и вздохнул.
— Ты была моим наибольшим страхом, — сказал он. — Правда. Ты, Хезер Кристина Малгрю.
— Я? Почему я?
— Такой человек, как ты. Человек, за которым мне хочется идти. Я не хотел встречать никого вроде тебя. Я думал, что у меня есть довольно хороший план. У меня было шесть месяцев на путешествия. Наверное, именно поэтому я так реагирую.
— Ты все еще можешь путешествовать.
— Наверное, я не хочу. Именно поэтому я в замешательстве.
— Джек, мы делаем проблему из ничего. Ты можешь продолжить свои путешествия. Я не стану тебя винить. Совсем. Может, мне так будет даже проще. Я устроюсь в Нью-Йорке…
— Тем не менее есть одна проблема. Ты тоже это знаешь в какой-то степени. Ты хочешь променять свободу на надежность. Ты хочешь отказаться от этого огромного мира, — сказал он, очертив ресторан правой рукой, — ради работы с девяти до пяти. Не важно, насколько хорошо тебе будут платить… Ты сознательно отказываешься от свободной жизни. Мы оба это понимаем. Мы знаем, что ты обретешь и чего лишишься. Это предсказуемо. Именно поэтому люди так к этому тянутся.
Я пыталась сохранять спокойствие. Казалось, его мнения и идей стало слишком много. Если бы я не была с ним весь день, то решила бы, что он пьян. Я попыталась вспомнить, как выглядели песчаные журавли, когда нам наконец удалось увидеть их. Они во всех смыслах впечатлили меня намного больше, чем сам Йеллоустоун. Они, словно бумажные змеи, взлетели в небо, раскинув крылья и вытянув лапки для баланса. Их огромные крылья мелькали в воздухе, словно струны. Прежде чем приземлиться на бескрайние, пыльные и залитые солнечным светом равнины Небраски, они жалобно вскрикивали в поисках своих товарищей.
Где-то там, за пределами слов Джека, меня ждали журавли. Но в тот момент, в ту ужасную, отвратительную четверть часа, нас охватила буря и не хотела отпускать.
Я заставила себя медленно хлебнуть свой консоме. Он был слишком соленым, но мне было плевать. Я ела с прямой спиной, величественно отправляя суп себе в рот. Вверх, подобрать правильный угол, в рот, глоток, вынуть ложку изо рта, подобрать правильный угол, в миску, — я повторяла эти манипуляции по квадрату. Мимо прошел официант, проверив, все ли у нас в порядке. Мы улыбнулись ему. Парень был совсем молод, лет восемнадцати, со взъерошенными волосами и в галстуке «боло». Кто знает, почему он выбрал именно техасский галстук.
— Может быть, стоит прекратить эту дискуссию? — спросила я спустя некоторое время. — Кажется, эта тема стала нашим яблоком раздора.
— Прости. Наверное, это мой личный демон.
— Просто чтобы окончательно понять, Джек, ты боишься, что потеряешь что-нибудь, каким-либо образом связав свою жизнь с моей? Это так?
— Я не знаю.
— Ты должен знать, Джек. Я имею в виду, не прямо сейчас, но в конце концов ты ведь должен это понять?
Он сделал еще один глоток вина и отодвинул свой суп.
— Соленый, — сказал он.
Я кивнула.
— В прошлый раз, когда мы ссорились, мы переборщили с эмоциями. Я не хочу повторять эти же ошибки, Джек. Я хочу, чтобы мы были откровенны друг с другом. Последнее, чего мне хочется в этом мире, — это позвать тебя с собой в Нью-Йорк, если это не то, чего ты хочешь.
— В том-то и дело, я хочу этого. Именно поэтому я и сказал, что не хотел встречать человека, похожего на тебя. Ни сейчас, ни когда-либо. Какая-то часть меня помешалась на этом. На тебе. А вторая часть, та, которую я сам не до конца понимаю… эта часть требует, чтобы я двигался дальше, узнавал что-то новое. Что-то необычное.
— Мы могли бы делать это вместе. Мы уже делали. Мы путешествовали вместе и каждый день видели что-то новое.
— Я знаю. Это правда.
— А ты заставил меня задуматься над своей жизнью. Не одному тебе сложно, Джек. Я еще даже не заполнила глупые формы от Банка Америки. Это настолько не похоже на меня, ты даже представить не можешь. Но теперь мой кругозор стал шире. Ты заставил меня поставить свой выбор под вопрос, а это совсем не просто. Так что ты тоже оставил свой отпечаток на моих планах.
Подошел официант и, забрав наши супы, заменил их свиным стейком на косточке. Это была особенность ресторана. У меня не было аппетита, но я улыбнулась и сказала Джеку, что мясо выглядит аппетитно. Он протянулся через весь стол и взял меня за руку.
— У меня был друг по имени Том, Хезер. Он был старше меня, но не прямо старик. Может, немного за сорок. Отличный парень. Он был мне за наставника. Я работал с ним в той газете. У нас были похожие желания, более-менее. Мы оба хотели стать журналистами. Однажды во время бритья он обнаружил уплотнение прямо над ключицей. Он обратился к доктору, ему сообщили диагноз — рак, и через девять месяцев он умер. Не знаю, удалось ли мне полностью осознать, что он для меня сделал. Мысленно. Из зрелого мужчины в полном здравии он за считаные недели превратился в ракового больного. Невозможно просто взять и переступить через такое. Невозможно просто забыть, если однажды увидишь, как болезнь забирает человека. Я пообещал себе, что увижу весь мир и испробую все, что только смогу. Я знаю, что это невозможно, правда, но также я знаю, что однажды мы умрем, и это случится быстрее, чем мы думаем. Это может случиться когда угодно. Поверь мне, когда Том заболел, я слышал, как смерть стучится в двери. Поначалу думаешь: конечно, да, я умру когда-то потом… Но когда внезапно это становится реальной возможностью — умереть сейчас, на этой неделе или завтра, тогда-то все и меняется. Меняется все на свете, Хезер, поверь мне. Я знаю, что я умираю. Меня этому научил Том. Это моя проблема, Хезер, не твоя. Это мои заботы. Ты идеальна. Правда. Если в этом мире и есть кто-то, с кем я хочу провести свою жизнь, так это ты. Но я не знаю, что могу дать тебе.
Джек крепко держал мою руку. Он вдруг покраснел.
— Ладно, — сказала я после долгой паузы. — Я поняла. Правда.
На самом деле я ничего не поняла. Я не могла думать. Не могла связать и двух слов. Я сделала глоток вина. Меня не покидало чувство, словно мой мозг — это краб, отчаянно ищущий убежища. Он так решил расстаться со мной? Или говорил это для того, чтобы предостеречь меня не влюбляться в него? Если так, то было слишком поздно.
— Ты в порядке? — спросил он.
— Конечно. Просто как-то грустно.
— Я не хотел…
Я очень осторожно поднялась. «Спокойно», — напомнила я себе. Мне нужно было срочно уйти. Мне нужно было время, чтобы подумать. Казалось, моя шея вот-вот вспыхнет.
— Мне жаль Тома, Джек. Очень. Мне жаль, что он умер. Я уверена, что ты перенес сильное потрясение. Такое нельзя забыть. Но даже это не дает тебе права делать другим больно. Нельзя так поступать. Нельзя воспринимать людей как просто очередной опыт. Так делать нельзя. Не нужно играть в любовь, а потом давать задний ход, потому что не хочешь становиться смыслом жизни для кого-то. Это называется использовать людей. Ты можешь говорить о Нью-Йорке и тюрьмах, о выборах, которые тебя ограничивают, но ты с неподдельным интересом говоришь о свадьбе, о том, как звучала бы моя фамилия… А сам думаешь о том, как выбраться из этого всего и продолжить свою раздольную жизнь. Что ж, не стоит беспокоиться. Продолжай свои поиски. Не позволяй мне стоять у тебя на пути.
— Хезер… — начал было он.
— Я не злюсь. Честно, совсем. Но ведь я и не ловушка, Джек. Я не тупик, которого нужно избегать. Ты знаешь, где настоящая тюрьма? В твоих мыслях. В твоей голове. Мы живем в наших мечтах, Джек, и ты можешь путешествовать до изнеможения, но в конце концов ты обнаружишь, что по-прежнему живешь в своей голове. Ты заставил меня поверить, что иметь кого-то рядом — это хорошо, иметь кого-то, кто будет сидеть с тобой в кино и есть попкорн, а потом вы обсудите фильм вместе. Но если это — не то, чего хочешь ты, если для тебя быть свободным значит смотреть фильм в одиночестве, то я поняла. Удачи, Джек.
Осторожно, осторожно, осторожно я вышла из ресторана. Я не хотела уноситься прочь, чтобы не выдавать нетерпение в своей походке. К тому же я и правда не злилась. Просто в моем сердце образовалась дыра. Я задержала дыхание и представила, что я на дне бассейна. Я подняла подбородок и попыталась не смотреть по сторонам. Какая-то часть моего мозга начала посылать мне сигналы с вопросами: где мой рюкзак, куда я иду, где Констанция, как с ней связаться… В то же время мое сердце начало выскакивать из груди. Мне хотелось разреветься, но я не позволила бы себе сделать это.
Выйдя на улицу, я осознала, что мне холодно. По-настоящему холодно. Горы шептали, что мне пора домой.
29
Я не стала собираться и уезжать. Драматические исчезновения стоят денег, а от моего бюджета осталось совсем немного. К тому же я не знала, куда именно хочу отправиться, как я туда доберусь и каким должен быть следующий шаг. Мы сняли номер в дешевом отеле, и мне нужно было место для ночевки. Примерно такое же простое. Всегда важно иметь крышу над головой. Это первое правило. Пришло время становиться прагматиком. Я решила, что не ненавижу Джека. Решила, что у него есть право бояться болезни, что забрала его друга. Он поступил плохо, втянув меня во все это, но ведь не он первый и не он последний ошибается в этом мире. Я сама совершала уйму ошибок. Я сказала себе, что мне нужно расслабиться. У меня куча дел в Нью-Йорке. Честно говоря, даже больше. Вернувшись в номер, я достала iPad и ответила на каждый запрос, заполнила каждую форму и сделала все, что ожидало меня все время, пока я колесила по Европе с Джеком. Я попросту забылась с ним. Джек тоже забылся по-своему. Мы не должны были становиться врагами. Это просто-напросто вопрос приоритетов.
Я переоделась в пижамные штаны и амхерстскую толстовку.
И снова задержала дыхание. В этот раз помогло. Затем я подложила под спину подушки и открыла Хемингуэя. Я долго думала о том, что Хемингуэй бросил первую жену ради чего-то нового. Чем-то новым стала женщина по имени Полетт или Полин, что-то вроде этого. Это тоже вопрос приоритетов. Вопрос преимущества. Каждому приходится решать, на что ставить свои деньги за столом рулетки.
Немного позже я выключила свет. Вряд ли я смогла бы уснуть.
Примерно через час вошел Джек. Он освещал себе путь фонариком на телефоне. Я упрямо не открывала глаза.
— Мы можем поговорить? — мягко спросил он. — Хезер, ты не спишь? Мы можем поговорить?
Я подумала о том, чтобы притвориться спящей, но какой в этом толк? Я протянула руку к лампе у кровати и включила свет. Джек сел на кровать и положил руку мне на ногу. Я облокотилась на подушки и попыталась убрать волосы с лица.
— Было так себе, — сказал он. — Я имею в виду ужин.
Я пожала плечами.
— Думаешь, это можно исправить? — спросил он.
— Я не знаю как. Вряд ли все будет так, как прежде.
— Прости, что я сомневался насчет поездки в Нью-Йорк. Я не хочу терять то, что у нас есть. Ты мне очень нравишься, Хезер, но меня это пугает. Вот что я хочу сказать. Пару лет назад я был совсем как ты. Я думал об акциях, о карьерной лестнице, но однажды ко мне пришел Том и рассказал, что случилось. После его смерти я осознал, что делаю совсем не то, чем по-настоящему хотел бы заниматься. Знаю, звучит театрально, но я пообещал себе, что больше ни дня не потрачу в офисе. Я спросил себя, хочу ли я изменить жизнь, могу ли я это сделать. Я решил отправиться в эту поездку, следуя дневнику дедушки, в надежде, что это путешествие вернет меня к жизни, как вернуло его. И тогда я встретил тебя.
— Джек, я уверена, что не в силах понять, каково это — видеть смерть друга. Я не знаю, как это. Но ты должен понять, что ты свободен. Ты можешь делать все, что захочешь. Ты ничего мне не должен.
— Не в этом дело, Хезер. Прости, что у меня плохо получается донести свою мысль. Я продолжаю говорить не то, что имею в виду.
— Я тебя слушаю, Джек.
Он сделал глубокий вдох. Было заметно, как отчаянно он старается сформулировать предложение.
— Дело не в тебе. Проблема в том, чтобы возвращаться к работе, к журналистике… Много препятствий. Еще и смерть Тома. Ему в грудь вживили шунт, по которому поступали интерфероны. Это продолжалось долгое время, и каждый день ему становилось все хуже. На это страшно было смотреть, Хезер. Я перестал доверять миру. Ты теряешься во всех этих страхах и мыслях, но дело не в нас, дело в жизни.
— Я понимаю, Джек. Ты не должен оправдываться передо мной или кем-либо. Я собираюсь поехать в Париж. Все равно нам скоро лететь домой, к тому же у меня заканчиваются деньги. Я уже сказала Констанции. Она скоро будет выезжать из Испании.
— Я с тобой. Я хочу быть в Париже с тобой.
— Не уверена, что это хорошая идея.
— Мы говорили о том, чтобы поехать в Париж вместе.
— Мы много о чем говорили. Я не стану тебе врать, Джек. Я влюбилась в тебя. Я знаю, это банально, но с тобой у меня захватывает дыхание. Это правда. Не знаю, насколько хорошо мы подходим друг другу, но я хотела попробовать. Отношения с тобой не казались мне концом свободной жизни. Я видела лишь начало. Увлекательное начало. Я хочу продолжить путешествовать, Джек. Я хочу посетить Японию, Индонезию… Целый мир, правда. Да, я буду работать, и да, я должна буду тяжело работать в офисе, но я этому рада. Это часть моей жизни. И я решила, что ты тоже мог бы стать частью этой жизни. Так или иначе, я на это надеялась. Но если этому быть не суждено, то ладно. Мне больно, но я переживу. Я по-прежнему люблю все то, что мы пережили вместе.
— Мне просто нужно немного больше времени.
— Для чего? Звучит не очень убедительно. Или целесообразно. Это лишь увеличит пропасть между нами. Я не хочу ставить тебе ультиматум, но мне кажется, пришло время делать выбор. Как бы там ни было, для меня это очень важно. Я не могу просто закрыть на это глаза. Если бы мы встретились где-то в Штатах и продолжали встречаться, пустив все на самотек, было бы намного проще. Но судьба распорядилась иначе, верно? Мы встретились в поезде в Амстердам. Может быть, именно то, что мы провели столько времени вместе, путешествуя, сыграло роль. Может, это ускорило события без нашего ведома. Я не знаю. Я устала думать об этом, Джек. Я скоро поеду домой. Прежде чем я уеду, я хочу еще раз увидеть Париж. Я полюбила этот город еще до того, как побывала там. Но я не хочу ехать туда с тобой. Больше не хочу. Если ты хочешь полететь со мной… Я не хочу запомнить Париж как город, где я рассталась с возлюбленным. Помнишь, когда-то давно ты спросил, что меня привлекает в Хемингуэе, а я ответила, что его депрессивность? Что ж, мне нравится его печаль, но я не хочу везти ее с собой в Париж.
Он долго смотрел на меня молча. Затем, медленно сняв ботинки, он лег рядом, прильнув ко мне головой. Я повернулась к нему. Наши лица разделяли какие-то сантиметры.
— Я выбираю тебя, — прошептал он, прикоснувшись к моей щеке. — Честно. Я выбираю тебя. Ты подарила мне надежду, которую я так давно потерял. Ты примешь меня?
Я кивнула. Я ни на секунду не сомневалась в своих чувствах.
— Ты уверен? — спросила я. — Не обещай ничего, если на самом деле этого не хочешь. Зачем обсуждать это снова?
— Сначала мы поедем в Италию, а затем — в Париж. У нас есть немного времени, и я хочу посетить последнюю точку из дневника. Потом я поеду с тобой в Париж, а после — в Нью-Йорк. Я пока что не знаю всего, но знаю лишь, что хочу быть с тобой. Прости, что было так сложно. Я не хотел. Мне просто было страшно, Хезер. Может быть, это из-за того, что я пообещал себе больше ни на что не надеяться, а потом появилась ты.
— Ты тоже изменил меня, Джек. Ты заставил меня поставить под вопрос свои предположения и немного притормозить. Я многому научилась у тебя. Подумываю даже избавиться от своего «Смитсона».
— Не уверен, что мир готов встретить Хезер Малгрю без ее «Смитсона».
— Я теперь новая, свободная Хезер. Погоди — и увидишь.
— Мы с тобой встретимся посреди пути.
— Да, таков мой план.
Он сощурил глаза. Нежно поцеловав меня, он просто прислонился губами к моим.
— Наверное, ты голодна, — сказал он. — Ты совсем ничего не ела в ресторане.
— Да, голодна.
— Что если я скажу, что у меня в рюкзаке мороженое «Бен и Джерри»?
— Ты врешь.
Он кивнул, снова поцеловал меня, и немного позже мы уснули. Песчаные журавли больше не беспокоили меня, и шторм ушел на восток. Но что случилось, что все это значило, я не знала.
30
— Его зовут Джек Квиллер-Куч, я встретила его по пути в Амстердам… Да нет, он тебе понравится, мам. И папе.
Я говорила с ней в поезде по пути в Италию. Джек отправился в вагон-ресторан. На этот раз поезд был полупустым. Нам досталась роскошь в виде двух свободных лавочек напротив.
— Что значит «он вернется со мной»?
Если я правильно угадала, она попивала чай. Я знала, что она сидит на террасе, полной комнатных растений и герани, — это ее любимое место летом. Она любила герань.
Я заметила, как она пытается сохранить спокойствие. В ее голосе было недоверие к Джеку — ко всему, что собой представлял Джек, — но я знала, что она пытается быть понимающей и спокойной, и это лишь усугубляло ситуацию.
Я с ужасом ждала этого разговора. Если Джек поедет со мной, это значит, что ему придется остановиться у нас дома, хотя бы ненадолго, и я хотела обсудить это с мамой.
— В каком смысле? — спросила я лишь для того, чтобы выиграть время для раздумий.
— Ну, я не знаю, Хезер. Правда, не знаю. В смысле… Вы что, жениться собрались?
— Нет, мам. Все совсем не так.
— Но он приедет с тобой…
— Таков наш план.
Она молчала. Она была безоговорочным мастером молчания. С ней всегда было сложно. Пауза затянулась надолго, и я выпалила что попало, лишь бы заполнить тишину.
Я хотела дождаться ответа, но не смогла.
— Мы путешествовали вместе, — объяснила я. — В Германии, Польше и Швейцарии, мам. Теперь мы едем в Италию… Я тебе говорила. Естественно, мы важны друг другу. Мы пока что решаем, что это значит.
— Понятно.
— Вряд ли тебе понятно, — сказала я, слегка разозлившись. — Он потрясающий. Он очень привлекательный. Он вермонтец. Он рос на ферме, почти все детство.
Да, Мамазавр — гуру молчания.
— И я думаю, что влюблена в него, мам. Ты понимаешь? Думаю, я люблю его. Думаю, мы по-настоящему подходим друг другу… Как вы с папой.
Казалось, я вот-вот расплачусь.
Поезд продолжал стучать по рельсам. На горах и соснах за окном иногда виднелись бледные призраки снега и льда.
— Так значит, когда ты приедешь домой, он будет с тобой? — спросила мама.
— Да, мам. Джек будет со мной.
— Вы собираетесь жить вместе?
— Я не знаю. Мы еще не обсуждали всех деталей.
— Но если он приедет с тобой домой…
— Я понимаю, мам. Я знаю, о чем ты говоришь. Нам нужно разъяснить пару практических моментов. Я понимаю. Мы с этим разберемся. Мы продумаем наш план получше. Прости, что ошарашила тебя этой новостью. Это и для меня новость, поэтому у меня пока что нет всех ответов. Но я хотела, чтобы ты знала, что происходит.
— Я рада. Знаешь, можно было просто привезти сувенир. Не обязательно ехать в Европу, а возвращаться с мужчиной.
Я сделала глубокий вдох. Это была шутка. Наверное, она пошутила.
— Я хочу, чтобы ты порадовалась за меня, мам.
— Я рада, милая.
— По-настоящему, мам. Не сдержанно. Не осуждающе. Не знаю, правильно ли мы поступаем, но интуиция подсказывает, что да. Я все обдумала, поверь мне. Я не теряю голову. Джек настоящий и надежный… Надежный как никто. Он видит мир таким прекрасным… Не так, как я его вижу, но в этом мы дополняем друг друга. Я не знаю. Я устала раскладывать все по ящикам, мам. Я делала это всю свою жизнь. А Джек не подходит ни к одному ящику, это мне в нем и нравится. Когда я с ним, мир кажется более открытым. Правда. Я пыталась рассуждать разумно. Мы слишком молоды, не встали на ноги… Есть целая тысяча причин отказаться от этой затеи, но так бывает всегда, верно, мам? Ты сама меня этому научила. Иногда нужно принять подарок судьбы и не отпускать его. Пожалуйста, скажи, что ты понимаешь, мам.
— Конечно понимаю, милая, — сказала она, и это была хорошая мама, теплая, идеальная мама, которая фотографировала меня с подругами на выпускном и которая, наверное, наверное, наверное, понимает меня лучше всех на свете.
И мне не составило труда представить себе их разговор с папой вечером.
— Хезер встретила кое-кого.
— Кое-кого?
— Мальчика. Ну, вряд ли технически он мальчик. Молодого человека.
— И…
Мой папа сидит в своем кресле на террасе, смотрит игру Янки и, быть может, попивает темный односолодовый скотч.
— И она собирается привезти его домой.
Папин взгляд. Немного раздумий. Насмешливый подъем бровей.
— Она должна работать… — скажет он.
Мама кивнет.
— Хм-м-м.
Затем он взглянет в телевизор или на заходящее солнце, поднимет бокал, сделает глоток.
Он подумает, что все идет не по плану. Что я поторопилась и что я несерьезная. О чем я думала?
— Как прошло? — спросил Джек, плюхнувшись на сиденье напротив. Он протянул мне горячий шоколад. У него был довольный и отдохнувший вид. Я осознала, что теперь знаю, как он спит и как себя чувствует.
— Думаю, могло быть и хуже. Конечно, для них это неожиданные новости.
— Хорошо. Давай сюда свои ноги, я сделаю тебе массаж. Это наименьшее, что я могу сделать.
— У меня грязные ноги.
— Меня устраивает.
— У тебя точно фут-фетиш. Это становится все яснее.
Я отхлебнула еще немного горячего шоколада. Было довольно вкусно. Он похлопал по своим коленям, чтобы я положила на них ноги. Я послушалась. Попросила его не снимать мои носки.
— Когда ты позвонишь своим предкам? — спросила я.
— Ох, у нас не такая семья.
— А какая?
— Я не знаю. Мы правда любим друг друга.
— Еще одна патология?
— Это делает меня лучше. Ты разговаривала с мамой или папой?
— С мамой. Но это то же самое, что общаться с ними обоими. Они всегда рассказывают все друг другу.
Он нажал на нерв на моем пальце, и моя нога немного подскочила. Мы вернулись в тихое русло. Все стало даже лучше, чем раньше, ведь теперь все лежало на поверхности. Впервые мы заговорили о Нью-Йорке не как о гипотетическом пункте назначения, а как о месте, где будем жить. Это изменило все для нас обоих.
— Спишь? — спросил он. — Иногда от массажа ног меня клонит в сон.
— Что мы будем делать в Италии?
— Есть спагетти. Осматриваться.
— То есть мы едем в Италию лишь для того, чтобы поесть спагетти?
— Звучит безбашенно, когда ты это говоришь.
— Твой дедушка был там?
Он кивнул.
— А потом Париж? — спросила я.
— А потом Париж. Раф с Констанцией тоже будут там. Вот и конец нашему путешествию. Как-то так.
— Поскорее бы их увидеть.
— Да, было бы неплохо встретиться с ними в Италии.
— Жаль, что у нас так мало времени. Я тебе рассказывала, что в детстве думала, будто Венеция находится на Венере? Думала, что это город на другой планете.
— И ты говоришь, что окончила Амхерст.
— Не знаю, дело в похожих названиях. Я помню, как разочаровалась, когда моя подруга сообщила мне, что Венеция — это город в Италии. Я сначала даже не поверила ей. Решила, что ее дезинформировали. Думала, что гондольеры в полосатых рубашках… что это космическая униформа.
— Да уж, у тебя есть свои странности, Хезер.
— Было легко ошибиться.
— То же самое, что перепутать трубкозуба и ковчег для машин. Именно так я считал в детстве.
— Ты думал, что трубкозуб — это ковчег для машин? Мне даже сложно выговорить. Какая-то скороговорка. Что такое ковчег для машин?
— Я просто подумал, что если Ной построил ковчег для животных, то почему не может быть ковчега для машин? И я решил, что это трубкозуб.
Он снова взял меня за пальцы на ногах. Я ощущала легкость, счастье и поддержку. Мы по-прежнему смотрели друг другу в глаза, когда зазвонил мой телефон. Я опустила взгляд и увидела, что это папа. Я показала телефон Джеку, и он встал с сиденья.
— Ухожу, — сказал он.
Нежно поцеловав меня, он удалился в вагон-ресторан.
31
— Так, расскажи мне о Джеке, — сказал папа. — Твоя мама сказала, что он сопровождает тебя домой.
Сопровождает. Словно Джек — какой-то слуга.
Наверняка его насторожила настойчивость мамы в ее просьбах выяснить, что все это значит. Старый трюк. Боже, до чего же быстро они сработались.
— Джек — это человек, которого я встретила в поезде по пути в Амстердам.
— Он американец?
— Родился и вырос.
— Твоя мама сказала, что он из Новой Англии?
— Вермонт, — сказала я.
Меня раздражали мои короткие ответы, но я не хотела рисковать и затягивать со своими репликами. Лучше отвечать короткими повествовательными предложениями, не проявляя особой инициативы.
— И какие у него планы? Ты знаешь?
— Относительно чего?
— Ну, просто, в общем. Планы на жизнь. Вы это обсуждали?
— Папа, ты слишком любопытный.
— Я не специально, милая. Прости. Мне просто интересно. Как и твоей маме. Это большой шаг. Ты только выпустилась весной.
— Я знаю, пап.
Я отхлебнула еще немного горячего шоколада. Решила не вестись на ловушки отца. Если ему нужны ответы, ему придется вести разговор. После короткой паузы он продолжил:
— И насчет твоей новой работы… Команда Эда Белмонта сделала скачок выше крыши. В смысле, их продажи. О них написали в журнале «Уолл-Стрит». Во всяком случае, Джек будет жить с тобой?
— Мы пока не знаем, пап. Наверное. Мы знаем лишь то, что хотим быть вместе. Это и есть суть нашего плана.
Сильная, колющая боль, как пуля, пронзила мой лоб. Я приложила горячую чашку ко лбу, но это не помогло.
— И чем он занимается? — спросил папа.
— Чем занимается?
— Его профессия… Стремления. Что он планирует делать?
— Он следует записям из дневника своего дедушки. Преимущественно этим он и занимается в последнее время.
— Дневник дедушки?
— Его дед путешествовал по Европе после войны. Джек прослеживает его шаги и думает написать книгу. Он любил своего дедушку. А до этого Джек работал журналистом в Вайоминге.
Папа ничего не ответил. Прилив электрического шума, связывающего наши телефоны, накатывал волнами.
— Ладно, наверное, тебе лучше знать, Хезер. Мы немного озабочены — твоя мама и я, — мы немного озабочены, что все происходит слишком быстро. Ты совсем молода, детка, и это твоя первая большая любовь.
— Пап, прекрати. Пожалуйста, перестань. Я не стану совершать необдуманных поступков. Поверь. Джек тоже. Мы не планировали встретиться и влюбиться друг в друга. Это просто случилось. Мы хотим быть вместе. Он отличный парень. Он тебе понравится. Рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Я знаю, может быть сложно, но я справлюсь. И не переживай. Я все еще хочу полностью посвятить себя карьере. Тебе не стоит переживать об этом. Я не разочарую тебя, обещаю.
— Ты никогда не разочаровывала меня, дорогая. Не смей даже думать об этом.
Я не знала, что еще сказать, чтобы все не испортить. Я не собиралась защищать Джека перед отцом. Им придется встретиться, оценить друг друга, провести весь этот мужской ритуал, который я никогда толком не понимала.
— Как дела у мистера Барвинка? — спросила я, чтобы заполнить неловкое молчание.
— Все вроде бы хорошо. Не слышал обратного.
Я глубоко вдохнула и попыталась сформулировать мысль, чтобы красиво преподнести ее отцу. Начала, остановилась и начала снова.
— Папа, я точно не знаю, что у нас с Джеком получится. Я люблю его. Я знаю это. И я думаю, что он любит меня. Я знаю, что все произошло слишком быстро и вас это беспокоит… Но программа всегда дает сбой, верно? Разве ты сам меня этому не учил? Жизнь — это один сплошной бой против сбоев? Что ж, я займусь работой и сделаю все для того, чтобы оправдать твои ожидания. Я обещаю. Но Джек тоже что-то значит. Мы могли бы отложить все на потом, решить, что то, что было между нами, не считается, вот только ты растил меня по-другому. И ты был прав. Нельзя жить будущим. Это твои слова. Ты сам говорил, что жить нужно здесь и сейчас и лишь дураки отказываются от счастья ради надежды получить что-то лучшее в будущем. Мне почти удалось процитировать тебя. Поэтому поверь мне, пап. Он хороший человек. Мне нравятся его взгляды на жизнь. Из нас выйдет хорошая команда. Может быть, это не самое лучшее стечение обстоятельств, но в жизни бывают сбои, верно?
— Бывают, — согласился папа.
Это его пословица. Он не мог не согласиться.
— Ладно, милая, мне пора. Мы с нетерпением ждем тебя дома. Джек приедет с тобой?
— Мы пока этого не обсуждали, но да, если ты не против.
— Это и твой дом, милая. Несмотря ни на что, мы всегда тебе рады.
— А Джек?
— Если ты любишь Джека, то и мы любим его.
— Спасибо. Я ценю эти слова.
— Ты ведь не собираешься так быстро вырасти?
— Не настолько быстро, папуль. Меня по-прежнему не покидает чувство, словно мне десять лет.
— Что ж, все мы иногда чувствуем себя детьми. Ладно, я доложу о нашем разговоре в центр управления. Маме будет интересно узнать новость. Увидимся? Чуть больше чем через неделю?
— Чуть больше чем через неделю.
Я думала, что он повесит трубку через секунду. Но он сказал:
— Ты все еще моя тыковка, ты знаешь?
— Я знаю, папуль. И всегда буду.
31
30 июля 1947 года
«Я приехал в прекрасный итальянский город под названием Финале-Лигуре. Наверное, это не совсем город. Скорее деревня. Она находится на морском побережье, у залива Генуи. Война не задела это место так, как задела остальные. Морской воздух значительно улучшил мой аппетит. Я съел две огромные миски томатного супа с лапшой. А потом долго спал у океана. Это был такой странный сон, когда крик чаек играет в твоих снах и ты не понимаешь до конца, что — сон, а что — явь…»
— Должно быть, это те самые каменные колонны, о которых он писал, — сказал Джек, держа дневник в руке и рассматривая пейзаж в виде кафе и ряда столбов, что выстроились неподалеку. Это были тяжелые каменные копья, торчащие из земли, словно кто-то силой забросил их туда. Казалось, никто, кроме туристов, не обращал на них внимания. К нам подошел низкий итальянец с огромными предплечьями и на итальянском объяснил нам, что эти самые колонны однажды принадлежали римскому борделю, но у меня было чувство, что он решил нас одурачить. Я попыталась загуглить «Римский бордель в Финале-Лигуре» на телефоне, но он был вне зоны действия сети. Итальянец расхохотался и отправился восвояси. Американские простофили.
— Как называется это кафе? — спросила я и взяла дневник у Джека.
«Экскалибур». Теперь кафе называлось «Капразоппа», в честь известняковой породы, которая образовала горы, но ведь это не значило, что это другое кафе.
— Положи дневник в рюкзак, хорошо? Но погоди. Здесь написано, что должно быть семь колонн.
Я осмотрела вход. Его дедушка нарисовал колонны, широкие каменные столбы, но я не смогла найти ни одной записи, которая говорила бы об их количестве. Я прочитала страницу вдоль и поперек, пока Джек, подняв голову, бродил между колонн. Это был поздний обед, и кафешки начали заполняться толпами туристов, которые пришли за латте или коктейлями.
— На рисунке семь колонн, — сказала я, метая взгляд от столбов к дневнику. — Но этого не написано в тексте.
— Представь, что он был здесь. Мне нравится так думать.
— Я думаю, таких мест уйма, но это кажется самым подходящим. Не каждый день увидишь такие колонны.
— Я все еще представляю себе парня с вермонтской фермы, который в одиночестве блуждает по Европе. В некотором смысле это странно.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, я думаю, большинство людей как можно скорее рвалось бы домой, но только не дедушка. Не думаю, что он покидал ферму чаще, чем пару раз в жизни. Словно он намеренно собирал впечатления и делал зарисовки для последующего использования. Я не знаю. Это немного смешно. Что если он не хотел возвращаться домой по какой-то причине?
— Мы только что прошли мимо Бенедиктинского аббатства? Думаю, это в Финале-Пиа.
— Почему ты спрашиваешь?
— Просто пытаюсь разбить на треугольники. Пытаюсь представить себе макет.
До чего же путешествия с Джеком отличаются от обычных. Мы изучаем колонны в маленьком итальянском городишке, пока большинство людей просто лежат на пляже или бесцельно бродят по руинам. Если бы я была с Констанцией, вопроса поиска достопримечательностей вообще не стояло бы: мы просто обошли бы все места, указанные в путеводителе, и на этом покончили бы.
— Тебе скучно? — спросил Джек, касаясь ладонями колонн и глядя вверх, на гладкий подъем камня. — Может, ты заскучала?
— Мне всегда с тобой скучно, поэтому сложно сказать.
— Еще бы.
— Еще в Европе я планировала узнать побольше о колоннах. Это входило в мой список дел.
— Я так и понял.
— Хочу сфотографировать тебя пару раз, — сообщила я.
— Ты напористая.
— Если ты решишь писать книгу, то фотографии тебе самому понадобятся. И даже если не решишь, то все равно захочешь себе фотку на месте, где стоял твой дедушка.
Он начал было что-то говорить, но потом пожал плечами. Я сделала полдюжины фотографий. Он улыбнулся. Это была ослепительная улыбка.
— Мне понравятся твои мама с папой? — спросил он, когда я наконец убрала телефон.
— Конечно. Почему бы и нет?
— Они, наверное, думают, что я из кожи вон лезу, чтобы заслужить твое сердце. Наверное, они решили, что я красавчик.
— И что в этом плохого?
— Значит, ты признаешь, что я красавчик. Я так и думал.
— В этом нет ничего такого. Мужчины — основная часть женского туалета. Я думала, ты это понимаешь.
— Давай найдем хорошее кафе на пляже и плотно пообедаем, — сказал он. — Сможешь похвастаться мной.
— Я на мели, Джек.
— Нам нужен хороший обед в Италии. Хотя бы один. Я угощаю.
— И вино? — спросила я, засовывая дневник себе в рюкзак.
— Много вина.
Я не смогла сдержаться и заговорила. Эта мысль призраком летала между нами с той самой ночи с механическим быком.
— Мы собираемся начать говорить вслух о том, что любим друг друга? — спросила я.
Я внимательно всматривалась в него, пытаясь понять реакцию.
— Ты первая, — сказал он.
— Нет, мальчишки должны быть первыми в этой ситуации.
— Почему? — спросил он, убрав руки с колонн и обхватив мою талию.
— Это один из законов вселенной. На самом деле мне даже кажется, что это указано где-то в периодической таблице.
— Я люблю тебя, Хезер. Теперь ты. Прямо вслух. Полностью.
— Я тоже люблю тебя, Джек.
— Теперь это часть нас. Нет пути обратно. Мы можем расстаться, но взять слова обратно нельзя.
— Хорошо.
— Такое чувство, словно я любил тебя и в прошлой жизни.
— И у меня. Я тоже это чувствую.
— Это ведь не значит, что мы должны прекратить влюбляться? Мы можем влюбиться еще сильнее.
— И влюбимся.
— Мы можем выдумать свой собственный мир. И жить так, как захотим, — сказал он мне на ухо.
— Да, — согласилась я.
Мы стояли и смотрели на колонны. Мне нравилось, что мы не знали их точного предназначения. Нравилось то, что мы посвятили себя друг другу там, где однажды стоял дедушка Джека. Это была великолепная маленькая деревня, прекрасная итальянская община итальянской Ривьеры. Казалось, что наша жизнь началась прямо сейчас, сразу же после того, как мы произнесли заветные слова. Все, что было до этого, — лишь прелюдия; все после этого стало Джеком. Мы стояли, пока стая голубей не приземлилась возле нас. Поблескивая зелено-сине-желтыми шеями, они подошли ближе, надеясь на угощение.
Париж
32
Что бы ты ни привез с собой в Париж, он заберет себе это что-то и только потом возвратит. Но только не в первоначальном виде, а изменив, иногда едва ощутимо, иногда более заметно, но обязательно забрав себе маленькую частичку тебя. Париж — воришка. Улыбчивый воришка, который отпускает шутки и обворовывает туристов. А ты не можешь противостоять, потому что это Париж, летний город, который погружается во тьму после десяти часов вечера, где кафешки зажигают фонари, а улицы заполняет аромат кофе, духов, жареных яиц и лука. В компенсацию за кражу Париж дарит восхитительные воспоминания, прекрасные моменты, а если ты согласишься на сделку, он одарит тебя еще щедрее. Иногда это волны Сены, пульсирующие у древнего побережья, или абсурдно открытый рот шпагоглотателя на Монпарнас, или же озорной блеск в глазах туриста, нашедшего кошелек на переполненной платформе.
Париж — это рука женщины, прикрывающая огонь спички, которую поджег мужчина за маленьким круглым столиком под каштаном за полчаса до ливня.
Я заметила Констанцию на другой стороне улицы, и мое сердце встрепенулось.
Я помчалась навстречу ей, а она — как всегда утонченная — навстречу мне. Мы обняли друг друга и закружились, чуть было не повалившись наземь под весом рюкзаков. Крепко обнявшись, мы отклонились назад, чтобы хорошенько разглядеть друг друга, а затем снова обнялись, но в этот раз еще сильнее, и ко мне вместе с огромным облегчением вернулось то, чего мне так не хватало.
— Ты потрясающе выглядишь! — сказала я, ведь она и правда сияла. Ее глаза горели от счастья, и этого мне хватило, чтобы понять: их с Рафом путешествие удалось просто на ура.
— Ты тоже! — сказала она, кивая, и мы многозначительно переглянулись, поспешно пытаясь передать друг другу свои впечатления.
— Тебе понравилась Испания?
— Очень, — ответила она. — А тебе Италия?
— Было чудесно. Мы мало видели, но было замечательно.
— А насчет Швейцарии…
Я не знала, с чего начать свой рассказ. Постепенно мы осознали, что Раф и Джек молча стоят позади нас и терпеливо ждут, пока мы наверстаем упущенное. Мы засмеялись, когда стало ясно, что мы попросту игнорируем мальчишек. Я обняла Рафа, а Констанция — Джека. Мы застыли на миг, не зная, что делать дальше.
— У меня есть одно местечко на примете, — сказал Раф, когда мы встали в небольшой круг, загораживая большую часть тротуара. — Мы с Джеком оставим вам сумки, а сами сходим кое-что выяснить. Вы ведь не против недорогого отеля?
— Конечно нет, — сказала я и посмотрела на Джека. Он кивнул.
Примерно так и образовался наш план. Джек и Раф провели нас до кафе рядом с вокзалом и оставили нам свой багаж. Мы заказали два кофе у жилистого престарелого официанта с седой шевелюрой, похожей на римский лавровый венок у висков. Он кивнул и побрел прочь. Я вытянула руки, и Констанция положила свои ладони в мои.
— Ну? — спросила я.
Ее глаза стали влажными.
— Он самый добрый, самый нежный мужчина из всех, кого я встречала, — сказала она, мгновенно уловив, что я имею в виду. — Я в таком восторге от него, что даже не знаю, что с собой делать. Честно, мне наплевать. Я продолжаю повторять себе, что это сумасшествие, что это не может быть правдой, но тогда он делает что-то еще… Что-то до того милое и чуткое, что у меня снова сносит крышу.
— Я так рада, Констанция. Я так рада за тебя.
— А Джек?
Я кивнула.
Она сжала мою руку. Официант вернулся с нашим кофе. Она снова заговорила:
— Когда мы приехали в Испанию, у меня поначалу были трудности с языком и ритмом жизни. Там до того медленные люди, что мне постоянно хотелось всех обогнать и куда-то бежать, чтобы увидеть как можно больше, но на меня чудотворным образом повлиял Раф. И я задалась вопросом: куда я постоянно спешу? Разве это какая-то гонка, где выигрывает тот, кто увидит больше музеев и соборов? Почему я раньше об этом не думала? Это до того понятно и очевидно, но я не осознавала этого, пока не встретила Рафа.
— У меня такое же чувство, — сказала я. — С Джеком. У меня был этот нелепый список заданий, и я считала, что если не поставлю галочку напротив всех пунктов, то автоматически провалю задание. Я была плохим туристом. Я не умела брать от путешествий все. Не знаю, это именно мое отношение или в целом американское. Может быть, это связано с тем, что я отличница, но, встретив Джека, я вдруг перестала ощущать ту спешку и желание сделать что-либо первой. Совсем.
— Раф хочет, чтобы я поехала с ним в Австралию. Сразу, вместо того чтобы ехать домой. Он хочет, чтобы я познакомилась с его семьей.
— А ты что думаешь?
Она не отрывала от меня взгляда. Моя милая рассудительная подруга, которая изучает святых, едва пожала плечами.
— Не знаю, — сказала она. — Я ведь совсем не за этим приехала в Европу. Мои родители решат, что я спятила.
— Ты уже рассказала им о Рафе?
— Я сказала маме. Она поддержала меня, но сказала быть осторожнее. Я все хорошенько обдумала. Моя работа начинается только осенью. Я могу позволить себе поехать в Австралию. Это так заманчиво. Раф должен вернуться на летнюю стрижку овец. Кажется, он говорил как-то так. У них там другое время года, поэтому я путаюсь, когда он говорит об этом.
— Ты настолько серьезно настроена?
Она кивнула и отхлебнула свой кофе.
— Видимо, да, — ответила она.
— Я счастлива за тебя. Знаю, что уже говорила, но это правда.
— Я не готова прощаться с ним. Пока что. А ты можешь попрощаться с Джеком?
Я покачала головой. Мне казалось, я никогда не смогу попрощаться с ним, но я решила не произносить это вслух. Глядя на Констанцию, слушая о ее планах с Рафом, я поняла, что делаю все правильно. Мы не должны прощаться в Париже, Нью-Йорке или где-либо еще. От этой мысли у меня в животе запорхали бабочки.
Официант принес нам еще кофе. Мы осмотрели кафе, приходящих и уходящих людей. Этот человеческий поток отличался от прохожих в Берлине или Амстердаме. Возможно, здешние были моложе. Светлее. Я ощутила тоску, которая застала меня в прошлый раз в Париже: жаль, что жизнь бывает столь прекрасной так редко. И хотя в этом не было логики, меня по-прежнему не покидало это чувство.
— Давай позвоним Эми, — сказала Констанция, когда официант отошел. — Быть здесь без нее кажется каким-то неправильным.
— Хорошо, — сказала я, согласившись с тем, что это отличная идея. — Давай позвоним.
Мы связались с ней по Facetime.
За все это время Констанция списывалась с ней всего пару раз, да и я тоже, она даже не ответила, когда я прислала ей фотку Констанции на быке. Наконец объединившись, мы решили, что она просто должна ответить на наш звонок. Констанция написала ей, что мы звоним. Эми не ответила на сообщение. Но через несколько секунд, когда мы открыли Facetime, Эми тут же ответила своим фирменным выражением:
— Приветик, сучки!
Это Эми, наша Эми.
На маленьком экране она выглядела странно счастливой. Похудела, кажется, посвежела. Ее глаза сияли. Она была похожа на человека, который пробежал огромную дистанцию, но еще не отдышался.
— Как я рада тебя видеть! — воскликнула я. — Я так по тебе скучала. Мы обе скучали!
— Ничего подобного! Вы лакомились сладкой мужской плотью! Я видела ваши посты на Facebook! И все фотки в Instagram.
Может быть, она немного перебарщивает со своим энтузиазмом. Констанция, блеснув очками, наклонилась поближе к экрану.
— Что ты сделала с волосами? — спросила она Эми. — Не могу разглядеть.
— Обрезала. Один знакомый гей схватил меня за волосы и силой притащил в салон к моей маме, чтобы я сделала новую прическу. Теперь у меня официально прическа женщины средних лет! Я выгляжу так, будто недавно родила ребенка!
— До чего же я рада видеть тебя, Эми, — сказала я. — Ты выглядишь фантастически.
— И чувствую себя отлично. Я ходила в городской центр ветеранов боевых действий и крутила там задницей перед кучей престарелых солдат. Я на них тренируюсь. Нужно понемногу возвращаться в игру.
— Хорошо, — сказала Констанция. — Я рада, что ты ответила на наш звонок. Сто лет не виделись. Мы очень скучаем.
— А вы двое! Любовь в воздухе витает? Какого черта? Я оставила вас на пару недель, а вы и рады — на седьмом небе от счастья.
Констанция покраснела. Я тоже. Мы не смогли придумать ответа.
— О боже, все настолько плохо! — сказала Эми слегка отстающим от картинки голосом. — М-да уж. Так где вы сейчас? Опять в Париже?
— Только приехали сюда, — сказала я. — Пробудем здесь четыре дня, а потом летим домой.
— Вы хоть одни прилетите?
Я взглянула на Констанцию. Она не отрывала взгляда от экрана.
— Джек полетит со мной, — сказала я.
— Я, может быть, поеду в Австралию, — сказала Констанция. — Пока не решила.
— Вы любите этих ребят, верно?
— Да, — мягко ответила я. — Думаю, любим.
— Ну, тогда не будьте парой скромниц. Просите всего, чего захотите. Вот что я скажу, спектр знакомств здесь довольно мрачный. Или малолетки, или старики. Есть у меня один женатый придурок, который не хочет оставлять меня в покое. Он носит ремень с телегой на пряжке. Вы не поверите, что такой человек, как он, вообще существует, но это так. Каждую субботу он появляется в центре ветеранов, только говорит не «суббота», а «день наших свиданий». Странный парень.
— Вы с ним встречаетесь? — спросила я.
— Не-е-е-е-т, — завизжала она. — Ни за что. Боже упаси.
— Но у тебя все в порядке? — спросила Констанция. Она намеренно задала столь неясный вопрос. Несмотря на то что мы обсуждали это тысячу раз, мы не знали, что именно Эми думает о том, что ей пришлось уехать, и в целом о поездке в Европу.
— Все хорошо, — ответила она. — Я знаю, что в последнее время была плохой подругой. Простите, что редко выходила на связь. Я просто не могла. Было трудно возвращаться. Неловко. Мои родители были в ярости. Не хотели оставлять эту тему. Моя мама любит упоминать мое фиаско — как она говорит, «фиаско Эми» — во всех разговорах, чтобы напомнить мне, какая я непутевая.
— Матери и дочки, — сказала я.
Констанция кивнула.
— Это было крупное поражение, — сказала Эми. — Просто Эми облажалась.
— В жизни всякое случается, — сказала я. — И постоянно. Могло быть намного хуже.
— Да, но у вас все отлично.
— Невозможно предугадать, что вот-вот случится, — сказала Констанция. — По крайней мере, так учили святые.
— Проблема в том, что мне далеко до святых, — сказала Эми.
— Ты довольно безгрешна, — сказала я.
— Честно говоря, я и правда немного поумерила свой пыл. Я стала менее сумасбродной, менее матерой, как ты говоришь. Я почти бросила пить и снова занялась бегом. Я уже давно занимаюсь. Мне это необходимо. На прошлых выходных пробежала десять километров. Удивительно, но я в достойной форме.
— Ты хорошо выглядишь, — сказала Констанция. — Выглядишь здоровой.
— Ну, я стараюсь.
Мы поболтали еще немного, в основном сплетничая о недавних амхерстских выпускниках. Эми хорошенько запаслась слухами о нашей старой группе. Наконец вернулись Раф и Джек. Они сели рядом и, попивая кофе, любезно поздоровались с Эми, но тогда она почувствовала себя пятым колесом.
— Ладно, я смываюсь, — сказала она. — До скорого, сучки.
— Береги себя, — сказала я.
— Всегда, — ответила она.
Она закончила вызов, или что там обычно делают, выходя из Facetime. Экран сжался, проглотив ее лицо, и наша подруга исчезла со странным хлопком, учитывая то, что мы были в кафе. Казалось, она вернулась на свой летучий корабль и спустится еще не скоро.
33
Мы остановились в отеле под названием «Трендон» — скромном гостевом доме на левом берегу Сены, неподалеку от Люксембургского сада и в квартале от Сорбонны. Для наших ограниченных бюджетов это было роскошью, но Джек уверял, что оно того стоит. Это наша первая совместная поездка в Париж — и, наверное, единственная, — поэтому мы решили не ютиться в тесном хостеле, а навсегда запомнить это путешествие.
У Рафа, как всегда, были здесь знакомые, и он смог как-то договориться. Его ловкости не было предела.
Комнаты оказались скромными. В них не делали ремонта уже много лет, но в каждой был крохотный балкончик, на котором помещался один стул, если сесть боком. Рафу с Констанцией достался номер на втором этаже, немного ниже и справа от нашего. С нашего балкона было видно крыши домов, сточные желоба из красной черепицы и алюминиевые вентиляционные отверстия. Джек заверил меня, что Квазимодо, Горбун из Нотр-Дама, может нагрянуть в наш номер в любое время дня и ночи.
Он сидел на кровати и смотрел, как я распаковываю вещи. Стараясь навести порядок, я отнесла кое-что в небольшую ванную. Из-за двуспальной кровати было сложно перемещаться по комнате. Я дважды ударилась о нее голенью настолько сильно, что во второй раз мне пришлось остановиться и закрыть глаза от боли. У Джека, кажется, была идея получше. Он явно был готов ко сну, о котором мы договорились, — Раф с Констанцией поддержали эту идею, — прежде чем идти на прогулку.
— Ты в порядке? — спросил Джек, заметив мою гримасу.
— Чертова кровать.
— Почему бы тебе не залезть ко мне? Тогда она не будет ставить тебе подножки.
Я кивнула и подползла к нему, по-прежнему ощущая, что моя нога пылает, как факел. Опустив головы на подушки, мы взглянули на полуденный Париж. Я улыбнулась при мысли о том, до чего же хорошо в этом городе. Солнце припекало лишь слегка. На сером небе было лишь два или три ленивых облака, которые, казалось, вобрали в свои волнистые тушки весь цвет этого дня.
— У меня немного голова болит, — сказал Джек.
— Ты в порядке?
— Все хорошо.
Он пожал плечами.
— Может, принести тебе что-то? Как-то помочь?
— Секс, — ответил он. — Извращенный секс.
Я поднялась на локте и посмотрела на него. Он улыбнулся. Это была слабая улыбка. Он явно чувствовал себя паршиво, его лицо вмиг побледнело.
— Я серьезно, Джек, ты в порядке?
Он снова пожал плечами. Он пытался сделать уверенное выражение лица, но было видно, что ему очень плохо.
— Сейчас я закрою глаза, — сказал он. — А через час буду как новенький.
— Хорошо, но если меня здесь не будет, когда ты проснешься, то знай, что меня похитил Горбун.
— Приму это к сведению.
Я нежно поцеловала его в щеку. Уголки его губ приподнялись в улыбке, но он сам не шелохнулся.
Мы проспали довольно долго. Я проснулась после обеда и увидела, что Джек крепко спит рядом. Он отвернулся, поэтому я не видела его лица. Тихонько, чтобы не разбудить его, я прошмыгнула в ванную, умылась, почистила зубы, быстро расчесалась и приклеила записку к зеркалу.
«Позвони мне, когда проснешься, соня, — написала я. — Меня похитил Горбун. Надеюсь, тебе станет лучше».
Я вышла за дверь и отправилась на экскурсию по Парижу в одиночестве.
Я купила блинчики с сыром, или креп дю фромаж, и кофе в фургончике с едой недалеко от Люксембургского сада и села за столик рядом со статуей Пана у входа в парк. Я ужасно проголодалась, но мне хотелось пообедать именно в одиночестве, в парке, известном благодаря Хемингуэю. Я села под огромным каштаном с тяжелыми, кое-где расколотыми плодами у корней. Медленно наслаждалась сырными блинчиками. Этот вкус напоминал мне травы и луг, а сыр был теплым и сладким. У кофе была темная тяжелая вязкость, которую я никогда раньше не ощущала в этом напитке. Два этих вкуса и две текстуры — мягкие, тягучие блинчики и маслянистое изобилие оттенков кофе — делали меня счастливой по-своему, по-особенному. И вот я снова здесь, на левом берегу Парижа, поздним летом, в Люксембургском саду, в окружении массивных деревьев и зеленых газонов, ведь именно здесь Хемингуэй с Хэдли и Бампи сидели десятки лет назад, где-то между Первой и Второй мировыми войнами.
Да, это было немного глупо и чрезмерно романтизировано, но мне было плевать. Я достала iPad и стала читать Хемингуэя. Мой выбор пал на «Праздник, который всегда с тобой». Именно эту книгу я читала во время своей первой поездки в Париж. Я просматривала страницы, перечитывая отрывки, которые отметила или подчеркнула. Хемингуэю по-прежнему удавалось задеть меня за живое. Он писал: «Мы ели и пили вкусно и дешево, спали крепко и тепло и любили друг друга».
Я перечитала это несколько раз. И подумала о Джеке и о своих желаниях.
Я сделала последний крохотный глоток кофе и опрокинула тарелку, чтобы крошки от блинчиков достались голубям, непрестанно кружившимся вокруг столика и курлыкающим, словно вода или стеклянные птицы.
Уже голодная, но довольная, я по-прежнему сидела за столиком, когда зазвонил мой телефон.
«Где Квазимодо тебя держит?» — гласило сообщение.
«В Люксембургских садах, — ответила я. — Приходи ко мне».
— Нам предстоит секретная миссия, — сказал Джек и, чмокнув меня, сел рядом. — С Рафом и Констанцией мы встретимся ближе к ночи. Так что этот вечер только наш.
— Сперва скажи, как ты себя чувствуешь.
— Все хорошо.
— Ты уверен? Или просто играешь в храбреца?
— Нет, все хорошо, честно. Клянусь.
— Ты очень крепко спал. Даже не проснулся, когда я уходила.
Он улыбнулся и, дотянувшись до меня, заправил волосы мне за уши.
— Ты ела? — спросил он.
— Блинчики с сыром и чашку кофе.
Он кивнул. Застыв на секунду, серьезно посмотрел на меня.
— Это, случайно, не парк Хемингуэя?
— Да.
— В молодости он гулял здесь со своим сыном, верно?
Я кивнула.
— Он убивал голубей и набивал их перьями детское одеяльце, — сказала я. — Они были настолько бедными, что им приходилось есть голубей.
Джек мягко улыбнулся.
Он потянулся через весь стол и взял меня за руку.
Мне нравилась тяжесть его рук, то, что они были вдвое больше моих.
Прежде чем мы успели встать, у меня зажужжал телефон. Мамазавр на линии, но я решила не отвечать.
Мы сидели и смотрели, как темнота постепенно охватывает город. Это был прекрасный вечер. Немного позже мы заметили высокого мужчину с Джек-рассел-терьером. Вместе они выглядели довольно забавно. Казалось, собака перебирала своими короткими лапками в тысячу раз быстрее, чем мужчина. Это был послушный пес. Он семенил так быстро, что казалось, будто он плывет, словно шарик, привязанный к концу палки.
В сумерках мы отправились в номер. Я была абсолютно счастлива. Джек снова вытянулся на кровати и уснул. Видимо, он все-таки не чувствовал себя на все сто. Я села на стул на балконе я взглянула на Париж. Прихватила с собой iPad, но мне совершенно не хотелось читать. Хотелось всем телом вдохнуть Париж. Хотелось поймать какую-то его часть и увезти с собой. Я смотрела, как голуби укладываются спать на шиферных крышах, как крохотный самолет летит у меня над головой. Один за другим зажглись уличные фонари, и здание засияло коктейльным желтым светом, пока люди лишь начинали свои вечера. Глядя на все это, я не хотела молиться Богу или таинственному творцу в небе — я хотела молиться жизни, тому, что подвигло Хэдли с Эрнестом и всех остальных людей приехать в Париж и найти для себя то, в чем они так нуждались. Теперь я тоже здесь, и хотя совсем скоро придется прощаться, я поклялась себе никогда не покидать Париж окончательно, всегда носить его с собой, словно талисман, и никогда не упускать возможности побывать здесь снова.
Немного позже в дверь постучала Констанция.
— Он до сих пор спит? — прошептала она, когда я открыла дверь и вышла в коридор.
— Спит. Я не уверена, что он здоров.
— Раф сказал, что клуб, в который мы пойдем, где-то неподалеку. Я написала тебе адрес. Вы пойдете?
— Надеюсь.
Констанция поспешно обняла меня. От нее пахло улицей и ее любимым мылом.
— Мы скоро пойдем ужинать с друзьями Рафа. А потом — в клуб. Я напишу тебе, если что-то поменяется…
— Во сколько вы там будете?
— Поздно, наверное. Джазовый мир — он ночной.
— Ладно, напиши мне сообщение, чтобы я знала, где вы.
Она кивнула и удалилась.
Проводив подругу, я сидела на маленьком балконе и отрывками читала дневник дедушки Джека. Положив книжку на колени, попыталась поймать подходящий угол света, чтобы было видно хоть что-то.
Невероятный документ. В словах, написанных им от руки, невозможно было найти ни одной ошибки. Этот человек вырос и провел большую часть жизни на вермонтской ферме, но много читал и, видимо, научился писать еще в школьные годы, ведь все заметки и наблюдения были выложены в четкой, уверенной манере. Кроме того, он отлично рисовал. Делал зарисовки зданий, цветов, бульваров и мостов. Казалось, архитектура вызывала у него особый восторг, хотя этим его интересы явно не ограничились. У него был талант отображать мелкие детали.
Неудивительно, что дневник вызвал у Джека такой интерес. У его дедушки была добрая, отзывчивая душа. Он писал о том, как война повлияла на детей и животных. Писал о бомбардировках и по-прежнему витающем в воздухе запахе термита. Он находил красоту во всей этой разрухе, а его рисунки — в основном простые зарисовки — были элегантно примитивными и не нуждались в объяснении.
Я по-прежнему увлеченно читала, когда услышала шепот Джека.
— Эй, — сказал он.
— Ты проснулся? Как самочувствие?
Я отложила дневник и легла к нему в постель.
— Лучше.
— Правда лучше или опять притворяешься?
— Нет, думаю, я иду на поправку. Может, я чем-то отравился. У меня хронически слабый желудок. У всех бывает.
Я пощупала его лоб. Он был теплый, но не горячий.
— Я просто волновалась. И по-прежнему волнуюсь. Думаешь, нужно найти доктора?
— Ты милашка. Но я в порядке.
— Ты, наверное, проголодался.
— У нас ничего нет?
— Только вредная ерунда, Джек. Я сбегаю вниз и принесу тебе что-то нормальное.
— Нет, давай то, что есть. И так сойдет.
Я чмокнула его, встала и попыталась соорудить перекус. Мне не удалось найти ничего толкового, и я вручила ему остатки хлеба из рюкзака, яблоко и бутылку холодного чая.
Пока я убирала, он отправился в ванную. Душ, казалось, немного помог ему вернуться в форму.
— Я ведь даже не спрашивал, умеешь ли ты готовить, — сказал он и забрался в постель. — Ты в хороших отношениях с кухней?
— Не особо. А ты?
— Я довольно хорош в готовке. У меня есть около десяти блюд, которые я умею готовить. Где-то так. Плюс основы.
— Ну, не суди меня за мой скромный перекус. Мне не из чего выбрать.
— Я ценю твои усилия и то, что ты рядом.
Я поставила перед ним импровизированный поднос с едой, а точнее, разделочную доску, которую нам оставила Эми, и села рядом с ним. Казалось, ему стало лучше. Он медленно ел свой ужин, рассматривая продукты и осторожно их пережевывая, чтобы не съесть ничего лишнего. За два глотка осушил бутылку с чаем. Я подала ему еще одну бутылку с водой.
— Я читала дневник твоего дедушки, — сказала я. — Он восхитителен, Джек. Ты никогда не думал о том, чтобы опубликовать его?
— Думаю. Однажды я решил обсудить это с папой, но он сказал, что никому не будет интересно читать дневник какого-то неизвестного о послевоенной Европе.
— Почему бы и нет? Думаю, каждый увидит в этом ценность.
— Я тоже так думал. Больше всего я боюсь, что не смогу написать так, чтобы книга соответствовала его стилю. Он намного лучше меня.
— Сомневаюсь в этом. Но где он научился так хорошо писать?
— Ты имеешь в виду то, что он был обычным фермером в деревенском Вермонте? Не знаю. Я думал об этом. Его отец был ветеринаром. У них дома было много книг. А его мать работала акушеркой. Он читал преимущественно классику. Овидия и Софокла. Скрывал свою эрудицию, хотя был очень умным. Вермонтские вечера могут быть довольно длинными, особенно если ты фермер и у тебя почти нет работы зимой. Он любил читать у огня или дровяной печи. Однажды я видел, как он разговаривает с профессором литературы в Вермонтском университете, и этот профессор изменился в лице, поняв, как много знает мой дед. Он был невероятным человеком.
— Тебе очень повезло, что дневник достался именно тебе. Твои мама с папой читали его?
— Не так, как читал я. Или, точнее, читаю. Не думаю, что мой папа знал, что с ним делать. Эта книжка беспокоила его. Мне кажется, он думал, что этот дневник доказывал, что дедушка был недоволен своей жизнью на ферме… Что он способен на большее, но ему пришлось посвятить жизнь Вермонту. Думаю, мой папа воспринимал этот дневник как предупреждение. Но это лишь мои догадки.
Какое-то время мы молчали. Джек продолжил свою трапезу в том же темпе. Время от времени он останавливался, чтобы посмотреть, как его организм реагирует на еду.
— Так ты знал, что Констанция хочет поехать в Австралию с Рафом? — спросила я в одну из таких пауз. — Она думает поехать к нему, вместо того чтобы возвращаться домой. Хотя бы ненадолго.
— Я знаю, что он от нее без ума.
Я посмотрела на него. Наши взгляды встретились.
— А ты без ума от меня. Вот что нужно было сказать, Джек.
— А я без ума от тебя.
— Слишком поздно. Это не считается, когда я показала тебе суфлерскую карточку.
— Нет, я правда схожу от тебя с ума. Но меня всегда удивляла эта фраза. Разве это можно назвать комплиментом? Кому нужно, чтобы люди от них сходили с ума?
— Думаю, это идиоматическое выражение.
— Но что если они и правда сойдут с ума? Разве это хорошо? Разве маньяк не без ума от того, кого он любит? Мне кажется, нельзя говорить, что ты без ума от кого-то, только если ты не подлинный маньяк. А если да, то конечно. Тем более я не думаю, что это корректно — говорить «схожу с ума». Так ты высмеиваешь тех, кто действительно не в своем уме.
— Ты странный, Джек.
— Мне уже лучше. Думаю, нам стоит попробовать прогуляться, — сказал он. — Если ты хочешь.
— Ты точно нормально себя чувствуешь?
— Конечно.
— Уверен? Ты все еще немного бледен.
— Все хорошо, — наигранно эротично сказал Джек.
Он схватил меня и прижал к себе.
34
На следующий день Джек и Раф куда-то исчезли. Чтобы мы не переживали, они сказали лишь, что вернутся к обеду.
Мы с Констанцией отправились в Нотр-Дам.
Мы были там в прошлый раз, но для Констанции, которая изучала жития святых, Норт-Дам был живым и дышащим, полным секретов. К этому делу у нее был систематический подход: мы долго сидели у здания и рассматривали все вокруг. Естественно, она наизусть знала историю собора. Его начали строить еще в 1163-м, а в целом на постройку ушло целое столетие. В нем прошло несколько сотен важнейших политических и религиозных событий. Он находится на Isle de la Cite, или острове Сите. После Первой и Второй мировых войн там пели te deum, христианский гимн под названием «Тебя, Бога, хвалим». Но для Констанции все это было лишь прошлым.
Она пришла, чтобы увидеть Марию.
Она была одержима ею. Из всех святых Марию она любила больше всего, а в Нотр-Даме — матерь божья — было аж тридцать семь статуй Девы Марии. Но вершиной всех одержимостей Констанции стала статуя Богородицы с младенцем Христом на трюмо у главных ворот собора. Саму статую привезли из часовни Сент-Эньянского монастыря каноников, и она заменила Деву XIII века, которую снесли в 1793 году.
— Вот она, — сказала Констанция, когда мы наконец вошли в здание и остановились напротив статуи. Она взяла меня под руку и всплакнула. — Это алтарь Девы. Его построили еще в XII веке… Но статую на алтаре меняли. Regardez! Пока не остановишься и не рассмотришь, она не кажется такой уж знаменательной. Видишь? Она — молодая мать, Хезер. Именно это мне в ней нравится. Она — молодая женщина, которую попросили выносить в утробе и на руках нечто божественное. Больше всего я восхищаюсь ее неоднозначностью. Видишь, она очарована ребенком… Смотри… Он играет с брошью у нее на накидке и смотрит не совсем на нее… И она подала бедро немного вбок. Мне нравятся женские бедра, особенно когда они слегка выпячены… Понимаешь? Она выпятила его, чтобы было удобнее держать дитя, которое однажды спасет весь мир, хотя пока лишь мирно сидит у нее на руках. Но за всем этим величием кроется скромная робкая женщина… И ее любимое дитя. Именно поэтому эта статуя поражает меня. Я столько раз читала о ней, и теперь, увидев ее своими глазами… Понимаешь, она видела столько изменений. Люди обращались в веру, лишь взглянув на Богородицу. Знаю, знаю, я и сама не особо верю во все это, но, Хезер, я верю в человеческую необходимость верить, и эта статуя воплощает все сказанное ранее…
Я любила Констанцию. Любила ее так, как любила целый мир.
Ближе к вечеру Джек отвел меня в номер и завалил в постель.
Двери балкона были открыты, и парижское солнце наполняло теплом часть комнаты. Он клал виноградинки мне в рот и целовал меня — было смешно, глупо и невероятно страстно. Наши тела двигались в унисон. Иногда он был груб, словно ему пришлось отказаться от чего-то ради меня, словно какая-то часть его тела состояла из ДНК рыбы и морской воды, которая требует свободы и независимости. А я думала о Деве Марии — как ни абсурдно, — неожиданной беременности и Христе у нее на руках. Все перемешалось: великолепное тело Джека, его таинственное дневное исчезновение, солнце, тепло этого дня, запах Парижа, грязный и удушливый от усталости и людской суеты, а я просто отдалась ему, впустила его в себя, открылась ему, уже не различая грани между нами.
Немного позже я легла рядом, положив голову ему на плечо. Джек медленно и спокойно щекотал мою спину стебельком фиалки, которую купил у торговки незабудками для военного фонда. Он калякал маленькие рисунки на моей спине, и наше дыхание слилось воедино.
Я просто лежала рядом, и наши тела остывали вместе.
— Как тебе наш секс? — спросил он спустя некоторое время. — Великолепно или просто хорошо?
— Тебе в этом нет равных, дружок.
— Ужасный вопрос, не так ли? Если ты скажешь, что было здорово, а твой партнер считает, что было так себе, то между вами образуется огромная пропасть. Если ты говоришь, что было хорошо, но не отлично, а твой партнер думает, что было потрясающе, то ты его оскорбишь. Один из парадоксов современной жизни.
— Это как ездить в Финикс.
Он немного приподнялся и вопросительно взглянул на меня.
— Старая история в моей семье, — объяснила я. — Давным-давно моим маме с папой выпал шанс отправиться в Финикс. Они поехали и ужасно провели там время. Целую поездку папа думал, что мама хочет этого, а мама думала, что это путешествие важно для папы. Поэтому в моей семье это называется «поездка в Финикс».
— И мораль этой истории…
— Важно говорить правду своему партнеру.
— Думаю, ты очень вкусная в постели, — сказал он. — Я люблю заниматься с тобой любовью.
— Я рада, что тебе нравится. Но у меня так себе впечатления.
Его рука замедлилась на моей спине. Я отвернулась, чтобы он не видел моей улыбки.
— Ты негодяйка, — сказал он. — Ужасная негодяйка.
— Ты выворачиваешь меня наизнанку, Джек. Звонишь во все колокола.
— Хорошо, я рад.
— Но делаешь это как-то так себе.
Он попытался столкнуть меня с постели. Я обхватила его руками и не отступала. Тогда он посадил меня сверху на себя — я обожала его силу, то, что он может крутить мной как захочет, — и поцеловал меня всем телом. Мы долго целовались, пока открытая дверь балкона впускала парижский свет, понемногу перетекающий в ночь. Мы искренне признавались друг другу в любви. Наши поцелуи, казалось, стали бесконечными, ведь мы не хотели упускать ни секунды друг с другом.
На закате Джек позвал меня сажать дерево.
Не знаю, что сможет удивить меня еще больше. Оставив меня примерно на час, он вернулся в номер отеля «Трентон» с саженцем ясеня, завернутым в мешковину. Деревце выглядело живенько, но было настолько маленьким, что не поднималось выше моего колена.
Он вынес его на балкон и заставил меня проделать обряд приветствия Короля Льва. Я подняла деревце над головой и представила его равнинам Африки — или Парижа. С Джеком все было таким веселым и беззаботным. Он спел песню Короля Льва и заставил меня спеть «Жизни вечный круг».
— Так к чему это все? — радостно спросила я. Ему удалось поднять мне настроение.
У него было две бутылки красного вина, обе без этикеток. Видимо, он нашел частного продавца вина — это так похоже на Джека. Он заставил меня держать дерево — обращался с ним как с ребенком, — пока сам открывал первую бутылку. Вытащил два стула на балкон. Было тесно, но нам почти удалось уместиться там вместе, по крайней мере, выставить на улицу ноги.
— Выпьем за его здоровье, — сказал он. — За долгую жизнь дерева.
— За здоровье, — повторила я, подняв бокал.
Джек оценивающе сделал глоток.
— Неплохо, — с улыбкой сказал он.
Джек выглядел невероятно живым, счастливым и готовым ко всему на свете. Он даже сбил меня с толку своим видом.
— Пусть это дерево станет стрелой в будущее, — наигранно серьезно сказал он. — Сегодня вечером мы с тобой посадим дерево. Отрежем пряди наших волос и закопаем их вместе с ясенем… Отправимся в Люксембургский сад и посадим там свое дерево, чтобы в его тени отдыхали все Хемингуэи будущего. Можно будет навещать его каждый раз, когда мы будем в Париже. Все в мире будет идти своим чередом, что-то познает поражение, что-то — процветание, а твое дерево… наше дерево… оно будет расти. И наши внуки смогут навещать его.
— Мы скоро заведем детей? Было бы неплохо.
Он посмотрел на меня и скорчил смешную рожицу. Его глаза, смотрящие поверх бокала, были такими живыми и счастливыми. Он немного поиграл бровями.
— Мир непредсказуем, — сказал он. — Невозможно спланировать все на свете. Даже с суперэлитным «Смитсоном».
— Думаешь, власти разрешат нам вот так просто взять и посадить дерево в парке?
— О Хезер, моя внимательная, бдительная Хезер. Мы посадим его, а они даже не узнают об этом. Садоводы-ниндзя. Кто станет мешать посадке дерева? Кто станет выкапывать его? Как только оно окажется в земле, ему ничто не будет угрожать. Видишь, как хорошо я все продумал? Может быть, мы даже не пойдем в парк, хотя он был бы идеальной средой обитания для дерева. Можно посадить его на одном из тех небольших участков земли рядом с аллеями. Да, его жизнь будет полна риска, но это его устроит. Может, наше дерево — бунтарь. Может, пасторальная жизнь — это не для нашего дерева. Что если это дерево — панк?
— Почему именно ясень?
— Европейский ясень, — сказал он, отпив из бокала. Он снова решил напиться. — С одной стороны, он долгоживущий. А еще он заурядный. Никому и в голову не придет, что ему здесь не место. Продавец дал мне визитку… парня из садового магазина. У ясеня есть собственный рунический знак — это слитно написанные буквы АЕ. Считается, что этот символ происходит от старого английского или немецкого языка и переводится как «ясень обыкновенный».
— Ты выполнил домашнее задание. Я впечатлена.
— Так и должно быть, — сказал он и наклонился, чтобы поцеловать меня. — Если все пойдет так, как нужно, то дерево проживет целый век, а то и больше. Только подумай! «Взгляните на мои великие деянья», или «взгляните на мои деянья, владыки…», или что-то вроде того. Это Китс? Озимандия? Или Шелли? Во всяком случае, один из романтиков, да?
— Я помню, как читала это стихотворенье в школе.
— Так вот, пока весь мир рушится и приходит в упадок, наше дерево, великий ясень, будет, торжествуя, стремиться к небу! Как тебе такой вариант?
— Думаю, да. Я согласна с каждым твоим словом, Джек.
— Хорошо, тогда допивай этот бокал вина, и выдвигаемся в путь. У тебя есть лак для ногтей?
— Вроде бы, немного. Погоди.
Откуда взялся этот человек? Он словно с неба свалился в мою жизнь. И почему его любовь к жизни была так заразительна?
Я пошла в ванную и вернулась с небольшим пузырьком красного лака для ногтей. Он был почти пуст. Я вручила его Джеку. Он осторожно протер плоский камень, который нашел непонятно где.
— Наше бессмертие, — сказал он.
Джек хорошенько встряхнул лак для ногтей и написал им наши имена на камне, заключив их в дурацкое сердечко. Вынул складной ножик и вручил его мне.
— Вот, отрежь прядь моих волос, будь добра. А потом я отрежу твои.
Я отрезала завиток над его правым ухом. Джек тоже срезал небольшой локон рядом с моим левым плечом. Он связал обе пряди кусочком бечевки, отрезав ее от мешковины, которая держала дерево.
— В идеале, — сказал он, не отрывая все такого же живого и счастливого взгляда и рук от процесса, — мы могли бы посадить растение просто так, без защиты, но тогда волосы разложатся, а надпись не будет видно. Вот, — сказал он, взяв в руки пластиковый контейнер от арбуза. — Может быть, не так романтично, но прослужит дольше. Что скажешь? Хочешь что-нибудь добавить?
Я кивнула. Взяла камень и под нашими именами дописала свою любимую строчку:
«Ненавидь ложь; цени правду».
Джек прочитал, кивнул и поцеловал меня в губы.
— Раф с Констанцией не захотели пойти с нами? — прошептала я.
— Я их не приглашал. Это все для нас, а не для них.
Я сжала его руку.
Было темно. Бульвар Сейнт-Мишель был достаточно мрачным, но мы все равно держались ближе к тени. Мы несли в руках самые ничтожные садовые инструменты, которые только можно придумать. У нас был один-единственный столовый нож, бутылка воды, пластиковый контейнер — и ничего больше. Оттого, что мы делаем нечто незаконное, меня бросало в дрожь. Парк был закрыт, но Джек заверил, что многие пробираются туда ночью. Он решил, что, даже если нас поймают, мы все объясним, и нас не арестуют. Он убедил меня, что французы не смогут устоять против такой истории любви.
Меня не покидало чувство, словно мне десять лет и я играю в прятки.
Да уж, на всю жизнь запомню это приключение. Это нечто большее, чем фото. Большее, чем поход в музей. Наше дерево будет расти в парижском парке целое столетие, а наши с Джеком имена будут оберегать его корни. Вот так Джек видел мир.
— Нам нужен нетронутый участок… Незаметное место. Ничего кричащего или броского, ладно? Мы хотим, чтобы дерево было пустым местом первые двадцать лет своей жизни. А потом, о, детка, оно станет доминировать над всем парком. Оно станет самым крутым плохишом в округе. Ты со мной?
— Да. Черт возьми, да.
— Хорошо, поехали. Как тебе вот это место? Не самое лучшее, но, думаю, безопасное. Недалеко от столиков у кафе. Можем завтра вернуться и посмотреть, как обстоят дела. Это нечто, ты согласна?
Мы осторожно пробрались вдоль широкого газона, стараясь не попасть под свет фонарей бульвара Сен-Мишель. Наконец добравшись до пустого участка земли, Джек быстро все осмотрел и предложил место в правом углу.
— Здесь нет больших деревьев, — сказал он и, упав на колени, принялся копать яму. — Нет конкуренции. Его можно будет принять за волонтерское растение или дерево, которое посадило управление и забыло о нем. У них не будет никаких оснований выкапывать его. Тем более здесь нет никаких важных памятников. Ну как тебе? Нравится место?
— Идеально. Думаю, у нас все выйдет.
— Хорошо, почва мягкая. Ничего сложного. Ты готова? Мы посадим его вместе. Давай.
У меня дрожали руки. Я не могла их контролировать до тех пор, пока Джек не накрыл мои руки своими, успокоив меня.
— Это наше дерево, — прошептал он. — И больше ничье. Оно всегда будет нашим.
— В Париже.
— Наше дерево в Париже, — сказал он. — Могучий Ясень Обыкновенный.
Я положила коробку с нашими волосами и камнем в ямку рядом с крохотными корнями. Мы засыпали ямку и примяли землю вокруг ствола. Мы сделали все возможное, чтобы это дерево навсегда осталось там. Джек дал мне бутылку воды.
— Вода поможет извлечь воздух из почвы, — сказал он. — Напоит дерево в его новом доме.
Я осторожно налила воды на основание дерева. Бог Пан неподалеку пристально наблюдал за нами в тусклом свете недалеко от входа в парк. Казалось, он был не против.
35
2 августа 1947 года
«Проведя ночь в Париже, в субботу я отправился на скачки в Лоншане. Мне не особо понравилось; лошади выглядели неухоженными. Удивительно, что их не убила бомба или не сожрали люди. Меня впечатлили цвета костюмов наездников: ярко-зеленый, желтый и алый. Несмотря на свою усталость, на протяжении всей гонки за лошадьми мчалась собака. Один мужчина позади меня сказал, что лучше бы поставил на эту псину, потому что она одна здесь старается изо всех сил, в отличие от отвратительных кляч, на которых он понадеялся. Это вызвало смешок у людей, сидящих рядом. Он тоже засмеялся, но только не глазами».
Констанция и Раф, стоящие в утреннем свете. Официант, подметающий тротуар у ресторана. Пять голубей, воркующих у ног Констанции и стремглав бегущих взглянуть, нет ли еды в кучке мусора, которую смел официант. Моя подруга проверяет сумку, рюкзак, хлопает по карманам, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Раф, ее мужчина, возится с сумками, проверяет, все ли на месте, все ли замки и молнии застегнуты. Белокурые локоны Констанции подсвечивает раннее солнце, ее наряд тщательно выбран из вещей, которые мы взяли с собой, и лишь на миг ее вниманием овладевает стайка голубей, топчущаяся неподалеку.
Это Констанция в Париже. Этот момент стоит того, чтобы запомнить его навсегда. Это Констанция, которая улетает в Австралию со своей правдой.
Я улыбнулась. Моя милая Констанция, девочка на велосипеде «Швин», поклонница святых, любующаяся статуями Девы Марии.
Она обернулась и увидела, что я смотрю на нее. Она уезжает. Уезжает с Рафом на вокзал, потом в аэропорт, а затем сядет на самолет, который унесет ее в Австралию. Впереди ее ждет путешествие, часы, проведенные в автобусах и машинах, которые отвезут ее в Эрс-Рок, к красным пескам и глине Западной Австралии. Настоящее приключение, безумная авантюра, на краю которой она стояла. Она улыбнулась мне и взмахнула шарфом. Стая голубей, заметив ястреба в виде шарфа, взорвалась у ее ног. Они взвились в небо, хлопая крыльями, чтобы подняться еще выше, и Констанция широко улыбнулась. Она сделала это осознанно: специально спугнула голубей. Покидая меня, она стояла в утреннем свете, в последний раз оставляя отпечаток в моей памяти.
В самый последний день в Париже мы с Джеком отправились в Лоншан, на скачки в Булонском лесу. Мы выбрали чудесный день. Температура немного спала, и лишь за одну ночь в город пробралась истинная осень. На нас были свитера. Мы сели в микроавтобус у отеля, он был почти пуст. Водитель, полный мужчина с моржовыми усами, по дороге слушал футбольный матч. Джек сказал, что это повтор, потому что еще слишком рано для прямой трансляции матча. Автобус вывез нас из города в лесистые окрестности Булонского леса, или, как говорят французы, Bois de Bologne. Джек несколько раз подметил, что пейзаж за окном похож на Вермонт.
— Ты скучаешь по Вермонту? — спросила я.
Он кивнул и сжал мою руку. Остальные пассажиры изучали гоночные буклеты. Джек не отводил взгляда от лесистого обрамления дороги.
— Я люблю Вермонт, — сказал он спустя некоторое время. — Может быть, это и не любовь. Это просто заложено во мне… Времена года, широкие луга и чертовски холодные зимы. В зимнем Вермонте невозможно принимать что-либо как данность. Все висит на волоске — либо замерзает, либо умирает, как бы жестоко это ни было. А еще все очень хрупкое. Безумно хрупкое. Если присмотреться, можно заметить эту хрупкость во всем. Помню, однажды увидел, как лягушка замерзла во льду в ручье. Не знаю, жива ли была та лягушка, когда лед замуровал ее, но ее тельце явно просвечивалось сквозь лед. Оно было словно захоронено и прекрасно одновременно. Даже не знаю, как описать свои чувства от увиденного. Мне по-прежнему интересно, как это случилось: ее что-то оглушило, она замерзла заживо или надеялась на еще один теплый денек, но ей не повезло. Разве это не жизненная метафора? Все мы надеемся на еще один хороший день, но удача может отвернуться от нас. Во всяком случае, тот лед был голубого цвета, кроме места с лягушкой — там он был сине-зеленым. Вот что можно увидеть в Вермонте, если присмотреться. Это есть везде, конечно, но я привык видеть подобные вещи именно там. Так вот… Когда я говорю, что этот лес напоминает мне Вермонт, я говорю это не просто так.
— Почему бы тебе не купить себе ферму, какая была у твоего деда? Такие еще продаются?
Он прикусил нижнюю губу.
— Сложно сказать. Думаю, можно найти нечто подобное. Обычно эти дома продают в ужасном состоянии, особенно дымоход. Да и не только в доме проблема. Земля, как правило, зарастает сорняками. Все на свете пытается сравнять ферму с землей. И в этом нет ничего удивительного.
Автобус, казалось, свернул к финальному пункту назначения — ипподрому. На открытой поляне были припаркованы сотни машин. Я лишь однажды была на гонках, в парке Монмаунт в Нью-Джерси, но то, что я увидела здесь, не сравнится ни с чем. Лоншан выглядел так, словно передвижной парк развлечений разбил палатки на ночь, а утром собирается уехать. Джек улыбнулся. Его дедушка тоже в свое время был на гонках в Лоншане.
Водитель высадил нас у главного входа, и спустя пару минут мы уже были внутри. Мы купили буклет с информацией о лошадях и нашли пару свободных мест под трибуной. Было не с чем сравнивать, но мне показалось, что людей на трибунах слишком мало. Благодаря этому у нас было больше места — легче купить напиток, легче сходить в уборную — и сам процесс казался более торжественным. Меланхолия, иногда сопровождающая людей, которые проиграли больше денег, чем хотелось, чувствовалась здесь не так остро, как мы ожидали. Наоборот, было ощущение праздника, прекрасного осеннего денька.
Мы поставили на лошадь под номером 5, и она с легкостью пришла первой.
— Как тебе это? — завопил Джек, шлепнув буклетом о ногу, когда лошадь принесла нам победу. — Да мы просто счастливчики! Как тебе такое?
О Джек. Так молод и красив. Так счастлив. Так близок мне.
Оставшуюся часть дня нам не удавалось угадать победителя. Мы напились коктейлей, опьянели, сели в автобус, который отвез нас по Булонскому лесу обратно в город, к вечной Сене, шипению кофеварок и метел по брусчатке. Я обняла руку Джека и склонила голову ему на плечо. Нас накрыла тишина, он был в своем мире, я — в своем, и Париж принял нас снова.
— Хочешь проведать дерево? — спросил он, когда мы вышли из автобуса в центре города.
— Конечно.
— Возможно, нам придется перелезать через забор.
— Мне все равно.
— Можем принести ему немного воды.
— Или можем отправиться в номер, заняться любовью, уснуть, а утром выпить кофе в парке, попрощаться с деревом, с Паном и со всем остальным. Как тебе такой вариант?
Он поцеловал меня. Оторвал от земли и поцеловал снова.
Занявшись любовью, мы стояли в парижской ночи голые, глядя, как свет перемещается по крышам зданий. Держась за руки, мы смотрели вдаль, не стесняясь, тело рядом с телом, прохладный воздух обдувал наши интимные места, волосы, лица и все остальное. Лето кончается, кончается, кончается.
36
В нашу последнюю ночь в Париже мы танцевали в клубе «Марвелос». Это был старомодный ночной клуб, который нам посоветовал Раф. Казалось, он вышел прямиком из винтажного фильма Басби Беркли 1930-х годов, где девчонки с подносами продают шоколад вместо сигарет, а мужчины обсуждают последние спортивные новости. Это было похоже на вечеринку-маскарад, где все одеты в костюмы разных киноэпох, и к реальности возвращало лишь то, что мы находились в современном Париже. Оркестр из десяти музыкантов играл танцевальную музыку со сложными расстановками, приглушенными духовыми и барабанами. Мы явно были одеты неподобающе, но это не имело никакого значения. Джек был настолько привлекателен, что иногда я удивлялась, видя, что он по-прежнему рядом со мной. Вермонтский мальчик, милый и нежный, с широкими плечами, открытый и дружелюбный. Танцуя, он крепко держал меня: правая рука — на пояснице, левая — на моей руке. От него пахло «Олд Спайс».
На мне было мятое свободное платье, которое я пыталась разгладить в душе. Ничего не вышло. Но мы были красивой парой. Правда. Я ловила посторонние взгляды и улыбки, пока мы танцевали и возвращались к нашему крохотному столику слева от оркестра.
— Мы пьем только мартини, — сказал Джек после нашего танца под мелодию, показавшуюся мне до боли знакомой. Он отодвинул для меня стул и помог мне сесть за стол. — И только по два. Выпьем больше — пожалеем. Выпьем меньше — то же самое.
— Когда ты успел стать таким экспертом по мартини?
— Это наше семейное проклятие. Мы хорошо разбираемся в мартини и остром сыре.
— Водку с мартини?
— Нет, нет, только не это, мне страшно. Тебе нужен джин. Конечно, опасно пить джин с мартини — джин превращает людей в дикарей. Все это знают. В водке с мартини нет никакой опасности. Значит, наш выбор — джин.
— Оливки или лук?
— Я сделаю вид, что ты не задавала этого вопроса, — сказал он, когда к нам подошел официант.
Джек заказал два мартини с оливками. Затем он потянулся и взял меня за руку.
— Последняя ночь в Париже, — сказал он.
— Пока что.
— Да, пока что. Париж всегда будет с нами. Разве кто-то из нас не должен был сказать это?
— Ты только что сказал. Теперь ты должен заплатить штраф.
— Завтра мы вылетаем в Нью-Йорк.
— Да.
— Как думаешь, твои родители попытаются отравить меня?
— Они могут.
— Думаешь, они разрешат нам спать в одной постели?
Я посмотрела на него.
— Сложно сказать, — ответила я. — Но это должно быть интересно.
— Ты до сих пор спишь с мягкими игрушками?
— С двумя. Хопси и Картофельный Джо.
— Я хотел бы познакомиться с ними.
— Обязательно познакомишься.
Музыка вдруг ускорилась, и заиграла какая-то веселая мелодия. Сидя на углу столика, я заметила, как трубачи плюются на особо сложных нотах. Никогда раньше не замечала этого.
Вернулся официант с нашим мартини.
— Он прекрасен, правда? — спросила я, когда он подал напитки. — Великолепен и смертоносен.
— Пей понемногу. Не слишком быстро. За что нам в этот раз поднять тост?
— Ненавижу тосты.
— Правда? — спросил он. — Я бы сказал, что ты просто фанат тостов.
— С чего это вдруг?
— Потому что ты очень сентиментальная.
— Кто бы говорил.
— И что же делать, если ты не переносишь тостов?
— Предсказывать судьбы друг друга. Ты первый.
Он взглянул на меня. Взяв мартини, он дождался, пока я сделаю то же самое.
— Ты встретишь высокого брюнета, — сказал он.
— Нет, предсказание должно быть настоящее. Такие правила.
Он улыбнулся.
— Ты добьешься сокрушительного успеха в Нью-Йорке. Еще много-много раз вернешься в Париж. А еще у тебя будут козы, по крайней мере дважды в жизни.
Мы сделали по глотку. На вкус мартини напоминал мне расплавленное стекло.
— Теперь твоя очередь, — сказал он.
— Ты тоже достигнешь огромного успеха в Нью-Йорке и будешь ездить в Вермонт по выходным. А щенок, о котором ты мечтаешь, превратится в скамеечку для ног — в старости пригодится.
Мы снова отпили из бокалов.
— Наклонись вперед, — сказал он. — Я всегда хотел взглянуть сверху вниз на женское платье, пока пью мартини.
— Ты никогда так не делал?
— Ни разу.
— Зачем мальчики это делают?
— А почему бы и нет? Это весело.
— Ты хочешь увидеть соски или дело не в этом?
Сделав всего пару глотков, я почувствовала, как мартини ударил мне в голову.
— Не в этом.
— Тогда в чем же дело?
— Думаю, в том, чтобы увидеть нижнее белье. И сделать это тайком, точно не зная, осознает ли она это, но она осознает, только ни за что не признается в этом. Она хочет, чтобы ее увидели, не так явно, но определенно хочет.
— В этом есть смысл. Говоря «она», ты подразумеваешь любую женщину?
— Носительницу декольте. Вам ведь наверняка хочется соблазнять.
— На мне сегодня как раз подходящее платье, — сказала я.
— Наклонись немного вперед.
— Мне отвернуться? Как это работает?
— Ты разрешаешь мне посмотреть, но в то же время не разрешаешь. В этом вся фишка.
— Думаю, я знала это отчасти.
Я выпрямилась и подняла бокал. Он повторил за мной.
— Дважды в жизни у тебя будет конъюнктивит, — изрекла я, — а твой хомяк сбежит и умрет под твоим холодильником.
— Это ужасно, — сказал он и сделал глоток. — А ты в старости пристрастишься к корневому пиву и начнешь носить килты и береты в цветочек.
— Мне нравится такой наряд.
— Пей, — сказал он, и я послушалась.
— Может, еще потанцуем? — спросил он.
— Да, давай.
— Ты знаешь эту песню?
— Нет, а ты?
— Нет. Это хорошо. Не хочу, чтобы у нас появилась какая-нибудь сопливая песенка, которая будет ассоциироваться с нашей последней ночью в Париже.
— Согласен.
Он обошел столик и придержал мой стул, пока я вставала.
— Я видел твое платье сверху, — сказал он. — Очень даже неплохо.
— Я рада за тебя.
Мы вышли на танцпол.
Было поздно, очень поздно, а мы все так же были на танцполе. Моя голова лежала на его плече. Я безумно устала, и мне хотелось просто раствориться в нем. Мы не хотели возвращаться в постель. В этом весь фокус трансатлантических рейсов. Гуляй всю ночь, а потом спи в самолете.
— Мы с тобой вместе в Париже, — сказал Джек. — Некоторые пары ждут всю жизнь и так никогда и не попадают в Париж.
— А мы уже в Париже.
— Мы пили мартини в Париже.
— А точнее — два мартини. Ты был прав насчет этого.
— Мартини — это напиток, который основывается на науке.
— Значит, пить водку с мартини — это всегда плохая идея?
Он кивнул.
— Если только ты не в Шебойгане.
— Где это, Шебойган? Мне нравится произносить «Шебойган».
— Это, случайно, не в штате Нью-Йорк? Нет, скорее в Висконсине.
— Шебойган. Ше-бой-ган. Бьюсь об заклад, это индийское слово.
Музыка утихла. Мы не стали сразу же отходить друг от друга.
— Мы не можем быть одной из тех дурацких парочек, которые продолжают танцевать, даже когда прекращается музыка, — сказал Джек. — Это заставит меня переосмыслить наши отношения.
— Ладно, пойдем.
Он поцеловал меня в шею и еще раз, прямо в макушку. Затем он остановился, и мы медленно разъединились.
— Вот так, — сказал он.
Без его рук мне стало холодно, и я снова прижалась к нему.
— Если мы не будем спать всю ночь, то выспимся в самолете, верно? — спросила я.
— Таков наш план.
— Я хочу прогуляться и посмотреть на город. Хочу попрощаться с ним.
— Уже поздно, — ответил Джек. — Может быть, даже немного опасно.
— Тогда найдем бар. Какое-нибудь теплое место.
— Погоди, я спрошу, — сказал он.
Он отошел и спросил у одного из музыкантов, куда нам пойти. Казалось, тот не знал, но другой парень, гитарист, сказал что-то, и Джек кивнул. Вернувшись, он обнял меня и провел к столику.
— Недалеко отсюда, — сказал он.
— Помнишь, как мы спали в стоге сена в Амстердаме?
— Да, помню.
— Я думал, ты станешь соблазнять меня. Захочешь покувыркаться в сене.
— Я просто знала, как с тобой играть.
— Не сомневаюсь.
Я взяла свою сумочку и окинула взглядом столик, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Джек задвинул стулья. Он подошел, приобнял меня и повел к выходу.
— Это была наша первая совместная ночь. В стоге сена в Амстердаме. Неплохая история, чтобы кому-нибудь рассказать. Мы можем еще долго обедать за этой историей.
— Это устаревшее выражение, — сказал Джек. — Обедать за историей.
— Как думаешь, что значит щенок, которого я упомянула в своем тосте?
— Думаю, щенок символизирует невинность.
— Мне тоже так кажется, — призналась я. — И надежду на что-то настоящее.
— Щенки символизируют сексуальные извращения, — сказал Джек. — Так считал Фрейд.
— Это неправда.
— Конечно правда. Так можно сказать о чем угодно, и никто не докажет обратного. Это тоже слова Фрейда. Сама попробуй.
— Мужчины, которые играют на кларнетах, имеют фаллическую одержимость. Так считал Фрейд.
— Видишь, это работает.
— Даже лучше, чем должно.
Мы подошли к двери и вышли на улицу. Солнце еще не встало, но до восхода осталось немного. Это чувствовалось и было видно. Весь город походил на ковер-самолет, магический ковер, которому не хватало смелости взлететь в воздух. На карнизах зданий кое-где топтались сонные голуби. Джек прижал меня к себе.
— Ты замерзла? — спросил он.
— Немного.
— Почему женщины вечно мерзнут?
— Потому что мы носим вещи, на которые мальчики смотрят сверху вниз.
— Согласен. И мы вам благодарны.
— А я всегда думала, что все это ради сосков. Теперь это не так смущает.
— Так считал Фрейд.
— Конечно. Ты знаешь, куда идти?
— Думаю, сюда.
— Мой отец поначалу будет вести себя немного недружелюбно. Должна тебя предупредить. А потом подобреет. Обещаю.
— Когда-нибудь тебе тоже придется познакомиться с моими родителями, ты в курсе?
— Знаю. Я хочу познакомиться с ними.
— Это ты сейчас так думаешь. Погоди немного.
— Они ужасные?
— Не ужасные. Просто эгоцентричные, думаю. Я описываю их хуже, чем они есть на самом деле. Это часть моей системы верований.
— Так считал Фрейд.
— В этот раз это не сработало. Я не могу дать тебе инструмент, если ты используешь его не по назначению.
Затем он остановился и поцеловал меня. Мы долго целовались. Это не было невинно, но и не совсем страстно. Это был товарищеский поцелуй, словно мы вышли на новый уровень, более удобный в отношении того, что мы значили друг для друга.
— Совсем скоро встанет солнце, — сказал Джек, оторвавшись от моих губ.
— Мне понравилось танцевать с тобой. И мартини. Все-все.
— Так ведь и влюбиться можно, ты в курсе? — спросил Джек.
— Так считал Фрейд.
Он улыбнулся. Наступило утро.
37
— Ты не веришь в снежного человека? — спросил Джек по пути в аэропорт, глядя на меня так, словно я сказала что-то нелепое. — Как ты можешь отрицать науку? Существование снежного человека — это проверенный наукой факт. Ты что, не читала об экспедициях, которые доказали, что снежный человек, вне всякого сомнения, существует и разгуливает где-то по тропическим лесам штата Вашингтон?
— Так считал Фрейд.
— Ну вот, видишь? Ты слишком часто это используешь. Ты злоупотребляешь фрейдовской картой.
— Я думала, ты сказал, что это всегда работает.
— Не всегда, Хезер. Ничто не всегда. Ничто в этой вселенной не бывает всегда. «Так считал Фрейд» — это выражение, которое можно использовать иногда, но не всегда. Хитрость заключается в том, чтобы знать, когда это уместно.
— Так считал Фрейд.
— Ну вот, опять проштрафилась. Ты прямо как попугай, который научился говорить: «Полли хочет крекер». Продолжаешь повторять одно и то же, но не понимаешь, что говоришь.
— С чего вдруг попугаю хотеть крекер?
— Ты действительно не понимаешь? Прости, но у тебя туговато с шутками. Я и не знал о степени твоей проблемы до этого момента. Прости, если вел себя бестактно.
Он взглянул на меня и приложил палец к губам.
— Не говори, — предупредил он.
— Так считал Фрейд.
Он вздохнул.
— Может, записать тебя на какие-нибудь занятия? Тебе там помогут с шутками. Ты этого заслуживаешь. У тебя нарушение юмора.
Я положила голову ему на плечо. Мне очень хотелось спать. Я ощущала полное спокойствие и счастье. Я не особо любила летать, но мне всегда нравилось то, куда меня приводят полеты. Пора домой. Хотелось увидеть родителей и мистера Барвинка, побыть где-нибудь подольше, чем один или два дня. Путешествия заставляют тебя сбросить кожу, а чтобы снова ее нарастить, нужно побыть дома.
— Я должен спросить тебя еще кое о чем, — вдруг посерьезнел Джек. — Ты готова услышать кое-что важное? Это может изменить наши отношения.
— Что?
— Готова?
— Наверное. Это шутка?
— Это не шутка, Хезер. Мне нужно знать твое отношение к воображаемой гитаре. Мне нужно знать, насколько приемлемой ты считаешь игру на воображаемой гитаре.
— А что, ты много играешь на воображаемой гитаре?
— Au contraire. Напротив, мисс Хезер. Я верю, что все, кто играет на невидимой гитаре, должны бесконечно смотреть на себя, делающих это.
— Ты настолько сильно ненавидишь это?
— О, более чем ненавижу, Хезер. Намного более. Слово «ненависть» не передает мои чувства. В смысле, что такое воображаемая гитара? Что это вообще значит? Человек держит свои руки так, словно он — или она, хотя этим чаще парни занимаются, — словно он играет на гитаре. Конечно, выходит так, что парень играет самые замысловатые в мире гитарные фишки безо всякого умения играть. И тогда он оглядывается, словно действительно делает нечто невероятно крутое, корчит рок-н-рольную морду и выдает последний пронзительный аккорд. Да это оскорбление всего святого на этой земле.
— Так значит, мне никогда нельзя играть на воображаемой гитаре?
— Тебе можно, Хезер. Ни в чем себе не отказывай. Я никогда не стану мешать тебе играть на воображаемой гитаре. Мне просто придется покинуть комнату, вот и все. И после этого я больше никогда не смогу смотреть на тебя так, как раньше. Просто не смогу. Белому мужчине не понять этот вид музыкального мастерства.
— Значит, «да» снежному человеку и «нет» воображаемой гитаре. Понятно. Есть что-то еще, о чем мне следует знать? Есть какое-то руководство по использованию?
— О, там все очень плохо, Хезер. Одна сплошная заморочка.
Я закрыла глаза. Автобус выехал на широкую трассу и разогнался. Я выглянула в окно и увидела, как садятся самолеты. Джек держал меня за руку. Я подумала о мистере Барвинке. Подумала о моих маме с папой, о том, что они скажут, чего не скажут, как наш дом примет Джека. Я задержала дыхание, нырнула под воду, и все надо мной — свет и вода — стало таким мягким, тихим и нежным. Затем автобус съехал с магистрали, темп сменился, и вот мы приехали, еще немного — и улетим. Джек поднялся, чтобы достать наши сумки, высунув язык, сымитировал игру на гитаре и улыбнулся так, как это делает только Джек.
Ненавижу аэропорты. Но благодаря Джеку аэропорт Шарля де Голля казался не таким уж и ужасным. Со второй парой рук и глаз все оказалось намного проще. Мы приехали достаточно рано, чтобы проскочить через охрану без ощущения, будто мы — кабриолет в автомойке. Показали паспорта, бросили телефоны на стол, чтобы зарегистрировать наши посадочные талоны, надели обувь, вернули ремни на джинсы, купили жвачку, журналы, быстро выпили пива в якобы французском спорт-баре под названием «Алас», посидели в креслах-качалках у окна с видом на перрон. Хорошо было сидеть в этих креслах. Я была истощена, голова слегка кружилась. Но я была довольна. Я сделала это. Я видела Европу. Я сошла с запланированного маршрута, увидела абсолютно разные стороны мест, которые обычно посещают люди. До чего же это приятно! Мы держались за руки. Джек встал, пододвинул свое кресло к моему, чтобы быть поближе.
— Я правда не надеялся встретить кого-нибудь, похожего на тебя, — нежно сказал Джек, устроившись в кресле. — Правда.
— И я. Ты стал сюрпризом для меня.
— Хочешь, я скажу, почему люблю тебя? Это будет уместно прямо сейчас?
— Да, конечно.
Я поцеловала его в тыльную часть ладони. Мне постоянно хотелось целовать его.
— Во-первых, я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя, несмотря на твой недостаток. У тебя туго с шутками. Поначалу это показалось мне проблемой, но я научился игнорировать ее.
— Спасибо.
— И потому, что ты читаешь Хемингуэя. Именно поэтому я люблю тебя.
Я кивнула.
— И потому, что ты дополняешь меня.
— Уф, вот тебе на. Прекрати цитировать фильмы.
Он наклонился и поцеловал меня в шею. Я прильнула к нему губами. Мы поцеловались. Целуя Джека, я чувствовала, что земля уходила из-под ног.
— Настоящая причина моей любви к тебе — это то, что мы с тобой делим глаз, — сказал он, когда мы снова откинулись на креслах. — Ты когда-нибудь слышала об этом?
— Вряд ли.
— Ты слышала о горгонах? Три ужасные сестры со змеями вместо волос. Все они были слепые, но у них был один-единственный глаз, и им приходилось постоянно делить его между собой, чтобы увидеть мир. Так и у нас, Хезер. Мы смотрим на мир через одну линзу.
Я чуть было не пошутила над тем, что он назвал меня горгоной, но поняла, что он говорит серьезно. Хотя мне не верилось в это, я услышала, что его голос дрожит. Я подалась вперед и посмотрела на него.
— Джек?
— Прости.
— Не стоит. Ты в порядке?
— Я люблю тебя, Хезер. И хочу, чтобы ты знала это.
— И я люблю тебя, Джек. Ты в порядке? Что происходит?
— Все хорошо. Немного устал.
— Не нужно было танцевать всю ночь.
Он улыбнулся и поцеловал мою руку. Он не отрывал губ от моей кожи.
— Как думаешь, что сейчас видит наш ясень?
— Двух влюбленных. У них есть маленькая собачка, которая сидит у их ног. Собака очень старая, но она все равно каждый день ходит с ними в парк. Пес почти слепой и однажды перепутал белку с сукой. Он мечтает пробежаться по парку с этой белкой, но у него слишком старые и больные ноги.
— У белки есть имя?
— Нет, вряд ли. А собаку зовут Робин Гуд.
— Это не собачье имя.
— Нет, собачье. Это бигль. И прямо над бровями у него есть коричневые пятнышки.
— Неплохое зрелище. Я рад, что нашему ясеню есть на что посмотреть в такое замечательное утро.
— Ясень Обыкновенный всегда будет смотреть.
Через несколько минут он сказал, что ему нужно в уборную, встал и взял свой рюкзак. Я попросила его прихватить какой-нибудь фрукт, если ему встретится фруктовая лавка по пути. Он кивнул.
— Этим можно утешаться, правда? — сказал он.
Он когда-то уже говорил это мне. Может, даже дважды.
— Ты что, цитируешь Хемингуэя?
— Красивые слова. Я всегда хотел произнести их.
— Не вижу никакой связи с фруктами. Я говорю о фрукте, а ты цитируешь Хемингуэя.
— А никакой связи и нет, — сказал он. — Просто хотел повыпендриваться. Ты такая красивая, Хезер. Если бы у меня было шесть жизней, я бы каждую из них провел с тобой. Каждую, до единой.
Он улыбнулся и надел рюкзак на плечи. Что происходит? Казалось, он был слишком эмоциональным для повседневной атмосферы аэропорта. В моей голове промелькнул вопрос: зачем ему рюкзак в мужском туалете? Но я решила не заморачиваться. Может, ему хотелось перемен. Было совершенно непонятно, как помочь ему. Наши глаза встретились. Я проводила Джека взглядом, и уже через мгновенье толпа поглотила его.
Я достала телефон и проверила сообщения. Написала Эми. Сказала ей, что уже на пути к ней. Написала Констанции и спросила, видела ли она кенгуру. Написала маме — это то же самое, что переписываться с папой, — и сказала, что я в аэропорту, устала, скоро буду дома и очень хочу их увидеть. Я проверила дюжину писем, большинство с работы, увидела фотографию, которую выставила на Facebook моя подруга Салли, — на ней был кот в пиратской шляпе. Смешная фотография. Я поставила ей «лайк» и прокомментировала: «Йо-хо-хо, парень». Добавила смайликов. Это был очаровательный кот.
Казалось, я на какое-то время провалилась в виртуальный мир. Только я и интернет-пространство, которое даже не существовало, но в то же время существовало. Очнувшись, я поняла, что прошло довольно много времени. Солнце постепенно зашло за самолет. Фонари взлетно-посадочной полосы вдруг стали ярче по сравнению с тусклым солнечным светом. Моя шея начала неметь, и я медленно положила телефон в нагрудный карман в рубашке.
Я посмотрела в сторону, куда ушел Джек. Достала телефон и снова посмотрела на время. Он ушел… Я даже не знала, насколько давно. Какой смысл в том, чтобы проверять время, если я даже не помнила, во сколько он ушел? Если я не знала этого, то смотреть на часы не было никакого смысла.
Прежде чем я успела что-либо предпринять или сделать, ко мне подошел мужчина в хорошем костюме, с телефоном у уха и указал на свободное кресло-качалку рядом со мной. Я вытянула руку, чтобы помешать ему, но поняла, что это довольно отчаянная реакция. Я убрала руку и кивнула ему. Он улыбнулся, поблагодарил меня и оттащил кресло подальше. Оно стояло слишком близко к моему. Мне не понравилось то, что он его отодвинул.
— Не могли бы вы… — сказала я мужчине, указывая на свой рюкзак.
Я хотела, чтобы он присмотрел за ним. Незнакомец прикрыл микрофон телефона и покачал головой. Он объяснил мне на французском, что будет сидеть всего минуту.
— Пожалуйста, присмотрите до тех пор, пока не уйдете, — сказала я. — Я скоро вернусь.
Мужчина сжал губы. Словно хотел сказать: «Американцы». Или: «Может, присмотрю, а может, и нет». У меня не было времени на то, чтобы договариваться с ним. Я пошла в направлении Джека. Вокруг меня суетились люди, и на мгновение мне вспомнилась сцена из «Над пропастью во ржи». Мы читали этот роман в школе, и хотя он никогда особо мне не нравился, я вспомнила главного героя, Холдена. Ему хотелось быть мальчиком, который с вытянутыми руками прошел высокий луг, помогая детям не упасть. Именно так я чувствовала себя, шагая против потока пассажиров. Где-то там, среди людей, должен быть Джек, и я, почти вытянув руки, пыталась найти его взглядом.
Прошло немного времени, и я достала телефон и написала сообщение.
«Где ты?» — спросила я.
Я держала телефон перед собой, надеясь на мгновенный ответ. Но он не отвечал. Я осознала, что остановилась посреди движущейся толпы, словно камень в ручье. Людям приходилось обходить меня, они, конечно же, злились, а их лица почти излучали ярость. Я нарушила правила. Дура. Это все, что они смогли сделать, лишь бы не ударить меня.
Я отправила телефон обратно в карман и пошла вниз по проходу, пока не нашла мужской туалет. Я смотрела, как мужчины заходят и выходят из уборной, но никак не могла осмелиться попросить одного из них посмотреть, есть ли там Джек. Вдруг до меня дошло: ему стало плохо. Что-то случилось. «Черт с ним», — подумала я и ворвалась внутрь, невинно отворачиваясь от мужчин и выкрикивая его имя, словно сварливая жена.
— Джек? Джек Квиллер-Куч здесь?
Туалетный работник, худой, высокий африканец в голубом жакете, подошел и загородил мне путь рукой.
— Мадемуазель, нет, — сказал он. — Нет, нет, нет.
— Джек! — крикнула я еще громче. — Джек, где ты?
Мужчина вывел меня из уборной. Мой голос эхом раздался в комнате, отделанной кафелем.
— Мой друг пропал… — сказала я, пытаясь связать хоть пару слов на французском, но у меня ничего не получалось. — Мой парень… Он пошел сюда, наверное.
— Нет, мадемуазель. Les garcons… Только для мужчин.
— Я понимаю… Правда, но он пропал.
Мне на телефон пришло сообщение. Я так быстро вытащила его из кармана, что уронила. Он заскользил по полу, и мне пришлось ползком ловить его. Я думала, что разбила его, но с ним все было в порядке. Это было сообщение от мамы, в котором она написала, что тоже хочет поскорее увидеть меня. Мне даже думать не хотелось о том, что мой телефон только что побывал на полу туалета.
Я снова написала Джеку.
«Джек?»
Почти в этот же момент по системе громкой связи объявили наш рейс.
Нью-Йорк. Аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди. Посадка группы под номером четыре.
— Мадемуазель, — повторил работник, и лишь после этого я осознала, что все еще нахожусь в туалете. Я попятилась. Поток людей был, как обычно, бесконечным — все спешили на свои рейсы, волоча за собой чемоданы, словно послушных собак.
Мой мозг немного ускорился, и я вспомнила: рюкзак. Какой идиот станет оставлять рюкзак без присмотра в аэропорту? Я поспешила к нашему выходу на посадку и осознала, что в этой ситуации применяется принцип бритвы Оккама. Я знала об этой презумпции еще с философии на первом курсе. На латыни это звучит как lex parsimoniae. Короче говоря, этот принцип используется, когда происходит конфликт гипотез и выбрать необходимо ту, которая предлагает меньшее количество вариантов. В общем, нужно быть проще. Выбрать наипростейший вариант. Мои мысли просто сводили меня с ума. Мне нужно было следовать принципу бритвы Оккама.
Голос — за пределами моей головы — зазвучал из колонок и объявил рейс на Алжир. Это затормозило меня. В мою кровь снова ворвался поток паники. Я развернулась и побежала в сторону, куда пошел Джек. Бежать в такой толпе было практически невозможно, но я старалась изо всех сил. Мне было больно дышать, словно мои легкие пронизывал меч. Мысль о том, что Джек мог бросить меня, просто уйти, казалась настолько нереальной, что я даже не допускала этого варианта, как бы настойчиво этот уродливый птенец ни пытался пробить серую скорлупу.
Но тогда спокойный, более сдержанный голос стал успокаивать меня. «Он не ушел», — шептал голос. «Он бы так не поступил». «Он ни за что не бросил бы тебя». Голос настаивал, чтобы я успокоилась, и я замедлила шаг, еще минут пять погуляла по пешеходному мосту, пытаясь быть нормальным туристом, пытаясь выглядеть беззаботно, пытаясь поверить в то, что, когда я вернусь за рюкзаком, который по глупости оставила посреди аэропорта, он будет ждать меня там, с воображаемой гитарой в руке. Я даже заставила себя остановиться в ларьке с журналами и конфетами, делая вид, что изучаю ассортимент. Мой желудок горел и болел, словно я проглотила кошку, покрытую разрыхлителем «Криско». Я взяла в руки копию журнала под названием «Матч» и пролистала его. Мне хотелось дать Джеку время, чтобы вернуться. Хотелось, чтобы он не торопился.
Я не спеша вернулась к выходу на посадку. Глядя на лица людей, проходящих или пробегающих мимо, я думала о том, какие же секреты они хранят. Казалось, каждый из них что-то искал. Искал кого-то или что-то. Дважды я чуть не столкнулась с людьми, которые везли за собой чемоданы. Затем совершенно случайно я заметила свой рюкзак и улыбнулась — радовало, что он лежал на месте, что я рискнула и победила, — но я не увидела Джека. Я подошла поближе, а его все не было, и тогда я начала изучать зону ожидания, регистрационный стол, но его не было ни там, ни там.
Я подошла к рюкзаку и села рядом. Я смотрела прямо перед собой.
Я знала, что время бежит, но только в маргинальном смысле. Когда люди вокруг меня начали вставать и идти куда-то, я почти в тумане осознала, что пришло время садиться на борт. Нью-Йорк. Аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди. Я встала, наклонилась, подняла свой рюкзак. Забросила его на плечо, он ударил меня по спине, и мои легкие издали ответный «ох». Я развернулась, чтобы почувствовать это снова. Это было приятное чувство, чувство веса, который, словно маятник, ударяет по моей спине и пояснице.
Я достала телефон, чтобы проверить, не ответил ли Джек, не позвонил ли, не сделал ли хоть что-нибудь. Мой палец сам нажал на книгу контактов, я вбила имя Джека и нажала на него. Пока мой телефон связывался с телефоном Джека, я лихорадочно думала, что бы ему сказать. «Эй, Джек, где ты? Ты пропал… Эй, Джек, я стою у выхода на посадку, наш рейс уже объявили, и я подумала, может, ты захочешь поторопиться…» Но он не ответил. Включился автоответчик, я сделала глубокий вдох, открыла рот, чтобы начать говорить, но аккуратно завершила вызов.
Работники аэропорта объявили, что начинается посадка группы под номером один, попросили пассажиров подготовить посадочные талоны и открыть паспорта.
Я нехотя встала в очередь на посадку. Постоянно смотрела в направлении, куда ушел Джек, и все надеялась, что вот-вот, еще пару секунд, и он появится, он уже идет ко мне, и я отругаю этого идиота за его дурацкую шутку. Вдруг мне пришло в голову, что он уже может быть в самолете. Что если произошла сумасшедшая путаница? Какая-то женщина попросила мой паспорт, и я дала его ей. Она просканировала его и вернула мне в руки. Я поблагодарила ее, не отрывая взгляда от ее рта, произносящего какие-то слова. Затем мы прошли длинный проход к двери самолета, я зашла внутрь, наконец сойдя с французской земли, вручила документы бортпроводнице, женщине с тонной косметики на лице и улыбкой, которая не сходила с него. Она кивнула и указала на хвост самолета. Я прошла весь первый класс, а когда наконец добралась до своего отсека, упала на сиденье, глядя перед собой. Джека рядом не было.
Пока самолет стоял, меня вырвало в туалете.
Приступ тошноты накатил волной, и мне не удалось сдержаться. Я была опустошена. Спустя какое-то время после того, как меня трижды вырвало, кто-то постучался в дверь и по-французски спросил, все ли в порядке.
— C,a va, — ответила я. — Merci.
Они снова протараторили что-то на французском.
Я повторила:
— C,a va.
После боли особенно острой — чувства старые. Так говорила поэтесса Эмили Диксон. Я сидела в ожидании полета, минуты шли, реальность тянулась невыносимо медленно, постепенно становясь мучительной, и я ощущала, как становлюсь жесткой. Моя спина выпрямилась. Да, я стану непреклонной. Я приму то, чего не могу изменить. Я не стану, не позволю себе больше плакать. Прямо как доктор Сьюз. Не стану, не позволю.
Я сунула телефон в карман и выключила его.
Я не пыталась читать. Не стала проверять письма. Мне не хотелось ни есть, ни пить. Я сидела и чувствовала себя на удивление спокойной. Это случилось. Я так и думала. Меня обманули, и я не была ни первой, ни последней женщиной, поверившей словам мужчины, но этот урок я усвоила.
Я не позволила себе роскошь искать Джека среди моих попутчиков. Я не стала бросать скучающих взглядов в сторону входа. Он не придет; он не пришел; я ему не нужна.
Немного позже яркая бортпроводница с красными губами попросила меня пристегнуться, и я послушалась. Она улыбнулась. Я улыбнулась ей в ответ.
И вот мы взлетели. Самолет поднялся в воздух, а Джек был не со мной. Мы прошли через облако, а Джек по-прежнему был не со мной. Я попросила стюардессу принести мне джин-тоник, выпила, попросила еще один, выпила, попросила в третий раз, выпила. Она отказалась приносить мне четвертый. Я откинула голову на подголовник и закрыла глаза.
Это конец. Может, всего этого никогда и не было, не существовало, во всех смыслах. Я нагнулась к сумке и достала оттуда свой «Смитсон». Все, что я могла сделать и что обычно и делала, — это сохранять организованность. Я слишком долго игнорировала ежедневник. Осторожно открыв его, как давнего друга, с которым сто лет не виделась, я стала медленно перелистывать страницы. Встречи. Задания. Формы. Даты дней рождения розовыми чернилами. Я медленно, но решительно листала страницы, и я не плакала. Зачем плакать? У нас были Париж, Амстердам, Прага, Краков, соляные шахты и молочная баржа. Это было хорошее лето. Хорошее путешествие. Я вытащила ручку из крошечной кобуры на моем дневнике и обвела дату моего первого рабочего дня. Я так долго закрашивала квадратик, что ручка едва не прорвала бумагу. Небо под нами затянулось тучами, и все стало каким-то мягким.
Когда я попробовала положить дневник в сумку, он отказался влезать. Я попробовала протолкнуть его, лишь бы только он влез, но что-то по-прежнему мешало ему. Я наклонилась к сумке, чтобы выяснить, что же это. Моя рука наткнулась на дневник дедушки Джека. Я поняла это даже раньше, чем увидела его. Меня охватила дрожь. Что-то сжалось в груди, я не могла дышать.
— Не могли бы вы выбросить это? — попросила я стюардессу, когда она проходила мимо. Я протянула ей дневник. Даже он имел идеальный вес и размер для моей руки. Я отчаянно верила в то, что если она заберет его, освободит меня, то мне станет легче.
— Конечно, мисс, — сказала она.
Она фальшиво улыбнулась мне и бросила дневник в небольшой мусорный пакет, который носила вдоль прохода. Она даже не взглянула на него. Девушка широко улыбнулась и пошла дальше, а дневник превратился в мусор в пакете, отведенном для оберток от коктейльных соломинок и упаковок от арахиса.
Она проделала половину пути до бортовой кухни, когда я выкрикнула, чтобы она остановилась.
Я особо не выбирала выражения — ох и зрелище. Я заранее знала, что произведу такое впечатление. Глубоко внутри я во всем винила алкоголь. Винила свое взвинченное состояние. Но самосознание не помешало мне, шатаясь, помчаться к концу прохода — слезы начинали затмевать мое восприятие.
Глядя, как я продвигаюсь в ее направлении, стюардесса скорчила гримасу, которая означала: «Успокойся, ты, мелюзга». Последнее, чего ей хотелось, — это успокаивать обезумевшую женщину на борту.
— Простите, — сказала я и подошла поближе. — Это любовные письма, память от бывшего, — прошептала я.
— О, — сказала она.
Только звучало это примерно так: «O-o-o-o-o».
Затем она протянула мне пакет, и мы проделали обратный ритуал «сласти или страсти» — мне пришлось рыться в мусоре, чтобы найти дневник. Наконец, выловив его, я прижала книжку к груди.
— Я вас понимаю, — сказала стюардесса. — Очень хорошо понимаю.
— Спасибо.
— Я принесу последний джин-тоник, хорошо? Только после этого нужно будет поспать.
Я кивнула и побрела к сиденью. Весь мир казался таким далеким.
Часть вторая
Нью-Йорк
38
Идя на свидание, организованное подругой, как ты поступишь? Будешь ждать парня в баре или скорее войдешь внутрь, просканируешь все столики и барную стойку и попытаешься найти того самого симпатичного, по описанию подруги, парня?
В худшем случае ты даже знать не будешь, опоздала ты или пришла вовремя, потому что на самом деле тебе на все это плевать. Ты делаешь это из-за двух подруг на работе, которые сказали, что тебе это необходимо, что это — единственный способ найти парня. И ты говоришь: «Да, хорошо, ладно, я встречусь с ним, спасибо».
Его зовут Гэри.
Это все, что тебе сообщили.
Семь тридцать вечера. Ты только с работы, хотя обычно рабочий день заканчивается еще позже. Спустя всего полтора месяца работы в Банке Америки тебе удалось заработать репутацию сумасшедшего трудоголика. Поэтому пришлось переобуться, расчесать волосы, слегка подвести глаза, добавить румянца на щеки и расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, чтобы показать краешек кружевного бюстгальтера. Все кажется каким-то неправильным и фальшивым, словно ты намазываешь арахисовое масло на рычаг мышеловки. Но Элеонор, девочка, почти твоя ровесница, с примерно таким же стажем работы в Банке Америки, помогала тебе остепениться и заставила зарегистрироваться на сайте знакомств. «Ну же, Хезер, не смеши! Тебе необходимо веселиться, это ведь не сложно. Это просто сайт, и это совсем не значит, что ты полная неудачница». Теперь тебе приходится воплощать в жизнь то, чего ты боялась.
Ты замираешь, войдя в бар, осторожно продвигаешься ближе к стенке, чтобы не мешать людям. Это вечер пятницы, начало выходных, и бар под названием «У Эрни» переполнен молодой энергией. Сцена, знакомства, тусовки, и ты, по идее, должна вписываться в эту атмосферу, ведь принадлежишь как раз к такой категории населения. Но на душе совсем не радостно. С восточной стороны бара доносится чей-то рев, кто-то сделал что-то в центре толпы, изумленная публика аплодирует, кричит, а кто-то подбрасывает в воздух шляпу.
На телефон приходит сообщение.
«Я опаздываю, — пишет Гэри. — Подожди 4уть-4уть».
И что теперь?
Он вообще умеет писать? Или это такой особый способ письма? Специально писать с ошибками?
Бар забит людьми, но ты настойчиво продвигаешься вперед, ищешь свободные места, но ничего не находишь. Это должно быть весело, ты ведь помнишь. Именно для этого ты и работаешь — чтобы были деньги на переполненные бары, где можно встретить парней. Что-то в этом роде. Но это все твое циничное мышление, а Эми с Констанцией говорили тебе о негативе, о том, что не стоит превращаться в злюку после того, как тебя бросил Тот-кого-нельзя-называть. Ты вроде бы соглашаешься с ними, но не всегда можешь справляться с эмоциями. Поэтому, когда ты видишь, что в западной части бара поднимается пара и уходит, освобождая два сиденья, заставляешь себя воспринимать это как хороший знак.
Прежде чем тебе удается занять второе сиденье, девушка твоего возраста, даже чем-то похожая на тебя, садится на него, поэтому тебе остается занять хотя бы одно место. Ты падаешь на сиденье, надеваешь сумочку через плечо и разворачиваешься, чтобы видеть выход. Как бы непреднамеренно. Ты не хочешь показаться слишком заинтересованной, словно золотистый ретривер, который прыгает на дверь, когда его хозяин выходит из машины. Поэтому отворачиваешься от выхода и пытаешься поймать взгляд бармена, но его вниманием овладела группа людей, среди которых секунду назад кто-то кричал.
Ты разворачиваешься, чтобы взглянуть на дверь, и видишь Гэри.
Это должен быть Гэри. Ты понимаешь это по его взгляду, по тому, как он осматривает бар, как стоит. Тебе сказали, что он занимается спортом, и это, кажется, правда: у него крепкое подтянутое тело и упругая походка. Он ловит твой взгляд, подходит к тебе, тыкает пальцем себе в грудь, затем в тебя, затем снова себе в грудь.
— Ты, должно быть, Гэри, — говоришь ты, — друг Элеонор, верно?
— Хезер… — отвечает он, но, прежде чем успевает сказать что-либо еще, у него звонит телефон. Он выставляет перед собой указательный палец и улыбается.
— Хорошо, хорошо, да, — говорит он в трубку, снова улыбается тебе и кивает в ответ на то, что ему сказали.
Меня это ничуть не смущает, ведь так можно рассмотреть его. Неплох, не совсем твой тип, но неплох. Слишком деловой, немного типичный для Нью-Йорка, постоянно на ходу, слишком светский, слишком самовлюбленный. Блондин с уже редеющими волосами, зачесанными назад от огромного лба, — Эми назвала бы его яйцеголовым, — гладко выбрит и с широким подбородком, напоминающим лопатку для мороженого. На нем хороший костюм, синий с тонкими полосками, но слишком кричащий галстук, — Эми назвала бы его галстук-стояк, — ярко-голубой с небольшим переливом. Он снова тебе улыбается, виновато приподнимает брови, делает жест рукой, давая понять, что за твоей спиной появился бармен.
— Мне содовую, — говорит Гэри бармену и снова возвращается к телефонному разговору.
— А мне белое вино, — говоришь ты, но, осознав, насколько жалко и банально это звучит, меняешь заказ на пиво «Стелла Артуа».
— Прости, — говорит Гэри, когда бармен уходит.
Он кладет телефон в пиджак и наклоняется, чтобы поцеловать тебя в щеку.
— Значит, ты из Банка Америки? — спрашивает он.
— Да. Только устроилась осенью. А ты юрист?
— Виноват, ваша честь.
— Договоры?
— Ну, пока что да. Я пытаюсь пробиться к спортивным контрактам. Хочу быть агентом.
— О, круто.
Вам подают напитки.
Этот парень уже тебе не нравится. И ты уверена, что это взаимно.
Назовем это химией. Или ее отсутствием.
— Будем! — говоришь ты, поднимая бокал.
— Будем. Прости, что тебе приходится пить одной, но я тренируюсь. Пытаюсь избегать углеводов.
— Да, без проблем.
— Я сейчас тренирую выносливость. Слышала о таком? Эти мегамарафоны на проверку выносливости? Ты бежишь, пробираешься через грязь, преодолеваешь препятствия… Это невероятно.
— Ты соревнуешься в командах?
— Да, но не всегда.
Громко. Все, что он говорит, искажается под давлением невероятно громкой музыки. Тебе приходится наклонить голову и прислушиваться, выставив ухо, словно микрофон, в его направлении.
— Так что Элеонор рассказала тебе обо мне?
— Она сказала, что ты хороший парень.
— «Хороший» звучит не особо воодушевляюще.
Ты делаешь глоток пива. Даешь ему возможность переварить то, что он просто «хороший». Понемногу осознаешь, что он тебе не нравится. Совсем. Его телефон снова звонит, он достает его из пиджака и выставляет указательный палец, обещая, что это займет лишь пару секунд.
Он говорит по телефону, явно договариваясь с кем-то о встрече, с кем-то более крутым, более привлекательным, более интересным, а ты пытаешься сравнить его с Тем-кого-нельзя-называть, но ничего не получается. Он вне сравнений. Джек был, во-первых, крупнее, более расслабленным, житейским, более естественным, намного более симпатичным. Нет, не симпатичным, скорее более привлекательным. А этот парень, этот Гэри, он похож на псевдо-Джека, фальшивого Джека, и ты просто потягиваешь пиво, думая, как бы вежливо свалить. Ты должна быть в поезде, должна провести длинные выходные в Нью-Джерси, выходные в честь дня Колумба, но если бы все пошло хорошо, действительно хорошо, то можно было бы отменить планы.
Но Гэри решает вопрос за тебя.
— Так… Не хочу ходить вокруг да около, — говорит он, закончив разговор по телефону. — Ты ведь от меня не в восторге, верно?
— Я бы так не сказала…
— Ну, у меня так же, — сказал он с улыбкой. — Кажется, мы с тобой совсем разные.
— А разве мы должны быть одинаковыми? — спрашиваешь ты, не удержавшись.
Внезапно и нелепо Гэри стал твоим проектом. Ты любишь проекты. Ты не можешь противостоять проектам. И хотя ты совершенно не хочешь Гэри, ты хочешь, чтобы он хотел тебя, поэтому пытаешься флиртовать. Его телефон звонит в третий раз, и, пока он достает его из кармана, ты вдруг осознаешь, что это тебе не нужно. Машешь ему правой рукой, разворачиваешься и делаешь большой глоток пива. Гэри тоже ставит свой недопитый напиток на барную стойку, вяло улыбается — о, ты просто обожаешь вялые улыбки — и, прежде чем уйти, хлопает тебя по спине, не отрывая телефона от уха.
И ты думаешь о ясене, могучем ясене, растущем в Люксембургском саду.
Ты вспоминаешь академию верховой езды, момент перед картиной Вермеера, и уже ничего не можешь с собой поделать. Ты думаешь о днях в Берлине, когда ваши тела сливались и скользили друг по другу, когда вы были словно ветки, которые возгораются от трения. Тот-кого-нельзя-называть медленно берет под контроль все твои мысли, твое зрение, твою память. Ты допиваешь пиво, глядя в зеркало напротив барной стойки. Одинокая девушка, Манхэттен, вечер пятницы.
39
По пути домой, в Нью-Джерси, ты пишешь Элеонор:
«Хороший парень. Рада, что мы познакомились. Никакой магии. Но спасибо».
Грустный смайлик.
Ты пишешь Констанции и Эми:
«Хороший парень. Рада, что мы познакомились. Никакой магии».
Папа встретил меня на вокзале.
— Ну, здравствуй, радость моя, — сказал он, когда я села к нему в машину. — Поздно ты приехала.
От него пахло маслом и попкорном. Я бросила сумку на заднее сиденье, наклонилась и поцеловала его в щеку. На нем была белая рабочая рубашка, одна из старых, которую он отнес к повседневным. Поверх рубашки был надет жилет от «Кархарт». Это его любимый выходной наряд. Он выглядел устало, но спокойно, словно дремал, прежде чем поехать за мной на вокзал. Его руки, тяжелые и умелые, симметрично лежали на руле. Я решила, что он привлекательный мужчина, но не вычурный. Его волосы, поседевшие и слегка поредевшие на макушке, как говорила мама, били по его самолюбию. У него были широкие скулы, четко очерченные, и это придавало мужества всему его облику. Ему пятьдесят два года, он мужчина в расцвете сил, защитник и глава нашего семейства. В тот самый момент я осознала, до чего же он мне дорог, мой папа, и стало так хорошо — даже больше, чем хорошо, — просто сидеть с ним в машине. Впереди нас ждали ленивые выходные. Я знала наперед, что холодильник забит моими любимыми лакомствами, в нашем семейном гнездышке меня ждет удобное кресло перед телевизором, а мама, несомненно, остается Мамазавром.
Внезапно, неожиданно даже для себя, я положила голову ему на плечо и заплакала.
— Ну-ну-ну, что случилось? — спросил он таким же голосом, каким успокаивал меня в детстве, когда мне было семь лет и я упала с велосипеда, или когда завалила экзамен в Южнотихоокеанский университет. — Ну же, милая, тише. Ты в порядке? Что-то случилось?
Я покачала головой.
Он поцеловал меня в макушку и медленно убрал волосы с моего лица.
— Что произошло, солнышко? — спросил он и протянул руку, чтобы выключить радиотрансляцию футбольного матча колледжа.
Я чувствовала себя нелепо, но не могла остановиться. Машина затормозила. Папа опустил стекло, и внутрь пробрался прохладный аромат листьев, октября и огня. Папа дотянулся до бардачка, открыл дверцу, пошарил там рукой и достал салфетки из «Данкин Донат». Вручил парочку мне. Одной я вытерла глаза, а во вторую высморкалась.
— Ты в порядке? В чем дело, милая? Что происходит?
Я приподняла голову с его плеча и покачала ею. Что говорить, если все уже сказано? Я скучала по Джеку. Скучала по тому, что у нас было и что могло бы быть. Такая вот семейная легенда. Как бы то ни было, меня бросили у алтаря.
— Просто хандра, папуль, — сказала я, закрывая лицо. — Просто длинный день.
— На работе все хорошо?
Я кивнула.
— А в повседневной жизни…
Я пожала плечами. Нельзя было открывать рот.
— Но тебе ведь нравится твоя квартира?
Безопасная тема для разговора. Он знал, что она мне нравится. Я кивнула.
— Она маленькая, но мне нравится. Малюсенькая, правда. Ну, ты сам видел.
— Что ж, жизнь в Нью-Йорке. Она такая. Я слышал, в Джерси запускают в эксплуатацию новые многоквартирные дома. И в Ньюарке тоже.
— Хм-м-м, — сказала я.
Мой взгляд застыл где-то в пустоте.
— Мама приготовила все, что ты любишь.
— Это хорошо.
— А я приготовлю волшебную курицу на гриле. Ту самую.
— Тогда все хорошо.
Я думала, он снова заведет машину. Я больше не плачу. Но он не спешил. Я распрямила плечи и снова высморкалась.
— Послушай, Хезер, боюсь, я должен сообщить тебе плохие новости. Мне не хочется расстраивать тебя еще больше, но мистер Барвинок умер вчера.
Я ощутила такую же неподвижность, как и в парижском аэропорту. В аэропорту имени Шарля де Голля. Нечто ужасное, неотвратимо-болезненное снова высосало весь воздух из моих легких и всю кровь из моего сердца.
— Что? — спросила я сквозь слезы. — Как?
Это все, что я смогла сказать, сдерживая очередной всхлип. Папа глубоко вдохнул и похлопал меня по колену.
— Он не приходил домой… Мама не могла его найти. Мы обнаружили его в его любимом месте, в гараже. Утром. Он просто умер, милая. От старости.
— Только не мистер Барвинок…
Папа обнял меня. Мистер Барвинок, самый лучший кот, мой друг детства, мой комочек счастья, мой уют, мой котенок, — его больше нет. И я ничего не могла сделать, сказать. Не могла даже понадеяться на то, чтобы хоть что-то изменить.
Как и полагается, следующим утром, когда мы хоронили мистера Барвинка, шел дождь.
Внизу, в подвале, нашла старую шляпную коробку — по крайней мере, она выглядела так, будто однажды была шляпной коробкой, бледно-голубая и шестиугольная, — и кусочек рафии[6], которую мама когда-то использовала в рукоделии. Я постелила ее на дно гроба для моего котенка, моего старого друга, осторожно уложила его в коробку и прочно закрыла ее, утешаясь тем, что сделала все, что могла. Оставив коробку в гараже, я пошла копать ямку.
Было раннее утро, всего восемь часов, и листья прилипли к земле тусклыми мокрыми пятнами. Выкопав яму глубиной в полторы стопы, я взглянула на рыхлую землю, лежащую на куске картона рядом, и оценила работу. Хорошо было возиться с лопатой, делать что-то потяжелее, чем нажимать на компьютерные клавиши.
— Достаточно глубоко? — спросил папа, выйдя из дома с двумя чашками кофе. Одну он вручил мне.
— Думаю, да, а тебе как кажется?
Он кивнул и сказал:
— Он был хорошим котом.
На папе была ирландская твидовая шляпа, которую он купил во время поездки в Лимерик много лет назад. Мне нравился его вид.
— Расскажи мне что-нибудь о мистере Барвинке, — сказал он. — Какое твое лучшее воспоминание о нем?
Я немного подумала и отпила кофе.
— Мне часто казалось, что он молится.
— Как это?
— Когда он лежал у меня на груди или сидел в кресле, то складывал лапки вместе, закрывал глаза, и мне казалось, что он молится о всяких вещах.
— О хороших вещах?
— Да в основном.
«Кошачьи мечты», — подумала я. Папа обнял меня за плечи, и я разрыдалась.
Я не была готова снова говорить об этом. На крыльце появилась мама, неся что-то в руках. Спустя секунду я поняла, что она собрала большинство игрушек мистера Барвинка. Кошачья удочка, вязаный снегирь, заводная мышка с кошачьей мятой и мячик с бубенцами. Не знаю, сделала ли она это из проявления доброты или же просто чтобы избавиться от кошачьего барахла. Она любила мистера Барвинка, это точно, но она любила его издалека, как любят закат или снежную пургу.
Затем я подумала, что если бы она хотела избавиться от всего этого, то просто выбросила бы в мусорное ведро. Все эти годы, пока я училась, именно она опекала нашего кота. Слегка сварливая и скупая на эмоции, она обожала мистера Барвинка точно так же, как я. Просто не показывала этого. Я вдруг увидела маму другими глазами.
— Выглядит хорошо, — сказала мама. — Ты на славу постаралась, милая.
— Спасибо, мам.
— Мы готовы? — спросил папа.
Я принесла коробку из гаража. Она была совсем легкой. Вдруг я осознала, что это уже вторая вещь, которую я хороню за последние полгода. Вероятно, это что-то значило, но я не знала, что именно.
Я вытянула коробку и попросила всех сложить на нее руки.
— Прощай, мистер Барвинок, — сказала я. — Ты был хорошим котом и замечательным другом. О большем нельзя и просить.
Мама, моя милая мама, закрыла лицо и заплакала. Папа согнулся над ямкой и помог мне положить туда коробку. Мама дала нам кошачьи игрушки, и мы сложили их сверху, превратив мистера Барвинка в крошечного викинга в его корабле-шляпной коробке, которому потребуются оружие и вдохновение, если он соберется пировать с Одином в Вальхалле[7] этим серым октябрьским утром.
40
— От него нет вестей? Ну конечно же нет, — сказала мама.
Было уже поздно. Папа ушел спать. Мы сидели на террасе с двумя чашками чая. Мама хотела попробовать чай со вкусом лакрицы — говорят, он помогает при боли в мышцах и сухожилиях. Она всегда пробовала разные чаи, и хотя немногие из них оказывались действительно эффективными, мне нравился аромат корицы в расслабленной атмосфере террасы. Я прижала чашку к груди и покачала головой.
От него не было никаких вестей.
Не нужно было маме произносить его имя.
— Ну… — сказала она и замолчала.
— По словам Констанции, Раф отказывается говорить об этом. О чем угодно, только не о Джеке.
— Они обручились? Констанция и Раф.
— Да.
— Это чудесно. Я бы ни за что не поверила, что Констанция будет первой из вашей маленькой компании.
— Ты имеешь в виду, что она первой выйдет замуж?
— Я бы поставила на Эми.
— Эми — это вряд ли, мам.
— Ты по-прежнему хранишь дневник его дедушки? — спросила она, меняя тему разговора.
Я кивнула. У меня не было адреса Джека. Пришлось оставить дневник у себя.
Она отхлебнула свой чай. Я тоже. Мне было почти безразлично. У меня на коленях лежал журнал «Вог», и я периодически перелистывала страницы. Мама же вырезала воскресный кроссворд из «Таймс» и прикрепила его к дощечке с зажимом, которую носила с собой именно для этой цели. Было воскресенье, и я должна была бы уже ехать в поезде до Манхэттена, если бы понедельник не сделали выходным в честь Дня Колумба. Я планировала уехать рано утром, а после обеда отправиться на работу.
— Тебе нравятся такие блейзеры? — спросила я маму и показала ей страницу журнала. Она приложила сложенные очки к глазам и взглянула на фотографии. Мы всегда так делали. Всегда обсуждали одежду, даже в самый критический период наших отношений, когда я училась в школе. Одним из светлых моментов после моего возвращения из Парижа стал шопинг с мамой — мы выбирали мне деловой гардероб. Она любила приезжать в Нью-Йорк, чтобы встретиться с дочерью за обедом. Это были хорошие деньки.
— Мне никогда особо не нравились блейзеры, — сказала мама, опуская очки и снова принимаясь за борьбу с кроссвордом. — Они напоминают униформу католических школьниц. Я понимаю, почему они нравятся людям, но только не мне.
— У меня есть бежевый, но я почти его не ношу.
— Трудно найти повод надеть блейзер.
Я перевернула еще несколько страниц. Мама сделала глоток чая.
— Тебе понравился чай? — спросила она.
— Не очень. А тебе?
— Слишком лакричный.
— Зато полезен для суставов и сухожилий.
Мама дотянулась до столика рядом со стулом, взяла пульт и включила газовый камин в углу террасы. Он тут же воспламенился. Ей нравилась газовая печь. Она говорила, что рядом с ней чувствует себя как пионер. Мне всегда казалось, что больше всего ей нравится контраст холодного стекла и теплой комнаты.
Мама улыбнулась огню и убрала кроссворд с коленей.
— Я не рассказывала тебе о своей войне за тыквы? — спросила она. — Не знаю, почему я вспомнила об этом именно сейчас, наверное, дело во времени года.
— Нет, мам. Война за тыквы?
— О, это звучит драматичнее, чем было на самом деле. Но я боролась за тыквы вместе с несколькими моими подружками. Мы тогда были, наверное, классе в седьмом. Болтали о том, как мальчишки бессовестно бьют тыквы, в то время как мы потратили уйму времени на вырезание узоров на них. Ты уверена, что я тебе этого не рассказывала?
Я восхищенно кивнула.
— Кажется, это была моя идея. Я подговорила всех подруг воткнуть булавки в тыквы изнутри, чтобы каждый фонарь-Джек стал колючим, как дикобраз. Даже не помню, откуда у меня появилась эта идея… Может, вычитала где-то. Во всяком случае, это была война между нами и тремя воображаемыми мальчишками… Мальчишками, которые ломали наши тыквы. Мы представили себе, как они прошмыгивают к нам на пороги, тянутся за тыквами и отпрыгивают, потому что те больно колются. Дьявольская идея на самом деле. Каждая ночь без происшествий служила доказательством нашей изобретательности. Было и правда очень весело. Каждый день мы встречались в школе, чтобы доложить, как наши тыквы пережили предыдущую ночь. Тогда я впервые стала лидером… Борьба с терроризмом, как тебе?
— Мама, да ты мятежница! И что, тыквы дожили до Хэллоуина?
— В итоге мы сами их раздавили. Я всегда мечтала сделать это. Однажды мы созвонились и решили разбить их. Мы надели садовые перчатки, чтобы взять тыквы в руки, а затем разломали. Думаю, нам не хватало того самого мальчишеского озорства. Я понятия не имела, зачем мы это делаем.
— Вы хоть убрали после себя?
— Нет конечно, нет. Мы были мелкими ленивыми врединами! Мой папа указал мне на кусок тыквы, прежде чем я успела рассказать ему, что произошло. Помню, когда я ему все это объясняла, он смотрел на меня как на обезумевшую.
— Думаю, ты защищала свою девственность, мам! Все это звучит очень по-фрейдистски.
— Знаешь, а я точно так же думала! — сказала она и расхохоталась. — Всегда считала именно так. Мужской натиск и женское сопротивление! Кажется, я никому не рассказывала эту историю. До чего же странно, что она пришла мне на ум.
— Почему именно сегодня?
Она пожала плечами, явно радуясь такому воспоминанию.
— А почему бы и не сегодня? Я тоже думала о Джеке. Конечно, я с ним не знакома, но что если он, как и мы с девочками, решил разбить тыкву, прежде чем кто-то другой сделает это? Иногда легче разрушить что-то, нежели защитить. В этом есть смысл?
— Есть, мам, но мы не должны пытаться выяснить мотивы Джека. Скажем так, того, что случилось, не изменить, поэтому я хочу просто отпустить его. Что было, то было. Это все, чего мне хочется.
Мама кивнула. Ткнув пальцем в пульт управления, она увеличила температуру в камине. Затем взяла кроссворд и положила его на колено.
— Мне не нравится этот чай, — сказала она.
— Мне тоже.
— Моим суставам ничуть не лучше.
— Разве в жизни не всегда так? — спросила я.
41
Все, чем ты занимаешься, — это работа. Это становится ответом на все вопросы. Встаешь на рассвете, идешь в душ, делаешь макияж, расчесываешь волосы, подстриженные так, чтобы ты легко вписывалась в изысканное общество, а одежда в твоем шкафу создает образ… трудоголика. Ты прекрасно знаешь, что это полный абсурд, но при взгляде на такой гардероб только это и приходит в голову. Все, чего тебе хочется, — это в основном красивый наряд, не безвкусный, а способный при необходимости превратиться в нечто шикарное и провокационное. Глядясь в зеркало в своей квартире — квартире, в которой бывает либо невыносимо жарко, либо невероятно холодно, — ты красишься и думаешь: «Почему в Нью-Йорке я чувствую себя несчастной? Почему я не могу насладиться молодостью и свободой в одном из самых величественных городов мира?» В этом Джек был неправ. Нью-Йорк нельзя назвать тюрьмой, построенной самими заключенными. Нет, нет, это нечто богатое, веселое и праздничное, нечто иногда отчаянное и пугающее, своеобразный край мира, и тебе нравится знать, что ты — его часть, что ты отвоевала себе крохотное местечко под солнцем.
Как-то так.
Ты наносишь косметику, но не слишком много. Слегка. Как раз чтобы придать лицу свечение, контур, определенность. Зеркало по-прежнему запотевшее, но, сделав шаг назад, ты видишь свое хмурое отражение. Трудоголик. Ты поворачиваешься одним боком, спиной, другим боком, спиной, расправляешь юбку, сборку на блузке, проверяешь высоту каблука. Это работает, обычно работает, и ты знаешь, что молода, очень молода. Ты прекрасно знаешь, что твоя молодость — это преимущество. Ведь как говорил твой босс? Он говорил, что наиболее влиятельные люди на земле — это пожилые мужчины и хорошенькие девушки. Быть может, он был прав, кто знает, но сейчас ты просто оцениваешь свой внешний вид, правильность своего наряда, а в лифте заглядываешь в сумочку, чтобы убедиться, что взяла все самое необходимое: телефон, расческу, кредитку, презерватив.
Затем тебя ждет Нью-Йорк. Ты выходишь и чувствуешь на себе ледяной ветер. Сосредоточенные прохожие практически бегут по делам, пытаясь поскорее добраться до нужного им здания. Можно было бы пошиковать и взять такси, и ты можешь себе это позволить — у тебя приличное жалование, как оказалось, — но в это время суток, с этими пробками, при том что ехать тебе в другой конец города, дорога была бы пыткой. Ты мчишься до ближайшей станции метро, спускаешься в тоннель, проходишь мимо мифического существа, которое точно узнала бы Констанция, проводишь месячным проездным на турникете, толкаешь трипод бедром и проверяешь телефон, пока ищешь место, где встать на платформе. Метро всегда пахнет одышкой, словно логово какого-то ужасного существа, чье дыхание год за годом перекрывает краска на стенах, пока еще какой-нибудь запах не просачивается сквозь них. Думая об этом — а думаешь ты об этом каждый день, — ты смотришь в телефон и проверяешь десятки новостей. Уровень цен на бирже. Ведущие заголовки. Сообщения, письма, электронная почта.
Ты даже не ищешь вестей от Джека. Ты уже давным-давно сдалась.
И хотя ты не сдавалась, делаешь вид, что это произошло. Убеждаешь себя в этом. А это уже половина успеха.
Затем приходит твой поезд, ты заходишь в него, смотришь по сторонам, находишь поручень, за который будешь держаться, и поезд везет тебя дальше. Терпимо. Достаточно рано, поэтому терпимо. Твой телефон перестает ловить сеть, поезд ныряет в темноту мира, соединяющую станции, и ты думаешь о боге пламени, Вулкане, о Констанции и обо всех подземных существах, земляных животных. Эта странная, нездоровая мысль поражает тебя до глубины души. Когда поезд наконец останавливается на нужной тебе станции, ты спешишь выбраться на воздух, поближе к свету, дневному свету, и ледяному блеску зимнего Нью-Йорка.
Теперь ты карьеристка, девушка на ходу, потому что тебе нравится твой наряд, ты уверена в себе и замечаешь, как мужчины, мимо которых ты проходишь, обращают на тебя внимание. Ты останавливаешься у кофейного фургончика и заказываешь не слишком крепкий кофе с обезжиренным молоком и двумя ложками сахара, а затем решаешь раскошелиться на фруктовый салат в пластиковом контейнере. Ты несешь все это к своему зданию, наслаждаясь теплом кофе в руке, преодолеваешь вращающуюся дверь, ищешь охранника Билла за стойкой регистрации, наблюдающего за камерами, которые показывают ему каждый уголок здания.
— Доброе утро, Билл! Как дела?
— Хорошо, мисс Малгрю.
— Рада слышать. Я сегодня первая?
— Почти.
Ты поднимаешься на лифте — снова нечто мифическое в этой жизни, вверху и внизу, над землей и под ней — и на секунду вспоминаешь о могучем ясене, европейском ясене, теперь, наверное, покрытом снегом. Ты думаешь о статуе Пана, смотрящего на Люксембургский сад. Лифт останавливается на твоем этаже — двадцать третьем, — ты берешь себя в руки и настраиваешься на рабочий лад. Работа, работа, работа. Священная работа. Все хорошо, ты любишь работать, поэтому подходишь к своему рабочему месту, вешаешь пальто на вешалку, ставишь кофе на стол, кладешь сумку в нижний ящик и осматриваешься вокруг. У одного из руководителей горит свет — у Берка. Понимаешь это чуть позже, но ты с ним не особо общаешься. Еще слишком рано, поэтому ты садишься за стол, запускаешь компьютер, подключаешь телефон к свободному кабелю. Все. Готова к работе.
Минуту или две ты мешаешь фруктовый салат, читаешь доклад журнала «Уолл Стрит», поедаешь сладкий солнечный свет, пока позади и вокруг тебя постепенно загораются лампы и топочут служащие. Вот и начался новый день, а Джека по-прежнему нет, и твое сердце предательски отказывается его отпускать.
42
Для таких вещей существует особый, женский алгоритм действий.
Прежде чем отправиться на банкет на 14-й улице, прежде чем сделать хоть что-то, Констанция вытянула руку, а мы с Эми, как и полагается девочкам, хором завизжали.
Эми схватила руку Констанции и поднесла ее поближе к себе.
— Чтоб мне провалиться! Оно прекрасно, — сказала она, рассматривая кольцо. — Классическая оправа. Платина, верно? Не белое золото. О, оно очень красивое, Констанция, невероятно. Платье в стиле ампир?
Все это происходило по пути к нашему столику. Я не могла поверить, что звезды наконец благоволят нашей встрече. Десять дней назад Констанция вернулась из Австралии — обрученная! — а Эми ехала с поисков работы в Огайо с пересадкой в Нью-Йорке. Наша встреча состоялась сама собой, что лишь прибавляло всему этому невероятности. К тому же я чувствовала себя удивительно взрослой. Я, жительница Нью-Йорка, обедаю со своими подругами посреди рабочего дня. Шок. Я знала, что девчонки чувствуют то же.
Метрдотель терпеливо подождал, пока мы усядемся, и принес меню. Это был вьетнамский ресторан с названием, связанным с крабом. «Прекрасный краб» или «Волшебный краб». Констанция прочитала о нем в «Нью-Йоркере» и предложила пойти именно сюда. Мы почти одновременно приехали к ресторану: Констанция с Эми вместе доехали на такси от станции Пенн.
Констанцию усадили посередине. Мы с Эми по очереди смотрели на безымянный палец подруги.
— Ладно, я хочу услышать всю историю, — сказала Эми. — Он мило сделал предложение? Как это произошло? Без алкоголя здесь не обойтись. Коктейль «Скорпион» и три соломинки, пожалуйста.
Официантка — миниатюрная вьетнамка в черных брюках и оливковой тунике — еще не успела подойти к столу, как Эми уже засыпала ее заданиями.
— Три соломинки, — подтверждающе повторила официантка.
— Три соломинки, — согласилась Эми.
На секунду, пока Констанция не начала свой рассказ, мы замолчали. До чего же приятно было наконец собраться, и все мы в тот момент чуточку смущались. Рассматривали ресторан, интересуясь мебелью больше, чем было на самом деле. Но Эми спасла нас, попросив у помощника официанта воды.
— С каких пор в каждом чертовом ресторане приходится просить воды? — возмутилась она. — Они пытаются сэкономить жидкость для мытья посуды и воду или что?
— Думаю, это на случай нехватки воды, — неуверенно сказала я.
— Это Нью-Йорк! Здесь не бывает нехватки воды! По крайней мере, я ни о чем подобном не слышала. Ладно, Констанция, рассказывай. Ты знаешь, что мы хотим услышать. Ничего не упускай.
Констанция покраснела. Она ненавидела пребывать в центре внимания.
— Мы были на улице, проверяли заборы на пастбище, — начала она. — А Раф…
— Погоди, насколько большим было это пастбище?
— Большое. Очень большое. Сотни акров, но земля там сухая и почти бесполезная. Мне кажется, в Австралии по-прежнему можно купить огромный участок земли за бесценок. Семья Рафа владеет землей в тех краях. Семья очень большая, поэтому, куда бы ты ни пошел, везде встречаешь то дядю, то тетку, то брата… Ну, вы поняли.
— Значит, вы проверяли заборы на пастбище, — сказала Эми. — Не могу поверить, что наша чопорная Констанция может проверять заборы в Австралии.
Помощник официанта принес воду. Он налил ее в три стакана. Констанция молчала, пока он не ушел. Затем продолжила:
— Он облокотился о забор, посмотрел на пустынный пейзаж и спросил, могу ли я представить себе жизнь здесь. Это не было слишком романтично. Он просто сказал, что хочет путешествовать со мной и проводить время в Соединенных Штатах, а еще он хочет, чтобы я стала его женой и жила вместе с ним в Австралии. Вот и все.
— Он даже не встал на колено? — спросила Эми.
— Нет. Мы не такие.
— Ты имеешь в виду…
— Просто эти устаревшие понятия… Не знаю. Раф не особо чтит все эти формальности и традиции. Я никогда не встречала никого более современного. Он не любит церемониться. Большинство австралийцев, которые мне встречались, презирают формальности. В стране до сих пор похмелье от британской власти, но большинство из них придерживаются чисто австралийских традиций.
— Как выглядела та пустыня? — спросила я.
— О, прекрасных цветов. В основном она была красная, но это ничуть ее не портило. Все двери дома открыты, не настежь, но открыты. Большую часть дня ты проводишь под навесом возле дома. Под разными навесами — это зависит от времени суток. Это по-настоящему фермерская община, хотя, я бы сказала, скорее пастушья. Они пасут тысячи овец. Куда ни посмотри — везде овцы.
— А его семья? — спросила Эми.
— Очень милая. Безумно гостеприимная. Они сказали, что до меня Раф никогда не приводил домой девушку. Забавно было, когда каждый из них отводил меня в сторону, чтобы сообщить это. Очень смешно.
— Вы уже определились с датой? — спросила я.
— Весной, — сказала она. — В Париже.
Она взяла меня за руку. Это так похоже на Констанцию: она не хотела, чтобы ее счастье заставило меня тосковать. Она улыбнулась и посмотрела мне прямо в глаза. Я кивнула. Все хорошо. Все будет хорошо. Париж — тоже хорошо.
— Ни словечка от Того-чье-имя-нельзя-называть? — спросила Эми спустя секунду после того, как нам принесли «Скорпион». — Мы по-прежнему называем его так?
— Мы называем его мудилой, — сказала Констанция.
— Констанция! — расхохоталась Эми. — Ты назвала кого-то мудилой? На тебя плохо влияет Австралия. Вот тебе на!
— Мне плевать, — сказала Констанция, потягивая коктейль из огромного бокала. — Враги моих друзей — мои враги.
Я наклонилась и поцеловала Констанцию в щеку.
— Пустяки, — заверила я. — Он в прошлом.
— Раф сказал, что он отовсюду удалил аккаунты, — сказала Констанция. — Из Facebook, Instagram. И даже телефон отключил. Он исчез.
— Какого хрена? — негодовала Эми. — Кто так делает?
— Сменим тему, — сказала я.
— Погоди, ты с кем-нибудь встречаешься? — спросила меня Эми. — Хоть с кем-то?
Я покачала головой.
— Я свободная жрица. Легче было бы принести себя в жертву вулкану.
— Подруга, тебе пора возвращаться в игру.
— Я тоже так говорю, — сказала Констанция, не отрываясь от коктейля.
— Я серьезно, — продолжала Эми. — В смысле, хотя бы просто для разрядки. Иначе твоя киска ссохнется, как старая тыква.
— Киска? — спросила Констанция и залилась хохотом.
— Я много работаю, — сказала я. — Это все, что я делаю.
— Значит, хоть здесь все в порядке? — спросила Констанция. — Тебе нравится твоя работа?
— Она… интересная. Но в моей голове по-прежнему звучит голос Того-кого-нельзя-называть. Нью-Йорк — это тюрьма, которую мы построили своими руками, — сказала я устрашающим голосом. — Это не тюрьма, но и не пикник. В этом он был прав.
— Тебе нужно почаще выбираться куда-то, — сказала Эми, попивая коктейль. — Тебе неоходимо хобби.
— Все эти хипстеры играют в додж-болл и вступают в лиги игроков в боулинг, — сказала я. — А меня утомляют уже сами мысли об этом.
— Ты была хоть на каких-нибудь свиданиях? — спросила Констанция. — Ты ведь ходила на парочку, верно?
— На три, — уточнила я. — Не катастрофично, но и не хорошо. В основном это знакомые моих знакомых. Мы часто пересекаемся в офисе. Когда кто-то женится, получает повышение или…
— Повышение через постель, — перебила Эми.
— Ну, или так, — согласилась я.
— Моя мама всегда говорит, что в двадцать лет мальчики бегают за девочками, а в пятьдесят все наоборот, — сказала Констанция.
— Как у тебя дела, Эми? Выкладывай всю подноготную.
— Нечего докладывать, если вы о мужском фронте.
— Я думала, ты встречаешься с мистером Пряжка Пояса, — сказала Констанция. — Парень, о котором ты говорила.
— Бобби, — сказала она и улыбнулась. — Он полный идиот, но мне нравится. Ничего серьезного. Мы просто любовники.
— А работа?
— Мне плевать на работу, честно, но я пашу на Среду обитания для человечества по выходным. Мне нравится. Я ношу пояс с инструментами. Хочу купить себе пикап с кузовом. Клянусь, еще немного, и я стану деревенщиной.
Подошла официантка с нашим счетом. Я положила свою кредитку и сказала, что угощаю.
— Ты уверена?
— Уверена.
— Я заказала бы еще один коктейль, если бы знала, что ты берешь на себя расходы.
— Спасибо, Хезер.
— Я должна сообщить еще кое-что, — сказала Констанция и схватила нас за руки. — Я хочу, чтобы вы обе стали моими подружками невесты. Никакой свидетельницы. Только вы. Сосвидетельницы, называйте как хотите. Свадьба будет маленькой. Очень маленькой. В Париже. Простите, что мне приходится тащить вас в Париж, но если мы забронируем билеты заранее, то все будет намного проще.
— Мы бы ни за что не пропустили твою свадьбу, — сказала я. — Тем более это Париж, а не Цинциннати.
Эми кивнула. А затем отрыгнула. Это была длинная, шипящая отрыжка, по звуку напоминающая спускающуюся шину. Закончив, она улыбнулась и воскликнула:
— Констанция, как ты могла?
Официантка забрала счет. Наш обед закончился.
43
Эми покинула нас первой.
— Увидимся, красотки, — сказала она и плюхнулась в такси. У нее была назначена встреча в одном из жилых кварталов.
Мы помахали ей, и я провела Констанцию до Портнадзора. Прежде чем каждая из нас отправилась по своим делам, Констанция остановилась на углу здания и сказала, что, по словам Рафа, о Джеке ничего не слышно. В любом разговоре мы обязательно вспоминали о нем. При каждой встрече мы обсуждали ситуацию с Джеком.
— Ничего? — переспросила я, затаив дыхание, пока пешеходы, как всегда, неслись мимо нас.
— Ничего. Он сказал, что Джек давно не выходил на связь. У них есть несколько общих знакомых… Никто не знает, куда он пропал. Это очень-очень странно.
— Так значит, он пропал? По-настоящему пропал?
Она мягко кивнула.
— И что это может значить? — спросила я. — Как узнать, жив ли он хотя бы? Может быть, стоит попробовать связаться с его родителями? Приехать к ним или хотя бы позвонить. Я могла бы сказать, что хочу вернуть им дневник.
— Я бы не стала делать этого, милая. Он сам оборвал связь. Со всеми нынешними возможностями со связью не должно было возникнуть проблем, а значит, это его осознанный выбор, верно? Он мог позвонить, написать в Facetime, отправить сообщение, электронное письмо, связаться в Twitter… Что там еще? Он сам замел свои электронные следы. Он удалил свой аккаунт на Facebook, а ты сама знаешь, насколько сложно это сделать. Ничего. Раф переживает. Очень переживает.
— Раф думает, что он мертв? — спросила я, озвучив свой глубочайший страх.
— Нет, вряд ли. Помнишь тот день в Париже, когда они куда-то ушли, а мы с тобой отправились в Нотр-Дам смотреть на статую Марии?
— Конечно, — сказала я.
— Раф отказывается говорить об этом, но я много размышляла о том дне. Слишком уж все странно. Зачем они уходили, если у нас и так было слишком мало времени на Париж? И что же они тогда делали такого секретного?
— И правда, — согласилась я и потянула Констанцию на себя, чтобы ее не задел подросток с тележкой на тротуаре. — Джек никогда не рассказывал, куда они ходили в тот день. На самом деле я и сама не спрашивала. Я предположила, что они занимались какой-нибудь мальчишечьей ерундой. Или планировали для нас сюрприз. Теперь, думая об этом, я понимаю, какой была дурой.
— Ну, мне всегда было интересно, что же там могло быть. Мне и сейчас любопытно.
— Думаешь, что-то заставило его передумать? Что-то, за чем он тогда ходил?
Она покачала головой, давая понять, что и сама не знает. Это оставалось тайной. Я смотрела ей в глаза. Она мягко улыбнулась.
— Прости, милая, — сказала она. — Я бы тебе рассказала, если бы только сама хоть что-то знала. Честно. А пока я даже не догадываюсь, что могло произойти.
— Я тоже.
— Тебе по-прежнему больно?
— Да. Больно как никогда. В некотором смысле даже хуже. А знаешь, что не дает мне покоя? То, что он до того упрямо не хотел фотографироваться в важные моменты, что мне почти не на что смотреть. Это похоже на сон. Серьезно. Был ли он настоящим? Я даже не могу посмотреть на него. Такое чувство, будто он планировал исчезнуть с самого начала.
— Что ж, будь сильной. Обещаю сразу же связаться с тобой, если узнаю что-то новое, а пока, к сожалению, ни намека. Он просто исчез. Испарился.
— У меня дневник его дедушки. Но я не могу предсказать, где именно он может быть.
— У него есть копия?
Я пожала плечами.
— Большую часть он запомнил. Но точно не знаю. Наверное, в жизни его не волнует ничего, кроме этого дневника.
— И поэтому он позволил тебе оставить его? И даже не написал и не позвонил, чтобы попросить вернуть его? Думаю, это что-то да значит, ковбойша.
— Я не говорю на языке Джека. Стараюсь забыть этот язык. Я была помешана на Джеке.
Констанция наклонилась и обняла меня.
— Мне пора. Уже по тебе скучаю.
— А я — по тебе.
— Я была рада увидеть Эми. Она по-прежнему тигрица.
— Она сильная. Все мы сильные, верно?
Она кивнула, обняла меня в последний раз и поспешила прочь.
По субботам ты бегаешь вокруг водохранилища. Выпиваешь «Кровавую Мэри» в любимой кафешке на 56-й улице или сидишь с одной из подруг, глазеешь на шоу в Сохо, спешишь на открытие новой галереи. Воскресным утром, лежа на диване, читаешь «Нью-Йорк Таймс», отвечаешь на сообщения и электронные письма, пытаешься решить кроссворд, читаешь передовые статьи, заставляешь себя просмотреть отчеты о наличных запасах. Затем тебя ждет культурная программа: Музей современного искусства или Коллекция Фрика[8], которую ты так любишь, прогулка по парку, чтобы посмотреть на уток, погладить нос Балто[9], увидеть как всегда молодую, веселую и гигантскую Алису в Стране чудес. Зима давно пришла и не собирается отступать, поэтому ты болтаешь с мамой по телефону об одежде, шопинге и прочих стандартных вещах. Ты резервируешь номер на лыжном курорте в Вермонте. Разговариваешь с боссом, точнее с тремя боссами, о японских счетах, и они предлагают тебе подтянуть язык, поэтому теперь ты проводишь каждое утро четверга за чашкой чая с учителем японского, мистером Хейзом, который, как выясняется позже, лишь частично японец, но довольно хорошо владеет языком. Ты практикуешь каллиграфию, рисуя иероглифы кистями и чернилами, а иногда мистер Хейз приносит вазы с форзицией[10], и тогда вы с классом — вас пятеро, все молодые и деловые — занимаетесь икебаной, традиционным искусством расстановки цветов в сосуде. Тебе дают три веточки форзиции, и твоя задача — найти идеальный баланс, что совсем не просто. Приходится общаться с остальными учениками и мистером Хейзом на японском или английском. Вернувшись в офис, ты докладываешь, что языковой тренинг прошел хорошо.
Нью-Йорк, Нью-Йорк, прекрасный город.
По вечерам в понедельник — йога, по средам — велотренажеры, на которые ходят в основном женщины, чтобы, словно умалишенные, покрутить педали, иногда в темноте. И ты по-прежнему не можешь забыть слова Джека, его идею о том, что Нью-Йорк — тюрьма, построенная его жителями. Ведь если посмотреть с другой стороны, кружок велотренажеров — это для сумасшедших. Ты не останавливаешься ради редких моментов красоты, когда истинной наградой становятся заходящее за Крайслер-билдинг солнце, потрясающий барабанщик на Юнион-сквер, монолог женщины по имени Коко, которая вообразила себя женой Кинг-Конга и злится на него за то, что он ушел из дома. Забавные нью-йоркские детали. Меланхолия.
Несколько наигранных свиданий время от времени. Пьяные посиделки с адвокатом и флирт с хоккеистом, который хвастался, что играл за «Рейнджеров», хотя Google и не находит его имени. Телефонные разговоры с подругами: вы обмениваетесь историями о провальных свиданиях, по-черному шутите на тему мужской ненормальности и прихотливости. Твой папа приглашает тебя на изысканный ужин в парке. Неплохо, совсем неплохо. Тебе всего хватает. Иногда, в основном по субботам, к тебе приезжает мама, время от времени она берет с собой подругу, Барбару, и вы вместе идете в театр. Барбара обожает деревенские духи, актеры на сцене играют до безобразия плохо, но ведь это Бродвей, и если ты добрался сюда, значит, сможешь добраться куда угодно.
Нью-Йорк, Нью-Йорк, прекрасный город.
Ты пытаешься не думать о Том-кого-нельзя-называть. Джеки-О, Джекэсс, Джек и Джилл, фонарь-Джек и так далее. Ты постоянно вспоминаешь о том вечере в Берлине, когда ваши тела слились воедино, или о том, как вы стояли у канала в Амстердаме и смотрели на лебедей под мощеным мостом. Ты не думаешь о том, что с Джеком жизнь была бы более насыщенной, настоящей, искренней. Ты не позволяешь себе думать об этом. А еще ты прочесываешь интернет в поисках его следов, аккаунтов и местонахождений.
Тачбол в Центральном парке, Овечий луг, посиделки в спорт-баре в Ист-Сайде, крылышки с пивом, здоровые мужики в спортивных толстовках, синих джинсах и кроссовках, окрашенных травой. Дружное «ура» в честь «Гигантов», «Колтс»[11], Нотр-Дама или Южно-Калифорнийской университетской команды. Ты делаешь вид, что все хорошо, ведь это именно то, о чем ты мечтала. И самое главное, у тебя все получается, тебя хвалят на работе, и ради этого ты встаешь каждый понедельник, чтобы начать все с начала. Это не тюрьма — ни в коем случае, — к тому же тысячи парней и девушек с удовольствием поменялись бы местами с тобой. Даже папа улыбается, слыша о твоих успехах, потому что ты — гепард, быстрый и смертоносный, тебя невозможно обогнать. Иногда ты ходишь в клуб, танцуешь, затягиваешься горькой марихуаной, позволяешь нескольким парням потереться о тебя возбужденной промежностью, а затем отходишь от них и танцуешь в гордом одиночестве, вспоминая Эми, Констанцию и Амстердам. Иногда все это кажется сном, каким-то винегретом из впечатлений, надежд и приключений, но часть тебя признает: тебе просто одиноко даже в этой толпе. Ты идешь, ищешь подруг, с которыми пришла, и заказываешь еще коктейль.
Нью-Йорк, Нью-Йорк, прекрасный город.
Редкими дождливыми вечерами ты перечитываешь дневник дедушки Джека. Только тогда, когда сердце нуждается в дожде. Ты сидишь у окна и смотришь на улицу, в комнате холодно, а тебя, как и всегда, терзает острая, безжалостная боль. Ты читаешь, мечтаешь, вспоминаешь обо всем и чувствуешь себя старой, человеком, который живет прошлым, а не будущим. Ты думаешь, где может быть Джек в этот вечер, в эту самую минуту, думает ли он о тебе. В миллионный раз ты возвращаешься назад, воскрешаешь то полуживое чувство в сердце: ты знала, знала наперед, что он не поедет с тобой. Что все произошедшее было мифом, сказкой, которой тешат себя перед заходом солнца. Ты говоришь себе, что отправила бы дневник Джеку, если бы только знала его адрес, но не знаешь, у тебя его нет. После третьего бокала вина слова и страницы расплываются, в комнате становится слишком холодно, а дождь оставляет мокрые пятна на твоем подоконнике.
44
Холодным мартовским утром я повернула к земле Джека Вермонтского. Арендованная машина что было мочи обдувала меня теплом из крохотных вентиляторов на приборной панели. Я припарковалась перед его домом — по крайней мере, это был его старый адрес — и достала кофе из подставки. Взглянула на GPS в телефоне и на весь ряд магазинов, очевидно, занявших всю землю, некогда принадлежащую дедушке Джека. Без сомнений. Я повернулась и достала дневник дедушки Джека из своего рюкзака. Раскрыла его на коленях и несколько раз перечитала адрес на первой странице, сравнивая его с адресом своего местонахождения. Они совпадали. Ферма деда Джека, родина журнала, которому Джек так самозабвенно следовал, была захоронена под парой акров парковки, магазином народных ремесел, кухонной лавкой, рестораном «Кленовый сироп» и магазином спортивной одежды.
Какое-то время я просто пила кофе и пялилась в морозное окно. Немного позже мой телефон зазвонил, и я приняла вызов.
— Ты нашла ферму? — спросила Эми.
— Кажется, да. Теперь это небольшой торговый центр.
— Ну, он так и говорил, да?
— Да. Кажется, я все не так себе представляла.
— И как же ты все представляла?
— Ну, красивый старый фермерский дом, белый аккуратный заборчик.
— Но, Хезер, он ведь сам говорил, что от фермы ничего не осталось. Он говорил, что ее продали.
— Знаю, знаю, знаю.
— Как далеко это находится?
— Полтора часа езды по плохим дорогам. Здесь до ужаса холодно.
— Я знаю. Констанция даже не пошла кататься на лыжах из-за такого холода. Когда немного потеплеет, она выйдет прогуляться.
Мы остановились в гостинице под названием «Шугарбуш». Недельный девичник. Помимо этого у меня была запланировала исследовательская поездка к отчему дому Джека. К тому же моим заданием было купить еды и вина, много вина.
— Это была дурацкая идея — приезжать сюда, — сказала я, впервые осознав это. — Не знаю, чего я ожидала от этого места.
— Возвращайся к нам, — сказала Эми. — Я уже устала в одиночку терпеть натиск Констанции. Она заставляет меня идти кататься с ней на лыжах.
— Я скоро вернусь. Просто хочу осмотреться.
Эми промолчала. Я вдруг осознала, что мои подруги великодушно терпят чокнутую меня, одержимую парнем из поезда «Париж — Амстердам». Они держали свое мнение, свое осуждение при себе, и я поняла, что это дается им не так уж и просто.
— Раз уж ты туда поехала, сходи в библиотеку и поищи информацию о его семье. В местных библиотеках уйма информации.
— Может, схожу.
— Не убивай на это целый день, Хезер. Оно того не стоит. Возвращайся к нам.
— Я недолго, — сказала я.
— Это нормально, милая?
— На самом деле не важно, нормально ли это. Я должна сделать это. Я хочу позвонить его родителям, чтобы узнать, в порядке ли он. Есть еще кое-что важное, Эми. Клянусь.
Эми молчала.
— Просто… — начала я, пытаясь сформулировать свою мысль. — Просто если Джек врал, то я даже не знаю, во что теперь верить. Правда, не знаю. Все кажется ложью.
— Знаю, дорогая.
— Если бы я могла быть этой ложью…
— Ты не была ложью. Просто это один из тех случаев, когда не все получается так, как тебе хочется.
— Если бы я могла ненавидеть его. Тогда все было бы намного проще.
— Может, ты возненавидишь его немного позже. Надежда есть всегда.
Она сказала это в шутку. Хотела меня развеселить.
Обсудив список покупок, я завершила вызов и посидела еще немного.
Что я здесь делаю? Я допила свой кофе. С нашей с Джеком последней встречи прошло уже полгода. И теперь на лыжном курорте с двумя лучшими подругами я решила бросить их на целый день, чтобы исследовать… Что? Что я надеялась найти? Даже если бы мне удалось выведать что-то о семье Джека, это не помогло бы узнать, где он сейчас, что делает, почему исчез из моей жизни, из жизней всех остальных, бесследно исчез. Кроме того, проверяя информацию о прошлом Джека, я чувствовала себя совершенно жалко, словно навязчивая поклонница. И хотя Джек не был знаменитостью, а я — его поклонницей, я все еще на что-то надеялась.
Я заглушила мотор и вышла на улицу. Мороз вмиг оглушил меня своим безжалостным ударом. В прогнозе передавали об арктическом похолодании — лишь за одну ночь температура упала чуть ли не вдвое. Это был пасмурный день, столбик термометра опустился до 30 градусов ниже ноля. Я торопливо засеменила по парковке и вошла в кухонную лавку. Над моей головой прозвенел колокольчик.
— Холодно, не так ли? — спросила женщина в красном фартуке.
Она раскладывала кухонные полотенца.
— Не верится даже, что на улице такой мороз, — сказала я. — Жуть.
— Обещают, что март будет теплее, но для меня это всегда наихудший зимний месяц. Много обещает, а обещаний не выполняет.
— Да, — сказала я. — Он может.
— Я могу вам помочь?
— Нет, я просто смотрю, но спасибо.
Вот что я хотела спросить: «Я встретила одного парня и влюбилась в него. Когда-то он владел землей, на которой теперь расположены эти магазины, точнее, ею владел его дедушка, а теперь он, этот парень, пропал, и раз уж вы здесь, не могли бы вы мне рассказать что-нибудь о нем?» Звучит как бред сумасшедшего. Даже для меня.
45
Ужасные пьянки, которые обычно заканчиваются неприятностями, как правило, подкрадываются незаметно. Планируя напиться, ты тщательно продумываешь детали, понимая, что коварный алкоголь лукаво поставит тебе подножку, как только ты слегка расслабишься. Зачастую ты начинаешь с коктейля ранним вечером — и пошло-поехало. К тому же ты мало съела, по крайней мере учитывая то количество алкоголя, которое тебе предстоит выпить. Не успеваешь оглянуться, как ты намного пьянее, чем должна быть. Ты становишься слишком сентиментальной, и это опьянение кажется приятным сюрпризом, нежданным гостем, ведь ты совсем не планировала так напиваться. И тогда ты продолжаешь любезно спаивать дорогого гостя, радуясь этой внезапной эйфории.
В последний день нашего с девочками отдыха я оказалась в апре-ски[12] баре с пятью парнями из лыжной команды Вермонтского университета в пять часов вечера. Констанция и Эми сидели рядом со мной, у камина, такие же пьяные, веселые, счастливые и увлеченные беседой.
Мы обсуждали брови.
Мы обсуждали их, потому что один из вермонтцев, Питер, выдвинул теорию о том, что плотность и толщина женских бровей служат надежным показателем плотности и толщины женских половых органов. Сложно было понять, что могут означать плотность и толщина в отношении вагины, но такова была наша дискуссия, пьяные дебаты о невозможности бровей иметь что-либо общее с нашим анатомическим югом тела. Но Питер — высокий, симпатичный и безнадежно самовлюбленный — упрямо настаивал на том, что это правда.
На каждом из них были куртка от «Кархарт», толстовка и дурацкая шерстяная шапка. Они походили на кучку щенков, а Эми просто обожала играть со щенками.
— Так значит, ты утверждаешь, — сказала Эми, решив все разъяснить, — что если по кистям рук и стопам можно определить размер и объем мужского члена, то по бровям — женского? Увлекательная теория.
Она немного оттопырила пояс джинсов и взглянула вниз. Подняв голову, она выпучила глаза. Парни расхохотались.
— Ей-богу, это правда! — заявила она.
Парни снова засмеялись.
— А я читала, что между размером руки и размером пениса нет никакой связи, — с умным видом сказала Констанция. — Это миф.
— Слава богу, — облегченно выдохнул один из щенков и поднял руку.
Я взяла ее, чтобы рассмотреть поближе. Это была маленькая рука.
— Еще по бокалу, — сказал Питер, главарь шайки, бармену по имени Томас.
Мы пили пиво. Длинные вермонтские горные спуски за окном. Мы дважды заказали «Джек Дэниэлс»[13]. Мне казалось, что в моем животе встретились две реки.
— Если уж в этом и есть смысл, — начала Эми, — то он заключается в том, что толщина женских бровей соотносится с ее страстью. Может, в этом и есть какой-то смысл. Женщины с широкими бровями более страстные, чем женщины с тонкими и редкими. Это единственное объяснение.
— У меня тонкие брови! — воскликнула Констанция, снова рассмешив мальчиков.
— Холм Венеры, мясистая часть ладони под большим пальцем, — сказала я, обнаружив, что мне неимоверно сложно говорить внятно, — должен показывать страсть вашего любовника. Толстая подушечка в основании большого пальца свидетельствует о том, что перед вами хороший любовник.
Каждый из парней пощупал свою руку. Естественно.
Это были пьяные посиделки. Так и шел наш вечер до тех пор, пока Питер не предложил покурить травки. Предлагая выкурить косяк, он подразумевал следующее: давай уйдем отсюда, отправимся куда угодно, посмотрим, во что еще выльется этот вечер.
И, кажется, может быть, он обращался только ко мне.
— Ты ему понравилась, — сказала Эми в дамской комнате, рассматривая себя в зеркале. — Питеру, симпатичному.
— Они все симпатичные, — возразила Констанция из кабинки.
— Они как щенки, — сказала я, ведь это была правда.
— Щенки или не щенки, — возразила Эми, пытаясь найти блеск для губ в сумочке, — но они просто очаровательны. И у них хорошие тела. К тому же они не осудят. Они просто веселятся.
— Так что, мы хотим покурить марихуаны? — спросила я. — Они говорили что-то о джакузи.
— Я не пойду в джакузи! — сказала Констанция, нажала на кнопку слива и вышла к нам. — Ни за что. Им только одно нужно, поверьте мне.
— Конечно, им это нужно, — сказала Эми. — В этом и смысл, разве не так?
Мы вдруг одновременно заметили, что поневоле встали напротив трех разных раковин с зеркалами. Переглянулись и расплылись в улыбке, осознавая, насколько нам хорошо вместе, насколько мы любим друг друга, насколько мальчики, так или иначе, разнообразят наше времяпрепровождение. Но мы-то знаем, что нам и без них было бы весело.
— Я просто хочу подержать одного на ручках, — сказала Эми.
— Которого? — спросила Констанция.
— Малыша. Как они его называют?
— Кажется, Манчи, — сказала я. Было сложно вспомнить.
— Я еще не видела настолько невинных мальчиков, — сказала Констанция. — Им есть чему поучиться.
— Они еще молодые, — сказала я. — Такие же молодые, какими были мы не так уж давно.
— Мы не намного старше, — сказала Эми. — Прекрати делать из меня старуху.
— Но мы уже многое прошли, — сказала Констанция. — Я понимаю, что Хезер имеет в виду.
Эми выставила руку, и мы положили свои ладони сверху. Мы не стали произносить наши ритуальные слова — просто держались за руки. Вермонт, снежный денек, примерно пять часов вечера.
46
Я поцеловала Питера, и мне даже понравилось.
Было странно, ведь с момента последнего поцелуя с Джеком прошло лишь шесть месяцев. Шесть месяцев с момента, когда мое тело заключал в объятиях другой человек. Я была осторожна, безумно пьяна и рада, что наконец могу освободиться от проклятия.
— Ты как принц, который будит спящую красавицу, — сказала я. — Я долго-долго спала.
— Но ведь теперь ты не спишь?
— Нет. Не сплю.
— Я в восторге от твоих бровей, — сказал он и снова поцеловал меня.
Это был легкий, нежный поцелуй. Множество других моих чувств требовали, чтобы я опомнилась. Молили об этом. Мы сидели в джакузи, курили марихуану и ждали Эми, которая вот-вот должна была вернуться с новой порцией лыжных щенков, но они не покидали зону бассейна. На мелководье неподалеку играли дети. Их мамы наблюдали за ними, сидя за столиком. Мы находились достаточно далеко от них, чтобы я могла позволить Питеру протянуть руку, нежно прикоснуться к моей шее и притянуть меня к себе, чтобы поцеловать.
Я была в купальнике, и это было нечто большее, чем просто поцелуй.
У него было прекрасное тело. Он выглядел как британский актер, один из тех галантных кавалеров, которые снимаются в драмах на PBS[14]. Высокий стройный потомок правящего класса с густыми волосами, белоснежной улыбкой и взглядом, обещающим длинные прогулки с лабрадорами-ретриверами, суетящимися у его ног, вечернюю верховую езду и чашечку чая. Иными словами, он был хорош собой и прекрасно знал об этом, что и было его главным изъяном.
— Это семейный бассейн, — сказала я, когда он поцеловал меня во второй раз.
Его рука блуждала где-то под водой. Меня это ничуть не смутило.
— Мы можем пойти куда-нибудь, где поменьше людей.
— Правда?
— Да.
— И что же мы будем делать в месте, где поменьше людей?
Он снова поцеловал меня.
Я не останавливала его, но и не поощряла.
В моей голове было несколько мыслей. Сколько нужно было выпить? Насколько я пьяна? Насколько я доверяю этому персонажу по имени Питер? Где Эми?
Что насчет Джека?
«Ну а что насчет Джека?» — спросила я себя. В тот момент мне было не до Джека. Мне было не до него, когда Питер наклонился и снова поцеловал меня, в этот раз дав рукам волю. Я лишь чувствовала, что проваливаюсь в пьяное, теплое удовольствие, и он действительно был очень симпатичный. Определенно симпатичный, но слишком самоуверенный, один из тех парней, которые заявляют, что могут заполучить все, что только захотят. Я пообещала себе, что не дам этому нахалу заполучить себя. Но, ощутив на себе его руки и теплую воду, задалась вопросом: «Почему бы и нет, почему бы и нет, почему?»
Чего же я ждала?
Эми пришла как раз вовремя.
— Что здесь происходит, вы, маленькие неразлучники?
Она привела с собой двоих парней. Не церемонясь, Эми сбросила с себя полотенце и нырнула к нам в джакузи. Парни, Джеф и Манчи, спустились сразу за ней. Манчи улыбнулся по-наркомански. Видимо, он был главным курильщиком в компании, потому что вокруг него то и дело шутили о травке. У него была наглая улыбка.
Джеф, парень с заостренными чертами лица и огромными мышцами, игриво вздернул брови.
— Оргия, — сказал он. — Кто согласен?
— Обязательно, — сказал Манчи. — Согласен на оргию.
— Мечтайте, дурачки, — сказала Эми.
Манчи улыбнулся ей, а Джеф погрузился в воду по самые ноздри.
Рука Питера поглаживала меня по бедру под водой.
— Мы с Хезер отойдем ненадолго, — сказал Питер. — Правда, Хезер?
Я попыталась прояснить свой ум. Мы говорили о чем-то таком? Помню, как он пришел к этому выводу, но не помню, чтобы мы договаривались о чем-то между собой. Конечно нет. И я мягко покачала головой.
— Не уверена, что мы о таком договаривались, — сказала я. — Не было никаких обещаний.
Рука Питера продолжала гладить мою спину, уже доходя до ягодиц.
— Вы, ребята, сексом собрались заняться, — сказал Манчи. — Везучие ублюдки.
— Заткнись, Манчи, — сказал Джеф.
— Но ведь они собрались. Только посмотри на них! Посмотри на их хитрые взгляды. Они уже давно готовы, горячи и возбуждены.
Питер улыбнулся. Это была улыбка, понятная лишь ему и Манчи. Не люблю такое.
— Не стоит считать невылупившихся кур, — сказала я.
В этой фразе явно что-то было не так. Я попыталась исправиться, но не смогла вспомнить, как на самом деле нужно говорить.
Питер снова улыбнулся. Джеф немного приподнялся из воды.
— Нужно еще выпить, — сказал он.
— И покурить, — добавил Манчи.
Питер поднялся и потянулся за моей рукой.
У него была эрекция. Он прижал свое достоинство поясом, но это ничего не изменило.
— Готова? — спросил он.
Я не была готова.
— Давай посидим еще немного, — сказала я.
Питер улыбнулся и снова попытался взять меня за руку.
— Ну же, — сказал он.
— Я хочу еще посидеть, — настояла я. — Просто садись рядом. Мы отлично проводим время.
Он повторил жест.
Именно в этот момент его ударила Эми.
Она сделала это настолько быстро и настолько решительно, что шокировала всех.
Лишь секунду назад она плескалась в теплой воде и шутила со щенками, как вдруг вмиг пересекла джакузи и вынырнула из воды, словно большая белая акула, пожирающая тюленя. Она ударила Питера прямо в грудь с такой силой, что он не устоял на ногах и плюхнулся на бортик джакузи.
— НЕ СЕЙЧАС — ЗНАЧИТ НЕ СЕЙЧАС, ТУПИЦА!
Казалось, она прокричала это во всю глотку. Даже когда она замолчала, ее голос все еще звучал эхом в просторном зале. Все вокруг — все до единого — замолчали.
— Ты видела, как мы выходили из бара? — спросила Эми. — Мы с Альфредом. Или я и Альфред? Нет, мы с Альфредом, правильно? Но ты его помнишь? Я закадрила его, такой парень с ужасными длинными пальцами.
— Конечно, я его помню, — сказала Констанция. — Хезер тоже помнит.
Я кивнула. Мы сидели за раскладным столиком на маленькой кухоньке в нашей гостинице. Констанция приготовила салат и макароны с сыром. Мы наконец завязали с алкоголем. Эми пила чай. Все мы были в пижамах. Меня мучило похмелье и чувство, что я полная дура. Передо мной стояла бутылка воды. Рассказ о Питере и «драке» в джакузи напомнил Эми об Альфреде из Амстердама. Она знала кое-что, чего раньше не говорила. Терапия пролила свет на некоторые вещи.
— Во всяком случае, — продолжила она, — мы пошли к нему домой или еще куда-то, остановились посреди пути, и он предложил мне брауни, который был у него с собой. Ну, и этот брауни напрочь меня вырубил. Я никогда в жизни не была настолько обдолбанной. Если прибавить к этому всю выпивку и марихуану… Меня просто убило.
— Думаешь, он подсыпал что-то в брауни? — спросила я.
Она пожала плечами:
— Сложно сказать. Может быть. Но это была мощная фигня. Я к тому же так много съела, потому что… ну, я всегда так делаю. И делала так всю жизнь. Эми может все, ведь это Эми! Ну, вы сами знаете. Это моя чертова самопровозглашенная сущность. Именно с этим мне помогает справиться Табита, мой терапевт. Она говорит, что я не должна стараться быть первой во всем. Это осознание снизошло на меня озарением.
Она отхлебнула свой чай. Сидя в этой дурацкой маленькой кухне, она вся светилась, ее волосы, как всегда, торчали во все стороны, а серо-зеленые глаза внимательно изучали все вокруг.
— Не буду вдаваться в вопиющие подробности, но мы начали то, за чем пришли. Он сказал, что у него есть лодка друга или что-то такое, мы залезли в нее, и как только я решила, что не хочу быть шлюшкой для Альфреда, то вдруг осознала, что просто не могу подняться на ноги. Это все, что я помню. Оставшуюся часть истории вы знаете так же, как и я. Мои вещи пропали. Он хотел меня обобрать. Именно поэтому он терся рядом с нами. Ну, или со мной.
Ее лицо было безразличным. Она задумчиво отхлебнула чай, будто поражаясь тому, что все это случилось с ней, и тому, что теперь и мы все знаем.
— Это должен быть брауни, да? — спросила Констанция спустя какое-то время.
Констанции, конечно же, нужны были настоящие, однозначные причины. Мне показалось, что Эми не верила в подобные ответы. Только не в этом случае.
— Наверное. У него был химический вкус… Но кто знает? Что-то меня вырубило. Скажем, это был Альфред. Но он ничего мне не сделал. Я в этом уверена. Моя одежда была на месте, никаких признаков изнасилования. В этом плане он был джентльменом.
Констанция взяла Эми за руку. Та кивнула.
— Ну же, вы ведь наверняка задавались вопросом, что тогда произошло. Я уверена, что он не надругался надо мной в таком плане. Так бывает. Это произошло со мной. Никаких реальных последствий, не считая психической травмы. Может, это даже к лучшему, ведь только после этого случая я начала задаваться серьезными вопросами. Какого хрена я пошла куда-то с незнакомым парнем, которого встретила час назад, гуляя по городу?
— Это наша вина, — сказала Констанция. — Не нужно было тебя отпускать. Я ненавижу себя за это.
— Ты правда думаешь, что тебе удалось бы остановить меня? Разве вам не хотелось попросить меня притормозить со всеми этими парнями? Конечно хотелось, я знаю. Тогда я этого не понимала. Теперь же все иначе.
— И поэтому ты врезала Питеру, — сказала я, подчеркивая очевидное.
— И поэтому я врезала Питеру, глупому мелкому щенку. Все должна решать леди. Если женщина не хочет чего-то делать, этого быть не должно. По крайней мере, пока я рядом. Прости, если я переборщила. Мне показалось, он давил на тебя. Ты явно не была готова, Хезер.
— Я и сама не знаю, была ли готова, честно. Не могу сказать, что я не думала об этом.
— Ну, может, я и правда перегнула палку. Не знаю. Но лучше всегда быть настороже, верно? Ты всегда можешь найти нового Питера. Любого Питера.
Она допила свой чай, ополоснула чашку в раковине и вернулась за стол.
— Вот и все. Такая вот история, — сказала она.
— В этом брауни наверняка было что-то подмешано, — настаивала Констанция. — Я видела, как ты пьешь, Эми. Ничто не могло тебя подкосить.
— Ну, что-то же подкосило. Определенно. А проблема в том, что я сама виновата, что влипла в эту историю. Ты ведь не можешь представить себе Элли Пирсон, гуляющую по улицам Амстердама с таким вампиром, как Альфред, верно?
Элли Пирсон была самой прилежной ученицей Амхерстского колледжа. Мы всегда ставили ее поведение в противовес всем непотребствам, которыми занимались сами.
— Нет, Элли Пирсон точно не стала бы гулять по улицам Амстердама с Альфредом, — признала я.
— Значит, я сама виновата, — подытожила Эми. — Конечно, хорошо думать иначе. Я ненавижу Альфреда, и если бы могла, то размазала бы его по стене. Но нужно признать, что я тоже виновата. Знаете, о чем я очень много размышляю? О том, что он не укрыл меня. Ему не хватило доброты, чтобы укрыть меня хоть чем-нибудь. Я не выношу мысли о том, что другой человек позволил себе так со мной обращаться. Не знаю, что он должен был взять с собой в лодку, но ведь можно было подумать об этом. Наверное, это моя абсурдная причуда. Мне просто хотелось, чтобы меня укрыли одеялом и разрешили не пойти в школу.
Она потянулась к нам и сжала наши руки.
— Я в порядке, — подытожила она. — Правда. Только не придавайте этому слишком большое значение, ладно? Не стоит игнорировать эту ситуацию и делать вид, что ничего не было, но и не нужно взволнованно смотреть на меня каждый раз, когда эта тема будет всплывать. Теперь это просто факт из моей жизни, и нечего тут больше придумывать. Вы со мной?
Мы кивнули.
— Наверное, мне стоит извиниться перед Питером, — сказала она.
— Черта с два! — возразила Констанция.
Слышать от нее такое было до того непривычно, что мы с Эми рассмеялись.
— У него стоял, когда он поднялся, — сказала я. — Он заправил его под пояс.
— Бедный мелкий идиот, — сказала Эми. — Он думал, ему что-то переломится.
— Ну, признаю, у меня была такая мысль. Ладно, мне пора спать, — сказала я. — Я выжата как лимон. Не привыкла пить пиво посреди дня.
Я обняла подруг. Засыпала под разговоры Констанции и Эми о свадебных планах. Мне нравилось слышать их голоса в темноте.
Париж
47
Снова Париж. Весенний Париж. Париж, когда цветут каштаны. Париж, когда Сена течет быстрее всего, кафешки, пробудившиеся после зимы, сбрасывают с себя тяжесть, а официанты в белых фартуках поднимают навесы, чтобы весеннее солнце грело клиентов. Бесчисленные метлы и веники избивают брусчатку, окисленные крыши мерцают от зеленого, словно пруд, мха, а тюльпаны, тысячи тюльпанов, словно подмигивают тебе своими разноцветными мордашками, обещая приход тепла. Девушки и женщины неуверенно достают легкие вещи из глубин гардероба, ведь погода все еще может измениться, возможно похолодание, но все же стоит рискнуть и надеть любимую вещицу. И тогда на улицах внезапно появляются шляпы, фантастические шляпы, от которых ты не можешь оторвать взгляда. Ведь это — весенний Париж, а ты так молода.
Осталось несколько дней до свадьбы, Констанция влюблена, вот-вот станет невестой. Она придает всему такое очарование, такую грацию, что ты вдруг понимаешь: именно такими должны быть свадьбы, все свадьбы. А Раф, красивый Раф, сдувает с Констанции пылинки и не отходит от нее ни на шаг, ни на миг, ни на вздох. И ты не понимаешь, как так случилось, что бледная красавица Констанция, которая то и дело каталась на велосипеде по территории колледжа меньше чем год назад, теперь, такая зрелая и мудрая, хлопочет над этим прекрасным торжеством со своим пастухом. Она поражает непревзойденной элегантностью на каждом событии: во время чаепития с матерями, когда они впервые знакомятся; в магазинах, заказывая последние блюда для церемонии; в цветочном, болтая на своем беглом французском — кто бы мог подумать, что мы не зря учили французский? — с тучной цветочницей и наклоняясь над фиалками, чтобы ощутить их застенчивый аромат. И иногда кажется, что она и сама обросла чем-то — не цветами, а скорее осокой, травой, которая медленно и спокойно растет на краю луга. Мимо такой красоты невозможно просто пройти — хочется остановиться и любоваться. Ты, подружка невесты, стоишь рядом с ней и смотришь, как она готовится любить, уважать и оберегать. Твои глаза наполняются слезами тысячу раз, а Констанция, милая Констанция, ведет тебя и Эми в Нотр-Дам, где склоняется перед своей любимой статуей Марии и молится — не Богу, никому другому. Она просто хочет и обещает быть хорошей и доброй женой, клянется отказаться от всех других и стать одним целым с любимым мужчиной.
Сто мгновений совершенства, их крохотные, тонкие нотки, которые может передать лишь Париж. И Хемингуэй, твой Хемингуэй, жил здесь в любви со своей Хэдли. И ты ненавидишь этого ублюдка за то, что он бросил ее, как Джек бросил тебя. Но любишь за столь глубокое понимание жизни. Ты полна волнения, необузданности и счастья оттого, что ты здесь, на этой свадьбе, со своими друзьями, ждешь того самого дня. В Париже. Всегда в Париже.
Все эти три дня в ожидании свадьбы я изо всех сил старалась избавиться от назойливых мыслей о Джеке. Меня раздражало, что я думаю о нем, что постоянно ставлю его рядом с собой мысленно тысячи тысяч раз. Меня раздражало, что Констанции не до моих проблем, не до меня, ведь ей нужно было уладить миллион вопросов, и времени на мои переживания у нее точно не было. Когда мы поселились в отеле под названием «Самсон», прекрасном эдвардианском здании на окраине VII округа Парижа — округа, который мог похвастаться Эйфелевой башней, — я стала тешить себя надеждой, что Джек может появиться на свадьбе. Я никому об этом не говорила, потому что в глубине души понимала, что это всего-навсего мои выдумки. Никто не говорил со мной о Джеке. Моя мечта была настолько жалкой, настолько неловкой, что я на всякий случай перегибала палку, пытаясь быть душой вечеринки, чтобы компенсировать свое угрюмое настроение и помрачение сознания. Сама того не желая, я превратилась в «ту самую» девушку на свадьбе — девушку, которая напивается с мужской половиной гостей, а вместо того, чтобы спать, отправляется искать новый бар в центре Парижа — до чего же мне нравилось, что я ориентируюсь в Париже лучше других! — слегка помятую девушку, слегка перевозбужденную, слегка вульгарную. Я знала, что делаю, но никак не могла остановиться. Меня не покидало чувство, словно я смотрю на себя со стороны — нелепое зрелище, знаю, — сумасшедшая девчонка, которая ведет себя так, будто она в Шебойгане[15], а не в Париже.
Кроме того, кому нужен Джек? Именно это я и пыталась доказать всем вокруг.
Задолго до свадьбы Констанция говорила что-то о друге Рафа, который будет сопровождать меня на свадьбе, и как только мы приземлились в Париже, это стало дежурным анекдотом. Его звали Ксавьер Бокс — абсурдное имя, которое придумала Эми. Каждый раз, когда она его произносила, я не могла сдержать смех. Это был высокий грозный австралиец, белокурый и с до того голубыми глазами, что казалось, будто они сделаны изо льда. Именно эти глаза выдавали очарование, которое скрывалось за его внешней угловатостью.
Одним из смешных и нелепых моментов свадьбы — все было великолепно, все было прекрасно благодаря Констанции, но все же это свадьба, на которой много вина, — было умение Ксавьера говорить на «овечьем языке». Видимо, это было популярно в Австралии, хотя я не слышала ничего подобного от Рафа. Суть в том, чтобы говорить, заикаясь, так, чтобы речь была похожа на блеяние овцы. Это было бы совершенно бессмысленно и абсолютно не смешно, если бы Ксавьер, тощий и под два метра ростом, словно борзая, не блеял до того часто, что вскоре все начали смеяться. Более того, все заговорили по-овечьи. Если хотелось выпить, нужно было говорить: «Мо-о-о-жно мне еще-е-е-е-е-е?» — с восходящей интонацией, словно ягненок, который зовет маму. Кто знает, почему подобные вещи смешат, но это сработало и стало своеобразным гимном свадьбы, несмотря на совершенно не сочетающуюся с овечьим блеяньем неземную красоту Констанции.
Ксавьер Бокс владел овечьим языком в совершенстве — частично из-за того, что он австралиец, но также потому, что слегка походил на козла, — и как партнеры на свадьбе мы искусно шутили друг над другом. Я тоже неплохо овладела овечьим, и когда мы поднялись, чтобы провозгласить тосты на предсвадебном обеде в пансионе неподалеку (с клетчатыми скатертями, ворчливыми официантами и винными бутылками в соломенных корзинках), каждый из нас умудрился приплести к тосту по одной овечьей фразе. Я сказала что-то вроде: «Раф — самый лу-у-у-чший мужчи-и-и-и-на в мире», а Ксавьер окончил фразу, добавив: «Еще-е-е-е-е бы».
Было забавно. Все смеялись. Мы почти что были похожи на пару.
Пока я сидела и смотрела, как Ксавьер заканчивает свою речь, Эми наклонилась ко мне и сказала, что я должна с ним переспать.
— Я не собираюсь спать с человеком, который говорит на козлином языке, — прошептала я ей. — Ты спятила?
— Тебе нужно возвращаться в игру, сестренка. Ты так скоро с ума сойдешь. Констанция говорит, что ты ничего не делаешь, кроме того что работаешь и читаешь.
— С овечьей точки зрения он довольно симпатичный, но это не мой тип. Кстати, на этом мой спектр интересов не ограничивается.
— И какой же он, этот твой тип? Я смотрю вокруг и не вижу никого похожего. У тебя больше нет никакого типа, Хезер. У тебя может быть любимый вкус мороженого, которое ты ешь по вечерам, но только не тип парней.
— У тебя тоже нет своего типа, Эми.
— И когда это имело для меня хоть какое-то значение? Переспи с Ксавьером Боксом. Ты слишком зациклена на прошлом. Тебе необходима встряска.
Кажется, мы обе выпили лишнего. Не самая лучшая тема для разговора. Глупо, но я продолжала поглядывать на дверь, ожидая появления Джека. Я понятия не имела, что бы сказала ему, если бы он все-таки объявился, как бы поступила, но сама идея его потенциального приезда слегка сводила меня с ума. Это было похоже на то чувство, когда знаешь наперед, что дома тебя ждет вечеринка-сюрприз, и какая-то часть тебя надеется, что этого все-таки не произойдет, а какая-то часть гадает, кто же из твоих друзей купил торт. В конце концов, Джек очень импульсивный. Ему нравилось быть драматичным.
Я по-прежнему витала в мечтах о Джеке, когда ко мне подсела женщина с ребенком на руках. Я видела ее перед этим, нас даже представили друг другу, но я никак не могла вспомнить ее имени. У ее были каштановые волосы и взъерошенная челка, которая, словно веник, закрывала ей лоб. Ей было немного за тридцать, мамазавр-ученик, а еще от нее пахло лимоном. Она сидела со стороны Рафа. Когда женщина заговорила, я заметила ярко выраженный очаровательный австралийский акцент.
— Ты его подержишь? — спросила она, протягивая мне малыша. — Мне нужно сбегать пописать. Всего на минутку. Неудобно носить его с собой.
— Конечно, — сказала я, взяв ребенка и усадив его себе на колени. — Как его зовут?
— Джонни.
— Привет, Джонни.
Прежде чем я успела сказать что-либо еще, женщина ускользнула прочь. Я никогда особо не любила детей, но этот, должна признать, был милее целого ящика щенков. У него было крепкое маленькое тельце и прекрасные реснички, а когда я танцевала с ним на коленях, он улыбался, лепетал и тянулся к моим волосам. Ему было не больше нескольких месяцев. На нем был морской костюмчик — синяя рубашка, белые шортики и хлопковые носочки на крохотных ножках.
— Ты заметила? Она не дала его мне, — сказала Эми, наклоняясь, чтобы поближе взглянуть на Джонни, и вложила палец в его крохотный кулачок. — Какой хорошенький пирожочек.
— Маленький мужчина. Идеальный джентльмен.
— Он такой серьезный. Выглядит довольно самостоятельным.
Затем Эми кто-то позвал, и я обнаружила, что осталась наедине с Джонни. Ксавьер отправился в бар, а большинство гостей решили размять ноги. Тогда я осознала, что есть лишь я и Джонни. Я качала его на коленке, а он глядел на меня, казалось, безразлично, и, как бы абсурдно это ни было, я подумала, что именно в этот момент должен войти Джек. Мне хотелось, чтобы он увидел меня с этим прекрасным малышом, заметил мой материнский инстинкт, хотя даже не знаю, с чего я взяла, что понравлюсь Джеку в таком амплуа. Мы даже не говорили о детях. Думая об этом, я осознала, что Джек — это вирус, от которого я не могу избавиться. Я официально сошла с ума.
Отогнав от себя эти мысли, я осталась с Джонни, с его прекрасными глазами, смотрящими на меня, с осознанием простого факта того, что его индивидуальность меня пленила. Он не был просто малышом, не был «спиногрызом», напротив — он был совершенным маленьким человеком, сладким, очаровательным ребенком, который глазел на меня, пытаясь понять, можно ли мне доверять. Я никогда не испытывала ничего подобного по отношению к детям. Мы долго рассматривали друг друга.
Я осторожно подняла его и прижала к груди. Казалось, еще немного — и я заплачу.
— Привет, Джонни, — прошептала я. — Ты такой красивый, просто замечательный мальчик. Ты сладкий мальчик, верно? Ты просто сокровище?
Я притронулась носом к его коже, к задней части шеи. У него был запах маминой пудры и тот неописуемый младенческий аромат, не похожий ни на что в мире.
— Надо же, ты ему понравилась, — сказала, вернувшись, его мама. Она села в соседнее кресло. — Обычно он капризничает на руках у незнакомцев. У тебя, наверное, хороший, уравновешенный характер, раз ребенок так легко доверился тебе.
— Кажется, я знаю Джонни тысячу лет.
— Осторожнее, — сказала женщина. — Именно с этого все и начинается. Ты и сама не заметишь, как выскочишь замуж и заведешь шестерых котят, за которыми требуется уход.
— У вас шестеро детей? — изумленно спросила я. Может быть, я неправильно поняла эту женщину.
— Нет, нет, нет, только Джонни. Но мне и его хватает с головой. С ним у меня нет ни одной свободной минутки, но, как видишь, он просто лапочка.
— Да, очаровательный мальчуган.
— Знаешь, у меня было так же, как у тебя, — сказала она. — Я имею в виду любовь. Он тоже меня бросил.
Я взглянула на нее из-за мягкого плечика Джонни. Неужели мою историю знают все гости? Эта мысль смутила. Неужели люди действительно говорят: «А вот и Хезер, однажды возлюбленный бросил ее в парижском аэропорту»? Такова моя легенда на этой свадьбе? Наверное, именно так эта женщина узнала мою историю. Я уже представила себе краткое описание: «Ах, эта женщина рядом с Ксавьером Боксом — это Хезер, ее парень был другом Рафа… И он бросил ее в аэропорту в Париже». Ведь это мои самые главные характеристики. «Это — дядя Рафа, это — кузина Констанции, а это… о… она… она потеряла парня».
— Прошу прощения? — притворилась я, будто не понимаю.
— О, я знаю. Это больно. Мой был моряком. Ходил в рейсы на острова Уитсандей. Аж до самого Большого Барьерного рифа. О, он любил море. Конечно, нужно было сразу подумать об этом, но я не обращала внимания. Ты когда-нибудь замечала, как женщины умеют игнорировать даже самые большие недостатки? Это всегда ставило меня в тупик.
Я сильнее прижала к себе Джонни. Ощущала его дыхание рядом со своим ухом.
— Люди говорят, что ты справишься, но это не так. С такими мужчинами это не работает. Они оставляют шрамы. Я говорю об этом только потому, что больше ни с кем не могу об этом поговорить. Это запретная тема, понимаешь? Я замужем. И я счастлива, правда. Но не проходит ни дня, чтобы я не думала о своем потерянном матросе.
— Я не уверена…
— Знаю, знаю. Твоя рана еще не зажила. И еще долго будет болеть, поверь мне. Иногда мне казалось, что меня сожгли живьем. Словно моя кожа отросла поверх тех ужасных ожогов. Но даже это плохая метафора. Это намного больнее, чем что бы то ни было. Великая любовь неизбежно влечет за собой большие потери. Где-то я это читала. С тех пор я поняла, что нужно смириться. И постоянно себе об этом напоминаю. Начало значит конец.
Она взяла меня за руку.
Я чуть было не отдернула руку. Я не знала даже ее имени. На самом деле я ничего о ней не знала. Она придвинулась ко мне и приблизилась лицом к моему уху. Казалось, она собирается доверить нам с Джонни самый большой секрет. Мы сформировали заговорщического вида треугольник.
— Со временем твоя рана заживет, — прошептала она. — Не полностью. Полностью она никогда на затянется, но ты сможешь жить дальше, обещаю. Джонни — тоже великая любовь для меня, понимаешь? Со временем все наладится, и у тебя тоже все будет хорошо. Возможно, по отношению к мужу я поступаю несправедливо, до сих пор вспоминая о моряке, но это так, и если бы я сказала, что ничего не помню, это было бы ложью. Не думай, что ты одна такая. Я встречала многих женщин, которые так же упустили любовь всей своей жизни. Ты будешь видеть его всю жизнь… В баре, в аэропорту. Что-то постоянно будет напоминать тебе о нем, и эта искра бесконечно будет разжигать костер.
Она улыбнулась. У нее были ласковые, добрые, уставшие глаза. Затем она взяла Джонни на руки. Я держала его за крохотный кулачок, пока женщина снова не улыбнулась и не встала.
— Спасибо, что посидела с ним, — сказала она. — У тебя доброе сердце, я в этом уверена.
— До свиданья, Джонни.
Она кивнула и взяла малыша поудобнее. Она растворилась среди разбросанных стульев и людей, пока бледное, словно луна, личико Джонни мирно лежало на ее плече.
48
Родители Констанции знали Джефферсонов, это было частью их дипломатической миссии во Франции, и именно в их владениях их дочь выходила замуж. Это было восхитительное место с роскошными садами и огромным каменным желтоватым георгианским особняком, который плотно сидел во главе кругового проезда из белого гравия. Пол Джефферсон учился в колледже вместе с папой Констанции, Билли, и сама идея того, что человек может быть настолько добр к дочери своего соседа по комнате — позволить провести у себя свадьбу, пускай и небольшую, — каким-то образом перекликалась с нашей девичьей дружбой. Мы сделали бы то же самое для своих подруг, никто в этом не сомневался. И когда в одну прекрасную апрельскую субботу миссис Глория Джефферсон провела Констанцию на второй этаж, чтобы помочь ей одеться, она открыла перед нами двустворчатые двери балкона, который выходил во двор. Там мужчины в синих комбинезонах расставляли стулья, а цветочница сбрызгивала водой фиалки, выбранные Констанцией.
— До чего же это красиво, — сказала Констанция. — Даже не знаю, как отблагодарить вас, Глория. Это именно то, о чем я всегда мечтала.
— О, я всю жизнь хотела провести здесь свадьбу, — ответила Глория. — У меня есть сыновья, но, к сожалению, они отказываются потешить мать. Может быть, с сыновьями немного легче в некотором смысле, но с ними не так весело.
Она была высокой брюнеткой с густыми волосами и крепкими широкими плечами. Когда-то она занималась плаваньем брассом и однажды, поздней зимой, на Олимпийских играх встретила своего мужа. Ее тело оставалось спортивным, поэтому меня не удивило, когда мама Констанции, Гейл, поведала нам, что Глория до сих пор плавает каждый день, чтобы поддерживать форму.
Констанция обняла ее. Констанция, прекрасная Констанция.
В силу своего характера Констанция не хотела приглашать ни визажиста, ни парикмахера. Она выбрала свое платье лишь из-за его простоты. Это было белое платье длиной до середины икры, со сборкой на талии и прозрачным кружевным корсетом. Из всего разнообразия обуви Констанция предпочла белые балетки. Стоя напротив большого зеркала, она воплощала собой идеальную невесту, а ее руки, держащие букет из цветов качима и ириса, слегка дрожали от волнения. Ее мама отправилась искать свое место, а мы просто стояли позади Констанции, пока она молча смотрела то на меня, то на Эми. Из окна слышались голоса, и музыка — джазовый квартет, естественно, для Рафа — тихонько зазвучала фоном, когда подруга развернулась к нам.
— Когда пройдет много лет, напомните мне, как счастлива я была в этот момент, — попросила она. — Напомните, если я вдруг забуду. Не давайте мне окрасить этот момент другой эмоцией. Что бы ни случилось между мной и Рафом, этот момент — настоящая правда, я чувствую это сердцем и прошу вас это запомнить.
— Обещаем, — сказали мы с Эми.
Настало время выходить. Пришла Глория и улыбнулась нам.
— Мы готовы, — простодушно сказала она.
Мы с Эми вышли на ковровую дорожку. Констанция не хотела затягивать свадебный марш, поэтому вышла почти сразу же после нас. Держась за папину руку, она шла, не отрывая взгляда от Рафа. Раф стоял рядом с мистером Джефферсоном, которого попросили провести церемонию.
Пока Констанция шла по дорожке, джазовый квартет молчал. Вместо этого звучала запись Йо Йо Ма[16], играющего одну из композиций Эннио Морриконе. Это была прекрасная утонченная мелодия. Констанция, я знала точно, любила виолончель и Йо Йо Ма чуть ли не больше всего на свете. У нее были все его записи, она часто слушала их дома и даже в школе, когда у нее было хорошее настроение. И теперь она заставила всех остановиться и послушать его чарующую музыку, восхититься ее красотой, прежде чем вернуться к празднованию.
Констанция мягко ступала по ковру, с улыбкой глядя на каждого из гостей и согревая ею всех до единого. У алтаря невеста поцеловала своего отца, тот прошептал ей что-то на ухо и снова получил поцелуй — до чего же нежный момент. Констанция подошла к маме и поцеловала ее. Затем она взяла за руку Рафа, и весь мир, казалось, замер.
Ксавьер Бокс пригласил меня на танец. Мы хорошо ладили и, должно быть, очень много выпили. На нем свободно висел галстук, а волосы торчали, словно щетинки щетки для обуви. Его глаза были влажными, но не от эмоций, а от количества выпитого им алкоголя. Я сбросила туфли и наслаждалась ощущением от гладкого, скользкого деревянного танцпола. Это было… хорошо. Чертовски хорошо. Я искала взглядом Джонни и его маму, но так их и не нашла.
Кроме того, я так и не нашла Джека, но это совершенно другое.
Удивительно, что Ксавьер был одним из парней, которые умеют танцевать свинг.
И ничуть этим не хвастался. Он схватил меня за правое запястье, дернул, я закрутилась волчком, он поймал меня за талию, отклонил немного назад и раскрутил в другую сторону. Я чувствовала себя, словно йо-йо. Как Йо Йо Ма. Как бумажный язычок, с сиплым гудком разворачивающийся и тут же сворачивающийся обратно. Ледяные голубые глаза Ксавьера следили за мной повсюду. Я понимала, что он симпатичный, действительно симпатичный, и гадала — пока он снова кружил меня, — почему на меня не действуют его чары? Почему на меня не действуют чары любого мужчины последние девять или десять месяцев? В этом не было ни толка, ни смысла, поэтому, когда Ксавьер прижал меня к себе, я задумалась. Хм-м-м-м. Дважды хм-м-м-м.
Поглядев на обеденный стол, я заметила, что за мной радостно наблюдает Эми. Она, очевидно, благословила все, что могло случиться между мной и Ксавьером.
— Где ты научился так танцевать? — спросила я Ксавьера, когда танец закончился. — Ты настоящий мастер.
Он обнял меня за талию и провел с танцпола. Это случилось? Я действительно прижалась к нему и, игриво откинув волосы, соблазнительно улыбаюсь, глядя в его полярно-голубые глаза? Казалось, я разучилась это делать. Я чувствовала себя деревянной и нелепой. Искусственной и фальшивой. Я пообещала себе, что больше не буду пить. Решила, что еще один бокал может все испортить.
— Да так, — сказал он, провожая меня к бару. — Некоторым движениям меня научила мама на нашей кухне. Она любила танцевать — моя мама, очень любила. Мы устраивали танцевальные вечеринки, когда папа уезжал в командировки, а уезжал он часто. Мои сестры брали уроки танцев, поэтому у меня были довольно строгие учителя. Они чуть ли не силой заставляли меня стараться.
— Уроки сделали свое дело.
— Я обязательно им передам.
Мы обменялись взглядами. Это не был тот самый взгляд, но все же. Я с трудом оборвала эту беседу.
— Я сбегаю в да-а-а-а-мскую ко-о-о-мнату, — сказала я, вспомнив овечий язык. — Скоро вернусь.
— Хорошо, только не долго. Я буду скучать.
Я отправилась на поиски Эми.
— Подружки невесты просто обязаны перепихнуться с кем-нибудь на свадьбе! — сказала она, когда я рассказала ей о путанице с Ксавьером. Эми держала в руке бокал, а ее волосы были слегка взъерошены из-за танцев с одним из множества кузенов Рафа. Она общалась с ними весь вечер. — Я хочу сказать, разве не для этого все наводят такой марафет? Все здесь на что-то надеются. Хезер, ты не монашка!
— О, ну и ну, Эми. Я никогда и не говорила, что я монашка.
— Ты не должна ничего решать прямо сейчас. Ты ведь не римский император, который принимает важные решения. Ты можешь просто сделать это и посмотреть, куда это тебя приведет.
— Я знаю, куда это приведет, Эми. В этом все и дело.
— Вот бы у меня было так же! Вот бы мне было относительно кого принимать решения.
— Те кузены тебе не отказали бы, — сказала я. — Те, с которыми ты танцевала.
— А кому они вообще отказали бы? Озабоченные мелкие лягушата. Австралийские мальчики полны энергии. Надо отдать им должное. Но я не вижу здесь мужчин. Достойных мужчин. Мужчины на свадьбах вечно или слишком молодые, или слишком старые. Или женаты.
— Так вот как ты видишь свадьбы?
— Большинство свадеб, наверное. Думаю, общественное понимание свадеб изменилось. Когда-то люди женились в сформированных общинах и семьи чаще всего были знакомы. Теперь же они слетаются со всего мира, проводят пару дней вместе и разлетаются по домам. Даже не знаю, что это значит. Может быть, обрученным парам вообще следует звонить своим гостям по Skype, и пускай их друзья и родные смотрят на них в режиме онлайн. Свадьбы могут превратиться в телешоу.
Я смотрела на Эми. Она устало, но радостно улыбнулась. Думаю, она просто шутила. Эми обожала все портить.
— Ты ничуть не помогла мне с чертовым Ксавьером, — сказала я. — Правда, это не мой тип.
— А кто твой тип? Не бери в голову, я и сама знаю. Джек. Да, хорошо, Джек — твой тип. Я поняла. Но Джек дал деру, милая. Джек выбрал путешествия, или чем он там еще занимается. Он — замечательный парень, он мне очень нравится, но его больше нет рядом. Пуф! Он исчез. Моя массажистка всегда советовала переступать через ненужных мужчин и ложиться под нужных.
— Ты просто отвратительна, Эми. Это мерзко.
Подруга улыбнулась и заиграла бровями. Я поняла, что она выпила многовато. Эми начала философствовать:
— Вот в чем дело. Если ты переспишь с Ксавьером, то проснешься с головной болью и, возможно, болью в сердце. Плюс он может решить, что ты на него запала, и тогда начнет тебе названивать, пытаясь поговорить с тобой, и каждый раз, когда ты будешь слышать звонок телефона, тебе будет больно, потому что это не Джек.
— Я думала, ты хочешь, чтобы я переспала с ним!
— Просто с кем-то, Хезер. Я хочу, чтобы ты вернулась к жизни. Конечно, ты можешь спать с кем захочешь, только не страдай из-за Джека. Пора отпустить эту боль. Знаю, это тяжело, милая, но ты должна ее отпустить.
Я кивнула. Мои глаза наполнились слезами. Она взяла меня за руку. Мы долго стояли молча. Это был великолепный ранний вечер. Я раздумывала над тем, стоит ли мне искать Ксавьера. Стоит ли мне сходить в туалет. Меня словно поставили вверх дном — так говорила моя мама, когда что-то выходило из-под ее контроля.
Мы так и стояли, когда к нам подошел Раф.
— Я хочу потанцевать с тобой, Хезер, — сказал он. — Потанцуешь с женихом?
— Это честь для меня.
— И кто я? Швейцарский сыр? — спросила Эми, отпуская мою руку.
— До скорого.
— Просто придержи лошадей, — проворчала Эми и ушла.
Я стояла напротив Рафа.
— С удовольствием потанцую с тобой, Раф, — сказала я.
— Я не очень хороший танцор. В отличие от моего друга Ксавьера.
— Кажется, у Ксавьера много талантов.
— О, ты и половины из них не знаешь. Он тебе нравится?
— Нравится. Очень нравится. Он очень интересный человек.
— На самом деле он хороший парень. Мы давно дружим. С самого детства. Из вас вышла бы хорошая пара.
— И ты в сваху поиграть решил, Раф?
— Теперь, когда я женат, могу сказать, что я в этом эксперт. Ты что, не знала? Женатые люди всегда лучше знают, что нужно делать одиноким, с кем им встречаться и как жить.
Раф улыбнулся, протянул руки, и я шагнула вперед. Подойдя к нему поближе и танцуя с ним, я осознала, что безумно его люблю.
— Знаешь, тебе досталась лучшая девушка в мире, — сказала я. Было немного странно танцевать с мужем подруги. Ее мужем! — Она — воплощение мировой доброты.
— Да, знаю. Ты попала в точку. Мне очень повезло.
— Она еще красивее, чем ты думаешь, Раф. Ее красота затрагивает все на свете. Ее любовь и чувство прекрасного. Таких, как она, больше нет.
Раф кивнул. Мы танцевали по часовой стрелке, но его тело казалось каким-то напряженным и неспокойным. Я чуть было не спросила, все ли у него в порядке, как вдруг он наклонился к моему уху. Раф признался, почему на самом деле пригласил меня на танец.
— Я хотел поговорить с тобой о Джеке, — сказал он. — О нашем Джеке. Твоем Джеке Вермонтском. Я подумал, что из всех дней этот подходит больше всего, чтобы все рассказать.
Он немного оттолкнул меня, чтобы посмотреть мне в глаза. В этот момент мое сердце ушло в пятки. У него был добрый, теплый взгляд. Группа играла приятную ритмичную мелодию, которая никак не вязалась с выражением лица Рафа.
— Ты не против, если я немного расскажу о Джеке? — спросил он. — Я должен сказать кое-что, что слишком долго держал в себе.
Я кивнула. Казалось, что из моего тела исчезли все кости.
— Продолжай.
— Во-первых, я должен попросить твоего понимания и, наверное, прощения. Я пообещал Джеку, что никогда не буду с тобой это обсуждать. Я и Констанции ничего не говорил. Об этом не знает никто на свете, кроме Джека, меня и его родителей. Он доверил это мне.
— В чем дело, Раф? Скажи мне. Ты говоришь до ужаса формально.
— Прости. Я не хотел. Я чувствую себя нелепо, говоря это тебе.
— Продолжай, скажи мне.
Музыка стала более медленной и шероховатой. Мы танцевали на паркетном полу. Я ощущала каждую деталь: музыку, твердость пола, привлекательность Рафа, цвет и текстуру его костюма, своего платья длиной до середины икры, которое касалось кожи под коленом. Казалось, Раф никак не мог решиться сказать то, что хотел. Он начинал говорить, а затем прекращал.
— В чем же дело, Раф? — снова спросила я. — Прошу тебя, скажи.
Он сделал глубокий вдох, словно в последний раз взвешивая свое решение, и мягко заговорил:
— Тот день в Париже… Здесь, я должен сказать, здесь, в Париже… Ты помнишь тот день?
— Какой день, Раф?
— Когда мы с Джеком исчезли на целый день. Мы сделали вид, что все хорошо. Чтобы это выглядело загадочно. Кажется, вы с Констанцией отправились в Нотр-Дам, смотреть на статуи Марии. Именно туда она любит ходить.
— Да, конечно, я все помню. Джек никогда не говорил, куда вы ходили. Мы никогда не давили на вас, потому что думали, что вы готовите какой-то сюрприз. Мы не хотели все испортить.
Он кивнул. Мое воспоминание соответствовало его.
— В этом все дело. В тот день, когда мы с Джеком отправились на загадочную миссию, мы специально отшучивались и отказывались говорить вам, что делали… В тот день мы ездили в больницу.
Я услышала слово «больница», но мой мозг наотрез отказывался его воспринимать. Это слово разваливалось на отдельные буквы и не имело никакого смысла. Больница? Что такое больница? Это слово казалось иностранным. Я дважды проговорила его мысленно, чтобы понять, как оно произносится. В то же время я почувствовала, как меня накрывает нечто громадное и неизбежное.
— Какая больница? — выдавила я. — Что ты такое говоришь, Раф?
— Я даже не помню названия, Хезер. Кажется, Святого Бонифация. На окраине Парижа. Джек ничего мне не говорил, но у него какое-то заболевание. Думаю, он хотел что-то проверить. Он не объяснял деталей. Хотел, чтобы я поехал с ним, потому что я лучше знаю французский.
— Он болен? Ты хочешь сказать, что он болен?
Раф осторожно взглянул на меня. Я видела, насколько тяжело ему было нарушать обещание, данное Джеку, насколько сложно было причинять мне боль. Какая-то часть меня сочувствовала положению Рафа, а какая-то, дикая, животная, хотела растянуть его рот и нырнуть прямо туда, где хранятся слова, разворотить там все и найти то, что мне было нужно. Он не мог говорить быстро, не мог огласить новости на одном дыхании, чтобы удовлетворить меня. Но я набралась терпения и дала ему слово. Я не хотела спугнуть его или, поторапливая, вынудить сократить объяснение.
— Думаю, у Джека вновь появились симптомы. Он болел еще до того, как поехал в Европу. Думаю, это все. Он никогда толком не объяснял ничего. Не могу сказать, стало ли это причиной того, что он решил не ехать с тобой домой, но я всегда считал, что дело именно в этом. Это единственное разумное объяснение. Я уверен, что он хотел, чтобы ты плохо о нем думала, чтобы отпустила его, потому что то, что он узнал в больнице, что бы это ни было, скорее всего, подтвердило его ожидания. Не знаю, когда все это началось, но ему пришлось долго ждать результатов. Это все, что он мне сказал.
— Но Джек не был болен, — сказала я, и в мою голову начали закрадываться сомнения. — Он рассказывал мне о своем друге, Томе, но никогда…
— Дело не в Томе. У него не было никакого друга по имени Том, Хезер.
— Его друг. Он с ним вместе работал. Что ты такое говоришь, Раф?
— У него не было друга по имени Том. Иногда он называл свою болезнь «старина Том». Он превратил это в шутку. Говорил что-то вроде: «Старина Том не дает мне спать». Не знаю почему, но именно это имя он использовал.
— Я не понимаю, что ты имеешь в виду, Раф. Я слышу слова, но ничего не понимаю.
— Том был чем-то, что он придумал, чтобы говорить о чем угодно, не называя настоящей причины. Он отдал болезнь воображаемому другу. Может, это несправедливо. Не знаю. Он не хотел, чтобы люди жалели его. Не хотел, чтобы к нему относились по-другому, не хотел отвечать на все вопросы о болезни. Мне жаль, Хезер. Я хотел рассказать тебе много раз. Не могу больше видеть, как ты страдаешь.
Я не могла думать. Тысяча вопросов смешалась в моей голове. Это стало единственным объяснением, только это закрывало все вопросы и отклоняло все возражения. После признания Рафа пазл наконец начал собираться.
— Значит, он болен? — спросила я, вспоминая каждое его слово, каждый взгляд и жест, который мог пролить свет на болезнь Джека. — Это то, что ты хочешь сказать мне, Раф? Пожалуйста, я должна знать.
Раф кивнул, а затем мимикой показал, что понятия не имеет о намерениях Джека. Он не мог сказать, потому что и сам не знал. Музыка утихла. Мы стояли, глядя друг на друга.
— Не знаю, правда ли это. Не знаю, действительно ли он болен, — сказал Раф. — Я даже не знаю, что это значит, но это было важно для Джека. Я имею в виду тот день, нашу поездку в больницу. Это объяснило бы его исчезновение. Он не хотел становиться обузой для тебя, и единственным способом стало, скажем так, полное его исчезновение. Может быть, он хотел, чтобы ты еще и начала его ненавидеть.
— Ты серьезно, Раф? Ты издеваешься надо мной? Это уже слишком.
— Прошу, прости меня, Хезер. Даже не знаю, стоило ли мне все это говорить. Я был в растерянности, не знал, кому из вас помочь. Джек заставил меня дать ему слово, и я дал, а теперь нарушаю свое обещание. Я больше не мог держать это в секрете и смотреть, как ты снова и снова все это переживаешь.
Мы стояли, глядя друг на друга. Он взял меня за руки.
— Ты ведь страдала?
— Да. Я страдала.
— Мне жаль, Хезер. Если бы я мог сказать тебе больше.
— Значит, у него рак? Симптомы снова дали о себе знать? Именно поэтому он поехал в больницу? Все это время Томом был он?
— Не знаю. Кажется, это была лейкемия. Наверное, все симптомы, которые он приписывал Тому, на самом деле были у него. Наверное, именно так.
Рафа позвала одна из кузин Констанции. Отрезать торт или что-то такое. Он медленно отпустил мои руки, по-прежнему глядя мне в глаза. Он не уходил.
— Я найду Эми, — сказал он. — Пускай посидит с тобой, чтобы ты все это переварила.
Я покачала головой. Мысль о том, чтобы еще с кем-то говорить, была невыносимой. Только не сейчас.
— Тебе нужна минутка, чтобы проглотить это. Много минут на самом деле. Мне жаль, Хезер. Надеюсь, ты не считаешь меня жестоким за то, что я скрывал это от тебя. Это история Джека, не моя. Я так себя утешал. А затем, увидев, как ты, счастливая, танцуешь с Ксавьером, понял, что должен тебе рассказать.
— Я рада, что ты решился на это. Спасибо.
— Я очень хорошо знаю Джека, Хезер. Он любил тебя. Он говорил мне это, и не один раз. Он отказался быть рядом с тобой больным инвалидом. Он не захотел взваливать тебе на плечи этот груз. Как бы там ни было, именно так я это понимаю.
— Да, — согласилась я, — это похоже на Джека.
Раф обнял меня. Обнял крепко. Затем он взял меня за плечи и посмотрел мне в глаза.
— Ты в порядке?
— Конечно.
— Я тебе не верю. Только не торопись, прошу. Тебе нужно время, чтобы все обдумать. Я чувствую себя ужасно, обрушив все это на тебя.
— Все нормально, Раф. Иди. Тебе нужно разрезать торт. Я в порядке. В некотором смысле мне теперь лучше. Ты правильно сделал, что рассказал.
— Не знаю, Хезер. Надеюсь, я не ошибся, — сказал он.
Подошла одна из кузин Констанции и настояла на том, чтобы он пошел с ней. Она схватила его за руку и потащила за собой. Я стояла и смотрела на праздник. Казалось, еще немного, и я, взлетев вверх, растворюсь в воздухе, словно пламя свечи, которое потухло и превратилось в дым.
49
В два часа ночи я отправилась на поиски ясеня, который мы с Джеком посадили в Люксембургском саду.
Я взяла с собой вилку из отеля. Чтобы копать. Чтобы защититься. Потому что кроме нее у меня больше ничего не было.
Я не могла ни думать, ни говорить, ни составить план. Заказала такси на рецепции. Эми пошла спать. Констанция и Раф отправились в свой lune de miel. В свой медовый месяц. В свою семейную жизнь. Я никому не говорила о том, что рассказал мне Раф.
Водитель такси был родом из Буркина-Фасо в Африке. На нем была черно-красно-зеленая шляпа, прикрывающая его дреды. Я насчитала шесть освежителей воздуха в виде елочки, свисающих с зеркала заднего вида. Судя по водительскому удостоверению, его звали Бормо. Зунго, Бормо. Каждый раз, когда мы останавливались, он смотрел на меня в зеркало.
— Вы в порядке, мисс? — спросил он на французском.
Я кивнула.
Он изучил меня взглядом.
— Вы уверены?
Я снова кивнула.
— Уже слишком поздно, чтобы гулять в парке, — сказал он. — В саду лучше днем.
Я кивнула.
Он нажал на газ, когда загорелся зеленый свет. Мы долго ехали в тишине. Он часто посматривал на меня в зеркало.
— Это не лучшее место, — сказал Самсон, остановившись на обочине рядом с садом и выключив счетчик. — Сорок семь евро. В это время суток здесь может быть опасно.
Он развернулся, чтобы говорить со мной напрямую.
— Принести вам кофе будет честью для меня… Отвезти вас в более светлое место.
— Я в порядке, — сказала я, заплатив ему. — C,a va.
Он взял деньги. Я дала ему десять евро на чай. Одним из достоинств моей бесконечной работы и отсутствия личной жизни было то, что в моих карманах всегда были деньги. Он взял двадцать долларов и сунул их под поле своей округлой шляпы.
— Уже слишком поздно, — повторил он. — Вы были в хорошем отеле, а теперь… Здесь нехорошо.
Я улыбнулась и вышла из машины. Долго стояла и смотрела на железные ворота Люксембургского сада. Самсон отъехал от обочины.
Он был прав во всем.
Сад действительно был намного лучше днем.
У меня не было никаких источников света, кроме фонарика на телефоне. Свет от парковых фонарей толком не освещал место, где рос ясень. Он рос в тени. Удивительно, но я быстро нашла место с нашим деревом.
Вилкой я разрыла почву. Земля была влажной и холодной.
«Можешь навещать его каждый раз, когда будешь приезжать в Париж. Все в мире будет идти своим чередом, что-то познает поражение, что-то — процветание, а твое дерево… наше дерево… оно будет расти».
Докопав до пластмассового контейнера с нашими сплетенными прядями волос, я медленно достала его из земли. Я сразу же увидела новую записку — от Джека. Он положил ее туда уже после того, как мы закопали контейнер. Джек снова выкопал его и поместил туда записку для меня. Использовал наш собственный секретный почтовый ящик, чтобы оставить мне сообщение, которое я смогу найти если не сегодня, то завтра или через тысячу завтра. Кроме нас двоих, никто в мире не знает об этом месте. И ясень, благородный ясень, охранял его до моего приезда — всю зиму, длинную серую осень и цветущую весну. Хэдли и Хемингуэй были здесь, и мы тоже были, поэтому я ничуть не удивилась, увидев его аккуратный почерк.
«Хезер».
Простой конверт таил в себе записку, которую Джек написал для меня. Нижний правый угол был слегка испачкан. Какое-то мгновенье я не могла к нему притронуться, не могла сделать вдох, не могла ничего.
Именно тогда я поняла, что он не забыл меня, не бросил. Если бы ему было плевать, он не стал бы писать записку, не стал бы беспокоить могучий ясень. Теперь я знала, что, опускаясь на колени в том же месте, где сейчас стояла я, он думал обо мне. Он понимал: я буду искать его, буду искать до тех пор, пока наконец не найду. Я ощутила невероятную любовь, ненависть и испытала все эмоции, какие только можно испытать. Я поднесла нелепый пластмассовый контейнер к губам и поцеловала его. Медленно достав оттуда письмо, я положила контейнер в землю и закопала его. Я подумала о мистере Барвинке и обо всех тех существах, которые храбро сражаются за жизнь. Теперь я понимала Джека. Я точно знала, что он бросил меня по всем тем причинам, которые озвучил Раф.
А еще я знала, что он умирает.
— Я проезжал мимо дважды и не собирался возвращаться, — сказал Зунго, — но меня не покидало чувство, что что-то происходит.
Я открыла дверь и села в машину.
— Спасибо. Спасибо вам большое.
— Вы испачкались.
Я кивнула.
Он рассматривал меня в зеркале.
Затем покачал головой, видимо, не в силах понять, в чем же дело.
— Обратно в отель? — спросил он.
Я кивнула.
— Вы ведь не собираетесь мне говорить, верно? — спросил он.
Я покачала головой.
— Любовь, — сказал он. — Только она заставляет людей идти на такие сумасбродства.
Я улыбнулась. Он улыбнулся мне в ответ и сосредоточился на дороге, оставив меня наедине с моими страхами и пустотой. Я прижала письмо к груди. Не могла его открыть. Пока что. Надо было снова научиться дышать.
50
На обратном пути мне позвонила Эми.
— Хезер, где ты, черт возьми? Я проснулась, а тебя нет…
— Я в порядке, Эми.
— Это, Хезер, вообще не круто! Уходить, не предупредив.
— Прости. Извини. Прости меня.
— Я думала… Я не знала, что и думать. Это вообще, вообще, вообще не круто, Хезер! Где-то я уже видела такое — чтобы человек исчезал вот так. Ты ведь не с Ксавьером, верно?
— Не злись на меня. Нет, я не с Ксавьером. Я бы не уехала, если бы это не было так важно.
— И что же случилось такого, черт побери, важного, что тебе пришлось уехать из отеля посреди ночи? У нас в обед самолет, Хезер. Ты в отеле? В чьей-то комнате?
— Мне нужно было кое-что найти. Нечто, связанное с Джеком.
Эми молчала.
— Где ты? — наконец спросила она.
— Уже еду обратно.
— Я буду ждать.
— Спасибо, Эми. И прости меня.
— И ты меня. Поторопись.
Когда я вернулась в отель, из-под низких облаков начал пробиваться утренний свет. Зунго повернул на парковку, и к машине подошел швейцар, чтобы открыть мне дверь.
— Спасибо, Зунго, — поблагодарила я, заплатив ему.
Он не взял чаевые.
— Оплата — это бизнес. А вот чаевые — это между нами.
— Спасибо.
— Надеюсь, оно того стоило.
— Я тоже надеюсь на это.
Он выключил счетчик и уехал.
Я вошла внутрь и увидела Эми, сидящую в вестибюле.
Она встала, пересекла вестибюль и крепко обняла меня. Затем, немного оттолкнув, она изучила меня и снова обняла. Я не могла поднять рук. Не могла осмелиться отвести взгляд от записки Джека. Я уткнулась лбом в плечо Эми и разрыдалась. Она оттолкнула меня, рассмотрела мое лицо, а затем обняла так сильно, как не мог бы обнять никто другой. Но я все равно не могла не реветь.
— Это письмо? — спросила Эми. — Он оставил его в вашем тайном месте? Под деревом, которое вы посадили?
— Он знал, что однажды я вернусь туда. Только я могла знать, где оно.
Я сидела сгорбившись. С дыханием по-прежнему были проблемы. Казалось, я никогда не смогу отдышаться. Эми обнимала меня за плечи. Мое тело раз за разом содрогалось во время длинных, медленных судорог, следовавших за каждым всхлипом.
— Раф должен был рассказать тебе раньше. Теперь я мегазлюсь на него.
— Он дал слово Джеку. Нужно радоваться, что Констанция вышла замуж за человека, который держит свое слово. Я не виню Рафа. Он находился в ужасном положении.
— Тогда почему он решил сказать тебе сейчас?
— Думаю, он решил, что я слишком сильно страдаю.
Мы сидели на небольшом двухместном диване в углу вестибюля. От взглядов прохожих нас скрывал лес из комнатных папоротников. В другом конце зала хлопотали два сонных мальчугана, которые расставляли подносы с пирожными на витрине кофейни. Время от времени появлялась пожилая женщина, по всей видимости отвечавшая за них, чтобы поторопить детвору. Кофейный аромат постепенно заполнил вестибюль.
— Значит, ты думаешь, что он болен? — спросила Эми. — В этом все дело?
— Думаю, он умирает. Я знаю это. Джек умирает.
— Ну же, перестань, — сказала она и взяла меня за руку. — Ты ведь не знаешь этого наверняка.
— Он был болен. Мне Раф сказал. У него лейкемия. Они с Рафом ездили в больницу, чтобы проверить его состояние. Ты что, не понимаешь? Он поехал со мной в аэропорт, чтобы показать мне, что твердо решил поехать со мной. Но он не мог. Не мог пересечь эту черту. Дело было не в Нью-Йорке и не в работе. Он просто заставил меня так думать.
— И поэтому он не поехал с тобой?
Я кивнула.
— Да, — сказала я. — Именно так Джек решает проблемы.
— Все равно получается какая-то фигня. Почему он не рассказал тебе, что происходит?
— Потому что Джек живет иначе. Он не хотел разрушать мою жизнь своей болезнью.
— Он бы и не разрушил.
— Он видел это по-своему, Эми. Как еще ему нужно было поступить? Как бы все это происходило на деле? Я стала бы его сиделкой? Разве это та жизнь, которой он мне желал? Подумай об этом. Это то, чего ты хотела бы для любимого человека? Если бы мы были женаты двадцать лет, то да. Но мы ведь только встретились. Мы только начинали узнавать друг друга. Ему не хотелось становиться пациентом.
Она взвесила мои слова. Несмотря на некоторую дикость Эми, мир для нее был организованным местом, и это ну никак не вписывалось в ее шаблоны.
— И поэтому ты любила его, — сказала Эми. — Это часть его сущности. Его настоящести.
— Да.
— Этот чертов мир слишком запутан для меня, — сказала она. — Ты хочешь побыть одна, чтобы прочесть письмо?
Я кивнула.
Она сжала мою руку и поцеловала меня.
— Я схожу за кофе, если он уже готов, — сказала она, удаляясь. — Не забывай дышать.
Я снова кивнула.
Я положила письмо на колени и уперлась в него взглядом. Прошла еще минута или даже две, прежде чем я заставила себя притронуться к нему.
51
Я осторожно достала письмо из конверта. Разделила две части бумаги — конверт напомнил мне крепко сжатый птичий клюв — и положила их рядом. Мне хотелось запомнить каждую деталь. Двое мальчишек, расставляющих выпечку на прилавке, не обращали на меня внимания. Я чувствовала аромат кофе и едва ощутимый запах моющего средства. Где-то вдали пробили часы. Я не стала считать удары.
Я заглянула в конверт, чтобы убедиться, что там ничего не осталось. Внутри было пусто. Я встряхнула его, чтобы окончательно в этом удостовериться, а затем перевернула его над столом. Встряхнула его еще пару раз. Убедившись, что там пусто, я осторожно положила его на место.
Затем развернула письмо и стала читать.
Дорогая Хезер,
я пишу это сразу же после того, как бросил тебя в аэропорту. Прости. Знаю, что причинил тебе боль, и у меня от этого разрывается сердце. Если твоя боль до сих пор так же сильна, как и моя, то мне жаль вдвойне.
Я не мог поехать с тобой в Нью-Йорк, потому что это от меня не зависит. Я болен, Хезер, и не поправлюсь. Я не могу — и не стану — перекладывать это на тебя, на нас. Поверь мне, я не пытаюсь быть мелодраматичным. Я пишу это в здравом уме и при ясной памяти. Называй это как хочешь… Судьба, случайность, невезение. В этот раз нам не повезло. Наша удача была недолгой.
Но этим можно было утешаться, правда? Для меня это было так.
Ты скрасила мои дни, Хезер. Я любил тебя всей душой и телом. Любовь находит нас, проходит сквозь нас и идет дальше…
Дж.
Я перечитала письмо трижды, десять раз, перечитывала его до тех пор, пока моя рука не затряслась настолько сильно, что больше не могла держать листок. Я положила его на стол и задержала дыхание. Я смотрела вверх сквозь голубую воду бассейна и пыталась избавиться от всех эмоций. Я задержала дыхание надолго.
Затем пошла к Эми.
— Ты сделаешь мне одолжение? Сбегай, пожалуйста, наверх, в нашу комнату, и принеси мне мою сумку для книг… Ты знаешь какую.
— Конечно, милая. Ты можешь сказать мне, что в письме?
— Принеси мне сумку, пожалуйста, и тогда я пойму. Я бы и сама сходила, но не доверяю своим ногам. Сумка. На столе.
Она кивнула, коснулась моей руки и ушла. Спустя пару минут Эми вернулась на наш крохотный островок посреди папоротников. Она поставила сумку передо мной. Я вытащила оттуда дневник дедушки Джека.
— Ты привезла его с собой? — спросила Эми.
— Я всегда ношу его с собой. Даже на работу иногда. Когда он со мной, я верю, что вот-вот встречу Джека.
— О, бедняга. Тебе совсем плохо. До чего же печально.
Я достала дневник. Он, как всегда, удобно лежал в моей руке. Я узнала строку из письма. Открыла дневник и почти сразу же нашла ее.
«…они танцевали на площади, с колокольчиками на шее. Это был необузданный и нестерпимый звук. Я увидел женщину и мужчину, которые, как мне показалось, танцевали танец ярости. Мужчина был высоким и угловатым, а еще что-то случилось с его лицом. На нем была полумаска волка. Женщина танцевала, подбрасывая юбку, словно лезвие косы. Она кружилась, кружилась, и ее красота лишь усиливалась, пока она превращалась в фитиль в центре собственной свечи. Я долго наблюдал за ними. Наступил вечер, а они продолжали танцевать, пока их земляки и соотечественники смотрели и повторяли движения за ними, и тогда, впервые после войны, мое сердце запело. Да, они танцевали, чтобы прогнать зиму обратно в горы, но помимо этого они танцевали, потому что зиме всегда приходит конец, войнам всегда приходит конец и жизнь побеждает снова и снова. Глядя на них, я понял, что любовь не статична; у любви нет границ. Любовь, которую мы находим в этом мире, приходит к нам и в то же время уходит прочь. Говоря, что мы находим любовь, мы неправильно используем слово «найти». Любовь находит нас, проходит сквозь нас и идет дальше. Мы не можем найти ее так, как воздух или воду; это жизненно необходимые вещи, так же как и любовь. Любовь насущна и проста, как хлеб. Если искать ее, то увидишь ее везде и никогда не останешься без любви».
— Я знаю, где он должен быть. Сейчас как раз весна, он точно будет там. Это написано здесь, в дневнике. Я знаю, где он должен оказаться в конце концов. Эта запись сделана весной. Именно так должно закончиться его путешествие. В этом есть смысл.
— Ты пугаешь меня, Хезер.
— Только посмотри на дату записи. Это сейчас. На два дня раньше. И фраза, которую он цитирует в письме… Она из дневника. Любовь находит нас, проходит сквозь нас и идет дальше. Видишь? Вот здесь.
— Но ведь это не значит, что он следует дневнику. Прости, Хезер, я правда пытаюсь тебя поддержать, но это лишь строчка из дневника.
— Это последняя строчка письма. И именно с этой записи начинается дневник. Это фестиваль. Он будет там. Я точно знаю, что будет. Он рассказывал мне об этом месте. Он говорил, что вечером перед наступлением нацистов весь город вышел на улицы и танцевал. Они танцевали перед лицом смерти. Именно поэтому он будет там. Он этого точно не пропустит. Он хочет потанцевать перед лицом смерти. Это Джек.
Я вскочила на ноги.
— Я собираю вещи, — сказала я. — Поеду к нему.
— Хезер, погоди. Это какое-то безумие. Ты не можешь быть уверена, что он там. Ты даже не можешь знать наверняка, что он будет там на этой неделе или хотя бы через пару дней, верно? Ну же, одумайся. Ты уверена? Ты уверена, что знаешь, где он?
— Ты права, конечно. Я знаю. Знаю, что действую совершенно иррационально, но я не могу оставить это просто так, Эми. Ты что, не понимаешь? Я пыталась отпустить его, но я должна с ним увидеться. В конечном итоге он должен приехать туда. Он точно там будет. Сейчас весна, и он просто обязан следовать журналу до самого конца.
— А что с твоей работой?
— К черту работу.
— Ты ведь не серьезно. Ты сейчас не в состоянии трезво мыслить.
— Может быть. А может, впервые я мыслю трезво. Я никогда не должна была отпускать его.
— У тебя не было выбора.
— Я буду искать его там, пока не найду. Теперь мне плевать. Я больше не могу так жить. Я должна снова увидеть его. Так или иначе, я должна убедиться, что не сошла с ума, чтобы верить во все, что у нас было.
Эми вздохнула. Я заметила, как она снова мысленно взвешивает мое решение. Внезапно я увидела перед собой прежнюю Эми, дикую Эми, которая ожила из глубин ее души. Ее глаза засияли, и она, схватив меня за руку, сжала ее.
— Иди к нему, — сказала она воодушевленно. — Иди, найди его и не останавливайся, пока не получишь желаемое. Слышишь меня? Если ты не найдешь его, то всю свою жизнь будешь жалеть о том, что не выяснила, что же с ним случилось. Он — твоя большая любовь, а любовь никогда не меняется.
— Он изменился. Он болен. Он ушел, чтобы я была свободна.
Эми сжала мою руку еще сильнее.
— Я тебе верю, — сказала она. — Или так, или же у тебя случится нервный срыв.
Я обняла ее. Так крепко, как только могла. Я засмеялась, но это был короткий, резкий смешок, больше похожий на кашель или нечто подобное.
— Я не могу бросить все на полпути. И не могу жить дальше, пока не пойму, что случилось. Не могу.
— А если ты неправильно все поняла?
— Тогда я влюбленная дура. Это ведь не так и плохо, верно? Быть дурой во имя любви.
Она отпустила меня и кивнула. Я кивнула ей в ответ и побежала наверх собирать чемоданы.
Батак
52
Батак, Болгария, апрель 1946 года
«Мужчина наклонил бутылку ко рту и сощурил глаза. Он пошатнулся, опьяненный; парень собрал вокруг себя толпу, пообещав опустошить бутылку «лютого джина». Я знаком с этим джином. Гремучая смесь спирта и ячменя. Совершенно очевидно, что ему было плевать на свое здоровье. Несколько зевак рванулись к нему, чтобы опустить его руку, но он лишь отмахивался, толкая их и уклоняясь, до тех пор пока ему не удалось снова обхватить горлышко бутылки губами. Я и не заметил бы его слез, если бы последние лучи солнца не упали на его профиль. Это был уродливый мужчина, которого еще больше уродовали звериная гримаса и рот, прикованный к пойлу, на нем был поношенный пиджак и штаны с драными коленями. Казалось, он отчаянно хотел залить в себя этот спирт, отчаянно желал забыться, и каждое движение его адамова яблока заявляло о победе самоубийства. Наконец он швырнул бутылку в сторону, распростер руки — та-да! — и, поклонившись толпе, рухнул на землю. Даже на войне мне не приходилось видеть, чтобы человек так быстро выходил из строя. Он до того стремительно рухнул, словно некая сила сверху вогнала его в землю, и я отвернулся, чтобы не смотреть, как его стошнит. Но его не рвало; он стал кататься по земле, ухватившись за живот. Один из его друзей поставил его на колени и колотил по спине до тех пор, пока мужчина наконец не изрыгнул прозрачную струю жидкости. Толпа ликовала, а пьянчуга снова свалился наземь, уставившись в вечернее небо. Его слезы оставили следы на грязном лице и рту и, смешавшись с блевотиной и алкоголем, светились в последних лучах солнца. Две влажные отметины, соединявшиеся на губах, напомнили мне песочные часы…»
Таксист — огромный мужчина с пышными усами, открыто радовавшийся возможности попрактиковать английский с молодой американкой, — вез меня в батакский отель под названием «Орфорд». Это была начальная точка маршрута из дневника дедушки Джека. По дороге таксист сообщил мне, что в этом отеле вряд ли будут свободные номера.
— Слишком много танцоров. Это же фестиваль Сурва. Все люди… Изо всех стран… Все приезжают сюда, чтобы танцевать. Надевают маски. Вы знаете этот репутацию? Этого городка? Люди слышать, что наступать нацисты, они смотрели вверх, на гору, и танцевать. Безумные человеки, танцуют перед лицом смерти. Это стоит смотреть.
— Что бы вы посоветовали? — спросила я. — Где мне остановиться?
— Сложно сказать… Зависит… Что вы ищете?
— Я не уверена. Любую комнату.
— Иногда семьи… Вы понимаете, семьи?.. Иногда они сдают комнаты для аренды… Они размещают их на доске… Клеят на доску.
— Доски объявлений?
Он многозначительно кивнул:
— Да, сообщения.
— Когда начинаются танцы?
— Уже начались. Все танцуют. Танцуют три дня. Некоторые люди, они сдают свои машины, чтобы спать. Еще холодно по ночам. У нас снег в горах.
Когда мы въехали в городок, я стала внимательно рассматривать пейзажи за окном. Это была небольшая деревня. Численность населения вряд ли превышала четыре тысячи, а то и меньше, но город явно был переполнен желающими попасть на фестиваль. Уличные фонари, здания и лестницы были увешаны еловыми гирляндами и весенними цветами, а еще время от времени я замечала кого-то вроде танцоров с огромными масками из папье-маше, как правило разукрашенными в диковинные цвета. Маски неизменно изображали страшное лицо; они напоминали мне маски с Марди Гра, только эти были более примитивными и кое-как перекликались с лесистыми округами города.
— Надеюсь, снега не будет? — вяло сказала я, отчаянно надеясь, что можно будет поспать на свежем воздухе. — Вы не знаете, каков прогноз погоды?
В ответ таксист лишь поджал губы. Кто знает? Конечно, он не знал.
Когда мы заехали немного глубже в город, меня охватило чувство торжества. Да, я была сумасшедшей женщиной. Все было настолько просто. Я понятия не имела, где на самом деле находится Джек. Я задумалась: даже если он действительно здесь, это ведь не дает гарантии, что мне удастся его найти. Он мог приехать на один день и уехать, прежде чем я его найду. Зато я впервые в жизни совершила нечто по-настоящему спонтанное. Я не взвешивала за и против, не составляла подробного плана, не делала точных расчетов. Впервые в жизни я действовала инстинктивно, пошла на риск, последовала зову сердца. Именно Джек научил меня этому; Джек научил меня этой свободе. Кем бы он ни был и что бы ни значил для меня, он открыл во мне нечто, давным-давно заржавевшее и съежившееся за ненадобностью. Он вселил в меня надежду, научил доверять неожиданностям, которые готовила жизнь, и открываться им. Не нужно портить все фотографиями и постами в Facebook. Нужно лишь отдаться моменту. Одна из важнейших вещей, которые я поняла благодаря Джеку.
Тем временем водитель медленно вез меня мимо городской площади. Полиция очертила огромную область желтой лентой. Танцоры уже начали понемногу собираться. На их шеях красовались длинные ленты с колокольчиками, и их звон становился все громче с каждым метром.
— Я могу выйти прямо здесь, — сказала я водителю. — Наверное, здесь так же красиво, как и везде?
— О, красиво, да, — сказал он, объезжая пешеходов, снующих туда-сюда.
— Это танцоры?
— В Батаке все танцоры. Все отвечают за уход зимы и наступление теплой весны.
— Да, — согласилась я, оглядываясь вокруг. — Да, конечно.
Звон колокольчиков достиг своего пика, когда я вышла из машины. Танцоры, вновь и вновь прибывающие на площадь, то и дело скакали и вертелись, заставляя свои колокольчики звенеть. Большинство из них были молоды, но не все. С неба медленно падал легкий снег. Я подняла глаза к небу. Бури не предвиделось; казалось, снег и сам падал неохотно, опускаясь серым облаком. Хотя на улице было еще светло, в зданиях вокруг зажглись огни.
Такси уехало, а я еще долго стояла на месте. Я не двигалась.
Смотрела, как собираются танцоры — огромные маски оскаленных львов, драконов, страшных собачьих морд и диких пухлых детей, — и думала, не попала ли я в чей-то страшный сон. Но меня спасли выражения лиц остальных людей: они были беззаботными и счастливыми, и стало совершенно ясно, что это событие несет в себе безудержное веселье. Дедушка Джека приехал сюда после войны, и я могла представить себе то удовольствие, которое он получил от этого праздника, когда весь городишко решительно восстал против всемирного зла. И все эти безумные человеки, как сказал водитель, действительно танцевали перед лицом смерти. Я читала об этом. В ночь перед вторжением немцев в город его жители не придумали ничего лучше, чем просто танцевать. Я прочла это в дневнике дедушки Джека.
Казалось, я не двигалась уже целую вечность. Я ждала — надеялась, — что музыка меня заразит. Хотелось, чтобы меня охватил весь этот примитив, но пока что мне не удавалось приобщиться к веселью. Я завидовала танцорам. Казалось, они так просто слились с музыкой, тряся колокольчиками у подножия темных гор. Я никогда не умела так расслабляться. Джек пытался научить меня этому, но я так и не смогла сделать последний шаг.
Вот о чем я думала, стоя на площади города Батак, что в Болгарии.
И тогда-то я почувствовала, что замерзла.
53
— Это совсем немного, — сказал мистер Ру.
Я не уверена, что правильно расслышала его имя. Мистер Ру? Мистер Кенгуру? Во всяком случае, у этого имени было какое-то значение. Когда он мне представился, я плохо поняла, что он сказал. Теперь же я следовала за ним по длинному коридору, где пахло капустой, снегом и котами. Это место было похоже на жилой дом, но сложно было определить, так ли это на самом деле. С улицы доносилась какофония колокольчиков. Мистер Ру — мужчина с громадным пузом и густыми эмоциональными бровями — повернулся ко мне и совершил безуспешную попытку перекричать звон. Он поднял палец, прося таким образом, чтобы я подождала.
На мистере Ру были голубая рабочая рубашка и черный шерстяной жилет, заправленный в брюки. Он напомнил мне восточно-европейского киноперсонажа, который заправляет трактиром и предостерегает посетителей не ходить в горы, к замку Дракулы. Но он, казалось, был рад видеть меня в качестве гостьи, поэтому, провожая меня по второму коридору, в этот раз избавленному от назойливого звона, он повествовал историю здания.
— Когда-то это были… военные казармы. Общежитие. Понимаете? Маленькие комнаты. С обычными койками. Понимаете?
— Я понимаю.
— Мы много берем за эти комнаты… Больше, чем следует, но с этим ничего нельзя поделать.
— Это фестиваль, — согласилась я.
Я подумала о том, как Хемингуэй посещал корриды в Памплоне, пьянствуя от заката до рассвета и кочуя от бара к бару, но этот фестиваль вызывал совсем другие чувства. Это место было окружено горами, а путеводители называли такие ландшафты карстовыми. Это природные зоны с речными ущельями, огромными пещерами и расщелинами в горной породе, где прячутся духи зимы, пока весенние танцоры не прогонят их домой, в ледяные страны. Хемингуэй праздновал смерть при жизни; фестиваль Сурва жаждет жизни. В этом есть разница, но я пока не могла понять, в чем она заключается.
Мистер Ру открыл дверь в мою комнату.
— Просто, — сказал он, придерживая дверь.
Слово «примитивно» описало бы эту комнату лучше, но меня все устроило. Ру не обманул: это была конура три на четыре метра, с полом, выкрашенным в серый цвет, койкой, накрытой шерстяным покрывалом, и желтыми столом и стулом, стоящими у дальней стены. Я не обнаружила ни одного источника тепла. Большое окно выходило на внутренний двор. Мне оно понравилось: я засмотрелась на снежинки, которые, словно мотыльки, падали в сером дневном свете.
— Хорошо? — спросил меня мистер Ру.
— Прекрасно, — ответила я.
По его лицу тут же расплылось облегчение. Я вдруг поняла, что ему было неудобно показывать «иностранке» такую скромную комнату. Решив этот вопрос, он включил верхний свет и показал, как нужно вставлять монетку в маленький обогреватель на стене. Этот обогреватель напомнил мне лицо Амура с невинно надутыми губками, откуда дуло тепло, стоило лишь положить туда монетку. Мистер Ру стоял, протянув руки к обогревателю, словно только что разжег великолепный огонь. Я решила, что симпатизирую этому мужчине, и, если бы он сказал мне не брать карету к замку Дракулы, я бы обязательно прислушалась к его совету.
— Так лучше? — спросил он, когда я сбросила рюкзак на желтый стол.
— Лучше, — сказала я.
— Вы знаете историю гор?
Я покачала головой.
— О Родопе и Геме… Очень известная. Они были братом и сестрой. А потом… они начали желать друг друга. Очень неправильно. Из-за своей красоты они называли друг друга именами богов. Зевс и Гера. Понимаете?
— Да, — сказала я.
— Настал такой день, когда настоящие Зевс и Гера, они разочаровались в Родопе и Геме… Сказали, что неправильно использовать имена богов. Поэтому в знак того, что они — настоящие Зевс и Гера, они превратили молодых брата и сестру в горы. Это Болгария.
— Завистливые боги, — сказала я.
К моменту, когда мистер Ру закончил историю, в комнате стало тепло. Мне захотелось спать. Мистер Ру улыбнулся.
— Я вас оставлю. Мы подаем суп в семь часов. Хороший суп. А пока спите. Я вижу, вам нужно поспать.
— Да, — сказала я. — Кажется, я устала от путешествий.
— Конечно устали. Когда вы путешествуете, ваша душа… Как сказать? Она высоко в небе.
— А когда дома?
— Мы здесь верим, что душа делится на две части, и одна из этих частей живет на вашей родной земле! — смеясь, сказал мистер Ру. — Когда вы в родной стране, то ноги находят вторую половину в душе, и только тогда она целая. А когда путешествуете, то у вас только половина души. Вы верите в такие вещи?
— Я верю во все, — сказала я, чувствуя, что если не лягу, то вот-вот упаду в обморок.
Мистер Ру поклонился, кивнул и вышел в коридор. Снова сказав, что, может быть, спущусь на суп, я закрыла за ним дверь. В комнате было тепло и слегка пахло газом, который выходил из обогревателя в виде лица Амура. Я рассеянно задумалась, может ли этот обогреватель с угарным газом убить меня, если что-то пойдет не так. Представила себе, как бы это было.
Я подошла к койке и растянулась на ней. Хотелось плакать, но я была слишком шокирована, слишком не в своей тарелке, чтобы позволить себе даже столь небольшую слабость. Я вдруг осознала, что в случае чего от отчаяния сбегу в горы, к духам зимы. Можно было поселиться в карсте[17], вырастить мох в волосах и жить среди диких камней и трепещущих сосен. Проваливаясь в сон, я подумала о том, что люди танцуют не для того, чтобы прогнать духов, а для того, чтобы высмеять их.
Я проснулась на закате, не сразу вспомнив, где нахожусь. Было холодно — это все, что я знала. Я вздрогнула, подоткнула под себя одеяло и вспомнила, что мистер Ру показывал, как пользоваться обогревателем. Встала, обмоталась одеялом и принялась рыться в рюкзаке, пока не нашла пару монет. Их валюта казалась мне странной, поэтому я согнулась, чтобы рассмотреть монеты поближе. Представила себе, как это выглядело со стороны: странная женщина со взъерошенными волосами, обмотанная одеялом, стоит в сумеречном свете и считает монеты. Не особо вдохновляющая картина.
Чтобы заставить обогреватель снова выдувать теплый воздух, мне пришлось потратить три монеты. Я протянула руки к крохотному рту — так же, как это делал мистер Ру. А затем забралась обратно в постель.
Я долго запрещала себе делать что-либо, думать о чем-либо, прежде чем хоть немного согреюсь. Казалось, это неплохой способ подхода к вещам: просто брать маленькие цели и достигать их. Во-первых, согреться. Во-вторых, быть может, сходить поесть супа. В-третьих, выяснить, какое безумное побуждение привело меня в Батак по такой абсурдной прихоти. Последнее задание требовало тщательного самоанализа, поэтому я отложила его на потом и решила сосредоточиться на супе.
Что это за суп такой? Я понятия не имела. Свекольный, наверное. Что-то, приготовленное из овощей, лука и малосъедобной темной воды. Нет, не малосъедобной, а горной, воды из ванн духов зимы, которая, словно корни, из карста сползала вниз, в деревню. Вот какой суп подаст мне мистер Ру.
Мысли о супе утешили меня на какое-то время. Тепло постепенно распространилось по комнате. Я попыталась угадать, который час. Мой телефон лежал на столе в другом конце комнаты — это казалось просто непреодолимой дистанцией. Но я заставила себя выбраться из постели и взять его. Затем свалилась в постель с тихим «ух», поддавшись гравитации.
Шесть тридцать семь. Примерно двадцать минут до супа.
Я набрала номер Эми, но отменила вызов еще до того, как послышались гудки. Вместо этого я отправила ей сообщение, написав, что благополучно доехала, что со мной все хорошо и что вообще все в порядке. Сказала, что это удивительное место, смайлик, смайлик, смайлик.
54
Суп с картошкой и луком-пореем.
Мистер Ру и безымянная женщина — на ней было платье путцфрау[18], как на одной из горничных в Берлине, Вене или Кракове, — выставили миски с супом для постояльцев в его малообитаемой столовой. Однако называть это помещение столовой — немного слишком. Это была огромная серая комната с длинными столами. Спасала ее только массивная дровяная печь в самом углу. Это была печь с открытыми дверцами, так что она, помимо всего, играла роль камина, а свет от ее пламени наполнял комнату золотым мерцанием.
Я взяла свою миску супа у безымянной женщины — жены мистера Ру, его сестры или матери? — и отнесла ее к креслу рядом с печкой. Мистер Ру прошелся по комнате с подносом черного хлеба. Я взяла кусочек и невольно подумала о причастии. Суп был слишком горячим, чтобы приступать к трапезе. Я держала его на коленках и наслаждалась теплом, исходящим от миски.
— Тепло? — спросил мистер Ру, во второй раз пытаясь мне угодить.
— Тепло, — сказала я, хотя понятия не имела, что он имел в виду — обогреватель наверху или печь передо мной.
В конце концов суп остыл, и я смогла его попробовать. Я проголодалась, поэтому мне он показался довольно вкусным. Вкус напомнил лук и летние газоны. Мистер Ру дал мне второй ломтик хлеба. Я съела и его. Отчасти есть было проще, чем думать. Размышления значили, что мне придется планировать свои действия. Но единственное, чего мне хотелось, — это вернуться в свою спартанскую комнату и проспать ночь напролет. Я чувствовала лишь усталость и растерянность. Мой план приехать в Болгарию, чтобы найти Джека, теперь казался таким безрассудным, таким кричаще нелепым, что я удивилась, почему Эми не толкнула меня на землю и не привязала, чтобы я никуда не уехала. Но она приняла мои заверения — честно, Эми, он должен быть там, именно там начинается дневник, я клянусь, в этом есть смысл, только если знаешь Джека, если читала работу его дедушки, — я столь увлеченно ее убеждала, что убедила и себя.
— Вы будете смотреть, как они сжигают Старуху? — спросил мистер Ру, убирая посуду. Остальные гости разбрелись кто куда. Я сидела в одиночестве перед огнем.
— Сжигают старуху? — не поняв, о чем идет речь, спросила я.
— Старуху Зиму. Они несут ее на площадь, а там сжигают. И тогда с гор спускается весна.
«Это должно быть тепло», — подумала я. Мое восприятие мира вдруг стало двойственным — тепло или не тепло.
— Есть какой-то способ найти кого-то на фестивале? Оставить кому-то сообщение? — спросила я.
Мистер Ру облокотился на один из столов и взглянул на меня.
— Вы в порядке? — спросил он.
Я пожала плечами. Чтобы не заплакать.
— Мне нужно найти кое-кого здесь, — сказала я, взяв эмоции под контроль.
— Потерянный мальчик?
— Да, — сказала я, улыбнувшись при упоминании потерянных мальчиков и подумав о Питере Пене. — Потерянный мальчик.
Мистер Ру немного подумал, а затем оттолкнулся от стола, едва заметно улыбнулся и потянулся за моей миской.
— Фестиваль, — сказал он, — это хаос, никогда не предугадаешь, что найдешь. Или что найдет тебя. Но иногда боги вспоминают о нас. Выходите и ищите. Что вам терять?
Старухе Зиме пришлось нелегко.
Я смотрела, как ее несет команда сильных мужчин — это было шумное шествие, охватившее около двух кварталов города, — подняв ветхий стул над головами. Хотя Старуха Зима и была пугалом, это все же было старательно сооруженное пугало, с усмешкой, кое-как нарисованной на его лице. Ростом Старуха Зима была не ниже среднестатистического человека, а на ее плечи надели пиджак с бутоньеркой, торчащей из лацкана. Мужчины, несущие ее, были в цилиндрах, а их лица — выкрашены в белый цвет. Я понятия не имела, какое символическое значение имели цилиндры, но была готова идти с этими мужчинами.
Я хотела идти с ними.
Хотела, чтобы и меня несли так, как Старуху Зиму, а потом бросили в огонь и выжгли все воспоминания о Джеке раз и навсегда. Колокольчики звенели с дикой энергией, звон эхом отбивался от старых городских стен и назойливо преследовал мои мысли. Я стояла посреди проспекта и, вжавшись в дверь магазина позади себя, смотрела на шумное пьяное шествие — даже со стороны я чуяла нотки алкоголя, словно вместе с толпой танцевала огромная волна кукурузы и пшеницы, — то и дело разбивающееся на небольшие кучки гуляк. Когда основная масса народа ушла вперед, я пошла следом за ними, надеясь увидеть, как Старуха встретит свою судьбу.
Вот когда я увидела Джека.
Когда я думала, что увидела Джека. Когда Джек вынырнул из толпы лишь на миг, а затем снова исчез.
Это было похоже на удар ниже пояса. Или как если бы кто-то взял острый тонкий напильник, похлопал бы им о ладонь, а затем изо всех сил воткнул его прямо в мясистое углубление на моей переносице. Я не могла пошевелиться. Кто-то пихнул меня и извинился. Я лишь предположила, что он извинился, потому что на самом деле ничего не понимала. Я обернулась и кивнула. Затем снова приковала взгляд к кучке людей, в которой только что видела Джека.
Где Джек Вермонтский, мой Джек, радостно танцевал, подняв руки вверх, с красивой женщиной рядом с ним.
С прекрасной женщиной.
Но был ли это Джек? Был ли? Я не могла сказать это с уверенностью. В один момент я была абсолютно уверена, что Джек, словно призрак, появился в толпе с поднятыми руками. На нем была его коричневая ветровка — та самая ветровка, которую он всегда носил. Но уже через секунду рациональная часть моего мозга отклонила этот желаемый образ. Это была лишь иллюзия. Как следствие истощения и перевозбужденного эмоционального состояния.
И был ли он с другой женщиной? Это то, что я увидела?
Видела ли я вообще хоть что-то?
«Стоп», — подумала я. Нужно, чтобы все остановились хотя бы на миг. Словно я уронила контактную линзу на пол. Всем оставаться на своих местах. И тогда я могла бы пройти между ними, словно в самой большой в мире игре в «Утка, утка, гусь», дотронуться до каждого и попросить их выбыть из игры. Я бы выгоняла их по очереди до тех пор, пока не нашла бы Джека или его двойника, или мужчину, который настолько сильно похож на Джека, что это служило бы рациональным объяснением моей галлюцинации.
Я поспешила вперед. Люди вдруг стали кричать и ликовать еще громче, и к тому моменту, когда я добралась до толпы, Старуху Зиму уже объяло пламя. Она горела на самой верхушке огромного костра, а ее чучельное тело превращалось в фитиль посреди пронзительно-желтого пламени. Толпа кричала и танцевала, а колокольчики, беспрестанные, назойливые колокольчики, трезвоня адским хором, насмехались над страданиями Старухи. Я смотрела, как меняются маски в зависимости от угла света, падающего на них. Я уже не в силах была определить, что чувствую: дикий призыв к самой себе, страх, радость, ярость. Кружа среди сумасшедших танцоров, я осознала, что, может, в этом все и дело. Может, под зимой подразумевается прежде всего зима, живущая внутри нас.
Я искала час. Два часа. Искала до тех пор, пока пылающая Старуха и ее пламенный трон не превратились в тлеющую кучу пепла и головешек. Искала, пока не пришли местные полицейские и не приостановили толпу, чтобы пожарная охрана смогла потушить остатки огня. Затем я смотрела, как экскаватор сгребает пепел и отходы и высыпает все это в кузов синего грузовика.
Старухи больше нет. Джека тоже. Я отправилась в свою комнату, к мистеру Ру и обогревателю с пухлыми губками и горячим дыханием. Мой потерянный мальчик оставался потерянным.
Я не могла уснуть.
Я даже не дремала. Лишь кормила Амура монетами и лежала в постели, изо всех сил пытаясь придумать хоть какой-то план. Придумать хоть что-нибудь. Больше всего я раздумывала о том, действительно ли я видела Джека. Сперва я думала, что это должен был быть Джек. Я знала его силуэт, его телосложение, его походку на подсознательном уровне. И как только я привыкала к этой мысли, на крохотных мышиных лапках в комнату прокрадывалось сомнение, подергивая носом и ушками, шевеля усами.
«Это не мог быть Джек, — твердила мышка в такие моменты. — Подруга, тебе давно пора забыть об этом парне».
И даже если это действительно был Джек, если это он танцевал в толпе, то кто был рядом с ним — его новая девушка? Он подцепил ее так же, как подцепил меня? Значит, такая у него схема? Романтик-социопат? Серийный сексуальный маньяк?
Нет, я никак не могла уснуть.
И ясно мыслить — тоже.
Комната начала понемногу сжиматься. Я понимала, что все это происходит в моей голове, но не могла отрицать то, что чувствую. Я встала и решила размяться. Примерно четверть часа ушла на йогу. После этого я достала iPad и попыталась найти Wi-Fi. Ничего. Комната продолжала сжиматься. В конце концов я схватила куртку и отправилась на улицу. Снаружи было холодно, противно и темно. Если горожане действительно пытались отправить Старуху Зиму в горы или, по крайней мере, убить ее, то у них ничего не получилось. Во всем городе пахло обугленными остатками костра.
Я понятия не имела, насколько безопасно гулять здесь одной. Время от времени мимо меня проходили то пара, то группа гуляк. Я всегда кивала. Пыталась заставить себя развернуться, отправиться обратно к Амуру и постараться уснуть. Кроме того, я приказала себе позвонить в аэропорт утром и забронировать билет из Болгарии. Я даже подумала о том, что нужно позвонить родителям, хотя бы маме, просто чтобы убедить их, что я не спятила. Затем осознала, что нужда убедить родителей в собственной адекватности — это плохая тема для размышлений. Если хочешь убедить кого-то в том, что ты не умалишенная, то, скорее всего, ты как раз таки лишилась рассудка.
Я бродила еще около получаса, пока не наткнулась на пару.
По-другому их не назовешь. На них были волчьи маски, из-под которых виднелись лишь губы, и прекрасные наряды. Мужчина облачился в старомодный пиджак, как у Джорджа Вашингтона, штаны до колена — плюс гольфы — и белокурый парик. Женщина была одета в стиле Марии Антуанетты: в пышном платье из парчовой ткани, сером парике и более узкой лисьей маске, достающей до кончика ее носа. В их образах совершенно не было смысла. Поначалу я даже не поверила глазам. Какое отношение к фестивалю имеют костюмы 1700-х годов? Но, прежде чем податься к ним — они стояли у рабочего фонтана, а брызги воды в белой дуге света разлетались во все стороны, — я услышала их музыку. Волк — так я прозвала его мысленно — положил виниловую пластинку на крошечный проигрыватель и сделал шаг назад, чтобы убедиться, что все работает исправно. Когда заиграла музыка — это было что-то вроде вальса, — он развернулся и поклонился волчице. Она сделала реверанс и шагнула к нему.
И они начали танцевать.
Танцевали тихо, умело, и пока они двигались, даже фонтан, казалось, пытался замереть. Они танцевали на брусчатке, и я была единственным свидетелем. Странно, но я точно знала, что танцуют они лишь друг для друга. В них не было ничего показного, кроме этих диковинных костюмов. Они не отрывали друг от друга взгляда, не смотрели по сторонам. Просто продолжали двигаться и кружиться под хрип старой пластинки, пока вода придавала их танцу мерцания. Глядя на них, я заплакала. Я молилась, чтобы это было знаком, надеждой на то, что я найду Джека, но какая-то часть меня уже распрощалась с этой надеждой. Чтобы поверить, что эти двое по-настоящему влюблены, мне хватило того, что ночью на площади они танцевали вальс под музыку из переносного проигрывателя.
Я понаблюдала за ними еще минуту или две, а затем как можно тише ступила назад. В приглушенном свете фонтана я видела, как они кружатся и вращаются в волчьем танце холодной весенней ночью.
55
На следующее утро я завтракала в столовой мистера Ру. Он приготовил вкусную овсянку и подал ее с корицей и толстым ломтем вчерашнего черного хлеба.
Я рассказала ему, что видела Джека. Что думала, что видела Джека, так или иначе. Совсем скоро это превратилось в его идею фикс — то, что я должна найти своего, как он говорил, потерянного мальчика. Но у него не было предложений, как сделать это. Он просто твердил, что судьба сделает свое дело. Ему нравилось слово судьба, поэтому он часто повторял его. Он сказал, что если перестать искать, то искомое непременно найдется. Затем он спросил, понравилась ли мне овсянка. Я сказала, что его овсянка идеальна.
Прежде чем я доела, зазвонил мой телефон. Эми. Я извинилась и отошла к пустому столику, чтобы с ней поговорить.
— Ты в порядке? — сразу же спросила она. — Скажи, что все хорошо.
— Кажется, я видела Джека вчера вечером.
— В смысле «кажется»?
— Было слишком много людей, и я видела его лишь секунду. Я не успела быстро добраться до того места. И, кажется, он был с какой-то женщиной.
Эми вздохнула. Какое-то время она молчала. А затем заговорила.
— Ты найдешь его, Хезер, — сказала она.
— Я найду его.
— Я знаю, что найдешь.
— Я найду его.
— Но если поиски станут слишком мучительными, ты не должна там оставаться. Ты — капитан своего корабля, помнишь? Ты дикая, новая, свободная Хезер. Делающая то, что хочет, и посылающая работодателя к чертям.
— Я не мучаю себя. И я не посылала Банк Америки к чертям. Я ценю эту компанию. Я хороший работник.
Какое-то время моя подруга молчала.
— Как тебе фестиваль? Весело?
— Да. Хотя и очень странно. Я прекрасно провожу время. Никогда не делала ничего подобного.
— Я переживаю. А еще ты меня вдохновляешь. Ты совершила один из самых храбрых поступков, о которых я когда-либо слышала.
— Я в порядке, Эми. Я достаточно сильна для этого. Правда. Может, это был совсем не он. Сложно сказать. Люди вокруг танцевали, да и свет был тусклый. Может, я все это выдумала. Может, мой мозг воплотил фантазию в жизнь.
— С ним действительно была женщина?
— Возможно. Если я и правда его видела, то да, она была рядом. Я в порядке, Эми. Честно. На самом деле я чувствую себя сильнее. Мне кажется, будто он здесь, — сказала я, впервые признавшись в этом самой себе. — И дело не только в нем, Эми. И ты это знаешь. Дело в том, что было между нами. Если наша история не была настоящей, не значила для него столько же, сколько значила для меня, то я должна знать это. Я должна знать, что жизнь бывает настолько несправедливой. Если это действительно так, то ладно, я переживу, но буду относиться к этому по-другому. Будет больно, но я усвою урок.
— Это сделает тебя циничной. Боюсь, ты потеряешь веру в людей.
— Возможно, так и будет. А может, это часть взросления. Иногда взросление подразумевает отказ от чего-то. Мало ли.
— Оставайся там столько, сколько нужно. Не останавливайся на полпути.
— Не буду, обещаю. Если честно, то старая Хезер давно бы бросила это дело. Но только не сейчас. Я изменилась. Не такой уж и огромный этот фестиваль. Если он здесь, то в конечном итоге я его встречу.
Эми выдула ртом воздух. Я попыталась представить, который у них час, но мой мозг не справился с расчетами.
— Когда ты летишь в Японию? — спросила она.
— На следующей неделе.
— Ладно, — сказала она. — Это хорошо. Отправляйся в Японию и сделай себе новую прическу. Купи меч самурая. Встряхнись. Удачи тебе.
— Мистер Ру говорит, что все решает судьба.
— Мистер Ру? Кто такой мистер Ру? У него не может быть такое имя.
— Сегодня может, — сказала я и отключилась.
Я отправилась на прогулку. И я смотрела.
Постепенно мне удалось понять формат этого фестиваля. Просто непрерывные танцы. К слову, на время фестиваля нанимают специальных людей, которые танцуют все три дня, чтобы у зимы не было шансов снова пустить корни. Мне об этом рассказывали несколько людей. Звук колокольчиков пронизывал все на свете. Он настолько глубоко впился в мое сознание, что со временем я просто перестала его замечать, словно тиканье часов или шум поезда. Колокольчики, танцы, Батак. Фестиваль Сурва.
Я шла и размышляла над тем, как же получилось так, что я оказалась в Батаке, в Болгарии. Попыталась представить, как выгляжу со стороны. Вот идет девушка, достаточно привлекательная, хорошо одетая, которая просто бесцельно бродит по улицам целыми днями. Очевидно, американка, очевидно, туристка, очевидно, полоумная. Живет в крошечной комнатушке, спит на монашеской койке, пока белолицый купидон выдувает горячий воздух, чтобы она не замерзла.
Полный абсурд.
Я — это абсурд.
«Пила-пила, лети как стрела», — прошептала я пять раз, сотню раз, тысячу раз. Это кричалка из детства, она значила, что во время игры в прятки нужно выходить из укрытия. Джек меня не услышал. Джек не вышел из укрытия и не прекратил прятаться.
Я пообедала в кафе немного дальше от центра. Снова заказала суп. Овощной. Официант спросил, хочу ли я вина. Я отказалась. И заказала пиво. Попросила его принести самое темное, самое тяжелое и самое местное пиво, которое только у них есть. Он улыбнулся, кивнул и поспешил прочь. Это был низкорослый коренастый мужчина с огромными предплечьями. Он поставил пиво на мой столик и кивнул, чтобы я попробовала. Я послушалась. У пива был тяжелый и горький вкус, с привкусом корней деревьев и пальцев гномов, кто его знает, но это было лучшее пиво в моей жизни.
— Да, — сказала я. — Прекрасно.
И именно в этот момент я увидела, как Джек проходит мимо окна ресторана.
Я вскочила и подбежала к столу у окна — пара, обедавшая за ним, отклонилась назад, испугавшись или разозлившись из-за того, что мое тело внезапно повисло над их обедом.
— Простите, извините, простите, — сказала я.
Я постучала в окно. Стучала, пока не поняла, что оно может разбиться. Но Джек меня не слышал. Он не останавливался. Его коричневая куртка исчезла в толпе.
— Сейчас, — сказала я официанту, метнувшись обратно, к своему столику. — Вот, я плачу. Держите.
Я бросила деньги на столик. Официант начал рыться в карманах, чтобы дать мне сдачу, но я не стала ждать. Подбежала к двери, выскочила на улицу и помчалась за Джеком. Я бежала так быстро, как не бегала никогда в жизни. Я знала, что он может исчезнуть в одно мгновенье. Может свернуть в магазин или отправиться в свой отель. Случиться могло что угодно. Но он направился к центру города, где танцоры безустанно продолжали свои движения. Идя в этом направлении, он, скорее всего, будет наблюдать за торжеством. Был почти вечер, свет и шум вели туристов к площади, где проходят главные гуляния.
Я поймала его за полквартала до центра. Я узнала его спину, походку, форму его шеи и плеч. Я думала о том, как я могла не узнать его раньше, ведь его тело было знакомо мне до боли. Я кружила вокруг него, то и дело пытаясь увидеть его лицо. Мне не хотелось подбегать к нему и дергать за плечо, кричать прямо в лицо: «Привет, Джек. Помнишь меня? Помнишь девочку из Парижа?»
Может, он шел на встречу с другой женщиной.
Еще половину квартала я шла по другую сторону дороги и смотрела на него. Это было несложно. Улицы заполнили толпы людей. У него не было причины искать меня или верить в то, что кто-то может рассматривать его особо внимательно. Единственной причиной того, что он повернется ко мне, мог стать лишь шумный взрыв вокруг меня. На всякий случай я все же смешалась с танцорами и уверенно последовала за ним. Мы одновременно подошли к площади.
Я остановилась. Он тоже. Несколько минут мы стояли не двигаясь. Он не отрывал взгляда от танцоров. Я попыталась понять, куда он смотрит, чтобы убедиться, что он не ищет кого-то особенного.
Сколько раз я проигрывала этот момент в своей голове? Сколько раз я могла сказать ту или иную фразу, нужную фразу, которая бы все изменила, заставила бы Джека понять неправильность его действий, его виденья ситуации, которая заставила бы его сдаться и попросить меня принять его обратно? Я превратилась в сплошные хаос и дрожь. Я сомневалась, что вообще могу говорить. Я никогда не представляла себе этого момента. Никогда не думала, что подойти к нему будет настолько тяжело. В это же время я осознала, что по-прежнему его люблю. Люблю каждую его клеточку, каждый взгляд, каждую деталь его облика.
А еще я видела, что он болен. Он осунулся. Побледнел.
«Повернись ко мне, — думала я. — Повернись сейчас».
И он повернулся. Вот так просто.
Но его взгляд был направлен мимо меня. Он меня не видел. Он снова посмотрел на площадь, на танцоров, и я задержала дыхание, думая, как же так вышло. Может, лучше просто его отпустить? Впервые до меня дошло — по-настоящему, — что у меня тоже была обязанность. Может, моим долгом было его отпустить. Подойдя к нему, я нарушила бы его личное пространство, его право покинуть мир на своих условиях. У него было право побыть одному, и в этот момент я почувствовала себя полной дурой, эгоисткой, ведь я никогда даже не думала об этом.
В конце концов все решила судьба.
Его высота нас спасла. Он снова посмотрел в мою сторону, тут-то наши взгляды и встретились. В его глазах засияло понимание. Мысленно я поклялась, что не пойду к нему навстречу. Не пошевелю и пальцем. Я поняла, что ему еще не поздно уйти, и если он это сделает, я его отпущу.
Мы долго смотрели друг на друга. Вокруг нас, ничего не замечая, танцевали люди.
Он шагнул ко мне. Я не шевелилась. Это было мое обещание самой себе. Я смотрела, как он подходит все ближе, его лицо изменила болезнь, а тело было не таким крепким, как раньше. Ему пришлось остановиться несколько раз, чтобы увернуться от людей вокруг. И вот чудесным образом он оказался передо мной. Джек Вермонтский. Мужчина, которого я люблю безо всяких надежд и причин.
Он поднял меня, поцеловал, обнял. Он медленно кружил меня, и я знала, я чувствовала, что он потерял свою силу. Теперь я знала все, каждое слово и мысль, и я прижалась к нему, целовала его снова и снова. Он целовал меня и, медленно опустив на землю, целовал снова, останавливаясь и опять продолжая, словно поцелуи могли заменить и мысли, и воздух. Да и какой теперь толк в словах? Он умирал и решил не перекладывать на меня эту ответственность. Я не могла его винить.
— Я не мог полететь с тобой, — сказал он мне на ухо, уткнувшись лицом в мои волосы. — Я хотел, но не мог. Прости меня.
Я поцеловала его еще десять раз. Тысячу раз. Кивнула:
— Я знаю. Я все знаю. Я знаю о Томе.
— Лейкемия вернулась, — сказал он. — Это если в общих чертах. Я сдавал анализы еще до встречи с тобой, а результаты пришли только в Париже. Все плохо. Ничего хорошего.
— Что это была за женщина…
На секунду он растерялся, а затем улыбнулся.
— Это моя тетя. Она приезжала посмотреть, о чем дедушка писал в Батаке. Она улетела этим утром.
Я не отрывалась от него. Целовала его. А он умирал. Его тело потеряло упругость, силу и мощь. Лейкемия забирала его. Он обнял меня за плечи. Фестиваль был в разгаре. Уже завтра, я знала, он начнет утихать. Мистер Ру закроет некоторые комнаты и снова станет скромным трактирщиком. Город подметут, а Старуха Зима заживет высоко в горах, набираясь сил летом, чтобы потом снова вернуться с морозами и метелью.
Как только мы осознали, что снова вместе, нас окружила толпа танцоров и потребовала, чтобы мы танцевали вместе с ними. Невозможно быть на площади и не танцевать. Это негласное правило. Толпа схватила нас и заставила кружиться, танцевать, пока колокольчики противно грохотали. На мгновение, лишь на мгновение, мое сердце наполнилось радостью оттого, что я присоединилась к тысяче колокольчиков. От этого я начала танцевать еще отчаяннее, и тогда, приблизившись к Джеку, я обхватила его руками и сказала, что люблю его каждой частичкой своей души. Он ответил, что тоже любит меня. Он снова обнял меня, снова поцеловал. Мы танцевали отдельно от всего мира, соприкоснувшись лбами. Наше дыхание соединилось, а тела заряжали друг друга. Он сказал, что люди в Батаке верят, будто души умерших живут в деревьях, и если это правда, то он пообещал жить в нашем ясене, чтобы я могла приезжать к нему, когда он будет мне нужен. Сказал, что всегда будет ждать меня в Париже, в нашем Париже. Обнявшись, мы танцевали назло судьбе, которая пообещала нам так много, а потом так жестоко все это забрала, назло зиме, которую мы наконец убили. Мы танцевали до тех пор, пока у меня не перехватило дыхание, пока моя сущность не превратилась в альпийский воздух, прогнав холод из моего сердца. И тогда я взглянула на горы, где ждала нас весна, где каждый сезон зарождалась новая надежда.
1
Американская поэтесса. (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)
(обратно)2
«Кiss The Girls: Make Them Cry» — песня исполнителя Jim Galloway, переводится как «Поцелуй девочек: заставь их плакать». (Примеч. пер.)
(обратно)3
Netflix — американская развлекательная компания, основанная Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.
(обратно)4
Порода гончих собак, выведенная в Англии.
(обратно)5
Художественный музей в Амстердаме.
(обратно)6
Плотное натуральное волокно, которое используется для плетения, изготовления щеток и технической ткани, применяется в рукоделии и садоводстве в качестве перевязочного материала.
(обратно)7
В германо-скандинавской мифологии — небесный чертог для павших в бою, рай для доблестных воинов.
(обратно)8
Коллекция Фрика (англ. Frick Collection) — частная коллекция старой западноевропейской живописи, расположенная на Пятой авеню в Нью-Йорке.
(обратно)9
Балто (англ. Balto) — угольно-чёрный сибирский хаски, ездовая собака из упряжки, перевозившей медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году в городах штата Аляски, США. Был назван в честь норвежского исследователя Сэмюэля Балто. В Центральном парке Нью-Йорка установлена бронзовая статуя этого хаски. Скульптура изображает собаку, смотрящую вдаль, ее задние ноги напряжены, а на туловище надета упряжь.
(обратно)10
Форзи´ция (лат. Forsythia), также форсайтия, или форсиция — род кустарников и небольших деревьев семейства маслиновых с желтыми цветами.
(обратно)11
«Индиана`полис Колтс» (англ. Indianapolis Colts, рус. Индианапольские Жеребцы) — профессиональный клуб американского футбола, выступающий в Национальной футбольной лиге.
(обратно)12
Этот термин в буквальном переводе с французского звучит как «после лыж». На самом деле он означает весь спектр отдыха на горнолыжных курортах, который следует непосредственно после катания.
(обратно)13
Jack Daniel’s — вид американского виски.
(обратно)14
PBS — американская некоммерческая служба телевизионного вещания.
(обратно)15
Городок в штате Висконсин, США.
(обратно)16
Йо Йо Ма (7 октября 1955 г. р.) — американский виолончелист китайского происхождения.
(обратно)17
Растворимые водой осадочные горные породы (известняк, гипс), в которых образовались воронки, пещеры, провалы и гроты со своеобразной циркуляцией в них подземных вод.
(обратно)18
Putzfrau (нем.) — уборщица.
(обратно)

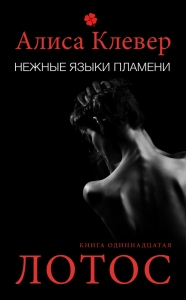








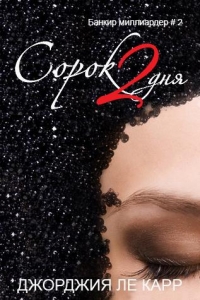


Комментарии к книге «Пойми и прости », Дж. П. Моннингер
Всего 0 комментариев