Посвящаю всем уповающим.
Пусть слёзы ваши высохнут.
Все события и персонажи вымышлены. Все совпадения с реальными людьми случайны.
Офис слёз
Вас муж избил? Тогда я – к вашим услугам. Разрешите представиться, Джек Купер, социальный работник с большим опытом. С девяти утра, до пяти вечера я служу носовым платком и островком безопасности для обиженных женщин, преимущественно – иностранок с видом на жительство в США.
Их били и бьют и в Турции, и в Мексике, и в России, но там они и не думают жаловаться. А здесь я каждый день выслушиваю одно и то же. Особенно много сюда приходит русских. Всему виной радужный мыльный пузырь мечты об американской жизни, в которой блондинки выходят из спортивных автомобилей с бумажными пакетами, полными продуктов из великолепных супермаркетов, и идут по направлению к роскошному особняку, окруженному изумрудными газонами.
Я должен признаться: глядя на этих женщин, я часто испытываю стыд и разочарование за то, что моя родина не оправдала их надежд на сказочную жизнь. Эти невесты едут сюда за счастьем, а получают унижение и боль.
Вот сидит дамочка, из эмигрантов. Жалуется на травму, муж её поранил, видите ли. Кому ещё не ясно, что в Америке не жалуются? Впрочем, эти новоприбывшие эмигрантки действительно первое время совершенно искренне думают, что оказались в сказке. Что, если их кто-то посмел обидеть, Чак Норрис сам явится на вороном скакуне и сразит обидчика одним плевком, попав ему прямо в глаз иглой, смоченной кураре. А вслед за Норрисом явится министр финансов и, с молчаливым достоинством дона Корлеоне, вручит пострадавшей элегантный дипломат из натуральной кожи, туго набитый стодолларовыми купюрами, в качестве компенсации морального ущерба.
Они действительно ждут чудес, эти очаровательные принцессы из стран второго и третьего мира. Проработав с ними восемнадцать лет, я практически потерял теплоту и сочувствие, – профессиональная деформация личности! Мне давно пора бы менять эту работу, но, нужно дотянуть ещё полтора года до пенсии, поэтому я прихожу в свой офисный кубик и изо дня в день выслушиваю эти совершенно не трогающие меня более истории о семейном насилии. Одну избил муж, другую бойфренд приковал к унитазу, третьей отчим брови сбрил, – и все они хотят помощи от меня. Я вручу несколько отличных брошюр: голубую, от правоохранительных органов, про домашнее насилие, жёлтую, от энергетиков, они помогут оплатить счёт за электричество, зелёная брошюра – это адреса фуд-банков. Отличная вещь эти фуд-банки! Там, совершенно бесплатно, обездоленные женщины и их дети могут получить свою порцию просроченных продуктов питания. Вздувшиеся баночки с йогуртами, гнилые овощи, прогорклое масло. Дареному коню, знаете ли, в зубы не смотрят. За бесплатно – это гораздо лучше, чем ничего. Гнилую картошку можно обрезать, переспелые бананы истолочь и испечь, всё лучше, чем подыхать с голоду на чужбине. Нужно просто уметь позитивно смотреть на вещи и благодарно принимать помощь, когда её предлагают. И тогда станет ясно, что, даже на ужасающей свалке под названием «фуд-банк» попадаются вполне приличные продукты. У риса нет срока годности, как и у фасоли. Макаронам ничего не будет даже через пять лет, их можно приготовить ребёнку. Просто не надо быть пафосной сучкой, и тогда всё получится.
Зелёные брошюрки я вручаю не сразу, сначала нужно выслушать и успокоить жертву насилия. Длинноволосая красавица развезла сопли по лицу и, задыхаясь, рассказывает мне о своём ужасном ранении, почти вызывая брезгливость. Её муж сначала поставил ей приличный фингал под глазом, а потом, в попытке отобрать сотовый телефон, вывихнул ей средний палец. Опять же, возможно – вывихнул. А может, и не вывихнул, я вам не доктор, это надо у врача выяснять. К тому же – палец средний, само по себе подозрительно. Она, небось, дразнила его, средний палец показывала, и вот, допрыгалась. Муж, конечно, – подонок, но, принцесса сама выбрала этот путь. Муж избил, какой ужас! Это не сарказм, ситуация отвратительная.
Здесь не надо долго думать, схема очень простая. Нужно идти к врачу, травму фиксировать, потом в полицию, да побыстрее, на это всего четыре часа дают в нашем штате. Полицейские приедут, составят протокол. Читал я их сочинения, они не впечатляют. В лучшем случае – заберут этого мужа, посадят в тюрьму. На следующий день его выпустят до суда, под залог. Или просто так отпустят, безо всяких залогов, такое тоже бывает, презумпцию невиновности ещё никто не отменял. Он выйдет ещё злее, чем раньше, опять изобьёт её, но теперь он будет хитрее, он постарается не оставить следов. У прокурора таких дел море, ему охоты нет за каждый бабий синяк сажать на шею налогоплательщикам очередного проходимца.
Уйти. Собрать свои вещи и уйти. Но для этого нужно быть человеком, а не жертвой.
Я смотрю на неё, – она плачет, рот изогнут к низу, скорбной скобкой, нос распух, на глазах – тёмные очки фирмы «Дольче Габбана». Интересно, сколько такие стоят? Небось, половину моего недельного жалованья в этой богадельне. Может, и в «фуд-банк» ей идти не придётся, продать очки – купить еды детям. Мне надоело их жалеть. Я устал сочувствовать женщинам, которые сами выбрали подонков себе в мужья. Чего она от меня хочет? Я пожалею, помогу советом, а она опять вернётся к этому гаду, будет кофе ему приносить, готовить обеды.
– Послушай, ты, всего лишь, ранена, а не убита. Эту рану ты могла нанести себе сама. Неосторожность, случайность, тут никто не виноват. Признайся, ты сама поранила себя, чтобы привлечь к себе внимание. Такое сейчас сплошь и рядом, во всех соцсетях, – селфи сегодня уже мало, в ход пошли режущие предметы. Конечно, кровавые раны вызывают реакцию поживее, чем фото с питомцами.
Сходи на скорую, если у тебя есть медицинская страховка и двести тридцать долларов наличкой; тебе там сделают перевязку. Даже если у тебя нет денег, отправляйся на скорую. Посмотришь на увечья, которые люди получают по такой же неосторожности. Тебе наверняка станет легче от того, что твоя рана – это просто царапина, по сравнению с их проблемами.
Оскорблённая дамочка перестаёт плакать и снимает очки. Теперь между нами нет преграды – её кокетства и напускной таинственности; её стыда тоже нет, она почти гордится своим впечатляющим синяком вокруг левого глаза. В её взгляде читается укор, мол, – видишь, как я страдаю?
Я не имею права сказать ей того, что хочу. Посылаю телепатически, внимательно глядя в эти переливающиеся слезами глаза: пойми, не нужно жаловаться. В этом городе ты не найдешь сочувствия, здесь каждый сам за себя. Деловые женщины в образе проституток и проститутки, одетые как деловые женщины, – они не жалуются никому, они просто терпеливо собирают деньги.
Тебя бьют? Значит, тебе это нравится. Жестокое заявление, но иногда оно отрезвляет таких, как ты. Вам и в голову не приходит, что всё насилие после первого эпизода происходит с вашего молчаливого согласия.
Мы живём в большом американском городе. Здесь ни на кого не обращают внимания. Чтобы тебя заметили, в нашем городе нужно умереть. Желательно – мученической смертью, и чтобы над телом надругались. Иначе, трудно попасть в объектив. Полиция никого не арестует, если не прольётся кровь. Чтобы приехали журналисты, нужна качественная жертва. У нас платят только за секс, удовольствие и лужи крови; ничего другого можешь просто не предлагать. Вот когда подростки из богатых семей врезаются в дерево на отцовском «Бентли», или негры расстреливают китайцев возле прачечной, – это другое дело, это покажут по телевизору. А обиженные жёны – таким даже мою бабушку не заинтересуешь, она скажет – сама виновата, довела парня.
Недавно в баре резня была, потом медсестру сбил пьяный водитель грузовика и проволок двадцать метров по улице, это зрелищно, это ужасает. When it bleeds, it leads1. А твоя рана не производит впечатления.
Наш город видел многое и ко всему привык. Тебе больно? Научись наслаждаться этим. В боли есть своя красота, страдания укрепляют дух.
Иисусу тоже было больно, но, разве он пошёл жаловаться в благотворительные организации? Напротив. Он принял боль, претерпел всё, вплоть до смерти, и, в результате, обрёл бессмертие. Если тебе не нравится этот термин, можно заменить его на более подходящий: Иисус стал настоящей звездой мировой величины. Что-то типа Майкла Джексона, но ещё популярней. Кстати говоря, король поп-музыки тоже очень страдал. Пойми, страдания делают нас только лучше. А если ты думаешь о суициде, я познакомлю тебя с Покахонтас, она сто раз его пробовала, и всё как новенькая.
Оставь эти сопли. Мы живем в чудесном городе без ненужных понтов. Наш пафос – в отсутствии пафоса. Здесь можно явиться на работу или в ресторан в трико и шлёпанцах, никто не обратит на это внимания. А если от тебя разит потом, как от бомжа, это тоже никого не удивит, – скорее всего, ты просто не желаешь использовать мыло из-за вредных парабенов, входящих в его состав, или же бойкотируешь компанию, выпускающую косметические средства. Это нормально в нашем городе, это даже хорошо.
Муж отстегал тебя кнутом? Не спеши вызывать полицию. В нашем городе ему только поаплодируют. Сходи в гараж на набережной, там ежедневно проходят заседания клуба здоровой сексуальности. Ты поймёшь, что твой муж относится к тебе с особым восторгом, быть избитой кнутом – это изысканно.
В нашем городе нет места нытикам. Здесь мы защищаем права тех, кого общество притесняло веками. У насильника в нашем городе больше прав, чем у жертвы, иначе, она не стала бы жертвой. Здесь мы отводим детей на съедение монстрам, потому, что у монстров тоже есть права, и пренебрегать ими – значит, попирать конституцию.
Добро пожаловать в Сиэтл, штат Вашингтон!
Пока ты просто избита, это вполне нормально, и тебя не жаль.
Сказочные принцессы
Жаль Золушку. Она так и умерла неотмщённой. Бирюзовые глаза погасли, платиновые локоны сожжены беспощадным огнём крематория. Её пепел рассеяли над волшебным лесом, в котором она прогуливалась с подругами – Белоснежкой и Бэль. Иногда они брали с собой и Покахонтас, но, для той природа и групповая обкурка всегда были тождественными понятиями, а белые принцессы предпочитали, всё-таки, водку, а не марихуану. Вероятно, народные традиции заложены в нас на генетическом уровне; сами мы ничего особенного из себя не представляем, кроме кумулятивного опыта наших предков.
Студия Диснея никогда не покажет вам, что стало со сказочными принцессами после свадеб: читайте дальше.
Покахонтас сейчас уже под пятьдесят, она из них самая старшая. Замуж она так и не вышла, но обзавелась несколькими состоятельными любовниками. После длинного ряда пластических операций, пристрастивших её к обезболивающим средствам, Покахонтас перестала быть похожей на дочь индейского вождя, превратившись в подобие латиноамериканского трансгендера. Это когда человек выглядит так, будто его лицо сначала стёрли с головы растворителем, а потом вновь нарисовали акриловыми красками, срисовывая с надменной пластмассовой физиономии куклы «Братц». Плюс морщины возле глаз и у рта, плюс дряблая шея, минус блеск волос и сочный рот. Губы принцессы не выдержали даже двух инъекций гиалуроновой кислоты, простите, любимые куклы. Вопреки уставу её родного племени, Покахонтас увлеклась выпивкой. И, если под влиянием каннабиса её ещё можно терпеть, то пьяная она совершенно невыносима – грубит, вешается на мужчин и устраивает скандалы женщинам. Трезвая же она жалуется на жизнь и мастерит вполне подходящие для продажи европейским туристам индейские сувениры, которые, однако, оптом скупает её богатый любовник – пожилой плотник из штата Айдахо, содержащий её скорее из жалости, чем по любви. Покахонтас идёт по жизни с ощущением собственной исключительности. Она живёт на чужие деньги, считая их своими и совершенно заслуженными, канючит, притворяясь смертельно больной, шантажирует суицидом, демонстративно зовёт смерть и даже совершила семь безуспешных попыток самоубийства, среди которых превалировало отравление коктейлем из снотворного и виски, однако, также встречались повешенье на балконе, падение с крыши трёхэтажного дома и перерезывание вен в горячей ванне (после употребления вышеупомянутого коктейля). Одним словом, Покахонтас вела и продолжает себя вести как ходячая метафора к жизни североамериканских индейцев в двадцатом веке. Но, она выжила, несмотря на все попытки покончить с собой, и теперь любит порассуждать об устройстве мира, задрапировав обвисшую кожу на шее побрякушками собственного изготовления. А наша подруга, цепляющаяся за жизнь Золушка, умерла молодой и прекрасной, и в этом ирония её трагической судьбы. Что говорить о Диснее! Сам Шарль Перро безответственно оставил Золушку на произвол судьбы в роли невесты неизвестного ей мужчины и поставил точку в сказке, принявшись за другую. Будь он чуть более чутким человеком, он дописал бы, что принц был человеком добрым и относился к Золушке достойно до конца её счастливых дней. Но, нет. Перро оставил девушку из неблагополучной семьи наедине с таинственным принцем, о котором нам известно лишь то, что он был привлекателен внешне и обладал настойчивостью. А ведь так часто бедные девушки ищут любви, а находят лишь неприятности! Наша Золушка не была исключением.
Её принца звали Бенджамин, он представлялся настоящей мечтой сиэтловской азиатки, – белокурый и сероглазый владелец бухгалтерской фирмы, трёх элегантных автомобилей и коллекции соковыжималок. Последняя деталь вовсе не является саркастической ремаркой; Принц был перфекционистом, и, ощущая свою привилегированность, не доверял качеству соков в обычных супермаркетах. Чтобы поддерживать своё здоровье и великолепную физическую форму, Принц ежедневно выжимал для себя соки из свежих фруктов и овощей.
Равных ему не было. Он купил Золушке сумочку за тысячу долларов на первом свидании, а на годовщину дня их знакомства подарил ей приличный внедорожник. Принц и Золушка жили в его прекрасном дворце в богатом пригороде Сиэтла. Они кормили уток, готовили стейки, пили шампанское и целовались. Золушка примеряла наряды, а Принц выжимал соки.
Но, Шарль Перро не упомянул ещё одно обстоятельство, – характером Принц обладал скверным, и, подвыпив, любил распускать руки, оставляя на нежном лице Золушки синяки, а иногда даже ссадины. Нет, конечно же, просто терпеть такое было невозможно, нужно было что-то предпринимать. Золушка маскировала побои тональным кремом своей любимой фирмы, принимала обезболивающие, попробовала антидепрессанты, а несколько раз даже решалась уйти от Принца и начинала собирать свои шикарные фирменные вещи в коллекционный чемодан из кожи аллигатора. Принц неизменно являлся к ней с букетом экзотических цветов и убеждал остаться. Там, где убедительности не хватало ему, вступал всемогущий доллар. Нежность ,подарки, побои и снова романтический ужин, – какая знакомая картина, – цикличная природа домашнего насилия. Статистика жестока – каждая четвёртая принцесса испытывает на себе этот невротический кошмар избиения собственным супругом. Ужас, оцепенение, медный вкус крови вот рту, её горячий душный запах в носу. Звёздочки перед глазами – тысячи серебряных фейерверков – это травма, а не мультфильм, это – ушиб затылочной части головы, где располагаются зрительные центры головного мозга. Сначала ты ощущаешь физическую боль, а чуть позже приходят страх и неверие. Это когда ты ешь и не понимаешь, что именно ты кладёшь себе в рот, потому, что вся пища на вкус как песок. Когда ты сидишь часами, не способная сдвинуться с одной точки, парализованная этим состоянием, – ты точно знаешь, что тебе нельзя с ним оставаться, но так же отлично понимаешь, что, если ты сейчас уйдёшь, он настигнет и убьёт. Можно не верить статистике, но, шансы выжить в первые две недели после побега от своего мучителя действительно невелики. И есть ещё одно чувство, которое не даёт пошевелиться и выйти из оцепенения, – ты помнишь, как сладко он любит. Как нежно он целует, как крепко он обнимает и держит в своих руках, какие слова он умеет шептать, какую симфонию чувств дарит близость с ним. Ах, если бы он всегда был так добр. Как объяснить боль, причинённую руками, которые были призваны обнимать? Куда бежать, если в тылу на тебя напали?
И вот, в который раз избитая мужем Золушка сидит на краю кожаного дивана перед выключенным телевизором, слегка раскачиваясь вперёд-назад, вновь ощущая себя чем-то вроде закованной в лёд кружевной тряпки. А тут приходит он! Врывается в дом, захватив с собой свежесть сиэтловского мая, аромат цветущих деревьев и пересвист сказочных птичек. Он бросает ей под ноги сноп голубых гиацинтов, и каждый цветок проливается маленьким дождиком безмолвных виноватых слёз. Принц щёлкает пультом телевизора, подхватывает с дивана эту замерзшую кружевную тряпку и начинает кружить её в нежном вальсе под лиричную и торжественную музыку, струящуюся из огромного экрана. Он кружит, целует и шепчет, а тряпка начинает оттаивать в его руках, и даже верить в слова о том, что он никогда больше не причинит ей боли. Под бой сказочных часов, торжествующий в своей лживой победе, Принц подхватывает податливую тряпку-Золушку, унося в спальню, чтобы подарить ей свою новую симфонию. Секс всегда чувственнее после жестокой ссоры. Партнёры вновь обретают потерянных друг друга, но, увы, не себя. С каждой ссадиной, с каждым прощённым ударом, принцесса становится немного меньше собою и больше – безвольной кружевной тряпкой.
Отдать Золушке должное, – она, хотя бы, что-то предпринимала. Она, по крайней мере, доставала свои фирменные тряпки из шкафа и укладывала их в чемодан, а и из чемодана – обратно в шкаф. Она совершала, пусть робкую, но попытку изменить свою жизнь. Бэль же, обманутая сказочниками, в те времена просто сидела над книжками и ожидала, когда же чудовище от её любви превратится в человека. Её время уходило, но чудовище не превращалось в человека, а сменялось другим чудовищем; пусть это останется на совести тех, кто читает маленьким девочкам сказки о принцессах.
А Золушка родила. Да-да, у них с Принцем появилась маленькая дочка. Однажды принцесса взяла двухмесячную малышку на приём к педиатру, но, в клинике оказалось, что она забыла дома сумку с деньгами и документами. Вернувшись домой слишком рано, Золушка обнаружила в своей спальне то, что заставило её выронить из рук люльку с ребёнком.
На разобранной белоснежной кровати супругов, отклячив круглую, как половинка яблока, голую задницу, стояла на четвереньках чёрная как ночь проститутка. Раздетый догола Принц Бенджамин, аккуратно придерживая ягодицу проститутки своей контрастно-белой рукой, увлечённо целовал чёрный зад непосредственно на супружеской постели, всё ещё хранившей запах золушкиного увлажняющего крема.
Принцесса выронила ребёнка из рук и, закрыв, ладонями лицо, издала такой крик, что проститутка свалилась с кровати и схватила первое, что попало ей под руку, – шёлковый халат Золушки небесно-голубого цвета, если, конечно, небеса бывают такими нежными и блестящими. Нет, Золушка не была расисткой. Доказательством этого служит выразительный факт её биографии – первый муж нашей героини был корейским пилотом. Несомненно, она и блондинке на своей постели расстроилась бы столь же сильно. Но, образ – чёрное на белом был слишком впечатляющим и символичным, чтобы игнорировать цвет.
Звенящая покрепче пожарной сирены Золушка, кричащее дитя на полу, остолбеневший Принц Бенджамин на коленях и чёрная проститутка, отползающая в сторону в небесно-голубом халате. Такого ни у Шарля Перро, ни у Диснея не было, да и сама Золушка совсем не была к этому готова.
Вам когда-нибудь приходилось прощать измену? Выслушивать жалобные оправдания, пафосные сравнения любви и простого секса, объяснения, что эта ничтожная связь ровным счётом ничего не значила для сердца, которое бьётся только ради вас?
Вы когда-нибудь находили в своей постели чужую заколку для волос или серёжку? Чужую запонку на полу вашей спальни? Обнаруживали ли вы, вернувшись из рейса, сиденье унитаза поднятым в квартире, где жена ждала вас, если верить ей, совершенно одна?
Находили ли вы в своей пепельнице окурок сигареты не вашей марки? А с помадой не вашего цвета приходилось вам находить сигареты в собственном камине? Доводилось ли вам доставать использованный не вами презерватив из пространства между спинкой супружеского ложе и стеной, когда вы вдохновенно перемещали мебель, в надежде, что перестановка улучшит движение энергии чи? Читали ли вы удивительные вещи о себе, ненароком заглянув в почтовый ящик социальной сети своего самого близкого человека? Если – да, и вы смирились, то вы прекрасно поймёте Золушку, ведь ей тоже пришлось простить Бенджамина. Конечно, вряд ли можно сравнить чужую задницу на своей постели с загадочным окурком в пепельнице. Ведь окурок оставляет огромное пространство для оптимистического, да и просто мистического мышления; его могла оставить соседка, которая заглянула за луком и осталась, чтобы выкурить сигарету, пока лук вырастет. Окурок могли подкинуть чёртики в пятницу, тринадцатого, чтобы пошалить. Да и смс-сообщение подружке об оргии дома во время вашей командировки в Таиланд тоже могла отправить не жена вовсе, а, завладевшая её телефоном и желающая раскола в семье подлая сватья, баба-бобариха. Проститутка же рядом с голым мужем пространства для воображения оставляет не очень много.
Но, Золушка простила. Нет, конечно, это произошло не сразу. Сначала, она, задыхаясь от боли, схватила ребёнка и выбежала из спальни. Это было более чем уместно, так как Принцу Бенджамину потребовалось некоторое время для того, чтобы одеться, оплатить визит проститутки и проводить её, извинившись за неудобство. На самом деле, проститутка тоже оказалась жертвой в этой невыразимо неприятной ситуации, так как в её планы вовсе не входило доведение супруги и ребёнка до истерического состояния, и эксгибиционизма в прейскуранте услуг тоже не находилось; поэтому она потребовала денежной компенсации за перенесённое ею душевное потрясение. Отметив про себя, что голубое на чёрном смотрится просто великолепно, Принц Бенджамин оценил стресс проститутки в сто долларов поверх обычной расценки: итого, чернокожая жрица любви получила триста пятьдесят долларов наличными на руки плюс дорогой шёлковый халат в подарок. Неплохо, учитывая, что особо потрудиться на этот раз она просто не успела.
А Золушка рыдала. Слёзы лились из её лазурных глаз двумя маленькими ручейками и стекали с кончика правильного носа прямо в коллекционный чемодан, в очередной раз быстро наполняемый фирменными вещами. Но, куда бы вы уехали из дворца? К маме, к маме. Золушка решила вернуться в колыбель своей жизни, родной дом в пригороде Детройта. Если сравнивать Детройт и Сиэтл, то, после цветущих улиц сиэтловского района Магнолия, первый покажется сущей преисподней со свойственной ей гарью, смогом и компанией истинных чертей в отчем доме Золушки.
Маму Золушки звали Джолин, но выглядела она как ведьма Урсула из диснеевской версии «Русалочки»: обесцвеченная перекисью водорода кудрявая голова возвышалась над колыхающимся от каждой попытки совершить движение желеобразным телом, длинные акриловые ногти и нарисованные чёрным фломастером брови лишь добавляли образу гротескной хищности мультипликационной ведьмы.
Как и Принц Бенджамин, Мама Джолин начинала свой день со стакана сока. В полдень она выпивала второй стакан, за обедом – третий. В семнадцать часов Мама Джолин принимала четвёртый стакан, кокетливо именуя его «файв-о-клок», по аналогии со старинной английской традицией пить чай, и, уже после ужина, Мама Джолин, наконец, позволяла себе расслабиться и выпить виски или рома. Рецепт её фирменного сока был прост: полулитровая бутылка водки смешивалась с двухлитровой бутылкой цитрусовой газировки подешевле, и, – вуаля! Хорошее настроение гарантировано.
Намучившись в аэропорту с грудным ребёнком, Золушка вернулась к матери в Детройт, где в первом же супермаркете с досадой обнаружила, что все её кредитные карточки заблокированы. Ещё один важный аргумент для тех, кто не понимает, почему порой прощаются измены! Разрыв отношений часто идёт рука об руку с финансовым кризисом и даже нищетой. Стиснув зубы, принцесса с платиновыми локонами оказалась без денег в гостях у своей матушки-алкоголички, её альфонса-сожителя по имени Фрэнк Синатра и двух их питбулей – Печеньки и Шоколадки (они занимали обе имеющиеся в доме кровати). Мама Джолин была искренне рада дочери и внучке, но долго терпеть их в своём доме не намеревалась; жизнь с Фрэнком была для неё достаточно сложна и проблематична и без свидетелей. К тому же, поблизости жила её младшая дочь, Джессика, со своим супругом, чернокожим офицером полиции Россом Кроули и ребёнком.
Росс Кроули был необычным типом. Он исповедовал загадочную религию, которая не разрешала ему выходить из дома после наступления сумерек. Все комнаты, кроме спальни, в доме Росса и Джессики считались «ритуальными», единственный же ребёнок в их семье, дочь по имени ЗиР (что означало «Забота и Радость»), жила в ванной комнате. Благо, комната была достаточно просторной: она вмещала в себя стиральную машину, одновременно служившую письменным столом девочки, а постель размещалась непосредственно в ванне, что было весьма удобно с точки зрения родителей. Однажды соседка вызвала службу опеки и попечительства, нажаловавшись тем на то, что у ЗиР нет нормальных условий для жизни и учёбы. Прибывший по вызову инспектор службы, изучив жилище семейства Кроули, нашёл жалобу соседки безосновательной. В конце концов, если приюты уже переполнены, а бездомные дети спят в машинах и просто на рюкзаках, под открытым небом, постель из подушки и спального мешка в ванне – гораздо лучше, чем отсутствие таковой.
Близился День Благодарения, благословенный американскими политиками и обагрённый кровью аборигенов коммерческий праздник, в канун которого Золушка и Покахонтас, измазавшись в алый грим, когда-то любили выходить с протестом в центр города, чтобы привлечь внимание офисных клерков и вахтёров к искорёженной завоевателями правде о жизни индейцев. Но Мама Джолин любила этот праздник в его традиционном смысле, – как пиршество. Вот и сейчас она приобрела колоссального размера индейку и два больших пакета зефира для праздничной трапезы. Фрэнк Синатра, щегольнув бриллиантовой пломбой в переднем зубе, заметил, что можно было бы взять и три пакета зефира, ведь на этот раз кормить придётся больше ртов. Готовиться к празднику Джолин начала за неделю; она строгала овощи и морозила их, выпекала коржи и кексы, варила пунш. Нахлебник Синатра очень любил поесть; домашняя стряпня Джолин намертво скрепляла их союз. Золушка занималась ребёнком, не смея предложить свою помощь властной матери, которая предпочитала готовить сама и по своим правилам.
Вторник перед Днём Благодарения был омрачён ужасающей для семьи новостью, – Росс Кроули, согласно отчёту его коллег-полицейских, кажется, чуть не сошёл с ума. Чёрной краской он начертил на полу своей ритуальной гостиной пентаграмму, расставил по всем пяти её углам зажжённые красные свечи, разделся догола, справил нужду ровно на середину своего чертежа и принялся кататься по полу, перемазавшись в собственные нечистоты. Этот ритуал совершался под звуковую дорожку австралийской группы «ЭйСи-ДиСи», которая носила весьма подходящее название – «Дорога в Ад». Всё бы обошлось банальным вызовом демона, если бы, катаясь в сатанинском экстазе, Росс не задел горящую свечу. Пламя мгновенно переметнулось на шёлковую ширму, наподобие тех, что стоят в китайских салонах массажа, с ширмы – на занавески, и уже через несколько минут дом семейства Кроули полыхал. Росс узрел в этом пожаре мистический знак, он торжествовал и скрежетал зубами, не прекращая кататься по полу.
Вызов демона был нарушен вызовом и своевременным прибытием пожарных, которые, отчаянно бранясь, эвакуировали Росса и потушили огонь. Получив дозу успокоительного и, к огромному удовольствию Джессики, рецепт на обезболивающее, перевязанный Росс, вместе с неожиданно влюблённой в пожарного супругой и чрезвычайно перепуганной ЗиР оказался в доме Мамы Джолин.
Внезапная влюблённость Джессики не прошла без неприятностей для семейства. Джессика вообразила себе, что это была взаимная любовь с первого взгляда, и её возлюбленный, пожарный лет двадцати пяти, сгорая сам от страсти, мечтал теперь о том, чтобы вновь спасти её из огня. Бабий ум горазд на хитрости во имя любви, и, чтобы получше рассмотреть своего парня, Джессика устроила поджог в доме матери.
За несколько дней в доме Мамы Джолин Золушке пришлось пережить не меньше, чем во дворце принца. Влюблённая поджигательница, сумасшедший полицейский в дерьме, девочка-подросток, привыкшая спать только в ванне, альфонс с питбулями и шатающаяся, но цепко удерживающаяся на ногах алкоголичка-мать на одной чаше весов, и прелюбодействующий бухгалтер, распускающий руки, – на другой. «Ещё неделя, и я заявлю в полицию о нарушении моих родительских прав, если ты не вернёшься домой с моим ребёнком, дорогая», – голос Бенджамина в автоответчике звучал самодовольно и убедительно, как всегда.
Черти из Детройта, рядом с которыми страшно оставить ребёнка даже для того, чтобы выйти на минуту в неопрятный туалет, или же законный муж, которого и во дворце-то, если честно, особо не бывает, потому, что он всё время работает и развлекается. Что выбрать? Что бы выбрали вы?
Золушка вновь оказалась во дворце, а её дочь – в своей очаровательной комнате, оформленной с компетентно продуманной любовью опытным дизайнером интерьера фирмы «Бахман», а это значит – дубовая мебель, шерстяные одеяла ручной вязки, лиловые стены с кромками оливкового цвета и множеством белых барашков повсюду. Плюс миниатюрные Эйфелевы башни и пудели в беретах на книжных полках рядом с изящными томиками «Экзюпери», «Гриффис», «Хант». Минус коровы, перепрыгивающие луну, минус мальчик Блю, минус собачья шерсть на кресле-качалке для грудного вскармливания.
На всё есть цена, и всё имеет свою цену. Честь и достоинство – не исключения.
Золушка хотела не просто жить, она просила от жизни качества, для себя и для своего ребёнка. Пусть ценой побоев, унижения и проливных дождей слёз, несчастная девушка просила от жизни – лучшей жизни. Но, она умерла от удара в висок. В ответ на просьбы Золушки, жизнь подарила ей смерть.
Принцесс осталось двое, Белоснежка и Бэль.
Белоснежка из Акапулько
Белоснежку звали Ритой. В семье гномов, низкорослых, похожих на усатых жуков мексиканцев, она была старшим и наименее любимым ребёнком. Её отец, Эрнандо Гиллера, был типичным жителем Акапулько – черноволосым, коренастым, с тёмной, почти кирпичного цвета кожей. Угрюмое лицо Эрнандо лишь изредка посещала чуждая ему улыбка, демонстрирующая редкие жёлтые зубы с цепким, годами нажитым табачным налётом. Его сыновья – Энрике, Хорхе и Эдуардо были похожи друг на друга как клавиши на рояле, являя собой копии отца в молодости, который, в свою очередь, был похож на своего отца. Оттиск древнего профиля – ястребиный нос ацтека, зоркие чёрные глаза, высокие скулы, – четыре века спустя Гиллеры оставались всё теми же индейцами, которых увидел Кортес, сойдя на берег Мексиканского залива.
А Рита была другой, непохожей на них, и от этого – нелюбимой. С оливковой кожей средиземноморской красавицы, стройная, с ровными длинными ногами, Рита очень отличалась не только от своих родственников, но и от большинства жителей юга Мексики. Была ли эта диковинная красота шуткой природы, через века передавшей привет от конкистадоров, тайной матери или же ошибкой сестёр родильного отделения, – никто в этом не разбирался.
Для кого-то Акапулько был раем с мягким песком и удивительно тёплым морем, кому-то он казался адом, где жестокие расправы гангстеров являлись частью обыденного: бродячие собаки, вытаскивающие отрубленные конечности из мусорных баков и доверху заполненные трупами убитых холодильники городского морга. Для Риты порт Кортеса был родным домом. Сухая, плавящая жара ласкала её. Привычная к запаху густого, оставляющего во рту привкус горечи и ореха кофе, а ещё – пыльных лавок, переспелых, лопающихся от прикосновения ножа арбузов и жареного теста, Рита долго искала родные запахи, когда оказалась в чужом городе. И если Акапулько был для неё солнечно-жёлтым, Сиэтл представился тёмно-серым, как небо, которое она увидела над ним, – тревожное и безысходное.
Здесь всё было другим, всё звучало и пахло иначе. Лица белых американцев сначала вызывали у неё необъяснимую неприязнь, граничащую с отвращением. Полноватые клерки, продавцы в магазинах, служащие и даже медсёстры казались ей рыхлыми, безвольными людьми с некой ущербностью, один взгляд на которых рождал в Рите одновременно чувства жалости и брезгливости, будто она смотрела на слюнявого подростка с синдромом Дауна в медицинском центре, куда её устроила работать сердобольная тётка, старшая сестра Эрнандо, Эстер. Именно она настояла на том, чтобы забрать племянницу в штаты, жалея её и тайно надеясь на то, что девушка найдёт в Америке своё счастье, выйдя замуж за состоятельного гринго.
Но, чуда не произошло; вместо мистера-твистера в элегантном костюме, на работе Рита познакомилась с санитаром, молодым красавцем по имени Рауль. Он был кубинцем, одним из тех предателей, кто покинул Остров Свободы для того, чтобы служить империалистам и поносить свою Родину за рубежом.
Вздыхая, Эстер глядела на горящую племянницу и говорила, что настоящая любовь выше совести, милее Родины и дороже идеологии. Рита без памяти влюбилась в кубинца, и Рауль тоже думал, что страстно любит Риту, на самом же деле, он не умел любить никого. Когда его не стало, Рита осталась с двумя маленькими детьми на руках.
Возвращаться в родной, покрытый золотистой пылью Акапулько было теперь мыслью совершенно невыносимой; цепляясь за жизнь среди дебелых, перекормленных американцев, Рита решила попробовать стриптиз. Днём она запаковывала и заклеивала конверты с рекламными брошюрами для небольшой торговой фирмы, получая три цента за каждый конверт. Вечерами она оставляла детей на тётку и выходила на работу в ночном клубе под липким названием «Сладкое место».
Стриптиз изнутри
Рита сразу поняла, что в этом штате к мексиканским девушкам относятся как к третьесортным. Тут в почёте азиатки с их тонкими паучьими ручками и ножками, блестящими, словно одними ножницами стриженными волосами цвета воронова крыла и неизменно драгоценными сумками от Луи Виттона. Почему-то их здесь очень любили мужчины, находя о внешнем облике и манерах азиаток что-то исключительно трогательное, уязвимое и достойное любви. Отдать должное азиатским женщинам, они умело брали в оборот самых богатых и перспективных из американских поклонников. Хрупкие, миниатюрные, гладкокожие они воплощали тайную мечту о любви с девочкой-подростком, которая никогда не вырастет.
Волоокие красавицы из Ближнего Востока расточали несметные богатства в салонах красоты, надеясь удалить ненавистную растительность со своих прекрасных, но мохнатых тел, – чёрные, кудрявые волоски росли у них не только на ногах, но и на пальцах ног, на подбородках и даже иногда на сосках. Изысканно одетые и сладко надушенные, они легко вызывали у американских мужчин странное, смешанное с неприязнью восхищение, корни которого лежали в ощущении собственной неполноценности. Мало кто из американских бизнесменов, сверкающих отбеленными улыбками, находясь рядом с благоухающей иранской студенткой, облачённой в великолепный дизайнерский костюм в тон безукоризненному маникюру, сможет почувствовать себя тем эталоном чистоты и личной гигиены, которым они так привыкли себя считать.
Русских здесь считали грубыми скандалистками и охотницами за чужим золотом, а мексиканок – в общем, лучше было притворяться, что ты откуда-то ещё.
Работать в стриптизе – удел бездельниц, что бы при этом ни говорили феминистки и похотливые борцы за права женщин. Можно рассуждать о риске и уровне стресса, но, что такое – быть стриптизёркой в штате Вашингтон, по сравнению с участью проститутки? Одно дело – стоять полуодетой на улице, ожидая своего джона, потом – служить ему в грязном мотеле. Даже если это произойдёт в роскошном номере отличной гостиницы, – всегда есть риск, что тебя изобьют, унизят или заразят какой-нибудь неизлечимой мерзостью. И совсем другое – греть задницу в хорошо отапливаемом зале, сидя на удобном кожаном диване и потягивая кофе с ирландскими сливками.
В стриптиз Риту привела её соседка по подъезду, Натали, украинка латышского происхождения. Сама Натали работала в клубе три дня в неделю; в стриптиз её привозил муж – симпатичный латыш по имени Феликс. Натали танцевала в клубе больше года и уже обзавелась целой группой постоянных клиентов; на деньги, заработанные в стриптизе супруги намеревались купить квартиру в Риге, – муж не прижился в дождливом Вашингтоне.
Получить лицензию для работы «танцовщицей» в ночном клубе было легко, и вскоре Рита договорилась с менеджером клуба о своём расписании на новом месте. Натали предупреждала её, что в пятницу новенькой в клуб соваться нечего – там вечером в раздевалке не протолкнуться, не говоря уж о зале для джентльменов. Однако, Рита решила рискнуть и явилась в клуб в пятницу, около девяти вечера, одетая в спортивный костюм, с объёмным рюкзаком за спиной.
Стриптизёрки сидели, стояли и даже лежали повсюду в на удивление просторной раздевалке, освещённой горящими лампами множества гримёрных зеркал. Единственная кабинка туалета была закрыта, душ пустовал.
– Слышишь, Стеффани! Постарайся не навалить, как ты это сделала вчера. Завоняла всё помещение, а до моего выхода ещё пятнадцать минут, – строго предупредила стройная женщина лет сорока пяти, постучав в дверь туалета.
Из-за двери раздалось невнятное.
– Дезире, не трогай её, она с героина неделю как слезла, – симпатичная азиатка в красной клетчатой юбочке заступилась за Стеффани.
– Пусть дома сидит со своими отходняками, а не единственный туалет на работе занимает, – жестко ответила Дезире. Она была очень красивой женщиной. Из одежды на ней был только роскошный парик из светлых, каскадом струящихся по её загорелым плечам волос. Не удержавшись, Рита бестактно посмотрела на крепкие, очевидно наполненные силиконом груди Дезире, и сразу же получила отпор:
– Новенькая? Ты что уставилась, подруга? Сисек не видела? Отвернись, пока я не сломала тебе челюсть.
Дезире быстро заработала своими собственными челюстями и, выдув пузырь из жвачки, громко им щёлкнула. Рита отвернулась и увидела, что на неё обращено внимание десятка пар глаз. Кто-то смотрел насмешливо, кто-то с любопытством.
– Всем привет. Есть где свободный ящик? – спросила Рита, оглядывая бледно-зелёные локеры, сплошь увешанные кодовыми замками.
– Рядом со мной, – послышался голос из дальнего угла раздевалки. Там, на скамье сидела полная девушка в длинной, спущенной с одного плеча прозрачной ночнушке. Рита протиснулась к ней через курящих, переодевающихся и даже играющих в крестики-нолики стриптизёрок и поставила рюкзак на стол у гримёрного зеркала.
– Первый день здесь? – ласково спросила девушка.
– Да, – ответила Рита.
– Тебе понравится. Много очень милых девушек… Дезире тоже милая, не обращай внимания на её выходки. Под слоем внешней агрессии она очень добрая.
– Я сейчас кого-то отшлёпаю по толстой заднице, Молоко и Мёд! – строго предупредила Дезире, услышав о себе через всю раздевалку.
– Я буду только рада, мамочка! Я всю неделю была плохой, плохой девочкой! – кокетливо ответила полнушка и, приподнявшись, звонко шлёпнула себя по сочной ягодице; со всех сторон послышался смех. Стриптизёркам нравились сальные шутки. Сцену прервал низкий мужской голос, раздавшийся из динамика, расположенного под потолком:
– Добрый вечер, девочки. С вами Майкл, ваш верный ди-джей. Принимаю ваши пожелания, а также деньги и поцелуи. Через три минуты на сцене Ангел, после неё – Котёнок, затем – Электричество. Мужчин в зале уже много, всем удачной охоты!
Динамик замолчал, девушки вновь загудели.
– Меня зовут Молоко и Мёд, – толстушка протянула Рите свою мягкую лапку, украшенную аккуратными малиновыми коготками.
– Я – Рита, – Рита ответила тёплым рукопожатием.
– Это – сценическое имя? – удивилась Молоко и Мёд.
– Нет, настоящее.
– Тебе нужно придумать себе сценическое имя, по которому к тебе будут обращаться в клубе. Подумай хорошенько, менять его можно только раз в год, – в голосе толстушки чувствовалось удовольствие. Ей нравилась роль наставницы новенькой.
– Хорошо, – ответила Рита и принялась раздеваться.
– Слишком дорогие вещи сюда не носи, – настоятельно продолжала свой урок Молоко и Мёд. Сотрёшь кружева об мальчишек, когда будешь елозить по их джинсам своим персиком.
– Как?! – переспросила Рита, растерянно оглядев свою наставницу, – я думала, это – клуб без контакта.
Молоко и Мёд звонко рассмеялась, ей вторили ещё несколько стриптизёрок.
– За без контакта тебе толком не заплатят. Рядом со столиком – это называется «танец за десять долларов». Если ты хочешь хоть что-то заработать, нужно продавать танцы подороже. Ещё есть по двадцать, тридцать и по полтиннику.
– Покажи ей, как надо, – грубым, низким голосом вмешалась Ночная Тень – тонкая, с длинными волосами и прямой чёлкой.
– Да, точно, покажи ей, как надо! – подхватила сидящая рядом чернокожая девушка с водопадом разноцветных косичек.
– Давай, покажу, садись на скамейку, – предложила ободренная подругами Молоко и Мёд.
– Не, на скамейке будет неудобно, – озабоченно пробасила Ночная Тень, – пусть сядет на стул со спинкой. Негритянка ногой подвинула к Рите пластиковый стул наподобие тех, что ставят летом на веранде.
– Садись поудобней и расставляй ноги, – потянув за стул, приказала Молоко и Мёд.
– Зачем расставлять ноги? – усевшись недоуменно спросила Рита.
– Как – зачем?! Ты же – клиент понарошку. Мужик! И у тебя между ног во-от такие яйца! – веселясь, Молоко и Мёд сделала выразительный жест руками, словно поддерживая у колен тяжёлые яйца. Раздевалка взорвалась хохотом стриптизёрок, но голос Майкла из динамика прервал веселье:
– Девочки, Котёнок на сцене, за ней – Электричество и Ночная Тень. Электричество и Ночная тень. Всем удачной охоты.
– Давай, показывай уже, – уходя из раздевалки, Ночная Тень больно ущипнула Молоко и Мёд за полное плечо, – жаль, что я ваш концерт не посмотрю.
– Смотри, вот твой первый танец, за десять баксов, – начала Молоко и Мёд, закружившись возле Риты в соблазнительном номере Саломеи, – этот танец нужен тебе для того, чтобы разогреть клиента и показать ему своё тело. А вот уже второй танец, за двадцатку…– Молоко и Мёд облокотилась о спинку стула, на котором сидела Рита, и, с удивительной для её объёмов пластиков заскользила. Извиваясь, по Рите сверху вниз, обдавая её тёплыми волнами аромата клубничного шампуня.
– И тут, подруга, бах! Ты доходишь до его пиписки, – не давая Рите опомниться, толстушка встала перед ней на колени и уверенным жестом ухватила её за лобок, – это – самое важное! Тут ты приближаешь своё лицо к его петушку и поднимаешь глаза к его глазам, устанавливая контакт, будто ты его хочешь безумно, не важно, старпёр это или ниггер…
– За ниггера я после работы сломаю твоё толстое тело пополам, – невозмутимым тоном вставила чернокожая девушка с водопадом косичек.
– Не ссорьтесь, девочки! Пончик, продолжай, – миролюбиво отозвалась рыжая по имени Даниэль.
– Итак, ты у члена. Тут нужно сделать так, чтобы член встал, иначе, это будет твой первый и последний танец с этим клиентом. Уяснила? – продолжала полнушка.
– М-м, – утвердительно промычала Рита.
– Наклоняешь голову вниз и аккуратно ведёшь головой прямо по его ширинке. Если от этого у него не встанет, это либо импотент, либо гомосек, я тебе клянусь.
– Либо он просто не любит таких жирных, как ты, – язвительно вставила негритянка.
– Заткнись и не мешай мне! – взвизгнула Молоко и Мёд.
– Девочки, не ссорьтесь. Клеопатра, не приставай к ней, – Даниэль вновь сделала попытку сгладить конфликт.
– Тут ты можешь подняться, достать свою сисечку и подразнить клиента, – Молоко и Мёд достала из ночнушки огромную грудь и принялась заботливо массировать сосок, крупный, шириной в ладонь.
– «Сисечку»! Ни черта себе! – вновь вставила Клеопатра со смехом, – целое вымя!
Пампушка не стерпела этого оскорбления, подскочила с места и с визгом набросилась на негритянку. Они сцепились в жестокой схватке и через секунду уже катались по полу на глазах у заинтересованных зрителей.
– Электричество на сцене, Ночная Тень за нею, следующая – Дезире. Девочки, удачной охоты, – на голос Майкла никто даже не обратил внимания.
Дезире вставила в порцелановые зубы сигарету и, подойдя ближе к дерущимся, начала вполголоса скандировать:
– Дай ей, толстая, дай ей, толстая…
С грохотом опрокинулась тяжёлая скамья, экзотические танцовщицы катались по грязному полу и, когда участь толстушки, казалось, была решена, дверь в раздевалку распахнулась и вошла менеджер клуба, Силвия.
Она всегда обращалась к стриптизёркам очень ласково, но, змеиные глаза её неизменно источали презрение ко всем и всему происходящему.
– Мои дорогие, вы подраться решили и испортить мне настроение? Это – моя смена, никаких беспорядков в клубе я не потерплю. А ну, встали!
Молоко и Мёд и Клеопатра немедленно повиновались и, поднявшись, предстали перед Силвией во всей красе. Всклокоченные волосы пампушки торчали во все стороны неожиданными вихрами, её верхняя губа была разбита и начинала опухать. Клеопатра выглядела чуть лучше, благодаря множеству косичек, её причёска не растрепалась, но из повреждённого носа сочилась кровь, а левая бретелька радужного лифчика была вырвана с мясом.
– Немедленно собрали свои вещи и по домам. В понедельник – в офис к мистеру Капелле, Вам не поздоровится.
Менеджер повернулась к расступившимся и притихшим зрительницам:
– Красавицы, у вас, что, работы нет? Марш в зал, там полно одиноких и скучающих джентльменов.
Момент тишины нарушил грохот, донёсшийся из туалета.
– Что это? – Силвия резко повернулась в сторону бледно-зелёной кабинки.
– Там Стэффани, – азиатка в клетчатой юбке метнулась к туалету и забарабанила по нему крохотным кулачком, – Стэф! Стэффи! Открой дверь! С тобой всё в порядке?
– Вызывай скорую, – невозмутимым тоном произнесла Клеопатра, – у неё отходняк.
– Все расступились, – строго приказала Силвия, – Стэффани, открой дверь, немедленно.
Из-за двери туалета не было слышно ни звука.
– Ночная Тень на сцене, за нею – Дезире. Следующая Принцесса. Девочки, кофе в баре сегодня просто отменный, – голос Майкла вызвал небольшое оживление, некоторые стриптизёрки засуетились и в спешке покинули раздевалку.
– Врача надо, – оценила ситуацию Клеопатра, забывшая о собственной драке и теперь скрестившая прекрасные сильные руки на груди и возвышающаяся как истинная царица над сидящими на скамье завороженными от испуга и любопытства стриптизёрками.
– Я сама решу, что надо, а что – нет, – с раздражением отрезала Силвия, – Лена, сходи за Хорхе, пусть он поможет мне открыть дверь.
Азиатка метнулась по приказу менеджера и через минуту вернулась, за ней следовал Хорхе Рамирез, охранник и вышибала.
– А теперь, все вон отсюда, до единой. Идите, зарабатывайте денежки, райские птички, – в голосе Силвии слышалась ненависть ко всему происходящему.
– Пойдём отсюда скорее, – Молоко и Мёд взяла Риту под руку и стремительно повела за собой, лавируя между лавками и девушками с удивительной для её форм грациозностью.
Красавица и Чудовище
Русская Бэль, по имени Катерина, вышла замуж за американца. Рыхлого, жеманного парня лет тридцати, которого она прозвала Барином за его высокомерную манеру общаться и любовь к стёганым халатам. Она называла любовью свою попытку остаться в Америке; верное определение, но, отнести его можно было скорей к континенту, чем к не по годам сварливому и склонному к алкоголизму мужу.
Для Барина Бэль была женой-трофеем: она была достаточно красива, умна и находчива; найти такую среди американок ему было бы очень сложно, а жениться – практически невозможно. Друзья Барина, глядя на Бэль, неизменно задавались вопросом: «Как ты думаешь, что она в тебе нашла? Кроме грин-карты?», и этот мотив омрачал и без того сложные семейные отношения, фундаментом которых явились русский восторг от всех иностранного и «Домострой».
А Барину было тяжело. Он не ел приготовленных женой супов и гуляшей, не мог выносить запаха гречки, с возмущением проветривал, пытаясь избавиться от запаха пельменей и не только. Впрочем, самым главным аспектом, подрывающим надежду на счастье в семье было то, что Бэль не работала, по-русски оставшись дома с маленьким ребёнком, а значит, с точки зрения Барина, никакого вклада в семью с её стороны не было.
Однажды их ребёнок проснулся среди ночи, он плакал, звал маму и метался по подушке. Маленькая головка горячая, ладошки, наоборот, холодные и липкие. Катерина взяла его на руки, двухлетний малыш крепко вцепился в неё, продолжая плакать охрипшим голосом. Ей нужно было достать термометр и жаропонижающее. Аптечка в доме хранилась высоко на антресолях, подальше от вездесущих детских ручек. Это была первая серьёзная простуда сына, Катерина очень разволновалась.
Муж безмятежно храпел, раскинув большие белые руки на простынях его любимого бордового цвета, «цвета хорошего каберне», как любил повторять он, укладываясь в кровать. Сначала Катерина не хотела будить его, думая, что может справиться и сама, но ребёнок так крепко держался за неё и так горько плакал, что она не решилась оставить малютку одного, чтобы влезть на табуретку и достать лекарство.
Возможно, большой беды бы не было, если бы он побыл без мамы эти тридцать секунд, – раз, два, – поставила ребёнка на пол, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, – добежала до столовой, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, – схватила табуретку, принесла в кухню, – тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, – влезла, открыла дверцы, достала аптечку, расстегнула её, вынула термометр, жаропонижающее, спустилась, захватила ложку и обратно к сыну. Уложилась бы в полминуты; планета не прекратила бы вращаться, это точно. Но, почему-то ей понадобилось тогда разбудить Барина. Первый сын, первая температура под сорок и слёзы в ночи. Наверное, ей просто хотелось участия мужа.
– Вставай, пожалуйста, помоги мне. Малыш заболел, мне нужна твоя помощь. Вставай! – ребёнок отчаянно плакал, и его напряжение передавалось Катерине.
Муж натянул одеяло на голову. Она отошла, взяла с полки игрушку, попыталась отвлечь ребёнка, – безуспешно. Малыш продолжал плакать, время от времени разражаясь приступом сухого, лающего кашля. Катерина вернулась к мужу.
– Вставай же, мне нужна твоя помощь, наверное, придётся ехать на скорую с такой температурой, – она вдруг ощутила прилив отчаянья.
Муж открыл один глаз, тот, что не был прижат подушкой, и окинул взглядом комнату, слабо освещённую оранжевой ночной лампой. Эта корова опять требовала к себе внимания. У неё всё всегда было не Слава Богу, а отдуваться приходилось ему. Не отключили свет, так полетел термостат; не мыши под капотом, так ребёнок заболел. И всё это случается либо когда он пытается расслабиться с друзьями, либо посреди ночи.
Барин с усилием оторвал голову от подушки и присмотрелся. Как же она растолстела после родов. Её руки, которые когда-то нравились ему своей силой и красотой, теперь стали полными и мягкими на вид. Мерзкая жёлтая пижама – ехидный подарок её матери, – это был настоящий плевок в его сторону – «забудь о сексе».
Ребёнок снова орёт. Ну, ещё бы. Эта толстая курица потакает каждому его всхлипу, из-за неё он точно вырастет бабой.
Муж откинул одеяло и с раздражением произнёс:
– Я весь день работал, и через четыре часа мне снова вставать. Ты можешь покинуть спальню с вопящим ребёнком? Вы мне мешаете.
– Подержи его только минуточку, я только возьму термометр и заберу его, – видимо, со страху за ребёнка Катерина плохо соображала.
Муж встал с кровати, включил телевизор и взял из её рук плачущего малыша. Ребёнок отвлёкся и притих. Мигом она кинулась в кухню, взлетела на табуретку, достала аптечку; из спальни внезапно послышался плач сына. Новый, пронзительный, на тон выше. Катерина ринулась к ним, – на лбу у ребёнка на её глазах надувалась красная шишка.
– Я нечаянно, – пробурчал Барин, вручая Катерине сына, – потянулся за пультом и двинул его об угол шкафа. Я нечаянно.
Слёзы застелили глаза матери; держа ребёнка в левой руке, правой она с обидой шлёпнула мужа по предплечью и вышла из спальни. Обиженный барин нагнал её в один прыжок и дал сдачи, – со всей силы залепил ей такой подзатыльник, что боль пронзила Катерину от затылка до подбородка. Она охнула, пошатнулась и села на пол, ещё крепче сжав больного ребёнка, который вдруг вновь замолчал, уставившись на отца блестящими от слёз чёрными глазками.
В его подзатыльнике для неё было больше, чем обида и боль. В этом ударе она почувствовала безысходность, будто гитлеровский солдат в белорусской деревне толкнул её в спину, – сцена, которую она видела когда-то в кино. Потому, что такое, конечно же, могло случиться только в кино. С ней и её сыном такого произойти не могло.
Прошло несколько дней. Антибиотики сделали своё дело, ребёнок поправился. Катерине стало вдруг безразлично, что было после удара, и что после него, – хорошего, плохого. Их совместная жизнь потеряла всякое значение и смысл. Это удар заставил её онеметь, она просто застыла от ужаса, настолько он показался ей вероломным. Ей было жаль себя и обидно за их малыша. Катерина много раз пыталась оправдать Барина, а точнее даже – оправдать себя в том, что время идёт, а она никуда не уходит от человека, который влепил ей жестокого подзатыльника, когда она на руках несла его больного ребёнка. Но, найти оправдания не удавалось, поэтому, вся её любовь к Барину прошла, как рукой сняло. Теперь она жила с ним потому, что так, ей казалось, было правильно. Мама, папа и сын под одной крышей. Но, правду говорят те вороны, что каркают – ударил один раз, ударит и второй. Прошло некоторое время, и Барину представился повод ещё раз продемонстрировать свою несдержанность и скверный темперамент. Он залепил Катерине порядочную затрещину, поранив ей нос своим массивным перстнем. На этот раз оправдать его было гораздо легче: он постоял за свою веру, решила она, так как ударил её за то, что она возражала против обучения их сына в католической школе.
Возможно, некоторые даже похвалили бы его за этот поступок. Многообразие человеческих реакций на агрессивное поведение в семье удивительно. Когда говорят, что муж бьёт женщину, сегодня мало, кто посочувствует. Некоторые скажут, мол, это нормально: мой муж – тоже не сахар, вчера, буквально, меня за волосы оттаскал. Другие ответят, – и ты его бей, чтобы не распускался. Ещё бывает реакция возмущения жертвой – «это как же надо было довести такого классного парня, чтобы он полез с кулаками!» Увы, насилие является нормой в очень многих семьях. Впрочем, насилие без свидетелей – это просто несчастный случай.
Рудольф Клаус
В коротком письменном обращении к братьям и сёстрам во Христе архиепископ Стэнли принёс свои глубочайшие извинения, прося прощения за сексуальное насилие, причинённое католическими священнослужителями штата самым уязвимым и беззащитным прихожанам – детям от трёх до семнадцати лет.
Сухие, скупые строки архиепископа оставляют много вопросов у читателей этого обращения. Святой отец пишет о том, что много работы уже проведено в этой связи, например, обнародован список из семидесяти семи католических насильников, надругавшихся над детьми. В списке – имена и фамилии людей в рясах, названия церквей, в которых они служили и насиловали, приблизительное количество жертв каждого. Приблизительное – потому, что далеко не каждая жертва может открыто признать, что её или его изнасиловал священник, непорочный человек, призванный оберегать и приближать к Богу. Одни просто молчат, другие винят себя, третьи просто гибнут, не сумев этого пережить. В материалах, обнародованных церковью, конечно же, нет ни слова о разорванных сфинктерах, травмах прямых кишок, разрывах влагалищных сводов, повреждениях мочевых пузырей. Да и у полиции таких документов раз, два и обчёлся, – после секса со священниками дети не шли к медицинским экспертам, большинство из них скрывало свои чудовищные, недетские травмы.
На страницах церковных докладов есть описания жизней святых отцов до и после разоблачения их страшных преступлений, но нет ни одной страницы, приводящей такой простой и отрезвляющий факт, как количество самоубийств среди жертв сексуального насилия католических священников. Двадцать процентов. Каждый пятый не смог этого пережить. В отчёты церкви эти цифры не попали, зато известно, кто из священников реабилитируется и восстанавливает силы в комфортабельных калифорнийских пансионатах.
Архиепископ писал, что святым отцам нужно время, комфорт и покой, чтобы осознать трагедию произошедшего и восстановиться для полноценной жизни. Он просил прощения за насилие, но забыл извиниться за утрату доверия к людям, интереса к жизни, веры в Бога. Он не упомянул ни одной искорёженной жизни, не счёл нужным извиниться за ненависть родителей к Господу нашему, Иисусу Христу, который смотрел с вишнёвых настенных крестов на то, как его служители надругаются над их детьми, и не защитил.
Сосед Барина и Катерины, Рональд Клаус, был опрятным, доброжелательным стариком лет семидесяти, из рабочего класса, – изрядно загоревший в своём огороде американец немецких кровей. Он нередко заходил, то с миской зелёного горошка, то с пригоршней садовой земляники. Катерина приглашала его за стол, и он всегда соглашался, пил с нею чай или кофе, любил блины с клубничным джемом. Как-то он увидел, что сын Катерины играет в саду с паровозиками, и в тот же день пришёл к ним, держа в руках локомотив с надписью “Santa Fe” от замечательной старинной железной дороги.
– Я достал игрушки своего сына, глядя на твоего малыша, – сказал Мистер Клаус, посмотрев на Катерину из-за тонких очков в красивой серебряной оправе. В них он был похож на Доктора Айболита, но без бороды и усов.
– Локомотив я принёс, а саму железную дорогу надо ещё довести до ума, кое-что подсоберу и подарю твоему пончику на Рождество. Он обрадуется, – произнёс Мистер Клаус, опустившись на стул в кухне. Он бережно поставил локомотив на стол и погладил его рукой. Катерина села рядом. Прочитав в её глазах вопрос и опередив его, старик сказал:
– А у меня нет, и не будет уже внуков, никогда. Мой единственный сын мёртв, – он говорил глухим, твёрдым голосом, не свойственным ему, – ты знаешь, я виню себя в том, что его больше нет. Зря я назвал его Рудольфом, я много раз сожалел об этом. Видишь ли, в нашей семье существует многовековая традиция называть сыновей именами, начинающимися на букву «Р». Рональд, Румперт, Ричард, Рейн – все были, а Рудольфа, до него, у нас в роду и не было. Когда он был маленьким, мне очень нравилось это имя, казалось, что оно ему идёт. «Рудольф» означает «красный волк» в переводе с древнегерманского, это имя лидера, победителя! – мистер Клаус потряс жилистым кулаком прямо перед носом Катерины, – но, наш Руди не был сильным. Он рос тихоней и неженкой, тянулся к матери, хоть я и просил её не слишком баловать сына. Когда пришло время идти в школу, оказалось, что детям он совершенно не нравился. Они дразнили его, потешались над ним. «Рудольф Клаус» показалось им смешным именем. Вроде как тот красноносый олень из детской сказки про Санта Клауса; за сыном привязалось прозвище «Красный нос». Вот уж не думал, что моего мальчишку, красавца и умника, будут дразнить в нашей католической школе, где и дети-то все были нам как родные. Ладно, если бы он был толстым или там рыжим, хромым ли кривым, или ещё каким, – дети жестоки, они не терпят дефектов в своих товарищах. В нём же не было изъянов, он рос красивым, ладным мальчиком. Но, наверное, это было лишь видимостью, а слабость была у него внутри. Дети это чувствовали, они намного более чуткие существа, чем мы. Одноклассники обзывали его, подкладывали ему в ранец мёртвых цыплят и прочие мерзости, швыряли в него камнями, подсторожив после занятий. Уж чего только моя жена не делала, чтобы только помирить его с этими детьми. Она и плакала, и ходила к родителям, и полицию вызывала, и подкупить их пыталась, то игрушками, то сладостями, всё без толку. Руди было очень тяжко это переживать, он забивался на чердак и проводил там целые дни, играл в свои паровозики и читал. Отправлять его в школу каждое утро было событием не из приятных. Он плакал и умолял, и кричал, но куда от школы денешься? А учился он вполне сносно, особенно математика у него хорошо получалась. Вдруг он воспрял духом, это пришло так же внезапно, как и исчезло потом. Какое-то время он вдруг стал подниматься сам по утрам, собираться в школу, бежал туда без слёз. Мы с женой и поверить не могли в это, просто вне себя были от радости. Вот, думали, Господь услышал наши молитвы. Даже расспрашивать его боялись, но он сам как-то обмолвился. Сказал, мол, отец Гэндроу понимает его, как никто другой. Уж так мы были рады с женой, я передать не могу, так благодарны пастору. Жена и пекла для него, и варенья варила какие-то; он же всё принимал с большим достоинством. И вдруг опять, – как чёрной тучей накрыло. Руди стал ещё грустнее и совсем замкнулся, так мы прожили ещё несколько трудных лет. А за две недели до его пятнадцатого дня рождения наша жизнь и вовсе закончилась, – мы потеряли своего Рудольфа. Он просто ушёл в школу и не вернулся. Оказалось потом, что и в школе его не видели.
Я помню отчётливо каждую минуту последнего утра, помню его белую рубашку и синий джемпер с вышитыми красными нитками вензелями католической школы. Помню его ранец, его новые ботинки, его светлые волосы. Сейчас рассказываю тебе и вижу, как он выходит со двора и бережно закрывает калитку. Он славным был мальчиком. Мать слегла, но не померла, храни Господь её сердце. Мы сложили все свои сбережения и дали объявление – сто тысяч долларов тому, кто поможет нам найти нашего сына, живым или мёртвым.
Мы прожили семнадцать лет и три дня без нашего мальчика, я не знаю, как. А нашёл его сосед, Поли Ричардс, он жил вон в том доме с жёлтой дверью. В Сан-Франциско нашёл, на гей-параде. Чёрт бы его не знал, что этот Поли там делал. Поли вернулся в Сиэтл из отпуска, явился к нам и сказал, мол, жив наш сынок, и знает он, где его искать. Но, деньги вперёд, к адвокату нас сначала потащил, подписали договор, всё как положено, выплатили мы ему свои сто тысяч долларов, как и обещали, до последнего цента. Уж, если честно тебе сказать, оно того стоило, и не столько заплатить можно, чтобы только вновь увидеть своего потерянного ребёнка.
Мы с матерью поехали в Сан-Франциско к своему Руди и нашли его, хоть он давно уже сменил и имя, и фамилию. Теперь сына нашего звали Джо Сеймур, по профессии он был парикмахером, жил в маленькой, но довольно уютной квартирке с окнами, выходящими на залив. Про гей-парад мы с матерью и не расспрашивали. Мы боялись, что он давно отвык от нас, но , вопреки нашим опасениям, он быстро собрался и вернулся домой, в Сиэтл.
В его комнате всё было так, как он оставил в день, когда ушёл из дома. Мать только пыль протирала. В общем, всё бы наладилось, если бы не начались эти разбирательства судебные. Несколько человек из тех, что ребятишками росли вместе с нашим сыном, обратились в суд, заявив, что пастор Гэндроу подвергал их сексуальному насилию, это уж по всем каналам прозвучало. Только наш мальчик этого не смог пережить. Мать нашла его повесившимся в гараже, под ногами – записка, всего два слова – «меня тоже». Уж понимайте, как хотите, но так мы потеряли своего сына во второй раз, навсегда, – старик опустил лицо в свои жилистые, испещренные светло-коричневыми пятнышками руки и беззвучно заплакал.
Особые планы
Людям свойственно искать виноватых. Когда предаёт священник, кто, если не Иисус должен ответить на вопрос: «Почему это случилось с моим сыном в церкви?» Сколько их, отступников, пытающих – «Если Бог существует, почему он это допустил насилие над невинными?» И тут же следует ответ, пафосный и настолько же загадочный: «у Него есть особенный план для этих людей». Да, Джонни, план, действительно, особенный. Ты закончишь жизнь в цветущем Ванкувере, непосредственно под распустившимся розовым кружевом вишнёвым деревом на Ист-Хастингс-стрит2. Не справившись с психологической ношей сексуального насилия, ты станешь наркоманом и умрёшь молодым, заросшим пучками сальных волос, свернувшись калачиком под роскошной вишней, обхватив исколотыми руками острые коленки, покрытые синяками и язвами.
Кто-то, как Рудольф Клаус, попробует справиться и станет гомосексуалистом, чтобы убедить самого себя в том, что насилия не было и быть не могло, ведь святой отец был очень хорошим человеком, и секс всем понравился. Не в силах признаться родителям, сбежит из дома, а мать с отцом будут разыскивать его годами, пока антидепрессанты медленно, но верно разрушают их внутренние органы.
О, эти особенные планы, уготованные Господом! Цинизм, с которым христиане обосновывают свою доктрину, не знает равных, но, церковь всё собирает свой урожай.
Сосед ушёл, а Катерина осталась со своим новым ужасом – католической школой для сына. Барин настаивал на том, чтобы мальчик учился в школе при церкви Святого Марка, под крылом у преемника отца Гэндроу, отца Мэтью Генри.
– В мире, где каждый третий становится гомиком, кто-то должен понимать, что есть вещи, противные Богу. Я хочу, чтобы моего сына учили так, как учили меня, начиная с «Отче наш» и заканчивая…
Катерина не слушала доводы Барина, потому, что спорить с ним не собиралась. В рассеянности она щёлкала компьютерной мышью по фотографиям на сайте католической школы Святого Марка, разглядывая счастливые личики детей и подозрительные физиономии взрослых.
– Послушай, а ты не боишься насилия над ребёнком в этой школе? – наконец, она нашла в себе силы задать этот тревожащий её вопрос мужу, который готовил себе «Кровавую Мэри» в нескольких шагах от неё.
– Ты дура или притворяешься? – с раздражением спросил Барин.
– Я отчёт читала. Ты читал? Колледж уголовного права имени Джона Джея опубликовал отчёт о сексуальном насилии над детьми со стороны католических священнослужителей в штатах. Это эпидемия, это ад… Я боюсь эту школу.
– Какой, к чёрту, отчёт о насилии! – Барин был разъярён. Светло-русые волосы на его голове торчали во все стороны, как у тролля, – ты веришь этим проискам демократов? Разве ты не знаешь, что всё самое страшное случается с нами в нашем собственном доме, в родной семье?
Катерина задумалась. Ей вдруг стало невероятно жаль Барина. Он, с его растрёпанными волосами, в полосатых пижамных штанишках и со стаканом томатного сока с водкой в руке вдруг представился ей беззащитным мальчиком, которого даже дома ждёт страшное… Она поднялась из-за стола и, подойдя к мужу, крепко обняла его. Не оставляя стакана с «Кровавой Мэри», Барин прижал её к себе и поцеловал в голову.
– Как ты думаешь, может, мне стоит тоже пойти в эту школу, поработать там, познакомиться поближе с людьми, которые будут рядом с нашим сыном?
– Хорошо, дорогая, делай так, как считаешь нужным, – снисходительно произнёс Барин и вновь поцеловал.
Ликовали без папы
Несмотря на компромисс с католической школой, отношения у супругов не клеились. Барин стал распускать руки всё чаще: не вовремя оплаченный счёт за электричество, просроченный сыр в холодильнике, невыглаженная рубашка служили поводом для пощёчин.
Сиэтл накрыл июнь, пёстрый и ласковый. Сирень щедро одаривала фиолетовыми и розовыми гроздьями. У свёкров на заднем дворе было необычайно жарко.
– А где Стивен? – спросила свекровь Катерину, которая с сыном явилась к ней на воскресное барбекю.
– На работе, – пожала плечами Катерина.
– Иди, покорми рыбок, – обратилась свекровь к мальчику, выдав ему баночку с кормом, и вновь перевела глаза на невестку, – у вас с ним не ладятся отношения?
– Да. Он бьёт меня, – со страхом, но, испытав облегчение, призналась Катерина.
Последовала продолжительная, неприятная пауза. Из сада свёкров на холме Квин Энн Сиэтл был виден как на ладони. Катерина и свекровь сидели за плетёным столом, глядя на блистающие в лучах заката небоскрёбы. Маргарет, матери Барина, никогда не нравилась русская невестка, и, всё же, она очень хорошо знала, что её сынок – не подарок.
– Когда папа умер, мы ликовали, – сказала свекровь, не глядя Катерине в глаза. Она сделала паузу, затянулась длинной сигаретой, зажатой между бледными пальцами, выпустила две сизые струйки дыма через нос и продолжила: – тебе может показаться возмутительным, это и вправду очень плохо – радоваться смерти. Но, мы ликовали, когда нам сказали, что самолёт, на котором он летел, разбился, не долетев до Ванкувера всего пару километров. Радость наша была недолгой. Она сменилась ужасом, – а вдруг, папа выжил? А что, если это ошибка? Вместе с отрядом спасателей мы бродили по месту крушения, находя части трупов, вглядываясь в каждый кусок человеческого мяса. Мы не чувствовали ни скорби, ни ужаса. Нами владел лишь один страх – что отец опоздал на этот рейс и вскоре вернётся домой. Когда, наконец, Билли нашёл папину руку с так хорошо знакомой нам татуировкой, он завизжал. Его визг до сих пор звенит у меня где-то в позвоночнике, несмотря на то, что прошло больше пятидесяти лет. Мы кинулись к нему, увидели папину руку, над которой стоял Билли, и разразились рыданиями. Спасатели, наверное, думали, что мы плачем от горя. На самом же деле, это были слёзы радости и облегчения. Он бил нашу маму. Ты понимаешь? Он очень жестоко относился к ней, унижал её, таскал за волосы, обливал ледяной водой, шпарил кипятком. А если мы заступались, он бил и нас. Видишь этот шрам? – свекровь задрала рукав кружевной блузы, обнажив провисшую кожу предплечья, и указала на довольно глубокий круглый белый шрам. – Это от папиной сигареты. Было очень больно, поверь. Он выбил Билли его передние зубы, как только они выросли, его постоянные передние зубы, ты понимаешь? Он побрил Сэру на лысо только за то, что она нечаянно разлила его пиво. Ей было пятнадцать лет. Ты представляешь, каково это – быть лысой девочкой в канадской деревне в те времена? Париков у нас не было. Но мать не хотела уходить от него. Она боялась, что он найдёт и убьёт нас всех. Я ненавидела её за эту трусость! Уж лучше умереть один раз, чем так мучиться.
Свекровь прикурила вторую сигарету от почти истлевшей первой. Тревожно затянувшись, она вновь сделала паузу, пристально изучая свои акриловые ногти, покрытые лаком бирюзового цвета, в тон дешёвым пластмассовым бусам, изумлённо лежавшим на её дряблом декольте.
– Все говорят, что у ребёнка должны быть отец и мать. Иначе – это нечестно, это неправильно. А по мне, так лучше бы я в сиротском приюте выросла, чем плакать от радости над останками собственного отца в неполные семнадцать. Есть отцы, без которых жить легче… – свекровь посмотрела Катерине в лицо сердитым, честным взглядом, – если мой сын хоть раз сделал тебе больно, уходи от него. Ты и мой внук достойны лучшей участи, – сказала она. Затушила сигарету, поднялась и ушла в дом, не попрощавшись и не оборачиваясь.
Катерина вернулась к себе домой. Пахло коньяком и ванилью. На диване, завернувшись в пушистый белый халат с вышитой монограммой отеля «Беллажио» и обнимая её подушку, сидел Барин. Лицо его было красным и одутловатым, брови сердито сдвинуты, длинные тонкие ноги вытянуты вперёд. Понятно, что эта подушка служила сигналом, – муж скучает, он сожалеет, возможно, даже чувствует себя виноватым. Видимо, он рассчитывал на сентиментальный характер и природную мягкость своей супруги. Действительно, она сразу смягчилась. Барин вновь показался ей нелепым, безобидным и даже жалким. Его очередной удар, весь день тревоживший всё сознание Катерины, теперь показался ей слишком ничтожной причиной для того, чтобы ворошить это тёплое, пусть оскорблённое насилием, но всё ещё дышащее уютом гнездо.
Она опустилась на кровать рядом с ребёнком и принялась читать. Чувства и мысли в голове звучали громче, чем звук её собственного голоса. Ей было стыдно перед сыном за то, что она вновь простила и не ушла.
Катерина ушла от Барина, когда полюбила другого и впервые поняла, что хочет изменить мужчине. Она могла терпеть обиды от мужа, но унижать себя ложью и изменой не смогла. Катерина полюбила и захотела любить свободной, не прячась и не выкраивая время, она хотела вновь располагать собою и своими чувствами. Как это эмоциональное безрассудство свойственно русским женщинам!
Стриптиз для всех
Отец Мэтью Генри служил в церкви святого Марка на юге штата. В свои пятьдесят два года он выглядел весьма бодро и даже свежо. Спортивная осанка, широкие плечи, густые волосы с проседью или, как говорят американцы, «соль и перец», подстрижены «ёжиком». Слегка навалившийся на ремень живот было совсем незаметен под рясой, и ни малейшего намёка на второй подбородок. Что там говорить – отец Генри был красавцем и кумиром всех женщин его прихода. Он же любил лишь одну женщину и был ей верен. Его возлюбленную звали Мария, она была тридцатилетней мексиканкой, воспитанной в католической семье. Та самая, что, оставшись без мужа, оставляла детей на тётку, которой говорила, что подрабатывает официанткой, и выходила на работу в ночном клубе под липким названием «Сладкое место».
Клуб представлял собой небольшое тёмное помещение, оборудованное маленьким баром, двумя зеркальными сценами, освещёнными красными лампочками, будкой ди-джея, двадцатью круглыми столиками с мягкими креслами возле них и десятком кожаных диванов у стен. На диванах располагались посетители понаглее и побогаче. Вальяжно развалившись на чёрной коже, они заказывали напитки и не стеснялись брать «танцы» подороже. В середине зала обычно сидели новички; эти мужчины, как правило, хотели сориентироваться в происходящем, но, смущаясь с непривычки, не рисковали приближаться к зеркальной сцене. Туда, поближе к отогретому красным светом помосту, усаживались самые скупые из завсегдатаев этого болотца. Это были старые, жалкие извращенцы из числа представителей рабочего класса, на них и смотреть-то было противно. Они напряжённо и озабоченно вглядывались в голых женщин, до которых было рукой подать, словно пытаясь запомнить до мельчайших деталей их такие разные, но до боли похожие объединяющей их доступностью тела. Красные лампочки грели стриптизёрок своим всепрощающим тёплым светом, сглаживая расширенные поры, прыщи, бородавки, шрамы. Особенно много у этих женщин было шрамов; от шприцев, кесарева, сигарет садистов, от ножей и ножниц ревнивцев. Девушки с благополучным прошлым не идут устраиваться в стриптиз-клуб.
В клубе «Сладкое место» числилось восемьдесят шесть «танцовщиц». Все они работали в разные смены, их график был составлен таким образом, что в любое время суток в клубе находилось, минимум, пять девушек. Наиболее шумными днями недели, конечно же, были пятница и суббота. В эти вечера клуб кишел пьяной, развязной молодежью, неизменно справляющей чьё-то совершеннолетие, либо ликующей на мальчишнике, посвящённом предстоящей свадьбе. Отец Генри избегал появляться в клубе в такое время. Он приходил два раза в неделю, по вторникам и четвергам, и проводил в клубе около трёх часов.
Священнослужитель сознательно пришёл к посещениям стриптиза, понимая, насколько малодушным с его стороны был этот шаг. Но, он не мог больше противостоять естеству. Половое влечение здорового мужчины рвало на части его измученное сознание и тянуло священника к женщинам. Ни молитвы, ни изнурительные занятия физкультурой, ни ледяной душ не помогали ему снять саднящее сладкое и одновременно болезненное напряжение внизу. Его член невероятного размера, за который пораженные в душевой школьного спортзала одноклассники окрестили его «Мэтью-Жеребец», разбухал и еле умещался в ширинке при виде женского декольте. Его возбуждали женские руки, их оголённая верхняя часть, где, иногда, в вырезе летнего платья промелькнёт волнующая подмышка. Его сводили с ума ушные раковины; отец Генри с нежностью рассматривал их деликатные завитки, украшенные золотыми серёжками с драгоценными камнями, как это водится у католических дам. Его очень волновали ягодицы. Мягкие или упругие на ощупь, – святому отцу не дано было этого знать, но, бесстыдно разглядывая очертания женских задниц под шёлковыми платьями прихожанок, священнослужитель изнывал от истомы.
Преклоняя колени перед Господом, этот несчастный грешник молил избавить его от искушения, но, Господь безмолвствовал. Ответа не было, и пульсирующий члена отца Генри продолжал своё независимое и беспощадное противостояние принципам священного целомудрия.
С Марией священник познакомился в первый же вечер в стриптизе. Ди-джей в микрофон анонсировал псевдонимы женщин, выходящих на сцену клуба, который был расположен далеко на севере штата, у канадской границы, – подальше от глаз, которые могли бы увидеть и узнать святого отца даже под бутафорскими очками и в парике. Котёнок, Принцесса, Персики и Сливки, Ночная Тень… В сценических прозвищах стриптизёрок скользило что-то детское, недоразвитое, от чего они казались отцу Генри беззащитными и даже невинными. Котёнком называла себя высокая девушка с лицом ангела и коротко остриженными волосами. Она была одета в белую мужскую рубашку и розовые кружевные трусики. В отличие от большинства прочих женщин, она не приплясывала, поглядывая в зеркало на своё отражение, и не вращала бёдрами. Словно скупясь на движения, Котёнок присела на корточки на середину сцены, широко раздвинула стройные ноги и принялась медленно касаться себя на глазах у завороженных мужчин. С безразличным выражением восхитительного лица она проводила рукой по точёной ноге, от колена вверх, задерживаясь на внутренней стороне ляжки. Потом она поднялась выше и, оттянув левой рукой кружевные трусики в сторону, принялась водить тонкими пальцами по самой деликатной части своего прекрасного тела, перебирая тёмно-розовые лепестки половых. Вдруг, она поправила трусики и беспомощно обхватила руками шею, закрывая от восхищённых зрителей небольшие нежные груди, упрямо выглядывающие из-под рубашки любопытными светлыми сосками.
Маленький, похожий на чёрную муху, мексиканец с засаленными волосами и выражением отвратительного самодовольства на изрытом шрамами некрасивом лице поднялся со своего места и положил на сцену три долларовые бумажки. Котёнок не удостоила этого мексиканца даже взглядом. Тогда поднялся его товарищ, паренёк моложе и симпатичней, хитро улыбаясь, он подкинул девушке ещё пятёрку, но и это не произвело на стриптизёршу никакого впечатления. Когда истекли три минуты её выступления, девушка с достоинством собрала деньги и спустилась со сцены. Её сменила Принцесса – вульгарного вида женщина лет сорока, наряженная в разноцветные шёлковые шарфы, – один служил ей подобием бюстгальтера, второй – трусиками, третий был небрежно обмотан вокруг шеи. В её движениях было много энергичной бравады, в которой, однако, читалась фальшь и фиаско перезрелой, завистливой женщины, невыразимо страдающей в окружении юных тел.
Персики со Сливками была толстой негритянкой, Ночная Тень – симпатичной длинноволосой наркоманкой с выразительной татуировкой на спине в виде змеи, обвивающей розу, Мими была вьетнамкой с двумя кнопочками кофейного цвета на плоской груди. Череда привлекательных и отталкивающих одновременно женщин начала было утомлять отца Генри, не привыкшего постоянно находиться в психическом напряжении. Для него было странным и неожиданным то, что, глядя на стриптизёрок, он почти не испытывал возбуждения, в то время, как женщины из его прихода часто просто сводили его с ума. И тут появилась его женщина. Ди-джей назвал её Марией. На вид ей было лет двадцать восемь; во всяком случае, никак не больше тридцати. Она поднялась на сцену и подошла к зеркалу, повернувшись спиной к зрителям. Прямые чёрные волосы доставали до пояса, оставляя на обозрение лишь круглые плечи и ровные стройные ноги, стремящиеся из-под короткой белой юбки, напоминающей школьную форму учениц церковной школы. Девушка медленно покачала бёдрами под музыку, развернулась, подошла к стальному шесту и ухватилась за него одной рукой. Отец Генри ожидал, что она закрутится вокруг него, как это делали другие, но, Мария всё стояла, держась за шест, качая бёдрами в такт музыке и печально глядя в середину зала. У неё было красивое лицо, кожа оливкового цвета, отливающая теплотой под красными лампами. Сначала отец Генри подумал, что она – итальянка. Девушка ему очень понравилась. Но больше, чем прекрасные, миндалевидные глаза, роскошные волосы и гладкие, стройные ноги отцу Генри понравилась белая юбка Марии. Скромная юбка поразила его своим целомудрием; действительно, это было контрастом, по сравнению со стрингами и оттянутыми в сторону кружевными трусиками. Мария покачалась на сцене, но так и не разделась, а, напоследок окинув зал грустным взглядом, не торопясь сошла со сцены и села на краешке одного из диванов у дальней стены.
– Хотите коктейль? – голос полной, но очень хорошенькой официантки заставил отца Генри очнуться.
– Конечно, – поспешно согласился он и принялся рыться в карманах, – сколько стоит?
– Безалкогольный – пять. Алкогольный – пятнадцать, – равнодушно ответила девушка, словно в безбожно завышенной цене на напитки она не видела ничего экстраординарного.
– Пожалуй, я выпью томатного сока, – цены в клубе немного расстроили священника, но он старался не показать своего разочарования.
– Со льдом или без?
– Без. Пожалуйста, безо льда.
Официантка ушла и тут же вернулась с небольшим тонким стаканом, на три четверти наполненным томатным соком.
– Пять долларов, пожалуйста!
Отец Генри протянул ей приготовленную стодолларовою бумажку; других денег у него не нашлось.
– Сдача нужна, мой сладкий? – ласковым голосом спросила официантка.
– Да, благодарю вас, – вполголоса ответил священник, поразившись такой наглости.
Девушка вновь удалилась, на этот раз её не было дольше, и отец Генри успел отпить немного прохладного подсоленного томатного сока.
Наконец, она вернулась и привычным движением поставила перед священником бирюзовый цилиндр. Приглядевшись, отец Генри обнаружил, что это фишки, наподобие тех, которые используют для расчёта в азартных играх. Он поднял изумлённые глаза на официантку.
– А где же сдача? – возмутился святой отец.
– Сдачу мы даём пятидолларовыми фишками, – спокойно ответила девушка, – ты, мой сладкий, можешь потратить их на танцы или напитки. Можешь купить девушкам лимонаду. Как хочешь.
Отец Генри рассеянно посмотрел на фишки, потом опять на девушку. Она не отходила, блуждая скучающим взглядом по сторонам.
– Также, у нас полагается давать чаевые, – терпеливо добавила бесстыдница, – вы можете дать мне одну фишку, если вам понравилось моё обслуживание.
Священник протянул девушке фишку; та с проворностью белки схватила её, спрятала в нагрудный карман кружевного передника и, поблагодарив отца Генри со свойственной ей фамильярностью, удалилась.
Отец Генри допил солёный сок, осмотрелся и поднялся со своего места, направившись к полноватой блондинке в строгом брючном костюме; своим видом и манерами она была похожа на менеджера. Тем более нелепой казалась её татуировка, выглядывающая из-под воротника, – когтистая лапа какого-то зверя. Подумав об этом, священник содрогнулся. Похоть привела его в это грешное место, где в дьявольском красном свете даже из-под воротника единственной здесь одетой женщины выглядывает Враг. Блондинка разговаривала по телефону и, встретившись глазами с отцом Генри, знаком показала ему: «минуточку!» Он остановился, присел на краешке дивана и погрузился в молитву. Ему показалось, что он почувствовал подобие ответа. Словно, тихий, спокойный голос внушал ему: «Пути неисповедимы». Наконец, блондинка наговорилась и сама подошла к отцу Генри.
– Чем я могу вам служить, сэр? – спросила она с участием сиделки в доме престарелых.
– Я бы хотел поменять вот это на деньги,– ответил отец Генри и протянул ей фишки.
– К сожалению, я не могу вам в этом помочь, сэр. Вон там, – блондинка протянула вдаль полный указательный палец, заканчивающийся алым когтем, – написаны наши правила. Мы даём сдачу только фишками, которые нужно потратить в нашем клубе. Сколько там у вас?
– Девяносто, – в голосе священника слышалось смирение.
– Прекрасно. Это целых четыре обычных танца и один танец у стола.
– Вы могли бы рассказать подробнее, что всё это значит?
– Лучше один раз почувствовать, чем десять раз услышать, мой сладкий, – блондинка поманила когтем маленькую девушку в белом бюстгальтере и клетчатых трусиках, – Джинни! Этому джентльмену требуется тур по заведению и очаровательный танец. Похоже, он у нас впервые, – она вновь повернулась к священнику, – сэр! Запомните. Девушек трогать нельзя. Это правило.
Джинни было всего восемнадцать, но она воображала себя умудрённой дамой лет сорока пяти. Говорила она удивительно низким голосом, и тоже постоянно вставляла фамильярное обращение «мой сладкий», которое вызывало раздражение у отца Генри.
– Пойдём сюда. Я станцую для тебя за двадцатку, – Джинни приняла четыре фишки, положила их в маленькую сумочку, висящую у неё на бедре и властным движением усадила священника на диван. У него тут же пересохло в горле. Джинни совершенно ему не нравилась. Она вела себя развязно, но её личико было совсем детским. Что должно было произойти в её жизни, чтобы она оказалась здесь так рано? Каким было её детство, если, едва оперившись, она упала на дно?
От маленькой Джинни пахло сигаретами, дезодорантом и немного потом.
– Послушай. Если ты не расслабишься, у нас ничего не получится. Положи руки на диван. – Джинни посмотрела ему в глаза и начала танцевать. Сначала она извивалась возле него, показывая своё юное, очаровательное тело. Она поворачивалась спиной, демонстрируя две умилительные ямочки на пояснице. Потом она вдруг села к святому отцу на колени и принялась тереться об его ширинку, одновременно обнажив смелый сосок и касаясь им носа священника. От Мэтью-Жеребца не осталось и следа. Джинни не только не возбуждала его, она ужасала. Неугомонная девушка встала перед ним на колени и начала водить головой по тому месту, где она привыкла чувствовать каменное, налитое кровью возбуждение. Мучительные три минуты истекли, ди-джей сменил песню. Джинни села на диван рядом с отцом Генри и закурила.
– Хочешь ещё танец? – спросила она неуверенно.
Отец Генри отрицательно мотнул головой.
– Не от меня! – спохватилась расстроенная девушка, – тебе, похоже, я совсем не понравилась. Ты весь мягкий… Или ты импотент?
Отец Генри молчал. «Я – священник», – подумал он и усмехнулся своей мысли.
– Ты знаешь, есть ещё танцы по тридцать баксов. Может, тебе такие нужны, чтобы возбудиться? – девушка смотрела на него озабоченно.
– Что за танцы?
-Ну, видишь, есть девушки в трусиках, а есть в юбках. Те, что в юбках, могут дать себя потрогать внизу. Ты можешь даже засунуть палец целиком, если захочешь, но так, чтобы не видел владелец клуба. Поэтому, когда он здесь, никто тридцатидолларовые танцы не делает.
Мэтью-Жеребец проснулся и вздрогнул.
Джинни виновато попрощалась и отошла. Этот клиент испортил ей всё настроение, эти импотенты вечно расстраивают; после них всегда чувствуешь себя глупой и совершенно не сексуальной.
Глаза священника искали Марию.
Блондинка-менеджер перехватила его взгляд.
– Может, вам пригласить конкретную девушку? – спросила она, прочитав его мысли, как и полагается хорошему менеджеру.
– Марию, – еле слышно ответил священник.
Явление девы Марии
Через минуту Мария явилась к священнику. Она опустилась на диван рядом и взяла его за руку; Отцу Генри показалось, будто он почувствовал слабый электрический разряд. Девушка спросила, глядя в сторону:
– За двадцать или за тридцать?
Священник замялся.
– Ладно. Я начну, а там – как пойдёт. Заплатишь позже,– сказала стриптизёрша, встала перед ним и задвигалась под музыку.
О, это был совсем другой танец, непохожий на кокетливые этюды Джинни. Мария двигалась неторопливо, предоставляя возможность познакомиться с её телом. В каждом движении ощущалась чувственность взрослой, любившей когда-то женщины. Она встала на колени и, подняв голову, внимательно посмотрела в лицо Мэтью. Запах кондиционера её волос казался божественным. Его член заломило. Мария, словно почувствовав это на расстоянии, двумя руками легко взялась за грешный орган; даже через одежду священник ощущал мучительную сладость её прикосновения. Не задерживаясь у члена, Мария поднялась и, упершись левой рукой в спинку дивана, правой достала из бюстгальтера грудь и начала оттягивать светло-коричневый сосок; от этого он напрягся и затвердел. Девушка с ароматным, тёплым дыханием прошептала на ухо сходившему с ума священнику: «Хочешь меня попробовать?» Не дожидаясь ответа, она провела горячим камешком соска по губам отца Генри. Мэтью-Жеребец стремился разорвать брюки. «Руки не должны двигаться. Положи их обратно на диван», – предупредила Мария. Три минуты их первой близости истекли немыслимо быстро. Он не успел надышаться её запахом, как следует рассмотреть черты её лица. Почти умирая, он вспомнил, что надо платить и потянулся за бумажником.
– Руки на диван! Это не всё! – тихо скомандовала Мария.
Священник повиновался. И тут случилось нечто шокирующее и совершенно неожиданное для него, – девушка в белой юбке села рядом, опустившись на его руку, и его пальцы невольно проникли в её влагалище.
– Ты чувствуешь, как там мокро? – еле слышно произнесла она.
Как Отец Генри оказался в кабинке клубного туалета, он не помнит. Нечеловеческое желание затуманило его рассудок.
– Ты создал меня по подобию Своему! Значит, то, что свойственно мне, свойственно и Тебе! – шептал изнемогающий в предоргазменной агонии отец Генри, яростно мастурбируя. Господь ответил, обрушив на него небесную молнию оглушительного оргазма, который потряс священника, пронизав насквозь и пройдя радужными кольцами через живот, член, сжав до предела и без того напряжённое кольцо ануса и оросив перламутровыми каплями бледно-зелёную дверцу кабинки туалета, покрытую засохшими желтоватыми потёками таких же семяизвержений.
– Эй, ты долго там ещё? – в дверцу постучали с наружной стороны.
– Я выхожу… – голос отца Генри звучал глухо и виновато.
Он спустил воду, отмотал себе на руку несколько витков грубоватой туалетной бумаги, промокнул член, стыдливо, где мог, стёр потёки спермы с дверцы, бросил грязную бумагу в унитаз и снова смыл. Затем он поднялся полностью, но, распрямившись, почувствовал внезапный прилив крови в низу живота. Отец Генри с наслаждением помочился, удивившись силе струи, стряхнул, и, в третий раз смыв, вышел из кабинки.
Во всём его теле чувствовалась усталость, и, в то же время, поразительная лёгкость. Но самым замечательным чувством было для него то, что на сердце тоже было легко. Он не чувствовал ни малейшего угрызения совести. Мэтью Генри кончил с именем Господа на устах. Господь даровал этот оргазм в ответ на его молитвы, а это значило, что он благословлен. Для достижения этого небесного удовольствия тела ему не пришлось вторгаться в невинное тело ребёнка или беззащитной девушки. Он возжелал и молился, сам трогая ту часть своего тела, которая желала быть тронутой, и разве это не сам Господь создал его тело именно таким?
Быстрыми шагами отец Генри вышел из тёмного клуба в летнюю ночь. Воздух ещё не остыл, на улице он был даже теплее, чем в обдуваемом кондиционерами стриптизе. Отец Генри сел в свою машину и поехал домой, на юг штата.
Старый гангстер
Владелец «Сладкого места», Фредо Капелла родился на юге Италии в конце Первой Мировой войны. Удивительно, насколько хорошо сохранился этот ходячий экспонат. Ему было далеко за восемьдесят, а девушки в стриптизах всё ещё распускали слухи о его ненасытном сексуальном аппетите. Невысокий, порядком ожиревший старик с желтоватой лысиной, покрытой седым пухом, обвисшими щеками и мясистым носом на пористом лице, – он был похож на старую жабу; очки в массивной оправе чёрного цвета лишь добавляли сходства.
Фредо принадлежали все стриптизы в штате: «Сладкое место», «Пчёлки», «Красотки», «Лисья нора» и ещё с десяток мест с подобными названиями. Ежемесячный доход от клубов переваливал за миллион долларов, – плата за вход, обдираловка в барах этих заведений, «аренда», которую приходилось платить клубу самим стриптизёршам. Старый Капелла знал, что делает. «Все женщины, которых я знаю, делятся на две группы: проститутки и те, кого я скоро сделаю проститутками», – говорил он. Действительно, в его стриптиз-клубах процветала торговля сексом, но, за сорок лет сутенёрства Фредо научился организовывать это дело так, что непосвящённым было трудно разобраться в том, что происходило в тёмных залах на самом деле.
«Если вы поработали руками – возьмите деньги. Если вы поработали ртом – возьмите деньги. Если вы не возьмёте деньги, вы будете уволены», – говорил Фредо, обращаясь к своим работницам с зеркальных сцен клубов. Он любил оставить их после работы и «поучить уму-разуму», выступая перед ними на правах мудрого наставника.
Девушкам, задолжавшим непосильную аренду, предоставлялась возможность обнулить долги. За одну ночь в особняке Фредо списывали полторы тысячи долларов. И всё же, желающих переспать со стариком было не много; поговаривали, что эта ископаемая жаба имеет склонность к садизму.
Синьор Капелла уклонялся от уплаты налогов, как только мог. Менеджеры его клубов сжигали ленты кассовых аппаратов, вели записи в двух учётных книгах одновременно, – в одной для босса, в другой – для налоговой службы. Раз в месяц Фредо забирал из каждого клуба коробку из-под обуви, плотно набитую купюрами. Такое количество наличных нужно было хранить в очень надёжном месте. Для этого синьору Капелле понадобилась помощь Отца Генри, его нового верного друга, уж он-то не проболтается и не украдёт. Доверять деньги недоумкам и преступникам – это одно, а оформить хранилище на святого отца – совсем другое. В этом был кураж, в этом была лихость авторитетных мафиози. Капелла поверить не мог в свою удачу.
Капелла сразу узнал его, несмотря на старательную попытку маскировки, и теперь, вот уже третью неделю сутенёр наведывался в «Сладкое место», чтобы наблюдать за священником. Тот приходил в одной и то же время, располагался у стены и общался с Марией, спуская на неё баксов сто-сто пятьдесят за раз. Затем священник покидал клуб и уезжал в автомобиле марки «Линкольн» с номером 835-САВ. Ошибки здесь быть не могло; пришло время действовать.
– Добрый вечер, падре, – низкий голос старого сутенёра заставил отца Генри вздрогнуть, – отец Генри, если я не ошибаюсь?
– Добрый вечер. Чем я могу вам служить? – растерянно произнёс разоблачённый священник. Отступать было некуда.
– Боже правый, это я должен вам служить! Ведь вы удостоили меня большой чести, посетив мой маленький клуб, – Фредо Капелла торжествовал, – пройдёмте со мною! Оторопевший отец Генри повиновался.
Они оказались в холодной комнате, обставленной кожаной мебелью и освещённой разноцветными неоновыми лампочками.
– Мой маленький офис. Прошу прощенья за этот балаган с цветными фонариками. Чёртовым менеджерам всё кажется, что они в цирке. Впрочем, не могу их винить! Шоу продолжается! – Капелла победоносно расхохотался, жестом приглашая отца Генри присесть на диван, – сигару? Снимайте очки, они вам не идут!
Полуголая девушка в белом переднике поставила на столик возле мужчин поднос с декантером и двумя снифтерами.
– Что здесь? – сутенёр щёлкнул пальцами по декантеру.
– «Луи тринадцатый», – испуганно ответила девушка.
– Пошла вон. И чтобы я тебя в баре больше не видел. Скажи Джесси, чтобы она отправила к нам Лизу и Глорию, минут через двадцать.
Девушка убежала, а Капелла пояснил, брезгливо скривив толстые губы:
– Эта даже коньяк умудряется воровать. Деревенщина,– он разлил драгоценный напиток по бокалам.
Парадоксально, но первый же глоток коньяка словно отрезвил отца Генри. Туман страха перед сутенёром рассеялся, как и ужас, который ему пришлось испытать при столь неожиданном разоблачении. Накладные усы, очки и парик не сберегли его от всевидящих глаз старого преступника.
– Отец Генри, а ведь мы в сами знакомы с того самого дня, как вы крестили племянницу моей жены, Силвию Франческу Комплеано.
– Да-да, именно, – кровь начала приливать к лицу святого отца. Он чувствовал значительное облегчение, его плечи расслабились, язык словно развязался.
– Признаться, я рад, что вы оказались рядом. Вы не итальянец, но ваше лицо вызывает у меня доверие, – сутенёр плеснул ещё коньяка в бокалы. Ароматы нарцисса, персика и ещё каких-то чудесных фруктов взвились над столиком, – поверьте, никто и никогда не узнает, что вы были здесь. Я понимаю ваш интерес и хочу вам помочь.
Отец Генри смело взглянул в глаза сутенёру. Фредо Капелла смотрел на него серьёзным, немигающим взглядом. Было понятно, что священник попал на крючок, но, после пятидесяти граммов коньяка, эта мысль не слишком страшила его. «На всё воля Божия», – в голове отца Генри словно размеренным стуком метронома звучали эти успокаивающие слова.
– Пару вещей, святой отец. Во-первых, я не хочу, чтобы вы ездили по таким местам на собственном автомобиле. Это слишком рискованно и может стоить вам карьеры. Отныне в вашем распоряжении будет надёжный водитель, детали мы обговорим позже, – Капелла понизил голос и отхлебнул коньяку. Челюсти священник непроизвольно сжались.
– Во-вторых, – самоуверенным тоном продолжал гангстер, – нам придётся пойти на кое-какие уступки друг другу. Об этом вы позже поговорите с моим товарищем, его зовут Джил. Он навестит вас в церковном офисе, в резонное время. А пока, скажите мне, святой отец, как зовут ту девушку, чью бессмертную душу вы явились сюда спасти? – на широком пористом лице сутенёра расплылась отвратительная улыбка. И без того немногословный отец Генри онемел. Неловкий момент был прерван стуком в дверь.
– Войдите! – гаркнул Капелла. В комнату вошли две очень красивые девушки. Одна была длинноволосой блондинкой с крупным бриллиантом в ноздре, вторая – чернокожей.
– Лиза и Глория! – воскликнул сутенёр, – мои маленькие птички! Это – мой друг, Ральф Мендозо. Я хочу, чтобы вы показали ему, что такое двойной минет. Фишка нашего клуба!
Пот проступил на лбу отца Генри.
– Господин…
– Фредо. Зовите меня просто Фредо, – сутенёр поманил девушек толстым пальцем, – это же просто ванильное пирожное и шоколадный кекс!
– Фредо. Не нужно этого делать… – священник с искривлённым от страха лицом посмотрел на девушек в белье золотого цвета, присевших рядом с ним. Они улыбались.
– Ещё коньяку. А то, так и обидеть меня недолго! – Фредо Капелла был немного раздражён и настаивал на своём.
Девушки сидели, положив руки друг другу на ляжки; было видно, что ситуация им знакома.
Святой отец подскочил с этого места.
– Послушайте, Фредо! Поверьте, я сделаю всё, что вы просите, но, сейчас я должен уйти.
– Как я могу вам поверить, если вы уже не делаете того, что я вам прошу? Что может быть проще, чем выпить ещё бокал коньяка и немного расслабиться с двумя райскими птичками?
Девушки засмеялись. Отец Генри поразился тому, насколько чистым и искренним был их смех. О, дети порока! Развращенные души, парадоксально невинные в своём падении.
– Впрочем, – мрачно продолжил гангстер, – нет, так нет. Я провожу вас.
Новенькая
Отец Генри невольно засмотрелся на Катерину. Такая красавица, конечно, украсила бы его приход. Русская; интересно, зачем она явилась в католическую церковь? Может, у неё поляки в роду? Или, муж…
– Мой муж – американец, он из католической семьи, – Катерина словно прочитала мысли святого отца, – и он настаивает на том, чтобы наш сын учился в католической школе.
– Ваш муж сделал очень хороший выбор. У нас замечательная образовательная программа, – отец Генри с трудом подбирал слова. Ясно, что эта женщина пришла сюда не по своей воле. «Муж из католической семьи», однако, она не назвала его католиком. Отец Генри обронил взгляд на её руки, – кольца не было. Видимо, отношения с мужем не очень ровные.
– Я понимаю, мистер Генри. Но мне трудно смириться с тем, что ребёнок будет учиться в церковной школе. Я прошу вас дать мне возможность поработать в церкви, я хочу со всеми здесь познакомиться, – на английском она говорила хорошо, не допуская грамматических ошибок, свойственных эмигрантам, но русский акцент с непривычки резал слух. А наглости этой красавице не занимать! Но отец Генри хорошо понимал, откуда недоверие к католикам; широко освещаемые по телевиденью и в прессе судебные процессы над святыми отцами-насильниками сильно подпортили репутацию церкви. «Так нас не ненавидели со времён «Молота ведьм»», – подумал священник и усмехнулся, а вслух произнёс:
– Какого же рода работу вы хотите здесь получить?
– Любую. В школе, на кухне, в саду. Я хочу быть здесь, когда мой ребёнок посещает занятия. Я лично хочу знать всех, с кем он будет общаться.
– Резонное пожелание… – Отец Генри совершенно не считал гиперопеку резонной, но и ссориться с прекрасной Катериной он не хотел. – Только имейте в виду, что, в основном, у нас работают волонтёры. Приход небольшой, штат регулярных работником нам просто не потянуть финансово.
– Прекрасно понимаю, – ответила Катерина.
– Вот и хорошо. Приходите в воскресенье, к одиннадцати часам, к нам на кофе с пончиками. Я познакомлю вас со всеми, кого нужно знать.
Русская улыбнулась. Отец Генри отметил про себя, что это – хороший знак. Насколько ему было известно, русские улыбаются только искренне; натягивать дежурную улыбку вежливости они и не подумают.
Полюбовавшись Катериной ещё несколько секунд, он проводил её, а сам подготовил несколько распоряжений для своих церковных наседок, как он мысленно называл прихожанок, активно участвующих в жизни церкви: мисс Ребекка должна будет пригласить Катерину на работу в школьный офис, миссис Грете будет поручено показать ей классные комнаты, лаборатории, библиотеку. Подумав, он позвонил Стивену, дьякону, присланному несколько месяцев назад из Сиэтла. Деятельный в ущерб рассудку Стивен оказался настоящей катастрофой для отца Генри; молодой дьякон любил мечтать и обещать прихожанам, но ни разу не исполнил ни одного своего обещания.
– Послушай, Стивен. Я тут подобрал тебе ассистента для организации благотворительных мероприятий. Познакомлю на кофе с пончиками.
– Это превосходные новости, босс!
– Не называй меня так, пожалуйста, сколько раз тебе говорить? – Отец Генри повесил трубку.
На самом деле, всё складывалось недурно. Прекрасная Катерина окажется при деле. Если она будет исполнительной (а она, без сомнения, такова, как и все русские), то все задумки Стивена превратятся в жизнь, на пользу Стивену, церкви, и, конечно же, отцу Генри. Сама же Катерина, пообщавшись с восторженным, похожим на раздобревшего до безобразия кролика, Стивеном, обжорой и дамским угодником, убедится в том, что никто в этой церкви и не думает совращать её мальчика или, Боже упаси, насиловать его.
Отец Генри раскрыл методическое пособие на странице «святые октября», чтобы спланировать работу, когда вдруг обычно молчащий телефон на его столе внезапно затрещал назойливым старомодным сигналом.
– Отец Генри у телефона.
– Это Джил, от Фредо Капеллы. Я приеду к вам завтра в одиннадцать. Пожалуйста, будьте на месте, – от низкого и немного скрипучего, будто проржавленного голоса Джила у отца Генри по коже поползли мурашки.
– Да, да. Это где?
– Это там, где вы сейчас находитесь.
– Да, я могу, я буду здесь, – промямлил отец Генри, хоть он и старался, чтобы его голос звучал убедительно.
Джил явился ровно в одиннадцать. Он оказался низкорослым человеком лет пятидесяти, с рыбоподобным лицом, одетым, несмотря на июльскую жару, в тёмно-бордовый свитер, из-под которого выглядывал чёрный воротничок сорочки.
– Добрый день, отец Генри. Я приехал, чтобы пригласить вас на ланч, – лицо Джила выражало суровое спокойствие.
Отец Генри не заставил себя уговаривать, и через две минуты они уже сидели в вороном «Олдсмобиле» Джила.
– Могу позволить себе тачку на три порядка приличней, но, не хочу. Привык к этой, она мне как родная, ей-богу, – пояснил Джил, даже не услышав вопроса. Теперь отцу Генри стало понятно, почему он был одет в свитер. Кондиционер в машине работал в полную мощь, от чего у священника сразу же засвербило в горле.
– Я вас понимаю. Сам обожаю свой старенький «Форд», – будто извиняясь, ответил отец Генри.
– Мистер Капелла очень рад дружбе с вами, святой отец, поймите. Я здесь, чтобы обсудить кое-какие детали. Я закурю? – Джил приоткрыл окно и достал сигарету.
Суть предложения Капеллы заключалась в том, что на имя священника нужно было оформить квартиру для хранения наличности и сейфы в трёх разных банках. На старом гангстере уже висели две судимости, а сам он то и дело оказывался под следствием, и даже лучший из его адвокатов не давал стопроцентной гарантии в том, что он избежит очередного вердикта, а, возможно, и конфискации. Поэтому, он давно искал человека с безупречным прошлым и такой же репутацией для хранения денег. Сама судьба подкинула ему священника, и теперь, сидя за столом в буфете «Рыцарский пир», Джил Суэзи выкладывал отцу Генри все детали.
– Мы снимем две квартиры в большом городе на ваше имя. Одной вы сможете пользоваться, во второй мы будем кое-что хранить. Не волнуйтесь, всё это совершенно легально. Время от времени, нам придётся менять квартиры местами, но сделано всё будет быстро и гладко.
– Я понимаю, – опять произнёс отец Генри, словно это было единственной известной ему фразой.
Джил одобрительно кивнул. Он прожевал большой кусок ростбифа, утёр салфеткой белый соус с толстых губ и продолжил:
– Мы будем платить вам маленькую зарплату, три тысячи в месяц. Так сказать, компенсацию за беспокойство.
– Нет, нет, не нужно, деньги у меня есть, – запротестовал отец Генри.
– Так на благотворительность потратите, – пожал плечами Джил, – меня это никак не касается. Плюс – вам не нужно будет больше таскаться в клуб, чтобы видеться с девочками. Любую из них вы сможете получить себе прямо в постель, в вашей новой квартире на Пайк-стрит, за счёт мистера Капеллы. Но! Не чаще двух раз в неделю. Остальные прихоти будьте любезны оплачивать самостоятельно, – Джил с сожалением окинул взглядом опустевшую тарелку и поманил пальцем официанта, – счёт! И побыстрее.
Кафе «Святой Лазарь»
«Кафе» в церкви святого Марка устраивали в спортивном зале школы. За час до окончания воскресной службы из хранилища туда стаскивали громоздкие столы с прикрученными к ним скамьями. В углу ставили два огромных самовара, промышленных размеров кофеварку и лоток с одноразовой посудой и салфетками. Тут же стоял ящик с пакетиками чая «Липтон», сахаром, сукралозой и концентратом для приготовления дешёвого подобия горячего шоколада. На отдельном столе располагались большие коробки с глазированными пончиками – шестьдесят «кленовых плиток», шестьдесят с розовой глазурью и шестьдесят с «бостонским кремом». Числа никого не смущали. Толстый, похожий на тролля в очках Стивен, ответственный за организацию «бесед за пончиками» с важностью проверял, готов ли кофе, озабоченно сверкая очками в сторону волонтёрки мисс Эмили, пожилой прихожанки, слишком рано разливающей кофе по бумажным стаканам.
Любимым грехом Стивена было чревоугодие, именно оно довело дьякона, мечтавшего о месте отца Генри, до бесформенного, безобразного ожирения. На втором месте, возможно, стоял бы блуд, но Стивен компенсировал тонущее в обжорстве либидо мастурбацией и о сексе даже не помышлял. И, всё же, когда Катерина вошла в «кафе», Стивен замер на мгновение, рассеянно оглядывая прекрасную незнакомку в элегантном белом пальто.
– Белое носят только люди, уверенные в своей правоте, – заметила мисс Эмили вполголоса, но, Стивен её услышал.
– А? Кто? – переспросил он, и, не дожидаясь ответа, направил своё тучное тело в сторону загадочной гостьи.
– Доброе утро, мадам! Чем я могу вам служить? – пропел дьякон голосом, пропитанным колоссальным множеством вкусных вещей, съеденных за короткую тридцатилетнюю жизнь.
– Здравствуйте, я ищу отца Генри. Вы – Стивен?
– Именно, – безразмерный паяц услужливо склонил голову набок.
– Катерина, – женщина крепко пожала потную руку Стивена, мягкую, как поролоновая игольница.
– Добро пожаловать в нашу церковь. Не выпьете ли с нами чашечку кофе? – заискивающим тоном произнёс дьякон, приободренный теплотой рукопожатия. Катерине не хотелось пить церковный кофе, но и отказываться было неудобно. Она получила у сверлящей её круглыми глазками мисс Эмили бумажный стакан, наполовину наполненный горячим кисловатым напитком, и пригубила. Стивен тоже взял стакан, неспешно добавил в него три пакетика сахара и два сухих сливок, перемешал, и с ловкостью человекообразной обезьяны захватил два пончика в левую руку.
– Мы ожидали вас, Катерина. Отец Генри поручил мне познакомить вас с нашими прихожанами. Здесь очень много милых людей. Я уверен, что вы найдёте себе друзей. И, уж, по крайней мере, на мою дружбу вы можете всегда рассчитывать.
Катерина улыбнулась в ответ.
– Зря пончик не берёте! Они великолепны! Свежие, я в шесть утра поднялся, чтобы купить их, пятнадцать коробок! До Пепельной среды нам можно, – Стивен кивнул в сторону стола, на котором лежали пончики. Служба уже закончилась и возле столика начала собираться очередь прихожан.
«Кафе» быстро наполнялось людьми. Заходящие в спортзал мужчины сразу замечали красивую гостью в белом пальто, восторженно сканируя Катерину истосковавшимися глазами. Их жёны тоже немедленно находили незнакомку, но, старались делать вид, что не замечают её, однако, пристально наблюдая за поведением своих супругов. О, женская ревность. Существует ли во всём мире что-нибудь столь же отравляющее и острое, сколь ты? У многих женщин в кафе моментально испортилось настроение только из-за присутствия прекрасной новенькой. Катерина тоже рассматривала прихожан, поток которых долго не иссякал. Она обратила внимание на то, что люди здесь были одеты лучше, чем обычно водится в Сиэтле. В одежде католиков прослеживалась консервативность, женщины были одеты в платья, мужчины – преимущественно в брюки и джемперы, дети тоже выглядели очень опрятно.
– Мисс Кэй! – окликнул Стивен, – познакомьтесь! Это Катерина, она у нас в гостях.
На оклик подошла привлекательная стройная брюнетка неопределённого возраста, одетая в красное платье, цвет кризиса в женском сознании. На её шее висели жемчужные бусы, которые интересно контрастировали с её редкими для американки из верхнего эшелона среднего класса желтоватыми зубами.
– Как вы делаете? – спросила Кэй, улыбаясь именно той улыбкой, которая так часто повергает новоприбывших эмигрантов в рассеянное недоумение.
– Хорошо! Как вы делаете? – Катерина пожала холодную руку Кэй.
– Я Кэй. Приятно познакомиться.
– Меня зовут Катерина.
– Девушки, раз вы сразу так подружились, я оставлю вас буквально на несколько минут, – Стивен заботливо взял Катерину за плечи обеими игольницами, – у меня есть пара вопросов для отца Генри, я скоро вернусь.
– Как ваш кофе? – поинтересовалась Кэй.
– Он очень вкусный, – соврала Катерина.
– Да? А я ненавижу эту марку. Они покупают тут самый дешёвый, для меня он слишком кислый, – Кэй недовольно скривилась, – а где ваш муж?
– В командировке, – опять соврала Катерина.
– Конечно. А он американец?
– Да.
– Я так и думала. А откуда ваш акцент? Вы из Украины?
– Нет, я русская, я из России.
– Вы знаете, я обожаю украинскую еду. Борщт, пироги, капустняк, – это всё очень вкусно. Не то, что эти дешёвые сэндвичи нашего фаст-фуда. Вы умеете готовить хороший борщт? – в голосе Кэй появилось оживление.
– Да, конечно, – поспешила признаться Катерина.
– Какой ужас. Там ведь столько ингредиентов, это такая морока – рубить эти овощи. Я надеюсь, вы пользуетесь процессором? – Кэй посмотрела на Катерину с состраданием.
– Нет, я без проблем рублю всё сама.
– Ах, какой, должно быть, сложной была ваша жизнь на украинской земле! – воскликнула Кэй; Мисс Эмили недовольно покосилась на неё и покачала головой.
– В России, – поправила Катерина, – а не на Украине.
– О, тем более! На Украине хоть есть курорты. А в Сиберии? В Сиберии идёт снег. У вас много снега?
– Много, – честно призналась Катерина.
– А супермаркеты у вас есть? – Кэй достала из маленькой лаковой сумочки коробочку с мятными леденцами, закинула один в рот и протянула остальное Катерине, – возьмите!
– Спасибо, я не хочу.
– Возьмите-возьмите, у вас неприятный запах изо рта. Не стоило пить этот кофе, – судя по виду рук Кэй, ей было лет сорок пять. Катерина послушно взяла два леденца из коробочки.
– Так есть у вас супермаркеты?
– Ни одного, – внезапно строго ответила Катерина.
– А где же вы берёте продукты для борщта? – Кэй высоко подняла аккуратно выщипанные брови.
– Мы всё заказываем из Америки по интернету. Спасибо Биллу Клинтону и эре интернет-коммерции.
– Не может быть! – Кэй восхищённо присвистнула.
– Да, это так. Некоторые вещи из Китая.
– А как же собственные огороды? У нас в сороковых годах люди разводили собственные огороды, чтобы помочь государству справиться с кризисом, – не сдавалась Кэй.
– Нет, такого у нас нет, под снегом ничего не вырастишь.
– А вера? Можно ли вам верить в Бога?
– Конечно.
Этот ответ озадачил Кэй и она нахмурилась.
– А почему же тогда мы кормим столько украинских мигрантов, которые приезжают потому, что, якобы, их из-за веры преследуют? – нашлась желтозубая американка через минуту размышлений.
– Не знаю.
– Но они разводят здесь огороды!
– Значит, не вы их кормите.
– Логично, – Кэй нахмурилась и замолчала. Некоторое время она ничего не говорила, но, было слышно, как она гоняет во рту леденец.
Солдат любви
Некоторых послушать, так любовь – это сиськи мять или новый айфон выпрашивать. А Катерина увидела её иначе; любовь – это когда одним взмахом мачете рассекаются подколенные сухожилия и, не успев почувствовать боли, ты падаешь на колени, не в силах более двигаться самостоятельно. Боль приходит с небольшим опозданием, потом – исцеление. Но, если любовь коснулась своим лезвием однажды, походка переменится навсегда.
В одну решающую минуту Ваня стал всем, и всё стало Ваней. Вселенная кружилась в такт волшебной музыки, которая рождалась в голове Катерины и разливалась чудодейственными приливами по венам от одного лишь его телефонного звонка. Он был моложе и здоровей Барина, – восхитительное своим совершенством тело, полное здоровья и силы, – он словно был изваян Бенвенуто Челлини.
Она любила его страстно, яростно, преданно, нежно и не могла надышаться его запахом, налюбоваться его строгим и, одновременно, весёлым лицом. Истосковавшись по родной речи, Катерина слушала русского Ваню, как внимает измученный жаждой путник журчанию долгожданного ручья, обещающему и утоление этой жажды, и сладость, и покой. Она любила его за то, что он был молод. Она любила его ещё больше за то, что он был русским. За то, что он слушал ту же музыку, что и она, за то, что смеялся над теми же анекдотами.
Его поцелуи были божественны, от них было больно оторваться. Она ждала каждого его прикосновения, как ребёнок ждёт заветного подарка. Близость с ним её разочаровала, но другие, искристые чувства слепили и глушили её: Катерина была счастлива только от того, что Ваня был рядом. Ночные прогулки под цветущими деревьями, встречи на берегу чёрного озера, покрытого золотыми кувшинками и зелёной вязью водорослей, аромат юного вашингтонского лета, луна и звёзды, увеличенные оптическим прицелом снайперской винтовки; Ваня был стрелком.
Много позже, когда Катерина вспоминала о встречах с Ваней, ей в голову приходили два слова – «я жила». Ни до, ни после него таких чувств ей испытывать более не приходилось.
Бывало, Барин выходил в ванную и включал душ, чтобы поговорить с кем-то по телефону. Катерине не волновалась, хотя она и понимала, что разговаривает он с женщиной. Она не обращала особого внимания на странные звонки, на то, как он старательно прихорашивается перед тем, как выйти «по работе» в пятницу вечером. Она догадывалась, что, возможно, у него уже есть другая, но, после ударов, муж стал ей безразличен, и Катерина не ревновала. Ваниной же измены перенести она не смогла.
Всё случилось как в сериале для подростков. Ваня назначил ей свидание, а потом вдруг внезапно отменил. Катерина на расстоянии почувствовала ту, другую женщину. Болезненной, физически ощутимой тревогой её присутствие заползло в сознание Катерины уже в тот момент, когда она собиралась на встречу с Ваней. Это звучит невероятно, но Катя представила себе другую настолько отчётливо, что, когда она увидела их вместе, испытала удивительное облегчение и странное ощущение того, что соперница просто материализовалась из её мысли.
Когда Ваня отменил свидание, не в силах терпеть, Катерина сама поехала к нему. Запарковав машину напротив его дома, она ждала час или даже два, выкуривая сигарету за сигаретой. Наконец, они вышли, и Катя увидела, как он провожает к автомобилю ту, что почувствовала издалека. Они поцеловались,– чужая рука обвила Ванину шею. Небо вдруг залилось алой краской, чёрное солнце взлетело над горизонтом. Катерина едва не потеряла сознание от боли, которую трудно было с чем-то сравнить. Она оставила его, как раненый зверь перегрызает лапу, чтобы выбраться из капкана и жить дальше, хоть калекой, но – жить.
Разговор со святым отцом
– Что это у вас за репродукции? – спросила Катерина, разглядывая новые плакаты, заказанные Стивеном для его мероприятия.
– Это плакаты с изображениями святых для игры, которая будет в марте. Узнаёте, кто это? – отец Генри был рад видеть русскую у себя в офисе.
– Да, конечно. Это – Мария Магдалина, работа Тициана, – ответила Катерина, слегка нахмурив брови.
– Именно. Кающаяся проститутка, – подтвердил святой отец.
– Мария Магдалина никогда не была проституткой. Это, всего лишь, миф, ошибка католиков, – возразила Катерина с неожиданным холодком в голосе.
Отца Генри этот комментарий нисколько не удивил. Из опыта общения он знал, что большинство русских в Америке очень хорошо образованны, и голыми руками их не возьмёшь.
– Помилуйте! Спустя две тысячи лет, всё в христианской культуре можно смело отнести к мифологии. Вопрос вовсе не в подлинности образа Марии Магдалины, – вполне вероятно, что она вообще не существовала. Куда важнее факт того, что католики, как общество, приняли и обожествили падшую женщину. О чём вам это говорит?
– О том, что католики оптимистично надеются на очищение от любых грехов, – пожала плечами Катерина.
– Именно так! И совершенно небезосновательно, уверяю вас. Все четыре Евангелия, плюс апокрифальные сочинения приводят нас к этому выводу, – прими Господа и ты очистишься. Знаете, Катерина, я много читал церковной литературы, и часто мне казалось, что сама концепция святой Троицы есть не что иное, как метафора к бытию человека. Ведь мы тоже триедины: у нас есть душа, созданная по образу Божию, – это есть Отец. У нас есть дух, или то, что называют иногда астральной или тонкой оболочкой, – это есть Святой Дух. И, наконец, у нас есть плоть и кровь, а разве рождённый от земной женщины Сын Господа не является метафорой к этой форме существования человека? Ведь он тоже был материализован.
– Святой отец, мне очень нравятся ваши рассуждения. Признаться, мне и в голову не приходило провести подобную параллель, – тон Катерины значительно потеплел, – скажите, как вы считаете, а есть ли в космосе разум, помимо землян?
– Катерина, в бесконечной Вселенной должны быть бесконечные возможности для существования разумной жизни, – на лице священника появилась ироничная улыбка.
– А как же тогда пришельцы с других планет вписываются в современную христианскую доктрину?
– Очень просто. Все они – твари Божии, и относиться к ним мы должны с христианским состраданием, – отец Генри упорно боролся с желанием смотреть на Катерину, бесстыдно и откровенно. Ему очень нравился её красиво очерченный рот, круглая, женственная грудь, длинные волосы. Но ведь она не просто так явилась в его офис. По её настроению он понимал, что, видимо, она недовольна церковной школой или чем-то ещё.
– Святой отец, – Катерина сменила тон на серьёзный.
– Я всё ещё слушаю вас, Катерина! – священник воспользовался удобным случаем и внимательно посмотрел на красавицу. Её щёки вдруг запылали.
– Я принесла вам ноты и прочие книги. Я пришла сказать, что больше не буду волонтёром в вашей воскресной школе, и Матвей тоже, наверное, скоро перестанет посещать.
– Катерина, что с вами? Я был уверен, что вам здесь нравится.
– Я хочу уйти от мужа, поэтому мне придётся переехать отсюда, – слишком решительный тон, которым она это сказала, выдал внутреннюю неуверенность. Отцу Генри была хорошо известна эта манера женщин – говорить категоричными утверждениями с тем, чтобы их переубеждали.
– Куда вы хотите уйти от мужа? – спокойно спросил священник и вновь дал себе волю, очертив глазами оба полукружия груди Катерины.
– Я хочу уйти насовсем, подать на развод.
– Признаться, я очень удивлён тем, что вы мне сейчас говорите. Вы же понимаете, что я – священник?
– Да, отец Генри. Я это понимаю.
– Можете не называть меня отцом, зовите меня просто Мэтью. Но и как друг скажу вам – я стою на защите семьи. Церковь учит нас любви и долготерпению в браке, а не распрям и прелюбодеянию.
– Причём здесь прелюбодеяние? – Катерина оскорбилась, как показалось отцу Генри по её выражению лица и возмущённому тону.
– Прелюбодеяние имеет к разводу самое непосредственное отношение, – строго констатировал отец Генри, – причём, вы не только сами становитесь на эту преступную тропу, но и подталкиваете своего мужа. Я не буду сейчас приводить вам цитаты из Библии, но, семью нужно сохранять, чего бы это ни стоило!
– Мой муж бьёт меня, унижает, пьёт, – с ненавистью перечислила женщина свои обиды.
– Ваш муж эмоционально на что-то реагирует! Возможно, он болен! Но, разве вы не обещали ему любить его и быть верной в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности? Разве вы этого не говорили?
– Говорила, – Катерина сникла, задумавшись.
– А теперь куда делись ваши обещания, данные перед людьми и Господом? – отец Генри стоял на своём, разглядывая внезапно поверженную женщину со странным, труднообъяснимым удовольствием.
– Но он же бьёт меня, – Катерина подняла глаза, сверкающие слезами и посмотрела на священника.
– И Господа нашего Христа били! Но он не дрогнул, защищая то, что правильно и важно! В вашем случае – сохранить семью, а не пускаться по пути прелюбодеев.
– Причём здесь это?! – почти выкрикнула Катерина.
– При том, что красавицы уходят из семьи в надежде найти что-то лучшее; а лучшего, чем любовь Господа к покорной жене, нет! Разрушая семью, вы предаёте и Бога.
– Вот книги, отец Генри. Прощайте, – Катерина положила книги на плакат с Марией Магдалиной и повернулась к святому отцу спиной.
– Молитесь, чтобы красота ваша скорее увяла, тогда вы сможете усердней служить Господу! – пустил ей вслед раздосадованный священник.
Крещение Алисы
Есть девушки, которым дарят сто одну розу. Для них же приобретают роскошные автомобили, белые, марок «Мерседес» и «Лексус», с кожаными салонами. Таким девушкам покупают всё, что продаётся, им дарят всё, что имеют. Почему и за что? Катерина никак не могла понять. Может быть, за их длинные волосы медового цвета, за бархатистую кожу, за фарфоровые ляжки. О, если бы появился в её жизни мужчина, который бы мог запросто подарить ей фортепиано, или скрипку, или купить ей любые наряды в самом лучшем универмаге. Интересно, как это – получать дорогие подарки лишь потому, что ты красива?
Чтобы подняться на ступеньку выше по лестнице классов, должно смениться два поколения семьи. Родители Катерины были служащими, бабушка – тоже. Теперь, несомненно, был её черёд действовать. Но, как подняться и обеспечить себя и сына в чужой, неласковой стране? Можно притворяться и утешать себя тем, что «не в деньгах счастье» и «сама смогу на всё заработать», но любому, кто держал в руках хоть тысячу долларов, хорошо известно, что деньги – это свобода.
Катерина щёлкнула мышью по линейке функции «заработок жениха» и выбрала «сто тысяч долларов в год и выше». Всего за тридцать четыре доллара в месяц, сайт знакомств подарил простой девушке из российской глубинки общение с пятидесятидвухлетним Дэвидом Фордом, заносчивым и вздорным адвокатом, заработок которого превышал миллион долларов в год; Дэвид работал только с крупными корпорациями, в своём деле он был асом.
Катя и Дэвид в его совершенно нелепой спальне на третьем этаже роскошного особняка. Да что там – «особняк»! Это, фактически, – замок Золушки в Диснейленде, минус костюм Микки-Мауса, минус усталые взгляды родителей и запах копчёной индейки вперемешку с фальшивой ванилью сладкой ваты. Впрочем, в замке Дэвида сладкой ваты хоть отбавляй. Он придумал себе «домашний кинотеатр»; с огромным экраном, шестью рядами кресел, обитых вызывающе красным бархатом. Золотые гвоздики, ножки из красного дерева. Аппарат со сладкой ватой, аппарат с попкорном, старинный игровой автомат, афиши, фотографии каких-то знаменитостей с их небрежными размашистыми автографами. Фотографии Дэвида в обнимку со звёздами. Он и сам порядком известен, Дэвид – Форд, а эта фамилия – яркий лейбл. Он – один из лучших юристов страны, он бизнесмен, его портрет улыбается изумительной керамикой, горделиво поблескивая продолговатыми очками со страниц «Ньюсвика» и «Форбса». В этом и есть ценность Дэвида для Катерины, быть с ним рядом интересно и даже азартно: будет, о чём рассказать подруге. Она завидует его успеху, твёрдости, знаниям. Она испытывает восторг, когда он рассказывает о своих судебных делах. Но, чем же ему интересна Катерина? Только тем, что она привлекательна и на двадцать лет его младше. Вот она – нехитрая матрица учения Дарвина.
Ещё у Дэвида есть охотничий зал с чучелами его африканских трофеев. Это отвратительное зрелище; головы несчастных животных вызывают у Катерины острое чувство брезгливости. Камин в этом зале украшен затейливой мозаикой, лицо Дэвида аж удлиняется от гордости, когда он рассказывает о ней; её изготовил и выложил какой-то французский художник. Если бы не отрезанные головы животных, Катерине бы тоже понравилась эта мозаика, но она ненавидит охоту.
Рояль. На первом этаже, возле входа. Разуваться никто не будет, руки мыть тоже. С порога – сразу бряцать по клавишам. «К Элизе» ещё никогда не звучала так издевательски; Бетховен не знал, что его нежную пьесу будут играть немытыми руками с выражением адского самодовольства на лице. Ах, какая же разносторонняя личность этот Дэвид. Он тоже брал уроки музыки. Теперь он хочет, чтобы русская поучила его играть на фортепьяно. Может ли Катерина научить его играть вальс Грибоедова за одно занятие? Сочинял ли музыку Пушкин? Может ли Катерина заниматься сексом с Дэвидом во время занятия?
Господи. Этот пожилой адвокат сошёл с ума, или просто деревенское сознание простой русской девушки Кати пока не готово принять ход мысли и жизненный образ человека, относящего себя к американской правовой элите.
Крещение Алисы Мартовским Зайцем. Не путать со скрещиванием.
Игровая комната с бильярдным столом и рулеткой. Занимались ли вы сексом во время игры в американский пул? Нет?! А хотели бы? Нет?! Какая скованность, какая внутренняя боль! Катерине хотелось веско и достойно ответить ему, как-то парировать, чтобы он прекратил задавать ей эти дурацкие, унизительные вопросы. Но, рядом с Дэвидом она чувствовала себя Маугли, которого почти загипнотизировал Каа.
Роскошная библиотека, в которой никто не бывает, – видно же, что эти полки с золочёными корешками просто служат декорациями. Нельзя винить Дэвида; на чтение Оскара Уайльда времени не остаётся, – есть слишком много других дел, ведь нужно оплачивать весь этот шик. Головы животных и мозаика просят денег, автомат с попкорном нужно обслуживать, изумрудные лужайки требуют уплаты налогов. Садовник, горничная, мэрия, казначейство. В этом потоке дел не до чтения сказок Гофмана, – найти бы минуту, чтобы деловито перелистать свежее издание процедурального кодекса.
В доме Форда нет детских комнат, – дочери Дэвида выросли и упорхнули. Нигде не осталось милых сентиментальностей вроде старых кукол, лошадок, розовых пуантов под стеклом. Фотографий дочерей на стенах тоже нет, но есть гордый портрет бывшей жены Дэвида, – стоящая на лыжах безупречная блондинка в красном комбинезоне триумфально улыбается фотографу двумя рядами белоснежных бусин. Подписано чёрным маркером: «Швейцарский курорт. От всего сердца, 1977». Кати ещё и в планах не было, а эти люди уже от всего сердца рассекали на горных лыжах по швейцарским курортам. Катерина вдруг испытала смешанное чувство смущения и торжества. Она – моложе. С Дэвидом она ощущала свою молодость и свою красоту, несмотря на то, что ей было уже немного за тридцать. В просторном холле ещё один портрет красавицы из семидесятых. Понятно – тогда жена нравилась. А сейчас, много лет спустя, что осталось от её блистательной красоты? Но сам Дэвид почти не изменился, причём, перемены, за исключением седины, – к лучшему. Он так и остался долговязым очкариком с кислой физиономией, источающей надменность. Зато, подкачал грудь и бицепсы, приоделся! А жена? Сколько ей сейчас, лет под шестьдесят? Кого она волнует теперь? Уже точно, не Дэвида. От прошлого остались лишь эти снимки, нужные самолюбию Дэвида портреты жены-трофея, супруги, которой можно было гордиться в мире корпоративных адвокатов. Портреты детей не нужны в этом кукольном замке большого мальчика, который отчаянно сопротивляется старению и обставляет свой дом всё новыми игрушками, придумывая себе забавы. Одной из этих забав, очевидно, должна была стать Катерина. Русская брюнетка с печальными глазами. Она играет на скрипке и фортепиано, поёт и умещает в своей голове всё собрание стихов Пабло Неруды, а это занятно. Ни одна красотка из его офиса не знает даже, кто такой Неруда. Ещё его восхищает то, что она знает наизусть все либретто к мюзиклам Уеббера; а ведь музыкальный театр – это тайная страсть Дэвида. Интерес Катерины к мюзиклу особенно приятен прижимистому адвокату; билеты в театр стоят на порядок дешевле, чем в оперу, а до Пуччини эти двое не дотягивали.
Привлекательных женщин, доступных Дэвиду, очень много, но некоторые способности Кати в его глазах делают её чем-то вроде кабанчика с щетиной редкой расцветки или бобра-альбиноса. Таких, как она, в коллекции Дэвида ещё не было. Интересно, может ли Катерина декламировать на испанском и заниматься сексом одновременно? Было бы неплохо!
Катерина волнует, – она не слишком молода, но ещё не стара; далеко не глупа, но и толком не отёсана, при необходимости, её легко можно заткнуть. Она так занятна и хороша сейчас, что овладеть ею – это большой азарт для мужчины-охотника. Если бы федеральный закон допускал подобное, голову Катерины вполне можно было бы прибить к стенке в одном ряду с оленями и антилопами в охотничьем зале, увековечив очередную победу Дэвида соответствующим трофеем. Вещественное доказательство великолепия Дэвида номер тысяча двадцать один: теперь покорена ещё и русская женщина. Но Катя не даёт Дэвиду победить себя. Она сидит на чёрной софе в этой невероятной спальне старого мальчика, возомнившего себя королём. Катерина неотразима в своём белом кружевном платье, длина которого позволяет лишь догадываться о форме её ляжек. Рядом на резной тумбочке с позолотой – его вино и её тоник, без джина. Воспитанная на развалинах коммунизма, Катерина решила ни на секунду не терять бдительности, находясь в логове идеологического врага; алкоголь здесь категорически неуместен, – оставить самогонку для встреч с односельчанами. Катя осматривается, сидя в спальне расшалившегося поседевшего мальчишки-фантазёра. Он выдумал себе несуразную кровать, с шестами и балдахином, обрамлённым золотой бахромой. Видно, что бельё на кровати – цвета африканской фиалки, такое бы на мантию Гарри Поттеру, но никак не на постель пожилому адвокату.
– Что мне сделать, чтобы ты, наконец, расслабилась? – спрашивает Дэвид, его очки похотливо мерцают в комнате, наливающейся, в тон постели, лиловой акварелью сумерек. Ясно, что он имеет в виду. Тур по замку подошёл к своему логическому завершению; старый граф Дракула приземлил принцессу на диван и уже проверяет языком остроту своих сточенных клыков. Белое кружевное платье, прикрывающее ляжки, настолько бело, что её светлая кожа кажется золотой на его фоне. Длинные волосы Катерины, туфли, чулки, осанка – вся она, на диване в спальне мужчины, которого ни капли не желает, – вот главная несуразица и нелепость этого дома. По сравнению с ней, смешные умывальники в виде лебедей с платиновыми клювами и позолоченные львы у входа в домашний кинотеатр кажутся просто апофеозом эстетического вкуса. Катя прислушалась к себе, пытаясь понять, зачем и почему она здесь. Да, ей хотелось бы так жить. Она нашла бы применение и лужайкам, и роялю, и библиотеке. Но, она ни капли не хочет этого мужчину. Совсем недавно её грудь разворотила любовь к молодому русскому; культивировать любовь к старому американцу возможности не представлялось.
Однако, это не важно, как она относится к этому человеку. Важно то, что мужчина и женщина находятся в спальне, – в сторону возраст, гражданства и идеологию. Лиловые простыни, золотая бахрома. Дэвид нервничает, Катина нерешительность и внезапная апатия не укладываются в его картину Вселенной, в которой он сам является точкой отсчёта. Даже после тура по его чудесному замку, прельстившему стольких женщин, она не сдаётся, не манит, и не отвечает. Лживый старик прибегает к последнему козырю: «В моей спальне не бывает женщин, на которых я не хотел бы жениться…» Это звучит жалко, но продолговатые очки торжествующе мерцают в опустившемся на них полумраке. Чёртов Синяя Борода! Сколько ж секретарш он замуровал в стене домашнего кинотеатра под эту байку? Катерину смешит её собственный чёрный юмор; красивый рот непроизвольно растягивается в улыбке, нелепость ситуации лишь усугубляется, адвокат поставлен в непривычное ему крайне невыгодное положение. Но, женщине его не жаль. Катя встаёт с дивана. Дэвид бросается на колени к её ногам, обнимая их, как избалованный эгоистичный мальчик обнимает матушку, в надежде выпросить дорогую игрушку. Это игра; в ней можно победить, лишь отказавшись играть вовсе. Катя задерживается на полминуты, сверху разглядывая себя и Дэвида. Невеста в белом кружевном платье и седой жених. Это уже было на картине Василия Пукирева. Об этом уже писал Андерсен, – крот и Дюймовочка. Но, её головы не будет среди трофеев американского адвоката. Она поднимает его и уходит, отстранившись.
Жди теперь мести, Катя. Нет никого ужасней, чем властный мужчина с уязвлённым самолюбием.
Персональный Иисус
Развод пришёл вместе с финансовым кризисом. Катерина пыталась устроиться на работу, но, на полдня её никуда не брали, – ни в еврейскую музыкальную школу, ни в бухгалтерскую фирму секретарём. Зарабатывала она себе с сыном на жизнь уроками игры на фортепьяно, благо, учеников сразу появилось восемь человек. Денег в те дни было в обрез, поэтому Катя экономила – готовила только ребёнку, аккуратно рассчитывая его рацион, чтобы хватало и на питательную еду, и на лакомства. Сама же она ела гречку, бутерброды и яичницу, недорого и без особых хлопот. Впрочем, такая диета её вполне устраивала, тем более, что это бедствие не могло продолжаться долго, – скорее рано, чем поздно, она нашла бы себе приличную работу, либо набрала бы ещё учеников и открыла студию.
В тот день проливной дождь стоял за окном сизой стеной, такой привычной для этого города в ноябре. Была ненавистная Кате четвёртая суббота месяца. В три после полудня явилась бывшая свекровь и забрала ребёнка на предписанные судом полтора дня, Катерина осталась в доме одна. Эти выходные дни без сына были невыносимы. Ей хотелось выть, лежа на полу, и скрести ногтями паркет.
Она высыпала на холодный стол мозаику из трёх тысяч кусочков, словно намереваясь сложить из них слово «вечность», хотя на коробке были изображены цветы и чайный прибор. Ей нужно было отвлечься от тупой боли в голове и в груди, от тоски, сосущей и ноющей где-то в горле. Суббота ещё не закончилась, далеко не закончилась, до вечера воскресенья нужно было как-то дожить.
Чайник строго щёлкнул и прекратил пыхтеть; ливень стал слышен более отчётливо. Он не просто шумел, он виртуозно играл на ударной установке крыши и водосточной трубы. Кате казалось, что она слышит чёткий ритмический рисунок, – джазовые синкопированные ходы, – их прихрамывающая пляска раздавалась над её головой. Послышались раскаты грома. Катерина накинула на плечи пальто и вышла во двор, под навес. На улице было свежо, вода ручьями струилась и бежала под невысокую горку, на которой стоял дом. Катя с удовольствием закурила. Пахло осенними листьями и дымом из камина соседнего дома. А у неё не было даже лишних четырёх долларов на дрова. Подумав об этом, Катерина усмехнулась. Бывают же времена! И тут подъехал её персональный Иисус. Он запарковал элегантный автомобиль у её пустого гаража и вышел знакомиться. Высокий, худой, в строгом чёрном пальто с металлической брошью на лацкане. Длинные стройные ноги под чёрными джинсами. Неожиданно – синие кроссовки с красными шнурками. Вероятно, Иисус считает себя модником. Золотые волосы множеством мелких прядей закрывают высокий лоб. Ровные, чуть желтоватые зубы сжимают «Парламент».
– Подкурить можно? – Иисус озабоченно наклонился к её руке; Катерина чиркнула зажигалкой.
Они молчаливо курили, рассматривая проступавшие в потоках дождя выразительной чернотой стволы деревьев. Иисус оказался высоким, под два метра; его белые руки с длинными ногтями были покрыты кривыми шрамами.
– Мастерить люблю с детства, инструментами резался – ответил Иисус, заметив немой вопрос в глазах Катерины, разглядывающей его кисти. Всё верно, Иисус и должен плотничать.
Наконец, они зашли в дом. Он привёз продукты: грудинку индейки, пакет картофеля, лук, огурцы и помидоры – самые дешёвые, сорта «Рома» – продолговатые и, как правило, безвкусные. Лук, который он принёс, был мелким, сорта «жёлтый глобус», тридцать девять центов за фунт, огурцы – тоже смотреть не на что. Овощи он выбирать совсем не умел, либо парнем был прижимистым и любил экономить.
Он сел за барную стойку в кухне. Катерина включила духовку для разогрева, достала грудинку индейки из пакета, натёрла её солью и специями. Белого вина у неё не было, зато была бутылка шампанского, оставшаяся от визита подруги.
– Будешь? – предложила Катя Иисусу, достав бутылку из холодильника. Он отшатнулся, видимо, от неожиданности.
-Нет, нет. Я не пью. Я лучше молока.
Катерина достала коробку молока и передала ему. Иисус взял с полки бокал для красного вина и деловито наполнил его до краёв непривычным для бокала напитком.
Катя открутила проволоку, вынула пробку, плеснула шампанского на дно большого керамического блюда. Сорвала тимьяна, шалфея и розмарина прямо с грядки на подоконнике, уложила грудинку в ещё потрескивающее пузырьками шампанское, украсила изящным букетом любимых трав и отправила в духовку. Иисус внимательно наблюдал за её действиями.
– Тоже хочу научиться готовить, – произнёс он, допив молоко.
– Пора бы, – заметила Катерина, – тебе сколько лет?
– Двадцать пять.
Выглядел он ещё моложе. Как сексуальный партнёр сначала он совершенно не заинтересовал Катерину. Широко посаженные глаза, длинный, приплюснутый к низу, как клюв гусёнка, нос. В его лице было что-то беспомощное, и, в то же время, волевое. Печальные, чуть опущенные уголки губ, которые совершенно не хотелось поцеловать. Однако, с ним ждать вечера воскресенья было гораздо веселее, чем одной.
Пока он наливал себе ещё молока и церемонился с вверенным ему заданием – нарезкой овощей для салата, Катя быстро выпила всё оставшееся в бутылке шампанское и совсем не опьянела.
– Давай, затопим камин, – предложил Иисус.
– Дров нет.
– Так поехали, купим!
Катерина села к нему в машину с ощущением, что так было и будет всегда. Он купил дров, ещё две бутылки шампанского, и они вернулись.
Зайти домой из промозглой темноты оказалось удивительно приятно. Из кухни струился мягкий оранжевый свет, жаркое в шампанском благоухало тёплым, чарующим ароматом. Вскоре они уже сидели перед пляшущим под джазовые синкопы дождя пламенем, раскрасневшись, то ли от огня, то ли от шампанского. Катерина и не собиралась соблазнять этого мальчишку.
Пришло время ужинать. Иисус восхищался и ароматной грудинкой, и рассыпчатым печёным картофелем, и бесхитростным салатом из огурцов и безвкусных помидоров. Они выпили третью бутылку шампанского. Одна тема разговора сменяла другую, от Кустурицы к конституции, от конституции к капустному супу. Два путника, они жаловались друг другу на всё несправедливое, что постигло их на дороге друг к другу. Стрелки скользили по циферблату и корчили им смешные рожицы, но они пили чай, варили кофе, разогревали жаркое и вновь его ели, пока не оказалось, что скоро рассвет.
В шесть утра он поднялся и ушёл. Катя упала в постель и моментально уснула. Он разбудил её нетерпеливым звонком. «Я хотел сказать спасибо за то, что ты есть. Я никогда ещё не встречал таких, как ты», – произнёс Иисус в трубку. «Каких – таких?» – спросила Катя. «Трудно сказать. Настоящих. Русских», – ответил он.
Катерина немного поспала, а в полдень он вновь появился на её пороге. Дождь прошёл, озолочённый солнцем сад торжествовал. Иисус предложил убрать листья под огромными клёнами, и она, конечно, согласилась. Пока он, скинув куртку, орудовал граблями в саду, Катя пекла тонкие блинчики и невольно любовалась им через окно. На него было приятно смотреть; работал он грациозно, ритмично, с большой охотой. Когда он закончил, блинчики были готовы, и Катя угощала ими Иисуса, посыпав их сахаром с корицей, потому что ни варенья, ни мёда в доме не было.
Она выставила его за полчаса до счастливого возвращения сына.
Дни шли, а он всё приходил и приходил. Он являлся без звонка, неизменно, в девять, потому что знал, что Катин сын засыпает в половине девятого. Третьего декабря она получила скромную зарплату и сразу купила подарки – сыну – новую книжку, а Иисусу – его любимый торт из французской кондитерской. Двадцать восемь долларов, которые она заплатила за торт, были для неё тогда чуть ли не состоянием, – столько же стоили пять замороженных куриц, которых бы хватило ребёнку на целый месяц. Столько же стоил набор конструктора «Лего», который она обещала купить сыну, столько же стоили три пачки сигарет, которых бы хватило ей почти на три недели, или две упаковки кофейных зёрен, или же четыре пачки акварельной бумаги.
Катя с радостью отдала эти деньги за торт для нового верного друга, который был со нею в эти дождливые, скупые на тепло и ласку осенние дни.
Катерина видела, что он тоже одинок и тоскует. Ей было ясно, что он ходит к ней греться, как бродячий пёс находит для себя утешение в чужом тёплом подъезде. Впавшие скулы, усталые круги под голубыми глазами, – Катерине казалось, что этому человеку так же одиноко и холодно, как и ей. Они совсем не подходили друг другу, но люди, видевшие их вместе, восклицали – «какая красивая пара».
Он говорил, что ждал двадцатого декабря, чтобы уехать в Москву. Там его, вроде, ждала девушка; он иногда рассказывал о таинственной красавице, дочери дипломата, будто бы влюблённой в него без памяти. Катя слушала его рассказы о ней невнимательно. Кто знает, была ли девушка, или, может быть, он просто набивал себе цену. Некоторые мужчины любят так поступать иногда: они думают, что заставят ревновать и этим вызовут прилив нежности. Катерина не ревновала. Таких мальчишек у неё могло быть сколько угодно.
Она вдруг похорошела; начала встречать его с накрашенными ногтями, гладкими ногами, распрямив длинные волосы. Он начинал ей нравиться. В том, что она нравилась ему, сомнений не было. Как Катя могла не нравиться?
Десятого декабря выпал первый снег. Катерина достала из лиловой коробки с новогодними украшениями алых стеклянных птичек и прикрепила их на белоснежные занавески из тонкой органзы в спальне, зажгла светильник из множества крохотных голубоватых лампочек. Комната сразу наполнилась предвкушением сказочного, – тем, кто верил в деда Мороза и Снегурочку, гирлянды из маленьких лампочек всегда сулят чудо.
В полночь она распахнула ему дверь в свою спальню и сказала: «раздевайся!» Послушно, он быстро разделся. Белый снег её простыней таял от тепла его молодого, загорелого тела. Золото его волос на её подушке, его запах. В постели с ним Катерина была совершенно счастлива. Она нравилась себе и не стеснялась своего тела; она не боялась потерять этого парня. Впервые в жизни Катя не боялась потерять мужчину, близость с которым ей нравилась. От этого на душе у неё было легко, к чувствам восторга и нежности примешивались чувства свободы и торжества, – ей было всё равно, будет ли он с нею завтра. Наверное, именно эти ощущения испытывают те, кто заводит краткосрочные романы.
Но, Иисус смотрел на ситуацию иначе, его роман имел продолжение. Настойчиво и методично он показывал Кате, что он – тот, кто нужен мне для жизни. Вскоре она познакомила его с сыном, и была поражена теплотой, с которой он относился к ребёнку. Он притащил сыну аквариум, купил мяч, осторожно, но весело общался с мальчиком, вызывая у матери восхищение.
Четырнадцатого декабря он принёс откуда-то большого белого гуся. Смеясь, они вместе ощипали и выпотрошили роскошную птицу, а потом, до часу ночи Катерина готовила печёного гуся, фаршированного рисом и яблоками, а специально для него – маленькую порцию паштета из гусиной печени. Он жмурился от удовольствия, когда ел.
Пятнадцатого декабря он принёс большую сумку свежих груш. «Друг угостил», – сказал он. И Катя приготовила грушевый пирог с карамелью, ночью они пили крепкий кофе и кормили друг друга пирогом.
Шестнадцатого декабря он не явился вовсе. Катерина всерьёз обеспокоилась, потому что свой телефон он забыл в её ванной комнате, и позвонить ему было некуда.
Он пришёл рано утром семнадцатого и принёс целое ведро рыбы, принял душ, и, даже не выпив чаю, опять ушёл, видимо, на работу. Конечно же, когда он вернулся, его ждал вкусный ужин – запечённый лосось под горчичным соусом с аппетитными картофельными оладьями и свежим салатом.
Рядом с ним Катя была женщиной. Она была желанна, востребована и нужна. Она целовала, готовила, стелила, украшала, чистила и опять готовила. Она любила. Рядом со ней он был мужчиной. Он нёс в дом, выигрывал, завоёвывал, охранял, обнимал, крепко держал в своих руках. Любил ли он – нам этого никогда не узнать.
Тайная вечеря
В конце весны, когда неистово цвела и благоухала сирень и пронзительно пели птицы, когда вокруг всё расцветало и вновь рождалось, в момент великого торжества жизни, Иисус вдруг превратился в Растрёпку. Его святость будто растворилась в бурлящем водовороте пробуждения природы. Сначала он отказался расчёсывать свои непослушные рыжеватые кудри, похожие на множество медных проводков, потом он перестал переодеваться, встречая и провожая каждый день в неизменной выцветшей футболке с надписью «игрок». Впрочем, на выходных он, всё же, принимал душ, надевал чистое и, подолгу, любуясь на себя в зеркало, зачёсывал волосы назад. Он бросил работу и проводил значительную часть суток в гараже у товарища, либо в собственной постели, которую он теперь отказывался убирать.
Его отношение к Катерине тоже изменилось. Он начал, как бы невзначай, унижать её. Эта разительная перемена произошла столь внезапно, что Катерина не успела понять, как быть. Сменился тон мужа, выражение его лица, настроение. Теперь он стал похожим не на принца, а на злого тролля с взлохмаченными волосами. Его нос, казалось, заострился, а рот недовольной линией изогнулся книзу. И, всё же, как косые лучи солнца заблестят порой меж свинцовых туч, тёплая улыбка Иисуса озаряла иногда злое лицо Растрёпки. Его глаза освещались словно любовью, и губы разъезжались в стороны, успокаивая и вновь маня Катерину надеждой на то, что всё вернётся.
Есть женщины, которые не простят кривой ухмылки. Кому-то с колыбели внушили идиотское, – если бьёт, значит, любит. Катерина же увязла в липкой любви Иисуса как оса, попавшая в чашку густого киселя. Она бы и рада была уйти и начать с начала, но, крылья её тяжелила вязкая масса.
Унизить, а затем похвалить, – Растрёпка читал о таком в заметке про трюки пикаперов. Этот метод назывался «поставить тёлочку на место», и заключался он в том, что женщину нужно унизить для того, чтобы «сбить с неё спесь». Пресытившись уютом семейной жизни, Растрёпка осознал, что хочет большего – новизны, лёгкости, свободы, а Катерина с её домашними хлопотами, с ребёнком и множеством забот, связанных с ним, тянули Растрёпку вниз, подавляя и огорчая его. Особенно ярко он ощущал это неудовлетворение в ночи с пятниц на субботы, когда его товарищи, весёлые и беззаботные отправлялись на афтер-пати в ночном клубе, или, если повезет, ночевать к какой-нибудь барышне. Растрёпке же нужно было идти домой, а этого ему в такие моменты хотелось всё меньше. С другой стороны, Катерина давала ему замечательно чувство уверенности в себе и в завтрашнем дне. Финансовое благополучие, вкусный ужин, удовлетворение любой его прихоти на одной чаше весов, и вольная жизнь – на другой.
Оказавшись в Америке, Растрёпка хлебнул нищеты сполна; почти не владея английским, он работал грузчиком на овощной базе, а по выходным покупал один билет в кинотеатр и полдня слонялся из зала в зал, смотрел все фильмы подряд и собирал в пластиковое ведёрко остатки попкорна в бумажных пакетах, которые он находил между сиденьями. Теперь же, рядом с Катей, он возмужал и даже значительно округлился. Расставаться с чувством удобства ему не хотелось, но и уживаться с правилами и привычками жены он тоже не собирался.
Было раннее субботнее утро, одно из тех, которые так тяжело давались Катерине после развода с Барином, когда сын гостил у отца. Оказалось, что Растрёпке не понравился секс.
– Ты – как просроченные консервы, которые я съел с голоду, а потом оказалось, что я отравился, – сказал Растрёпка жене, поднимаясь с постели, – вставай, приготовь что-нибудь, хватит здесь валяться.
– Я ничего не буду тебе готовить, – выдохнула Катерина, ощутив, как кровь приливает к голове и бьёт в переносицу своим ржавым запахом.
– Куда ты денешься, курица старая? – с презрением процедил Растрёпка, пристально изучая прыщик на щеке в зеркало.
– Как ты меня назвал? – Катерина не верила своим ушам.
– Курица старая. Иди, сделай поесть. Секс как с бревном, так хоть пожрать нормально можно будет, всё равно, толк от тебя какой-то.
Катерина молча оделась и вышла из спальни, слыша теперь только стук своего сердца, – оно гулко пульсировало в ушах. Растрёпка в три прыжка опередил её, схватив ключи от машины, висевшие на крючке у входной двери.
– А машину брать и не думай. Тот, кто не готовит жрать, гуляет пешочком, красавица, – он зло подмигнул жене и, поправив полотенце, обёрнутое вокруг бёдер, вдруг нарочно громко поцеловал её прямо в ухо. В голове Катерины зазвенело, она рванула дверь на себя.
– Иди-иди, проветрись, старая тряпка. Я чувствую, что пора учить тебя начинать, не зря же я на тебе женился, – произнёс Растрёпка и плотно закрыл за ней дверь.
Катерина оказалась на улице. Не выходя из оцепенения, она побрела вперёд. Дома – вещи, её, сына. Завтра в обед Барин привезёт мальчика, что ему сказать? Мысли в гудящей голове были холодными и липкими, как вчерашняя лапша на дне эмалированной кастрюли. Катерина шля прямо, пока не оказалась у автозаправки. Войдя вовнутрь, она бесцельно походила по рядам, пропахшим прогорклыми кукурузными чипсами и приторной мятной жевательной резинкой. Потом она достала их холодильника бутылку «Пепси», купила пачку сигарет и зажигалку.
Пройдя сотню метров по аллее, Катерина села на траву под цветущим деревом и закурила. Всё, всё, чем она жила эти несколько месяцев, оказалось фальшивкой. Это была подделка, обман, симуляция. Но, ведь это парадокс, – Иисус не мог быть подделкой. Тот, кто понял, согрел и спас её от уничтожающего одиночества, не мог быть фальшивкой.
Свет, который он излучал, согревая Катерину, был настоящим. Он подарил ей столько счастливых моментов, он заставил её вновь восхититься жизнью, с новыми силами взяться за работу. Как он мог вдруг говорить ей такое? Называть её курицей, сравнивать с консервами. Ведь она была его царевной, его невестой, его солнышком.
Сигарета догорела, Катерина достала из пачки вторую. Любопытная ворона приземлилась недалеко от неё. Вдруг Катерина поняла: Иисус болен. Он просто болен, с ним что-то случилось, что-то произошло прошлой ночью в клубе. Ему плохо, и только поэтому он может так вести себя, такое говорить. И она должна быть сейчас рядом с ним, чтобы греть и любить его, как он грел и любил её, когда ей было плохо. Катерина поднялась, затушила сигарету и пошла домой.
Она открыла дверь своим ключом. Иисуса не было. В спальне, на их кровати, накрыв ноги белоснежным одеялом, сидел Растрёпка, он смотрел «Каникулы в Мексике». Увидев Катерину в дверях, он поднялся с постели, кинулся к ней, прижал к себе и прошептал: «Солнце, прости меня, прости! Умоляю… Я не знаю, что на меня нашло…»
Катерина вдруг ощутила прилив бескрайнего счастья, тёплого, пленительного, бесподобного.
Через сорок минут они сидели за столиком уютного французского ресторана.
– За тебя, солнышко. За самую красивую, лучшую и любимую мою жёнушку, – произнёс Растрёпка, поднимая бокал божоле, – я клянусь тебе, что никогда в жизни тебя больше не обижу.
Растрёпка залпом выпил молодое вино и взял из плетёной корзинки белую булку. Он посмотрел на бокал Катерины; вино подороже, Перрье Жуэ в тонкой флейте исчезало гораздо быстрее, чем ему хотелось бы.
Краплак красный
Катерина пила чай с душистым апельсиновым мармеладом и рисовала персики и мандарины акварелью на мокрой бумаге. Мягкость летнего вечера, опускающегося на клумбу под её распахнутым окном, веяла ароматом лаванды и розмарина.
Капли красной акварели падали в банку с водой, распускаясь роскошными астрами, потом растворялись и исчезали.
Рисовать фрукты было легко, гораздо сложнее оказалось вырисовывать плетёный узор стеклянного блюда, на котором они лежали. Мокрая бумага благодарно принимала акварель; с каждым прикосновением кисти рисунок становился всё лучше, а фрукты на нём выглядели всё вкуснее.
Катя рисовала за стеклянным столом маленькой столовой, на деревянном табурете напротив неё сидел белый кот и внимательно наблюдал.
Входная дверь распахнулась, и над высокими перилами прихожей появилась кудрявая золотая голова. Шумно упали на пол ключи и какая-то железяка. Запахло куревом, мужским потом и растворителем.
– Выходи, покурим? – произнесла кудрявая голова, широко улыбаясь желтоватыми ровными зубами.
– Я не хочу, – ответила Катя. Курить ей действительно не хотелось; мармелад вкусней сигареты.
– Ну, просто постоишь со мной. Я соскучился, – произнесла голова, опять исчезая за дверью.
Катя посмотрела на свою незаконченную работу; бумага сохла, ей было жаль оставлять натюрморт недорисованным.
– Ты идёшь? – капризным голосом кудрявая голова произнесла уже со двора. Потянуло табачным дымом. С сожалением отложив рисунок в сторону, Катерина принялась полоскать кисточку в банке с водой; поднялся тайфун.
Она вышла во двор и закурила; курить было неприятно, в горле сразу засаднило.
Он сидел на деревянном стуле у крыльца и дымил, уставившись в телефон. Его рваная футболка была перемазана чем-то чёрным, грязные шорты песочного цвета обнажали острые коленки, покрытые золотой шерстью.
– Ну, красота моя, что у тебя новенького? – спросил он, будто ласковым голосом, – чем занималась? – золотая голова оторвалась от телефона, поднялась и посмотрела на неё прищуренными от едкого дыма зажатой в зубах вонючей сигариллы глазами. Эти злые и весёлые глаза всегда смотрели внимательно и выжидающе. Сначала он слушал, потом незамедлительно действовал.
Она начала говорить что-то про то, как провела этот день без него. По сути, весь день просидела дома. Помыла посуду, перестирала гору белья, приготовила ему вкусный ужин и целый час, если не больше, посвятила своему хобби – рисованию акварелью.
– Но ты же херово рисуешь! – воскликнул он, изумлённо оглядывая Катерину с ног, до головы.
– Да, но мне нравится, – она уже научилась принимать его оценки без эмоций. Теперь нужно было учиться настаивать на своём, не сдаваться и не предавать то, что любишь.
Катерина любит акварельные краски и пушистые кисточки, которые принимают изящную форму, касаясь ярких пигментов. Она любит зернистую бумагу для акварели и разноцветные капли красок, их вибрирующее любовью к жизни подражание миру вокруг. Она смотрит на пластмассовую палитру с красками и видит в ней алые ягоды шиповника, колдовские тона анютиных глазок, чувствует запах персика, хвои и зелёного яблока
– Всё понятно. Убила время бесполезнячиной, – своим вердиктом Золотая Голова заставил её очнуться, – а что у нас вкусненького есть покушать?
– Твоё любимое.
– А что у меня сегодня любимое? – небритая физиономия разъехалась в улыбке, золотистые, бронзовые и просто серые колючки на ней понеслись в разные стороны. У него, действительно, было много любимых блюд.
– Бефстроганов и картофельное пюре.
– Как же я тебя обожаю, солнышко моё! – он поднялся со стула, затушил сигариллу, аккуратно положив бычок под сиденье, чтобы докурить позже, притянул жену к себе и шумно расцеловал, – Ну, что сначала, – покушаем или пошпилимся? Не дожидаясь ответа, Золотая Голова исчез, и скоро из ванной комнаты послышалось торопливое шипение душа.
Катя зашла в кухню и тщательно вымыла руки. Затем она надела свой клетчатый фартук и подошла к плите. У бефстроганов есть несколько секретов. Во-первых, мясо должно быть определённого качества, и тушить его можно только с луком и специями, а вот соус нужно готовить непосредственно перед подачей, так как разогревать это блюдо не следует. Всё гораздо проще с картофельным пюре; полная кастрюлька восхитительных кучевых облаков со сливками и тщательно перетёртыми желтками томилась под грелкой в ожидании достойной этого пюре подливы.
Проворно растирая сметану, горчицу и молоко правой рукой, левой Катерина закинула в растекающееся по сковороде сливочное масло пригоршню нарезанных тонкими пластинами шампиньонов. Грибы зашипели, моментально наполнив кухню вопросом, витающим в их аромате: «а где же тимьян?» Скоро заклокотал соус для мяса, и вот – готово – теперь превосходному ужину потребуется лишь салат из свежих овощей и полбокала сухого белого. Если угодно!
Если угодно.
– Солнышко! Иди сюда! – послышался зов большого ребёнка. Жена, как заботливая мама, поспешила к нему и зашла в ванную комнату, чтобы обнаружить, что золотая голова уже превратилась в серую, намокнув. Вода проявляет наши истинные краски, волосы – тоже акварель. Погруженный в пенную воду, Серая Голова задумчиво тыкал пальцем в планшет.
– Солнышко! Посиди со мной, мне скучно, – попросил он.
– Дай, я выключу плитку.
– Только побыстрее! А то я соскучился тут, – голос Растрёпки звучал капризно.
Катя вернулась на кухню, выключила плиту и налила себе чашку чаю, отрезав ломтик лимона. Нож не помешало бы заточить, плотную кожуру пришлось пилить. Лимон брызгал соком в мучительной агонии, добавляя ароматов в кухне. Катерина налила чаю в свою любимую чашку и осторожно понесла её на тонком блюдце в ванную. Пока Серая Голова наплескается, она бы успела чаю напиться; обычно он любит подолгу сидеть в ванне.
Проходя мимо стеклянного стола со своим рисунком, Катя вдруг поняла, чего не хватало узору блюда; нужно было углубить тени, добавить синего. Она поставила чай на стол и принялась за рисование, ей понадобилось бы буквально несколько минут для того, чтобы закончить этот этюд.
Серая Голова неожиданно материализовался прям передо Катей, – белое полотенце вокруг бёдер, серые волосы зализаны на затылок, лицо выбрито, ноздри загнутого к низу тонкого носа раздуты от возмущения. Кот поспешно спрыгнул с табурета и трусливо растворился.
– Ты почему так обламываешь? – Серая Голова рассердился, – я же сказал – «покушаем» или «пошпилимся»! Я не говорил, «игнорируй меня и занимайся безполезнечиной». Дай сюда! – не дав Катерине опомниться, Серая Голова выхватил лист с недорисованным натюрмортом из-под её носа и разорвал его, обрывки швырнул на пол.
– Ты ошалел, скотина?
– Что ты сказала, сучка?! – Бах! – Это на пол летят её краски, «Виндзор и Ньютон», их разноцветные брызги разлетаются по белым стенам маленькой столовой как праздничное конфетти. Салют образованию! Виват, жизненный опыт.
– Я сказала, что ты – скотина, – повторила Катерина, приподнимаясь над столом.
Его удар по её лицу разражается новым фейерверком, и вот, Катя видит множество серебряных звёздочек перед глазами, – теперь это уже механическое раздражение её сетчатки и повреждение зрительного нерва.
– Повтори! Буду тебя учить уму-разуму, раз не научили, как разговаривать с мужчинами. Повтори! – Серая Голова яростно смотрит на жену, синие глаза горят негодованием, алые маки возбуждения расцвели на щеках, от которых ей даже на расстоянии пахнет кремом для бритья фирмы «Искусство остроты».
– Повтори, я сказал! Кто я?
– Скотина ты, – он здесь, чтобы Катя училась настаивать на своём. Она нагнулась, чтобы поднять с пола свои краски, но снизу её встретил новый удар, теперь серебряный фейерверк рассыпался сотней звёзд со стороны правого глаза. В носу резко запахло кровью, и тут же тепло заструилось по передним зубам. Сначала это не больно. Боль догнала минут через пятнадцать.
Катерина оказалась в ванной, нагнувшись над раковиной, сплюнула.
Капли алой крови упали на белый кафель, распустились роскошными астрами, потом растворились и исчезли. Она полоскала рот холодной водой, потом рассматривала в зеркало. Повреждения не очень сильные, кровь лилась потому, что мягкие ткани щеки разбились о края зубов по его ударами.
Ничего страшного, это скоро заживёт. Катя взяла свою парку с надписью «Диснейленд. Всегда в твоём сердце» и вышла на улицу. Проходя мимо столовой, она видела, как за столом, сияющим алой раной пролитой акварельной воды, сидел Серая Голова и, читая что-то в планшете, ел картофельное пюре прямо из кастрюли, неловко черпая его большой ложкой, зажатой в кулаке. Он сделал вид, будто не заметил жену.
Опустились сиреневые сумерки. Остывающий воздух веял пронзительной свежестью перечной мяты. Катя закурила. Честный и горький привкус сигареты у неё на языке, в горле. Курилось легко. Она выпустила дым из носа, и сразу перестало пахнуть кровью.
– Малыш, ты собираешься извиняться? Еда очень вкусная. – Голос Серой Головы звучал гнусаво и неуверенно.
Оба они понимали, что Кате нужно учиться настаивать на своём.
Менты и пончики
Сержанта полиции Винсента Берри мучила пульсирующая головная боль. Кондиционер не работал, воды в его бутылке оставалось совсем немного, буквально на два глотка. Превозмогая боль, отдающую под надбровные дуги, Сержант Берри поднял глаза и посмотрел на часы. Минутная стрелка неумолимо приближалась к двенадцати. Аллилуйя. Ещё десять минут этой муки, и можно идти на перерыв. Прочный картонный стакан, до краёв наполненный отменным кофе с молоком и три-четыре глазированных пончика гарантированно снимали его головные боли, каждый раз.
– Послушай, – усталым, но миролюбивым тоном он обратился к заплаканной девушке, сидящей напротив него, теребящей и выкручивающей мокрую от слёз бумажную салфетку, – я-то тебе верю, но только моего мнения мало. Нам нужно, чтобы это дело захотел взять прокурор. А он, скорее всего, откажется. Свидетелей у нас нет? Нет. Пятна на шее есть, но ты их сама могла себе поставить. Понимаешь?
Девушка в очередной раз залилась слезами. Сержант Берри, сморщившись от боли, вновь взглянул на часы. Оставалось восемь минут. Он подвинул к девушке коробку с бумажными салфетками, поднялся и похлопал её по плечу. Это вышло немного неуклюже, сержант смутился и сел на своё место за маленьким деревянным столом.
– Ты видишь, в чём тут дело, – продолжал Берри, подглядывая на девушку, которая вызывала в нём больше раздражения, чем сочувствия, – всё дело в самом процессе, в правилах игры, так сказать, – довольный своей компетентностью, сержант вновь взглянул на часы и залпом выпил оставшуюся в его бутылке тёплую воду. Сегодня, пожалуй, он возьмёт стакан кофе не на двенадцать, а на шестнадцать унций и четыре свежих пончика, покрытых ароматной шоколадной глазурью и начинённых до отказа нежным сливочным баварским кремом. Сержант Берри прищёлкнул языком и вернулся к теме домашнего насилия.
– Нам нужно было бы выступить перед присяжными, чтобы и они поверили тебе. Но этого не будет, понимаешь? Там шесть из двенадцати присяжных будут мужиками, которых уже самих обвиняли в домашнем насилии, на ровном месте, ни за что, понимаешь? Отомстить, если изменил. Испортить репутацию. Ребёнка отобрать, чтобы наказать.
Девушка громко всхлипнула. Сержант Берри спохватился:
– Нет, я не говорю, что ты тоже такая! Но, просто, в следующий раз, ты вызывай полицию прямо домой. Ты не иди сюда сама, ты звони нам. Мы приедем, всё осмотрим и обязательно найдём дополнительные улики.
– Но он разбил мой телефон! – с отчаяньем вставила девушка.
– Ну так а ты сбегай к соседке, в следующий раз, набери с её телефона. Наш номер – девять, один, один, – с этими словами сержант Берри поднялся и широким жестом правой руки указал девушке на дверь. Другой рукой он схватил листок с протоколом и помахал им прямо перед лицом девушки, – а я вот сейчас с этим побегу сразу к нашему следователю, а оттуда мы уже прямо в прокуратуру. Поняла? – сержант с облегчением проводил девушку, закинул протокол в окошко дежурной и отправился за пончиками.
Во дворе его любимого кафе «Данкин Донатс» он увидел карету своего товарища, сержанта по фамилии Бонд. Бонд тоже любил полакомиться пончиками и нередко заезжал сюда в обеденный перерыв. В кафе сержант Берри обнаружил Бонда сидящим за столиком у окна с лейтенантом полиции Ким Стоун. Перед Бондом лежал большой бумажный пакет с пончиками (там, по оценке Берри, их должно было быть ну никак не меньше пяти штук), перед златокудрой красавицей мисс Стоун – маленький стаканчик чёрного кофе, без крышки.
– О! Смотрите, кто к нам пожаловал! – заорал сержант Бонд, обратив на себя внимание азиатского студента в наушниках ядовито-зелёного цвета, который сидел за соседним столиком, спиной к полицейским. Услышав сквозь вибрирующий жизнью бит Майкла Джексона в своём плеере зычный голос Бонда, студент подпрыгнул от неожиданности, повернулся к полицейским и уставился на них, часто моргая недоумевающими глазами.
– Не переживай, сынок! Всё под контролем, – пробираясь к товарищам, сержант Берри дружелюбно, как ему казалось, похлопал студента по плечу, от чего тот окончательно ошалел, поспешно доел пончик в розовой глазури, хлебнул из стакана, воткнул себе между зубов тонкую сигарету и, озабоченно поглядывая на полицейских, вышел из кафе.
– День добрый, ребята! – сержант Берри протянул свою огромную лапу Бонду.
– Держу пари, что этот красавчик торгует кислотой,– не отвечая на приветствие, кивнул в сторону азиатского студента Бонд и пожал лапу Берри.
– Тебе повсюду мерещатся наркодельцы, – отозвалась недовольным голосом лейтенант Стоун.
– Мне лучше знать, – строго отрезал Бонд, который недолюбливал Ким Стоун за то, что она, прослужив в полиции меньше, чем он, и ничем особым не отличившись, была выше его по званию и пользовалась незаслуженным, по его мнению, авторитетом у коллег и даже участвовала в спецоперациях, – да я два года жизни убил на наркоторговцев! И всё для чего? Для того, чтобы эти ослы, наши законодатели, легализовали дурь и свели на нет весь мой колоссальный опыт, – Бонд хищно раздул ноздри и со злостью откусил больше половины аппетитного пончика «кленовая плитка», от одного вида которого головная боль сержанта Берри усилилась троекратно, и в желудке заработал трактор. Сержант подошёл к стойке и скоро он уже сидел за столиком с товарищами и с чувством огромного облегчения ел пончик, запивая его горячим кофе.
– Нет, всё же, этого вьетнамского детину я должен проверить, – не унимался Бонд, выглядывая в окно. Он бы действительно пошёл и проверил, но в его пакете всё ещё оставались пончики, и обеденный перерыв не закончился.
– Это кореец, – равнодушно отозвалась мисс Стоун.
– Вьетнамец, руку даю! – возмутился Бонд.
– Оставь себе свою руку. Это кореец. Он читал книжку, на обложке были корейские иероглифы, – не сдавалась отличница полицейской академии.
– А ты их различаешь?! – искренне восхитился сержант Берри, который благоговел перед всяким, кто умел читать иероглифы. Он засунул себе в рот третий пончик, аккуратно пропихнув его пальцем. Снаружи пончик был хрустящим, а внутри у него была нежная масляная начинка, от чего Берри получал необыкновенное удовольствие, в котором растворялась его головная боль.
– Да что там различать? – с ноткой презрения в голосе ответила мисс Стоун, – в корейских иероглифах много кружочков. А китайские похожи на бабочек, – Мисс Стоун сверкнула торжествующим взглядом и сменила тему, – хуже, чем сахар, наркотика я и не знаю. Вам, ребята, не пончиками бы фаршироваться, а подыскать себе кафе со здоровой и питательной едой.
– Что ты мелешь? Сравнила пончик с героином? Но вот только что-то у меня от пончика не наблюдается ни рвоты, ни поноса, ни головокружения. Сознание не затуманилось, дыхание не затруднено, и все мои двадцать восемь зубов в прекрасном состоянии! – дерзко возразил Бонд и, скорчив смешную рожу, обнажил два ряда превосходных белых зубов, поклацав ими перед мисс Стоун. Та поморщилась и махнула рукой.
– Клоун… А у тебя что новенького? – спросила она, обращаясь к сержанту Берри.
– А я теперь у Джессики в отделе домашнего насилия.
– Ненавижу этот отдел. Я бы лучше всю жизнь наркоманов гонял, чем выслушивать эти «заберите моего мужа! – верните моего мужа! – заберите моего мужа! – верните моего мужа!» – вклинился Бонд, не отводя глаз от азиатского студента, который курил и сосредоточенно говорил по телефону во дворе кафе.
– Ну и как? – проигнорировав Бонда, поинтересовалась мисс Стоун.
– Да просто всё. Пять-семь вызовов в день по моему району. Разбитые телефоны, пара синяков, всё закономерно.
– Аресты есть?
– Берём по парочке. Но нам дали указание не злоупотреблять; банка-то наша и так переполнена этими рыбками. Квота – два насильника в день, не более. Вот и выбираем с Джессикой самых достойных,– сержант Берри доел последний пончик и с сожалением скомкал пустой пакет.
– Мне определённо этот тип не нравится. Пойду-ка, обыщу, пока его дружки в свидетели не подкатили на своих салатовых хондах со спойлерами, – озабоченно произнёс Бонд и поднялся из-за стола. Его отец воевал во Вьетнаме и вернулся искалеченным, поэтому Бонд с детства испытывал неприязнь к азиатам и относился к ним с подозрением. Он никогда не ел в азиатских ресторанах, терпеть не мог диско, и даже в порнографических журналах, высокой стопкой покоящихся в ванной комнате Бонда, не было страниц с азиатскими красавицами, – он их давно выдрал и спустил в унитаз.
– Э… Да как же ты его обыщешь?.. Не горячись! – попытался урезонить товарища сержант Берри, которому было известно о неприязни Бонда к азиатам.
– Спокойно. Я знаю, что делаю, – ответил Бонд. С самодовольной ухмылкой на лице, отрепетированным жестом фокусника он достал из кармана резиновую перчатку, молниеносно натянул её на правую руку и, покопавшись в кармане, достал из него маленький пластиковый пакет с тремя розовыми таблеткам, – это не вы потеряли четвёртую поправку к конституции? – Бонд весело помахал пакетом перед лицом сержанта Берри и бодрым шагом вышел во двор к студенту.
– Он просто идиот, – обескураженно прошептала мисс Стоун.
– Лейтенантом стать хочет. Пора уже, – пожал плечами сержант Берри.
– Ты знаешь, по поводу домашнего насилия хочу тебе кое-что присоветовать, из личного опыта, – внезапно вернулась к теме мисс Стоун, – когда сомневаешься, брать его или нет, надо сделать вид, что ничего подозрительного не нашёл, отъехать, а потом вернуться. Буквально, минут через сорок. Если там действительно насильник, эти уроды обычно такую головомойку жёнам устраивают после визита полиции, просто стены трясутся. Только интерьер снимай для вещдоков.
Сержанту Берри было жаль, что пончики уже съедены и перерыв закончился. Ему нравилась мисс Стоун, он восхищался её красотой и рассудительностью.
– Хорошо! Возьму на заметку! – ответил сержант.
Полицейские убрали мусор со столика и вышли во двор, где Бонд свирепствовал с обыском азиатского студента. Тот оказался гражданином Южной Кореи, он плохо понимал по-английски и поэтому был чрезвычайно взволнован. Его кожа приняла сероватый оттенок, на лбу проступили капельки пота. Бонд жестами объяснял студенту, что делать, тот повиновался.
– Полюбуйся-ка. Это что у него тут в пакете? – Бонд швырнул в ловкие руки мисс Стоун упаковку жевательной резинки «Лотте».
– Это жвачка. Извинись, и поехали. Перерыв закончен,– мисс Стоун вернула жевательную резинку студенту и села в машину Бонда.
Бонд нехотя извинился, и вскоре все полицейские вернулись к своим обязанностям.
Лекция о педофилах
– Мой третий ребёнок родился поздней осенью. В канун дня Благодарения мы с младенцем уже были дома, – голос Джоан Эшлей, профессора судебной психиатрии звучал ровно и уверенно. Вот уже шестой год она читала свои лекции полицейским, которых готовили для специальных отрядов по борьбе с сексуальным насилием,– я помню, как сидела на стуле в кухне и кормила малыша, глядя на печь, в которой готовилась великолепная индейка. Мой муж всегда выбирал самую крупную птицу, которую только можно найти в супермаркете. Он очень любил этот праздник. Мы, как всегда, ожидали гостей. Мой супруг сидел недалеко от меня, он чистил картофель, – много, чуть ли не ведро, будто нам придётся кормить целую армию. Ребёнок заснул, но так и не отцепился от моей груди. Вдруг мне в голову пришла мысль, – а что, если уложить его на противень, посолить, поперчить, намазать оливковым маслом, украсить розмарином и отправить в печь? Этот нежный, пухленький малыш красиво подрумянится. Я озвучила эту мысль. Муж дико посмотрел на меня. Именно – дико, я даже сейчас помню этот взгляд, его лицо, перекошенное от ужаса. Он не произнёс ни слова, молча поднялся, вымыл руки, выключил печь с недожаренной индейкой, взял у меня ребёнка и только тогда сказал: «Пойдём в спальню, ты очень устала. Я обзвоню гостей и отменю ужин. Скажу, что мы подхватили вирус или ещё что-нибудь в этом роде. Выпутаемся». Он отправил старших детей к сестре с ночёвкой, и целых два дня не отходил от меня ни на шаг. Это было блаженством, только я, муж и наш новый малыш, такой красивый, такой совершенный.
Прошло некоторое время, и я вспомнила об этом случае во время разговора с мужем; он, кстати, тоже клинический психолог. «Мы не имеем власти над мыслями, но контролировать действия вполне реально. Процентов на шестьдесят», – сказал мой Джордж. Он тогда работал с преступниками, тюремным психологом. Это была страшная и совершенно неблагодарная работа, да и платили за неё не очень уж много. Но Джордж считал своим долгом перед людьми помогать заключённым, а уж терпения ему было не занимать. Я же в то время писала диссертацию о педофилии: отклонение или норма. Ещё на первом курсе нас учили, – пока ты не поймёшь, что чувствует пациент, ты не сможешь ему помочь. Признаюсь, это заняло у меня порядком времени, – понять педофилов. И тут мы говорим об огромном спектре вариаций: желать одиннадцатилетнюю девочку и хотеть удовлетворить свою сексуальную потребность за счёт четырёхлетнего мальчика – это два совершенно разных состояния. Тем не менее, их объединяет один неоспоримый факт, – в Соединённых Штатах Америки и то, и другое… разрешается! – Профессор Эшлей окинула аудиторию торжествующим взглядом, чтобы полюбоваться на произведённый эффект. – Вы помните, я сказала «желать» и «хотеть удовлетворить»; я говорила о психическом состоянии, о мотивации. Я не говорила о совершении действия. Профессор Флис из юридического департамента расскажет вам о правовых аспектах на своей лекции. Меня же интересует создание психологических профилей для облегчения работы следователей. Двадцать пять лет назад я размышляла о том, как аппетитно бы выглядел на праздничном столе мой малыш, подрумяненный в печи, – этот парень уже вырос и закончил колледж. Я подумала тогда о преступлении, я рассказала о своих мыслях, но ничего по-настоящему преступного я не совершала. Точно так же сотни тысяч педофилов вокруг нас фантазируют о связи с несовершеннолетними, но никогда не переносят свои фантазии в реальный мир, и слышим мы лишь о тех, кто не может или не желает контролировать себя. Сегодня на занятии мы попытаемся проникнуть в сознание педофила, понять и прочувствовать его мотивации, чтобы эффективнее вести расследования. А теперь, запишите число и тему, – профессор Эшлей отхлебнула минералки из маленькой стеклянной бутылочки, – «парафильное расстройство».
– Если будет что-то про вьетнамских тёлок, я просто сдохну, – шёпотом выдохнул сержант Бонд.
Сержант Берри в ответ только покачал головой и аккуратно записал дату и тему в толстую и уже наполовину исписанную тетрадь.
– Видишь, куда клонит эта программа? – не унимался Бонд, – сначала они легализуют марихуану, а за этим последует конец и охоте на педофилов. Страна погрязнет в наркотиках и порнографии, а мы будем заниматься только раздачей штрафов за превышение скорости. Знаешь, почему? Потому, что это выгодно. А на детей плевать они хотели, эти законодатели чёртовы.
– Потише. Ты мешаешь мне концентрироваться на лекции, – с раздражением прошептал сержант Берри.
Бонд обиженно замолчал и уставился на профессоршу.
– Давайте сразу обозначим границы, кто является педофилом с точки зрения современной психопатологии, а кто – нет. Запишите, если не можете сразу запомнить; каждый следователь должен ориентироваться в терминологии, иначе, рискуете попасть впросак, – доктор Эшлей осматривала свою аудиторию с пристрастием инквизитора. Она была доброй, но требовательной женщиной и гордилась тем, что все её студенты отлично справлялись с тестированием. Обнаружив, что у Бонда нет ни ручки, ни тетради, она грациозно ухватила карандаш и чистый лист бумаги со своего стола и опустила их перед сержантом.
– Зачем? – Неожиданно зло спросил Бонд.
– А как же? – Профессор Эшлей удивлённо подняла круглые брови, подрисованные бежевым карандашом.
– Мне эти предметы не понадобятся. – Слова Бонда звучали дерзко, как вызов подростка.
– Но в чём же причина? Ведь вы умеете писать, не так ли? – По лицу профессорши скользнула насмешливая улыбка. В аудитории раздался чей-то смех.
– Да. Я умею писать, – с раздражением ответил Бонд, – я знаю буквы, не переживайте, доктор. Возможно, вы считаете тупыми всех полицейских, а может, только меня. Но мне хватает мозгов для того, чтобы осознавать, – педофилов надо сажать, а лучше – вообще уничтожать. И я не собираюсь разбираться в них, делить их на кучки и категории. А уж тем более, я не собираюсь понимать этих выродков. Может, я никогда не стану хорошим следователем, но и дегенерата из меня я вам сделать не позволю.
В аудитории воцарилась тишина. Невозмутимое лицо доктора философских наук Джоан Эшлей не изменило своего выражения. Её неудовольствие выдавал лишь внезапно появившийся на мягких щеках румянец.
– Что ж, офицер… Как к вам можно обращаться?
– Сержант Бонд, – спокойствие профессорши заставило Бонда покраснеть. Он почувствовал, как его уши налились кипятком; в висках застучало.
– Сержант Бонд, мне нравится ваша пылкость, я уважаю людей с твёрдым характером и определённой точкой зрения. Но, хочу вам сказать сегодня, чтобы вы запомнили на всю жизнь, – в голосе профессорши звучало торжество и даже пафос, – вы, конечно же, сможете стать следователем. В отделах кадров наших полицейских управлений на должности следователя состоят десятки недоумков и бездарностей, людей, не желающих видеть дальше собственного носа, тех, кто не в состоянии мыслить за пределами стереотипов. Поэтому многие преступления никогда не будут раскрыты. Поэтому и домашнее насилие без свидетелей – не насилие вовсе, а несчастный случай.
Бонду стало стыдно, но лишь немного. Ему уже порядком надоело это миндальничание с преступниками.
– А я считаю, что вы должны извиниться, – внезапно раздавшийся голос сержанта Берри ошеломил Бонда.
– Прошу прощенья? – брови профессорши поднялись ещё выше, в голосе явно прослушивалась нотка возмущения.
– Вы не ослышались, – спокойно продолжал сержант Берри, – вы только что оскорбили нас, – и меня, и моих товарищей, назвав лучших из нас недоумками и бездарностями. По-моему, вы должны извиниться.
– Имея обширный опыт работы со следователями нашего штата, я, всего лишь, назвала вещи своими именами, – холодно ответила доктор Эшлей.
– Вы хотите научить нас понимать преступников, при этом, не понимая и не уважая тех, кто призван с ними бороться. Это нонсенс, – сержант Берри никак не мог успокоиться.
– Послушайте, офицер, – доктор Эшлей была хладнокровна; её голос звучал негромко, и, в то же время, очень твёрдо. – Я не стану извиняться, и слов своих я назад не возьму. В то время, как целые факультеты грандиозных университетов проводят исследования поведения преступников, на поле боя мы слишком часто имеем слабо подготовленный молодняк. Несмотря на многочисленные тома инструкций, им и в голову не приходит искать улики в комнатах потерпевших, они и не догадываются брать образцы ДНК у близких родственников. Да мне ли вам рассказывать! В одном лишь нашем штате на свободе гуляет больше трёх сотен серийных насильников и убийц. У нас больше маньяков, чем следователей, а раскрываемость преступлений ниже сорока процентов! И вы находите в себе силы оскорбляться при таких обстоятельствах? Давайте не будем более тратить времени нашей лекции на пустые разговоры, – доктор Эшлей скрестила руки на груди и выжидающе посмотрела на сержанта Берри.
– Пустые разговоры – это ваши признания в том, как вы ребёнка зажарить хотели. Без этой тошнотворной информации мы могли бы обойтись, здоровому человеку такое в голову не придёт, – произнёс Бонд и поднялся со своего места, кивнув сержанту Берри, – пойдём отсюда. Нам нужен другой инструктор. Сержант Берри тоже поднялся, и полицейские вышли из аудитории. За ними скоро последовали их товарищи; лекция доктора философских наук Джоан Эшлей была сорвана на рекордной двадцать второй минуте.
Растрёпка и ведьма
Растрёпка явился домой взволнованный. Не вымыв рук, он, как и был, в закрапанной осенним дождём серой куртке прошёл в кухню.
– Толика эта сука, всё-таки, околдовала! – не здороваясь, возбужденно выпалил он и, захватив с блюда несколько кусков мраморного козьего сыра, торопливо засунул их себе в рот.
– Какого Толика? – спросила ведьма, внимательно посмотрев на Растрёпку.
– Дядьку моего. «Какого», – жуя, с раздражением ответил Растрёпка и засунул себе в рот ещё сыра, – дай запить!
Не дожидаясь реакции ведьмы, Растрёпка схватил открытую бутылку малбека и приник к ней.
– Как ты пьёшь этот шмурдяк? – с негодованием воскликнул он, продегустировав, а затем, для усиления эффекта, зажмурил один глаз и потряс лохматой головой.
– Это отличное вино; просто его не пьют из бутылки, – возразила ведьма, не отрываясь от своей работы. Острым ножом она нарезала овощи и травы и складывала их на большой чёрный противень.
– Это что, салат такой, что ли, солнце? – поинтересовался Растрёпка и закинул себе в рот пригоршню соломки из мелиссы и сельдерея. Скривившись, он опять припал к бутылке с вином.
– Нет, это еда для кролика, – терпеливо пояснила ведьма.
– А для меня? Есть что-нибудь? – Растрёпка залез в холодильник, достал оттуда небольшой батон докторской колбасы и с удивительным хрустом откусил пятую часть или даже больше. От переживаний и принятого вина он вдруг раскраснелся.
– Так ты спросила у своей китаёзы, дорогая, что это значит, когда в доме есть одновременно белый кот и белый кролик? Это удача нам теперь или прибыль, или что? – с набитым ртом поинтересовался Растрёпка, любивший всё китайское. Под «китаёзой» он имел в виду знакомую ведьмы, китаянку Лию, которая владела салоном красоты и любила поболтать с русскими клиентками.
– Спросила. Она сказала, что, белый кролик и белый кот в доме – это, конечно, прибыль. Как минимум, отличное жаркое, а это – уже большой плюс, – ведьма продолжала крошить овощи, работая ножом быстро и старательно. Это раздражало Растрёпку, который, оглядевшись, не нашёл приготовленного для себя ужина.
– Китайцам этим лишь бы пожрать! – Растрёпка почти обиделся, но поговорить ему, всё же, очень хотелось,– так вот, говорю, – продолжал он, – я те говорю, что Толяна-то нашего эта бабенция его приворожила, говорю. Мы с матерью так сами и думали с самого начала, а сегодня мать была у бабки и погадала на него. Та ей так и сказала, мол, всё, пропал ваш парень, приворожен он крепко. А нам всё ясно было и без бабки! Как встречался с женой – Толян не помнит! Как предложение он ей делал – тоже не помнит! Как на свадьбе гуляли, как поженился, всё просто как отрезало. Типа амнистии у него.
– Амнезии?
– Ну да. Типа склероза. Понятно сразу – если ничего не помнит, значит – заколдован был.
– Это хорошо или плохо?
– Ты дура, что ли? Это – трагедия!
Растрёпка выдавил щедрую порцию майонеза из пакетика «Ряба» на жалкий хвостик колбасного батона и поспешно проглотил.
– Солнц, а ты в колдовство веришь? А то, все говорят, что ты – колдунья, – Растрёпка вновь коснулся волнующей его темы.
– Я верю в то, что можно измерить и выразить математически, – отрезала ведьма в прямом и переносном, ударив ножом по морковной ботве.
– Это плохо. Значит, и в мою любовь ты поверить не сможешь. Её невозможно измерить, – Растрёпка сделал паузу, чтобы оценить эффект, который произвело его высказывание. Немного огорчившись от того, что ведьма никак на этот раз не отреагировала, он продолжал:
– А вот я верю. Я когда маленький был, меня мать к бабке возила. Чтоб я беситься перестал, я же просто бешеный был! Бабка меня на колени к себе положила и яйцом катала, катала, катала… А потом яйцо матери показала, а оно стало чёрным аж всё. Прикинь!
– Прикидываю, – флегматично отозвалась ведьма.
– Да. Аж почернело от меня яйцо. Это я такой одержимый был…
– Или такой грязный, – съязвила ведьма.
– Ты за базаром своим следи, бабенция! – вспылил Растрёпка, моментально раскрасневшись. – Рассказывай, как это у вас колдуется? Эти привороты все, любовные зелья, давай рецепт мне, чтобы я мог скорее Толяна расколдовать, – с этими словами огорчённый Растрёпка достал из холодильника пачку куриных сосисок и, разодрав зубами пластиковую упаковку, принялся глотать эти сосиски одну за другой, выжимая майонез понемногу себе в рот непосредственно из пакета.
– Ты бы их сварил, хоть, – ведьма с опаской покосилась на Растрёпку.
– Варить – это твоё дело, а не мужское. Я могу только на гриле пожарить. Столько времени потратила на кроля своего, а дома пожрать нет! Давай рецепт, как расколдовать Толяна.
– Да бог с тобой, что ты привязался? – ведьма закончила резать овощи и взялась за мытьё посуды.
– Рецепт давай, говорю! Все вы, бабы, колдуете. Одна меня яблоками привораживала, вторая месячными своими, все вы – чернокнижные твари, палить вас на костре…
– Да не привораживала я никого! – ведьма не понимала, шутит ли Растрёпка, а по выражению его лица, испачканного майонезом, судить было сложно.
– Привораживала ты, сто пудов. Иначе, как объяснить, что ты такая старая, а я – такой молодой?
Гордый своим неожиданным умозаключением, торжествующий Растрёпка ловко выхватил нож у ведьмы из-под носа и похлопал широкой стороной лезвия по ладони.
– Отстань, – устало отмахнулась от него ведьма, перекладывая приборы в кухонные ящики. Обида взяла верх и ведьма не сдержалась:
– Уж если б я ворожила! Теоретически! Я бы себе кого побогаче приворотила и подобрее, чем ты!
– А я, что, не добрый? – обескураженно воскликнул Растрёпка, считавший себя настоящим добряком и другом малышей. Он быстро взял себя в руки:
– Котёнок, ты что, меня разозлить хочешь? Если у меня сейчас же не будет рецепта, как снять с Толика вашу бабскую порчу, твой кролик умрёт. Всё равно, он бесполезный.
– А кролик-то тут причём? – ведьма повернулась к Растрёпке всем корпусом и изумлённо уставилась на него, уперев обе руки в бока.
– А кролик заставит тебя говорить! – Растрёпка всегда ликовал, если думал, что его методы работают.
– Навредишь кролю, – по китайскому календарю, тебе ещё двенадцать лет счастья не будет. А мне сказать совершенно нечего в ответ на этот бред, – шокирующе хладнокровно ответила ведьма, сама поразившись собственной доблести. Ей было немного страшно за кролика, от Растрёпки можно было ожидать чего угодно.
– Да не буду я его резать, я пошутил, – внезапно поникнув, печально произнёс Растрёпка, бросил нож и сел на табурет; его руки безвольно повисли. Угрожать кролику стало не интересно.
– Ты хочешь знать правду? – спросил Растрёпка, заглядывая ведьме в глаза.
– Какую? – испугалась ведьма.
– Настоящую. Про меня.
– А чего я ещё не знаю?
– Солнц, мне пофиг на Толика, я не для него заговор прошу, я наврал тебе. Я хочу тебя зачаровать. Я так люблю тебя, солнце, я боюсь тебя потерять, – Растрёпка шумно поднялся с табурета. Ведьма подумала, что он сейчас обнимет её, как он обычно делал в минуты таких признаний. Но, Растрёпка прошёл мимо, схватил бутылку и опрокинул в себя остатки малбека.
Передёрнувшись, он продолжал:
– Солнце, ты думаешь, я не знаю, что я – сволочь? Знаю я и боюсь каждый день, что приду домой, а тебя – нет. И всего этого нет, и я опять один. Я же не могу без тебя жить, солнце…– Растрёпка опустил лохматую голову себе на грудь и помотал ею, еле удержавшись, чтобы не глянуть на производимый эффект.
– Можешь, – ответила ведьма, вновь удивившись собственной твёрдости, и сняла фартук.
Растрёпка, ожидавший тёплого дождя ведьминой ласки, поднял голову, и, не дождавшись, разочарованно осмотрелся. С ней было что-то не так.
– Вообще, да. Могу. Я сам бы от меня давно ушёл, – резюмировал он.
– И я уйду, – ответила ведьма.
– Вот! Поэтому, мне нужен рецепт приворота. Давай, может, паучьих лапок нажарим, солнц?
Не услышав ответа, Растрёпка плюхнулся на диван и включил игровую приставку.
– Приворожила же, сволочь. Ну, признайся уже, – ругнулся он себе под нос.
– Что тебя привораживать? Сам пристал, как банный лист! – прозвучало из кухни.
– Нет-нет, ты ослышалась! Я сказал, что очень люблю тебя и хочу кушать. Ты приготовь поскорее что-нибудь вкусненькое, сейчас же твой сынуля придёт, и мы с ним повеселимся! – Растрёпка одну за другой примерял свои самые эффективные роли, на полном серьёзе считая себя мастером простых манипуляций бабьим мозгом и большим знатоком женского сердца.
С начинкой
Лето уже отдало городу всё, что могло и уступило место тонкой чаровнице осени. Деревья ещё не пожелтели, но, местами озолотились и от этого стали будто стройнее. Они уже не заглядывали в окна, как летом, а величаво красовались, готовясь удивлять своими нарядами. Дома уютно пахло яблочной шарлоткой и кофе. Стеклянный стол в маленькой столовой был накрыт бежевой скатертью, на которой голубая посуда смотрелась яркой, как майское небо. Сидя за столом, Растрёпка недоверчиво крутил в руках сонограмму – распечатанный прямо с экрана снимок, на котором, подобно двум белым горошинам в чёрном стручке светились головка и тельце одиннадцати недельного зародыша.
Жена не бросила его и не уехала в Россию, как собиралась. Напротив, она осталась с ним в штатах, да ещё и оказалась беременной. Румяная, аппетитно присыпанная сахарной пудрой недоеденная шарлотка на овальном блюде немного беспокоила Растрёпку, но, мысли о будущем портили аппетит.
– Слышь, солнце… – голос Растрёпки звучал тихо и задумчиво, – а когда это уже будет, ребёнок?
– В марте, – Катерина наливала сливки в горячий чай, от которого через весь стол пахло ирисками.
– Так это и есть моя дочь на фотографии? – Растрёпке не верилось, что это вновь с ним происходит. В его жизни уже была сонограмма, похожая на стручок с горошинками, и в Лондоне, если верить слухам, подрастал его сын, Алёшка.
– Может, и не дочь, а мальчик. Пока рано определять пол, через пару месяцев узнаем, – ответила Катерина.
– Нет, я хочу дочку. А пораньше никак нельзя определить? Чтобы можно было, ну, ты поняла, закрыть эту тему, если это пацан.
– В смысле – «закрыть тему»? – Катерина почувствовала, как кровь прилила к её лицу.
– В прямом. Я только дочку хочу, пацан у нас уже один есть в семье. А девочку моя мать хочет, можно будет ей отдавать пожить.
Катерина на секунду закрыла лицо руками, потом резко поднялась из-за стола.
– Ты куда пошла? Тебе, что, плохо? – встрепенулся Растрёпка.
– Да, меня тошнит.
– Ну так сблевни, Кать! Хочешь, я волосы тебе подержу?.. Кать, извини! Я пошутил! Ну ты что, как маленькая? – Растрёпка поспешно затолкал остатки шарлотки себе в рот, запил Катиным ароматным чаем со сливками и кинулся за ней в спальню.
Вечерело. Катерина легла на кровать и принялась искать что-то в телефоне. Растрёпка подобрался к ней и улёгся рядом, свернувшись калачиком и обхватив её правую руку.
– Катюня, Ка-ать… – он говорил мягким, вкрадчивым голосом, – Катюнчик мой, ну, что ты обиделась сразу-то. Я с дуру сболтнул, с кем не бывает? Я ж молодой у тебя ещё, ты не обижайся сразу. Любимая ты моя, солнышко!
Обычно Катерина всегда сдавалась, или, как говорил Растрёпка, плавилась от его нежности. Но, на этот раз, она почему-то не поддалась.
– Убери руки, мне неприятны твои прикосновения, – сказала она; это звучало очень странно. Возможно, гормоны?
– Не уберу я руки! Я – твой муж, сколько хочу, столько и трогаю тебя! – ответил Растрёпка и крепко обнял её неожиданно упругое от напряжения тело.
– Пожалуйста, оставь меня в покое! – взмолилась Катерина.
– В каком покое? Ты зря, что ли, лежишь тут такая красивая и грустная? Давай лучше пошпилимся жёстко, может, скинешь, – с этими словами Растрёпка принялся раздевать жену.
Катерина пришла в оцепенение от охвативших её чувств возмущения и бессилия. Она всё ещё училась настаивать на своём. По опыту она уже знала, что, если сейчас дёрнуться, он сделает очень больно. От нахлынувшей ненависти к этому подонку сердце вдруг застучало высоко в горле, и виски будто налились кипятком. Нет, это не хорошо, ребёнку не нужны такие эмоции. Катерина закрыла глаза и попробовала представить себе зиму, тёплый свет оранжевых фонарей и мириады пляшущих под ними снежинок. Мама везёт её на санках по заснеженной улице старинного русского городка.
– Кать, ты что, мертвятиной прикидываешься? Фу, Кать, проснись! У меня ж теперь на тебя не встанет никогда после этих фокусов. Слышь, Ка-ать!
Растрёпка принялся тормошить жену, но, Катя упорно отказывалась открывать глаза. В её висках застучала боль. Тогда Растрёпка решил прибегнуть к своему «секретному оружию», – он приподнялся над женой и крепко зажал ей нос. Катерина немедленно раскрыла глаза и рот и закричала, из её глаз брызнули горячие слёзы.
– Кать, ты не хочешь шпилиться, я смотрю? Понимаю, у меня тоже пропало желание греть твои старые кости. Может, в пасть тебе закину, но попозже, мне сначала надо от шока оправиться. Я тебя такой страшной ещё не видел! – Растрёпка был доволен тем, что на лице Катерины читались эмоции.
– Кать, давай, поговорим?
– Я хочу побыть одна. Ты можешь оставить меня в покое? Хотя бы, на пару часов, – в голосе Катерины звучала мольба. Она поднялась с кровати и села на пол в углу спальни.
«Тряпка вонючая» – с раздражением подумал Растрёпка, глядя на слишком рано округлившуюся жену.
– Зачем тебе пара часов без мужа? Пойдём, в кино сходим, милая, – Растрёпка не хотел оставлять её одну в расстроенных чувствах. На таких эмоциях она могла выйти из-под его контроля, – собирайся, а я машину заведу и покурю пока, – приказал он и вышел.
Катерина опять легла на кровать и закрыла лицо руками. Чувства ненависти к мужу и презрения к себе туго пеленали её по рукам и ногам, стягивая и не отпуская. Идти с ним было легче, чем сопротивляться ему. Катерина вдруг вспомнила Тимофея, свою предыдущую беременность, которая оборвалась, когда Растрёпка избил её во время очередной ссоры. Отчётливо, Катерина вновь увидела перед своими глазами те алые капли крови, расплывающиеся в душе по белому кафелю под её ногами; это было больше года назад. К горлу подступила солёная тошнота. Нет, эту беременность она сохранит, во что бы ни стало.
Катерина зашла в ванную и посмотрела на своё отражение. Припухшие веки выдавали страдания. Она принялась наносить макияж, за этим её и застал внезапно вошедший Растрёпка.
– Солнце, ты долго ещё тут телиться собираешься? Я уже заждался тебя, – от Растрёпки несло куревом и бензином. Подкатила очередная волна тошноты, но, Катерина сумела её побороть.
– Слушай, солнце. Я тут вот о чём подумал: ты ведь старая уже, а вдруг, Даун получился? Это дело нельзя запустить, – физиономия Растрёпки выражала озабоченность.
– Не поняла, – Катерина обратила на него свой усталый взгляд.
– Что тут понимать? Если у тебя от старости Даун получился, надо делать аборт.
– Почему?
– Потом, что таких не рожают.
– Ну, тебя ж родили, – Катерина не сдержалась и тут же пожалела о своём ехидном комментарии. Растрёпка размахнулся и от души выдал ей пощёчину. На белой щеке немедленно проступила алая пятерня.
– Проси прощения, сучка, – злобно сквозь зубы процедил Растрёпка, намотав длинные волосы Катерины себе на кулак. Катерина вскрикнула от боли и схватилась было за кулак Растрёпки, но мучитель тут же вывернул её руку своей свободной рукой. Катерина закусила нижнюю губу, по её лицу текли крупные слёзы. Растрёпка с силой дёрнул жену за волосы:
– Корова, тебе не ясно? Сморозила чушь, теперь проси прощения, иначе так в туалете и просидишь до завтрашнего дня.
Катерина не отвечала.
– Понятно. Курицу опять учить надо. Поспи здесь, пока я в кино схожу. Растрёпка с силой отшвырнул Катерину от себя и вышел из ванной, закрыв дверь снаружи и подперев, для верности, тумбочкой так, чтобы ручку нельзя было повернуть вниз. Потом он выключил свет во всех комнатах, закрыл квартиру на ключ, и, усевшись на крыльце, закурил.
Немного поразмыслив, он вернулся домой, разыскал телефон жены и, вытащив из него батарею, надёжно спрятал его в морозильнике между пачками пельменей. Он заглянул в холодильник и, обнаружив там фаршированные мясом блинчики, не раздумывая, сунул два в карман ветровки. Затем он открыл электрический щит и выключил свет в квартире.
– Отдохни в темноте, дорогая! – выкрикнул он. Выходя, Растрёпка взял со стола сонограмму с горошинками и аккуратно положил в свой бумажник.
В темноте, да не в обиде
На душе у Растрёпки было смутно. Мысли о зародыше не давали ему покоя. С одной стороны, ребенок был очень кстати; с двумя детьми на руках эта корова далеко не уйдёт. С другой, если, всё-таки, уйдёт, ему придётся платить алименты, да и работать на него она уже не будет. Нет, терять жену не выгодно. Хотя, конечно, от жены там одно только название. Нормальная жена не то, что хамить мужу, она перечит ему не будет, а эта бабенция – себе на уме. Растрёпка уже третий год пытался её сломать, и, вроде, ему это почти удалось, но, откуда же снова лезет дерзость?
В принципе, он управлял женой довольно умело. За время их совместной жизни Растрёпка уже разработал несколько эффективных инструментов воздействия на эту курицу. Пригрозить жалобой на сексуальные домогательства к сыну, – коронный номер! Ребёнку восемь лет, а она к нему ванную входит, это же не нормально. Немного приукрасить этот факт в беседе с ментами, и вот уже наша красавица остаётся без прав на своего любимого сыночка. А это, кстати, вариант! Пендос Барин становится любящим отцом, забирает пацана к себе. Стоп, а алименты? Нам же придётся платить Барину алименты в этом случае. Нет, не годится, надо придумать что-то ещё выгоднее.
Размышляя таким образом, Растрёпка приехал в кинотеатр. Без удовольствия сунул двадцатку в круглое отверстие кассы, получил сдачу и, минуя прилавок с горячим попкорном и шипящей кока-колой, отправился в зал.
Фильм был неплохим, захваченный сюжетом Растрёпка почти забыл о будущем ребёнке, томящемся внутри пленницы, запертой в ванной без света. Справа от него сидела толстая девушка, от которой очень приятно пахло то ли шампунем, то ли духами. Этим толстые очень нравились Растрёпке: как правило, полные девушки всегда ухожены, с чистыми, душистыми волосами, идеальным маникюром, гладкими ножками и такими же аккуратными, как булочки, лобками. Девушка удалилась и вскоре вернулась в зал с ведёрком попкорна и большим, моментально запотевшим стаканом с газировкой. От запаха горячего попкорна Растрёпке захотелось есть. Он засунул руку в карман своей итальянской ветровки секонд-хенд, достал блин, фаршированный мясом и луком и с аппетитом съел его. Потом он съел и второй, на этом блины в кармане закончились. Растрёпка покосился на свою полную соседку. Она, не отрывая взгляда от экрана, доставала попкорн и аккуратно отправляла его в рот пальцами с безукоризненным маникюром. Растрёпку вдруг одолела жажда. Толстая девушка держала ведёрко с попкорном левой рукой, слева же в подлокотнике стоял её стакан с газировкой. Девушка наклонила голову к стакану и, обхватив соломинку губами, втянула в себя немного напитка. По запаху Растрёпка определил, что это была кола. Ему страшно захотелось запить блины с мясом; ещё секунду помедлив, Растрёпка решил рискнуть. Уверенным движением он взял из подлокотника девушки стакан с напитком, поднёс поближе к себе и, поймав губами трубочку, еле заметно пахнущую вишнёвой помадой, с наслаждением отведал колы. Затем он, как ни в чём не бывало, поставил стакан обратно в подлокотник. Девушка перестала хрустеть попкорном и, не глядя на Растрёпку, протянула ему стакан:
– Можете забирать. Я оттуда больше точно пить не буду.
– О, большое спасибо! Извините, я просто задумался, – ответил довольный раскладом Растрёпка и принял напиток. Внушительного размера стакан был полон больше, чем наполовину.
– Это тоже можете забирать, у меня пропал аппетит, – сказала девушка и вручила Растрёпке ведёрко с попкорном; там тоже оставалось ещё довольно много.
– Спасибо, я всё это съем, – улыбнулся Растрёпка.
– Не сомневаюсь, – брезгливо ответила девушка и поднялась со своего места.
– Я спас тебя от лишнего целлюлита! – воскликнул Растрёпка.
– Мудак, – флегматично ответила девушка, уходя.
Растрёпка с наслаждением вытянул ноги и закинул себе в рот хрустящего попкорна. «Жизнь полна милых бонусов, надо просто не стесняться их брать», – подумал он.
После кино, отдохнувший и подкрепившийся Растрёпка отправился на дискотеку. Принять душ перед выходом из дома ему не удалось, поэтому, оказавшись в ночном клубе, он первым делом отравился в туалет, где опорожнил кишечник, тщательно вымыл руки, умылся и прополоскал рот. Возле стойки бара толпились американцы. Невысокий паренёк в светлой рубахе и бейсболке, надетой задом наперёд, отмечал свой день рожденья. И он, и его гости были уже порядком пьяны, они весело шумели и пили маленькие коктейли «водка с желе».
– С днём рожденья, Скотт! – кричали девушки и чокались.
Растрёпка мгновенно оценил ситуацию как располагающую к бесплатной выпивке. Он подошёл сзади к имениннику, крепко обнял его и завопил: «Скотт! С днём рожденья, брат мой! Извини, что опоздал, я только с работы».
Американец, шатаясь, тепло обнял его и приказал бармену: «Кори, налей водки моему брату!»
– Вам какой, сэр? – вежливо спросил бармен.
– Столичной, с апельсиновым соком, пожалуйста, – не менее вежливо ответил Растрёпка.
Симпатичная, маленькая и юркая, похожая на мышку девушка втиснулась между Растрёпкой и именинником и кокетливо произнесла:
– Скотти, почему бы тебе не познакомить меня со своим другом.
– А, я сам забыл, кто это… – рассеянно произнёс Скотти и рассмеялся.
– Да ты что, братан! – заорал Растрёпка, – мы учились вместе! Я – Иен, поляк, ты вспомнил?
– А, точно, Иен. Русский парень, теперь я вспомнил. Мы вместе ездили в Лондон на весеннюю четверть, да? – Скотт наморщился, пытаясь что-то вспомнить.
– А я не помню тебя в Лондоне, – вдруг вставила серьёзная, крепко сложенная девушка в очках, стоявшая рядом.
– А вас как зовут? – спросил Растрёпка мышку, проигнорировав вопрос очкастой.
– Меня зовут Сэра! – воскликнула девушка и ухватила с подноса проходящей мимо официантки стопку желе с водкой.
– Девять долларов, – сухо щёлкнул бармен, подвигая к Растрёпке коктейль.
– Я заплачу, – обречённо махнул рукой Скотти, опираясь на барную стойку обеими руками.
– Твоё здоровье, брат! С днём рожденья ещё раз! – радостно воскликнул Растрёпка и с наслаждением выпил бесплатную «отвертку».
– Пойдём, потанцуем, – услышал он голос мышки и тут же ощутил в своей руке вскользнувшую в неё маленькую ладошку. Через минуту они уже танцевали в кругу незнакомых и от этого таких симпатичных Растрёпке людей. Мышка двигалась под музыку очень грациозно, слишком грациозно для того, чтобы предпринимать следующий шаг, решил Растрёпка.
– Пойдём, я тебе что-то покажу, – таинственно произнёс Растрёпка на ухо мышке, – заодно, отдохнём!
Сэра повиновалась.
Вновь оказавшись у барной стойки, Растрёпка заботливо спросил её:
– Что ты хочешь будешь пить?
– Спрайт, – ответила мышка, – мне надо трезветь.
– Спрайт с водкой, – подмигнув, заказал Растрёпка.
– Хаус? – уточнил бармен.
– Ага, – кивнул искуситель.
– Эй, подруга, смотри в оба. Он тебя спаивает! – заметила сисястая негритянка неопределённого возраста, сидящая рядом с мышкой.
– Я не спаиваю, а угощаю! У меня есть повод! – возмутился кавалер и достал из бумажника сонограмму с зародышем, – смотрите! Я скоро буду папой!
Глядя на стручок с двумя горошинами, негритянка сразу разулыбалась, сверкая редкими зубами:
– Ох, какая прелесть! Это твой малыш?
– Да, это – моё маленькое счастье, – трепетно произнёс Растрёпка, с удовольствием отмечая, как млеют женщины вокруг, глядя на его снимок.
– Это потрясающе! Дай посмотреть! – мышка отобрала у негритянки сонограмму и восторженно уставилась на неё.
– Шесть долларов, – констатировал бармен, подвинув Растрёпке стакан с самой дешёвой водкой и спрайтом.
– Ещё два таких же, и я заплачу за все три!– воскликнула негритянка.
– Ну, что вы! Не стоит, – деланно возразил Растрёпка.
– Как это – «не стоит»? Сейчас выпьем все вместе, поздравляю тебя. Молодой отец! – настаивала негритянка, – эй, ребята! У нас тут папаша новый празднует!
С обеих сторон барной стойки раздались восторженные женские возгласы.
«На ловца и зверь бежит», – с удовольствием подумал виновник торжества.
Ничто так не льстит подвыпившим женщинам. Как перспектива соблазнить отца семейства.
– Послушай, давай уйдём отсюда, поговорим без этого грохота, – предложила мышка, выпив коктейль, и облизала пересыхающие губы. Ей не нравился интерес, который проявляли женщины в клубе к её новому другу.
– Как насчёт твоих друзей? – предусмотрительно справился Растрёпка, – они тебя не потеряют?
– Мои друзья, – Сэра пренебрежительно махнула рукой, – Скотт уже давно пьяный, а все остальные просто хотят с кем-нибудь потрахаться.
Машина Растрёпки была запаркована в переулке у закрытого итальянского ресторана. Он открыл дверь и впустил мышку на заднее сидение. Внутри у донжуана всё клокотало от восторга, он ощущал себя охотником, заполучившим заслуженную добычу.
– Иди сюда, детка, – ласково произнёс он, и мышка, дыша лимонным перегаром, оказалась у него на коленях.
– Я всегда мечтала попробовать секс с русским, – призналась Сэра, немного скосив глаза.
– Сейчас я буду русским для тебя, дорогая, – ответил Растрёпка и запустил руку под короткое шерстяное платье.
– Сладкий, у тебя есть защита? – спросила Сэра, с трудом оторвавшись от восхитительных поцелуев её нового русского партнёра.
– Какая защита? – недоуменно спросил Растрёпка.
– Гондон. У тебя, что, нет гондонов? – мышка вытаращила удивлённые глаза, но они тут же скосились к носу.
– Ты что, не принимаешь таблетки?
– Нет, к сожалению, нет… Но, я хочу тебя. Мой русский парень… – Сэра опять прильнула к губам своего героя. Растрёпка сосредоточился на поиске клитора, в надежде, что тот поможет ему убедить девушку довести дело до конца и без презерватива. Но, с американкой номер был практически обречён; их со школы приучили к гондонам.
Под платьем девушки было мокро. Слишком мокро, там хлюпало. Растрёпке вдруг стало противно, он ощутил, что его член теряет напряжение. «Без паники», – мысленно приказал он, а вслух произнёс:
– Котёнок, поцелуй меня в него…
– Доставай, – с готовностью ответила мышка.
Стёкла в машине начали запотевать от их возни. Растрёпка подумал, что надо бы завести и включить обдув, но, мышка, неумело расстёгивающая его брюки, отвлекала. Донжуан осмотрелся и, не увидев поблизости ни зевак, ни полиции, с облегчением откинул голову назад в предвкушении чуда. Долго ждать не пришлось, мышка добралась до его члена и вдруг внезапно отпрянула, издав отчаянный визг.
– Тихо! – приказал Растрёпка и инстинктивно свёл колени и закрыл почти мгновенно обмякший член обеими руками, – что случилось?
– Ты необрезанный! Это мерзко! – лицо Сэры было перекошено миной брезгливости. Растрёпка совершенно растерялся и вдруг почувствовал приступ тошноты.
– А ну, пошла вон отсюда, сучка американская! – прошипел он и с силой выпихнул девушку из машины.
– Слоновий хобот! Черепашка в водолазке! – выкрикнула девушка, убегая в темноту на заплетающихся ногах.
Выбор торта
Катерина слышала, как захлопнулась дверь за её мучителем. Двигаясь наощупь в полной темноте, она подошла к двери и, приложив к ней ухо, прислушалась. Первым она услышала стук собственного сердца, затем – рык знакомого мотора: Растрёпка уехал. Пленница подёргала за медную ручку двери, но та не поддавалась. Растрёпка воткнул снаружи в замок шестигранный ключ и для верности подпёр его прикроватной тумбочкой.
– Помогите! Помогите! Я заперта! – Катерина начала отчаянно колотить по двери и звать на помощь. Дом, в, котором они жили, вмещал в себя шесть квартир, но их квартира была крайней справа, поэтому, единственной надеждой было достучаться до соседки – престарелой миссис Магнуссон, вдовы вьетнамского ветерана, которая была домоседкой и, наверняка и сейчас находилась у себя.
– Помогите! Пожалуйста! Кто-нибудь! Позвоните в полицию! – Кричала Растрёпкина пленница. Старушка Магнуссон страдала от гипертензии, поэтому кофе она пила только декафеинизированный. Её кухня имела стену смежную с ванной, в которой отчаянно колотила в дверь Катерина, а спальня старушки приходилась как раз на спальню супругов Гриценко. Вдове вьетнамского ветерана было прекрасно известно, что Растрёпка бьёт жену, но, Господь не разрешал ей вмешиваться в чужие семейные дела. «Жена да учится в безмолвии», – помнила вдова слова Писания, определявшие её место в семье; покоряться мужу и служить ему верно и безропотно Лилиен Магнуссон научили ещё в середине двадцатого века, в её родном лютеранском приходе.
Возгласы, ругань и прочие звуки, доносящиеся сквозь стену от соседей, вдова Магнуссон воспринимала как нормальную и неотъемлемую часть семейной жизни; мистер Гриценко учил свою жену кротости, как и полагалось усердному мужу. Покойный сержант Магнуссон, вернувшись из вьетнамских джунглей без ноги, дома давал волю своему отвратительному характеру, с удобством обосновывая своё недостойное поведение пост-травматическим синдромом. Он издевался над женой, как только мог, и дочь венгерского священника безропотно сносила все мучения, утешая себя мыслью о сокровище на небесах. Когда ветерана-мучителя не стало, семидесятилетняя вдова, наконец, обрела вкус к жизни и начала позволять себе разные удовольствия; декафеинизированный кофе был одним из них.
К кофе вдова обычно предпочитала кусочек торта: особенно ей нравились «чёрный лес» и «лимонный шифоновый бисквит». Нужно отметить, что сладкое миссис Магнуссон позволяла себе только один раз в сутки, вечером, и весь день был наполнен ожиданием лакомства.
Обе стрелки часов оказались на восьмёрке, и вдова Магнуссон отправилась на кухню, чтобы, следуя своему волшебному ритуалу, сварить себе насыщенный и ароматный, но не вредящий её здоровью бразильский декаф. Она аккуратно всыпала тёмно-коричневые зёрна в резервуар хромированной кофеварки – подарок дочери – и нажала кнопку «включить». Пока машина работала, крики соседки были слышны не слишком явно, но, вскоре машина зашипела и умолкла, выпустив в кухню благоуханную волну кофейного аромата, а соседка, миссис Гриценко, всё никак не могла успокоиться. Через стену можно было отчётливо слышать, как она ломится в дверь ванной и отчаянно просит о помощи. Вдова Магнуссон покачала головой, подумав о том, как же необходимо этой неразумной женщине научиться спокойствию и долготерпению, иначе, не только её отношения с мужем, но и нормальная жизнь соседей окажется под серьёзной угрозой. Старушка налила себе кофе в элегантную чашку, поставила её на блюдце и открыла холодильник, чтобы принять решение – воздушный шифон либо дышащий сказкой шоколадный бисквит с вишнями. Миссис Гриценко вновь забилась в истерике за стеной, и вдова Магнуссон была вынуждена сделать выбор в пользу «чёрного леса», так как, помимо сказки, он дышал ещё и ликёром.
Старушка поставила кофе и кусочек торта на стол и приглушила свет в столовой. В особо приподнятом настроении она любила пить кофе и при свечах, но, сегодня, это не принесло бы такого удовольствия, всё благодаря этой русской соседке. «Помогите! Пожалуйста! Помогите!» – продолжала кричать соседка, тарабаня в дверь. Вдова посмотрела на торт, вдохнула его аромат и сделала глоток кофе. О, это была замечательная увертюра к десерту. «Бразил сантос» – зёрна этой марки стоили не слишком дорого, но, по вкусу напиток не уступал «Лучшему кофе Сиэтла» и «Старбаксу», по мнению вдовы. Миссис Магнуссон зацепила серебряной вилкой кусочек сочного, пропитанного ликёром бисквита и отправила себе в рот, немедленно ощутив растворяющуюся на языке симфонию вкусов – шоколадного, сливочного, вишнёвого и тёплый, еле заметный привкус мадагаскарской ванили.
«Позвоните в полицию! Я умоляю!» – Гриценко никак не унималась. Но, судя по продолжительности и энергичности её жалоб, ничего особо страшного ей там не грозило, да и здоровья у этой красавицы, хоть отбавляй. Всё же, взгляд вдовы упал на красный телефонный аппарат, накрытый кружевной салфеткой и безмолвно покоящийся на стеклянном столике в коридоре. Подумав хорошенько, миссис Магнуссон отпила ещё кофе и, сложив бледные венистые руки, добросовестно и с большим чувством прочла молитву святого Франциска Азисского:
«О, небесный Владыка,
ПОМОГИТЕ!
Даруй мне не столь стремиться
Я УМОЛЯЮ!
Быть утешенным,
ПОЖАЛУЙСТА!
Как утешать,
Быть понятым,
ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!
Как понимать,
Быть любимым,
Как любить,
Ибо в даянии мы приобретаем,
В прощении нам прощается,
И в умирании мы рождаемся к вечной жизни.
Аминь.»
Прочитав молитву, миссис Магнуссон умиротворилась, осознав, насколько греховны крики её соседки, выносящие сор из избы молодой семьи и продиктованные лишь эгоизмом самой миссис Гриценко. Старушка вновь принялась за торт, с сожалением отметив, что кофе успел порядком остыть, пока она молилась по вине этой бесноватой.
Справедливости ради, стоит отметить, что святой Франциско времени даром не терял, и, в ответ на молитву вдовы, угомонил её соседку. И, всё же, покончив с тортом, миссис Магнуссон не ощутила себя до конца удовлетворённой. Она прошла в зал, достала из комода бутылку бренди и хрустальную рюмку и включила Элвиса.
В квартире через стенку Катерина устала ломиться в дверь и, внезапно обессилев, опустилась на пол. Вопреки её ожиданиям, глаза не привыкли к темноте, лишь в висках заломило от напряжения. Хотелось пить. Осторожно передвигаясь, она подошла к умывальнику и включила холодную воду. Вода пахла хлоркой, но на вкус была вполне терпимой. Боль в висках не унималась; Катерина открыла шкафчик над умывальником и нащупала в нём таблетки. Приняв две ацетаминофена, она запила их водой и опять села на пол.
Сидеть на клейком линолеуме было неудобно, а от прорезиненного коврика неприятно пахло. Катерина вновь поднялась и, достав из встроенного в стену ванной шкафа все полотенца, которые там были, соорудила себе из них подобие постели. Кое-как устроившись на этом гнезде из полотенец, она притихла и начала размышлять. А ведь малыш тоже сейчас сидит в полной темноте. Интересно, как он ощущает себя внутри? Катерина свернулась в позе зародыша и закрыла лицо обеими руками, почувствовав приятный запах малинового мыла. Перед её плотно сомкнутыми глазами внезапно возник сад, весь излучающий радужное свечение, которое играло и переливалось, звеня то ли детскими, то ли эльфийскими голосами. Будущей матери вдруг стало невыразимо стыдно за её настроение, несдержанность и поступки. Все сложности с мужем, его поведение и непонимание оказались совершенно ничтожными по сравнению с этим чудесным садом, в котором диковинные цветы кивали головками в такт смеху тоненьких голосов. Катерина обхватила живот руками, пригрелась и заснула, блаженно подумав о том, что её головная боль растворилась в этом волшебном саду.
Луна
От обиды и злости Растрёпка протрезвел. Он вылез из машины, отошёл в переулок и тщательно помочился. Оказавшись вновь за рулём, Растрёпка сунул себе в зубы сигарету, и вдруг его ноздри расширились, поймав подозрительный запах. Пахло железом и немного рыбой. Выплюнув сигарету, Растрёпка поглядел на свои руки и ужаснулся, – они были испачканы в кровь. Месячные.
Тошнота поднялась из желудка девятибалльной волной, Растрёпка едва успел открыть дверь машины, как поток рвоты обрушился на асфальт, расплескавшись ему на джинсы и даже попав в салон. Крепко выматюгавшись сквозь мучительный кашель, Растрёпка завёл двигатель, размышляя, где ему лучше отмыться. Возвращаться в клуб вонючим, с заблёванной штаниной – не вариант, хотя, туалет там был, конечно, что надо. Ехать на заправку – невыгодно, да и небезопасно, в ночь с пятницы на субботу на автозаправках в Сиэтле можно найти себе на задницу незабываемые приключения. Подумав с минуту, Растрёпка решил ехать домой. Там – комфортно, бесплатно, жена обезврежена, одним словом – самый выгодный ход. Зубами брезгливо вытянув сигарету из пачки, Растрёпка всё-таки закурил и включил радио. Перед ним мелькали дома погружающегося в осень ночного Сиэтла, их уютные дворики, аллеи. Наконец, уставший, он выехал на ровный хайвэй и с наслаждением вдавил педаль газа. Однако, долго радоваться ему не пришлось, – впереди показались мигалки полицейских машин, и Растрёпка сбросил скорость. Миновав легавых, герой вдруг ощутил, что внутри него заскребло странное чувство. Внимательно прислушавшись к себе, он понял, что это гадкое чувство – страх. Растрёпке было боязно, что, сейчас он приедет домой, а во дворе – машины с мигалками, его скручивают и забирают в тюрьму, ведь закрывать жену в ванной – это, наверняка, – нарушение какого-нибудь местного закона. Подъезжая к дому, Растрёпка выключил радио и погасил фары. С радостью обнаружив, что никакой полиции нет и в помине, он запарковал машину на стоянке под окном и зашёл в квартиру. «Дорогая, я дома!» – с порога провозгласил блудный муж и, прошагав до щитка, включил электричество. Вздрогнув, загудел холодильник, щёлкнул и загорелся задорным красным огоньком индикатор включения в сеть на роутере. Дома было так хорошо и уютно, что Растрёпка с порога пожалел о том, что рассорен с женой. Сейчас лучшим в мире было бы принять душ и оказаться вместе с ней под её удивительно лёгким белым пуховым одеялом. Но, от джинсов воняло рвотой, а руки были перепачканы в менструальную кровь случайной подруги из ночного клуба, так что, о постели с женой сейчас не могло быть и речи.
Он быстро снял грязные джинсы, скомкал их и засунул в стиральную машину, потом закинул туда же носки, от души плеснул жидкого стирального средства и пошёл на кухню. Вымыв руки и прополоскав рот, Растрёпка достал из холодильника оставшиеся фаршированные блины и, даже не разогревая, поспешно съел их один за другим. Затем он выпил бутылку жирного молока и, выразительно отрыгнув, прилёг на диване в зале. Растрёпка прислушался: если не считать мерного гула холодильника, в квартире было тихо. Пасынок находился у Барина до вечера воскресенья. Желудок вдруг сдавило жестоким спазмом, Растрёпка сел, согнувшись в три погибели, пот проступил у него на лбу. Спазм прошёл так же внезапно, как и появился, с шумом высвободившись из организма. Но, жену из туалета нужно было выводить. Неохотно, в одних трусах Растрёпка пошёл освобождать свою пленницу.
Он отодвинул тумбочку, подпиравшую дверную ручку и вытащил шестигранный ключ из замка. Испытывая невероятное волнение, Растрёпка открыл дверь и обнаружил жену мирно спящей на груде полотенец, укрытую цветастым пляжным покрывалом. Больше от страха за свою собственную участь, чем из эмпатии, Растрёпка присел на корточки возле Катерина и ласково потрепал её за плечо:
– Катюня… Катюнчик… Пошли в кроватку?
Жена, щурясь от яркого света, открыла глаза, посмотрела, будто присматриваясь, на Растрёпку и, безмолвно и медленно, словно нехотя, перебралась в кровать. Растрёпка закрылся в ванной и некоторое время рассматривал в зеркало небольшой прыщик, непонятно откуда появившийся на левой щеке. Затем он разделся и встал под обжигающе горячий душ. На удивление, после клуба ему не хотелось мастурбировать. Из головы не шла мерзкая американская мышка, которая нашла изъян в его красоте.
Член немного увеличился в размере от потоков горячей воды, хлыщущей из включенного на полную силу душа. Растрёпка убавил мощь воды и бережно намылил его. Всё равно, никакого драйва.
Растрёпка вышел из душа, с раздражением подобрал с пола одно из полотенец, свитых в гнездо для этой старой курицы и включил вентилятор. Протерев запотевшее зеркало краем полотенца, он ещё раз пристально изучил неожиданный прыщик и, огорчённый, уселся на унитаз. Но, тут он понял, что соло перформанса сейчас не получится, потому что телефон он забыл в машине на зарядке, а он был нужен для того, чтобы смотреть порнографические ролики. Растрёпка выключил вентилятор, достал из шкафа клетчатые пижамные штаны и футболку «живу ради дабстепа», тщательно зачесал назад мокрые кудри и вышел из ванной. Жена спала, либо делала вид, что спала. Срок беременности был ещё небольшим, но всё её тело теперь казалось Растрёпке бесформенным и неприятно мягким. А что, если бы у него, как у араба, было две жены? Вот это был бы праздник! Пока одна, беременная, готовит и занимается домом, вторая могла бы заниматься его членом. Растрёпке невыносимо хотелось лечь в постель, но, забытый телефон заставил его выйти к машине.
На улице пахло осенью, над крышей соседнего дома висела луна, удивительная и нежная, похожая на лицо снисходительно улыбающейся доброй девушки. Растрёпка засмотрелся на небо и поймал губами прихваченную по дороге сигарету. Он курил и размышлял, глядя на кусок Земли, оторвавшийся от удара метеорита и навеки зависший на земной орбите, как жена возле своего мужа. Почему все девушки не могут быть такими, как луна? Почему они не могут всегда так загадочно и ласково улыбаться? Вместо этого, женщины обижаются, злятся, кричат, оскорбляют и унижают мужчин, чтобы отомстить им за задетое самолюбие. Но, луна безмолвна, она никому не мстит, а, лишь, приносит пользу – радует ночью своей простой и одновременно изысканной красотой. Есть дни, когда луна сияет и полнится очарованием, а иногда её совсем не видно. Почему жена не может быть такой же? Почему она всегда должна быть рядом, со своим сарказмом, ироничной усмешкой, эти гадким, унизительным чувством юмора? Как сделать жену похожей на луну?
Растрёпке понравилось его собственное поэтическое сравнение. Он достал из машины холодный телефон и, отметив с сожалением, что батареи в нём всего пять процентов, а значит, посмотреть и пары роликов не получится, вернулся домой.
Американская трилогия
В три часа ночи на земле господствуют тёмные силы, и лишь Иисус Христос да Элвис способны их превозмочь. Два короля, две святыни, глядящие в вечность. Иисус и Элвис, но, их хватает не на всех. Поэтому, когда безбожники задаются своим богохульственным вопросом: «Если Бог есть, почему же он допустил…», миссис Магнуссон говорит им: «Заткнитесь. Вы, просто, ничего не знаете о тех, кого спасли прошлой ночью».
Вдова проснулась задолго до рассвета, очнувшись от тревожного сна. Элвис являлся к ней нечасто, и только для того, чтобы оповестить её о чём-то важном, потому, что знал, – был единственным, кому Лилиен доверяла.
Король посетил вдову во всём своём великолепии; ослепительно белые брюки обтягивали его сочные ляжки, на полных боках сидел идеального пошива пиджак, усыпанный рубинами. Белый шёлковый шарф на загорелой шее, сверкающие бриллиантами перстни на божественных руках.
– Лилиен… О, Лилиен! Ты опять сомневаешься в себе, моя детка, – Элвис присел на кровать вдовы, печально вглядываясь в её испуганное лицо.
– Сколько раз я говорил, обращаясь лично к тебе, – нет ничего дороже истины! – Король поднялся с кровати и подошёл к окну.
Лилиен отчётливо видела его мужественную спину и выпуклые ягодицы; дыхание вдовы было прерывистым от охватившего её восторга. Король отодвинул жалюзи и произнёс, медленно, словно, растягивая слова:
– Лилиен, о, Лилиен! Посмотри, как далеко другие дома. Разве, кто-нибудь, кроме тебя, сможет услышать крики о помощи этой несчастной?
– Но, мистер Пресли, в Библии говорится…
– Тссс!.. – Король резко обернулся к Лилиен и поднёс указательный палец к роскошным губам. Вдова Магнуссон смогла разглядеть, что лицо его было усталым, полные щёки довольно выразительно провисали, а под правым глазом появилась глубокая линия.
– Дорогая Лилиен, ведь я говорил тебе, что нужно почитать всю американскую трилогию, а не выборочные её части. Ветхий Завет настолько же важен, как и Новый завет, как и Госпел. У меня нет ни одной песни, не наполненной духовным смыслом.
Элвис сделал шаг в сторону кровати вдовы и, опершись на правую ногу, вдруг запел негромким, тягучим, словно пропитанным мёдом баритоном:
Glory, glory hallelujah
Glory, glory hallelujah
Glory, glory hallelujah,
His truth is marching on.
Вдова вдруг закашлялась и проснулась. Элвиса в комнате не было, но, она готова была поклясться, что его визит был реальным. Старуха зажгла в спальне свет и, осторожно, чтобы ненароком не смять следов короля, исследовала карпет. Обнаружив то, что ей показалось следами обуви одиннадцатого размера, вдова опустилась на колени и, сомкнув руки, принялась неистово молиться.
После молитвы старуха Магнуссон приняла душ, выпила чашку чаю и, элегантно одевшись, направилась в полицейский участок.
Визит мента
Жена не превратилась в луну, хотя, одну общую черту Растрёпке удалось приметить, – с восходом солнца и жена испарилась. Вроде, когда он проверял её, совсем недавно, пощупав вытянутой рукой и открыв один глаз, была здесь. А теперь, как встало солнце, голодный и расстроенный муж оказался в постели совсем один.
Растрёпка поднял с пола будильник, который он не удосужился поставить обратно на прикроватную тумбочку ночью. Зелёные цифры показывали десять-сорок девять. Растрёпка зевнул и заглянул под одеяло, – он стоял, как обычно. Утренняя деревяшка. От одного взгляда на эрегированный член, раскрывший рыбий ротик крайней плоти, Растрёпка помрачнел и опустил одеяло. Он вспомнил вчерашний вечер, отвратительную мышку с её месячными, толстую жену на гнезде из полотенец. И это он получил в пятницу вечером, когда полагается отдыхать и куражиться? Член ей не понравился, с ума сойти. Растрёпка опять приподнял одеяло. Левой рукой он бережно взялся за член, провел по нему несколько раз вверх и вниз и задумался. Хотелось отлить. Он натянул кожу, разглядывая член. От пирсинга осталось только два шрама – на входе и выходе «банана», подаренного ему девушкой в Киеве семь лет назад. «Принца Альберта» не каждый вынесет, а он не только стерпел, но и менял украшения, в угоду своей Даше. Ей нравилось. Где-то в желудке завыл то ли голод, то ли тоска по былым временам; вот, в Киеве девушки были, как на подбор. Красивые, стройные, по-арийски светлые и очень стильные. Не то, что эта застрявшая в своих девяностых жена, которая и носить-то ничего не умеет, кроме шерстяных платьев и чёрных сапог на шпильке. А в Киеве девушки были модные и, – Растрёпка поднял глаза к потолку, подбирая нужное определение, – свободные. Они были раскованные, если хотели – надевали мини, если хотели, – камуфляж, но сексуально выглядели и в том, и в другом. Диана была вся забита татухами, её упругое, чуть угловатое тельце было интереснее читать, чем трахать. Опять же, у Алины в ушах были тоннели, у Маши – передние зубы спилены, как в кино. Эти девушки к чему-то стремились, совершенствовали себя. Они катались на роликах, шарили в музыке, рисовали. А жена – история от сковородки до кастрюли, в лучшем случае – синие тени и секс.
Бросить всё и уехать в Киев! С усиливающейся болью в области солнечного сплетения Растрёпка вспоминал запах яблок, курева и кваса, фруктового мороженого и сирени Ботанического сада. Его ностальгическую полудрёму прервал выразительный стук в дверь.
– Откройте, полиция! – раздался требовательный голос снаружи.
Растрёпка подскочил, как ужаленный, в три прыжка оказался у двери и, обернувшись полотенцем и стараясь побороть волнение, ответил, прильнув к глазку:
– Ваше имя и звание…
– Сержант Винсент Берри, департамент полиции. Вы – Сергий Гриценко?
– А что вам надо?
– Поговорить.
– Я отдыхаю. У вас есть ордер?
– Нет. Если бы у меня был ордер, я был бы уже внутри вашей квартиры. Откройте мне, это насчёт вашей жены.
– Что такое?
– Нам поступила жалоба о том, что внутри одной из ваших комнат кто-то заперт.
У Растрёпки посветлело на душе. Какие же они, всё-таки, тупые. Винсент Берри был хорошеньким, как поросёнок из диснеевского мультфильма, – небольшие круглые голубые глаза, розовые щёки, аккуратный нос. Полицейская форма смотрелась бы на нём как маскарадный костюм не первокласснике, если бы не бицепсы. Растрёпка открыл дверь и, щурясь от яркого света, пролившегося с улицы, широким жестом пригласил сержанта Берри в квартиру. Боль в солнечном сплетении прошла, осталось только стойкое желание помочиться.
Мент осторожно, но решительно сделал шаг вперёд, положив правую руку на кобуру, пристёгнутую у бедра.
– Добро пожаловать. Ищите, сколько хотите. Ребёнок у родственников, жена на рынке. Рабов не держим, – постарался пошутить Растрёпка, растянув приветливую улыбку по ощутимо небритой физиономии.
Полицейский, с недоверием оглядываясь на Растрёпку, обошёл все комнаты, заглянул в гардероб и в ванную ребёнка. Пока он ходил по квартире, Растрёпка успел натянуть пижамные штаны и нестиранную футболку.
– Ну как, нашли кого-нибудь? – насмешливо спросил Растрёпка.
– Нет, сэр. А где, вы сказали, ваша супруга? – Винсент Берри внимательно рассматривал этого негодяя. Сомнений в том, что та, плачущая русская говорила правду о муже, у Сержанта Берри не было. Этот подлец выглядел ещё хуже, чем Берри предполагал: руки, как плети, невыразительные, нечестные глаза, неровная, клочками прорастающая щетина на полноватых щеках.
Берри постарался как следует вспомнить русскую. Она же была красавицей! Но, почему она с этим, да ещё и терпит такие издевательства?!
В квартире было чисто, как это обычно бывает в домах, где живут мучители; единственной деталью, нарушающей общий порядок, была гора полотенец на полу в ванной супругов. Если верить докладу старухи-соседки, вполне вероятно, что на них и ютилась запертая в ванную жена. Сержант Берри поджал губы, размышляя.
– Скажите, офицер, – дерзко поинтересовался Растрёпка, будто, поймав телепатическую волну от полицейского, – а откуда вообще эта странная информация о том, что у меня в ванной кто-то заперт?
– В ванной? – настороженно переспросил сержант Берри, – сэр, это вы сказали, а не я. Я сказал «в одной из ваших комнат», а ваше уточнение просто облегчило мне работу. Так, кого вы держали в ванной?
– Нонсенс! – воскликнул обозлённый Растрёпка, но, красные пятна, предательски расползающиеся по его лицу и шее, и, словно шпарящие его кипятком, выдавали его с потрохами.
– Если вы не возражаете, я хотел бы сделать снимок вашей ванной, – вежливо попросил Винс, с трудом сдерживая радостное волнение детектива, напавшего на след.
– Я категорически возражаю. До свидания, я должен вас проводить, – решительно произнёс Растрёпка, собрав всю свою волю.
– Не всё так просто. Сначала я должен взглянуть на ваши водительские права или паспорт, а потом мы подпишем пару документов, – сержант Бери не собирался отступать.
Покрытый пятнами, Растрёпка пробрался к своей куртке, висевшей на крючке у входа в квартиру, достал из провонявшего куревом кармана бумажник и, покопавшись, вынул оттуда сначала сонограмму с изображением зародыша, а потом – пластиковую карточку, свои водительские права.
Вид соногарммы обескуражил полицейского. Сержант Берри почувствовал себя так, будто ему в лицо плеснули холодной водой. Она ещё и ребёнка ждёт от этого негодяя!
– Так вы не ответили, офицер, – Растрёпка опять осмелел, увидев минутную растерянность на лице Берри, – кто вам пожаловался на нас?
– Садовник, который косит у вас траву, – не задумываясь, соврал Берри, разглядывая права Растрёпки. Двадцать семь лет. И этот юнец держит в напряжении беременную жену и соседей! – У вас можно присесть, мне надо протокол составить?
– Да, садитесь на диване, – равнодушно отозвался Растрёпка.
– Мне нужно за стол.
– А что вы собираетесь писать? Ложь? Всем прекрасно известно, что в пятницу вечером никто траву не косит! – Растрёпка напирал на сержанта Берри, который тщетно пытался сконцентрироваться на своих умозаключениях. Так, значит, этот негодяй, у которого, безо всякого сомнения, рыло в пуху, считает, что полицию уведомили насчёт чего-то, что произошло в пятницу вечером. Значит, вчера вечером что-то стряслось. Но, Элвис приснился вдове Магнуссон в ночь с пятницу на субботу, призывая помочь соседке, и отчёт о заявлении старухи поступил к нему около девяти утра. Всё это нужно было как следует обмозговать, прежде чем передавать следователю.
– Успокойтесь, сэр. Я вас долго не задержу, – стараясь казаться невозмутимым, произнёс Берри, усаживаясь за кухонный стол. Неторопливо он переписал данные из водительского удостоверения Растрёпки в свой блокнот и нащупал телефон в кармане. Полицейский департамент опять не закупил фотоаппараты, вещдоки приходилось щёлкать на свой телефон.
– Вчера вечером, около семи часов, где вы были? – не отрываясь от блокнота, спросил Винс.
– В кино. У меня билет остался даже, могу показать, – ответил Растрёпка, на секунду ощутив себя героем детективного романа, у которого есть отличное алиби.
– Без жены ходили?
– Да, один.
– Почему?
– Она ребёнка ждёт, а фильм страшноватый. Попросил её остаться дома и отдохнуть, – домашний мучитель был убеждён в своей правоте и постепенно успокаивался.
– А где же, всё-таки, ваша жена? – спросил сержант Берри, подняв глаза на усевшегося напротив него Растрёпку, с которого совсем сошли пятна волнения.
– А откуда я знаю? – лениво ответил кухонный боец. – Она передо мною не отчитывается.
– Вот моя визитная карточка, передайте ей, чтобы она перезвонила в отделение, когда вернётся. Я дежурю до восьми вечера, – попросил сержант Берри, поднимаясь.
– Обязательно передам, – ехидно улыбнулся Растрёпка, смело взглянув в голубые глаза полицейского.
Сержант Берри направился к ванной комнате. Задержавшись у небольшого электронного фортепиано, он легко провёл ладонью по крышке. Его мама когда-то играла для него, очень давно.
– Вы играете? – с усмешкой обратился Винс к Растрёпке.
– Нет, жена играла, – с поспешностью ответил тот.
«Боже, какая хорошая девочка эта русская», – с горечью подумал Винс. Красивая, добрая, ещё и играет на фортепиано. Почему такие так часто достаются настоящим негодяям?
На стене над инструментом висели фотографии небольшого формата – Растрёпкины, Растрепки и его мамы, просто города, но, нигде не было ни одного снимка, изображавшего саму русскую.
– Вы долго ещё? Я спешу, – поторопил Растрёпка.
– А что, фотографий жены нет? – игнорировав вопрос, поинтересовался Винс.
– А почему вас так интересуют чужие жёны? – предел терпения Растрёпки был практически исчерпан.
– Жёны? Нисколько. Меня интересует только закон. Я сделаю пару снимков вашей ванной и удаляюсь, – сержант Винс Берри не спускал руки с кобуры.
Растрёпке невыносимо захотелось ударить по этой самодовольной поросячьей роже американского копа, но, он был психопатом, а не идиотом, поэтому, держал себя в руках.
– Только, поскорее. Мне нужно в туалет, – скромно заметил он.
Помимо груды полотенец на полу белоснежной ванной, от пристальных глаз полицейского не ушли ни выдернутый с мясом шнур от самсунговской зарядки для телефона, ни заблёванный ботинок «Гуччи», ни синие потёки разлитого у прачечной средства для стирки.
– Кто стирал? – спросил Винс, кивая на липкое озерцо жидкого «Тайда».
– Я. Джинсы бросил у кровати, а кот их пометил. Решил выстирать, – Растрёпка плёл на ходу.
– А где же сейчас этот кот, – поднял брови полицейский.
– Жена выпустила, наверное, – предположил Растрёпка, почесав щетинистый подбородок.
– Послушай меня, кусок дерьма, – сержант Берри холодного посмотрел на этого недоноска в клетчатых пижамных штанах, – я знаю, что ты делаешь с этой женщиной. Сколько верёвочке ни виться, всему приходит конец. Ещё раз тронешь её пальцем, поедешь на Родину, ясно?
– Да, сэр, – ответил Растрёпка, чувствуя, как гул ярости закладывает ему уши, но, изо всех сил стараясь говорит спокойно и вежливо.
Когда дверь за полицейским закрылась, Растрёпка метнулся к холодильнику и принялся рыться в морозильной камере. Он достал оттуда все пакеты с пельменями, морожеными овощами и пломбиром, – всё тщетно. Телефона жены, спрятанного там вчера, не было.
Проститутка
Мария волновалась. Фредо Капелла обещал вычесть из её долга пятьсот долларов за этот вечер, но, что конкретно ей придётся делать за эти деньги, он не уточнил «Составить компанию моему хорошему другу», – сказал сутенёр; ожидать можно было всякого.
Марии уже дважды приходилось «составлять компанию» друзьям Фредо; в первый раз это было на квартире Джони Дойля, адвоката, – низкорослого, капризного извращенца с характерной ямочкой на подбородке. Он был явно недоволен Марией, о чём сразу ей сообщил; ну, ещё бы! Такие типы обычно предпочитают азиаток. Он грубо потребовал минета, во время которого рычал и скрипел зубами, больно хватая Марию за волосы. За встречу с Джони с её долга клубу списали сто семьдесят долларов, а не двести, как обещали. Оказалось, что тридцатка полагалась охраннику.
Во второй раз, оказавшись в доме для гостей Фредо, Марии пришлось познакомиться с хирургом, его звали Энзо. Это был худощавый, дорого и модно одетый мужчина лет тридцати пяти. Благодаря хитрым маленьким глазкам и заостренному носу, его лицо напоминало лисью мордочку. Энзо явился с другом, парнем помоложе, видимо, тоже медиком. Часа полтора они пили текилу и оживлённо беседовали на французском, не обращая никакого внимания на проститутку, молчаливо сидевшую в кресле. Под конец хирург достал из внутреннего кармана пиджака пакетик с кокаином. Мария на глаз определила – два грамма, не более.
Энзо высыпал белый порошок на стеклянную гладь кофейного столика и, обмакнув мизинец в кокаин, лизнул его языком.
– Черти! Опять лидокаином разбавили! – выругался Энзо на английском и, неожиданно обратившись к Марии на испанском, произнёс, почти без акцента:
– Прости, красотка, на тебя здесь не хватит.
Лезвием Энзо умело разделил кокаин на две части, одну половину сразу разбил на четыре дорожки, – по одной на каждую ноздрю себе и товарищу.
Мария видела эту картину много раз в своей жизни. Вдох, другой, и вот уже глаза начинают блестеть злобным огоньком превосходства. Она ненавидела белый порошок. Её муж, Рауль, умер от передозировки, оставив её с двумя детьми. Господь избавил Марию, – так говорили соседские бабки-мексиканки. В последний год своей жизни Рауль спускал на кокаин почти все семейные деньги, а под коксом был просто отвратителен, – считал себя умнее всех, унижал её и подолгу трахал. Это было совершенно изнурительно; через сорок минут непрерывного полового акта Марии казалось, что все её внутренности горят, а влагалище запеклось одной сплошной мозолью, но Рауль всё не кончал. Он хлестал её по ягодицам, щипал за ляжки, больно дёргал за соски, чтобы покрепче раззадорить самого себя, но, кокаин делал своё дело; кончить под белым Раулю никогда не удавалось. Обессиленный, он бил Марию. О, сколько же боли уготовано Богом снести женщине во имя любви! Огромной, самоотверженной любви. Мария верила в то, что, если она будет терпеть Рауля, он никогда не будет ей изменять, она хотела удержать мужа возле себя, но, у Господа другие планы. Теперь Мария скучала по мужу, но не по сексу с ним. После их брака, зарабатывать в стриптизе и даже иногда проституцией было не слишком сложно. В конце концов, Фредо Капелла предоставлял своим работницам охранников, а дома Марию некому было защитить.
Вдохнув по дорожке, медики заметно оживились и сразу заговорили на английском, видимо, для того, чтобы Мария могла хорошо понимать их обоих.
– Хочешь текилы, сеньорита? – предложил Энзо, – я настойчиво рекомендую.
От этого комментария Марии сделалось нехорошо. Настороженно, она повиновалась и отхлебнула текилы; терпкий и сладковатый запах напитка принёс вихрь воспоминаний. Пахло детством, днём её рожденья.
– Ну, что ты задумалась? За работу, детка, – весело произнёс Энзо, указывая ей на спальню, – но, сначала сходи в душ и как следует вымой все свои дырки.
Когда Мария зашла в спальню, там её ждали раздетые догола мужчины в хирургических масках и одноразовых перчатках. От одного их вида Мария чуть не лишилась чувств.
– Не бойся, детка. Мы не за почкой твоей пришли, а, всего лишь, оттрахать тебя хорошенько, – успокоил Энзо до полусмерти перепуганную Марию. Его товарищ не проронил ни слова. Они заставили её лечь на живот и долго трогали, вставляли пальцы в перчатках во влагалище и в задний проход одновременно, прощупывая что-то и перекидываясь скупыми фразами на французском. Затем последовал секс. Эти медики обращались с Марией не слишком жестоко, но, двойной пенетрации избежать ей не удалось. Они словно ставили какой-то физиологический эксперимент; немой секс втроём был больше похож на сцену из фильма ужасов, чем на вечер с проституткой. Следующие несколько дней она невыразимо страдала от внутренних разрывов и появления сразу двух геморроидных шишек, но, Фредо списал с её долга клубу почти пятьсот долларов, а это было ощутимо для семейного бюджета.
Теперь Марию привезли на квартиру в центре города; охранник проводил её, сам открыл дверь, осмотрел помещение и выдал ей миниатюрный телефон. «Мой номер – второй в списке, это тебе на всякий случай, клиент новый», – мрачно произнёс он и вышел, звучно повернув ключ в замочной скважине.
Сначала Марии было страшновато. Квартира была просто, но элегантно меблирована. В зале у стены стоял чёрный диван как в клубе, возле камина – вязанка дров. Две лампы с зелёными абажурами источали мягкий, приветливый свет.
Мария зашла в спальню; обстановка напоминала номер недорого отеля, – посреди комнаты стояла кровать, с обеих сторон которой находились незамысловатые тумбочки. Девушка облегчённо вздохнула; у кровати даже не было столбиков, к которым садисты любят приковывать своих жертв наручниками; спинка кровати была невысокой, ровной и гладкой, – зацепиться не за что. Она подошла ближе и заглянула под матрац. Не найдя ничего подозрительного и там, Мария пошла в кухню. Её встретила та же мрачная простота: на плите стоял чайник, в углу – тостер и кофеварка. Она открыла холодильник и обнаружила там бутылку шампанского марки «Вдова Клико» и блюдо с яблоками и виноградом. От вида шампанского Мария совсем успокоилась, – убивать её явно не собирались. Шампанское с проститутками пьют только редкие женатики-интеллигенты, смакующие каждую секунду непродолжительной свободы от семейных уз.
Марии захотелось кофе, но, от него моментально портится запах изо рта, поэтому она решила приготовить горячего чаю. Быстро вскипевший чайник засвистел, сигналя тревогу, – в этот момент в дверном замке с щелчком повернулся ключ, и на пороге возник отец Генри. На нём был длинный чёрный плащ, шляпа надвинута на брови.
– Добрый вечер, – сказала Мария. На её лице расцвела улыбка облегчения. Это же её влюблённый бухгалтер! С ним должно быть легко.
– Добрый вечер, Мария, – ответил отец Генри, снимая шляпу. Он распахнул плащ и протянул Марии роскошную алую розу на длинном стебле. Мария с удивлением приняла цветок и спросила:
– Ты хочешь пить?
– Очень, – ответил святой отец-бухгалтер.
Марии тоже захотелось выпить. Она понимала, что с романтически настроенным бухгалтером, скорее всего, придётся целоваться, а люди его возраста отталкивали её. На память приходили вставные челюсти её бабушки, таблетки, чёрные распятия, пахнущие лавандой и средством от моли. Мария откупорила бутылку и разлила шампанское по флейтам, которые нашлись в посудном шкафу. Не дожидаясь партнёра, она пригубила.
– Нет, я хочу не так, – внезапно произнёс отец Генри, взяв Марию за руку, в которой она держала бокал, – я хочу, чтобы ты пила это вино из моих губ. Он набрал в рот шампанского и прильнул губами ко рту Марии, почти с силой втолкнув туда игристый напиток. Марию накрыла волна рвотного отвращения. Огромным усилием воли она заставила себя преодолеть это чувство и проглотила это жуткое пойло.
– Понравилось? – вкрадчиво спросил отец Генри.
– Очень, – шёпотом соврала Мария.
Счастливо улыбнувшись, отец Генри вновь набрал в свой рот шампанского и влил в рот Марии. К удивлению девушки, второй глоток шампанского пополам со слюной этого пенсионера практически не вызвал отвращения; наоборот, странным образом это возбудило её.
Теперь святой отец не отнял своих губ и продолжительно поцеловал Марию. Это было больше, чем поцелуй. Он словно изучал её рот своим языком. О, если бы она знала, что уже более тридцати лет он никого не целовал. Чувствуя головокружение, Мария оторвалась от священника и прошептала, больше в надежде на то, что скоро это всё закончится, и ей можно будет вернуться домой:
– Пойдём в спальню…
Отец Генри легко подхватил и отнёс её на кровать.
– Как ты хочешь меня? – спросила проститутка.
– Не говори ни слова, – твёрдо отозвался священник, бережно укладывая свою невесту на тёмное покрывало. Он разделся. Размер его члена испугал Марию; скорее всего, такого большого презерватива у неё не было.
– У тебя есть защита? – спросила она.
– Нам не нужна никакая защита, – ответил отец Генри, – я буду кончать только в тебя.
– Постой, – в груди у Марии похолодело. Безумец, – а если ты чем-нибудь болен?
– Уверяю тебя, я совершенно здоров, – отозвался священник.
– А если я больна?
– Тогда я с радостью разделю твою болезнь.
– А если я забеременею? – Мария совершенно растерялась.
– В таком случае, ты больше никогда не будешь работать, я возьму на себя все заботы о нашей семье.
Секс без презерватива стоил в два раза дороже. Но, сколько должны платить за секс безумцы?
Не дав Марии опомниться, отец Генри навалился на неё и вошёл вовнутрь.
Несмотря на выпитое шампанское и продолжительную мастурбацию накануне, буквально через несколько фрикций он разверзся оргазмом внутри своей возлюбленной. Одного ему было мало; он ласкал и любил её тело, входя в неё бесчисленное количество раз, упиваясь каждым моментом этой странной, но, обещанной ему свыше близости.
Мария молчаливо сносила этот кураж, и, в некоторые моменты ей даже казалось, что она получает удовольствие от теплоты и страстной ласки своего сумасшедшего клиента.
Когда на электронном табло настенных часов загорелась зелёная девятка, Мария поднялась с кровати и сказал ему:
– Время истекло, мне пора.
Усталый отец Генри откинулся на подушку и вытянул ноги; он поразился тому, что его собственная нагота нисколько не смущала его.
– Когда я вновь смогу увидеть тебя? – спросил он незнакомым для себя голосом.
– В четверг вечером, в клубе, – ответила Мария, завернувшись в покрывало, стянутое с кровати. Она выпрямила спину и тут же почувствовала, как разжиженная внутри неё сперма стекает маленьким горячим ручейком по её ноге.
– Нет, я имею в виду – так же, как сегодня! – воскликнул Мэтью.
– Когда я опять задолжаю клубу! – Мария рассмеялась и ушла в душ, смывать с себя остатки стариковской любви.
Без ума
В съёмной квартире на Пайк-стрит, довольно далеко от его дома и церкви, где он служил, отец Генри чувствовал себя совершенно другим человеком. Люди Фрэнка Капеллы обставили трёхкомнатные апартаменты мебелью и даже закинули в морозильник две пачки отменных кофейных зёрен. С наслаждением вдыхая запах коврового шампуня, такой непохожий на привычный запах его жилища, пахнущего сухим собачьим кормом, книжной пылью и апельсиновым ароматизатором, отец Генри ликовал. Он распахнул тяжёлые шторы и вышел на маленький балкон. Облокотясь на белые перила, с четвёртого этажа священник смотрел на такой близкий, но совершенно непривычный для его глаз городской пейзаж. Сверкающие после дождя крыши парковок, чёрный асфальт, фигурки людей, неуютно ёжащихся от утренней прохлады. Люди внизу спешили на работу; отец Генри не спешил никуда – он знал, что жизнь вечна и мог позволить себе приезжать сюда, каждый раз ощущая себя в новой роли.
Отец Генри стал видеться здесь с Марией два раза в неделю. Он покупал ей цветы, пирожные, золотые безделушки, наборы из духов и лосьонов. Жизнь приобрела новый вкус для отца Генри. Все чувства вдруг стали более отчётливы, он наслаждался каждым прикосновением к проститутке, вдыхал запах её волос, её кожи и не мог надышаться.
Мария была с ним немногословна, она не знала, как реагировать на настойчивые ухаживания своего одержимого бухгалтера – так говорил о себе священник. Он просил называть его Мэтью. Она слышала от девушек в клубе о том, чтоб бывают такие случаи, иногда мужчины действительно влюбляются (или воображают себе, что влюбляются) в стриптизёрок. Но, с нею такое произошло впервые. Любовь-мания Мэтью сначала беспокоила и раздражала её.
Через некоторое время Мария немного успокоилась, теперь она знала, чего ожидать от влюблённого клиента. Подарки, сладости, комплименты, неутомимый секс и беседы. Мэтью купил элегантные бокалы для красного вина. Проводя восхитительные часы рядом со своей покорной возлюбленной, он угощал её дорогими красными винами, учил правилам сочетания вина и сыра. Не знавшая отцовской любви, с детства лишённая ласки женщина таяла. В постели с ней Мэтью начал чувствовать отзывчивость: сначала робкую, благодарную нежность, потом – смелость и инициативу и, наконец, страсть. Горячую, влажную и молодящую обезумевшего от любви священника.
Мария лежала на груди Мэтью, слушая гулкий стук его сердца. На тумбочке у кровати с её стороны стоял бокал с недопитым каберне, от которого поднимался аромат, неожиданно, малины. Мэтью смотрел новости, его правая рука с пультом от телевизора покоилась на животе. Левой рукой он обнимал Марию. Иногда он чуть наклонял голову, чтобы поцеловать её тонкие душистые волосы.
– Ты – моя королева. Я люблю тебя, – уже привычно и почти машинально шептал Мэтью, не ожидая ответа и прислушиваясь к новостям на Ближнем Востоке. В голове у него вертелось «Горе тебе, Вавилон, златотронный и златообутый!» Мелькавшие на экране руины города, пыльные каски американских солдат, стянутая пластическими операциями мимика дикторов, – всё это вызывало у отца Генри смутное чувство волнения и беспокойства, омрачая его счастье.
– У тебя двое детей? – спросил он, сознательно оторвавшись от новостей.
– Да, – еле слышно ответила Мария, лениво рисуя пальцами круги на его животе. Живот был чуть более мягким, чем её хотелось бы, но она знала, какое место Мэтью компенсирует эту мягкость своей завидной упругостью.
– Сколько им лет ?
– Три и четыре… – пальцы Марии стали двигаться по животу священника чуть быстрее и ласковей.
– Как их зовут?
– Анна и Рико… – Мария отправила свою руку чуть ниже, туда, где над кустистым лобком уже восстал и с готовностью ожидал Мэтью-Жеребец. Мария легко массировала лобок, нарочно не касаясь члена.
– Я хочу заботиться о твоих детях, – твёрдо произнёс священник, – возьми его в руку…
Мария не послушалась. Вместо этого, она повернула голову и медленно провела языком по тёмно-коричневой окружности соска святого отца. Сосок моментально напрягся, и Мария принялась ласкать его своим ртом, изумлённо ощущая, как сама тает от желания.
– Дотронься до него…– уже шёпотом попросил отец Генри.
Непослушная женщина лишь убрала руки, не трогая дрожащего от напряжения Мэтью– Жеребца.
– Ах, ты, своевольница… -священник сам охватил член левой рукой, а правой взял Марию за подбородок, чтобы притянуть к себе и поцеловать, но, та увернулась от поцелуя, и вдруг, большой палец отца Генри оказался у неё во рту. Священник несколько секунд испытывал себя этим щемящим томлением, восхищённо глядя на то, как женщина держит у себя во рту, где так сладко влажно и тепло, его палец. Он хотел запомнить эту картину, навсегда запечатлеть её в своей памяти, чтобы возвращаться к ней снова и снова… Но, Мэтью-Жеребец имел на этот счёт собственное мнение: он стремился оказаться на месте пальца, у неё во рту. Отец Генри взял Марию за волосы и осторожно, но властно опустил её голову на подрагивающий член.
Мария покорно приняла Мэтью-Жеребца, испытывая при этом странную нежность и неумолимое желание мастурбировать. Священник не заставил себя долго ждать и вскоре разразился тремя залпами обильного семяизвержения. Привычно проглотив едкую слизь, Мария поднялась и отправилась в ванную.
За плотно закрытой дверью, под шум горячего душа, она встала на колени в ванну и заняла себя тем, чем не занималась бог знает, сколько. Держась левой рукой за грудь, правой Мария энергично стимулировала клитор, ощущая эти чудесные предоргамзенные волны.
Чтобы помочь себе кончить быстрее, она втягивала и расслабляла мышца влагалища, подставляя язык потоку воды и вспоминая лицо бухгалтера, восторг и возбуждение Мэтью – Жеребца, пока не ощутила фейерверк оргазма. Мария закрыла лицо руками и заплакала от счастья. Мужчина был рядом, и она хотела его.
Боевая награда
Отца Генри била дрожь. Он не привык болеть, и даже градусника в его доме не было, а вот теперь он проснулся с одурманенной жаром головой, больным горлом и распухшим, саднящим зудящей болью членом.
Генитальный герпес явился без предупреждения, щедро оросив Мэтью-Жеребца несколькими десятками болезненных пузырьков от головки почти до основания. С ужасом рассмотрев безобразное высыпание, отец Генри ощутил сильный позыв к дефекации, заставивший его опрометью кинуться в туалет. Мучительно опорожнив кишечник, и, не испытав от этого ни малейшего облегчения, отец Генри встал под обжигающий душ, в безнадежной попытке смыть с себя проклятую сыпь.
Герпес неумолимо жёг и зудил; мытьё с мочалкой и яростная мастурбация дали временное облегчение, но, обсушившись, отец Генри ощутил боль, прихлынувшую к разогретому члену с новой силой. После оргазма пришла и головная боль, жестокая, до свиста в ушах. Жаропонижающего тоже не было. Отец Генри надел мягкие тренировочные штаны и принялся листать «Жёлтые страницы» с тем, чтобы найти клинику, где принимают анонимно. В голове его стучали, гулко отдавая в виски, слова писания: «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою… Смердят, гноятся раны от безумия моего». Святой отец был испуган и сердит одновременно. Кто знает, чем ещё заразила его эта шлюха. Чувствуя, что закипает, отец Генри отложил телефонную книгу в сторону, встал на колени и принялся молиться. Смиренный, священник вдруг осознал, как долго он не просил бога за себя. Действительно, ведь раньше ему было нечего и желать, у него было всё – любимая работа, свой дом и даже любимая женщина. Теперь же, созвездия пузырьков на члене лишили его этого счастливого ощущения полноты бытия, напомнив об обещанной свыше страшной каре за прелюбодеяния. Появившись за одну ночь, будь они неладны, крохотные пупырышки украли его целостность и вселили в его душу презрение и ненависть к той, кого он, до сегодняшнего утра, обожал. Священник с венерическим заболеванием! От его карьеры бы тоже камня на камне не осталось!
В Такоме, портовом городе на юге штата, нашлась анонимная клиника, готовая принять священника немедленно. Святой отец приехал туда. Приём врача стоил сто двадцать долларов, анализ крови на всевозможные венерические заболевания – ещё около трёхсот пятидесяти. Только на ВИЧ – восемьдесят. Не раздумывая, отец Генри заполнил документы на придуманное им имя «Джон Эванс» и отсчитал пятьсот долларов.
Молодая медсестра терпеливо измерила температуру и артериальное давление священника, взяла у него кровь на анализ, равнодушно, словно речь шла о ценах на картофель, а не о человеческом здоровье, заполнила анкету и покинула отца Генри, велев ему переодеться в нелепый хлопчатобумажный передник для осмотра. Оставшись в одиночестве в тесной комнате, оборудованной кушеткой, обшарпанным столом и двумя табуретками, святой отец принялся рассматривать плакаты, висящие на стенах. На одном из них была изображена привлекательная девушка, одетая в соблазнительный пеньюар. Крупный шрифт по нею гласил: «На мне не написано, но я подарю тебе и хламидию, и гонорею, и сифилис!» На другом плакате стояли, обнявшись, два молодых человека с радостными лицами, приговор под ними гласил: «Своевременное диагностирование ВИЧ-инфекции может продлить вам жизнь». На третьем плакате, среди старательно выполненных рисунков, иллюстрирующих венерические диагнозы, отец Генри узнал себя, и ему стало дурно. Он ощутил, что тошнота подкатила к горлу, пальцы рук онемели, а ноги, вдруг ставшие ватными, подкосились и перестали его держать. Отец Генри рухнул на пол, провалившись в глубокий обморок.
Когда он очнулся, рядом с ним на коленях стоял полный молодой врач, латиноамериканец по виду.
– Мистер Эванс, вы меня слышите? – гладкое лицо врача выглядело озабоченно.
– Да, – ответил священник, сообразив, что сейчас он – Эванс.
– Мистер Эванс, очень хорошо. Давайте с вами попробуем поднять голову и сесть, – врач помог отцу Генри перебраться на кушетку. Не задавая лишних вопросов, доктор Меркадо осмотрел своего несчастного пациента, стремительно выписал рецепт и печально произнёс:
– Мистер Эванс, у вас первичный герпес. Принимайте таблетки и мажьте мазью, без надобности не мочите, пока не подживёт. Относительно других заболеваний: результаты анализов будут готовы через 72 часа. Позвоните в клинику и дайте оператору код, полученный вами от регистратора. На вирус иммунодефицита вам придётся повторно сдать анализы через тридцать дней. Сегодня для профилактики вы получите антибиотик. Есть ли у вас ко мне вопросы? Священник сглотнул, но болезненный ком никуда не делся из горла.
– А это на всю жизнь?
– Первичные симптомы пройдут через пять-семь дней. Однако, вирус сохраняется в вашем организме пожизненно. Есть средства, которые можно использовать. Чтобы избегать обострений заболевания. Как вы себя чувствуете? Вы побледнели…
Попрощавшись с доктором Меркадо, отец Генри оставался в комнате, пока туда не явилась медсестра, недовольным голосом выведшая его из оцепенения и напомнившая о том, что в клинике ещё много пациентов.
Опять вместе
Медленно, но верно, как плавится у горячей плиты кусок замерзшего масла, Мария таяла. Из проститутки она постепенно превращалась в невесту, слушая сказки своего влюблённого Мэтью. Он отдавал ей почти все деньги, которые платил ему Капелла, а иногда и больше. От этого Мария взбодрилась и стала реже ходить в «Сладкое место» на заработки. Двадцать дней болезни Мэтью оказались серьёзным ударом по её бюджету; поэтому, и потому, что соскучилась по ласке и теплоте бухгалтера, Мария очень обрадовалась, когда, наконец, увидела его сообщение на экране своего телефона.
Любовь вернулась к отцу Генри, когда созвездия зудящих пузырьков герпеса подсохли, покрылись корочкой и начали заживать. Негативные результаты анализов на остальные венерические заболевания, как свежий весенний ветер, вдохнули в грудь просветлевшего священника былую нежность к прекрасной проститутке. Когда женщина красива, увлеченный мужчина готов отпустить ей любые грехи лишь за её красоту. Если женщина собой не хороша, ни одна добродетель её не имеет значения.
Отец Генри простил Марии свой герпес, когда ему полегчало. Их встреча была удивительной. Священник сделал то, что он умел делать лучше всего – заставил женщину поверить в утопическую мечту о невозможной жизни, где все её грехи были отмыты любовью и прощены. Она позволяла себе мечтать о том, как познакомит детей с дядей Мэтью, как тётка Розарита с восторгом и недоверием будет разглядывать её нового мужчину за рождественским столом. Мария ждала, мечтала о том, чтобы он сказал: «бросай свою работу в клубе, я хочу, чтобы ты была только моей!»
Вправка мозгов
Сидеть на тёплом матерчатом диване было очень неуютно. В затылок слишком ярко светило солнце, в лучах которого приплясывали миллионы противных пылинок, от одного вида которых Растрёпке казалось, что ему трудно дышать. Несмотря на предупреждение на стене: «офис без парфюмерии», в комнате душно пахло какими-то фруктовыми духами и старыми книгами. Растрёпка пожалел о том, что выбрал полдень; приди он попозже, часа в четыре, солнце бы висело уже пониже, освещая его куда выгодней, чем сейчас, – под прямыми лучами, наверняка, каждый его прыщик разоблачён. Доктор Эшлей словно прочитала его мысли:
– Хочешь, я закрою жалюзи?
– Да, да, пожалуйста, – Растрёпка энергично затряс головой.
Джоан поднялась со своего кресла, неторопливо подошла к окну и закрыла жалюзи. В комнате воцарился приятный полумрак. Растрёпка облегчённо выдохнул.
– Так намного лучше! А то, я ощущал себя как вампир.
– Как вампир? Интересное сравнение. Отчего же? – Доктор Эшлей достала блокнот и ручку, прицелилась.
– Ну, как же. Вампиры живут ночью и не выносят солнечного света, – Растрёпка говорил притворно весёлым тоном. Он хочет показаться ей весельчаком.
– Вампиры ещё и кровь сосут. Ты сосёшь кровь? – Джоан посмотрела на своего нового пациента холодным, оценивающим взглядом. С ним всё было почти ясно. Двадцать с лишним лет практики научили Джоан распознавать социопатов в течении первых нескольких минут сеанса.
– Не пробовал! – Растрёпка продолжал притворяться весельчаком, – но, мне часто говорят, что я похож на голливудского актёра, который играл главного героя в «Сумерках».
– Не видела. Хороший фильм?
– Сейчас! – Растрёпка покопался в телефоне и, найдя фотографию молодого актёра, показал её Джоан, – похож? – спросил он, оскалив зубы в фальшивой улыбке, копируя позу актёра и приподнялся с дивана, чтобы взглянуть на себя в маленькое круглое зеркало, висевшее на стене.
– А ты бы хотел быть на него похож? – спросила Джоан. Немного расстроив Растрёпку этим вопросом. Она сделала пометку «N» в своём блокноте. Этой буквой она обычно обозначала свои догадки о нарциссическом расстройстве личности.
– Да я и так на него похож, – самодовольно ответил Растрёпка.
Теперь, когда его глаза привыкли к комфортному полумраку, он мог получше разглядеть психологшу. Хотя ей было явно за пятьдесят, её миниатюрная фигура сохранилась очень хорошо. Одета она была в строгое синее платье с белым воротничком. Длинные кудрявые волосы были окрашены в платиновый цвет, – «как у куклы» – подумал Растрёпка. Большие глаза, мягкий, добрый овал лица. Растрёпка вдруг представил себе, как она берёт его член своей нежной, но такой опытной и уверенной рукой.
– Давай теперь поговорим о том, зачем ты пришёл в этот офис, – голос Джоан вторгся в Растрёпкину грёзу, безжалостно развеяв её.
– Я пришёл потому, что моя жена уйдёт от меня, если я не изменюсь.
– Значит, начать терапию было решением жены?
– Нет, нет! Это моё решение. Я и сам хочу измениться.
– Что же ты хочешь в себе изменить? – доктор Эшлей отложила ручку в сторону и внимательно посмотрела на Растрёпку.
– Я хочу перестать её бить, – Растрёпка выраженно покраснел и отвёл глаза. Он испытывал странное чувство: ему не было стыдно за то, что он бил жену, но признаваться в этом малознакомой симпатичной женщине было просто отвратительно.
– И ты ожидаешь помощи от меня? – спросила Джоан, разглядывая этого пациента. Большая редкость, надо же. Домашний мучитель, который сам явился на лечение. Один на тысячу.
– Ну да. У вас же на сайте написано – «помогаю решать супружеские проблемы».
– Скажи, а почему тебе кто-то должен помогать? Почему ты не можешь просто взять и не бить другого человека, другую земную сущность?
– Я не знаю, – честно признался Растрёпка, стушевавшись, – просто всё каждый раз так выходит, сам по себе. Она меня доводит, и я уже не могу себя контролировать.
– Так вот, в чём дело! Она сама доводит тебя! – воскликнула Джоан, – расскажи подробней!
Растрёпке полегчало. Ему показалось, что в интонации психологши он почувствовал поддержку и понимание.
– Она выводит меня из себя своими комментариями, капризами, недовольством, – приободренный Растрёпка пытался собраться с мыслями.
– Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты говори то, что первое приходит тебе в голову. Понятно? – очень серьёзным тоном произнесла доктор Эшлей.
Растрёпка кивнул.
– Почему ты живёшь со своей женой? Отвечай быстро.
– Мне комфортно.
– Ты любишь её?
– Не знаю.
– А она тебя?
– Думаю, да.
– Как часто ты её бьёшь?
Растрёпка замолчал.
– Отвечай быстрее, – строго приказала доктор Эшлей.
– Два-три раза в месяц.
– Обращалась ли она в полицию?
– Нет.
– Есть ли ещё люди, над которыми ты совершаешь насилие?
– Да это не насилие, доктор! – Растрёпка вдруг сделался жалким, его прошиб пот, – это самооборона!
– В чём жена виновата перед тобой? Тоже бьёт тебя?
– Она не уважает меня, а мужчину нужно уважать. Я не позволю женскому полу… – Растрёпка умолк, задумавшись.
– В чём проявляется неуважение? – доктор Эшлей неуклонно продолжала интервью.
– Она не слушается меня. Всегда делает по-своему. А когда я её начинаю критиковать, оскорбляет меня.
– И что же делаешь ты? – доктор Эшлей что-то стремительно писала странным, едва похожим на письмо почерком в своём блокноте.
– Душу её, – выдохнул Растрёпка.
– Как? Подробнее, – спокойно, будто в том, что она услышала, не было ничего необыкновенного, приказала доктор Эшлей, не поднимая глаз от блокнота.
– Пару раз руками и один раз подушкой. А раньше я её просто бил по лицу, – на душе у Растрёпки сделалось очень муторно. Его взяла бессильная злоба на жену, вот уж кто подведёт под монастырь! Сначала эта ведьма доводит его, а потом ещё и заставляет сознаваться во всём чужой бабе.
– Ещё подробней, – Джоан Эшлей вновь прервала ход его мыслей.
– Я уже всё сказал, – очнувшись, Растрёпка посмотрел на Джоан. Она продолжала невозмутимо писать в своём блокноте.
– Почему подушкой? – поинтересовалась доктор Эшлей таким тоном, словно речь шла о ловле форели.
– Мне не хотелось видеть её глаза, – честно признался Растрёпка.
– Довольно. Теперь давай немного поговорим о твоём детстве, – к огромному облегчению Растрёпки психологша резко сменила тему на очень удобную. Сейчас ей можно будет рассказать о том, как отчим гонялся за матерью по тесной киевской двушке, как, настигнув, одним ударом сбил её с ног и принялся душить. Загорелые, волосатые руки отчима на белой материной шее. Девятилетний Растрёпка хватает на кухне нож и со всей мочи, двумя руками всаживает в спину ненавистного отчима, чуть выше поясницы. Нож гнётся, отчим отпускает мать и, охнув, как баба, садится на пол, застеленный пёстрым узбекским ковром. Кровяное пятно расползается по серой футболке, турецкой подделке под «Шанель». Мать выкрикивает: «Доди! Родной мой» и бросается на колени перед отчимом, хватая его за полные, обтянутые светлыми джинсами ляжки. «Что ты стоишь, зверёныш? Скорую вызывай, он кровью истекает!» – с неожиданной злобой она кричит остолбеневшему Растрёпке. Как, зверёныш? Ведь он защищал её.
Это предательство матери простить было невозможно.
Доктор Эшлей ставит на полях блокнота ещё две закорючки – «С» и «Т», обозначив детскую травму в анамнезе.
– Прежде, чем мы расстанемся сегодня, я хочу, чтобы ты понял, что в твоих поступках есть доля твоей вины, но она меньше, чем ты думаешь. – вкрадчивым голосом произнесла Джоан, глядя на Растрёпку, как добрая волшебница смотрит на расшалившегося малыша, – в твоей жизни были люди и события, которые позволили насилию стать частью твоего мира. Для того, чтобы тебе понять и принять существование другого мира и иной системы ценностей, потребуется довольно длительное время, и одной мне не под силу такая перемена. Однако, я могу помочь тебе научиться контролировать твои импульсы. Думаю, за шесть месяцев мы управимся. Ты готов поработать над собой полгода?
Растрёпка кивнул.
– Вот и прекрасно. Предлагаю завести дневник. Сегодня у нас четырнадцатое. Как ты думаешь, сможешь ли ты до двадцать первого ни разу не ударить свою жену?
– Наверное, да, – неуверенно ответил Растрёпка, смущённый тем, что с ним разговаривают как с ребёнком.
– Тогда пиши вот тут, – доктор Эшлей протянула Растрёпке блокнот со своими растянутыми по строчкам непонятными каракулями, которым полагалось быть буквами, – «обязуюсь не бить в период с 14 по 21 включительно». Растрёпка повиновался, подвинувшись к психологше. Близость платиновых волос и запах фруктовых духов Джоан взволновала его. По привычке фантазировать, он мгновенно представил себе, как хватает эту старую фею, разрывает её капроновые колготки, добравшись до заветного тёплого и влажного места, усаживает Джоан на себя, прямо на этом матерчатом диванчике и, крепко держа за талию, не отпускает, пока его члена не разрядится мощным залпом внутри её тоненького эльфийского тельца.
– Готово? – спросила Растрёпку фея своим нежным голосом, протягивая руку за блокнотом и ручкой.
– Закончил, – чуть сдавленно произнёс Растрёпка и отдал её блокнот, но, не сразу, а задержав, и, при этом дерзко глядя в глаза Джоан своим заблестевшим от желания взглядом.
Доктор Эшлей невозмутимо выдержала этот взгляд, от неё повеяло холодом.
– Вы очень красивая, – добавил Растрёпка, чтобы сгладить неловкость.
– Увидимся через неделю, – ответила Джоан, не приняв комплимента. Когда наружная дверь захлопнулась за Растрёпкой, Джоан подняла телефонную трубку и набрала номер своего мужа.
– Джорджи, милый, мне нужно с тобой поговорить по поводу одного психопата. Антисоциальное расстройство личности и синдром нарциссизма, множество вавок в анамнезе, пришёл сдаваться как домашний мучитель. Признаться, я совершенно обескуражена этим типом.
– А сколько занятий ты уже провела? – голос мужа звучал ровно, это немного успокоило Джоан.
– Сегодня было первое.
– Предложи ему перевестись ко мне, я сделаю из него человека без особого вреда для собственного здоровья.
– Я боюсь, он не согласится. Мужчине он не станет признаваться, доверия к отцу у него нет. Он хочет нажаловаться мамочке, и, чтобы она его приласкала. Он заинтересовался мною как женщиной, я серьёзно обеспокоена этим.
– Дорогая, только слепой не заинтересовался бы тобою как женщиной, да и тот был бы очарован грацией движений и ароматом волос. Давай обсудим дома, – Джордж повесил трубку.
Крепко сжимая телефон, Джоан подошла к окну и осторожно выглянула в щель между рамой и всё ещё закрытыми жалюзи. Растрёпка стоял у своего автомобиля, конечно же, спортивного типа. Он оживлённо разговаривал по телефону, в левой руке дымилась сигарета.
«Левша. Как же я не обратила на это внимание, когда он писал…» – с тревогой подумала Джоан. Она напрягла память и вспомнила, что Растрёпка, действительно, черкнул в блокноте левой, хотя, волосы поправлял правой рукой.
Джоан вдруг показалось, что в её офисе невыносимо душно. Не открывая окна, она вышла в приёмную. Её секретарша, Эми, даже не заметила её появления, из ушей её торчали наушники.
– Мисс Эми, – с неожиданно охватившей её злостью, Джоан взяла Эми за локоть, больно стиснув его.
Эми мгновенно достала из ушей наушники и вытаращила изумлённые глаза на Джоан.
– Мисс Эми, я запрещаю вам находиться на рабочем месте в наушниках. Вы поняли меня?
Эми ошарашенно закивала.
Попрание святыни
Марии больше не хотелось работать стриптизёркой. Её любимый клиент приносил ей достаточно денег для того, чтобы содержать детей. Остальные клиенты внезапно опротивели ей; теперь Марию раздражали их запахи, голоса и, особенно, взгляды. Эти масляные, словно тронутые какой-то мерзкой плёнкой глаза похотливых мужчин.
Мария окинула взглядом тёмный зал клуба, – он был практически пустым. У дальней сцены сидели два парня, мексиканцы, – торговец наркотиками Карлос и один из его товарищей. Рядом с ними скучала Джинни, закинув ногу на ногу, она курила. Работать было не с кем.
– Лапочка, ты собираешься раздеваться? – послышался голос Силвии, менеджера.
– Пока не знаю, – ответила Мария, покачав головой. Спустить в кассу клуба семьдесят долларов аренды и не заработать ничего, – перспектива не из лучших.
– Туда или сюда, – безапелляционным тоном произнесла Силвия и упёрлась в Марию беспощадным взглядом светло-серых, как у робота, глаз, – либо ты раздеваешься и идёшь работать, либо марш отсюда. Здесь не кафе «Старбакс».
– Мария махнула рукой ди-джею и вышла из клуба.
Домой ехать не хотелось. Она достала из сумки бутылку со спрайтом, разбавленным водкой «Столи», – такой коктейль любил её Рауль. Открыв бутылку, Мария вдохнула знакомый, щемящий грудь запах мужа и отхлебнула.
– Добрый вечер, сеньорита! – Хорхе Рамирез, толстый мексиканец лет двадцати пяти, появился ниоткуда, растягивая полные губы в добродушной улыбке. Он работал охранником и провожал девушек к машинам, за это они совали ему в пухлую руку долларовые бумажки.
– Привет, Хорхе. Ты напугал меня, – Мария отхлебнула ещё и протянула бутылку охраннику, – будешь? Спрайт с водкой.
– Боже упаси, сеньорита, – толстяк словно мяукал раболепным тоном, которым мексиканцы любили обращаться к старшим, – на работе никак нельзя. Новый менеджер нас затаскала уже по проверкам.
– А я буду, – горько усмехнулась Мария и отпила из бутылки ещё; осталось меньше половины, – давай, хоть покурим тогда вместе, Хорхе?
– Отчего же не покурить? – охранник достал из кармана пачку «Американского спирита», вынул две сигареты, чиркнул зажигалкой.
– Хорошо! – внезапно Марии действительно полегчало на душе.
– А что вам печалиться, вы очень прекрасная сеньорита. С вашей красотой нужно только жить и благодарить Господа!
– Мне бы денег, Хорхе… – Мария глубоко затянулась. Сигарета, действительно, была отменной. Она не горчила и никакой кислятиной не отдавала, в отличие от привычных ей стальных «Мальборо», наверняка напичканных всякой химической гадостью.
– Да уж, народу в клубе сегодня маловато… – понимающе заметил Хорхе, попыхивая сигаретой.
– Не то слово. Два человека, и то, они не танцы покупать пришли, а торговать.
– А? Карлос? Да, серьёзный синьор, хоть и молодой. Его ничем не испугаешь.
– Но и танца ему не продашь.
– Понимаю, – Хорхе с сочувствием посмотрел на Марию, – а как же ваш постоянный клиент?
– Который? Доктор Уилл? Он в Канаде, на конференции.
– Нет, нет, очкарик такой, отец Генри. Где он?
– Какой «отец Генри» ? – Мария вдруг поперхнулась сигаретным дымом и больно закашлялась.
– Ну, высокий такой, священник с юга штата. Он же к вам ездит. Ходит в чёрном пальто, даже в жару.
– Что ты сказал, Хорхе? – не в силах сдержать себя, Мария схватила толстяка за плечи и принялась тормошить его, – повтори, негодник, что ты сказал?!
– Сеньорита, простите меня, я ничего такого не говорил… – охранник выронил тлеющую сигарету и попытался отстранить Марию, но та крепко вцепилась в его плечи.
– Он – бухгалтер, негодник, ты понял меня? Он – бухгалтер!
– Да нет же, сеньорита, он – падре! Я точно знаю, я занимался у него в воскресной школе, когда был ребёнком. Это отец Генри, он очень хороший.
– Что здесь происходит? – стальной голос менеджера моментально отрезвил Марию, – что вы себе позволяете во дворе моего клуба? А ну, марш работать.
Мария отпустила Хорхе и, повинуясь Силвии, поднялась в клуб.
– Посмотри, народ потихоньку собирается, -смягчившись, Силвия потрепала Марию по плечу своей мягкой когтистой лапой, – к полуночи ты заработаешь свои двести баксов, а то и триста, если будешь хорошей девочкой.
Мария просто хотела сесть. Она зашла в холодную от постоянных проветриваний раздевалку и, не найдя свободной скамьи, села на трюмо, безвольно свесив руки. Он не мог быть священником. Священники не такие.
Экзорцизм
Стальной ключ охотно повернулся в замке. Отец Генри нажал на дверную ручку и вошёл в квартиру, бережно придерживая букет из семи крупных белых лилий.
Уже в коридоре он почувствовал её запах, – духи назывались «ноктюрн», – чувственный, тяжёлый, сладковатый аромат так шёл этой женщине, равных которой священник не знал.
– Дорогая, я здесь! – воскликнул отец Генри, предвкушая нежный поцелуй и объятия своей сирены; каскад длинных волос, тёмную горячую шею, созданную для миллиона поцелуев.
Мария, как и прежде, вышла на его голос, но, к удивлению священника, сегодня она была одета в чёрное, застёгнутое на все пуговицы, под подбородок, пальто. Длинные волосы, обычно чувственно распущенные, были перетянуты тугой резинкой в упрямый хвост. На её ногах сверкали чёрные сапоги, словно она собиралась куда-то уходить. Она была похожа на Женщину-Кошку из комиксов про Бэтмена.
– Здравствуй, я здесь! – опять произнёс священник, будто то, что он здесь, не было очевидным. Он протянул Марии свой букет.
– Ты здесь, чтобы оттрахать меня? – неожиданно дерзко спросила Мария, не приняв цветы; её руки упрямо скрестились на груди.
– Что произошло? Возьми, эти цветы для тебя, – отец Генри был поражён и растерян.
– Отвечай прямо, – ты пришёл, чтобы оттрахать меня? Это же просто вопрос, – прекрасные миндалевидные глаза Марии блестели необъяснимой злобой.
– Я здесь, потому, что я люблю тебя, – ошарашенный грубым вопросом священник постарался взять себя в руки.
– Ты любишь меня – что? – не унималась Мария, – ты любишь меня трахать? Отвечай!
– Я люблю тебя как женщину…
– Ты любишь меня как женщину трахать?!
– Я не понимаю, Мария… – святой отец отложил букет в сторону; от белых лилий на пустой полке для обуви вдруг потянуло траурным холодом. Кинув сожалеющий взгляд на ломкие цветы, отец Генри ужаснулся. Лилии держали свои царственные головки так, словно они лежали на закрытой крышке гроба.
– Послушай, дорогая, давай выпьем чаю или вина, поговорим, – священник сделал шаг к проститутке, пытаясь обнять её, но, Мария вывернулась из этих объятий и выкрикнула:
– Ну почему же ты лжёшь! Ты же всё время лжёшь! Меня трахают и дантисты, и адвокаты, но они не дарят мне цветы и не обещают жениться! Им дела нет до моих детей! Они вызывают меня, чтобы трахнуть моё тело, но они даже не пытаются трахнуть мою душу, как это делаешь ты! – из глаз Марии брызнули слёзы, кончик тонкого носа моментально покраснел, губы скривились, как у маленькой девочки. Отец Генри с силой притянул её к себе и заключил в свои тяжёлые медвежьи объятия, не оставляя ни единого шанса на высвобождение.
– Пусти меня, лицемерный лжец! Пусти меня, дрянь, ты – подонок! – Мария колотила его руками, что было сил, но священник держал её очень крепко.
– Что с тобой? Что… – догадка блеснула в голове отца Генри, и, всё же, он недоумевал.
– Ты лгал мне о том, что ты бухгалтер! Ты – священник! Ты, лживый кусок дерьма, ты – священник! Отвечай мне правду! – Мария кричала, задыхаясь, и неутомимо пыталась вырваться, осыпая руки отца Генри ударами. Слёзы сыпались градом из её глаз, смывая синюю тушь с чёрных ресниц, в носу булькало.
– Хорошо! Я скажу тебе правду! Я – священник. Меня зовут Мэтью Генри, я служу в церкви святого Марка на юге штата, – с тем же успехом, отец Генри мог бы перерезать себе вены; ощущения и последствия для карьеры были бы приблизительно такими же.
– Сволочь! Сраная сволочь ты! Кусок дерьма ты собачьего, а не священник! – визжала Мария, а потом, рыча, неистово вцепилась зубами в шею отца Генри. От боли у священника потемнело в глазах.
– Именем Господа нашего, Иисуса Христа, я заклинаю тебя. Изыди, дьявол! Архангел Михаил, на тебя уповаю. Изыди, дьявол! – звучным баритоном командовал отец Генри, корчась от боли. Демон, овладевший Марией, не отступал. Продолжая рычать, он крепко держался зубами за священника.
Сеанс экзорцизма был прерван настойчивым стуком в дверь:
– Хэллоу! Это соседи. У вас всё в порядке? Что за звуки? – возмущённо произнёс немного гнусавый женский голос.
Мария разжала зубы и тут же упала на пол, инстинктивно выпущенная из рук священником. Голос соседки подействовал на демонический дух гораздо эффективнее, чем заклинание отца Генри; демон притих и затаился. Мария свернулась у стены в позе зародыша, подобрав ноги под пальто и закрыв лицо руками, она тихонько скулила.
– Да-да, всё в порядке! Спасибо! – громко сказал отец Генри и с большой осторожностью заглянул в глазок. У двери стояла полная чернокожая женщина в стёганом зелёном халате.
– У нас всё хорошо, – повторил отец Генри, – благодарю за отзывчивость.
– Я клянусь Господом Богом, если девчонка ещё хоть раз пискнет, я вызову полицию! – строго подытожила соседка и удалилась.
Отец Генри взглянул на себя в овальное зеркало, висевшее в коридоре. Даже в полумраке прихожей укус на его шее пылал, наливаясь краской и распухая на глазах.
Мария сидела на полу, облокотившись об стену и беззвучно рыдала.
Священник поднял её и отнёс в спальню, удивившись тому, что постель, обычно накрытая вышитым бордовым покрывалом, была расправлена; льняное бельё кремового цвета безгласно призывало лежать, и заниматься любовью, и отдыхать, и вновь заниматься любовью. Простыни просили, чтобы их осыпали лепестками цветов и укладывали на них молодые, прекрасные тела, как в кино.
Мэтью Генри бросил Марию на кровать, лицом вниз, и, найдя под пальто и тонким платьем бордовые трусики, быстрым, но осторожным движением спустил их. Мария лежала, покорно и неподвижно, лишь изредка всхлипывая. Отец Генри отступил от неё на шаг, на секунду залюбовавшись ею такой. Она лежала ничком на кровати, чёрные блестящие чулки обтягивали стройные ноги, длинные волосы, нежные оливковые ягодицы, – она была похожа на дорогую коллекционную куклу. Если не видеть её лица. Похожа на поломанную куклу. Мэтью Жеребец рвался наружу, неистово желая расправиться с этой куклой, но священник решил не торопиться. Не признаваясь себе в этом, он чувствовал обиду и желание отомстить. Он потёр рукой саднящий адской болью укус на шее, а потом, восхищаясь собственной властью, ввёл два пальца во влагалище куклы; оно было сухим, тёплым, немного напоминая кожаную перчатку, вывернутую наизнанку. Отец Генри смазал пальцы кремом для рук, который стоял на тумбочке у кровати, и ввёл их опять. Кукла никак не реагировала.
– Ты вела себя плохо, Мария, – произнёс священник, вращая пальцы внутри проститутки, – но, я прощаю тебя, ибо Господь учит нас прощению, а я – милостивый господин твой, отныне – твой муж. С этого дня ты будешь только моею, я беру тебя всю, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.
Отец Генри произносил слова твёрдо и уверенно, словно роняя увесистые камни. Его возбуждение теперь было необычайным, но, пылающий на шее укус чертовски мешал, отвлекая от наслаждения, которое предвкушал изнывающий член.
– Встань на колени! – приказал священник, достав пальцы из не желающего увлажняться влагалища, и тут же пожалел о своих словах. Приподнявшись на локтях, Мария повернула своё обезображенное ненавистью и растекшейся краской лицо. Демон, овладевший ею, обнажил острые зубы и прошипел:
– Трахни меня, трахни! Ты ведь этого хочешь, сраный выродок? Трахни меня, как вы трахаете церковных мальчиков! Ты думаешь, я телевизор не смотрю?
Оливковые ягодицы приподнялись, округлившись, но лицо, осквернённое одержимостью, очень портило куклу, мешая Мэтью-Жеребцу сделать то, что он запланировал.
– Отвернись, – приказал он, взяв себя в руки, – отвернись и смотри в окно, не поворачивайся ко мне и ничего не говори.
– Что, правда трахаться тебе мешает, гадина? – прохрипела кукла. Из её носа текло.
– Отныне я – твой муж и господин. Я запрещаю тебе дерзко разговаривать. Отвернись и замолчи, – приказал насильник.
Кукла неожиданно повиновалась. Она опустила голову на простынь, оставив приподнятым лишь зад, покорно подставляя его и свои внутренности такому привычному избиению. Мэтью-Жеребец заломило, он встрепенулся с новой силой; насильник притянул к себе куклу и дал ему волю.
– Я совершаю главное супружеское таинство… Ты принадлежишь мне, твоё тело доверено мне Господом, создавшим меня по своему образу и подобию, – тяжело дыша, насильник тщательно выговаривал каждое слово, это помогало подстёгивать его возбуждение, насладиться которым в полной мере мешал горящий болью укус на его шее.
Жертва изнасилования
Сержант Бонд постучал в крашеную в малиновый цвет дверь и, не дожидаясь ответа, громко произнёс: «Откройте, полиция!» Дверь тут же открылась, и удивительно красивая женщина впустила его вовнутрь. В квартире пахло кондиционером для белья и жареными кукурузными лепёшками.
– Проходите в зал, – сказала женщина с едва заметным мексиканским акцентом. Она куталась в плотный махровый халат белого цвета, но Бонд не мог не отметить, что фигура у неё просто божественная. Тонкие лодыжки точёных ног, сверкающие перламутровым педикюром стопы, – эта женщина была жемчужиной в куче мусора, если учесть то, в каком районе она жила. Это был эмигрантский квартал, населённый, в основном, полунищими мексиканцами, выходцами из бывшего СССР и пьяницами. Жильё стоило недорого, поэтому и селились здесь одни бедняки.
Мария расположилась на диване из чёрного кожезаменителя. Стараясь не пялиться на красавицу, Бонд осмотрелся. В зале было чисто, если не считать перевёрнутую набок большую пластиковую корзину с рассыпавшимися из неё игрушками.
– А где же владельцы этих игрушек? – спросил сержант.
– Дети сейчас с моей тётей, – ответила красавица. Её лицо выглядело заплаканным и по-детски нежным.
– Это хорошо. Мисс, расскажите мне, что с вами произошло? – Бонд сознательно отступил на несколько шагов, чтобы соблюдать дистанцию между собой и пострадавшей. Совсем недавно на курсах их учили держаться подальше от женщин, особенно – привлекательных, потому что, бывает, полицейских, прибывших по вызову, обвиняют в сексуальных домогательствах, а уж тогда проблем не оберёшься. Да-да, держаться подальше от привлекательных, а эта женщина была бесподобна.
В голове Бонда вдруг пронеслась шальная мысль, цветущая синими красками счастья картина, – он, эта красавица, лучший кинотеатр города, темнота зрительного зала, шипящая кока-кола со льдом и ведёрко ещё горячего попкорна – одно на двоих… Бонд выдохнул и с раздражением прогнал этот почти осязаемый мираж.
– Мисс, ваше имя, фамилия, дата и место рождения.
От неловкости и напряжения уши его пылали, и пальцы, державшие ручку, слушались плохо. С трудом он записал имя, фамилию и дату рождения красавицы. Ну, конечно, она мексиканка.
– Будьте добры показать мне ваше водительское удостоверение, – Бонд старательно выписал данные с пластиковой карточки, бесстыдно разглядывая прекрасное лицо на фотографии.
– Повторите, пожалуйста, что с вами случилось.
– По сути, меня изнасиловали, – произошла Мария таким тоном, будто речь шла о кружке по рисованию. Бонд заставил себя посмотреть на неё. В его груди заклокотало возмущение. Ещё минуту назад в его голове они ели попкорн из одного ведёрка, а теперь… Теперь он готов был порвать на части того, кто надругался над ней.
– Кто это сделал? – Бонд заставил себя сделать ещё один шаг назад. Чёртова ручка отказывалась писать.
– Это сделал священник.
– Священник? – Уши Бонда, казалось, были готовы отвалиться, – а как его зовут?
– Он, говорил, что его, вроде бы, зовут Генри.
– Генри?! А это имя или фамилия?
– Я думаю, что это фамилия.
– Мисс… – Сержант Бонд осторожно посмотрел на женщину, затем быстро взглянул в блокнот, – мисс Гиллера, мне потребуется как можно больше информации о человеке, который на вас напал. Его рост?
– Высокий. Выше шести футов.
– Вес?
– Не знаю. Тяжёлый, но не толстый…
– Как он выглядит? Блондин, брюнет, лысый?..
– Тёмные волосы с проседью, симпатичный мужчина, лет пятьдесят – пятьдесят пять.
Бонд озабоченно писал в блокноте, буквы повисали на линиях как носки на бельевой верёвке. Грязь, закон должен будет отстирать эту грязь.
Ему вдруг стало чрезвычайно неприятно на душе. Из-за истории со священником ему почудилась в красавице какая-то гниль, и от этого чуть выше солнечного сплетения он ощутил тошнотворную боль. Будто он ел сладкое, сочное яблоко и вдруг нечаянно разжевал червя или нашёл жвачку в своём гамбургере. Бонд посмотрел на Марию. Она сидела совершенно спокойно, её лицо выражало безразличие. А вдруг, она врёт? Сколько их таких, женщин, которые, обидевшись, катят бочку на мужчин.
– Почему вы замолчали, офицер? У вас ручка не пишет? – красавица вдруг обратилась к нему, поменяв позу в кресле. Теперь она сидела напряжённо, обхватив руками колени, на самом краешке дивана.
Бонду вдруг показалось, что в любой момент она зарычит и кинется на него, обнажив спрятанные под пухлыми губами алмазные клыки и обрастая на ходу шерстью, как оборотень. Сержант встряхнул головой, чтобы смахнуть с себя эту чёртову голливудщину, поморщился и продолжил:
– Где это произошло?
– В Сиэтле.
– По какому адресу?
– Я могу показать здание. Недалеко от рынка, в сторону кинотеатра.
– Которого кинотеатра?
– «Звёздный час».
– А почему вы туда не вызвали полицию?
– Я боялась, что он изобьёт меня, он жестокий.
– Адрес?
– Не знаю адрес. Говорю же, могу показать.
Бонд задумался. Чем глубже к середине яблока, тем больше гнили.
– А как вы там оказались?
– Меня подвезла подруга.
– Её имя?
– То есть, друг. Извините, перепутала.
– Как его зовут?
– Я не могу назвать его имя, он женат.
Попкорн в ведёрке остыл. Бонд вдруг понял, почему ему пригрезился кинотеатр, – это из-за того, что в квартире пахло жареными кукурузными лепёшками. Бонд положил блокнот на спинку дивана, на котором сидела Мария и, поборов себя, присел рядом с неё на корточки, заглядывая ей в лицо.
– Послушайте, мисс. Я здесь, чтобы вам помочь. Вы должны говорить мне правду.
Женщина блеснула глазами, наливающимися слезами, попыталась взглянуть на Бонда и закрыла лицо руками. Сержант тяжело вздохнул и вернулся к блокноту.
– Мисс Гиллера, продолжим. Расскажите об обстоятельствах, при которых вам… – Бонд сглотнул, – на вас напали…
– Мы находились в квартире, вдвоем. Синьор Генри набросился на меня и изнасиловал.
– А что произошло потом?
– Потом он ушёл, я позвонила другу, и он привёз меня домой. Отсюда я позвонила в полицию.
Священник насилует женщину, которая находится в квартире по неизвестному ей адресу, куда её привезла подруга, нет, женатый друг. Должно быть – это проститутка по вызову. Иначе, как бы она оказалась в квартире наедине с распоясавшимся священником? А женатый друг, следовательно, – охранник либо сутенёр.
Привлечь священнослужителя за насилие над проституткой по вызову, – тут может быть одно из двух, либо всему отделу звёздочек на погоны добавят, очередную телесенсацию организуют, проволокут подонка-священника по всем каналам. Либо – замнут. В голове у Бонда вертелось множество вопросов, но с каждым из них он всё основательней влипал в эту грязь. Завершив составление протокола, умышленно сделав его как можно лаконичней, – пусть у следователя голова болит, – Бонд достал из кармана рацию.
– Возьмите с собой документы и одежду, едем в госпиталь, вам нужно пройти медицинскую экспертизу, – произнёс он.
– Минуточку, я должна переодеться, – засуетилась Мария.
– Не должны. Чем меньше вы переодеваетесь после преступления, тем лучше это для следствия, поймите. Я жду вас в машине, – Бонд достал рацию и соединился с диспетчером.
– Нэнси, говорит сержант Бонд, номер дабл-ю-восемнадцать– три– одиннадцать. Направляюсь в госпиталь Эвергрейт с пострадавшей, женского пола, двадцати девяти лет, утверждает, что её изнасиловали.
Экспертиза
Мария стояла на огромном листе бумаги вроде той, в которую заворачивают продукты в мясных лавках. Она закрывала лицо обеими руками, чтобы не смотреть на то, как молодой врач деревянной палочкой, как будто от мороженого, старательно соскребает что-то с её обнажённого тела.
– Я прошу вас, не смущайтесь, – произнёс врач голосом, в котором слышалось искреннее сочувствие, – я понимаю, что вам пришлось перенести нечто совершенно ужасное, но, поверьте, это уже позади. Сейчас мы соберём биоматериал, и преступник скоро будет наказан. Да, он обязательно будет наказа!.. Жаль, что вы лобок депилировали. Обычно за волоски на лобке цепляются волоски насильника…
Врач скрупулёзно, миллиметр за миллиметром сметал на бумагу ворсинки, волосы, чешуйки кожи, а потом собирал их при помощи клейкой ленты.
– Долго ещё? – спросила Мария из-под маски рук. Она ощущала себя насекомым, гигантской гладкой гусеницей, которую рассматривает в увеличительное стекло дотошный мальчишка.
– А вы торопитесь? – удивился врач.
– Я устала стоять, – призналась Мария.
– Мы почти закончили. Скоро придёт доктор Слэк; он проведёт осмотр на кушетке, стоять не придётся.
Вскоре Мария лежала на кушетке, застеленной таким же бумажным листом, как и пол. Она разглядывала плакат о пользе прививки от папиломмавируса, вдыхая противный едкий запах моющего средства, исходящий от раковины, и пыталась размышлять. Нет, она имела полное право находиться здесь. Право на сочувствие врачей, полицейских, медицинского персонала. Над ней было совершено насилие. Её изнасиловал священник, который притворялся бухгалтером, обещал жениться на ней, заботиться о её детях. Он заставил её научиться мечтать, дал её крылья. Но эта мечта оказалась фальшивкой, а его любовь и забота вылились в насилие, в отвратительное насилие на её телом, а главное – сознанием. Тот, кто обещал беречь и любить, сделал ей очень больно. Пусть теперь он разделит с ней эту боль. Пусть все узнают, что он – оборотень в рясе, не добрый пастырь, а волк среди овец. Голос доктора Слэка прервал её внутренние рассуждения.
– Добрый день. Впрочем, прошу прощения, для вас этот день не очень добрый. Мисс Гиллера? – Добрый, похожий на Гэндальфа старик с большим планшетом в руках вошёл в комнату и предстал перед кутающейся в бумажное одеяло Марией.
– Да. Я – мисс Гиллера.
– Очень приятно. Я – доктор Слэк, дежурный гинеколог и специалист по кризису сексуального насилия. Странно звучит, правда? Я задам вам пару вопросов, а потом приступлю к осмотру ваших половых органов, это необходимо для защиты вашего здоровья и гражданских прав. Вы готовы?
Мария кивнула.
– Тогда прошу вас подписать вот этот документ, это согласие на осмотр, – доктор Слэк протянул Марии два листа, заполненных мелким шрифтом, с тремя прочерками, выделенными люминесцентным маркером, очевидно, в местах для подписи.
– Но я уже подписывала согласие! – вяло возмутилась Мария.
Доктор Слэк, пожилой человек невысокого роста, устало посмотрел на неё сквозь элегантные прямоугольные очки.
– Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы все на вашей стороне. Подписывайте документы, а я приглашу ассистента.
– Ассистента? Зачем? – Марии стало страшно.
– Ещё раз: не волнуйтесь. Ужасное позади, теперь нужно сохранить ваше здоровье, психическое в том числе.
Ассистентом доктора Слэка оказалась полная медсестра с чёрными усиками и волосатыми руками, её звали Златка. Устав госпиталя, в котором находилась Мария, запрещал проведение гинекологического осмотра без присутствия наблюдателя, – слишком много обвинений в сексуальных домогательствах пришлось отразить адвокатам и без того еле сводящего концы с концами учреждения.
– Семейное положение? – доктор Слэк задавал вопросы ровным, миролюбивым тоном.
– Вдова, – поспешно ответила Мария.
– Живёте ли вы половой жизнью?
– Да.
– Как часто?
Мария замолчала.
– Поймите, мисс, я задаю эти вопросы не из праздного любопытства. Мне нужно знать, что учитывать при осмотре.
– Каждый день.
– Что каждый день?
– Сексуальные контакты.
– Какого типа: оральный, вагинальный, анальная пенетрация?
– Все виды.
– Имеется ли постоянный партнёр? – доктор Слэк невозмутимо ставил пометки в планшетном компьютере.
– Да. Он меня и изнасиловал.
Доктор Слэк поднял седые брови высоко над очками.
– Вы понимаете, что такое насилие будет чрезвычайно трудно доказать в суде?
– Почему? – Мария ощутила, как по её позвоночнику прокатилась ледяная волна страха.
– Ну, это вполне очевидно. Впрочем, об этом вам расскажет адвокат. Златка! – доктор Слэк холодно посмотрел на волосатую медсестру.
– Да, доктор Слэк? – встрепенулась, словно, проснувшись, Златка.
– Почему сюда ещё не пригласили адвоката для жертв сексуального насилия?
– Сию же минуту, доктор, – покладисто ответила медсестра.
– Сидите уже, – сердито возразил врач, – после осмотра позовёте.
Доктор бесстрастно и очень тщательно осмотрел Марию, сделав множество записей в объёмной папке, стянутой тремя широкими кольцами.
– Доктор, вы закончили? – робко спросила Златка.
– А вы что, не видите, что я работаю? – недружелюбно ответил Слэк, не поворачиваясь к медсестре.
– Я просто должна взять кровь. Можно?
– Берите, – отрезал врач и захлопнул папку, – мисс…
– Гиллера, – подсказала Мария с тревогой глядя на Златку, достающую из шкафчика одноразовые шприцы.
– Мисс Гиллера, я обязан вам предложить антивирусные средства, которые, якобы, понизят вероятность вашего заражения вирусом СПИДа. Однако, рекомендовать нечто совершенно неэффективное, и, к тому же, обладающее рядом тяжёлых для организма побочных эффектов, – не в моих правилах. Поэтому, я поставлю сюда эти таблетки, а выпить их или нет – решайте сами. А вот эти две капсулы принять совершенно необходимо, одна от гонореи, вторая – от хламидиоза; медсестра нальёт вам воды, примите незамедлительно. Я так понимаю, вы принимаете противозачаточные средства?
Мария кивнула.
– В таком случае, наши вам не понадобятся. Всего доброго, – с этими словами доктор Слэк вышел, оставив Марию наедине со Златкой.
Златка долго искала вену на левой руке Марии и, после двух неудачных попыток, она, наконец, набрала крови в три пробирки и ушла.
За больничным окном уже было темно. Мария хотела встать с кушетки и найти свой телефон, чтобы узнать, который час и позвонить тётке, но, в дверь постучали, и в комнату вошла округлая симпатичная женщина лет пятидесяти пяти. Это была Сэра Майерз, еврейка из богатой семьи, помешанная на защите прав женщин и благотворительности. Она говорила словно кудахтала, а массивные красные серьги, свисающие из её оттянутых ушных мочек лишь добавляли сходства с курицей.
– Бедная, бедная девочка, – заквохтала Сэра, взяв тонкую руку Марии в свои мягкие белые руки с ярко-розовым маникюром, – какая ты молодец, что пришла сюда… Поверь, ему это с рук не сойдёт.
Мария вдруг ощутила, как к её горлу подкатил огромный стеклянный шар, на её глаза навернулись слёзы. Заметив это, Сэра метнулась к настенному шкафчику и, достав оттуда коробку бумажных салфеток, протянула три Марии.
– Деточка, скажи, ты, хотя бы, ела сегодня что-нибудь? – заботливо выдохнула курица.
Мария благодарно приняла салфетки и покачала головой. Слёзы продолжали накатывать волна за волною.
– Как?! Я оставлю тебя на минутку, чтобы принести тебе еды и одеяло. Не дело, что ты укрыта какой-то бумажкой! – Сэра поспешно заколыхалась, и скоро дверь за ней затворилась.
Мария плакала навзрыд. Слёзы обиды, горя и возмущения лились по её лицу двумя обжигающими потоками, вынося на поверхность всё, о чём она и думать не смела. Из глаз выливались, сползая с кончика носа и капая, детские обиды на отца, обиды на Рауля, боль, нанесённая им до его смерти, и боль, которую принесла ей его смерть.
Заблудшая овца
Архиепископ Стэнли потёр переносицу длинными бледными пальцами. Невыразимо мучительно было думать об этих новых обвинениях в адрес очередного священника. Отец Генри – связь с проституткой ещё и изнасилование. Ну, кто бы мог подумать! Слава Богу, что это не ребёнок, а, всего лишь, шлюха. В полицию обратилась. Мстительная, едкая тварь. Божия. Как, как найти в себе силы отнестись к этой проститутке с христианским состраданием? Архиепископ Стэнли закинул в рот несколько мятных леденцов. Секса ему давно не хотелось. Он выдержал это неимоверно жестокое испытание Сатаны и теперь не ощущал ни желания, ни возбуждения. Он был спокоен и свободен. Какое же это удивительное, колоссально умиротворяющее чувство – не вожделеть. Это когда погоня всего мира самцов в неистовом преследовании самок, жестокая игра всей живой Вселенной, сверкающая многоцветием перьев, крылышек, чешуек, горячо дышащая и брызжущая слюной, кровью и спермой вдруг останавливается, замирая, и на смену ей приходит созерцание. Игра, единственной целью которой было лишь оплодотворить, вдруг заканчивается, и новая жизнь, исполненная мудрости и чистоты и неспешных молитв во славу Создателя открывается тому, кто готов. Но, как же быть с отцом Генри? Мэтью, Мэтью. Что же ты наделал? Отец Стэнли задумчиво разглядывал фотографию совсем ещё молодого священника, аккуратно вклеенную в окошко на первой странице его личного дела. Глубокие академические знания, особый интерес к апокрифальным Евангелиям, большой опыт миссионерской работы… Отец Мэтью Генри был одним из лучших, но и он оступился.
Архиепископ снял затёртую трубку со старого телефона и набрал номер Дина Джексона, матёрого адвоката, уладившего не одно дело церкви.
– Дин, друг мой, скажи, ты ознакомился с результатами экспертизы?
– Конечно, отец Стэнли! Будьте уверены, мы разобьём их в пух и прах, – голос хитроумного Джексона звучал уверенно и бодро, вселяя надежду.
– Почему ты так уверен? – не скрывая волнения, спросил архиепископ.
– На теле женщины найден биологический материал как минимум четырёх партнёров; она – проститутка!
– Мне это известно. А как насчёт… Материала отца Генри?
– Тоже, к сожалению, есть. Но, это не меняет большой картины. Отец Генри проповедовал, находясь в комнате с этой женщиной и ещё двумя свидетелями, алкоголиком и сутенёром. Он помогал людям, свидетели готовы дать показания в его защиту. Я думаю, дело даже не дойдёт до суда. Мы замнём его на следующей же неделе.
– Ну, коли так, спасибо тебе, сынок! Благослови тебя, Боже… – архиепископ Стэнли со вздохом облегчения повесил трубку.
«Проповедовал он». Старый пакостник. Архиепископ вновь взялся за телефон, на этот раз он набрал свою секретаршу, ископаемую ревнительницу сестру Бобби.
– Сестра Бобби, будьте так добры, пригласите отца Генри в мой кабинет, – голос архиепископа не выражал ничего.
Старый пакостник
В кабинете архиепископа пахло одеколоном «Энджел мэн» и мазью «Бен Гей», отвратительная комбинация, – подумалось отцу Генри. Сам архиепископ сидел за массивным столом из вишневого дерева, большая мраморная статуя девы Марии с укором глядела на происходящее из угла.
– Отец Генри, – голос архиепископа Стэнли звучал неестественно тихо, ощущалось, что он сдерживает себя большим усилием воли, – я думаю, вы знаете, по какой причине я вызвал вас к себе.
Отец Генри кивнул.
– Я совершенно обескуражен обвинениями, выдвинутыми в ваш адрес, однако, до принятия какого-либо решения, я хочу дать вам возможность высказаться по этому поводу, – архиепископ вдруг закашлялся, побагровел и, схватив со стола стакан с водой, залпом выпил.
– Какого дьявола вы делали с проституткой?! –внезапно выкрикнул Стэнли, сорвавшись на визг. Отец Генри на мгновение потерял дар речи.
– Я вас спрашиваю! – хрипя, повторил архиепископ, – я задаю вам вопрос! Извольте отвечать! Что вы делали с проституткой?
(Враги мои ополчились на меня.)
– Я женился на ней, – ответил отец Генри, не узнав собственного голоса.
– Ах? Ак?.. Как? На ком? Что? Как – женился? Вы кто, вообще, такой, вы в своём уме? – архиепископ клокотал, как котёл, до краёв наполненный кипящим варевом.
– Я совершил таинство брака и теперь она – моя жена, – медленно и внятно произнёс обвиняемый.
(Враги мои ополчились на меня.)
– Мерзавец! – взвизгнул архиепископ, поднялся над столом и запустил в отца Генри стаканом. Он промахнулся, стакан, пролетев мимо священника, взорвался на множество осколков, ударившись о старинный паркет.
– Вот! Свиной потрох, вот, глядите! – архиепископ схватил со стола документы из прокуратуры и, скомкав, швырнул Мэтью, – Мисс Маргарита Гиллера, проститутка, изнасилована и обвиняет в этом мистера Мэтью Генри, который совершенно случайно оказался пастором прихода святого Марка! Что скажете?
Отец Генри молчал.
– Тогда я вам скажу! Как можно было одним махом отправить в мусорную корзину свой приход, годы службы, репутацию? Свою и церкви! Похотью одержимый, вы думали, вы чем-то лучше всех нас? Мы все страдали от воздержания и исцеляли себя постом и молитвами!
– Иисус был женат!
– Молчать! Свиной вы хвост! Ваша апокрифальная ересь заставляет меня пожалеть о том, что сегодня за такое не отправляют на костёр! – архиепископ внезапно почувствовал, что в груди у него заныло, он сел обратно в кресло и обмяк.
– Ваше высокопреосвященство…
– Молчать! Мы мало выплатили компенсаций? Вам сорок миллионов долларов из карманов прихожан – мало? Вы ещё хотите? – руки архиепископа тряслись, нижняя губа отвисла и дрожала от негодования.
– Я люблю эту женщину, как Христос любит свою цер… – договорить отцу Генри не удалось, он умолк, облитый водой из кувшина архиепископа.
– Охладись, шизофреник, – архиепископ Стэнли глубже сел в своё кресло из бордовой кожи, достал из ящика стола белый носовой платок и тщательно вытер руки,– я больше не в силах слушать бред сумасшедшего, мне здоровье не позволяет. Я также очень сожалею о том, что человек не вправе отменить установленное Господом, иначе я лишил бы вас сана немедленно. Однако, я вправе только лишить вас возможности проповедовать в церкви святого Марка, что и сделаю с великим удовольствием. С сегодняшнего дня я запрещаю вам даже появляться на территории церкви. Если вы ослушаетесь меня со свойственной вам дерзостью, – архиепископ поморщился и взялся рукой за сердце, – я буду вынужден обратиться в суд за защитным ордером. А теперь – вон с глаз моих! Расчёт вы получите по почте.
Отец Генри развернулся и вышел прочь. В ушах его стучали слова, самое важное из того, что произнёс сегодня архиепископ: «человек не вправе отменить установленное Господом, человек не вправе отменить установленное Господом…»
Мэтью поднял глаза к небу и увидел, как Царь Давид дружелюбно улыбается ему.
Беда не приходит одна
Дину Джексону не удалось спасти репутацию отца Генри; история об изнасилованной проститутке попала в лапы к телевизионщикам, хотя, прокурор, почему-то, медлил с арестом. Фредо Капелла с сожалением избавился от ненужного груза; такой священник ему не годился.
Джил встретил отца Генри на стоянке около продуктового магазина «Альбертсонс», запарковав свой Олдсмобиль прямо у входа. В руках он держал небольшую картонную коробку. Его рыбоподобное лицо ничего не выражало, лишь нижняя губа, чуть оттянутая вниз, изображала намёк на брезгливость.
– Мистер Генри, – начал гангстер, и это обращение прозвучало холодно и крайне неприятно для священника. «Мистер», раньше он называл его святым отцом… – Мистер Капелла попросил меня передать вам эту коробку, в ней ваши бокалы.
Священник смиренно принял коробку.
– А это, – Джил протянул отцу Генри тонкий конверт, – остаток зарплаты. Священник принял и конверт.
– Мистер Капелла больше не нуждается в ваших услугах, прошу отдать ваш ключ от квартиры на Пайк-стрит.
Это было больнее, чем потерять доверие архиепископа и приход. Теперь для всего этого мира он был просто Мэтью Генри.
Мэтью вернулся домой и прошёл в кухню. Безработный, развенчанный, одинокий. Через полураскрытое окно доносилось жизнерадостное щебетание птиц, сидящих на сливовом дереве; лето вновь вступало в свои права. «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» – с горечью вслух произнёс Мэтью, чувствуя, что внутри него рушится, крошась на тысячи острых осколков, хрустальный купол. Он машинально открыл холодильник, печально оглядел открытую баночку с засохшей горчицей и накрытое фольгой блюдо с позавчерашней курицей. Это, да бутылка минеральной воды, горсть усохшей моркови на дне овощного отсека. Мэтью захлопнул белую дверцу; есть, всё равно, не хотелось. Маясь, он, всё же, сварил себе большую кружку горького кофе и принялся разбирать почту, веером раскинутую на кухонном столе. Счёт из банка «Чейз» – Мэтью разорвал голубоватый конверт. Семьдесят четыре с небольшим тысячи долларов, все его сбережения. Расчёт из церковного управления пока не поступил, но, можно рассчитывать ещё на полторы тысячи. Теперь нужно подумать, как распорядиться этими деньгами, чтобы их хватило надолго. Может, пойти учиться, изобрести себя заново, открыть новую главу в своём собственном Евангелии? Мэтью вдруг показалось, что, сейчас, когда все отказались от него, и даже возлюбленная хочет лишь расправы, именно сейчас он стал близок к Иисусу, как никогда. А если ты близок к Иисусу, значит, Иисус близок к тебе!
Осознав это, Мэтью внезапно вспотел, испытав эпифаническое прозрение. Его лицо раскраснелось, он ощутил Божественное присутствие, почувствовал то, что так долго учил чувствовать других – незримую любовь Господа. Вдруг его озарило понимание того, что всё складывается совершенно правильно, ведь он давно не умещался в тесные рамки пыльного офиса маленькой католической церкви. Его мысль, его поиск Бога не укладывался в стройные и порядком уже изношенные сценарии календарных служб. От Рождества – к Крещению, от Крещения – к Великому Посту, от Поста – к Пасхе и снова – к Рождеству, и так – колесом, год за годом, но, ведь, его колесо давно сошло с колеи и мчится по дороге неизведанной. А разве это – не есть святость? И разве то, что он сидит сейчас в этой уютной кухне, с семидесяти четырьмя тысячами долларов на счету, – это не любовь Господа? Ум отца Генри лихорадочно работал, применяя проверенные веками методы утешения скорбящего. Во всём происходящем есть замысел Божий и искра Святого Духа. Отец Генри прихлебнул кофе, сложил в отдельную стопку рекламные открытки. Ах, вот и письмо из церковного управления, уведомляющее его, что больше он не является служителем церкви. Сухие, строгие строки. Чёрные буквы поползли муравьями перед заплывающими слезами глазами Мэтью. Пальцы вдруг закололо, в груди заныло. Священник поднялся, распрямившись во весь рост, и принялся читать Псалом 3. Псалтирь всегда придавала ему сил. Помолившись, Мэтью ощутил единство с Царём Давидом. Ему тоже было нелегко, но – «Господь моя – крепость моя!» Святой отец внезапно проголодался. Отметив про себя, что это – хороший знак, он достал из морозильника пакет с белым хлебом, подрумянил в тостере два кусочка, обильно смазал арахисовым маслом и мёдом и съел с внезапно появившимся аппетитом. Кофе пришёлся как нельзя более кстати.
Богу – богово, а женщине – кесарево
Катерина шла в операционную как на Голгофу. Левой рукой она держалась за хромированный ствол капельницы, тонкая игла которой безжалостно впилась в вену на её кисти, и, для надёжности, была закреплена безобразным пластырем. В правой руке Катя сжимала пластикового солдатика – любимую игрушку своего первенца; она взяла его с собой как талисман. Сестра, сопровождавшая Катерину по бесконечно длинному коридору, ведущему от палаты родильного отделения до операционной, пыталась непринуждённо болтать с ней, но, разговор не клеился.
– Вы уже придумали имя для своего малыша? – спросила сестра, в голубовато-зелёной униформе она была похожа на гигантского жука.
Катерина не ответила. Её мутило от волнения и страха, стопы словно кололо изнутри тысячами маленьких иголок, руки немели, но, шаг за шагом, как Иисус, она приближалась к операционной. Малыш сидел, затаившись, внутри своей мамы. Сорок минут до рождения, дорогой. Сорок минут до твоего первого вдоха.
– Джон – хорошее имя. Библейское, простое и звучное. Вы же русская? Как «Джон» по-русски? – Зеленоватое насекомое сделало очередную попытку заговорить. Очевидно, это было частью её должностных обязанностей. Возможно, она была очень хорошей, доброй и сострадательной женщиной, но, сейчас, чтобы ответить ей доброжелательным тоном, Катерине пришлось сделать над собой значительное усилие.
– Ваня. По-русски «Джон» – это «Ваня», – ответила Катерина, преодолев тошноту.
– Э-э-э, погоди, моя дорогая. Мы ещё не дошли до операционной, а ты уже такая бледная. Тебе помочь? – от жучка пахло шампунем «хэд энд шолдерс» и мятными леденцами.
– Нет, мне не надо помогать, я в порядке, – Катерина сделала ещё несколько шагов, словно по битым стёклам. Игла капельницы, вогнанная под кожу руки, вдруг заломила так, что Катерине нестерпимо захотелось вытащить её и зашвырнуть подальше.
– Вот и пришли! – насекомое распахнуло двойные двери с круглыми иллюминаторами, как на флоте.
В операционной было холодно. К похожему на крест высокому чёрному столу, с отходящими от него в разные стороны поручнями вела небольшая лесенка из двух ступенек.
– Аккуратнее с капельницей, дорогая, – довольная тем, что её дело почти закончено, жучок готовилась передать Катерину хирургической сестре. – Нет, пока не ложись. Просто садись, располагайся комфортно и жди. Сейчас придёт анестезиолог и поставит тебе эпидуральный блок.
Это всё гораздо легче сказать, чем сделать. Просто садись, располагайся комфортно, когда ноги колет от страха, в руке саднит игла, в мочевой пузырь вставлен катетер, и твой младший сын, за которого так страшно, упирается головкой во что-то уже давно стонущее от боли. Просто садись на холодный чёрный крест. Просто ожидай в полном комфорте, пока придут люди и разделают тебя на этом кресте, как индейку в день Благодарения. Выпотрошат, и – сэнк ю, мэм! Происходящее похоже на сюрреалистичный сон, но, только это всё наяву.
– Выпейте это, – хирургическая сестра неожиданно появилась и без реверанса поднесла к лицу Катерины ложку с оранжевой жидкостью, от которой пахло то ли рвотой, то ли энергетиком.
– Что это?
– Просто пейте. Это чтобы вас не вырвало в кислородную маску.
Вяжущая кислота во рту, действительно, отрезвляет, но, лишь на мгновение. Космические лампы над чёрным распятием стола, круглые иллюминаторы в дверях. Внезапно из холодного воздуха материализовалась женщина-анестезиолог. Очки в фиолетовой оправе, детская заколка в виде божьей коровки в обесцвеченных волосах. Невезение собственной персоной.
– Немного согнитесь, сейчас я поставлю вам эпидуральный блок… Это не больно… Дышите глубже… Глубже…
– Ну?
– Ой, у нас не получилось. Ну, не беда! Попробуем ещё раз. Согнитесь, ещё круглей спину! Дышите…
Комната вдруг стала шире, потолок отлетел ввысь, ноги налились тяжестью, Катерине стало трудно дышать.
– Сестра, кислород! – от женщины-анестезиолога остались лишь очки в фиолетовой оправе, недоумённо висящие над голубоватой медицинской маской. Прохладная струйка словно пролилась из-под маски, и расплывшиеся предметы вновь обрели чёткость.
– Вам лучше? Снять маску? – озабоченные очки вновь возникли перед Катериной.
– Миссис Гриценко, приятно познакомиться, я – доктор Энзо Шепард, ваш хирург. Руки не подаю, так как вас сейчас пристёгивают… – рядом с анестезиологом появилась лисья мордочка молодого хирурга, слишком молодого. Час от часу не легче.
– Пристёгивают?
– Именно, мисс Гриценко. Чтобы вы не вздумали нам помогать по ходу операции. Лисья мордочка исчезла и через секунду произнесла откуда-то снизу:
– Вы чувствуете щипок в области живота?
– Не знаю… – страх сковал всё то, что эпидуральный блок как-то оставил подвижным.
– Вы хотите видеть момент, когда ваш малыш появляется на свет, мадам?
– Нет. Нет.– Сестра, экран.
Между лицом Катерины и лисьей мордочкой доктора Шепарда повисла зелёная тряпка, «экран».
– Добрый день, я – доктор Кольт, сегодня замещаю вашего обычного врача, так как его вызвали на экстренный случай.
Катерина кивнула. Доктор Кольт. Кольт. Предназначен для уничтожения живой силы с коротких расстояний. Катерина на секунду закрыла глаза и вновь распахнула их. Странная, похожая на летающую тарелку, лампа нависла над ней.
– Энзо, зачем вы пристегнули ей руки? – седые волосы доктора Кольта выбивались из-под шапочки. Хоть кто-то здесь седой и опытный.
– Как – зачем? – возмутился доктор Шепард из-за зелёной тряпки. – Ты хочешь, чтобы она сюда руками лезла? Помнишь Джессику Стюарт, Майк?
– Вы передозировали её эпидуральным. Она никуда руки совать не сможет, просто не подымет, пока не отойдёт. Вы видите – давление упало, – ужасающе серьёзным тоном произнёс доктор Кольт.
– Проведите мероприятия.
– Мы приступаем.
– Дорогая, куда бы вы хотели отправиться отдыхать? – очки в фиолетовой оправе сверкнули и замерли перед лицом Катерины.
– Я? – Катерина чувствовала, что её начинается трясти, но, не могла ничего с этим поделать.
– Ну, конечно! Я недавно была на Канарских островах. Не впечатлена. Майами мне нравится больше. А вы куда бы хотели поехать?
– В Диснейленд с сыном, – Катерина вдруг поняла, что не чувствует в правой руке фигурку игрушечного человечка.
– С сыновьями, – поправила анестезиолог, -теперь у тебя два сына, скоро мы увидим твоего малыша.
– Да… – Катерина почувствовала, как по её лицу потекли слёзы, сразу по обеим щекам.
– А где ваш папа? Ты рожаешь без партнёра?
– Доктор Вульф! Что вы несёте?! – послышался громкий шёпот доктора Шепарда.
– Прошу прощения. Это – мой метод. От возмущения или прочих эмоциональных реакций у пациентов давление поднимается. А нам давление повысить было бы неплохо.
– Наш папа… – Катерина вспомнила кусты фиолетовой лаванды под окном своей спальни.
– Да, ваш папа. Вспомните то, что вас раздражает. Разозлитесь, как следует, – не унималась анестезиолог.
– С чего вы взяли, что меня это раздражает?
– Ваше давление подскочило, как только вы услышали эти слова, «ваш папа»; а во-вторых, ну какой нормальный мужчина пропустит рождение своего собственного сына? Разозлитесь на него. Имеете полное право.
– Доктор Вульф! Это у меня сейчас давление подскочит! – Шепарду явно не нравился этот метод.
– Послушай, это мужики, не обращай на них внимания, – глаза под очками в фиолетовой оправе иронично улыбались, – скоро это всё закончится. Ты возьмёшь на руки своего малыша, такого хорошенького, и заберёшь его домой.
– Я знаю, – Катерина чувствовала, как к лицу прилила кровь; в темени заломило.
– У нас конвульсии, – невозмутимо констатировала доктор Вульф.
– А вы ещё спрашивали, «зачем пристёгивать»! – доктор Шепард хмыкнул.
– Надрез недостаточно длинный, – наверное, это сказал доктор Кольт. Катерина ощутила волну тошноты, подкатившую к носоглотке.
– Кислород! Давление! – неизвестно кому выкрикнула анестезиолог, и на лицо Катерины, неожиданно, как сачок на бабочку опустилась кислородная маска.
– Не шуми, – глухо отозвался, видимо, Кольт.
– Открой глаза, не теряйся… Слышишь? Оставайся со мной… – голос докторши в фиолетовых очках теперь звучал будто издалека.
Катерина протяжно зевнула, пытаясь захватить побольше воздуха, и провалилась в мутную, полубессознательную дрёму.
– Вернись! Не спать! Дорогая, не спи! Будь со мной… Сейчас ты увидишь своего малыша. Смотри! – не унимались фиолетовые очки.
От слова «малыш» Катерина встрепенулась, пытаясь побороть тошнотворную дремоту. Всё её тело трясло, а живот мяли, будто месили. И вдруг, живот опустел, это Катерина почувствовала очень отчётливо даже сквозь пелену анестезии, и тут же холодный воздух операционной взорвала пронзительная трель – возмущённый, отчаянный крик человека, которого насильно вытащили из тепла и уюта на холод, под жгущие беспощадно-ярким светом лампы-летающие тарелки. Хирургическая медсестра, стоящая рядом, ахнула и опустила экран.
Катерина вдруг увидела сизые кишки, багровую кровь и жёлтые икринки жира, белые марлевые салфетки, блеск инструментов.
– Марша! Какого дьявола? – воскликнул доктор Кольт, даже не подняв головы.
Испуганно, медсестра вновь подняла зелёную тряпку экрана и кишки исчезли из виду.
– Блондин! – удивилась доктор Вульф.
– Полюбуйся, мама! – доктор Шепард поднял заливающегося криком ребёнка и показал его Катерине.
Пусть говорят сколько угодно о равноправии полов, но, его никогда не будет. Ни одному мужчине не дано познать это несравненное блаженство, это торжество и недоумение, которое испытывает женщина в момент, когда, разрывая ткани, сквозь боль и кровь, из её тела на свет появляется новый, удивительный и совершенно ещё неизвестный, но, уже горячо любимый ею человек.
Время бежать
Только кажется, что одни вещи могут быть важнее или нужнее других. На практике, когда вдруг начинаешь собирать «всё самое дорогое» или «всё самое необходимое», принимать решения нелегко.
После операции прошло чуть больше месяца. Шов от кесарева почти не болел, теперь боль появлялась лишь при резких движениях; поэтому, Катерина старалась двигаться плавно. Грациозно она пылесосила, осторожно загружала и разгружала стиральную машину и сушку. Спокойно и тихо, чтобы не вредить себе и не раздражать мужа лишний раз.
Растрёпке было очень трудно, его, действительно, очень многое теперь раздражало. Кроватка малыша в его спальне сделала комнату совершенно не располагающей к сексу. Эта долбанная люлька заняла полкомнаты и просто пыталась кастрировать его, превратить из полного сил и сексуальной энергии молодого мужчины в плюшевое бесполое существо, служащее для охраны материнства и детства. С этим ребёнком надо было что-то делать, в спальне родителей ему было не место.
Жена, эта истеричная корова, ещё в утробе приучила малыша ненавидеть отца, и теперь от этого семейства можно было ожидать чего угодно. Мать Растрёпки, вместо того, чтобы подбодрить сына, обескураженного прибавлением, прислала ему ссылку на статью в интернете; в ней говорилось о том, что, характер человека закладывается ещё до рождения, и, якобы, не родившийся малыш способен узнавать и различать голоса своих родных. После чтения этой статьи, в голове Растрёпке назойливо зажужжали сказанные им гадости в адрес жены, пасынка и будущего ребёнка. В свете идеи о внутриутробном развитии, после такого и стараться не было смысла – так или иначе, этот маленький предатель рано или поздно всадит нож в отцовскую спину; Растрёпка знал это по себе.
По ночам ребёнок плакал, Катерина включала ночник и разговаривала с ним, так что, нормально выспаться в этом доме стало невозможным. Почему он должен слушать это щебетание в три часа ночи, да ещё терпеть свет в часы, когда все нормальные люди отдыхают? Не надо говорить о том, что ребёнок скоро подрастёт. Когда он подрастёт, начнутся другие проблемы, и так – без конца.
Растрёпка не просил ребёнка. Он не собирался ни выслушивать ночное кудахтанье, ни платите этой курице алименты. Стоит ли говорить о том, что, находясь дома, Растрёпка теперь пребывал преимущественно в скверном расположении духа. Впрочем, бывали и светлые моменты, и вещи, из которых можно было извлечь небольшую выгоду. Например, перкосет. Растрёпка попробовал таблетку этого средства, назначенного жене после кесарева, – просто сенсация! Всего одна таблетка не только избавила его от ноющей головной боли, но и одарила чувством лёгкой эйфории, которое продолжалось, пока Растрёпка не выпил шампанского, после чего он почти моментально заснул. Проснувшись, Растрёпка пересчитал оставшиеся в пузырьке таблетки перкосета и, приятно удивившись своему богатству, позвонил похвастаться Эмилю, одному из клубных друзей. Через час Эмиль купил у молодого отца все таблетки за наличность и, окрылённый удачной сделкой, Растрёпка укатил в ночной клуб.
Теперь он чаще ходил по клубам, а дома начал вести себя подчёркнуто жестоко, объясняя это тем, что сына надо воспитывать и с колыбели демонстрировать ему отцовский авторитет.
Первым делом, молодой папаша освободил свою территорию от любых намёков на другого самца, – в мусорный бак полетели фотографии, бейсбольные мячи, игрушки и одежда, подаренные Барином сыну. И, лишь от самого мальчика, пасынка, Растрёпка пока избавиться не мог, но, в уме уже просчитывал варианты, при которых его можно было бы отправить жить к папаше. Сначала выброшенные вещи исчезали из бака, в то время, когда Растрёпки не было дома, и это становилось причиной для новых скандалов. Однажды, вернувшись домой, Растрёпка обнаружил в гостиной два больших картонных ящика, наполненных одеждой, игрушками и книгами пасынка.
– Это что за переезд? – подозрительно осведомился Растрёпка.
– Это вещи, которые можно хранить у Барина. Хочу сделать перестановку в комнате сына, -соврала Катерина таким невозмутимым тоном, что муж поверил её и даже испытал удовольствие, подумав о том, что его работа, наконец, дала свои плоды.
А Катерина тоже работала. Осторожно, чтобы не вызывать подозрения у своего мучителя, она собирала свои и детские вещи в большую спортивную сумку, упаковывала походные рюкзаки. «Коробки для Барина» на самом деле были посылками в Россию; теперь Катерина ждала одного – со дня на день ей должен был прийти по почте паспорт малыша и тогда, забрав детей, она могла за несколько часов оказаться вместе с ними на краю света. Всё лучше, чем ждать, когда тебя принесут в жертву. Катерина планировала свой последний шаг – побег в Россию. Побег, потому что переездом такое не назовёшь.
Телефон, которым она пользовалась, прослеживался мужем; все банковские счета были общими, но, с рождением малыша, Растрёпка немного утратил бдительность, – куда она теперь денется с младенцем? Куда денется эта – похожая на желе, с целлюлитом, морщинистыми локтями и несвежими уже коленками, баба без педикюра? Да такую даром никто не возьмёт; Растрёпка был спокоен.
Катерина дождалась своего спасителя; когда Иисус в образе курьера службы «ФедЭкс» вручил ей белый пакет, из её уставших от напряжения глаз брызнули слёзы. В пакете лежал новенький паспорт тёмно-синего цвета, – билет в свободную, новую, пугающую своей неизвестностью жизнь.
Просить Форда о помощи было ошибкой. Отвергнутые дети не умеют прощать даже в пятьдесят пять. Дэвид Форд был очень доволен тем, что «русская приползла к нему на коленях», как ему нравилось об этом думать.
– Если бы ты сделала правильный выбор тогда, сейчас ты была бы хозяйкой в моём особняке, и твой сын обучался бы иностранным языкам и верховой езде. А не сидел бы в страхе, не зная, чего ожидать от неадекватного отчима, – крашеные усы адвоката победно возвышались над его самодовольной улыбкой. Ямочка на подбородке выдавала в нём извращенца, но, не только она.
– Предположим, я возьму твою наличность и куплю вам билеты в Россию на свою кредитную карточку. Твой нынешний муж, это примитивное существо, не узнает об этом. Я даже могу быть настолько любезным, – Дэвид облизнул губы, как сытый кот, – настолько, повторю, любезным, что отвезу вас в аэропорт в своём роскошном внедорожнике, – кот сделал паузу для того, чтобы как следует рассмотреть реакцию мышки. В достаточной ли мере она прониклась его великодушием?
– Дэвид, спасибо тебе огромное, я очень признательна. Вот – дата и номер рейса, которые нам нужны, – Катерина протянула старому извращенцу тетрадный лист с несколькими буквами и цифрами.
– Послушай, а что ты думаешь делать со своей машиной? – Дэвид насмешливо посмотрел на Катерину из-под очков. Неожиданный вопрос её сконфузил, это было заметно. – Неужели тебе не хватает мозгов и воображения представить, что здесь будет, когда твой бывший хватится тебя? – В глазах Дэвида заплясало пламя превосходства,– ой, прошу прощения, – твой всё ещё нынешний муж. С точки зрения законодательства, он – полноправный супруг, а также, что ещё важнее – отец ребёнка. И, если мужем он может и не быть после развода, то, отцовства его вряд ли кто-то сможет лишить просто так. Ты понимаешь, о чём я?
Катерина ощутила внезапную резь в животе. Она бросила взгляд на ребёнка, – малыш безмятежно спал в колыбели переносного автокресла.
– О чём ты? – спросила она, глядя в колючие чёрные глаза Дэвида.
– О том, что ты, уезжая с детьми в Россию, лишаешь их отцов возможности видеться с ними. А это на языке закона называется «похищением». Федеральная статья. Три года лишения свободы, – глядя на заметную невооружённым взглядом реакцию своей жертвы, Дэвид испытывал привычный восторг от самого себя.
– У меня нет выбора, – произнесла Катерина, с трудом проглотив горечь, подступившую к самому горлу.
– У тебя всегда есть выбор. Разведись. Сообщи в полицию, обратись в суд и получи защитный ордер на этого ничтожного тирана, – Дэвид говорил так, будто всю жизнь посвятил борьбе с домашним насилием.
– Я всё это уже делала. Полицейские говорят, что будут ждать, пока не прольётся кровь, – устало возразила Екатерина. Резь в животе отпустила, но, теперь свистело у неё в ушах.
– Нет скотов ленивей, чем полицейские. Всё, что они умеют – это ждать пенсии в очереди за пончиками, – с презрением процедил Дэвид сквозь порцелановые зубы, – раз решила, сделай хитрее. Напиши предсмертную записку.
– Не поняла… – Катерина чувствовала, как кровь пульсирует в висках. Ударов сто двадцать в минуту, как после хорошей пробежки.
– Да что тут непонятного? – Дэвид наслаждался своим издевательством над этой бывшей красавицей, когда-то отвергнувшей его, а сейчас – рыхловатой русской бабой, явившейся к нему в офис с просьбой о помощи. Это было триумфом не хуже звучной победы над мелкими лавочниками, которую он одержал недавно в окружном суде, – понятно, что этот неуверенный в себе щенок шпионит за твоим мобильником. Возьмёшь свой телефон, положишь его в бардачок своей машины. Напишешь предсмертную записку о том, как муж над тобой издевался, и, что больше нет сил терпеть, а сама отправишься в аэропорт. В это время негр сядет в твою машину, уведёт её подальше и утопит в озере.
– Какой негр?
– Из южного Сиэтла, разумеется. Первое, что они кинутся искать, когда хватятся тебя – твоя машина. Первое место, в котором они будут искать – парковка аэропорта. Проверять списки пассажиров международного рейса они сразу не смогут, для этого потребуется время и немного мозгов, а в вашем районе следователи – редкостные тупицы. Зато, как они возликуют, когда обнаружат твою машину и получат предсмертную записку! Им покажется, что они почти раскрыли дело.
– Покажется? – Катерина вытерла рукавом набежавшие слёзы.
– Разумеется. И не вздумай кидать предсмертную записку на обеденный стол своему идиоту. Её нужно отправить по почте в полицейское отделение на имя главного следователя, и не иначе! – старый кот поднял в воздух свой тонкий когтистый палец.
– Послушай, ты запутал меня. Я хочу просто уехать домой, чтобы выжить, – Катерина посмотрела на Дэвида умоляющим взглядом.
– Уезжай. Только оставь здесь американских детей. Ты же похищение планируешь, а я помогаю тебе запутать следы. Я, по идее, вообще не должен этого делать, но, помогаю тебе от своей доброты и милосердия. Ты должна быть мне благодарна.
– Я благодарна, очень…
– Тогда слушай дальше. Если здесь на тебя заведут дело о международном похищении детей, его передадут в Интерпол. Это – преступление без срока исковой давности. Через пять лет ты поедешь с детьми отдыхать на Майорку и тебя возьмут в наручники прямо в аэропорту. Твоих детей отдадут их безобразным папашам, если не неграм в приёмные семьи. Ты этого хочешь?! – Дэвид вошёл в раж и почти перешёл на крик.
Катерина с трудом сдерживала слёзы обиды и страха. Малыш продолжал безмятежно спать.
– Нет, Дэвид, я не хочу этого.
– Сколько стоят ваши билеты в Россию?
– Три тысячи двести на этот рейс, Дэвид.
– Давай ещё пятьсот наличными сверху, три тысячи семьсот, и я позабочусь о твоём автомобиле. – Дэвид достал из жестяной коробки остро заточенный карандаш и прицелился, – марка, модель, год выпуска?
В мире мужчин
Дэвид Форд не купил билеты в Россию на полученные от Катерины три тысячи двести долларов. И, конечно же, никто из негров в Южном Сиэтле не получил от него пятисот долларов или, хотя бы, половину авансом за угон и потопление Катиного автомобиля. Да, Дэвид и не собирался помогать этой провинциальной дуре. Таких сучек приходится учить простым вещам, простыми методами. Муж как президент: сначала выбирают лучшего из кандидатов, а уж когда выбрали, нечего жаловаться, всё равно, ничего не исправишь. Жаловаться мужчине на мужчину – что может быть глупее? Дэвид в глаза не видел ничтожного кухонного бойца из Украины, но, по духу Растрёпка был гораздо ближе ему, чем эта пафосная, но неуверенная в себе деревенская дура. К тому же, их с Растрёпкой объединяло то, что оба они были ею отвергнуты.
А что она, вообще, о себе возомнила?! Дэвид ей не подходит, молодой муж её тоже не устраивает. А мужчины, они, что – игрушки? Хочу – приласкаю, не угоден – пошёл вон? Дэвид Форд плевать хотел на проблему семейного насилия. Профессиональная деформация характера или родился социопатом – какая разница; Дэвид не собирался никому помогать, никогда. Получить выгоду, облапошив простофилю, – не в этом ли заключается один из ключевых для адвокатского успеха талантов? Да, конечно, она перезвонила и спросила про билеты. И, естественно, Дэвид ответил, что он передумал. Да-да, Дэвид передумал покупать билеты и вообще вмешиваться в это грязное дело. Интересно, а чем, вообще, Катерина думала, когда пыталась втянуть его в своё преступление? Неужели она действительно рассчитывала на то, что адвокат, известный на всю страну, станет соучастником международного похищения детей? Какой абсурд. Вернуть деньги? Какие деньги? Какие ещё деньги?! Никаких денег он не принимал, и, если у неё есть доказательства, она может предоставить их в полицейское управление, но, оскорблять его он больше не позволит. Гуд-бай.
Человеческая подлость не имеет границ. Ей подвластны врачи и строители, нищеброды и богачи. Подлости может быть подвержен всякий. Её так много вокруг, что, непонятно, почему в школах не обучают детей механизмам защиты от неё. От первоклассника, поставившего подножку товарищу, до корпорации, обворовывающей пенсионеров, подлость как эксперимент, метод и стратегия выживания в нашем мире. Почему же ты ощущаешь превосходство над другими и всё ещё позволяешь себе доверять людям? Доверие – вот наивысшая роскошь, которую мало, кто может себе позволить.
Катерина хотела кричать, но, не смогла даже расплакаться. Упрямые капли сиэтловского дождя помогли, омыв её лицо. Катерина поставила колыбель со спящим ребёнком под навес у двери в свою квартиру и вновь вышла под усиливающийся дождь, подставляя себя его хлёстким ударам. Почти четыре тысячи долларов, их билеты, пропали. Как теперь, с младенцем на руках, опять накопить эту сумму? Как вернуться домой? Страх и тоска и бессильная злость. Дождь превратился в ливень, и Катерина раскрыла рот, ловя прохладную воду. Сзади послышалось урчание автомобиля, вдова Магнуссон подкатила на «кадиллаке», оставшемся от её мужа.
Старуха запарковала машину у себя под окном и окликнула Катерину: «Зайди ко мне на пару слов». Катерина подхватила колыбель и вскоре она уже сидела на кухне у своей пожилой соседки.
– Можешь ничего мне не говорить, – не глядя на Катю, произнесла вдова и открыла холодильник, – я знаю точно, что ты чувствуешь. У меня тоже бывали дни, когда я стояла под ливнем, глотая воду. Боль от этого не проходит, и даже не притупляется, но, кто будет кормить твоего малыша, если тебя уложат в больницу с пневмонией?
Катерина молча разглядывала чайную пару из сервиза «Роял Далтон»; удивительные лиловые розы переплетались с ландышами.
– Сколько денег тебе нужно, чтобы уйти от него? – неожиданно спросила вдова Магнуссон, усевшись на стол напротив Катерины и глядя ей прямо в глаза, – отвечай, не стесняйся. Я живу за стеной, я всё слышу, я знаю обо всём, что с тобой происходит там.
– Три тысячи двести долларов, – ответила Катерина, подняв голову и увидев перед собой неожиданно ярко-синий взгляд совершенно незнакомой ей женщины.
– Считай, что они есть у тебя, – вдова Магнуссон подвинула поднос со сливками и сахарницей ближе к Катерине, – пей чай.
Элвис, неподвижно стоявший в углу кухни, за спиной Катерины, одарил вдову Магнуссон широкой улыбкой, надвинул ковбойскую шляпу на глаза и, на цыпочках, чтобы не разбудить малыша, удалился. Миссис Магнуссон слабо помахала ему рукой.
Прощай, Изумрудный город
Сама не отдавая себе в этом отчёта, Катерина прощалась с Сиэтлом. Она растерянно рассматривала из окна скользящего по хайвею «кадиллака» проплывающие серые здания, каждое из которых таило в себе множество разных, чужих жизней. Есть что-то страшное, тяжёлое, каменное в слове «никогда». Ты думаешь, что ты познал всё, и мало, что производит впечатление, – попробуй уехать из города, где прожил, хотя бы, лет десять. Уезжать навсегда – трагическая судьба эмигрантов. От хорошей жизни не уезжает никто, насиженные гнёзда просто так не покидают. Попробуй посмотреть на город, в котором прошли годы, и родились дети, а потом скажи – «больше никогда».
Больше никогда не обрадуешься снегу, так, как в Сиэтле.
Больше никогда не пройдёшь по набережной – воняющей соляркой, тиной и мочой бомжей, и всё же – удивительной пристани Изумрудного города, от которой паромы отправляются на чудесные острова, заселённые садовниками и мастерами.
Никогда не окажешься в кафе в университетском районе, и не вдохнёшь чарующий запах пыли в букинистическом магазине на Рузвельт-уэй.
Попрощаться с разноцветным парадом геев и лесбиянок на Бродвее, помахать рукой спешащим сквозь дождь адвокатам, бухгалтерам и простым клеркам. Сказать «гуд-бай» приливам и отливам под сырным диском луны, изумрудным газонам, каскадам весенних цветов, замшелому дождевому лесу и множеству манящих уютом огней.
Гуд-бай, Вашингтонское озеро, гуд-бай магнолиевая роща, гуд-бай, Сиэтл.
Катерина смахнула набежавшие слёзы; сидящий с ней рядом Матвей тронул её за руку и тут же отвернулся. Вдова Магнуссон запарковала автомобиль у входа в терминал «Аляска Эирлайнс». Она дождалась, пока её пассажиры покинут машину и вышла, чтобы попрощаться.
Матвей хмурился, деловито поправляя лямки увесистого рюкзака, младенец проснулся и внимательно смотрел на происходящее из автолюльки. Старуха нагнулась к нему, тонкие морщинки разлетелись в улыбке:
– Прощай, малыш. Езжай в Россию, учись быть русским! Но! – старуха сделала паузу и распрямилась, глядя на Катерину, – не забывай, что ты был рождён на земле свободных и в доме храбрых3!
Слезы брызнули из глаз Катерины, как у клоуна, она крепко обняла вдову Магнуссон:
– Спасибо за всё!
– Не стоит благодарности. Я просто рада за тебя, прощай, – старая американка протянула худую венистую руку и вытерла слёзы этой незадачливой русской, села в машину и завела мотор. Тронувшись с места, она опять физически ощутила присутствие Элвиса. Король разместился на заднем сидении, вдова даже чувствовала запах бриолина, исходящий от его шевелюры.
– Ты знаешь, детка, настроение у меня просто отличное, несмотря на паршивую погоду, вруби-ка нашу любимую, – произнёс Элвис.
– «Jail house rock»?! – старуха с удивлением подняла седые брови.
– Не, «Don’t be cruel» – ответил Элвис.
Ушла
Дождь лил бесконечным потоком уже третий день подряд, – это голодный Тлалок4 гневался и подыскивал себе жертву. Растрёпке и дела не было до этого синемордого, как он называл Тлалока, он просто в него не верил. Вернувшись с работы, он сразу обнаружил то, что не могло не расстроить: машина жены стояла припаркованной, как обычно, но, стекло с водительской стороны было открыто и в салон уже порядком набежало дождевой воды. Курила она, что ли? Ей же нельзя.
Растрёпка со злостью провернул ключ в замке наружной двери, вошёл в квартиру и крикнул с порога:
– Катя!.. Катя, мать твою! – Растрёпкой овладела ярость. Оставила машину открытой под дождём, кто теперь будет сушить салон?
Катя не отвечала. Не разуваясь, Растрёпка прошёл в зал. Необычно гулкий стук от его ботинок отрикошетил в область темени страшной догадкой. Пусто, в квартире было пусто. Не было здесь ни коровы-жены, ни пасынка, ни его собственного, родного, маленького сыночка. Растрёпка всё уже понял, знание вязким облаком висело в опустевшей квартире и проникало в него всё глубже с каждым шагом: цок, цок по паркету, – их нет и не будет, цок, цок, ты допрыгался, рыжий, ты перегнул палку, в чём-то ты был, всё-таки, не прав. Цок, цок, цок – три шага до спальни.
– Катя! – отчаянно и с надрывом выкрикнул Растрёпка, всё же, надеясь увидеть жену свернувшейся в калачик на кровати, хотя, он знал, что привычки спать днём у неё не было. Постель была пуста. Кроватка малыша тоже.
– Матвей! – Растрёпка с шумом выдохнул и кинулся в комнату пасынка. В комнате Матвея тоже никого не было; на кровати мальчика не осталось даже белья, голый матрас непривычно пестрил мелкими полосками.
Растрёпка схватился за телефон как за спасательный круг. Непослушными пальцами набрал привычный номер, – аппарат жены был отключен. Знание поглотило его. Растрёпка понял всё: жена вышла из-под контроля. Теперь все эти уютные вечера, секс, ужины, сказки, компьютерные игры, торты со свежими ягодами – в прошлом. В будущем – поиски, одиночество, алименты. Растрёпка повалился на диван из чёрного кожезаменителя, обхватил кудрявую голову обеими руками и взвыл: «Су-у-ука!»
Синемордый бог ацтеков заглянул к нему через широкое окно и облизнулся. Что может быть вкуснее, чем расстроенный мучитель? Тлалок причмокнул от удовольствия и от души шарахнул молнией.
Плакса-вакса
Сержанту Берри просто везло на этого Сергия Гриценко, это заметили все в отделении. Сначала – визит плачущей жены этого негодяя, потом – жалоба старухи-соседки, далее – дело о краже со взломом в кабинете психолога, Джоан Эшлей, главным подозреваемым по этому делу проходил, кто бы вы думали? Мистер Гриценко! И вот теперь этот персонаж явился в полицейское отделение сам, об этом Винсенту доложила дежурная секретарша Тиффани, хорошенькая толстушка, испытывающая глубокий интерес к уголовному делопроизводству.
Сержант Берри только вернулся с обеденного перерыва и взялся за свою почту, как Тиффани, прикрыв рукой микрофон на наушниках, зловеще прошептала:
– Винси, там твой мучитель явился собственной персоной, у него что-то стряслось, и он хочет поговорить с офицером полиции.
Винс сразу понял, о ком речь: мучителей у него на участке было раз, два и обчёлся. Неприятное предчувствие поселилось в животе сержанта Берри, но, он поборол его, подхватил планшет с пристёгнутой к нему ручкой и вышел в коридор.
Растрёпка сидел на кресле у стенда «Наши герои – вчера и сегодня». Его заплаканное, покрытое алыми пятнами лицо выглядело жалким, контрастируя с портретами гордо позирующих самодовольных героев американской полиции.
– Чем я могу вам помочь, сэр? – заботливо поинтересовался сержант Берри, брезгливо разглядывая парня с репутацией мучителя.
– Моя жена пропала, и пропал мой малыш… Мой маленький малыш пропал, его нет дома… – Рот у Растрёпки был перекошен к низу, как у пятилетней девочки, которой не купили игрушку.
– Расскажите подробней, при каких обстоятельствах это произошло? – Винс взялся за ручку и заскользил ею по планшету, стараясь не упускать деталей. Дурное предчувствие не отпускало, кружась в животе полицейского.
Из сбивчивого рассказа Растрёпки стало ясно, что он вернулся с работы и обнаружил машину жены открытой под дождём, самой же её дома не было, дети тоже пропали.
– Сэр, мы обязательно разыщем вашу семью, прошу вас успокоиться, – произнёс сержант Берри. В его мыслях конденсировалась чёрная туча подозрений, отгонять которую с каждым словом Гриценко было всё сложнее. Неужели он их… Нет, это слово произнести было невозможно, даже думать о нём не хотелось. Перед глазами Винса стояла плачущая жена Гриценко. Почему он не арестовал его тогда? Берри составил протокол, дождался, пока Растрёпка прочитает и подпишет его и вернулся в офис.
– Код десять-пятьдесят семь5, – передал он, поднеся к лицу рацию, и бросил Тиффани свой протокол.
У той округлились глаза.
– Неужели… – прошептала она.
Без суда и следствия
Следователь в отделе по борьбе с домашним насилием, лейтенант Ким Стоун, ненавидела мучителей. Для неё эта борьба была личной, как и для многих других в полиции. Получив протокол об исчезновении миссис Гриценко и её детей, Ким взялась за дело немедленно и вызвала сержанта Берри к себе в кабинет.
– Винс, что скажешь? Ты с ним знаком; каков из себя этот парень? – тонко выщипанные брови следователя соединились в сердитую стрелку на переносице.
– Типичный домашний мучитель, – Винс хотел, чтобы его оценка звучала компетентно, но, красота Ким Стоун сбивала его с толку.
– Что говорит твой инстинкт? Они живы?
– Честно говоря, лейтенант, я не знаю. Я попросил Тиффани подготовить тебе номера дел, в которых этот чёрт проходит подозреваемым или персоной интереса. По-моему, таких четыре только в нашем отделении.
– Да уж, похож на социопата. Поехали, – лейтенант Стоун захлопнула чёрную кожаную папку, и полицейские отправились на поиски семьи Гриценко.
Растрёпка сидел на супружеской кровати, обхватив голову обеими руками. По полу были разложены свёрнутые использованные подгузники.
– Что это? Так было, когда ты вернулся? – спросила Ким Стоун, указывая на них.
– Нет, это я разложил, – еле слышно ответил Растрёпка.
– Зачем? – настойчиво уточнила Ким.
– Потому, что я скучаю по своему малышу! – неожиданно вскрикнул Растрёпка и, повалившись на кровать, завыл.
С презрением посмотрев на него, Ким вышла из спальни. Сержант Берри сидел в маленькой столовой и возился с фотоаппаратом.
– Сними все комнаты. Мне также потребуются снимки обуви в коридоре и подгузников. Один из подгузников прихвати в качестве вещдоков, плюс, я хочу всё, что есть в его пепельнице и мусорном ведре.
– А ты куда?– Я опрошу соседей, – ответила Ким.
Вдова Магнуссон сразу поняла, в чём дело, увидев женщину в полицейской форме, шагающую по направлению к её дому.
– Вы насчёт соседки и детей? – спросила она, открывая дверь, – у меня их нет.
– А что вам о них известно? – Ким Стоун не была удивлена. Старушки-соседки всегда в курсе того, чтоб происходит рядом с ними.
– Они живы. Мать забрала детей и уехала обратно в свою страну.
– Откуда вам это известно? – у Ким лоб заломило от напряжения.
– Я сама отвезла их в аэропорт сегодня утром, – с достоинством ответила вдова Магнуссон, думая о том, как сейчас гордится ею Элвис, – не хотите ли чашечку чаю?
Соучастие, похищение, пожилая женщина получает условный срок, – отвратительные мысли вихрем пронеслись в голове Ким.
– Да, я выпью с вами чаю, – ответила она и последовала за старушкой.
– Он бил её, мисс. Он закрывал её, оставлял одну, мучал эту женщину. Это хорошо, что она уехала, для детей хорошо, – старуха пожала плечами и включила чайник.
– Вы знаете номер рейса? – жестокая борьба завязалась внутри Ким.
– Нет, зачем мне это знать, – ответила старуха.
– Не беда, спасибо за информацию, – Ким резко поднялась из-за стола, – до свидания!
– Мы же ещё не выпили чаю! – возмутилась вдова.
– Я спешу, – ответила Ким и вышла.
В аэропорту Ким выяснила номер рейса и время вылета Катерины и детей. Самолёт ушёл точно по расписанию, значит, сейчас они должны быть где-то над Атлантическим океаном. Время прилёта в Шереметьево было указано как шестнадцать часов завтрашнего дня, значит, нужно протянуть ещё хотя бы три часа до получения ордера. Меньше всего лейтенанту Стоун хотелось, чтобы мать посадили за решётку, обвинив в международном похищении, а детей отдали в руки этому социопату.
Ким заехала в кофейню «Туллис», взяла себе двойное американо и устроилась в углу, на диване. Она раскрыла это преступление без труда. Гораздо тяжелее было покрыть его. Протянуть, промямлить, дать ей уйти и не дать погибнуть в руках этого подонка. Ким пила обжигающий кофе и оглядывалась вокруг.
Как назло, в кофейне не было ни одной матери, зато два отца, типичные представители верхнего эшелона среднего класса, забавлялись со своими детьми. Один из отцов, лет тридцати, усадил трёхлетку к себе на колени и поил его шоколадным молоком из пластикового стакана. Второй – как соль на рану, качал младенца в автолюльке одной рукой и размешивал сахар в чашке другой.
Похищение ребёнка одним родителей лишает второго прав, гарантированных ему нашей конституцией и сводом законов Соединённых штатов. Своим бездействием, умышленным торможением дела, следователь Ким Стоун попирала конституционные права этого плаксивого, эгоистичного негодяя. То, что он бил свою жену, было известно многим. Об этом знали соседи, полицейские, да и друзьям этой семьи, наверняка, тоже было ясно. Но, перед лицом закона, это не значит, что его можно взять и лишить фундаментального человеческого права – видеть, как растёт твой ребёнок, как он улыбается, качать его в автолюльке, поить шоколадным молоком.
Это – Сиэтл, штат Вашингтон.
Ким обжигалась, но пила кофе, терзаясь и наказывая себя. Она очень много знала о домашних мучителях. Ей была хорошо известна ужасающая статистика – семьдесят пять процентов жён, убитых мучителями, погибают в течение месяца после ухода от своего партнёра. И тридцать процентов всех женщин, убитых в Соединённых Штатах, погибают именно от домашнего насилия. И, при этом, семейные суды давали и продолжают давать отцам-насильникам видеться с детьми, определяя режим свиданий.
Взгляд Ким застыл на красном стаканчике. Всего два года назад это было в её практике, – отец убил двоих детей во время свидания, а затем – порешил наблюдателя и покончил с собой. Мучители так мстят своим жертвам за собственные раны, ревнуя их к матерям, как в детстве ревновали своих матерей к их партнёрам. Дети погибают, а в лучшем случае – получают глубокие психические травмы от продолжения общения с теми, кто бил, насиловал, издевался. А суд – правой рукой выдаёт защитный ордер, а левой – выписывает разрешение на встречу с монстром, отправляет в логово к дракону.
У отца тоже есть права. Все люди допускают ошибки, американское общество принимает отцов с их недостатками и слабостями. Для алкоголиков и наркоманов у нас существуют реабилитационные программы, для мучителей – курсы принудительного лечения. Пусть отцы смотрят, как растут их дети, чего бы это ни стоило.
Перед глазами Ким Стоун поплыли образы детей, погибших от рук своих отцов: Райан и Мерфи, пяти и семи лет, задушены во время визита в попытке отомстить их матери за то, что ушла. Лейла, двух лет, – отец не хотел платить алименты и утопил её. Джонатан, трёхлетний мальчик, избитый до смерти отцом через две недели после развода.
Рот ли привык к горячему, или кофе остыл, – трудно сказать. Ким Стоун пила горький напиток большими глотками, вспоминая детей, – как они выглядели на месте преступлений и на фотографиях в папках дел, которые тоже не нуждались в раскрытии.
Отец и трёхлетка, сидящие напротив, выпили своё шоколадное молоко и засобирались. Ким поглядела на часы, подумала несколько секунд и поднялась, чтобы взять себе ещё кофе и сэндвич с тунцом. Спокойно поесть, протянуть время, дать им долететь до России, которая не выдаёт своих граждан. А потом уж – хоть Интерпол, хоть трава не расти.
Природа стейка
Молодой белохвостый олень осторожно ступал по свежему снегу, задирая голову и принюхиваясь. Старик сидел, почти не шевелясь, на кряжистом дереве, метрах в двенадцати от оленя. Несмотря на то, что вашингтонская зима уже вступила в свои права, одет он был в лёгкую куртку. Вопреки рекомендациям местных егерей, старик опять не надел оранжевый жилет, и даже не подумал раскошелиться на камуфляж, но, зрению неопытного оленя, недоверчиво вглядывающегося в переплетение ветвей, он был практически недоступен.
Красивое дикое животное совсем не походило на белохвостых оленей, вытканных на немецких гобеленах или напечатанных на жестяных коробках с дешёвым печеньем, украшающих жилища реднеков. В живом олене было что-то непередаваемо и неуловимо похожее на человека; казалось, что этот олень имеет и ум, и характер, и стремление к познанию. Тем больше старику хотелось его убить, всадить ему пулю в лоб между этих двух прекрасных изумлённых глаз. Какое право на существование имеет это создание, когда его Рудольф мёртв?
Старик медленно, чтобы не спугнуть, поднял ружьё и прицелился. Олень дрогнул и оступился, вдруг, почувствовав неладное; под его копытцем хрустнула ветка, и тут же щёлкнул продольно-скользящий поворотный затвор. Инстинкт сгруппировал ноги животного для прыжка, но, человеку опять удалось опередить природу. Тишину декабрьского леса прошиб выстрел, олень метнулся и исчез в молодой рощице, окропив снег розоватой кровью, – охотник пробил ему лёгкое.
Старик, не спеша, слез с дерева и отправился по следу искать свою добычу. Долго идти ему не пришлось, метров через двадцать он нашёл его. Олень лежал на снегу, неловко задрав голову и вытянув красивую длинную шею. Из раны, пузырясь, сочилась кровь; чёрные глаза остекленели, но, не утратили своего изумления.
Дэшер и Дэнсер, и Прэнсер, и Виксен. Комет и Купид, и Доннер, и Блитцен6. Спать, всем пора спать. Мистер Клаус похлопал себя по карману, чтобы убедиться, что разделочный нож на месте, достал верёвку и огляделся, – тушу неплохо было бы для начала подвесить, чтобы спустить кровь.
Камаштли, бог судьбы и охоты, бродивший за стариком по лесу с самого начала сезона, потряс своим жезлом. У него была идея получше.
Дарвин
Ничто так не бесит трудившегося всю неделю мужчину, как сцена ревности, устроенная бездельницей-женой. Устраивать скандал из-за лайков в социальной сети – ну, это уж слишком. Жена программиста Максима Семиутова, тридцатилетняя виолончелистка Ольга, вместо того, чтобы выйти на работу, сидела дома с ребёнком и, очевидно, сходила с ума от безделья. Нет, чтобы больше времени уделять своей внешности, – она ежедневно проверяла всю активность Макса в его любимых форумах и даже смела проверять историю в интернет-браузере, вынюхивая, как овчарка, адреса порно-сайтов, посещаемых супругом. Это всё не могло не злить, за это нужно было непременно наказывать.
На этот раз их ссора переросла в драку, и Максиму пришлось использовать попавшуюся под руку дочь как средство для нанесения побоев супруге.
Подхватив тщедушную трёхлетнюю Настеньку, он бил её тоненькими ножками, обутыми в ортопедические сандалии, Ольгу по лицу, по шее, по голове. Разбил бровь и надорвал мочку уха, когда каблучок Настенькиной сандалии задел золотую серёжку мамы.
Сначала Оля кричала и пыталась закрыться руками от ударов, наносимых её дочерью. Потом материнский инстинкт взял верх над инстинктом выживания, Ольга сгруппировалась, зарычала и, стремительно накинувшись на ликовавшего в экстазе победы над супругой Максима, вырвала Настеньку у него из рук.
– Я тебя, сука, сейчас на ремни порежу, – выдохнула Ольга, крепко прижимая к себе пустившую слюни, немую от ужаса девочку, которая с тоской глядела в потолок, крепко держась за измочаленного белого Чебурашку из Сочи.
– Потише, истеричка, – неожиданно с достоинством произнёс Максим, вытер бороду и, с сожалением оглядев растерзанную жестоким семейным конфликтом уютную когда-то кухню съёмного дома, заметил: – А теперь тебе весь вечер придётся дерьмо это вывозить, психопатка. – Очевидно, он винил темперамент и несдержанность супруги в том, что пол кухни был изуродован битой посудой, просыпанным молотым кофе и разлитым красным вином, аромат которого восходил над полем боя и, приятно щекоча ноздри Максима, сулил ему замечательный вечер в иммигрантском клубе знатоков.
Максим аккуратно, стараясь не наступать на осколки и лужицы вина, вышел из кухни, наскоро принял душ, надел новые джинсы и свежую футболку, слегка надушился и, в превосходном настроении выпрыгнул за порог дома, оставив ребёнка, собаку и разорённую кухню на руки сердитой, ревнивой жены.
В свои неполные тридцать восемь лет Максим уже считал себя вполне состоявшимся мужчиной; он получил контракт в компании-гиганте, осилил ипотеку, женился во второй раз и стал отцом для троих детей. Первые двое отпрысков так и остались в России, со старшей женой, как шутливо Максим называл бывшую супругу. Новую же семью он притащил за собой в Сиэтл и очень этим гордился.
Отцовство, тем не менее, было ему в тягость, он открыто признавал это перед своими друзьями, многие из которых, будучи верны сегодняшней моде, тоже говорили, что не любят детей и очень от них утомляются.
Максим выжал сцепление и переключил скорость на четвёртую. Двадцатилетний «Ниссан» серебристого цвета, который Макс про себя называл «шатлом», скинул обороты и загудел на терцию ниже. Макс приоткрыл окно и сунул себе в зубы «Кэмел», затем, не глядя, ткнул указательным пальцем – сначала в кнопку прикуривателя, затем на клавишу «плэй», добавил звука «Аэросмиту» и с удовольствием закурил. «Every time I look in the mirror, all these lines on my face getting clearer…» – Макс прочувствовал боль Тайлера; он чуть нагнулся, чтобы заглянуть в боковое зеркало и заметить и на своём лице те самые линии, о которых пел Стив. Да, Стивен Тайлер был, как всегда, прав. Действительно, время беспощадно казнило юность Максима, оставляя ему лишь… Макс утвердительно кивал головой в такт песен. Нам остаётся – что? Лишь мечтать. И лучше, пока есть ещё порох в пороховницах, следовать хоть каким-то своим мечтам. Где-то в районе солнечного сплетения у Макса засосало давно забытое чувство, – ему хотелось приключений. Нет, не нудного вечера с еврейскими умниками, застрявшими навсегда в начале девяностых, с их предсказуемыми шутками и многозначительными улыбками, – Макс усмехнулся, – девушки того круга его тоже совсем не интересовали, таких у него и так было – хоть отбавляй. Занудная старшая жена – филолог и виолончелистка-младшая, вечно выискивающая проблемы на ровном месте. Нет, сейчас Максу хотелось совсем иного – водки и блядей, именно в таком порядке. Макс даже произнёс это вслух, анонсировав, подобно конферансье, выступающему перед академической аудиторией: «Водки и блядей!»
Где-то в глубине, еле слышно, как мышь на дне высохшего колодца пискнула совесть. Макс решительно дал ей отпор, произнеся вслух: «эта стерва сама во всём виновата. Я и так кормлю её, одеваю и в Америку их приволок не для того, чтобы сдохнуть здесь с тоски». Теперь ему был нужен только соучастник, ведь кто-то должен быть свидетелем его величия. Она начал перебирать в мыслях всех своих товарищей с работы, но все эти нытики было либо безнадёжно женаты, либо безнадёжно трусливы и скупы, а на блядей придётся раскошелиться.
Паркуя «шатл» на стоянке у своего офиса, недалеко от зала, где намечался клуб знатоков, Макс увидел знакомого рыжего парнишку, который курил, озабоченно роясь в телефоне. Это был Растрёпка, новенький тестер, из киевских.
Ум Максима лихорадочно заработал: пацан ещё полу-зелёный, на вид ему не дашь и тридцатника. В Америке недавно, – наверняка согласится составить ему компанию. Украинец, на нищеброда, вроде, не похож, но, скорее всего, прижимистый. Да, чёрт с ним! Даже если придётся заплатить за него там и сям, Максу нужен был соучастник и зритель. Кто-то должен был видеть его кураж и отвагу, восхищаться его внутренней свободой и отвязностью. Малознакомый Растрёпка подходил на эту роль как нельзя лучше.
– Слышь, братец. А может, ну их в баню, этих умников? Поехали, тупо, по бабам! – выразительно произнёс Макс, наслаждаясь собственной дерзостью. Он чувствовал себя Джоном Траволтой и Сэмюелом Джексоном одновременно, прикуривая очередную сигарету, он даже не ощущал её вкуса, от адреналина, волнами приливавшего куда-то в область горла.
Растрёпку не пришлось уговаривать. Через три минуты они уже мчались по хайвею, по очереди поглядывая на табло навигатора, согласно которому до заветного клуба «Сладкое место» оставалась около пятидесяти миль. Макс давно хотел туда наведаться, но, никак времени не находилось, – то походы на вулкан, то воскресный фермерский рынок.
Макс включил «Океан Эльзы», чтобы ещё больше расположить к себе Растрёпку. Тот, пользуясь возможностью, припрятал белые «Мальборо» глубже в карман и переключился на Максов «Кэмел». Шутка ли, налог на сигареты увеличили чуть ли не вдвое.
Кулер
– Понимаешь, Трёпыч. Мы слишком много живём для других. Согласись? Отдаём свою молодость, время, деньги, наконец, тем, кто этого совершенно не заслуживает!
– Базаришь, – гундосо прокомментировал Растрёпка и закурил.
– Так вот же, – продолжал приободренный этим скупым комментарием Макс, – ни нашим детям, ни нашим жёнам не нужна наша молодость. Что есть жизнь, Трёпыч? Она хрупка и мимолётна. А мы бездарно тратим её на ругань и недовольство друг другом. Моя жена сегодня на кухне такое устроила! Из-за того, что мне пришла смска от бывшей, которую я уже с год не видел. Прихожу домой, уставший как лошадь, голодный как волк а мне, вместо ужина, – «скотина»! Это нормально?
– Это не нормально. Это полный бред. Зачем так жить? – неглубоко затягиваясь халявным «Кэмелом», Растрёпка подумал, что сейчас неплохо было бы принять энергетик, а ещё лучше – «Редбулла» и водки сразу.
– Так я и говорю! Мы плохо живём, надо иначе! Вот, Трёпыч, старик, скажи мне, ты счастлив в своей семье?
– Я? – вопрос застал Растрёпку врасплох, – у меня больше нет семьи. Жена ушла, с ребёнком, – ответил он, испытав облегчение от того, что уже произнёс это вслух.
– Так ты – свободный человек, Трёпыч! За это стоит выпить! – с притворным восторгом воскликнул Макс и, шутя, ткнул Растрёпку кулаком в бицепс.
– Смотри на дорогу, – хмуро отозвался тот.
Разговор о семье основательно подпортил Растрёпке настроение. Теперь ему ещё сильнее захотелось выпить.
– Затормози, может, у ликер-стора7. Надо бы поддать малость, – обратился он к Максу.
– Вот! Наш человек! – радостно отозвался Макс.
В ликероводочном магазине глаза Макса разбежались. Он всегда с интересом относился к новым напиткам и был не прочь поэкспериментировать. От скотча он перешёл к коньякам, от коньяков – к ликёрам, потом опять вернулся к скотчам, бережно снимая с полок интересующие его бутылки, и так же осторожно возвращая их на прежние места. Пока Макс любовался многообразием спиртного, сулящего удовольствие и кураж, Растрёпка деловито достал из ящика, стоящего на полу, бутылку водки «Финляндия» и направился к кассе. Это, конечно же, было фарсом, потому что платить за водку Растрёпка не собирался, чувствуя настроение и характер своего нового товарища.
– Макс, ты скоро? – окликнул Растрёпка.
– Постой, не плати! Я возьму, – немедленно отозвался Макс, – сейчас, вискаря прихвачу ещё пузырик…
Помешкав ещё несколько секунд, Макс взял бутылку «Красного лейбла» и поспешил к Растрёпке. Несомненно, бутылка «Шиваса» была бы куда более приятной покупкой, но, какое-то мелочное чувство жлобства ужалило Макса, когда он подумал о том, что этим напитком придётся делиться с Растрёпкой, который, понятное дело, в скотчах не разбирался.
– Пятьдесят три доллара, восемьдесят три цента, – равнодушно процедила пожилая кассирша, упаковывая обе бутылки в коричневые бумажные пакеты.
Макс привычным движением запустил руку в бумажник, но, нужной банковской карты в нём не обнаружил. Покопавшись немного, он вспомнил, неожиданно покраснев, – позавчера он отдал карту жене и так и не удосужился забрать. Чуть помешкав, Макс оплатил спиртное новенькой кредиткой, которая была спрятана в бумажнике на всякий случай.
– Разворачиваемся, – сказал Макс, когда они с Растрёпкой снова оказались в машине.
– Чего? – насторожился Растрёпка.
– Домой ко мне надо заехать, за баблом. Нужную карту забыл.
Макс повернул ключ и «Ниссан» решительно заурчал.
Прикидывая, как бы ему ловчее и незаметней проникнуть в спальню, чтобы изъять из кошелька жены свою кредитку и сбежать с минимальными потерями, Макс подошёл к дому.
Окрашенная в шоколадный цвет и от этого очень напоминающая плитку бабаевского горького дверь застыла молчаливым стражем на пути. Макса посетило чувство, похожее на панику, от которого у него засаднило в горле. Осторожным движением вора-квартирника Макс открыл нехитрый дверной замок своим ключом, неслышно шагнул вовнутрь и обмер. Через тёмный коридор он увидел мерцающие на полу полумрачной кухни осколки битой посуды. Поле битвы осталось неубранным, а оставлять острые стёкла под ногами ребёнка – это было так непохоже на Олю. Сердце Макса булькнуло, отдав под левую ключицу; «Ерепенится. Вообще, последний месяц меньше стала следить за домом, бастует», – уговаривал себя Макс, не желая прислушиваться к верному предчувствию. «Оля!» – ответа не последовало. «Оля!» – ещё громче позвал Макс, – «да что ты за Том Сойера здесь мне устраиваешь, мать твою налево!» Макс ощутил холодное покалывание в пальцах. «Гарри!» – потеряв надежду, позвал он лабрадора, но, и добродушный пёс не появился. Макс, не снимая ботинок, проклацал подошвами по кухонному полу, стараясь обходить битое стекло. Жены не было.
Ольга Викторовна ушла, прихватив с собой Максову дочку Настеньку и пса, к которому Макс был почти привязан. Оля не оставила ни записки, ни сообщения на телефоне. Она не убрала на кухне и не помыла посуду. Рассыпанный кофе по-прежнему наполнял своим ароматом изуродованную семейной сценой кухню, одержав победу над выдохшимся красным вином, которое кровавыми слезами латиноамериканской иконы растеклось по бежевому коврику. Этот запах, совсем недавно восхищавший Макса, теперь вызывал у него спазмы в желудке.
Рот вдруг наполнился водянистой горькой слюной, и Макс еле сдержался, чтобы не выблевать на пол сэндвич и салат с креветками, который он съел пару часов назад в кафетерии бизнес-центра. Заплетающимися ногами он добежал до туалета и мучительно опорожнил желудок в давно не чищенный унитаз. Макс включил холодную воду в умывальнике, прополоскал рот, умылся, вытер лицо Настенькиным полотенцем и посмотрел на себя в неопрятное зеркало. Сжимая розовое полотенце с вышитыми на нём жёлтыми утятами, из зеркала на него смотрел бородатый человек с красным, перекошенным от злости и отвращения лицом.
В каком-то фильме Макс видел, как герой, от которого ушла жена, крушит всё в доме, и, в том числе, вдребезги разбивает большое зеркало. Макс не ощущал подобного порыва, но, в голове его мелькнула мысль о том, что Растрёпка вполне может зайти в дом, чтобы проверить, всё ли там в порядке. И тогда, предстать перед ним крушащим всё в доме было бы весьма эффектно. Однако, за погром в съёмном доме пришлось бы выложить солидную сумму, поэтому Макс отбросил эту мысль.
Оля, дрянь, эгоистичная дрянь, ушла в ночь и забрала с собой кредитку. Холодный пот вдруг прошиб Макса от шеи до копчика. Его деньги. В коробке из-под дешёвого голландского печенья супруги держали НЗ – десять тысяч долларов наличкой. Тенью Макс метнулся в спальню, залез под кровать, нашёл чёрную ладью, ценник от какой-то одежды, свои шёлковые трусы, – коробки из-под печенья не было.
Он посветил телефоном, включив в нём приложение «фонарик», и не обнаружил ничего, кроме носка и нескольких пушистых комочков пыли. Макс вылез из-под кровати, приподнял матрас, без особой надежды пошарил под подушками. Ясно как Божий день; Оле нужны его деньги. Макс упал на кровать, откинувшись на свёрнутое в калач покрывало и уставился в потолок. Крупный чёрный паук деловито работал ножками, огибая тронутый пылью кремовый плафон с золотым ободком.
Он должен был догадаться раньше. Он должен был предчувствовать это. Когда она перестала мыть пол каждый вечер в прихожей, когда она забросила ежедневную уборку ванных комнат, – ведь это должно было стать для него сигналом, ведь это были первые признаки бунта! Макс смотрел на паучка и медленно прокручивал в голове плёнку событий, происшедших в семье за последний месяц. Их с Олей ссоры, его торжество, и её покорное повиновение господину, зарабатывающему американские баксы. Нет, она тысячу раз не права, эта женщина; злость опять завладела Максом. Телефон вздрогнул и зажужжал; увидев имя жены на табло, Макс подпрыгнул на кровати и аккуратно, чтобы ненароком не сбросить, прижал клавишу принятия звонка.
– Ты где?! – выпалил Макс вместо «алло».
– Не ищи нас, – сухо ответила жена, – не стоит. Мы в безопасном месте. К тебе мы больше не вернёмся.
– Зая, бросай свои шутки, я соскучился по вас, – проскулил Макс тоном обиженного ребёнка.
– Документы для развода ты получишь по почте от моего адвоката, – голос жены звучал жестоко и чуть пафосно. Насмотрелась голливудщины, злая, мстительная сучка.
– Оля! Оленька! Ну ты же по живому меня режешь! Ты же за самое больное зацепила! – неистово кричал в трубку Макс, не меняя своего положения на кровати.
– Твоё самое живое лежит на полке возле телевизора, – спокойно возразила Оля.
– Кредитка? – Макс подскочил с кровати и пошёл в зал. Оля отсоединилась.
Смена декораций
Растрёпка увлеченно убирал следы сражения семьи Семиутовых с пола, покрытого клетчатым линолеумом. На душе его было намного легче от осознания факта, – жёны уходят не от него одного. Он сгрёб чёрные, тепло пахнущие раскрывшимся каберне, осколки в плотный пакет для мусора и, порывшись в шкафчике под раковиной, нашёл щётку и совок к ней.
Старательно подметая пол, Растрёпка чувствовал, как к нему возвращаются силы. Он еле сдерживал улыбку, ощущая облегчение и радость от того, что он не один такой неудачник. Будто кто-то осветил фонариком лестницу в тёмном подвале, где он находился, и появилась надежда выбраться.
Макс сидел на полу в коридоре, вытянув вперёд и скрестив ноги и забросив руки за голову, он искоса поглядывал на Растрёпку и размышлял. Самое страшное в этой ситуации – алименты. Сколько заставят платить за дочь в Америке – вопрос открытый, надо будет связаться с юристом. Опять же, юрист тоже жрать хочет, это дополнительные растраты. Оля, скорее всего, адвоката себе наймет, значит, и ему не обойтись без компетентной юридической поддержки. Максу захотелось выпить. Он бросил взгляд на Растрёпку; тот старательно вытирал пол мокрой салфеткой.
– Слушай, Трёпыч, а может, накатим? – спросил Макс, довольный тем, что кухня начала принимать свой обычный вид безо всяких усилий с его стороны.
– Хорошо, давай бахнем, – шмыгнув носом, ответил Растрёпка таким тоном, будто выпить его нужно было ещё уговорить.
– Тогда я – за бухлом, – поднимаясь с пола, решительно произнёс Макс. Оказавшись в машине, он нарочно помедлил, покопался в телефоне, проверил электронную почту, и, лишь потом вернулся в дом.
Когда он вошёл в кухню, Растрёпка уже деловито суетился у сковороды, на которой шкворчала яичница, поджаренная, судя по аромату, на сливочном масле.
– Тебе яйца сыром посыпать?– не оборачиваясь, спросил кулинар. Макс хотел сострить, но решил не злить Растрёпку примитивной пошлостью и ответил:
– Давай!
– Ну, снимай штаны! – оскалился Растрёпка и заржал, довольный своей идиотской шуткой, но тут же замолчал, получив увесистый подзатыльник от Макса.
– Дошутишься, кум. Иди, выпьем,– сурово произнёс Макс и достал два круглых стакана.
Некоторое время они пили и закусывали, но за окном густела ночь пятницы, и Растрёпке хотелось веселья. Водка придала мыслям Макса определённую ясность. Он понял, что множество вопросов о предстоящем разводе, роящихся в его голове, лучше отбросить в сторону до встречи с толковым адвокатом. Теперь же, в пятницу, полагалось жить и не думать о том, что причиняет боль. Каким был план изначально? Водка и бляди. Водка была уже почти выпита, а блядей – нет, как нет.
– Мы снимем проститутку, – безапелляционным тоном произнёс Макс, будто речь шла о вызове сантехника для устранения засора водопровода.
– Да зачем? – нерешительно возразил ошеломленный этим неожиданным заявлением Растрёпка.
– Когда тебе хочется есть, ты покупаешь еду. А если тебе нужен секс, ты покупаешь проститутку, – важно разъяснил Макс. Он упивался авторитетной ролью старшего товарища, которую ему удалось занять в общении с Растрёпкой. Боль, причинённая Ольгиной выходкой, притупилась; Максу вновь хотелось курить, ещё выпивать, отпускать остроумные шуточки и вообще, вести себя, как подобает, пожалуй, настоящей рок-звезде. А что, теперь он мог себе это позволить.
– Да ладно тебе, – смутился Растрёпка, боящийся проституток и венерических болезней, как чёрт ладана, – потратим кучу денег, а толку – ноль. В сто раз лучше просто лысого погонять, бесплатно, и никакого напряга.
– Как ты сказал? «Лысого погонять?» – Макс залился хохотом, в котором, если бы Растрёпка сам не был так взволнован, можно было бы заметить нервные нотки, – дружище, прибегать к мастурбации, или, как ты это назвал, – «лысого гонять», когда хочется секса, – это всё равно, что выпить водки с голодухи. Ну, представь! Тебе жрать охота, а ты это чувство глушишь водярой. Так не пойдёт, будет только хуже.
– А где мы её возьмём? По вызову – стрёмно. Приедет какой-нибудь крокодил, у меня потом до смерти ни на кого не встанет…
Максу было ясно, что Растрёпка боится проституток, но отступать он не собирался.
– В стрипаке и возьмём, – уверенно ответил Макс, на ходу придумав новое слово и стараясь держаться удалым завсегдатаем стриптизов в глазах своего молодого товарища.
– Ну, если там, тогда, ладно, – нехотя согласился Растрёпка, в тайне надеясь, что у него получится соскочить, – хоть выбрать можно будет, посмотреть…
– Там всё не так просто, брателло, – нравоучительным тоном продолжал Макс, – чтобы узнать, кто из баб снимается, нужно сначала прикормить менеджера, а там уже он сам подкинет, кого надо. Растрёпка огляделся и отхлебнул из банки с Ред Буллом.
– Слушай, Макс. У меня сейчас, реально, бабла столько нет, чтобы тёлок снимать за деньги, – возмутился он, почему-то подумав о том, как витамины из энергетика проникают к нему в кровь, – я же развожусь!
– Эх, старик! Запомни это состояние, оно тебя ещё посетит, и не раз! От меня ушла уже вторая баба и куча детей. Детей, собак – всех уволокли. Впереди – адвокаты, алименты и финансовые катастрофы, но это – жизнь, братан. Свобода стоит денег, – не в силах сдерживать самодовольной улыбки, Макс кинул взгляд на Растрёпку, тот в очередной раз хлебнул. От произнесённой им же речи, Максу вдруг сделалось ещё легче и веселее на душе. Он опять убедил себя в том, что поступает правильно, просветлевшая физиономия его попутчика лишний раз доказывала его правоту.
– Слушай. А давай сначала не в стриптиз. Пошли сначала в русский клуб на дискотеку? Там баб этих сколько угодно можно снять. Замужних, бесплатно и без болезней всяких, – Растрёпка встрепенулся надеждой избежать проституток.
– Поехали, – неожиданно согласился Макс, – мы ничего не теряем. Шлюху снять никогда не поздно.
Русская дискотека
В русском клубе воняло потом, куревом и немытой тряпкой, которой кислая официантка с окрашенной в лиловый цвет головой елозила по столикам и барной стойке. Возвышаясь над удивительно однообразно танцующими, светился натянутый на стену экран, на который из прожектора струились кадры из клипов середины девяностых годов. Девяностые – это эпоха, в которой замерли и кристаллизовались многие эмигранты, приехавшие в США из стран бывшего советского лагеря. В этом смысле «русский клуб» был настоящим заповедником, – джинсовые куртки, юбки, джинсы-варёнки, разноцветные лосины, цветные пиджаки и – пик моды – спортивные костюмы «Адидас». Все эти вещи сидели на своих хозяевах так гордо и удобно, будто те оказались в клубе, совершив путешествие в машине времени и переместившись в хмурый Сиэтл из Владивостока, Еревана, Баку девяностых. Под вертящимся зеркальным шаром, выстроившись в три круга, танцевали женщины. В наиболее широком круге двигались безнадёжные, отчаявшиеся матери семейств, свежеразведённые и их замужние подруги, тоскующие по мужскому вниманию. Вплющенные в обтягивающие платья испорченные ожирением тела двигались с откровенной яростью в тоскливой, но решительной попытке привлечь самца. Этим дамам было далеко за тридцать, они вертели целлюлитными задами, словно пытаясь зацепить мужчин невидимыми крючками, прицепленными к ним.
Гардероба в этом заведении не было; люди вешали свои куртки и плащи на стулья, которых было не много. Груда вещей возвышалась на барной стойке сбоку.
Человек шесть армян сидели в одинаковых чёрных кожаных куртках за двумя столиками сдвинутыми в букву Г. Они чувствовали себя хозяевами в этом гадюшнике, – покупали спиртное бутылками и громко гоготали, выразительно радуясь своим бородатым анекдотам. Рядом с каждым из них пустовало по стулу; их женщины тоже танцевали на площадке, объединившись в собственный круг, они вскидывали руки вверх и отчаянно визжали, выражая гиперболизированный восторг. Мужья довольно поглядывали на них, блуждая глазами по всем, кто искал любви в этом болоте.
За столом армян было щедро и весело; армянское верное братство придавало смелости и самоуверенности каждому из сидящих, поэтому, вместе они были дерзки и решительны. Однако, стоило армянину оказаться одному среди евреев или украинцев, как он сразу становился скромным дипломатом.
Растрёпка знал одного из этих армян, – маленького, юркого паренька по имени Самвел. Встретившись, они обменялись рукопожатием, возгласами радости и крепко обнялись.
– Садись к нам, братишка! – радостно пригласил Самвел, хлопнув Растрёпку по предплечью.
– Погоди, я с другом пришёл… – ответил он и бросил взгляд на Макса; тот стоял у барной стойки в неловкой растерянности и делал вид, что выбирает спиртное.
– Веди к нам своего братана! – бодро предложил Самвел.
Растрёпка и Макс оказались среди армян, которые пили и вели беседу об опричнине и рассказывали анекдоты о русских.
– Слушай, Трёпыч, – ухмыльнулся Макс, когда они вышли во дворик клуба, чтобы покурить, – лучше бы мы в клубе знатоков остались. Та же тема, но только не так потняком несёт, и баб хорошо видно. А так – путешествие в девяностые, диетическая версия, всего одна калория…
Растрёпка испытывал большое неудовольствие от того, что Максу не понравилось место, в которое он его привёл. Раскрасневшись, он напряжённо думал, куда бы ещё поехать с Максом. Тот, видно, прочитал его мысли, ухмыльнулся и сказал: «Расслабься. Сейчас мы всё-таки поедем в стриптиз и снимем себе первоклассных шлюх».
Всё же, Растрёпка зря переживал: Максу в русском клубе вполне понравилось, знакомая со студенческих лет музыка подняла ему настроение, напомнив о тех временах, когда он был молод, строен и беспечен. Гораздо больше, чем поиск секса в этой дыре, его заинтересовало общение с Арсеном, сорокапятилетним бакинским армянином, который работал на автодилерской. Макс решил, что грех не использовать такое знакомство, всё-таки, его «Ниссан» можно будет запросто заменить на автомобиль, который сделает его ещё более привлекательным для слабого пола, – было бы неплохо после развода разжиться чёрным бумером. А тут, как раз, ди-джей врубил «Серёгу».
Услышав вступление «Чёрного бумера», женщины на танцполе завизжали так, будто их окатили ледяной водой из шланга. Растрёпка оторвал взгляд от сидящей неподалеку украинской девушки, пытающейся объяснить что-то на ломаном английском своему американскому бойфренду, беспомощно моргающему близорукими глазами. Глянув туда, откуда визжали, Растрёпка увидел круг неистово пляшущих женщин. Их телодвижения, которые предполагались быть откровенно-соблазнительными, вызвали у Растрёпки раздражение и внезапно накатившуюся волну тоски по жене. Он вдруг вспомнил её тело, каким оно было в его объятиях, её лицо, не похожее ни на одно другое. Особенно ему нравилось видеть нежный восторг, которым она расцветала, когда получала букеты полевых цветов, которые, замаливая грехи, Растрёпка покупал у китайцев возле автозаправки, каждый раз с сожалением раскошеливаясь на пятнадцать долларов. Полбака бензина. Впервые после ухода Катерины Растрёпка вдруг ощутил всю неподъёмную тяжесть своих поступков. Ведь она ушла из-за него. Он мог бы сделать так, чтобы она осталась, мог бы не бить её… И тогда, он вернулся бы из этой вонючей забегаловки и оказался дома, в белоснежной постели, с чем-то вкусненьким на маленьком столике у кровати и нежным, безотказным телом – рядом. От злости на самого себя, Растрёпка схватил из корзинки бармена и безжалостно раздавил в руке четвертинку лимона. Лимон не замедлил отомстить своему палачу, брызнув таким отчаянным ароматом, что Растрёпка испытал почти физическую боль. Катя любила пить чай с лимоном перед сном. Он вспомнил, так пахли её пальцы, когда он целовал их. Звуки, мало похожие на музыку, которые так радовали Растрёпку, когда он только зашёл в клуб, теперь грохотали, вызывая у него раздражение. Обозлённый, он вышел покурить.
Красивая, стройная девушка в туфлях на невероятно высоких каблуках стояла возле входа, сжимая изящными пальцами сигарету в длинном чёрном мундштуке с логотипом «Пьер Карден». Увидев красавицу, Растрёпка моментально забыл о своей внутренней боли, и, достав сигареты, попросил прикурить. При этом, он состроил самую серьёзную свою физиономию, потому что именно это выражение, как ему казалось, было наиболее сексапильным. Девушка щёлкнула перламутровой зажигалкой, не сказав ни слова; лишь ямочка, мелькнувшая на правой щеке, изобразила подобие доброжелательности.
– Ты первый раз в этом клубе? – рискнул Растрёпка, пытаясь говорить непринуждённо, – что-то я тебя раньше здесь не видел.
Девушка скривила презрительную улыбку, ничего не ответив, и выпустила дым носом. Растрёпка внимательно рассмотрел бриллиантовую серёжку в аккуратной мочке её прекрасного уха.
– Молчишь? – спросил он, пристально глядя на девушку.
– А что, надо говорить? – вызывающе ответила та, глубоко затягиваясь сигаретой.
– Ну, да, – Растрёпка чувствовал, как чайник внутри него начал закипать.
– С тобой, что ли, нищеброд? – насмешливо ответила смелая красавица, – иди спать!
Внутри Растрёпки что-то лопнуло, и его щёки покрылись алыми пятнами.
– Пафосная сучка… – процедил он сквозь зубы и затушил сигарету об ноготь большого пальца на левой руке. Приняв боль, Растрёпка немного успокоился.
Из клуба вышел высокий американец средних лет, одетый в длинное серое пальто. Девушка подхватила его под руку, и они ушли, оставив Растрёпку в ярости. Растрёпка огляделся. Справа от него стояло несколько подвыпивших парней в кожаных куртках, надетых на спортивные костюмы, – это были какие-то кавказцы; они курили и оживлённо беседовали на неизвестном Растрёпке языке, не обращая на него никакого внимания. Слева охранник терпеливо объяснял пьяному негру, что сегодня – пятница, поэтому, за вход в клуб придётся заплатить. Вполне возможно, что никто и не увидел Растрёпкиного позора; эта мысль успокоила его. Выкурив ещё одну сигарету, Растрёпка вернулся в клуб.
– Поехали в стриптиз? – спросил Макс, увидев его, – я расплатился.
Попытка номер два
– Если вы имеете в виду проституток, то я должна вас огорчить. В нашем клубе нет проституции. Наши девушки этим не занимаются, – Силвия смерила Макса змеиным взглядом, поймав который Растрёпка похолодел.
– Если вас интересуют шлюхи, откройте последнюю страницу «Еженедельного Вестника»– там на любой вкус. А здесь – стриптиз, джентльмены. Ещё вопросы?
– Да, мадам. А до которого часа вы открыты? – спросил Макс, чтобы скрыть свою неловкость.
– До двух-тридцати. Бар закрывается в час, – равнодушно ответила Силвия.
– Двух-тридцати ночи?
– Ночи, – презрительно произнесла Силвия, развернулась на каблуках и ушла.
– Пошли, братан, нам здесь больше ловить нечего, – произнёс Макс, положив руку на плечо Растрёпке.
– И некого! – вставил тот, заметно повеселев.
Хорхе Рамирез получил код «010 010» на телефон от менеджера. Это означало, что джонов было двое, а проститутка нужна была только одна. Толстяк обрадовался и, подойдя к вишнёвой «Тойоте» на дальнем конце парковки, стукнул в стекло:
– Хочешь заработать?
Задремавшая в машине Рита Гиллера встрепенулась и обрадовалась. Вот уже неделю у неё не было никакой возможности заработать, кроме ненавистных конвертов с рекламой. Конечно, она хотела.
– Там двое русских. Вроде, спокойные парни. С ними можно сторговаться, – улыбающееся лицо Хорхе вселяло оптимизм. Рита закинула в рот свежий пластик жвачки и согласилась: «Давай!»
Было около трёх часов ночи, когда Макс привёл Растрёпку и Риту к себе домой. Растрёпка нервничал, хотя, волноваться было не о чем, – с легкой руки Хорхе Рамиреза, вместе с проституткой друзья получили и кокаин, и теперь дело было за малым.
Хмель от выпитых коктейлей успел выветриться, и Растрёпке больше хотелось есть, чем заниматься сексом, но, проститутка была стройной и симпатичной, а в холодильнике Макса осталось море еды, поэтому, он решил расслабиться и плыть по течению, чтобы получить максимум пользы из ситуации.
Рита Гиллера вошла в чужой дом, ещё не осознавая, что шёл отсчёт последних минут её жизни. Первое, что бросилось ей в глаза – иконы, расставленные Ольгой над камином. Лики святых в серебряных окладах смотрели сквозь Риту с печальным смирением.
– Ты сказал, твоя жена ушла? – спросила Рита, повернувшись к Максу, который уже стоял на коленях перед стеклянным кофейным столиком и кредиткой, как показывали в кино, мельчил кокаин.
– Ушла, ушла… – недовольным голосом ответил Макс, не поворачивая головы.
– Я знаю, она вернётся, – уверенно произнесла Рита.
– Вот уж, обрадовала, – хмыкнул Макс, – с чего ты взяла?
– Она ушла, чтобы тебя напугать. Чтобы ты научился ценить её. Женщина не может уйти и оставить своего Бога, ей будет страшно без него, – Рита провела рукой по холодной плите над камином.
Растрёпка, безмолвно сидевший на диване, оторвал глаза от Макса с кокаином и посмотрел на Риту у иконостаса. А ведь она права. Катя забрала свои иконы, возвращаться она не собиралась.
– Слышь, Трёпыч, какая прелесть, – проститутка, рассуждающая о семье и религии. Я боюсь, у меня от смеха теперь не встанет, – скривив ухмылку, прокомментировал Макс.
Ещё месяц назад вид кокаина расстроил бы Риту, означая, что секс будет долгим и мучительным. Теперь же, увидев маленькую кучку белого порошка на столе перед клиентом, Рита почувствовала другое.
– Оставь мне пару линий, – обратилась она к Максу.
– Ещё чего. Здесь ровно на двоих, – возразил тот.
– Дай ей занюхать, – вмешался Растрёпка.
– Разве что, твою долю, – недовольно ответил Макс.
– Отдай мою. Я не хочу, – твёрдо сказал Растрёпка, глядя на Риту.
Она была не такая, как проститутки, которых он видел в порнофильмах, и не похожая на тех, что выходят вечером на Аврору8. В её лице читалась скорбь. На секунду, Растрёпке стало жалко и противно представлять себе, как эту женщину, молодую и красивую, как принцесса, сейчас будет трахать этот бородатый тролль с пивным пузом. Ах, если бы Риту можно было спасти! Сидеть с ней во дворе университетского кафе и вместе учить сложные английские слова и смеяться шуткам друг друга.
– Трёпыч, ты уснул?! – Макс, наконец, измельчил кокаин, так, как ему хотелось.
Рита стояла у камина, вдыхая запахи чужого дома. Всё, что могло быть у неё – дом, и муж, и дети, и запахи кофе и готовящейся еды, доносящиеся из кухни, – всё это теперь было недостижимым и, признаться, совершенно ненужным. Детей воспитает тётка, у неё это лучше получается, как ни крути. Адвокат, защищающий честь католической церкви, позаботился о том, чтобы опозорить её на весь штат. Детям, если честно, вообще лучше без такой матери. Дом, кофе, еда – это тоже совсем не важно, когда в душе нет любви. Рита сделала ещё один шаг к своей смерти.
Дева Мария посмотрела на неё с иконы с неподдельной тоской. Сколько могла, она хранила Риту, оберегая её своим именем, как амулетом. Но теперь, когда изгнанная из стриптиза проститутка перестала носить её имя, святая Мария помочь не могла. Она не волонтёр, она только отвечает на молитвы, да и то, как правило, с большой задержкой, ведь просят многие.
На святую Маргариту тоже никакой надежды не было: от этой несчастной отрёкся отец и являлась она только мученицам, да и то, в самый последний момент, – кто, по-вашему, забирал Жанну Д’Арк из огня?
Рита опустилась на колени рядом с Максом, и тут же его рука просунулась под юбку и ухватила её за ягодицу. Точно так делал отец Риты, встречая её из католической школы на севере Акапулько, – хватал за ягодицы, просовывал свои отвратительные кряжистые пальцы глубоко в неё, смрадно дыша пивом, куревом и гнилыми зубами. Жизнь закончилась уже тогда, всё происходящее после – призовая игра.
Вдох через коктейльную трубочку, – порошок взлетел куда-то ко лбу, совсем не причинив боли, – кокс опять разбавлен лидокаином. Вдох второй ноздрёй, и запахи чужого дома исчезли, растворившись в новом, чудесном ощущении свободы. Рита поняла, что в смерти нет ничего страшного, – жизнь куда ужасней, и, чем дальше, тем больнее жить.
Эти русские клоуны, Макс и Серджио, они просто смешны в своей попытке казаться мачо. Маменькины сынки, которые понятия не имеют о том, что такое – жизнь. Раздетыми они выглядели комично. У Макса под его пузом висел маленький розовый член, у Серджио – не намного лучше. Ублажать этих двоих за двести долларов? Не смешите.
В спальне супругов Семиутовых было чисто, слишком чисто для того, чтобы веселить здесь этих недоумков. Рита решила принять ванну. Горячую, пенную, расслабляющую каждый мускул в теле. Макс зашёл в ванную комнату за ней.
– Высокий уровень гигиены – вот, что отличает проституток нашей фирмы от ваших! – воскликнул он и расхохотался. Растрёпка не ответил, он сидел на краю супружеской постели Семиутовых и сосредоточенно щёлкал пультом от телевизора в поисках подходящего порно.
Рита опустилась в горячую воду, ей казалось, что её тело, теряющееся под пеной, растворяется, и вот, она уже не чувствует ног! Это было поразительным, сладким чувством. Рита подняла вверх стройные, как ветви касауате9, руки.
– Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе? – бородатый мужик присел на краешек ванны. Мерзкий! Без очков он был бы похож на снежного человека, минус шерсть. У него даже не было волос на груди! Червяк!
– Да пошёл ты! – отказала Рита с раздражением и плеснула в Макса водой.
Снежный человек без шерсти питается душами женщин; он рассвирепел и, яростно набросившись на охамевшую проститутку, принялся её учить хорошим манерам.
Тонуть под кокаином сначала не больно, в первые секунды даже смешно. Интересно, как долго он будет держать Риту под водой? Темнота, как в материнской утробе. Не дышать, главное сейчас – не дышать. Но, Рита не может так долго не дышать. Вдох, – и горячая лава заполнила носоглотку. Пронзительная боль, недолго, и вдруг в темноте утробы зажегся яркий свет, и святая Маргарита, раздув пену, с улыбкой вгляделась в Ритино лицо.
– Hice todo lo posible para ti! 10 – произнесла она голосом матери Риты.
Семь бед – один ответ.
Ничто не предвещало стресса в мире британских домохозяек. Молодой парнишка, торговец мороженым, со свойственным жанру упоением наслаждался сексом с прекрасной блондинкой средних лет, из одежды на которой был только кружевной передник. Растрёпка развалился на постели в спальне Макса и Ольги и с удовольствием смотрел откровенное видео на платном канале, ожидая проститутку.
Макс с шумом открыл дверь ванной, ввалившись в спальню и разрушив идеальный мир британских домохозяек.
– Трёпыч, ты будешь смеяться, но, у меня в ванной мёртвая шлюха, – близорукие глаза Макса прищурились, стараясь сфокусироваться на Растрёпке. Тот замер с членом в руке, уставившись на снежного человека, облокотившегося на дверной проём ванной комнаты.
– Что? – спросил Растрёпка, вытаращив глаза. (Это – шутка, это – шутка, это – дурная шутка.)
– Вставай, вот что. Трах на сегодня отменяется, если только ты не некрофил. Но! Мы сэкономили двести баксов.
Сердце Растрёпки подскочило под горло. Не отпуская член из левой руки, он вскочил с кровати и правой схватил свои трусы и футболку.
– Куда подорвался? – хмуро спросил Снежный человек, – белый нам впарили – дрянь. Меня уже отпустило. Надо бы ещё по линии зарядить.
– Дай, посмотрю, – кое-как одевшись, Растрёпка протиснулся в ванную и не сразу понял, что он видит: среди клочков кудрявой пены в ванне неподвижно лежала та, что совсем недавно жила и говорила и пахла персиковыми духами, такими же, как у Катерины. Её лицо было полностью погружено в воду, глаза печально полуприкрыты. Ужас и отчаянье объяли Растрёпку, к ним примешивалось чувство горькой досады, – ведь он ни в чём не виноват! Он шагнул вперёд, чтобы попытаться спасти Белоснежку, лежащую в узкой белой ванне, как в хрустальном гробу, но, тут же отпрянул, – меньше всего ему хотелось оставить на её теле свои отпечатки. Растрёпка бросил взгляд на Макса, тот снимал с кровати простынь.
– Трёпыч, не строй из себя целку. Ты что, «Криминальное чтиво» не видел? Обнюхалась и утонула, дура. Пойдём, сделаем ещё по линии и поработаем лопатой, пока солнце не взошло, – невозмутимость Снежного человека немного успокоила его невольного соучастника.
Земля на заднем дворе Семиутовых была мягкой только сверху. Под полуметровым слоем рыхлой, кишащей дождевыми червями почвы, могильщиков ждал слой глинистый, изобилующий мелкими камнями; рыть его было тяжело. Лопата в хозяйстве была только одна, поэтому Максу с Растрёпкой приходилось сменять друг друга.
До рассвета было ещё довольно далеко, но, разносчик газет уже успел напугать заговорщиков, подъехав к дому на велосипеде и швырнув свежий номер «Сиэтл таймс» через забор.
– Слава Богу, жена убедила меня снять этот дом, – произнёс Макс, утирая пот с лица, – я хотел взять в другом районе, там был просто газон, без забора. Так тело не закопаешь!
Растрёпка сидел на корточках возле углубляющейся могилы и курил, глядя на Макса. На Белоснежку, которая лежала рядом, завёрнутая в простынь, он боялся смотреть. Грудь Растрёпки щемила тоска по его собственной загубленной жизни; сначала ушла жена с новорождённым, а вот теперь, сам этого не желая, он влип, как муха в столярный клей. Действительно, до конца не далеко, – этой девушки обязательно кто-нибудь хватится. Не может быть, чтобы такую красивую никто не искал. Копы выйдут на след Снежного человека, уж слишком много ляпов он допустил, – а там – до Растрёпки рукой подать. Может, действительно, удрать обратно в Киев? Жениться на хорошей, молоденькой девушке, прочно осесть в семью…
– Трёпыч, дай руку! – голос Макса, донёсшийся из на удивление глубокой свежевырытой могилы, прервал тяжёлые размышления Растрёпки.
Макс выбрался из ямы, швырнул лопату в сторону и, обтерев грязные руки об джинсы, закурил.
– Давай быстрее, я домой хочу, – Растрёпка взглянул на Снежного человека и подумал о том, насколько тот, всё-таки, спокоен и невозмутим.
– Послушай, друг. Мне это всё нравится не больше, чем тебе. Но, если ты прольёшь хоть слово, знай – тебя посадят вместе со мной. У тебя гражданство-то хоть есть? – Макс посмотрел на Растрёпку, как тому показалось, насмешливо.
– Не, только грин-карта.
– Отберут. Отсидишь, депортируют. Ясно?
– Да пошёл ты! – разозлился Растрёпка.
– Шучу, шучу! – Макс потрепал его по плечу. – Братишка, дай телефон на секунду, а то, в моём батарейка села.
Растрёпка, не задумываясь, протянул телефон и тут же упал в могилу, подкошенный оглушительным ударом лопатой по голове.
– Семь бед – один ответ, – пробурчал себе по нос Макс и направился к телу Риты.
Растрёпка очнулся от страшной боли в затылке, но не смог раскрыть глаза. Как он ни силился поднять веки, тьма давила на него со всех сторон. Пахло плесенью и дедовым огородом. Растрёпка застонал, сердце стучало в висках и в горле. Воздуха, ему смертельно не хватало воздуха. Он ещё раз попытался открыть глаза, но опять не смог. Внезапно запахло знакомыми духами.
– Катя? – вскрикнул Растрёпка, попытавшись вдохнуть, и вдруг он ощутил яркий, восхитительный свет впереди себя. Когда глаза привыкли к этому свету, Растрёпка увидел деда. Дед стоял перед ним с лопатой, утирая пот со лба, изрытым такими знакомыми продолговатыми морщинами.
– Дiда, ти що, не помер? – воскликнул изумлённый Растрёпка.
– Помер, помер. I ти, внучiк, теж, – ответил дед и отбросил лопату, раскрывая руки для объятия.
Божий промысел
Жена Рональда Клауса умерла от сердечного приступа, за два дня до годовщины смерти Рудольфа, и старик остался совсем один. Сначала мистер Клаус старался делать вид, что всё в порядке, будто его Барбара просто вышла в магазин. Он оставлял не заправленной кровать, потому что жена обычно просыпалась позже него и заправляла её сама. Вместо Барбары он сам срезал свежие цветы в саду и расставлял их по дому в её вазах, оставлял телевизор настроенным на её любимый канал.
Но, время неумолимо текло и уносило в своих потоках даже привычки, но, не боль. Боль ощущалась физически, она щемила внутри, где-то глубоко под рёбрами, словно кто-то сдавливал что-то живое плоскогубцами. Когда Рональд глотал пищу, боль отпускала на несколько секунд, поэтому, он стал чаще есть и поменял отношение к пище. Теперь ему нравилось есть жёсткое мясо. Каждый вечер старик ел оленину, жареную на углях. В столовой он больше для себя не накрывал, предпочитая есть у телевизора, сидя на маленьком матерчатом кресле.
«Срочные новости этого вечера: женщина, обвинившая католического священника в изнасиловании, объявлена пропавшей без вести». Старик вздрогнул и отложил вилку в сторону. Во весь экран светилась фотография – Маргарита Гиллера на фоне голубой занавески, снимок из департамента по выдаче водительских удостоверений. Портрет Маргариты сменился озабоченной дикторшей, азиаткой в безупречно сидящем на ней бирюзовом костюме: «Маргариту в последний раз видели в пятницу вечером; она вышла из дома в тренировочном костюме серого цвета и белых кроссовках. Её рост – пять футов, восемь дюймов, вес – сто пятнадцать фунтов. Если вам хоть что-то известно о её местонахождении, звоните по номеру нашей горячей линии…» Азиатка нахмурила брови, и её сменила фотография отца Генри, видимо, заимствованная с веб-сайта церкви святого Марка. «Около месяца назад эта женщина обвинила священнослужителя католической церкви, отца Мэтью Генри, в изнасиловании. Архиепископ Стэнли отказался прокомментировать эти новости нашим журналистам».
Старик несколько секунд вглядывался в лицо отца Генри. Внезапно он взял вилку и с силой всадил её в матерчатый подлокотник кресла.
Судный день
Отец Генри сидел на диване, сосредоточенно вчитываясь в контракт, предложенный риэлтором для продажи его дома. Он твёрдо решил переехать в Бостон и посвятить себя там исследованиям апокрифов. Иисуса же такой план не устраивал. В дверь настойчиво постучали.
– Кто там? – машинально спросил Отец Генри, поднимаясь с дивана. На самом деле, ему было всё равно.
– Вам – особая доставка, – ответил голос за дверью, и, через секунду, Иисус предстал перед лицом священника в образе старика с охотничьим ружьём в руках. Узнав его, Отец Генри не стал возражать. Возмездие свыше было необходимо им обоим; отец Гэндроу умер, не дождавшись процесса, а мистеру Мэтью Генри достались отличные адвокаты.
– А где у вас телефон? – поинтересовался старик, вскидывая на плечо Ремингтон. Левая рука его ныла с самого утра, но, он старался не обращать на неё внимания.
– В кухне, висит на стене, справа от входа, – ответил отец Генри, сам поразившись своему самообладанию, – почему вы здесь?
– Девушку жалко, Маргариту, – ответил старик, – она исчезла, и, скорее всего, её жизнь тоже закончена.
– Но, я не убивал, я любил её, – возразил священник, понимая, что на исповедь времени совсем не остаётся.
– Правда – как солнце. Она может быть спрятана ненадолго, но, она никуда не денется11, – ответил старик фразой, которую он, казалось, слышал раньше. Рональд Клаус прицелился. Он думал, что испытает облегчение, взяв на мушку того католического священника, который, как и ненавистный Гэндроу, насиловал и думал, что избежит наказания. Однако, за секунды до выстрела, старик почувствовал только, как закружилась его голова, будто он стоит на краю пропасти и смотрит вниз. Мистер Клаус нажал на курок, и прогремевший выстрел освободил душу священника, очистив её от страшных грехов и разворотив ему голову.
Без сожаления, но, и не испытав облегчения, старик положил ружьё на пол, посмотрел на то, что осталось от отца Генри, затем огляделся и прошёл мимо трупа в кухню, стараясь не наступать на кровь и не прислушиваться к жжению чуть выше желудка.
– Девять-один-один. Что у вас за экстренный случай?
– Добрый вечер. Я убил отца Мэтью Генри, – голос старика звучал прерывисто.
– Повторите, пожалуйста, что вы сказали? – диспетчер службы спасения была привычна ко всякому.
– Я. Убил. Отца. Мэтью Генри. Расстрелял из охотничьего ружья… – Спазм сдавил грудь старика, но, тут же отпустил; капельки пота выступили на лбу и кончике его носа.
– Как вас зовут?
– Мистер Клаус. Рональд Клаус.
– Где вы сейчас находитесь?..
Старик устало опустился на кухонный стул. Жжение в груди не проходило, тянущие боли в левой руке только усилились. Этот подонок в рясе священника, он заслуживал наказания за то, что он натворил и за то, что сделали его товарищи.
Вдруг, сердитая мысль блеснула ужасной догадкой: а что, если это не он убил девушку? Старик заглушил её, вспомнив о Рудольфе. Он закрыл глаза, чувствуя как жжение чуть выше желудка усиливается. За окном замелькали красно-синие сигнальные огни полицейских машин; молодцы копы, явились быстро, всегда бы так.
– Мистер Клаус! Положите оружие на пол и выходите во двор с поднятыми руками! – призывал в громкоговоритель какой-то юнец, непонятно, как получивший должность к полиции.
Старик поднялся со своего места и пошёл к выходу, под нетерпеливые вызовы парня с рупором; левую руку тянуло уже невыносимо, правой он расстегнул ворот клетчатой рубахи, чтобы попробовать глубже вдохнуть. Мистер Клаус широко раскрыл дверь и попытался поднять руки вверх, но, голова его вновь закружилась, как у пропасти, и, не сдержав равновесия, старик упал, скатившись по ступенькам на землю и раскинув руки у крыльца.
Он даже в кафе
Я узнаю своих клиенток на улице. По лицам, жестам, по манерам их спутников. Их слишком страстно обнимают, слишком крепко прижимают, когда ведут по улицам города в этом бесконечном танго, – под руку или, держа за локоть. Это – женщины с мужчинами в примерочных, потому что им нельзя без мнения мужа, ни шагу. Именно этих женщин целуют при всех на вечеринках, – не из нежности, а, чтобы показать, кто их хозяин. Я узнаю их робость, с примешивающимся к ней восторгом, – такие женщины умеют ценить редкие моменты счастья, когда, на людях, их мучитель бывает и окрылён, и заботлив, и ласков. Я устал от них.
Узнав об этих женщинах гораздо больше, чем мне хотелось бы знать, я потерял интерес. В каком-то смысле, я даже стал стараться походить на их мучителей: сейчас я работаю над тем, чтобы больше любить себя и учиться радоваться жизни. Культивировать в себе единственно ценное и действительно полезное чувство – любовь к себе. В рамках этой своей программы я решил заняться здоровьем. Теперь после работы я занимаюсь в спортзале, а после, в качестве ужина, захожу в кафе-фреш; реклама смузи из свежих фруктов сделала своё дело.
Вот и на этот раз я заехал в кафе после работы. Обычно, к восьми вечера в этой забегаловке никого не остаётся, поэтому, я надеялся провести здесь спокойных двадцать минут за смузи и кренделем. Люблю сидеть у окна, наблюдая за тем, что творится на парковке супермаркета напротив.
Уж чего я не ожидал, так это встретить здесь Иисуса. Он стоял за смузи-стойкой, одетый в зелёный фартук и оранжевую бейсболку. На вид ему было года тридцать три, а может, моложе. Трудно сказать с большей точностью, борода всегда добавляет несколько лет.
Деваться было некуда; уж раз Иисус решил пообщаться, метод найдёт. Не в кафе, так на безлюдной парковке подсторожит. Не буду же я прятаться от Иисуса.
– Привет. Сто лет не виделись, – процедил я, заставив себя посмотреть ему прямо в лицо.
– Привет. «Тропический поцелуй» и «Шоколадный стимул» не бери, сразу предупреждаю. В них – фруктово-глюкозный сироп, – с ходу начал Иисус, пытаясь впихнуть в меня свою очередную догму.
– А что с ним не так? – возмутился я, хотя, знал и без него.
– Пустые калории. Сразу трансформируются в жир, а ты и так весь день сидишь на заднице в офисе.
От диетической темы моё настроение только стало хуже. Моё тело – моё дело.
– Давай, тогда, «персиковый рай» и крендель с сыром.
– Давай без сыра? Это – как накинуть себе ещё одиннадцать граммов жира, а вкуса никакого, сыр пережарен. Возьми лучше с кунжутом, полезней.
– Уговорил, – согласился я.
– Восемь-семьдесят девять, – произнёс Иисус, сыграв на клавишах кассового аппарата.
Я достал десятку:
– Сдачи не надо.
– Хорошо. Я отдам детям, – ответил Иисус и надел одноразовые перчатки.
Я сел на своё привычное место, возле окна, но, наблюдать за парковкой мне расхотелось; куда интересней было смотреть на Иисуса. Он быстро и деловито заправил блендер морожеными фруктами, залил туда йогурт, почти одновременно ловко закинув крендель в тостерную печь для разогрева.
– Жаль, что ты не всегда здесь работаешь, – попытался сострить я, когда Иисус принёс мне еду.
– Я здесь, чтобы поговорить с тобой, – он посмотрел на меня, и я вдруг понял, что отличало его от людей. В кого бы они ни вселился – его выражение глаз всегда было неживым и словно масляным, будто, это икона, а не живой человек. Спаситель прочитал мои мысли и ответил:
– Не, у меня нормальные глаза. Это просто плод твоего воображения, что они как неживые. Я всегда выгляжу так, каким человек готов меня принять, иначе, люди считают меня душевнобольным, и поговорить не получается.
– Твои глаза – плод моего воображения?!
– Да, конечно. Это – попытка твоего разума обосновать моё существование. Я для тебя – полу-икона. Скудно, но, ничего не поделаешь. Ешь, у тебя крендель остывает, – Иисус поправил бейсболку.
Крендель, действительно, был вкуснее того, что я беру здесь обычно.
– Послушай. Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне надо вселиться в тебя на один рабочий день, – голос Иисуса звучал очень спокойно и вежливо.
– Нет.
– Понимаешь, тут одна филиппинская девушка оказалась в рабстве у американского кока. Ей нужно помочь, и сделать это могу только я, твоими руками.
– Можно подумать, ты помогаешь всем, кто в рабстве, – я потянулся за смузи и открыл крышку пластикового стакана.
– Уел. А зачем ты снимаешь крышку? – поинтересовался Иисус.
– Чтобы пить.
– Но, у тебя же есть трубочка.
– Парни не сосут.
– Боже! – Иисус закрыл лицо руками.
– Что?
– Ну, ты же взрослый. Как ты можешь верить в такое? – он покрутил пальцем у виска.
Я отхлебнул смузи через край. Напиток, конечно, был густоват, но, я всегда так пью, меня к этому приучил ещё отчим.
– Джек, помоги ей, – и смотрит на меня вопросительно.
Это всегда так. Ты живёшь своей жизнью, ощущаешь, что, вроде, начинаешь что-то в ней понимать, дела налаживаются, и тут – Иисус. И сразу – всё наперекос, – уйди из дома, продай квартиру, раздай наследство, купи свечей на все деньги.
– Нет!
Иисус достал из кармана Самсунг-Галакси.
– Слоган их нравится, – опередил он мой вопрос, – полюбуйся.
С фотографии в телефоне улыбалась симпатичная азиатка, смуглая, в белом платье. Иисус листал. Вот она уже в саду, под цветущей Магнолией, а здесь – машет рукой, стоя на палубе парома, на фоне блистающего огнями заката Сиэтла. Девушка за рулём автомобиля, в бейсболке с эмблемой «Лексуса». Девушка с подбитым глазом. Она же – со струйкой крови, вытекающей из носа. Следующий кадр – она привязана к металлическим поручням большой кровати, с кляпом во рту, руки заломлены вверх, в глазах – безысходный ужас.
– Поможешь? – Иисус внимательно посмотрел на меня своими масляными глазами.
– Нет.
– Но, ей же очень плохо…
Внезапно, я ощутил вкус крови во рту. Сначала я даже не понял, что прокусил нижнюю губу.
– Мне тоже было плохо. И я просил тебя, умолял помочь мне. Но, ты молчал, ты никак не помог. Почему? Потому что я – не филлипинская девочка, меня не жалко?
Иисус молчал, пристально глядя на меня. Он снял бейсболку и положил её на стул рядом с собой и от этого стал ещё больше похож на икону.
Меня рвало на части от ненависти и возмущения.
– Да, я – белый мальчик, но, я тоже чувствую боль! Где ты был, когда я собирал по полу зубы своей матери? Почему ты не отвечал, когда он убил моего единственного друга, Сэма, маленького, беззащитного пса? Тебе весело было смотреть на то, как я страдаю?
– Послушай, Джек, – глаза Иисуса вдруг сузились, нижняя челюсть немного выдвинулась вперёд. Кому ты рассказываешь о страданиях? С меня кожу драли живьём, ни за что. Но, я и теперь живу, ради людей. Твой опыт был огромным даром. Он научил тебя сострадать, хоть ты этого и не признаёшь. Среди социальных работников нет случайных людей…
– Ты справишься сам. Как миллионы справляются каждый день без тебя, – я поднялся из-за стола и вышел из кафе.
Когда-то я многое бы отдал за то, чтобы увидеть его. Теперь же, я не испытываю ничего, кроме разочарования.
Апрель, 2017
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




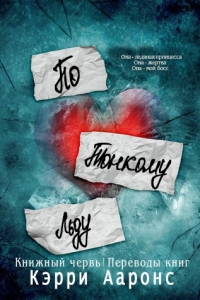

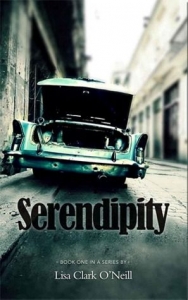




Комментарии к книге «Евангелие от психопатов», Людмила Старикова
Всего 0 комментариев