Алла Татарикова-Карпенко Ярцагумбу
© Татарикова-Карпенко, А. А., текст, 2017
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
* * *
Ибо все, что перестает меняться и трансформироваться, приходит в упадок и погибает.
Мирча Элиаде1.
Стремительным вторжением мы разрушали радужные пузыри утра, наматывали его паутинное мерцание на пальцы ног, бесстыжие, мы удовлетворяли свое вуайерство, подробно разглядывая алмазные шарики, прежде чем раздавить их вероломной ступней. Мы разбивали стеклянную тишину над озером криками, смехом и топотом босых пяток по береговому песку, утрамбованному уже испарившимся ночным дождем. Изначально всего было человек семь на даче предков одного из парней. Потом все разъехались, оставив нас вдвоем и наедине с внезапно родившимся непреодолимым взаимным притяжением.
Воздух на июньском чердаке рыжел, вздыхал и накалялся, усиливая и напрягая запах пыли, позапрошлогодних высушенных и забытых трав, горячего белья, оставленного на ленивых провисах веревок. С приходом ежедневных гроз пересохший было чердак постепенно увлажнился, радостно набух, наполненный все прибывающим предгрозовым паром, но скоро отяжелел, утомился, стал задыхаться и ждать всякий раз освобождения в ливне. Вместе с чердаком мы пересыхали, потом влажнели и задыхались, и ждали разрядки, и радовались ее приходу в дожде под пьяные песни грома, что валился на крышу с дурной молодой силой. Мы хоронились в сотрясаемой летней стихией утробе чердака, живя с ним одной жизнью, сворачиваясь парным эмбрионом в его чреве, в его тепле и влаге. Мы питались его энергией, порождаемой беснованием молний и красотой запущенного старого сада, бурлящего вкруг нас ливнями. Мы были счастливы своей плотной объединенностью, неразрывностью тел и желаний, мы конечно же чувствовали себя сиамскими близнецами и были ими. Мы содрогались в пароксизмах, бились в конвульсиях, млели и таяли, и замирали на время короткого глубокого сна. Мы просыпались в испуге, что потеряли время и снова ненасытно трудились. Чердак вынашивал нашу любовь, зачав нас от расточительно сияющего лета, а мы, не умея ценить своего счастья, транжирили его, предаваясь буйству еще не родившихся особей. Мы не понимали, что надо быть разумнее, не осознавали необходимости умерять пыл, мы плыли по бурному порожистому течению страсти, не замечая усталости, прямо к водопаду, готовому сорваться отвесно. Мы неминуемо должны были удариться о жесткую реальность перенасыщения. Утробные воды чердака – реки нашей физиологии – прорвались, и чердак опростался, освободился от теперь уже выношенного плода – пары измученных, уставших друг от друга, озлобленных созданий. Нашей повивальной бабкой стала послегрозовая ночь: в садовых зарослях пела неусыпная птица, июньское небо было не слишком темным, в единственном облачке мутнела луна, а на чистом пространстве крупным зерном просыпались звезды.
Мы были настолько юны, что не поняли, сколь опасно так рано познать смысл и значение слова «пресыщение». Но мы чувствовали его в полной мере, оба и одинаково. Теперь мы ненавидели наше сиамство со всей мощью детского максимализма, оно раздражало меня и ее как раздражает, наверное, абсолютное знание одного из сиамских близнецов всякого желания, всякой боли, нетерпения или нужды – другого. Я знал все, что ощущает она. Она понимала все, что происходило в моей голове и в моем теле. Наши чувства, мысли, и наш страх были абсолютно идентичны, будто и я, и она стали существами одного, некоего общего пола. Мы не хотели признаться один другому и себе в том, что исчерпали свою страсть, свои физические и душевные ресурсы и больше не нужны друг другу.
Покуда чердак был нашим хранителем, мы проводили в нем много жаркого, кипучего, а потом паром тающего времени. Конечно, мы покидали свое пристанище, чтобы поесть горячего, помыться, переодеться, написать записку родителям или бросить им фразу о том, что времени на разговоры нет и мобильник часто бывает разряжен.
Правда, пока хватало питья и закусок, прихваченных в соседнем магазинчике, мы не оставляли нашего тайного жилища даже по малой нужде. Мы писали в припасенные посудины: я, нацеливаясь в бутылку с широким горлом из-под воды, она – в трехлитровую банку из-под бабушкиных консерваций. До применения пузатой стеклотары в качестве «ночной вазы» она была вместилищем душистой сладости и тягучести. Сверкающим, как содержимое банки, ранним утром мы руками выловили и, почти не жуя, проглотили нежно проскальзывавшие в пищевод компотные абрикосы, а потом слизывали языками с подбородков и пальцев друг друга сладкую липкость сиропа. Решение не спускаться лишний раз в сад было принято, когда пошли дожди и скользить под потоками ливня с крыши по отвесной лестнице в залитую водой траву стало небезопасно. Моя забота о ней выразилась в предложении воспользоваться опустошенной посудой, но нас никогда не возбуждали подглядывание за интимным занятием партнера, а тем более открытые действия. Мы по очереди уходили в дальнюю часть чердака, за балки и сваленный хлам: старое, пышущее густой пылью, обитое драным теперь гобеленом кресло, две огромные столешницы, стая оборванцев-абажуров, тазы и ведра, и кувшин. Мы не хотели пользоваться этими ведрами и кувшином по причине того, что они принадлежали не нам, да и выносить их, спускаясь с открытыми емкостями, полными мочи, по шаткой лестнице было бы неудобно.
Теперь же нам пришлось вернуться наверх, посветить себе фонариком, закрутить крышки каждый на своем «горшке» и, осторожно и опасливо двигаясь, спустить груз на землю. Мы проделывали это раньше много раз, смеясь и забавляясь решением, кто в какую часть сада пойдет выливать, чтобы лишний раз не обжигаться в проторенном сквозь высокую крапиву коридоре по пути к деревянному гнилому клозету, тщательно ополаскивали потом свои ночные вазы дождевой водой, скопившейся в открытой пластиковой бочке ярко-синего цвета. Так же смеясь, мы тащили обратно блестящие на солнце прозрачные свои сосуды, зная, что в долгие ливни они нам еще пригодятся.
Теперь мы стеснялись необходимости проделать эту работу, брезговали, молча, неуклюже двигались, мешая друг другу.
Мы вообще стали мешать друг другу.
В один из таких дней, невольно ища отвлекающее от ситуации занятие, мы обнаружили в чердачных залежах многочисленные предметы, не сразу нами угаданные. Сначала сероватая груда, вскрытая нами в сухом забытом нутре оставленного здесь невесть когда и кем чемодана, испугала нас. Мы приникли глазами к тому, что показалось нам то ли обувью больших кукол, то ли их цельновыпиленными ногами, стопами ног. Лишь минуту спустя наше зрение собрало в единое целое ощущения, вызванные загадочными объектами, и определило реальность – деревянные обувные колодки. Они были изготовлены из специально предназначенного для резьбы дерева, возможно, липы, мягкого, легко режущегося, так как линии их лились и изгибались по форме чьих-то красивых, породистых ног, женских и мужских, тонко повторяя их формы: высокий подъем, узкие ступни и пальцы. Вычурно и благородно выглядели эти долгие годы прятавшие свою красоту в затхлости и тайне изделия. Произведения сапожного ремесла были, видимо, очень старыми, даже старинными. Изящество их и точность темнели загадкой, притягивали и будоражили воображение. Этот ворох утаенного богатства вызвал в нас восхищение и внезапное желание наряжать, ублажать, прислуживать ему. Казалось, мы готовы были тотчас же заняться никогда прежде не пробованным шитьем аутентичной обуви. У нас были друзья, всерьез подверженные реконструкторским увлечениям, и среди них специалисты по сапожному делу. Можно было подарить обширную нашу находку, неоценимую коллекцию кому-то из них, но прежде необходимо было привести пары плотно запыленных, закопченных временем, шершавых теперь, а ранее, видимо, гладко отполированных деревянных стоп в должное, привлекательное состояние. Несмотря на то что колодки были грязны, их хотелось трогать, держать в руках, поглаживать, рассматривать – любоваться. Мы вернули находку в кожаный иссохшийся чемодан с замысловатыми, незнакомой нам формы накладными замочками почти черного цвета в мелкие, проступающие сквозь темноту медные пятнышки. Мы выложили колодки обратно пухлыми рядами на когда-то блестящую шелковую подкладку с витиеватым рисунком и опустили крышку, не сумев прикрыть ее плотно. Не желая нарушать затаенность момента, мы подчинились тому порядку возвращения предметов на место, который сам себя продиктовал и так, недоприкрытым, поволокли чемодан к чердачному выходу.
Чихая от пыли и посмеиваясь, попеременно придерживая крышку, мы двинулись вниз по лестнице со своей драгоценной ношей. Нам приходилось поворачивать ее то одним, то другим боком, дабы не выронить, не упустить содержимое. Мы старались быть осторожными по отношению к ноше и, неожиданно для самих себя – друг к другу, больше заботясь об удобстве другого, чем о своем. Мы замирали в неудобных позах, дожидаясь, когда один из нас сделает свой неловкий шаг, постепенно сокращая шаткий путь по лестнице, приближаясь к доброй мягкости травы, к устойчивости почвы. Мы благополучно совлекли переполненный, дышащий пылью чемодан на землю, в четыре руки подхватили, – так было удобнее, – и донесли его до садовой емкости с водой, желая аккуратно промыть и потом высушить на солнце объекты предстоящего более подробного изучения.
Каждый из нас взял в руки по колодке, чувствуя объединяющую торжественность момента, испытывая благодарность своему открытию за тепло и взаимоучастие, которые мы было утратили. Мы радовались восстановленному доброжелательству, мы испытывали возродившуюся симпатию друг к другу. Мы забыли усталость своих отношений, мы праздновали возвращение. Глаза глядели в глаза, руки с зажатыми в них чудесными деревяшками медленно погрузились в теплую плотность воды. Некоторое время, трепеща ожиданием, пальцы с нежностью удерживали волшебные трофеи в темной глубине. Потом, ведомые властью рук, они двинулись внутри водной плотности как полузатонувшие древние корабли, подвластные божественной воле. Суденышки встретились, руки соприкоснулись, скользнули друг по другу, разъединились, вернулись. Корабли взметнулись в воздух, брызнув битым стеклом предвечернего солнца. Дрзца! Пространство качнулось, боги сомкнули руки с кораблями за шеями друг друга, боги приникли, притиснулись, влипли друг в друга. Богам было радостно и страшно. Этим жестом они просили взаимного прощения.
Мне показалось, первым ощутил гибель я. В моих пальцах, держащих кораблик, что-то сместилось, растаяло, сбилась структура, исказилось ощущение. Мы разомкнули руки одновременно, чтобы убедиться зрением в том, что уже дало понять осязание. В наших руках не было корабликов, не было колодок, не было предмета. Лишь обильная мокрая коричневая пыль, мелкая сырая труха, тлен, самоуничтоженность. Их нельзя было мочить? Но это же дерево, оно не должно бояться влаги! С грязными коричневыми руками, выпачканными нашей разрушенной надеждой, мы кинулись к чемодану. Достаточно было чуть жестче надавить на очередную деревяшку, и она, сухо всхлипнув и испуская сладкий старинный запах, рассыпалась, таяла. Разрушение происходило мгновенно. И разрушать хотелось еще и еще. Мы зло нависли над добычей и немедленно обратили ее в прах. Короткое жесткое время теркой зашуршало в узком пространстве между нами. Упорство вандалов подчинило себе момент. Облако серо-коричневой мути стояло над нами, как дым от пожара, в котором догорает вместе с мебелью, одеждой, письмами и документами прошлая жизнь, а наши пальцы все давили и давили изъеденное жучком дерево, покуда нам не пришлось остановиться перед последней маленькой светлой колодкой изящной формы. Мы замерли и похолодели, мы вцепились в нее глазами. Казалось, время не тронуло ее сверху, так четко сохранился цвет отполированной чьими-то мастеровитыми руками древесины. Была надежда, что и внутри нее затаилась жизнь, полнота и твердость, что время жучком не проникло в ее здоровую сердцевину, не нарушило течение затаенных соков, не изъело, не изуродовало. Она лежала правильно и твердо, требуя преклонения самим присутствием своего совершенства. Эта последняя красота, единственная сохраненность, не была нарушена и нами. Не сговариваясь, мы отодвинулись прочь, отдалились на мгновение от уцелевшего чуда, любуясь и прощаясь с тем, к чему решили не притрагиваться. Мы опустили крышку чемодана, и мне удалось защелкнуть замки. Вернее, они защелкнулись сами при первом моем прикосновении, легко и мягко, как новые, почти беззвучно. Я смыл остатки древесного праха, погрузив руки глубоко в тяжелую черноту воды. Она подождала, когда я извлеку умытые руки, и быстрыми резкими движениями возмутила колыхание мрачной медузы, заполнявшей емкость. Оставалось двинуться по увлажненной вечерней заботой траве в обратный темный путь. Я повлек уродливый тайник через лиловую густоту наступившей ночи. Травяная тьма почти не сопротивлялась нелепым формам моей ноши: чемодан теперь раздражал своей легкостью, вмещающей в себя лишь одинокий, неизвестной удачей спасенный от судьбы предмет. Я поднял искривленное временем, покореженное, но надежное хранилище и вернул на старое место, в пыльные залежи чердака. Его громоздкая теснота поглотила и скрыла последнюю грусть, свет печали, за которой – ничто.
Мы сделали вид, что нам хочется перемен, что нам надоел наш покровитель, наш созидатель, и договорились посетить другие чердаки, прихватив свои скрученные трубой поролоновые матрасы и пледы. Прозрачные пузатые емкости мы оставили в разных частях покидаемого сада, под деревьями.
Мы забирались в чужие объемы, чужие запахи, вдыхали чужую пыль и становились все более чужими друг другу. Мы опускались в мрак и тепло нового места, чтобы сразу заснуть. Как по команде. Одновременно.
Когда мы просыпались, приходилось дружно притворно смеяться над тем, как нас смаривает, замертво «ломает», как больше этого допускать нельзя, ибо нам «есть чем заняться». И теперь это звучало пошло, было приторно и вязко, как тот абрикосовый сироп, который когда-то казался вкусным.
Но именно здесь, в чужих, не соединяющих нас пространствах, мы стали видеть общие сны. Как будто цельное, всё, что принадлежало нам прежде вместе, обоим сразу, нам двоим, все, что теперь стало наяву раздельным, личным, собственным, в ночных снах перестраивалось, видоизменялось, чтобы объединиться, вопреки внешнему, дневному, рассудку. Нас ничего не связывало в светлой реальности, и в ночных потемках мы тоже не чувствовали слитности, мы просто были созерцателями, наблюдателями одного и того же. Мы будто вместе просматривали кино, но потом, после снов, почти не обсуждали увиденного, хотя сюжеты были необычны, замысловаты, герои ярки, неузнаваемы, не из жизни нашей выловлены. Каждый осмысливал виденья по-своему, в отдельности, укромно, не имея желания делиться впечатлением. Видения были четки и живописны. Их объемы не удерживали туманов и дымов, не мерцали особыми недосказанностями. Конкретная, но неожиданная в своих формах жизнь вовлекала каждого из нас двоих в чуждый строй бытия, в каскады непривычных ощущений и мыслей. К нам приходил Красильщик и приносил в корзинах цветные ткани, которые он выдумывал для Царицы, что умирала и возрождалась под старинной, вечно расточающей ароматы липой; мелькал кудрявый юный мачо с внешностью подмастерья художника эпохи Возрождения, и его властная покровительница бросала на нас, спящих, ревнивые зеленоокие взгляды; толпа стройных созданий с актерскими блеклыми лицами, теми лицами, на которых можно писать любую тему, металась туда-сюда в изысканных танцах безгласно, беззвучно; говорила же Мать слова мудрые и нежные своему сыну, маленькому и потом взрослому. Всё говорила, говорила, но он ее, казалось, не слышал. Были еще мальчик-подросток, от которого исходил холод постоянно переживаемого им страха, и какой-то заносчивый мужчина – знаток всего на свете. И постоянными соглядатаями кралась за нами пара телевизионщиков с фиксирующими все камерами.
Мы понимали, что порознь не сумеем видеть продолжений, которых теперь в тайне друг от друга жаждали и ждали, а потому всё еще оставались вместе. В очередной раз, в предвкушении новых поворотов сюжета внутри ночных просмотров мы заснули рядом, и, кажется, еще сопротивляясь воронке, стремительно затягивающей меня в сон, я успел подумать, что проснусь один.
Так и случилось.
2.
Чердачное окно-выход было завешано садом, живописным и рыхлым его полотном, потерявшим очертания к ночи. Теперь, в этот ранний утренний час, полотно постепенно обретало цвет и четкость.
Я продвинул корпус в проем, к мягкому ветру, в сад, наполняемый оттенками благодаря работе робких лучей, наклонился: у подножия кое-как сколоченной лестницы лежало недвижное тело. Её тело.
Я спустился.
Она ударилась виском о совсем небольшой камешек: поторопилась спрыгнуть с перекладины.
Я промок. Слезы мои были обильны и мучительны. Кажется, промелькнуло и куда-то исчезло несколько часов.
Теперь сад громыхает, оглушает густым хором птиц и цикад. Мухи маниакально стремятся вклиниться в хор, мельтеша и диссонируя с общим звуком неблагородным своим жужжанием. Вся эта надсада, этот шум, уродующий мои нервы, не подтверждает кипения жизни, напротив, он доказывает полновесное присутствие смерти, подчеркивая необходимость тишины, смиренного молчания и всеобщей остановки. Больные легкие ветра – органные трубы, замысловатая архитектура которых вздыбилась теперь неверным ритмом дыхания, сбиваются и не удерживают смысла движения, – хрипят. Эти исковерканные металлы и воздух, пытающийся в них жить, – все, что осталось от былого здорового бытия, от могучих порывов и нежных дуновений.
Я наклоняюсь над ее телом, ложусь рядом. Зеркало неба запрокидывается и отражает меня, скорченного подле безжизненно собравшегося сгустка холода и отчуждения – моей любимой. Я приникаю к ней и превращаюсь в нее. Вкруг меня накапливаются, толпятся силы и ощущения, тени, напоминающие людей: царственно величественная женщина и ее свита – мужчины или женщины, не понять; выпачканный красками парень и еще один, много моложе и, кажется, его мать; ряды нагих одалисок с одним и тем же лицом за резными ширмами, красивая дама с юным любовником, монахи в темных капюшонах, босые буддийские монахи в терракотовых и краплачных одеждах, и шум волн; всадники на верблюдах и европейские липы в сладком цветении, алые маковые поля среди тропиков, фотостудии в полуразрушенных замках, стаи бездомных собак, люди в автомобилях, молодежь на мотобайках в густом дорожном потоке, пожилые усталые мужчины, танцовщицы в сквозняках кулис, и еще, и еще кто-то, всё это множится, течет, переливается одно в другое, клубится, обращается письменами, начертанными на живой коже, нечитаемыми, как во сне – символы, знаки. Всё смотрит на меня, ждет чего-то, силится что-то объяснить, но тщетно: меня больше нет. Только мертвое бывшее мое тело с кровавым пятном на виске лежит подле теперь уже моих стройных женских ног.
Мое бывшее тело нашли, много позже. К тому времени я уже несколько раз приходил к отцу и матери, – родителям того, кем я был раньше, и пытался объяснить, что я не погиб, но просто стал ею. Я хотел предварить своими объяснениями обнаружение тела и никому не говорил, где оно. Я смотрел в глаза моей матери и видел тоску по утраченному мне, не способную переродиться в понимание, что я жив, в радость, что я всего лишь видоизменился. Мне никак не удавалось проникнуть трансцендентной высотой логики в сознание женщины, которая родила меня, мое внутреннее наполнение, но не имела никакого отношения к внешней моей нынешней явленности. Она не умела верить в правду моего перерождения, и считала меня девушкой своего погибшего сына, от горя двинувшейся умом. Она обнимала меня и плакала горько, и я – вместе с ней, испытывая неизбывную печаль, проливаясь горем потери… кого? Кто стал моей потерей? Она, моя любовь? Но ведь я и есть – она. Ныне я – тот, кто любил ее, но и та, кого я любил. Каким-то непостижимым образом во мне вмещались мы оба. Теперь я – носитель и владелец всей нашей любви, этого не имеющего конца и начала шара, что сияет нераздельным, двуполым огнем, огнем предвечной природной тайны. Мужское тело, ненужная и пустая часть нас двоих, будто раковина, покинутая моллюском, тлела под деревянными ногами полусгнившей чердачной лестницы, что втоптала в прах мощью скользкой своей ненадежности, хлипкости и шаткости добрую простоту нашего утраченного бытия.
Через время я почувствовал желание вернуться в недалекое, но навсегда утраченное время обретения и потери любви, предаваясь сладострастному самомучению, мазохистскому расковыриванию совсем еще не затянувшейся раны. Сколько надрывной боли, печали несли мои новые посещения дачного поселка, медленно вплывающего в безлюдный, светлый июль. Я стал бередить свою память, возвращаясь к садам и домам, на которые мы так мало обращали внимания, влюбленные в чердаки, что были обречены прятать нашу страсть от глаз и ушей хозяев, чьих возможных внезапных приездов мы так боялись. Но хозяева так и не явились к лету. Отчего-то люди перестали заниматься огородами и даже интересоваться даримым без труда и заботы урожаем яблок и груш, дичающей малины и смородины всех мастей. К тому времени слепла на солнце осыпная, наливалась пунцом красная, пузырилась прозрачная белая, плотно набитые листвой кусты облепляли жирные фиолетовые грозди черной. Куда подевались пенсионерки с ведерками, полными летней радостной бесплатностью в обеих руках? Лишь в некоторых садах с домиками поплоше суетливо возились стариковские тени. Дома, крепко стоящие и демонстрирующие нарядный достаток владельцев, были по-прежнему пусты и ограждены сытой самоуверенностью. Они гордо держали свои чердаки в порядке и ухоженности благодаря новизне и качественной дороговизне. В ветхих дачках легко поселялась пыль, распределяясь по щелям и уголочкам, сырела и сохла, уплотнялась, кое-где брала в соседи плесень, грязнила, старила, разрушала.
Я двигался вдоль основной улицы, шевеля ее одинокую, редко поднимаемую ногами или шинами пыль, сворачивал в травяные заросли проулков, останавливался и плакал. Я не желал утешения. Терзания в их безграничности и силе были мне сладки, я отдавал им себя самозабвенно, я упивался своим абсолютным горем, его неиссякаемостью.
– Сударыня, о чем так горько? Будет вам! В юности нет неисправимого, жизнь впереди. Всё ещё может быть изменено: что не нужно – забыто, что необходимо – найдено.
Старик был сух, сед, глазаст и добр.
Дом для него перестроил сын. Несколько ближе к городу, чем доживали старые дачи, укрепился компактный коттедж на основе купленного старого, полуистлевшего, что утонул, сгинул в дебрях яблоневого сада, с добавлением вишневых, сливовых и иных дерев, среди которых красовались и алыча, и облепиха, и айва, и ореховый раскидистый куст. Изысканные добавки планомерно осуществлял старик, в чем мне пришлось позднее убедиться на деле.
– Нет, сударыня, конечно, сын не своими руками строил – финансировал. Он банкир. Модно и выгодно. Никогда не думал, что мой сын будет ростовщиком крупного калибра. А что такое банкирское дело? Именно ростовщичество. Весь мир давно этим промышляет, теперь и мы… Я попросил оставить как было: один этаж и мансарду. Мне и этого много. Ну вот, теперь в нижнем этаже – вы. Старый дом несколько лет простоял неотапливаемым, бывшие хозяева поделить никак не могли, сгнили балки в подполе, кое-где осели стропила. Сын предлагал заново отстроить, а я думаю, зачем рушить? Фундамент и подпол, остов, да много чего оставили. Теперь суперудобно: двухконтурный газовый котел: отопление, горячая вода, сухость, чистота. В старом-то доме углем топили. Да. В XXI веке угольный котелок, сударыня. Впрочем, в Европе некоторые считают сие особым шиком.
Так утвердилась моя гендерная принадлежность. Я – сударыня. Саша. Александр-а. Родителям ее, а теперь – моим, я сказала, что живу у подруги по универу. Занятые каждый своим новым романом они восприняли это, казалось, с радостью.
– И не разводятся? – спросил меня как-то мой новый опекун, весело поглядывая в мою сторону.
– Никогда они не разведутся. Им так удобно. Они в этом одинаковые: всё им новые впечатления подавай. Никому обещать, никого обнадеживать не надо: извините, мол, семья. Между собой в бесконечной игре – будто ничего не происходит. – Мне было легко говорить об этом именно ему. Пока я не знала причины. Просто легко.
– Может, они любят друг друга? – Опять в его глазах почему-то мелькнула веселость.
– Я бы не сказала. Своеобразные отношения.
– Приязнь бывает разной, порой необъяснимой, путаной. Любовь многолика, деточка, – сиял светлыми глазами собеседник.
Метилось уже, что так было всегда. Всегда я – красивая девушка. Всегда – Старик, две его кошки и пес. Всегда – его сад, запущенный, тягучий, полный цветов, крупных и ароматных. Всегда – дом под старой черепицей – портрет своего хозяина.
Дом проживал самостоятельную, но крепко связанную с хозяйским характером жизнь, планомерно и безвозвратно погружаясь в беспорядок. Вянущие в вазах и корзинах цветы, источая гнилостные ароматы, заполоняли собой жилье, словно двигаясь и снизу, с полу, на котором располагались в вазах в изобилии, и сверху – со столов и полок. Одежда, вытекая из переполненных шифоньеров и шкафов-купе, расползалась и множилась по креслам и табуретам, спинкам диванов и диванчиков, яркие ее краски слабели, блекли и замирали в гаснущем воздухе. Дальними темными углами коридор заваливался в кошачьи горшки и толпы пушистой от пыли обуви под лестницей. Кухонная утварь: некогда блестящие кастрюли и ковшики, джезвы, сковороды, сотейники и супницы, ножи разнообразных форм и размеров, крышки, пробки, столовое серебро и мельхиор, молочники, масленки, ведерки и баночки, терки, приспособления для чистки рыбы и овощей, механические соковыжималки и кофейные мельницы тускнели и мутнели, но плодились и копировались. Тарелки супные, столовые и десертные, селедочницы, блюда для рыбы, жаркого, тортов и пирогов, салатники большие, средние и малые, блюдца и блюдечки, розетки для джемов и варенья, кофейный и чайный фарфор и фаянс, пивные кружки, рюмки, фужеры, креманки, бокалы, стаканы и стопки оккупировали кухню, а также буфеты и серванты в комнатах. Они имели свойство биться бесконечно, они дробились в неверном свете дня, проникавшем сквозь окна, забранные садом, и восстанавливались, возникали заново в еще большем хаотическом изобилии. Бутылки и бутылочки синего и красного стекла, металлические вазы, набитые бледными высушенными цветами, керамика, вазы пустые, корзины и блюда, заваленные бусами, ожерельями и браслетами, настольные лампы под темными абажурами и молочными стеклянными шарами вместо них, коробки, шкатулки, сундучки, с прорывающимся из них содержимым, птичьи перья, стеклянные безделушки, раковины всех форм и размеров – все наступало, наплывало, погружало в себя. Книги и картины своим мощным количеством завершали необратимость ситуации, а может быть, с них, царственных, и следовало вести отсчет, но они окончательно перекрывали возможность вернуть пространству свободу. Списки этих вещей были бы бесконечны, но в них не было бы упомянуто ни единого случайного предмета. Любая явленность, каждая незначительность – бусина, кисточка, пуговица, соринка – обретали здесь истинное право на размещенность и укоренение. Никакая малая безделица не желала покидать найденного пристанища, становиться подарком для кого-то и тем более быть выброшенной. Об утилизации здесь не могло быть и речи, хозяйского помысла, намека. Новое возникало планомерно, план этот подчинялся закону необъяснимости. Старое селилось тут навечно и имело тенденцию к многократному самовоспроизводству в отражениях, звуках и запахах. Помимо аромата гибнущих букетов здесь двоились в зеркалах мутные шлейфы духов, пряностей и благовоний, порой кошачьего аммиака, воспоминания о высушенных травах, горьком, крепком чае, нераннем утреннем кофе, летом – ягод, яблок и груш. По дому, наталкиваясь на угловатость и остроту предметов и ощущений, то и дело проползали бесчисленные ручейки памяти, во всякой мягкости оседали истории, прошлое, норовя проникнуть невидимыми щелями в подпол, стремилось занять последние свободные метры, ничего не оставив настоящему. Но сиюминутное, нынешнее, прославляло сей день своей абсолютной силой, владетельным многообразием и единовластием бытия.
– Здесь жила женщина? – Вопрос, заданный мной за вечерним чаем, показался мне самой безапелляционным, но слово уже было произнесено. Старик откликнулся без паузы, будто я нисколько не смутила его:
– Жена. Теперь я один. – И тут же поправился: – Да вот вы, сударыня.
Я закусила уже удила, продолжила, не ослабляя напор:
– Красивая?
– Да. И молодая. – Старик не менял интонации.
– Ушла? Бросила? И вот так оставила свои наряды и украшения?!
Старик опустил чашку на блюдце, устланное салфеткой, и опять ответил скоро, с неожиданной иронией:
– Бросила. Ушла. Туда, откуда не возвращаются. Вот и у вас, чувствую, потеря. Но у меня – поздняя, а у вас ранняя. Много еще времени на заживление ран. А моя зажить уже не успеет.
Ночная темень сада глядела в окна с четырех сторон дома, томилась, задумывалась, пытаясь закрепить в себе смыслы ушедшего дня. Она не хотела, но должна была позабыть все к утру, опростав свою память для будущего цветного рванья событий и сцен. Ночь загустевала и бредила завтрашними вспышками добра и негодований, в сонном оцепенении, почти не слыша цикадного сверчения и лая лениво перебрехивающихся вдалеке собак. Звуки обмякали, отступая от окон вглубь садовой ватности, тонули в ее мягком уютном теле. Жизнь сада, огражденная от ненужного мира таинством сна, протекала сама по себе. Физически она обособилась замкнутыми воротами и калитками, равнодушная к блудливой улице, которая так любит целоваться с собственной пылью. Безразличен ей становился в эту пору и дом, что дремал по-стариковски, некрепко.
Дом упирался черепичным скатом в высокий сильный дуб, удобно примащивался и уплывал в сны, ровные и длинные, как река, которую он никогда не видел. Дому и саду хотелось спать долго, победно пересекая ночь в медленной лодке, плывущей против течения событий. Им было сладко булькать и дребезжать, наполняя мистическим храпом мрак и покои, и верить в их бесконечность и абсолютную власть.
Сад и дом самозабвенно плели единый кокон двойного сна и мерно раскачивались в его путаном плотном кружеве посреди невнятного движения грез.
Утро терзало солнечную тетрадь, разбрасывая прозрачные страницы по изумленному такой расточительностью, клочками отраженному в небесных зеркалах саду. То тут, то там веселились, плясали ягодные и цветочные лоскуты, разрастаясь неразберихой рисунка.
Дневное время слепло от жары, шевелилось пересушенным до одервенения старушечьим соседским бельем. Веревочные натяжения резали, кромсали плоскость дня. К обеду белый день испепелялся и почти исчезал, рассыпался в дрожании жара; позже проявлялся снова раскаленными листами, шумно шарахался на ветру, складывался вдвое, вчетверо, ввосьмеро… Вечер где-то рядом блудил и терялся, прятался долго, но нехотя все же показывал лицо, поднимал золотистые глаза. Вечер осчастливливал своим появлением, наглел и бередил, вносил беспокойство, ему навстречу распахивались ароматы и предчувствия. Закат пьяным ализарином расползался вдоль горизонта. Лучше бы он сразу свалился в наплывающий июльский вечер, но он еще шатался, неустойчиво балансировал между явью и небытием, вот-вот готовый уронить грузное свое тело за линию дня, чтобы помрачиться долгим и тяжким сном до трезвого рассвета.
Так шли дни. Мне было интересно со Стариком и не напряжно. За завтраком или обязательным вечерним чаем он говорил немного и насыщенно о литературе и живописи, о человеческих страстях и никогда о политике, порой внезапно уходил в себя и нес это свое отчуждение в кабинет, в мансарду, топая по ступенькам круто ввёрнутой в верхний этаж лестницы. Я чувствовала его заботу, внешне незаметную, но внятную. Я привязалась к обеим кошкам и псу, с аппетитом поглощала замысловатую, многотравную стряпню Старика и книги его обширной библиотеки. Благодаря быстро освоенному скорочтению мне удалось проглотить прустовских «Девушек в цвету», которые дали мне возможность изучать в подробностях, будто под микроскопом, сложные правила внешнего и внутреннего этикета и поразительную фальшь и витиеватость человеческих отношений европейцев конца XIX века. Мне казалось, к нашему времени люди стали искреннее, во всяком случае, те, с которыми приходилось общаться мне, и те, которых я узнавала на страницах Шолохова и Пастернака, Маркеса и Уайлдера. Когда же дело дошло до эссе Борхеса, я поняла, что внезапно и ощутимо повзрослела, что мне легко открываются загадки, о разрешении которых я совсем недавно не только не могла мечтать, но о существовании коих попросту не подозревала. Моя жизнь обрела объемность, о которой прежде я ничего или почти ничего не знала. Будто новая моя ипостась получила новую, соответствовавшую ей реальность. Я вжилась, вживилась в эту иную среду, в этот дом, в этот сад.
В своей дальней глубине сад впадал в прострацию, терял ориентиры дозволенного и позволял засорять себя сплетению колких дебрей облепихи над черным, еле движным ручьем, который мог отыскать только черный тибетский мастиф в надежде на выход из огражденных облепиховыми зарослями владений сада. Он прошуршивал низом, шевеля запущенные травы, погружал широкие лапы в гнилое дно ручья и брел вдоль него вниз по еле заметному течению, наслаждаясь его вязкостью и тухлой запашистостью.
Лето ластилось, льстило, ласкалось. Лето млело, парилось, истекало соком переспевающих ягод, плавилось, плелось устало и остывало, наконец, под послеобеденным дождем, покрывая мурашками оконные стекла, к вечеру подрагивало желейно, красно-смороденно, потом медленно засыпало. Лето липло, цеплялось и приставало жарой. Бесстыжие домогательства носили неоднозначный характер и в проявлениях своих, порой нежных и осторожных, порой коварных и неожиданных, были изобретательны – лето блудило: льнуло нежной дорожной пылью к ногам, проникая между пальцами и пузырясь под шагами ничего не подозревающих, босых стоп. Оно обволакивало теплыми одеялами тумана и баюкало, утешало остывающими вечерами, перед тем как расчехлить из облачности ночное небо и подглядеть за землей множеством внимательных глаз из черноты, уже отраженной круглым зеркалом луны. Внезапно лето отворачивалось, пряталось в похолодании и ветре: изменяло.
Наконец, лето тяжело легло ливнями на город и его окрестности. Это были не те июньские быстрые грозы. Теперь лето обрушивалось затяжными дождями, но, вопреки постоянству избыточной влаги, малина в зарослях крапивы уверенно созревала, пухла и наливалась. Крапива колосилась, тянулась выше малинника и подстерегала. Неутомимый вьюнок длил змеиную свою работу, тесно связывал сочные стебли крапивы с облепленными ягодой прутьями, крепко путался светло-зеленым кружевом, выстраивал непроходимые заграждения. Внизу кисли и желтели недостатком света размочаленные травы, цеплялись за мягкие кочечки разрыхленной кротами почвы.
Солнце все же внезапно прорывалось, являло себя полно и расточительно, палило, подсушивало: временно властвовало, судило пестрые цветочные заслоны и щадило ягоды, даря им яркость и силу. Тогда я погружала ноги в высокие голенища кирзовых сапог Старика, вструивая в серые крокодильи жерла вместе с икрами раструбы брюк, и волокла тяжелые мужские обутки за собой, в сторону пруда, по воде, всхлипывающей под густым и ярким травяным покровом. Лягушки весомо шмякались в мутноватую жижу пруда, рассеченную мельканием взрослеющих мальков и подростков карася. Бледные бабочки грели на солнце пыльцу крыльев, мечась и диктуя геометрический хаос налитой соком листве. Малина сопротивлялась сбору, часто ссыпалась мимо рук в темноту и спутанность там, внизу, притворно таила желание, чтобы ее собрали, засыпали сахаром и кипятили на огне, потом спрятали в банках под крышками, продлевая ей жизнь до зимы, простуд и температуры. Ягоды размазывались сияющим соком по пальцам, липли к ногтям, истекали к запястьям, не умея ловко падать в корзинку, подвешенную на мою шею безобидной петлей шершавой веревки. Они сияли и проливались совсем кислой кровью, картинно укладываясь в корзинку. Смывалась малинная краска легко, неудачно мимикрируя, меняла свой цвет на фиолетовый, чернильными каплями цепляясь за белый фаянс раковины. Руки еще долго хранили крапивное пощипывание, но запах малины под толстым слоем сахара, оставленной в медном тазу до утра пускать сок, компенсировал все неудобства. Следующим днем кипящий таз зацветал неприличной, подвижной розой сладчайшей пенки, что расточала томные горячие ароматы. Пенку следовало снимать с трепетом, щадя возникновение новых пенящихся ранок на бесстыдно булькающей малиновой поверхности.
3.
Казалось, с малинных россыпей и варенья прошло долгое-долгое время, вместившее в себя стремительность и сверкание утр и вечеров. И вот уже местную молодую картошку на рынке сменили привозные избыточно сочные персики и нектарины, вот уже запузырился виноград по прилавкам и скисли сливы в садах, вот уже обломилась перегруженная урожаем крупная ветка старой яблони под окном Старика, вот разбухли огурцы, загорчили ярче флоксы и обрели цвет рябины, но все еще жарки ночи! Все еще длится, тайной каретой, запряженной спрятанным моим, утаенным счастьем, – движется по августу лето!
Несмотря на происшедшее в июне и благодаря нутряному, глубинному спокойствию, мудрости моего покровителя, который неназойливо подталкивал меня к решению насущных задач, к середине лета я подтянула все хвосты в универе, сдала экзамены и благополучно передвинулась на следующий курс своей, с детства вымечтанной биологии. В августе у меня было уже довольно времени и на героические, но почти безуспешные попытки навести в доме общепринятый, человеческий порядок, и на копошение в саду рядом со Стариком, занятым пересадкой цветов, и на продолжение «книжной истории» – поглощение бесконечных в своем множестве томов, заполнявших дом.
То ли неординарная атмосфера нынешнего моего бытия, наполненного образными рядами литературы, то ли моя личная видоизмененность, которую я ощущала теперь как норму, осознавая в то же время всю невероятность ситуации, отдалили меня от однокурсников, бывших школьных подруг и приятелей.
Отношения с родителями строились теперь по «западной» схеме. Мне было позволено жить самостоятельно, при условии, что я хорошо учусь и не слишком досаждаю материальными просьбами. Подразумевалась некая моя «частичная занятость», за которую следовало получать жалованье. «Пора на собственном горбу прочувствовать, что такое зарабатывание денег». Горб опыта у меня не возник, поэтому прочувствовывать было нечем. Я выполняла всю необходимую работу по дому, в котором жила, внося тем самым «посильную лепту» в течение быта, и потому кормилась, не испытывая неудобства. Я даже получала теперь, и весьма существенно, на карманные расходы от сына Старика. Ранним августовским утром он вплыл в нашу гостиную вместе со своим лучезарным именем, и всем достатком и благополучием, излучая здоровье и уравновешенность. Сие богатство не сопровождало его, а двигалось, вливалось в жилище, его предваряя, упреждая его личное, правильно подготовленное триумфальное появление. Он явился, высокий и статный, на краткое время, что демонстрировали его никуда конкретно не глядящие глаза и сдержанно побрякивающие на пальце ключи от «лексуса». За ним же распространились его роскошный загородный дом, набитый добротной подделкой мебели в стиле барокко, обширные и несколько бестолковые в своем излишне педалированном дизайне городские апартаменты, офисы банка с окнами, забранными светоотражающими стеклами, фитнес-центр, четыре крупные собаки хороших пород и рыжекудрая, белотелая секретарша. Последняя, явив нам свою длинноного-пышногрудую красоту, скоро растворилась, соблюдя приличествовавшее ситуации молчание. Ярослав строго улыбнулся с высоты своего эталонного роста, поблагодарил меня за уют в доме и внимание к Старику, выразил удовлетворенность тем, что он теперь спокоен за отца и сунул в шкатулку на старинном пианино пару евробанкнот. «Для вас, барышня», – не глядя на меня, повторил перенятое у Старика обращение. Все-то у них деликатно, аристократично, подумала я тогда и не ошиблась: время от времени шкатулка предъявляла мне постоянство признательности банкира. Все великолепие, явленное Ярославом в несколько минут, поспешно растворилось вместе с легким облачком позади его роскошного автомобиля. Старик, не глядя вослед, ухмыльнулся: «Хозяин. Жизни. Надо бы собираться в отъезд».
Мне это запомнилось вопросом, которого я не задала.
С родителями сообщались мы теперь редкими звонками и ироническими эсэмэсками с обращениями вроде «папахен», «мамахен» и «дочахен» – в ответ. Не могу сказать, что сухое это общение меня печалило, наоборот, я чувствовала ту меру свободы, которая была мне необходима. Моя дочерне-сыновья любовь делилась теперь на четырех родителей. Не утверждаю, что распределение моих эмоций было равномерным. К родителям Александра чувство привязанности все более остывало, не находя никакой подпитки и обратной связи, так как сын для них умер, был похоронен и оплакиваем надрывно, мучительно, чему я поначалу была частым свидетелем, навещая маму. Мои визиты становились все более редкими, и боль, жалость и сострадание к мучениям матери переродились в раздражение, по причине ее неумения почувствовать во мне родную, да нет, собственную кровь. Мне казалось, в своей безутешности она находит наслаждение, замену покою и счастью семейного лада, которого не было в доме давно. Отец, сколько помню, «погуливал», а теперь в печали по утраченному сыну находил этому оправдание.
Иногда мне хотелось позволить себе разрыдаться и прокричать им: «Мама, папа, это я! Неужели вы ничего не чувствуете? Неужели никакая сердечная подсказка не поможет вам уловить во мне ваше дитя? Неужели души ваши слепы и начисто лишены вы природного чутья? Или вам и не нужно иного? Вас устраивает, оправдывает, чудовищно примиряет с жизнью, которую вы ведете, случившееся? Я, живой, вам не нужен. Тем более в ином обличье, в невероятии своем, в двойственности моего нового „я“. Я нужен вам мертвый». Действительно, через время отец оставил свою последнюю юную пассию, вернулся к матери. И они нашли в горе своем друг друга заново, горе сплотило их и примирило. Часто за руку шли они по короткой аллее лип к могиле сына, поплакать вместе и потом ритуально ставили свечи за упокой его души в кладбищенской, не новодельной, а потому особо уютной и теплой церкви. Они смотрели на пощелкивающие свечки и даже крестились, не потому что веровали, а из глухого чувства обрядовой сопричастности чему-то темному и таинственному, и потому нужному. Мертвый, я обрел в их жизни большую важность, породил объединяющие эмоции, привел их пару к гармонии. Это было кощунством и окончательно отдалило меня от них.
Мне трудно стало понимать и собственные эмоциональные устремления. Хотелось ли мне влюбиться? Для начала следовало определиться, к кому я испытываю интерес. Как девушка, я пыталась обращать внимание на парней, но моя мужская ипостась возмущенно фиксировала дефектность этих настроений. Тогда я начинала приглядываться к девушкам, но не находила и в них для себя интереса, четко осознавая дисбаланс.
Во мне бредили смутные ожидания, неопределимые в своей антиплотности ощущения, невнятные тени чувств. Я не обсуждала этого со Стариком, не умея артикулировать новые отношения с миром, идентифицировать влечения, даже сравнить с чем-либо знаемым.
Что-то стало проясняться после поездки, предложенной моим покровителем.
– Завтра выгоню из гаража машину, надо же хоть иногда садиться за руль. К старому другу, художнику, наведаться пора. Хотите со мной, сударыня? Здесь недалеко, километров пятнадцать. У него хутор. Места – волшебные. Можно грибов пособирать. Он звонил сегодня. В который раз зовет. Говорит, опята уже пошли. И художник он настоящий.
Возвращались затемно. В багажнике покачивались корзины, полные длинноногих бежевых красавцев – только жарь! Перед моими, то и дело смеживающимися веками мельтешили, ликовали, закручивались в подвижные спирали потоки красок с картин мастера. Старик сосредоточенно вел машину по мокрой трассе. Дождь кратко усилился и прекратился.
– Не стоит сейчас засыпать. Понаблюдайте, какие чудеса. – Старик кивнул влево, но уже перед лобовым стеклом мелькнуло, просияло светлое движение, почти неуловимое глазу. Через время явилось вновь, многократно усиленное и повторенное. Вспенилось, порвалось, размельчилось вдоль моего окна. Собралось, загустело, вновь разошлось в стороны. Туман мягким бесформенным телом забарахтался над трассой, расширился, обволакивая собой пространство над низинами, оврагами, наполненными травами и цветами, невидимыми в темноте. Туман прижался влажным пузом к земле и ее цветам, приник теснее, обхватил, мерно и нежно двинулся по ней. Молоко помутнело, набухло и уплотнилось. Дымной завесой скрыв таинство, повременив и остывая, ласковый насильник удовлетворенно отплыл, растворил свою осязаемость в прозрачном воздухе. Его какое-то время нет. Фары озаряют блестящую черноту трассы. Все видно. Кажется, автомобиль покинул белый омут. Но беспокойные перья вновь промелькивают перед лобовым стеклом, всё увеличиваясь и сгущаясь, клубы ускоренно роятся и, наконец, масса окончательно формируется вокруг машины, движущейся теперь внутри живого и, кажется, агрессивного облака, не пробиваемого дальним светом. Ближний хоть как-то обеспечивает возможность двигаться на ориентир встречных фар.
– Тяжело вести? Дороги-то не видно. И как вам удается… – молчание лопнуло, как молочный пузырь.
– Не пора ли и вам за руль, барышня? На курсы пойдете? – Старик будто отвлекал от действа за стеклом, переводил тему.
– Хоть завтра! – обрадовалась я столь внезапному предложению.
– Ищите школу.
Так началась моя автомобильная практика. Экзамены я сдала досрочно, помогла финансовая поддержка Ярослава. И звонок куда надо он организовал, так что права у меня были уже через полтора месяца. Инструкторы поражались моей «неженской» хватке и реакции, а я радовалась новой, ни с чем несравнимой мере свободы, чувству слияния со скоростью, независимости движения.
– Водишь в расчете на дураков. Молодчина! – Старик теперь ездил на заднем сиденье. Пассажиром ему явно было вольготнее.
…Свет раннего утра холодным серебром сочился сквозь щели между шторами, стараясь заполучить пространство комнаты. Когда шторы одна за другой отдергиваются, серебро светлеет и поспешно завладевает всем объемом, однобоко освещая предметы несозревшим сиянием недавно рожденного пасмурного дня.
Туман уже заполнил поредевший сад до краев, занял собой, усевшись в каждую прорезь меж бледными травами и ветвями, полностью погрузив даже самые высокие деревья в свои тяжелые и мутные пары. Он вплотную подошел к дому и остановился у моих окон. Он не смотрел на меня, застывшую за стеклом, не пытался шевельнуться. Он замер на время. Не шевелилась и я. Когда я почувствовала, что он готов двинуться вдоль стены дальше, мимо, мимо меня, мимо того, что должно было произойти, я почувствовала резкий прилив страха. Холодно оборвалось и упало прозрачное нечто от горла к животу, обожгло ледяно: не случится! Я рванула ручку рамы, распахиваясь, освобождая ему путь. Отступила на шаг вглубь остывающей гостиной.
Туман двинулся в проем. Это не было его решением или желанием. Он просто не мог не двигаться в открытое. Он не торопился и не медлил. Темп его течения был ровен и несуетлив. Он вплывал, постепенно и неуклонно завладевая моим жилищем, и выгнать или хотя бы остановить его было теперь невозможно. Я не сопротивлялась, я хотела, чтобы он занял мой форт, укрепил позиции и принялся за меня. Я сдалась ему с чувством безмерного страха и необходимости.
Я должна. Я хочу.
Туман затянул густой пеленой картины на стенах: вот погрузился в блеклую муть бакстовский эскиз, вот скрылась сдержанная улыбка женского портрета кого-то из филоновских учеников. С бледным безразличием он разливался и плыл, постепенно сокращая свободное пространство вкруг меня.
Я прочувствовала, как он проник в мою кожу, во всю сразу, спешно и неуклонно, не оставляя мне поля для самоопределения или иного личностного чувствования. Он овладел каждой моей клеткой, молекулой и пространством между ними, моими глубинными, утаенными от меня самой помыслами. В краткий миг он заполучил все мои объемы, материальные и эфемерные. Меня не стало, он стал мной. Блаженное небытие, растворение, высшие вибрации, звон блистающей пустоты, запредельный восторг расторжения всех связей и начал.
Туман ушел. Душно, мрачно подбиралась осенняя гроза, скупая на воздух, хоть и ветреная. Ветру тоже не хватало дыхания, он пылил и пыхтел, неопрятно заигрывая с лопухами. Огромные листья перезрелого растения за левым окном неуклюже шевелились навстречу, но ветер бессильно ложился в песок, лишь чуть двинувшийся под его слабым никчемным вздохом.
4.
За завтраком Старик улыбался в усы, спрашивая:
– Вы меня, молча-то, в сознании, как зовете? Стариком, поди? Или дедом? Вы, барышня, вслух мое имя-отчество редко произносите. Вот я и делаю выводы, есть у вас для меня другое имя. Я ведь вас Александрой тоже редко называю.
– Есть. Действительно, – улыбнулась я.
– Ну не Ведьмак, надеюсь. Не Бирюк?
– Нет. Первое – верно.
– Старик, значит. Ну и хорошо. Во времена моей молодости так все друг к другу обращались: «Как дела, старик? Куда собрались, старички? И даже: старушка, дай списать по дружбе!» – Было видно, что ему действительно симпатично данное мною имя. Мне всё же было несколько неловко, будто меня разоблачили, легко, запросто. Впрочем, так оно и было.
– Да, у шестидесятников это проскальзывает. И еще чувак – чувиха. Грубовато как-то. – Радовалась я тому, что тема хоть чуть уходит в сторону.
– А «по-приколу», «прикольно» – на все случаи жизни, не грубо? И еще: «я такая иду, короче, а он такой, короче, стоит…» А где ж короче, когда из-за бесконечных «короче» повествование длиннее получается? И какие они – «такой» и «такая»?
В универе ко мне стали относиться с некоторым недоверием. Слишком легко сдала сессию, зачеты щелкаю только так, хотя много занятий пропускаю. Мне действительно не представляла никакого труда учеба на моем родном, намечтанном с детства, биологическом, более того, я обнаружила в себе внезапный интерес и даже тягу к физике и математике. Заглянув однажды в аудиторию третьего курса физмата, я неожиданно, прежде всего для себя самой, минут за пять решила предложенную преподом задачу, поднялась с места и протянула ему лист. Через пару дней меня вызвали к декану физмата, чтобы побеседовать со мной о возможности перевода. Я ответила, что хотела бы совмещать учебу на двух факультетах. По этому поводу мне пришлось говорить уже с ректором. Выяснилось, что второе образование возможно только на платной основе.
Истоки всплесков моих способностей я искала и находила в совмещении во мне двух сознаний. Мое женское «я» имело интерес к биологии, мужское – тяготело к физике. Помноженное одно на другое давало усиление возможностей в степени, коей я пока не знала, но которое проявилось уже столь определенно. Не знаю, чем бы закончились мои поползновения учиться всюду разом, но развитие реальных событий повлекло всё совсем в другое русло.
Курсом старше учился парень, красавчик и обаяшка, заправский сердцеед, положивший к тому времени глаз на меня. Он попытался пару раз «проводить меня до автобуса», но в первый я просто смылась от него, а во второй оказалось, что я сама за рулем.
– Ну тогда, может, ты меня подкинешь?
Я не успела сообразить, как он уже плюхнулся на сиденье справа.
Он что-то тарахтел, пока мы выбирались из мощеных узких переулков, по обеим сторонам заставленных автомобилями, на светофоре я свернула и, увидев чудом свободное место, припарковалась бочком, на минутку.
– Все. Приехали. Выходи.
– А чёй-то ты такая неприветливая? Знаешь, у меня есть симпатичное предложение. Давай в «Унцию» или в «Круассан»… Ты же любишь особую сдобу, по редким рецептам? – Его глаза нагло бродили по моему лицу, чего он не скрывал, напротив, демонстрировал, что оценивает мои глаза, губы, будто стремясь разглядеть, что находится за ними, внутри моего рта.
– Нет.
– Быть того не может. Все девушки любят. Ты на диете?
– Нет.
– Что – нет? Не все девушки? Или не ты?
Он широко улыбался, зная какие у него красивые зубы, как он обаятелен, от него пахло хорошим парфюмом, сорочка – свежайшая, в общем, он был уверен, что отказать ему невозможно и, продолжая улыбаться, двинулся ко мне, положил одну руку на руль, а другую попытался протиснуть между моей шеей и спинкой сиденья. Я резко схватила его гладко выбритый подбородок правой рукой и с силой толкнула его лицо. Голова мотнулась, и он ударился затылком о боковое стекло. Я не ожидала, что мое движение окажется столь мощным, но не двинулась, не выдала себя, еще секунду смотрела на его изумленное и перекошенное болью лицо, потом отвернулась.
– Ты что, лесбиянка?! – схватил он обеими руками ушибленное место на голове.
– Выходи. Не люблю повторять.
– Нет, ну такого я еще не видел! От нормальной девушки… Да ты, вообще, что? Нет, точно лесбиянка. Дайк или клава?
– Вышел!
Он действительно поспешил вон.
Дома я влетела в Интернет и разобралась в терминологии. Дайк – лесбиянка, которая может носить вечерние платья, бриллианты и бижутерию, узкие юбки с разрезом и высокие каблуки, но предпочитает выглядеть этаким гарсоном в брюках и блузке мужского покроя, любит повязать галстук и надеть на руку крупные часы, не откажется от фетровой шляпы, лихо водит машину. Я тоже все это очень даже ношу. И за рулем уже чувствую себя лучше, чем без него. Дальше, фэм. Этой оказалась самая что ни на есть «блондинка»: нарощенные ногти и волосы, усиленная косметика, сапоги на шпильках, декольте, маленькие сумочки, маленькие собачки, леопардовые трикотажные мини-платья в обтяжку. Мечта банкира, да и только! Почему лесбиянки-то? Наверное, от пресыщения богатыми мужиками, или потому что модно? Ладно, дальше – бутч. Ну, это уж точно не про меня: мужеподобны, часто с лишним весом, прикрываемым свободными рубахами и спортивными штанами, гиперактивны в сексе, носят короткую стрижку, кеды-кроссовки, слушают Арбенину и Суруганову… Опа! Я тоже. Но не только. Далее: бутч умеет и любит ухаживать за девушками, может увлечься дайком или фэм, которую будет содержать и ревновать к другим лесбиянкам. Бутчей ненавидят мужчины. Приехали. Но я не похожа на парня. Хотя, когда на тебя смотрят с уверенностью, что ты – лесбиянка, запросто можно почувствовать себя дайком. Или собакой, если на тебя смотрят как на собаку.
Кто я? Нравятся ли мне девушки? Да я на них и внимания не обращаю никогда. Но мне ведь действительно неприятно касание особей противоположного пола. «Это сейчас противоположного, а раньше…» – отвечала я сама себе. Отвечала, но истины не видела.
Через несколько дней я стала замечать шушуканье однокурсниц за моей спиной, усмешки, любопытные и презрительные взгляды парней: ухажер-неудачник явно широко озвучил свою версию произошедшего. Но это беспокоило меня куда меньше, чем собственное замешательство, неопределенность и пустота в вопросе, который стал для меня очевидно важным. Я не испытывала тяги ни к мужчинам, ни к женщинам. Никакой. У меня не было даже желания дружить с кем-либо. Друг уже есть – Старик. И он для меня не имеет пола. Как отец. Или дед. Или какой-нибудь священник, учитель, упразднивший в себе либидо за ненадобностью. Для меня Старик был выше половой принадлежности, значительнее ее.
Птичий с горбинкой нос, крупноватый, но вполне благородный, серые в голубую рябинку, создающую эффект мозаики, глаза, худощавое лицо, вся его сухопарая, но статная, то есть прямая, с верно, гордо посаженой седой головой фигура, выдавала породу, вызывала интерес, заставляла обратить на себя внимание. О таких говорят «красивый старик». Но для меня значение имело что-то иное, далекое от сексуальных смыслов. Я не умела определиться в системе своих личностных координат. Я искала их, но не могла найти.
Ветер чистил сад, усердствовал. Ветки отмахивались от него, им не хватало смирения, чтобы расстаться с листвой без сожалений. Дождям оставалось размочить и разжижить то, что перестало быть зеленью и цветами, вбить в сырость земли уберегшиеся от костров листья, и прилечь первым льдом заморозков, стеклянной чешуей поверх бурого праха. Темнота ранних вечеров тосковала и зябла в промозглом воздухе, пытаясь сгустить его, но туман не успевал сформировать свои замыслы, как очередной дождь уже принимался наждачить приползшую не вовремя ночь. Дожди сменяли друг друга, уставая лить, они были схожи в длительности, но разнились густотой и степенью нудности. Иногда являлся обильный, умеющий пускать пузыри по лужам, казавшийся теплым, но скоро иссякал, уносился прочь, куда-то туда, где можно бесшабашничать и куролесить. В водосточных трубах шевелился холод, пытаясь примоститься там и уснуть, спрятавшись от назойливого рысканья ветра. Ветру тоже хотелось покоя, но он не умел беречь силы и, уже изможденный, все продолжал свою унылую работу. Пространство блудило и путало чьи-то неверные и рваные помыслы, блеклые видения, воспоминания и не сложившиеся клочки зимней музыки, до которой было еще далеко, но все эти корявые или бесформенные компоненты помаленьку притягивались один к другому, сбивались в комки, в неравномерные объемы, пахнущие прелым листом и слякотью, и преобразовывались, наконец, в бред и сон, длинный и муторный как сама осень. Сад потерял надежду, смирился, и голый, нищий, уже не ждал тихих птиц, замкнулся, как живущий не из желания жить, а не умея умереть, бомж.
Предложение, последовавшее чуть позже, обрадовало меня чрезвычайно.
Я начала смотреть фонтриеровскую «Меланхолию», раздражалась на каждое проявление невесты, казавшееся мне необъяснимо нелепым, недовольная ответила на звонок. Голос оказался неожиданным. Я навела курсор на паузу.
– Александра, есть минута? Можно будет потом встретиться и обсудить детали, но пока вот что: отец себя неважно чувствует, осень ранняя, сырая, зиму синоптики обещают холодную. Хочу отправить его туда, где всего этого нет. В Юго-Восточную Азию. Вьетнам, Сингапур, Таиланд, посмотрим, где с визами на длительный срок проще. Месяцев на пять, можно больше. До весны. Не могли бы вы сопровождать его в поездке?
– В смысле, помочь добраться до места?
– Нет, мне бы хотелось, чтобы вы пожили там вместе с ним. Ну, можно снять дом, или два рума по соседству.
– До весны?!
– Я в курсе, что у вас с учебой более чем порядок. – Голос Ярослава покачивался, как ровная волна. – Можно было бы организовать экстерн. Сдать сессию заранее, а потом, когда вернетесь, летнюю сдадите. Разрешение оформим. Подумайте, пожалуйста, я был бы вам очень признателен. Я перезвоню.
Оформим, организуем… Вьетнам, Таиланд… Мои четыре родителя дальше родственников в Сочи меня на каникулы не отправляли.
«Меланхолию» я досматривала в волнении, и апокалиптический финал, о котором героиня знала, который предчувствовала с первой секунды, объяснил всю странность ее поведения. Засыпая, я думала о том, что значит знать самое страшное. Знать то, о чем никто вокруг тебя не подозревает, или то, что, может быть всех и пугает, но во что никак не верится. Что значит, знать точно, что завтра умрешь? Как с этим жить? Что происходит в твоей разрывающейся в ужасе душе? Перед казнью. Как проявляется мужество внутри тебя? Каков этот набор чувств? Я пыталась вообразить, и мне становилось бесконечно одиноко. А если знать, что погибнут все – родные, близкие, чужие, неизвестные… И ты. Я подумала о Старике. Если знать точно, что завтра не станет человека, важного для тебя? Самого важного. Да, родители мои, увеличившись в числе, как бы разменяли, раскидали во мне важность каждого в отдельности. Я стала каждого любить в два, а может, и в четыре раза меньше. По-честному, я стала к ним почти равнодушна.
За завтраком на следующее утро Старик был неспокоен и ворчал, но о деле не заговаривал. Тогда взяла с места в карьер я.
– А я считаю, ваш сын подал хорошую идейку. Мне сессию досрочно спихнуть – в удовольствие, только с преподами договориться, чтобы резину не тянули. Я бы за неделю справилась. Не знаю, правда, как вам вьетнамский климат. Не слишком большие перепады?
– Во Вьетнаме очень высокая влажность. Там палец порезать опасно – заживать будет месяц. А в Камбодже на побережье – жарко очень. Да и интересно на севере – в Сием Рипе, там великий Ангкор рядом. Но моря нет. И чуть в сторону от отеля отойди – очень уж грязно.
– А вы там везде были?!
– Юг Китая, острова, Лаос… – Старик улыбнулся. – В Лаосе такой кофе по-французски! Потом Вьетнам, Камбоджа – пришлось полазить по джунглям, изучал кое-что про военные действия американских войск. Бали, Ява, еще кое-где. С покойной супругой. – Теперь Старик делал вид, что равнодушен к теме.
– Вы свое согласие сыну даете? А на кого дом оставите? Кошек, собаку?
– Не торопитесь, Александра, и, кстати, пойду пса прогуляю.
– Далеко? В лес? Зонт возьмите!
– Дождя нет пока. Мы ненадолго.
Старик сунул было ногу в прогулочный башмак, но вывернул ее обратно, шагнул в тапках на веранду. Через пару минут в куртке с капюшоном и кирзовых сапогах вел уже Саба к калитке. Как они собираются друг без друга полгода жить? Пес крупно мерил широкими лапами мощенный плиткой двор, довольно гоняя светлым пером хвоста утяжеленный влагой воздух. День блек и печалился, а эти двое довольные уединением шли радоваться близости осиновой рощи. Саб будет как угорелый носиться кругами между деревьями, ломать тяжелым телом облысевший кустарник, валяться, шоркать спиной по мокрым остаткам травы и, веселясь не в меру, наскакивать всем ростом прыжка на хозяина, попадая в лицо горячей лохматой мордой. Потом они сделают обход старых и новых дач, двигаясь возвратной тропой мимо тоскующих оград и садов, что спрятали за ними голые и похудевшие свои тела. Деревья станут подглядывать за их дружбой и подслушивать их разговор. Разве можно покидать все это? Мне было страшно за Старика, но никогда не слыша его жалоб, я знала, как нехороши уже его суставы, как тяжел прямой позвоночник. Если бы не было крайней необходимости, сын не решился бы на такие резкие перемены. Значит, поедем.
Я не поднималась прежде в кабинет Старика. Делать уборку он у себя запрещал, утверждал, что сам всю жизнь справляется. Когда я шуршала в мансарде вокруг его всегда прикрытой двери, из-под ее тяжелой деревянной отчужденности часто тянулся аромат хорошего табака: Старик заядло курил трубку.
Я воспользовалась прогулкой друзей и вскрыла тайник.
Она хвасталась пряной красотой. Сливово мутнели густо подведенные глаза, курчавилась и лоснилась темная грива, пробитая красноватым колорированием, пухли ненакрашенные прикусанные губы, спело рыхлели глядящие в стороны под свободными одеждами, не сдержанные бельем обильные груди. Фотографий было несколько. В рамочках, небрежной стайкой они примостились на стеллаже с книгами. Вот ее рельефные икры через унизанные монистами сухие щиколотки прорастают излишне высокими и тонкими каблуками, усыпанная кольцами рука придерживает подобранные кверху, отодвинутые от глаз кудри. Вот она обернулась, приоткрыв неулыбчивые и влажные губы, демонстрируя короткую спину, узкую талию и широкие бедра, вот она в наклоне и опять глядя через плечо прямо в камеру, откровенничает пышностью своих ягодиц под тонким трикотажем восточных шальвар. Она была вульгарна. От нее веяло сладким и злым. Комната наполнилась духотой и влагой, медленно, шаровидно сопрягающимися в пульсациях. Ядовито потянуло слух: ударные смутно, издалека, жарко и затаенно. Развалилось сознание, как раздробленный в алых семенах гранат, проливающий соки. Рисунок, орнамент, подвижный и прихотливый перетек со стен на кожу, залоснился и принялся разъедать нежность поверхностей. Она двинулась ко мне голая только для того, чтобы стоя очень близко напротив, почти касаясь сосками моего платья тихо рассыпаться смехом. Маслянистым ручьем потекло время, радужно отразилось и расползлось в нем пространство.
Она устала, вернулась на полотно того мастера, в гостях у которого были мы в день первого тумана. Улеглась широкими ягодицами на ковер, промяла его, по-восточному скрестила ноги, повременив, прикрыла разверстые чресла скомканной вуалью. Еще чуть двинулась бедрами. Вздрогнула. Разжала мокрый рот. Застыла. Одалиска. Такие женщины должны умирать рано. Они гибнут от невозможности оставаться молодыми. Они боятся потери соков под кожей, масла в мышцах. Они покидают жизнь, чтобы навсегда остаться тем, чем себя разумеют.
Меня злили эти предположения. Я стыдилась своего любопытства, посредством которого меня затянуло еще глубже в неопределенность.
Комната, проводив душным ароматом модели с картины и фото, выдавила меня прочь и перекрылась плотностью двери.
Я не разгадала загадки Старика. Я еще больше запуталась. Прежде всего, в себе.
Старик вернулся веселым, выпил крепкого и сладкого своего чаю, подхватил каракулевую корниш-рексиху Себастьяну, которая тут же переместилась из рук к Старику на холку, и поднялся в уже сухой и прохладный кабинет читать, курить и думать.
Смурь позднего октября переползла в ноябрьскую безжизненность и дряблость. Сад покашливал, кис и размягчался под серостями текущей с неба вялой воды, заполняясь чувством бездомности, неприкаянности и еле внятного ожидания. Иногда сквозь хмари чахло просачивался закат, имитируя жизнь недолгим цветом, скоро изнемогал и сворачивался в комок холода. Тогда вдруг становилось суше, пронзительно взвизгивали минусовые температуры, сад стекленел, дребезжал, твердо и больно торчал ночами, и короткое дневное время пережидал в предчувствии звонкой ночной пытки. Приближался первый снегопад.
Юго-восточные настроения, мечты об экзотической поездке и изучение этой темы не уменьшали тем не менее моего интереса к биологии и физике. Два эти предмета постепенно слились для меня в единое целое, и заглубили в современные проблемы биофизики, о чем приходилось много читать и что заставило размышлять над некоей постепенно выкристаллизовавшейся для меня задачей. Задача эта, так же как интересовавшая меня наука, проявлялась в совмещении двух явлений. Двух полюсов. Проблема лежала между живой и неживой материей. Вернее, в некоем русле, способном совместить две сии ипостаси. К этому моменту мне уже было ясно, что живые организмы и неживая природа подчиняются одним и тем же концептуальным законам физики и химии, я уже читала совместные рассуждения по этому поводу биолога Крылова и физико-математика Либенсона, еще раньше познакомилась с доказательствами Пригожина в области волшебной науки – линейной термодинамики неравновесных процессов. Но я еще не осознавала, почему именно эта область биофизики притягивает меня. В это осеннее время в Интернете появилась информация, которая заинтересовала и сильно меня взволновала. Молодой ученый из Массачусетского технологического института Джереми Ингланд вывел формулу, которая с некоторым допуском доказывает, что «определенные условия» должны способствовать перерождению неорганической материи в органическую, то есть живую. В одной из статей значилось: «Из прозрений сотрудника Массачусетского технологического института еще не до конца ясно, какие именно „определенные условия" должны способствовать саморепликации неорганической материи, ее превращению в органику и, в конце концов, появлению жизни. Очевидно, в истории Земли эти специфичные условия воплотились лишь однажды, дав жизнь Последнему всеобщему предку. Такая избирательность делает „универсальный закон эволюции материи“ Ингланда не столь уж и универсальным». Пусть так, но сама идея перехода материи из неживого состояния в живое поражала. Из неживого в живое. А что, если соединить эти противоположности? Живое с неживым…
Во второй раз меня втянуло в верхнюю комнату непроизвольно, я даже не сообразила, вышел ли Старик в сад или уехал по делам надолго. Фотографии одалиски той же стайкой цеплялись за узкую пустоту перед рядами книг, портрет на стене живописно спал, оставляя мой покой при мне, не тревожа, не трогая. Стало ясно, что на этот раз я в ловушке по другому поводу: взгляду подвернулось то, что, возможно, жило здесь всегда, но до поры не привлекало внимания. На письменном столе, поверх хаоса книг и листов с рукописными заметками, карандашей, ручек, ножичка дамасской стали в кожаных полуснятых ножнах и скомканной фольги от черного шоколада, лежала крупная, укрепленная на картоне фотография, на которой, глядя в кадр и улыбаясь Старик обнимал за плечи холеную женщину в широкополой фетровой шляпе, заколотой спереди брошью. Даме, казалось, нет сорока. Умные светлые глаза, тонкие черты чуть тронутого косметикой лица и букет эустом в узких руках. Цветы рассыпались и просились в вазы, раскиданные по нижнему этажу и сейчас. Да, разумеется, этой женщине принадлежали одежды в шкафах дома, раковины и стекло на полках, высушенные розы в кувшинах, духи во флаконах, остатки отражений в зеркалах. Несомненно. Слева, притуливалась, склонялась, вращивалась в плечо, руку, бок дамы, мутнела глазами, облаченная в полосатый мужской халат, Одалиска. Эти синие полоски, меж краплачными зигзагами, сыпались и сейчас там, внизу, в ванной, с керамического крючка к полу, ожидая, когда после горячего мытья Старик укутается в халат и будет пить чай в столовой. Фото было сделано в прихожей, знакомой осенним пейзажем и городским, уличным, что в скромных рамах приникали к стенам до сих пор. Справа от Старика – небольшой чемодан на колесиках. Он усадил жену в аэропорте или на вокзале в автомобиль, – цветы на перроне, все оглядываются, балетная спина, приподнятый воротничок изысканного манто, порода, мелодия движения, небрежность женского жеста, не удерживающего охапку свободных, не спрятанных в упаковку махровых соцветий, – и привез домой, где их встречала в халате, по-домашнему, по-свойски, влажногубая… подруга жены? Фривольно, в халате хозяина дома, с небрежно подколотыми волосами. Ласковое, педалированное внимание к хозяйке, демонстрация выбора. Прихотливые пальцы, роняющие травянистые стебли эустом в качающийся воздух, узкая спина, равнодушный и светлый взгляд, брошенный все же на сладострастные ягодицы служанки, что низко наклоняется, выравнивает угол подвижного пола, подбирает оброненные цветы, выманивает оставшиеся из забывчивых рук, чтобы погрузить растения в вазы. Свет из окна ограниченной полосой проникает в полутемную прихожую, выхватывает шаг, бежевый край шелковой рифленой юбки, полсекундой позже – рельефные икры из-под синих и красных полос. Гур-гур, сразу чаю? вина? есть любимый коньяк, ужинаем? Кресло принимает длинное тело, сувениры из чемодана на колесах: обоим духи, обоим душноватые, ферамонные. Музыка. Еще: мужу – книгу, крупнокалиберный иллюстрированный том «Истории дендизма», подруге – черно-бордовое нижнее белье, рассматриваем здесь же, одновременно, каждый – свое, с восторгами. Пушистую крупную любимицу – на изящные хозяйкины колени. Каракулевая корниш-рексиха – за избранной в симпатии Одалиской. Снова в прихожую, кошачий египетский силуэт мечется под рельефностью ног, пакет с нежным шелком пока в кресло, халат подраспахивается от активности, каракулевое тельце рядом, голыми ляжками винтом наверх: чемодан и, о! – штатив – по местам.
Кто сделал снимок? Из угла кабинета, отвечая на вопрос, тянул длинную ногу тот самый штатив. Их было трое. Фото сделано автоматически. Одалиска ждала, готовила ужин, жарко, суетно, заранее устанавливала штатив с фотокамерой, принимала душ, трогала губкой рыхлую грудь, мыльной рукой скользила меж бедер, горячо, парно, короткая стопа мимо коврика, на рисунок метлахской плитки, – тянула сине-красный халат со стены, накидывала на голое пахучее тело.
В нижнем углу фото тем же крученым почерком, что и рукописные записи на столе, и пометки в книгах, бегло брошено: «Только Любовь и Смерть – только Красота». Когда возникла эта запись? После ее ухода? Констатация потери и вины? Одалиска – как положено, прислужница жены и любовница мужа? Изменять такой женщине? С этой?! Мысль мгновенно вернулась в русло. Именно. Такой можно изменять только с этакой. Зачем? Нет. Почему?
Мне показалось, что я давно все знаю. Секрет раскрылся. Тайна осталась.
Меня вынесло из кабинета. Тяжкая дверь перекрыла чужую жизнь, иные страсти.
Ярослав несколько раз наезжал с уточнениями. Рассматривались варианты. Мое присутствие при разговорах не только не возбранялось, но было сформулировано как желательное, хотя не приносило никакого толку. Сын настаивал на том, чтобы отец провел все оставшиеся холодные месяцы в стране, где есть такое невероятие, как ни с чем несравнимый, особый массаж, способный творить чудеса оздоровления. Таиланд. Море, джунгли, орхидеи, фрукты, приветливый народ, тепло.
Старик отвечал согласием. Трудно принимая зависимость от банкира, угрюмел, выходил за чаем, оставался в столовой, банкир и я вынуждены были перемещаться к нему. Разговоры не завершались, уплывали прочь, вились трубочным дымком вдоль лестницы подолгу после. Через время Старик заявил, что хочет сначала провести пару месяцев на севере страны, в предгорьях с более мягкими температурами, для акклиматизации, тем более что это территории древних княжеств, полные архитектурных памятников и буддийских школ.
– Ну, отец, ты всегда тяготел к красотам полуутерянных цивилизаций. Север, так север. Там все равно ниже 24, кажется, не бывает. Или «золотой треугольник» заинтересовал? Опиумный рай – Бирма – Лаос – Север Тайя… За маками поедем?
Меня колотило. Предчувствия слоились и перемещались, наступали на сны, смешивались с ними. Еще не соткана была материя, еще путались слишком тонкие нити. Меня волновали, будоражили близящиеся перемены, и биофизическая моя задача чудесным образом воссоединялась с мечтами о путешествии. Всасываемая в воронку этих мечтаний, я тянулась к научному приключению, замирала сердцем, окуналась в чтение и рассматривание, навостряла зрение, озирала пространства, потом концентрировалась на конкретике, надсекала нетронутые ранее темы, дотошно ковыряла ранки информации, заглубляясь в тайники, как подросток в запретные картинки. Меня тревожили сказочные мотивы совмещения живой и неживой природы, неопределимым образом связанные с заочной влюбленностью в Индокитай. Уже блуждали в ушах мантры на пали, которого я никогда не слышала, мнились уже Мани Падме – драгоценность в лотосе, и иные имена Просветленного; застревали и шевелились в моей голове символы цвета и звука. И я видела себя раскидистым деревом баньян, впивающимся корнями, коими прорастают ветви, в телеса храмов, и одновременно претерпевала страдания от мучительной этой любви, обернувшись храмовой стеной. Я запросто перерождалась за один всхлип в живые корни и неживые стены.
5.
В первой декаде ноября моя зимняя сессия была досрочно и весьма успешно сдана, и мы, оставив дом, сад, пса и кошек на попечение поселившихся здесь на время пожилой родственницы Старика и охранника от Ярослава, по его же протекции заполучили в Москве полугодовые тайские визы, попрощались с уже выпавшим снегом, и вылетели в Бангкок.
Пока мы бесконечно двигались плоскими эскалаторами по сновиденно длинным туннелеобразным пространствам Суварнабхуми, аэропорта Города Ангелов, планы наши поменяны были Стариком с точностью до наоборот. Вместо того чтобы отправиться железной дорогой в Чианг Май, как было задумано Стариком и договорено с сыном, мы легко отыскали такси и выехали в сторону Паттайи, центра мирового секс-туризма и русского бизнеса в области экскурсионного обслуживания и продажи недвижимости. Я изучила эту тему досконально, так как все, кого я знала, если и посещали приморский Тай, то выбирали не более размеренные острова, а именно Паттайю, сумбурную, полную шумных бессонных ночей и дневной пляжной лени и досыпания.
Час мы наблюдали бег назад киноленты с пальмовыми пейзажами. Ближе к Паттайе проявились трехэтажные городки, собранные из бетонных прямоугольников, разбитых, в свою очередь, на невеликие окна, перечеркнутые частым делением рам на квадратики. Низ этой геометрии был захламлен магазинчиками и продолжался длинными и обильными фруктовыми рынками вдоль шоссе, запахи которых, казалось, проникали в герметично кондиционированный воздух автомобиля. Мимо нас скользили банановые плантации с массивными живыми листьями, похожими на вытянутые, искаженные слоновьи уши, которые медленно ворочались на слабом ветру. Что-то буйно цвело розовым и белым, и снова пальмы – низко пушистые и длинноствольные, с взлохмаченными верхним ветром шаровидными кронами летели в прошлое.
– Советую начать вести дневник. Память имеет свойство вышвыривать вон важные ощущения, не соотносясь с нашими желаниями. – Старик устал и старательно пытался скрыть это. Не дожидаясь моих вопросов, напряженно прогибаясь в спине, добавил: – Раз уж, как стало модно среди пенсионеров всей Европы, не исключая некоторых россиян, выслан зимовать в Таиланд, иду общим маршрутом: Паттайя так Паттайя. – Он делал ударение на последний слог. – И почему, собственно, должен быть известен каждый мой шаг?! Нет – контролю!
Таксист доставил нас почему-то только до автостанции на Таппрайе, понять его «английский» не представлялось возможным, поэтому мы кое-как договорились с другим таксистом, чтобы взобраться на холм Протамнак, к жилому комплексу «New Nordilc». Здесь на рецепции получили ключи от многокомнатных апартаментов с двумя санузлами. В одном – сияла вывороченная краями на манер цветка ванна-джакузи, в другом строжилась аскетичная душевая кабина. В завешенном цветущими орхидеями вдоль витых кованых балконов кондо на предпоследнем, одиннадцатом, этаже, открывающем в широком обозрении полированное солнцем, но рыхлое серебро Сиамского залива, нам предстояло начать наше оздоровительное существование.
– Это квартира моих знакомых, временно отсутствующих, – комментировал нашу экскурсию по апартаментам Старик. – Думаю, мы тут на недельку, если не возражаете. Питаться будем вне дома, здесь всюду кормят. В холодильнике обещали оставить что-то на первый перекус. А сейчас – я в ванну и потом немного подремлю. Распоряжайтесь собой, как заблагорассудится.
Для начала я подключилась к Wi-Fi и отправила Ярославу успокоительную депешу о завершении части пути. Краткую, без уточнений.
К вечеру мы скатились с Протамнака к Южной улице и заглубились в тесноту переулков – соек, рынков и фуд-кортов. Было непривычно суетно и ярко. Ночью я, кажется, начала вести записи.
Мелкие, бледные, почти совсем белые огурцы, хрупкими тельцами своими теснят друг дружку, просыпаются вниз и вдоль по прилавку прочь от темных длиннопалых рук, от проворности их и ловкости. Юный мелкокостный таец суетливым движением дробных суставов спешит объять стремительность побега, затормозить, умерить скорость гибели еще секунду назад живого порядка.
Вечер белесым серебром истекает из-под облака, растянутого до прозрачности вдоль неба. Горькое ощущение жары и пряности исчезающего дня смазывается, пружина ослабевает. Но ненадолго: внезапно разражаются надсадным криком тысячи птиц, голоса их, будто усиленные тысячью микрофонов, рвут кроны дерев, что позволили поселиться птицам в своей плотности.
Вечер мутнеет и загустевает, светлому воздуху и покою дается не более тридцати минут на жизнь. Кратка и неловка попытка сумерек прожить предгибельный миг достойно. Никем не замеченные старания окончательно комкаются, несмотря на царственность послезакатного бледно-алого угасания на западе, над еле движной мощью залива.
Ночь возвращается откуда-то резко и уверенно, будто отлучалась недалеко, так, по невеликой надобности оставив дела без личного присмотра, зная, все пребудет на своих местах. И действительно, дня будто не было. Макашниц вдоль улиц прибавилось раз в сто, и они еще ярче расточают запахи перетертых в ступе трав и капающих жиром на жаркие угли мяса, рыбы, кальмаров, осьминожьих щупальцев и цыплячьих потрохов. Спешно и беспрерывно пекутся на плоских и круглых поверхностях плит роти с банановой и манговой начинкой, чистятся-режутся наискось, по спирали, истекая резким соком, ананасы, темно-оранжевая и алая целебная папайя выворачивается наружу глянцевым блеском нутра, полного влажными семенами.
Взрывается ветер, наполняя густоту воздуха шипением пальмовых листьев, шум заглушает временами птичий ор, кажется, звучит дождь. Но еще не пришло его время. Небо режется и рвется то сизыми, то золотыми ранами. Надвигается, растет напряжение, временами притихая и замирая, чтобы внезапно нахлынуть новым, более явственным порывом. Темная зелень мечется, морочит белые фонари и синие фонарики. Все шире и значительнее небесные раны. Чернота урчит и бредит, заставляет умолкнуть птиц, собирает силы, низко вскрикивает и разражается шумным, злым весельем ветреного парного ливня.
Все говорили о смене климата на планете, о том, что допрежь в этих краях не видывали дождей в сухой сезон, а тут такие грозы и ливни, и будет ли им конец?
Красильщик – 1
О, как вы ошибаетесь, предполагая, что есть фазы Луны, которые дурно влияют на мои творческие силы, на мои решения и обоснованность моих выводов. Нет такого положения, такого времени, такого состояния холодного светила, которое было бы для меня неблагоприятно. Всякое изменение, всякая вибрация, минимальное перемещение и глобальные сдвиги в жизни моих властителей – Лунного Света и суть Природы Его Истечения – великое мое подспорье, ибо они – прародители мои, Отец и Мать сущего моего «я».
Луна в одних широтах растет стоя, в других же – лежа. Здесь тонкий серп ее подвисает в небе, напоминая острые рожки, торчащие вверх, округло сомкнутые понизу. Позже ковшик начинает заполняться свечением, увеличиваться, будто в нем поднимается пенка, постепенно превращаясь в диск.
Все началось с того, что какие-то доброхоты подарили ему в день Ангела, приходившийся на сердцевину летнего тепла и сочной дневной долготы, деревенский ткацкий станок. Несложный в управлении он вцепился в своего нового хозяина и не отпустил, покуда тот не обрел верных навыков и легкости в обращении с ним. Позже мастер и сам не оставлял своего нового приятеля целыми днями, прилагая и совершенствуя усилия к взаимному удовольствию. Старые увлечения и работа были почти заброшены. Материал для тканья – нитки разной плотности и толщины – находился без особых усилий. Помогали все, кого привлекала возможность увидеть неожиданные результаты действий новоявленного ткача. Свалка мотков бесцветного шелка, шерсти и хлопка время от времени выравнивалась, упорядочивалась и превращалась в уравновешенный склад.
Ткач жил среди тонких и плотных нитяных путей, блуждал и терялся, заходил всё глубже, погружался и почти тонул в сумбуре и нелепице чуждых законов, но, не рвя, не разрушая прямой и вместе с тем витиеватой их логики, возвращался к правилу и началу.
Ткач обретал в нынешней своей профессии, новой и самовластной, свой иной облик, иной источник духовного существования, источник иной увлеченности, иного бытия.
Ткань затребовала себе яркого лица, ярких разнообразных лиц и их выражений.
Новобранец изыскал время, забросив решение изученных задач, и занялся естественным колдовством, творением цвета: сочетаний элементов растений, организмов животного мира и самой земли, дабы окрасить нежное руно, льняную пряжу и шелковые нити, дать им самоопределение и многозначность. Ему хотелось найти ранее неизвестные глазу разливы сияний, перемещения оттенков, что прятались и не находились, по причине неумения ткача разгадывать тайнопись стеблей и крыльев. Он ничего не знал, никакие открытия, сделанные до него тысячелетиями, не были ему ведомы. Если что и приходилось когда-то слышать, он удалил из памяти жестко, чтобы чистым выйти на поиск. Освобожденный от сомнений разум его гулко ухал пустотой, не затрудняя, не утяжеляя простор действий, предстоящих зачинателю. Он не ждал, что тайна разверзнется, вскроется и поддастся. Он не предполагал порядок будущих действий. Сердце его было спокойным.
Он вгрызся в почву и к вечеру первого дня явился домой запряженным в тележку, полную очищенных от земли кореньев и медленно вянущих трав. К каждому пучку был прочно привязан нитками клочок бумаги, на котором красовалось имя растения, если оно было ему известно, или вопрос, если нет. С пустыми трепыхающимися листками на пучках, переложенных из тележки в небольшую тачку, он отправился к жившей по соседству древней старухе для определения имен. Женщина кривым, разросшимся в суставах, пальцем ковыряла корешки и сипела: «ревень, мармеладовый корень, слива и вишня, будто не знаешь, коренья марены и лопуха». Она с видимым удовольствием покорябывала черным когтем уродливые элементы растений, перемещая их вычурные сплетения снизу вверх и обратно, вороша и потряхивая, будто в поиске особого, возможно, мандрагорового уродца, короля магии и волшебства, без него ни шагу, несравненного имитатора и подражателя, извивающегося, словно в дикой пляске человеческого тела.
Новоиспеченный мастер запалил дома огонь и выварил и выпарил соки, внутреннюю память, средоточие информации глубинных пространств, видимых и невидимых движений, определив всякому имени цвет.
Через время, методом разнообразных проб, не всегда разумных попыток, долгих и повторяющихся неудач, погружавших его в бесцветные комки отчаяния, из которых он, барахтаясь, злясь и порой калеча себя, неуклюже выкарабкивался, чтобы снова свалиться и плыть против живого течения, ему все-таки удалось вывести правила закрепления измененности в существе материалов. Он выследил закономерность внедрения цвета в чуждую плоть, в плоскости, изначально не имеющие различий, но обретающие их с проникновением многоликого фермента внутрь субстрата, вглубь его монотонности. Первоэлемент под воздействием корявых попыток исследователя видоизменялся до неузнаваемости, доводя мастера результатом реакции до полного эмоционального изнеможения. Его ощущения трудно было бы назвать радостью открытий. Это было торжество неофита, обретающего знание в процессе внезапных вспышек, сменявших долговременные и мучительные ошибочные действия, последовательность которых не запоминалась, что приводило к бесконечной череде повторений, маскирующихся под поиск. Вспышки эти были столь мощными и разнообразными, что порой ему еле хватало сил кратко зафиксировать открытие на письме, прежде чем рухнуть в беспамятство сна, после которого найденная на рабочем столе запись приводила его в восторг своей абсолютной неузнаваемостью. Он не помнил, как пришел к очередному рубежу, и ему казалось чудом новое знание.
Ему пришлось выезжать в страны далекие для поиска и открытий, или казалось ему, что он побывал всюду, где встречаются необходимые для его дела растения и минералы. Виделось ему, как карабкается он по склонам гор, бредет чужими садами, роется в почве, скребет камни.
Вновь и вновь он растирал сухие травы, дробил камень и смешивал жидкости, он ловил запахи и числа, исследовал легкие и тяжкие пары, менял понятия и переставлял смыслы, сбрасывал защитные слои, ткал и красил, ткал и красил, прятал от себя неудачи и снова делал попытки.
Вся его работа открывалась ему чрезвычайно важным, почти сакральным действием, которое должно привести его существование к общему знаменателю Правды и Смысла. Он надеялся обрести ответы на личностные метафизические вопросы посредством своих изысканий и окончательных выводов в области цветности, предаваемой дотоле бесцветной ткани. Он определял для себя цвет как совокупность субъективных параметров тона и его насыщенности. Переход от бесцветия к цвету носил для него философский и мистический характер.
Однако практические задачи, что возникли перед ним изначально и получили теперь окончательную возможность реализации, возвернули его к действительности. Клочки домотканых материй, крытые пятнами, яркими и жухлыми, темными, сочными, мутными и прозрачными, разбросанные повсюду, заставляли его лицо корчиться в гримасе радости, неустанно работать и засыпать на полу среди вороха поверхностей, вобравших в себя многоязыкий цвет мира.
Вскоре он взялся за иглу, и его рукотворные, не знающие аналогов одежды, предметы обихода и интерьера, вся эта невиданная допрежь красота выкатилась и пролилась людям – владейте и радуйтесь вместе со мной!
Немногочисленные листы, хранящиеся в заветной шкатулке, содержали теперь записи о способах закрепления цвета, найденных им самим и еще некоторые памятные ориентиры, часто понятные ему одному.
Красный: корни марены, мак, кожа вишни и граната, кора крушины и мармеладовый корень, ревень и кожура абрикоса, лепестки тюльпана, хитиновые поверхности насекомых, таких как кошениль. (Шесть или восемнадцать кряду, темнота в преувеличении стойкости раствора и небольших допусков ж/л.)
Синий: индиго и кожица баклажана (терпкость). Цветы тайской клитории – насыщенный синий. Если обрызгать соком лимона, дает глубокий фиолетовый.
Желтый: раскрывшиеся лепестки и особенно бутоны дикого шафрана, цедра лимона и граната, луковая кожура, куркума, стебли персидских ягод, свежие листья полыни, абрикоса, яблони, ивы и дикой фисташки. (Хороши у буд. Monks.)
Оранжевый: корни и кора сливы или марены, раствор вареной коры граната, листья тополя или ивы.
Зеленый, листья грецкого ореха или оливкового, фиолетового, двойной желтой краски, а затем индиго.
Коричневый и черный чай, табак, вулканические грязи, оксид железа, сочетание диких фисташковых листьев или коры грецкого ореха и сульфата железа. (Крепко лапки черного жука-носорога настоять в т. ч. ж. не теряя инк.)
Красильщик отвлекался, погружался в созерцание, позволял медовому теплу растечься по жилам, золотым свечением наполнить организм и засиять среди мглы.
Думаю, граф Сен-Жермен практиковал улучшение бриллиантов и алхимическое получение золота, имея на то полнейшее, безызъяннейшее право. Обширные познания в области истории, химии, в оккультных науках, владение десятком европейских языков, но главное, арабским и древнееврейским, длительная, в триста лет, а может, кто знает, и во всю тысячу, жизнь – всё говорит о недюжинных возможностях. В мистификациях своих он проявлял шалость творца. Мистификатор не есть лжец. Ложь и фантазии – разные вещи, даже противоположные. Ложь – есть проявление слабости, бесталанности. А фантазия – дар. Ложь имеет границы, она постоянно мимикрирует под правду. Фантазия же безгранична, ибо не несет в себе стремления подражать чему-то, уподобляться. Мистификация – плод особой, специфической фантазии, которая рождает новые миры. Мистификатор близок к мистику, он непременно посвящен в тайну и увлекает в тайну тех, кого мистифицирует, обращая их в своих соучастников, своих адептов.
Магия алхимии – удел мистика. Здесь Граф не мистифицировал, он творил. Вне фантазий. Опираясь на высокие знания. И не вижу ничего удивительного в том, что в свое время граф также предлагал услуги свои по производству стойких красителей сначала в Париже, королю Людовику XV, а потом в Шлезвиге знаменитому покровителю чародеев ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому. Мастер желал в чем-то превзойти красильщика Жиля Гобелена, который, лет за двести до него, открыл новую технологию в работе красилен и в ткачестве шпалер, поразивших впоследствии даже искушенного в красотах «короля-солнца». Превзошел ли? Где найти эти сведения? Если да, почему умалчиваются его открытия?
Уильям Моррис, поэт и дизайнер, еще один фантаст, в объединении «Искусство и ремесла» принимался за ткачество на ручных станках, за гобелены и старинные способы крашения нитей для них. Середина XIX века, машинное производство поглощает индивидуальный труд, психология накопительства через увеличение производства и продаж сводит с ума необъятными горизонтами, поток штамповок топит в себе разум потребителя, качество гибнет в количестве, а Моррис в это самое время поворачивает ощущение правды в искусстве вспять: к истокам, к ручной работе, к мастерству ремесленника, к тайнам, которые имеют свойство так скоро теряться. Он отворачивается от сиюминутном интонации и заставляет звучать древнюю песню.
Серпиком ли, еле видным, тонюсеньким, нежным, рассечен будет объем бездны, или прорушится разверстой, идеально круглой пастью своей хладный диск в вечную темноту, либо постепенно раскрываться станет плавная белизна, глазу, возможностям его, не подчиненная, – все для меня лишь восторг и молитва. И покой. Покой восторга. Не ищите в этом словосочетании парадокса. Его нет. Лишь гармония влажного света и боли, нескончаемой как счастье.
5 (продолжение).
Следующим вечером после целого дня морских купаний, мления под зонтами в шезлонгах – стопы зарыты в песок, алые креветки жирными спинками с брызгами лопаются под давлением пока неумелых пальцев, овощные и ореховые начинки в прозрачных пельмешках из рисовой бумаги – саку, тапиоковые дрожащие студенистые десерты – все попробовать, после душа и кокосового масла по всему пощипывающему, местами зарумянившемуся телу – поход в священную клоаку.
Мы доехали тук-туком до «Камелота», светло-бирюзового под зеленой крышей невысокого и утопленного вглубь, но отовсюду заметного, на вид нарядного отеля, чуть прошли вперед, свернули налево в арабскую улицу и среди кальянных ароматов и крупных жгучих брюнетов, развалившихся по диванам, двинулись к пешеходному ночью слепому куску набережной, замусоренному барами и дискотеками, полному «моркови» – девушками для развлечений. Walking street, известная всему миру «веселая» улица самого свободного города самой свободной страны. Вся жалкость и грубость ее, и дешевизна, расцвеченная и подмалеванная, принаряженная, как сумела, предложила нам свое общество.
Кукольных размеров тайки, хорошенькие и не очень, в дешманских одёжках, – куда они тратят деньги? неужели, действительно, все отправляют в родительские семьи? никогда не поверю, чтобы не утаивали, – стайками копошились у входов в бары, которым принадлежали. Всех разберут ближе к ночи. До одной. Мужчины средних лет, и вовсе преклонного возраста, реже молодые, на разок, попробовать, из любопытства, по привычке, находя сие лучшим вариантом, просто так, а почему бы и нет, специально ради этого приехал, люблю менять, одну, но чтобы быть уверенным, все время разные, пенсионер, пробуду долго, обеспечу жильем и ежедневной работой.
Темная маслянистость мелких колен, локтей и плеч, нежность их и податливость мараются старческой немецкой, норвежской, шведской слюнявой дряхлостью и слабоумием. Вот она – райская возможность скрыться от бесстыжих детей, так и норовящих сбагрить папашу в богадельню, лишить мужской полноты жизни, которая здесь – рекой разливанной. Распадающаяся Европа, зловоние Старого Света, искривленные суставы западного времени, – в узких, битых грибком переулках развлечений американских солдат семидесятых. Истлевшая радость пятидесятилетней давности. Отпускные солдатские недели, убежище от юго-восточного ада – рыбацкая деревня на берегу Сиама, набитая девчонками с севера, убого предлагающими себя на истерическое веселье едва не сошедших с ума в гнилом пекле вьетконговских джунглей янки. Исанский женский десант неумех (ты трахаешься, как я сплю!) – скорые навыки раскрепощения, краткий курс расширенного пакета прислуживания. Потом полвека обретения профессии (они не проститутки, они служанки!), короткие поколения быстро приходящих в негодность кукол. Все вертится, вертится, и не верится, что раньше надо было улыбаться молодым, хоть и психически нездоровым, уставшим убивать и бояться парням из бело-черной Америки, и тем, первым, приходилось вертеться вкруг рур и в постелях, на стульях и полах как заведенным, под крепкими руками и животами черных и белых GI, крупных, сильных как звери, ненасытных и злых на весь свет, на свои Штаты и на девчонок за то, что они похожи на вьетнамок. Их бычья вонь была ароматом, молодым беспутным мраком пахли они вместе со своей войной, своей мукой. Те, что лет пятьдесят назад первыми прибыли сюда с военных баз Саттахип и У Топао, здесь, неподалеку – в своих громыхающих грузовиках, не знали, что, состарившись и забыв, увидят они на улицах разросшейся вдоль залива длинным прибрежным червяком Паттайи. Те, что приезжали позднее, знались уже с опытными и бывалыми, умеющими зарабатывать свои доллары, девчонками. Туннельные крысы GI, солдаты, что грызли «Черное эхо» и рушили глинистую почву москитных, змеиных джунглей в погоне за ускользающими чарли в их мифических подземельях, в адовых лабиринтах. Чем дышали они там, внизу, в своей преисподней? Темнотой? И пили они темноту. Джунгли, вплывающие в вены, кипением забирающие кровь. Белые луны, растущие снизу, раздирают в ночи глаза. Свет белых лун, что множатся и преследуют, еженощно насилует бессонницу. Бред, наркотический бред пугает шипением – мороком начинающегося сезона дождей. Ви Си и южане, партизаны и те, кто их укрывает. Враг всюду. Все враги. Гражданская война. Гниль, парево, безвоздушная тягучая жара. Потоки воды, паром уходящие в путаную, разросшуюся, гипертрофированную зелень. Недели муссонных дождей, изрыгиваемых чужим нещадным небом. Джунгли, наматывающие на древесные стволы кишки, как лианы и змей. Усталость. Жестокость. Дикие сны. Джунгли, юго-восточный Индокитай. Вьетконговца, мартышку из северного Нама, никак не отличишь от южанина, они перемешались и спутались, они прячутся один в другом, растворяются в таких же и множатся, они все заодно: против нас. Видения плена, выжженных химией километров безлистых лесов под трехнедельной беспрерывностью ливней, мачете, усталые, но еще способные прорубаться в трубчатых стенах бамбуковых зарослей, бесконечное чавканье под ногами сосущих силы рисовых полей. Ненависть. Восемнадцатикилограммовый рюкзак, девятикилограммовый бронежилет и десять килограммов боеприпасов при температуре плюс сорок семь по Цельсию. Вязкая малярийная духота, липкий воздух – не продышаться, раны гниющих заживо, вонь, ковровые бомбардировки. Джунгли. Сезон дождей, тропические ливни, мучающие уши хуже взрывной волны и звука работающей бензопилы, издаваемого фосфорной бомбой в полете. Бесконечная вода, потоп, влага, способная проникать в тело, булькающая в костях, распирающая спинной мозг. Плен. Вспоротые животы. Гражданская война. Джунгли. Куда мы ввязались? Напалмовые пожары, не дающие сухости. Злобные чарли. Как тараканы, черные и многочисленные. Ловушки с ядовитыми змеями, рытые ямы с остроконечными бамбуковыми штырями со дна. Ямы-ловушки, которых никогда не распознать заранее. Боль пропоротых, истекающих кровью ног. Подземные ходы, десятки километров тайных лабиринтов иногда несколькими этажами вгрызаются в нутро земли. Там они свободны. Неуязвимы. Оттуда они внезапны. Мелкие, юркие подземные отряды. Мелкие юркие люди. Твой белый рост, твои черные мускулы, твой вес и тренировки – ничто против их туннельной внезапности, против их выскакиваний, вырастаний из-под земли, против огня из земли, снизу справа, снизу слева и сзади, где ты думал, у тебя – тыл. Джунглевая война. Они здесь дома. Этот мир восхитительной тропической красоты принадлежит им. Отсеченные головы плывут по красной горячей глине. Ноги скользят. Джунгли. Ну же, спасай меня! Люби! Успокаивай. Я буду смеяться. Я буду сотрясаться в хохоте над твоим крохотным хрупким телом, и умываться твоим покоем. Они были молоды и несчастны. Девчонки были молоды и хотели денег для себя и далеких северных семей. Город рос молодым, не зная прошлого, протягиваясь в своем бесконечном лете вдоль моря вперед, в завтра и послезавтра, не имеющее отличия от вчера. Надрывное однообразие вечного праздника, вечного требования плоти, буйство ее и грубость, и требование сердцем – покоя и тишины! Релакс-с-с-с-с… Make love, not war! И они выполняли наказы детей-цветов, страждущих за них там, в далеких родных и таких чужих теперь, хиппующих городах. Было много любви. По неосторожности рождались красивые дети. Строились храмы-монастыри, заселялись монахами, шафрановыми пятнами раскрашивались трехэтажные улицы. Массат! Массат! В тайском нет окончаний, есть только смыкание языка и неба, без звука: Массат! Тайский массаж. Это мощнее наркотиков. Это больно и сладко, и засыпаешь. Почти как любовь. Девчонки работали. Их было много, очень много. Почти одни они. И много работы. Всем хватало. Практика, практика, теория одна: благими делами исправлять карму. Потом, утром, потом. И не потерять лицо, главное, не уронить лицо! Исанские матери говорили, дочка работает, торгует в магазине подарков, или – горничная в отеле, очень красивом и дорогом, хороший заработок, кормит семью, мы ей так благодарны. У соседки дочка тоже в Паттайе, матери смотрят друг другу в глаза и рассказывают про отель и прилавок, ведь главное – не потерять, не уронить лицо.
Потом война ушла куда-то дальше, забрав с собой своих рабов, прекрасные их мышцы, мощные кости и сухожилия, работать на нее в других райских кущах. Война просияла издалека молодой мужской улыбкой и помахала рукой. Вместо тех, кого забыть невозможно, на освоенный и разработанный берег пришли другие. Они тоже хотели потреблять, получать свою радость за скромные деньги, но они редко напоминали тех, кого забыть невозможно.
Замедлились движения, поблекло время, вернулись вялость и леность. Не слишком много усилий, теперь так принято. Свои законы, свои предложения, скучное пусси-шоу, выстреливаем вагиной дротики, извлекаем оттуда же низки лезвий и игл, открываем бутылки, тухло, тошнотно, спрос все равно есть, беспрерывно меняющаяся публика, новичкам любопытно, разок поглядеть, голые, в трехгрошовой обуви, девочки – не катои, им не обязательно, и так сойдет. Столица мирового секс-туризма не спит никогда. Путешествуйте с нами! Но и не танцует, ибо танцем это вялое перетаптывание с ноги на ногу не назовешь. Играет на бильярде. Уметь обязательно. Липкий исанский рис с кокосовым молоком и манго, липкий воздух. Счастливые часы, скидки на выпивку, чем раньше, тем больше симпатичных девочек. Рыжие или лысые, пузатые, в шортах по колено и без маек, в шлепанцах, волочимых за пятками пьяных волосатых ног среди облачков пыли, выбирают хорошеньких с вечера, не теряя времени, распределяются и тонут в сотах гестхаусов, постепенно наполняемых возней и тяжким дыханием, меняются, выходят и входят, шаркая и стуча шлепанцами по тысячам ступеней – шот-тайм, лонг-тайм, доллары, баты. Пространство дробится, измельчается на тысячи пятнадцатиметровых клетушек, все заполняется и гаснет – только возня, общая, объединяющая. В едином душном и волглом ритме к потному трехэтажному побережью присоединяются многоэтажки конца ушедшего и небоскребы нового века, расчлененные на мелочь румов с одной и той же начинкой. Переполненные домами улицы неопрятно шуршат, будто населенные в великом множестве жирными насекомыми, осуществляющими свое непрерывное и однообразное действие в союзе с иными – сухими и темными, подвластными им. Копошение, влажность, опасный кондиционерный ветерок, лифты, ступени, вверх-вниз, копошение, работа, почти не замечаемая смена участвующих, отлёты, прилёты, басы, румы, много выпивки. И вновь без лиц, общим мазком, сбиваясь или выстраиваясь ритмически в целое, в тот рисунок, что не сразу оценишь, не высчитаешь алгоритм, начиная превышать температуру общего бульканья, умеренного и однородного кипения, сблизившись – не расторгнуть, членение невозможно, город – погибший фрукт – кишит множащимися червями, и, о чудо, продолжает жить.
Нет, и сейчас время от времени попадаются ничего себе, некоторым везет, и можно поймать хорошего парня лет тридцати-сорока, и даже в итоге выйти за него, и уехать в какую-нибудь Швецию или Норвегию мерзнуть и скучать, и учить его есть острый рис, пусть так, и многие только об этом и мечтают, но основная работа совсем не та.
Как распознать истинное значение черных потупленных взглядов из-под скошенного пергамента век, не выдающих брезгливости, напротив, убеждающих в покорности и подчинении. О, эта безусловная покорность! Этот тихий смех в ответ на замечание и вопрос, эта тонкая рука на дрожащем, уже не мужском колене, смрадном, веснушчатом, торчащем из линялых шорт бедре, в липкой тряской ладони. Покорность. Преданность временному хозяину, податливость и гибкость, сырая глиняная мягкость и цвет. Когда ты застываешь в форму? В тот миг, когда, забыв оглянуться и стараясь худыми, в седых волосах, или пухлыми красными с раздутыми венами руками цепче ухватиться за поручни, он подымется в бас и исчезнет из памяти? Исчезнет ли? Сколько времени надо стоять под душем? Сколько раз преклонить колено перед золотой статуей Сияющего Будды, среди ароматных пучков орхидей, трав и лотосов? Ровно столько, сколько понадобится на поиск новых негнущихся колен, распухших суставов и тухлых подмышек. И новая покорность спрячет форму и растечется мягко и скользко в пятитоновых интонациях плохо осваиваемого английского – без окончаний и буквы «р». И, полные пивными бутылками, фруктами и овощами пакеты, будут влекомы маленькими сильными руками в кондо или бунгало вслед за очередной хозяйской безнаказанностью, вслед за торжеством законности миропорядка.
6.
– Что, Сандра, пора вам ознакомиться с главной местной достопримечательностью. Нет-нет, никакого сарказма, я всерьез.
– Храм Истины?
– Или Святилище Правды, The Sanctuary of Truth. Поезжайте одна. Я в следующий раз, а сейчас поваляюсь у бассейна, почитаю: скачал кое-что новенькое. Сразу после кофе и отправляйтесь, там, среди этого нескончаемого труда, и позавтракаете.
Уже дойдя до улицы, на которой хотела взять в аренду мотобайк, обнаружила, что забыла мобильник.
На кухне, куда, как принято всюду в Тайе, я шмыгнула босиком и потому неслышно, Старик делал себе в ногу инъекцию. Он был сосредоточен на бедре и игле в нем. Я отпрыгнула назад, но он уже меня заметил, пришлось вшагнуть обратно, поискать интонацию, отказаться от дурацкого шутливого тона и спросить серьезно, почему он не хочет, чтобы колола я. Вопрос был все равно глупым, потому что имел заведомо определенный ответ. Я поправилась:
– Я умею.
– Отстаньте. – Он додавил поршень.
Если бы он ответил как угодно иначе, я бы не всполошилась так сильно. Скорее всего, колет болеутоляющее. Иначе бы так не злился.
У парковки, распространяя манкие запахи, дымилась сковорода макашника, приглашая отведать свежее его рукоделие. Я схватила две зеленые пятибатовые рисовые лепешки, обжигающие через бумагу руки и сладко хрустящие по круглым краям. Минуту назад выдавленный мандариновый фрэш оранжево протек по пищеводу, оставляя холодный след.
Я прокатила всю одностороннюю Second Road и от уродливых, но определенно являющих ориентир круговых «дельфинов» двинулась по Наклыа в дальний, пыльный ее, неухоженный угол. Север Паттайи – сумбур и запустение, путаясь переулками и тупиками, вел меня к цели движения мимо строений, во множестве своем покинутых людьми.
Подготовленные то ли к сносу, то ли к ремонту, почерневшие от плесени трехэтажные дома, прозрачные, лишенные внутренних стен, пустые и легкие на просвет, впускали в себя воздух сквозь строительную сетку, в которую были кое-как закутаны. Путаница зеленой и голубой пыльной вуали вздувалась ветром, проникающим внутрь разоренных помещений, пузырилась и порой рвалась на ленты, узкие паруса, дающие направление рождающемуся пути. Дома покачивались и приподнимались, неуклюже высвобождались из тесноты улиц и безалаберно вываливались в небо. К вечеру их полет способен был обрести смысл и некоторый рисунок траекторий, но теперь вся эта сумятица была неуместна и даже непристойна в силу не столько своей алогичности, сколько по причине отсутствия хоть какого-то эстетизма.
Я стремилась к необычному вату не потому, что мне этого хотелось, но по желанию Старика, отправившего меня сюда. Мечта увидеть единственный в этих краях храм, в котором нет монахов, была, но сегодня я оказалась здесь только по его приказанию. Я пыталась исправить ситуацию, загладить свою вину. Я никак не могла избавиться от мучительной неловкости, стыдности ситуации, в которой оказалась. Невольное мое присутствие при действии, которое скрывалось именно от меня, ломало привычные ориентиры отношений, лишало их необходимой взаимной индифферентности, уничтожало самостоятельность каждого, право на закрытость личного поля. Теперь я знала больше, чем было допустимо для нашей игры. Правила нарушились. Обстоятельства извратились. Отныне надо было делать вид. Что может быть отвратительнее?! Делать вид, что меня это не касается, не трогает, не волнует. Что это не мое дело, ничего особенного, а что, собственно, произошло? Все употребляют лекарства. Курс против воспаления в суставах. Только и всего, постоянная поддерживающая терапия.
Но в этом случае меня обязательно поставил бы в известность Ярослав, поинтересовался, не умею ли я делать инъекции, если бы понадобилось, отправил на курсы. Ведь я, по его мнению, – компаньонка-сиделка. Все просто. Ярослав не знает, что и почему колет себе отец. Он вообще об этом не знает. Ну, в этом тоже нет ничего особо удивительного, Старик не стал бы распространяться на медицинские темы. Но с другой стороны, вся поездка имеет именно эту подоплеку: здоровье – основной показатель. И что-то же мучит меня, какое-то нехорошее чувство. Не только неловкость, но основа, причина и повод резкой, слишком резкой реакции Старика.
Храм провис передо мной над морем, застыв в витийствах резьбы, дыша бирюзой древесной патины, недвижно кружась в нагромождении скульптур и смыслов. Сколько ни видеть фотоотчетов, сколько ни читать про эту прихоть тайского миллионера – действительность поражает. Взгромоздив на затылок каску строителя, я побрела по разверстым для прогулок ветра пространствам. Вернуться сюда я буду хотеть всегда. С первой секунды – мысли о том, что надо будет расстаться: главная печаль любви и неотъемлемый ее признак. Вот колоссальные фигуры слонов, сливаясь в тройное чудовище, несут на прогнутых колыбелью хоботах индуистскую принцессу; вот пять тигров вздыбились на задних лапах, оскаливаясь, угрожая или защищая бесчисленные ряды резных Будд за ними; вот непомерной величины лики божества в три стороны вперились слепыми глазами, вот бредут старцы и бегут дети; мужчины и женщины с музыкальными инструментами на вывороченных коленях, птицы и змеи, мифические существа, череда за чередой пышногрудых богинь в человеческий рост и всадников среди цветов, вот девы со змеевидными телами вдоль извивающихся лестниц; вот Шивы, раскинув множество рук, и полнотелые Вишну летят в облаках; изумрудные от плесени колонны в стометровой высоте изрисованы готовой и незаконченной резьбой, и танцующие тонкопалые жрицы, что поражают изяществом жеста; нагромождение тел богов, людей и животных, будто карабкающихся вдоль стен вверх или образующих собой стены; плафоны-мандалы, веселые толстые Ганеши над скоплениями растений, младенцы, сосущие молоко из полновесных шаровидных материнских грудей, и гипертрофированные бедра Солнца и Луны. Резьба, словно заросли лиан, плотно впивается в плоскости, завладевает телом храма, не оставляет пустот. Резьба существует сама по себе, плодится, множится. Мастера живут при ней, но не она рождается благодаря мастерам. Резьба властвует. Можно ли трогать, прикасаться? Можно ли прижаться щекой, обнять древесные пальцы, вонзить слух вглубь колонны, испещренной тайными письменами, мистическими знаками мастерства людей-древоточильщиков?
Закончив фразу на тайском, выдав себя низким голосом дама-катой, несколько тяжеловатая фигурой, с хоть и удлиненной, но нетипичной для своего клана стрижкой, противоречащей пристрастию леди-боев к тщательно отрощенным, распущенным волосам, улыбаясь широко и покойно повернула ко мне заинтересованный взгляд. Ее английский оказался грамотным и неожиданно корректным в произношении. После нескольких фраз об экскурсии по храму последовал прямой вопрос:
– Have you a friend here? Or are you the only one?
To, что слово friend практически не имеет родовой окраски, меня привело в замешательство. О чем она спрашивает? О наличии в моей жизни подруги? Или друга? Что именно ее интересует? Так и спросить, ты, мол, о чем, о бойфренде или о подружке? И подружка, в каком тоже смысле-назначении? Ситуация преломилась в битом зеркале ее личной половой неопределенности, вернее, как ни крути, двойственности, хотя сами катои, как известно, определяют себя исключительно женщинами, интересующимися только мужчинами. Даже зарабатывающий на жизнь «любовью» катой «не опустится» до лесбиянки или любительницы острых ощущений. Не для того делались операции и ежедневно глотаются гормоны. Катой любит мужчин. Очень любит. Как и каждый гей. В сексуальной воспаленности бытия они сходны. Про это я уже начиталась, это я уже знала.
Моя новая знакомая продолжала улыбаться:
– Я имею в виду подругу, – по-русски, с трогательным акцентом, но очень внятно, с легким аканьем в слове «падруга», пояснила, тут же представившись, Нари.
– Вы учились русскому в Москве?
– Да. Как вы угадали?
– Говорок знакомый, так только москвичи говорят, гласные растягивая.
– Восемь лет в столице России прожила, в МГУ училась, диссертацию защитила. Теперь русский – моя профессия. Так вы – одна, я смотрю.
Мы двинулись по огромным отшлифованным доскам пола. Нари посвятила меня в тайну до конца не рожденного вычурного мотылька, который уже погибал, паря в падении над малым мысом, в тайну кружевного монстра, что уже три десятка лет пожирает жизненное время мастеров, а конца-края труду не видно. Храм рушится, рассыпается, ускользает в трещины уже выведенная испещрённость. А может быть, в этом бесконечном труде и возлежит метафизика и трансцендентность сочленения четырех рукавов, четырех ветров Индокитая, четырех соседствующих философий, которым во славу и взращивается умирающее, но живое Святилище Правды, изукрашенный символами Ванг Боран, Прасат Май, в котором отсутствуют двери?
– Слишком близко вода. Ни золотой тик, ни красное дерево не выдерживают. Промокают, потом иссыхают, трескаются, приходится ставить металлические скобы, хотя храм задуман из дерева. Обещают скобы позднее снять, заменить деревянными штырями, – искусно строя предложения, рассказывала Нари.
Мне казалось нелогичным ставить сначала одни крепления, чтобы потом заменять их другими. Но кто-то же знает, как именно надо? Есть же у этого сооружения архитектор, хоть имя его и не упоминают, есть знатоки жизни дерева в скульптуре. Не может же этот призрак красоты, нежно проникающий стометровым шпилем в тело неба, жить совсем вне законов жизни.
Рядом со мной иной призрак, с инаким и тоже манящим очарованием журчал искаженным московским говорком:
– Вам потом в какую сторону? Я еду в Русскую школу балета на Третьей улице, мне там ребенка с занятий забрать надо. Могу вас подбросить, куда необходимо.
– Спасибо, я на скутере. У вас сын? – осмелела отчего-то я.
– У меня нет детей. Мне надо забрать шведскую девочку. Дочь моей подруги. Она попросила. – Нари кокетливо отводила глаза.
– А тайские дети в этой школе занимаются?
– Тайские? – Нари подумала. – Полукровок много. Русские довольно часто здесь женятся на тайках. Да и за тайцами замужем русские женщины – не редкость. Их дети внешне – тайцы, наша кровь ярче проявляется. А в Школе – европейки, американки, японки есть, две сестры, венесуэлку знаю, русские, разумеется, в основном. Одни девочки.
– Да. Мальчики спорт предпочитают, – поддержала я беседу, желая уже ее как-нибудь закончить. Что-то смущало меня.
– Ну, и? Скутер можно в мою машину бросить. У меня пикап. Вместительный. Едем? Покажу вам город изнутри, – не отпускала Нари.
В кабине было комфортно: последняя версия бортового компьютера, видеокамера, навигатор, не сквозящий кондиционер, удобный наклон лобового стекла. Как-то не вязалось все это с грузовым отсеком позади.
– В России открытых пикапов вообще не видала. А у нас это – любимый вид личного транспорта. Удобно. – Автомобилистка довольно посмеивалась.
– За фруктами на плантацию?
– И это тоже.
Нари вела машину совсем иными улицами. Открылась узкоколейка, поросшие яркой травой взгорки, какое-то вольное пространство, потом снова незнакомые перепутанные в пыли сойки. Вылетели на Сукхумвит.
– Вы знаете, что Сукхумвит – самая длинная улица в мире? Четыреста километров! Трасса тянется от Бангкока до Трата.
– Трат? А где это?
– Трат от Паттайи в три раза дальше, чем Паттайя от Бангкока. Там, на юго-востоке. На границе с Камбоджей.
– Где остров Пхукет?
– Нет! – залилась низким смехом Нари. – Пхукет с другой стороны полуострова, в Андамантском море! А недалеко от Трата остров Ко Чанг.
– А какое там море? – не слишком стесняясь своего неведения, спросила я.
– Южно-Китайское! Которое – часть Тихого океана. Там – Ко Чанг, Ко Кут, Самуи, Панган, еще Ко Тао. Вам надо изучить карту, а то вы совсем запутались.
– А Андамантское море – какой океан? – задала я вопрос без особого энтузиазма.
– Индийский! – ухохатывалась Нари.
Миновали госпиталь, обе мечети, вгрызлись обратно в улицы. Теперь казалось, мы попали в какой-то другой город – вывески пестрели французскими названиями ресторанчиков и отелей, за открытыми столиками непривычно потягивали бордо мужские компании европейцев. Потом чаще стали мелькать предложения пасты и пиццы, и итальянских вин, что сменилось индусскими переулками с портными и швеями на каждом шагу, со степенно прохаживающимися животом вперед крупноглазыми мужчинами в черных эллипсовидных чалмах.
– Есть и арабские кварталы. – Не пропустила моего интереса моя новая приятельница.
– Что ведут к Walking street?
– Ну да. Тоже.
Мы доехали до рынка на Южной, вошли под крыши, где разлилось душное низкое пространство, набитое рыбой, фруктами, шевелящимися черепахами и крабами, новым и старым тряпьем, тканями и мясом. Сочные, но без запаха, пучки орхидей и лотосов перемежались желтыми венками-оберегами из бархатцев, которые продают водителям цветочники, лавируя на дорогах среди потоков машин, тут же забирая уже увядшие на выброс. Рыночные продавцы, взгромоздившись на полати выше своих товаров, наваленных ступенчатыми горами, дремали, похрапывая в волглой жаре, усыпленные монотонностью торгового бытия и любимой привычкой к бездействию. В полутьме дальнего угла женщина разрубала с помощью старого зазубренного мачете спелые коричневые кокосы, держа каждый опасно в левой ладони, и, нанеся резкие удары, одну за другой отбрасывала половинки в соседнюю корзину. Рассекаемые, они истекали обильным ненужным соком, утробными водами своими заливая давно переполненную бадью, и решетку над полом, и бетонный скользкий, зеленый и серый пол рынка. Женщина унялась, отбросила в корзину с недобитыми орехами мачете, уселась, широко разведя колени, спиной к людям, лицом к жужжащему теперь, не менее опасному, чем мачете, сверлильному станку, подставляя его жуткой вертушке-стержню нутро каждой половинки кокоса, выкручивая сердцевину, чтобы обратить ее в труху.
– Потом прямо здесь стружку отожмут с помощью пресса, и вы сможете купить натуральное кокосовое молоко. Без консервантов. – Спутница моя говорила с ленцой, будто не желая затрачивать лишние усилия, но понимая необходимость просветить меня, темную.
Я купила пару больших желтых манго, несколько помельче, с румяными, нарядными боками, эти будут чуть с кислинкой, очень спелую папайю.
– А вы знаете, что в Индокитае много овоще-фруктов?
– Как это? – я действительно удивилась.
– Вот, например, спелая папайя – это фрукт, а зеленая – овощ, из него готовят наш знаменитый салат сом там. И зеленое манго – овощ, мы нарезаем его на тонкие дольки, и едим с острым соусом. И цветок банана, видите этот огромный бордовый бутон? Его тоже употребляют в пищу. Но если цветок не трогать, лепестки раскрываются, и между ними начинают зреть плоды, мелкие, очень сладкие бананчики. – Нари красиво произносила звуки «ч» и «ц», и с нетвердой картавинкой «р». – Хотите сладостей? – и указала на почти оранжевый десерт непривычного вида. – Это утиный желток в сахарном сиропе. – Я рассмотрела горстку путаных нитей в плошке, но попробовать не решилась.
– Почему вы уделяете мне так много внимания? – внезапно для самой себя бросила я вопрос. Нари ответила быстро, не задумываясь:
– Здесь редко встречаются интеллигентные люди среди русских. А ваше такое умненькое личико опечалено было чем-то. Несколько лет назад прилетали отдыхать профессоры, политики, богатые бизнесмены. Сегодня другой контингент раскусил цены в трехзвездочные отели. В Паттайю теперь едет в основном быдлорашн. – Нари не стеснялась в выражениях. А если что-то подобное сказать о тайцах? Если задать ей какой-то прямой вопрос, что будет?
– Нари, почему в Таиланде так много геев и… катоев?
Она даже не повернула ко мне лица:
– У нас свободная страна.
Сколько бы я ни интересовалась позже этими вопросами, в каких кругах ни пыталась докопаться до истины или хотя бы до истинного тайского взгляда на эту проблему, всегда слышала только и исключительно фразу «У нас свободная страна». Как будто самое яркое и массовое проявление личной свободы заключается в том, чтобы иметь возможность быть перевертышем.
– Сандра, вы уже пробовали тайский массаж? Даже если пробовали, обязательно сходите к слепым массажистам. Такой салон как раз недалеко от Школы балета.
Сухонькая улыбающаяся обезьянка. Темные очки на незрячем оливковом лице. Улыбка – не тебе, просто улыбка, ее постоянное, неизменное присутствие, или улыбка себе, внутрь себя. Старый, но жилистый, очень легкий и проворный человек опускается у твоих ног, протирает стопы теплым влажным полотенцем и дробными, скорыми движениями принимается сортировать суставы и суставчики, перемычки, хрящики, ноготки, подушечки. Спешит выше, к голеням и коленям, продолжая ощутимо болезненную ревизию, разлагает ряды мышц, выглаживает сочленения, перебираясь то выше, то ниже, но стремясь к основному столбу, к средоточию движения и покоя. Разъяты позвонки, суставы извлечены из суставных сумок, мышцы отторгнуты от сухожилий, все растянуто, разложено на ветру памяти пальцев, локтей, колен обезьянки. Слепец бродит по спине, лишенной позвоночника, круглит путь пятками, возвращается на колени и проваливается в мягкость поясницы, всем своим неощутимым весом погружается в таинственную темноту строения. Он выходит с лицевой стороны, впечатывает ладони в живот, нагревает и погружается в его тепло, внутри которого в одной точке резко пульсирует кровь. Он ищет способ, пристраивается, колдует и, наконец, поднимает облаком мягкую субстанцию пудры, направляет ее в маслянистую структуру и перевоплощает в крем. Ты чувствуешь себя взбитыми сливками, теплым мороженым, молочным коктейлем с золотым пюре папайи и манго. Слепая обезьянка все еще ворожит и шевелится, но сон обволакивает жест, или жест порождает сон, всё удаляется, отстраняется, стихает.
Богатство
Вижу ли группу облаченных в кашмиры людей, прилаживающих тела свои к разукрашенным коврами бокам белых верблюдов? Одногорбых верблюдов, дромедаров, бишаранских хеджинов, приученных смолоду к легкому бегу рысью. Вижу ли закутанных с ног до головы в кашмиры людей совсем не далеко от пирамид, всего в ночи езды вглубь черного холода и тишины египетской пустыни? Или это Эмираты, а может быть, Кувейт, или Ирак, или Сауды, щедро или нечаянно расплескавшие нефть свою по миру, приблизились к верблюжьим стадам, дико пасущимся на лугах бескрайних оазисов, разучившись нежными губами прихватывать колючки? Нежными губами целовать колючки. Безжизненный оазис, с распростертыми лугами смерти, зеленью смерти, травой боли, пожираемой забывшими прежние пустыни верблюдами.
Я смотрю расширенными глазами на то, как раскрывается страшная тайна: на один шаг бурения глубже залегает новая нефть, в несметных количествах самовоспроизводящейся жирной черноты, что множится по принципу незрелой клетки. И вот эти щедрые или нетщательные муслимы без особых размышлений и специальных мировых согласований осуществляют операцию, разверзают чрево планеты, всего-то на какой-то квадратный аршин, как у них водится, что там, почти незаметное усекновение плоти, об– или разрезание – неважно, и свет ясного, солнечного, без единого облачка и, что не удивительно в пустыне, жаркого, очень жаркого дня, раскаляется, плавится туго, но доводится до предела перерождения, до точки перехода из твердого состояния в жидкое и вгрызается в рану. Стремительно проникает. Все. Процесс необратим. Говорят, это домыслы, но все же знают, как быстро прорастает раковая опухоль в органы, если дать ей возможность открыться, соприкоснуться с внешним сияющим миром, как ликует она, как демонстрирует радость свою бесконечным приплодом. Нефть несметна. Крах. Это же надо разбираться в экономической политике, чтобы понять, почему в мыльные переливчатые пузыри превращаются стеклянные истончающиеся на глазах прозрачные банки, как сказочно взлетают они и кружат многочисленно – мелкие, крупные, очень большие, гипертрофированные как уроды – над планетой, потеряв прежний звонкий смысл и суть свою. Но русские библиотекари и актеры провинциальных театров, медицинские сестры районных поликлиник и санитарки, уборщицы подъездов и даже служащие давно не финансируемых музеев на этой жгуче черной, упругой и маслянистой волне заездили на автомобилях, сдав бесплатно экзамены на права и забрав с помоек малолитражки, потому что все, кто на них расшивал до прорыва, пересели на трех-пяти– и десятилитровые колоссы. Угар потянулся на Чукотку.
Сауды, Ирак, Эмираты, Кувейт, великие оливковокожие владетели черного золота Черного континента, могли бы и без вскрытия раны продержаться до сотни лет на своих околодесятипроцентах у каждого, но Rassia, шестипроцентная богачунья, жирное молоко детства, сиюминутная, ведомая рьяной властью, дикое мясо, после нас хоть потоп, не выдержала бы и двадцати. Теперь же угар потянулся к северным белым и стылым водам, мертвевшим под тяжестью льдов. Но мыльные пузыри, подымаемые собственной легкостью, растворились в плотных слоях атмосферы. Или, не дойдя до нее даже в мечтах, растерянных еще раньше.
И одичавшие стада верблюдиц, не взнузданных и длинноногих, вновь обретших свободу в просторах Австралии, или кроткая Инджаз цвета красного песка, первый верблюжиный клон из Дубай, или тяжелые двугорбые бактрианы в монгольских ветреных степях, тоже слились с нестерпимым для их глаз новым сиянием, чтобы не обжечь свои волшебные ресницы, не спалить древние веки.
…Чем ярче свет, тем явственнее тени. В отсутствие солнца нет черных теней.
6 (продолжение).
Нари пропала из моей жизни так же резко, как вошла в нее. Я ей тоже не звонила, так и не поняв ни ее отношения ко мне, ни истинной причины ее внимания, ни собственных эмоций по отношению к этому человеку.
Инъекции Старику теперь делала я, точно по часам, в девять утра и в девять вечера. В три пополудни и в четвертый прием, который приходился на глубокую ночь, он закладывал рассасывающиеся таблетки под язык и мирно спал. Он любил вздремнуть после обеда, пока я носилась на своем мотобайке, всласть гудя вверх-вниз по Протамнаку, всё более привыкая к левостороннему движению, казавшемуся поначалу абсолютным извращением, которого я не в силах уразуметь. На самой высокой точке холма царила слепящая золотом огромная статуя Будды, которую можно было увидеть и снизу, несясь по Тапрайе в сторону центра. Мотобайкеры сновали слева и справа, лавируя между джипами и тук-туками, тормозя при необходимости и опуская мелкие ступни в шлепанцах на асфальт для поддержания баланса. Многие ездили без шлемов, но в фильтрующих воздух масках на лицах, в которые так любят наряжаться во всей Юго-Восточной Азии.
По поводу инъекций обсуждать ничего не пришлось, просто на следующий же день, перед тем как приготовить завтрак, я пересекла холл, звонко, чтобы заранее было слышно, прошлепала босыми ступнями по коридору, миновала ванную комнату Старика и постучалась в его дверь. Мне оставалось спросить, где шприц и лекарство, но он сам протянул руку в сторону полированного вишневого столика между двумя небольшими, гнутыми креслами кустарной работы. Я не имела целью, не хотела читать надпись на ампуле, или сама для себя делала вид, что не хочу, стараясь выглядеть в собственных глазах не любопытствующей, деликатной. Но, не удержавшись и оправдывая себя необходимостью информации ради помощи Старику, я заранее проштудировала в Инете тему. Теперь я просто не смогла не заметить: просидол. Болеутоляющее, применяемое при сильных болях. Дальше только бупренорфин и последнее – морфин. Это колют тем, кто уже не встает. Мой Старик еще носился как заяц. Поживем! У нас еще есть время. С этого дня мы без обсуждений, без каких-либо предварительных фраз перешли на «ты».
7.
– Удивительное дело, Тарковский пишет, – Старик поднял глаза от планшета, – что обычное состояние старого человека – скука, досада, энтропический сон.
– Какой-какой сон? – сморщила, обгоревший на солнце носик Сандра.
– Энтропия – неопределенность, беспорядочность, в каком-то смысле хаос, а в теории психоанализа – стремление живого вернуться в неживое состояние, замкнуть круг, что ли, упорядочить суть вещей – выйти из хаоса…
– Ну и что? – казалось, Сандра начинала понимать.
– Ну и то, не прав он. Во всяком случае, со мной иначе, вот уж не про меня. Не скучно, не скучно, наоборот! Некая досада, разумеется, присутствует, не без этого, но энтропические сны, – он преувеличил звучание «э», – нет, не докучают.
– Потому что ты – не старый, Старый! Совершенно не старый, прости за каламбур. Энтропия… изменение, превращение. Да, в физике – неупорядоченность. Мера беспорядка, – Сандра засмеялась и выпалила: – Превращение. Да! Старый, кажется, я чую что-то. Как бы это… не знаю, но чувствую приближение одной разгадки. Ну, думаю я тут над одной проблемкой. Штука есть такая интересная, связанная, кстати, одним боком с этим термином, с энтропией твоей. Старость ведь, в каком-то смысле, – постепенный переход из живой материи в неживую. А здесь речь о возможности перехода неживой материи в живую. Наоборот! Есть мнение, что жизнь возникла в результате неких воздействий на неживую природу. Из нее. То есть в определенных условиях неживая материя способна превратиться в живую. А значит, живое несет в себе элементы неживого, что не исключает и возможность их объединения. Не переродить неживую материю в живую, а совместить. Живую с неживой, положительную с отрицательной. Являют же неразрывное единое целое, абсолютно правильный круг инь и ян. Необходима некая форма, способ взаимопроникновения. Я ищу формулу. Мертвое плюс живое.
– Но для этого необходимы лабораторные опыты, наверное? – Старик старался быть мягким, не задеть Сандру. – Особые условия… ну, это же яснее ясного. Не фантазии ли, твои эти надежды, не утопичны ли твои мечты?
– Озарение никто не отменял. Будда – рациональный пример, – делала вид, что шутит, девушка.
– Ну ясно. Ты встаешь на путь просветления. Нормально. Медитация – мать наук. На ретрит собираешься, или так, самостоятельно освоишь практики и техники? – Старый умолк. Потом внезапно серьезно задал вопрос: – Но что же это – живая и неживая вода? В одном флаконе? А формула, это хорошо.
– Ты не смейся! Ты не веришь! – совсем по-детски всхлипнула Сандра.
– А вот и напрасно вы считаете меня таким скучным экземпляром, барышня. В этой жизни возможно всё. Так я думаю. Однако формулу придется подтверждать лабораторным экспериментом. Да… Целая научно-исследовательская жизнь у тебя впереди.
– Угу. Совсем малость осталась. Начать и кончить. Говорю же, одна надежда на озарение.
– Детский сад ты еще у меня. «Озарение». Вернешься домой, быстренько на второй факультет подряжайся. Без базовых знаний не только в биологии и химии, но и в физике, в вопросах живой и мертвой воды далеко не уехать, думаю.
– Вот ты шутишь про воды, а ведь соединение противоположностей до полного взаимопроникновения – есть тайна тайн. И повторюсь, озарение в творчестве иногда является определяющим. Академик Бехтерева вообще считает, что мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает. И что существует измененное состояние сознания, которое позволяет нам перейти в иную плоскость бытия и видеть иные вещи.
– Бехтерева? Нейрофизиолог? Внучка того психиатра, который при жизни Сталина поставил вождю диагноз «паранойя»? Весьма колоритная дама и великая умница, конечно. Умерла лет пять назад, к сожалению. Хотя пожила хорошо. Лет восемьдесят пять, если не ошибаюсь. И чуть ли не до конца работала. Позволяла себе эксперименты ставить на людях, в процессе операций на мозге под местным наркозом с оперируемыми беседовала. Изучала реакцию. Называла это компенсацией за бесплатное лечение.
– Ты что, ее знал? – У Сандры округлились глаза.
– Не слишком близкое знакомство. Через друзей друзей. Но пару раз в гостях имел счастье наблюдать этого человека. Глыба, конечно, Наталья Петровна. Тяжелый характер, видно, властный. И одновременно – нежный мистик. У Ванги несколько раз побывала. Любила рассказывать об этом. Вот разбери вас, женщин, то ли изучать ясновидящую ездила, то ли о себе больше узнать хотела…
Сандра попыталась было сразу что-то ответить, но осеклась, помолчала, потом всё же добавила:
– Да. Видимо, это женское свойство – желание узнать о себе всё скрытое где-то.
Прерафаэлиты
– Разве ты не видишь меня, как есть? Ты слеп? Я гибну. Я одинока, ты предаешь меня на каждом шагу. Для тебя нет ничего святого! Гуггумс? Я или ты – Гуггумс?! Не смей больше меня так называть. А уж я точно не произнесу никогда этот набор звуков. Тупой набор звуков. Эти прозвища, быть может, когда-то казались милыми, но не теперь! Пять, шесть, семь лет или вечность ты обручаешься со мной и вновь расстаешься? Да, расстаешься, ибо сосуществование порознь все равно что разлука. Ты изменяешь мне. Ты изменяешь моей красоте и своей идее. О нет! Нет! Я не права! Идее ты не изменяешь – в тех женщинах, что теперь позируют тебе, ты продолжаешь искать все тот же идеал. Но почему они так похожи на меня?! Все до одной? Почему, когда они позируют тебе, ты продолжаешь писать мое лицо и мои руки, мои плечи, мое выражение глаз – без меня? Или это не мои губы? Посмотри, разве ты не видишь, что продолжаешь изображать все тот же облик?!
Элизабет держит листы, заполненные рисунками в дрожащих пальцах. Эскизы трепещут то ли от того, что им передается эта дрожь, то ли от предчувствия гибели. Элизабет Элеонора распахивает окно в сырое и серое пространство, и рисунки плещутся между рамой и ветром, который должен подхватить их и отправить прочь.
– Твои шлюшки, твои уличные девки, подавальщицы в пабе или проститутки, кто они там – тебе безразлично? Неужели так легко заменить твою Беатриче, Данте? – Листы, замаранные серыми красками лондонского дня, замаранные серым карандашом, испещрившим белое поле, ищут свой путь, но безвольно планируют и, шевелясь как сомнамбулы, сонно плывут, подчиненные вялому ветру. Глаза, карандашные подслеповатые, или всевидящие глаза, распахнутые или полуприкрытые, смотрят то в небо, то вниз, вслед за разворотом листов, что неопрятно колышутся, стремясь к падению в лужи. Сколько еще раз, не счесть, да и никто не станет пытаться, почти те же, почти одни и те же глаза и губы вспыхнут на условных, но живых полотнах художника, который постепенно утрачивая свою юность, – только юности прощается все, – неутомимо разрушает свое сознание поиском ненаходимого? Сколько раз затрепещет характерно вздернутая, чувственная, мгновенно узнаваемая верхняя губа, сколько раз поразят не женской силой мощная шея и плечи, крупные руки с извивающимися пальцами, что держат средневековый плод, цветок, украшение, сакральный сосуд.
Элизабет знала этот уличный анекдот, эту насмешку над какими бы то ни было приличиями: Фанни Корнфорт забросала Габриэля скорлупой грецких орехов в ответ на его удивленный взгляд, обращенный к ней там, в переулке, где она присела у стены в ожидании очередного клиента. В ответ на взгляд, остановившийся на ее лице и руках, которые в многочисленном повторении летели теперь прямиком в лужи и которых еще во множестве останется на полотнах. Не только у Россетти. Не один он, другие члены Братства тоже не пройдут мимо этой вульгарной красоты, этого потаскушьего лица, которое обретет на всех их полотнах разительное сходство с ее, Элизабет, полным потусторонней печали лицом.
– Она распухнет, как жаба, она станет огромной, как слон, твоя уличная девка, твоя толстая шлюшка, вот увидишь, не пройдет и нескольких лет! Или ты не дождешься того времени? Ты сменишь ее на другую? На других чужих баб, жен и любовниц? – Элизабет устала наблюдать взгляды, бросаемые ее вечным женихом на Джейн Моррис, в девичестве Бёрден, вмиг ставшей супругой Уильяма, который построил для нее простой и роскошный «готичный» дом, наполненный резьбой и металлом, росписями и изразцами, всей этой избыточной красотой, созданной не без помощи Россетти и его сподвижников.
– Все равно, даже когда ты станешь писать Джейн, этого юношу в юбке, эту тяжеловесную статую, этого длинношеего жирафа, которого вы все, включая Бёрн Джонса и тебя, считаете богиней, даже тогда ты будешь видеть меня! И все, все, все и всегда будут видеть меня в твоей живописи! И я не собираюсь оставаться только на твоих полотнах! Я принадлежу себе! Я твоя «преданная муза», пусть так, это правда. Но я нужна не только тебе. Они писали, пишут, и будут писать меня. Этого тебе у меня не отнять.
И она высиживала часы перед мольбертом для Деверелла; облачалась в тяжкие одежды – для Ханта; стыла в ванне для Милле. Здорова ли она теперь? Физическое ли это нездоровье? Или недуг души, тайный страх, смертная тоска, потусторонние приглашения, ощутимые как движение воздуха, как влага, рассыпанная в нем, как слабое тепло солнца, не способного пронизать эту плотную сырую атмосферу?
Роль Беатриче, начертанная для нее пораженным любовью Данте Габриэлем, сыгранная до конца, ответит на все вопросы. Страшное предназначение, не имеющее разночтений. Она умрет, пробыв супругой два года из двенадцати лет совместного творения. Она умрет, так и не став матерью, лишь родив мертвого ребенка. Она умрет, опившись лауданума, по воле своей или нет, так и не вызволенная мужем из плена опиумной настойки, лишь слегка научившись рисовать, лишь немного освоив рифму.
Она умерла и взяла с собой в могилу все стихи, посвященные ей поэтом. Данте собрал разрозненные листы и тетради, связал их лентой, что прежде носила она в волосах, и спрятал в них, обильных и рыжих, ленту и строки. Стихи о любви погребены были вместе с любимой. Им следовало раствориться, сделаться прахом, соединившись с той, для которой были написаны. Рифмы, рожденные мучительной связью, обречены были, сплетясь с локонами, с этим золотым несметным потоком, с этим бывшим, погибшим раем, истлеть под запретом, не читанными, не изданными.
Другие богини утешали его боль и мучили новым раскаяньем. Вина неизбывна, вина прибывает, вине не будет конца. Любимые, живые и сильные гасли в его объятьях телом и ликом Элизабет. Ее глаза уходили за горизонт сознания на их лицах, ее губы исторгали стоны их горл.
Фанни поселилась сразу после похорон и взяла на себя все заботы о безутешном поэте. Фанни-экономка вела хозяйство, Фанни-любодейка взбивала постель. Девушка-кокни была шумной, реальной, земной. На прерафаэлитских полотнах, многочисленных и принадлежащих кисти разных членов Братства, она, как и все последующие и те, что шли параллельно с нею, дышит тяжелым сумраком символа, женщины, несущей в себе чувственное начало двуполого существа.
Платья Элизабет Сиддал, не убранные, оставленные жить в сумрачном доме на Чейн Вок продолжали источать аромат в шкафах рядом с одеждой Габриэля, и бесчисленные безделушки ее, разбросанные по всем комнатам, не позволялось убирать, но мисс Бёрден, возникшая и пленившая разом Морриса и Россетти, так немилосердно заполнявшая их страстные думы уже пять лет, и Анни Миллер, юная подавальщица, что жила прямо при пабе, в подвале, и Фанни-кокни, уличная дева, являлись на полотнах одним и тем же лицом, одной и той же статью, каждая то с рыжими, то с темными волосами.
Братство прерафаэлитов – монашеское, орденское? В честь великого Данте Алигьери, из преклонения перед его поэзией, перед его идеей Беатриче, идеей любви божественной, мистической и безмерной, назван был итальянец по крови, будущий Брат-прерафаэлит. Отец выразил свой восторг перед гением тем, что нарек его именем сына. Данте Алигьери воспевал свою бессмертную любовь в то самое время, когда тамплиеры, храмовники, братья, давши обеты девства-безбрачия, отказываясь от любви к женщине, и к брату, и к королю, и к матери, и к самому себе во имя единой любви к Богу, расцветали и побеждали, прежде чем сгинуть в тайну. В «Чистилище» Данте не раз помянул недобрым словом Папу Климента V и короля Филиппа Красивого, испытывая к ним отчетливую и действенную неприязнь. Не за расправу ли над тамплиерами, богатства которых правителю Франции так не хотелось упускать? Будучи изгнанным из Флоренции, Данте мог встречаться с храмовниками в Лукке или Вероне, мог вести с ними беседы и обсуждать возможное будущее, чувствуя с ними родство, приняв их сторону с начала дела по обвинению в ереси ордена рыцарей Храма Соломона. Преследуемый, он, возможно, чувствовал глубинную соединенность с Братьями Иерусалимского Храма, что пылали во Франции на кострах, скрывались в Италии, теряли свое имя, но не предназначение.
Не вослед ли тому Братству, растерзанному и сокрытому, обретшему и несущему тайну через века, взяло себе имя Братство художников, у коих один обет – творить истинно прекрасное, вопреки викторианским тлеющим законам, творить, кланяясь чистому раннему Возрождению, воспетому великим Данте? Братство совсем молодых поэтов стремительно продвигалось из своего выдуманного средневековья, из своего мистического монашества, из рыцарства служителей искусству к последнему великому стилю, слагало свой образ прекрасного, рождало свое лицо. Мужское ли? Женское? Или лицо-соединенность? Как часто оно повторяло себя же, двоилось, множилось, будто отраженное в себе самом, как в лунном зеркале, в калейдоскопе лунных отражений, путая оттенки волос и глаз, но оставаясь, по сути, тем же.
Семь лет спустя гроб с телом Элизабет был вскрыт по просьбе, хотя и в отсутствие Данте Габриэля Россетти, так как он пожелал вернуть к свету погребенные свои поэмы. Кто-то рассказал ему, что когда могила была разрыта, гроб поднят и крышка снята, всех потрясло увиденное: Элизабет возлежала свежа, будто полная жизни, а волосы, ее рыжие несметные кудри, окутывали теперь тело ее с головы до ног, ибо продолжали расти все эти годы. Рыжий поток, столь долгое время заключенный в тюрьме, запертый вместе с Прекрасной Беатриче в последнем ее прибежище, вырвался, и струи, насыщаемые теперь солнцем, зацвели оттенками огня. Почему Габриэль не написал этой картины? Он заменил впечатление жуткого рассказа на иной, не менее странный сюжет. «Сон Данте в день смерти Беатриче» хранится теперь в Ливерпуле, в Художественной галерее Уокера, вместе с маками, коими устлан пол и полнится полог, удерживаемый двумя дивными созданиями все с тем же знакомым лицом, одним на двоих. И вот она – рыжекудрая Элизабет-Беатриче, прекрасная, как всегда, уже неживая, принимает ангельский поцелуй, нет не в лоб, но в щеку, и Ангел целующий держит за руку Данте, облаченного в темные одежды, не скорбящего, но любящего, юного. Он явственно видит стрелу любви, что направляет в его сторону Ангел. И Беатриче прикрывает все те же глаза, цвет спрятан под веками, но зеленые они и прозрачные, светлые, или темные и замутненные трансом – она едина. Позже новый философ отметит: в начале «Vita nuova» есть упоминание о том, что «однажды поэт перечислил в письме 60 женских имен, чтобы тайком поместить меж ними имя Беатриче». Она троится, поселяясь меж иными именами, внутри каждого из них, на полотне, созданном Габриэлем после извлечения тела Элизабет из темноты небытия на грешную поверхность, к реальности солнечного сиянья. Будто муж-художник, решив не встречаться в яви с ее прекрасным не истлевшим телом, окутанным рыжекудрым извержением, прочувствовал вновь всю ее красоту, не прибегая к помощи внешнего зрения, не испытывая необходимости в материальном подтверждении, чтобы в который раз и заново запечатлеть свое преклонение перед утраченной своею любовью.
Стихи, сохраненные ею, были изданы. Они прославляли любовь художника к Беатриче-Элизабет, к мертвой, ушедшей. А на полотна все чаще и неудержимее бросает поэт лицо Джейн Бёрден, в котором нет ничего, противоречащего лицам Элизабет, и Фанни, и Анни, и всем женам прекрасным, коих видит он сквозь лик, которым, кажется, одержим. Но что в одержимости этой проступает? Какой Идеал, какое Совершенство? Плотная, мощная шея, высокая, сильная; свободные плечи, крупный торс, скрываемый складками обширных одежд для особ, не имеющих пола, крупные черты лица, изнеженного и самовластного, чувственный рот с характерно очерченными губами в форме прихотливого и яркого цветка, глаза, прозрачные, полные уверенности в своей власти, низкая линия волос, роскошного их течения, распущенного или прибранного, рыжего, черного, светлого… Облик юноши, одаренного женской грудью. Сына Гермеса и Афродиты. Дитя любви, сама любовь, ее власть, ее мистицизм, ее многомерность.
«Беатриче прекрасная» застывает с прикрытыми глазами, быть может, это транс, быть может, летаргия, существование по эту и ту стороны бытия одновременно. Почти юноша.
«Прекрасная Розамунда», «Дневной сон», «Пандора», держащая в открытых до плеч мощных руках свой чудовищный ящик, свою немилосердную тайну. Гермафродиты.
«Прекрасная донна», ты – андрогин, двуполярное совершенство.
Андрогин обнаженный – «Сирена».
«Жанна д’Арк, целующая меч освобождения» – андрогин с явно выраженным адамовым яблоком на высокой шее.
И наконец, Астарта, Ашера, Иштар – богиня любви и власти – здесь – поглощающий, вызывающий страсть андрогин.
Что это – бред одурманенного алкоголем, опиумом и страданиями поэта? Поиск абсолюта в дебрях и мороках сознания? Идеал красоты, формируемый временем?
Мощь и нежность, совмещение противоположностей, невероятность.
7 (продолжение).
Я нажимала круглую кнопку ноутбука, открывала «Страну чудес» в аудиоформате, включала среднюю громкость, так чтобы шум воды и другие звуки не мешали слушать, и принималась готовить завтрак. В очередной раз, делая клики на следующую главу, замечала, что экран и клавиатура грязны, хваталась за влажную тряпицу и принималась тереть панели, понимая, что надо бы сначала отключить комп, что нельзя влажным, но продолжала протягивать уголок тряпицы по лабиринтикам между буквами, тереть экран, стараясь нажимать как можно слабее. Вот, чисто. Я возвращалась к взбитым вилкой яйцам, потому что Старик терпеть не мог миксеры, электротерки и микроволновки, и крошила в плоский тайский казанок спелую и зеленую папайю, живописно ложащуюся почти алыми и почти белыми ломтиками в оранжевую яичную массу, добавляла слишком твердые черри, остальные томаты тайцы снимают с кустов почти зелеными, потому что они не успевают вызревать на рано иссыхающей ботве. Омлет весело шкварчал на огне, теперь только старайся, подобно тайским кукерам, взбадривай лопаткой массу, иначе тут же пригорит, ох уж эта их особая посудина!
– Ты Мураками читаешь, вернее, слушаешь, потому что все читают, потому что модно? – В руках у Старика толстенный том. Знаю, это недавно вышедший романище Джонатана Литтелла.
– А ты своих «Благоволительниц» – поэтому же?
– Ты не ответила. А я отвечу: потому что тут – попытка глянуть на Вторую мировую изнутри, с позиции нациста. Мне это интересно. И это литература.
– А Мураками не литература? – Женский голос несколько спешно продолжал произносить текст, я не останавливала его. – Он, кажется, так просто, прозрачно пишет, а затягивает, как во что-то вязкое. – Я усердно вертела лопаткой в содержимом казанка. – Все, готово. Только книгу – в сторону. Договорились? Читать за едой не здорово, а в присутствии сотрапезника – преступление против его величества Общения.
– Хорошо, в сторону так в сторону. Но общаться втроем будем? Не купить ли тебе наушники? Хотя нет, нет, не покупай. На мой взгляд, человек с замкнутыми ушами, как бы это поточнее? Ущербен. А уж для окружающих его псевдоотрешенность просто оскорбительна. Во всяком случае, для меня.
Я поймала курсором «стоп».
– Ну, я же не пользуюсь наушниками. И… мне тоже больше нравится читать глазами. Просто там так интересно, не хочется упускать время, пока готовишь, уборку делаешь… Какие планы?
– Посижу в шезлонге, внизу, среди клумб. Я бы посоветовал почитать другого японца – Кендзабуро Оэ. Что все так на Мураками зациклились? Ну, вот этот «двойной» роман, на мой взгляд, в нем столько лишнего, за уши притянутого. Зачем, к примеру, столь длинное повествование подземного путешествия среди чудовищ, рассчитанное в своих страшилках скорее на подростка, чем на взрослого человека? Укороти втрое, сожми – ничего не изменится к худшему. И эти единороги столь же не обязательны. Их легко можно заменить на любое другое мифическое животное, опять же ничего не изменится. Знаешь, моя мать говорила, что хорошо сыгранная роль не оставляет возможности представить на месте исполнителя никакого другого актера. Так же и в литературе. Ты можешь себе представить, чтобы Настасья Филипповна или Аглая, или генеральша были какими-то иными? На их месте были бы героини с иными чертами характера, с иной внешностью?
– Пожалуй, нет. Совсем не могу. Да и зачем представлять? Зачем там менять что-либо? В голову даже не приходит.
– А на месте единорогов можешь что-то другое представить?
– Ну, в общем, да. Только их золотая шерсть уж больно эффектна. И эта их покорность.
– Правильно. Какие-то детали эффектны или точны и потому незаменимы. А, например, мамонты с золотой шерстью, стелящейся по земле, сгодились бы? Или зубры с печальными коровьими глазами?
– Вполне. Но автору требовалось мифическое животное, не существовавшее на самом деле никогда.
– А есть ли в романе необходимость именно в мифическом животном? Что-то я не уследил. Думаю, необязательный это элемент. А животные сами по себе – мягкая, теплая тема, будоражит сентиментальность, трогает. Назови хоть жирафов, хоть верблюдов или этих роскошных яков-орлыков или пышнорунных лам. Леопарды, пумы – удивительные всё создания, красивые, для мистических размышлений вполне подходящи. А пеликаны, фламинго! На этих диковинных существах можно такие фантасмагории строить, такие чувства теребить, благодатнейшая тема – животные…
– По Сабу скучаешь?
– А как же? И по кошкам. Это же – любимые, родные. – Старик помолчал, пожевал кусочек белой папайи, подцепил вилкой ломтик красной и с интересом его разглядел. Будто яркий цвет подсказал ему что-то, Старик продолжил: – А там вполне сгодился бы и какой-нибудь особый печальный кентавр, как никогда реально не существовавший, раз автору это так важно. И получается, что вся история с Ленинградским университетом и украинскими раскопками вообще существует ради демонстрации каких-то знаний автора. Или зачем? Это же совершенно неважные обстоятельства. А библиотекарша, которая, придя в гости к герою, повествует в мелких подробностях историю этих единорогов, будто она диссертацию про них писала, это как? Когда она там успевает досконально проштудировать и вызубрить все, что касается этих существ? Автору нужно как-то передать информацию читателю. Он сбагривает эту функцию удобному персонажу. Шито белыми нитками. В результате какие-то места – технический недочет, часть книги может быть заменена на что угодно другое, часть сокращена. Есть хорошие важные мысли, есть роскошные куски с настроением, видимые, живые, выстраданные, что касается «Конца света». Но в целом – нет, не профудача. Фантастика – смешная, ходульная с этим ученым, якобы леонардовского масштаба, с этими подземельями, кивающими в сторону Бэтмена и Пингвина. Мистицизм – лысоватый, не убеждает ни культ поклонения когтистой рыбе, ни страж в облике и с нутром палача. А вот «И объяли меня воды до души моей» Кендзабуро Оэ – мощная работа, без швов, без подтасовок. Вся пронизана мистицизмом, который в самой природе этого романа, суть и средоточие его содержания. И ситуация поистине фантастична, а воспринимается как абсолютная реальность. Реальность невозможного. Психологически подробно, не в смысле многословия и длиннот изложения, когда долго и нудно рассматривают процесс под лупой, нет, в смысле точности и остроты наблюдения. Не буду рассказывать. Почитай.
– Я уже записала. Ищу.
– Опять будешь скачивать аудиовариант? А не возникает ли привычки «читать» ушами? И не раздражает чужая подача? Мне кажется, в чтении книги третий лишний. Старые мастера читали прозу иначе. Дозированно. Спектакль. Личное отношение. Индивидуальность исполнителя – одновременно демонстрация прозы и участие, углубление в нее в роли героя. Дмитрий Николаевич Журавлев, Яхонтов! Наизусть, разумеется, читали. Нет, это не чтение в том смысле, каково оно сейчас. Это – артистическое повествование, рассказ, глубоко проникновенный. Проживаемый. Интерпретация. Какие главы из «Войны и мира» у Журавлева! Болконский. Живой. Разный. Не констатация, процесс. Задача другая – театр. А у Яхонтова – Настасья Филипповна, не весь роман, только ее линия. Осторожно работает, с предельным вниманием к героине, скрупулезно исследуя, докапываясь до самой сути поступков, до сердцевины переживания. С ума сойти можно, как он эпизод с пачкой денег, брошенной ею в камин, подавал! Каждого участника события видишь, самое малое движение его души не упущено, весь мир автора и в нюансах, и в обобщениях – в одной сцене как в капле воды. А смерть ее, когда Рогожин и Мышкин ночуют рядом с ее телом! Тут и сострадание, и понимание чудовищности ситуации, и осознание невозможности иного хода событий. Мука такая… Печаль неизбывная и факт, голый факт, и сострадание к людям этим. И голос у Яхонтова, с этакой скрипучинкой на верхах, и густой в нижнем регистре. Да что там… Эпоха ушла. Впрочем, тебе может показаться старомодным это прочтение. – Старик помолчал. И внезапно: – А как Литвинов сказки читал! Хоть сказки слышала? Или Мария Бабанова! «Маленького принца» не слышать – себя обокрасть. Тонечка Кузнецова еще читает… Какая у нее Цветаева! Вот что надо бы мне попробовать в Инете поискать. По-хорошему-то живьем бы Тонечку послушать, да уж вряд ли.
Через час я прилипла ушами к невыразимой мелодике бабановского голоса, слившегося с голосом белокурого ребенка, с голосом космоса и вселенского одиночества, с голосами нежности и тоски. Это не был просто человеческий голос. Это не был рассказ французского летчика. Это был мир – бездонный, прохладный, сияющий, спиралью несущийся в бесконечность.
За ужином я вернулась к прежней теме:
– Эта женщина, которая «наговорила» Мураками, мне кажется, книжку впервые перед микрофоном и прочла, такое впечатление, что текст ей совсем не знаком. И еще, она главы «Страны чудес без тормозов» читает с этакой простинкой, а «Конец света» заунывно трагически. Чтобы сразу было понятно, что с чем не надо путать, мухи, мол, отдельно, котлеты – отдельно. А все вместе, как будто для детей-подростков читает. Или нет, как будто от имени каких-то подростков, но не настоящих, а как бывает, когда детей в кино или в мультиках взрослые озвучивают.
– Тюзовская актриса, наверное.
– В смысле?
– Сейчас это понятие не так распространено, но раньше в каждом приличном городе был театр юного зрителя, сокращенно ТЮЗ. Там работали так называемые травести, амплуа такое, когда взрослые актрисы маленького роста детей играли. Пожилые травести – печальное зрелище. Анекдот такой ходил: ребенок во время спектакля спрашивает: «Мама, а этот старенький мальчик еще придет?» Вот эти «старенькие мальчики» – располневшие тетеньки, теперь, видимо, записью аудиокниг зарабатывают на жизнь. – Старик смачно прихлебывал чай с настоящим лимоном, горьковатые лаймы ему уже порядком надоели, и он радовался тому, что в «big С» нам попались пупырчатые, светлокожие, крупные лимоны. Он зачерпнул очередную ложечку недавно самолично им приготовленного варенья из манго с ананасами и мелкими бананами, которое он умудрялся варить без сахара, и продолжил: – А по поводу романа, вот еще что: близка мне мысль о том, что память человеческая о себе в прошлом – великое явление. Я бы склонен был более серьезно относиться к буддизму, если бы не эта загвоздочка в понятии о цепи реинкарнаций – отсутствие памяти у личностного Я. Полный провал в знании, что было со мной до этой жизни, что именно я делал не так, или, наоборот, в чем я был праведен. Вот эта потеря памяти, самоидентификации, лишает возможности осмысления себя во времени. Отсутствует память о себе – отсутствую я в прошлом. И нет надежды осознать себя в будущем воплощении. А раз себя не осознаю, значит, меня нет. Вернее, не было до этого, и не будет после. Вместе с тем если бы имелась эта память, это была бы уже не религия, потому что все имело бы конкретные доказательства, отпала бы необходимость веры как таковой.
Я была согласна со Стариком, более того, проблема осознания себя в прошлом, не в иной жизни потока реинкарнаций, а в сравнительно недавно ушедшем времени, мучила меня. Во мне жили две памяти, слившиеся в одну и переставшие существовать раздельно. Многое из того, что происходило с моей бывшей мужской ипостасью, казалось мне, исчезло или видоизменилось, исказилось. Я не смогла бы рассказать подробности того моего детства, как и детали, скажем, отрочества меня-девочки. Но какая-то новая память, которая удерживает точные эмоциональные ощущения меня нынешней в том, что будто бы происходило со мной десять или пятнадцать лет назад, властно занимали в моем сознании место потерянных событий. Созидалось небывшее прошлое. Миф? Складывался ли он из обрывков двух реально существовавших когда-то детств? Не знаю. Память тех дней почти совсем утеряна. Можно было бы пойти к моим матерям, к двум отцам, задавать вопросы, пытаться восстановить две отдельно существовавшие цепочки событий, но зачем? Чтобы записать их и хранить в виде, скажем, звучащего текста то, что я уже никогда не смогу сопрячь с собой? Это отсутствие интереса к истинной истории моих двух прошлых бытований поначалу пугала меня. Вот так и теряют себя? Но я уже давно не те два человека и даже не единое целое, равномерно составленное из тех двух. Ни у одного, ни у другой не было столь ярких способностей в физике или биологии, какие проявились у меня теперь. Те, досоединенные, имели склонности к предметам, не более, они не обладали знанием априори, которое жило теперь во мне. Это было плюсом новой ипостаси. Но минусом, как я это ощущала поначалу, была потерянность в половой принадлежности. Внешне я – весьма симпатичная, с тонкой талией и округлыми бедрами, с узкими щиколотками и запястьями, с изящными повадками и легкой походкой курносенькая шатенка. Девушка. Бесспорно. Внутренне я не ощущаю себя чем-то конкретным. Более того, на сегодняшний день я потеряла необходимость в самоопределении. Мне надоело об этом думать, сомневаться, прислушиваться. Мое сексуальное Я искало и находило отклик не в особях противоположного или того же пола, а в ином, не половом проявлении и взаимодействии. Внеполовая сексуальность. Эротизм, никак не связанный с половой принадлежностью. Вот моя новая ипостась. Вот физиологическое открытие, сделанное помимо моей воли. Мое отношение к действительности не мешает мне ценить женскую и мужскую красоту, понимать их взаимные влечения, притяжения, осознавать, сколь важна для них половая привязанность друг к другу. Меня несколько раздражают геи своей истеричностью и постоянной сексуальной озабоченностью, я спокойно отношусь к лесбиянкам, красивые даже вызывают во мне симпатию – все как у многих людей. Но я прекрасно понимаю, что я вне нормы. Не вписываюсь в общепринятые рамки. Это уже мало тревожит меня. Я констатирую факт, оставаясь почти хладнокровной. Думаю, в дальнейшем я перестану вообще об этом думать.
Мать
Сын говорит по телефону. Аппарат пятидесятилетней давности, черный, шершавый, тяжелый, торчит металлическими рогами рычагов, поблескивает круглым диском с десятью мелкими иллюминаторами для цифр, твердеет хвостом провода с массивной трубой на конце. Он будто навечно вмонтирован в крохотную гладкость китайского гнутого столика, инкрустированного перламутровыми птицами и цветами, пропадающими под задницей чёрного аппарата. Все эти подробности зачем-то выпячиваются, лезут в сознание, словно желая перекрыть собой более важное: сын нервничает, его стриженая макушка качается из стороны в сторону в жесте неуклонного отрицания. Сверху пространство кажется сплющенным, но мне никак не удается спланировать ниже, чтобы увидеть лицо мальчика. Мальчик. Взрослый уже. Но для матери – навсегда ребенок, потому что ребенок и есть. Так и буду теперь констатировать все из вертикальной, стабильной точки, не имея возможности взглянуть на что-либо под углом собственного зрения. Никакой свободы тут нет. Вернее, полная свобода какого-то иного закона. О личностном здесь не может быть и речи. Наверное, потому что личностное адекватно эгоистичному. А здесь какой эгоизм, – слитность с безмерным, с бесконечным, со всем. Думаете, все происходит в одну секунду? С окончательной остановкой сердца? Как бы не так, страдаешь, как и прежде, любишь, мучаешься, все видишь и ничему помочь не можешь. Только физическая боль ушла. Это да, это приятно. Но к хорошему привыкаешь быстро и начинаешь маяться еще сильнее по другим поводам. Пока не слишком комфортно. Видимо, через время исчезнут неуправляемые эмоции привязанностей и мне станет все равно, с какой точки смотреть на постепенно забываемый мир. Но терять память чувств, нет, не хочу! Рудиментарное мышление. Отпадет, разумеется. Хочется плакать, но нечем. Зрение никак не связано с наличием глаз. Чем вижу, не понимаю. Раздражает невозможность видеть себя, привычно видимые свои части тела. Но я пока есть. Возможно, индивидуумы религиозные, управляемые, легко переносят этот период. Быстренько. Мне мешает прижизненная самодостаточность. Мнится, что я должна буду как бы умереть еще раз, может быть, долго умирать, постепенно утрачивая память и самоидентификацию. Всегда знала, что для непрерывного существования личности необходим только сам активный мозг. Как только мозг перестает быть активным, человек теряет способность к восприятию действительности и себя в ней. Субъективно действительность прекращает свое существование – человека нет. Если самоидентифицироваться по принципу наличия мысли, то есть работы мозга, и взять за условие, что мозг умирает одновременно с другими составляющими организма, то приходится констатировать, что способность мыслить, оценивать, воспринимать действительность бытия остается после физической смерти мозга. То есть «душа» какое-то время сопровождается мышлением. Я чувствую боль, нежность, любовь, сострадание. Это способность души? Но вне мысли невозможно было бы все эти чувствования осознать. Меня нет физически. Мое тело прекратило свою работу. Я не вижу себя. Это мучительно. Но я осознаю себя в полной мере. Не утрачена ни малейшая частичка моего мировосприятия. Абсолютно ограничена, вернее, исключена возможность действия. Вот в чем наибольшая мука! Нет никаких путей сообщения с теми, кого я люблю. Но хочу ли я прекратить ощущать любовь, хочу ли преодолеть это страдание? Наверное, в момент, когда я осознаю это желание, когда я примирюсь с новой своей формой, начнется угасание памяти. А может быть, это неизбежно приходит, вне зависимости от самоопределения. Всему свой срок? Пока я осознаю себя постоянно и неизменно. Я – это я. Не хочу терять этой способности, не хочу обретать равнодушие. Знаю, это неизбежно. Знание поражает. Сын погрузил трубку в расщелину между рогами рычагов. Резко поднял лицо. Он смотрит наверх, почти на меня. Я вижу его глаза. Счастье. Разве можно любить кого-то сильнее чада своего? Несчастливого своего чада.
– …положи на место. – Удар пришелся ему в зубы, был мощным, поэтому первой части фразы он не услышал. – Вижу, не понял, повторю: взял вещь, положи на место, особенно чужую. Попользовался чем, приведи в порядок, верни в лучшем состоянии, чем было до тебя. Ты же не свинья, ты – человек, или я не прав? Вокруг себя не гадь, не гадь, понял? А то в жилище твое люди зайти брезгуют. – Удар. – Не засоряй пространство. Воздух не порть. – Каждую фразу «учитель» подкреплял ударом в челюсть, говорил внятно, размеренно. – Что, мама твоя – шалава? Не объясняла сыночку правил жизни? – Удар. – Шалава, видать. Вот, приходится мне работу её выполнять. – Удар. – Передашь ей, что она теперь моя должница. – Удар. – Вот. Умоешься, станешь раны залечивать, зуб, наверное, придётся вставлять. Больно, понимаю. Обидно. Пока синяки пройдут, пока на фальшивый зуб заработаешь, будешь вспоминать, за что получил, будешь повторять, заучивать устав бытия. Запомнишь хорошо. Надеюсь, поймёшь, что за науку надо мне благодарным быть. – И ещё раз «учитель» нанёс резкий удар по его верхней скуле. – А это, чтобы знал – нельзя позволять свою мать шалавой называть. Никому. Даже тому, от кого зависишь. Мать – святое. С матерью надо на Вы. Кровь утри и хорошо подумай обо всем вышесказанном. Наведи порядок в голове. Тогда и быт наладится.
Мать при жизни не знала ни об этой истории, ни о «хозяине», на которого некоторое время пришлось сыну работать за какие-то долги. Знание этого эпизода, вместе с остальным полным знанием, пришло, втекло в нее после жизни. Меж многим другим о сыне стали ей ведомы и такие детские истории, о которых он сам наверняка не помнил.
Лет в девять-десять, повадился он гулять с чужой собачонкой. Чаще в теплую пору, весной-летом, реже зимой, в учебное время. Сын пересекал двор, за тяжкой подъездной дверью соседнего дома впрыгивал через ступеньку на третий этаж, билибомкал звонком и улыбался на знакомое тявканье и взвизги. Одинокая молодящаяся дама, любившая сюсюкая тискать своего ненаглядного «члена семьи», вёрткого, суетливого Йорка, ленилась выгуливать его и держала дома в памперсах, по причине его повышенной писучести по всем углам. Она радовалась, когда дети заходили к ней забрать на выгул собачонку, и всякий раз выдавала им за работу по конфете и печенюшке. Сын забегал за Понысой по двум причинам: хорошо было чувствовать себя важным и крутым, прогуливая модную породистую, хоть и мелкую особь, хорошо было за это удовольствие ещё и получать сладкое. Мать не скупилась на покупки «к чаю», но сыну самому заработать «коровку» или даже «тоффинку» было куда приятнее. Когда сын подружился со светловолосой соседкой, носившей вкруг хорошенькой головки замысловато плетеную косицу-колосок, он стал приглашать ее с собой на выгул Поныси и получать двойную порцию сладостей. Довольные своим промыслом, добычу теперь поедали друзья вместе. Не одни они были такие умные. Дворовая малышня повадилась отбивать чужой хлеб. Понысиной хозяйке лень было часто мыть лапы «такой умной, такой красивой собаке», потому она выдавала любимца не чаще трёх раз в день. Стоило замешкаться, и кто-то опережал главного выгульщика. Запросто можно было услышать из-за закрытой двери: «Поню уже брали». Сын ухитрялся не пропускать момент, а когда летом ребятня разъезжалась по бабушкам на каникулы, а он оставался в городе, наступала совсем лафа. Правда, первое время было как-то не очень: не перед кем демонстративно держать вертлявую собачонку на длинном поводке. Но потом съезжались внуки местных бабушек из других городов, становилось весело, сын вновь чувствовал свою значимость.
Однажды Поныса проявил особую прыть, принялся излишне рьяно скакать и крутиться навстречу каким-то незнакомцам, ненароком расклеилась на нем липучка шлейки, соскочил поводок, и неразборчивая псинка со всей дури дунула сначала вдоль палисадников, а потом и поперек проезжей части.
Сын рванул в гущу движения спасать дурное созданье, завизжали тормоза, Поныса, не сбавляя скорости, умчал в чужой двор, мальчик, сбитый и отброшенный черным «мерсом», никак не мог подняться на ноги. Из машин, остановленных ситуацией, выскакивали женщины, бежали к копошащемуся на асфальте подростку, чертыхались в сторону исчезнувшего «мерина». Мальчик выкарабкался на тротуар, отряхнулся, отговорился, что живет рядом и двинулся в свой двор. Огляделся, дал волю слезам, которые лились не от боли, а от страха потерять собачонку. Что будет, если не найдется?! Убьет хозяйка! Сквозь жидкую муть слез проявилось: к нему бежит девочка, что носит хитрую косицу из светлых волос вкруг хорошенького личика, на руках у нее, прилипнув к ее животу, дрожит Поныса. «Вот, прямо на меня летел! Дурачок бешеный! Хорошо, поймать удалось…»
Сын обошелся вывихом ноги в щиколотке, ушибами и глубокими, но не так уж опасными ссадинами на боку, локтях и коленях. Матери сказал, упал с качелыси. «Сколько раз говорила, не лётай до неба!» – причитала мать, промывая ранки.
Потом сын разобрался и полюбил крупных серьезных собак, не обязательно породистых, но умных и верных, в отличие от вертлявых, скачущих на руки, что хозяину, что чужому, Йорков, заодно стал испытывать пренебрежение ко всем мелким породам, а вместе с ними и к их владельцам.
Даже в его день рожденья Мать не получила от сына письма. Она слушала, как молодая ее коллега, девушка лет двадцати семи, то поправляя назойливую светлую прядь, то прикрывая мобильник ладонью, торопливо вполголоса повторяла: «Папулечка, прости, не могу говорить, прости, никак, я на работе, скоро приеду, пусть мама не расстраивается, я еще перед выездом позвоню, прости…» Голос этот мучил, вонзался, приглушенной ласковостью буравил слух, и слезы заливали уставшее притворяться молодым лицо Матери. Вот кто-то вырастил эту дочь такой. Просто доброй. Просто любящей. Просто понимающей, как нужно родителям теплое слово. А она не сумела.
Или каждому родителю ребенок дан для исправления? Для исправления прежних ошибок. Быть может, не сын к ней плохо относился, она воспринимала его отношение с горечью, которой не смогла пережить. Ну, не поздравлял ни с ее, ни со своим днем рожденья, ни с праздниками, ну, жил свою неустроенную, нелепую жизнь, обращаясь к матери, только когда деньги были нужны. Испытания эти ей следовало принимать со смирением, без страданий. Следовало. Не смогла. Мать дождалась двенадцати часов ночи, еще раз проверила почту, просмотрела эсэмэски и сделала то, что задумала.
8.
С улицы прилетел мелодичный звук колокольчика или чего-то, заменяющего колокольчик. Является призыв, звонкость его мягка. Как и всякий день в это время, здесь проезжает таец на трехколесном велосипеде, вывернутом наоборот: два колеса спереди и одно сзади. Между передними колесами – место для алюминиевой емкости с крышкой, под которой спрятана какая-то еда или питье. Торговец средних лет, таясь под соломенной почти белой конусовидной шляпой, делает круг в поле моего зрения и, никем не остановленный, проезжает бренчать-призывать дальше. Так происходит ежедневно. По колокольчику можно сверять часы. Никогда никто здесь ничего не покупает у велосипедиста, но он неизменно станет проезжать здесь и впредь, покуда живы белый свет, звук и жара, будто он и сам вечен. Каждый раз я хочу как-то остановить его, купить у него съестного. Мне интересно, чем именно он торгует, но выскочить из квартиры, спуститься лифтом, вывернуть через широкий холл в переулок-сойку – нет, никак не успеть. Если же я примусь кричать сверху, стараясь привлечь его внимание, таец ни за что не поймет, что кто-то на английском обращается с высокого этажа именно к нему. И вдруг мне приходит в голову, что я должна завтра же заранее спуститься ко времени его появления и купить наконец то, что прячется там, внутри металлического короба. Это могут быть горячие пончики с карамельной каплей в середине, присыпанные кокосовой стружкой, или твердые, хрусткие блинчики с овощной начинкой, или банан, жареный в кляре с кунжутом, а может быть, просто тонко струганое зеленое манго и огненный ореховый соус к нему, о которых мне рассказала Нари по пути из Храма Истины. Ни разу не видела, чтобы тайцы ели спелое манго отдельно от клейкого риса с кокосовым молоком, но вечно жуют зеленое, обмакивая в коричневую запашистую густоту.
Так мы и жили. Однажды, когда я уже, казалось бы, совсем привыкла к противоходной дороге и к тому, что тайские водители слабо понимают, что значит придерживаться дорожных правил, меня угораздило не совсем верно вписаться из первого ряда в правый поворот. Не врезавшись, слава богу, в оказавшийся прямо под моим беззащитным боком старый «мерс», который, не притормозив, спокойненько учухал прочь, я влепилась передним колесом в высоченный бордюр и вылетела на обочину, в толщу пыли и мелких камушков, разодрав обе ладони, колени и подбородок. Так я и приземлилась на секунду на эти пять точек, тут же завалившись на бок, и подняв тучу песчаной пыли. Когда я открыла зажмуренные во избежание попадания грязи глаза, ко мне уже мчались сердобольные тайки от своих вездесущих кухонь, уже ощупывали меня, проверяли, нет ли переломов, лили воду, вытирали полотенцем лицо. Потом мой убитый мотик погрузили в пикап, и, болтая на тайглийском, состоящем из семи английских слов, произносимых без окончаний, и подбадривая меня смехом, водитель доставил и помог сдать мою машину хозяину, который, в свою очередь, сопроводил меня до дому, получил изрядную компенсацию и довольный удалился. Я стащила с себя драные бермуды и футболку, отправила их в пакет для мусора. Отмылась под душем, смазала колени, ладони и подбородок слабым раствором марганцовки, памятуя, что это лучшее средство для быстрого образования корочек, которые обязаны столь же быстро отпасть. Ссадины жгло. Я ждала, когда пробудится от дневного сна Старик, и тихо ныла.
Отныне мне было запрещено брать в аренду байки.
– Я до сих пор путаю, в какую сторону здесь, переходя улицу, надо смотреть сперва, в какую потом. А ты ездить со скоростью метеора взялась! – бухтел и бухтел Старик.
На мои слабые возражения по поводу того, что с Протамнака можно выехать только на такси-байке, что это не менее опасно, чем ездить самой, а на автомобиле дороговато, а я не хочу разбазаривать средства и вынуждена буду ходить пешком, а у меня сбиты колени, старик принял решение поменять дислокацию.
– В таком случае, переезжаем на Джомтьен. Там тук-туки. Скромно, по десять бат за выезд. – Для пущей важности перешел на «вы»: – Все для вас, дорогая!
Я понимала, что ему уже хотелось что-то поменять, и он с радостью воспользовался предлогом. На следующий же день найденное по телефону агентство предложило нам несколько квартир в разных частях Джомтьена, на выбор. Мы остановились на двух студиях на пятом и шестом этажах, в уютном одноподъездном кондо на тринадцатой сойке, с видом на залив и пушистым пальмовым садом у тихого ресторанчика под нашими лоджиями.
Вдоль Джомтьен-бич тянулись узкие, местами неровные, выщербленные, но все же тротуары, что в Паттайе явление редкое. Улицы мирового центра секс-туризма не рассчитаны на присутствие в городе пешеходов. И действительно, странно увидеть тайца, долго идущего пешком, – все на мотобайках: молодежь, пожилой люд, женщины, мужчины, подростки. А туристам следует нанимать мото-такси, упорно предлагаемые справа и слева, «голосовать» тук-тукам или брать транспорт в аренду. Нечего экономить! Как здесь переходить улицу с беспрерывно летящими двух-, трех– и четырехколесными транспортными средствами, которыми управляют люди, сами, видимо, дорогу пешком ни разу в жизни не пересекавшие, понять невозможно. Можно простоять у «зебры» хоть час, никто не притормозит, чтобы пропустить пешехода. Следует решиться и, сломя голову, броситься поперек потока. Если повезет, приостановится, чтобы не сбить смельчака, мчащийся справа автобус, объедут, не меняя скорости мотобайки. Потом надо перетерпеть свист горячего ветра, образуемого теснотой неумолимого движения, и вновь ринуться, теперь уже, имея опасность слева, физически чувствуя негодование водителей, не берущих тебя, глупого, ни в какой расчет. Светофоры в этом городе предназначены исключительно для транспорта, и если кому-то удается, воспользовавшись остановкой основного потока, пересечь три жаркие полосы и проскочить между байками четвертой, идущей на поворот, то он – счастливчик.
На Джомтьен-бич движение умеренно, можно почти спокойно пересекать улицу, устремляясь к песку и волнам, особенно по утрам. Но раньше завтрака и инъекций я успевала подняться на восьмой, верхний этаж к бассейну, сделать в свежей воде зарядку, с полчаса поваляться в шезлонге на солнышке, наблюдая за птицами и бабочками и слушая аудиозапись очередной книги.
Мне очень хотелось сравнить со своей точку зрения Старика по поводу Мураками. Я принялась, теперь уже глазами, штудировать «1084» и ко второй половине третьей, заключительной, части позволила себе сделать окончательный вывод, что интеллектуал Мураками занимается ликбезом. Иначе зачем так разжевывать последовательность событий, излагая их в многократных повторах? Зачем педалировать чистым пересказом те или иные качества личности? Все давно понятно, но автор в очередной раз, не меняя угла зрения, объясняет что к чему, будто в сериале для домохозяек. Мне совершенно не верилось, что фитнес-тренер Аомаме могла бы читать Пруста. Все равно как, когда в фильме играет не слишком красивая актриса, а все персонажи вокруг буквально поражаются ее ослепительной красоте. Я осилила чтение прустовского «На пути к Свану», но, с трудом преодолев долгую медленность повествования, решила, что к этому чтению следует вернуться лет через десять, помудрев. Ту девушку-фитнес-тренера, вряд ли заинтересовала бы такая литература. Затворничество и Пруст – нечто для очень зрелой личности, обогащенной серьезным интеллектуальным опытом.
То, что герои слушают сложную музыку, тоже казалось притянутым за уши, как и вся история с домом Юнга, например. Тема секты возвращала к недавно просмотренному и страшно мне не понравившемуся «Мастеру» Армстронга, раздражал сто раз повторенный термин «кровиночка», но завораживала японская прохладность в поведении героев, притягивало все, что связано с бытом и культурой удивительных островитян. В результате было решено найти попавшую мне в руки лет пять назад, но недостаточно внимательно прочитанную «Ветку сакуры» Овчинникова, и намечталось попасть когда-нибудь в Японию. Потом я нашла аудиовариант третьей части «1084», ткнула курсором в подвернувшийся отрезок и получила приятный мужской голос, который тут же раз пятнадцать по ходу текста произнес слово «бог» с звучащей на конце «к» вместо грамотного «х», предлагая в результате вместо «бога», «бок». «Бок здесь», – произносил один персонаж и требовал повторения от другого. Тот, в свою очередь, в интерпретации актера-чтеца, меняющего по ходу действия голоса, противным скрипом вторил: «Холодно, или нет, бок здесь!» Тут же исполнитель, явно гордясь своим изысканным, по его мнению, произношением, старательно выводил фразы на английском. Разозлившись, я рассталась со слушанием.
Позже нажаловалась и на Мураками, и на чтеца Старику.
– Юношеский максимализм – не лучшее подспорье в оценках. Про Мураками ничего нового сказать не могу – на такое чтиво у меня нет времени. На мой взгляд, беллетристика. Не более того.
– Максимализм?! «1084» – книга о книге. Когда речь идет о романе «Воздушный кокон», автор оценивает его стиль, как «простой и даже немного наивный», то есть он сам так пишет, ему это нравится, он собой доволен. Его герои читают книги и слушают музыку, которые явно читает и слушает он сам. Но автор и его детища, его герои – не могут быть совершенно идентичны. Разве нет? Люди у Мураками, на мой взгляд, не объемны, они какие-то… ходульные, что ли… У них, вроде, есть внешность, привычки, чувства, но все это не настоящее какое-то, будто спешно придуманное и не прочувствованное. Черты характера называются, но не ощущаются в поведении, размышления утилитарны, как в каком-нибудь простейшем детективе, причем длинносериальном или как в комиксе: куда теперь пойти, что сделать, чтобы спастись… Куча ни о чем не говорящих подробностей: поставил стакан, посмотрел на руки, поболтал ногой… А люди от этого ни живее, ни естественнее не становятся. Ложь какую-то чувствую. Будто за значительное выдается посредственное. Но почему тогда весь мир так высоко это ценит? Премии, тиражи, миллионы почитателей?
– Мне трудно ответить без… брюзжания, что ли. Мир изменился. Простейший пример: лет тридцать назад по книгам в России можно было проверять правильность написания слов и применения знаков препинания, как по словарям. Корректура была строжайшая. Теперь же – не верь глазам своим. Из экономии книги и в отсутствие редактора, и в отсутствие корректора печатают. Вот так. Коммерция. Всюду. Во всем.
Когда я читала там, в доме среди сада, в библиотеке Старика «Степного волка» или «Доктора Фаустуса» у меня было чувство, что я заглядываю в бездну, что я не способна объять полностью миры Гессе и Томаса Манна, что вселенные эти многообразны и бесконечны. Теперь же Мураками будто приучал меня к упрощениям, к чувственной и мыслительной выхолощенности. И становилось страшно, что после этих текстов мне будет трудно читать что-то настоящее, серьезное. Будто кто-то делает вид, что насыщает мой разум чем-то важным, на самом деле не давая ничего. Если позволять себе смотреть сериалы или развлекательное американское кино, очень скоро ловишь себя на том, что серьезные ленты… скучны, что ли? Как многие выражаются – «грузят». Нельзя поддаваться. И я скачала Борхеса и «Приглашение на казнь» Набокова.
– Сандра, а ты дневник продолжаешь?
– Да, – гордо ответила я и в тот же день записала: «Мураками. Псевдосимволизм. Сопливо и как для средних школьников, если бы не частые упоминания о собственном члене автора, которым он наделяет то одного, то другого героя своих книг. Из-за этого члена его книги – для недоразвитых взрослых».
Царица
Старая липа еще тучнела, обжираясь солнцем, жарой, алкая ливни. Толпилась и распиралась ее курчавая крона. Липа пухла, пузатилась – цвела. Липу пучило. Избыточное ее существование прорывалось ароматными воздухами, приманивало на извержения рои похотливых пчел путаться с липой в разврате и вынашивать сладостную свою целебную тяжесть. Судя по осанке, мощности роста, широте и густистости кроны, по обширности ствола и общей величественности, в липе текли царственные соки. Исторжение благородных запахов являло особый признак высокородности. Липа взлетала в ароматных парах, своим исполинским ростом разворачивая, руша небесную безмятежность. Липа парила. С притворным целомудрием прикрыв свою дикую густоту чешуей цветения – россыпью сдвоенных ушек с лохматыми помпончиками на жестких нитках-креплениях, утопая в расточаемой ими пудре, липа загуливала с ветром, впуская его внутрь себя, и он шуршал, двигался в ней, приторно шевелился, зная, что творит царице приятное, то затихал, то вновь принимался за сладострастное свое дело. Липа распахивалась и пахла. Под липой, в подвижном шатре из пыльцы должна была бы спать древним дневным сном царица. Ее подмышки имели бы запах ядовитых бутонов. Опасно благоухали бы гладкие впадины, будто истекая соком злого цветения. Аромат будоражил бы темнотой. В обычной жизни, вне шатра под липой, она предпочитала бы начисто устранять, уничтожать прельстительность, преступно прячась и маскируясь тщательнейшим мытьем и слабыми, бесцветными отдушками. Но временами можно было бы поймать ее, не успевшую смыть свою манкость.
Подмышки Царицы, живущей в шатре из пыльцы под Большой Липой, изменили свой запах. Он приобрел терпкость свежей мочи молодой серебристой кошки. Царица, окруженная людьми, лица и руки которых были окрашены нежной танакой, подняла глаза к небу. Зрачки людей с концентрическими рисунками, спиралями, волнообразными разводами на предплечьях, кистях, лбах и подбородках последовали за ее взглядом. Пройдя взорами траекторию от черноты земли к черноте над их головами, люди вгляделись в вереницу темных лун, поражаясь их разновеликости и многообразию их оттенков. Вот луна растущая, перешедшая за середину развития, покраснела, пылает приглушенно. Вот старая, но совсем маленькая болотно-зеленая, с коричневыми подпалинами по зазубренному, словно от долгой жизни, краю. Вот невинный серпик, блекло-голубой, неясный, нежничает, ищет к кому приласкаться. И множество фиолетовых лун, почти растворенных в небесной глубине, но всё же уловимых, барахталось среди недвижных, полных тяжестью облаков. Все это наводило на мысль о том, что звезды приблизились и тоже стали спутниками основной планеты. По крайней мере, те, что захотели попасть в поле деятельности Земли, позавидовав прежде единственной близкой к голубому шару избраннице. Но ее пока не было. Стали яснее мутно-оранжевые и бирюзовые мелкие диски, мерно пульсирующие на заднем плане небосвода. Зашевелились эллипсы, опрокидываясь, становясь на время невидимыми и потом снова являя себя полновесно изумрудными, плотными, на радость глазам. Время стояло ровно, не колышась, не тревожа. Его власть чувствовалась явственно, но не обременяла, напротив, умиротворяла все вокруг людей и их самих, столь непривычных к равновесию. Ждали.
В полном и непрерывном покое что-то поколебалось. Нет, это еще не было движением. Время уверенно и мощно стояло на месте, но в этой стабильности наметился легчайший намек на воздух, на трещинку, сквозь которую тот мог проникнуть. И, когда почти неуловимый, словно позывные летучих мышей, звук оповестил изменение, когда проступила на траве внезапная и обильная жаркая роса, и время сорвалось и помчалось, на небосвод явилась во всей роскоши, набухшая полнотой луна, и Царица посмотрелась в нее, и глаза ее закатились от восторга, в который привело ее собственное отражение. Люди ринулись к ней, торопясь выполнить волю Луны, удовлетворить желание Царицы. Время мчалось, неровно дыша, сбиваясь и выправляясь в своем возбуждении, время подстегивало людей. Зеркало Луны отражало торжественный ритуал, отправление многотрудного культа. Мелкие луны роились в беспрерывном движении, мрак сиял, ветры остужали утомленных страстью, еле живых от пережитых наслаждений людей, и все новые шли к Царице.
Наконец Царица исторгла вопль, в тот же миг Полная Луна подставила ей себя, дабы та могла насладиться своим новым отражением.
Луны и люди ушли. Глаза Царицы закатились во второй раз. Теперь она нравилась себе еще больше. И восторг был окончательным.
9.
На новом месте мы могли завтракать раздельно или вдвоем, по настроению. Я варила себе кофе, бросала в него кружок лайма, резала кубиками крошечные сладчайшие бананчики, липнущие к ножу, оранжевую папайю и спелое манго цвета утиного желтка, заливала фруктовый салат йогуртом местного производства без крахмала и сахара и располагалась за столиком на лоджии. Йогурт вкусен, и молоко здесь просто волшебное. Так бы и питалась одними манго, запивая вкуснейшим meili. Все молочные производства в Таиланде заведены, кажется, в основном для иностранцев. Тайцы больше пьют соевое молоко с шоколадом и другими добавками, до Рамы IX коров выращивали в основном на мясо. Но король профинансировал программу, призвал свой народ заняться производством молочки, и население с радостью принялось за новое дело. Многие считают, что организм тайца не приспособлен расщеплять молочный белок. А может быть, это миф. Живут фаранги здесь и мало что доподлинно знают о народе, в стране которого поселились. Но никогда не называть их детьми, не проводить параллель между их добротой и детской наивностью – научились. Для тайца сравнение с ребенком равносильно констатации его глупости. Во всех этих тонкостях я потихоньку начала разбираться, общаясь с людьми в хорошо кондиционированных магазинчиках сети под названием 7/11, на рынке, на пляже, собирая информацию с миру по нитке.
Я глотала кофе, любовалась шевелением пальмовых перьев внизу, разглядывала извивы кованых ножек стола и стульев, которые поддерживали сиденья и столешницу, инкрустированные цветным камнем в виде симметричных цветочных лепестков. Совсем недалеко шевелилось чешуйчатое, почти белое под утренним солнцем тело моря. Желтоклювые деловитые птицы, немного похожие на дроздов, прилетали и разгуливали по крашеным перилам в метре от меня.
После завтрака я распахивала двери на лестничную клетку и раздвигала стеклянные створки лоджии, давая сквозняку двигать охлаждаемый собственным движением воздух. Ветер осваивался и принимался гулять по студии, бузить и шарахаться с улицы через квартиру и всю лестничную клетку до лифта, хлопая и шурша всем, что попадалось, и так же некоординированно и беспорядочно – обратно. Зато дышалось легко, и не требовалась надоедливая работа кондиционера. Можно сделать записи в дневнике, найти для скачивания нужный фильм и книгу. Потом мы могли со Старым вместе отправиться на прогулку, бродить до самого обеда. Вдоль набережной и по всему бесконечному пляжу разгоралась торговля. Старик покупал для меня огромные крученые сахарно-белые раковины, коих скопилась уже целая коллекция, керамических рыб – молочных карпов, усеянных алыми пятнами, смоляные вазы, испещренные гибкими резными драконами, зеркальца в рисунчатых футлярах с изображениями слонов, и бабочек, и цветов, вискозные сарафаны и шальвары, саронги ручного крашения, трескучих деревянных жаб и мужскую соломенную шляпу, которая мне так понравилась. Старый разбирался в жемчуге и долго перебирая и рассматривая у разных торговцев, выбрал наконец для меня несколько ниток: крупный ярко-белый, продолговатой формы, черный круглый с бронзовым и медным отливом разного оттенка у каждой отдельной бусины, розовый с серебром – длинная нитка мелких, нежных горошин; несколько нитей ровного круглого бело-молочного и, наконец, странный, корявый, уродливый фиолетово-черный.
– Этот жемчуг имеет название: барокко. Ну-с, барышня, что означает это слово? Да-да, ты прекрасно знаешь, стиль, ну, а дословно? Причудливый, странный, склонный к излишествам, порочный, perola barroca – жемчужина неправильной формы, жемчужина с пороком.
– Старый, это самый модный теперь жемчуг! С червоточинкой, с чертовщинкой!
Моему восторгу не было предела. Всё мое женское естество торжествовало, пело и сияло во мне. Я погрузила дары в мягкое чрево тут же купленной наволочки, шитой бисером по контуру аппликации в виде трубящего победу бежевого слона, и мы отправились выбирать уличную кухню с несколькими столиками, дабы сытно пообедать.
Мы прошлись по Чаепрыку в сторону Сукхумвита и уселись под соломенной крышей за покрытый простой клеенкой стол. Сто раз повторив «ноу спайси» и приправив эту просьбу отчаянной жестикуляцией и «страшными» глазами, дабы нам не подали перченой по-тайски пищи, мы заказали великий суп, суп супов – том ям кун, салат сом-там и патай – жареную лапшу с курицей и овощами. Перед нами поставили графин ледяной воды, принесли круглые ложки с короткой ручкой из нержавейки, такие же вилки с совершенно тупыми зубцами и вдобавок палочки. Сами тайцы едят ложками и палочками, но часто можно увидеть, как запросто орудуют вилками.
Пища тайской кухни готовится быстро. На крохотные кусочки рубится белое мясо и три минуты шкварчит на огне вместе с яйцом, завитками пророщенных бобов, цветной капустой, зеленью и перетертой в ступке смесью специй и трав. В круглом дуршлаге на мгновенье погружается в кипяток лапша и тоже обжаривается, политая несколькими соусами. Дымится суп, приготовленный волшебно скоро, растираются в деревянной ступке ингредиенты салата. Летают пестик и ложка, рубится-стружится зеленая папайя, недоспелые мелкие хрусткие помидоры…
– Ты посмотри, какие молодцы в этой кухне: сколько креветок в супе: девять, одиннадцать, тринадцать! В кафешке около нас в два раза меньше. А грибов этих соломенных! Нет. Не съесть, – улыбается Старик.
– Надо было один на двоих заказывать. И порция сом-тама огромная. Какое сочетание соусов! Необыкновенно ароматно. Здесь, видно, готовят больше для тайцев, не очень ориентируясь на фарангов. Они, мне кажется, несколько удивлены, что мы сюда явились. Надо одну лапшу сразу попросить упаковать с собой. Не справимся. Придется вечером в микроволновке разогревать, – отвечаю я, прекрасно понимая, что тайскую пищу разогревать грех, а в микроволновке – вообще извращение. Тем более что Старый этих разогреваний и в России-то не признавал.
– Не возьмем. У тайцев принято есть только свежеприготовленную на «коротком» огне пищу. У них и холодильников-to почти ни у кого нет. Будем и мы как тайцы, покуда мы здесь. А вечером выскочим на угол, схватим по жирненькому сомику, запеченному на открытых углях, – подтверждает мои мысли Старый.
На дне глубокой керамической пиалы, все еще благоухающей кокосовыми сливками, рыбным соусом «нам-пла» и кориандром, остаются жесткие пахучие кусочки галангала – азиатского имбиря, лемонграсс и рваные листья каффир-лайма. Этот обильный букет не предназначен для поедания.
– Фаранги пытаются это жевать поначалу, – будто слышит мои мысли Старик.
– А откуда это слово, «фаранг»? – ловлю его я.
– Кто-то предполагает – искаженное «француз»-«франк»-«фаранг». Все же страны вокруг были колониями, под Францией, оттуда и пришли сюда иностранцы. Кто-то считает, будто слово напоминает по звучанию название безвкусного бесцветного фрукта. У нас это гуава. Имеется в виду, наверно, что мы, европейцы, – белые. Бесцветные. Кто знает.
Вентспилс
Радоваться жизни, когда голова кружится от недосыпа (двенадцать часов ночного и раннеутреннего пути, восемь из них – до Риги, по которой галопом и фотографируя полчаса до следующего автобуса, на нем уже – до места) и, того гляди, посеешь на рынке кошелек, помогая отцу грести яблоки, кабачки, плоский инжироподобный лук, цветную капусту, парное мясо – щедрый урожай окрестных хуторов. И потом – в окна бывшей ратуши, а теперь гостевого Дома писателей – чистота и слаженность звуков оркестра, репетирующего вечернюю программу по случаю Праздника города и Фестиваля цветочных ковров, разбросанных вдоль всего променада латвийского портового городка. Пара часов дневного сна под арии из «Травиаты» и «Дон Жуана» с площади (отец рассказал потом о музыке подробно: «в твои четырнадцать пора начинать разбираться»), сна морочного, булькотного, жаркого, не способны восстановить силы, а только приводят мозг в окончательно восторженное замешательство. Потом обед и гуляние по паркам, набитым цветами и фонтанами, и кубовидными кронами деревьев – произведениями флоро-парикмахеров. Потом несвоевременный чай с булочками и жаркая ночь на сквозняке, танцующем меж двумя распахнутыми окнами – одно на площадь, мощеную старым камнем, другое, с угла, на улицу, разглаженную сегодняшней плиткой, как весь городок, безызъянно, тщательно, каждый метр вдоль реки до моря, меж рядов одно-двухэтажных строений, над которыми трудятся зимами ветер и влага, покрывая живописью пятен крашеные сыпучие панели.
Между чаем и сном – за окном на площади окончание выступления странствующего актера. Молодой тощий факир с голым торсом в неправильном, «сельском», загаре, что оставляет серыми и несчастными грудь и живот, но подцвечивает руки и шею с синими асимметричными крылышками татуировки в виде тщедушного дракона, летящего в свой домик на горе по бледным лопаткам, в выцветших, когда-то пёстрых хлопчатобумажных лосинах по колено, в черных носках и черных запыленных туфлях, тяжелых для такой жары, не замечая своей нелепости и нечистоты, смотал на локоть длинный зелёный шнур, раскидываемый по кругу с целью отделить игровое пространство от толпы. Потом он собрал какие-то металлические предметы и шпагу, которую за несколько минут до этого усердно проглатывал: погружал внутрь голодного организма и возвращал миру, вызывая аплодисменты. Потом свернул вдесятеро совсем тонкий синтетический коврик для гимнастических экзерсисов, аккуратно разместил часть реквизита в футляре от мандолины рядом с некоторым количеством набросанных зеваками монет, откинул спутанную и влажную от пота русую челку и зашагал прочь.
Ночь, вопреки гомону не желающего спать в праздничный вечер молодняка, спешила погрузить в себя арки, и черепицу, и брусчатку, и ряды слепых домов с затянутыми пленкой или прилежно забитыми досками проемами окон, оставленных владельцами за неимением средств для содержания, доставшихся им вновь после отделения от Советского Союза владений. Люди разъехались на заработки в настоящую Европу, в резиновую Ирландию, которая вместила в себя тьмы чернорабочих прибалтов. Ночь требовала полного повиновения, по-стариковски рано затемняя и опустошая улицы.
К утру сцена, где блистал вчера оркестр, исчезла, растворилась в площадном солнцепеке, освободив место для лотков с книгами и сувенирами, но и эти декорации слизала жара часам к пяти, когда, побродив по променаду и напустив полный воздух пузырчатых радуг, ушагали и укатили прочь голенастые клоуны-ходулянты и жонглеры на высоченных трехколесных – два маленьких, одно гигантское – велосипедах.
Минуя внешние колонны, шурша подошвами в унисон с семенящими на вечернюю службу прихожанами, мальчик проник в нутро церкви, белое и голое, присел с краю на больнично поблескивающую скамью, рассмотрел таблички с цифрами на стенах – 364, 211, 314… (позже отец объяснит ему, что цифры обозначают порядок песнопений для определенных служб и что помощники лютеранского священника по необходимости заменяют их на другие – «как же ты, четырнадцатилетний парень, не знаешь всем известного!»). Взгляд его продвинулся и остановился на единственном живописном полотне, демонстрирующем Христа с огромным бледным торсом, короткой шеей и крошечной головой в мокрых локонах на фоне колоссальной дымно-синей планеты. Это напомнило ему почему-то апокалиптичные кадры финала фонтриеровой «Меланхолии», которую во время пути продемонстрировал ему на своем планшете отец. Но скоро он рассмотрел, что Иисус изображен не впереди рыхлого круга, а входящим в округлую арку пещеры, что создавало определенную иллюзию. Однако вплывал Спаситель в объем не равномерно всем телом, а в первую очередь – широкими чреслами и грудной клеткой, запаздывая головой и нимбом. Мощные ноги Предвечного, мускулистые, голубоватые, тоже были выписаны художником подробно, с усердием, со вниманием к жилкам и мышцам. Лица же мальчик, сколь ни старался, никак не мог разглядеть, так удаленно, будто на третьем плане, было оно расположено.
Прихожане глянули на таблички, размеренно распределенные по известковым стенам, раскрыли свои книжечки, нашли нужные цифры, вдохнули белого воздуха и объединились в ахроматический хор.
Следующим вечером городок окончательно продемонстрировал свою ревность к людям: улицы хвастались пустынностью и нежеланием впускать в себя прохожих. Правда, иногда в тупичке переулка промелькивала детская коляска, и потом каблук исчезающей женской туфли, и это казалось нелепым, неуместным дополнением к пустоте и стерильности мостовых. Где-то истошно раскричался котенок. Мальчик вышел через арку за каменную ограду: невысоко неприятно крупная чайка взмахивала крыльями, сопровождая каждое движение псевдокошачьим воплем. Другая, серая, еще большего размера, растянула бледные перепонки по булыжнику и столь же безапелляционно, громко и настойчиво, как первая, рокотала голосом, похожим на лягушачий. Мальчик сделал неширокий круг по совершенно безлюдным в этот совсем не поздний час переулкам, утвердился в своем ощущении, что этому городу люди не нужны, что они здесь – нечто лишнее, нежелательное, вернулся на ужин и долго слушал медленную речь тщательно прожевывающего телятину отца, который говорил в этот раз о DER GELBE KLANG, произведении Альфреда Шнитке для инструментального ансамбля, хора и солистки.
– Первое исполнение сего опуса состоялось во Франции, а в СССР лишь через десять лет. Балет, вернее, пластический спектакль, не слишком отвечающий замыслу либретто, поставил Гедрюс Мацкявичюс. Читал о таком? Режиссер, любопытная личность, эстетический эпатёр, человек с изломом… Идея «Желтого звука» принадлежит Василию Кандинскому, художнику-авангардисту, – знаешь о таком? – который мечтал о театральном синтезе. Мацкявичюс вывел на сцену некий сюжет, хотя у Кандинского ни о каком сюжете речи быть не могло. У него – какофония смыслов. Зря Мацкявичюс со своей не совсем профессиональной труппой замахнулся на освоение музыки великана. Да, Шнитке – тот самый великан Кандинского, который в финале является, то есть являет себя, колоссальным крестом. Да… Кандинский имел не только художественное, но и музыкальное образование. И Шнитке гениально его услышал. Сложная музыка, сонорные звучания, – знаешь, что имеется ввиду? – группы из множества звуков, образующих нечто близкое к аккорду, но не в классическом его понимании, а… звуковой комплекс, кластер. Да. Ты должен знать этот термин. Музыкальная ткань, сначала довольно четкая, постепенно теряет определенность, растекается, но… затем возникает облагораживающее меццо-сопрано. – Отец наслаждался своей речью, мелодекламировал, как бы пропевая, усиливая отдельные слова. – Однако позднее звуковое пространство вновь саморазрушается и… Но ты, наверное, вообще ничего не слушал у Шнитке… – Это уже был не вопрос, но почти утверждение, потому взгляд отца проскользнул мимо глаз сына, оставшись безучастным. Задавая же вопросы по ходу своего размышления вслух, отец кратко делал пренебрежительное лицо, приподнимал брови, взгляд его на секунды становился жестким.
Мальчик слушал, однако интерес его был направлен не к произведению, о котором говорил отец, но к самому отцу, в очередной раз удивляющему сына разнообразием и глубиной своих знаний, нынче – в современной музыке, теме далекой от мальчика и загадочной. Сын все-таки пытался вслушиваться в термины и одновременно следил, как отец отсекает острым ножичком от куска телятины маленькие сегменты и, подробно оглядев каждый, отправляет в рот, чтобы сделать множество жевательных движений, прежде чем проглотить разжеванное. Говорящий и одновременно жующий не обращал внимания на то, что сын почти не ест, будто не желая снизить важность ситуации, будто боясь опошлить ее низменным действием. То, что отец одновременно наслаждался своими размышлениями вслух и поеданием мяса, было вполне органично, выглядело не только допустимо, но и достойно. Но жевать в это время самому мальчику казалось фамильярностью, неуважением к теме и к отцу.
После ужина вышли на воздух. Лилии резко усилили благоухание и заполнили им дворик с качающимся среди горьких флоксов мягким диванчиком, в котором разместился отец напротив клетчатых окон и всегда распластанных по старинным стенам ставень. Мальчик стоял неподалеку и ждал, когда отец насладится качелями и решит, что пора спать.
Поднялись в номер, по очереди приняли душ, улеглись в огромную постель, предназначенную для семейных пар. Накрылись каждый своим пододеяльником, по причине жары и духоты пустым, без одеяла внутри. Отец скоро задышал глубоко и шумно, мальчик скатился с массивного ложа, потом по крутой старинной лестнице в столовую и через нее вышел во дворик.
Маленький город размяк, готовый заснуть. Ратушная площадь уже простодушно всхрапывала, не слыша ленивый и сбивчивый отсчет церковных часов. Ночь требовала полного повиновения, опять стараясь, согласно провинциальной традиции, пораньше затемнить улицы. Но лето сопротивлялось: небо на западе оставалось светлым. Короткий мощеный путь мимо очередных нежилых домов, оставленных хозяевами, что разъехались по чужим странам в поисках работы и счастья. И впереди – река, вчера еще отгороженная праздничными торговыми рядами, а теперь широко открытая взору, и чуть правее – неожиданно, монументально нечто невероятное в своей мощи, похожее на многоэтажное здание, белое как лютеранская церковь, чужое. Корабль! «STENA FLAVIA», – прочитал мальчик. И ниже: «LONDON».
Как мог этот великан войти в русло реки? Неужели она такая широкая? Чтобы оглядеть судно, надо было закинуть голову, тогда в поле зрения попали люди, которые перемещались по палубам на разных этажах, скользили вверх-вниз по ступеням открытых лестниц с перилами: маленькие, подвижные фигурки в похожем на игрушку для великанов шести– или семиэтажном заводном механизме.
Мальчику пришлось довольно долго идти вдоль белого массива, и наконец открылось нечто еще более удивительное – торцовая часть корабля оказалась распахнутой и переходила в огромную погрузочную платформу, чудесным образом соединенную с береговой площадью, по которой в эту минуту двигался двухъярусный бус. Желтый, яркий, он, поблескивая в свете уличных фонарей мытыми боками и двумя рядами стекол, миновал дежурных в форменной одежде, занятых беседой, и торжественно въехал в разверстое нутро судна. Мальчик в воображении своем проник в автобус, почувствовал себя там, в полутьме, среди обтянутых велюром комфортабельных кресел, прошел в дальний конец и прилег в глубокое заднее сиденье, приник к высокой спинке; сердце разрывало грудь, то гудело церковным колоколом, то кричало чайкой и падало ниже пяток в пустоту, в космос, где замирало, обращаясь кристаллом, сияло и жгло. Тело сжалось сухим комочком и так, тайным пассажиром, въехал он в брюхо корабля, и дождался отплытия, и пустился в путь.
Здесь, на берегу, его отделяла от транспортного настила крашеная зеленым решетка, что тянулась и тянулась куда-то в ночь и ломала пространство, которое он никак не мог осознать: где кончается берег и начинается настил, и как все это будет выглядеть днем, когда судно уйдет?
– Пришел паром из Германии, – скажут утром.
– Да, на нем прибыла Грета из Травемюнде. Грета Люфт, переводчица драматургии с русского на немецкий.
– А когда этот паром отплывает назад в… Траве… мюнде? – спросит мальчик.
– Судно не отплывает. Отходит! – отрежет отец. – Поезда отправляются, самолеты вылетают, корабли отходят! В твоем возрасте надо это знать.
Беседа за чаем после посещения группой писателей и переводчиков Ливонского замка конца XIII века завилась сначала вокруг самого строения:
– Башня невысока, но служила маяком. А я всегда считала, маяк должен быть очень высоким. Как и пожарная каланча в городе. – Грета поглядывала на отца, обращая вопросы именно к нему, будто заведомо было решено, что он разбирается в теме лучше других. – И в каком веке Вентспилс стал портом? Порт ливонцы строили? Крестоносцы?
Отец заговорил, будто не слыша вопросов:
– Ливонцы… Орден собран из разбитых, понесших большие потери меченосцев в первой половине тринадцатого века и прекратил свое существование в… шестидесятых годах шестнадцатого, в результате ряда поражений, нанесенных войсками Ивана Грозного в ходе Ливонской войны. Ливонцы были не самостоятельны, являясь лишь подразделением Тевтонского ордена. – Казалось, он прочитал все это с какого-то экрана, невидимого остальным, как читают текст с монитора над камерой дикторы телевидения.
Мальчик в восторге и торжестве оглядел компанию. Это его отец – блестящий знаток истории. Он, его сын, находясь здесь, среди людей, внимающих его отцу, может наслаждаться абсолютными его, а значит, и своими победами. Ведь он причастен к этим победам! Как самый близкий человек, как единственный сын, как будущий продолжатель… Высокий всхлип исторгся из горла мальчика, он притворно закашлялся, пытаясь исправить мгновение.
– Почему в России орден германских рыцарей называют Тевтонским?! У нас говорят Орден Германских Рыцарей, и все! – поспешила загладить неловкость Грета, специально надавливая на каждое слово.
– Тевтоны – общее название древнегерманских народов, – звучало по-прежнему безучастно. – Вам, немке, Грета, это должно быть известно.
Грета улыбнулась, продемонстрировав, что вовсе не обиделась и продолжила, вновь обращаясь к эрудиту, явно стараясь удержать его внимание.
– Так что о тевтонах?.. Или тевтонцах – как правильнее по-русски?
– Ну, орден вообще-то не очень интересный. Что, например, известно о занятиях тевтонцев магией или алхимией? А вот тамплиеры, – попытался перелить беседу в иное русло владелец богатой шевелюры и пока еще опрятного, очень круглого брюшка, поглядывая то на одну юную особу в блеклом платьице, то на трех других, со столь же блеклыми личиками. – Вообще средневековая Европа, конечно, славна своими познаниями в колдовских делах.
Будто отвечая кому-то иному, через губу, нехотя, отец проговорил:
– В колдовских делах? Терминология сказочных историй. Надо сказать, в этом направлении страны юной религии преуспели больше Европы. Впрочем, где грань между ученостью и сказкой? – Отец не смотрел в сторону собеседника.
– Под «юной религией» вы подразумеваете ислам? – старался продемонстрировать свою осведомленность седовласый, имени которого не знали ни сын, ни отец, а может быть, и другие постояльцы, кроме четырех, сопровождавших его длиннотелых девиц, похожих, как казалось мальчику, на сваренные макаронины.
Отец продолжал, будто не замечая вопроса, и речь его походила более на лекцию, чем на ни к чему не обязывающую болтовню за чаем:
– Средневековая культура Арабского Востока сохранила и передала в будущее многие научные достижения Античности. Видите ли, их территории в период раннего Средневековья колоссальны: Палестина, Сирия, Месопотамия, Египет и Иран, Пиренейский полуостров, Закавказье и Средняя Азия до границ Индии. Богатые города на всей этой территории становились центрами учености.
Барышни переглядывались и неопределенно подергивали губами. Рассматривая стены, дула в горячую чашку Грета. Встретившись глазами с отцом, вдруг защебетала:
– Ах, какую интересную тему мы затронули! – Губы Греты кокетливо складывались трубочкой на каждом «о» и «у». – Да! И крестоносцы, в частности тамплиеры… все-таки, скорее всего, именно они привезли в Европу эти знания, не могли же они во время Крестовых походов пройти мимо алхимических поисков восточных ученых!
Седовласый просительно глянул на блеклую барышню, протягивая ей пустую чашку.
– Кипяток закончился, – пропела та.
Седовласый поднялся и проговорил специальным шепотом, поглядывая поочередно на каждую из четырех дев:
– Пойдемте-ка, организуем еще чаю, никому не мешая.
Под этим благовидным предлогом квинтет удалился в кухонный отсек, а оттуда – прочь.
– Утверждения о занятиях алхимией в среде тамплиеров связаны с действиями Филиппа IV. Предположительно, он желал завладеть деньгами монахов-ростовщиков. Всем известно, что именно тамплиеры, «нищие рыцари», основали банковское дело, стали первыми банкирами, – не обращая никакого внимания на перемещения и посмеиваясь, продолжал, будто по писанному, оратор. – Король обвинил храмовников в ереси, в занятиях той самой магиеи и алхимиеи, устроил образцово-показательное судилище, потребовал пытать-казнить и в результате разогнал и запретил орден. Но никаких существенных данных о том, что кто-то из тамплиеров действительно занимался алхимией, нет. Алхимия и астрология на Востоке позиционировались как высокое философское знание. Чтобы погрузиться в него, необходимо было читать философско-теургические тексты, но крестоносцы не владели в должной мере арабским.
– Ну почему обязательно тексты?! Может, они учились у магов… на практических опытах, – с сильным латышским акцентом произнес миловидный молодой человек лет двадцати, сидевший за столом напротив мальчика.
– И как вы себе это представляете? – парировал отец. – Общение же должно было как-то осуществляться, серьезное знание языка, специфических терминов было необходимо. А его не было. Откуда? Шли пилигримы, воевали, терпели нужду, лишения, гибли. Ну, какие-то бытовые, обиходные фразы цепляли, разумеется, но не более того. Нет, крестовые походы существенной роли здесь не сыграли. Алхимия, вкупе с астрологией, физиогномикой, прочими «науками», с огромным количеством философских текстов была перенесена на Запад в великую эпоху переводов через Южную Италию и Испанию, – продолжал блистать эрудицией отец. – Об этом можно почитать уйму литературы, но, к сожалению, практически ничего по-русски. На французском, английском – пожалуйста. На немецком тоже, – кивнул он в сторону Греты.
– Но почему-то же многие утверждают, что тамплиеры успешно занимались поиском философского камня, а быть может, и нашли его. Нет, какой-то дым без огня получается, – упорствовал молодой человек.
Мальчик нахмурился, ему казались пустыми и неучтивыми по отношению к знатоку замечания молодого человека.
– Ну, для некоторых ничто не является доводом. Вы, молодой человек, просто Фома неверующий, – произнесла Грета почти без акцента и демонстрируя незаурядное умение грамотно строить фразу.
– Повторюсь: настоящая алхимия невозможна была без переводов авторитетных арабских текстов на латынь, – вмешался отец.
– Но вот мне всё же кажется… ну, как-то напрашивается вопрос: что здесь противоречит тому, что тамплиеры-розенкрейцеры владели особыми знаниями? – вновь попыталась заглянуть в глаза оратору Грета.
– Во-первых, нельзя смешивать тамплиеров с розенкрейцерами и масонами, – оставался невозмутимым отец. – Тамплиеры были всего лишь одним из монашеских орденов. Розенкрейцеры и масоны же своего рода носители тайных, мистических знаний, в основе которых множество действительно магических, герметических элементов. Им известно намного больше источников, чем монахам Средневековья.
– Но ведь есть мнение, что именно уцелевшие тамплиеры учредили впоследствии орден Розы и Креста. Вот отсюда и преемственность знаний. Тамплиеры могли владеть тайной. Возможно, благодаря этому и стали наиболее богатым орденом, таким богатым, что король решил их уничтожить, чтобы присвоить себе их накопления. Тут есть над чем подумать, – начинала нервничать Грета, но мальчик в очередной раз отметил, что она говорит по-русски так, словно прожила в России долгие годы.
– Дело всего лишь в том, что миф о тамплиерах хорошо продается. А вообще этот пресловутый списочек – храмовники, Христиан Розенкрейц, Джон Ди, Парацельс, Сен-Жермен… ну, в зубах же навязло, друзья! – отец криво улыбался.
– Нисколько не спорю. И позволю себе прибавить, что не следует забывать о дервишах. Нищие суфии слывут… и есть источники, в которых за ними утверждаются магические умения, – низко прозвучал голос человека неопределенного возраста с длинными редеющими волосами, собранными на затылке в косицу, до этого молча занимавшего кресло в углу. – Адепты сего мистического течения учили, что путем самоотречения и аскетических подвигов человек может добиться непосредственного общения с Богом.
– Ну да, достижение просветления путем верчения юлой, – сыронизировал молодой латыш.
Обладатель мягкого баса сделал паузу, глянул на европейца и с улыбкой продолжил:
– Густав Лебон в своей «Истории арабской цивилизации», она есть, кстати, в переводе на русский, доказывает почти исключительную роль арабской культуры в просвещении полуварварской средневековой Европы. Да, как ни удивительно звучит это для кого-то, по его мнению, именно арабам обязана она своим расцветом. Во времена Фирдоуси, Авиценны, Хайяма европейские рыцари часто не владели элементарным чтением и письмом. Монахи, считавшиеся просвещенными, занимались в монастырях переписыванием на латыни богословских текстов, не более. Но пошел арабский интеллектуальный транзит через Испанию, Сицилию, юг Италии, позднее через торговые связи с Венецией и Генуей. Вот она, «эпоха великих переводов». В арабском Толедо была наконец организована коллегия по масштабному переводу восточных трудов на латынь. С этим трудно спорить. И, кстати, о розенкрейцерах: в конце XVIII века ими были учреждены новые ответвления организации, одно из них – орден азиатских братьев, созданный представителями Семи церквей в Азии. В этот орден впервые были приглашены мусульмане и иудеи.
– Смелые утверждения. Но мы отвлеклись от алхимии, – недовольно вставил молодой человек.
– Нам пора, – резко встал и одновременно приподнял за локоть мальчика отец.
– Но, может быть, юноше интересно послушать дальше? – бас звучал мягко и уверенно.
Отец оставил вопрос без ответа и, пропуская сына впереди себя, холодно попрощался и покинул компанию.
– Тебе нечего было делать за столом сегодня. Сначала надо научиться читать научные труды и запоминать из них хоть что-то, а потом позволять себе слушать беседы подкованных в теме взрослых людей. Не устаю поражаться стойкости генетических промахов. Ты не развиваешься. Ты ничего не взял от меня, зато все от своей покойной матери. Всё, включая женственность! Посмотри на себя, ты, взрослый парень, похож, скорее, на кисейную барышню, чем на мужчину. Где мышцы? Хорошо, не качаешь мускулы, тренируй мозги! Так нет же, твои знания равны нулю! Абсолютному нулю! Что ты по-настоящему знаешь из истории, из естествознания, из философии? Ни-че-го!
Мальчик молчал, как уже привык в такие минуты. Отец распалялся, бледнел, растворялся и цвет его серо-голубых глаз, становясь все более светлым, тускнея и размываясь. Его почти белые губы кривились в очертаниях обидных, больных слов, которых с определенного момента мальчик уже не слышал. Он только видел движения рта, потерявшего звук, немые корчи, которые желал прекратить и для того закрыл глаза.
Отец не позвал никого на помощь, как и не обратился позже к врачу, он перетащил легкое тело на постель, побрызгал водой лицо, дождался, когда мальчик оправится, и спросил:
– В интернате с тобой такое часто бывало? Почему меня не предупредили об этом? Почему ты сам молчал?
Мальчик хотел было сказать правду, что такое с ним впервые, что прежде он не испытывал ни таких надежд, ни такого страха и потому для обмороков в его привычной подростковой жизни не было поводов, но что он больше всего на свете не желает возвращаться в эту свою бывшую безмятежную, но лишенную обретенной теперь любви жизнь. Ему хотелось броситься к отцу на шею, закричать, как невыразимо много тот для него значит, как важно, как необходимо ему все, что связано теперь в его жизни с отцом, как не может он себе представить теперь себя без этого удивительного, невероятного человека. Он хотел просить прощения за свой дурацкий, предательский обморок, обещать, что этого больше никогда не повторится, как бы строг и даже резок по отношению к нему ни был отец. Но ему показалось это неуместным, и он лишь пожал плечами, поднимаясь на ноги.
В один из дней на причале возник синий паром по имени «Scotish Viking», показавшийся мальчику ниже и проще того, ночного, волшебного, белого. Он рассмотрел перекидной настил, по которому двигались внутрь «Викинга» трейлеры, и мощный трос, зацепившийся за чугунный кнехт, и площадь, где стояли в очереди на погрузку остальные фуры. При дневном свете все было просто, понятно и вызывало грусть. Берлинка Грета подробно рассказала мальчику утром о двух паромах, что заходят в местный порт, и о том, что в свое время она четырнадцать лет жила в Ленинграде, была замужем за русским бизнесменом, но потом они расстались, и она вернулась в Германию к своим взрослым уже дочерям от первого брака. Поведала она все это, не вытягивая в пикантную трубочку губы на каждом «о» и «у», как это делала при отце. Она торопливо угощала подопечного пирожным и персиком, поглядывая на входную дверь, боясь, видимо, не успеть до прихода отца пригласить мальчика к обеду на свой фирменный суп.
– Я передам ваше приглашение папе. Спасибо.
– Да, да, конечно, папе… Но я уж и не знаю, примет ли он мое приглашение… Твой папа – такой… самодостаточный человек, такой… глубокий и… красивый. Да, красивый. Но, мне кажется, он равнодушен к чьему-либо обществу, во всяком случае, к моему, – расстроилась, поняв свою оплошность, Грета.
Теперь мальчик торопился к обеду, потому что Грета успела пригласить на обед отца, тот согласился, и все уладилось. В большой общей столовой она весело хозяйничала, играла глазами и что-то щебетала о мечтанном путешествии в Италию.
– Раз собираетесь в Рим, еще один шедевр Возрождения необходимо увидеть обязательно: в церкви Сан-Агостиньо, – медленно неся ложку с небольшим количеством супа ко рту, вещал отец. – Многие заходят в эту церковь, чтобы посмотреть «Мадонну пилигримов» Караваджо, более глубокие зрители смотрят, конечно, и Рафаэлевского «Пророка Илию»: шедевр размещен прямо над скульптурой Мадонны с младенцем и святой Анной работы Якопо Сансовино. – Отец нырнул голосом, педалируя на имени: – И надо посмотреть, что называется, живьем, так как на фото, коих, разумеется, много в Интернете, невозможно передать мягкого сияния ее простоты. «Мадонна дель Парто»! – Пустая ложка аккуратно вплыла в содержимое тарелки. – В народе популярна легенда, что Якопо Сансовино делал свою композицию с изображений матери Нерона Агриппины и самого Нерона в младенчестве, – ложка красиво, под нужным углом, вошла в рот и тут же вернулась пустой, – поэтому туристам прежде всего это и рассказывают, если вообще подводят к этому шедевру. Но это всего лишь миф, которым развлекают профанов, а ценителей искусства поражает мастерство.
Глаза Греты, изначально пораженно распахнутые, направлены были теперь на мальчика, который, проглотив немного супа, сложил руки на коленях и внимательно слушал отца. Ей казалось, что мальчик старательно запоминает каждое его слово, будто ему предстоит сдавать важный и очень сложный экзамен. Вопрос зрел в ней и вырвался тяжело и неуклюже:
– А ваш сын… он видел эту скульптуру? – Грета повернулась к мальчику: – Ты видел эту знаменитую Мадонну с младенцем?
– Мой сын рано лишился матери и воспитывался в специализированном интернате с углубленным изучением нескольких предметов, на который я возлагал много надежд, однако, – отец приостановился, приложил салфетку поочередно к левому и правому уголкам губ, – я не совсем доволен… В честь его четырнадцатилетия я взял его с собой в эту поездку, в этот милый европейский городок… С чего-то надо начинать…
– Папа, я бы очень хотел увидеть Мадонну с младенцем. – Мальчик резким движением закрыл рот рукой. Но было поздно. Отец поднялся, медленно, будто стараясь делать это бесшумно, приподнял одной рукой стул, отставил его, выпрямился, поднял подбородок и молча покинул столовую. Лишь на секунду замешкался мальчик, чувствуя на себе пораженный взгляд Греты, и поспешил за ледяной спиной отца…
В своих апартаментах отец выкурил ароматную трубку, положив голые локти на широкий подоконник почти квадратного распахнутого в сторону площади окна. Выпуская пушистые струи дыма, он рассматривал церковь Святого Николая, пекущуюся на солнце необычно жаркого в Прибалтике лета, её портик с высокими колоннами, треугольник фронтона в классическом стиле и круглую башню, забранную деревянными рамами окон. Сын стоял у стены за спиной отца, чуть правее, и молча ждал назиданий. Он предполагал, что отец может сейчас взорваться, кричать, дойти до прямых оскорблений, но готов был вынести что угодно, только бы оставаться рядом, только бы ничего не менялось. Зной комфортно расположился внутри комнат, разлегся на трехступенчатом ложе, king-size-матрасе, что покоился на массивном постаменте, зной разрастался и, казалось, потрескивал и дымился. Отцу не мешало это обстоятельство клубиться своими дымами, оставаясь сухим, в своей поджарости и неизменной личной прохладе. Сын любовался им, подтянутым и строгим.
Отец заговорил как-то внезапно, осадив жару, привнеся в нее сухой лед интонаций:
– Я бы хотел вернуться к разговору об алхимии. Нет-нет, не о рыцарских орденах, не об арабских истоках знаний – все это болтология, высказывания дилетантов, не представляющие лично для меня никакого интереса. Я о другом. Вот, нашел книжицу на развале, репринтное издание, знаешь, на ловца и зверь бежит. Весьма, скажу тебе, интересно. Перевожу на ходу с французского: «Алхимическую эволюцию… можно выразить кратко формулой Solve el Coagula, что означает: анализируй… все элементы… в самом себе, раствори все… низменное в тебе, даже если при этом ты можешь погибнуть, а затем… концентрируйся с помощью энергии, полученной от предыдущей процедуры». – Отец переводил бегло, лишь изредка приостанавливаясь, но не произнося лишних э-э-э или м-м-м, как это делают в таких случаях другие. – Тебе понятно? Я продолжу. «В дополнение к этой… своеобразной символике… алхимию… можно рассматривать как образец всех других дел. Она показывает, что добродетели можно культивировать при любых, даже… простейших видах деятельности и что душа… укрепляется, а индивид развивается». Понимаешь ли ты? Возможно и необходимо «культивировать добродетели», то есть развиваться, совершенствоваться. И далее: «Наша работа представляет собой… трансформацию и… превращение одного существа в другое, одной вещи в другую, слабости в силу, телесной природы в духовную». – Было понятно, что отец не в первый раз переводит эту фразу, не в первый раз произносит ее, так уверенно и торжественно звучало утверждение.
Мальчик увидел отца облаченным в темную мантию перед кафедрой и тут же – среди реторт в подвальном помещении со сводчатыми потолками, он любовался этим видением, любовался своим отцом-магом и боялся потерять эту иллюзию.
– Конечно, каждый волен трактовать сие по-своему, но с тем, что речь идет об углублении и расширении знаний и умений, ты согласен? – Отец взглянул наконец на мальчика.
– Мне кажется, – решился ответить тот, – мне кажется… – он восхищенно глядел в глаза отца, сияющие ясным огнем над мантией, в лицо, которое он видел сейчас сквозь сизые дымы алхимической лаборатории, – что… – мальчик запнулся, потому что монолог отца продолжился:
– Но у тебя есть перед глазами пример. Твой отец начинал с нуля. У него не было достойного примера. Всё сам. Всё трудом и прилежностью. Всё силой воли. Self-made-man. Ты хоть немного понимаешь по-английски?! Тебе известно это выражение? Теперь я знаток в разнообразных сферах, автор многих книг по культурологии… впрочем, о себе более ни слова. Сейчас речь о тебе. Я бы хотел направить тебя на четкий путь саморазвития, чтобы, когда ты вернешься в интернат… – Мальчик замер. – Когда ты вернешься в интернат, – повторил отец, – то есть уже через три недели, ты взялся за ум. Надо не просто хорошо учиться, необходимо каждую минуту тратить разумно. Если ты совершенно равнодушен к физическим занятиям…
Мальчик открыл рот, чтобы защититься, сломать недобрый замысел, повернуть ситуацию вспять: рассказать наконец отцу об успехах в спортивной гимнастике, о своем тренере, о победах в соревнованиях, о математической олимпиаде, о переписке на английском, но опять не сумел.
– Ладно, не интересна тебе физическая культура, – все повышал голос отец, – развивайся интеллектуально. Но вот так попусту терять время! Я не понимаю! Хорошо еще, что у вас там доступ к компьютеру строго ограничен.
Далее мальчик опять почти уже не слышал отца. Не потому, что не слушал, а потому что не мог слышать, как ни старался. Подтверждение его страхов, потеря главной надежды, ощущение гибели смысла существования обратились в вой, в ропот, в гул, заполнивший его уши, голову, все его тело, превращенное теперь в мощный резонатор, приспособленный трудолюбиво усиливать звук, и казалось, этот грохот прорывается через поры его организма в комнату и распространяется дальше, сквозь стены – на площадь, в улицы, до реки, которая вынуждена нести его к морю. Этот полновесный вопль боли был поддержан криком чаек, надсадным, похожим теперь на лай мелких, многочисленных собак. Потом наступила тишина.
Без семи минут девять каждое воскресенье городской звонарь поднимается на самый верх церкви Святого Николая, в круглую башенку, хранящую внутри себя колокол, чей крепкий спокойный баритон пару веков неизменно поет для города. Звонарь распахивает окна на все стороны. Ставни стары, поскрипывают, белая краска отшелушивается под рукой. Звонарь прячет голову в круглые наушники для предохранения от сильного звука и спускается несколькими пролетами ниже, к веревкам – продолжению колоколова языка.
В это утро в девять ноль-ноль мальчик шагнул в церковь и шмыгнул направо к лестнице. Кто-то из прихожан глянул ему вслед, но не обеспокоился, решив, что это сын звонаря. Как ни торопился, мальчик задержался на ступеньках, сосредоточил внимание на изображении Христа в противоположном конце, силясь рассмотреть черты лица Спасителя, но так и не сумел этого сделать – Иисус запрокинул мокрые кудри, только сизые грудь и бедра опять поразили объемностью. Считая удары колокола, мальчик двигался ближе к гудению, тяжелому, бесконечному. Казалось, он уже насчитал 100 ударов, но, все еще продолжая подъем, боковым зрением схватил, теперь уже ниже себя, звонаря в наушниках, тот в слепом упоении качал язык колокола, мотался, слившись с ним через веревку всем сухим, жилистым организмом. Мальчик приостановился на миг, вдохнул переполненного звуком воздуха, двинулся выше. На последней площадке перегнулся через перила, глянул вниз и встретился наконец с глазами Иисуса, глядевшего вверх со стены. Теперь голова оказалась на первом плане: только отсюда, с высоты, можно было познать силу этого взгляда, только здесь открывалась тайна ракурса. Теперь взгляд Бога был направлен прямо на мальчика, к нему были обращены эти чуть сведенные брови, тень улыбки, нежный подбородок, впалые щеки, лучики морщинок в уголках век. Страдание и радость выражал этот живой лик, направивший всю силу взора на мальчика, и тот ускорил шаги – на самый верх, в башню, в грохот и вой, втиснулся внутрь, сел на подоконник разверстого в небо окна. Он знал заранее: по периметру площадки вокруг башни – невысокое металлическое ограждение, выкрашенное в черный цвет, вот оно, совсем рядом. Ограда не примыкает к краю крыши, есть отступ. Мальчик перекидывает ноги через ограду: одна ступня на краю крыши, другая, руки за спиной вцепились в металлическую перекладину. Далеко внизу, вопреки привычной пустоте города – воскресная группа людей – туристы и экскурсовод в прямоугольнике жаркой тени под стенами Дома писателей; в распахнутом наружу окне второго этажа внутри терракота черепичного ската – курящий трубку отец прищурился, наверное, от солнца; ниже – цветы на продолговатых клумбах (отец называл их имена, сын запомнил: свечи пушистых голубых колокольцев – дельфиниумы); из высокой деревянной двери (мальчику кажется, что он слышит, как она скрипнула) выходят добрая Грета и тот, с косицей, что говорит мягким басом и знает, наверное, больше отца. За ними, но сразу из двери свернув в противоположную сторону, скачет молодой латыш. Грета не отрывает глаз от своего собеседника, что-то щебечет, вытягивая трубочкой губы, с ее пути грузно поднимается чайка и уходит вверх – в колокольный рокот.
Мальчик отпускает руки и летит. Вниз.
9 (продолжение).
Где-то далеко, в Европе, впились в низкое небо голые кроны дерев, заскорузла подо льдом сжавшая их корни земля, неестественно удлинились ночи, оставляя свету совсем недолгие часы. А здесь неизменно светало и темнело, неизменно длилась жара, откатывалось и наступало море, запоздало проливались дожди, месяц имел осеннее имя, но никак не соответствовал привычному его значению.
В ночь двенадцатого полнолуния входит и поселяется в ней огненный праздник Лой Кратонг.
Эти сумерки столь же коротки, как все предыдущие, а может, еще короче, и к своим шести часам день растворяется в ночи, которая, пожирая вечер, не открывает обещанную луну, прячет ее в кучевой плотности облаков, за занавесом, в черных кулисах и глубинах своего магического театра, скупится и ревнует к людям. Отлив открывает пока только метр темно-желтого песка, море отползает на восток осторожно, не торопится, временами притихает и даже, кажется, останавливается в своем незаметном движении. Метр мокрого, оставленного прибоем песка плотен, надежен для шага. Под фонарями мощностью концертных прожекторов, забирающими у ночи широкие пространства берега, песок обретает глинисто-оранжевый оттенок, кое-где коричневея тонкими бороздками сбегающих вниз, зигзагообразных, уже покинутых водой ручейковых русл. Берег кишит людьми. Он полон как всегда жующими и кое-где танцующими тайцами, вперемешку с фарангами, копошащимися у своих белых пузырей, которые вот-вот должны взлететь, озаренные огнем изнутри. Местные делятся на две части – тех, кто изготавливает кратонги, торгует ими, а потом совершает обряд, и тех, кто покупает кратонги, не утруждая себя их изготовлением. Веселятся все. Первые, чуя добычу: торговля идет хорошо и, кажется, тысячи корзин и корзиночек с кольцом из ствола бананового дерева в основании и конвертиками, розами и чешуйками, смастеренными из листьев банана – поверху, будут распроданы к середине ночи. Вторые, расположившись на пляже или вблизи от него, на вымощенных плиткой тротуарах, сидя на циновках вкруг переполненных пластиковых тарелок и коробков, вкушают яства, бесконечно приготавливаемые и развозимые вдоль длинной-предлинной Бич-роуд макашницами. Тайцы запивают обильную еду спиртным, говорят и смеются, сидя прямо на пути у толп туристов, вынужденных вываливаться на проезжую часть, прямо под фары джипов, байков, тук-туков. Тут же, теснясь к плотному ряду припаркованных открытых стареньких пикапчиков, под постоянной угрозой быть задетыми шальными мотобайкерами движется вереница все прибывающих тайцев. Толпа ширится и густеет. Прилавки по обеим сторонам и без того узкого тротуара, не успев освободиться от одной партии кратонгов, наполняются новым душистым товаром. Корзинки круглые и в виде лодок, в основе укрепленные легкой скорлупой недозревшего кокоса, и даже нововведенные, в форме сердец, – полны цветов и их имитацией. Дорогие брызжут яркими чернилами и белизной орхидей, подешевле – скрученными из кукурузного листа бутонами роз, гвоздиками, юбочками, кольцами, четырехгранными сегментами оборок. Свернутые из банановых и иных пальмовых листьев, жестких и сочных, остроконечные трубочки и пики венчаются мелким белым цветением. Внутренности корзин полны легкого мха, дробных соцветий, шафрановых бархатцев, прорастают палочками ароматных курений и свечей. Приобретенные крошечные мисочки и богатые ладьи, несомые обладателями, движутся к воде. Поджигается свечка, запаливается, вьется дымком щепочка, – кратонг, кораблик, лодочка из листьев, дань Будде, чудесный очиститель судьбы должен уплыть в ночной воде за линию видимости, унося с собой грех злобы и зависти, гордыни и равнодушия. Можно положить вглубь емкости между цветами прядку собственных волос или отрезанный кусочек ноготка и кораблик унесет печаль и невезенье. Если же опустить на дно кратонга, рядом с курениями и свечкой пару монет, будет тебе богатство. Эти действия почти противоречат буддийскому правилу, но народ творит свои обычаи, свою внутреннюю религию желаний, чаяний и надежд.
Сотни или тысячи тысяч корабликов уйдут сегодня в ненадежное плавание, в короткий дрейф вместе с отливом и в половине случаев вернутся наутро, прибитой к берегу распотрошенной вчерашней радостью. Покатятся по песку диски – срезы ствола бананового дерева с рисунком закрученной спирали годовых приростов по желтому полю, разграфленному на полные соком и морской водой сегменты. Захламят линию прибоя развернувшиеся, потерявшие форму и опрятность вчерашние украшения из листьев, бесчисленные лепестки цветов испачкают берег все еще яркими красками.
Пока никто не думает о завтрашнем утре. Сейчас надо войти в воду поглубже и осторожно опустить на самую нежную и маленькую волну свой кратонг. Бесполезно отправлять его в путь, не войдя в воду. Он тут же вернется к суше, опрокинутый на бок и попросит повторить действие. Нет. Необходимо умение и выдержка, чтобы терпеливо, медленно погрузить донышко в воду, осторожно толкнуть круглое судно вперед, так чтобы брызги и пена не попали на дымящееся курение, не загасили свечи. Он поплывет, колыхаемый встречной волной, постепенно пропитываясь влагой и солью. Он должен двигаться вглубь от тебя, в простор залива, на выход, в иные пространства во имя Будды. Он уходит под то и дело возобновляемые залпы фейерверков и петард, в дыму, плывущем над берегом и небольшой полосой воды. Дальше – чисто. Там ему будет вольготно. Там он должен встретиться с луной, которая до времени не открывается, бережет силы, готовит торжественное свое появление среди напряженности ожидания.
Пожилая тайка, ровная спина, седая стрижка, боясь замочить цветные брючки, останавливается у кромки, ждет очередного подступа воды, держа свой горящий и дымящийся кратонг на выдвинутых вперед руках. В надежде на участливую волну она наклоняется и опускает ношу. Но вода за секунду до окончания ее движения повернула вспять, сбежала. Кратонг, слегка накренившись, лег на мокрый песок. Мальчишка лет семи шустро подпрыгнул к старухе, с вопросом заглянул в глаза, получил в ответ морщинистую неуверенную улыбку и в одной торжественно вытянутой руке со своим, в другой – с только что подобранным с песка дымящимся кратонгом ринулся вперед, подальше, за уже совсем близкую мель, которая вот-вот откроется, покинутая отливом.
В то время как севернее, над центральными пляжами, собирается огненное облако – летучая стая фонарей, отправленных в путь над морем, мальчишка еще много раз вернется, пробираясь между другими входящими в воду детьми и взрослыми, поблескивая смоляной шевелюрой, темным тельцем и прилипшими к ногам мокрыми бриджами, чтобы отправить в путь неудачно запущенные и прибитые длинной волной к берегу чужие кратонги. Он осознаёт, что вместе со всеми свершает магический ритуал, служит духу Матери Воды, в надежде воплотить и свои детские мечты, отправляя в плаванье волшебные кораблики.
Море еще дальше отползло от широко распластавшегося теперь берегового песка. Мальчишка преодолевает добрую сотню обратных метров, несется к товарищам, которые вот-вот подожгут горючий диск еще не ожившего фонаря. Младшим такого серьезного дела не доверяют. Солидный подросток позволяет малышне только придерживать белый пузырь по краям. Огонек спрыгивает с края зажигалки на фитиль, фонарь обретает жизнь, пламя крепнет, наполняет теплом полупрозрачную емкость, теперь нужно выровнять легкую конструкцию и, действуя так же медленно и внимательно, как и в деле с кратонгом, запустить фонарик в небо. Здесь и там нужна сноровка, навык терпения, чувство баланса. Фаранги прибегают к помощи тайцев. Услуга входит в цену фонаря, до времени лежащего вместе с сотней других, разных размеров, в огромном пластиковом мешке. Торговец позволит фарангу подержаться с краю за фонарь, почувствовать свою причастность к действию, но будет налаживать ход светляка сам, иначе все может закончиться, не начавшись: фонарь накренится в полутора метрах от земли, сомнется, свернется в неопрятный кулек и, загоревшись, косо повалится и быстро обуглится на песке, оставив после себя печаль по неисполненному желанию и тонкий металлический ободок. В руках торговца фонарь, покапризничав и поколебавшись, раздувается, становится гладким, наполняется ровным сиянием и медленно плывет в сторону воды и вверх, присоединяясь к разрастающейся стае братьев, что идет с противоположного края города, и волею неощутимого ветра движется на юго-восток, заполняя собой глубокий и темный небосвод. А там, в стороне, откуда светляки в великом множестве своем являются, чернота заполнена бесчисленными точками все новых и новых огней.
Песня о плывущей травяной лодочке в разных вариациях, от детских версий до рок-обработок бесконечным повтором заполняет уши вместе с привычными уже бабаханьями, шипением, свистом и визгом пиротехники.
Народ прибывает, вода отступает. Волны в глубокой темноте вытягиваются в длину, истончаются, раскидывают свои объятья, протяжно подкатывают к новому берегу и, принимая подношения, стараясь не загасить огня, уносят кратонги прочь. Рядами и островками мерцают огни среди шевеления воды. Живой залив дышит огненно снизу и сверху: высоко, но ниже облачных заслонов, движется армада пылающих фонарей, не имея начала и конца. Небо и море путаются, меняясь огнями, текут друг в друга, всё более разгораясь и мороча людей, добавляющих сумятицы фейерверком.
Празднование достигает апогея. Небосвод освобождается от ненужных теперь облаков. Пространство расширяется, обретает глубокий бархатный синий цвет, и на его фоне торжественно являет себя полная, без изъяна, идеально правильная луна. Она царственно зияет теперь отверстием внутрь мироздания, в верхнюю бездну, открывшую свой круглый сияющий вход. Опрокинутый туннель сияет холодным магнетическим светом над людьми и морем, над надеждами, упованиями, верой, безверием и снова надеждой, над стихиями и роком, над кармой человечества.
Одиночество в праздничной толпе может быть прочувствовано на Лой Кратонге в полной, исчерпывающей мере. Обостряется оно присутствием рядом особого единения людей внутри каждой отдельной группы. Соединенные семьей, поджигают и отправляют они в небо свой фонарик, окруженный тайной желания, загаданного и ожидаемого вместе. Одинокому человеку не с кем разделить свои ожидания чуда и в этом особая острота отчужденности.
В этот вечер Старик ушел домой, извинившись, раньше восьми, не более чем через час, как стемнело, и я осталась в празднике одна. Только после десяти я решила набрать номер Нари.
10.
Она приехала в этот раз на красном «Ярисе» и повезла меня в торгово-развлекательный центр «Фестивальный» угощать суши в японском ресторане. Мне показалась она похудевшей, более подтянутой и ладной. Волосы ее были гладко зачесаны и собраны в узел, что ей очень шло. Она почти ничего не ела – «Боюсь растерять достижения: сидела на диете», – но мне радушно предлагала попробовать то одно, то другое. Потом мы перебрались в европейское кафе на третьем этаже и выпили коньяку и кофе. Беседа не очень клеилась. То, что Нари не испытывает особой любви к Москве, что учиться в главном универе России для нее было дорого, что друзей она там так и не завела, а на преподавателей обижалась за отсутствие должного внимания, повторено было неоднократно.
– Понимаете, я голодала. Мои родители больше были обеспокоены судьбой брата, и меня не спешили поддерживать материально. Но перед соседями делали вид: отправляли посылки с лапшой.
– Но если вам лично так не понравилось в Москве, почему же младшие не остались учиться в Таиланде? – недоумевала я.
– Знаете, тут был такой человек, он хорошо рекламировал русское образование, оформлял необходимые документы… Это его бизнес. Родители его мнению очень доверяли.
– Он что, русский?
– Нет, таец.
– Ничего не понимаю! Но почему именно Россия? – задав вопрос, я вдруг осознала верный ответ, который, разумеется, не получила бы от Нари: русскоязычные туристы – сейчас основной хлеб курортов Таиланда. Да-да, наплыв соотечественников столь бурно увеличивается, что тайцы, владеющие русским, получают неограниченные возможности заработков. Сфера туризма – безбедное существование. А риелторский бизнес, юридические услуги! Это же непочатый край работы для переводчика. Ярослав рассказывал, а здесь все подтвердилось: русские скупают в Тайе береговую недвижимость, как голодные, несмотря на отсутствие каких-либо льгот в получении вида на жительство или права на землю, несмотря на необходимость ежемесячного продления визы и кучи других минусов! Притяжение тепла. Обилие солнца, близость залива, экзотика – русские очумели от непривычного. Завершает выбор низкая цена на недвижимость. В Европе зима прохладная, даже в Испании и на Крите она есть. А здесь – никогда! Камбоджа еще не оправилась от «красных» последствий, во Вьетнаме климат слишком влажный, гнилой, в Мьянме вообще кошмарная политическая ситуация, в других странах Тихого океана – свои заморочки, вот и ринулся русский народец, тот, что с каким-то достатком, в благословенный Тай. Родители Нари были дальновидны. Больше вопросов я не задавала.
Нари смотрела на меня заботливыми миндалевидными, цвета горького шоколада глазами, видела, что мне грустно и не знала, что предпринять.
– Хотите еще коньяку? Я вполне платежеспособна. Правда, для этого вкалываю как лошадь.
– Столько работы в Храме Истины?
– О, нет, не только! Я перевожу на русский и обратно документацию, делаю синхронный перевод встреч, сотрудничаю с мэрией, полицией, с частными компаниями по продаже недвижимости, и еще бог знает что!
Я улыбнулась тому, что так правильно оценила ситуацию раньше ее слов.
– А хотите, я познакомлю вас с мальчиками из бой-тауна и с катоями Walking street? Они занятные. Едем?
Я согласилась.
Мальчики, предназначенные развлекать мужчин, гибкие, миловидные, хрупкие в кости, пританцовывали куда пластичнее подавляющего большинства девочек на продажу. Их стрижки и укладки упругих густых шевелюр удивляли разнообразием и фантазией линий, смелостью находок и возможностями парикмахеров в работе с азиатскими волосами.
– У тайцев волосы растут, где надо: почти нигде на теле, но все – на голове, – тон Нари, как обычно, был несколько безапелляционным. Зеркальная гладкость рук и ног, шелковость живота и груди, действительно является нежным качеством жителей Тайя всех полов, которых, как известно, здесь не два, как положено, а больше.
Мальчики крутились, юлили, все как один обтянутые узкими брючками, короткими трикотажными облипками или безрукавыми рубашками с кокетливо приподнятыми воротничками. Бои-геи не гнушались предлагать массаж и женщинам, случайно или из любопытства забредшим в их вотчину, в их подвижное, небезопасное царство. Мы заглянули в два душноватых клуба, где черноголовые, стриженые как для конкурса парикмахеров, гибкие однополые пары предавались свободной любви, исторгая вопли восторга и демонстрируя некоторую пластическую изобретательность. Куда меньшей фантазией обладали разнополые партнеры в клубах соседних переулков, где высшим пилотажем оказалось уложить даму на колени одному из ни в чем не повинных зрителей и приняться за работу, используя вполне правдоподобный муляж гениталий, прячущий внутри себя живую плоть, принадлежащую исполнителю шоу.
Злачные места были похожи одно на другое и шокировали меня только в первые минуты. Потом муляжи, имитация и обыденность происходящего определили все по своим местам, и потребовалось немного алкоголя, чтобы вновь скисшее мое настроение чуть исправилось.
Поход по прокуренным, старательно охлаждаемым шумными кондиционерами стрип-барам, которые безуспешно пытались прятать в потемках свою обшарпанность и неухоженность, завершился посещением знаменитого Х-шоу, еще одного не очень отлаженного, выполняемого с ленцой аттракциона. Полностью обнаженные, полногрудые высокие девушки несколько скованно продефилировали тонкокостной модельной стайкой и неловко потанцевали перед набившимися в затхлый зальчик японцами, китайцами, немцами и русскими, прежде чем неожиданно высвободить и представить на обозрение публики таившиеся до времени, упрятанные, зажатые между бедер мужские гениталии.
Нари восторженно заулыбалась, стиснула мою руку:
– Видишь, видишь?! Вот они! Поняла? – Она не заметила, как перешла на «ты», не скрывала радости человека, делающего невероятный подарок. – Теперь идем, я тебя познакомлю с катоями лично. Здесь, рядом, в двух шагах.
На высоком «стакане», круглом постаменте с блестящим шестом посредине, держась за него, пританцовывали, покрикивали, приветственно махали руками красивые, упакованные в яркий макияж и откровенные одежды катои. Еще стайка активно привлекала к себе внимание, перемещаясь по площадке перед баром. Глубокие декольте коротких топов, или плотные бюстье, поддерживающие идеальной формы объемные груди, шорты, едва прикрывающие упругие ягодицы, яркий трикотаж, повторяющий выразительные, гнутые линии бедер, длинные ухоженные волосы, холеная лоснящаяся кожа, долгие ноги в обуви на преувеличенно высоких каблуках – все откровенно предъявлялось, демонстрировалось, предлагалось. В их жестах, мизансценах, манере улыбаться, смотреть, поворачивать голову, поправлять волосы и платье, вставать, садиться, ходить, открывать сумочку, доставать зеркальце, заглядывать в него, держать сигарету, дотрагиваться друг до друга – во всем их существовании не было ничего от мужчин. И ничего от трансвеститов, кривляющихся в имитации. Леди-бои казались до такой степени женственными, притягательными, манкими, что от них было трудно оторвать взгляд. Бесспорно эффектные, они в полной мере осознавали это. Их поведение напоминало какой-то театр представления, подчинялось особым законам острейшей экстравагантности, вычурности, излома. Они казались невероятными живыми игрушками, забавными и прельстительными.
– Они все… м-м-м… сделаны, как те, в Х-шоу? – решила я уточнить.
– Нравятся? Нет, здесь присутствует разнообразие. – Нари порой удивляла использованием точных литературных выражений. – Есть те, которые не делали вообще никаких операций, но рано начали принимать гормоны. У них женственные фигуры, маленькая грудь, низкий голос, кадык, они миловидны, но недостаточно хороши. Другие делают грудь, исправляют линии бедер, ног, убирают кадык, утончают черты лица, даже голосовые связки оперируют, но оставляют член. Многие из тех, кого ты сейчас видишь – таковы. Вот та блондинка в розовом платье и вот эта, пышногрудая, в кепи. Ну, и, естественно, постоянный прием гормонов. Но есть и те, что полностью меняют пол. Кат. Cut. Отрезание. Перестройка гениталий на женские. Хирурги всё научились делать. Были бы деньги и желание. Все мы – не мужчины и не женщины. Мы – катои, третий пол. – Нари становилась все более откровенна, сказывалось выпитое. – Мы – высшая раса. Мы сами, осознанно, выбрали свою половую принадлежность. Мы научились обретать предельную женственность. Вы же видите, как мы пластичны, изящны, выразительны! Это поражает всех! Как отличить леди-боя от женщины на наших улицах, за прилавками магазинов, в кафе, в офисах, всюду? Если девушка выше обычного роста, хороша собой, ухоженна и обладает особым даром очаровывать – это одна из нас. Мы стали такими, какими многим из вас, обычных женщин, быть не дано. Мы сами себя формируем, мы выполняем функцию Бога. Мы – чудо. – Нари перевела дыхание, будто закончив декламировать какой-то литературный отрывок, будто повторила заученное и уже много раз до этого произнесенное. – Когда я уезжала в Россию учиться, я была мальчиком, не начинала даже гормонотерапию. Все сделано за последние четыре года. Еще подробности? Хочешь, я разденусь?!
Я смотрела на Нари, не слишком похожую на тех экзотических птиц, что спешили сейчас к ней, здоровались, обнимались, целовали ее в щеки, вытягивая шейки и надувая губы, заглядывали ей в глаза, щебетали, оборачивались ко мне, чуть приседали плотно сдвинутыми коленями, подавали мне свои тонкие, когтистые лапки, заманчиво улыбались… Она была другой: строгой, умеренно накрашенной, элегантно одетой, куда более спокойной и ровной. У нее совсем другая профессия, этим все сказано.
– Давайте выпьем! Так давно не виделись! – на беглом английском предложила высокая блондинка в розовом вечернем платье, облегающем тончайшую талию и бедра идеальной округлости. Мы переместились к стойке. Душные, терпкие запахи, источаемые птицами, дурманили. Новая порция легкого алкоголя успокоила и развеселила.
– Давайте делать фото! – обратилась ко мне тоже на приличном английском юркая брюнетка. Меня зовут Кики, смотри, какая у меня грудь! – И она привычным жестом открыла идеальную форму и розовые нежные соски, чуть наклонилась сбоку ко мне. Снимите нас так! Нет, не на телефон! У кого с собой хорошая камера? – Она вытягивала вперед одну руку и помахивала изящной кистью, будто зовя к себе, другой же продолжала разминать грудь и теребить попеременно соски: – Надо, чтобы они торчали, ведь правда красиво? – кокетливо приподняла она плечико, призывно полизывая языком верхнюю губу. Появилась камера с огромным объективом, защелкал затвор, спектакль развивался: к фотосессии топлес присоединились еще три красотки. Стянув с плеч лямочки, они шутливо вздергивали друг другу груди, томно или со смехом глядя в объектив. Они вились вокруг меня, магнетизируя воздух, наполняя его флюидами таинственного мира, выставившего себя на всеобщее обозрение, но остающегося неразгаданным, обреченного на вечное любопытство и вечное непонимание. Образы великого Бёрдсли, открытого Стариком для меня в далеком времени Дома и Сада, явили себя здесь, где о нем ничего не ведают те, кем грезил безумный Обри, возлюбя, о чем каялся, что ненавидел, чем дышал свою краткую, тесную, перенасыщенную жизнь. О, если бы столетие назад мог предположить пожилой, чудовищно усталый юноша то, что возможно ныне! Вот они – мифические дети Гермеса и Афродиты, вьются вкруг юной наивности, как, должно быть, вились эфемерно вкруг своего создателя, что рисовал и рисовал их портреты, стараясь успеть до накатывающейся смерти. До смерти, совмещенной и отождествленной философом с вычурной идеей гермафродитизма, высшего проявления бытия. Что за люди вы, тайцы, как, по каким причинам изобрели вы само понятие катой, кхатэй, катэи? Зачем научились лучше всех в мире хирургической магии и психическим волшебствам, вскрыли, наконец, средоточие заговора света и тьмы, нашли путь к совершенству?! Ибо разве не есть высшее проявление изощренности эти душные тепличные орхидеи, этот искусственный соблазн, этот высший пилотаж изыска и вульгарности, соединенных в волшебном тигле мудреца?!
Рай греха закручивался спиралью вкруг Сандры, шипел и извивался демонами, прельстительными и жуткими одновременно.
Сандре примстился прекрасный андрогин с мягкой грудью и тяжкими чреслами, в египетском головном уборе. Он держит в руках два кувшина. Он смешивает два потока воды, два начала – холодное и горячее. Животворящее и умертвляющее. Слева от существа тянется вверх Лотос с тремя белыми цветками, над Лотосом порхает бабочка, душа, которая должна пить нектар из источника жизни. В небесах вновь устанавливается двойственность. Рядом с семью астрологическими планетами виден символ Меркурия, посланника Солнца, как символ подлинного познания. А за гранью небосвода – неисчислимое количество диких, никому не принадлежащих лун…
Андрогины продолжали свой наивный шабаш, приподнимали подолы коротких одежд, демонстрируя неприкрытые бельем чресла, подставляли камере бедра. Одно из существ, затаенно глядевшее во всё время резвого веселья со стороны, вошло в круг, тоже стыдливо приобнажило бедра, – Cut! Cut! – разворот корпуса, оголенные ягодицы, наклон и счастливое таинство обладания мечтанным бутоном открывается Сандре и тем, кто совсем близко. Сандру не смущает такая откровенность, она видит нежные женские гениталии, и ей кажется, это – девочка, всегда бывшая девочкой, родившаяся девочкой, никогда себя никем кроме девочки не ощущавшая, девочка, которая не носит белья, оставаясь целомудренной и чистой. Миг промелькивает и возвращается, останавливается. Вне его все продолжает крутиться. Эта задержка времени, затянувшееся мгновение, тихими огромными глазами вглядывается в ту, что не чувствует себя совершенством, однако, помимо устремлений и решений несет в себе две ипостаси, секрет, ключ к которому никогда не существовал. Среди единообразия азиатских, юго-восточных глаз, с веками, чуть потянутыми книзу, безразличных или наигранно кокетливых, или притворно покорных, или нагловатых, мимо тебя или в упор глядящих, трудно заметить печальные вздрагивания, тщательно скрываемые за одной из обиходных масок. Эти глаза казались темнее, и мрак их стекал и проливался, марая и портя привычное настроение фривольных заработков. Глаза эти распространились шире и выше лица, готовые покинуть его вовсе, оставив слепым невнятно улыбающийся рот.
Ночь втянула в себя всю черноту космоса и окончательно загустела перед рассветом. Мы поднялись вдвоем по Южной до скрещения со Второй. Я попросила Нари оставить меня здесь одну, она попрощалась, и её автомобиль красным пятном метнулся между черных еще стен.
Я продвинулась в прорехи переулков, сразу наткнулась на стоянку мотобайков и арендовала у еле проснувшегося хозяина чистенький серебристый скутер. Потом сделала пару широких кругов по знакомому Протамнаку, забирая сначала спиралью вверх, к золотому Будде и смотровой площадке, глянула вниз на свалку огней неприбранного города и скатилась мимо заваленных мусором пустырей и ухоженного сквера в нарядных пальмах и приторном стриженом кустарнике – к подножию холма.
11.
Сандра с места набрала скорость и пустила свой мотобайк внутрь города, в гущу стен, где в сумраке занимающегося утра заново дымились жаровни, пеклись роти и половинчатые кокосовые оладьи, истекали и шипели соком на углях кальмары и рыба, распластанные кусочки свинины и курицы на шпажках. Она притормаживала, чтобы вновь разглядеть вечный ритуал, проявление нежной веры в саму возможность улучшения судьбы своих воплощений, на ритуал, который нет, не оправдывал совершение греха завтрашнего, но существовал с ним параллельно. Здесь нельзя через исповедь получить отпущение грехов, невозможно купить индульгенцию, замолить проступок, выпросить прощение. Здесь можно, оставаясь на своем месте, выполняя избранную функцию, все же улучшить карму.
Монахи, потерянные в складках и путанице то охровых, то почти коричневых одеяний, будто в чешуе зрелых ананасов, рассыпались по переулкам, что прилегают к самой беспутной улице мира, к месту легкой гибели всякой морали, всяких ограничений и представлений о мере, дозволенности и вине. Бритые головы поворачивались в сторону уже не нарядных лиц, расплывающихся в усталой краске, смуглые руки высвобождали широкие жерла шаровидных сосудов, открывали возможность подаяния. Пряча в футлярчиках черных коктейльных платьиц азиатскую свою хрупкость, привычно напрягая мышцы смуглых мускулистых ног в ботильонах на слишком высоких каблуках и платформах, черными силуэтами тайского театра теней грешницы являлись к макашницам позавтракать после рабочей ночи. Заученным движением шеи и лоснящегося плеча они откидывали черную и гладкую, сыпучую свою гриву за спину, танцующую даже в этот неверный час, за спину, прямую и ловкую, передавали деньги на щедро собранную в пакетики снедь макашникам, чтобы сложить пожертвования в металлические объемы внутри плетеных корзин или тканевых чехлов, которые ежеутренне перебрасывали через плечо, прежде чем покинуть ненадолго монастыри, служители культа Будды. Женщины не касались монахов. Прежде чем осуществить бинтхабат они разувались, почтительно преклоняли колени, протягивали подаяние и ждали благословения. Безбровые монахи совершали короткий ритуал, смотрели мимо женщин и уносили сосуды, полные съестного, вглубь тесных переулков, густо заставленных мотобайками со спящими на них парнями. Во сне байкеры балансировали спинами на узком пространстве вдоль руля и сиденья, выставив напоказ пыльные пятки. Многие просыпались заранее, чтобы осуществить свое священное право кормления. Монахи молча проходили вдоль притихшей к утру сумеречной тайны чуждых наслаждении, тайны дешевенькой покупной страсти, тайны, что понемногу начинала рассеиваться в ранних пьяных снах, по геструмам и номерам престижных отелей. Монахи погружались в спящее бульканье неистребимой человеческой грязи, оставаясь вне её. Лелея свое бесстрастие, защищенные равнодушием, они двигались по «сойкам», казавшимся теперь почему-то еще уже переулкам, мимо грубой, безжалостно разоблаченной теперь ночной рекламы. Они брели закоулками, не желающими отпускать мрак, с легкостью преодолевали густоту и плотность чужого греха, вязкость ауры утомленных кварталов, непроницаемую пустоту и разросшиеся, непроходимые, на первый взгляд, сады вседозволенности. Отчужденные, они несли на своих темнокожих телах мудреные тинганы солнечной яркости вдоль кормящих их продажных женщин, одаривая их правом совершить тхам бун, доброе деянье, чуть осветлить свою карму. Две с половиной тысячи лет каждое утро люди благоговейно наполняют перекинутые ремнем наискось через грудь чаши монахов, уверенные в действенности благочестивого поступка. Так собирали свое пропитание первые последователи Учителя, так жил сам Гаутама Сиддхардха, Озаренный, Просветленный, Будда.
Сыны сангхи шли дальше, навстречу катхэям, потерянным, замаскированным, навстречу к тем, кто скрылся и одновременно разверз себя настежь, навстречу загадочному стремлению уйти в тень между двумя земными человеческими ипостасями. К существам, кажущимся более женщинами, чем женщины от рождения. К людям, что искусственно взрастили свою новую принадлежность, свою красоту, свое понимание мира и себя в нем. К чуждым всем нормам, всем устоям, всему содержанию земной жизни. Монахи, спрятав свою наготу в терракоты и шафраны, в сдержанные, но сочные краски древних одеяний, приближались к катхэям, но не позволяли касаться себя и им, ибо они, пусть и не от рождения, но все же женщины. Катхэи длинно тянули руки, надломленные изысканным движением украшенного золотом запястья, укладывали свои свертки на рыжие края ткани, чтобы заполнились до краев и без того уже тяжелые от подаяний шаровидные патры, складывали закрытым лотосом узкие ладони, опускали подведенные веки. Смирение, движение губ в благодарном шепоте, жест к осветленной пряди, тонкий профиль, поворот лица, хрупкие щиколотка и колено, – бег прочь, смех, быстрая низкоголосая речь, выдающая тайну. Стайка искусно выдуманных людей, почти нереальных в неверной, ложной своей красоте, устучала каблучками в сторону Бич-роуд, к утреннему шевелению моря.
Солнце медленно выпускало свет снизу, из-за хаоса стен. Улицы раздвигались, подставляли свою раннюю пустоту одиноким колесам байка. Сандра мчалась по Сукхумвиту на северо-запад. Свернув с самой длинной в мире улицы, что прорезает Паттайю и соединяет её с отстоящим от курорта на полтора часа автомобильной езды Бангкоком, Сандра ушла вправо и оставила позади путаницу проводов, замызганный, заваленный пластиковым мусором асфальт, готовые проснуться школы и погруженные в собственный храп отели. Справа и слева в густом мареве, словно в задымленных кинокадрах прорастали чистые линии пальмовых рощ. Пальмы двигались, стройно удерживая геометричность расположений, чистоту поворота угла по закону своей изысканной хореографии. После рисовых заводей возникали гевеевые плантации, еще более зыбкие, погруженные в пар и муть. Сандра съехала на обочину, бросила байк в сырой траве, вплыла в жидкое серебро гевей. Боль дерева немедленно передалась ей: исполосованная кора проливала млечный сок. Сандра знала: кау – дерево, учу – плакать. Плачущим деревом называли индейцы гевею, чьей тайной обладали только они, дети Южной Америки. Потом белые люди ограбили край, вывезли беззащитные семена, вырастили саженцы и океаном доставили их на страдания в страны южнее Тропика Рака, в эти влажные земли, в широты летнего солнцестояния, в дивные края, удаленные на почтительное расстояние от палящего экватора. Вот она, израненная роща, взлетела метров на тридцать вверх, в рыхлое утреннее небо, чтобы принять утешение, чтобы небо вылизало бледным языком бледные гевеевы листья и слилось с ними в цвете. Под изощренно изрезанной кожей, там внутри, плотнеет розовая древесина, которую люди заставят служить, после пыток доения превратив в диковинную мебель. Но только спустя двадцать лет мучительств. Кора срезается тонким слоем острейшим ножом, как кожа человека при пересадке, что пришлось однажды наблюдать Сандре в ожоговом отделении, куда она попала со съемочной группой. Приятель с телевидения затащил ее под видом ассистентки «на слабо» «посмотреть на жуть». Было действительно жутко. До тошноты. Скальпель снимал с предплечий окровавленные лоскутки, и их перемещали на оголенные огнем места на ногах. Так же кружилась голова как теперь, при виде израненных серебристых стволов, истекающих белым густым соком, золотоносным латексом, каучуком. Веками человек пользуется беззащитностью этих несчастных своим богатством растений. Сок, предназначенный защищать сердцевину от паразитов, стал губительным даром Матери Природы. Чутьем биолога Сандра улавливала страдальческие вибрации: генетическая боль струилась из бесчисленных ран, стекая в ковши, прилипшие улитками к стволам. Это длится веками, этому не будет конца.
Сандра миновала банановые плантации, – травянистые деревья хвастались обилием зеленых гроздей, облепивших стебли по кругу, и манговые сады, что цветут и плодоносят одновременно. Не способные удерживать уже созревшую тяжесть плодов, они роняли их, сочно разбрызгивая желтую мякоть, окрашивая почву мясистой охрой.
Впереди явственно и высоко проявились холмы. Солнце уже расцветило их верхушки, контрастнее распределило светотени, но не могло побороть мглы в нижних ярусах, там, где собралась мякоть ночных паров, серебристая муть, морок.
…Мокрым жарким покровом ложился туман на открытое ему тело. Бисером рассыпался по коже, струйками стекал по позвоночнику, приникал, ластился, терзал. Длил время. Не отступал, не редел, не таял. Поначалу дышал согласно объятому им телу, потом заторопился, затрепетал. Приподнял без усилия, поволок, совсем одурманил запахом спелой травы, накрыл, еще помучил, придавил и выдохнул. Утомленный, отвернулся, молочными перьями спешно расползся, разорвался на мелкое и пропал.
Сандра очнулась, доползла до своей одежды, брошенной в сырую траву. Мокрая кожа сопротивлялась влажным шортам и футболке. Ноги еще дрожали, руль мотобайка выскользнул из ладоней. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, осмотреться, снять и снова надеть шлем, только тогда завести машину. На ветру, на скорости, стало зябко. Солнце слепило. День набирал силу. День блистал равнодушием.
На безлистых плюмериях голые в это время года суставы побегов выпрастывали пахучие, плотные пятилепестковые цветы и раскидывали их на ветер, для которого они оказывались тяжелы, и тот ползал по ним низко, лишь чуть передвигая по сухой почве, перекатываясь вместе с ними, насыщался, воруя их запах, утекал потом прочь, чтобы шевелить центральный лист соседнего бананового дерева, долго и монотонно заставляя его повторять одно и то же движение, винтообразный поворот справа налево, что напоминало своей безостановочностью раскачивания медведя в зверинце.
К девяти утра я вернулась домой, вытащила из холодильника и выпила прямо из бутылки мангустинового сока, потом приняла душ, надела свежее платье и поднялась на шестой этаж. Еле пряча усталость, сделала Старику инъекцию и, сказавшись немного больной, спустилась в свой рум, где рухнула в сон под ровно шипящим кондиционером.
Лхаса
Мы вошли в блеклое рассветное небо и поползли в нем, в его жидком холоде, не чувствуя собственного тепла, не ощущая своих тел из-за головокружения и слабости, раздробивших плоть на рыхлые сочленения, на вялые пузырьки в чужом объеме. Позади и сбоку серой тяжестью дыбились горы. Джип укатил куда-то вниз, хотя ничего себе низ – больше трех с половиной тысяч метров над равнинной жизнью, высота, заселенная ярко разрисованными, изрезанными кружевом каменного рисунка буддийскими монастырями. Лхаса, обитель богов в долине реки Джичу, притока великой и вечной Брахмапутры, рожденной в северном высокогорье под именем Мацанг (другие зовут ее Цангпо и Дохонг), что сливается с Гангом, уйдя с гор и стремясь отравленными мышьяком водами в полумертвый Бенгальский залив. Пыльная грязно-белая Лхаса, просыпанная чахлыми клумбами бархатцев, наверное, в честь желтошапочников из секты Гэлуг-ба.
Теперь мы поднялись в автомобиле еще метров на пятьсот, а может, и больше, и будем пешком тащиться вверх, пока окончательно не рассветет.
– Ага, от забора до обеда, практическое соединение пространства и времени, – бухтит, полагая, что у него хорошее чувство юмора, Роберт. У меня за спиной – рюкзак, у него тоже, да еще и камера. Зачем нам эти рюкзаки? Какого черта?! Еда какая-то, подстилки, кружки, когда одна мысль о пище подтягивает желудок к горлу. Следующий раз – только налегке.
Двое суток в Лхасе мы никак не могли отремонтировать наши, как оказалось, не пригодные для высокогорья организмы, поначалу выдавшие свою несостоятельность такой яркой эйфорией, таким сладким неадекватом, что не сравнится ни с каким гашишным дурманом. Мы хохотали и хохотали, вернее, ухохатывалась я, а Роб посмеивался надо мной, над моей беспечностью, которая не имела краев, надувалась, пучилась, распирала меня изнутри, готовая вот-вот лопнуть, но не лопалась, а все росла и истончалась как воздушный шар, не рассчитанный на такое количество газа. Взрыв головной боли, растекшейся тошнотой и апатией, был неизбежен. Когда пришла эта фаза, жизнь показалась жестоким на расплату судом. Сон – лучший доктор, да, разумеется, но только не здесь, где его просто невозможно поймать ни в какие сети. Вялость такая, что, кажется, можешь уснуть на ходу, но обман крутит тебя на непривычно жестких простынях, раздирает глаза, путает разум в клубок мыслей и видений, нити которого не имеют ни начала, ни конца. Какая «философия просветления», какие «глубины сознания», когда твое тело, в желании исторгнуть из себя середину, концентрируется только на том, чтобы утихомирить эти позывы?! Тяжело. И обидно. «Душа и сердце» Тибета, многовековая обитель далай-лам, место всасывания бесконечной реки паломников, монастыри и дворец-колосс, абракадабрские звучания названий – Потала, Сера, Ганден, Трипунг, – всё мимо, всё не для меня. Худо. Так худо, как и невозможно было предположить.
– Когда хоть немного оклемаемся, тогда и двинемся снимать. Ну, что поделать, – благодушничал Роберт, стараясь даже улыбаться не слишком кисло.
– Снимааааать… Я за этот сюжет уцепилась, на эту съемку вприпрыжку неслась, потому что надеялась столицей Тибета налюбоваться, всю мистичность буддийской философии собственными фибрами прочувствовать!
– Фибрами… в каком месте у человека фибры? – Витиеватый позвоночник Роберта подвыпрямился, его сухопарый обладатель размял плечи и снова привычно ссутулился.
– А теперь вот, полумертвая здесь время убиваю.
– В двадцать шесть красивой девушке умирать рановато.
– Двадцать семь. Уже исполнилось. Забыл, как праздновали, что ли? – начинала я злиться.
– Не-е-е, не забыл. Хорошо на природе повеселились, – продолжал киснуть Роб.
– На какой природе?! Ты мою днюху с юбилеем замглавного спутал! – свирепела я.
– Да? Чой-то я того… А-а-а… магический возраст. Как же, как же… два и семь в сумме – девять. Помню твои разъяснения: девять лет, восемнадцать, двадцать семь, тридцать шесть, сорок пять и так далее. Девятка в любом умножении дает число, которое в сумме цифр всегда становится ею же. Ну ладно, не в том вопрос. Послезавтра идти снимать кровь из носа надо. Сборщики нас захватить не против, группой идут, обо всем уже договорено. – Он пощипал русую поросль на подбородке.
– Не-е-е, я еще не в форме буду. Как я поплетусь? Там еще выше на полкилометра, как минимум. Я вообще это выдержу, как думаешь?
– Акклиматизация постепенно проходит. Сегодня – не очень, а завтра уже норма. К утру все устаканится, все проще будет, легче. А кордицепс тоже дело мистическое.
– Очень, – буркнула я.
– Ну, а как?! Полуживотное-полурастение, которым можно рак лечить! Ты ничего таинственного в этом не видишь? – повысил голос Роб, стараясь быть убедительным.
– Да не лечить, а останавливать деление несозревших клеток. И то до конца не проверено. Но ты молодец, тему проштудировал, степень зрительского интереса к вопросу понимаешь. Может, без меня часть сюжета снимешь? – заглянула я ему в глаза. Хитрость моя не удалась.
– Тина! Где совесть? Кто у нас режиссер картины? Ну, Кар-Тина! Я – жалкий операторишко, и только, – старательно прибеднялся мой длинный коллега.
– Не картина, а сюжет, – бессмысленно противоречила я.
– Там, как получится, может, такого наворочаем! Вон, мне ребята-трекеры рассказали, что где-то в Непале одна деревня другую за эту ярцагумбу вырезала. Не-е, завтра давай подыматься, и вперед. Без тебя одна фигня у меня выйдет, ничего не сниму интересного. Не сумею. – Роб казался серьезным.
– Завтра? Ты же сказал, как оклемаемся! И с группой на послезавтра договорено. – Я уже негодовала.
– Это я для подъема твоего духа. Считаю, что ты уже вполне себе ничего, ясно? И без тебя я отказываюсь.
– Ну, чего уметь-то? Глаз всё подскажет. Снимешь горы, потом собирателей, потом сам гриб. Потом, чего там, их становище, палатки какие-нибудь, как они еду готовят, едят, спать ложатся. Ничего страшного.
– Я с ними один ночевать должен? – возопил Роберт.
– Вот еще я в их вонючих шатрах не спала. Мне и тут, в гостинице, всё мимо. Эти колонны раскрашенные, тряпки-подвесы-оборочки. От всего тошнит, – шипела в ответ я.
– Тошнит от 3650 метров над уровнем моря. Не капризничай. Матрас с электроподогревом, горячая вода круглосуточно… – увещевал он.
– Ага, навесные замки на дверях, все обшарпанное… Ладно, все. Возьмешь завтра мини-палатку, устроишься там. Ну, Роберт, ты человек, или где?
– Я тут. В палатке хорошо вдвоем. Тепло и не одиноко. Точка. Вот – снотворное, глотай, – похожие на барабанные палочки пальцы скинули мне в ладонь таблетку. – Спать еще семь часов можно. Засветло поднимемся, позавтракаем…
– Засветло… Самый сон для нездорового человека. Дай еще цитрамона и кусочек лимончика. А то сейчас наизнанку вывернет.
– Это просто неверный настрой. Ты должна сконцентрироваться на задаче. Завтра – отснять талантливо. Сейчас – уснуть. Я даже приставать к тебе не буду по такому случаю.
– О-о-о-о! Приставать! Какие роскошные мысли! У меня, наверное, этот интерес теперь год не откроется. Уснуть, и то сил нет. Так, вон на свою кровать! И вообще, совместная работа – не повод для секса.
– У нас не просто секс, у нас отношения, – Роб нежно осклабился.
– Это кто тебе сказал? Лама какой-нибудь, а ты поверил? – Моя неудачная попытка иронизировать вызвала адекватный ответ:
– Ты цинична. Ламы о сексе не разговаривают.
– Откуда ты знаешь?
– Запретная для них тема. Ламы-желтошапочники дают обет безбрачия и неупотребления животной пищи, чтобы ты знала. Надо было хоть немного погуглить по теме, подготовиться, – опять совсем кисло пошутил Роб.
– Так, начальство не уважаете, коллега, – строжилась я. – Возьмите себя в руки, выберите правильный тон и успокойтесь. Я, может, больше тебя про все это знаю, но не считаю нужным демонстрировать свою осведомленность. Вот, например, да будет тебе известно, у тибетцев младший сын идет в монахи, а старший женится, но с его женой живут еще и средние сыновья, свою, отдельную, каждый не заводит, чтобы хозяйство не делить. Знал? Не-е-ет! Многомужество у них. Ясно?
– Я подумаю. Только чур я – старший сын, а тот, кого ты себе вторым заведешь, будет… э-э-э… средним, и прав на тебя, соответственно, получит меньше.
– Да, чувство юмора у тебя блескучее, как пластиковые стразы. Всё, я сплю.
Кое-как найдя положение, в котором меньше тошнило, я вползла в дремоту через травяную, пузырчатую от теплой росы поросль. Издалека летел, прерывался, вновь возникал звук: сквозь сухой сероватый свет лили свою монотонность колокольчики. Я приникла глазами к пушистой почве и сквозь заросли корней, сквозь путаное кружево соединений увидела, как перебирают парами ножек, извиваются вверх-вниз, бугрятся и опадают – ползут пухлые гусеницы, прокладывая себе ходы в жирной земной черноте, раздвигая крупинки чернозема алыми лобиками, увенчанными рожками, пожирая сокрытую в нем изобильную пищу. Они ползли в разных направлениях, но в едином устремлении взрастить свою плоть. Они становились крупнее, их шкурка подсыхала и лопалась, и сползала лоскутами, вскрывая обновленную бархатистость, а они продолжали беспрерывно и неустанно двигаться в поисках драгоценной отравы, мизера, живой субстанции, которая взрастет в свою очередь и затвердеет, пронзив податливую мягкость их беззащитного организма, обращенного отныне в субстрат, кормящую массу, плодотворную пищу для нового жизнеобразования. Я отстранилась от виденья, поднялась с постели и вышла. В ледяном свете выпуклой белой луны сияли черные Гималаи. Мороз иссушил воздух, им было почти невозможно дышать. Питанием для легких стал холод, он пронзал, доставлял боль, но надо было привыкнуть. Я схватилась за прямоугольную подпорку террасы, под рукой скользнула краска, в десятки, а может, и в сотни слоев лежащая на дереве бугристая память старины. Мои глаза обрели иную, чем прежде, зоркость, и им открылись далекие пещеры королевства Гугэ, сокрывшие в себе монахов, что ушли на годы в темный ретрит, и тайные комнаты монастырей запретной страны Ло, в одной из которых так же во мраке покоится книга, собрание тысячелетних листов синей бумаги, испещренной санскритскими сутрами, белыми тибетскими письменами, священными текстами, похожими на беспрерывные ряды цифр. Я наклонилась, перегнулась через перила, чтобы лучше рассмотреть текст, готовый вот-вот открыться, поведать мне свой шифр, один из листов атласисто качнулся рядом с моим лицом, отразил его зеркально, лицо улыбнулось мне, поманило и повлекло за собой. Падение в глубину было тяжким: тянулись, плыли мимо меня этажи Дворца Потала, окна в буром и светлом строениях, и десятки метров глухих стен, и ниже моего полета – скрещение белых каменных лестниц; дебри монастырских снов густели и путались объемами, заплывали один в другой, вытекая новой формой, то вытягиваясь, то округляясь, и отражались в листах, и, уже без остановки множились в отражениях отражений. Боязнь заблудиться в их путанице заставила меня на мгновение закрыть глаза. Мне пришлось напрячься и изо всех сил, с хрипом вдохнуть горного холода. Сомкнутые веки не скрыли, как синий лист, увлекая за собой, ушел в проем, и я двинулась по скачущим уровням галерей и извивам переходов к Западному залу, иллюстрированному, словно персидская книга. Раскидались по стенам струны, тревожимые пальцами музыкантов, и лица в облаках, маски, дышащие огнем и дымом, цветы, похожие на плоды, рыбы в выпуклой чешуе и ткани на раздутых животах, и тигры, растянутые прыжком, и оружие, украшенное резьбой ханьских и маньчжурских мастеров, опахала из парчи, налитые кровью глаза воинов и золотые балдахины карет. Ведя рукой по часовой стрелке, я тронула каждую из пятидесяти четырехгранных колонн, заостренных к потолку, туда, ввысь, где гуляли блики и тени красок. Осталось коснуться еще полутора десятка исполинов высотой в три этажа, но в обширности дворца-монастыря, в одном из тысячи его помещений проявилась одиннадцатиголовая и тысячерукая статуя Авалокитешвары, бодхисатвы сострадания всех будд, чьей райской обителью является Потала. Ослепленная золотым сиянием добра Великой Колесницы, я простерлась перед неизмеримым величием и потеряла способность видеть, слышать и осязать.
Мы продвигались за вереницей людей и несколькими низкорослыми лошадками. Недомогание прогрессировало, несмотря на таблетки, припасенные из дома, и насильно впихнутый в себя завтрак в гостиничной кафешке. Но вот поднялось солнце, и прибавило нам бодрости и уверенности в том, что сил должно хватить на полноценный рабочий день. Поначалу оно контрастно вычернило гряду, из-за которой веером выбросило резкие лучи, а потом озарило ее всей своей полнотой и насыщенностью. Не торопясь, но и не затягивая движение, мы осуществляли серпантинный подъем по тропам, то справа, то слева от которых в нижних долинах разворачивались графические схемы раскинутой по каменистым холмам широкой многовекторной паутины. Не очень надеясь получить верный ответ, я все же спросила у Роберта:
– Что это? Вон там, внизу, видишь, как будто паук раскинул сети.
– Село! – Роб почувствовал, что властвует моментом. – Это веревки, к которым прикреплены молельные, нет, молитвенные будет вернее, флажки. Видишь, из одной точки расходятся линии, из другой наискось тоже во все стороны, друг над другом, длинные… Это отсюда флажки кажутся серыми, на самом деле они белые, голубые, красные, желтые, зеленые: земля, вода, огонь, воздух, эфир. Ты же в городе видела вокруг жилищ, да и внутри, в нашей гостинице и то есть. Это гармонизует пространство. Там куча правил, какие-то законы последовательности цветов, связанные с верным распределением энергии. Потом почитаем. А здесь – самое оно: флаги эффективнее всего размещать там, где гуляет ветер. Тут они мощнее работают. Когда люди совершают кору… вот ты хотя бы знаешь, что такое кора? – Голова на вытянутой параллельно земле шее все время повернута ко мне, но движение продолжается.
– Обход по часовой стрелке во время совершения паломничества, – вредным голосом откликнулась я.
– Ве-е-ерно, молоде-е-ец, – канючил коллега. – Вот, когда люди, способные на высокое, совершают кору в горах, они непременно развешивают на перевалах молитвенные флаги. А как ты в своем высоком поступке? Нормально? Знаешь, что мы уже выше четырех тысяч забрались?
– Чувствую, – протянула я.
Белый хатаг – длинный кусок шёлка с вытканными поверх поля благоприятными символами, подношение, олицетворяющее отсутствие дурных помыслов и намерений, чьи-то знаки взаимной любви и уважения, извиваясь и то приподнимаясь выше головы, то касаясь моего виска, перекрыл на мгновенье нагромождение гор, которые продолжали плодиться и множиться. Шарф скользнул, сполз к рукам, но все же вывернулся в ритуальной изысканности. Кто-то не уследил, как ветер снес мантры на шелке прочь, и теперь они доставались мне, нечаянно становясь моим оберегом. Я ухватила хатаг за хвост и выложила вкруг шеи двумя легкими кольцами. Мое.
Солнце постепенно размывало раннюю муть, и под ним слоями ложились спины-холмы, изуродованные разновысокими горбами. Тяжелели небо и воздух, и ноги от стоп до бедер становились неподъемными и темными. Двигались. Куда-то не прямо, но круто.
Почти коричневая уттара санга на монахе без лица. Только улыбка, замотанная в длительные метры плотной ткани, что от плеч по груди – к ногам, без швов, особым наворотом, слоями ниспадает, греет монаха школы «желтых шапок». Монах прячет улыбку. Смотрит на меня уверенно, спокойно. Инопланетянский, римский, петушиный убор сияет тоном бархатцев сорта зонненшайн, гребень пушится, покачивается, закидываясь вкрученным запятой полумесяцем, оттеняя медную кожу и шоколадную влажность в центре иссиня-белых склер. Четвертая школа тибетского буддизма из светозарного Средневековья шагнула в мой пасмурный день ногой Гьялвы Цонкопая, воплощенного Бодхисатвы Манджури, олицетворяющего мудрость и всеведение. Будто многотомный труд, что сконцентрировал в себе учения, руководство к постижению Ступеней пути, познанию доброты и всеприятия, лег передо мной чарующим чистотой и ясностью полотном. Оно двинулось, разрастаясь, окутало меня, поглотило. Кто-то произнес тихо, но внятно, будто не вне меня, а во мне:
– Школе Гэлугпа принадлежат монастыри Тибета и все существующие дацаны Бурятии, Калмыкии и Тывы.
– Да, знаю, – ответила я.
Монах завился спиралью, обернулся вихрем бордовой пыли; седыми нитями просыпался в пыль дождь. Резко похолодало. Я озиралась в поисках улыбки и голоса. Слегка отодвинув дождевую сеть, оседающую на воздух, молодой лама в наряде для роли небесной посланницы из ритуального танца Чам, дакини-небоходицы, утрированно подняв согнутую в колене ногу с задранным кверху носком мягкого сапога, шагнул в круг, очерченный мукой, что тут же всколыхнулась вздохом под тихой подошвой. Тяжек наряд небесной танцовщицы, шитый из полос разноцветного шелка с золотыми и серебряными тиснениями, подбитый тканью цвета пламени; живут, дышат раструбы рукавов, слои нижних подолов. По желтому и оранжевому, бордовому и синему полю летят вытканные цветы; канты и кисти обрамляют вычурной формы оплечье и твердый фартук. Головной убор, имитирующий тиару и прическу одновременно, дыбится разветвлениями над тульей и полями. Дрогнули острия, заколыхались кисти, когда дакиня из мерного шага и статики позирования рванулась в пляску, заметалась, вкрутилась в вихрь и исчезла. Женский Будда-аспект еще проявился в звуках ухэр-буреэ – в гудении трехметровых труб, в гонимом внутри них воздухе. Сквозь изукрашенные ремесленниками жерла, такие долгие и тяжелые, что поддерживают их несколько помощников-силачей, через напряжение в легких, которое требует этот звук, пронеслась тень и растворилась в пении ганлин, изготовленных из берцовой кости человека, раковин и цимбал, в медных всплесках тарелок, в буханьи больших барабанов.
Монах в роли дакини прекратил существование, и на фоне дождевой россыпи явилась его иная ипостась: обнаженный юноша с кожей цвета свежего чая оседлал черного с белой головой и белым крупом яка. Широко раздвинутые серпы рогов животного рассекали крупчатую влагу, шелковые меха на боках и животе колыхались в ритуальной пляске. Сила яка и сила человека на его спине слились и умножились, глаза одного и глаза другого сияли новообретенной мощью, качалось небо, смещались в нем горы – тибетский кентавр разрывал пространство, мчался тяжко и легко, как способно двигаться свободное существо, чующее свою красоту, свое право на волю.
Ниже ячьего танца, и по сторонам, и на холмах, что выше, ползли на животах накрытые пластиковыми прозрачными дождевиками люди. Всматриваясь в сплетение трав, нежно раздвигая их стебли, они напрягались, вглядывались в каждый коричневый росток, подозревая в нем проклюнувшийся кордицепс, драгоценный полугриб-полугусеницу. Ярцагумбу – зимой-червь-летом-трава, полуживотное-полурастение, спора, осевшая на личинку бабочки тонкопряда, чтобы развить свою жизнь, паразитируя на своем носителе. Пораженная любовью инородца личинка теряет себя, подчиняется новому явлению в ней, зарывается в землю, уходит от здоровых сестер, обращаясь в рабыню иного, чуждого, покорившего. Зимой спора преобразуется в бактерию и постепенно завладевает внутренними органами личинки. Оболочка же, роговое внешнее покрытие, ее красота – неизменна, она остается неповрежденной, нетронутой. Две зимы взращивает под землей личинка кордицепса новое свое содержание и свою смерть. Она питается корневищами высокогорных растений – горцем, астрагалом, офиопогоном, насыщая тайными силами тело новорождающейся ярцагумбу. Жизнь в жизни, паразит внутри своего носителя, два в одном, сложноподчиненное сочетание. Пораженная любовью личинка, иссыхаясь, погибая, выпускает на волю росток, обретает свойства мощного афродизиака.
Я лежу на боку в сырой холодной траве, вокруг меня – темноликие люди с маленькими то ли тяпками, то ли топориками в руках гортанно журчат, обсуждая, видимо, что со мной делать. Кого-то зовут, крича в сторону соседних вершин. Роб протискивается меж сбившихся в кучку людей ко мне, рядом с ним хитроглазый тучный мужчина из местных. Роб наклоняется надо мной, слушает пульс, обращается по-английски к хитроглазому. Через время меня поднимают, чувствую муторную боль в лодыжке: всё, привычный вывих, наступать не могу, голова кружится, донимает тошнота. Меня усаживают на низкорослую лошадку позади седока, приматывают к нему веревкой; почти не вижу, но ощущаю, как движемся вниз, медленно, в постоянном монотонном качании-подскакивании, к которому никак не могу примериться, желая прекратить синхронное шагу лошади баламутное движение в желудке. Этому пути нет и нет конца, бряцает колокольчик на шее животного. На шее? Почему на шее? Метятся пронзенные звенящими серьгами острые стоячие уши, вот уже у моих висков качается, бьется звук.
Шатер из дикого шелка плотен, открытый огонь посреди ковров, посуда, украшения – керамические, фарфоровые, нефритовые фигурки, очертания которых не могу зафиксировать, шерстяные ткани, шкуры: тепло, очень тепло и сухо. Синюю пиалу, наполненную дымом, протягивает мне мускулистая рука. Медная кожа на глаз – дикий шелк. Я принимаю густое, замешанное на ячменной муке питье с запахом ячьего жира и перевожу взгляд на дающего: он перечеркивает мою шаровидную щиколотку жесткой повязкой и поднимает глаза навстречу моим. Монах в бордовом уттара санге, дакиня-небоходица, юноша на яке и мой транспортер – откидывает за нагие плечи пряди графитовых волос, сплетенных у висков в змеевидные косицы, наблюдает, как я делаю несколько глотков, приближает ко мне скуластое, точное в скульптурной лепке лицо, ноздри по-звериному втягивают мой запах, глаза, огромные, фиолетовые, как у яка, поглощают мой взгляд, – всей своей гусеничной бархатностью, всей личинковой мягкостью, потеряв костяной остов, лишаясь позвоночника и суставов, я вбираю в себя силу его взора. Вкруг шатра бегут, танцуют яки, их гладкие по весне после линьки спины лоснятся, храня длинную шерсть на горбатых, вторящих линиям гор холках, шелковые «юбки» на животах стелются по траве, волосы хвостов движутся в такт рапидному галопу. Я, будто одновременно наблюдаю эту пляску и участвую в ней, и в пробелы между мгновеньями успеваю приникать грудью к неожиданной гладкости мужской груди и откидываться прочь; и рвутся облака над шатром, раскалывают небо зарницы, качаются, все громче, все надсаднее звенят колокольцы в графитовых косах, с гиканьем несутся разряженные шелковые демоны сквозь ночь, чудовищны их маски; грохоту небес, напрягаясь, помогают колоссы труб, дуть в которые приходится дивным созданиям, порожденным моим воспалением, набухшие небеса крепнут, полнятся темнотой и, наконец, взрываются пузырями и дребезгами, и потоки дождя и света заливают и топят меня в тепле, в покое, в сне.
– Пятнадцать часов спала. Просыпайся, давай-давай, надо бульону попить. Тебя и несли, и ворочали, и перекладывали, уже и градусник ставили, а ты спишь, как казак после гулянки. Температура нормальная. Всё о'кей. – Рорберт старается продемонстрировать свое умение ухаживать за больным человеком.
– А чаю тибетского можно? – хнычу я.
– Ты чего? С ячьим жиром? С мукой?! – заботливое выражение на лице Роба сменяется удивлением зануды.
– Да.
– А ты его пробовала? Это же нормальный человек только с великой голодухи…
– Мне понравилось, – настаиваю я.
– Когда? Где ты это варварское варево есть-то могла? Во сне, что ли? – не унимается Роб.
– А можно?
– Я даже не знаю, где сие в Лхасе раздобыть. На сборе кордицепса у деревенских – пожалуйста, а здесь… Давай-ка европейского бульончику, а? – Роберт протянул мне горячую емкость.
Я откинула одеяло с ноги, посмотреть на щиколотку. Ни повязки, ни опухоли. Пошевелила ступней, боли не было.
– Роб, а чего это я спала-то так долго?
– А вот, как в обморок упала там, в поле, так потом и уснула. Мы тебя несли сначала, потом везли, потом опять несли. – Роберт тянул звук «и» в конце каждого слова, как делают, когда рассказывают сказку детям.
– Ясно. Я ногу не подворачивала?
– Да вроде нет. Шли, разговаривали. Вдруг ты – бух, и скопытилась. Сейчас как себя чувствуешь?
– Отлично. Ни тошноты, ни головокружения, как на нормальных высотах. Прямо класс.
Я принимала ванну, расчесывала и завязывала в гладкий «конский хвост» волосы, глядясь в запаренное зеркало, потом ела много и жадно, разговаривала с Робертом, разглядывала цветные тряпочки с магическими знаками, развешанные повсюду, потом мы решили пойти любоваться тибетцами, что истово осуществляют простирание перед святынями ближнего монастыря, а у Лхасской соборной мечети – местными мусульманами, потомками торговцев из Кашмира и Ладакха; договорились рано утром опять подыматься в горы на съемку, и потом снова шли в мутное небо, и накрапывал и густел дождь среди гор, и ползли в разные стороны, спрятанные под прозрачными голубыми и сиреневыми дождевиками люди по жесткой траве, крапленой мелкоцветьем, в поисках драгоценного полурастения-полуживотного, продажа которого хитроглазому толстяку, что пасет их, может обеспечить нормальное житье на сезон, до следующего периода сбора.
И потом я опять потеряла сознание.
Через день Роб собрался подыматься на съемку без меня. Я умоляла его взять меня с собой, он не соглашался. Я требовала, я не хотела верить, что упущу возможность в третий раз быть внесенной на медных руках под звон колокольцев в графитовых косах в сухой и горький воздух шатра, что не прильну грудью к маслянистой полированной коже, что не смогу ощутить внутри себя колыхания гор и туч.
Роб отказался идти совсем. Он не понимал, что происходит. Он был напуган.
– Посмотри на себя! – кричал он. – У тебя глаза ошалевшей кошки. Ведьма какая-то. Что с тобой происходит? Зачем тебе снова туда тащиться, если ты все время теряешь сознание? Что тебя тянет? Два раза уже. Каждый раз знаешь, как за тебя пугаюсь! Ты же не просто в обморок падаешь, ты на длительное время отключаешься! Не дышишь совсем. Тебе бы понравилось, если бы я вот так тебе нервы мотал? Я за тебя ответственность несу, ясно? Хватит. Баста. В конце концов, даже если ничего не снимем, никто нам голов не оторвет. Ситуация неординарная, надо было отправлять нас большим составом. Твое психическое состояние обусловлено перепадом высот… и… я не знаю, какими-то еще привходящими обстоятельствами. Здесь что-то нечисто. Это Тибет, детка. Для одних – просветление, для других – вот такой полный коллапс. Надо собираться домой. – Глаза Роба на худющем усталом лице злились, кололись, вся мужская закрытость к непонятному, необъяснимому бунтовала и требовала к себе уважения.
После долгих препирательств я взяла камеру и села одна в ожидавший нас джип. Главное, не выпускать ее из рук, вцепиться мертвой хваткой, чтобы, когда наступит обморок, удержать.
Я сняла, как расползаются существа в полупрозрачных капсулах по раннему туману, как шевелятся терракотовые некрупные руки, раздвигая травинки, запуская ногти в почву, как радостью закипают пузырьки слюны в углах ртов, когда среди темной и блеклой зелени открывается бурый клювик ярцагумбу, как маленькой мотыжкой крайне осторожно вспарывается земля и извлекается из сырого комка крошечная целебная мумия, воспетая не желавшими стариться древними китайскими царями.
Я сняла нагромождения серых и желтоватых горбов, углы и полуэллипсы, каменистые тропы в бледной пыли, подъем солнца в прорывах небесного свинца, быстроглазые лица с умбровыми пятнами загара на скулах; сняла трапезу, когда миска с мукой, запаренной кипятком, благоухая ячьим жиром, досталась и мне; сняла хитроглазого, и его добычу: выкупленную за гроши пригоршню кордицепса, которую он продаст втридорога знающим людям; сняла низкорослых изящных лошадок и величественных, хоть еще и недолинявших яков, пасущихся ниже на майских лугах. И потом я привязала камеру к плечу церемониальным шарфом и продлила перевязь вокруг талии, легла в ложбинку под защитой каменного уступа, увидела, как изгрызенные небом вершины рвут в отместку животы облакам, разбрасывают клочки и тонут в них, измельченных, – и закрыла глаза. Я ждала, когда яки всплеснутся в вихре шелкового движения, и ячьи глаза человека заставят распахнуться мои, когда взрыв грома сотрясет демонов, и те в дикой силе раскидают молнии в небесах, когда заскользит по мне шелк одеяний танцоров ритуала Цам в кругу, очерченном мукой или ткаными стенами шатра. И я сниму все это, запечатлею и покажу всем.
Утром следующего дня меня нашли спускавшиеся после коры с перевала американцы, которых вели по направлению к Лхасе два проводника. Меня переодели в сухое и привязали к лошадке, так как я была очень слаба, и высокая температура мутила мое сознание. Камеру подхватили паломники и несли рядом, в поле моего зрения, чтобы я не волновалась. Когда мы следовали мимо собирателей ярцагумбу, я упросила спешить меня и дать в руки камеру, чтобы заснять с плеча необычное: группа людей собралась на трапезу, и один из них – молодой длинноволосый и стройный, ракурс, к сожалению, был таков, что мне не удавалось поймать лицо, – запел. Это была гортанная импровизация, голос гулял с нижних нот к верхним и обратно, вился и закручивался, становясь все более упругим, горло клекотало, полнилось раскатами пузырьков, воздух охотно относил звуки бежевым сыпучим холмам, и дальше – к холодным высотам, что радушно принимали песню и возвращали её с ветром; незнакомые интонации множились и витийствовали и, наконец, вырвались в небо веселым и одновременно смущенным смехом. Я снимала. Колокольчики в графитовых косицах певца звенели.
12.
Я просыпаюсь на закате. Натянув купальник и обвязав себя легким шелковым сином, слетаю к заливу, к соленому и вечно теплому Сиаму.
В бледной плоскости неба зияет отверстие в космос. В идеально круглой дыре – пламя. Тоже ровное, но нестерпимо яркое, малиновое. От жидкого этого сияния расходятся круги, замирают и держатся, почти невидимые, почти воображаемые, прищуром твоих глаз рожденные. Светило бросает вниз, на воду, медную зыбучую сеть, подвижную дорогу от себя до самого края сырого песка, и он отражает темный свет солнца. Сеть плещется, кипит и манит пройти по ней к Солнцу-дыре, которая накаляется, стекленеет и тяжело, но мучительно скоро перемещается, погружается в разрез, в невидимый зазор между небом и заливом. Это движение можно было бы назвать падением, но ощущение, что оно не подчинено никакой иной воле, кроме воли самого Светила, что правильная по форме плоскость, пылающая тарелка сама желает соскользнуть вертикально по заднику именно в таком, выбранном, точно рассчитанном темпе, утверждается неоспоримой царственностью нисхождения.
Теперь все пожирает тьма. Она никак не может насытиться, жадно глотает, плохо пережевывая, сначала остатки заката, потом сумеречный переход, а потом, давясь и захлебываясь, отправляет к себе в утробу саму ночь вместе с луной, которая никак не может закончить свое созревание, и малой горстью глупо беспечных звезд.
Никакие освободиться от мелькания в сознании знаков и цифр, отражающих обрывки решений задачи особой сложности. Живое и мертвое. Органика – неорганика. Высшая эклектика. Совмещение несовместимого. Проникновение взаимоотрицаемых частиц друг в друга. Вот, вот сейчас! Такой зуд, такое беспокойство! Кажется, взрыв, озарение – рядом, только немного дополнительного напряжения и…
Но все исчезает. Резко приходит покой.
Синяя птица летала не в поиске пищи и питья, не стремясь донести добычу птенцам, не озабоченная иными надобностями. Она играла, то замирая на воздушной волне, то плещась и планируя, а то и вовсе роняла свое тельце, будто подкошенная или кем-то уроненная падала, распластав крылья, тяжестью стремясь к земле, не борясь с ее притяжением, пролетала так несколько метров вниз и вдруг, будто опомнившись, застывала, замирала, на мгновение, не достигнув земли, и взмывала вверх. Это был чистый трюк, классно выполняемый, с чувством превосходства над законами природы, мастерски освоенный и повторяемый ею время от времени с блеском. Она играла! Она радовалась жизни, как радуются и играют щенки и котята. И взрослые звери в хорошую погоду на солнечной пятнистой траве.
Видела ли я эту птицу поутру с восьмого этажа, стоя у высокой стены-ограждения бассейна или это был сон?
Я проживаю во сне чужие жизни. Нет, это не чужие сны. Не имею свойства подглядывать. Сны – мои, собственные, принадлежат мне всецело, но жизнь в них – не моя. Точно знаю, что это – эпизоды чужих жизней, которые доверены мне для проживания, как роли в кино – актерам. Ответственно и опасно проживать чужие жизни. Даже во сне. Их, этих жизней, которые мне приходится примерять на себя, много. Они сложны, подчас запутанны, захватывающе интересны, порой печальны.
Выкарабкиваюсь из снов в свою личную, только мне подвластную жизнь, распахиваю стеклянную стену. Снизу уже тянется пряный запах курений, что запалил Во, юный камбоджиец, дежурный на дверях нашего кондо, посменный охранник. Курения дымятся в стаканчике на полке Домика Духов, раскрашенного золотом небольшого белого строения со скульптурками и зонтиками, как у буддийских храмов. Однако к буддизму отношения эти святилища не имеют. Об анимизме, древнем веровании, одушевляющем предметы и животных, рассказывает мне Во, откинувшись в пластиковом кресле, с шиком закинув ногу на ногу. Так он демонстрирует некоторое свое превосходство над остальными дежурными, которые вскакивают навстречу жильцам и почтительно складывают руки в вай. Во – другой. Он говорит по-английски, давно в стране, всё знает, во всем разбирается, к каждому жильцу имеет свой подход, с каждым построил особые отношения. Некоторую развязность в поведении Во позволяет себе в моем присутствии, потому что я его балую: угощаю соком и печеньем, всегда хорошо плачу за мелкие услуги, что, разумеется, не остается безнаказанным. Демократичность чревата. Колониальная политика всегда диктовала, что с местными белому следует быть строгим. Фаранг должен сдержанно улыбнуться, несколько свысока посмотреть, принять услугу как должное. Европейцы и австралийцы придерживаются этих правил. А нам – хоть кол на голове теши. То фамильярны, то расточительны.
Бо говорит, что их древнее верование требует задабривать духов, вполне положительных, и злых – всех, на всякий случай. Для них всюду расставляют еду и питье, и цветы. Не только у солидных домиков при отелях и ресторанах, но и перед магазинчиками и кафешками на каком-нибудь табурете или столике. Так и живут здесь люди, в согласии с идеями тхеравады, параллельно прикармливая невидимых существ.
Полюбовавшись дымком курения – сизым ручейком, что сочится снизу среди банановых листьев, поднимаю глаза. Впереди – перламутровая выпуклость залива. В раннюю дымку осторожно погружены острова справа, ближе ко мне шевелятся шаровидные головы высоких пальм. Воздух зыбок, солнце пока сдержано. Все как всегда. Я спускаюсь к морю и с удивлением наблюдаю сбор кокосов с прибрежных пальм. Крепкий таец отправляет в крону дерева длиннющий шест, составленный из двух отрезков желтого твердого бамбука. Там, на десятиметровой высоте, шест утончается и завершается крупным металлическим крюком, которым надо сорвать округлый зеленый плод. Сборщик прилагает резкие усилия, одно, два, три, плодоножка рвется, кокос летит вниз. Здесь его поджидает мгновенная ловкость второго участника сбора: нераскрытый мешок, схваченный только за два близких угла, неуловимым движением залавливает в себя стремительно приближающуюся к земле тяжесть, и тут же освобождается от нее, легко роняя кокос на песок. Ловец оказывается в той единственной точке, куда следует подставить мешок, в одну секунду привычно определяя траекторию полета. Ошибка в несколько сантиметров – и килограммовый хранитель прозрачной освежающей жидкости угодит в голову с десятиметровой высоты. Вот, один шар упущен, он грохается на песок, с треском раскалывается, разбрызгивая свое содержимое. Сначала мне казалось, что кокосы падают внутрь мешка, и это удивляло: как же они там не разбиваются друг о друга? И держать их все вместе, должно быть, ловцу тяжело. Но наконец я приметила короткое движение, которым он сбрасывает каждый пойманный зеленый шар прочь, на песок. Парень действительно умудрялся залавливать зеленую тяжесть не кульком, не свернутой как-либо тканью, но плоскостью мешковины. Когда пляжный песок под пальмами обильно запестрел сочной зеленью, ловец извлек из сумки тяжелую недлинную металлическую трость с острым, жутковатого вида крючком на конце и, коротко, неглубоко, с характерным звуком накалывая и ловко подхватывая ею плоды, перекидал их все по очереди в сумки.
После зарядки в воде и недолгого плавания я возвращаюсь к себе. Завтракаю одна, проглатывая изрядное количество лактобактерий, коими насыщен биойогурт из килограммовой банки, по консистенции напоминающий сметану, закусываю его моим любимым ланг-конгом, наслаждаясь скользкостью и сладким ароматом полупрозрачных шариков, которые прохладно катаются по языку, прежде чем раздавленные и разгрызенные скатываются в пищевод. Пью кофе, сдобренный кокосовым молоком, и усаживаюсь за ноутбук для заметок и зарисовок. В тот же час, что и на Пратамнаке, от записей меня отвлекает звон колокольчика, что держит в левой руке, сейчас я хорошо это вижу сверху, человек на вывернутом задом наперёд трехколесном велосипеде. Меж двумя передними колесами закреплена алюминиевая емкость с крышкой. Зрелое утро рвётся, как бумажное натяжение на цирковом кольце, в которое прыгают цирковые животные, обращая его в белое тонкое шуршание. Звук разрушаемой усилием всего тела бумаги в замедленном движении сухо ссыпается, утрачивая резкость, переставая быть внезапностью. В прорванное и разверстое утро медленно вкатывается трехколесный рак, противоход реальности, сыпучая звуковая невероятность. Половина двенадцатого. Я смотрю с лоджии на кружащее по пустому пространству парковки соседнего гиганта-отеля чудовище, беззащитное и неумолимое. Оно дребезжит и без остановки, гонимое собственным аккомпанементом и, используя звуки как дорожку, по которой можно лететь, плавно уходит из поля моего зрения. Он передислоцировался? Бросил Пратамнак и поселился на Джомтьене? – пытаюсь я шутить сама с собой. Это не тот, просто еще один под точно такой же шляпой, сопровождаемый точно таким же звуком, – думаю я, упуская его из виду. Мне не удается убедить себя в этом, но до завтрашнего дня я забуду о человеке с колокольцем.
В России шуршали, шевелились, подергивались в ожидании конца света. В сетях, по радио и ТВ устало и однообразно шутили над толкованиями предсказаний календаря майя, то же происходило и между людьми на работе и дома, но в этом юморе было много черноты и страха. Обыватель готовился, дрожал и не знал, что бы такого еще предпринять, дабы избежать единовременной смерти. С прилавков уже были сметены подчистую соль и консервы, макароны, «сухие завтраки» и крупы, оптовые базы и супермаркеты «наварились», как никогда, хотя их владельцев потряхивало при мысли, что прибыль может и не удастся пустить в дело, по причине всеобщей катастрофы. Кое-кто складывал наличные ящиками в бункеры, хотя догадывались, что дензнаки из прошлой жизни после потопа, скорее всего, потеряют силу. И все же, береженого бог бережет, – прорывали ходы из подвалов особняков в сторонку к пустырям, чтобы выйти из-под завалов с золотишком и камушками, заказывали строительство семейных бункеров, устанавливали цистерны с питьевой водой. Интеллигенты саркастировали, ехидничали над теми и другими, давая понять, что в глупости не верят, а если и случись чему, то вообще что-либо делать бессмысленно, но втихаря рассылали письма с выражением симпатии и любви родственникам, о которых сто лет не вспоминали, впадали в сентиментальность, писали на кухнях многоэтажек и доживающих свой век хрущевок апокалиптические стихи. Симптомов, предвещающих скорую погибель мира, обнаружилось предостаточно. Ветры, снегопады, дожди и их отсутствие, легкие и сильные землетрясения, бураны и смерчи, а также всевозможные «знаки на небе», рождения «необычных» младенцев, политические перевороты, все то, чему прежде пристального внимания не уделялось, теперь стало важным и говорящим. Из-за рубежей страны доносились речи ожидающих прихода мессии-антихриста, Христа в женском обличье и свершения иных предгибельных чудес, было установлено место, куда явятся спасатели-инопланетяне, в общем, вне России тоже усиленно готовились. Ночь 21.12.2012 многие на территории необъятной родины провели в питейных заведениях, внеся посильный вклад в благосостояние рестораторов. Когда настало мирное зимнее, во многих регионах солнечное утро, почти успокоились. Дожили до вечера и принялись убеждать окружающих, что и в мыслях не имели поверить в этот бред, а так, прикалывались.
В Тайе как-то мало беспокоились по поводу ожидаемого природного катаклизма. Скорее всего, по причине врожденной тайской легкой безалаберности и привычке жить одним днем. А может, потому что по тайскому календарю шел 2555-ый год, и у буддистов конца света вообще не предвиделось.
– Как ты думаешь, Старый, – в голосе Сандры всякий раз при произнесении его имени что-то нежно бледнело, смягчалось, – как ты думаешь, эта любовь к сиюминутным радостям у тайцев как-то связана с их Тхеравадой? Ведь менталитет во многом формируется под воздействием религии. У русских здесь мнение: «они буддисты, им все пофиг».
– Господи, с какими «русскими» ты общаешься?! Насколько мне известно, простые тайцы, да и многие рангом повыше, представления не имеют о том, что такое истинное вероучение. Они знают, что придут в жизнь еще раз и, чтобы жизнь следующая была богаче, надо зарабатывать очки, тхам бун – обязателен. А этим самым добрым делом у них считается кормление монахов и дарение им дозволенных подарков. Все просто: почитай монаха, корми монаха, отдай сына хоть ненадолго в монахи – будет тебе счастье. А о том, что жизнь – страдание, от которого можно избавиться, совершенствуясь в реинкарнациях, что нирвана, абсолютное и вечное небытие, есть избавление от жизни-страдания, они, боюсь, особо не задумываются. Тайцы наоборот считают, что жизнь – сплошное наслаждение, только с буддизмом это их жизнетворчество никак не связано, более того, противоречит буддизму. Тайцы стараются поменьше работать и побольше радовать себя. Есть немного денег – скорей выпить, поесть, нет – занимаю и иду за лотерейным билетом или в игровой салончик. Живут себе – санук, сабаи, суэи – удовольствие, приятность, красота. Чаще – красивость. Вот такой буддизм.
– Да, уж вот, кто «не парится».
– Не употребляй вульгаризмов.
– Я же в шутку.
– Православная паства тоже не очень разбирается в значении Троицы. И искупление Христом общечеловеческого греха на кресте тоже не каждый осмысливает. «Верую», и все тут.
– Монахи-то понимают? И православные и буддийские?
– Их учат. Ват – это и школа, и университет. Многие идут в монахи, чтобы получить бесплатное образование. Потом уходят, уйти можно. Пока не принял окончательного решения остаться навсегда. Но несколько лет пребывания в монастыре еще и заслуга, шаг к просветлению и через знание, и через поступок. Сандра, а ты видела, как осуществляется бинтхюж абат?
– Подаяние монаху? Да. Но и еще бы разок не мешало.
– Значит, надо встать в половине шестого утра и отправиться на пирс к лодочникам, которые в это время приходят с уловом крабов на берег. А тут и монахи пойдут… Завтра?
– Договорились.
– Дорогая моя барышня, вы дневник вести продолжаете?
– Пытаюсь.
31 декабря Паттайя пахла костровым дымком далекого сентября. Берег Сиамского залива пах осенью. Ветер шелестел, прохладными движениями подхватывал сохнущий шелк на лоджии, волок внутрь комнаты. Ветер вихрился в плотно цветущем дереве справа, невдалеке, над рядом деревянных бунгало с припаркованными серебристыми, длинными, как крокодилы, пикапами. Птицы длили свои разновысотные песни, небо, плоско выстланное облаками, бледнело и не мучило солнцем. И вот опять ветер, мягкий, почти прохладный, подхватил под бедра, приподнял над кованым витым стулом, освежил тело и проник в сознание грустью и светом: сегодня придет Новый год. Утро 31 декабря 2012 года пахло российской осенью. Ветер вечного лета шевелился в роскошных пальмовых шевелюрах, там, внизу, под лоджией и чуть поодаль – у кромки воды. Он трогал пальмы высокие, кокосовые, с небольшими относительно длительности тонких стволов шарами крон, с такими же округлыми, как кроны, плодами, провисшими под изящными перьями листьев. Он двигался в саговнике – пальмах низких и раскидистых, острострельчатых в резьбе каждого огромного листового крыла, и в пальмах самых богатых красотой, что шевелятся древесными ветками, симметрично и густо украшенными темно-изумрудной листвой, напоминая хвост какого-то пышношкурого животного. Осень разлилась среди синих и красных азиатских черепичных крыш, среди усыпанных сочными, белыми и розовыми цветами плюмерий, именуемых в народе франжипани, в память о дворянине, создавшем духи с использованием аромата этих цветков, среди фиолетовых орхидей, прильнувших к пальмовым стволам, среди банановых, порванных ветром травяных листьев и пока еще мелких плодов, гроздьями зреющих между хрусткими лепестками огромных съедобных буробордовых цветов. Новогодний сиамский ветер напомнил игру иного ветра в кронах иных, далеких и безлистых в эту пору дерев.
13.
Еще один день был отмечен гибелью тысяч невесть откуда взявшихся мотыльков. Никто не видел их летающими, но утром вода в бассейнах, автостоянки, лоджии, песок на берегу были усеяны сухими темными крылышками, будто коричневые цветы распотрошил ветер, и лепестки рассыпались повсюду, жухлые, полупрозрачные. Скопление, множественность, когда это связано с насекомыми – неприятно. Казалось, крылышки шевелятся отдельно от мелких желтоватых телец, похожих на жучков с рифлеными брюшками. Явился бриз, усилился, крылышки и брюшки исчезли. Утро то брызгалось солнцем, то капризно мрачнело. Залив гудел, настраивая хрипловатые трубы, наполняя их влагой и ветром, раскидывая их мощные жерла туда и сюда, чтобы, пропущенные сквозь их пустоты воды выталкивались силой воздушных масс и извергались, и шваркались на песок обильными сиплыми пенами. Вода густела и пузырилась в ласке к песку, и тот спешно засасывал, втягивал ее в себя и ждал нового удара, исторгавшегося из труб. Залив будоражил сам себя, бурчал, возмущался, принимался вовсю шарахаться, наскакивать уже без чувства и смысла на берег, но песок, влекомый водой, покорно сдвигался к глубине и возвращался обратно, ничего не теряя, не меняя настроя, не тратя лишних сил. Равнодушный и податливый, он хранил энергию каждой песчинки, индифферентной к безумствам стихии. Свою неизбывную меланхоличность, свою флегматику песок будет нести вечно, залегая, замирая на дне, или сухо пересыпаясь на солнце, неизменно, в противовес беспокойной, эмоциональной воде, подчиненной злым умыслам ветра.
Мне вспомнилось впечатление из одинарного моего бытия, кажется, женского. Картина на выставке молодой польской художницы. Точнее, лист. Графический набросок полулежащего гермафродита с нежным женским телом и зачатком мужского члена меж рыхлых, слегка разведенных бедер. Лицо существа почти не имело глаз, только рот, полураскрытый бутон, пухлое вздутие, зовущая, засасывающая взгляд воронка. Чувственность воспоминания напрягла мою память, и она вытолкнула, вышвырнула виденье, будто никогда я не была на той выставке, никогда не задумывалась, стоя перед этой работой о сущности двуполого бытия. Совмещенного, трансмутированного одним в другое.
Нет, это еще не трансмутация. Еще не всё. Еще не финал.
В Великом Делании присутствует личная тайна делателя, его и только его муки пути, единственность завершения его собственного секретного поиска. Эта тайна может состоять из стольких, порой некрасивых и даже уродливых слоёв, из стольких перемен, темнот и сверканий, из такого смешения грязных и чистых пятен, сочетание которых вряд ли сможет понять, осмыслить другой, распознать в чуждой сумятице истину, узреть в ней беспредельное сияние, что открывать сей ларец напоказ никак невозможно.
Соседские собачьи стаи умножились щенками. Собачье царство Паттайи плодилось щедро, весело, беззаботно. Собаку здесь человек не обидит, накормит, а часто и полечит. Буддист не прихлопнет комара на себе. Не шлепнет газетой муху. Что говорить о собаках. По дороге к пляжу в одном из дворов двухэтажного многоквартирного тайского дома с кондиционерами подрастал приплод черной хромоножки и крупного рыжеглазого пса, командира всей улицы. Пес влёгкую отнимал туристские подачки и у Хромушки, и у собачьей детвы, поэтому Сандра, окруженная громкими собачьими подростками, сначала кормила с руки пугливую мать, потом принималась за щенков. Те поднимались на задние лапы, упирались в ее колени, толкались, повизгивали. Сандра теснила уже получивших куски, более настырных и сильных, совала в рты порции курицы или рыбы тем, что послабее и потише. Щенкам всегда было мало, сколько ни скорми, и они следовали, галопируя и вприскок, покусывая ей икры, до самого ее кондо.
Новый помет, что жил в заваленном мусором кустарнике влево по сойке от кондо, был пугливее, затевал потасовки, катался пыльным клубком по дороге, рассыпался, чувствуя приближение байка или компании, идущей с пляжа, утекал вниз, сквозь стволики кустарника, на самом деле лианы, тайской орхидеи, в англоязычном мире называемой мотыльковым горошком и голубиными крыльями. Растения вышиной в человеческий рост, обсыпанные сапфировыми, ультрамариновыми замысловатыми цветами, имели еще одно имя, данное им шведским врачом и натуралистом, создателем единой системы растительного и животного мира, Карлом Линнеем. Классификатор библейских растений, натуралист, возделыватель оранжерейных садов сладострастно усмотрел в изысканном бутоне явственное сходство с интимным женским цветком и дал ему имя. Клитория, так звучит научное название в русской транслитерации. Schamblume, срамной цветок – разновидность имени, определённого естествоиспытателем барочной эпохи прелестному растению. Собранная ранними утрами, особым образом высушенная и позднее правильно скрученная умелыми пальцами синяя нежность, в заваренном кипятком виде давала такую густоту цвета, что питье казалось искусственным.
В первый раз синего чая Сандра отведала в гостях у Нари. Там же она узнала название цветка и вспомнила имя ученого, который так его нарек. Тонкий кисловатый вкус и слабый, специфический аромат не произвели бы особого впечатления, если бы не этот окрас.
– Это природный цвет. Чай не купленный. Не из пачки. Вот, смотри – это цветки, готовые к сушке. Я сама собрала недавно. Полюбуйся на строение: искусство! Природный арт! Форма более замысловатая и изысканная, чем у орхидей, которые все так любят. Таинственная форма.
Я разглядывала цветок, слушала Нари, и мысль о том, что она заслуженно носит звание доктора русской филологии, – так замечательно точно выражала она мысль на чужом языке, – путалась с мельканием вопросов: почему её так интересует эта форма, прооперирована ли она, сменила ли она пол окончательно, обрела ли всё, о чем мечтала. Ведь так мыслить, так восторгаться может либо существо, вожделеющее к «цветку», либо желающее иметь его в себе, быть им. Я смотрела на изысканную тройную спираль синего атласа, в глубине которой вспух внутренний наростик, я разглядывала слабо рифленую бахрому и синий густой глазок в сердцевине, я любовалась колокольцем, полураскрывшим рот и отгоняла от себя дерзкие мысли. Какое мне дело? Какое я имею право думать о чужой интимности? И вдруг осознала, что пытаюсь через Нари понять самое себя.
– Ты знаешь, что такое тантра? – продолжила Нари.
– Это текст. И учение.
– Да. Сокровенный текст. А еще в дословном, буквальном переводе – ткань, то есть то, что сплетено, вплетено в жизнь, в процесс, некое хитросплетение знания и существования в нем. Есть и другое понимание происхождения термина, от значений «таноти» – расширение сознания и «трайати» – освобождение. Тайна я наука. Мистический ритуал. – Нари говорила полуотвернувшись.
– Может быть, это грубо, но на слуху словосочетание «тантрический секс». Понятие, разумеется, вульгаризировано, профанировано даже. «Специалисты» организуют «клубы», «обучающие семинары». Бизнес, хороший доход. Многие ведутся, платят, «раскрепощаются», – мне самой казалось, что я говорю это специально, чтобы спровоцировать Нари, и она поддалась:
– В Европе прикасаются к нашим учениям грязным мышлением, не понимая, чем это чревато. Пошло. Банально. Преступно. Потом придется расплачиваться горько. – Нари помолчала, повернулась к книжным полкам, взяла тонкой рукой бронзовую скульптурку: – Майтхуна – священное соитие двух божеств. Единение через взаимопроникновение. В Майтхуне два божественных тела становятся одним. Шива и Шакти сливаются в единое – муже-женщину. Есть масса изображений одного человека с двумя половинами тел по строению и одежде разных полов. Вот видишь, двуполое существо, правая часть мужская, левая женская. Индийская штучка.
Я потянула любопытный предмет к себе: приятная тяжесть, жухлый блеск, тонкая проработка лиц, кистей рук, танцующих ступней, изящная поза. Не хотелось возвращать вещицу на место, я торопилась рассмотреть статуэтку со всех сторон. Нари продолжала:
– Первочеловек, андрогин, библейский Адам, содержащий в себе мужчину и женщину одновременно – продукт божественного акта майтхуна. Тантрическая Майтхуна – это средство растворения эго. Надо понимать, что это не обычный акт любви, когда сливаются в экстазе партнеры. Это неразделимое духовное соединение в одном физическом теле. Здесь находит свое воплощение тайна алхимического превращения «ртути в золото», то есть превращения сырой сексуальной энергии в энергию духа.
– Но для этого превращения необходима тинктура, магическая субстанция, способная сплавить воедино два животворных начала, нечто, без чего не может осуществиться Деянье, – я смотрела прямо в глаза Нари.
– Тинктура? Не знаю. Необходима длительная раздельная и совместная медитация. И понимание соития как практики духовного самосовершенствования. Рост и расширение сознания. И утонченность и эстетизация действа. – Казалось, Нари сердилась.
Она уходила всё дальше, вглубь понимания йогических практик, упомянула, что эти знания не чтутся в тхераваде, далеки от исконного буддизма, Буддой Шакьямуни не практиковались, не упоминались даже, но ей самой интересны. Я глотала синий чай, слушала Нари и рассматривала пустоту внутри себя, свое неведение, незнание о себе чего-то главного, важного, того, что неизменно ускользало всякий раз, когда я пыталась сосредоточиться и найти ответ на вопрос, что я такое? Тут же хотелось ответить: да ничего, человек, девушка симпатичная, пока одинокая, свободная, не влюбленная ни в кого, да и только. Остальное – выдумка, сон, показавшийся явью, событие, которое надо похоронить в прошлом, если оно вообще было. Сейчас нужно мчаться к Старику, тащить его на вечернюю прогулку вдоль отлива, любоваться тайской молодежью, девчонками и ребятами, что плавают, не раздеваясь, прямо в футболках и шортах, резвятся вместе с веселой детворой, барахтаются, будто не умея плавать, совсем близко от берега.
Поначалу, наблюдая за молодыми тайками, Сандра не могла понять, почему они носят одежду с рукавами в жару, и даже купаются так в море, потом заметила: пожилые торговки, что утюжат целыми днями пляж, увешанные нехитрым своим товаром, упакованы в длинные брюки, головные уборы с козырьками и скроенными единым целым с кепкой полумасками и воротом, в перчатки и даже плотные носки, втиснутые во вьетнамки. Потом Нари объяснила, что все тайки хотят быть белыми, в Таиланде нет крема для лица и тела без добавления отбеливающего цинка, что женщины не боятся жары, но боятся солнца. У Нари в машине постоянно жил набор тонких трикотажных нарукавников разных оттенков к разным нарядам. Нарукавники от запястья до плеч натягивались, если приходилось пробежать от автомобиля до двери учреждения. Нари гордилась своей светлой от природы кожей, которая хоть и имела легкий оливковый оттенок, была гораздо белее, чем у многих ее соотечественниц. Признаком аристократизма, высокой крови, был этот компонент ее красоты, тщательно охраняемой от грубого воздействия солнечных лучей. В тайских рекламных роликах девушки всегда представали иссиня-белыми, словно вампиры в американских страшилках, а когда снимались интервью, было заметно, что вся эта неестественная белизна организуется искусно установленным освещением, особыми лампами, выходя из поля действия которых люди обретали натуральный смуглый, здоровый и естественный для этих широт цвет кожи. Странным казалось Сандре это желание невозможного. Абсолютно белых чистокровных тайцев не бывает. Зачем же так отчаянно бороться со своей природой? Ясно, самая темная кожа у бедняков, работающих световой день на рисовых полях. От обратного, светлая кожа – признак достатка. Но не до такой же степени! Все знают, что на телеэкране у дикторов и ведущих, эстрадных звезд и героев сериалов не настоящий цвет кожи, что это подделка, и тем не менее все стремятся соответствовать невозможному.
Вечерами тряпочные шлемы с козырьками, перчатки с открытыми кончиками пальцев, грубые носки и выгоревшие длиннорукавые футболки исчезали со всех женщин, и они демонстрировали свою сохраненную, утаенную от солнца красоту кавалерам, мужьям и друг другу, ужиная большими компаниями в бесчисленных открытых народных ресторанчиках или, сидя на циновках, брошенных прямо на тротуар вдоль пляжа.
Сандра повела Старика по песку мимо заката, мимо тайцев, что резвились в воде, полной закатного солнца. Они двигались в сторону нового, не до конца достроенного храма, поглаживая ступнями плоские спины приползающих волн, увязая в мягкости сырой береговой кромки. Старик и девушка успели добрести засветло почти до рынка, что шумел в двух кварталах от их жилища, пересекли Джомтьен-роуд. За аляповатым, украшенным веселым красным нагом и палийскими письменами входом петухи и куры непривычно высокими, цапельными ногами мерили пыльные пространства дворов с разбросанными по ним незавершенными, неприбранными еще храмовыми постройками. Монахов не было видно, они впитались в объемы строений, влились едином охровом массой в свои медитативным рам, в вечернюю церемонию. Но не молиться ушли они. Молитвы здесь быть не может. Тантра не есть молитва. В их миропорядке за отсутствием бога не к кому обращать просьбу. Нет в этом мире и паствы. Беспристрастная природа буддизма возлежит вне человека и не подчинена никакому высшему существу. Не у кого просить освобождения от твоей вечной неудовлетворенности, от дакха – страдания. Просить некого и не о чем. Просьба бессмысленна, ибо бессильна. В этот час монахи внутри законченного, вымытого, убранного цветами и необходимыми атрибутами вихарна, как положено, обращенного фасадом на восток, просторного, украшенного росписями и статуями Будды, сосредоточились и погрузились вглубь пустоты, вглубь собственной отрешенности, отчужденности от мира и себя самих, от памяти чувств и требований плоти. Все вместе, каждый в свою пустоту.
Осторожно опускались во мрак усыпанные цветной битой плиткой стены, подставляя осколки разных оттенков от белого и розового до синевы и бирюзы угасающим солнечным лучам, чтобы те отразились и перепутались в тысяче ломких поверхностей, взбежали вверх по оконным резным, крытым золотой росписью наличникам, воспалили по остриям крыш несчитанных чофа-птиц. И разгорались, и пламенели они над строениями с привычными монахам именами: бот и прасат, вихарн и сала – вместилищами почитающих Будду, и над хранилищем священных книг, что имеет название мондоп. На прощанье шевельнулся жаркий воздушный поток, задел колокольцы на каждой чофа – украшении в виде вытянутой шеи и головы мифической птицы Гаруда, зазвенел весь ват нежно, взвеселился и без того смешной, будто для детей или детьми строений комплекс, закачались тени от неумытых еще, в цементной пыли выпачканных нагов, хвостатых, чешуйчатых, улыбающихся. В оконные проемы вошли тени близкой ночи, легли на дно неубранных малярами ведер.
– Объясни мне, Старый, если правильнее всего уйти в монахи, отказаться от любви и привязанностей, от рождения детей, от заботы о стариках, если надо большую часть каждого дня устремлять свой разум в прекрасную пустоту, в средоточие небытия, зачем эта резьба, эта живопись, эти цветы, эти несусветные многоярусные черепичные крыши, эта яркость? А здесь так вообще весь храмовый комплекс, как детский сад, разноцветная страна для малышей. А, Старый?
– Чтобы было чем жертвовать, от чего отказаться, наверное. Вот она – бренная рукотворная красота, приносящая боль и ничего, кроме боли, ибо самой явленностью своей она постоянно напоминает о краткости бытия своего и человеческого, о миге, который величается жизнью. Жизнь – есть смерть. Вдох, один только вдох длиною в жизнь. И – выдох, и – всё. Жизнь – краткий вдох и продлить этот вдох, повторить невозможно.
– Старый, я хочу жить. Я не мудра, я никогда не обрету мудрость. Я так хочу жить! Я ненавижу смерть. Мне страшно, Старый!
– Не думай об этом, радуйся. У тебя еще вон сколько времени. Еще только чуточка откушена, пережевывай всласть. Хочешь, завтра отчалим на Север, сменим обстановку? Ну как? Пора уже, засиделись.
– Вот это мысль! Вот это дело! – Девочка повеселела, задвигалась, заговорила быстро: – Знаешь, я так есть захотела! Самым невозможным в жизни монахов мне кажется то, как они питаются. Ну как это, есть один раз в сутки? Это же голодовка какая-то. Ну и даже если два раза. В юности все всегда голодные. И как молодые монахи, ребята-студенты? Вечные мысли о еде, как в армии? Но это же мешает медитации? Старый, как мне хочется с ними об этом и еще о многом поговорить! Слышала, это не возбраняется.
– Вот в Чианг Майе и поговоришь. Там университеты в ватах, общение монахов с иностранцами на английском – обычная практика. Где ужинать будем?
14.
Слава Богу, скайпа не требовали, Сандра ограничивалась редкими и краткими письмами-отчетами. Теперь она написала Ярославу, что в скором времени они со Стариком выезжают на север Тайя, съездила на автостанцию за билетами, сняла с карты денег, обменяла на местную валюту. Старик давно продиктовал Сандре код: на рынках, в мелких магазинчиках и кафе, на пляже расплачиваются только наличными. Во второй половине дня собрали вещи, устроили себе поздний обед-отходную с белым тайским ромом в ресторане под своими же окнами. Вечером двинулись. Шел дождь. Не вовремя, непривычно для местного населения, он охладил январский вечер, протащил по серому небу громы, разозлился зарницами. Сухой сезон в этот год вымок в кратких, но обильных ливнях, удивительных для тайцев и комфортных для фарангов, отдыхающих в эти часы от навязчивой, утомительной жары. Путешественники натянули на себя яркие клеенчатые дождевики и прямо в них уселись париться в такси, вылетевшее сразу через Чаепрык на Сукхумвит и по прямой за десять минут доставившее их к автовокзалу за мечетью. Пока докатили свои четырехколесные чемоданы от такси до баса, где низкорослый водитель-крепыш ловко погрузил их в багажник, струи колотили по капюшонам и клеенчатым спинам, а ноги в шлепанцах успели наполоскаться в глубоких, неизбежных в колдобинах асфальта лужах. В салоне пришлось скомкать мокрые дождевики в пакет, тщательно вытереть припасенным полотенцем ноги, во избежание простуды. Если бы заранее не были предупреждены, замерзли бы от нещадно дующих кондиционеров, и выдаваемые стюардами пледики не спасли бы. Но добрые люди уговорили не прятать далеко в чемоданы свитеры и спортивные брюки, куртки с капюшонами и носки, что спасло путешественников от переохлаждения. Ливень закончился. Двухъярусный бас поплыл по вымытой, смолянисто-черной трассе, укутанные пассажиры приладились на откинутых до конца спинках кресел, однако благополучно поспать им не удалось. На каждой остановке кукольная тайка в форменном сером костюмчике, с голубым платочком на шейке и с таким же атласным бантом под серой крохотной шляпкой на гладко убранных волосах вещала в микрофончик приветственные савади ка-а… коп кун ка-а… и щебетала дальше о пункте, в который прибывал бас, о времени его отправления, и так далее, и так далее – услужливо и звонко. Приходилось выкапываться, освобождаться от пледов и одежд и на негнущихся, затекших ногах вышагивать из холодного баса в темную, уже ночную жару, в парение городков, в тропическую духоту, чтобы размять шею и конечности, потом забираться обратно, пытаться уснуть.
В утреннем, расцветающем пунцовым небом Чианг Майе перекочевали в такси, которое доставило их в отель неподалеку от Та Пе Гейт, древних ворот, ведущих в идеальный квадрат старого города. Путешественники расползлись по своим номерам и, не завтракая, рухнули в свежие хрусткие постели на кинг-сайз кроватях.
Вечером им посчастливилось арендовать вплетенный в путаницу лиан двухуровневый дом за мостом через речку, где Та Пе-роуд перетекает в улицу Чароен Муанг. Бассейн, забрызганный нападавшими к вечеру лепестками плюмерии, окруженный нежными белыми амарилиями, тонкими, как волосы русалки; резные комоды, шкафы, диваны и диванчики из тика и красного дерева внутри и снаружи дома, яркая, вручную расписанная местными мастерами посуда из древесины манго, вышитые северотайским орнаментом покрывала и наволочки на разновеликих подушках, бронзовые и деревянные, усыпанные камушками статуэтки будд и слонов, трубящих победу, размытые акварели на бугристой целлюлозе sa paper в бамбуковых рамках привели новых гостей в дружный восторг. Но когда они увидели две спальни с кроватями столь обширными, что, казалось, в них можно потеряться, застланными простынями скользкого чиангмайского шелка, они просто испугались, что никогда не увидят красот города, потому что не захотят покидать дом. Волевым усилием они выдвинулись прочь, уселись в двухместный «фаэтон» молодого велорикши в цветастых шортах и кокетливой европейской соломенной шляпе на затылке и через несколько минут поедали в уличном, открытом ночи и жаре ресторанчике sticky black rice, клейкий черный рис с кусочками манго и подслащенным кокосовым молоком. Потом добавили горячие роти с бананом и шоколадом, запили фрешем из маракуйи со льдом, но через полчаса почувствовали, что хотят мяса и заказали в ресторане с европейским меню мягкие свиные отбивные в сухарях с овощами. За рассыпчатыми купами дерев, за цветением курупит и манго в вечерней мгле темными махинами клубились монастыри, из баров вытекала негромкая «живая» музыка. Вечер удался на славу, оставив впечатление, что они прибыли в несколько иную страну. Всё здесь было как-то по-другому, не так как на юге. Радушия, гостеприимства – еще больше, покоя, уютности в улицах – больше, пьяных фарангов, очумевших от доступности секс-увеселений – меньше. Больше трезвых и дружелюбных. И вот что поразило – совсем не слышна была русская речь: та, табуированная, непозволительная, звучащая в Паттайе слева и справа, та, грязная, которой наши умники обучили нищего камбоджийца, чтобы он пел бесконечный повтор одной и той же тупой фразы, аккомпанируя себе на барабанчике, сидя на узком тротуаре в конце Walking street. Здесь не было соотечественников. И это не печалило.
В эту ночь Сандра ровно спала в своей новой обширной постели в спальне на верхнем этаже, наблюдая сны мягкие, обнадеживающие.
Тихо было на душе и у Старика. После инъекции боль поднявшая было острую оскаленную морду, отползла в свою темную нору, дала возможность немного почитать и уснуть почти мирно, почти без сновидений. Лишь в середине ночи, когда густо льется чернота с неба, когда особенно жадно звуки поглощаются темнотой, и чрезмерно щедро расточают запахи растения, Старик проснулся, выбрался из простыней, сделал несколько босых шагов из спальни на нижнюю террасу, к бассейну, приглушенно освещенному изнутри, отчего вода казалась плотной и нежной, спустился в гущу воды и света, ушел с головой. Когда мокрый и спокойный он уже вновь лежал на своем одиноком ложе, где-то далеко и потом ближе запели монастырские петухи, но в распахнутой в сад двери было еще темно, потому что брезжило, яснело и напрягалось с другой стороны дома, с востока, там, где Лаос, Вьетнам и дальше – океан.
Детеныши жирафов, малое стадо подростков устремляет бег вдоль линии джунглей, по травяному краю. Две высокие задние, две передние, – ноги двигаются попарно, галопом, нежные копытца топочут и топчут зелень. Легок бег, легки яркие пятна по чистому полю спин и хрупких нелепых шей. Юные жирафы долговязы и трогательны. Они неловко торопятся к пасущимся вдалеке родительским парам, важным и знающим свою взрослую, зрелую красоту.
Буйволы по колено в лотосовых водах.
Желтоклювые суетливо-хозяйственные птицы.
Белые камбоджийские коровы.
Белосияющая корова несет на плоской, будто специально сконструированной для лежания, спине прекрасную тайку, чьи волосы укрывают впалые бока коровы, обильно стекая наземь вместе со струями молока из напряженного розового вымени. Живот тайки приник к спине коровы. Корова и тайка слились. Четыре распахнутых, но томных глаза темно шевелят ресницами, длинными и заостренными как травы; с обеих шей спускаются тяжелые ожерелья и бусы, вьются пестрыми пятнами, путают свет и тень, что отражаются в стекляшках. Тайка любовно обнимает увитыми снизками колец и браслетов руками шелковую шею коровы. Босые ноги тайки, тонкие в икрах и совсем узкие в щиколотках, сжимают жемчужный коровий круп. Шелковая попонка плавает по телу девы выше нагих ягодиц. При каждом шаге великолепной коровы прекрасная тайка отрывает верх торса от ее спины, чтобы открылись крошечные оливковые груди с пухлыми бордовыми сосками, пронзенными серьгами. Колечки увенчаны колокольцами, они качаются и позванивают при движении оттянутой плоти.
Над царством людей и животных – бесценные стопы Будды, чудотворная сила ста восьми бусин в четках Гаутамы, сто восемь признаков Бога – схема бытия, шифр высшего сознания, код вселенской алхимии. Девяносто чедди в архаичном Ват Пхо охраняют золотого колосса, что недвижен возлежит в преддверии в нирвану, предоставив рассматривать перламутровые письмена на ногах своих, – сто восемь сияющих тайной ячеек. В каждом отсеке вскрыто мироздание, сто восемь явленностей Просветленного. При сложении цифр вновь рождается магическая девятка. Число, обреченное самовоспроизводиться. Неизменно. Неизбывно. Магическое число, которое, будучи умноженным на любое другое, всегда возвращается к себе же. Число девять – последнее перед пустотой. Или перед бесконечностью. Перед бегом по кругу. По эллипсу.
Старый город удивил чистой правильностью квадрата в плане, ограниченного по периметру остатками крепостных стен и рвом, по сей день полным воды. Квадрат оказался не слишком велик, но и не мал: чтобы обойти его храмы требовались ежедневные усердные прогулки, сулившие в награду восторг, сладкое гудение в молодых ногах Сандры и, как следствие, крепкий сон. Старик не длительно сопровождал любознательную воспитанницу, давал советы и наставления по осмотру архитектурных сокровищ тайского буддизма, потом усаживался с книгой за чашкой кофе в тени какого-нибудь полуевропейского ресторанчика с орхидеями и ручьем под крышей, дожидаясь ее на очередной обед или ужин. Сандра возвращалась, демонстрировала поток фото и видео, отснятых на новую Sony, взахлеб сыпала терминами, датами, названиями: «Ват Чианг Ман, да-да не Май, а Ман, не идентично названию города. А рядом с Чеди Луанг, где колоссальная полуразрушенная ступа, – Ват Пхан Тао, там и вихарн и чеди из резного тика, полностью! Ват Пра Кхао с Буддой стоящим, и еще Ват Сом Мун Муанг…» Она подглядывала в записи в крошечном блокнотике с изображением улыбающегося из-под задорного хобота Ганеши на кожаной обложке:
– Вот, Ват Пун Охн – сегодня мы пойдем туда обедать: местные кулинары-торговцы превращают его ежедневно после трех часов в огромную столовую.
Необъятный двор храма заполнен тяжкими древесными и каменными столами и лавками, врытыми в землю, и легкими переносными столиками и стульями, жаровнями, плитами, ступками для размалывания специй и трав, чугунами, миксерами, плоскими сковородами, фруктами, зеленью, тестом, рыжим от соуса разделанным мясом, мелко рубленной курятиной в кусочках паприки, рыбой в фольге и без нее, креветками, погружаемыми в кляр, осьминожьими щупальцами, потрошками на деревянных палочках, кудрявыми пельменными ушками с овощами, хрусткими блинчиками, начиненными загадочной смесью, сладким картофелем – бататом, десертами из тапиоки, пончиками па нон го с пандановым зеленым кремом, что запивают шоколадным соевым молоком, душными рыбными соусами нам пла и падаек, лапшой, перемешанной с яичным желтком, пророщенными бобами и порубленной на квадратики капустой, крохотными подслащенными кокосовыми лепешками в форме половинки луны, перепелиными яйцами в тестяных чипсах, специями и кислой тамариндовой пастой, и еще многим, чего вкусов и названий Сандра не знала. Здесь, пройдя по кругу для знакомства со всеми съестными вариациями, они со Стариком выбрали для пробы чиангмайское блюдо кау соп – ароматный густенный суп с обжаренными цыплячьими голяшками и грибами.
Насытившись и запив пряное блюдо фрешем – смесью арбуза с мелко рубленым льдом и сахарным сиропом, они отправились пешком в Ват Чеди Луанг, провожать уставшее солнце.
Сложенная в конце четырнадцатого века из бежевого узкого кирпича и разрушенная, то ли через полтораста лет мощным замлетрясением и ураганом, то ли позже бирманцами, или наоборот, пушками аюттайского короля Таксина, который отвоевывал Чианг Май у бирманцев в восемнадцатом веке, глыба рыжела, впитав в себя закат, горбилась, кренилась, буравя острым сломом верха склоненное бронзовое небо. Ниже махина сыпалась отреставрированными ярусами, стекала к подножью парами седых многоголовых нагов по сторонам света. Помпезных крутых лестниц меж спин змеев было две – с востока и запада, а с севера и юга вместо них гладко скатывались колоссальные дороги. То ли с этих сторон никогда не было ступеней, и всегда были широкие пролеты, горки, будто рассчитанные на то, что рано или поздно здесь выпадет снег, и можно будет съезжать по обледеневшим каменным трассам, то ли ступени так и не восстановили после давнего катаклизма. Там, наверху, с востока, в небольшой нише по утрам зоркому глазу показывался утаенный Будда сидящий. Его охраняла вереница гигантских слонов, выходящих из стен с четырёх сторон по три, и еще по одному с каждого угла. Так было пять веков назад. Теперь же некоторых слонов не осталось на выступах вовсе, и кирпичная кладка сомкнулась, будто заставила отступить их внутрь стен, навсегда замуровав, повелев вечно жить в тяжком заточении. А может, наоборот, двинулись колоссы вперед из-под сломленных стихией или воинственным человеком стен, мерно спустились по ступеням и ушли через гибнущий город в джунгли. Те же слоны, что остались охранять статую и саму чеди, одни в целости, другие, потеряв хобот, бок или ногу, выдвигались и теперь наполовину туловища из стен, будто выходя из них волшебно, будто умея проходить сквозь них.
Старик неотрывно смотрел на слонов, что выходили из кирпича в медные горячие облака, смотрел, о чем-то сердито размышляя, так казалось Сандре, и она не окликала его, ждала.
Прежде чем покинуть храмовый комплекс, они прошли между монашескими кути вглубь территории, чтобы полюбоваться на Будду лежащего. На десяток метров протянулось изваяние в специально построенном для него павильоне. Голова длинным, мудрым ухом прижата к ладони на подушке, сияющее кружевное одеяние оставляет открытыми ровненько сдвинутые ступни, золотые и гладкие.
– Пустые стопы, в отличие от инкрустированных перламутром ступней гигантского Будды лежащего в столичном Ват По. Тебе непременно надо будет туда съездить, полюбоваться изображением ста восьми личных аспектов Будды Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни, воплощенных в предмете, растении или животном, или ста восьми томов слов Пробужденного нашей эры, после которого будет только еще один. И здесь, и там глаза Учителя полуприкрыты, на губах витает улыбка, – проговорил, будто пропел, Старик.
Стройное мягкое тело Просветленного под изысканной золотой сетью наряда покойно, статично. Есть ли в сем облике мужские черты? Есть ли женские? Как точно передано отсутствие этой определенности, пустоты ее смысла. Нечто вмещающее в себя и то и другое, нечто необъятное, неизъяснимое воплотилось в золотом колоссе. Дремлет ли Будда? Витает в мечтах? Наслаждается отдыхом? Нет. Просветленный ускользает в паринирвану – высшую стадию покоя. Величественный момент угасания сознания, полный, всеохватный отказ от чувств и переживаний, следовательно, от страданий. Уход. Выход. Окончательная завершенность круга перерождений. Сознание перестаёт быть.
О, как далеко это от меня, как я далека от этого.
Нет ни малейшей веры в то, что я могла бы прийти к осмыслению этого пути как единственного, к чистоте и высоте понимания верности этой доктрины.
В вихарне я останавливаюсь у одной из колонн столь гладких и безызъянных, симметрично расписанных золотом по темному лоснящемуся фону, что кажется, явились они сюда по какой-то космической воле, не рукотворно, но по велению высших сил или, на крайний случай, инопланетного разума. От объемов вихарна захватывает дух. Мои босые ступни холодит полированный камень. Старик рукой зовет меня к выходу. Обулись, вышли в вечер.
Я вновь пристрастилась гонять на байке. К юго-востоку от квадрата, в переулках Тапе-роуд, можно было запросто заплутать, ввинчиваясь в путаницу узких змеек, застроенных гэст-хаусами и отелями покрупнее в таком замысловатом беспорядке, что никак не разгадывалась система, по которой велась здесь когда-то застройка. Хаос трех-четырехэтажных коробочек распространялся от одного комплекса дородных вихарнов и остроконечных чеди до другого, пронизанный кривыми и скрученными дорожками для мотобайкеров и рикш, как во всём Таиланде, без тротуаров для пешеходов. А может, они были замыслены для неспешного ступания ногами, а вовсе не для колес, но горожане решили иначе. Сколько бы я ни кружила, урча и оставляя кое-где легкие дымные хвосты, сколько бы ни металась меж синих и бирюзовых монастырских крыш, мой путь всякий раз упирался в ограду величественного и уютного Ват Буппарам. Храм Заходящего Солнца, с его многослойными черепицами, что рассыпаются, как принято, тремя, пятью и семью скатами, чуть загнутыми кверху по углам, увенчанным, в свою очередь, остриями стилизованных птиц, с его открытой террасой высокого второго этажа главного вихарна, легкой как воздух и наполненной им, с белой и золотой, ровной, будто с гончарного круга, большой чеди, что выросла, как и все ее сестры в мире, дабы соединить землю и небо, с пестрым, ухоженным садом цветов и целым глиняным зверинцем, раскиданным по стриженой траве крашеными боками жирафа и олененка, черепахи, кролика и слона, цапли, утки с утятами и еще невесть кого – пленил меня. Я влюбилась в Ват Буппарам. Изысканный temple играл со мной в прятки, видоизменялся и манерничал, демонстрировал свою красоту в разных ракурсах, крутился, словно на экране, снятый талантливой камерой, казался мне всякий раз иным, я не узнавала его, и еще, и еще раз пленялась им, как чем-то новым, впервые открываемым мною, и только зверье, выраставшее из травы, отрезвляло, укоряло: «Опять не узнала? Опять позволила себе захотеть неизведанного? Опять изменила». Утром я наблюдала, как играют тысячи солнц в золотом шлеме чеди, на закате – как пунцовеют в световом жару слои черепицы, как торопятся monks на вечернюю службу, на ходу заправляя по правилу канона концы одежд. Бросив мотобайк у входа, я преследовала их среди пальм и усыпанных сочным цветением священных курупит, под которыми рождались и умирали Будды, шла то за одним, то за другим длинноногим юнцом, впутанным в шафраны одежд, с бритой головой на высокой шее, с вопросом, но без недоверия на нежном или резком, но всегда голом лице с выбритыми бровями и свежими каштанами глаз. Я никак не попадала вовремя для беседы к тем из них, кто, будучи монахом, уже стал студентом университета, занятия в котором проходили здесь, в монастырских стенах, в тишине и сосредоточенности крыш, дверей и окон, гулких пространств убосота, обнесенного восемью крутобокими сема – пограничными камнями в виде листьев. Я пыталась застать их рядом с закрытым для посещения женщин вихарном, или неподалеку от стройных чеди, завершенных кружевными остроконечными чатрами, пронзенными лучами, от чедди, что хранят в себе прах Будд и королевских особ.
А храмы, они же темплы, они же ваты, монастыри – продолжали множиться числом, роиться, гудеть, сновать, двигаться хаотично. Сумятицу, казалось, усугубляло стремление чеди превысить одна другую, они громоздились на ступенчатые края друг друга, карабкались, вот-вот обломятся их острые шпили, завершения девятикратных резных чатр – зонтов, золотых шлемов, кружевных шапочек. Храмы слоятся, составляя в сочетании с просторными слоями лучей многократно повторяющееся гофрированное сияние. Слои вдыхают, наполняются воздухом, взбиваются ветром в пену мягкую, рыхлую. Волею трансцендентного вихря вереница храмов скручивается в магическую спираль, вытягивается бесконечным Нагой. Кольцами ложится его тело, срастаясь боками и принимая облик черепахи, на панцире которой расцветает многокрасочным песочным рисунком мандала. В ней – смысл и объяснение мирозданья, но ее изображение не долговечно: под сухим дуновением мертвого космического ветерка разноцветный песок смещается, краски путаются, ломается геометрия линий, смыслы искажаются, уродливо прорастают друг в друге, сопротивляясь, стараются вернуть себе изначальный смысл. Наконец, храмы расступаются, водворяются на места, утихомириваются, забывают друг о друге, застывают в ночи. Внутри себя ваты усмиряют копошение монахов, во сне окончательно обретают покой, умиротворяются.
Гданьск
Поначалу бесцельно слоняться по улицам было приятно. В кармане еще оставалось немного денег, кофе в Гданьске крепок и душист, старый город хранил свою тайну, манил в закоулки и предвещал приключения. Теперь Дану предстояло несколько дней продержаться на вокзале, пытаясь в дневное время выспаться сидя, а когда повезет, то и лежа, расположившись где-нибудь в зале ожидания, например, под видеоэкраном, на котором статично и не слишком естественно проживал свою экранную жизнь какой-то подобный Дану человек, являя собой часть перформанса «Дорога», и полицейские понимали присутствие под экраном спящего Дана, как составляющую проекта.
– Чего только не назовут искусством! – Пузатенький страж закона постучал костяшкой короткого указательного пальца по разъяснительному флаеру, прикрепленному к пластиковой панели, немного оттопырил нижнюю губу над рельефным, пухлым подбородком. – Говорят, следующее «актуальное шоу на вокзале» будет заключаться в том, что с туалетов поснимают двери, а в кабинках еще и видеокамеры установят. Всё, что там люди делают, на этот экран транслировать будут. День мужиков будут показывать, день баб.
– Не-е-ет. Это дело подсудное, людей без их согласия за таким интимным делом показывать не разрешается. У них артисты роли играют, неизвестные всякие, ну, неудачники. Вон видишь, тот спит на экране, а этот – под экраном. Изображают. Только, что в этом «современном искусстве» интересного, умного или красивого, я не понимаю, – напарник пузатого недовольно щурился, мелко моргал рыжими ресницами.
– Значит, дожили, теперь уж всё должно быть ни умным, ни интересным. И красоты, видать, быть не должно. Мир очумел совсем, божья матерь, глаза б мои не глядели.
То ли из нерешительности уходить в путешествие далеко от российской границы, то ли по другим, ему самому неизвестным причинам, Дан еще пару дней болтался полуголодом здесь, всё более утверждаясь в мысли, что если ничего нового не подвернется, придется пуститься автостопом, куда глаза глядят, в поисках удачи в других местах. Ему было любопытно, куда его выведет кривая без денег, документов и знакомств в его двадцать с небольшим лет в чужой стране, и он с должной долей пофигизма смотрел в будущее, предоставив судьбе распоряжаться им, как ей вздумается. Через три дня бездомности, ночных разгрузок товара где придется, спонтанного вечернего аниматорства и безуспешной попытки прибиться к уличному театру он очутился за столиком арт-кафе, тесно заставленного дизайн-объектами типа скрипки с порванными струнами у плинтуса и ржавого, подкрашенного бронзой из баллончика велосипеда на стене. Здесь можно было подремать, подперев голову руками, пока официант не обратит внимания на нежелательного клиента. Небритость, немытые крупно закурчавившиеся волосы, вытянутые на коленках джинсы, несвежая футболка с еще не выветрившимся запахом подаренного мамой хорошего парфюма: он был сам себе противен, но не винил в происходящем ни людей, которые оставались к нему равнодушны, ни самого себя. Он принял решение быть благодарным каждому мгновенью и плыть по течению.
– Хотите сигарету? – чашечка с горячим кофе ароматно звякнула о блюдце перед его носом, едва он приподнял голову. – Простите, что разбудила. Сейчас принесут бутерброды. Пейте пока.
Какая шикарная. Взгляд Дана сразу отметил, что она не молода, но роскошно выглядит. Холеные, дорого стриженые волосы полудлинным каскадом ссыпались от шеи к груди светло русыми прядями. Жемчужно-серый топ оставлял открытой лоснящуюся здоровьем загорелую кожу плеч. Дан скользнул взглядом вниз по налитому подтянутому телу. В тренажерный ходит, к массажистам, небось. Убегающую молодость вспять догоняет. Женщина, будто слыша его мысли, чуть улыбнулась, затянулась сигаретой, присела напротив, разглядывая его хорошенькое неумытое лицо, обещавшее стать красивым, когда он возмужает.
– У вас правильная форма носа, даже изысканная, выразительные глаза, – зашелестел по-польски ее низкий голос. Дан опустил веки, будто скрывая смущение. Дама снова ухмыльнулась. – Какие длинные ресницы… – Теперь он улыбнулся в ответ. – Да, и зубы, прекрасные зубы!
– Вы агент? Вам нужны модели? Я имею опыт. – Дан решил, что, спросив это по-английски он оставит за собой возможность позже произвести эффект владением польским.
– Русский? – она тоже перешла на английский.
– Как вы догадались?
– Ну, это не сложно. Пожалуйста, пройдите к стойке, спросите у бармена, есть ли у него светлый вермут. Хороший. Если вас не затруднит. Вы по-польски хорошо понимаете?
– Конечно. И говорю! Сию минуту! – проскороговорил он по-пшекски, шиканув своими лингвистическими способностями. «Она просто хочет посмотреть на меня в рост. Мои 187 ее должны устроить. Пропорции у меня нормальные, ноги длинные, бедра узкие. Господи, помоги!»
Бармен сморщил горбатый мясистый нос, вслушиваясь в русский акцент Дана, молча показал бутылки. Дан поспешил обратно, шуточно и, как ему казалось, эффектно лавируя между тесно сгрудившимися столиками.
– Есть. Чинзано. Белый и… красный.
– Отлично. Нам уже все принесли. Для вас коньяк. Верно? А я за рулем. Поэтому вермут нас ждет у меня дома. Меня зовут Элза.
– Совсем никаких? Ничего удостоверяющего личность? Ни какого-нибудь пропуска, ни студенческого билета? Весьма интересно. Вы просто находка.
– Я надеюсь, меня не завербуют в шпионы?
– Нет. Но кровь на анализ вам придется сдать. Сейчас мы это и сделаем.
Ее серебристый лексус подкатил к амбулатории.
Она внимательно следила за тем, как игла вонзилась в его вену, как потекла кровь в пробирку. Он не мог уловить оттенка ее пронзительных глаз, то ли серо-карие, то ли желто-зеленые? Про такие говорят «цвета чая».
– Просыпайтесь! Едем, вас ждет педикюрша, там же сделаем и руки. Заодно пробежимся по бутикам. Вас надо одеть по-человечески.
Вчера вечером, после ванны и омлета с фруктами, который подала ему домработница Хельга, пожилая, но шустрая, с маленькими руками и ногами брюнетка, на диване в гостиной он провалился в сон, кажется, еще с вилкой в руке, не заметив, как хозяйка дома освободила его голову от наушников новенького плеера, оставила в кресле бархатистые черные джинсы, лакостовскую темно-синюю футболку, трусы, носки и опустила на пол легкие серые замшевые туфли.
При звуке ее голоса, не поднимая век, Дан попытался сообразить, где он, не понял, открыл глаза. Она заколола волосы. Линии открытых теперь плеч и шеи переходили к неожиданно жесткому подбородку. Платье открывало хрупкие, породистые колени. Слева подтянутая шнурком кулиса демонстрировала бедро, плотное, гладкое, без целлюлита. «Ноги, какие красивые…» Дан скользнул взглядом к узкой щиколотке. «Сколько ей, интересно? Тридцать шесть – тридцать восемь? Лет десять-пятнадцать сбросить – и просто мечта».
– Мне сорок семь. Я знаю, что выгляжу лет на десять моложе. Не смущайтесь, в наших отношениях недомолвки неуместны. Ну что, душ, одеваться и вперед? Позавтракаем в кафе. Жду в машине. – Она говорила по-русски с характерным акцентом, утрированно внятно, стараясь не делать привычные ударения на предпоследний слог, отчего слова порой обретали двухударность. «Коньяк», например, она начинала произносить с ударением на о, но в процессе звучания слова успевала исправиться, по-ученически утяжелив последнюю гласную. Она предпочитала говорить короткими фразами, но без ошибок.
С обновленной стрижкой, почти не укоротившей его вьющиеся волосы, с кожаным шикарным рюкзачком через плечо он несся к машине, держа по пакетику орехового мороженого в каждой руке.
– Вот, мое любимое, хочу, чтобы вы попробовали.
– Во-первых, мы уже выпили на брудершафт. Во-вторых, будешь есть сам оба. Я исчерпала свой лимит сладкого на неделю. Тебе, вообще-то, тоже надо держать форму. Падай в машину. Туфли не жмут?
– Нет, отлично! А как вы угадали мой размер?
– Для сына было куплено. Он в Лондоне учится, на каникулы ко мне приезжает. То, что тебе подошел размер, – совпадение. Хотя он немного ниже ростом.
– Я везучий, – с наигранным самодовольством отметил Дан. – Так все же, что за работа меня ждет, ради которой вы купили мне смокинг, а я должен считать калории?
– Думаю, то, что я предложу, тебя устроит. Лучше расскажи, как это ты лишился паспорта?
– Понимаете… понимаешь, я в Кёниге узнал о том, что здесь, в Гданьске, есть такой аматорский театр, молодежный, продвинутый, в котором можно поработать. Я по образованию актер, а по духу фрилансер. Ну, охота к перемене мест опять же, и Польша мне очень нравится. Европейская страна. Язык близкий, в школе, в Кёниге на факультативе польским занимался, приятелей-поляков много. Часто у них в гостях бываю – в Ольштыне, в Эльблонге, здесь, в Гданьске. Ну вот, а руководитель этого театра от каких-то американцев, вроде как владеющих теперь бывшей верфью и всякими строениями на ее территории, получил для безвозмездного пользования хорошенькое зданьице в три этажа, в котором теперь и сцена, и репетиционные залы, и комнаты, где можно жить. В общем, приехал на разведку. Не успел добраться до театра, мне предложили в рекламе сняться.
– Кто?
– Ну, на улице, как это бывает. Я согласился. Поселили в каком-то особняке с дорогой мебелью, картинами, техникой, попросили паспорт, сказали, на всякий случай, чтобы я ответственность чувствовал. Вечером – полный дом народу, красоток привезли, сначала травку курили, я присоединился, потом шприцы заправлять стали, ну, кто хотел, я – нет, конечно, я даже кокс не употребляю, так травки если… Ну, потом, кто парами по комнатам разбрелся, кто группами в гостиной прямо на ковре. Меня какие-то девицы раздевать принялись. Я под кайфом, голова в отключке – мыслить нечем. Через пару часов – шум, гам – полиция, я в это время в санузле был. Выглянул, смекнул, ноги надо делать. Дверь изнутри запер и через маленькое окошко в ванной в сад спрыгнул, махнул через забор, там машину какую-то притормозил, представляете, представляешь, русский за рулем оказался! Хорошо, я оделся перед тем, как в ванную идти. Сам не знаю, чего, но и джинсы и футболку натянул. В заднем кармане джинсов портмоне с деньгами было. Рюкзак с вещами, разумеется, там остался. Ну, и паспорт, понятно, у рекламщиков.
– Особняк найти сможешь?
– Не-е-ет. Это где-то за городом. Туда везли вечером. Я и не старался запоминать дорогу, как-то в голову не пришло, эйфория, мне ведь хороший гонорар пообещали. А оттуда, какой там, соображал плохо. А парень тот русский до центра довез, денег не взял, я его поблагодарил да вышел. В какой-то подъезд забрел, на ступеньки присел, голову обхватил, чего делать? Так до рассвета и просидел, благо пару часов оставалось. Утром нашел театр на верфи, дождался в гостиной, когда режиссер проснется, он прямо в этом здании живет. Без паспорта даже разговаривать не стал. Но повезло, у них там пожилая женщина, бывшая актриса, ну, как бы педагогом работает, поверила, что у меня документы украли, забрала к себе на время, пока я соображу, что делать, как новую ксиву получить. Но я, честно говоря, не слишком торопился, домой не солоно хлебавши возвращаться не хотелось. У старушки было хорошо. Сытно и даже весело. Я ей по дому помогал, долгие ее монологи выслушивал, старикам ведь надо, чтобы их кто-то слушал, а рассказать им есть чего, за длинную жизнь столько историй копится…
– Так, только целыми днями по дому помогал и целыми вечерами слушал?
– Ну нет, конечно. Гулял…
– Гулял, значит… А чего ушел от старухи?
– Сын приехал. Он вахтово работает.
– Ясно. Все ясно. Сколько суток потом бездомничал?
– С неделю.
– Ну вот, еще неделю «домничать» будешь. Но, извини, гулять тебе не придется. Я уезжаю дней на пять-семь, останешься дом сторожить. Хельга будет приходить ежедневно, она хорошо за порядком следит и готовит. Я для тебя выберу книги на русском и фильмы. Будешь читать, смотреть. Потом расскажешь впечатления. Но читать и смотреть – обязательное условие. Проверю.
– А что еще?
– Еще? Ждать. Этого достаточно.
Набоковскую «Лолиту» Дан проглотил за сутки, с небольшим перерывом на сон. «Темные аллеи» Бунина показались ему скучными, благо рассказы короткие, быстро читаются. Однако «Легкое дыхание» и особенно «Дело корнета Елагина» ему понравились. Потом он взялся за «Сто лет одиночества», но бросил и стал пролистывать Брюсова. Здесь его изрядно захватили новеллы с лесбийскими мотивами. К шестым суткам он радостно одолел «Парфюмера» и вернулся к латиноамериканцам: «Аура» Фуэнтеса и «Выигрыши» Кортасара, просмотренные за недостатком времени второпях, окончательно убедили его в эротико-психологической направленности объемной литературной подборки. Фильмов было оставлено всего два. Оба Лилианы Кавани. «Ночного портье» он видел раньше, и только пробежался по «клубничным» эпизодам, а «Берлинский роман» посмотрел внимательно и с удовольствием. Фильм показался ему красивым, но построенным несколько наивно. Вернее, наивным увиделось ему поведение героев, людей вроде бы взрослых, умудренных любовным опытом, но так легко попавшихся на удочку этой юной, хитроумной японки.
Дан устал спешно пожирать хоть и полные эротизма, но порой сложные для его восприятия, непривычно обширные объемы текста. Он боялся не успеть и будто готовился к экзамену. Но по какому предмету? Чтение возбуждало его. Временами на него нахлынывали неприличные мечтания, в которые органично вписывалась его будущая работодательница в качестве главной героини. Это смущало Дана, но он отмечал, что вполне определенно скучает по ней и ждет не только, дабы ее появление закончило время его затворничества, нарушаемого единственным человеком – заботившейся о нем Хельгой, но и по причинам куда более романтического свойства. Или не романтического, а вовсе даже жесткого, лишенного любовного флера, юношеских светлых эмоций? Ведь если, как он привык выражаться, положить руку на почки и печень, придется признать, что он испытывал к ней конкретное мощное сексуальное влечение. Он просто хотел ее. И видел в героинях прочитанных им новелл только ее. Всюду ее.
Элза не появлялась еще два дня, которые он перенес с трудом, мучаясь уже своим заключением, то болтаясь в кресле-качалке на лужайке перед домом, то злобно крутя педали велотренажера, то слоняясь по комнатам особняка, обставленным в стиле фьюжн и порой удивляющим Дана своей неожиданной «начинкой» в виде коллекции японского оружия или балийской деревянной скульптуры, которую он принимал за африканские поделки. Отлеживая бока на диване в гостиной, он почти осилил «Сто лет одиночества» Маркеса, находя теперь эротизм в каждой фразе, в каждом образе. Наконец, он отбросил книгу и, пользуясь тем, что Хельга, накормив его помидоровым супом с гренками и куриными грудками в ананасовой подливе, уже часа два как усеменила на автобусную станцию, оставив его наедине с домом, кинулся в спальню Элзы, распахнул шкаф и зарылся в ее платьях, пахнувших духами и ее телом.
Он скоро опомнился, сказал сам себе: «Идиотизм какой-то!», в сотый раз посетовал на себя за то, что не спросил у Элзы номер ее мобильника, прекрасно понимая, что если бы считала нужным, она сама продиктовала бы его, вконец разозлился на Элзу за свое затворничество и на себя за то, что, как дурак, согласился на него и, не раздеваясь, рухнул в свою постель.
Когда он проснулся от резкого похлопывания руки по его плечу, ему показалось, что сон его был хоть и крепок, но краток.
– Поднимайтесь, юноша! Скорее, скорее! В душ! Через тридцать минут мы должны быть на другом конце города. – Кареглазый, лысоватый, невысокого роста человек в дорогом фланелевом пальто поверх смокинга приподнял Дана, встряхнул за плечи, подтолкнул в сторону ванной.
– Который час? Ночь на дворе! Куда ехать? Кто вы? – Дану страшно хотелось спать, казалось, он сейчас упадет и тут же уснет на полу.
– Элза ждет, – мягко сказал по-польски мужчина и добавил на чистейшем русском: – Поторопимся! Меня зовут Борис.
– Вы сказали, нам надо быть на другом конце города, но мы давно уже выехали из Гданьска, – недовольно ворчал Дан в машине.
– Городом здесь часто называют Троеград – Гданьск, Сопот, Гдыня. Но если честно, цель нашей поездки несколько дальше. Не волнуйтесь, скоро прибудем, – успокаивал его Борис.
Машина свернула с основной трассы влево, теперь фары забирали у темноты узкую, извилистую дорогу, окруженную летним нарядным и в ночи таинственным лесом. Дан вольготно разместился на широком заднем сиденье, Борис дремал рядом с водителем. Дану спать уже не хотелось. Его одолевало любопытство, желание скорее увидеть Элзу, потребность двигаться, действовать. Вот сейчас, наверное, и начнется работа. Но в чем, наконец, будут заключаться его обязанности?! Фантазия рисовала кадры из «Роковой красотки», какой-нибудь «Никиты» и даже роль агента 007 ладненько примеривалась им на себя. Было страшновато и вместе с тем радостно, воротничок дорогущей белой сорочки хрустко упирался в подбородок, время от времени Дан видел в зеркале заднего вида свое лицо, красиво расположившееся над черной шелковой бабочкой, и оставался собой весьма доволен.
– Вот это да! Настоящий! Не ожидал, – разинул рот Дан, глядя на возникшую перед ним громаду замка в сиянии прожекторов, расположенных где-то внизу, в траве.
– Восемнадцатый век. Барокко. Три тысячи квадратов, шестнадцать башен, высота потолков от пяти метров и выше, в отдельных помещениях. Архитектор… Ну, что стоять, потом как-нибудь полюбуетесь. Поторопимся.
Дворец был освещен и внутри ярко, помпезно. Во всяком случае, в той его части, где собралось обширное представительное общество – дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах. Ансамбль старинных инструментов, расположенный на внутреннем балконе, аккомпанировал действу почти невозможному. Такое Дан видел только в кино: официанты в белых ливреях с черными обшлагами разносили бокалы с вином на серебряных подносах, лавируя среди нарядной, оправленной в бриллианты и сдержанные улыбки публики. Открытые плечи, глубокие декольте, тщательно прибранные волосы, журчание польской речи. «Высший шляхетский свет. Что я-то тут делаю? И куда Борис подевался?» Дан залпом осушил бокал, повернулся за другим, но взгляд его застрял, остановился на лице необычайно привлекательном, чем-то его резко задевшем, удивившем. Статная женщина с высоко поднятыми ярко-каштановыми волосами, украшенными заколкой с крупным изумрудом, устремила на него зеленые, мерцающие под стать изумруду, глаза. Платье кораллового цвета из очень тонкой, ниспадающей и разливающейся по паркету широкими эластичными ручьями ткани было наглухо закрытым, но почти прозрачным. Под прилегшей на тело тканью колыхались, вибрировали, проживали свою отдельную, таинственную, хоть и открытую всем на показ жизнь тяжелые и упругие, массивные груди. Они были бесстыдными, привлекали внимание, не давали от них оторваться, они демонстрировали, представляли всеобщему обозрению крупные соски и выпуклости обширных ореолов. Коралловая ткань, казалось, повторяла предполагаемый цвет этих сосков и ореолов, служа лишь флером, но не одеждой. Дан, всей силой зрения, всем существом своим впился в эти приближающиеся к нему груди. К нему?! Эта королевская мощь, это величие, эта беспрекословная власть двигалась навстречу, а он стоял ошеломленный, с забытым бокалом в руке, потеряв себя и осознание времени и места.
– Не узнал. Как не стыдно! Хорошо выглядишь, молодец. Ты и в смокинге смотришься так же естественно, как в джинсах. У тебя, видимо, хорошая актерская школа, кстати, что ты заканчивал?
– ГИТИС. Элза? Ты покрасила волосы в другой цвет? И глаза… это линзы? – Он понимал, что задает глупые, бестактные вопросы, говорит не о том и не так, как надо было бы говорить, он лепетал, переползая с русского на польский, плавая взглядом от ее лица к этому неприрученному пока чудовищу, ее невероятной груди, и обратно – к глазам, грудь эту объясняющим. Своей наполненностью чем-то неизвестным и бесконечно манким глаза притягивали его не меньше груди, и ему надо было отступить, осуществить хоть шаг назад, чтобы не делать больше выбора, чтобы видеть глаза и грудь разом. Стремясь шагнуть от нее, он покачнулся, часть содержимого бокала плеснулась в сторону, Эльза подхватила Дана под локоть: «Спокойнее, ровно дыши, обними меня за плечо, идем», – выдохнула она близко от его уха. Он повиновался, выровнял корпус, приподнял руку, опустил кисть на тончайшую ткань, терракот, коралл, кисею, отделяющую теперь своим эфемерным существованием его кожу от ее. Жест оказался элегантным и откровенным, привлек внимание сразу нескольких дам и их кавалеров, на что Элза откликнулась, казалось, дежурной фразой: «Мой новый приятель, Дан». Ему тоже пришлось ответить улыбкой на расцветшие симпатией приветственные взгляды, среди которых под звуки струнного квинтета, сопровождающего их движение, они с Элзой пересекали зал.
Первая открывшаяся с узкой лестницы в противоположной части замка дверь вела в кабинет со сплошными стеллажами книг от пола до высокого потолка, обширным письменным столом и широкой и низкой кушеткой, покрытой восточным ковром, на который бросал красноватый отблеск приплюснутый азиатский фонарик. Элза присела на ковер, Дан опустился на пол. Она стянула с него смокинг, ловко сдернула с шеи бабочку, он старался высвободить из тугих петель пуговицы, расстегнул пару и стащил рубашку через голову. Звуки музыки не достигали этих покоев, здесь все было погружено в плотную глухоту тишины, в которой его прерывистое дыхание казалось ему слишком резким и шумным. Элза дышала неслышно. Она расстегнула что-то за своим затылком и откинула верхнюю часть лифа вниз, словно клапан. Она внимательно и неотрывно глядела в его глаза, не давая ему опустить их на открывшуюся грудь.
– Линзы были у меня раньше, те, кошачьи, желтые – к светлым волосам. Сейчас – мой настоящий цвет глаз, зеленый. – Элза зашуршала подолом, не наклоняясь, подтянула, скомкала на животе широкий край, сидя на краю кушетки, еще больше выпрямила спину, широко развела освобожденные от ткани колени. Ее неприкрытый бельем лобок засиял темной медью, под стать окружающей богатый изумруд прическе. – А волосы я если крашу, то везде в один цвет. Поцелуй меня.
Он не знал, куда скорее хочет поцеловать ее, не понял, что именно имеет в виду она, и потому секунду замешкался, стоя на коленях перед новым своим божеством. Элза, сидя все так же прямо, не снимая туфель, обхватила его талию ногами, положила свои ладони на сгибы его локтей, потянула к себе и едким укусом вонзилась в его губы.
Возвращались они, минуя первый зал, в банкетный. Публика с аппетитом уплетала яства, изобильно заполнявшие столы и еще подносимые официантами, запивая их разнообразным спиртным. Пара, не привлекая к себе внимания занятых поглощением еды и питья гостей, заняла свободные места, и Дан приналег на предложенные блюда с усердием владельца юного, растратившего много энергии организма.
– Поляки любят и умеют поесть, – тихо, но внятно говорила Элза.
– Да, очень вкусно! – громче, чем надо отвечал Дан.
– Вот и хорошо. Не торопись, наслаждайся. Учись получать от всего максимум удовольствия. Для этого надо понимать главное: жизнь – это сиюминутная радость. И эту минуту надо уметь сделать дли-и-и-нной!
Обратный ночной путь они преодолели, сидя вдвоем на заднем сиденье «лексуса».
– Ты наверняка хочешь задать мне множество вопросов. Спрашивай, я отвечу на любые.
– А этот замок, он чей?
– Да, самый главный, конечно, вопрос… Ну ладно. Когда социализм в Польше благополучно закончился, много бывшей частной собственности, что находилась при советской власти в ведении государства, вернулось к потомкам владельцев. Если сохранились документы на бывшее владение, конечно. Другие – купили, кто за большие деньги, что в мутной воде наловили, кто за бесценок, удачно, у тех, кого эти мутные деньги быстро сгубили. А замков-дворцов по Польше – великое множество разбросано. Часто нынешние владельцы не знают, что с ними делать: эти каменные пространства надо как-то содержать, поддерживать их состояние, ремонтировать, обогревать, наконец. Представляешь, что значит протопить такую махину? – Она сделала ударение на первый слог слова, и Дан не сразу понял его значение. – А не будешь топить – стены отсыреют, балки плесенью покроются, полы со временем рухнут.
– Тыс таким знанием дела говоришь!
– Этот замок, видишь ли, был некоторое время моим.
– По наследству, от польских княгинь-бабушек?
– Нет. Да я и не полька.
– Не полька? Как это?
– Ах, все-то тебе знать надо. Частично немка, частично кашубка. Данциг – Гданьск половину своего существования принадлежал немцам, половину – полякам. Длительное время вообще был так называемым свободным городом, под управлением объединенного правительства. А изначально на этих землях жили кашубы, потомки славян-поморов. До сих пор вокруг Гданьска кашубские села рассыпаны. Самый знаменитый кашуб – Гюнтер Грасс. Слышал это имя?
– Да. Писатель. «Жестяной барабан» написал. – Дан не мог скрыть довольства собой.
– Надо же! Неужели читал?
Дан мгновенье колебался, но сказал правду:
– Фильм смотрел.
– Ясно. Грасс тоже наполовину кашуб, наполовину немец. Считается немецким писателем. Знаменит на весь мир. – Элза замолчала, будто вспомнив о чем-то, затем резко продолжила: – Этот «барабан» я терпеть не могу. Герой – ублюдок, олигофрен и мизантроп, человеконенавистник. Стал причиной смерти двух своих предполагаемых отцов и так далее… Весь роман построен на длиннющих его рефлексивных монологах. О том, какое он на самом деле дерьмо. – Элза не могла скрыть раздражения, заставила себя умолкнуть. Через время проговорила: – Ладно, вернемся к нашим баранам. Замок купил мой муж, за эти самые мутные деньги. А потом его убили. Мне удалось осуществить выгодную продажу. Борис помог, нашел покупателя. Деньги вложила в международные акции, которые меня теперь и кормят. Мне достаточно моей виллы. Тебе она нравится? Как ты жил там без меня? Книги все прочитал?
– Почти, – опять побоялся соврать Дан.
– Хорошо. Думаю, это пошло тебе на пользу. Чтение вообще не есть твое увлечение, не так ли? Все больше интернетными игрушками забавляешься? Можешь не отвечать, и так понятно. В ГИТИС за красоту взяли? Или ты талантливый?
– Ну, не знаю, по мастерству актера пять баллов всегда было.
– Не обижайся. Все хорошо. Еще что-то у меня спросить хочешь?
Он вдруг ощутил в ее интонации новый намек, легкое изменение направления, повернулся к ее лицу, так близко от него сияющего казавшимися в полутьме черными глазами, и тихо произнес:
– Ты уезжала, чтобы я подготовился к… Ну… Как это сказать… к сближению с тобой?
– Я уезжала по делам, – ровно ответила она.
– Тогда скажи правду, зачем у меня брали кровь на анализ?
– Правду? Лучше бы ты без романтических выдумок сказал, где на самом деле посеял паспорт. Анализ делали, чтобы узнать, здоров ли ты.
– Нет ли СПИДа? – Дан не мог скрыть поднимающуюся откуда-то из солнечного сплетения злость.
– СПИДа нет. И вообще, все хорошо, милый мой, очаровательный мальчик. Все хорошо, мне хорошо, тебе хорошо. Нам хорошо. Ведь правда?
Ее постель оказалась жесткой, но удобной для игр взаимного насыщения. Досыпать утро она попросила Дана в его комнате.
– Хочешь сегодня вечером в театр? Начинается шекспировский фестиваль, можно посмотреть спектакли со всего мира.
– Откуда ты знаешь русский? Так хорошо знаешь? – Дан уже научился прямо задавать вопросы своей хозяйке.
– В школе учили.
– Я серьезно.
– Потом Питер. Я училась в Питере в университете, – просто отвечала Элза.
– Ты там с Борисом познакомилась?
– Да. А когда вернулась, вышла здесь замуж, родила сына, немножко его подрастила, позвала Бориса, познакомила с мужем. Они открыли совместное предприятие, – все так же спокойно отчитывалась Элза.
– Мутное?
– Какая разница? – Элза всё еще демонстрировала ровность.
– Борис – твой любовник? – продолжал начатое Дан. – Да.
– И сейчас?
– Давай договоримся, сейчас – это сию минуту. Сию минуту мой любовник – ты, если хочешь.
Дан не успел поставить чашку с кофе на блюдце, и темная жидкость вязко растеклась по рукаву его халата, за который тянула его руку вниз, к себе, Элза.
Шекспировский фестиваль расстроил Дана и воодушевил. Он много рассказывал Элзе о театре в Кёниге, где он проработал три года, параллельно доучиваясь заочно в ГИТИСе, о спектаклях, насыщенных пластикой и эротизмом. То критиковал, что видел сейчас на площадках Гданьска, то восторгался, быстро и неуемно говорил о своих мечтах сниматься в кино.
– Кино… Осенью поедем в Варшаву, покажемся кое-кому. Только вот твой акцент… ну, что-нибудь придумаем. Сегодня спектакль будет идти не в театре: в одном из бывших цехов сточни. Ты знаешь слово «сточня»? Судоверфь. Ну да. Территории огромные. Там где-то и тот театр, в который ты работать приехал. Ты вообще что-нибудь о политических событиях, связанных со сточней, знаешь? Имя Лех Валенса тебе что-нибудь говорит?
– Первый президент Польши, – гордо улыбнулся Дан.
– Какой ты бойкий! Здесь, на верфи, начались волнения в декабре семидесятого. Забастовка рабочих. Он был простым электриком, одним из зачинальщиков. Правительство применило оружие.
– Зачинщиков, – поправил Дан.
– Спасибо. Зачинщиков, – покорно исправилась Элза и повернула машину на территорию бывшей судоверфи.
– Видишь, монумент – три креста?
– Слушай, я все время смотрел, проходя, на это сооружение огромное и понять не мог, в честь чего оно.
– В память о расстрелянных. Старший брат нашей Хельги погиб в те дни.
– Да?! А она тоже немка?
– Что значит – тоже?
– Ну, имя у нее немецкое. И ты же говорила, что город наполовину немецкий, и в тебе кровь немецкая течет, – по-детски объяснял Дан.
– Немецкая, не значит фашистская, – голос Элзы похолодел.
– Да я и не думал… Почему ты так воспринимаешь? – Дан смотрел на ее профиль и видел, как заостряются отчего-то черты ее лица.
– Нет, Хельга полька. Немцев отсюда выселили после войны, когда Гданьск в соцлагере оказался. Практически всех. – Она старалась сдерживать волну какого-то незнакомого Дану раздражения.
– В Кёниге такая же история была. Депортация. А здесь что, во время стачки прям расстрел был?
– К стенке в ряд не ставили. Но стрельбу открыли. Советское прошлое.
– Совдеповское.
– Что тебе это слово говорит? И говорит ли? Ты ведь разницы не успел ощутить. Впрочем, обсуждать это смысла не имеет, – желая поставить точку в теме, резко бросала фразы Элза.
– У тебя вообще со мной обсуждать что-либо не очень получается. Ты меня совсем за дурачка держишь? – не отступал и Дан.
– Я тебя не держу. Разве ты хочешь уйти? – усмехнулась, скосила глаз на него.
– Это оборот речи такой. Ты же понимаешь прекрасно! – он смотрел теперь вперед, не глядел на нее.
– Так, мы почти приехали. Где бы запарковаться? Сегодня «Портовая история» по мотивам «Венецианского купца», польский театр из Легниц – замечательный. Режиссер – Павел Камза. Большая умница, на мой взгляд. Рождает иную, своеобразную красоту. Умеет творить гиперсовременное искусство, но не выплескивает с водой ребенка, – Элза будто и не помнила, о чем говорили до этого.
– В смысле? – не мог успокоиться Дан.
– Сейчас многие постановщики в погоне за новым лицом сводят все к такому минимализму и натурализму, что уже и на театр не похоже. Пустота какая-то. Эстетика помойки, разрушенный человек, цинизм, грубость, ничем не оправданная. И при всем этом – великий снобизм. Они знают, что делают. На самом деле – политика.
– Какая политика?
– Политика конъюнктуры своего рода, политика разрушения личности, разрушения эстетики. Эстетика – наука о прекрасном. Не эстетично – не прекрасно! У них антиэстетика, философия холода и грязи. А это антипрекрасно, значит, ужасно. Все направлено на обезличивание, обесчеловечивание.
– Как это? – заинтересованность Дана опять была столь непосредственной, что Элза сделала паузу, изучила с удовольствием выражение глаз собеседника, детское, удивленное.
– У вас в России развивается так называемая «новая драма». Найди в Интернете пьески. Почитай. В основном чернуха. Это имеет спрос «на Западе». Европа вообще хочет видеть Россию пьяной бомжихой, сношающейся с таким же, как она, на куче отбросов.
– Элза, фу! Как ты выражаешься! – Дан поморщился. – Не люблю чернуху.
– Ну не читай.
– Я же не к тому, чтобы не читать… – он уже не знал, как выйти из этого дурацкого диалога.
– Ты свою норму по чтению на годы вперед за неделю выполнил, – засмеялась Элза, и Дан обиделся уже не на шутку:
– Можно подумать, ты без остановки читаешь.
– Правда, последнее время все забросила. Не читаю и не пишу. Из-за тебя. – Она чуть двинула в его сторону руку в серебряных кольцах. Легкий ток дернул его ключицы от ее короткого взгляда. – Потом, позже, мы опаздываем. – Она уже хлопнула дверью автомобиля снаружи.
И он пережидал спектакль. В огромных пространствах бывшего цеха герои шекспировской комедии разъезжали на велосипедах и в алом безразмерном, способном вместить в себя целую компанию, автомобиле. Двигались на колесах легкие металлические фермы, и актеры работали на нескольких этажах разом, приближая старую пьесу к себе и удаляясь вглубь нее, вглубь времени, увлекали за собой зрителей сегодняшним, внятным молодым весельем. Дан пережидал обратный путь, ужин, разговор о спектакле, размышления Элзы и молчание, и ее, как ему казалось, наигранное спокойствие в противовес его нетерпению, и долгую ее ванну, и свою злость – чтобы с новой безоглядностью броситься в мощную работу, услаждая свое и ее либидо, насыщая и насыщаясь тем, что так быстро приводит к возврату голода, что кажется бесконечностью, но оборачивается тщетой, снова требуя умноженного труда. Ему казалось, что он теряет силы, так много, так длительно он их расточал, пренебрегая сном и отдыхом, но волна энергии, той энергии, желаннее которой нет, возобновлялась, приходя неведомыми путями и требуя от него расточительности.
Элза оставалась неразгаданной шарадой, и наконец, он осознал, что ключ к его силе был в ее тайне, для познания которой он не умел сформулировать вопрос. Он боялся заглядывать за ширмы, пологи, заслоны ее сущности, потому что боялся потерять источник своей энергии, делающей его непобедимым.
– В магазинах появились осенние коллекции одежды и обуви. Лучшее уйдет в минуту. Сегодня надо ехать за пальто – ты хочешь кашемир? Светлое? Темное? А давай купим в мелкую-мелкую клетку. Ты будешь пижоном! Тебе страшно пойдет! И демисезонные туфли, сапоги, сумку. Я видела симпатичную, за восемьсот евро. Но за тысячу, большая, светлой замши – роскошь, только бы тебе понравилась.
Дан садился за руль своего спортивного «порша», Элза – рядом. Вылетали на трассу.
– Жми! Давай 250!
– А полиция?!
– Плевать, заплатим! Тебе же хочется?!
– Очень!
Они мчались до очередного отеля в лесу, и падали на ковер, не успевая прикрыть за собой дверь в номер. Хочется… очень. Он сгорал в медном пламени ее чресел, становился россыпью раскаленных углей, плавился и закипал в ее рыжем аду, что был слаще рая.
Потом она явилась брюнеткой с сапфировыми глазами, и он бурил ее черные недра упорно всверливаясь в бесконечную глубь ее чувственности, стремясь вызволить фонтан пламенного ископаемого. Он добывал тягучую нефть ее тайных глубин и перерабатывал в горючее сладострастья, и ад становился огненно-черным.
– Сегодня ты хочешь на спектакль? Эстонский театр. «Гамлет». Я видела в Таллине. Слиняла после первого акта. Это скучно. Допотопно, – беззвучно отпивая из кобальтовой чашки травяной настой, тянула гласные Элза.
– Что ты подразумеваешь под этим словом?
– Старомодно. Как до всемирного потопа, – так же тягуче продолжала она.
– Молодец, правильно понимаешь, – неумело язвил Дан.
– Ах, спасибо! Ты такой умный учитель! – Элза протянула «у» в обоих словах, исказив во втором ударение.
– Не издевайся. Не думаешь же ты, что я совсем тупой? У меня все-таки высшее образование, на минуточку, – опять по-детски напрягался Дан, чувствовал нелепость своих интонаций и раздражался еще сильнее.
– На минуточку? Всего? Или поедем в Сопот, к морю, выпьем коньяку в ресторане на набережной?
Дана вдруг захлестнула злость. Резко, волной накатила обида. И он бросил, внезапно для самого себя:
– Слушай, а когда ты перекрасишься в блондинку?
– При чем тут… – попыталась сохранить вальяжность Элза.
– Ну, ты же наполовину немка. Почему бы тебе не блеснуть в образе арийской красотки? Этакий нацистский ангел, в фуражке с высокой кокардой и свастикой на причинном месте?!
Элза развернулась. Презрением и насмешкой играли ее неведомого цвета глаза, и ему показалось, что она ударит его сейчас, наотмашь, со всей силы. Он почувствовал, что хочет этого удара, этого выплеска ее негодования, чтобы ответить, размахнуться и полоснуть ладонью по ее холеному лицу, которое вот-вот начнет увядать и гаснуть, по этим, пронзающим его сейчас глазам, по губам – до крови, до обидной боли. Он понимал, что позволил себе недопустимое: между ними были раз и навсегда определенные позиции – она выше, он – у ног, позиции, которой Дан не смел и пытаться изменить. Была единственная возможная система координат взаимоотношений. Он – содержанец, она – хозяйка. Раб взбунтовался. Сейчас он смотрел на владелицу исподлобья, плоский белый взгляд его источал ненависть и… страх. Секунду она размышляла. Колебался воздух вкруг ее иссиня-черных волос. Огонь полыхнул и сник, переродившись во влагу и рыхлость:
– Так едем в Сопот, пить коньяк?
Она его простила? Сделала вид, что ничего не произошло? Проглотила горькую пилюлю как ни в чем не бывало? Или ей плевать на его подкалывания? Не выйдет. Дан уже не хотел примирения.
– Коньяк есть дома. Но вернемся к теме. Как насчет блондинки? Русой, рыжей, брюнеткой ты уже успела подефилировать за мое недолгое пребывание в твоей жизни. Что дальше? Какая смена имиджа? И, кстати, зачем ты красишь волосы на лобке? Не седину ли закрашиваешь?
Она не повернула головы.
– Ты хочешь остаться на весь вечер здесь? Ты уверен? Тогда у меня для тебя сюрприз! Смотри. – Элза вынесла из соседней комнаты шкатулку. Дан принял ее из рук Элзы, раскрыл. Витая бутылка с золотой пробкой полнилась жидкостью цвета темного меда. Дан прочитал надпись.
– «Фрапен» 1888 года? Этот коньяк стоит несколько тысяч долларов, я точно знаю!
– Знаешь, знаешь! Ты – энциклопедия! Открой выдвижной ящичек.
– Что это? – Дан вытянул на свет флакончик в виде старинных часов.
– Это парфюм. Восхитительный запах. Правда? И этот флакончик так хорош! Высокий стиль! – Она рассмеялась. – Давай пробовать напиток. Здесь должен быть букет цветочных, сладко-пряных ароматов, меда и ванили. Ты же так любишь сладкое! – Само смирение, ни намека на оскорбленность. Дана распаляло это еще пуще.
– Ты купила это для меня? На эти деньги… лучше бы уж подержанный автомобиль какой-нибудь.
– Я купила тебе новый. Спортивный, как ты хотел.
– Мне… Ты же не оформила его на мое имя.
– Потому что у тебя нет паспорта.
– Тебе ничего не стоит сделать его для меня.
– А что, ты собираешься уезжать?
– Причем тут это? Так сколько стоит эта бутылка?
– Порядка 5000 евро. Но я не покупала его. Это – реверанс за одну услугу.
Дан смотрел на нее, стоящую рядом, снизу из кресла и видел ее беспечную улыбку, веселье в глазах, которым он не верил. Он наблюдал ее спокойствие, и волна новой злости поднималась в нем быстро, знакомо.
– Ре-ве-ранс? В пять тысяч евро? Ты что, торгуешь наркотиками?
– Фу, глупости! – Она опять улыбалась.
– Не ты, так твой муж. Он имел к этому отношение? Мутные деньги на замки чем ловил?
– Я не знала об этом.
– А теперь ты сдаешь его дружков конкурирующей фирме за большие бабки, и еще получаешь вот такие знаки внимания?
– Господи, что за фантазии? Я очень прошу тебя, не нервничай. Ты же знаешь, как ты мне дорог. Я не занимаюсь ничем предосудительным. Моя работа – переводы. Иногда статьи по культуре…
– И это дает тебе возможность шиковать?
– Нет, я же говорила, что инвестировала большие суммы в надежное предприятие, проценты весьма солидные. Зачем тебе все это? Я хочу, чтобы ты наслаждался жизнью. Рядом со мной. И все. Я готова выполнять твои желания, я потакаю твоим капризам, разве нет? Чего ты сейчас хочешь?
– Я хочу, чтобы ты не обращалась со мной как с игрушкой. Ты считаешь меня идиотом или, во всяком случае, глупее себя…
– Но ты устраиваешь меня!
– Да-да, устраиваю тебя, несмотря на мои «куриные мозги». По понятным причинам. Я способен утолять твою ненасытность.
– Но ведь и ты ненасытен.
– Уже не в той степени. Я же не машина.
Он лгал. Сейчас, бросая эти фразы, пестуя желание мести, он как всегда, как постоянно и ежеминутно, хотел ее. Вожделел. Был готов, распален, почти не мог продолжать перепалку, им самим затеянную.
– Я понимаю, что чем-то наношу тебе раны, стесняю твою жизнь, ты находишься в некоторой зависимости от меня, прости. – Она секунду подумала и снова умиротворенно улыбнулась, будто хотела успокоить. – Но можно уравновесить, уравнять наши силы… – В глазах Элзы мелькнул холодный огонек. – Хочешь, я приглашу сегодня девушку… или несколько девушек, качественных, умелых, они понравятся тебе. Ты сможешь иметь их вкупе со мной или просто в моем присутствии.
Крошечная пауза.
– Опять условия. А… почему я не могу… провести с ними время… вне твоего внимания к моей персоне? – Он был поражен предложением Элзы и прятался теперь за бравадой. До этой минуты Дан был уверен в том, что она собственница. И вдруг такой поворот! – Чтобы, как ты говоришь, уравнять силы, – лез на рожон Дан, – чтобы мне перестать чувствовать себя как в тюрьме? Ты можешь хотя бы сделать вид, что тебя нет?
Дан сам испугался своих слов. Но обратного пути уже не было.
– Ну что, не раздумаешь?
– Я уже еду. Сколько?
– Что, сколько?
– Сколько их должно быть? Две? Три?
Дан смотрел на нее злыми, нагловатыми глазами.
– Четыре. – Он засмеялся, – Плюс ты, плюс я – три пары.
– В этих играх не делятся на пары, – тихо обронила она. – Через час все будет. Поужинай без меня.
– Зачем ты так рано отпустила Хельгу? Кто мне накроет стол?
Элза без удивления продолжила мирно:
– Она попросила. Ее и завтра не будет. Сейчас я тебя накормлю.
– Так и быть, обойдусь без ужина. – Он открыл бутылку, наполнил один бокал. – Пробка из настоящего золота, ну-ка, ну-ка… – Глоток получился слишком крупным, Дан на секунду задохнулся, чуть было не закашлялся, справился, чувствуя наивность своей наглой самозащиты и понимая, что выглядит глупо, продолжил: – Ничего, ароматный, девочкам понравится.
Элза улыбнулась уголком рта, повернулась к двери и шагнула прочь. Дан метнулся за ней и, как успело мелькнуть в его сознании, подобно хищнику в джунглях, прыгнул на нее сзади, подмял, принялся рвать тонкий эластик.
– Зачем ты надела эти дурацкие колготки, ты же всегда носила чулки! Только чулки с кружевом поверху, – хрипел Дан. – Короткие чулки, чтобы, когда садишься, из-под юбки был виден их край и полоска голой ноги… И никакого белья! Ты же всегда так ходила…
– Хорошо. Как ты скажешь. Прости. Не оказалось чулок нужного оттенка…
– Оттенка… какого оттенка… черные, черные…
Она подтянулась к стене, присела и смотрела теперь на его еще не вернувшееся лицо, на глаза, постепенно обретающие зрение, язык, облизнувший губы, на круто вьющуюся над виском длинную прядь темно-русых волос.
– Ты похож на итальянца. На юношу эпохи Возрождения. Я еду.
– Куда?! – совершенно не понял он, полагая, что их соитие зачеркнуло ссору, претензии, нелепые его требования, наглость, и теперь уж забыто ее ужасное в ответ предложение. Все вернулось на места. Всё как прежде.
– За девочками, – была непоколебима Элза. Дан не возразил.
В отсутствии Элзы Дан почувствовал вдруг прилив радости – дикой, неуправляемой. Эта взбудораженность, эта веселость не давала ему покоя, заставляла двигаться по дому, врубать музыку, танцевать, хватать и бросать на новое место, что подворачивалось под руку: диванную подушку, книгу, шарф, халат. Он носился среди дверей голый, ловя свои отражения то тут, то там в темных вечерних стеклах, зеркалах, лаковых поверхностях. Ему ни о чем не думалось, он не сердился, не злорадствовал. Он даже не понимал теперь, хорошо или плохо то, что происходит, грозит ли ему что-то, сулит ли дурные изменения нынешняя ситуация. Он не умел сопоставить элементы происходящего и сделать выводы. Его влекло течение событий, куда, зачем – он не осознавал. Единственное, в чем он отдавал себе отчет, было то, что с ним происходили невероятные вещи, которых он не мог вообразить себе всего месяц назад, приключения «как в кино», события, о коих его приятели не могли и мечтать. Ему хотелось щенячьего веселья и недетских, диктаторских самопроявлений одновременно. Ему пришлось выплеснуть всю ребяческую энергию до возвращения Элзы, он опустошился, оставив за собой право на жесткость, которая дала себя знать, как ему казалось, в полной мере в последующие часы, превратившиеся в бредовые видения его будущих снов. Комбинации и перестроения двух пышногрудых, мягких блондинок, поджарой, похожей на мальчика стриженой шатенки и обладательницы белоснежного тела, алебастр с веснушками, и мелко курчавой природно-рыжей гривы до пояса, – были многообразны и замысловаты. Хозяин положения и пяти женщин, подогреваемый новизной ситуации и опытом участниц события, был неистощим в своей активности, алчен и неизменен в диктате по отношению к Элзе. По его воле ее функция сводилась к тому, что она должна была поочередно или совмещенно ублажать эротические прихоти четырех гостий, в то время как те взаимодействовали с Даном. К полудню следующего дня почти не спавший, бледный, Дан столкнулся с рыжекудрой своей партнершей на пороге ванной.
– Ты вообще знаешь, с кем ты связался? – протараторила она жарким шепотом по-польски, вталкивая его назад.
– С кем?
– Из-за нее один парень с жизнью покончил. И, говорят, мужа ее из-за нее же и убили, и с ума кое-кто сошел…
В дверном проеме, одетая в строгий деловой костюм, с гладко причесанными черными волосами похожая на испанку, в легком макияже, свежая, будто выспавшаяся, сияя синевой глаз, стояла Элза:
– Мадмуазель, одевайтесь. Дан, дорогой, девушек мне дали до часу дня. Машина уже давно ждет. – Рыжая скользнула голым телом вдоль стены мимо Элзы. – Мне тоже надо ехать. Сейчас отправлю водителя с девочками и – за руль.
– Как за руль? Ты же практически не спала. И коньяку сколько выпито, и…
Элза опустилась перед его босыми ногами на колени и поцеловала поочередно каждый из десяти пальцев:
– У тебя стопы, как у мраморных статуй греческих богов. Как ты прекрасен!
– Не уходи! Останься! – Дан присел на корточки. – Мне плохо. Противно. Зачем ты все это придумала? Зачем ты заставила меня издеваться над тобой?
– Издеваться? Ну что ты, я рада была служить твоим прихотям. Ты хочешь, чтобы я была сейчас рядом? Все. Я никуда не еду.
Дан вдруг почувствовал физическую пустоту в груди, между ребер, в животе, пустота похолодела и обожгла ледяным падением сердца, туда, ниже ног, в бездну.
– Нет. Уезжай. Я хочу остаться один, – поднялся он на ноги.
– Хорошо. Тебе надо поспать. Я постараюсь тебя чем-то порадовать. – Она развернулась, двинулась по коридору, и Дан увидел, как в разрезе ее юбки мелькнуло кружево, обрамляющее черный недлинный чулок.
– Я ничего не хочу, – сказал он негромко ей в спину.
– Это неправда, – ответила она еще тише, не оборачиваясь. – Для этого еще не пришло время.
Дан не мог уснуть, его тошнило, но организм отказывался очищаться. Он попытался что-то поесть, но запахи разогреваемой пиши не вызывали аппетита, он оставил тарелку в микроволновке и снова направился в спальню, разрытую, неопрятную, зияющую пустотой как могила, из которой вырыли труп. В гостиной, холле, даже в библиотеке оставался дух прошедшей ночи, ее грязные следы, скомканное время, память звуков, вызывающих теперь отвращение.
Дан продирался через свои сиюминутные ощущения мрака, безвыходности, отсутствия смысла – вперед, прочь от прошедших суток. Он застревал, увязал в мутных, как крахмал, метрах, с трудом находил в себе силы, брезгливо преодолевал застывающие мгновения, чтобы достигнуть наконец гостевой комнаты, в которой жил. Сюда не прокралась вчерашняя аура. Он вполз под одеяло, притянул колени к носу и вспомнил о маме. Он тихо заплакал, жалея себя, и так, благодаря слезам, расслабляющим, растворяющим в жалости к себе, уснул.
К его пробуждению рачительная Хельга успела изгнать из дома вчерашний воздух, гигантской своей щеткой вымела тени, седой мрак ощущений и саму память о них, отчистив стекла, зеркала, отполировав лаковые поверхности, она содрала все следы касаний, размыла остатки голосов, сменила смыслы.
Хельга приготовила новую пищу, сочинила свежие обонятельные и вкусовые эмоции, требующие их немедленного употребления.
Элза явилась сероглазой шатенкой в строгом брючном костюме свободного кроя, спрятавшем ее формы, сдержанная, немного чужая, подарила Дану мобильник – последний НТС, напомнила позвонить маме, предложила посетить открытие выставки актуального искусства.
– Это даже не выставка, в привычном понимании. Акция. Что-то любопытное обещают. Впрочем, я не знаю, интересует ли тебя современное искусство.
Дан немногословно согласился, молча съел завтрак.
– Я еду потом в тот замок. Ты хочешь со мной? – Она не могла не заметить краткую тень, пробежавшую по лицу Дана при слове «хочешь», и тут же исправилась: – Ты поедешь со мной?
Он поднял на нее глаза. Он увидел ее чужой, другой, но как всегда красивой. Она будто похудела, стала выше и легче в жестах, нынешний, нейтральный цвет ее волос и глаз совершил новые изменения в ее поведении: она была холодна. Более холодна, чем, когда, случалось, сердилась на него прежде. Сейчас она была… равнодушна? Или нет, он неправильно понимает? Она – тиха. Тиха и покорна. Он поднялся из-за стола, поблагодарил, прошел к себе, надел свежий гольф, новые джинсы, светло-серую кожаную куртку, провел щеткой по волосам. Человек за стеклом смотрел на него печально, он был много взрослее, чем месяц назад, он казался усталым.
– Вот, птичек послушали и живых, и в записи… – Элза улыбнулась Дану. – Ну, тебе же тоже ясно: звуковые взрывы имитируют разрушение идиллического пространства, хаос, войну. И электронное пение птиц – модель мира рядом с миром истинным. После взрыва запись щебета больше не звучит, слушаем птиц реальных. То есть пока – гибель смоделированная – предупреждение. Ну, что ж, почти неплохо. – Элза говорила по-польски, будто сама с собой. Дан пытался прислушаться, но сейчас ее речь казалась ему непонятной, чужой. Он смотрел вверх в начинающие желтеть толпы листьев, еще живых и сочных, но обреченных.
Они пересекали слегка подкрашенные охрой, прорезанные трассой леса, уходя на запад в разливах света, яркого, но уже осенне-белесого, чуть плоского, затаившего в себе печаль.
Замок в полосканиях полуденного солнца казался старше и меньше, чем в ту, первую, ночную с ним встречу Дана.
– В подсветке он более величественный.
– Да, и здесь новые разрушения. Пойдем, посмотрим. Хозяева его продавать решили, не справляются.
– Опять? Не везет старику.
Они обогнули строение с восточной стороны, теневой в этот час, серой: угловая башня обнажила свое искореженное, косое теперь нутро. Сухая скрепительная ткань стены шелестела, шептала, продолжая осыпаться. Разверзшаяся сердцевина башни зияла внутренними расколами. По земле разбегались рыжими пузырями осколки черепицы.
– Крыша рухнула?
– Верхняя часть башни раскололась. Были давние трещины, в них ветер гулял… Да и крыша худая… Балки прогнили, видимо.
– А какие помещения в башне были? Внутри, на этажах?
– Библиотека.
– Та? Наша?
Элза повернула свое лицо, глаза, губы – к Дану. Щурясь на солнце, прикрыла веки. Он заметил тонкие прорези, бороздки, бегущие от уголков ее глаз к вискам, такие же нежные морщинки над верхней губой, он скользнул рукой по ее талии за спину, провел ладонью вдоль позвоночника от затылка до поясницы, вернулся к лопаткам, придвинул Элзу к себе. Она открыла глаза, чуть отстранилась, Дан запрокинул другой рукой ее голову и захватил свое и ее отчуждение, сомнения, недосказанность, боль – в плен, еще не жестокий, но уверенный.
– У меня ключи, идем. – Элза двинулась, но Дан сгреб ее спрятанное под свободной одеждой тело, подхватил, понес его, легкое, собранное, напряженное даже. Оставаясь у него на руках, она ввела ключ в замочную скважину, повернула. Гулко покатились шаги и шепот вверх, под своды, закачались там, рухнули. Звуки колотились об стены, разбивались, множились, замок вздыхал, рассыпался смехом, стонал, вздрагивал и вибрировал, плыл в сумерки, пересекая сгусток времени.
Осень увядала. Сухая, поджарая ее рыжина седела и истончалась, горела и дымилась, источая прощальные ароматы.
Замок продолжал принимать их страсть в себя, в каждый их приезд, становясь все прозрачнее.
Замок таял. В нем поселялся холод.
– Тебе и сейчас здесь нравится? Скоро приедет Борис.
– Как обычно. Почему ты зовешь его всякий раз, когда мы здесь?
– Нельзя забывать о делах, мой мальчик. Сегодня он привезет Хельгу.
– А ей-то что здесь делать?
– Собрание родственников в рушащихся интерьерах.
Дан повернул к ней изумленные глаза:
– Каких родственников?
– Шучу. Собрание акционеров. Акции – мысли. Надо кое-что обсудить. Эти двое – очень близкие мне люди. Самые близкие из живых, не считая сына. Он – вне сравнений. А ты можешь прокатиться до Гданьска один. Возьми ключи. Не слишком гони. Береги себя!
– Я ревную тебя к Борису, – повернулся он уже у входа.
– Ты не имеешь права меня ревновать.
Она произнесла это тоном, не терпящим возражений, но лицо ее было равнодушным, пустым.
– Зато я имею право трахать тебя. Когда захочу. И впредь я буду делать это, когда посчитаю нужным. Когда я посчитаю нужным, понимаешь? – прошипел Дан.
– Успокойся. Когда, кого и как… Поезжай, мой милый мальчик.
Дни будто притормозили свое движение. Элза уехала в Варшаву в командировку, пообещав заодно повстречаться с приятелями с киностудии, поговорить о возможности съемок. Дан остался на попечение заботливой Хельги. Теперь ему не были поставлены условия затворничества, чтения книг и просмотра фильмов. Он выезжал в город, но если собирался выпить, за руль не садился, а вызывал такси. Как-то в центре, заранее позвонив, его подхватил Борис. Этот человек сам по себе не вызывал у Дана раздражения, напротив, симпатию, – какой-то уютностью фигуры, уравновешенностью поведения, надежностью. Борис, по мнению Дана, был, что называется, нормальным мужиком. Если бы не их отношения с Элзой. Всякий раз при встрече с ним Дан не мог подобрать верного тона, чувствовал себя не в своей тарелке, зажимался. Борис не стал стеснять его преамбулами, сразу протянул рюкзачок.
– Держи. Твой? Ты его в кафешке на променаде в Сопоте забыл. Чего ж за ним не съездил?
– В Сопоте? Когда? А я там был?
– Хорошо же вы, видать, тогда погуляли. Разумеется, был. Тебя там официанты до сих пор вспоминают. Анекдоты рассказывают про то, как ты эротические танцы с незнакомыми польками отплясывал. У меня владелец этой точки приятель. Он мне твой паспорт показал, всё лето не знал, где искать такого русского эротомана. Я на фото глянул – ты. Везунчик, однако.
Дан сунул паспорт во внутренний карман лайкового пиджака.
– И давно ты рюкзак нашел?
– Да больше месяца назад.
– Как? Элза знала?
– Знала. Ну, куда тебя подвезти?
– Домой, наверно, не хочу никуда, дискотеки надоели. Поужинал в ресторанчике, пора и честь знать.
– Ты что под «домом» подразумеваешь? – глянул Борис мимо Дана.
– В смысле? – казалось, не понял вопроса Дан.
– Я так понимаю, ты не в курсе. Ты свободен. И желательно забыть адрес. Рады не будут.
– Какой адрес?
– Элзы. Она просит больше не беспокоить. Твое время вышло, – подытожил Борис, и в его интонации чувствовалось нежелание говорить все это.
– Как это? – сглотнул Дан.
– Да ты не расстраивайся. Тебе же лучше. Поверь. Она могла и куда жестче поступить. Ты ошибок много наделал. Да вы все так – в зобу дыханье спирает, головокружение от успехов свет застит, кум королю, сват министру! Куда там! Ничего не слышите, ничего не видите, машины, шмотки, развлечения! И ее тело. А ты ее глаза без линз когда-нибудь видел? Они голубые и абсолютно прозрачные. Знаешь, плотности не имеют. И видят эти глаза плохо. Потому линзы и нужны. Не просто декоративные, нет – с диоптриями. Когда в ее глаза без линз смотришь, очень страшно делается. К тому же она пепельная блондинка от природы. Страшно, оттого что на первый взгляд – ангел во плоти, а в глаза заглянешь – бездна затягивающая. Нехорошая. Многому есть объяснение, конечно.
– Подожди! Я прошу тебя, давай поговорим!
– О чем?
– О ком. О ней. Пойдем, посидим куда-нибудь. Я приглашаю.
Громада костела Пресвятой Девы Марии нависала тяжестью и объемом, дыбилась, острилась шпилями, вонзалась в темнеющее небо, поражала резким несоответствием отточенных карандашей малых башен – основной, безглавой, с почти плоской крышей. Мужчины молча и длительно огибали темные стены, углубились в переулки.
Борис бросил:
– Ты знаешь, что в этот костел входит двадцать пять тысяч человек?
– Сколько? – высоко протянул Дан.
– Смешной ты, парень. Зайдешь – убедишься, пространства колоссальные. Не иначе, самый объемный собор в мире.
Бар был полон народу, но через время все затихло, посетители рассосались, Дан и Борис перебрались от стойки за столик на двоих, официант запалил свечку, принес коньяку, лимон, десерт.
– Я знаю, ты тоже сладкоежка, – пододвинул вазочку с чем-то замысловатым Борису Дан.
– Бывает… Спрашивай. Я понимаю, хочется поговорить о человеке, который для тебя много значит.
– А разве для тебя – нет?
– Видишь ли, я – совсем другое дело. Нас связывают дела. Годы… – уходил от прямого ответа один.
– Ты же любишь ее. Как ты меня-то терпел? – требовал откровенности другой.
– Тебя? Ну ты с места в карьер. Ты, кажется, не понимаешь пока главного. И объяснить я, наверное, тебе не сумею. Сам дойдешь постепенно. Поразмышляешь, и потом, может быть… Не знаю…
– А русскому ты ее научил? – будто не слышал Дан.
– Да она же наполовину русская. На четверть кашубка, на четверть немка. Еще тот замес.
– Русская? Как это? – поразился Дан.
– Она с 1958 года. Ее мать приезжала в Москву на Фестиваль молодежи и студентов. Знаменитый фестиваль! После него в России много черных ребятишек народилось. Африканцы по себе память оставили. Темпераментные. А от русских парней в страны соцлагеря девушки пригожие домой начинку в животах повезли. Фестиваль молодежи! Гормоны всех стран соединяйтесь! Жениться на иностранках тогда строго-настрого запрещено в СССР было. Тебе не понять. Вы сейчас ничего не боитесь – без паспорта, без денег – Европа моя! А тогда – любовь, не любовь, нельзя и все тут. Три года к тому времени, как занавес железный упал. Всего три года. Иная психология, идеология, принципы, дисциплина. Мать Элзы так замуж и не вышла. Хельга соседкой по квартире была. Как брата своего старшего в семидесятом во время волнений против советского режима потеряла, совсем одна осталась. Он у нее и за отца, и за мать был, сиротами росли. Стала жить с Элзой и ее матерью. Вроде как родственница. Объединили свои квартиры, съехались. Потом Элза уехала в Питер учиться – отец ее помог по линии соцлагерного содружества в универ попасть. Русский отец, понимаешь? Он профессором был. Филолог. Без нее здесь, в Гданьске, умерла мать. На руках у Хельги. Сердечный приступ. Элза приехала на похороны с отцом. И я с ними: профессор в России семью имел, жену взял с ребенком. Я и есть этот сын. Так что мы с Элзой тоже как бы родственники.
– Ясно. Не влюбиться ты в нее не мог, – констатировал один со знанием дела.
– Не мог, – согласился другой.
– Почему не женился? Почему другому жениться позволил?
– Причин много. И не хотела она за русского. Ни за меня, ни за кого-то другого.
– Вот странно. Она же русская наполовину, по отцу! – опять недоумевал младший.
– И что? – усмехался старший.
– Ну подожди так, кем же она себя ощущает? Русской? Немкой? Кашубкой?
– Полькой. Как же иначе? – Борис усмехнулся. – А представь себе, все ее детство ей кашубская бабушка рассказывала, что во время войны немцы тут не зверствовали. Добрыми были. Они же дома себя чувствовали, привычно соседствовали с поляками в вольном городе Данциге. Это сейчас здесь Германию ненавидят, всё свою самостийность и незгинелость сами себе доказывают. Право на город, на историю. Тогда по-другому было. А русские освободители пришли, город немецким воспринимали, с ненавистью к людям относились, как к фашистам. Бывали и жестокости, и бесчинства. К тому же именно русские Гданьск в ноль разбомбили, прежде чем город у немцев отбить. Здесь же сплошные руины были. Вся эта средневековая и маньеристская красота – восстановление. Это наш Кёниг 25 лет только дорушивали до основанья, а затем ничего путного не построили. Что после бомбежек уцелело, из ненависти к немецко-фашистскому прошлому в мирное время взрывали и по кирпичику, по булыжничку растаскивали. И сейчас остатки по области гибнут, «руинируются». Здесь иначе. Здесь свой город любят, ничего не скажешь.
– Жуть какая-то, – смотрел в сторону Дан. Борис не поймал его взгляда, не понял неопределенной интонации.
– Жуть? Ты о чем?
– Об Элзе, – выдохнул парень.
– Жуть у Элзы в душе. – Борис сделал большой глоток. Глядя на дно стакана внятно произнес: – Дед ее нацистом был. Офицер СС в высоком чине, ни много ни мало. В самом конце войны ранен во время бомбежки, в госпитале умер. Вот такие подробности.
Дан долго молчал. Сцены из прошедших месяцев врывались в сознание пятнами, вертелись, неразгаданные, сменялись другими, жуткими, чувственными. Невнятное объяснение происходившему брезжило, но, не проявившись, рассыпалось. Больше всего Дану хотелось спросить Бориса, постоянно ли Элза играет в игры, подобные той, в какую втянула его. Но тут же становилось ясно, что вопрос глуп и не в постоянстве дело. Ответы роились и складывались в единый ее облик, вмещающий в себя разнообразие ее ипостасей, притягательность и великую ее печаль. Безысходность.
Наконец Дан вернулся:
– Ты ее всерьез любишь? И на что ты рассчитываешь?.. Прости.
Борис, будто не слыша вопроса, почти сразу произнес с заботливой интонацией старшего, дающего младшему добрый совет:
– Данила, ты знаешь что, прямо сейчас шуруй на автобусную станцию и – домой, в Кёниг, к маме. Приключение окончено. Смирись.
Дан вернулся к костелу Пресвятой Девы Марии. Крошечным зернышком вкатил его ветер в тело громады. Не надавили внутренние контрфорсы, не принизили, не размельчили человека высота и бездонность средневекового чуда. Но освободили его те пространства от стыда и боли, поразив своим постоянным величием, строгостью и покоем.
Дан поплутал по переулкам в противоположную реке сторону, потом повернул назад. Он брел сквозь серый вечерний ветер по Длугой улице в сторону реки, направляясь к Журавлю, протянувшему красный кирпичный старинный клюв свой над Молтавой, к тому кафе, где была разыграна первая сцена его истории. Дорога казалась действительно долгой, никак не хотела кончаться, ставила все более плотные ветряные заслоны. Он бережно нес вдоль сопротивляющейся улицы свое желание занять свободное место где-нибудь в уголке, подальше от барной стойки, заказать кофе. Вернуть тот знакомый горьковатый запах, те звуки легкого касания чашечек о блюдца.
Он замер в дверном проеме: за столиком, в двух шагах от него, пристально глядя в глаза хорошенькой, коротко стриженой девушке, поджигала сигарету зрелая шатенка с роскошной грудью под гипюровой темной облегающей блузой. Дан отшатнулся, затем подался вперед, вгляделся сквозь наплывающие дымные пенки. Элза? Напротив – стриженая девочка вертелась на стуле, по-рыбьи раскрывала рот, будто задыхаясь, широко улыбалась и щурилась, морщила носик, стараясь понравиться даме, и та положила на ее запястье длинные свои пальцы, успокаивая и поддерживая взволнованную визави.
Он шел в сторону вокзала. Ветер стих и сменился острой щетинкой дождя, рисующего частые штрихи по пятнам света от фонарей, теперь сырых и тусклых.
Все та же пара дежурящих в здании вокзала полицейских – пузатенький и рыжий не обратили особого внимания на хорошо одетого, но промокшего до нитки пассажира с молодежным рюкзачком в руках.
На стене пассажирского зала по-прежнему белел экран, теперь пустой и бессмысленный, будто в ожидании, когда наконец на нем кто-то появится, двинется, улыбнется, а может быть, уснет, сидя в кресле.
Дан, не замедляя шага, миновал полупустые ряды неудобных диванов, и тех, кто на них дремал, читал, беседовал между собой и, почти дойдя до стены, еще ускорил движение, приложил незнакомое ему самому, найденное где-то в запасниках возможностей усилие, приподнялся над полом, завис и легко вошел в пространство экрана.
15.
От Нари пришло сообщение: «Душа не имеет пола. Различия мужчины и женщины – в теле и разуме». Сандра подумала, что это – высокая мудрость, абсолютно точное определение. Однако в голову ей не приходило ничего достойного, соответствующего, и она не ответила. Ей привиделась Нари в привычном окружении подружек, среднеполых шлюх, выскакивающих силиконовыми прелестями из своих пестрых одежек, их раскрашенные поддельные мордочки, душные ароматы, суета, и ей стало неловко оттого, что на расстоянии необходимый для подобных воспоминаний флер пробился дырами, помутнел и обвис, переродился в дешевую тряпицу, та заплясала, запрыгала нелепо, безобразно. Сандре захотелось потерять, нечаянно выбросить из памяти ту ночь на Walking street, как выбрасывают из кошелька ненужный, машинально запихнутый туда раньше автобусный билетик. Пожалуй, теперь ей хотелось забыть и о самой Нари. Неловкое, досадное чувство, осадок, как от чего-то постыдного, жалкого – всё, что возникало в сознании при мысли о ней, всё, что осталось.
Вечерами хорошенькая молодая особа и высокий, сухой пожилой человек усаживались под цветущей розовым и белым плюмерией, беседовали, очищая ножом от толстой, брызжущей горьким фиолетовым соком кожуры плоды мангустина и рассасывали его свежую белую мякоть, придавливая, сжимая между языком и небом сладкую волокнистую ткань, прежде чем проглотить.
– Знаешь, я, кажется, поняла одну очень важную вещь, – щебетала Сандра. – Раньше я никак не могла принять в буддизме то, что индивид, перевоплощаясь, не помнит своей предыдущей жизни. Не помнит себя. Осознает себя только в сиюминутном, теперешнем мире. Человек не чувствует продлённости, многократности своего существования. Получается, что он только здесь, только теперь. Если он живет многожды, для чего лишен памяти прошлых жизней? В чем тут мудрость? В чем логика? А теперь через Майринка, через его «Ангела западного окна» я пришла к пониманию: помнит себя в прошлых жизнях тот, кто обрел Просветление, Знание. Всеобъемлющее Знание. А вместе с ним и знание о себе. Полное. Мгновенно. Может быть, все, умерев, обретают это Знание? Каждый, переступивший грань материального бытия. Вот умер, и – ррраз! И – помню! – знаю всё! И – свобода! Ведь несвобода возможна только, когда есть некие границы. Любая сила сдерживающая, не пускающая видеть дальше, двигаться, ощущать глубже, шире. А тут – безмерность! Во всех смыслах! Аж дух захватывает, когда пытаешься представить эту абсолютную свободу, безграничье. – У Александры, как в испуге, расширились зрачки, она улыбалась неуверенно, ее взбудораженность смутила Старика, но он скрыл это:
– По Елене Блаватской, то есть по Живой этике, смерть есть переход за грань одного бытия, одного воплощения, перед возвращением обратно в воплощении новом. Этакая передержка, отдых. В этой теории не только память всего, там возможность субъективных воздействий присутствует: сознание, если оно в должной мере совершенно, способно поторопить это возвращение, или, наоборот, замедлить, продлить этот этап.
– Но вернувшись в материальный мир следующим воплощением, человек утрачивает свободу понимания, свободу Истины, память. – В интонации Сандры был вопрос. Хотя она знала, Старик прямо не ответит, реальную свою точку зрения не выдаст. А ведь она есть у него на этот счет. Наверняка есть.
– А почему именно через этот роман Майринка? Что в нем такого разъяснительного, вам, барышня, удалось вычитать? – поинтересовался Старик.
– Ну, многое… Я же не буду перечислять эпизоды. Впрочем… – Сандра навела курсор на отмеченной странице, прочитала: – Вот, например: «не той сугубо практической алхимии, которая занята единственно превращением неблагородных металлов в золото, а о том сокровенном искусстве королей, которое трансмутирует самое человека, его тёмную, тленную природу в вечное, светоносное, уже никогда не теряющее своего „Я„существо». Вот. Никогда не теряющее своё «я» существо, это то самое, которое помнит прошлую жизнь, все свои прошлые жизни разумно, осознанно, то есть всё зная, проживает нынешнюю, и готов к следующей, в которой осознанно продолжит совершенствоваться. Тогда всё сходится.
– Что касается алхимии, здесь позиция четкая. Но в целом мутная у Майринка среда. Путаная. Впрочем, «Ангел западного окна» – признание в любви кумиру его, Джону Ди, трудному, по всей видимости, не очень счастливому, талантливому человеку. Ты про него вне романа почитай, про его реальную судьбу. Вот у сэра Ди работка была – астролог и алхимик, придворный маг Елизаветы. Реальные профессии в то время. Доверенное лицо королевы, шпион, политический деятель, что ж тут? Медитировал с помощью «магического кристалла», шара из отшлифованного хрусталя. Желал получить «язык ангелов». Ни много ни мало. Ангельский язык. В письменном выражении. Но, может, хотел уловить и звучащий. Алхимик. Соединитель. По Юнгу, алхимическая символика, делание священного брака есть истинный путь к внутренней целостности. Но мужское и женское начала свести к общему гармоническому знаменателю возможно только посредством третьей силы: необходимо сочинить тинктуру. Здесь, в третьем компоненте – вся тайна, весь смысл. Вот такой ренессанс.
– Нет, Старый, не сочинить. Она есть, тинктура существует. Это нечто готовое, реальное, надо только определить, осознать, что это. Я так чувствую.
– Возможно, возможно… – Старик рассеянно уходил от спора.
– Почему ренессанс? – не отставала Сандра. – Алхимией занимались задолго…
– Да-да, верно, я о Джоне Ди… о Майринке. Осознание себя…
О памяти воплощений, это ты хорошо разумеешь.
– А вот еще, Старый, что я думаю… Помнишь, у Кена Кизи в «Гнезде кукушки» героя лечили электрошоком? Нет, его не лечили, его наказывали. А вообще-то в тяжелых случаях депрессии эту терапию, как считается, успешно применяют. Я тут в Инете полазила, отзывы пациентов почитала. Они пишут, что им не было больно. Это как же, шарахнуть по мозгам, прямо по мозгам током, всё тело выгибается, во рту резинка, чтобы язык не прикусить, и при этом нет боли?! Как это возможно? А всё дело в том, что эта процедура напрочь отбивает короткую память. То есть пациент испытывает страшную боль, но не помнит этого. Начисто не помнит. Вот и в процессе реинкарнирования, видимо, есть такая фаза. После того как открывается всё, какое-то воздействие отбивает память. И после этого воздействия мы не помним, что было в прошлой жизни. Чтобы не было воспоминания боли? Чтобы как с чистого листа. Да? Как думаешь?
Старик не ответил. И будто не было этого Сандриного пассажа, вернулся к Майринку:
– А «Голема» ты еще не читала? Полагаю, тоже весьма интересно для тебя будет. Там тема герметической свадьбы в несколько ином ракурсе: Бог Осирис на перламутровом троне в образе Гермафродита с головой золотого зайца. И упоминание камня, якобы заложенного членами Ордена Азиатского Братства в фундамент дома, в котором должен поселиться в некоем конце времен человек, соединяющий в себе мужское и женское начала. Гермафродит, в гербе которого будет изображение зайца – символа Осириса, умирающего и возрождающегося, несущего в себе жизнь и смерть Бога. Что-то близкое твоей формуле соединения живого и неживого.
Старик помолчал. Потом закончил вопросом:
– Тебе известно, что Майринк в конце жизни принял буддизм?
Здесь, у бассейна, в темноте позднего вечера было покойно и тихо, а там, на расстоянии пары кварталов, звучал, танцевал, пил тайский ром и виски город даунбэккеров и бохо, город тех, кто сбежал от чего-то или кого-то, от работы и хлопот, от утомительной жизни, от холода зим, сюда – в вечное лето, в бесконечную, не имеющую ни начала, ни конца жару, постоянное присутствие которой, кажется, остановило время. Этот город-перформанс, контемпорари арт в действии: высокий крепкий мужчина, ряд серег в ухе, рыжие замшевые сапоги на меху, словно сшитые из бывшей дубленки, надеты на босу ногу, торчащую сверху из коротких бермудов. Вот, башка моя наполовину облысела, но на затылочной ее части – косица из оставшихся, давно отрощенных волос. Хвост длинен и курчав, он – признак моей принадлежности к поколению, что родом из семидесятых, из хиппи, из тех, что всегда в клешах. Вот – фетровая шляпа с седыми и тонкими развевающимися патлами из-под нее, патлы и шляпа нераздельны, по-видимому, под шляпой та же лысина, на ногах же, конечно, казаки, высокие, на каблуках, тяжелые, жаркие, но без них – никак нельзя, нет образа. Вот дама, тощие руки выше морщинистого черного локтя, тощие, распухшие в суставах ноги, уголки рта вниз, седая густая шевелюра, достойный, мимо всего взгляд; старики с крашеными остатками волос и красноватыми глазами, масляно блуждающими по обтянутым шортами аппетитным ягодицам бэкпекерш; пожилые и весьма пожилые тучные подруги в свободных шальварах и размахайках, украшенные сумками, поясами и иным рукоделием жительниц местных горных сёл. Все эти британцы, австралийцы, американцы часами пьют кофе и разговаривают в открытых кафе, напоминающих южноевропейские, с вовсе не европейскими задворками: сливными канавками, шипящими на тайский лад казанками и плоскими сковородами, рублеными стеблями бамбука, горками лаймов, зеленых помидоров и прозрачной рисовой лапши.
Прямо под стеной у Тапе Гейт то и дело появляются люди с коробками, полными теннисных мячей. Они начинают действо, к которому быстро присоединяются прохожие. Одни жонглируют умело, у других совсем не получается. Мячики вертятся в воздухе, раскатываются по асфальту, бегут, утекают, взлетают, режут воздух накрест, ломают солнечные лучи, скачут вверх-вниз, вверх-вниз! К жонглерам можно подойти и, без просьбы, просто в ответ на улыбку, получить пару мячиков на пробу. У вас ничего не получится, но вы будете пытаться раз за разом, смущенно улыбаясь и сердясь на себя и на мячики, и на их владельцев, убого, неуклюже перекладывать один мяч из ладони в ладонь, а другой подбрасывать вверх, уже упуская первый, спотыкаться, заваливаться влево, путаться в собственных ногах, бежать за ускользающим обидчиком… Кто-то рядом с вами, работая только одним прыгуном, уже научился четко подбрасывать и четко ловить плотный желтый шарик, который подчинился и служит ему, но отказывается взаимодействовать с вами. Вы уже злитесь не на шутку и продолжаете пустое занятие, стыдясь своего неумения, видного, как вам кажется, всем. Иногда на площади возникают люди, которые перехватывают лимонных прыгунов и ловко принимаются нагревать воздух до кипения не двумя мячиками на человека, а пятью, а то и семью сразу, работая на пару, смеясь и раскланиваясь в ответ на аплодисменты быстро сгущающейся толпы. Потом умельцы, танцуя, зависают в воздухе, пробивая в небе мячиками аккуратные круглые отверстия, запускают в них руки, вытягивают светящиеся стрелы, кидаются ими друг в друга, затейливо уворачиваясь, делая кульбиты в низких ватных облаках, устав опрокидываются навзничь и качаются в них как в гамаках. А позже, видимо, уснув, роняют мячи и уплывают на медленных сгустках пара в сторону гор, и мячики со стуком ударяются оземь – два-шесть-десять… и еще многократно подскакивают, прежде чем запрыгнуть в коробки на коленях погрустневших хозяев.
Рынок, конечно, видоизменялся не то что ежедневно, а несколько раз на дню. Он перемещался и разрастался сам в себе, двигался в своем нутре замысловатыми траекториями, пузырился и напоминал подходящее на дрожжах тесто. Разумеется, он заглублялся подвалами вниз, путался лабиринтами в затхлой темноте и прорывался вверх как нарыв, то там, то здесь вспучиваясь до трех этажей. Во всяком случае, я своими глазами видела железные переходы между запятнанными черным грибком зданиями на уровне второго этажа, по которым сновали туда-сюда в тени верхних этажей и крыш люди. За китайскими буддистскими пагодами другой стороной улицы растеклись цветочные ряды. Ритуальные букеты лотосов в бутонах, олицетворяющие нетронутость, закрытость, чистоту, теснили пучки орхидей, неуважительно стянутых простой суровой ниткой, и пруд пруди роз, продаваемых за копейки. Под низкими крышами влажно висла гуща запахов: плесени, синей и серой с бирюзовыми прорезями, и растений, из плесени прорастающих, дыхательной влаги и человеческих миазмов. Ряды тянулись и длились в поворотах, за которыми открывались всё новые прилавки, рождая широкие и бесконечно крученые туннели, катакомбы рынка. Плелись, наматывались тысячи, а может быть, и миллионы километров тканей: китайской дешевой подделки и истинного северотайского «дикого» – плотного и узловатого, и тончайшего скользкого шелка. Тяжело дышали рыхлые коттоны ручной работы, шелестели вышивки, вышивки, вышивки – на бесценных замызганных временем фартуках и головных уборах, аутентичных, вывезенных из южного берегового Китая. Выполненные гладью розовые и пурпурные цветы и птицы с клювами синего сандала, терракотовые растения, бирюзовые россыпи листьев стелются по корзинам и коробкам, роятся. Роюсь. Меж многими слоями ищу пробелов, запускаю руки, тереблю, брожу вслепую пальцами, перетрагиваю, извлекаю, снова и снова любуюсь, выбираю куски битого временем, протертого до дыр старинного шелка, крытого нежной, сто лет как умершей искусной рукой – шелком же, еще более тонким и ярким. Иногда сундуки разверзают, бесстыдно вываливают переполненное свое нутро, марают загодя расстеленные поверх асфальта клеенки лоскутами, пробитыми мельчайшим крестом. Синие коттоновые батики из горных деревень тоже расшиты оранжевым, бордовым и алым крестом – сплошь, полянами. Невесомая лакированная, мелко прописанная посуда из древесины манго рассыпает пестроту рядом. Километры сладостей – перспективы лотков в засахаренных фруктах, прилавков с мягкими конфетами, десертами из тапиоки, и с добавлением агар-агара, твердой и мягкой выпечкой, изделий из кокоса и других пальмовых плодов в сиропах, изобилие замысловатых произведений кондитерского искусства – уходят вдаль, в бесконечность, в толпу. Отдельно – город фруктов с ценниками на полкилограмма, чего не встретишь на юге страны. Покупки мне разрешено делать по своему усмотрению, чем я пользуюсь умеренно, но с радостью. С цветами и фруктами, парой вышивок и блюдом, испещренным мелкой изумрудно-синей вязью, пешком иду в уличный ресторанчик, где ждет меня к обеду Старый.
Монолог незнакомца, занявшего свободное место за столиком Старика, был уже явно в разгаре. Старый обычно не прочь потолковать о том, о сём с каким-нибудь новым знакомцем. Чаще говорили на английском, темой становилась архитектура Таиланда и соседних стран, их ремесло и традиции. На этот раз речь шла на русском и о другом:
– Випассана… Это надо прочувствовать самому. Я прошел ретриты в Ват Умонг, здесь неподалеку, километра три от Чианг Мая, и в горах почти на границе с Мьянмой в лесном Ват Там Вуа и в Дой Су Тхепе. И даже жесткое житье в Суан Мок. Хинаяна – термин почти оскорбительный. Это да. Тхеравада, так надо говорить. Истинное учение Будды, без наносных всех этих от-вет-влений мысли его учеников и последователей. Без извращений. В Махаяне ведь культ личности Будды вы-пес-тован. Нет. Отрицаю! Тхеравада же – чиста, про-зра-чна, базируется на палийском каноне. – Парень надавливал на слоги то ли для убедительности, то ли просто, чтобы выговорить слова.
– Вы знаете пали? – не удержалась я от язвительной интонации – разглагольствования парня сразу стали мне почему-то неприятны.
– Изучаю. – Парень скромно опустил глаза, не взглянув на меня, будто я была здесь лишней, будто помешала его общению со Стариком. – В Суан Мок начинал три года назад. Возвращался в Россию, пытался сам.
Парень вбирал в плечи гладко выбритую голову с колечками в обоих ушах и, казалось, изображал скромность, будто невзначай поигрывал накаченными мышцами под поблескивающим влагой тщательным, неслучайным загаром. Казалось, загорал он постепенно, размеренно, так же, как занимался в спортивном зале, не ради здоровья, а ради красоты.
– Да… В Умонге много постороннего люда, тайских этих школьников группами, по сотне в день, парочки, компании. Хоть и есть интересное кое-что, ну, там пещерные ходы с деревянным полом, озеро, в нем черепахи и рыбы. Но… чего хорошего: сидит таец, продает булки для кормления этой живности, народ покупает, кормит зажравшихся тварей, мусорит, громко разговаривает, дети орут… В Там Вуа тоже озеро. Красиво, и рыбы полно. Впервые попадаешь, о рыбалке мысли приходят, потом – созерцаешь. – Он наполнил и проглотил еще стопку рома. – Еда – пустое. Каждому кажется, как это? Спать по пять часов? Как это? Есть два, а то и раз в день, потом только питье до утра, да, разрешается. Ни мобильника, ни компа… На самом деле – чепуха. Всё приходит.
Красавчик заметно хмелел и добавлял еще, повышая голос:
– И религия здесь ни при чем. Буддизм не религия – философия. Будда достиг перехода, стал Просветленным в 35 лет. Технику сам открыл. Понимаете? Технику для пути к просветлению. Медитацию, разумеется, знали и до Будды. Но всё не то. К Истине не приходили. А он пришел. Потому что техника иная! Освобождения достичь можно исключительно благодаря верной тех-ни-ке. Потом, разумеется, всё превратилось в ритуал, в культ Будды, как божества. – Бритый повторялся, мотал тяжелеющей головой, откидывался на спинку стула, разводя руками: – А ведь он не бог, он – Просветленный. Поэтому практике могут обучаться и христиане, и мусульмане, и индуисты. Нет границ! Понимаете? Вы же понимаете… Пе-ре-про-граммировать реакцию, вот чему мы учимся на ретритах, – язык запнулся о слово. – Это надо пробовать, не ждать, надо решаться и идти. – Наконец, красавчик проявил в обозримом пространстве меня: – Да, идти. Девушек много. Мужчины и женщины отдельно. Конечно. И вообще, нельзя разговаривать. Даже с собаками. И нельзя убивать комаров, не говоря уж о змеях и тарантулах. Вас комары кусают? Меня ужасно! – Он разводил руки ладонями вверх. – Но нельзя. Буддист никогда никого… Есть противомоскитные сетки в кути. Н-н-ничего, все привыкают… – Он вдруг внимательно посмотрел на Старика, напрягая мутнеющие рыжие глаза, сложил рот в улыбку, потом чуть склонил голову набок, отчего его выбритая макушка засияла, отразив свет неяркой лампы под бамбуковым колпачком, и, прибавив хитрицы своей интонации, обратился к Сандре: – А в Пайе вы бывали, прекрасная Курупита? – он старательно произнес «и» краткое в середине слова, нарочито удлинив его и подчеркнув ритм и плохонькую рифму. – Нет? Пай-й-й – это рай-й-й! Сто двадцать километров отсюда. В горы. Теплые вещи брать обязательно: днем жара, ночью прохладно. Мой друг, владелец дивного ресторанчика, привез из России дубленку. Да. Там хорошо. Деревня хиппи. Долина цветов и бабочек. Очень благоустроенное место. Много музыки. Много выпивки. – Парень стесненно засмеялся. – Люди со всего света. К раздолбайской жизни может присоединиться каждый. Люди приезжают на неделю и остаются на… – Парень махнул неопределенно вперед. – Но расслабляет. Слишком расслабляет… никто не мешает. Каждый может стать раздолбаем. Травка… сколько хочешь, и никто… – Закосевший мастер монолога внезапно поднялся и, зацепив рюкзачок со спинки стула, не оглядываясь, поплелся прочь. Я недоумевала.
– Не удивляйся, девочка. И не очень… как-бы поточнее? Не очень верь. Я имел общение с людьми, которые «медитировали», – старик употребил ироничную интонацию, – по семь минут в день и остальное время говорили об этом, знал тех, кто медитирует по семь часов в день, но все равно много говорит об этом, слишком много говорит… Европейцы, «ищущие Истину» в буддизме, – старик опять произнес слова иронично, – и вот что всегда было одинаково… – Он приостановился, помолчал, потом продолжил очень серьезно: – Они голодают по сорок дней кряду, практикуют на многомесячных ретритах в монастырях, таскаются по Таиланду, Лаосу, Шри Ланке, осуществляют паломничества на Тибет, летят в Бутан к «счастливым людям», а всё ради дальнейшего «учительствования». Ради эффекта. Они возвращаются из монастырей в гестхаусы и спорят ночами напролет в сетях о смыслах и значениях, не стесняясь резкостей, не осознавая главного: об этом не спорят! Это путь одиночества и тишины, отречения от сует. Я, к несчастью моему, не знаю ни одного фаранга, сумевшего истинно углубиться в Учение, то есть смирить гордыню, перестать разглагольствовать, перестать желать производить впечатление, поражать знаниями пали, осведомленностью в неких нюансах канона, утверждать свою правоту. Смешно же, нелепо.
– Они углубляются в чужую философию ради того, чтобы сделать ее своей профессией? Чтобы этим зарабатывать деньги? – еще больше недоумевала я.
– То, чем зарабатываются деньги, не всегда профессия. Бывает, шарлатанство. Здесь тот самый случай, часто, чаще всего. – Старик был серьезен.
– Так они прикладывают столько усилий ради денег?
– Так огульно, наверное, судить не стоит. Но опыт подсказывает… тут есть опасность «духовного материализма», духовная практика превращается в заявку на моду, в этакое украшение, изысканное дополнение к остальным «красотам» личности, внешним и внутренним. Мол, видишь, как я хорош? Накачен, пластичен, обаятелен, умен, да еще и занимаюсь буддийскими практиками! Знаю! Умею! На сто ступеней выше других! Принадлежу к классной тусовке, к элите, к избранным. И всё это вместо того, чтобы усмирять и преобразовывать свой ум, ради чего, собственно, и должен жить человек, приходящий в монастырь. – Старик почти сердился.
– А ради чего ты сейчас живешь? – внезапно спросила я, и сама поразилась бестактности своего вопроса. Старик не сразу ответил. Отвернулся, потом вдруг уверенно произнес:
– Ради того, чтобы писать.
– Что писать? – уже решила я не останавливаться.
– Заметки. Размышления. Впрочем, там просматривается и какой-то сюжет…
– Ты пишешь книгу?!
– Нет… нет, зарисовки. Иногда похоже на дневник, иногда – какие-то видения… Есть и новеллы.
– А почему ты хочешь, чтобы я тоже делала записи? Зачем?
– Мне кажется, у тебя интересно должно получаться. К тому есть все предпосылки.
– В смысле?
– В тебе есть самобытность, заостренность, подобное редко встречается. – Старик говорил с неохотой, даже с легким раздражением, будто о чем-то без слов понятном, не требующем разъяснений. – Есть то, чего мне не приходилось встречать в других женщинах… в других людях. Секрет. Секрет той объемности, которая может быть интересна другим. Поэтому ты должна выражать себя, должна писать. В тебе есть то, что рано или поздно потребует выплеска.
Старик помолчал, потом вдруг громче, с кажущимся весельем зацепил иную тему:
– Бангладеш. Вот куда, разумеется, через Мьянму, я хотел бы попасть, вот о чем написать. Перенаселенная мусульманская страна внутри индуизма и буддизма. Кусок земли, окруженный Индией. Только с одного края граничит с Мьянмой. Подземные мышьяковые воды, затопления, рабский труд на бесчисленных фабриках по пошиву одежды на весь мир, детская проституция. И – несусветные, запредельной красоты тропические леса.
Я не знала, как поддержать эту тему: о Пакистане и Бенгалии, их разделах и перекраивании территорий я почти ничего не знала. Впрочем, как и о Мьянме. Посидели немного молча, потом я достала мобильник, посмотрела время. Старый разрядил обстановку:
– Есть будем?
– Давай, дома, я с утра супчик с фрикадельками сварганила и кокосовыми сливками сдобрила, и в холодильник не убирала…
– Ну, двигаемся, а то я развел тут болтовню, – поднялся, опираясь на палку, Старик.
Красильщик
Красильщик нашел женский наряд в глубине и рыхлости сарая, в прошлом владения кого-то неизвестного, выгородившего теперь новый забор дальше, за давно сухим руслом ручья. Брошенное строение валилось набок, подрагивало и скрипело, когда красильщик копошился в нем, изучая затхлое нутро.
Домотканое полотно, собранное ровнехоньким стежком в длинную девичью рубаху, и тонкохвостый плат цвели и дышали синей плесенью, что нежничала и заволакивала молочное поле, сочилась внутрь нитей, заживала там.
Дурной и манкий запах заполнял ноздри и горло.
Красильщик стирал и перестирывал наряд, бесстыдно погружался глазом в устройство швов и кроя, вывешивал на солнце, ждал. Но по сухому полю так и бежали сочленения пятен-цветов, пятен-снов, пятен-видений: синел рисунок, не желая уходить.
Сначала красильщик решил выкрасить одеяние. Во что-то темное, ровное, как подобает простому платью. Но уже приготовив краску, в последний раз углубился глазом внутрь прихоти, всмотрелся в рисунок действия неистребимого грибка. Любовался. И решил оставить как есть. По девичьему боку к подолу сыпались синие ягоды, кружились и падали в синие листья, в синюю воду, в синюю дымку. Синяя мгла шлялась по левому рукаву, проскальзывала на спину, там растворялась. На косынке малой дорожкой почти чернел рисунок, кое-где истончался в серый дымок, немножко крутился и скатывался за край шва.
Ничего решил не менять Красильщик в работе плесени, художника, секреты которого никогда никому не разгадать. Вот где магия, думал красильщик, пряча красоту в сундук, и продолжал работу.
Он, словно гюисмансовский дез Эссент трогал цвета и оттенки, размышлял над влиянием на них искусственного освещения, отмечал затвердение и охлаждение одних колеров, углубление, загустение других под воздействием электрической иллюминации или живого жара свечей. Как тот утомленный жизнью затворник, но не испытывая ни малейшей усталости от действий, напротив, зараженный вирусом движения, он вскрывал и разлагал тайны света и цвета, их взаимодействий и отторжений. Природа одарила его синестезией – слышанием цвета, свойством, близким к заболеванию, своеобразным отклонением от зрительной нормы, которым обладал один из его кумиров – Гюстав Моро. Красильщик углублялся в фантазии, в цветовые игры, в перечисление, передвижение оттенков то по излюбленной его спирали, то по закону хаоса, слушая совмещенность цветов, как симфонию, как оркестровую партитуру. Он помнил завет великого акварелиста, его утверждение о том, что цвет должен быть продуман, вдохновлен, вымечтан, что цвет нужно воображать. И он погружался в своих фантазиях в звукопись красок, в их рыхлость и мягкость, влажность и ветреность, ловя еще и порожденные видениями запахи. Рисунки восточных тканей вызывали в нем ассоциации с симбиозом теплой амбры и туберозы вкупе со строгим сандалом и мрачным ладаном. Индийский базарный пачули – дымный и земляной, вместе с ласковой сладостью иланг-иланга и свежестью лимонной травы в его сознании соединяли в себе бордо и индиго, оттенки изумруда и обыденной зелени, бронзы, и терракота, и коралла. В своих дневных снах он порой наблюдал адептов тантристской секты Кула, которые перед соитием скидывали с себя клубы нафантазированных им одежд, чтобы нанести на волосы нард, на грудь пачули, ступни смазать шафраном, пах – мускусом. Дрожали, источая звуки, струны, гудели ударные и духовые. И ему открывалась тайна двоемирия, реальность, разделенная трансцендентной преградой, преодолимой только для избранных. Он еще не чувствовал себя таковым, ибо ясность видений засорялась чем-то чуждым, озарения сменялись душной темнотой. Тогда он бросался к книгам, к истории великого страдальца, путешественника и алхимика Джона Ди в изложении Густава Майринка, к герметическим изысканиям героя и автора и, углубляясь в детали судьбы писателя, открывал для себя событие неординарное, но в контексте сей жизни вполне логичное – его переход в буддизм. Как мог забыть писателя Штарнберг, город, где Майринк сотворил свои главные романы, где был похоронен и покоится под тяжелым почти черным камнем, с меткой на нем в виде правильного круга, крестообразно поделенного на четыре части с буквами VIVO, по одной в каждом сегменте, что означает ЖИЗНЬ? Красильщик вспоминал, как ездил в Германию искать это захоронение, как был поражен тем, что ни библиотекари, ни чиновники, ни обыватели в кафе слыхом не слыхивали о могиле философа, известного целому миру. Забыт там, где жил и похоронен, но известен всюду, где не был. Красильщик в своих размышлениях уплывал дальше по глубокой реке немецкой литературы, к мудрому Гессе, сопоставлял, находил аналогии, утверждался в том, что так же как Гессе, Майринк, буддист и эзотерик, мудр, но готичность, темная чувственность его романов порождают в читателе беспокойство, не дают ощущения равновесия. Гессе тоже хорош: можно ли написать более эмоциональный, возбуждающий философский трактат, чем моцартово действо в магическом театре в финале «Степного волка»?! Однако сдержан и ясен Гессе в «Сиддхартхе» – повествовании о Будде. Майринк же, кажется, так и не нашел покоя, так и ушел мятежным. И как это расценивать в связи с его принятием буддизма? Но не говорят ли об умиротворении его стихотворные строки, разъясняющее мироздание души: «Будда – мое прибежище»?
Красильщик рассуждал, блуждая среди нежно-розовых, лососевых и померанцевых, пунцовых и карминных оттенков, опускаясь сквозь сиреневую прозрачность в фиолетовую гущу, которая в свою очередь переводила его в почти черный, синий слой, способный затянуть, поглотить, лишить возможности дышать и грезить. Наконец в темноту проникал, просачивался мягкий молочный вихрь, спиралью, волшебными белилами осветлял, добавлял сияния, и вот уже нежный перламутр с лиловыми и розовыми волосками растянулся по материи. «Намечтал, получилось. Как велено Густавом Моро», – подумал красильщик. Он выбрался из облака, снял с полки альбом, раскрыл на любимой им Густавовой акварели. «Одеяние». Как обычно хромают пропорции, правая, опущенная рука явно длиннее левой, опирающейся на невысокую колонну. Но каковы ткани! Длинный, длиннее ног наряд оставляет открытой в несомкнутом соединении изящную ступню. На торс наброшено нечто эфемерное: легкое шифоновое полотно, еле удерживаемое асимметричной застежкой, будто расписано вручную. Прихотливый, беспрерывно меняющийся рисунок. Справа по подолу это почти павлиний хвост в голубой палитре, или крупнопузырчатая морская пена. Выше – движется киноварь в совсем ином танце: возникает размытая геометрия, затканная серебряным кружевным шагом. Слева понизу – чешуя, окаймленная тихим золотом. На округлых, чувственных бедрах – пояс, собранный из каменьев. И – палантин! Тяжкий и легкий, сумрачный и ясный, платиновый с голубыми брызгами и золотой с коричневыми и кремовыми мазками, изысканный, путаный. Почти всюду мнится бисерное шитье. Сновиденная работа. Ничего не скажешь.
Театр
Театр был освещен люстрами. Сотни, тысячи свечей дрожали совместным пламенем, озаряя пространства и наполняя их теплым ароматом плавящегося воска. Было жарко то ли от отопления, то ли от горения свечей, то ли от внутреннего полыхания каждого из присутствующих. Хладным казался только Хозяин. Он стоял в скрещении линий, на пересечении мраморных лестничных пролетов, улыбался, слегка наклонял в приветствии голову, когда с ним раскланивались. Предполагаемое представление вроде бы не предвещало ничего сверхъестественного, но в атмосфере витало нечто, вступающее в противоречие с обыденностью. Всем было немного страшно. Волнение возникало из неизвестности и пока ни на чем не основанном предчувствии опасности того, что здесь могло бы произойти.
Убранство Театра оказалось более вычурным, чем ожидал каждый, и напоминало скорее совмещение торжественных зал готических замков и покоев арабских дворцов, чем помещение, предназначенное для исполнения оперы или балета. Просторные фойе, анфиладой перетекающие одно в другое по кругу, кольцом охватывали зрительный зал, в который можно было заглянуть заранее, имели сводчатые потолки, дробившие верх на отдельные разновеликие ячеи, углубляющиеся темнотой, что хранила неясность своей окончательной высоты. Кресла, диваны и софы были раскиданы группами по глянцевым полам, которые хотелось рассматривать безотрывно: в прозрачной объемности плавали, словно рыбы, орнаменты, проворачиваясь гранями и шевелясь оттенками, давая возможность наблюдать себя в беспрестанном движении. Какое-то время присутствующие с трудом перемещались по живому полу, желая достичь мебели, чтобы, усевшись, отдаться наслаждению созерцания. Наконец всё общество застыло, молча склонив головы к плавающим картинам. В тишине потрескивали свечи. Со стен стекали гобеленовые, парчовые, тафтяные струи, местами расшитые стеклом и полудрагоценными камнями. Кашмирские и кирманские палантины, шарлах, муслин и шелковая органза, ширазские ткани были разбросаны по подушкам, скользили вниз, рисунки пола и тканей путались, морочили. Некий звук тронул действие, и движение объемных рисунков остановилось. Гости заговорили, покидая подушки, золотые кисти качнулись по их углам, шелест нарядов сопроводил перемещение людей до кресел в ложах. Партер не содержал в себе зрительских рядов, но был продолжением сцены, загроможденной парами, клубящимися густо, но не имеющими воли переместиться ниже. Что-то удерживало эти пары, не позволяло им двинуться через линию рампы. Над совершенно пустым партером, устланным монотонным ковром, цвета которого никак нельзя было определить, пылала тысячесвечная люстра. Гости заняли свои места в ложах, что широким полукругом огибали зал от левого до правого края сцены и поблескивали позолотой по лепнине в стиле ампир. Кроме Красильщика, Матери, Царицы Липового Шатра, Одалиски, Прозрачноглазой Мадам, нескольких других значительных фигур и их сопровождающих, здесь разместилась группа высоких и статных молодых особей в нарядах, стиль которых демонстрировал эклектику, даже сумбур, в ином месте, быть может, показавшийся безвкусицей. Смешение роскоши и строгости украшало схожих друг с другом лицами и фигурами людей. Казалось, это были проекции одного и того же существа среднего пола, которые разнятся исключительно цветом необычайно пышных вьющихся волос, отпущенных сыпаться по плечам и торсу или убранных в замысловатые формы причесок.
Над сценой ровно кипело. По партеру, не затрагивая сценические пары, внезапно пронесся порыв ветра и загасил разом все свечи в люстре, после чего она, темная и громоздкая, подвластная скрытому от зрителя механизму, бесшумно поднялась и исчезла в глубине многоярусных сводов. Одновременно в объеме сценической площадки возникло свечение, распространившееся невесть как в каждую ложу. Внесли лакированные резные шкатулки и бронзовые округлые сосуды. Внутри шкатулок обнаружились свернутые из темно-зеленых листьев и наполненные пахучим содержимым конвертики. Кто-то сказал: «Это бетель, его надо жевать». Сразу стало ясно, что это за листья и что заключено внутри них, будто кто-то извне диктовал: «Нежная лиана бетель обвивает стройный ствол пальмы ареки, дающей терпкие плоды, известь же может добываться из мела, морских раковин, коралла и жемчуга, пережженных в печи и толченых в порошок с добавлением кокосового масла и куркумы; арековый орех измельчен и выложен на смазанный известковой пастой лист бетеля, приправлен составом из бобов акации и листьев табака, корицей и мускатом, или имбирем и ментолом, серебряным леукофиллумом, камфорой и кардамоном. Здесь присутствуют так же и мускус, и амбра».
Иной голос продолжал: «В Камбодже этот дар небес называется ела, в Малайзии – син-пинанг, в Индии – пан-супари, в Южном Китае бинлан, в Таиланде, Лаосе и Мьянме – бетель».
И теперь уже несколько голосов с незначительным отставанием, еле заметным каноном или эхом: «Повелительница индокитайских нагов, Её наиславнейшее величество, Госпожа рощ и садов, Властительница моря и суши, Владелица белых слонов, Королева королев, Вершительница судеб Тхепхи Чансуда Чантри Кунти Кхин У (Лунная Дева, Наивысшая Красавица, Женственная и Прекрасная – на тайском, кхмерском и бирманском языках) подносит вам эти дары в знак своего благорасположения и позволяет насладиться ими. Для удобства предложены вам сосуды полые и сосуды с водой».
Не медля ни секунды, все присутствующие запустили в шкатулки пальцы, внезапно удлинившиеся, будто приспособленные мгновенно для вылавливания содержимого, извлекли ими, гнутыми в суставах, птичьими, острыми, резко пахнущие зеленые свертки и отправили в рот. Было трудно справиться с тошнотой, но вездесущая и строгая Тхепхи Чансуда Чантри Кунти Кхи У, незримо присутствующая в театре, неотрывно следила за каждым, принимающим ее высочайшую благосклонность. Рты, сведенные вязкостью жевательной смеси, переполнялись влагой, слуги подставляли испещренные чеканкой чаши, и гости освобождались от густой слюны цвета крови. Замарались, запенились их губы, своими улыбками они поначалу испугали друг друга, но волна легкого чувства, освобождающая, раскрепощающая волна, охватила их всех единым порывом, и они продолжали вкушать эту радость, снова и снова опрастывая рты над чашами и снова жуя. Когда они сплевывали кровавую кашицу, брызги попадали на белые одежды слуг, орошая цветом легкие ткани, и монотонные до того одежды обретали рисунок и рельефность. Сгустки алого произвольно располагались на белом, детали формировали общую, непостижимую в своих беспрерывных изменениях картину, плясали, прыгали, мельтешили, потом расползались шире, светлели, смыкаясь в некий единый ландшафт и так замирали. Андрогины, которые занимали большую часть лож, были пущены на тонизируемую арековым орехом волю и, взбудораженные действием афродизиаков, входящих в состав зелья, никли один к другому, целовали кровавыми губами губы, подхватывали широкие рукава слуг, утирали сочащиеся краплаком рты, переводили взгляд на сцену.
Клубы пара над помостом тоже окрасились в алый цвет, и сквозь них на просвет стало явственно подниматься нечто, напоминающее древние башни города-чуда, небесного отражения столицы империи вечной загадки – Ангкора. Серокаменная масса густела, открывая тяжкие громады с двумястами изваяниями головы короля-мистика, Джаявармана VII внутри храма Байон – материализации абсолютного величия правителя, что отождествил себя с Богом. Сакральный феномен – каменные глыбы-лики выражали вездесущность Бодхисатвы, распространяли лучезарную силу девараджи – богоугодного царя. Зрители в ложах устремили сосредоточенные взгляды в сторону выплывающего из алого дыма Локешвары – Владыки мира, в множащемся каменном лике Махапарамасангатапады, – так звучит посмертное имя короля. Храм вплывал, пар, теперь гораздо более похожий на дым, осторожно оседал, сгущаясь внизу, и, будто всасываемый особым устройством, уползал в закулисье. Кулисы разжижились, потеряли определенность цвета, опустились, поволоклись, прибитые тяжестью воздуха, тоже утекли прочь. Почва явила свой исконный, присущий этим местам цвет – ржавый, но не рыжий, нет, не привычный цвет глины, но яркий, будто и не песок, не песчаник это, как таковой, но краска, красная краска, красная кхмерская земля, что принесла свою яркость из древности в жуткую реальность XX века и дала имя режиму, воплотившему ад в земной жизни.
Байон надвигался, рос, перемещался в пустые объемы партера, нанося впереди себя красную землю, еще дымную, еще полную паром. Байон нависал уже над верхними ярусами лож, заполненных андрогинами, рушил внутренность театра легко, беззвучно. Ярусы истончались, являя свою плоскостность, будто были они нарисованы или выдуманы, и теперь исчезали. Люди увидели себя в движении вдоль испещренных барельефами каменных стен, изрезанных глыб, вдоль искусной россыпи картин истории. Их театральное дефиле поначалу вполне безобидное и даже забавное, сопровождали изображенные в камне сюжеты постоянных войн кхмеров и чамов. Вырезанные по стенам нескончаемые боевые линии направлялись вкруг храма, точнее, по его периметру, как положено погребальной процессии с юга на север – к смерти. Копья, стрелы, щиты, топоры, всадники без седел и стремян, военачальники под зонтами на слонах, пальмы, знамена, штандарты, непокрытые бритые головы кхмеров, пучки на затылках и клинышки бород китайских наемников, уборы в виде раскрытых лотосов, венчающие головы чамов, крупноколесные повозки маркитантов, собаки, поросята, буйволы, петухи, кухарки, суетящиеся у огня, отшельники в глубокой медитации, принцессы, забытые во дворцах, забавляемые атлетами, жонглерами и гимнастами – все мчалось, неслось, металось, падало и взлетало – действовало. Ангкорская Империя отчаянно воевала на суше и на воде. Над озером Тонлесап вздымаются весла галер, вдоль бортов – стройно напряжены лучники: натянуты тетивы, закинуты головы, противник уже выпустил стрелы, и тела пораженных низвергаются в воды, кишащие крокодилами. Навстречу телам и выше них взлетают рыбы из многоводья, приносимого сезоном тропических ливней, когда озеро разливается и затопляет окрестные леса.
Байон заманивал вглубь себя, в лабиринты каменных нагромождений, в колоннады и повороты, на лестницы, то вверх, то вниз. Движение кривилось, ломалось, путалось, но неизменно приводило под тяжкие взгляды Джаявармана VII, под его гигантские, жутковатые каменные улыбки, коим несть числа.
Мадам и Одалиска забыли друг о друге, потерялись в собственных мыслях, побрели в разные стороны. Откуда-то взялась незамеченная никем прежде высокая стройная дама в сопровождении юноши модельной внешности с благородной курчавой шевелюрой, который то проявлялся, то исчезал в собственном, лично ему принадлежащем коралловом облаке. Почему-то все знали, что этого мерцающего красавчика зовут Дан. Мать совсем растерялась, рассматривая барельефы, но никак не могла вникнуть в суть на них происходящего и все пыталась вспомнить свое имя. Хозяина не было. Красильщик углубленно и недоверчиво рассматривал красный песок, собранный им в ладони. Вдруг закричал:
– Чудесный оттенок красного дает кошениль! Краска добывается путём умерщвления самок насекомого в уксусной кислоте, либо под воздействием высоких температур! Бордо – сок спелого мангустина! Здесь, в этой жаркой стране, наверняка произрастает мангустин! Легко закрепляется в ткани, великолепно удерживается. Кровавый коралл! При умении и верной технологии дает глубокий и сочный оттенок. – Красильщик кричал, надрывая горло, будто то, что переполняло его память, непременно надо было выплеснуть вместе с красной пеной, что вновь запузырилась и забулькала у него на губах.
– Выплюньте бетель. Все уже ополоснули рты. – Мать назидательно подняла палец. – А вы опоздали. Где теперь взять воды? Видите, слуги, которые были в театре, исчезли, мы вообще непонятно где.
– Мы в Камбуджадеше, в великом городе Ангкор Тхом. Центральный храм Байон. Всем все понятно. И вам тоже. Не нервничайте, все хорошо, – послышался голос, и затем появилась из-за камня седая голова Хозяина. – Смотрите, какая красота вокруг!
Однако волнение, не оставлявшее зрителей со входа в Театр, все нарастало. Андрогины, то уменьшаясь в числе, то будто рассыпаясь взаимными отражениями, беспокойно кружили по каменному чертогу, средоточию обширного и могущественного Ангкор Тхома. Один из величайших городов мира создан был для того, чтобы продемонстрировать незыблемость религии, избранной его создателем и правителем. Здесь торжествовала победу Махаяна, здесь доказывалась возможность полного освобождения от сансары, утверждалась достижимость и неизбежность универсального и всеобщего просветления.
Хозяин улыбался, не скрывая восторга, который вызывал в нем не столько тысячелетний храм, окруживший его гостей, сколько невероятность самого действа, что разворачивалось сейчас в его Театре. Действо, видимо, должно было еще продолжаться, иметь развитие, это была его собственная режиссура, но плана, быть может, он и сам еще не ведал. Гости, вовлеченные им в столь неординарную ситуацию, в эту эмоциональную авантюру, чувствуя себя неустойчиво, вынужденные раскачиваться между верой в происходящее и ощущениями сновиденности, морока, живого бреда, пытались распознать черты обыденности в окружавших их реалиях или антиреалиях и не находили оных. Сон? Они возвращались к началу: приход в Театр, фойе с плавающими орнаментами в полу, ложи и бетель… Всему виной бетель! Все просто: они находятся в плену глубокого наркотического опьянения, и у них единое для всех видение, череда видений, прекрасных, эстетически выверенных, важных для их разума и души. Путешествие! Что дальше?
Древний Байон увеличивался в размерах, рос, нависал темной махиной, креп и утверждался. В тот момент, когда давление на сознание людей, которые будто уменьшились в десять раз и уже ощущали свою физическую ничтожность, достигло предела, храм порыхлел, обмяк и очень скоро стал бледнеть и будто растворяться в чем-то ином, несравненно более величественном и обширном.
Это «что-то» казалось еще темнее из-за контрастности, создаваемой заходящим солнцем, разлитой им киноварью за спиной каменного колосса, рукотворной громады Ангкор Вата, потому что именно он, Врах Вишнулока, восставал из закатного жара.
Мать, Сын, Красильщик, Элза, Дан, Мадам, Одалиска, Царица липового шатра, Мальчик и его Отец, Тина, Роб, Сандра и Хозяин, а также незначительные личности рядом с ними и андрогины в своих длиннополых, объемных одеждах обнаружили себя перед вратами, что открывали путь внутрь храмового царства, выстроенного в честь всеобъемлющего и проникающего во всё сущее, сознающего прошлое, настоящее и будущее, в честь охранителя мироздания, его творца и разрушителя, того, кто поддерживает жизнь во Вселенной и управляет ею, того, из кого исходят все элементы существования, материальные и духовные.
– Перед нами – пространство, которое отражает небеса, заключает в себе загадку соответствий календарным и космологическим временным циклам, тайну соразмерностей с положениями Брихадараньяка-упанишады, повествующей об изначальных основах мироздания. Нам открылся объем, который несет в себе магию глобального замысла, сыпучей, но единой идеи строительства Египетских пирамид, храмов индейцев майя и великого сооружения, воплощаемого сию минуту вокруг нас.
Я заговорил тихо, стараясь быть спокойным, дабы не спугнуть того ровного дыхания, которое, казалось, обрели мои спутники перед лицом высочайшего искусства, перед памятником архитектурной мысли, не имеющим себе равных.
– Врах Вишнулока, или, как его стали называть в XIX веке, Ангкор Ват, строился примерно с 1113 по 1152 год царем кхмеров Сурьяварманом II, взявшим посмертное имя Парамавишнулока.
Мои гости устремили глаза на меня в едином стремлении понять своего проводника и успокоиться в своем единении.
– Храм посвящен Вишну, верховному богу в вайшнавской, основной традиции индуизма. Смысл его существования – поддержание дхармы – закона, устоя, изначальной истины. И разрушение зла. Девять аватар Вишну уже посетили нашу грешную землю, десятая аватара Камеи низойдет в самом конце Кали-юги, четвертой, последней из юг, когда настанет век демона Кали, век раздора, железный век. Когда от первоначальной добродетели не останется ничего, люди, потеряв духовные устремления, ослабеют в уме и силе, ими станут управлять ненависть, зависть и честолюбие, зло и насилие заполнят весь мир, устремленный к самоуничтожению. Думаю, не так долго осталось ждать аватара Калки, воплощения всеобъемлющего Вишну.
Боясь, что слишком сгустил краски, я успокоительно улыбнулся, но в глазах окружавших меня не увидел замешательства или страха, только интерес, глубокий и острый.
– Мне придется немного погрузить вас, мои дорогие гости, в суть некоторых отправных точек и явлений, без которых, возможно, будет не до конца понятно то театральное действо, тот спектакль, на который я имел честь пригласить вас сегодня, и который очень скоро будет представлен вашему благосклонному вниманию. Постараюсь быть кратким. – Я повернулся лицом к громаде строений, что высились перед нами и продолжил: – Средоточие колоссального комплекса, как вы видите, – главная башня, в окружении четырех других, чуть меньшего размера. Эта главная башня весьма схожа с нерукотворной горой Меру, в виде початка кукурузы, или фаллоса, не правда ли? Вульгарное, распространенное значение индуистского понятия лингам – очень близко к уже упомянутому. Так вот, легенда повествует, что однажды некий всесильный мудрец прогневался на царя девов Индру и наслал на него проклятие, лишившее его и всех его подданных удачи. Очень скоро асуры под предводительством царя Бали одержали над ними, ослабевшими, верх, получив власть над всей Вселенной. Волшебный нектар бессмертия амрита мог бы спасти девов, но по некоторым причинам, чтобы добыть его, им пришлось объединить усилия со своими заклятыми врагами. Асуры и девы договорились в случае победы разделить добычу поровну, но Вишну принял сторону девов и пообещал Индре, что амрита достанется только им. Нектар предстояло выработать посредством энергии, рождаемой пахтанием Молочного Океана. В качестве мутовки соперники взяли гору Меру, а роль каната, с помощью которого следовало раскачивать мутовку, вынужден был исполнять змей Васуки. Девам досталось место у головы, асурам – у хвоста. Оскорбленные асуры потребовали смены мест и получили от хитроумных девов огнедышащую, дымную голову. Копоть и сажа покрыли тела трудившихся. Работа была тяжела. Индра ниспослал дождь, принесший на время облегчение. Но Гора Меру, сотворённая из чистого золота, принялась тонуть в пучинах Млечного Океана. Девы и асуры призвали вторую аватару Вишну, великую черепаху Курму, что держит на своём панцире весь мир. Она легла опорой для мутовки, а сам Вишну согласился удерживать гору за вершину. Тысячу лет длилось пахтанье. Устав и разгневавшись, Млечный Океан породил ядовитую субстанцию халахала, способную убить всё живое, но многорукий и совершенный Шива выпил ее ради спасения мира. От яда горло его навсегда обрело синий цвет. Наконец, из Млечного Океана явились сокровища, числом четырнадцать, и бог Дханвантари с нектаром бессмертия.
Так вот, среди упомянутых сокровищ, и едва ли не сладчайшим из них, оказались апсары, небесные куртизанки, танцовщицы, воплощенный принцип наслаждения. Сонмища апсар сопровождают погибших воинов на небеса, в рай Индры, управляя заоблачными колесницами. Живут апсары в водоемах или неподалеку от них. Воплощая собой движение воды, прельстительные и неотразимые, они насылают любовное безумие. Апсары, находящиеся в непосредственном услужении у богов, часто используются ими для соблазнения аскетов, святых отшельников, которые путём аскезы могли бы стать равными богам. Апсары обладают пленительным телом, излучающим сияние. Со временем мифические существа перебрались на землю. Стены, которыми обнесен Ангкор Ват, изнутри усыпаны их изображениями. Скорее всего, это портреты реальных танцовщиц, живших при дворе Сурьявармана II. Есть источники, утверждающие, что они были наложницами правителя. Другие считают, что королевские танцовщицы были девственницами. В ранней юности апсары принимали обет молчания – их языком был танец.
Я чувствовал во все время моего монолога, что говорю слишком долго, речь моя перегружена именами и терминами, гостям, быть может, незнакомыми и потому не ясными. Чувствовал, что давно бы пора начинать театральное действо, ради которого все эти люди были приглашены мною, но без этой преамбулы, без попытки ликбеза сам спектакль не будет понятен, или, во всяком случае, не принесет того удовольствия, каковое доставить зрителям было для меня целью и задачей. Я внимательно всмотрелся в глаза одного, другого из присутствующих и, к моему удивлению, нашел в них не растерянность или недовольство, но глубочайший интерес, даже трепет, вызванный конечно же не моим рассказом, но волшебством метаморфоз и иллюзий, атмосферой, которая, хоть временами и пугала, но обладала крепкой пружиной интриги. Всякие мои опасения отступили на второй план.
– Хочу добавить еще одну немаловажную деталь: девы-апсары всегда изображались обнаженными по пояс. То есть их одежды при любых обстоятельствах состояли из разрезного сина, закрепленного на бедрах, сложного головного убора и многочисленных драгоценных украшений в виде монист, браслетов на руках и ногах, ожерелий, поясов, серег, оплечий, подвесок… Столетия в подобных нарядах являлись эти потомки мифических существ взорам короля и знати. До прихода на эти земли французских колонизаторов, которые принесли, как ни странно, не слишком свойственную этой нации строгость. Французы повели себя как пуритане и распорядились апсар «одеть прилично». Девы были запакованы в одежды, для танца не совсем удобные, закрытые, доселе племени фей-соблазнительниц не свойственные. Через сто лет «красные кхмеры», в ходе своих чудовищных преобразований, решились вовсе уничтожить культуру древнего танцевания, выкорчевать, извести под корень. Но несколько апсар чудом спаслись из этого ада, не дали своему народу утратить дивную традицию. Долгое время не удавалось уговорить их вернуться к преподаванию. Страх почти уничтожил в них память движений, пережитый ужас не давал апсарам вернуться в прекрасные дворцы их бытия. Но время лечит раны. Сейчас Школа традиционного танца «Апсара» вновь обучает тайнам особой жизни тела. Древнее искусство живо. Апсары продолжают свой божественный танец. Благодаря этому я нашел исполнительницу для своего спектакля.
В этот момент все разом почувствовали неясное изменение, которое тут же отразилось в новом внутреннем волнении, в беспокойстве каждого. Завибрировал, затрепетал бисерным тремоло воздух. Сверкнуло и погасло. Менее опытные ощутили резкий испуг. Кто-то вскрикнул. Через секунду стало ясно, что происходит. Никто никуда не шел, гости оставались на месте, но строения, окружавшие их, внезапно тронулись в провороте, переместились, наплыли, как наплывает земной шар на мониторе, пугая скоростью движения, слишком быстро и неотвратимо увеличиваясь. Хозяин будто остановил курсором стремительность, всё замерло.
Зрители находились теперь будто на приподнятой площадке, с которой хорошо просматривалось сразу несколько уровней храма. Эффект этот был иллюзорен, ибо видеть одновременно нижнюю галерею, срединные пространства, с которых открывался вид на окружавшие храмовый комплекс джунгли, и башни на уровне взгляда – физически невозможно. Более того, каким образом мы рассматривали пальмовые заросли вокруг и то, что происходило внутри гопур, полых башен, в одно и то же время, – совсем уж было необъяснимо.
На уровне галерей первого яруса что-то зазвенело, стихло и вновь зазвучало нежно. Это пробежала несколько метров, остановилась и снова рванулась девушка, руки и ноги, плечи, талия, бедра которой были усыпаны украшениями. Их дробность и создавала в движении переливчатый музыкальный шорох. Грудь девушки была действительно открыта, и совершенством своей формы притягивала взгляд, то возникая в луче света, то ускользая от него. Эта смена видимости и теней обусловливалась тем, что все пространство галереи было разлиновано рядами четырехгранных колонн, за которыми и пряталась, то и дело приостанавливаясь, прекрасная апсара. Маленькие стопы ее были босы, и пальцы ног унизаны перстнями. Камни, вправленные в драгоценный металл, мерцали в лунном свете. Да, это был именно свет луны, синеватой и холодной. Апсара выглянула из-за очередной колонны, давая возможность разглядеть обширный, высокий и тяжелый головной убор, острые башенки и змейки которого причудливо громоздились над чистой линией чуть выпуклого лба. Ее очаровательное личико одновременно было лицом современной камбоджийской девчонки и несло в себе нечто неповторимое, связывающее его с изображениями на внутренней части стен-хранительниц Ангкор Ват. Брови ее сходились на переносице в единую линию и имели форму длинной симметрично возвышающейся над глазами волны. Губы пухлы, сомкнуты и чуть вздернуты по углам в постоянной еле уловимой улыбке. Особое очарование таилось в покорном и вместе с тем чувственном взгляде человека, смиренно несущего обет молчания.
С противоположной стороны каменных декораций мелькнуло терракотовое пятно. Голубой свет не смог снивелировать яркость цвета монашеской одежды. Всё стало ясно, сюжет прост, как в балете: прекрасная апсара, принадлежащая королю, рабыня, собственность, немая девственница и наложница одновременно, и монах, кому запрещено даже случайно коснуться женщины, а не то что осквернять себя мыслями о ней, полюбили друг друга. Теперь им грозит какое-то чудовищное наказание, ах, вон оно что, их должны заживо сжечь на медленном огне! Но они еще могут попытаться сбежать. Нет, невозможно. Охрана, стены, закон. Пока еще никто не знает об их чувстве. Можно заглушить его в себе, скрыть, уничтожить, выбрать жизнь, спокойную, привычную, ту, что была до недавнего времени их счастьем. Счастьем каждого в отдельности, а теперь они познали запретное: истинное счастье бывает только общим, одним на двоих.
Откуда мне известен этот сюжет, это простенькое либретто? Хозяин изложил преамбулу, дал вводные сведения, но ничего не сказал ни о героях спектакля, ни об их судьбах. Кто и когда успел мне дать информацию? Почему я так уверена в ее точности? Я захотела оглядеться, задать кому-нибудь вопрос, но мне вдруг показалось, что я одна повисаю над этой историей, что рядом со мной нет никого, кто смог бы разделить со мной предстоящую грусть финала.
Мое внимание привлекло колебание бледно-синего света меж двух рядов колонн галереи, вся протяженность которой открывается, будто затягивает в горизонтальный колодец. Я слежу то за продвижением монаха, то за легким бегом апсары, то наблюдаю их одномоментно, будто сверху сквозь своды.
А они бегут, и крадутся, и снова бегут друг к другу вот уже пятнадцать минут, двадцать, полчаса… И невозможно оторваться от этого их встречного полета, этого стремления к слиянию, невозможно перестать желать, чтобы они дошли, доплыли в бледном ночном свете до центральной колонны, до средоточия линии, до объятья.
Они движутся не с концов одной стены, не с двух противоположных сторон одной плоскости, а будто с разных, невидимых одновременно углов строения-колосса. Да, они не могут видеть друг друга, они идут вслепую, просто веря, что встретятся, просто надеясь на чудо. Я иду вслед за ними, вслед за каждым из них. Я кружусь рядом, сопровождаю, неотступно присутствую.
Этот магический театр дает возможность рассматривать действо то в крупных планах, наблюдая малейшее движение бритой надбровной дуги монаха, напряженного века над черным блеском глаза апсары, то пронизывая долгим взглядом всю бесконечность периметра галереи, все полтора километра каменного свода и полтора километра отшлифованных тысячами ног плит вдоль нескончаемых стен с вбитым на них рисунком мистических и военных побед. У влюбленных своя война. Война с устройством их мира. И победа заключена в их встрече. Если они доберутся до той, ждущей их, колонны, если не остановят их силы, готовые помешать, навредить, уничтожить, – победа будет за ними.
Сейчас мощь храма, его красота и сбалансированность служит влюбленным защитой и поддержкой. Я чувствую участие колосса, его покровительство. Я чувствую Ват. Я вижу его весь разом. Не только сверху, с полетной высоты, но и снизу, с плоскости равнины. Я вижу уступчатую трехъярусную пирамиду и считываю её символику: земля, вода, воздух, охраняемые протяжённостью галерей. Два нижних яруса пирамиды слегка вытянуты по оси запад – восток, да, это не чистый квадрат. Легкая асимметрия, еле заметная неправильность придает моему ощущению зыбкость, нестабильность. Может быть, мне только кажется, что линия западного входа увеличена, будто усиленно натянута, напряжена, по всей вероятности, равно как и восточная, задняя? Я считаю колонны: справа от тронной царской площадки их восемнадцать, слева – двадцать. Неравномерность, изъян. Я пересчитываю вновь первый ряд, потом, для верности, второй, повторяющий фронтальную линию. Цифры те же. Начинает кружиться голова. Галерея переворачивается, теперь выпуклая узкая крыша, расстояние между двумя рядами ромбовидных колонн, становится вогнутым полом, по канавке, как по главной жиле, стекает лиловая кровь ночи, ее густота и смысл. Но не уходит в землю, не исчезает. Плоскости галерей раскидываются, вскрывая чрево храма, и ночь по перевернутым желобам устремляется вглубь пустоты, именуемой тайной. Я оборачиваюсь вправо, чистая симметрия успокаивает, водворяя сознание на место: здесь правильно, соразмерно расположены два абсолютно одинаковых прямоугольных пруда. После сезона дождей и северный, и южный еще не потеряли глубины, они полны воды. Черное стекло ровно дремлет внутри каменной кладки берегов, в нем незыблемой верой замерли отражения всех башен Ангкор Ват. Это любование собой в темной густоте имеет сакральный смысл. Словно гора Меру, которая уходит под землю на глубину, равную высоте её священных вершин, открывают в окнах подземного мира свою глубину башни Ангкора. Пруды позволяют узреть сокрытое. Чуть поодаль, отступя от опрокинутых силуэтов, плывут лотосы.
Жарко. Влажность предельная. Дышать становится всё труднее. Я заставляю сознание прекратить хаотичное движение и возвращаюсь к идущим. Их все еще разделяет непомерная долгота галерей.
Апсара держится за колонну маленькой, почти детской рукой с изысканно ухоженными ногтями, смуглая длиннопалая рука монаха скользит по камню; апсара поворачивает голову в тяжком уборе назад, прислушиваясь к тьме, монах наклоняется, чтобы беззвучно откинуть камушек, на котором оступился; апсара приостанавливается, напуганная промельком ящерицы, монах замечает застывшую ящерку на стене. Апсара смотрит вперед в долгую, освещенную луной перспективу. Монах устремляет взгляд в длинный туннель. Путь бесконечен. Они думают не о небе, не о долге, не о законе, не о возмездии и даже не о казни. Они думают о том ощущении, которое испытают, дотронувшись до кожи любимого человека, и дрожь пробегает по их телам, ледяная дрожь среди жаркой ночной влаги воздуха. Они думают о поцелуях, и теперь сознание почти покидает их. Они останавливаются, чтобы удержаться на ногах, прийти в себя и продолжить мысли о недопустимом. Их руки скользят по рукам, плечам, спинам, ногам друг друга, и всеобъемлющая радость переполняет их, радость предощущения, радость предобладания, предсчастья. Они всё идут и идут к месту их наступающей любви, к минуте их соединения. Луна отражает в себе внутренние храмовые водоемы и погружается в них, не умаляя свечения, исторгая его изнутри вод, которые только увеличивают своей зеркальностью мощь лунного света, чтобы влюбленным был виден путь. Ночные птицы и горластые лягушки подымают больше шума, чтобы скрыть шелест шагов влюбленных. Деревья гуще толпятся, чтобы зачернить промежутки между колоннами, скрыть силуэты влюбленных. А они все идут и идут навстречу краткому счастью.
Джунгли бредят. Джунгли наблюдают балет. Любострастие ночи извивается в ритуальном танце, плетет липкую паутину движений, в горячую патоку пальмового сахара падают жаркие сны, в рыжую патоку, что становится коричневой под брызгами лунного света сквозь листья бамбука. Джунгли звучат. Это эхо шагов пары мужских и пары женских ног прилетает и бьется о чешуйчатые, и гладкие, и корявые стволы, тихое, секретное эхо. Стволы вбирают его в себя, скрывают, берегут. Джунгли томятся. Душный воздух томится. Томится ночь. Ждут.
Мысль о том, что смерть должна их настигнуть в миг блаженства, что это и только это может стать их спасением, приходит к ним одновременно. Апсара внезапно останавливается, как от внутреннего толчка. Как от резкой боли останавливается монах. В смерти – спасенье. Апсара спокойно и уверенно улыбается. Умиротворенно улыбается монах. Несколько шагов они проделывают с улыбкой. Лишь несколько шагов. Лица их искажаются, гримаса великой скорби сменяет покой на лицах, тяжкие, мучительные слезы проливаются из пары женских и пары мужских глаз. Горькими потоками исходит их печаль. Длятся минуты боли, длятся. Апсара и монах все идут и идут навстречу любви, тождественной смерти. Только Любовь и Смерть. Только Красота.
Над двумя прудами, над вторым и третьим ярусами храма неизъяснимого Бога, надо мной, совсем близко, взлетают в танце сонмища апсар. Их движения несуетны и изысканны. Не только пальцы их рук гнутся, словно стебли, в обратном логике направлении, но те же невероятные движения повторяют стопы! Вопреки законам человеческой природы, законам тела, пальцы их рук и ног поют прельстительную песнь, у некоторых они удлинены остроконечными золотыми наперстками, украшения каждой танцуют вместе с их обладательницей, создавая музыку сыпучую, пленительную.
Были ли аплодисменты? Был ли поклон? Боже, какая чушь! Переживание столь реально, что выход на поклон мог стать кощунством. Я ловлю себя на том, что словно прустовский Марсель вижу в игре актеров лишь абсолютную достоверность, правду, жизнь. Но если юный герой не мог оценить отсутствие эффектов и сценической яркости в игре Берма-Федры, то та предельная естественность, которая была в игре ангкорских актеров, во мне вызвала восторг и восхищение.
Или это были не актеры? Настоящая смерть была не разыграна, прожита? Реальная гибель? Опять чушь. Ну, кто это будет… Ничего не могу определить. Актеры или нет?!
Мы длинной вереницей, не сговариваясь, движемся к месту, где прекратились и, безусловно, начались заново несчастные любовники. Мы видим серо-серебряную в лунном свете, нескончаемую галерею. Идем. Где то место, та точка, в которой достигли они друг друга, достигли своей любви? Темные пятна под ногами заставляют нас остановиться. Здесь.
– Кровь? Это кровь? – ввинчиваются чьи-то голоса в ночь.
– Кровь, – вычленяется голос Элзы.
– Это не кровь, нет-нет! – кричит Красильщик, ползая по плитам, запятнанным темно-красным. – Не кровь, просто очень похоже. – Он рассматривает пятна, стоя на коленях и наклоняясь к самому каменному полу. – Киноварь. Да… Киноварь. Краска. – Он не встает с колен. – Красивый цвет. Киноварь – это серная ртуть. Знаете ли, – Красильщик будто вспоминает что-то, – от взаимодействия с воздухом в маслах выцветает, становится блеклой, потом чернеет… совсем. Лучше в темпере, в акварели. Однако всё равно… – бормочет он, ползая рядом с пятнами и по ним. – Тут не просто, тут глубокая философическая загадка. – Его голос становится внятнее. – Магия: ртуть и сера – основные продукты алхимических действий, «египетского искусства»… в скрещении порождают Великого Гермафродита. Ртуть и сера – основа всего и вся… обратите внимание! У Гермеса Трисмегиста… – Красильщик громко и внушительно цитирует: – «Как все вещи вышли из Одного, вследствие размышления Одного, так все было рождено из этой единственной вещи». – Он делает короткий передых и продолжает громко, для всех: – Ртуть, Меркурий – Инь, женское начало, движение, борьба с бездействием, ожидание и готовность, чувство, воображение. Сера – Ян, активное огненное начало, мужская иерархия, разум, интуиция, действие, устремленное к совмещению, скрещению… – Опять глубокий вдох. – Киноварь и есть Великое Делание, преображение, трансмутация. Алхимический гермафродит, – он скандирует этот термин, – гармоническое сочетание плюса и минуса. «Тот, кому не удается стать двумя в одном теле, станет двумя в одном духе!» Погибнув, все влюбленные становятся единым целым. Здесь иносказание, подсказка нам, вот и всё.
Красильщик замолчал. Теперь он пытался оттирать красные пятна, обнаруженные им и на колонне. Напряженно дышал, будто выполняя тяжкую работу, заговорил вновь, опасаясь, что его не поняли, а может быть, забыв, что уже рассказал об этом, или просто ища поддержки у Матери:
– Киноварь, то есть сера плюс ртуть – синоним эликсира бессмертия, знак постижения закона трансмутации… – Теперь он говорил тише, обращаясь почти только к ней. – Движение к совершенному преобразованию, к просветлению… У индусов Расаяна – колесница ртути, алхимическая философия… Ртуть и алхимия в каком-то смысле тождественны. – Он искал понимание в глазах Матери, будто от того, что она поймет его, зависела правда: кровь здесь разбрызгана и разлита, или все же краска, магический симбиоз. – Фиксация ртути, повторюсь, одного из составляющих киновари – есть волшебное преобразование, превращение подвижного в застывшее… Этот физический акт имеет духовную ценность. Пресекание суеты обыденной жизни – вот мистический смысл остановки движения ртути. – Красильщик вновь повысил голос: – Если съешь «убитую ртуть», станешь бессмертным… Остановленная ртуть превращает живую ртуть в золото. Урина и экскременты алхимика, который принимает такую ртуть, способны преобразовывать свинец… он также становится золотом… Тайну остановки ртути раскрыл Шива…
Пятна не оттирались. Красильщик устал и приостановил действия. Теперь ему было удобнее говорить:
Алхимия – не лабораторные опыты. Это действо духовного порядка. Золото, добытое алхимическим путем, посредством работы киновари, обладает транс-цен-дент-ными свойствами! Слышите?! Это эликсир бессмертия. Такое золото готовится алхимиком не для обогащения материального, но – духовного! – Он кричал, срывая голос: – Оно дает путь, прямой путь в высшие сферы…
Сын положил руку на его кисть, пытаясь успокоить и одновременно обращаясь ко всем собравшимся:
– Киноварь в немецком языке – Циннобер. Помните, у Гофмана: «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»? У этого уродца была красная прядь в волосах, волшебная материя, изменявшая отношение к нему людей. Когда Цахес утратил цинноберную прядь, волшебство прекратилось.
«И откуда он это знает?» – подумала Мать не без гордости за сына.
Красильщик снова закричал:
– Да! Именно! Вся тайна имени и действия в киновари. Следите за моей мыслью? Гофман конечно же имел в виду магию алхимическую, преобразующую её суть. Вы скажете, фантазии. Нет, это – эзотерика, то есть понимание двойственного существования мира. Видимого и невидимого. Материального и нематериального, запредельного, трансцендентного. Эти сведения открываются только сознанию, способному проникать в великие тайны. Через откровение. Это доступно лишь избранным. Сведения о подлинном, скрытом от непосвященных устройстве мира обретаются инициируемыми, и тем просветленными. Так получил знания Будда. Состояние измененного сознания! О, достичь этого – мечта и труд. Но в минуты ясности является понимание всего, истинное понимание вещей, законов, смыслов. – Голос Красильщика гремел под сводами ночной галереи. – Глубокая медитация, да. Все ее виды. Вы скажете, просто это сейчас модно. Нет. Достигнуть Просветления следуя моде невозможно. Мода профанирует идею. Мистическое проникновение в тайны непознаваемого – великий духовный труд. Эта тема требует уважительного отношения. Если веришь в существование иной, подлинной, эзотерической реальности, можешь при жизни уходить в нее. Это и есть высший уровень познания.
Мать смотрела теперь не на сына, она не сводила глаз с Красильщика, уже не слушая его. Она знала, как устроен мир. Знала без изучения философских обоснований, без тяжких опытов. Ей было жаль Красильщика, блуждающего в мудреных терминах, и радостно за него, потому что он был на верном пути. Объяснить ему, как обстоит всё на самом деле, она не сумела бы, да и бессмысленны были бы объяснения, потому она молча смотрела на него внимательными, прищуренными от лунного сияния глазами и улыбалась.
Взгляд не отходящей от общей группы Элзы, казалось, с некоей брезгливостью двигался по лицам столпившихся в испуге андрогинов, Одалиски и Мадам, порой с большим вниманием задерживался на глазах Матери, проскальзывал мимо надрывающегося Красильщика. Элза близко подошла к Сандре и очень тихо, словно по секрету прошипела:
– Не знаю, нужны ли человеку подобные экстремальные эмоции.
Сандре показалось, что она услышала дальше: «Трудно жить, неся в себе разнокровье, а уж…»
– Что? Разнотравье? – не сразу поняла Сандра. Потом, будто вспомнила что-то, смутилась: – Да-да, кровь… разная кровь? Но здесь же киноварь…
– Ружне. Так, – произнесла Элза по-польски и отошла, надменная, всем чужая.
– Сандра, утри слезы, – шепчет мне на ухо Хозяин и, удовлетворенно оглядывая такие же, как мое, зареванные лица остальных гостей, продолжает: – Я избрал тот способ театрального мышления, который дает мне возможность наиболее полно выразить мысль и чувство, важные для меня. Сейчас вошло в моду, а точнее, не вошло, а усиленно и планомерно вводится в моду, насаждается, материально поддерживается так называемая новая драма. Пьесы, режиссура – талантливые и без признаков таланта, мрачноватые или совсем чернушные, не всегда правдивые, часто спекулятивные. Перформансы из области «современного искусства», нередко далекие от профессионализма, финансируются государством, усиленно поддерживаются пиаром. Что ж, если там, в этих удачливых рядах найдется что-то стоящее, пусть живет. Но почему только это? – Седые ухоженные пряди Хозяина подрагивали на висках, повторяя ритм утвердительных движений его головы. – Можете считать это стариковским брюзжанием, господа, но никто не вправе корректировать мои художественные интересы, мои эстетические предпочтения, никому не позволено решать, современна или нет та этическая среда, в которой я существую. То, чем я развлек вас сегодня, – не есть плод моих размышлений, нет, это скорее сгусток мечтаний, этот спектакль – дитя моих видений, иллюзия, реальная, в силу конкретности образов и ситуации, положенных в ее основу.
На эту развернутую реплику Хозяина сразу же последовала весьма вольная реакция: в фойе театра, где мы теперь находились, разворачивалось нечто новое. Тень Энди Уорхола, полная недовольства, скривив гомосексуальное лицо, проплыла мимо. Вместе с тенью скользнули манифесты поп-арта, материализованные в новых объектах творчества – жидкой и сухой грязи, бытовых отбросах, техническом мусоре, которые окружали гения, как доказательство их эстетических качеств, единых с традиционными предметами искусства. Беременная Марии Котак стремилась успеть продемонстрировать всем присутствующим свою матку, раскрывающуюся в родах, и конечно же Марина Абрамович, голая, опившаяся яду, с ножом в руке, то и дело приостанавливалась, чтобы продолжить прорезывание очередной грани пятиконечном звезды на своем животе. Их сопровождала подвижная толпа фотографов, которые беспрерывно мельтешили вспышками аппаратов в необходимости запечатлеть каждый момент, нюанс, деталь происходящего. Однако всей группе художников суждено было скоро и как-то вдруг размельчиться на серые составляющие, исторгнуть ощутимый клуб запашистого углекислого газа и исчезнуть. В последнюю секунду зрителям показалось, что они увидели в укрупненном масштабе окровавленное лоно художницы Котак, с темечком ребенка в нем, вялые гениталии Энди, почему-то свернутые набок, и стиснутую мазохистским приспособлением левую грудь художницы Абрамович, но это уже не было даже проекцией, так, секундная прихоть или замешательство зрительского сознания.
Трудно определить, представилось ли это явление взору Хозяина, или оно было доступно только внутреннему видению его гостей, но он не реагировал, оставался возвышенно спокойным, даже равнодушным. Вкруг его безразличного теперь лица вились какие-то радужности, которые, по всей видимости, и вызвали в нем желание подремать. Посему гости стали спешно блекнуть и растворяться, не прощаясь, по-английски. К моменту исчезновения последнего андрогина Старик уже спал крепко, о чем временами свидетельствовало уютное всхрапывание.
– Я становлюсь фламинго. Я становлюсь розовым огнем, – опять кричит Красильщик. – Мои крылья-кисти погружаются в багряную вязкость, в краску пламени. Я делаю вдох и раскидываю руки в стороны, широко. Выдыхаю. Воздух замарывается колером фламинго. Перья летят, брызги летят и застывают в пространстве. Рассвет разворачивается как полотно, скрученное ночью в плотный свиток. На прозрачной чистоте – моя фламинговая заря, – кричит, кричит птица-Красильщик. Он разучился говорить. Наверное, отныне и впредь он будет только кричать.
– Красный цвет способен не только действовать возбуждающе, не только будоражить и беспокоить! Красный мобилизует силы, готовит к броску, концентрирует и высвобождает энергию! Киноварь, краплак, кармин, ализариновый красный – оттенок назван по сходству с органическим красителем ализарин… Древние египтяне использовали для получения розово-красных текстильных красок измельчённый корень растения марена красильная… – Зачем он так яростно надрывает глотку? Его уже некому слушать, я одна, потому что Старик-Хозяин спит так крепко, что даже Красильщику не удаётся разрушить его сон.
– Философский камень описан кем-то в виде карбункула – драгоценного камня ослепительно красного цвета… – Дальше речь кричащего становится все более бессвязной, а силуэт все менее отчетливым, и вот уже из пурпурного марева я ловлю его последние слова: —…оседлавшие грифов, орлов, цапель, ястребов и бхас, а сам царь демонов Бали восседал на чудесном воздушном корабле Вайхаяса…
Как радовалась я потом, что во все часы, пока шел спектакль и то, что ему предшествовало, и по его окончании, пока Старик исполнял роль радушного Хозяина, и во сне, крепком и, видимо, сладком, он не испытывал боли.
16.
Сандра влетела на площадку перед домом, в несколько шагов пересекла темноту над лужайкой и как-то боком, по-детски, плюхнулась в подсвеченный изнутри бассейн. Прямо в шортах и майке и соломенной мужской шляпе с узкими полями. На поверхность светящейся воды всплыли ее сабо. Она вынырнула вслед за ними, рассмеялась, отфыркалась, еще немного побарахталась в брызгах, выловила шляпу и поднялась по ступенькам вместе со сквозняком, что пронизал пространство меж молодыми кустами плюмерии. Сандра сделала пару шагов, приостановилась, почти голая в прозрачной вымокшей одежде и со шляпой в руке, посреди едва не черной синевы позднего вечера, и резко вспрыгнула на колени Старика, сидящего в кресле. Она придвинула свое мокрое лицо, свои волосы, с которых стекали струйки, прямо к глазам Старого, притиснула к нему узкое гибкое тело и так, с плотно прижатой к нему грудью, откинула голову, обняла одной рукой за шею, другой надела, сдвинула ему на затылок свою шляпу и, глядя в упор в его глаза, громко, внятно произнесла: «Поцелуй меня. Ведь ты меня хочешь». Бешено застрекотали цикады, снова сквозняком шевельнуло запахи и поверхность набухшей светом воды. Сладко схватило и заныло под ложечкой. Старик улыбнулся, погладил теплой ладонью ее спину, ее насквозь мокрую майку. В этом жесте была жалость, было желание утешить. Сандра повторила с той же твердостью, но тише: «Поцелуй». – «Это не решит твоей проблемы», – с неожиданной силой он приподнял ее длинноногое скользкое тело, освободился от него, поднялся, снял со спинки кресла трость и широко зашагал прочь. У двери в дом задержался: «Что ты пила, девочка, ром? С вином не мешала? Если да, то лучше два пальца в рот сегодня, чем головная боль завтра. И – спать. Это распоряжение. Не забывай, ты на работе».
Он никогда, ни разу, не напомнил ей, что она компаньонка, сопровождающее лицо, у которого есть круг обязанностей, за исполнение коих ей причитаются деньги и содержание. И вдруг… Почему? Потому что впервые она пьяна? Или потому, что она переступила грань, совершила недопустимое, разрушила тонкую, деликатную ткань, разрезала, рассекла? Теперь неизбежен рубец. Как банально, как пошло, как предсказуемо ее поведение. Любая молодая особа на ее месте вот так запросто взялась бы соблазнять, чтобы поиграться, насладиться торжеством, полнотой победы, окончательно обезоружить. Любой старик на его месте соблазнился бы, воспользовался, не устоял, согласился бы на унизительное преклонение, на властвование над собой. Любой, но не он. Значит, он особенный, единственный, невероятный, а она – как все, как всякая, как любая. Да! Да! Она хочет быть такой. Она попыталась такою быть. Она хочет быть обычной, банальной, пустой, глупой, беспринципной, тупой, доступной женщиной. Просто женщиной. Почему ты не хочешь помочь мне в этом?! Неужели так трудно? Что тебе стоило? «Это не решит твоих проблем». Нет, так можно сказать женщине, у которой много разных обстоятельств, сложностей, неприятностей, есть прошлое, будущее… Нет, он сказал: «Это не решит твоей проблемы». Единственной, неизменной, неизбывной.
Всунуть стопы в сабо, выскочить в переулок, свернуть в улицу, в первом же звучащем, танцующем баре присоединиться к молодой, ошалевшей от жары и выпитого компании, на руках занесут в дешевый студенческий рум в соседнем гесте, будут нежно ломать и шептать прямо в уши, будет холодно от свиста времени и кондиционера, будет жутко. Пожалуйста, никогда. Если завтра увидишь, не узнай.
Я – симбиоз. Два в одном. Ярцагумбу.
Не знаю, кому из пары принадлежит мое мышление, но этот термин не выходит из моей головы. Ярцагумбу – тибетское растение-животное. Кордицепс, гриб, пробившийся к свету сквозь несостоявшуюся бабочку Hepialus armoricanus, в зародыше проросшую чужой жизнью. Редкость, которую трудно отыскать весной среди молодой цветущей поросли на высоте четырех тысяч горных метров. Мумифицированная гусеница, несущая в себе таинственный росток. Самая целебная трава на свете, по мнению древних китайских императоров. Кто из нас двоих погиб в другом? Кто из нас двоих выжил? Оба? Получился ли целебный симбиоз? Если я не Ярцагумбу, то кто?
Старик зачастил к своим разрушенным слонам. Подолгу стоял против солнца в тени громады, глядя на их усталые хоботы. Потом плелся к дороге, чтобы взять такси домой. Сандра выследила раз, другой, уже не удивлялась, просто ехала на байке следом. Есть Ват Чианг Ман, хранитель древнейших реликвий – Нефритового и Кристаллического Будды, и в нем – каменная чеди, чуть ли не на сто лет старше, чем Чеди Луанг, с добрыми, пережившими землетрясения и пушечные атаки без единой царапины каменными слонами, расположенными вот тут, близко, на невысоком четырехугольном постаменте, так что можно даже достать рукой, потрогать, погладить. Нет, что-то тянет его именно сюда, к Чеди Луанг, к этой рыжей, больной развалине. Неужели в этом ответ? В том, что Старик ассоциирует старых искалеченных животных с собой, чувствует, как они разделяют его боль. Они держатся. Вопреки времени. И он держится. Еще держится. Я смотрю на него издалека, так, чтобы ни в коем случае не увидел, прячусь в вихарне за колонной, из-за которой слежу, как он садится в пыльную «тойоту», слетаю по ступеням, седлаю байк. Как обычно, Старик едет домой.
Однажды я просыпаюсь поздно и не обнаруживаю Старого в доме. Натягиваю шорты, выскакиваю в улицу, мчусь до первого угла, хватаю напрокат байк, хозяин привычно улыбается. У Чеди Луанг Старого не оказалось. Я подождала минут двадцать, подумав, что могла опередить его, если он решил позавтракать в ресторанчике с хорошим кофе.
Старик не пришел.
В тот день я на пять ладов обошла все темплы, я уже не соображала, где была во второй раз, а куда подъезжала в третий за этот длинный пасмурный и душный день. Возможно, в горах прошел дождь, но здесь, внизу, тяжелые комки облаков неровно заполонили небо, спускались чуть не на голову, но не роняли влагу. Я дважды возвращалась домой. Мобильник старика по-прежнему неприкаянно лежал на его постели, аккуратно заправленной горничной Лили, что приходила к нам через день делать уборку в доме и в садике, менять постель и полотенца, которые она выкладывала дурацкими зайчиками и лебедями в обмен на дополнительные 20 батов, неизменно оставляемых для нее на тумбочках у кроватей.
К вечеру я вошла в просторный вихарн Ват Пра Синг, опустилась на циновку слева от двери и неожиданно для себя повалилась на бок. Я лежала лицом к алтарной части, и взгляд мой скользил по ряду восковых фигур монахов, замерших, как живые, в центре зала, по традиционно золотой фигуре Будды за их твердыми спинами, по стенам, покрытым росписями в ланна-стиле, о котором мне рассказывал Старый, когда мы впервые пришли в этот храм, по тыльной стороне высокой черепицы, не перекрытой потолком, по испещренным тонким золотым рисунком поперёк темно-красного поля колоннам, и почувствовала вдруг, что я здесь дома, мне здесь спокойно, что я не хочу покидать эту страну, не хочу возвращаться туда, где меня знают, где я на виду. Я поймала себя на том, что мои мысли о покое противоречат действительным обстоятельствам: я не знаю, где Старик, не знаю, что случилось, не знаю, как действовать дальше.
Народу в храме было уже мало. Я поднялась с полу, прошла к окну, через которое мне навстречу втекал вечер, втянула ноздрями его душный жар. Ко мне приблизился монах и попросил на внятном английском, чтобы я не покупала птичек в клетке, что продают торговцы у входа.
– Они специально ловят их, а люди платят, чтобы выпустить птиц на волю. Это не хорошо, не покупайте, пожалуйста.
Я сказала, что знаю этот аттракцион и не стану платить нечестным людям, подумала, что вообще не дело торговать у храма, но вспомнила, у буддистов это не возбраняется, напротив, считается нормой. Я двинулась в сторону мондопа, библиотеки, небольшого здания из белого камня, украшенного равномерно расположенными фигурами танцующих дев снизу, и темно-бордового дерева, расписанного золотом в симметричных прямоугольниках во втором этаже. Я знала, там таится реликвия – инкрустированная перламутром шкатулка, хранилище священных писаний, зафиксированных на листьях бамбука, которые сложены по двадцать штук между тиковыми дощечками и обернуты шелком. Про эту таинственную красоту тоже рассказывал мне Старый. Библиотека затаилась в вечере, сама как шкатулка тонкой работы, изящная, невесомая. Вдруг мне стало холодно. Так холодно, что застучали зубы. Да. Я боюсь, что его уже нет в живых. Я боюсь, что уже поздно. Навязчивое видение – Старик, обернутый шелком, его члены, кости, иссохшиеся мышцы, кожа – череда листьев бамбука и тиковых дощечек, вложенных в инкрустированный жемчужными переливами гроб, шкатулка без плоти в ней, хранилище мыслей и чувств, – никак не уходило.
Никогда так медленно не двигался байк. Никогда так не тянулось время. Изжеванной до полного безвкусия жвачкой, мокрой резиной, мерзким киселем размазывались минуты, вечерняя приторная жара забивала нос и рот, затрудняла дыхание. Неподалеку от дома, привычно продолжая скрывать, что беру байк в аренду, сдала его. «Зачем?» – протянулось в голове. Обжигающий кусок льда снова возник в груди, под ребрами. Страх. Тяжко. Дрожали выше колен ноги. Всё.
Я подошла к дому. Двери закрыты, света нигде нет. Всё.
Я отворила ключом дверь, босиком прошла по первому этажу в его комнату. Фонарь у бассейна бросал свет сквозь стеклянную раздвижную стену на постель и мобильник на ней. Я раскрыла черный кожаный футляр, нажала кнопку: с десяток не отвеченных вызовов с разных номеров, непрочитанные эсэмэс-сообщения. Тыкаю пальцами, мешает дрожь и новый невыносимый холод в грудине и в бедрах.
– Сандра!
Меня дергает так, что мобильник выскальзывает из руки на простыни.
– Сандра! Чай будем? Ты читала эсэмэски в моем сотовом? Я же не знаю на память твой номер! Он же в телефонной книжке, на имени! Поэтому названивал весь день на свой телефон, хорошо, что хоть этот номер помню! А ты всё не брала трубку. Не слышала?
Он стоял в дверном проеме: высок, сед, худ. Он выглядел усталым. Он улыбался. В его улыбке были радость и вина.
– Ты что, выпил?
– Да, немного: друзей встретил нечаянно. Давних, питерских, учились вместе, потом по работе сталкивались, какое-то время жили рядом. Я что-то рано-рано проснулся и решил смотаться в Дой Сут Хеп, пока ты спишь. Думал, вернусь через пару часов, к завтраку. А тут так неожиданно…
Тошнотворная пустота и слабость превратили мое тело в вялую, обмякшую оболочку чего-то искромсанного, почти неживого. Душе моей уже не было больно, не было даже обидно. Я что-то отвечала и улыбалась, и потом принимала душ и засыпала, но это происходило как-то без меня, без моего участия и даже, кажется, без моего присутствия. Если такое можно представить.
Свой страх любят – отсюда страшные истории о страшных страданиях, необходимых для доказательства веры. Любят читать про пытки, самобичевание, сожжения, львов, терзающих плоть, жаровни, на которых бросали детей. Вера, Надежда, Любовь. Страстотерпицы, мученицы святы, потому что их Бог – мученик. Страдание есть духовность, высшая форма земной жизни. Любовь к страданию и боязнь его. Страх. Всё – страх. Страх силен. Страх божий. Во имя этого страха строятся великие памятники культуры во всех уголках планеты. В каждом – своему, единственно верному, правильному Богу.
Страх – созидатель. Религия – самовыражение страха, его лицо, его всепобеждающая сила. Нет ничего мощнее страха. Страх перед болью. Страх потери. Страх перед высшим, решающим началом. Страх перед смертью. Постоянна, потому что необходима, попытка этот страх умерить – оправдать смерть. Катализатор – страх. Из страха молятся. Веруют, созидают. Из страха перед мучениями рвутся в Нирвану.
Немного позже появился Влад, так, оказалось, зовут загорелого ретритчика с серьгами в ушах. Мы столкнулись с ним у овощного лотка:
– Курупита, ты тоже любишь манго?
– А кто ж его не любит? Ты знаешь таких?
– Пожалуй, нет, но это же возможно? – Трезвый он казался каким-то незащищенным, то часто моргал, сдвигая на кончик носа темные очки с маленькими стеклами в совершенно круглой оправе, то перемещал их на переносицу и тогда принимался усиленно оглаживать свое блестяще выбритое темя, покусывал сгиб указательного пальца, делал много других лишних движений и наталкивал на мысль о том, что и красавцы могут быть неуверенными в себе. А может, это была такая форма кокетства. Из жалости, или реальной симпатии, но я согласилась выпить с ним чашку кофе и поболтать. Сидя в удобном тиковом кресле из невыровненного куска дерева он шевелил пальцами ноги, перекинутой под прямым углом через колено, демонстрируя ухоженные ногти, рассказывал о том, как нанялся на неделю ухаживать за слонами, которых показывают туристам в селении неподалеку, и как таец-хозяин не выплатил ему за труд денег.
Кофе обжег мне небо, но был насыщенным и ароматным, капелька стекала по внешней стороне белой чашки, и я подбирала ее языком сразу после очередного глотка.
– Зато слоны утешали: такие умницы, смирные, ласку понимают. Но между собой ссорятся. Поднимаются на задние ноги, хоботы вверх, трубят! А спят по-разному: молодые могут лежа, а старые – стоя. Только днем, в самую жару. Да и то не спят, а скорее, дремлют, мне кажется. Мимо пройдешь, он глаз открывает.
Сандра разглядывала его правильный профиль, линию затылка, слушала с недоверием.
– При мне слониха принесла приплод. Слоненка-девочку. Знаешь, малышка свой хобот посасывала, как человеческие младенцы – палец. И они слепыми родятся, как котята. Слоны очень умны. Они же своих мертвых хоронят! Да-да! Выкапывают яму, в нее сталкивают мертвого слона и приваливают ветками. Ну, в дикой природе…
Сандра слушала и не совсем верила его байкам. Может, он говорил правду, но есть такие люди – говорят то, что есть на самом деле, а кажется, что лгут.
– Возможно, хозяин считал, что я нанялся к нему работать за еду… Он практически не понимал по-английски. А кормили хорошо. Не пустой рис. И рыба, и мясо были…
– Как же он мог не понимать по-английски, когда всё время дело имеет с туристами?
– У них там есть тайцы-переводчики, которые шоу ведут. Не знаю, как-то так…
И совершенно без перехода он предложил ей выйти за него:
– Станешь моей женой, и я поменяю религию. Христиан и буддистов я понимаю, а ислам – загадка. Уедем в самую грязную мусульманскую страну: куда-нибудь на окраины Каира, или в Тунис, но обязательно на север Африки, самое лучшее – в Йемен. Ты будешь рожать детей в доме, где стены не белены уже два десятка лет, в доме, выходящем глухой стеной на блёклую улицу в серой пыли. И никакого визуального сора: женщины все в черном единообразны, лица опечатаны никабом. Я буду носить за поясом обоюдоострую джамбию и жевать несравненный, благословленный Аллахом кат. От жевания ката в расслаблении и одновременном возбуждении я буду беспрестанно любить тебя, пока ты в муках не родишь мне семерых детей. В Йемене каждая женщина рожает не менее этого числа. А после я возьму в жены еще несколько женщин. Ты хочешь? Тебе нравится? По крайней мере, тебе интересно?
– Ага! Очень! От ката у тебя будет уродски распухать щека, и я не смогу смотреть на тебя без отвращения.
– Да, Курупита! – торжествовал Влад. – Я буду закидывать тебе подол на лицо, чтобы тебе было легче вступать со мной в акт соития, не видя раздувшейся щеки! О! Это совсем круто!
– О-о-о! Ну какая же чушь! Просто запредельная! Ну вот что ты здесь передо мной выкобениваешься?! Чего тебя так ломает-то? Ты думаешь, этот твой стёб должен произвести на меня неизгладимо-поражающее действие? Или считаешь, так понравиться можешь? Или самоутвердиться иначе не умеешь? А вот эта твоя «Курупита», вообще противно. – Сандра раздражалась всё сильнее.
– Нет. Я совершенно серьезно хочу изучать ислам, и сейчас даже близок к тому, чтобы принять эту веру. Ну, может быть, я несколько увлекся в своих грезах, но не имел ни малейшего желания тебя обидеть, – мялся Влад.
– Я знакома с двумя тупыми «блондинками», студентками с параллельного курса, которые бросили вуз и приняли ислам, потому что это «круто». И теперь надеются выйти за шейхов, не меньше. Господи, да что ж так мерзко-то! Ты-то мужик всё-таки. Или им быть должен, ну не блондинка же.
– Прости, забудь, передавай привет дедушке. Он у тебя такой классный.
– Передам. Только вот не надо, не провожай. За кофе-то расплатишься, мусульманин?
Руки мальчика были ловкими и неожиданно сильными. На вид – лет пятнадцать, а дело свое знает. Я зашла в массажную при монастыре не впервые: в Махавон Ват на Тапе-роуд торгуют разноцветными целебными бальзамами в небольших баночках с надписями на тайском и английском и делают тайский массаж. Я уже пробовала смелые руки плотной молодухи, растиравшей мне холку холодящим зельем, а ноги – темным, терпким; пожилая и сухенькая больно вонзала пальцы в мои икры и бедра, так что я вскрикивала, а она улыбалась и продолжала, нисколько не умеряя монотонных усилий. Мальчик методично шел по уже знакомой мне схеме, я успокаивалась, кружилась, почти исчезала.
Потом я гуляла, пила из ромбовидной бутылочки свежевыжатый сок зеленых мандаринов, любовалась в антикварных лавках старинной утварью для курения опиума, бронзовыми фигурками божеств и коврами, заходила в один и другой монастыри, наблюдала за сморенными сном в неурочный час монахами-подростками, искала монахов-студентов.
Несколько университетских учебников лежало на круглом каменном столе под деревом, вокруг которого разместились жаждущие наук. Рядом приплясывал юноша с немужскими повадками. Когда он отошел в сторону, я спросила у других за столом, часто ли допускаются в их ряды геи.
– Если еще не сменили пол – пожалуйста, – улыбался симпатичный, безбровый, как и все его однокашники, парень, следя за моим взглядом, пока я не могла оторвать его от манерно накинувшего на голову полу своего рыжего одеяния женоподобного юного монашка. Он пританцовывал, кружился и играл жестом, потом заметил мое внимание, приблизился.
– Можно задать тебе несколько вопросов? – Его английский был тоже хорош. – Нам дали такое задание. – Я кивнула. Монашек длинными оливковыми пальцами раскрыл тетрадь, лежавшую на столе, провел узкой ладонью по страницам. – Из какой ты страны? Путешествуешь? Знаешь ли ты основы буддизма? Интересуешься ли жизнью монахов? – Он покачивал головой, поводил плечами, прикусывал нижнюю губу и вовсе не был противен мне. Просто я не совсем понимала, кто передо мной. И мне не надо было этого понимать. У меня вдруг не оказалось к монахам-студентам вопросов, я просто любовалась ими и отвечала им. А они были в беседе не усердны, отвлекались, забывали обо мне, смеялись каким-то своим приколам на тайском, и я заливалась вместе с ними.
Я ушла из монастыря с легким сердцем, остановила сонгтэо – чиангмайское красное такси – и направилась на Вуалай Роуд, в квартал серебряных мастеров, полюбоваться чеканным металлическим храмом. Я чувствовала себя полноценной туристкой, снимая на камеру бликующую на солнце витиеватую крышу, выложенную, как и все стены снаружи, металлическими ячеями, и крашеный серебрянкой пластичный рельеф бетонных полов незаконченного новодела. Потом наблюдала, как в маленьком неухоженном бассейне под фонтаном прячутся за камни голые рыбы, потеряв в торопливом движении сочно-красные пятна с молочных своих тел, и как пятна продолжают самостоятельную, отдельную от рыб жизнь, медлят, ворочаясь в солнечном желе, и, тяжелея, погружаются на дно.
17.
Старик окликнул меня с балкона:
– Автор продолжал делать свои заметки, сидя в шезлонге у бассейна? Не обижайся, шучу. Молодец! Пиши обо всём, что трогает. Не бойся себя. Письмо требует навыка. Когда научишься в одной фразе совмещать самую крохотную подробность собственного чувства и вопрос мирового бытия – достигнешь некой ступени. Некоторым дается это умение небом. Сразу – в зачет.
– А как же там, в высшем компьютере, никогда не бывает сбоев, ложных или неверных действий, зависания программ? А если и там не всё столь совершенно и, скажем, кармы путаются, праведник, которому пора бы уже приближаться к нирване, родится вдруг вшивым интеллигентом в России?
– Да. Каждый – о своем. Идем есть твою любимую нойну! Лайм у нас в запасе? Чисти фрукт, поливай соком, я спускаюсь через минуту!
Ватные пресно-сладкие кусочки под кислотой обретали свежесть, приятно жевалась, похрустывая, плотная белая мякоть, из которой предварительно извлекалось множество черных блестящих глазков-косточек, скрытых в ячейках, похожих на обескровленные ранки. Старик подшучивал над моими литературными философствованиями, хотелось тихо смеяться, вечер тлел и дымился, было покойно и ровно на душе.
– Самый интересный сюжет? Тот, в котором присутствует загадка.
– Детектив? Старый, ты любишь детективы?
– Совсем не обязательно. Мне интересны события вне бытописательства, что угодно, но не истории, плоско отражающие события чьей-то судьбы!
– Символизм?
– Пожалуй, но не только.
– А как же твоя любимая «Анна Каренина»?
– О! Это далеко от бытописания. Это психологические разработки, рудники души. Да там и символизма хватает, «мужик с железом», знамения с первых сцен. Всё предопределено.
– А в чем же загадка?
– В том, как, какими тайными путями ведет к смерти любовь. Власть чувств, подспудная, темная. Власть сильна, если она скрыта, не откровенна. Истинная власть не выпячивается. Наличие «серых кардиналов» во все времена подтверждает стремление самой власти уйти в тень. Сила не имеет цели себя демонстрировать. На то она и сила. Люди часто воспринимают события по их внешней явленности, а что там на самом деле, за тем или иным происшествием, событием, громким скандалом, аварией, катастрофой – неизвестно. Часто внешняя эффектность – лишь ширма для чего-то более важного, должного остаться в тени. Особенно когда речь идет о власти денег.
– Ты же начал о власти чувств…
– Любая власть – это чувства, прежде всего чувства, раньше разума, сильнее него. Чувства рождает душа, и всё, что с ней связано – тайна. Тот, кто не боится исследовать этот безвыходный лабиринт, обречен на труд, который не имеет конца. Это бездна.
Так заканчивался последний радостный день. Воздух был, как всегда, как постоянно здесь, влажен, тяжел и глух. Воздух был зрим и осязаем. Который раз за тысячелетия тысячелетий существования тропиков вечер наполнялся тьмой, дышал, вибрировал, ложился. Но вскоре собрался уходить, как ушли утро, и полдень, и закатный час, чтобы потом явилась ночь, пряная, топкая. Массаж в Махавон Ват, монахи-студенты, голые рыбы в серебряном храме и поедание подкисленной нойны за тихой беседой уходили в зыбкое мерцание прошлого, своевременно и безвозвратно.
Я ждала в мучительном нежелании верить в необратимость, ждала этой фазы. Знала, что совсем скоро боль захватит нашу жизнь, подчинит ее себе окончательно, вгрызется в каждый миг, подавит, заслонит доброе прошлое.
Из заначек были извлечены новые пачки шприцов и ампул. Зашуршало в песочных часах, жестко подкатывался сокращенный остаток. Старик не роптал и не желал переходить на постельный режим. Днем, после инъекции, пользуясь прибитостью боли, читал и записывал что-то в ноутбук в нижней гостиной по соседству с налаженным сквозняком – из пальмового садика через широкое окно-стену, мимо его высохшей фигуры в кресле – к бассейну, в раздвинутые настежь стеклянные двери. Вечером иногда спускался даже в освещенную изнутри воду, прямо в льняных брюках и сорочке, стоял по грудь в голубом зыбком сиянии, дрожащими руками держась за поручень, потом отправлял меня принести полотенце. Я делала вид, что ухожу, стерегла его тяжкое дыхание, мучительное наслаждение теплой влагой, тяжкие его мысли и трудный подъем по трем пологим ступеням, выходила с приготовленной загодя махровой простыней, накрывала плечи. Мы двигались вдоль холла к его спальне, и за нашими босыми ногами тянулись ручьи теплой воды, стекая из-под простыни с льняных брюк, которые он позволял мне медленно и осторожно скрутить с бедер и ног, с костей, обтянутых истончившейся кожей, что, казалось, уже не имела мышечной прослойки под собой. Он лежал в простынях, а я скатывала сырую серую ткань, будто соскабливала самою кожу, и мне было страшно.
– Фокус с летом не удался: за осенью должна следовать зима. Я никогда бы не стал завещать свое тело для патологоанатомических экзерсисов. Наука тела, как вся материальная премудрость – пустое. Было бы целесообразно отдать на препарацию свою душу.
– Зачем, Старый?
– Наверное, прозвучит выспренне, но смертью своей я хотел бы принести пользу. – Он трудно и тихо засмеялся.
Теперь я ждала, когда Старый решит собираться в Паттайю.
Безысходная необходимость делать вид, что настроение мое ровно, я бодра и оптимистична, вытягивала много сил. Вопросов я не задавала.
В воскресный вечер Старик отправил меня побродить по ночному рынку, что еженедельно в выходные щедро раскидывался по улице Ратчадамноен от ворот Та Пе до храма Пра Синг. Я приглядывала какие-то подарки, вместе с толпой обтекала слепцов, усевшихся со своими ударными и смычковыми наземь, вереницей, в затылок друг другу посреди дороги; проталкивалась к стеклодуву посмотреть на огненные шары, примеряла невесомые сандалии, кашмировые и пашминные палантины, глотала приторный, обжигающий пальцы и губы, только что испеченный розовый батат и, наконец, купила две шикарные сумки ручной работы: мужскую коричневую с нарезными деталями и застежкой из скорлупы кокоса – Старику, и женскую – с вмонтированными в кожу кусками столетней потертой вышивки шелковой гладью. С подарками и сладостями в пакете я торопилась домой. За мной увязался не агрессивный, но надоедливый австралиец лет тридцати, с уговорами заглянуть с ним в «Верхний бар», грязноватое заведение с хорошей электронной музыкой, казавшееся мне притоном, что посещают люди в стиле бохо. Мне было смешно от его акцента, от незлобного бурчанья в ответ на мои отговорки и упорного телепания позади по неровностям тротуара. Вовремя притормозив «красное такси» я оставила австралийца махать мне вслед руками.
Старика дома не было.
Я искала всюду, без системы, терялась в витых переулках, плутала по тупикам и закоулкам, проникала на территории спящих монастырей и в дворики гестхаусов. Всю ночь. Я взяла напрокат джип и изъездила квадрат вдоль и поперек. Я зачем-то поднималась по расшатанной деревянной лестнице, тонущей в дыме и застарелом запахе мочи, в «Верхний бар» – а вдруг решил вот послушать музыку, кто знает, что могло взбрести ему в голову. Да как он сюда бы забрался?! Я спускалась, и меня обступали разрисованные опиумным воображением и разводами пьяной мочи стены, и догонял тот вечерний австралиец. Я возвращалась домой, начинала все сызнова и набирала, вызывала, вызывала номер Старика.
Еле дождалась рассвета. Он просочился снизу из-за соседних домов и потихоньку стал набирать силу. Еще раз попыталась набрать номер. На этот раз не было даже гудков. Многотоновая женская речь вещала, должно быть, о том, что номер вне зоны действия. Джип, взятый напрокат с вечера, громоздился черной лаковой кучей, ждал меня. Кондиционер работал хорошо. Заправилась. Прав, годных в этой стране, у меня нет. Плевать, здесь дорожная полиция не останавливает, а если что, откуплюсь. Я рванулась из города в сторону гор, в рань, в рвань своего страха. Город, как в рану, вплывал в утро, монахи отправлялись на кормление: тайцам пора просыпаться. Я оставила в стороне золотую, подпаленную ранним солнцем рассыпчатость Дой Су Тхепа и вышла на маршрут 107. Двигаться было трудно: дорога завилась среди гор, закрутилась. Хотелось скорости, но приходилось жать на тормоз, мешали правый руль и левое движение. Хотя как разделить на левое и правое дорогу шириной в два метра? Зелень мельтешила углами поворотов, пальмы сменились хвойными склонами. Часа за два с половиной я надеялась добраться до Чианг Райя, а там – километров шестьдесят до границы. Не тут-то было. Дорога выскальзывала из-под колес, стараясь утечь прочь, изгибалась и скручивалась, как дороге не положено. Повороты в двести градусов – слишком, даже для горной трассы. Главное, чтобы на этих участках не попадались встречные. Конечно, надо было ехать по сто восьмой, нижней прямой трассой, но почти четыреста километров казались до этого слалома слишком долгими. Теперь покручусь тут не один час… Ладно, неважно.
«Хотелось бы в Мьянму» – единственная фраза, и та, кажется, сказанная не мне, а лишь в моем присутствии, кому-то в кафе, в каком-то бесконечном рассуждении о буддизме, поддерживала надежду на то, что я двигаюсь в верном направлении. Если ничего не можешь изменить, не нервничай – бесполезно. Я пыталась изменить, и поэтому нервничать было совсем нельзя. Надо было держать руль и свой страх крепко, уверенно. Пару раз меня резко заносило на гибких кольцах сдавленной холмами дороги, к счастью, встречка за скруглениями оказывалась пустой. После Чианг Рая мне стало мешать солнце, что то и дело прыгало из-за темной зелени на лобовое стекло, или стремительно догоняло сзади. Оно суетилось то слева, то справа, совсем путая ориентиры, мороча до головокружения. Темные стекла очков раздражали густотой мрака. Когда оказывалась в тени очередного взгорка, я сбрасывала их, потом снова цепляла на нос. Я старалась справиться со стремлением змея Нага, коим обернулся мой путь, скинуть меня вместе с джипом со своей спины. Думала ли я о чем-то? Можно ли назвать мыслями обрывки воспоминаний, страха перед возможной бедой, блуда предположений и наитий, уговоры и увещевания себя самой? Еле удерживая втопленную в пол педаль тормоза, я неслась отвесно вниз, низвергалась, подскакивала всей тяжестью джипа, выравнивалась и начинала тяжкий подъем, топя теперь другую педаль, напрягаясь и хрипя вместе с машиной.
В Маэ Саи я въехала после полудня. С трудом нашла, куда притулить машину. Рядом, из тени разлапистого дерева отчалил вездетайский крупномордый пикап, я переставила свой джип под крону. Вывалилась в жару, ноги не слушались. В трехэтажном строении бросила пограничнику копию паспорта, денег и зашагала через мост пешком на ту сторону узкой и мутной воды, в чужую Мьянму, где я должна была отыскать Старика, во что бы то ни стало. Могла бы я тогда ответить на вопрос, почему я так нацелена именно сюда, не знаю. Чем я обосновывала свои действия? Было ли тому разумное объяснение? Почему вообще Мьянма? Я уверенно продолжала двигаться.
Меня грела единственная надежда: блокпост не выпустит его из штата Шан ни за какие деньги. Это вам не Тай, где всё измеряется величиной взятки. Здесь военный режим. Строго. Из Шана в большую Мъянму иностранцу – только на самолете. Или вообще никак, потому что в Шане, кажется, и аэропорта нет.
Старый здесь, недалеко, чую. Ну и что? Даже если интуиция меня не обманывает, как найти его в чужом Тачилеке? Можно ли быть уверенной, что он не продлит свой путь в какой-нибудь ближайший населенный пункт или просто – в спрятанные среди джунглей и гор маковые поля? Я отметилась у вооруженных погранцов и мимо мужской лени и женских расписанных светлой танакой лиц, устремилась в улицы. Я осмотрела внутренние углы храма, рассеченного белыми колоннами, что произрастали из зеркально отполированных рыжих плит, – ничего кроме подушек для сна мальчиков-монахов, вмотанных в почти алые и бордовые одежды. Я поднялась к ступе Шведагон, обошла кругом ее поддельную красоту, истекающую сусальным золотом в солнечной плавильне, пробежала мимо пузырения фруктов на прилавках вдоль улицы, что это – мелкие папайи или такие крупные и темные манго? И двинулась внутрь мусульманских переулков. Бледная серость замызганных оград, бледная пыль под ногами, серые приплюснутые луковицы куполов по четырем сторонам мечети. Темные мужские глаза, полные неприятия, много мужских глаз, каждая пара в отдельном отторжении из-под наворотов платка. Будто не Мьянма, не Бирма, иная страна, какой-нибудь Пакистан? Ява? Окраины эмиратского мегаполиса? Совсем другая среда, неожиданная здесь, неуместная. Ловлю себя на том, что не принимаю присутствия исламском культуры в чужой для нее вотчине, в гуще буддизма. В голове мелькают белые мечети Каира, стамбульские минареты, крутящиеся белые юбки дервишей, белые верблюды, марокканский базар на белом песке. Откуда я всё это знаю? Я не была там никогда. Но вижу, вижу отчетливо, ясно себя, идущую мимо белых, искрящихся жаром ступеней, мимо стены, тоже белой, слепящей, вот она постепенно уходит в тень, в серую пыль, в серый пепел.
Он, недвижен и сед, сидел в пыли, прислоненный спиной к блеклой стене, вытянув вперед непослушные ноги, склонив ослепшую голову. Я рванулась сквозь преграду заливших мои глаза слез – вниз, к нему, к его пульсу, к страху, к ужасу, льдом раскатившемуся по телу. Я не чувствовала, не понимала, есть ли еще жизнь в этом сухом и твердом остове. Я закричала: «Help!» и повторяла это слово столько раз, сколько понадобилось для того, чтобы темные взгляды мужчин, взгляды неприятия и отторжения, приблизились и, не меняясь в выражении, обратились все же в сторону Старика. Он был поднят многими руками одновременно. Все удлиненные мусульманские пальцы мира и все пухлые бронзовые, протянулись к безвольному телу. Все крепкие мужские мышцы, прикрытые смуглой кожей, напряглись под малой тяжестью тела русского старика, невесть как забредшего в чужие дали. Нежно запели муллы с миллиона минаретов. Завертелись нищие суфиты, подняв движением знойные пески пустынь, сквозь которые густой толпой потянулись паломники к Каабе. Люди безучастно совершили деяние помощи, чужая ноша была помещена в крытый синий грузовик и доставлена на границу. Сумка Старика, перекинутая наискось через грудь, содержала в себе никем не тронутые бумаги с отметками пересечения границ, и деньги, и банковскую карту, и ампулы, и шприцы. В Маэ Саи нашелся врач, который за небольшую плату измерил давление, послушал сердце и сделал необходимые внутривенные инъекции.
Я вела джип медленно по горной тропе, считающейся здесь полноценной дорогой, меж поглощаемых вечерним временем зеленых стен, то забирающих резко вверх, так, что кажется, сейчас скатимся обратно, то устремленных отвесно вниз, и темный мой Нага был теперь тих и послушен. Он улегся мирными кольцами и изгибами и, кажется, даже дремал, не мешая мне неспешно скользить по его кроткой спине, не тревожась, не опасаясь внезапного подвоха. Но я никак не могла отвязаться от единственного вопроса, монотонно пульсировавшего во мне: спит ли Старый там, лежа на заднем сиденье, или просто молчит сурово, не желая хоть как-то реагировать на мое присутствие, на мой поступок, помешавший ему распорядиться собой по собственному усмотрению. Он хотел убежать от меня. От всех, и от меня в том числе. От всего, и от меня в первую очередь. Я помешала ему. Я изуродовала замысел, я испоганила режиссуру.
– Что же ты думал, тебе удалось бы остаться там, среди цветущих опиумных маков и алых, как маки, монахов? Ты шел туда, к полям дурмана, к людям, которые ищут Истину в сладких дымах? Там ты решил найти свое счастье? Или ты надеялся прорваться, минуя блокпосты, сквозь полстраны к Баганским ступам, к россыпи веками разрушающихся храмов, чтобы лечь в тысячелетнюю пыль несметных пагод, смешаться с ней и обратиться вместе с ними в великий прах времени? Или, может быть, ты направился в древнюю Мьянму только для того, чтобы дорогой на Мандалай, как Редьярд Киплинг, по долине Иравади, в длинной лодке-сампаме через озеро Ингле, по прозрачным водам его, кишащим рыбой, оставив позади призрачный Ин Дейн и великий Баган, уйти в Индию, не спускаясь к Андаманскому морю, сквозь территорию Бангладеш прибыть к Гангу, в Варанаси к мифическим и живым дельфинам и обрести там великий конечный покой? Но ты не индус! Тебе не надо было стремиться в Беранесе! Это город для иных смертей, для чужих иллюзий. И разве ты не знал, что в Мьянме нельзя передвигаться по своему усмотрению?! Ты не знал, что во многие части ее закрыто наземное передвижение? Ты не хотел помнить, что пути этой страны недоступны для желающих праздно шататься по ее просторам. Или ты стремился получить если не пулю, то тюремное заключение? Что ты знаешь о Мьянме? Что ты знаешь об этих индокитайских законах жизни? И даже о тайцах, что знаешь ты?!
Я кричала на него, пока он смотрел на темную резьбу шкафа, на деревянных слонов и коричневые пальмы, на гнутые ножки, отраженные в холодной поверхности пола нашего старого дома в благословенном Чианг Мае, и не могла остановиться.
– Ты надеялся на то, что в Бирме плохая связь, не работает роуминг, некудышный Интернет? Ты еще не знал, что мне вся эта дрянь цивилизации не нужна, что мне дана та привязанность к тебе, которая удержит нить, пробьет неведение, поможет нащупать единственно верное решение. Я неминуемо отыскала бы тебя. Ты не можешь меня покинуть, потому что я не могу тебя потерять. Не умею. Даже если бы я захотела, даже если бы я попыталась оставить тебя наедине с твоими желаниями, что-то мощное остановило бы меня, не дало бы отвлечься.
А может быть, я не кричала? Может, я шептала все это солеными распухшими губами, дрожащими и некрасиво кривящимися в плаче, когда слезы не желают кончаться, потому что их скопилось столько, что негде больше хранить? Или я и не шептала этого?
Может быть, это не я, а он говорил о другой земле, в которую шел? О стране Бенгалии, что тонет в вечных муссонных хлябях и разливах Ганга и Брахмапутры, о тончайшем стодвадцатикилометровом песке Кокс-Базара, в уже исчезающем под водами океана Читтагонге, не путать с Чаттанугой, куда докатываются отголоски таяния гималайских снегов? Напиться влаги, пронизанной мышьячным ядом, коим полна та секретная земля, и уйти в мангровую заросль с водяной лилией-шаплой в левой руке, без памяти о былом, без мыслей и тьмы в его седой, уставшей голове. Не этого ли он хотел? Не искал ли он выхода в вечность через воды утопающей страны, не желал ли он раствориться в сострадании к людям, которым суждено миллионами гибнуть в стихии их локального и неминуемого потопа?
– Мне намного лучше. Через час уколешь меня, и спать. А пока окунись в бассейн или прогуляйся за сладким. Я побуду один. Хорошо?
Куда ты двинулся, Старый? Ты надеялся уйти в ничто?
– И, Сандра, продли аренду джипа. Не надо больше гонять на скутере. Не надо больше прятать скутер от меня. Джип надежнее. В нем как в танке. Не надо, слышишь? Не заставляй меня нервничать. Это серьезно. Я потерял в жизни двух очень важных для меня людей. Потерял на дороге. Больше не хочу.
Мгновенно всплыли Мадам и Одалиска. Такие милые, такие женственные, они стояли в обнимку в нашем чиангмайском доме, рядом с индийским волнообразным комодом, на его золотисто-бордовом фоне, и их нежные линии множились мельчайшими отражениями в зеркальцах гнутой окантовки. Они благожелательно смотрели на меня, одна прозрачными, другая мутными и темными глазами, и улыбались. Меня так и подмывало заорать: «Потерял?! Жену и любовницу? Скопом? В одном авто? Кто из них был за рулем? Или это было такси? Конечно же и ни одна из них не виновата! Зато какой узел был разом развязан прокуренными таксистскими руками! И для тебя, Старый, и для твоего друга-художника, который, судя по портретам, глубоко увяз в ситуации. Но Одалиска была к нему равнодушна, Одалиска не отвечала живописцу взаимностью, лишь принимала его восторги, позировала, отдавалась, но не до конца, всегда оставляя горькое послевкусие недосказанности. Она была влюблена в тебя. Или в твою невообразимую, породистую балерину, законную королеву, супругу? Или в обоих вас разом? В ваш союз, в ваше ни с чем не сравнимое счастье?»
Дамы продолжали заманчиво мне улыбаться, все мягче срастаясь в единое целое. Незаметное глазу, но внятное движение преобразовывало два их таких разных тела в единый цветок с разновеликими сочными лепестками. Кремово-бордовый ирис, лиловая орхидея или сапфировая клитория раскрывала свое сладко улыбающееся пахучее чрево в глубине прихотливых оборок.
«Нет, это был не таксист. За рулем был ты. Верно? Верно! Но возмездия в виде хотя бы условного срока не последовало: тебя спасли деньги сына, как всегда. Деньги сына, которого ты презираешь. Ты намеренно угробил двух своих повелительниц?»
Я не произнесла всего этого вслух, я, все еще молча, стояла в дверях маленькой гостиной, ждала, когда он договорит.
– В рейсовый междугородний автобус врезался грузовик. Почти все пассажиры остались живы. Погибло только два человека. Обе водили машину, но был сильный гололед, обе в этот день решили не рисковать. Они даже не знали, что едут в одном автобусе. Одна сидела на первом сиденье, другая – в самом конце салона. Ехали из разных точек маршрута, одна уже дремала, когда вторая зашла в автобус через дальнюю дверь. Такое совпадение.
Почему-то именно теперь мне пришло в голову сопоставить: Ярославу сейчас за тридцать, должно быть, даже ближе к сорока, а женщина с прозрачными глазами и прямейшей спиной, женщина, погибшая год, ну, может быть, два года назад в этой аварии, на фото, там, на столе, в верхней комнате дома, потонувшего в саду, выглядит если и старше Ярослава, то ненамного. Значит, у Старика была первая жена, мать Ярослава. Нигде ни одной фотографии. Жива ли она? Будто услышав мои мысли, Старик продолжил:
– Мать Ярослава ушла задолго до этих историй, когда сыну было пять. К стоматологу-протезисту. К денежному, упакованному, понятному. К надежному, как она говорила, «без фантазий», без библиотеки, но с «Волгой» и хорошей квартирой. Женщина с претензиями, имя сыну дала по тем временам «особое», «крутое», так и вырос «крутым». Воспитывали бабки – ее мать и моя, по очереди. Одна звала Яриком, другая Славой. – Старик помолчал недолго, подумал, сгреб лицо в улыбку: – Надо потихоньку собираться. К морю, на юг. Позвони Владу, пусть поможет погрузиться, проводит.
18.
Я складывала вещи, которых оказалось столько, что Владу пришлось сгонять за дополнительной сумкой на рынок. В клетчатую, китайского производства «мечту оккупанта» среднего размера, какие теперь можно встретить в любом конце мира (и почему ее так называют русские?), легли вышитые покрывало и наволочка, расписные блюда, бронзовые пузатенькие фигурки Будды смеющегося, настольная лампа с индуистской латунной барышней топлес со сложенными в вай руками в основании, мои новые юбки из натурального шелка, пашмина, украшения ручной работы, другие безделицы. Параллельно укладке чемоданов шла беседа с Владом:
– Хорошо, а откуда изначально взялись эти несовершенные души, которые должны пройти круги Сансары, просветлиться и попасть в нирвану?
– Дорогая моя Курупита, на этот вопрос нет ответа. Ты же не будешь интересоваться, откуда взялась куча мусора перед входом в твой дом, а станешь ее убирать с пути, верно?
– Ну почему же, меня очень заинтересует, кто и зачем эту кучу устроил именно под моей дверью, сделано ли это специально или это просто хамство человека, которому безразлично чужое неудобство…
– Что тебе дадут ответы на эти вопросы? Помогут ли убрать мусор? Нисколько. То, что ты понимаешь необходимость уборки, куда важнее. И еще способ уборки, как правильнее это сделать, важно понять. Вот эта уборка и есть медитация.
– Медитация – это приглушение, притупление мыслительного процесса, уход от действительности. Так? Но мы и так притуплены, «построены», нами и так управляют всячески.
– Курупита, человек должен управлять собой сам. Должен уходить от этого мира управы, суеты, пустоты. В медитации человек способен соединиться с высшими законами, влиться в них. Это ли не совершенствование, научиться соединяться с чистой энергией, научиться уходить от пустых желаний, стремлений?! Будда не отвечает на вопросы о первопричине и цели мировых страданий, Будда учит тому, что именно и как надо делать, чтобы понять истинную суть бытия. Начало – тайна. Ибо знание этого не способствовало бы уничтожению похоти к богатству, к сладострастию, не вело бы к упразднению тленного. Человек должен отказаться чувствовать, чтобы не желать.
– Умереть?
– Нет же, ты прекрасно понимаешь, что смерть не ведет к совершенствованию: умрешь, снова вернешься. Ты же в круге сансары, он не имеет конца, покуда не вырвешься из него, духовно просветлев. Алчность к счастью – ничтожная иллюзия.
– Да, мы алчем счастья. Это бесспорно. Но просто невозможно представить себе, как от этого можно отказаться! От желания счастья, любви, радости! И еще: если начало – не просто скрываемое нечто, если действительно отсутствует начало, значит, отсутствует творец и его замысел? Или отсутствие начала предполагает отсутствие конца? То есть это и есть бесконечность? – От такого открытия я была вынуждена присесть, отложив несессер с купальными принадлежностями.
– Ну вот, продолжи логическую линию и всё уложится. Дух начинает свой путь. Не имея никакого опыта, нарабатывает его в воплощениях. Опыт ошибок и опыт поиска. И пока сам не откроешь путь, не вживешься в абсолютное понимание единственности спасения, будешь возвращаться и возвращаться.
– У меня голова начинает кружиться. Я как-то широко вдруг это увидела. И страшно от того, что придется к этому пониманию прийти, что это неизбежно. Страшно! Вот как далека я от Истины! Я не просто не понимаю, я не хочу этого понимать! Я не хочу такого закона! Не хочу просветления, если оно таково, если надо отречься от земной красоты. От счастья.
– Курупита, счастье – там. То, что ты испытываешь здесь – его подмена, иллюзия. Ты пока – сырье, не отчаивайся. Придешь еще раз сто сюда, тогда захочешь освободиться. Надо подвергать себя испытаниям. Вот ты же отказалась за меня пойти и за мной в мусульманство.
– Слушай, прекрати. Не возвращайся к этой ереси. Чушь какая-то. И не зови ты меня этой Курупитой. Пожалуйста. Тебе что, нравится это дерево? Ладно, сегодня ты всё равно как-то более приемлем. Хотя тоже – вечно ты где-то, не здесь.
– Потому что я мыслю. Ради этого живу, двигаюсь, ищу. Курупита – дерево, которое растят в монастырях. Цветет потрясающе. Ты такое же цветение, сочное, нежное, хрупкое и мощное одновременно. Но это ты – «не здесь». Ты о себе сказала. Что-то мешает тебе жить. Очень. Мешает позволить тебе чувствовать. Как бы это сказать… да просто ты боишься влюбиться. Ты придумала себе что-то, какое-то табу. Я же вижу, что просто придумала. И подчинилась этой своей придумке. В твоей жизни что-то случилось… особенное?
То, что я выпалила теперь, ничем не оправдывалось. Совершенно ничем. Не принимать же всерьез то, что этот парень, во многом наигранный, считающий себя интеллектуальным мачо, большим оригиналом и красавцем, был мне, вопреки всему возможному, симпатичен?! Так или иначе, я вдруг сказала. Мне казалось, я говорю быстро, кратко, но медленно, тягуче звучал мой голос:
– Мой парень погиб. Первая любовь. И единственная. Просто упал со старой гнилой лестницы в сад. Перекладина подломилась. Виском ударился о камень. Этого хватило, чтобы умереть. Я нашла его тело теплым, но сразу поняла, вот – смерть. И всё.
– И что ты себе придумала дальше? Какие запреты, какие преграды? Пока мы здесь, надо жить. Ты же не покончила тогда жизнь самоубийством. Значит, живи. А если пока не можешь, если боль слишком велика, медитируй. Пойми, это – путь. В нем много отречения, но не отрицания. Совершенствоваться трудно, но продвижение того стоит.
– Так и подмывает тебя спросить кое о чем… может, не совсем…
– Спрашивай, меня обидеть невозможно.
– Самая глупая на свете фраза. Если человек не обижается, значит, он ненормален.
– Нет, значит, он буддист. Он выше. Он уже сделал шаг.
– Продвинутый буддист, который хочет жениться и перейти в мусульманство!
– Буддизм – это не религия. Буддизм – для всех. Буддизм не отрицает заблуждений. Религия – такое же заблуждение, такой же соблазн, иллюзия, как и всё в сансаре. Надо пройти через – и преодолеть.
– Господи, ты серьезно об исламе?
– Всё, что я говорю – серьезно.
– Сам себе противоречишь! То живи, то совершенствуйся через отречение. Если ты такой продвинутый, что ж сам-то не убиваешь в себе похоть, зачем мускулы качаешь, сережками украшаешься?
– Я только на пути. Путь долог. Поговори об этом со своим дедом. Мне кажется, он многое понимает.
– Да не дед он мне! Что ты всё «дед, дед»?!
– Любовник?! – От неожиданности Влад даже приподнялся от чемодана, который пытался застегнуть на последнюю, сломанную защелку.
– Господи, какой же ты дурак! Честное слово, тебе еще очень далеко до нирваны, до высшего блаженства.
– Нирвана – не блаженство. Нирвана – не покой и не движение, не свет и не тьма, не пустота и не заполненность. Нирвана не то и не то. Нирвана ни с чем не имеет общего.
Синий камень
Длинными коридорами памяти я бегу к Синему камню.
Дорога, чуть скрытая скудным в ту зиму, разъезженным снегом, долгим хвостом прямела то между чахлыми лесками, то посреди густых сосновых угодий. Мы миновали Переславль-Залесский, после Никитского монастыря направились к северо-восточному берегу Плещеева озера. Позади, на полотне заката лежали белосахарные церкви и монастырские допетровские стены, где чудотворные вериги мученика подвисали тяжелым бременем для грешников и парили во славу людей праведных. Впереди же, после нескольких извивов пути, плоско и широко раскидывался и угасал в сыром, неуютном воздухе лед. Соскользнули ненадежными подошвами по льдистому пригорку в низинку, прошлись по мосткам. Оглянулись на высоченные стволы черного хвойного бора на, казалось, недалеких холмах. Простор качнулся, обманул расстоянием.
Большой, метра два в длину, исцеляющий хвори камень, стальной, с действительно синеватым отливом, пучился недалеко твердой глыбой, холодел в зябком, скором вечере. Приникнуть к нему всем телом, распластаться, обнять, втиснуться, слиться, втянуть его мощь, напитаться силой, вместе с январским промозглым холодом и покоем; вживить в себя что-то потерянное, утраченное моим телом, что-то важное и теперь почти чужое. Умение жить. Простое свойство организма – надежно работать. Мне нужен механизм, способный изгнать кардинальный сбой. Нет. Ошибка. Камень не может изгнать: только дать. Что? Силу сопротивления? Дай! Поздно? Дай! Поздно?! Как? Почему?
Коридоры, долгая геометрия повторяющихся оконных проемов без рам. Стылый объем за ними. Серая неприступность, непроходимость. Однообразие, неизменность, тошнота, тошнота, середина выворачивается, тебя выкручивает как ветхое белье, плохо стираное изношенное белье, вывернутое наизнанку, проворачивается в сломанном барабане старой, малофункциональной машины. Бессилие, однообразие попыток, обреченных на нулевой результат. Зачем? Так надо. Так делают все, кто вовремя узнает диагноз. Беги! Дистанция без метража, не на время. Просто беги, может быть, добежишь. Цель. Где она? Ползи. Окна без рам, плотная стынь за ними. В сыром пространстве много серого белья по веревкам. Без прищепок. Ветра нет, белье застывает, вздыбленное почти параллельно полу, двору, земле, нет, катку, льду, залитому для катания на коньках. Лёд вздыбливается параллельно белью. Лёд сер, белье серо. Всё вздыблено к серому небу.
Желание спасти свою жизнь естественно. Долго мытаришься в поисках исцелений, панацей, чудес, пока не придешь к осознанию бесполезности борьбы с судьбой. Тогда вдруг, как озарение, является покой. Ясность. Ты не сдался, не испугался, не опустил руки, но узрел необходимость. Сумел принять. Примирился. Тогда ты вновь едешь к Синему камню, вновь ложишься, обнимаешь его теперь уже летние теплые бока среди подвытоптанной людскими ногами травы и благодаришь за открывшуюся тайну, колодец без дна. За прозрачную бездну, данную навсегда.
18 (продолжение).
После того как мы прибыли VIP-классом в Паттайю, Старик пролежал в постели три дня, не позволяя раздергивать плотные шторы, только чуть впуская солнце, и часто, но ненадолго, включая кондиционер. Я не уходила в свой рум, стелила себе на ночь в гостиной его просторных апартаментов, боясь оставить его без присмотра, чувствуя тяжесть его дыхания даже сквозь сны, в темноте которых опять гуляли верблюды и фламинго, мельтешили ночные крылья, крутились дервиши, вонзались в пухлое небо звезды, вкруг величавой царицы плыли лица бесполых существ и всех остальных, таких знакомых и давно уже близких.
На четвертые сутки Старик почувствовал себя лучше, ночевать отправил меня на мой этаж, утром позвонил и попросил сварить кофе.
Я бросила в кофемолку горсть душистых и жирных зерен, прожужжала их с минуту, пересыпала кофе в турецкую медную, всю в яркой росписи джезву, видимо, оставшуюся здесь от предыдущих постояльцев, сдобрила щепотью соли, смешанной с перцами, корицей и лимонной сушеной травой, залила холодной водой из бутыли. На черном стеклянном кружке плиты джезва пошептала и утихла. Плотной аппетитной пеной поднялась шапочка над узким горлом, расцвела черными жемчужинами пузырьков.
Мы выпили по чашке кофе без сахара, я переняла у Старика эту привычку, научившись наслаждаться оттенками вкуса, не испорченного сладостью, и спустились на лифте в утреннюю жару. У входа в кондо из большого короба убого темнела синтетическая рождественская елка, остаток прошедшего праздника, давно освобожденная от шаров и звезд благодаря стараниям просвещенного камбоджийца Б о. Заготовленные хозяйкой игрушки и гирлянда разноцветных лампочек торчали из коробки с тайским шрифтом.
– Всё для постояльцев… Представляешь, Сандра, если бы где-нибудь в Европе staff на пороге отеля для азиатов обливались водой в апреле, в честь тайского Нового года?
Мы двинулись в сторону пляжа, до которого рукой подать, только пересечь улицу. Я поддерживала Старого под левый локоть.
– Будешь плавать? – Старый наклонил голову, улыбнулся чуть сверху и задержал взгляд на моих глазах. Через его плечо, слегка повернутое ко мне, я увидела молодое смуглое лицо под красным блестящим шлемом и скорость, с которой оно надвигалось на нас. Скутер мчался справа, как положено в Тайе. Я сделала малый шаг назад, на тротуар с проезжей части. Я отступила. Старый остался на месте. Я отпустила локоть. Лицо под шлемом кратко отклонилось от предначертанной траектории, которая через секунду выровнялась, оставив позади лежащее на горячем асфальте, в полушаге от тротуара сухое старческое тело.
И я почувствовал, как девять совершенных в своей округлости чатр над моей головой, каждая, состоящая из девяти усыпанных колокольцами зонтиков друг над другом, позванивая и сверкая, ввинчиваются в небеса, обретая образ спирали, сотворенной из нимбов, из единого нимба, стремительно вкрученного пружиной в вечность. Я увидел нескончаемую вереницу Будд с пустыми выпуклостями не обремененных мыслью глаз, ибо познавшему всё не о чем размышлять.
И еще сотню раз Сандра отступила на шаг. Еще сотню или тысячу раз она чуть согнула колено, нога сделала легкое движение назад, носок ее сабо тронул замаранный липким фруктовым соком тротуар, тяжесть тела переместилась, приподнялась вторая нога, пальцы правой руки отпустили локоть старика. И сотню или тысячу раз Старик остался на своем месте, не двинулся, лишь проследил улыбчивым взглядом за ее глазами, несущими в себе решительный холод и прощание. И в его взгляде возникло ответное прощание, и прощение, и благодарность. Сотню или тысячу раз. Всякий раз это было бы точно так же.
Сандра наклонилась над Стариком совсем низко, приникла к груди, слушая замедляющее ход сердце. Прижалась губами к еще теплой коже. Эта физическая субстанция, отслужившая и ненужная, еще удерживала энергию.
Розовые фламинго, полоща тяжкими крыльями, заполнили воздух, опуская тела к земле, накренили тиары понтифики, двинулись во вращении против направления солнца дервиши, ввинчивая в воздух белые свои широкие юбки; тысячи ликов Будды, тысячи его застывших золотых улыбок и клубы лепестков, собранных ветром с отцветающих дерев, приблизились и поплыли вместе с ними в густом воздухе Паттайи; брызнуло в малых взрывах стекло – разорвался пар в ретортах знатоков; погасли костры еретиков под ураганным космическим выдохом; единовременно пробудились и зазвучали внятным хором все ангельские языки, открытые королевским магом; жирафы с детенышами и белые буйволы, ведомые водой, по колена в лотосах, крупные желтоклювые и маленькие синие птицы перелились из реального бытия в зримое, но не осязаемое пространство времени. Потекло и загустело их движение, их жизненные теплые силы разлились в вечере, вместе с грозовыми раскатами и мерцанием близких звезд. Луноликие лаосские принцессы, водруженные слугами на узорчатые спины слонов, защищенные от медного солнца расписными широкими зонтами, мерно качнулись в такт слоновьего шага. Монгольские и бурятсие жены с прическами в виде рогов, усыпанных кораллами и бирюзой, в звоне серебряных колокольцев засеменили к коням. Полуголые укротители африканских львов запалили факелы и, управляя ногой веслом, поплыли по зеленому стеклу озера Ингле ловцы заходящего солнца. Среды, все до одной, поделились на два дня восьмидневной недели, и воскресный ветер опять принес запах курупит. Прошелестели ливни в джунглях и где-то далеко стекли мышьяковыми водами в отравленную горькую землю, ушли в сторону океана, распластанного вдоль негасимого горизонта. Ни Царицы, ни Красильщика, ни Матери с сыном, ни Элзы и Дана, ни Мальчика, ни Тины и Роберта, ни даже Мадам с Одалиской – никого из ожидаемых Сандрой не было. Жизнь придвинулась и отстранилась, оставляя простор для болезненного и неотвратимого волшебства.
Ничего не надо было делать. Ничего не следовало искать опытным путем. Попусту, бессмысленно убивали время в лабораториях в надежде на откровение тамплиеры и иллюминаты, масоны и розенкрейцеры. Зря. Всё зря. Секрет Гермеса Трисмегиста не был разгадан. Только Леонардо понимал всю тщетность, всю безответную глубину, непостижность тайны, скрытой от человека. От человека нормального. Даже самого мудрого, но нормального, созданного Богом.
Следовало возникнуть гибриду. Гибрид обретет любовь. Вне сексуальности. Выше нее. Эта любовь, ее материальное воплощение – третья личность – в смерти своей и станет окончательно преобразующей тканью.
Сандра оставила тело Старика. Голова кружилась. В скрученность двойного сознания вплетался еще один жгут, крепкий, самовластный, способный поработить. Сандра не сопротивлялась, пусть свершается то, что было предписано изначально. Пришлось встать, закрыть глаза и справиться с внезапной слабостью.
Вот и всё.
Сандра обратилась к молодому худенькому парню в шлеме и черной форме, что так горд своей работой регулировщика у отеля «Фурама», попросила разобраться с вызовом полиции и скорой помощи и с толпой зевак, сбежавшихся на событие. Она была ровна. Она дождалась машины с полицейскими, сообщила, что знает погибшего человека, потому что живет с ним в одном кондо, поинтересовалось, в морге какого госпиталя будет находиться его тело, и пообещала сообщить о случившемся кому следует в Россию. Само собой разумеется, никто не собирался искать парня на байке и вообще разбираться в подробностях.
Сандра добрела до своего рума, соединилась по скайпу с Ярославом, не включая видеосвязь: ей не хотелось, чтобы через экран вплыли к ней его секретарши и челядь, его золоченая классицистская мебель, устрашающего вида джип и перетекание линий автомобиля жены, его горные лыжи в комплекте со снаряжением, его яхта, его мысли и спесь, – и доложила о случившемся.
– Отец на секунду замешкался? Ясно. – Последовало молчание, в котором не было ни удивления, ни досады.
– Вы знали, что у него рак? – спросила Сандра.
– Да. Поэтому и субсидировал поездку. Так ему было легче. Интереснее.
– Интереснее… – повторила Сандра. – Куда уж… Почему не предупредили меня? Впрочем, ваше право не отвечать. Я уезжаю из Паттайи сегодня. Через час.
– Я оставлю на карте деньги за вашу работу. Три тысячи евро хватит?
Сандра поднялась в рум старика, забрала наличные деньги и его ноутбук, вернулась к себе, приняла душ, сбросила в чемодан необходимое, спустилась на лифте.
Во упаковал и заклеил скотчем короб с ёлкой, но коробку с игрушками оставил приоткрытой, и теперь развлекался тем, что то зажигал, то гасил лежащие сверху огоньки, уставясь на них без мысли. Сандра оставила ему оба ключа и написала имя и фамилию человека, который приедет и поживет в комнатах.
– Everything is paid in a month forward. That person, who will come, is the son of that old man, you know, – стараясь подбирать простейшие выражения, объяснила Сандра ситуацию.
На Тапрайе, возле автовокзала, она взяла такси до Бангкока и попросила доставить ее в какой-нибудь не слишком дорогой отель. В номере с окнами на реку подключила ноутбук Старика, вставила флэшку со своим «Дневником размышлений» и сбросила всё, что писала эти месяцы, в папку, помеченную Стариком как «Зарисовки». Первым абзацем оказалось следующее: «Основные герои – Сандра и Старик. Два С. Если один из знаков повернуть и наложить их друг на друга, или совместить отражения в зеркале, получится 0 – одновременно ничто и нечто – бессмертие, пустота или безграничная глубина. Если совместить два S латинских, увидится восьмерка – знак бесконечности».
Далее следовало:
«Тинктура способствует свершению магического действа, которое ведет к просветлению, перерождению уже двойственной девы в абсолютное НИЧТО. Распад и рождение нового трансцендентного продукта».
И ниже:
«Высшая любовь. Герметическая свадьба. Союз двух начал. Тинктура».
Прочитав то здесь, то там с десяток страниц, она перестала понимать, где чьи строки. Временами она отчетливо вспоминала, когда было запечатлено ею то или иное событие, но тут же наталкивалась на то, что обстоятельства этого не могла знать. Или, уверенная, что эпизод записан Стариком, вдруг осознавала, что это ее личное размышление. Она видела, что местами, там, где повествование идет от лица Старика, явно писала Сандра, а то, о чем говорит Сандра, мог написать Старик. Стиль колебался. Но все включенные в основное повествование новеллы, так или иначе, касались волновавшей ее темы. Некоторые эпизоды, казалось, принадлежали вообще кому-то третьему, возможно, Мадам. Или Одалиске. Но тут же Сандра отказывалась от этих мыслей, ибо точно прочитывала свои личные впечатления, хотя происшествия вновь казались ей незнакомыми. Еще через полчаса чтения Сандра окончательно потеряла способность разделять, всё слилось воедино, и написанное воспринималось ею теперь как монолитное повествование, требующее лишь некоторой редактуры. Порой она делала легкие исправления, добавляла строки, перемещала эпизоды. Сознание ее мутилось, слабость заставляла дрожать мышцы, усилием воли она удерживалась перед ноутбуком, желая дочитать историю до конца.
…Усталость отступила, мысли очистились, словно небо после сильного ветра. Ясность сознания достигла предела. Только холод и прозрачность. Одновременно память четко выдала несколько абзацев из ранее читаного.
«…С точки зрения физики между живыми организмами и безжизненными скоплениями атомов углерода есть одно существенное различие: первые гораздо эффективнее аккумулируют энергию из окружающей среды, рассеивая ее в виде тепла. Этот процесс называется диссипацией энергии. Ингланд, одинаково компетентный в биохимии и физике, вывел уравнение, объясняющее способность живого организма к диссипации. Когда группа атомов получает энергию от внешнего источника (им может быть солнце или химическое топливо) и находится в теплой среде (например, океане или атмосфере), она будет постепенно реорганизовываться, рассеивая все больше и больше получаемой энергии. Это означает, что при определенных условиях неживая материя начинает приобретать ключевой физический атрибут живой…»
«…Алхимическую эволюцию можно выразить кратко формулой Solve el Coagula, что означает: анализируй все элементы в самом себе, раствори все низменное в тебе, даже если при этом ты можешь погибнуть, а затем концентрируйся с помощью энергии, полученной от предыдущей процедуры…»
«…Алхимию можно рассматривать как образец всех других дел. Она показывает, что добродетели можно культивировать при любых, даже простейших видах деятельности и что душа укрепляется, а индивид развивается».
«Наша работа представляет собой трансформацию и превращение одного существа в другое, одной вещи в другую, слабости в силу, телесной природы в духовную…»
Мертвая (неорганическая) и живая (органическая) материи соединяются под воздействием третьего компонента – энергии.
Формула сложилась.
Обрела плоть в цифрах и знаках. Просияла. Красивая в своей абсолютной завершенности формула. Согласование соединения живой и неживой материи, взаимоперерождения органической и неорганической сущностей состоялось.
От начала до конца, целиком, подробно увидела формулу Сандра и принялась вырисовывать ее красным фломастером по листку, подвернувшемуся под руку.
Излучение
Вдоль рекламных страниц и меню местного ресторана, что валяются в каждом руме.
Иная субстанция
Цифры и знаки, брошенные поверх тайского и английского шрифтов, становились темнее и ярче.
Материя-абсолют
Последний знак уместился в правом нижнем углу.
Небесная рыба, покрытая звездной чешуей, плыла по Вселенной за звуконепроницаемым стеклом отельного рума.







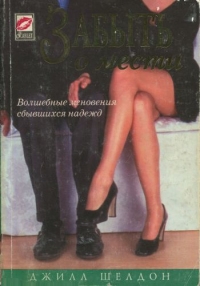




Комментарии к книге «Ярцагумбу», Алла Александровна Татарикова-Карпенко
Всего 0 комментариев