Часть 1
Девятый день
«Следующая станция…» — объявляет голос ниоткуда мою остановку, и я делаю два шага в сторону двери, скользя ладонью по никелированной палке под потолком вагона. На палке микробы и бактерии — возбудители всех известных болезней от чесотки до СПИДа. Эта мысль приносит мне облегчение. У меня есть шанс неизлечимо заболеть и покончить с существованием, лишенным смысла.
В грязном стекле отражается перечеркнутый надписью «Не прислоняться» смутный женский силуэт. Мой силуэт. Мне неприятно смотреть на него, и я отвожу глаза. Прислоняюсь спиной к запрещающей это надписи, обвожу взглядом вагон. Народу не то чтобы много, но почти все места на кожаных диванчиках заняты.
Лица пассажиров в свете ламп сероватые и нездоровые, глаза равнодушно смотрят перед собой или уткнулись в какое-нибудь чтиво. Все выглядят обособленными и отгороженными друг от друга.
Только две юные особы в коротких ярких нарядах и смелом макияже оживленно разговаривают, сблизив лица, да пожилая женщина что-то внушает черноволосой девочке лет пяти, стоящей коленками на диванчике.
В вагоне чисто. Мне, коренной москвичке, приятно сознавать, что наше метро по-прежнему лучшее в мире.
Эта мысль на мгновение зацепляется за сознание и вызывает удивление. Удивляет появление положительной эмоции, да и появление эмоции вообще.
Сколько же я не ездила в метро? Пожалуй, года три. Тогда оно выглядело ужасно: грязь, наперсточники, торговцы, цыгане — не многим лучше кошмарной нью-йоркской подземки.
Три года. Почти столько же я не выходила из дома одна.
Страшно подумать, что я на это решилась. На что я рассчитываю? Что он не узнает? Конечно, узнает.
Если не знает уже. Ведь меня оставили одну не более чем на полчаса.
А может быть, я хочу, чтобы он узнал? Надеюсь, что он начнет кричать и я заплачу от обиды?
Наконец заплачу.
Я всегда легко плачу, можно сказать, люблю это дело. Но сейчас слез нет. Я не плакала в тот день. И ни разу потом. А ведь должна бы плакать, заливаться.
Не могу. Ни одной слезинки. Только сердце щемит и что-то душит, сжимает горло, мешая дышать и говорить.
Лица напротив сливаются в одну грязно-белую полосу. Медленно накатывает и отступает головокружение.
Я поворачиваюсь лицом к дверям, сжимаю пальцы на поручне, крепко, до боли зажмуриваюсь.
Не могу вдохнуть. Не могу.
О Господи! Помоги мне!
— Выходите?
Грубый голос демонстрирует готовность к скандалу. Локоть мне в бок, угол сумки в колено.
Спасибо, мадам! Вы помогли мне вдохнуть.
— Выхожу.
Будь благословенно московское метро! Здесь не размечтаешься, не распереживаешься, живо определят на место, вовлекут в заданный ритм движения. Вперед, вперед, вперед! Вынесли из вагона, пронесли к эскалатору, вынесли на поверхность, оттолкнули с дороги и бросили.
Теперь делай что хочешь, ты уже не часть толпы, не принадлежность метро, ты одиночка и сам за себя отвечаешь.
Вдоль реки, через парк, все время в горку, к белой ограде, виднеющейся среди деревьев, — почти забытая дорога.
Засинели церковные купола — вот я и у цели.
Прекрасен храм, прекрасен старый парк, и лица людей прекрасны. Люди неспешно движутся среди деревьев.
Какое счастье родиться русской в России! На мгновение забываю обо всем, стою и смотрю вокруг.
Кажется, мне стало немного легче. Но слез по-прежнему нет, и камень на душе давит и холодит ее.
У крутого церковного крылечка — на паперти — достаю из сумки черную косынку, покрываю голову и медленно поднимаюсь к открытой для всех двери.
Я стою под куполами в окружении икон, и горящих свечей, и запаха ладана, смотрю в прекрасные скорбные всезнающие и все понимающие глаза Богородицы и не молюсь.
Я не умею молиться. Ни родители-коммунисты, ни пионерско-комсомольское прошлое не научили меня этому.
У меня всего две молитвы: «Господи, помоги!» — для самого трудного, страшного часа и «Благодарю, Господи!». — для самого светлого и радостного.
Сейчас они не подходят.
По соседству идет служба. Слышится голос отца Николая — низкий, рокочущий, величественный.
Женщина моих лет и моей комплекции, в темном платье и платке, обнимает меня, и мы целуемся.
У женщины чистое моложавое лицо, умный, полный сочувствия ясный взгляд.
Мы с матушкой Ларисой выходим из церкви, делаем несколько шагов в глубь парка и садимся на пустующую скамейку. Молчим.
Ларисины маленькие натруженные ладошки бесцельно разглаживают юбку на коленях. Не глядя на меня, Лариса негромко говорит:
— А ведь она была здесь.
— Кто? — выдыхаю я, заранее зная ответ.
Ларисе пора возвращаться к своим обязанностям.
Мы прощаемся, я бреду по парку к троллейбусной остановке.
После разговора с Ларисой мне стало еще тяжелее.
Снова и снова донимает саднящее чувство вины и безответный вопрос «почему?». Почему меня не было рядом? Не было рядом в трудные минуты для единственного человека на Земле, который имел все права на меня?
Не помню, как ехала в троллейбусе, как сошла на нужной остановке. Медленно, едва переставляя ноги, тащусь вдоль проспекта по тротуару, к заветной девятиэтажке.
Вдруг что-то ощутимо толкает меня в спину. Один раз и второй. Не сразу включаюсь в действительность и оттого еще сильнее пугаюсь.
В ужасе оборачиваюсь и вижу блестящий капот, лобовое стекло и за ним ухмыляющуюся от уха до уха широкую лоснящуюся рожу.
Из последних сил сопротивляюсь накатывающейся панике, делаю рывок влево, понимаю, что успеваю отскочить, и краем глаза замечаю движение руки на баранке.
Машина виляет вслед за мной, нагоняет и сильным толчком скидывает в огромную лужу жидкой грязи, оставшуюся после многодневных дождей. Я падаю на спину, мои ноги дергаются вверх. Дверца машины раскрывается, и оттуда раздается глумливый хохот.
— Чего растопырилась, тетка? Надеешься, кто трахнет?
Все темнеет перед глазами. Я с трудом, помогая себе руками в жидкой липкой грязи, сажусь прямо и вдруг чувствую слезы, непрерывным потоком текущие по лицу.
Маленький хлопотливый человек, из тех, кто в прежние времена обязательно был бы тимуровцем, помогает мне выбраться из лужи, не боясь испачкаться.
Да, впрочем, и всей одежки на нем только легкие шорты и тапочки.
— Это Борька Сморчок! — Голос мальчика звенит от ненависти.
Он идет рядом со мной, крепко держит за руку маленькой жесткой рукой. Это очень взрослый человек. Он не боится, что сверстники будут дразнить его, увидев за ручку с теткой, с платья которой потоком стекает грязь. А может быть, теперешние мальчишки не дразнятся?
А мальчик говорит и говорит о Борьке Сморчке.
— Он ларечников на Котляковском продовольственном рынке пасет. Рэкет. Такой крутой, что ты!
Всегда к дому по тротуару едет, ему так ближе. И всех толкает.
Какое счастье, что мальчик рядом! Его добрая рука держит меня. Если бы не он, я бы, наверное, упала на асфальт и каталась бы, воя, пока не умерла.
Я не вижу, куда иду, меня колотит безостановочная дрожь.
Как-то мы все-таки добрались до заветной двери, она открывается, и Танька втягивает меня в квартиру.
Туда же заскакивает провожатый.
Танька — вдова моего брата, двадцать три года назад упавшего по пьянке с башенного крана, куда ему, по-хорошему, и лезть было незачем.
От моего братца Славика остался Таньке сын и мой единственный племянник — беспутный и обаятельный, весь в отца — Пашка, который уже десять лет после армии бороздит необъятные просторы Родины в неизвестном направлении, изредка появляясь и одаривая мать лаской и "Кучкой денег, иногда немалой.
Танька всю жизнь проработала на вредном производстве, в сорок пять ушла на льготную пенсию и теперь подрабатывает на продуктовом рынке ларечницей у хозяина-азербайджанца.
Мальчишка оказывается Таньке знакомым. Она называет его Денисом и, выслушав его доклад, берет швабру и стучит ею по стояку отопления в комнате.
Я помещаюсь на маленькой скамеечке посреди прихожей, истекая грязью и слезами. Рядом стоит, переминаясь с ноги на ногу, мой спаситель. У двери, положив ладонь на ручку, застыла Танька. Мы ждем, но все равно звонок раздается оглушительно и внезапно.
Танька рванула дверь на себя, и в прихожей появился еще один персонаж. После чего и без того тесное помещение стало напоминать кабину лифта в часы пик.
Рыжеволосая, ярко накрашенная, ярко одетая Милка в два раза выше и в два раза тоньше темноволосой Таньки. Стоя рядом, они представляют собой комичное, но привычное зрелище и смеха не вызывают.
А может быть, я вообще потеряла способность смеяться.
Милка прищуривает зеленоватый глаз и обводит нашу группу проницательным, как у следователя прокуратуры, взглядом.
Безошибочно оценив обстановку, старший советник юстиции Эмилия Владиславовна Дашковская выбирает того, от кого можно ждать максимальной пользы. Чуть приподняв выщипанную в ниточку бровь. Милка поощряюще смотрит на Дениса.
Денис толково излагает все, что видел, и в заключение воспроизводит финальную реплику моего обидчика.
Милка засовывает в ярко-красный рот сигарету и хорошо поставленным голосом потомственной интеллигентки характеризует господина Сморчка одним словом.
— Паскуда! — говорит Милка и начинает командовать:
— Ленку — в ванну, мне коньяку, Дениска — мыть руки и к столу.
Я с помощью Таньки стягиваю с себя платье, белье и опускаюсь в ванну. Танька заставляет меня встать и переводит воду на душ.
— Прими душ. Ванна займет много времени, — говорит она.
Я слушаюсь ее.
* * *
Когда мы выходим из ванной, выясняется, что пришли Лариса и Лидуня. Они заканчивают сервировку стола. Денис принимает в этом самое деятельное участие, снует из кухни в комнату и обратно, что-то носит.
Милка сидит у стола боком, закинув ногу на ногу.
Она выпила сколько-то коньяка, выкурила сколько-то сигарет, и мысль о мести «паскуде» полностью созрела в ее предприимчивом мозгу. Сообщение Таньки: «У нее (у меня) вся задница синяя» — подкрепило Милкину решимость.
— Так! — зловеще произносит она и при почтительном молчании окружающих берется за телефон. — Василек?
Милкин голос звучит ласково и, пожалуй, игриво.
Я вопросительно смотрю на Таньку. Та недоуменно пожимает круглым плечом.
Милка тем временем нажимает на телефонном аппарате кнопку громкого вещания, вовлекая всех присутствующих в разговор.
Я сижу на диване и кутаюсь в Танькин халат, стараясь унять дрожь, не утихающую даже после горячего душа. Сидеть мне больно. Задница действительно вся «синяя».
— Узнал меня? — кокетничает Милка.
— Узнал… — В хриплом голосе никакой радости.
— Чудненько!
Милка захлебывается от восторга и продолжает на той же ноте:
— За тобой должок. Помнишь?
— Ну.
Похоже, недовольный Василек жует лимон, настолько кислый у него голос.
— Есть шанс расплатиться. Хочешь?
— Что надо? — насторожился Василек.
— Тебе такое имя, Борька Сморчок, что-нибудь говорит?
— Много. — Василек явно оживился и даже пошутил:
— Но все нецензурно.
— Но тебе про него ведь интересно?
— Про него мне интересно. Буквально все. Каждая мелочь.
— Как тебе преднамеренный наезд на пешеходной дорожке, повлекший тяжелые телесные увечья и временную нетрудоспособность? Нравится?
— Мне нравится. Но покушение на преднамеренное убийство лучше.
Теперь голос нашего невидимого друга полон энтузиазма.
— Лучше.
Милка тоже умеет быть покладистой.
— А потерпевший есть? — озаботился Василек.
— Есть. Очень хороший. Вся задница — сплошной синяк.
— Чудненько! — обрадовался Василек и снова забеспокоился:
— А свидетели?
— Есть. Мальчик Денис Ярченко.
— Мальчик — слабовато, — расстраивается наш собеседник.
Неожиданно вмешивается Лидуня. Она кладет руку на Милкино плечо и кивает на телефон.
Милка снова переводит телефон в «интимный» режим, говорит в трубку:
— Подожди, — и вопросительно смотрит на Лидуню.
— Я в автобусе мимо ехала и все видела. Это во сколько было?
Денис, напряженно слушавший переговоры Милки с Васильком, раскраснелся от волнения. Подавшись в сторону Лидуни худеньким телом, он четко произносит точное время происшествия. Лидуня уверенно кивает.
Дениска смотрит на беленькую аккуратную Лидуню горящими восторгом влажными глазами и, весь напрягшись, сияя загорелым личиком, сжимая кулачки, выпаливает на одном дыхании:
— А вы какую машину видели, тетенька? Синюю «ауди»? А на полочке сзади лев меховой? Она с проспекта на тротуар перед телефонной будкой выехала?
Лидуня кивает на каждый из вопросов, и Денис сообщает Милке ликующим звонким голоском:
— Точно! Тетенька все видела.
Пришло время кивнуть Милке. Сделав это, она говорит в трубку:
— Есть и свидетели. Подгребай. Я у себя в доме, этажом ниже…
Милка вешает трубку и начинает задумчиво разглядывать Лидуню. Проходит несколько минут. Мы все невольно присоединяемся к процессу, и Лидуня принимается ерзать на стуле и стесняться. Ее веснушчатое лицо густо краснеет, а глаза наполняются слезами.
— Что? — нервно обращается она к Милке.
— Ты плохая свидетельница…
— Почему это? — обижается Лидуня.
— Ты из нашей компании. Это подозрительно.
— Что ж, если я из вашей компании, так не могла на автобусе ехать?
— Могла. Ребенок и подруга — слабо. Адвокат придурка нас размечет.
Мы все подавленно молчим. Пришла очередь Ларисы.
— Я тоже могу подтвердить…
— Что?
— Что я видела.
— А ты видела?
— Нет.
Она опускает русую, гладко причесанную голову.
— Врать — грех, — наставительно произносит Милка.
— Отмолю, — неуверенно шепчет матушка Лариса и под укоризненными взглядами окружающих окончательно тушуется.
Снова повисает молчание. Все выглядят подавленными. Моя дрожь становится все сильнее, я с трудом сдерживаю постукивание зубов. Лидуня садится рядом, прижимает меня к мягкому теплому боку мягкой теплой рукой. Другой рукой, просто ладонью крепко вытирает мое мокрое лицо.
Денис, как и все мы, лелеявший мечту о возмездии, напряженно морщит светлые бровки. Что-то надумав, он дергает Милку за рукав. Милка отводит глаза от стены и с надеждой смотрит на ребенка.
— Может, бабки… — не очень уверенно начинает мальчик, и в ту же минуту Танька, издав не то визг, не то вой, выносится из комнаты в прихожую.
Хлопает дверь. Оставшиеся недоуменно переглядываются, не зная, что делать, что думать и почему-то боясь задавать вопросы.
Раздался пронзительный звонок. Все остались сидеть. Звонок повторился, короткий, резкий и требовательный. Никто не встал.
Звонок звонит непрерывно. Денис под нашими взглядами направляется к двери. Лариса идет за ним.
Ее руки приподняты над мальчиком в защищающем жесте.
Мы с Лидуней перестали дышать.
— Вы чего, оглохли? — возмущается, вломившись в квартиру, Танька. — Я дверь захлопнула, а ключ не взяла! Вот Софья Васильевна. — Танька выталкивает вперед низенькую полную старуху со значительным лицом. — У нее окна на проспект выходят. Она у окна сидела сегодня весь день, почтальона с пенсией ждала.
Она все видела.
Старуха значительно кивает и значительно поджимает губы.
Танька усаживает новую свидетельницу. Все остальные тоже облегченно рассаживаются и начинают молча ждать очередного звонка в дверь.
* * *
В квартиру вкатился кругленький, лысенький и предельно энергичный майор Василек в сопровождении усталого парня лет тридцати в несвежем белом халате.
— Во! — победно заявляет Василек, не здороваясь. — Участкового врача поймал. В лифте. Он травмы опишет. И факт подтвердит.
— Я про Сморчка чего хочешь подтвержу. Он сволочь, каких мало. Бычара безмозглая. Рэкетир хренов. Ублюдок!
Присутствующие дамы с почтительным вниманием слушают врача. Заметив это, парень поперхнулся и смолк.
Помолчал и закончил, извиняясь, тихо и печально:
— Позавчера Клавдию Владимировну госпитализировали с обширным инфарктом. Она у меня в школе географию вела.
— У нас тоже, — сурово говорит Милка. Мм все киваем. И Василек кивнул. И Дениска.
— Из-за паскуды Сморчка.
Врач сел к столу, взял сигарету из Милкиной пачки, по-свойски, не спрашивая разрешения, долго разминал, глядя на нас больными карими глазами.
— Она с собачкой гуляла. Так эта сволочь заехала на тротуар — и песика насмерть. — Парень кулаком трет глаза, прикуривает от протянутой Милкой зажигалки и заканчивает:
— А ведь тоже у нее учился…
Он качает головой, недоумевая, как такое может быть.
Мы подавленно молчим. По моему лицу струятся слезы. Лидуня тихонько чертыхается и одним платком вытирает слезь! себе и мне. Танька громко сморкается в уголок фартука. Лариса покрепче прижимает сидящего у нее на коленях печального Дениску.
Майор Василий Дмитриевич Потапов крякнул и, коротко глянув на Милку, взялся за дело.
Он оказался толковым и знающим, все необходимые формальности закончил быстро. Опросил потерпевшую, свидетелей, врача. Врач, откликающийся на имя Михал Михалыч или просто Михалыч, осматривать мой синяк не стал, чтобы не конфузить. Сказал:
— По тому, как потерпевшая сидит, ясно: обширная гематома.
Добавил что-то по-латыни и расписался где надо.
Танька повела Василька в ванную демонстрировать мое платье.
Они позвали меня, и я пришла. Василек расправил грязную тряпку, с интересом рассматривает, мнет в пальцах ткань.
— А платьишко-то не из дешевых. Почем брали?
Я называю стоимость.
— Рублей?
— Долларов.
Василек присвистнул и остренько глянул мне в лицо.
— Так, может, оно у нее одно такое… — жалостливо вмешивается Танька.
Василек продолжает смотреть мне в лицо. Одна лохматая рыжеватая бровь ползет вверх. Я киваю.
Платье действительно одно. И не только у меня. В природе. Эксклюзивная модель. Подарок именитого парижского кутюрье. А в общем, ерунда.
Михал Михалыч сидит за столом. Мои подружки угощают его и соседку чаем. Василек присоединяется к ним. Милка показывает ему бутылку коньяка. Он решительно качает головой:
— Не, я на работе.
Милка понятливо кивает и наливает в стакан водку.
Мужчины чокаются и с видимой охотой приступают к еде, Дениска тоже сидит у стола. Перед ним чашка с чаем, но он не может пить. Его глаза, напряженно наблюдавшие за действиями майора, сейчас отражают работу мысли.
Дениска ползет по дивану к Милке и что-то шепчет ей в самое ухо. Милка серьезно смотрит в большеглазое лицо.
— Это точно?
Мальчик кивает:
— Он парням хвастался. Сашка, мой брат, видел.
Милка переводит взгляд на самозабвенно жующего Василька.
— Василек, ты Борьку сейчас не тревожь. Прихватишь его после закрытия рынка. Да поосторожней, он может быть вооружен.
— Да? — неподдельно радуется раскрасневшийся майор. — Это будет славненько.
Он как-то невзначай выпивает еще рюмку, сует в рот кружок сырокопченой колбасы и встает.
— Ну, спасибо, девушки, за хлеб-соль. Пора и честь знать.
И он укатился, погоняя перед собой захмелевшего врача и Дениску, обремененного полиэтиленовой сумкой, которую ему сунула у порога Лидуня.
Танька пошла проводить соседку.
Милка закурила новую сигарету. Лидуня и Лариса обновляют стол, меняя посуду и добавляя закусок.
Я пытаюсь поменять положение тела и ору от боли.
* * *
Наконец мы сели за стол. Танька разлила водку.
— Ну, девки…
Она произносит все положенные ритуальные слова.
Мы выпили не чокаясь, схватили по горстке кутьи и все, включая Ларису, закурили. Хотя курящей у нас считается только Милка.
Мы все родом из одного подъезда, а вернее, из одной подмосковной деревни, переселенной при наступлении Москвы на пригороды. Все первые восемь лет учились в одном классе, и хотя потом у каждой была своя жизнь, связи мы не потеряли.
В подъезде теперь живут только Танька и Милка.
Танька живет в нашей квартире, куда ее Славик привел после свадьбы. А Милка переехала в свою из двухкомнатной на втором этаже.
Ее родители, выйдя на пенсию, возжелали жить на лоне природы. Они нашли полдома в Кратове — со всеми удобствами и садом-огородом. Всех прикопленных денег не хватало. Тогда они согласились обменяться с одной семьей, тоже из нашей деревни, в которой появился еще один ребенок. Разницы между стоимостью двухкомнатной и однокомнатной квартир как раз и хватило, и Милкины родители уже лет пятнадцать наслаждаются природой, а она — свободой и одиночеством.
Милка — единственная из нас, у кого есть и папа, и мама. У Лидуни и Ларисы живы мамы, у Таньки — отец. У меня нет родителей очень давно.
Видимо, поэтому всякий раз, когда меня по-настоящему прижмет, я иду к девчонкам. Как сейчас.
И снова раздается дверной звонок. Мы уже изрядно выпили и наплакались и теперь, скорее улегшись, чем усевшись кто где, ведем неторопливую согласную беседу обо всем на свете.
Танька чертыхается, нашаривает тапочки и, приволакивая отсиженную ногу, тащится открывать.
Разглядев визитера, весело кричит:
— Ленка, иди посмотри, кто пришел!
В дверном проеме зависла внушительная, до боли знакомая фигура. Юра.
— Ну, заходи, — обреченно роняю я.
— Кто там? — кричит Милка из комнаты.
— Телохранитель, — веселится Танька, — нашел-таки!
Милка образовалась в прихожей. Она кажется абсолютно трезвой, только глаза шало блестят да у прически эдакий особо залихватский вид.
— Юрочка! — пропела она. — Ты очень хреновый работник. От тебя охраняемое тело сбежало.
— Не уберег, — сокрушенно подтверждает Танька. — Накажут.
Мрачное лицо парня залилось краской, он ало сверкнул звероватыми глазами.
— Собирайтесь, Елена Сергеевна.
Я киваю:
— Сейчас, Юра. Только попрощаюсь.
На кухне отдаю Таньке деньги, которые она потратила на стол.
— Ты как? Ничего? — спрашивает Танька, убирая деньги. Она подает мне стакан ледяного кваса.
— Ничего. Лучше, чем утром.
— — Это потому, что поплакала.
— Наверное.
Квас кисло-сладкий, ядреный, от него ломит зубы.
— Ух!
Девчонки остаются у Таньки. За Лидуней и Ларисой после работы приедут мужья, и они посидят все вместе.
Мы долго целуемся под подозрительным взглядом Юры, и я с огромной неохотой покидаю своих подруг.
* * *
С Юрой за правым плечом выхожу из полутемного подъезда и щурюсь от яркого солнечного света.
На улице самое начало того длительного периода времени, когда летний день переходит в вечер.
Моя машина припаркована тут же, у самого подъезда.
«Шестисотый» «мерседес» с затемненными стеклами почтительно рассматривает стайка разновозрастных аборигенов. Со многими из них я знакома, поэтому отвешиваю общий поклон.
Раздается приветливое разноголосое «здрасьте».
Мое появление в широченном байковом халате и тапочках видимого удивления не вызывает.
Похоже, народ решил, что у богатых свои причуды.
Устроившись на заднем сиденье, я занялась ревизией своего организма, точнее, его физического и душевного состояния, сильно этим увлеклась и не сразу заметила, что время поездки по меньшей мере втрое превышает необходимое, чтобы добраться до моего дома.
— Куда мы едем? — машинально спрашиваю я и тут же соображаю:
— В «домушку»?
Юра кивает. Ага, значит, он везет меня в особняк своего хозяина, любовно именуемый «домушкой».
— Это Константин Владимирович догадался, где меня искать?
Кивок.
— И «мере» взять велел тоже он?
Кивок.
Я привыкла к подобной форме общения и не раздражаюсь. Большинство наших диалогов выглядит именно так: я задаю вопрос, кивок — «да», движение плеча — «не знаю», движение головы — «нет».
Так! Похоже, кормилец здорово разозлился. Прислал за мной ненавистный «мере», велел везти в «домушку». Небось и Юру взгрел, вон парень какой смурной. Жаль, конечно, безвинно пострадавшего, но другого выхода у меня не было.
Машина остановилась, и Юра не успел заглушить мотор, как дверца, к которой я прижималась плечом, резко распахивается, и я, потеряв опору, лечу наружу, покорно готовясь к встрече с асфальтом.
Все обошлось. В последний момент я ощущаю резкий рывок и оказываюсь стоящей на ногах и прижатой к широкой мускулистой груди.
Мужчина в спортивном костюме разжал державшие меня руки и, не глядя на меня, направился к крыльцу двухэтажного кирпичного строения с башенкой, балкончиками, балясинами, колоннами и прочими прибамбасами, то есть к «домушке».
Я, испытывая легкое головокружение, плетусь за ним, понимая, что сейчас получу по первое число, поскольку волнение спортивного мужчины достигло такой степени накала, что вынесло его навстречу моей машине, и это мне дорого обойдется.
Проходя мимо придерживающего дверь мужчины, я ощущаю силу, излучаемую его невысокой накачанной фигурой, и робко взглядываю ему в глаза. Глаза оказываются ярко-синими и выражают смешанную гамму чувств. Мне удается выделить брезгливость, негодование и обожание.
Чувства легко расшифровываются, и я успокаиваюсь. Брезгливость относится к моему халатно-нетрезвому виду, негодование вызвано моим побегом, ну а обожание — это именно то чувство, которое неизменно испытывает ко мне мой муж.
Итак, мой муж Константин Владимирович Скоробогатов (фамилия так подходит ему, что похожа на прозвище) пропустил меня в дом и набрал в грудь воздуха, чтобы начать разнос.
— Не сегодня. Костя, — говорю я, и он выпускает воздух, согласно кивая. Он вообще-то человек скорее спокойный и ругается не ради удовольствия, а для поддержания дисциплины.
— Мне бы ванну. И пошли Юру за одеждой для меня. Пусть возьмет черный пакет в шкафу и обязательно обувную коробку номер восемь. И пожалуйста, не волнуйся. Я помню о приеме и, поскольку дело есть дело, к девяти буду готова.
Костя смотрит на меня, и на его лице и в потемневших глазах не осталось ничего, кроме любви и сострадания. Он что-то виновато бормочет о том, как важно мое присутствие на сегодняшнем мероприятии.
По всему видно, что ему хочется обнять меня, но я его не поощрила, и он не осмелился.
Я лежу в ванне, согреваюсь в горячей душистой пене и слушаю, как мой муж топчется под дверью. Я не была бы против, если бы он вошел, но не могу заставить себя позвать его, а он не может заставить себя толкнуть незапертую дверь ванной без моего зова.
Так уж сложились наши отношения.
* * *
К девяти часам, когда я вхожу в зал, где происходит прием, большинство гостей уже съехались, а часть из них уже и попила-поела. Мелькнуло несколько знакомых лиц: звезда экрана, эстрадная дива, пара-тройка заштатных халявщиков, кое-кто из бомонда, депутат Госдумы, советник президента и толпа «новых русских», мужчин и женщин.
С телохранителями в зал входить не принято, но господину Скоробогатову никто не указ, и за моим правым плечом привычно маячит Юра в вечернем костюме и с никаким выражением лица.
Я перехватываю несколько удивленных взглядов.
Это и понятно. Я не большая любительница светских тусовок, мое появление всегда неожиданно, сегодня же оно удивляет, особенно тех, кто в курсе моих дел. К счастью, таких не много.
Ко мне пробирается Катенька Свирская, в прошлом звезда детского кинематографа, манекенщица и жена полудюжины знаменитых мужей, в настоящем — непременный атрибут всех подобных мероприятий. Мы знакомы не слишком близко, но она бросается ко мне, словно к лучшей подруге.
— Леночка! — восклицает Катенька, и ее несколько поблекшее, но умело подретушированное лицо сияет восторгом. — Какое у тебя славненькое личико! Слышала-слышала! Как Женева?
— Полагаю, как всегда… — слегка пожимаю плечом. — В этот раз я ее не видела. Аэропорт — клиника — аэропорт.
Так, значит, мой отъезд не прошел незамеченным.
И судя по тому, как жадно Катенькины глазки ощупывают мое лицо, кто-то сомневается в официальной версии поездки.
Ну что ж, смотри, Катенька, личико я себе подправила, и хоть обошлось без подтяжки, все остальные процедуры по омолаживанию сделаны и оплачены, можешь так и доложить.
Но права будешь не ты, а тот, кто сомневается.
Катенька лепечет что-то завистливо-восхищенное по поводу моего строгого черного платья с длинными узкими рукавами и юбкой до пола, но ее кто-то окликает, и она, извинившись, отходит. А я вижу того, ради кого пришла.
Господин Скоробогатов в смокинге — восхитительное зрелище; он один из немногих, кто умеет и любит его носить. Большинство мужчин выглядят в смокинге нелепо, напоминая официантов.
Я немного полюбовалась мужем, он почувствовал мой взгляд, повернул красиво причесанную голову и взмахом ресниц велел мне приблизиться. Я с готовностью повиновалась.
Мой кормилец коротал время в обществе бокала и господина с ровным пробором в рыжеватых волосах и гладким, невыразительным, лишенным возраста лицом.
Смокинг господина на пару размеров велик ему в плечах и на три-четыре мал в талии. В остальном же производит впечатление вещи, за которую уплачены немалые деньги.
— Дорогой, — ласково приветствую я мужа, — сегодня здесь столпотворение, я уже боялась, что не найду тебя.
— Это невозможно, — галантно отвечает мой муж и подносит к губам мои пальцы.
Блеск бриллиантов моих колец отразился в глазах Костиного собеседника. Лощеный господин лихорадочно облизывает губы. «Какой алчный», — отмечаю я про себя.
— Познакомься с господином Борком — американским предпринимателем. Господин Борк, моя жена Елена.
Я подала руку для рукопожатия, но господин Борк, склонив пробор, прижал к ней влажные губы.
«Американец? Но это вряд ли…»
— Рада познакомиться. Сегодня здесь собралось блестящее общество. Надеюсь, вам нравится, — защебетала я, жеманно вытягивая губы и тараща глаза. Скоробогатов легонько сжал мой локоть, призывая угомониться.
«Не переигрывай», — приказал он глазами.
«Как скажешь», — выразили покорность мои глаза и снова уставились на американца. Тот виновато улыбнулся:
— Я сожалею, но очень мало знаю русский язык.
Мужчины переходят на английский, я, как особа, языком не владеющая, стою рядом, опершись на руку мужа, потягиваю мартини, лениво вожу глазами по публике.
Англо-американский мистера Борка неплох, но изучался, судя по всему, где-то подо Львовом, хотя уловить это не просто, но ведь мне не за так деньги платят.
А Костя молодец! Акцент он, конечно, не уловил, но что-то его в американском бизнесмене насторожило.
А это что? О! Это растягивание звуков, такое знакомое, неистребимый местечковый акцент, сохраняемый даже в третьем поколении. О нем нам рассказывала наша преподавательница на курсах при МИДе милая Софья Абрамовна. Она же его нам и демонстрировала вместе с другими.
Значит, мистер Борк сделал обрезание своей фамилии, видимо, потерял «штейн». А зачем? Кому это мешает? Где? В Штатах? У нас?
Без разницы. Мы с ним дел иметь не будем. Смена фамилии и отказ от корней могут быть вызваны безобидными причинами, а могут и серьезными. Это не важно. Важно, что он пытается обмануть.
Я сжимаю предплечье занятого беседой мужа и, когда он поворачивает ко мне лицо, капризно заявляю:
— Мне скучно. Ваши дела мне ни к чему. Я предпочитаю общение с соотечественниками на родном языке.
Костины глаза вспыхивают и гаснут, он поглаживает мое плечо.
— Ну хорошо. Ты иди общайся, а я закончу беседу и найду тебя.
Я улыбаюсь раббе Боркштейну и иду общаться.
Это одна часть моей работы в фирме мужа. Есть и другие.
Покружив по залу, ответив на несколько приветствий и счастливо избежав необходимости с кем-либо беседовать, я считаю свою миссию выполненной.
Приказав Юре взглядом не ходить за мной, я устраиваюсь в уголке под пальмой в мягком кресле, которое кто-то повернул спиной к залу и прислонил спинка к спинке к парному ему диванчику.
Я чувствую себя совершенно обессиленной. Сегодняшний длинный абсурдный день, все последние практически бессонные ночи сломали меня, да к тому же выпитое за день. Я сползаю в кресле, вытягиваю ноги и закрываю глаза.
Похоже, я задремала — по крайней мере я не уловила, когда диванчик у меня за спиной был оккупирован, и возвращаюсь к действительности не сразу с началом беседы между двумя обладателями мужских голосов.
Я хотела объявиться и попросить прощения за невольное подслушивание и даже шевельнулась, но ушибленная часть тела ответила болью. Я снова сажусь поуютнее и остаюсь, позволяя себе полениться.
— Не думаю, что Аркадьич нас кинул, — пропыхтел один.
— Ну уж теперь что Бог даст, — вздохнул другой.
— Да уж.
Они помолчали. Начал тот, чей голос несколько выше:
— Я только сегодня узнал про Троицкую.
— Да, беда. Жаль бабу.
— Еще как жаль! Эта женщина могла далеко пойти.
— Так она многое и успела.
— Ну еще бы, с ее-то связями.
— Это ты о чем?
— О ее матери.
— А-а-а. Так Троицкая свою фирму открыла еще до взлета мамаши. Она сама.
— Ну теперь Мишаня все в момент спустит.
— Спустить не спустит, а продаст точно.
— Есть кому?
— — А то! Троицкая организовала сеть вязальщиц-надомниц. Их у нее около тысячи. Лакомый кусочек.
Ей предлагали хорошие бабки, в баксах, да она уперлась. Но теперь Мишаня продаст. Арнольд говорил, дело на мази.
— Кто покупатель?
— Арнольд говорил, не то турок, не то афганец.
— Им-то зачем вязальщицы?
— Ты чего? Золотое дно. Сидят тетки по домам за закрытыми дверями, сколько их — неизвестно, что каждая делает — тоже… Может, вяжут, а может, фасуют.
— Чего фасуют?
— А чего велят, то и фасуют. Хочешь, сухофрукты, хочешь, лекарства, хочешь, патроны, а можно наркотики.
— Ну?! Вот это да! Если так, то этой надомной сети цены нет.
— Есть. Но очень большая.
— Значит, Мишаня загребет.
— Меньше, чем мог бы. Мишаня в цейтноте.
Он где-то в Штатах бизнес зацепил, но партнер с вложением ждать не хочет. Мишане деньги срочно нужны.
— Выходит, Мишане смерть жены на руку?
— Выходит. Троицкая и слышать не хотела об отъезде.
— Вишь ты как. Кому война, а кому мать родна.
Ну что, пойдем добавим да по домам.
— И то дело. С кем надо засветились, можно линять.
Я выбралась из-под пальмы и сразу ощутила присутствие Юры за правым плечом.
— Домой.
Я направляюсь к выходу. Все мое тело опять сотрясает неудержимая дрожь.
Юра помогает мне сесть в машину и, едва усевшись, хватается за телефон:
— Мы домой.
Это он сообщил Вадиму — водителю и охраннику Кости.
Молодец, службу знает. Я про Скоробогатова забыла.
За два месяца до…
На тот момент времени обстоятельства моей жизни выглядели следующим образом.
Я сама зарабатывала себе на жизнь, жила в собственной квартире и не давала абсолютно никому отчета в своих знакомствах и поступках. Короче, считала себя свободной и трепетно охраняла свою свободу.
Должность моя в фирме господина Скоробогатова называлась, впрочем, и теперь называется, «референт», я возглавляю группу отличных специалистов, которая именуется у нас аналитической. Периодически я возникаю в офисе, сея панику среди секретарей и клерков. Но большую часть времени провожу дома за компьютером, чтением крупнейших мировых газет, финансовых журналов, написанием аналитических отчетов, веду телефонные разговоры, организовываю деловые и интимные (не путать с сексуальными) встречи и множество других дел.
Кроме того, я неизменно присутствовала (и присутствую) на всех деловых встречах и обедах господина Скоробогатова, причем иногда в качестве переводчицы, чаще же в качестве существа, не владеющего ни одним языком, включая родной. В таких случаях работали мои глаза, уши, мозги.
За все эти услуги я получала в фирме очень (ну просто очень) хорошую зарплату, позволяющую мне удовлетворять все мои не такие уж большие потребности.
Господин Скоробогатов в качестве мужа возил меня за границу работать и отдыхать, сопровождал меня в гости, в театры и всюду, куда следовало сопроводить.
В качестве патрона Константин Владимирович был выше всяких похвал, и работать мне с ним нравилось.
Правда, существовала еще одна обязанность, но она меня не тяготила, и я даже немного печалилась, когда мне приходило в голову, что, возможно, эту обязанность со мной разделяют еще пара-тройка девушек в офисе. А может, и нет. Поскольку всякий раз, когда дела вынуждали господина Скоробогатова расстаться со мной на длительное время, при встрече он вытворял такое, что невольно казалось — я единственная любовь всей его жизни.
Страшно хотелось в это поверить. Но я не могла себе позволить. Мне необходимо было сохранять внешнюю невозмутимость и внутреннюю стойкость.
Такова особенность нашего брака.
Беда в том, что мне все труднее скрывать истинное отношение к моему.., господину Скоробогатову.
Он же вел себя самым естественным образом: четко выдавал мне задания, строго спрашивал, охотно хвалил, щедро оплачивал. Пока мы жили в одной квартире, вносил свою долю в оплату счетов, исправно выполнял мужскую работу по дому.
Построив «домушку», Костя предложил мне переехать с ним, получив же решительный и безоговорочный отказ, взбесился, но не скандалил, а выехал и стал жить один.
Первый раз после разъезда навестил меня через месяц (к тому времени я так соскучилась, что не смогла сдержать радости и бросилась ему на шею, целуя куда попало и повизгивая от восторга), после чего появлялся регулярно. И наши ночи были полны нежности, доверия и.., любви.
Кажется, дело шло к тому, что рано или поздно я бы смирилась и переехала в «домушку», если бы…
* * *
Лето началось бурно, и уже в конце мая погода стояла такая, как обычно в июле. И тот день был тоже жаркий, безветренный и сухой.
Именно в этот день один из виднейших предпринимателей столицы хвастался новым загородным домом, пригласив кучу избранного народа. Естественно, я сопровождала моего «мистера Твистера» (владельца заводов, газет, пароходов и пр.). На сей раз в качестве жены.
Утром господин Скоробогатов заехал за мной. Он выглядел нарядным в легком светло-сером костюме и пестрой рубашке из натурального шелка. Ворот рубашки был расстегнут, открывая стройную загорелую шею, и мне расхотелось куда-либо ехать, а захотелось остаться дома и сидеть с Костей, обнявшись, на диване, пить пиво и спорить, что смотреть по телевизору.
Костя перехватил мой взгляд, и стало ясно, что ему тоже расхотелось ехать. И конечно же, он сразу рассердился, надулся и стал искать, к чему придраться. И нашел.
— Надеюсь, ты собираешься переодеваться? — брюзгливо спросил он.
— Нет, я уже одета.
Я не собиралась раздражаться на него и отвечала предельно благожелательно. Это его еще больше проняло.
— Ты решила ехать в домашнем платье?
— Я не ношу это платье дома.
— Для дома оно недостаточно хорошо, а на званый обед в самый раз?
— Во-первых, это платье достаточно хорошо для званого обеда; во-вторых, званый обед будет на даче; а в-третьих, я готова переодеться во что скажешь…
С этими словами я потянула вниз «молнию». В глазах Кости мелькнуло паническое выражение, он облизал мгновенно высохшие губы и махнул рукой:
— Едем в этом…
Его голос звучал хрипло, и я поняла, что, если бы потянула «молнию» вниз еще на несколько сантиметров, мы бы остались дома.
С сознанием заслуженно одержанной победы я сидела на заднем сиденье машины и любовалась пейзажем за окном.
Иногда я переводила взгляд на затылок Кости, и меня окатывало чувство владелицы ценной собственности.
Короче, хорошее было утро. И начало дня было хорошее.
Мое легкое открытое платье с широкой длинной юбкой из немнущейся ткани как нельзя лучше подходило к обстановке. Я ходила по прекрасному саду, присаживалась на траву и даже, подобрав юбку, побродила по мелководью, когда гости догуляли до берега реки, текущей по границе владений.
Большинство дам, нарядившихся для званого обеда В узкие платья, чулки и туфли на каблуках, откровенно мучились и радостно бросились к столу, накрытому на широкой открытой веранде, по первому зову.
Обед был прекрасен и ужасен. Прекрасен — качеством, ужасен — количеством. Все было настолько вкусно, что я под насмешливым взглядом мужа-аскета набила брюхо, как удав, и совершенно осоловела.
Когда еле живых гостей выпустили из-за стола, я медленно, стараясь не раскачивать свой живот, выползла в сад и побрела в глубь его, выискивая глазами не очень заметное местечко. Мне повезло. На полянке, окруженной кустарником, кто-то оставил надувной матрац. Я затащила его в глубь кустов, прилегла в тенечке и блаженно предалась сиесте.
Продремав некоторое время и отдав дань пищеварению, я поднялась совершенно бодрой. Мне все нравилось, только несколько беспокоило сознание забытого долга, когда я вспомнила, что пребываю в этом раю в качестве жены.
Открыв сумочку, я достала косметичку и, глядя в зеркальце в пудренице, привела себя в порядок.
Свежий воздух, здоровый сон, неторопливая нега, разлитая в воздухе, — все это необыкновенно благотворно подействовало на цвет моего лица. Установив это, я в самом лучшем состоянии духа отправилась на поиски своего мужа.
Я шла по гаревой дорожке к дому и вертела головой, выглядывая господина Скоробогатова, когда из-за поворота раздался смех, который я сразу узнала. Я слышала этот смех несколько раз: когда зарегистрировали первое предприятие мужа; когда он впервые добрался до пятой лунки на поле для гольфа; когда на Лондонской бирже поднялись акции контролируемого им международного концерна, — короче, так коротко и горделиво смеялся господин Скоробогатов, празднуя победу.
От любопытства я почти бежала. Мне хотелось присутствовать при очередной победе мужа.
Мы столкнулись лицом к лицу. Костя вышел из-за угла, крепко обнимая тонкую талию длинноногой, очень ухоженной девицы, приподнявшей к нему улыбающееся юное лицо.
Я подумала, что Косте всего сорок три, а мне целых сорок восемь, и мы из разных поколений. И еще я подумала, что наши отношения в первую очередь (а может быть, всего лишь) деловое соглашение. Это помогло мне улыбнуться побледневшему Косте, который стоял, опустив руки, и девушке, глядящей мне прямо в глаза с безграничным нахальством победительной молодости.
— Гуляете? — приветливо осведомилась я. — Ну и правильно. А я часок прикемарила в кустиках.
Что-то развезло. Да и то сказать, годочки-то не ваши, не молодые. Ну гуляйте, гуляйте, а я пойду чаю поспрошаю.
И, махнув им ручкой, направилась к дому. Костя, что совершенно естественно, остался с юной леди, а не кинулся вдогонку за престарелой женой.
Он присоединился ко мне, когда я в компании хозяйки дома методично наливалась чаем с коньяком, а может, коньяком с чаем, и преуспела так, что решила (была вынуждена решить) остаться ночевать, о чем и сообщила изменнику тоном, исключающим возможность дискуссии.
Большую часть ночи мы с хозяйкой провели в беседе на тему нашей загубленной жизни. Беседа сопровождалась обильным слезотечением и запивалась чем-то из граненой литровой бутылки.
* * *
Утром я без всякого удивления обнаружила на веранде Юру. Он привез меня домой, выдал все, что требовалось для снятия похмелья, дождался, когда я приму душ и оденусь, и доставил в офис.
Я явилась туда в свежем платье, но с Несколько помятым лицом и слегка сдвинутым сознанием.
Господин Скоробогатов в кабинете был не один, поэтому мой вид оставил без комментариев, но и доброжелательности не проявил, демонстрируя подчиненным, что строг и поблажки не дает никому (включая родную жену). Подчиненные поняли и прониклись, а будучи отпущены, потянулись к выходу гуськом, понуря головы.
Я же уселась у стола и независимо закинула ногу на ногу. Я бы и закурила назло господину Скоробогатову, не терпящему табачного дыма в своем кабинете, но боялась, что с бодуна меня поведет от сигареты. Падать же, бледнея, со стула сегодня что-то не хотелось.
Костя смотрел на меня холодными и голубоватыми, как арктические льды, глазами и о чем-то напряженно размышлял. Наконец, не отводя от меня взгляда, он пододвинул к себе конверт, лежавший до этого на краю стола, и спокойно приказал:
— Лена, тебе необходимо срочно лететь в Женеву.
— Зачем? — Я была обескуражена, поскольку ждала совсем других слов.
— Пройти курс лечения в клинике омолаживания.
Мне показалось, что в меня попал разряд молнии.
И меня убило громом. Он что, с ума сошел? Вот так прямо мне об этом говорит! Я настолько ошалела, что лишилась чувств. Всех сразу. Поэтому ответила спокойно, без эмоций:
— Хорошо. Когда я должна лететь?
— В пятницу. В этом пакете все необходимые бумаги и телефон человека, к которому следует обратиться. Я сейчас уезжаю в Питер. Приеду послезавтра утром прямо к тебе. Пожалуйста, будь дома. Мы обо всем переговорим.
Его лицо оставалось задумчивым, он постукивал ребром конверта по столу.
Я перегнулась через стол, вынула из его пальцев конверт, встала и вышла из кабинета.
Вера Игоревна, секретарь Скоробогатова, сорокалетняя, холеная и компетентная, взглянула на меня, и в ее непроницаемых глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие.
— Кофе? — предложила она почти дружески.
— Спасибо. Не сегодня. Я пойду в баню.
Ее тонкая бровь поднялась на полтора миллиметра, что означало высшую степень удивления.
А я действительно пошла в баню. Есть в Москве такое дивное местечко не для всех. И не потому, что дорогое, цены-то как раз средние для подобных мест, а потому, что владелец этого оздоровительного салона очень тщательно фильтрует клиентуру.
Меня к Вагизу, так зовут хозяина, устроила девочка, с которой мы вместе изучали испанский и французский на курсах при МИДе. Девочке языки не понадобились, потому что она отправилась на постоянное место жительства в Нью-Йорк и пытается освоить английский.
Меня встретила Жанна — одна из местных кудесниц — и всплеснула руками:
— Елена Сергеевна, на вас лица нет.
— Скоро будет! — пообещала я. — Муж оплатил совершенно новое лицо в женевской клинике омолаживания.
— Счастливая! — позавидовала Жанночка, которой еще не исполнилось и двадцати пяти. Глупышка…
После нескольких сеансов в сауне, массажа и бассейна я, усталая, легкая и очень теплая, как снаружи, так и внутри — блаженное послебанное состояние, — закуталась по примеру римских патрициев в кусок белой ткани и переступила порог чайной комнаты.
Здесь стояло несколько мягких кожаных кушеток и низкий столик с электрическим самоваром и всем необходимым для чаепития.
Распластанная на одной из кушеток белая фигура слегка пошевелилась, потом рывком села. Простыня отлетела, обнажив богатую розовую плоть, которая, несомненно, как и чарующий голос, принадлежала Наташе Транкиной.
Мы расцеловались и принялись чаевничать. Наташа — прима экспериментального молодежного театра, постановки которого мне настолько нравятся, что одну из них господин Скоробогатов проспонсировал. С тех пор я лучший друг театра, а Наталья Транкина и Ольга Челнокова — вторая ведущая актриса — мои большие приятельницы.
Вот об Ольге-то речь и пошла.
— Представляете? Завтра лететь в Женеву, у нас там четыре спектакля за два дня, а Олька выпала. Ну, со спектаклями проблем нет, у нас полная взаимозаменяемость. Сами знаете, наш худрук до театрального на заводе вкалывал, вот в театр идею конвейера и притащил — рационализатор. Теперь мне по два раза в день потеть. Ну, это ладно — мне наш труд в кайф. Но ведь были планы на свободный день!
— А почему Ольга не едет? Заболела?
— Можно и так сказать. Залетела. Сидит мыслит: оставлять — не оставлять. По-хорошему, ребенка пора заводить, как-никак скоро тридцатник. Сейчас не заведешь, потом закрутишься, не соберешься. К тому же рядом мать — молодая пенсионерка, готовая к услугам.
Но карьера… Сейчас она новый спектакль выпускает. Хотя тоже не проблема. Я во втором составе репетирую, полгода без замены продержусь. Чего там, дело святое. Получается, здесь тоже все обходится.
Но если оставлять, кого назначить отцом? Вот это действительно проблема. Это ведь не мужа выбрать: не подошел — не надо, другого найду. Ребенку отца на всю жизнь выбираешь, ошибиться никак нельзя. Сидит, думает, советов не просит.
Я несколько озадачилась проблемой выбора отца для уже практически существующего ребенка, но, подумав, согласилась с житейской мудростью моих юных подруг.
— Я тоже собираюсь в Женеву.
— Правда? — обрадовалась Наташа. — А когда?
— В пятницу.
— Жалко. Мы уже улетим.
— А вы когда летите?
— Завтра утром. Самолетом «Эр Франс», бизнес-классом! — по-детски похвасталась Наташа.
— А Ольгино место свободно?
— Ну да. Все оплачивает принимающая сторона, нас регистрируют списком.
За три года до…
— Алло?
— Привет! Это я.
— Здравствуй, Гена. Какие новости?
— Его отпустили. Я получил телеграмму, что сегодня он будет в Москве. Жди.
— Хорошо. Жду.
Вот именно, жду. Четыре года. Или семь лет…
Не помню, волновалась ли я тогда. Мучили меня предчувствия? Или я испытывала облегчение?
Я открыла дверь на звонок и увидела Скоробогатова. Он стоял передо мной в прихожей моей квартиры в черном ватнике и нелепой для середины апреля цигейковой ушанке с суконным верхом. Его лицо было грубым и обветренным, а глаза в щелочках темных ресниц карались совсем светлыми.
Он стянул шапку с круглой обритой головы и дерзко и холодно смотрел мне прямо в лицо. И я смотрела.
Его лицо не было незнакомым, за эти годы я не раз рассматривала его маленькую фотографию, ожидая возвращения этого мужчины из тюрьмы.
Он вернулся, чтобы стать моим мужем.
Ну что ж, это, несомненно, был тот, кого я ждала.
Я кивнула ему и, нагнувшись, достала тапочки, купленные специально для этого случая еще три месяца назад.
— Ванна — вторая дверь налево. Мойте руки и приходите на кухню. Ужин готов. Ваше полотенце голубое.
Итак, в тот вечер я накормила его, выдала белье, и он долго мылся и вышел из ванной распаренный, блаженный и уселся на кухне пить чай вприкуску.
А когда я вошла в ванную, там было нестерпимо жарко и висел плотный пар, но ванна и кафель на стенах были тщательно вычищены, а пол столь же тщательно вымыт. Грязного белья нигде не обнаружилось.
Он выстирал его сам. На следующий день выпросил у меня тазик и стиральный порошок. И в дальнейшем в мою стирку ни разу не попало ни одной его грязной тряпочки. Все всегда сам.
Спать я легла, не зная, что думать о поселившемся за стеной человеке, но никакого страха перед ним не испытывая.
Я проснулась от какого-то стука. Долго прислушивалась, пытаясь понять, что бы это могло быть, и наконец поняла — это стучит под ветром открытая форточка в кухне.
Подоконник на кухне заставлен цветочными горшками, да еще на нем стояла кастрюля с борщом, который накануне недостаточно остыл, чтобы быть помещенным в холодильник.
Я пододвинула табуретку, залезла на нее и попыталась закрыть форточку. Но она располагалась высоко, и мне пришлось встать на цыпочки и вытянуться насколько возможно, чтобы пальцами вытянутых рук можно было задвинуть защелку.
Я тянулась, тянулась и так увлеклась этим, что не сразу почувствовала: в кухне я не одна. Резко обернувшись и одновременно одергивая задравшуюся ночную рубашку, я потеряла равновесие и, нелепо махая руками, начала падать. Я была поймана жесткими сильными руками и ощутила своей грудью чужую горячую голую грудь и потрясение окунулась в голодные, потерянные, безумные, состоящие из одних зрачков, черные глаза.
Я имела некоторое представление о близости с мужчиной и считала это занятие не лишенным приятности, но восторги подруг и изображение постельных радостей в любовных романах или на экране казались мне откровенно преувеличенными.
Так вот, они не были преувеличены. За те несколько секунд, которые потребовались моему партнеру, мое изголодавшееся по мужчине тело открыло мне такое, что я и представить себе не могла.
Мужчина отпустил меня и сказал, багровея от смущения, но стараясь смотреть мне прямо в глаза:
— Простите. Я не хотел быть грубым. У меня очень долго не было женщины. Я плохо соображал. Вы очень красивы. — Он помолчал, опустил ресницы, но снова взглянул на меня и заставил себя сказать все до конца:
— Я боялся, что не смогу… Что у меня не получится… Вы считаете меня насильником?
Господи, я, кажется, никогда не видела такого несчастного человека и постаралась его утешить:
— Нет, я не считаю вас насильником. Я все понимаю. Я не сопротивлялась. Я не хотела этого, но я не сопротивлялась. Я забуду этот случай, но вы больше никогда не приблизитесь ко мне.
Он кивнул, понурив голову, и вдруг, опустившись на колени, обхватил меня руками и прижал ко мне горячее лице. Я почувствовала влагу на своем животе и потрясение смотрела, как он плачет, и не знала, что делать.
— Перестаньте, пожалуйста, перестаньте! Все плохое кончилось. Навсегда. Впереди у вас только хорошее.
Его тело было узловатым, жестким, разбитым работой, лишенным гибкости и грации, и, когда я погладила его по плечу, мне показалось, что я провела ладонью по необструганному деревянному чурбачку.
* * *
Утром я не сразу решилась выйти из своей комнаты, смущаясь от вчерашнего происшествия и пугаясь от необходимости встретиться с моим… Черт, кто он мне, этот человек?
Размышляя над этим, я выползла из комнаты и дернула дверь в ванную. Чтобы сразу же убедиться, что дверь заперта и из-за нее раздается плеск.
Господин Скоробогатов (с тех пор я мысленно всегда называла этого человека именно так) намывался. А я стояла под дверью собственной ванной немытая! Ни фига себе!
Так, не умывшись, я сварила и села пить кофе.
Босые ноги прошлепали от ванной в сторону кабинета, где поселился господин Скоробогатов.
Я осторожно скользнула в ванную и с некоторым разочарованием убедилась в царившем там абсолютном порядке. Едва ли не впервые в жизни я практически не получила удовольствия от гигиенических процедур и покинула ванную чистая, но недовольная. Непонятно чем.
— Лена! — позвал господин Скоробогатов, и меня удивило, как легко он выговаривает мое имя, как красиво и естественно звучит его голос в моей квартире.
Хотя звучание мужского голоса в этих комнатах само по себе удивительно.
Дверь кабинета была открыта, я вошла и стала, прислонившись плечом к косяку.
Мужчина, встретивший меня, мало напоминал вчерашнего. Он нарядился в вещи, купленные мной для него, и позвал меня, чтобы показаться!
Это было удивительно, ни на что не похоже. Сорокалетний мужик, словно подросток, вертелся перед зеркалом, стараясь изогнуться так, чтобы через плечо увидеть лейбл на кармане джинсов.
— Как? — спросил он, не сомневаясь, что не может не нравиться в этом наряде, сияя удивительно яркими, синими сегодня глазами.
— Очень хорошо! — искренне похвалила я. Мне было радостно смотреть на него. Я совсем не испытывала смущения.
Однако легкая невысокая фигура в синих узких джинсах и такого же цвета рубашке вызвала у меня другое чувство. Где-то в глубине моего организма червячком шевельнулось желание. Я растерялась. Никогда прежде я не испытывала влечения при одном взгляде на мужчину.
А он зашнуровывал белые кроссовки, поставив одну ногу на стул и любуясь ими. И был необычайно привлекателен.
"Вот тебе и на! — подумала я и постаралась себя утешить:
— Это оттого, что я давно одна. — И посмеялась над собой:
— Так бывает со всеми девушками накануне климакса, когда каждый шанс последний!"
Я собирала себя по частям, понимая, насколько смешна сорокапятилетняя тетка, охваченная вожделением, и сумела взять себя в руки и загнать глубоко внутрь свои чувства. И там они и находятся до сих пор.
Мне сразу удалось (как я тогда думала) найти верный тон. Нас связывают отношения в рамках договоренности. Все.
— Хорошо, что вы купили именно джинсы. Я всегда мечтал о таких.
— Вот как…
— Ну да. Когда я сел, они были в дефиците.
Он посмеивался над собой. Сегодня он был другим, спокойным и уверенным, но насмешливая дерзость пробивалась во взгляде.
Мы не вспоминали о вчерашнем. Нет, не правда, мы о вчерашнем не говорили.
Я позвонила на работу и сказала, что сегодня не приду. Эта работа — хорошо оплачиваемая синекура — часть моего наследства. Наравне с квартирой, дачей, машиной и господином Скоробогатовым.
Мы сели в гостиной у стола, налили себе кофе и закурили. Я выбросила вонючие сигареты господина Скоробогатова и выложила на стол свои. Он поморщился, но промолчал.
— Что из недвижимости удалось сохранить? — спросил он тоном хозяина.
— Все, — подчеркнуто почтительно ответила я.
Тоном приказчика. И добавила:
— Я выполнила все три пункта договора: дождалась вас, не вышла замуж (что было легко: не было ни желания, ни желающих — об этом я, понятное дело, не упомянула) и не продала ничего из оставленной мне недвижимости.
Я постаралась сохранить ровный тон, но мой собеседник с неожиданной чуткостью сразу заметил затаенную обиду, сверкнул глазищами:
— Не обижайтесь. Я никогда не умел ладить с дамами. Все, что ваше, — ваше. Я просто должен все посмотреть. И еще: как долго будет длиться процедура оформления документов? Мне нужны паспорт, права, свидетельство о браке, прописка…
— Гена займется. Это не сложно. Теперь все можно сделать быстро, были бы деньги.
— Так, деньги. Это правда, что можно легко обменять доллары?
— На каждом углу.
— А со мной сидели мужики за то, что продавали баксы… И сроки им шли не малые… Я ушел, они остались.
Он покачал головой, удивляясь. Задумался, что-то вспоминая, его лицо отяжелело, стало строже и старше.
Он выглядел чужим, непонятным и даже пугающим.
Перехватил мой взгляд, встряхнулся, повторил:
— Так, деньги… У вас есть права?
— Что?
— Я спрашиваю: есть ли у вас права, то есть можете ли вы водить машину?
— Ну, это два вопроса. И есть два ответа: да — у меня есть права, нет — я не могу водить машину.
— Как это может быть?
— Очень просто. Когда возникла необходимость, Академик настоял, чтобы я получила права. Я их получила, и на этом все кончилось.
— И вы что же, ни разу не сидели за рулем?
— Ну почему? Я несколько раз возила Академика на дачу. Мы всегда выезжали очень рано, пока не было никакого движения, и ехали очень медленно.
— Ну и чудесно. Именно так мы завтра и поступим. Выедем рано и поедем очень медленно. На дачу.
* * *
Мы съездили на дачу, после чего господин Скоробогатов скоро разбогател (это у меня такой каламбур), и все понеслось-покатилось.
Моя жизнь изменилась мало. Просто я стала больше готовить. Намного больше. Господин Скоробогатов тоже готовил. Однажды, вернувшись домой, я обнаружила в сковородке на плите гору жареной картошки. В другой он оставил мне на завтрак восемь вареных яиц.
Самого господина Скоробогатова я почти не видела и понятия не имела, где и с кем он пропадает. Общались мы посредством записок, которые писали друг другу на длинном листе бумаги, пришпиленном к стене на кухне.
К моей помощи господин Скоробогатов прибегал дважды: для похода по магазинам одежды и для обряда бракосочетания.
Обряд был назначен господином Скоробогатовым через месяц после знакомства. Я узнала об этом из записки: "Л. Сочетаемся завтра в 14. Банкет в 18. От вас 10 человек. Платье будет к 10. Парикмахер к 11.
Хорошенько выспись. К.".
Я составила список своих гостей. Их оказалось ровно десять. Я сделала шесть звонков. Четверо ответили восторженным согласием. Один абонент фыркнул в трубку: «Обалдела?», а Гена сказал, что приглашен со стороны жениха.
Я выспалась и позволила сосредоточенной девушке и ее юной ассистентке заниматься моим лицом и моими волосами.
К часу приехали девчонки, потрясенные событием. Они ахали в четыре глотки и таращили восемь глаз. До чего женщины любят свадьбы! А уж в нашем возрасте…
Мы быстренько выпили по рюмке, закусили, и они обрядили меня в роскошное длинное платье из плотного шелка персикового цвета.
Меня забавляло их серьезное, трепетное отношение к моей свадьбе. Впрочем, они ведь не знали, что это фарс.
За нами приехали, и мы, погрузившись в две машины, поехали в загс.
Господин Скоробогатов ждал меня на ступенях, и я имела возможность взглянуть на него со стороны. В строгом темном костюме он был очень неплох. Волосы у него несколько отросли, а лицо от городской жизни побледнело и с него сошел грубый загар.
Он держался очень прямо, был напряжен и выглядел настоящим женихом, и, когда легко сбежал мне навстречу, я перехватила одобрительное переглядывание моих девчонок.
Его жесткая ладонь, с которой еще не сошли многолетние мозоли, дрожала, когда он взял мои пальцы, и я удивилась такому волнению. Да он сентиментален!
Обряд заканчивался предложением поцеловаться, что мы и сделали. Вернее, я коснулась губами холодных неподвижных губ моего мужа. Это был наш первый поцелуй.
У господина Скоробогатова было опрокинутое лицо, и он казался готовым упасть в обморок. Его вид вызвал во мне неожиданный укол нежности, такой же, как когда я впервые дотронулась до его плеча и оно доверчиво и покорно вошло в мою ладонь.
Я крепко сжала его локоть и шепнула, стараясь скрыть мою растроганность:
— Эй, мы уже женаты. Поцелуй меня, и пойдем отсюда!
Он ошалело взглянул на меня и, пошатнувшись, ойкнул, и рассмеялся, и крепко обнял меня за талию, и воскликнул, искренне радуясь:
— Ребята, я женат! Я женат на лучшей женщине в мире! Ура!
И ребята — три незнакомых мне мужика и Генка — тоже крикнули «ура!», и «ура!» крикнули мои девчонки, и неожиданно к ним присоединились официальные лица, и мы, радостные, словно школьники после уроков, выскочили из регистрационного зала.
Костины ребята и мои девчонки на удивление быстро сдружились, и все время до банкета мы где-то бродили, совершая короткие броски от одного места до другого на нескольких машинах, садясь всякий раз в другом составе, и пили шампанское, и танцевали под магнитофон, и мои девчонки тискались с ребятами.
И я уже знала, что ребят зовут Олег, Виктор и Сергей. А Генку я знала давно. Он был адвокатом и человеком, близким Академику, он присматривал за мной и улаживал все мои дела, пока я ждала Костю.
Честное слово, я тогда так и подумала: «Пока я ждала Костю» — так подействовала на меня атмосфера этой бутафорской свадьбы. Периодически я забывала о том, что это фарс, искренне радовалась происходящему и обнималась с Костей, откидываясь в его сильных руках. Я забыла о возрасте, веселилась, смеялась, пила, танцевала. Господи! Это ведь была первая моя свадьба.
* * *
В первый раз я вышла замуж в 18 лет. Сереже было почти 25, он был геолог, носил довольно жидкую русую бороду, играл на гитаре и пел. Я влюбилась в него без памяти. Мы подали заявление в загс в тот день, когда мне исполнилось 18, и через месяц расписались. Прямо в загсе мы выпили со свидетелями шампанского и поехали в Бронницы к Сережиной матери.
Там ждал меня сюрприз. Подарок от Сережи.
Практически единственный, который я от него получила. Зато такой, какого никто другой мне не делал.
Второй раз я вышла замуж в 38 лет. Моему мужу было ровно вдвое больше. Нас расписали на дому. А потом мы обедали с регистраторшей и двумя важными стариками — друзьями Академика, нашими свидетелями. После обеда новобрачный прилег отдохнуть, а я вымыла посуду и села читать учебник по органической химии.
* * *
Ай да свадьба! Шальная, молодая, с шутками, розыгрышами… Такая прекрасная!
Жаль только, не настоящая. Мне стало грустно. Я устала веселиться, устала от счастья, присмирела, притихла, ходила как автомат за веселящимися друзьями.
Наконец пришло время ехать в ресторан. Я забилась в угол на заднем сиденье машины.
О чудо! Мы с Костей остались одни. Никто не сел в нашу машину. Друзья решили проявить деликатность, дать нам побыть наедине.
Костя обнял меня одной рукой за плечи, другой поднял мое лицо за подбородок. Его глаза сияли.
— Леночка! Если бы только знала, как я счастлив!
И он легко-легко коснулся моих губ удивительно нежными теплыми губами.
Ой-ей-ей! Что ж это мне так плохо?
Я устроилась под его рукой и, близко глядя в шальные ярко-синие глаза как можно более трезвым взглядом, спокойно сказала:
— Я рада, что смогла помочь вам. Еще немного, и сегодняшний вечер кончится, и мы сможем поздравить себя с еще одним этапом.
Костя моргнул, словно не понимая, его лицо изменилось, погасло, стало замкнутым и спокойным.
Он коротко хохотнул, снял руку с моего плеча и откинулся на спинку сиденья:
— Вы незаменимая помощница, Елена Сергеевна.
Остаток пути мы молчали, и я приводила в порядок свои мысли и чувства.
Свадебный банкет был заказан в одном из лучших ресторанов города. Мой ресторанный опыт к тому времени не превосходил воробьиный нос, и я была оглушена невиданной доселе роскошью. Все сверкало, сияло и искрилось.
Я чувствовала себя маленькой несчастной обманщицей. Все силы уходили на то, чтобы достойно играть свою роль.
Распорядитель свадьбы, молодящийся, лощеный, очень противный, построил гостей в две шеренги, чтобы под музыку встретить молодых, сиречь нас с господином Скоробогатовым.
Гостей было много. Среди чужих лиц (видимо, полезных для будущего бизнеса; дело прежде всего. О Господи!) я увидела Лидуню с мужем Лешкей, Ларису и отца Николая (в цивильном костюме), Таньку, Милку и Мишу.
Я еще раз обвела глазами гостей. Миша был один.
Мне стало очень горько. Я как-то сразу утомилась дурацкой ролью невесты, выдернула руку из-под локтя господина Скоробогатова и обняла сначала Лешку, потом Николая, потом шагнула к Мише.
Он увидел мое расстроенное лицо, обнял меня и, поблескивая бесовскими глазенками, сладким голосом запел:
— Ничего не случилось. У бедняжки жуткая мигрень. Ты же знаешь, у нее бывает. Мы рады за тебя, поздравляем.
Он целовал мои щеки влажными губами, и я понимала, что он врет, просто они так решили, что он придет один и посмотрит, что здесь как, и потом они решат, стоит ли поддерживать с нами отношения.
Богатство приема приятно удивило Мишу. Мне стало грустно и противно. Я за плечо повернула к себе господина Скоробогатова, принимавшего поздравления со всех сторон, и представила ему Мишу.
Тот цепким оценивающим взглядом окинул господина Скоробогатова и, что-то решив для себя, выбрал самый родственный тон для извинения за отсутствие жены.
Господин Скоробогатов слушал его с приветливой улыбкой. Я поняла, что Миша ему не понравился. А тот все пел-разливался.
Распорядитель оправился от катаклизма, вызванного моей неорганизованностью, снова всех построил и пригласил к столу. Под звуки марша Мендельсона мы с господином Скоробогатовым под руку прошли вдоль (между) шеренг, и наконец все получили возможность сесть.
Я нашла глазами Милку и указала на Мишу. Она понятливо и согласно моргнула и прилипла к нему до конца вечера.
* * *
Тостов, подарков, криков «Горько!» (следовательно, поцелуев), танцев, игр и прочих развлечений хватило ровно на шесть часов.
Миша изображал из себя ближайшего родственника, лез целоваться ко мне и господину Скоробогатову, потребовал завернуть ему кусок свадебного торта для жены, «которая, бедненькая, хотела, так хотела быть на свадьбе».
Милка перехватила мой свирепый взгляд, перемигнулась с Лешкой, и они быстренько упоили Мишу до положения риз и отправили на такси домой вместе с тортом.
А я достойно выстояла шестичасовую вахту и считала себя вправе отбыть на заслуженный отдых.
От усталости и выпитого у меня открылся философский взгляд на вещи, и, целуя подруг, я поведала им:
— В старости меньше сил, но больше выносливости.
Чем повергла бедняжек в раздумья, которым они предавались всемером (плюс Генка, который, отправив жену к детям, влился в компанию) у Таньки всю ночь.
Моя свадьба была признана ими лучшей изо всех, на которых им пришлось побывать.
Я никому этого не говорила, но этот день стал лучшим и для меня, потому что банкетом не кончился, а имел продолжение.
Я чувствовала себя предельно усталой, когда вслед за господином Скоробогатовым поднялась на свой этаж и, прислонившись к стене, ждала, пока он откроет дверь.
Щелкнул замок, и вдруг Костя, наклонившись, легко поднял меня на руки и шагнул через порог.
Я обняла его за шею и на короткое время прижалась к нему. Меня никогда не держал на руках ни один мужчина… То, что я испытала в те мгновения… Это…
Ну, в общем, это следовало испытать.
С чувством невосполнимой потери я высвободилась, стала на ноги. Меня чуть качнуло, и я опять на короткое мгновение припала к его груди.
Не отрываясь от широкой надежной груди, я стянула с гудящих ног тесные туфли на высоченных каблуках и оказалась вдруг очень маленькой рядом с Костей.
Он заметил это, его лицо стало потрясенным и растроганным.
Я побрела к своей комнате, к своей постели, добрела, упала навзничь, закрыла глаза. Как трудно было оттолкнуться от него, уйти от его тепла. Кажется, я напрасно так мало пила. Голова была совершенно ясной, я ясно видела, какая я дура, и ясно знала, почему так пусто и одиноко на душе. Я напоминала себе Элизу Дулиттл после бала. Пари выиграно, жизнь проиграна.
Его руки были большими, горячими и очень нежными. Они осторожно стянули с меня платье.
Не открывая глаз, я позволяла Косте раздевать меня, чуть поворачиваясь или поднимая руки, чтобы помочь ему.
Он лег рядом, обвив свою шею моей рукой. Мы долго просто лежали, прижавшись плечами, привыкая к присутствию другого. Потом наши руки начали несмело двигаться, знакомя нас друг с другом. Костина ладонь, плотно прижимаясь, прошла вдоль всего моего тела, вызвав волну дрожи. Он сразу же плотнее прижал меня к себе. Его прикосновения становились все увереннее, поцелуи жарче.
И новая близость с ним вернула ощущения, испытанные во время первой краткой близости, и усилила их многократно.., я вскрикнула невольно, теряя себя и падая, падая…
За два месяца до…
Так случилось, что в Женеву я улетела на три дня раньше, воспользовавшись свободным билетом у артистов. Естественно, никому и в голову не пришло что-то там выяснять или исправлять. Я просто летела в группе из двадцати человек. Нас пересчитали, число совпало. Вперед!
Причиной моего поступка было нежелание встречаться с моим работодателем. Именно так, и только так, я теперь буду думать о господине Скоробогатове.
Настроение у меня было хорошее, я бы даже сказала, боевое. Мне нравилось представлять, в какую ярость придет господин Скоробогатов, не обнаружив меня дома.
Единственное, что меня огорчало, так это то, что пропало свидание, назначенное на пятницу. Я сто раз набирала оба номера телефона, но на работе автоответчик сообщал, что у них ремонт, и рекомендовал звонить домой (кстати, номер телефона не сообщал), а дома автоответчик заверял, что, если я оставлю свой номер, мне обязательно позвонят. Дудки! Я ждала вечер, ночь и утро до отъезда в аэропорт. Потом наговорила на автоответчик:
— Солнышко! Кормилец заслал меня в Женеву лечиться от старости. Поскольку, как ты понимаешь, отложить это ни на минуту нельзя, я уже улетела. Ужасно расстроена, что не повидала тебя. Как приеду, позвоню сразу. Думаю, это недели через две. Пока скучай. Не болей и не ешь жирного. Целую.
С тем и улетела, заговаривая беспокойство на душе обычным «ничего, это ненадолго, приеду — увидимся».
За время полета я настолько сдружилась с артистическим коллективом, что решила с ним не расставаться, а поехала в гостиницу, где и поселилась в номере, забронированном на имя Ольги Челноковой.
Руководителю делегации не хотелось объясняться с принимающей стороной по поводу отсутствующей артистки, поэтому он был доволен моим присутствием.
Поскольку я не скрывала, что являюсь обладательницей золотой кредитной карточки Евробанка, дружба артистов была горячей и искренней, а нежелание расставаться со мной легко объяснимым. Но что заставило меня вести себя столь несвойственным мне образом?
Желание доказать, что я еще молода, раз способна на безрассудные поступки? Желание досадить Скоробогатову? Помрачение рассудка?
Думаю, помрачение рассудка из-за желания доказать, что я еще молода, и тем досадить Скоробогатову.
Как бы там ни было, но в Женеву я прибыла на три дня раньше и поселилась не в фешенебельном отеле, где мне был забронирован номер люкс (естественно, с пятницы), а в скромной гостинице на окраине города в двухместном номере с Натальей Транкиной.
Поскольку помрачение рассудка сопровождается некоторыми странностями в поведении, я совершенно не учитывала изменения в обстоятельствах. Устроившись в номере, я первым делом достала полученный от господина Скоробогатова конверт. После чего сразу же начала выполнять первый пункт инструкции, то есть позвонила по телефону и по-немецки попросила ответившую мне женщину соединить меня с господином Бергманом.
— Простите, не могу ли я узнать вашу фамилию?
Я представилась. Очевидно, последовали переговоры по внутреннему телефону, длившиеся довольно долго, но закончившиеся благоприятно для меня.
Мужской голос с нотками растерянности отрекомендовался и выразил одновременно радость в связи с моим звонком и недоумение в связи с его несвоевременностью.
— Так уж случилось, — туманно объяснила я, дав господину Бергману повод очередной раз поразмышлять о странностях непредсказуемого русского характера. — Я бы хотела перенести все дела на три дня вперед. Прямо сегодня выполнить основное поручение и сегодня же, в крайнем случае завтра, лечь в клинику.
— Боюсь, это невозможно.
— Правда? А ведь может случиться так, что вы не единственный, к кому я могу обратиться в Женеве…
Я блефовала, его телефон был моей единственной связью, но господин Бергман попался:
— Я попытаюсь все уладить и позвоню вам в гостиницу через два часа.
— Нет, через два часа я буду ждать вас на месте.
Если вы не сможете прийти, ваши услуги больше не понадобятся.
Не дав ему возразить, я, очень довольная собой, положила трубку.
* * *
У нас было некоторое количество свободного времени, и мы решили выйти и съесть чего-нибудь «местного». Наташа была возбуждена приездом в чужую страну, новой обстановкой, оглядывалась по сторонам, ойкала, непрерывно болтала.
Выбранный нами ресторанчик мало чем отличался от любого другого в этом городе. Разве что ломаная французская речь, раздававшаяся откуда-то из-за моей спины, несколько нарушала всеобщую гармонию. Когда диалог, состоящий из перечисления блюд с их стоимостью и фразы «Уи, мсье», повторился в шестой раз, я оглянулась и увидела взмокшего официанта, который что-то втолковывал жизнерадостному смуглому типу.
Решив, что пора вмешаться, я встала и, подойдя к соседнему столику, обратилась к смугляку по-французски. Он вежливо вскочил при моем появлении и сразу же согласился: «Уи, мадам». Похоже, ничего другого от него ждать не приходилось.
Его внешность натолкнула меня на мысль перейти на испанский. Родной язык произвел на идальго сильнейшее впечатление. Со слезами на глазах он разразился бесконечной темпераментной тирадой, норовя при этом ухватить меня за руку.
Я решительно пресекла его поползновения и, исполнив роль переводчицы между ним и официантом, вернулась за наш столик.
Следом явился официант с фирменным блюдом за счет заведения. Недаром мне в свое время внушали, что знание иностранного языка всегда позволит заработать на хлеб.
Наталья хлопнула в ладоши:
— Потрясно, Елена Сергеевна! Испанский и французский. Всегда мечтала знать иностранный язык. Но теперь уже поздно. Вас в детстве языкам учили?
— Мне было тридцать восемь, когда я начала учить свой первый иностранный язык.
— Правда?
— Я овдовела в тридцать восемь после двадцати лет брака. Потеря мужа потрясла меня и высветила неприглядную картину — ни специальности, ни образования, ни семьи, и впереди половина жизни. И я приняла предложение своего начальника и вышла за него замуж. Ему было семьдесят пять, и он был ученым с мировым именем. Академиком.
Когда-то в юности я окончила три курса заочного политеха. Академик, используя все свои связи, устроил меня на третий курс химфака МГУ. Я училась с девочками и мальчиками на двадцать лет моложе и отзывалась на кличку «мама Лена». Жизнь в то время была сплошной учебой. Академик нанял мне репетиторов по всем предметам.
Я покачала головой, вспоминая то странное и по-своему счастливое время.
— Тогда-то Академик и начал учить меня языкам: немецкому — сам, а английскому — на курсах при МИДе. Ну а потом… В июне я защитила диплом, в июле мне исполнился сорок один год, а в сентябре Академик умер. А я все продолжала учиться. Уже сама.
* * *
«Надежно, как в швейцарском банке» — мало найдется на земле людей, не слышавших этих слов. Итак, такси доставило меня в Швейцарский национальный банк.
Там я должна была встретиться с господином Бергманом, там я с ним встретилась. Он оказался господином, который легко определяется эпитетом «средний», что бы ни имелось в виду: рост, возраст, комплекция и так далее. И очевидно, поэтому мне сразу понравился.
И я ему тоже. Потому что я сама такая, а рыбак рыбака видит издалека.
Я раскаялась в телефонной наглости и решила похвалить господина Бергмана в отчете моему.., ну этому.., работодателю.
Вспомнилось, какие отношения связывают меня с господином Скоробогатовым. Я расстроилась и почему-то только сейчас сообразила, что понятия не имею, зачем явилась в это солидное учреждение, и снова расстроилась. И уж совсем пала духом, когда сообразила, что, видимо, об этом и собирался «переговорить» со мной господин Скоробогатов в четверг утром. Этот четверг еще даже и не завтра, а я уже здесь. Но может быть, подбодрила я себя, господин Бергман знает, зачем я здесь стою?
Господин Бергман знал. Молниеносно произведя обряд опознания — подтверждения — знакомства, он понесся по гулкому залу. Я за ним. Вокруг все было крайне занимательным, но не запомнилось, поскольку, участвуя в каких-то процедурах и манипуляциях, я настолько боялась каждую минуту проколоться и выдать себя, что от волнения ничего не понимала и в память не откладывала..
Впрочем, мое участие в происходящем было пассивным. Оно заключалось в тупом хождении за господином Бергманом из кабинета в кабинет по переходам, коридорам, залам и лестницам.
Нас постоянно сопровождали какие-то на удивление похожие мужчины в одинаковых черных костюмах, с одинаковым озабоченным выражением лиц. Постоянно при нас находились один-два, но однажды наша свита выросла до четырех человек.
— Ух! — произнес господин Бергман. Он аккуратно и основательно сел на стул, поддернув брюки, и чистым платком смахнул пот с лица.
Я плюхнулась на стул, ничего не поддергивая, и провела ладонью по сухому лбу. Ноги гудели, голова кружилась.
— Все в порядке, — похвастался господин Бергман и добавил:
— Но ничего этого не пришлось бы делать, если бы мы пришли в назначенное время.
Если прислушаться, в его голосе можно было бы различить обвинительные нотки. Но я не рассердилась.
— Теперь, госпожа Елена, мы пойдем в сейфовый зал. Вы назовете цифры, и мы в присутствии сотрудников банка произведем выемку.
Цифры? Какие цифры? Боже мой! О чем он говорит? Я ведь не знаю никаких цифр… Наверное, господин Скоробогатов собирался мне их сообщить. Или нет?
Ой-ей-ей! Что со мной было! Как могла я уехать, не поговорив с Костей?
Именно в эту минуту ко мне пришло ясное понимание. Главным в моей поездке было посещение банка! Я должна открыть сейф. А лечение — всего лишь прикрытие, легенда…
Так, ну и что я вообще творю? И натворила?
Что, если мои действия повлекут непредсказуемые роковые последствия? Что там в сейфе? Бумаги?
Какие? Об этом, мне кажется, я догадываюсь. Но если так, что я должна с ними делать после выемки?
Или не я… А кто? Бергман? Хорошо, если он. А если я? Или еще кто-то… Ну и задача… Какая, к черту, задача?! Эти бумаги еще достать надо. Сейф.
Шифр. Цифры. Караул!
— Мне надо покурить, — придумала я.
— Мы не можем уйти, пока не придет служитель.
— Прекрасно. Вы сидите ждите, а я пойду покурю.
В голубеньких глазках господина Бергмана метнулось безумие.
— Этого нельзя делать! — закричал он шепотом.
— Ерунда. Мне надо покурить, мне надо в туалет.
Почему я должна все это терпеть? Мы же не под арестом.
Я толкнула дверь и вышла. Господин Бергман остался ждать служителя. Его состояние можно было определить как близкое к прострации.
По лестнице в пять мраморных ступеней я поднялась к выходу из сейфового зала и остановилась в нерешительности. В туалет мне было не надо, курить я тоже не хотела.
Но я сконцентрировалась, отыскала туалет, воспользовалась им, исключительно тщательно вымыла руки.
Критически оглядев в зеркале над умывальниками свое ничего не выражающее лицо, попудрила его. После чего причесалась. Испытывая к себе стойкое отвращение, отвернулась от зеркала и отправилась на поиски места для курения. Отыскав нужное место, я села на кожаный диванчик и, поставив на колени сумку, стала шарить в ней в поисках сигарет.
Мои пальцы перебирали всякую мелочь внутри сумки и вдруг наткнулись на конверт, полученный от господина Скоробогатова. «Вдруг» потому, что я про него совсем забыла…
Я раскрыла конверт и отыскала ответы на все вопросы. На том самом листке, где под номером один значился телефон господина Бергмана, под номером два — Швейцарский национальный банк, были еще номер три и номер четыре.
Теперь трудность вызывали только цифры шифра, которые я вроде как должна была знать. Я их не знала.
Не знала потому, что не встретилась с господином Скоробогатовым перед отъездом. Он бы мне их сообщил.
Или нет? Не знаю.
Он записал для меня инструкцию на листке. Весьма подробно. Я повертела листок в руках, тщательно рассматривая со всех сторон вдоль и поперек. Никаких цифр.
Да, мое затмение рассудка дорого мне будет стоить. А может, и не мне одной.
Ну, все. Покурила. Надо возвращаться. Разве что еще раз сходить в туалет.
Может, пойти и попросить Бергмана перенести все на пятницу? И за это время связаться с Костей…
Ой, мамочка! У меня все зубы заныли. Как я скажу господину Бергману? После утреннего телефонного хамства… После всей этой беготни по банку… Ой! Ой! Как живот болит… А Костя… Какой он мне после всего Костя? Господин Скоробогатов. Нет, нет, нет. Только не это…
Как бы хорошо сейчас умереть! Сразу. Тихо и достойно.
Еще до разоблачения. Умереть и не видеть ни господина Бергмана, ни господина Скоробогатова.
Ну почему я такая несчастная?
Я шла и шептала: «Цифры, цифры…» И вдруг подумалось: настоящий виновник сегодняшнего кошмара — Академик. Это он втравил меня в историю, взял с меня клятву, что я выполню его последнюю волю. Вот я и выполняю.
Это Академик подсунул мне Скоробогатова, а Скоробогатов, вместо того чтобы ехать самому с цифрами, которые знает, послал меня…
Минуточку. Послал меня. В институт красоты.
Нет, в клинику омолаживания. Да нет… Черт, как это называется? Какое-то время мозги прокручиваются вхолостую.
Ну а какая разница? Послал не в банк, а лечиться от старости. Якобы. Легенда такая. Почему? Зачем?
Секрет от кого-то. Моя поездка ради выемки документов от кого-то тайна. Вон как.
Может, это опасно? Но тогда бы Костя меня ни за что не послал. Он бы сам поехал. Тем более он цифры знает, а я нет. Если только… Если только что? Если только я цифры знаю, а он нет.
А какие я цифры знаю? Ну, вообще-то разные.
Много. Номера телефонов, цены, адреса, даты…
Стоп. Академик в последние месяцы жизни все время спрашивал, помню ли я полную дату нашего бракосочетания. Ясно вспомнилось. Напряженный голос, странное волнение в усталых, обведенных темными кругами глазах.
— Леночка, запомни, если тебе будет нужна цифра — к полной дате нашего бракосочетания прибавь полную текущую дату. Очень хорошо для шифра…
Господи, он меня тогда просто достал. Я диплом писала, а он — свое.
— Давай посчитаем, Леночка.
Каждый день. Я не спорила, играла с ним. Вот оно.
К Бергману я вернулась уверенная в себе и спокойная. Одновременно со мной появился служитель и открыл сейф. Мы с господином Бергманом произвели все, что подлежало по инструкции господина Скоробогатова (по завещанию Академика, как теперь знала я).
Я попрощалась с господином Бергманом, заклиная его в дальнейшем строго выполнять все распоряжения господина Скоробогатова. Он рассыпался в заверениях, что так и будет, и покинул меня с нескрываемым облегчением.
* * *
Господин Бергман захлопнул за мной дверцу машины, в последний раз махнул мне рукой, и я поехала в клинику.
Не знаю, с чем связан мой следующий поступок, то ли с возвращением рассудка, то ли с переходом безумия в другую стадию. Но, сидя в такси, я вдруг переменила решение немедленно ехать в клинику и велела шоферу поворачивать к гостинице.
В номере было пусто. Я воспользовалась одиночеством, чтобы привести в порядок свои мысли. Скинув туфли, я улеглась поверх покрывала на постель и погрузилась в раздумья до того момента, пока вернувшаяся со спектакля Наталья не разбудила меня.
Я проснулась полная сил и с твердым намерением ничего не предпринимать до пятницы.
Этого благого намерения хватило на среду. Я весь день провела в номере, читая немецкий любовный роман и хохоча как сумасшедшая. Еду я заказывала в номер и, поглощая ее, не переставала читать. За что чуть не поплатилась жизнью, когда приступ смеха застал меня в момент пережевывания мяса с картофельным пюре.
Утром в четверг я снова осталась в одиночестве (Наталья-то в отличие от меня приехала работать и в номере не сидела).
Я отодвинула шторы и полюбовалась видом из окна, потом приняла душ и позавтракала.
Заняться было нечем, разве что опять завалиться на кровать с книжкой. Но в то утро чужие страдания что-то не влекли. Я побродила по номеру и вдруг испытала острый приступ клаустрофобии.
Сидеть в четырех стенах стало невозможно, и я нашла себе дело. Дела с перерывом на обед хватило на весь день.
Я подъехала к началу прощального спектакля моих друзей. Оставалось всего несколько минут, я волновалась, боясь опоздать. Наталья взяла с меня слово, что я обязательно буду.
Гастроли русского молодежного театра вызывали интерес. Спектакли шли с аншлагами. В фойе толпилась изысканная публика.
Я остановилась перед большим зеркалом и с удовольствием осмотрела себя с ног до головы. Нет, день прожит не зря.
В антракте я отправилась за кулисы, и все встречные-поперечные провожали меня взглядами. В большинстве взглядов сквозило восхищение, в некоторых зависть. Нет, день прожит не зря.
Наталья в грубом гриме и робе из мешковины сидела в своей гримерке, задрав на стул ноги, и с отвращением смотрела на себя в зеркало.
Хотя, на мой взгляд, причины для отвращения у нее не было. Играла она прекрасно. Впрочем, кто их, актеров, поймет?
В зеркале отразилось мое лицо, и глаза Натальи полезли на лоб.
— Олька? — неуверенно начала она, скинув ноги со стула и приподнимаясь. — Нет. Ой, кто вы? — испугалась девушка.
Это было именно то, что я хотела. День прожит не зря.
Черный парик, синие линзы и темная тон-пудра изменили мое лицо. Кожаный костюмчик и высокие каблуки сделали неузнаваемой фигуру.
То, что я получилась похожей на Ольгу, было чистой случайностью, но очень удачной, и всем страшно понравилось. Артисты веселились словно дети. Они называли меня Олечкой все время, пока мы пили в ресторане, отмечая окончание гастролей.
Было шумно, весело, душевно… Как бывает только в пьяной актерской компании. Мы все отдыхали душой. Но ресторан закрылся. Тогда мы поехали в гостиницу, забрали вещи, выписались и отправились в аэропорт. Там ресторан работал круглосуточно.
Мы продолжали кутить в ожидании нужного рейса.
Мои друзья должны были улететь поздней ночью, вернее даже, очень ранним утром.
* * *
Я очень устала за ночь и, проводив друзей, расположилась в одном из кресел в зале ожидания и вытянула гудящие ноги. Они сразу привлекли внимание какого-то хорошо одетого господина моих лет (имеется в виду мой возраст по паспорту).
Господин обратился ко мне по-немецки. Я ответила. Немец обрадовался и оживленно залопотал, признав во мне соотечественницу.
Герр Гросс наговорил мне комплиментов, вручил свою визитку и с откровенно огорченным выражением поспешил регистрироваться на франкфуртский рейс.
Я же, гордая своим берлинским произношением и отягощенная выпитым за ночь, продолжала оставаться на месте и продолжала оставаться немкой. (Ну вроде как.) Причем настолько вжилась в роль, что на обращенный ко мне по-русски вопрос машинально отреагировала недоумением: «Вас?»
Мужчина повторил вопрос на приличном немецком языке явно московского разлива. Я заинтересованно взглянула на него. Для моего интереса было несколько причин. Во-первых, он был молод и хорош собой, во-вторых, он был русский, а в-третьих, он спросил:
— Не объявляли ли посадку московского рейса?
Этот мужчина пришел встречать самолет, на котором я прилетела бы из Москвы, не случись со мной приступа помешательства. В приливе неожиданного раскаяния я призналась себе, что причиной приступа была ревность, то есть я признала, что помешалась от ревности. Это самопризнание очень расстроило меня, и я обиделась на симпатичного мужчину.
Не подозревая о вызванных им чувствах, мужчина уселся в кресло, соседнее с моим, и достал из кармана фотографию.
Я покосилась через плечо на снимок, и мой рот сам собой широко раскрылся. На паршивеньком полароидном снимке вполне различимо было только лицо. Я, судя по всему, не позировала, да и вообще о съемке не подозревала. Просто что-то кому-то говорила, нахмурив брови и опустив уголки рта, недовольно и сурово.
В моей голове не появилось ни одной мысли. Я сидела рядом с человеком, который зачем-то держал в руках мою фотографию, и даже не пыталась понять, что бы это могло означать. Мне было тоскливо и страшно.
Мимо потянулся косячок пассажиров московского рейса. Такие привычные, узнаваемые лица, отличающиеся от других европейцев — скучных и пресыщенных. В глазах наших — жажда жизни и жадный интерес к окружающему. Мне захотелось присоединиться к ним, будто я только что прилетела, как и планировал господин Скоробогатов.
Но приходилось сидеть и ждать. Я и ждала — неизвестно чего, но очень терпеливо. Притаилась, словно кошка перед мышиной норкой, и ждала.
Дождалась. Через несколько минут после того, как стеклянные двери пропустили последнего «москвича», откуда-то вывинтился коротко стриженный качок в очень хорошем, но как будто великоватом ему костюме.
Я знаю, что может скрывать такой мешковатый пиджак. Юра неизменно сопровождает меня в таком пиджаке. Но Юра его обычно не застегивает, а у крепыша пиджак застегнут.
Мое кресло расположено так, что с одной стороны кресло занято держателем фото, а с другой стороны свободное. Крепыш поворачивает в мою сторону круглую голову. Я вижу это сквозь щелочки под опущенными ресницами. Он явно собирается попросить меня пересесть, но, убедившись, что я крепко сплю, остается стоять.
— Ну что? — спрашивает тот, что сидит.
— Стюардесса ее не помнит. Она говорит, что свободных мест в бизнес-классе не было.
Я мысленно хвалю Юру. Молодец. Пристроил билет, который я ему сунула уже в аэропорту, улетая с театром.
— А у тебя что? Не видел? — теперь интересуется качок.
— Нет. Никого похожего.
Голос соседа звучит удрученно. Его собеседник тоже расстроен.
— Странно! Не могли же мы ее пропустить…
Парни говорят по-русски, быстрым шепотом, просто на всякий случай. Они уверены, что спящая рядом немка если и слышит их, то не понимает.
— Что будем делать? — спрашивает стоящий. Мне ясно: он признает первенство напарника.
— Поедем в гостиницу.
В эту минуту моя сумка, до сих пор лежавшая у меня на коленях, падает на ногу стоящему. От неожиданности он громко, словно заказывая в кабаке, восклицает: «Блин!», и я делаю вид, что просыпаюсь.
Секунду мои глаза, мои ярко-синие глаза, непонимающе смотрят на юношу. Потом я понимаю, как он хорош, и со сладкой улыбкой интимно шепчу-выдыхаю немецкое извинение. Мальчонку проняло. Он тоже улыбается и наклоняется за сумкой. Я тоже наклоняюсь, и мы вперяем глаза за пазуху друг другу.
То, что увидел парень, ему, судя по участившемуся дыханию, понравилось.
То, что увидела я, мне не понравилось совсем. Хотя подтвердило мою догадку.
Сдвинувшийся с литого плеча пиджак оголил полоску толстой коричневой кожи. Плечевая кобура.
Парни уже ушли, а я сидела, уяснив, что они вооружены и ищут меня.
* * *
К счастью, в туалете было пусто. Я без помех избавилась от парика и линз. Долго с удовольствием умывалась теплой водой, тщательно смывая с лица темную пудру.
Маскарадный костюм был свернут и убран в полиэтиленовый пакет. На мне снова красовался привычный наряд из пестрой длинной юбки и светло-оливковой кофточки, на ногах удобные легкие туфли без каблуков.
Светло-каштановые короткие кудри, ореховые глаза в черных пушистых ресницах, очень белая чистая кожа — мой обычный неяркий облик переполнил мое сердце нежностью.
В сопровождении парнишки в картузике отеля, с моим чемоданом в руке, я переступила через порог роскошного вестибюля. Прямо передо мной помещалась полированная стойка портье. А прямо перед ней помещался… Я затаила дыхание. У стойки спиной ко мне стоял тот самый мужчина из аэропорта.
Не желая мешать ему, я опустилась на ближайший диванчик. Парнишка поставил рядом со мной чемодан, подкинул и поймал полученную от меня монетку и удалился. А я склонилась над раскрытой сумочкой, близоруко приблизив к ней лицо.
Мои мозги лихорадочно крутились, решая, как поступить. Я не знала, что делать: постараться остаться незамеченной? Или, наоборот, обнаружить свое присутствие? Мне не были ясны цели противника. Убедиться в моем приезде? Проследить мои действия? Убить меня?
Ну нет. Убивать — это уж слишком. С чего им меня убивать? Совершенно не с чего. Может, это вообще Костины люди. Да. И он всего лишь хочет убедиться, что со мной все в порядке. Ну конечно. И послал вооруженных громил с моей фотографией, сделанной скрытой камерой. На которой меня и узнать-то трудно. И это при том, что в его распоряжении десятки моих фотографий, сделанных профессионалами.
«Не дури! — приказала я себе. — Конечно, страшно и хочется себя успокоить, но считать себя идиоткой не стоит». Пока я так себя отчитывала, вопрос «показываться — не показываться» отпал сам собой.
Парень отошел от стойки, окинул взглядом вестибюль, задержал взгляд на мне (я замерла), не узнал, о чем-то поразмышлял и вышел, решительно шагая.
Я метнулась к окну. Парень сел в темно-синюю машину на место пассажира, и машина уехала.
Портье с предупредительной улыбкой взял у меня из рук документы. Прочитав фамилию, он внимательно взглянул на меня. Его глаза оказались водянисто-голубыми и невыразительными.
— Сожалею, мадам, но вас только что спрашивали.
— Кто? — изобразила я удивление.
— Он сказал, что ваш соотечественник и хочет с вами встретиться.
— Как его имя?
— Он назвался, но я не запомнил. Русские фамилии такие трудные.
Портье приподнял плечи и развел руки, изображая огорчение, которое, судя по его виду, испытывать был просто не способен.
— Жаль, что он меня не дождался…
— Он сказал, что, возможно, зайдет позже.
— Очень хорошо. Любому, кто будет мной интересоваться, говорите, что я приехала, но пока недоступна. Вечером начну отвечать на телефонные звонки. Пока же ни с кем не соединяйте. Только с Москвой.
— Слушаюсь, мадам. — Он склонил голову. Чуть набок. Экий шельма. Значит, говоришь, трудные у нас фамилии?
Я похрустела франками и дала похрустеть ему, но он не стал, сразу спрятал добычу в карман.
* * *
К клинике я прибыла в кортеже, состоящем из двух машин. Впереди не спеша двигалось такси с моей персоной в качестве седока, позади синяя машина эскорта, в которой помещались мои приятели.
Для удобства я их поименовала. Один получил название Качок, другой — Милашка.
Встретили меня в клинике радостно и всемерно обласкали.
В светлом нарядном кабинете мужчина в шуршащем от крахмала коротком голубом халате доброжелательно и подробно выспросил историю моей жизни.
Особенно его интересовали ужасы, трагедии и болезни. Он снова и снова дотошно уточнял, когда и чем я болела.
Мужчина перебирал мои болезни, а я рассматривала его. У него был длинный нос (я бы такой носить не стала) и мешки под глазами. Данное место что-то перестало мне внушать доверие. Один из принципов моей жизни: не стригись у плохо причесанного парикмахера, не лечи зубы у стоматолога с гнилыми зубами, не шей сапоги у босого сапожника… И так далее…
Однако оказалось, что подозрительный с точки зрения красоты мужчина — терапевт.
Я, несколько успокоенная, перешла в другой кабинет, где успокоилась окончательно. За собственно мою красоту отвечала женщина с идеально гладким розовым лицом и холеными руками.
Дама усадила меня в специальное кресло наподобие зубоврачебного и направила на мое лицо свет. Сама вспорхнула на высокий табурет и принялась придирчиво разглядывать мое лицо и шею. При этом мадам Жаклин щебетала по-французски:
— У вас чудесная кожа! Очень эластичная! Можно подтянуть здесь и здесь, — она легко прикоснулась к моему лицу кончиками пальцев, — и вы сбросите двадцать лет. Мадам замужем?
— Да.
— У вас с мужем существует разница в возрасте?
— Да.
— Значительная?
— Хочется думать — нет.
— После операции вы будете выглядеть лет на двадцать — двадцать пять моложе своего мужа. Представляете? Это будет так забавно.
— Я не хочу выглядеть на двадцать пять лет моложе своего мужа.
— Нет? — растерялась мадам Жаклин.
— Нет.
— А на сколько лет вы хотите выглядеть?
— Меня устроит тридцать пять — тридцать восемь лет.
— Но вы и теперь так выглядите.
— Не всегда. Если высплюсь. Ну и все остальные манипуляции. Хотелось бы стабильных тридцати пяти.
И не только лицо, но и тело. И еще, нельзя ли обойтись без операции?
Мадам Жаклин задумчиво разглядывала меня.
— Пожалуй. Понадобится ряд консультаций с коллегами, но, думаю, в вашем случае это возможно. Единственно…
— Что?
— Все эти методики требуют времени и средств.
— У меня есть и то и другое.
Я со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами расположилась в отведенном мне помещении.
Лечили меня на совесть и очень интенсивно. Каким только экзекуциям я не подвергалась! Уколы, массажи, растяжки, эпиляции, маски, чистки кожи, ванны, кварцевые облучения… И все это снова и по несколько раз на дню. Меня истязали в тренажерном зале, заковывали в панцирь из лечебной грязи, кормили по особой системе. Я и спала по какой-то системе. Из меня изгоняли шлаки. И еще что-то изгоняли… С меня сняли верхний слой кожи вместе с волосами, оставив кое-где на теле и на голове. Волосы на голове тоже претерпели ряд манипуляций.
Не все творимое надо мной было приятным и безболезненным. Но несмотря на все истязания, а может, благодаря им мое внешнее и внутреннее состояние улучшилось. Я не сразу почувствовала это, зачумленная вереницей процедур. Но настал день, когда я увидела в зеркале лицо той Лены Серебряковой, какой была лет пятнадцать назад, когда в толпе девочек-старшеклассниц, наполнявших в то время наш дом, бегала в театры, на выставки, на каток… Врачи «переложили» стараний и «вылечили» меня до тридцати лет.
Я еще с огромным удовольствием покрутилась перед зеркалом и, потряхивая пушистыми и неожиданно сильно отросшими волосами, поскакала на очередную процедуру.
Курс моего лечения заканчивался, все уколы и процедуры были отменены, и остались кое-какие мелочи да прохождение контрольного дня, после которого могла быть оценена эффективность лечения.
Я все больше скучала по дому, считала уже не дни, а часы. Представляла, как предстану перед глазами господина Скоробогатова юной красавицей. От этих мыслей мое сердце начинало учащенно биться, а рука тянулась к телефону. Так хотелось услышать милый глуховатый голос. Но я не звонила, выдерживала характер. За все это время позвонила в Москву только один раз. Опять никого не было дома. Я наговорила на автоответчик очередное обещание позвонить, как только приеду. Интересно, где можно постоянно пропадать?
* * *
Это было в первой половине дня. Я только что приняла фитомаску для лица и теперь сидела в холле, выжидая положенные полчаса.
Иллюстрированный журнал, который я подобрала на столике, не заинтересовал меня. Полуобнаженные красотки вызывали снисходительную усмешку. Куда им до Елены Сергеевны!
Короче, я была преисполнена самодовольства и самолюбования. Очевидно, один из побочных эффектов лечения.
Отложив журнал, я вытянула ноги и начала оглядывать холл. Кресло было удобным, настроение и самочувствие — прекрасным, поэтому я оглядывала холл вполне благожелательно.
В большое, прекрасно освещенное и обставленное квадратное помещение выходило несколько дверей. Я полюбовалась зеленью и картинами на стенах и сосредоточилась на женщине, которая кружила по холлу и тыкалась во все двери.
Ни одна из них ей не подошла. Женщина плюхнулась в соседнее с моим кресло и, чертыхаясь вполголоса, начала рыться в большой кожаной сумке.
Я скосила глаза и повнимательнее к ней пригляделась. Лет тридцати, довольно упитанная, натуральная блондинка с голубыми глазами и с веснушчатым розовым лицом.
— Вы что-то ищете? — спросила я по-русски.
— Вы моя соотечественница? — обрадовалась женщина. Она рывком повернулась ко мне и теперь улыбалась мне в лицо. Зубы у нее были крупные, здоровые, несколько желтоватые. Пальцы, сжимавшие ручки сумки, длинные, толстые, с крупными крашеными ногтями и с несколькими неплохими перстнями.
Я приветливо ответила на ее улыбку и уточнила:
— Скорее всего бывшая.
В безупречном русском блондинки проскальзывали едва заметные звуки, выдававшие ее прибалтийское происхождение.
— Разве вы не из России? — спросила она.
— Разве вы не из Латвии? — спросила я.
— Да. Правда. — Казалось, женщина растерялась.
— Вы ведь латышка?
— Конечно, — все еще растерянно согласилась женщина и словно вдруг нашлась, обрадованно заявив:
— Но ведь мы все недавно были советскими.
Верно?
— Верно.
(Как и то, что мало кто из латышей любит об этом вспоминать. И уж совсем не в привычках латышей признавать за границей русских за соотечественников. Забавная бабенка.).
Мое настроение уже не было благодушным. Дама же, не снимая с лица улыбку, предложила:
— Тогда, может быть, познакомимся? Я Лайма Кауниньше.
Я назвала себя, и мы церемонно коснулись пальцев друг друга. Пальцы Лаймы оказались мягкими, холодными, влажными. Они заметно подрагивали, и ей пришлось снова вцепиться в ручки сумки. Дама явно нервничала. Хотя старалась этого не показывать.
Мне не хотелось начинать разговор. Я сидела, молчала и смотрела в розовое лицо визави благожелательно и сонно. Лайма поерзала. Ее отлично сшитая юбка задралась, оголяя тяжеловатые бедра, но она не обратила на это внимания. Женщина глубоко вздохнула и заговорила с душераздирающей искренностью. А ее пальцы терзали многострадальную сумку.
— Все так непросто, так непросто! Появились деньги. Решила заняться своим лицом. Пора. Мне ведь уже двадцать пять. — «Да? Ну-ну…» — А здесь запись на годы вперед. В другую клинику я не хочу. Эти люди мне отказали. У меня здесь, в Женеве, живет знакомая. Я ее просила. Она нашла возможность устроить мне консультацию. И вот я приехала. Хожу, хожу, а врача с такой фамилией никто не знает. Представляете?
Она говорила вроде бы взволнованно, но ее речь была связной и гладкой. Из нее почти исчез акцент.
Почему? Она что, репетировала? Занятно.
— Представляете? — настойчиво повторила Лайма, отрывая меня от мыслей.
— Да, — кивнула я сочувственно и предположила, чтобы просто что-нибудь сказать:
— Может быть, вы перепутали фамилию врача или не правильно ее произносите?
Моя реплика оказалась удачной. Лайма буквально просияла.
— Вы думаете? Ну конечно, такое вполне возможно. Знакомая диктовала мне фамилию по телефону, я могла не расслышать, — обрадованно протараторила она и умоляюще сложила ладони у пышной груди. — Елена, золотко, не могли бы вы проводить меня к телефону? Умоляю. — Она просительно улыбнулась и шутливо добавила:
— Помогите бывшей соотечественнице.
— Ну что ж… — Я встала.
Я оставила Лайму у телефона-автомата и успела сделать всего несколько шагов, когда она, запыхавшись, догнала меня.
— У подруги никто не отвечает, — сокрушенно сказала приставала и посмотрела на меня жалобно, как сиротка.
Можно было, конечно, ее отогнать и посмотреть, что будет дальше, но я не садистка, и мучить людей мне не нравится. К тому же было ясно, что я Лайме нужна позарез (зачем?), и было лень сопротивляться неизбежному.
В результате всех этих размышлений я бодро предложила:
— А что, если я угощу вас кофе? У меня есть около часа свободного времени, мы скоротаем его вдвоем, а там, глядишь, и ваша подруга объявится.
Честное слово, она только что не плакала от счастья. Ее ярко-голубые, как у фарфоровой куклы, глаза (сравнение, конечно, заезженное, но в данном случае лучше не скажешь) сияли любовью, когда она трясла обе мои руки своими цепкими пальцами.
Мы прошли в мои апартаменты и, заказав кофе, устроились на балконе. Лайма завистливо оглядывалась вокруг.
— У вас удобное помещение. Дорого?
— Понятия не имею. — Я равнодушно пожала плечами.
— Как это? — не поверила Лайма. А кто бы поверил?
— Очень просто. Это компенсация.
— Компенсация? От кого? И за что?
— От мужа. За причиненный урон.
— Простите, я не понимаю. Конечно, это невежливо — расспрашивать вас, но вы заинтриговали меня.
— Все очень просто. Мой муж расплачивается за совершенное.
Я вздохнула, помолчала, взглянула в полные жадного любопытства глаза, снова вздохнула и печально проговорила:
— Я застала его с другой женщиной.
— В постели?! — подалась вперед Лайма. В уголках ее приоткрытого рта появились капельки слюны.
Я от негодования предельно выпрямилась на стуле и поджала губки.
— Еще чего! Он бы не посмел. Но он обнимал девушку за талию. — Я снова вздохнула, опечалясь. — Представляете? Молодую девушку. Она на четверть века моложе меня.
Лайма с сомнением взглянула на мое лицо.
— Что вы смотрите?
Меня обидело ее недоверие. Я вообще очень чувствительна, к тому же говорила правду. Оказывается, эта история сильно меня задела, и я с удовольствием облегчила душу, произнеся все вслух.
— Что вы смотрите? Я заканчиваю курс омолаживания и вообще имела в виду свой паспортный возраст.
Лайма опомнилась и принялась всячески выражать сочувствие. Потом вернулась к тому, что ее действительно интересовало. Она обвела рукой вокруг:
— Ваш муж может себе это позволить?
— Может! — отрезала я, давая понять, что дальнейшие вопросы нежелательны. Но моя гостья этого понять не захотела.
— Он богат? О, какая вы счастливица! А чем он занимается?
— Всем понемногу. Меня это не интересует.
— Но ведь это жизнь вашего мужа. Неужели вам не хочется в ней участвовать?
Я решила еще немного пожаловаться. На мои глаза набежали слезы. По крайней мере глаза слегка покраснели после того, как я потерла их платочком.
— Ах, Лайма, вы удивительно чуткая девочка. — «Девочка!» — Я просто мечтаю разделить с мужем все тяготы его бизнеса. Но я так непрактична, так бесполезна, так далека от всего.
Я сокрушенно покачала головой. Помолчала. Сделала глоток кофе. Потом, решив не разочаровывать чуткую девочку совсем, похвасталась:
— Но иногда муж дает мне небольшие поручения. Совсем незначительные. Но я так горжусь своей помощью ему. И он всегда оплачивает мой труд.
Это так приятно — иметь собственные заработанные деньги… — Я закатила глаза и добавила скромно:
— Пусть совсем немного. Всего несколько десятков тысяч долларов.
В глазах Лаймы полыхала ненависть. Она подобрала отвисший подбородок и со свистом переспросила:
— Несколько десятков тысяч долларов?
— Ну да… — Я доверительно приблизила свое лицо к ее. — Между нами. Мой муж скуповат и не переплатит лишней копейки даже родной жене. Но я и этому рада.
Лайма залпом выпила кофе. Она молча таращила на меня фарфоровые глаза. Очевидно, приводила в порядок потрясенные мысли. Потом заговорила утомленно, словно по обязанности:
— А в Женеве у вас нет маленького поручения?
Вот оно! Я даже огорчилась. Ну чего ж ты так — в лоб? Главный вопрос надо задавать как бы между прочим. Но я решила не придираться. Сама ведь виновата — деморализовала девушку. Так что удовлетворим ее любопытство.
Выражение моего лица меняется. В глазах появляется недоверие. Я смущенно их отвожу и неуклюже перевожу разговор, суетливо двигая руками:
— Простите, я совсем забыла. Мне надо идти. То есть я должна увидеть своего врача. Извините… Я не знаю…
Я вскочила, схватила Лайму за руку и потащила ее к двери, всем своим видом демонстрируя смятение.
* * *
Следующий день в клинике был предпоследним. Вообще-то он должен был быть последним. Но самолет, на котором я собиралась вернуться домой, вылетал в первой половине дня. Возиться с заселением в гостиницу на одну ночь мне не хотелось. Администрация клиники охотно пошла мне навстречу и позволила остаться до утра.
Я подписала все бумаги, получила выписки, распрощалась со всеми, кто мной занимался, и готовилась лечь спать.
Утром планировалось совершить небольшую экскурсию по городу, заехать в пару магазинов за сувенирами и отбыть на Родину.
Мне уже слышался вздох облегчения, с которым Костя обнимет меня. Он всегда вырывался из груди мужа, когда после разлуки его руки смыкались вокруг меня.
Как всегда, соскучившись, я забывала считать наш брак фиктивным и думала о господине Скоробогатове как о муже, Косте.
Был ранний вечер. Делать было совершенно нечего. Это казалось странным после расписанных по минутам, спрессованных дней лечения.
Я лежала в халате поверх покрывала на широкой и плоской, как аэродром (конечно же, лечебной), кровати, заложив руки за голову. Мои мысли были далеко-далеко — в Москве. Я представляла, как войду в свою квартиру, захлопну дверь и, оставив за ней Милашку, Качка, Лайму и весь белый свет, почувствую себя в безопасности.
Но не в одиночестве — привычно опечалилась я.
* * *
Жить в Москве опасно. Это аксиома. Беда подстерегает каждого. Это может быть случайный наезд, случайная пуля, случайное нападение. Для многих, вернее, для большинства москвичей опасность носит скорее случайный характер. Ее вероятность на самом деле невелика. Правда, это мало утешает тех, кому выпадает трагический жребий. Но все-таки.
Кроме того, есть в столице люди, для которых вероятность беды гораздо выше средней. Ну прежде всего те, кто стоит по обе стороны закона… Еще кое-кто…
Те, у кого есть деньги.
Мы попали в «группу риска» около трех лет назад.
Нет, меньше, когда бизнес господина Скоробогатова окончательно оформился. Какие-то меры охраны принимались уже тогда. Но личная охрана у меня появилась два года назад.
Ограбили квартиру московской жены Степаняна — цветочного монополиста. При ограблении пострадала домработница — дуэнья.
Господин Скоробогатов отреагировал мгновенно и однозначно.
Поначалу за мной приглядывали в очередь Саша и Витя — двадцатилетние дембели, веселые здоровые лоботрясы. Но что-то в них господину Скоробогатову не понравилось. Тогда в моей жизни появился Юра. Он остался со мной и после того, как кормилец переехал в «домушку».
* * *
Мои прежние телохранители поглядывали на охраняемое тело (мое) с нескрываемым интересом. Меня это забавляло и тонизировало.
Юру женщины не интересуют. У него где-то под Каширой служит лесником любимый человек, и два раза в месяц Юра его навешает. Меня на это время загоняют в «домушку», и мы с Костей снова живем семьей.
Поначалу я приглядывалась к Юре с недоверием и чувствовала себя с ним неловко, не зная, как себя вести. Но со временем убедилась, что, если не принимать во внимание лесника, Юра нормальный парень, неглупый и надежный. Его странности (если они и были) внешне никак не проявлялись. Я привыкла к своему телохранителю, прекрасно с ним ладила и полностью доверяла.
* * *
Я лежала, закрыв глаза, и представляла себе Костю. Нет, не господина Скоробогатова.
Синий махровый халат распахнут и обнажает широкую мускулистую грудь. Я прижимаюсь к груди щекой, слышу сбивчивое биение сердца, ощущаю теплую кожу, шелковистые волоски.
Костины пальцы разбирают мне волосы. Я заранее жмурюсь, зная, что сейчас будет, и тихонько смеюсь, когда горячие губы щекотно прижимаются к макушке.
Как же я соскучилась! Я не помню ни обид, ни подозрений. Я соскучилась…
Если ничего не случится, завтра я заставлю его ночевать в моей квартире, даже если он будет сопротивляться. Если понадобится, я его свяжу.
Я никак не могу представить себе Костю, отказывающего мне в близости. Это веселит и радует меня.
Я проснулась от телефонного звонка. Это дежурная. Она сообщила, что в холле меня ждет посетительница. Я пообещала спуститься через десять минут и отправилась привести себя в порядок.
Лайма встала мне навстречу. В элегантном костюме, тщательно причесанная и накрашенная женщина с тревожным неуверенным взглядом. Пальцы, как всегда, сжимали ручки сумочки.
— Я снова посещала клинику и осмелилась нанести вам визит.
— Я рада. Как ваши дела? Вам удалось отыскать врача?
— Да. Но, к сожалению, он в отпуске. Так что придется, видимо, вставать в общую очередь.
— Ничего страшного. Вы еще очень молоды. Время для вас не критический параметр.
— Вам так кажется? Спасибо. А как ваши дела?
— Прекрасно. Сегодня последняя ночь в клинике.
Завтра буду дома.
В голубых глазах паника.
— Так вы завтра уезжаете?
— Да. И очень рада. Муж ждет меня.
Лайма теребила ручки своей сумочки и не знала, на что решиться.
Ей явно была нужна помощь. Но я ей не помощница. На несколько минут повисло молчание. Я равнодушно рассматривала свой собственный маникюр. Лайма лихорадочно мыслила.
Наконец ее мыслительный процесс закончился. Удачно. Дама жизнерадостно улыбнулась и хлопнула ладонями по полным бедрам.
— А что, если мы пропустим по рюмочке? — с подъемом предложила она.
— В честь чего? — не отказала я.
— За знакомство.
— Ну что ж… — Я одобрила идею.
В кафе при клинике спиртного не подавали. Мы заказали кофе, и Лайма отпросилась в туалет.
Вернулась она просветленная и с четкой целью. Что неудивительно, если учесть соседство туалета с телефоном-автоматом.
Лайма не стала откладывать и сразу взяла быка за рога. (Что, как я заметила, вообще было ей свойственно.).
— Елена, вчера вы были так добры ко мне. И вообще вы мне очень понравились (ладони к груди — жест признания). Мне бы очень хотелось продолжить наше знакомство. Я приглашаю вас поужинать со мной.
— Пожалуй. Все равно мне нечем занять сегодняшний вечер. Но две женщины в вечернем ресторане… Боюсь, это не совсем удобно.
Но она была готова к подобным возражениям. Ее глаза засияли еще ярче.
— С этим все будет в порядке. Я сейчас же позвоню моему кузену. Он очень милый и приличный молодой человек и будет рад сопровождать нас.
* * *
Кузен Лаймы действительно оказался очень милым и приличным молодым человеком. Лайма представила мне его, и он склонил к моей руке красивую голову:
— Влад.
(Понятно? Влад, а не Милашка. И все-таки мой круг знакомств не расширился. Но я не огорчилась.
Пусть будет Влад. Какая разница?).
Итак, в чудесный летний вечер я сидела в уютном зале очень хорошего ресторана в компании Лаймы и Влада.
Мы уже выпили, закусили и, лениво переговариваясь, ждали горячее.
Влад с первой минуты играл влюбленность. По ювелирной отработанности приемов легко угадывался большой опыт общения Милашки (тьфу ты, Влада) с дамами бальзаковского и постбальзаковского возраста.
Он смотрел на меня влажными телячьими глазами и все норовил ухватить за руку. Его глаза погружаются в мои, еще больше влажнеют, прикрываются тяжелыми веками. Чувственные красные губы улыбаются ласково и хищно.
«Каков артист!» — восхищалась я мастерством кавалера. Влад весь вечер вел себя так, будто мы одни за столиком.
Лайма не выглядела обиженной, сидела тихонько, ела с аппетитом и пила, наливая себе сама.
— Потанцуем? — интимно промурлыкал Влад.
Он прекрасно двигается, у него пластичное тренированное тело.
Я оперлась спиной о его сильные руки, обняла его за шею и отдалась танцу. Я очень люблю танцевать, умею это делать и в руках достойного партнера получаю от танца ни с чем не сравнимое удовольствие. Владу тоже понравилось танцевать со мной, и какое-то время мы просто танцуем. Получается у нас хорошо, и, когда танец кончается, все вокруг аплодируют нам.
Влад, растроганно и смущенно улыбаясь, поцеловал меня. Поцелуй пришелся в уголок губ и выглядел вполне мотивированным.
Влад обнял меня в новом танце. Он прижимается щекой к моей щеке. Его щека горячая и немного колется.
Я снова вспоминаю Костю. Вспоминаю первые дни нашего брака. Тогда у меня на лице частенько появлялось раздражение. Костя любит потереться щекой о мое лицо. Просто так. Это у него такая ласка. Даже днем. Вдруг потянется, потрется щекой. (Хотя днем я нежности всегда пресекаю.) Он сам заметил, что у меня раздражение от его небритых щек. И теперь прикасается ко мне, только тщательно выбрившись.
Я загрустила о Косте. Влад щекотно водил губами у меня за ухом. Странно, мне это не неприятно, но желание не просыпается. Мое тело не реагировало на близость молодого жадного самца. А Влад продолжал стараться. Зачем? Чего он добивается?
В зале душно, и Влад предложил выйти на открытую веранду. Лайма отказалась. Она уже изрядно выпила и продолжала справлять свой собственный праздник.
Мы прошли через стеклянную дверь и вышли на каменную, огороженную бетонной балюстрадой площадку. Слева в тени притаилась обнимающаяся парочка.
Мы встали справа, и Влад осторожно обнял меня за плечи. Я отстранилась, но нерешительно, словно нехотя.
Влад не настаивал. Он встал рядом, прижался ко мне плечом. Его взгляд устремился в темноту.
— Леночка, вы самая красивая женщина из всех встреченных мной. Я не знаю, что со мной. Не понимаю.
Он уронил лицо в ладони, потом поднял его, приблизил к моему. Его глаза лихорадочно блестят, голос дрожит вполне натурально.
— Леночка… Это не может так закончиться. Вы не можете уехать. Я вижу, чувствую — с вами происходит то же, что со мной. Это как электрический разряд. Нас ударило током.
Он обхватил мои плечи, его губы впиваются в мои.
Прикосновение чужого рта неприятно мне, я попыталась высвободиться. Но Влад не отпустил меня, жарко нашептывая в самое ухо:
— Леночка! Поедем ко мне. Я так хочу тебя. Безумно. Страстно. Мы проведем вместе неделю, две, сколько захочешь.
Я по-настоящему испугалась. Похоже, мальчик заигрался и сам себе поверил. Уперев ладони ему в грудь, я отталкивала Влада.
— Нет. Нет. Я должна завтра быть дома. Я обещала мужу. Это важно.
Мои руки слабеют, я, словно в забытьи, припала к мужчине, непроизвольно обвила руками мускулистую шею и все плотнее и плотнее прижимала к нему свое дрожащее трепетное тело. Мои губы шептали взволнованно, прерывисто, безотчетно:
— Мне надо домой. К мужу… Он ждет. Я должна ему сказать… Он не простит меня… Это будет концом всего… О Влад! Влад!
Кажется, довольно. Влад заинтригован. Теперь его ход. Надеюсь, я смогу наконец определить цель его игры.
Я отстранилась и, пошатываясь, направилась в зал.
Влад с красным потным лицом и сбитым набок галстуком — за мной. У него совершенно убитый вид. Я перехватила взгляд, которым обменялись Влад и Лайма, но не поняла его.
Мы снова сидели за столом. Влад разлил вино в три бокала и поднял свой. Его голос дрожал, он только что не плакал:
— Я встретил женщину, полюбил ее и потерял.
Все в один день. Я пью за мою любовь. За вас, Леночка!
* * *
Я открыла глаза и увидела огромное окно и огромное, очень голубое небо за ним. Я повернула голову на подушке влево, вправо… Большая светлая комната.
Стены обиты узкими деревянными дощечками. Очень мало мебели. Я лежу на широкой постели. Белье голубое с белыми прошивками, совершенно роскошное.
Мое ложе располагается посредине комнаты. Я снова смотрю в окно. Положение солнца на небе указывает на полдень.
Последнее, что я помню, это взгляд Влада и странный вкус вина. Сколько времени прошло с того ужина?
Что было со мной все это время? Где я была и где я сейчас?
Я встала и подошла к окну. На мне моя собственная ночная рубашка. Она находилась вместе с другими моими вещами в сумке. Сумка оставалась в клинике.
Вид из окна не показался мне незнакомым. Напротив, Я уверена, что уже видела что-то очень похожее.
Давно.
Судя по всему, эта комната на втором этаже. Окно выходит на широкую зеленую улицу. Сквозь густую зелень голубеет небо и что-то еще. Море.
Это не юг. Это Прибалтика. На это указывают и конфигурация крыш, и виды растительности, и цвет неба.
Я отхожу к самому краю окна и, приложив к стеклу щеку, смотрю в сторону, стараясь расширить панораму. Все то же: зелень, коттеджи, кусочек моря по ту сторону асфальтовой полосы за домами. Перехожу к другой стороне окна и снова прижимаю щеку к стеклу.
Стоп. Это здание мне знакомо.
Теперь я точно знаю, где нахожусь. Пригород Риги.
Юрмала. И даже еще точнее: станция Майори.
* * *
Это была их первая поездка в Прибалтику. Это была их первая поездка к морю. Это было их первое путешествие. Они приехали вчетвером. Две юные женщины, почти девочки, и двое детей-погодков.
Девочка должна была осенью идти в первый класс.
Вот они и предприняли путешествие.
Они сняли комнату у русской семьи в ста метрах от моря и почти все время проводили на пляже.
А, когда выходили в город, их все удивляло: чистота улиц, неторопливая чинность прохожих, звуки незнакомого языка, шляпки и перчатки женщин, их туалеты, чистенькие старушки с маникюром и уложенными волосами за столиками уличных кафе и сами кафе… Все это волновало, но не было главным.
Главным было море, песок, солнце… Дети были счастливы. Они совсем не походили друг на друга.
Девочка — мамина дочка — не отходила от матери ни на шаг. Другая женщина, ее тетя, дразнила ее приюбочницей. Мальчик был оторвыш и все время норовил что-нибудь натворить, и девочка все на него ябедничала, и дети ссорились и махали руками. Но вообще они были очень привязаны друг к Другу и дружны. Им хватало друг друга, и они не искали ничьей компании. Плескались на мелководье, строили крепости из песка или бегали друг за другом змейкой по пляжу.
А женщины лежали на песке, лениво переговаривались, лениво следили за детьми, лениво вставали и шлепали к воде.
Неподалеку от их жилья, ближе к станции Дубулты, находился Дом творчества (писателей? художников? композиторов? — им было не важно).
В то лето там отдыхал Аркадий Райкин. А в Риге гастролировал «Современник», и Константин Райкин приезжал навестить отца.
Тогда было принято дышать озоном на закате солнца, и все отдыхающие выходили к морю и шли по желтому песку вдоль линии прибоя в двух направлениях, держась правой стороны.
Две молоденькие москвички, принарядившись, выходили к морю и чинно гуляли под руку, сдерживая скачущих детей.
Несколько раз они встречали Райкиных и потом говорили об этом, отмечали их сходство, и непохожесть, и поглощенность друг другом.
Однажды младшая женщина, обернувшись вслед знаменитой паре, подметила непроизвольный защищающий жест младшего, когда с его отцом поравнялся кто-то слишком широко шагающий. И ее юную, не достигшую даже двадцатипятилетнего возраста, материнскую душу пронзила зависть к чужому родительскому счастью.
* * *
У меня за спиной чуть слышно скрипнула дверь, и я оторвалась от окна и от воспоминаний.
В комнату вошла высокая дородная женщина, одетая во что-то вроде униформы. Она тянула за собой столик на колесиках, сервированный к завтраку.
Я обвела глазами комнату в поисках халата, увидела его на спинке кровати и, шагнув, потянула к себе.
Женщина посмотрела на меня, стоящую с халатом в руках, и коротко поклонилась без улыбки. Я ответила тем же и накинула халат. Женщина налила кофе и подала мне чашку на блюдечке. Я взяла и села на край постели. Женщина подтянула ко мне столик и, еще раз поклонившись, вышла.
Я ела и размышляла, правда, не слишком интенсивно, о своей участи. Я не чувствовала не только паники или хотя бы страха, но даже легкого волнения.
Это и еще то, что из памяти выпал кусок жизни, навело меня на мысль о наркотиках.
Закончив завтракать, я потуже затянула пояс халата и принялась за осмотр помещения.
За одной из дверей обнаружилась прекрасно оборудованная ванная. Я вошла, сняла халат и рубашку и с помощью большого, во всю стену, зеркала тщательно осмотрела себя. Никаких следов уколов обнаружить не удалось.
Зато зеркало сообщило мне о несомненных успехах швейцарских врачей в области омолаживания. Кожа на моем лице поражала гладкостью и пластичностью и сияла здоровьем. Белки глаз выделялись яркой белизной, а губы — свежестью.
Все это не могло не отразиться на моем настроении. Напевая что-то забытое, я открыла дверцы шкафа, отыскала вещи из моего чемодана и выбрала бледно-сиреневый костюм с короткой юбкой и легкие белые туфли.
Я подошла к двери, через которую в комнату проникла женщина с завтраком, и толкнула ее. Дверь легко и бесшумно отворилась, и я оказалась на небольшой лестничной площадке. Лестница от нее шла вверх и вниз, прилепившись к стене.
Я перегнулась через перила и увидела под собой большую комнату, очень нарядную, с холодным сейчас камином и обставленную прекрасной мебелью. Одна из стен была полностью стеклянной. За стеклом открывался вид на зеленую лужайку, довольно большой бассейн, цветущий сад.
Я гостила явно не у бедных людей.
Помедлив, я вздохнула и начала медленно спускаться, и, когда достигла нижней ступеньки, где-то под лестницей раздался легкий шум. Я остановилась, сжав перила, испуганная.
Передо мной выросла крупная черная собака с широкой грудью и большой круглой головой. Ее красноватые глаза не казались злобными, а повадка угрожающей. Но и ласковой она не выглядела. Ее спокойствие являлось следствием уверенности в собственных силах.
Я, чтобы усвоить свои права, не сводя глаз с животного, подвигалась в разные стороны. Мне удалось установить, что разрешено все, кроме одного. Я не должна была приближаться к стеклянной стене.
Определив границы допустимого, я спокойно прошлась по комнате, обнаружила бар, телевизор, книжный шкаф…
Уже через четверть часа я устроилась со всеми удобствами. По телевизору транслировали музыкальный фильм, в одной руке у меня был бокал с мартини. Другой рукой я брала из коробки очень вкусные шоколадные конфеты. Я их съела, наверное, с десяток, всякий раз предлагая лежащему у дивана псу. Наконец, на пятой конфете, пес согласился, и теперь мы лакомились вместе.
В книжном шкафу неожиданно отыскался «Сын рыбака» Лациса на русском языке. Я погрузилась в ностальгическое чтение. Мне давно не было так хорошо.
* * *
Черное лохматое тело у моего локтя зашевелилось.
Я подняла голову от книги. Пес встал, насторожил уши и уставился на стеклянную стену. То, что осталось от хвоста, закрутилось как сумасшедшее.
«Ишь как радуется! — растрогалась я. — Значит, сейчас увидим хозяина». Одна из стеклянных створок растворилась и пропустила высокого полноватого блондина в легких белых брюках и розовой (клянусь!) рубашке.
Холеное розовое (в тон рубашке) лицо мужчины расплылось в белозубой улыбке. Я заглянула в его маленькие голубенькие глазки, окруженные белыми ресничками, и почувствовала себя спокойно и весело.
— Добрый день, — сказал мужчина с очень заметным акцентом и поклонился.
Я кивнула ему без всякого выражения и поднялась с дивана.
Коробку с остатками конфет и книгу я сунула под мышку, в одну руку взяла вазу с фруктами и виноградом, держа ее за хрустальную ножку, в другую, также за ножку, бокал. Этой же рукой прижала к груди бутылку мартини.
Убедившись, что могу все это нести, я направилась к лестнице и начала подниматься, чувствуя взгляд мужчины на своих ногах.
Дверь в мою комнату открывалась в эту сторону, и мне пришлось повозиться, пока удалось войти.
В комнате я сгрузила все принесенное на стол и посидела, успокаивая бьющееся сердце. Теперь я знала — кто. Примерно представляла — как. И кажется, догадывалась — зачем.
В дверь, по обыкновению без стука, проникла горничная. Я взглянула ей прямо в глаза со всей доступной мне суровостью и сделала отстраняющий жест в сторону выхода. Горничная застыла в недоумении.
— Стучать, — снизошла я до объяснений.
— Хорошо, — согласно кивнула женщина и открыла рот для дальнейших сообщений, но я прервала ее:
— Сейчас. — И повторила свой царственный жест в сторону двери.
В глазах женщины мелькнул и погас огонек злобы. Она резко повернулась и вышла за дверь. Раздался стук.
— Войдите. — В моем голосе не прозвучало и грамма благожелательности.
Горничная встала на пороге, убрав руки под фартук.
— Обед будет подан в столовой через полчаса, — нейтрально доложила она, собираясь уйти.
— Я буду обедать здесь. Ничего мучного, никаких каш и супа. Рыбы я сегодня тоже не хочу. Никакой.
Кусок жареного мяса, побольше свежих овощей, травки. Молодой картофель, отварной, со сметаной и укропом. Что-нибудь соленое. Не рыба. Огурцы, помидоры, капуста. Томатный сок и минералка. Много.
Закончив перечислять, я отвела равнодушный взгляд от переносицы горничной.
Она издала какой-то звук, видимо, намереваясь возражать. Я взглянула ей в лицо, чуть приподняв правую бровь.
Горничная правильно решила, что возражать мне не ее дело, коротко поклонилась и вышла.
Я пообедала на славу. Мясо было поджарено именно так, как я люблю, а дивный вкус квашеной капусты с тмином отбил наконец сладкий привкус шоколада во рту.
Закончив, я составила посуду на сервировочный столик и выкатила его за дверь.
Налив в бокал минералку, я подошла к окну и открыла его, чтобы выветрить запах еды. Толкнула створку окна и осталась стоять, опершись локтями о подоконник, завороженная видом моря и песчаных дюн.
Мой рассеянный взгляд упал на плоскую крышу соседнего дома. Расстояние между домами составляло примерно сто — сто двадцать метров. Я не смогла разглядеть человека, сидящего в шезлонге на крыше.
Тут мне в глаз попал солнечный зайчик. Меня рассматривали в бинокль. Я не имела ничего против. Наоборот. Выпрямившись в окне, я послала в сторону соседнего дома улыбку и воздушный поцелуй. И, как мне показалось, уловила ответный жест руки.
* * *
Я видела счастливый сон. Толстенькая белокурая девочка неуклюже ловила мяч и, поймав, счастливо улыбалась щербатым ртом и отбрасывала мяч мне.
Раздался стук в дверь, но я не пожелала проснуться. Стук повторился, прогнав сон и девочку в спущенных розовых гольфиках.
Я открыла глаза. За окном было еще совсем светло, но солнце не слепило глаза. Оно зависло над самыми верхушками деревьев.
Получив разрешение, вошла горничная с подносом в руках. Я кивнула в ответ на ее вопросительный взгляд, и она занялась сервировкой стола к чаю.
Очевидно, горничной изменили задание. Она старалась придать своему грубоватому малоподвижному лицу приветливое выражение. Удавалось ей это не очень, но старание было налицо. Она улыбалась, хвастаясь неплохими зубами, и вполне приветливо говорила, ловко расставляя посуду:
— Извините, я до сих пор не назвала себя. Не могу понять, как это случилось. Это невежливо. Меня зовут Ильзе.
И она заглянула мне в глаза в ожидании ответной реакции. Тщетно. Реакции не последовало. Я взяла протянутую мне чашку, равнодушно проронила:
— Благодарю.
И принялась пить чай, словно не замечая ее присутствия.
Ильзе растерялась, но, видя, что я не обращаю на нее ровно никакого внимания, быстро оправилась и забродила по комнате в поисках дела для себя.
По приказу хозяина ей предстояло наладить со мной доверительные отношения. Ильзе была готова использовать любой предоставленный мной повод.
Повода не представилось. Допив чай, я подвинула кресло ближе к окну и уселась в него с книжкой.
Ильзе еще какое-то время помоталась по комнате, бросая на меня косые взгляды. Я читала, и ей ничего не оставалось, как собрать поднос и покинуть комнату.
Я не успела соскучиться, как она снова заявилась.
Постучала и сообщила с порога:
— Елена Сергеевна… — «Arai» — Хозяин приглашает вас на прогулку.
Я задумчиво перевела взгляд с книги на ее переносицу:
— У меня нет соответствующей обуви.
Ильзе исчезла и почти сразу появилась вновь, не забыв постучать. Похоже, я зря ее этому научила. У нее в руках белые матерчатые тапочки с трогательными шнурочками. Моего размера и совершенно новые. Поскольку размер у меня не самый ходовой, по-старому 34-й, делаю вывод, что тапочки приобретены для меня, а значит, прогулка планировалась заранее.
Справа море, слева несколько десятков метров песчаного пляжа. Я смотрю вдоль полосы прибоя и, кажется, вижу двоих загорелых ребятишек, бегущих змейкой. А вот там, в самом начале полосы кустарника, мы с Танькой бросали нашу подстилку.
Все как четверть века назад, только на пляже никого, кроме нас троих. Третий — пес. Хозяин называет его Юрис. Мне нравится. Юрис, Юра. Мой Юра ждет меня в Москве.
Я снимаю тапочки и иду вдоль полосы прибоя по влажному песку. Мой спутник на мгновение останавливается, потом тяжело нагибается, поднимает тапочки и идет следом за мной, неся их в одной руке.
Я встала лицом к морю и, раскинув руки, вдыхаю запах свежести, йода, хвои — неповторимый запах Прибалтики.
Искушение слишком велико. Я подхватываю подол длинной юбки, затыкаю за пояс и шагаю в море. Бреду по мелководью, испытывая ни с чем не сравнимый восторг. Пройдя метров десять, останавливаюсь. Вода доходит мне только до колен. Она довольно холодная, и я поворачиваю к берегу.
Хозяин стоит на берегу. Он смотрит на меня, но выражения его глаз я не вижу.
Юрис застыл рядом, как статуя большой черной собаки. Я смотрю на пса, и, не знаю почему, мне кажется, что он мой единственный друг в этих местах.
— Юра, — произношу я почти беззвучно.
Проходит мгновение, и мощное тело на огромной скорости влетает в воду и, разбрызгивая ее, несется ко мне огромными прыжками.
Я иду навстречу собаке. За несколько шагов до меня Юрис вынужден пуститься вплавь. Поравнявшись со мной, он тычется в мою руку носом и оплывает вокруг.
Через три моих шага собака встает на лапы, я берусь за ошейник, и мы вместе выходим на берег.
Здесь я сразу же отцепляюсь от ошейника и отскакиваю в сторону. Все брызги от отряхивающегося пса достаются его хозяину.
Хозяин не сердится и не цыкает на Юриса, когда тот устремляется за мной вдоль пляжа.
Мужчина выглядит притихшим и подавленным.
Я нагулялась и поворачиваю к дому. Юрис тихонько тянет меня за подол. Он не набегался, хочет еще. Я ласково глажу его лобастую голову. Его хозяин издает предупреждающий возглас. Я невольно оборачиваюсь и встречаю удивленный взгляд светлых глаз.
Понятно. Собачка натаскана серьезно и прикосновений не терпит. Мне позволила мимолетное касание скорее из растерянности, но обнажила страшные желтые клыки.
Не смей — тяпну!
Я поняла предупреждение и больше никогда не дотронусь до Юриса, Разве что он сам попросит.
В возне с собакой я совсем упустила из виду ее хозяина. Вздрагиваю, услышав совсем рядом густой, с легким придыханием голос:
— Елена Сергеевна.
Я оборачиваюсь. Мужчина стоит очень близко от меня, и я, не таясь, спокойно рассматриваю его лицо.
Он слегка смущается под моим оценивающим взглядом.
В его почти бесцветных сонных глазах появляется какой-то блеск, он делает еще один шаг, и теперь мы стоим лицом друг к другу.
Мы стоим, опустив руки и глядя друг на друга, настолько близко, что наши дыхания смешиваются.
Мужчина дышит прерывисто, ему неловко в такой близости от меня. Но он не отступает. Я вижу, он ждет вопросов, приготовил ответы. Но, похоже, не уверен в них. Ему не хочется начинать разговор первым — это ухудшит его позиции.
Мне же совсем не о чем с ним говорить. Вот я и молчу. Пауза затягивается. Ситуация приобретает комический характер. Мужчина мучительно краснеет.
"Э, миленький, да у тебя темперамент холерика!
При наличии избыточного веса бойся инсульта".
Наконец мужчина не выдерживает:
— Елена Сергеевна, почему вы не спросите, где находитесь?
"А почему ты хочешь, чтоб я спросила об этом?
Ну так вот: назло не спрошу! Тем более что и без того знаю".
Я ласкающим движением кладу ладонь на мясистую грудь и, привстав на цыпочки, приближаю свое лицо к его. Он не отстраняется. Над его верхней губой высыпают капельки пота, а сами губы приоткрываются в ожидании неизбежного поцелуя.
«Ну не в первый же вечер! Как можно. Я девушка приличная».
Поэтому отстраняюсь и убираю руку. В глазах напротив растерянность. Больше того: в них откровенная паника. И сияющая голубизна. «Надо же, как его пробрало. С чего бы это?»
Разворачиваюсь и молча иду к дому, на ходу одергивая и оправляя юбку.
Прямо от двери устремляюсь к лестнице и начинаю подниматься. Мои босые ноги оставляют на ковре мокрые следы и песчинки.
Мужчина стоит у основания лестницы, положив на перила большую загорелую руку, и смотрит мне в спину.
На середине лестницы я останавливаюсь и говорю через плечо:
— Распорядитесь принести мне молока. Сырого. В высоком стеклянном стакане.
Делаю еще несколько шагов и снова останавливаюсь.
— Виноград должен быть без косточек.
После чего скрываюсь за кулисами, то есть за дверью своей комнаты. При полном молчании зрителей.
Ни тебе аплодисментов, ни криков «браво!». А мой уход был так эффектен. Обидно.
В ванне, вытянувшись в горячей пене, подвожу итоги.
Похоже, ничья. Вот только одно совершенно ясно: мой хозяин заинтересован потянуть время, как и я.
И еще. Он меня не узнал. И это очень хорошо. Не знаю, как я это использую, но использую обязательно.
На подносе стакан молока, кусок яблочного пирога, картофельный салат и две сосиски.
Ай да Ильзе! Превзошла сама себя.
Интересно, стучала она, прежде чем войти? И если стучала, то как долго?
* * *
Ильзе стучится в дверь как полоумная, надо и не надо. Вышла на секунду за забытой солонкой и барабанит.
И кажется, не из желания досадить, а, наоборот, из стремления понравиться. В очередной раз убеждаюсь, что идея обучить ее этому трюку была не из лучших.
В остальном Ильзе выше всяких похвал. Если бы у меня когда-нибудь возникла идея обзавестись горничной, я бы хотела именно такую.
Разумеется, я стараюсь ничем не выказать пробудившуюся симпатию, но Ильзе, видно, что-то почувствовала и радостно суетится возле меня, бросая робкие ласковые взгляды.
О Боже! Что же это за дом такой? Мужчина, женщина и собака в ожидании ласки. Роман Елены Скоробогатовой.
Ой-ей-ей! Как по Косте соскучилась. Милый!
Ну и чего ты мне не ко времени вспомнился?
Ильзе собрала посуду и, прежде чем уйти, передает приглашение хозяина после завтрака спуститься в гостиную.
Я обещаю, и она, еще немного покивав и поулыбавшись с порога, увозит свой столик.
Славная женщина.
Я не спеша принимаю душ, мою и сушу под феном волосы. Сидя перед зеркалом, накладываю легкий макияж. До чего приятно быть молодой и красивой!
Я поднимаю волосы с шеи и скрепляю их на затылке пряжкой. У меня целую вечность не было такой гладкой шеи и такой идеальной линии подбородка. А глаза… А губы…
Так. Руки в порядке. Ноги в порядке. Весь дом в коврах, значит, можно отказаться от обуви. Прекрасно.
Теперь надеть любимое домашнее платье. Костя зовет его хламидой. Хламида и есть. Широкий длинный мешок с отверстиями для рук и головы. Из чудесного жемчужно-зеленого тончайшего шелка. Платье мягко облегает фигуру, повторяя все ее очертания, подчеркивая, что следует подчеркнуть, и скрывая, что хочется спрятать. Идеальный наряд для женщины моих лет, которая не отказалась от желания нравиться.
Опять вспомнился господин Скоробогатов.
От тоски тихонько поскулила: «Костенька, Костенька…» Стало легче.
Хозяин, конечно же, стоял у основания лестницы.
Белые тесные джинсы подтянули фигуру, ярко-синяя рубашка подсинила глаза.
Батюшки-светы! Уж не меня ли он собирается пленить своей неземной красотой?
Я добралась до последней ступеньки (одна рука на перилах, другая элегантно придерживает край хламиды, спина прямая, головка слегка откинута, ресницы опущены), он подал мне руку, я ее не заметила.
Он руку убрал, несколько суетливо, и предложил, ловя мой рассеянный взгляд:
— Хотите повторить вчерашнюю прогулку?
— Не хочу.
— Тогда посидим в саду.
Я невозмутимо обошла его и направилась к стеклянной двери. У двери остановилась и предоставила хозяину возможность поухаживать за мной.
Сад был прекрасен. Несколько минут я просто любовалась им. На круглом лице мужчины появилось самодовольное выражение. Он сделал жест в сторону цветущих кустов. В их тени у самого бассейна стоял плетеный диванчик.
Мы сели на него. Рядом, но не близко.
Откуда-то появился Юрис, поздоровался кивком хвоста и слюнявой улыбкой во всю пасть. Покрутившись вокруг собственной оси, он растянулся во всю немалую длину на теплых плитах между нашими ногами. Ближе ко мне. Хозяин это заметил.
— Странно, но, кажется, Юрис полюбил вас.
В тоне его голоса приглашение к нормальному человеческому общению.
Перебьешься.
Я молча таращусь на неестественно голубую воду в бассейне. Все дело, верно, в цвете облицовочных плит.
— Выпьете что-нибудь?
Мой гостеприимный хозяин никак не может угомониться.
— Сладкого мятного чая со льдом, — снисхожу я.
Мужчина стремительно вскакивает и, обогнув бассейн, устремляется к дому. Но не к стеклянной двери, а куда-то за угол.
Он что, сам собирается готовить напитки? Или его единственная возможность связаться с прислугой — это сбегать к ней?
Мы с Юрисом обмениваемся удивленными взглядами. Убедившись, что хозяин скрылся за углом, пес перемещается в мою сторону еще на несколько сантиметров. Его красноватые глаза смотрят мне в лицо.
— Хорошая собака, — хвалю я его и добавляю ласково:
— Юрочка, мальчик, умница.
Собачий хвост рискует оторваться, глаза плывут от счастья, на морде появляется глупое щенячье выражение.
Эйфорию прерывает хозяин.
Он довольно громко говорит мне через бассейн, виновато разводя руками:
— У нас нет мятного чая.
Я смотрю на него с жалостливым любопытством и даже недоверием, словно он сморозил несусветную чушь.
Мужчина пытается оправдаться:
— Есть жасминовый, лимонный, вишневый…
— Хорошо, лимонный, — подумав, покоряюсь я неизбежному и утомленно закрываю глаза.
Хозяин сам приносит на подносе два бокала чаю со льдом.
Похоже, у него что-то разладилось в голове (надеюсь, не из-за меня), и вся эта беготня нужна ему, чтобы прийти в норму.
Не без сожаления отмечаю, что ему это почти удалось. По крайней мере он сумел вернуть на лицо вальяжную, чуть сонную мину.
Мужчина отхлебывает из бокала с несколько недоверчивым видом. Ранее незнакомый напиток ему нравится, и следующий глоток он делает с удовольствием.
И обретает наконец необходимую для разговора со мной уверенность.
— Елена Сергеевна, как бы вы ни демонстрировали равнодушие, ясно, что вы обеспокоены происходящим.
«Правда?» Я облокотилась о спинку диванчика и вытянула ноги. Меня охватывает нега. От солнышка, легкого, пахнущего морем ветерка, от блеска воды в бассейне.
Лицо мужчины покрывается красными пятнами, ноздри раздуваются. Он с трудом сдерживает гнев.
«Злись, злись. Или кондрашка хватит, или потеряешь над собой контроль и скажешь чего не хотел. Мне-то любая мелочь сгодится».
— Так вот. Я расскажу, почему вы здесь. Потом вы расскажете то, что меня интересует.
Я молчу. Мужчина продолжает чеканить короткие от злости, рубленые фразы. И придыхание в голосе сильнее обычного, и акцент заметнее.
«Ты смотри, как завелся. А как же легенда о невозмутимости прибалтов? Вот и доверяй после этого слухам».
Отвернувшись от рассказчика, я лениво переводила глаза с одного предмета на другой, делая вид, что смертельно скучаю. Однако не пропускала ни одного слова, напряженно вслушиваясь в интонацию.
— Некоторое время назад промелькнуло сообщение о новом полимере. В разных научных изданиях. В разных странах. Что интересно, практически одновременно. Якобы в Союзе разработали полимер. Он превосходит по свойствам все современные материалы того же назначения. В частности, используемые в авиастроении. Многие сочли это сообщение уткой. Если бы открытие сделали еще в те времена, сведения об этом просочились бы. Невозможно скрыть открытие такого уровня. Так рассуждали те, кто не верил. Я поверил. У меня были основания.
Чуть позже я получил из Москвы автореферат докторской диссертации Константина Скоробогатова. Ведь ваш муж защищался около года назад? Зачем ему это, кстати?
Он помолчал, но я никак не прореагировала.
— Ну хорошо. В автореферате было теоретическое обоснование возможности получения полимера с указанными свойствами. Прошла серия авиакатастроф.
Падали «боинги», «Ту», французские, японские самолеты. Причина — в отказе материалов из-за преждевременного старения. Все забеспокоились. Весь мир возмечтал о полимере. Пять крупнейших в мире производителей авиационных двигателей объявили об учреждении гранта на создание полимера. Объявили конкурс и назначили сроки подачи заявок. Я подал заявку. Знаю еще пять фирм. И Скоробогатов. Все мы проводим исследования. Успех обеспечен тому, кто больше продвинется. Мной проведена гигантская работа. У меня есть шанс. Но возникла трудность. Я знаю, что для производства полимера необходим специальный катализатор. Я подозреваю, что он был изобретен. Еще в советские времена.
Он замолчал. Одним длинным глотком допил чай.
Теперь его глаза напряженно смотрели мне в лицо.
— Вы должны ответить: известен ли катализатор Скоробогатову? И не с ним ли связана ваша поездка в Женеву?
Теперь и я прямо смотрела в его полное ожидания побледневшее лицо. Это длилось несколько секунд.
Потом я опустила ресницы и поменяла позу, сев к мужчине спиной.
За моей спиной раздалось шипение.
— Зря вы так, Елена Сергеевна. У меня есть способ заставить вас разговориться.
Мужчина решительно зашагал к дому.
Я одним движением скинула хламиду и нырнула в бассейн.
Хозяин обернулся на всплеск. Я помахала ему рукой и перевернулась на спину.
Явилась Ильзе. Я выбралась на бортик, и она заботливо набросила мне на плечи махровую простыню.
— Что бы вы хотели на обед?
— Я могу поесть одна?
— Конечно.
— А здесь, в саду?
— Да. Вы можете все, что хотите.
— Спасибо. Тогда жареную речную рыбу. Лучше карпа. А к ней все то, что подавали вчера.
Я провела в саду еще не менее четырех часов.
После обеда повалялась в тенечке на надувном матраце. Подремала, помечтала, повздыхала о муже.
По моим подсчетам, он либо уже напал на мой след, либо близок к этому.
Так, посчитаем еще раз: сутки с момента первого появления Лаймы, плюс сутки или даже двое моего беспамятства, плюс сутки (сегодня вторые) здесь. Итого — четыре-пять. А может быть, я где-то ошиблась в расчетах. И это значит, у Скоробогатова было всего трое (двое) суток, чтобы найти меня.
Тогда его люди далеко и мне придется выбираться самой.
* * *
Притопала Ильзе, позвала в дом. Я не стала спорить. Накинула хламиду на высохший купальник, провела ладонями по лицу, взбила волосы и не торопясь направилась к дому. Босые ступни наслаждались соприкосновением с теплыми плитами.
Мне удается сохранять на лице беззаботное выражение, но я совсем не так спокойна, как хочу казаться.
Угроза хозяина занозой засела в мозгу.
Влад (Милашка) шагнул мне навстречу. На его красивом лице играет глумливая улыбка.
— Леночка, кошечка моя… — Он тянется обнять меня. Я, не отводя от его лица безразличного взгляда, подняла руку.
Хрясь! — хлесткий звук пощечины, и Влад, отшатнувшись, непроизвольно схватился за покрасневшую щеку.
Я по-прежнему равнодушно смотрю в его побелевшие от бешенства глаза. Похоже, он сейчас кинется на меня. Нет? Ну как хочешь…
Я отворачиваюсь и со скучающим видом, направляюсь к дивану мимо застывшего хозяина дома.
Сажусь на диван по-турецки и протягиваю руку к вазе с виноградом. Бросаю кисть на юбку, отрываю ягоду, кладу в рот. Виноград без косточек. Мелкий и сладкий. Кишмиш. Обожаю.
Влад несколько оправился. По крайней мере сумел отвести от меня глаза. Теперь жалобно смотрит на хозяина. И голосит:
— Она ударила меня. Эта сука! Вы видели? Она меня ударила!
Хозяин не отвечает. Он садится рядом со мной на диван и приказывает Владу:
Диван!
Ой, да мы никак будем кино смотреть? Похоже, все-таки шантаж.
Качество видеопленки так себе. Даже не на троечку. Но разглядеть можно. Влад в одних трусах старательно раздевает безвольное женское тело. Мое, между прочим. Камера наезжает на мое лицо. Мои глаза открыты, на губах смутная улыбка.
Влад гладит мои волосы, грудь. Целует лицо, шею.
Выражение моего лица на экране не меняется.
Выражение моего лица перед экраном не меняется тоже. Я машинально отщипываю виноградины и кладу их в рот. У ярости красный цвет. Он залил все вокруг, пылает у меня в глазах, в душе. Похоже, я переоценила себя, эти игры мне не под силу.
На экране Влад продолжает ласкать меня. Если этот подонок позволил себе что-нибудь еще… Я убью его. Не знаю как, не знаю когда…
Я гашу накатывающуюся волну бессилия.
Постельная сцена прерывается. Мы вдвоем стоим на балконе. Влад обнимает меня, целует. Я что-то горячо ему говорю, прижимаюсь к нему всем телом.
Вот это действительно хорошо и может произвести впечатление. Снято сзади и сбоку. Молодец Лайма.
Ясно, зачем Влад водил меня на балкон. Я успокаиваюсь.
Похоже, Влад ограничился поцелуями и не воспользовался моей беспомощностью.
Дело в его порядочности? Или в моей непривлекательности? Скорее всего в присутствии Лаймы, которая вела съемку.
Как бы там ни было, я обретаю уверенность, необходимую для следующего раунда. Ярость уже не туманит рассудок.
Спокойно выслушиваю наставительную речь хозяина:
— Теперь вы видите, что вам лучше с нами дружить. А то ваш муж узнает, что вы использовали ваше новое, оплаченное им личико, чтобы изменить ему с молодым человеком.
Можно было бы продолжать следовать тактике молчания. Но она не могла больше приносить пользу. К тому же в голосе хозяина мне удалось уловить некую стыдливость. Неловко за свои методы?
Говорю только ему с оттенком насмешливой жалости:
— Чудесное кино. Жаль, бесполезное. Я не боюсь ревности мужа. У нас свободный брак, и мелкие шалости не портят наших партнерских отношений.
Ага. Именно так. Поэтому за мной по пятам таскается телохранитель с нетрадиционной ориентацией. ,;
Мои собеседники удивлены, но верят. Переглядываются. Кстати, я думала, они больше растеряются. Значит, есть второй вариант. Влад со злорадной поспешностью излагает его:
— Предположим, твоему мужу начхать, для кого ты ноги раздвигаешь. — Его хозяин морщится и старается на меня не смотреть. — Но, судя по тому, сколько он на тебя тратит, твоя жизнь ему небезразлична. Так что пленку можно использовать, чтобы подтвердить, что тебя похитили именно мы. Он нам катализатор, мы ему тебя. Живую. Или, если не договоримся.., мертвую.
Это может сработать. Если они пообещают господину Скоробогатову, что убьют меня…
Да что там убьют. Подстригут без моего согласия.
Последствия непредсказуемы. Вплоть до Третьей мировой войны. Этого допустить нельзя.
Придется раскрывать карты. Некоторые.
По-прежнему сидя по-турецки, предельно выпрямляю спину и закидываю руки на затылок, поправляя прическу. Грудь напрягается под тонким шелком, рукава соскальзывают, открывая по плечи полные точеные руки и гладкие подмышки.
У мужчин плывут зрачки и изо ртов с отвисшими челюстями вот-вот закапает слюна.
Убойной силы жест — обе руки к прическе!
Так же, как дозированное оголение отдельных участков тела.
А когда Ольга меня этому учила, я только смеялась. Права была мама: не бывает ненужных знаний.
Все когда-нибудь пригодятся.
Деморализовав противника, я приступила к его окончательному разгрому:
— Ну вы, слов нет, крутые! — Я качаю головой, не скрывая насмешки. — Опоить женщину наркотиками и перетащить ее беспомощное тело через границу, ну что сказать? Не хило… А уж убийство! Кровь стынет в жилах. А кто убивать-то будет? Ты, Влад? Или вы, Виллис Карлович?
В бледно-голубых глазах мелькнул испуг. И тут же погас, сменившись догадкой.
— А вот и нет. Ваше имя я узнала не от Ильзе. И не от того человека, который смотрит на меня в бинокль с соседней крыши. Как вам идея убийства в свете существования свидетеля моего здесь пребывания?
Я уже откровенно веселилась.
— Так вот: вы крутые. Ну а каков мой муж? Человек, десять лет проведший в колонии строгого режима. В компании воров в законе и отморозков. И заметьте, остался жив. И не был не только опущен или покалечен, но даже избит. Ну, прикиньте, что он за парень?
И какими знакомствами обладает. А теперь представьте себе, что такой человек получает видеопленку, а на ней какой-то подонок измывается над бесчувственным телом его жены. Представили? Молодцы. Но вот что господин Скоробогатов сделает с насильником, вы себе представить не можете. И я не могу.
Я уже давно не веселилась. Мой голос звучал спокойно и устало.
— Я не… — пролепетал бледный до синевы Влад.
Я обратила на него внимательный взгляд.
— Я вас не тронул, — прошептал парень и сглотнул. Его подташнивало от страха.
Я кивнула ему и повернулась к Виллису:
— Вы проиграли. Что бы вы теперь ни предприняли, ничего хорошего вас не ждет. И дело не в гранте.
Хотя скорее всего вы его не получите. Дело в вашей жизни. Скоробогатов не простит посягательства на свое добро. Вы проиграли в тот момент, когда ваш шестерка дотронулся до меня.
Лицо Виллиса побледнело и покрылось потом. Оно застыло безжизненной маской. Но тем не менее хозяин оказался молодцом, удар держит хорошо.
Я встала на колени на диване, лицом к нему, и положила ладонь на его плечо.
— Я могла бы вас уничтожить. Но почему-то у меня нет на вас зла. Не знаю.
Я села на пятки, и теперь наши глаза оказались рядом, на одном уровне. Я представила себе огромную сочную луковицу. Мои ноздри затрепетали, глаза увлажнились.
Глаза мужчины, в которые я смотрела неотрывно, потемнели от расширившихся зрачков, он невольно подался ко мне. (Оплачу Ольге приданое для ее младенца.).
— Я постараюсь уберечь вас от гнева мужа. Вы завтра же первым рейсом отправите меня в Москву. Я изложу мою собственную версию событий, не упоминая похищения, наркотиков и вас.
Вот черт! Он начинает мне нравиться. Крепкий орешек. Весь воспылал, но не сломлен. Готов бороться, ищет выход. Выход есть. Но не для него.
Я снова меняю позу. Сажусь, опустив ноги на пол, касаясь плечом и бедром его горячего тела. Говорю, глядя прямо перед собой:
— Если вы не отправите меня завтра, потом может быть поздно. Вы один из тех, на кого подозрение Скоробогатова падет в первую очередь. У него в досье по гранту список из восьми фамилий, озаглавленный «Конкуренты». Ваша фамилия там вторая, и пометка «см, л. 8». А на листе восемь… — Я закрываю глаза и говорю, словно воспроизвожу по памяти запись:
— Пуппинь Виллис Карлович, дата рождения, место рождения, данные о родителях, год поступления в школу, год окончания школы, год поступления в Московский химико-технологический институт, год окончания, год вступления в ВЛКСМ, год вступления в КПСС, год защиты кандидатской диссертации. Хватит?
Он кивает, разбитый наголову, побежденный, и прячет лицо в ладони.
Вот и хорошо. Потому что мне все равно больше нечего добавить. Сказала все, что знала.
Жизнь Виллиса после защиты кандидатской диссертации неизвестна мне. Да и о предыдущей удалось вспомнить не все. Какие-то данные, плод моих подсчетов. Но неточности только еще больше убедили Виллиса в том, что я читала его досье, что-то запомнила правильно, что-то нет.
А я вообще не знаю, есть ли у Скоробогатова такие данные и собирает ли он сведения о конкурентах. Это не входит в мои служебные обязанности. А разграничение доступа к информации — незыблемый принцип нашей фирмы.
Так что все, чем я удивила мужчин, — моя собственная заслуга. Нет, не зря я прожила прошлую ночь.
Я кладу ладонь на поникшее плечо.
— Это не конец жизни. Любая неудача может стать шагом к победе. Так я улечу завтра в Москву?
Он кивает, не отрывая ладоней от лица.
— Очень хорошо. Давайте позавтракаем завтра вместе. И пригласим вот его.
Я не глядя киваю в сторону забытого Влада.
* * *
Я закрыла дверь и привалилась к ней спиной. Все тело липкое от пота. Противно дрожат ноги. Кружится голова. Подташнивает.
С трудом оторвавшись от стены, я, еле передвигая ноги, потащилась в ванную.
Горячий душ постепенно возвращал меня к жизни.
Я ожесточенно терла жесткой мочалкой свое усталое тело, смывая эту усталость и страх.
Да, страх. В какой-то момент Влад показался мне по-настоящему опасным. Им есть что терять. Мое похищение превратило преступление из экономического в уголовное. И кто-то должен за это поплатиться. Почему не я?
Конечно, Влад не убийца. Но ведь даже серийный убийца когда-то им не был. А потом сделал это впервые…
Ой, мамочки!
Остается надеяться, что в доме они этого делать не будут. Здесь Ильзе, да и про соседа я им сказала. Это я очень правильно сделала. Как мне в голову-то пришло?
Так что в доме, пожалуй, можно не бояться.
А вот по пути в аэропорт… Очень заманчиво. Авария. И взятки гладки. Познакомились в Женеве, пригласили в гости, почему-то согласилась (а мы откуда знаем?), приехала, погостила, собралась домой и уехала. Все. Жуть как заманчиво. А была ли девочка?
Ну чего ж себя так пугать? Виллис не преступник, он предприниматель, крупный ученый. Именно поэтому. Ему и захочется остаться в глазах людей приличным человеком, а не похитителем женщин.
Ой, нет! Больше не могу! Я выбралась из-под одеяла.
Молодец Ильзе! Золото, а не женщина. Оставила принесенную мной бутылку мартини на столе.
Потихонечку. Глоток за глотком. Ну вот, уже не так страшно.
С ребятами я поработаю за завтраком.
Я заползла под одеяло. Бутылка надежно покоилась, зажатая за горлышко пальцами правой руки. Я отхлебывала, чувствуя, как согреваюсь.
Ой! Опять мороз по коже. Костя. Что он сейчас делает? Ищет меня? А что, если он обезумел от страха за меня и отозвал заявку на грант? Нет, это вряд ли.
Вряд ли отозвал заявку. А что обезумел — это точно.
И что творит — неведомо.
Я запретила себе думать об этом. Запретила бояться. Уяснив, что по собственной инициативе (глупости, ревности, вредности — нужное подчеркнуть) я впуталась в поганую историю, я поклялась себе выйти из нее с достоинством и с пользой для дела господина Скоробогатова.
Я сосредоточилась и вспомнила все с самого начала. В самый первый раз в отеле, когда Влад (тогда я еще не знала его имени и даже не придумала ему прозвище Милашка) вышел, я бросилась к окну и несколько раз щелкнула своим «кодаком», снимая его, выскочившего к нему навстречу из машины качка и саму машину. Особенно хорошо получился номер.
С какой целью была произведена фотосъемка, мне в тот момент было не ясно. Порыв.
Потом в клинике, в день знакомства с Лаймой, проводив ее из своей комнаты, я схватила фотоаппарат и бросилась по коридору к его противоположному концу, к окну, выходящему к парадному входу клиники.
Успела заснять и Лайму, и машину, в которую она садилась. Та же машина, тот же номер.
Лопухи! Не сменить машину, на которой велась слежка! Если бы эти охламоны смотрели и читали столько детективов, сколько я, подобная небрежность была бы невозможна.
К тому времени я уже знала, зачем снимаю. Утром я отправила пленку на адрес господина Бергмана.
На следующий день тот же господин Бергман, по всей вероятности, обнаружил мое исчезновение. Ведь именно он должен был забрать меня из клиники утром, провести по магазинам и посадить на московский рейс.
В последнем телефонном разговоре мы условились, что я ни под каким видом не покину клинику без господина Бергмана. Разговор состоялся в полдень того дня, когда я приняла приглашение Лаймы поужинать в ресторане.
Таким образом, господин Бергман имел возможность сопоставить мое отсутствие с людьми на фото.
По номеру машины вполне возможно найти следы похитителей в Женеве, а затем проследить всю цепочку далее, вплоть до домика в Юрмале.
* * *
Я говорила и смотрела в бледное осунувшееся лицо Виллиса, хранившее следы бессонной ночи. Мой рассказ полностью воспроизводил события так, как я сформулировала их ночью. Правда, я ни разу не упомянула фамилию Бергман. Он определялся мной как швейцарский агент мужа.
На Влада я не смотрела. За всю мою жизнь, так уж случилось, я не знала чувства ненависти. Влада я ненавидела. Это чувство раздирало меня, требовало выхода. Перед глазами вновь и вновь мелькали кадры видеозаписи.
Мне почти пятьдесят лет. Только двое мужчин дотрагивались до моего тела. Оба они были моими мужьями, обоих я любила и хотела.
Я не пыталась анализировать свое отношение к Владу, не пыталась найти смягчающие его вину обстоятельства. Я тупо и тяжело ненавидела его.
— Ваш провал был предрешен в ту минуту, когда вы поручили слежку за мной Владу. Думаю, из-за таких, как он, в Прибалтике так мало ценят русских.
Уголком глаза я с мстительным торжеством уловила, как перекосилось лицо Влада, и продолжала:
— Так вот. Я обратила внимание на Влада и его напарника еще в аэропорту, когда они искали меня среди пассажиров. Кстати, Качок был вооружен, а что-то подсказывает мне, что в Швейцарии не выдают разрешения на ношение оружия иностранцам.
Виллис поднял глаза на Влада, и тот съежился под его взглядом.
— Ну вот. Допивайте кофе, и поедем. Вызовите такси.
— Зачем? Влад отвезет вас.
— Нет. Поедем на такси. Я и вы оба.
Последующее время до прихода такси и поездка до аэропорта прошли словно в тумане. Помню только печально застывшее лицо Ильзе в окне второго этажа. Я помахала ей, садясь в машину. В ответ она подняла руку ладонью вперед и наклонила голову.
Мужчины проводили меня до очереди на регистрацию. Виллис вручил мне документы и билет. Мы посмотрели в глаза друг другу, и они пошли к выходу. Я смотрела им вслед.
Вдруг Влад остановился и за локоть приостановил своего хозяина. Он бросился назад ко мне, и Виллис тоже сделал пару нерешительных шагов.
Влад остановился передо мной и спросил отрывисто, с неприязнью:
— Вы куда-нибудь выходили из отеля в пятницу?
— Нет, — честно сказала я.
— И ни с кем не встречались?
— Нет.
— А из отеля поехали в клинику?
— Ты же сопровождал меня.
Влад зло зыркнул на меня воспаленными глазами и посмотрел на Виллиса. Он смотрел как-то странно. Ну так, словно ожидал одобрения. Или прощения.
Но Виллису было все равно. Он отвернулся и пошел к выходу. И двигался словно автомат.
* * *
В самолете я откинулась в кресле и закрыла глаза.
Он так и не узнал меня. Я представила, как округлятся Танькины глаза, когда я скажу ей: «Догадайся, кого я встретила в Юрмале? Вилю, латышонка. И он меня не узнал».
А ведь в этом нет ничего удивительного. Сколько лет-то прошло. Целая жизнь.
Тогда нам было чуть за двадцать. Мы работали в одном отделе, но в разных лабораториях. Я была лаборанткой, а он сначала дипломником, потом аспирантом.
Мы состояли на учете в одной комсомольской группе.
Вилька был заводилой, энтузиастом, обожал субботники, походы, песни у костра. При всей явной флегматичности, он был тем не менее очень энергичен, собран и умел зарядить всех вокруг веселой энергией.
Я была замужем, имела ребенка, жить, как вся молодежь в то время, не могла. Все это понимали и давали мне комсомольские поручения, которые можно было выполнить в рабочее время: стенгазету оформить, членские взносы собрать.
И еще я отвечала за ведение и хранение отчетной документации нашей комсомольской группы. Ночью я вспомнила данные из анкеты кандидата в члены КПСС Пуппиня В.К.
Ой, ну конечно же, я не храню в памяти данные всех членов нашей комсомольской ячейки! Все дело в Виллисе.
Я тогда заучила его анкету, чтобы пересказать ее девчонкам. Виля-латышонок чрезвычайно нас всех занимал.
Прибалты в отличие от остальных граждан Советского Союза в Москву не рвались, предпочитая родные республики. Поэтому любой латыш, эстонец или литовец был для московских девочек фруктом экзотическим. Нам они казались настоящими европейцами, обладателями достоинств, недоступных другим мужчинам.
Виллис нас не разочаровал. Он был красив, вальяжен, щеголеват, умен, ироничен и, что самое главное, прекрасно воспитан. Он неизменно придерживал перед женщиной дверь, выслушивал, не перебивая, как бы долго она ни говорила и какой бы бред ни несла, и всегда вставал, если женщина подходила к его рабочему столу. А его акцент! Его восхитительный прибалтийский акцент!
Еще девчонки говорили, что он восхитительно целуется и у него сладкие губы.
Я пожалела, что за всеми делами так этого и не проверила.
За неделю до…
Такси остановилось у дверей нашей конторы. Я вышла и махнула рукой охраннику. Он с радостной улыбкой прирысил на зов.
— Мартынов, оплати мой проезд, пожалуйста. У меня ни копейки денег.
— Хорошо, Елена Сергеевна. Сколько с дамы, шеф?
Привычно сея легкую панику среди персонала, я, здороваясь направо и налево, устремилась к заветной цели.
Хотелось бы мне познакомиться с автором легенды о трепетном отношении господина Скоробогатова к мнению жены о делах фирмы. Никакого трепета нет и в помине. Единственный, чьим мнением руководствуется господин Скоробогатов, это он сам. Легенда, однако, существует, и весь аппарат охотно трепещет передо мной, считая, что делает это за компанию с патроном.
В приемной мы обменялись улыбкой с Верой Игоревной, и я открыла обитую кожей дверь.
Господин Скоробогатов, сидя вполоборота за столом, беседовал с мужчиной, чья спина была мне незнакома.
Круглая черноволосая голова повернулась на крепкой шее. Холодные светло-серые глаза с неудовольствием взглянули на меня.
Я, замерев, наблюдала перемену в его глазах. Они мгновенно, словно их включили, засияли ослепительным ярко-синим светом.
Костя вскочил со стула, его тело напряглось, он взглядом измерил расстояние до меня.
Я испугалась, что он прыгнет через стол. Сердито нахмурившись, глазами запретила ему это.
Костя покорился, но не сразу, с секунду еще мешкал, потом, к моему облегчению, обежал стол.
Он обхватил меня руками и, тычась в мое лицо горячими жадными губами, запел-зашептал:
— Лена, Леночка моя. Вернулась. Мы искали тебя.
Олег сегодня вылетает в Ригу. Его служба вычислила, что ты в Юрмале.
— Отмени вылет.
Я обняла моего мужа. Его тело сразу намертво влипло в мои ладони. Он закрыл глаза. Мне очень хотелось его поцеловать. На моих высоченных каблуках я ненамного ниже его ростом. Чуть подняв голову, я поцеловала его куда достала — в подбородок. Костя скорректировал поцелуй, и наши губы наконец встретились.
Мы целовались, забыв обо всем на свете. А снизу, приоткрыв рот, недоуменно таращил зеленоватые глаза незнакомый мне посетитель, застывший в кресле.
Господин Скоробогатов отменил все дела, велел Вере Игоревне вернуть детективов, и Юра повез нас домой.
Мы сидели рядышком на заднем сиденье и держались за руки. Костя перебирал мои пальцы, я шептала, задыхаясь от нежности:
— Костенька, Костенька…
Он блаженно щурил яркие глаза и сжимал мои пальцы своими горячими и жесткими.
От его близости у меня все время сохли губы, я непроизвольно облизывала их кончиком языка. Муж заметил это, понял, что со мной творится, и по его телу волной пробежала дрожь.
Я немного отодвинулась, и он улыбнулся побелевшими губами.
Наконец машина остановилась, и я, думая только о том, как бы побыстрее остаться наедине с мужем, устремилась к своему подъезду.
Но Костя взял меня за руку и потянул в направлении соседнего.
Я удивленно воззрилась на него, он ответил мне самой хитрой из своих улыбок, приложил палец к губам и, обняв за талию, повлек вслед за Юрой.
Юра уже успел закрыть машину и теперь стоял у двери подъезда. Мне не понравилось выражение его лица. Словно ему предстояло участвовать в мероприятии, которое кажется ему сомнительным, и нет возможности этого избежать.
Я попыталась поймать его взгляд и установила, что он прячет от меня глаза.
Костя же выглядел довольным и проказливым.
Подъезд охранялся. Когда мы вошли, охранник вышел из своей будочки и приветствовал нас. Господин Скоробогатов кивнул ему, и мы прошли мимо.
Охранник не выговорил привычного: «Вы к кому?» — чем очень меня удивил.
Охрана в нашем доме после случая со Степаняном серьезная, да и мужчина средних лет, судя по военной выправке, службу должен был знать.
Заинтригованная, но больше раздосадованная отсрочкой момента, когда можно будет завернуться в надежные сильные руки и выплакать пережитое в Юрмале, я шла следом за Юрой.
Костя открыл замок обманчиво тоненькой двери (это вам не сейфовый мастодонт — лицо «нового русского»), и я, недоумевая зачем, переступила порог чужой квартиры.
Не помню, сколько времени мне понадобилось, чтобы оценить масштаб бедствия.
Я стояла в центре огромной комнаты, освещенной и обставленной, как на картинке американского каталога, и чувствовала, как земля уходит у меня из-под ног, а в горле рождается крик отчаяния.
* * *
Моя жизнь началась в деревенском доме, состоящем из одной комнаты. Первые три года я спала с бабушкой. Потом лет до десяти мы спали со Славиком валетиком на топчане, сколоченном отцом.
Отца уже не было, когда нашу деревню снесли, а нас переселили в хрущобы. Нам дали компенсацию за, дом, и мы купили холодильник, телевизор и кое-какую мебель. Так появился диван-кровать. На нем я спала с мамой до самой ее смерти.
Потом мама умерла. Славик вернулся из армии.
Танька забеременела, и они поженились. Мы разменяли нашу двухкомнатную квартиру, и диван-кровать переехал со мной в восьмиметровую комнату в коммуналке. Так случилось, что моим соседом оказался молодой геолог Сережа Серебряков, он и стал моим мужем. А на постаревшем, но крепком изделии мебельной фабрики № 4 до самого замужества спала Лялька.
Судьбе было угодно, чтобы к тридцати восьми годам я не по своей воле трижды покидала места, которые считала своим домом. Я ни разу не спала на настоящей собственной кровати, и, уж конечно, у меня не было отдельной спальни.
Когда Академик ввел меня в эту квартиру и открыл дверь в довольно большую светлую комнату с широкой кроватью, покрытой пестрым пледом, сказав, что это моя комната, я была оглушена.
Десять лет у меня была моя собственная спальня и моя собственная кровать.
Та самая, на которой я узнала, что значит быть любимой и что значит любить.
Да, это был миг, когда я перестала лукавить с собой. Я не знала любви до встречи с Костей. Я была очень привязана к Сереже. Но разве я тосковала по нему, когда он по шесть месяцев в году находился в экспедиции, так отчаянно, как тосковала по Косте, стоило тому просто выйти за дверь?
Конечно, я скучала, беспокоилась, ждала писем, но не чувствовала себя несчастной, жила спокойной, размеренной жизнью. А когда Сережа возвращался, я не. сразу привыкала к его присутствию.
Мне нравились его ласки, но я не очень нуждалась в них, не грезила о них.
А когда я узнала о его связи с женщиной? Он сам проговорился случайно. Я испытала боль, обиду… Но легко оправдала его.
И такого потрясения, как от вида Костиной руки на чужой женской талии, не ощутила.
* * *
И вот теперь господин Скоробогатов разрушил то, чем я дорожила по-настоящему. Он лишил меня моего дома, моего гнезда, которое я вила десять лет, единственного места на земле, где я чувствовала себя защищенной и счастливой.
Почему, почему он не потрудился подумать о той боли, которую мне причиняет?
Слезы текли по моему лицу, и выражение детской радости сползло с лица господина Скоробогатова. Светлые глаза холодно и неприязненно блеснули:
— В чем дело?
— Что ты натворил…
— Это евроремонт. — Он начал заводиться. — Ты не хочешь жить по-человечески в «домушке». Ладно. Но я не могу допустить, чтобы моя жена жила в трущобах.
— Четырехкомнатная академическая квартира — это не трущобы. Как ты мог? Я десять лет жила здесь.
Здесь мои вещи. Здесь я хранила вещи Академика.
Память о нем.
— Все твои вещи целы. Можешь оставить все, что тебе дорого.
— Господи! Ну как ты не понимаешь? Я не хочу этих хором. Я хочу мою квартиру. Я была в ней счастлива. Всегда. Все эти годы. Здесь я спала, ела, училась, читала, думала, мечтала. Я все сохранила, как было при Академике. Мне это нравилось. Сюда приходили мои близкие, приходила Лялька.
— Вот именно. Это самое главное. Твоя Лялька.
Ты только о ней и думаешь. Она тебе снится. Ты зовешь ее во сне. А она тебе простить все не может.
Четыре года в ссоре…
— Да? Мы в ссоре? — Теперь мы оба кричали. — А кто в этом виноват? Если бы я не ждала тебя, не караулила твое наследство… Дача была нужна тебе на полчаса, чтобы вскрыть тайник. Если бы я продала ее и дала Ляльке денег, мы бы не поссорились. А я даже не могла сказать ей, почему не продаю дачу.
— Я виноват в том, что ты вырастила эгоистку?
— Она не эгоистка. Ей были нужны деньги для бизнеса, и у кого она должна была их просить? Ты виноват в том, что у меня испортились отношения с дочерью.
— Опомнись, Лена!
Но я не желала опомниться. Не желала видеть его несчастного потерянного лица. Мне было больно, и не было сил выдержать боль.
— Ты лишил меня дочери, лишил свободы и права на частную жизнь. Теперь ты лишил меня дома.
— Ты сошла с ума! В чем ты меня обвиняешь? В том, что я все делаю для твоего счастья? В том, что работаю, чтобы у тебя все было?
— Я не хочу больше тебя слушать. И не хочу больше тебя видеть. Ты ничего не способен понять.
Я подняла с пола сумку и, оттолкнув господина Скоробогатова с дороги, выскочила из квартиры.
За спиной с лестницы ссыпался Юра. Кажется, он был на моей стороне. И, судя по взгляду, который метнул в его сторону хозяин, пытался остановить реконструкцию. Что ж, эта квартира была и его домом, и он мог каждый день видеть, насколько она мне дорога.
За десять лет до…
Сережа утонул на зимней рыбалке. Я осталась вдовой после двадцати лет замужества. Мой брак не был безоблачным, но я ни разу ни о чем не пожалела, а многие ли замужние дамы могут так сказать о себе…
Помимо той беды, что я потеряла Сережу, была еще одна саднящая заноза.
Мне было тридцать восемь, а Ляльке вот-вот должно было исполниться двадцать два. Она заканчивала институт и собиралась замуж.
Миша, жених, учился с ней в одной группе. Он приехал учиться в институт из Костромы и для того, чтобы зацепиться в Москве, должен был получить московскую прописку, проще говоря, жениться.
Прописаться в нашей квартире было можно, а вот жить в двухкомнатной распашонке на двадцати четырех метрах с тещей нельзя — каждому понятно.
Лялька Мишу любила и боялась потерять, а он вел себя индифферентно, клятв не давал и на рай в шалаше не соглашался. К тому же кто-то кому-то сказал, что кто-то когда-то видел Мишу со Светкой Ковровой, которая сохла по нему с первого курса и была владелицей собственной однокомнатной квартиры.
От всего этого Лялька лезла на стену, и я, избегая общаться с ней и охраняя свою печаль о муже, засиживалась на работе. Я работала лаборанткой в оборонном НИИ. Я пришла туда сразу после школы. Это было огромное предприятие. В его разных подразделениях в разное время работали мои родители, родители моих подруг, Танька, Славик, Сережа. И вообще большинство моих знакомых и друзей.
Нашей лабораторией руководил семидесятилетний импозантный мужчина. Он носил прозвище Академик.
Он и был академик, и лауреат, и герой, и вообще величина мирового масштаба.
Когда-то Академик возглавлял наш НИИ, но за несколько лет до описываемого момента на опытном производстве обнаружили злоупотребления, начальника производства посадили, а Академика признали невиновным, но недостаточно бдительным, и понизили.
Лаборатория, в которой я работала, всегда считалась личным подразделением Академика, вот здесь-то он и оказался после отставки.
Большую часть своего времени ученый проводил на работе, и, когда я стала задерживаться, мы завели привычку пить чай и разговаривать.
Нам это казалось совершенно естественным, ведь мы оба были так одиноки. И так давно знакомы. Хотя нет, знакомы мы были мало. Просто каждый день встречались на работе больше двадцати лет.
Теперь я все лучше узнавала этого удивительного человека. Он оказался умным, чутким и обладающим чувством юмора собеседником. К тому же у него было редкое качество: разговаривая, он не делал скидку ни на возраст, ни на пол собеседника и оставался с ним на равных.
Постепенно он узнал всю мою историю и рассказал мне о себе. Конечно, не все, но очень много. Думаю, я знала о нем больше, чем кто бы то ни было.
И вот однажды Академик самым естественным образом предложил мне переехать к нему, чтобы помогать вести хозяйство. Чтобы избежать лишних разговоров, решено было заключить фиктивный брак.
Академик не имел никакой родни, и он сказал, что будет счастлив оставить мне все нажитое.
Лялька получила квартиру и Мишу.
Наше содружество продолжалось три года. Для меня это были трудные и светлые годы. Рядом с Академиком я стала другим человеком.
Последний год он не вставал С постели. Он был тяжело болен и обречен, когда делал мне предложение.
Ему нужен был человек, который дождался бы из тюрьмы Скоробогатова и вручил ему наследство. Он плохо знал меня, когда решился на этот шаг, но время поджимало и выхода у него не было. Он рискнул и выиграл.
Я выполнила все условия договора.
За неделю до…
Я без сна лежала в постели на втором этаже моей дачи. После замужества я здесь почти не бываю. А раньше проводила много времени. Академик жил здесь летом постоянно. Лялька с Мишей привозили сюда своих друзей. Три лета подряд Лидуня проводила на даче отпуск с ребятами, пока не построила собственную.
Деньги. Вот о чем я думала. Я привыкла иметь много денег и привыкла много тратить. Мои личные траты: дом, хозяйство, обучение Лидуниного сына, воскресная школа в приходе отца Николая, обеспечение собственной красоты и здоровья. Это то, на что хватает моей зарплаты. Участие в фонде, премия лучшим первокурсникам МХТИ, стипендия имени Академика дипломнику химфака МГУ — на это деньги давал Костя.
Тьфу, черт! Господин Скоробогатов.
От чего мне придется отказаться? Ну не знаю…
Все дорого. Дороже всего фонд. У него нет названия.
Только лозунг: «Нет чужих детей!»
Я в этом фонде казначей и прекрасно сознаю, что многие наши жертвователи дают деньги под фамилию Скоробогатова.
Конечно, в фонде я останусь, но пользы от меня будет меньше. А это очень обидно. После долгих мытарств совсем недавно нам удалось получить разрешение всех, кто должен был его дать, на наш эксперимент.
На базе Дома малютки в Подмосковье мы решили организовать детский дом непрерывного пребывания.
Дети должны были расти в одном коллективе и в одних стенах от младенчества до окончания школы.
Сейчас же детей переводят из приюта в приют.
Они живут сначала в Доме малютки, потом в дошкольном, потом в одном-двух школьных детских домах. А ведь домашние дети не меняют семьи в зависимости от возраста!
Я столько времени и сил отдала этому проекту.
Что мне делать?
Я не могу больше оставаться женой Скоробогатова. Я уйду от него. Какие-то деньги у меня есть. Есть ненавистная теперь квартира, дача, машина.
Все продам. Куплю однокомнатную квартиру. Деньги положу в надежный банк. Все проценты с вклада буду переводить на проект.
Так. Если не смогу помогать воскресной школе деньгами, буду там преподавать. Бесплатно. Николай давно зовет.
Андрюшке учиться еще два семестра. Если сократить личные расходы, можно будет дотянуть. Это дело принципа. Лидуня была против учебы в платном колледже. Я настояла.
Итак, я объявлю Косте, что ухожу от него. И из фирмы. Это понятно. Никаких игр, никаких фиктивных отношений. Надеяться на благородство моей собственной акулы капитализма не приходится. Он, конечно, озвереет. Но перекрывать мне кислород не станет. Это случится само собой. Кто это так расхрабрится, что возьмет на работу сбежавшую жену Скоробогатова?
Конечно, Костя предложит алименты… С чего это я так уверена? Какие алименты? Он никогда не даст мне развода. Он скорее убьет меня, чем отпустит на свободу.
Ну, в принципе можно не разводиться. Что я, замуж собираюсь?
Не лукавь. Ты ищешь возможность не рвать с ним все связи.
Что делать? Кто сможет мне помочь? Генка. Конечно. Ведь именно ему Академик поручил заботиться о моем благополучии. Вот и пусть себе.
Еще кто? Хачик. Ему нужен руководитель аналитической группы. Скоробогатов несколько раз обошел его, и Хачик знает, с чьей подачи. Он возьмет меня еще и затем, чтобы досадить конкуренту. Только не знаю, что должно случиться, чтобы я начала работать против Кости.
Перед глазами синие глаза, лукавые и ласковые:
«Лена, Леночка моя!»
Об этом я думать не буду.
Кто еще может мне помочь?
Лариса. Среди их прихожан вполне можно найти подходящего работодателя. Это на крайний случай.
Кротов из мэрии. Им нужен человек в Департамент образования. Он звал.
Марцевич из «Орго-пресс» предлагал попереводить для них. У меня все же четыре языка.
Я вспоминала все новые имена. Странно, оказывается, моя зависимость от Скоробогатова — это мой выбор. Я вполне могу обойтись без его материальной поддержки. Даже сохранив прежний уровень потребления.
Поняв это, я с ужасом осознала, что нет никаких препятствий для моего разрыва с господином Скоробогатовым.
Я сообщу Генке о решении развестись, он поставит в известность моего мужа, и все. Все?!
Я вытерла слезы, встала с постели и вышла на балкон. Ночь мне не понравилась. Было темно. Ни лучик луны, ни случайный огонек не рассеивали мглу.
Такой же мрак окутывал мою душу. Я вернулась в комнату и села на постели, плотно закутавшись в одеяло. Мучительно хотелось, чтобы Костя был рядом. Я соскучилась по нему. Сейчас похвалила себя за поцелуй в кабинете.
У нас не было заведено целоваться при посторонних.
Да что там! У нас вообще не было заведено целоваться днем. И обниматься. Все это только ночью. Всегда существовали два типа отношений: ночные и дневные. Если просто: ночью — любовь, днем — дружба. Моя блажь.
Синдром надвигающегося климакса. Чего я выпендривалась? Боялась, что Костю отпугнет чрезмерная любовь?
Или боялась этой самой любви? Стеснялась своего возраста? Но ведь я здорова, полна сил и привлекательна.
Все дело в нашем браке. Он был задуман как фиктивный. И хотя мы сразу стали близки, не были произнесены нужные слова и в наших отношениях всегда присутствовала фальшь.
Я боялась, что настанет момент и Костя вспомнит, что наш брак — всего лишь договор о партнерстве.
* * *
Скоробогатов появился на даче на следующей день к вечеру.
Стояла страшная жара. Мы с Танькой сидели в грядках и спорили, пытаясь определить, что посадил приходящий садовник.
Подруга приехала утром по моему вызову и привезла прорву продуктов и два ящика пива.
Юра таскал в дом коробки и пакеты, а таксист таращился на то, как мы с Танькой обнимаемся. Основным объектом его внимания была, разумеется, Танька в костюме с воланами, оборками и плечиками, сшитом в турецкой глубинке. Костюм имел необыкновенный оранжевый цвет и туго облегал все пять с лишним пудов ее живого веса. Дополняли зрелище жгуче-черная начесанная копна волос над круглым лицом и босоножки на высоченной платформе, которыми заканчивались ножки, напоминающие формой рояльные. Я с моими пятьюдесятью килограммами, в джинсовых шортах и майке, со стрижеными кудряшками выглядела рядом с подругой (сестрой) незначительной.
— Что случилось?
Танька послюнявила палец и стерла ярко-лиловую помаду от своих поцелуев с моей щеки.
— Соскучилась.
— Не ври! Черт-те сколько не звонила! И дома не жила. Тебе Милка в пятницу на автоответчик наговорила. Знаешь?
— Нет.
— Почему? Дома не была?
— Нет. Я в Женеву ездила.
— Ни фига себе! Зачем?
— В институт красоты.
— Да? Чего-то я красоты никакой не вижу, одни синяки под глазами. Ревела?
Мы сели в беседке в саду. Юра оделил нас пивом, потоптался и ушел. Танька проводила его взглядом, отхлебнула, довольно пожмурилась. Посидев, глотнула еще и, вытерев ладонью капли с подбородка, вернулась к допросу:
— Из-за чего ревела?
— Из-за евроремонта.
— Где?
— В моей квартире.
— Ты сделала ремонт? Клево. А плакала чего?
Испортили?
— Да нет. Костя сделал ремонт, пока меня не было. Сам.
— Что значит сам?
— То и значит…
— Не спросив тебя? — потрясенно догадалась Танька, и слезы опять полились по моему лицу.
Танька поняла все сразу, но происшедшее никак не могло уложиться в ее сознании.
— Вот блин! Он что, обалдел? Ты что, в своем доме не хозяйка? Ну я тебе скажу… Это прям ни в какие ворота. Дом — дело женское. Да вообще, какое он право имел? Не им нажито, не ему и проживать.
— Он хотел как лучше, — вдруг подал голос Юра.
Он принес еще две совершенно никому не нужные бутылки пива.
— А ну иди отсюда! — распорядилась Танька и, когда расстроенный парень, держа в каждой руке по бутылке, ушел, сочувственно покивала головой. — Переживает. Тоже ведь не знает, на каком теперь свете.
Целый день мы с Танькой бездельничали. Валялись на лужайке, пили пиво, что-то ели, уговорили Юру свозить нас на речку искупаться.
За это время обсудили массу проблем — личных и государственных — и, вконец одурев от безделья, решили заняться огородом.
Когда-то в детстве нам приходилось полоть, работы мы не боялись. Трудность заключалась в том, как отличить полезную культуру от сорняков.
Именно анализом зеленых насаждений мы с Танькой и занимались, для чего встали на колени и локти, приблизили лица к земле и оттопырили зады.
Вот их-то (зады) и увидел господин Скоробогатов, нашедший нас по голосам.
— Бог в помощь! — пожелал он нам. Я от неожиданности вскочила на ноги, а Танька, наоборот, плюхнулась на живот и ткнулась лицом в землю.
Я испуганно охнула, а Костя нагнулся и, ухватив Таньку за пояс, легко поднял ее и поставил на ноги.
— Добрый день, Татьяна Ивановна, — ласково сказал он и своим белоснежным носовым платком очистил от грязи кусочек тугой щеки и приложился к нему губами.
— Здравствуй, кум, — сверкнула Танька белыми зубами (год назад Костя и Танька крестили первого внука Ларисы и Николая). — Пойду-ка я умоюсь да чай поставлю. Приходите попозже, перекусим.
И Танька, чуть переваливаясь, но резво, понесла свои пуды к дому.
* * *
Господин Скоробогатов повернулся ко мне и заставил себя взглянуть мне в лицо. Я видела, что ему трудно. Мне тоже было не по себе. Я волновалась и, прикусив нижнюю губу, смотрела в знакомое до мельчайших подробностей, такое милое мне лицо.
Его приезд был полной неожиданностью для меня.
Дело в том, что этот человек по жизни спокойный как удав, и только я могу его вывести из себя настолько, что он срывается на крик. Случается это не часто.
Но случается.
Бывает, что я считаю себя виноватой в ссоре. Иногда нет. Но делать первый шаг к примирению всегда приходится мне.
Если я признаю себя виноватой, мне не трудно извиниться. Но инициатором большинства ссор бывает господин Скоробогатов. Понимая, что виноват, мучаясь сознанием вины, он тем не менее не может заставить себя подойти ко мне. Нет, потом он покается и постарается заслужить прощение. Все это будет. Но для начала мне следует его к этому поощрить.
Не пробовали первым мириться с обидевшим вас человеком? Вот то-то и оно.
Подходить приходилось, переступая через собственную гордость, но выхода не было. Причина в том, что у господина Скоробогатова имеется странная особенность. Поссорившись со мной, он перестает есть.
Нет, это не шантаж, призванный разжалобить жену.
Костя действительно теряет интерес к еде.
Так что я в полном недоумении смотрела на господина Скоробогатова. И увидела, что он очень хорош в своей голубой рубашке с короткими рукавами, открывающими загорелые мускулистые руки.
Эти руки протянулись ко мне, я невольно сделала шаг назад. Руки опустились.
— Зачем ты приехал?
— Я хочу, чтобы ты вернулась домой.
— Нет.
Я медленно повернулась и сделала несколько шагов по борозде, ощущая его присутствие за моей спиной.
— Что ты собираешься делать? — безразлично спросил он, когда мы достигли лужайки.
— Я не готова говорить об этом. Я не хочу ссориться. Я очень устала за последние дни.
— Лена, я приехал сказать, что мы получили заказ для Зеленодольска.
— Поздравляю.
Я была действительно рада, но у меня не было сил на проявление эмоций. Его присутствие мешало мне. Я хотела остаться одна.
— Спасибо. Это во многом и твоя заслуга.
— Вот как?
У меня не было слов и не было желания говорить.
Его лицо вспыхнуло от гнева, но ему пока удавалось сдерживаться.
— Ты могла бы проявлять больше интереса к делам мужа.
Момент показался мне подходящим.
— Хорошо, что ты заговорил об этом. Если помнишь, в основе нашего союза лежало мое обещание Академику оформить с тобой фиктивный брак.
— И что? — насторожился Скоробогатов.
— Я выполнила свое обещание?
Он кивнул, не сводя с меня потемневших глаз.
— Ну вот, теперь, я считаю, самое время союз расторгнуть…
— Объясни доходчиво, о чем ты говоришь?
— Не притворяйся. Я считаю, что пришло время оформить развод.
— Это с чего вдруг я должен разводиться?
— Не вдруг. Я больше не хочу.
— Чего ты не хочешь?
— Играть в эти игры.
— Какие игры? Ты можешь сказать прямо, что случилось? Ты рассердилась из-за квартиры? Ладно. Хочешь, куплю новую? Не хочешь. Я звонил в фирму, они обещали за два дня восстановить твою спальню и кабинет.
И этого не хочешь? Чего тебе вообще надо? Чтоб я сдох?
Он еще не кричал, но в его обычно поразительно чистом голосе появилась легкая хрипота, предвестница бури.
Я отвернулась, чтобы не видеть, как его лицо искажается от гнева.
Он схватил меня за плечи и повернул к себе, не давая отвести лицо.
— Если ты еще раз, даже в шутку, назовешь наш брак фиктивным, я…
Он замялся, придумывая угрозу пострашнее. Трудность заключалась в том, что господин Скоробогатов очень ответственно относится к словам и, если что-то пообещал, всегда выполняет.
Я пришла ему на помощь:
— Ты делаешь мне больно…
Но он не хотел менять тему разговора и не хотел меня отпустить, поэтому и моей реплики услышать не захотел.
— Наш брак никогда не был фиктивным, что бы ты ни придумывала. У нас совместное имущество и супружеские отношения.
— У нас нет совместного имущества и нет супружеских отношений. Мы просто вместе работаем и иногда вместе спим.
— Прекрати! — Вот он и заорал. — Все, что у меня есть, оформлено в совместное владение. А сплю я с тобой потому, что ты моя жена?
Он вдруг осознал, что орет прямо в мое испуганное лицо. Замолчал, помотал головой, укоризненно взглянул на меня.
Вдруг он опустился на траву и, дернув меня за руку, усадил рядом. Заговорил, глядя перед собой и теребя крепкими пальцами "сорванную травинку:
— Я думал, не переживу этой истории. Вернулся из Питера, тебя нет. Юра говорит: два дня назад улетела в Женеву. Зачем? Почему? Звоним в отель — нет. Олег сел на телефон, обзвонил что мог — нет, не было и слыхом не слышали. Куда делась? Что делать?
Где искать? Как? Бергману звонить нельзя. Там такие деньги… Засветим мужика, его могут просто убрать. Я начал сходить с ума. Счастье, у Олега был билет и виза. Он ведь должен был с тобой лететь. Как тебе пришло в голову, что я тебя одну отпущу? Олег улетел, сумел связаться с Бергманом. Звонит мне: жива, здорова, в клинике. Я успокоился. А тут это похищение.
У меня ведь нет никого, кроме тебя. Мне любить больше некого. Да я и не хочу. Если правду, я и детей бы не хотел. И родителей. Я потому вчера и завелся из-за Ляльки.
Потом всю ночь не спал, все думал: что случилось? Почему ты так к моему подарку отнеслась? И не понял.
Мы как-то с тобой об этом не говорили. Вроде это само собой разумеется, а мы уже не очень молодые для признаний. Я тебя люблю. И знаешь, если честно, всегда был уверен, что ты меня любишь. Просто ни разу не усомнился.
А вчера… Я все вспоминал. Всю нашу жизнь с тобой. День за днем. И у меня твой образ все время распадался. Вот ночью: нежная, любящая, открытая, вся моя до капельки. А вот днем: спокойная, ироничная, преданная, надежная, но отстраненная, чужая. Я измучился. Мне в голову не приходило, что мы можем расстаться. И твои слова о разводе обухом по голове.
Так что уясни: я сделаю все, что хочешь, буду таким, как скажешь, но ни о каком разводе не помышляй. Это ясно?
— Ясно, — кивнула я, чувствуя, как вся моя растроганность, вызванная его признаниями, улетучилась. Осталось только желание поставить на место зарвавшегося собственника. — Хорошо. Я согласна признать наш брак состоявшимся фактически, другими словами, законным. И что, тебе кто-то сказал, что такие браки нерасторжимы?
Поговорю с Яковлевым и подам на развод.
— Даже не думай об этом. Никакого развода!
— Посмотрим. Ну а поскольку ты не желаешь вести себя цивилизованно и прибегаешь к угрозам, я и работать у тебя не буду. Заявление напишу прямо сейчас.
Я встала. Он тоже вскочил и снова схватил меня за плечо.
— Делай что хочешь. Раз тебе шлея под хвост попала.
Я поморщилась. Он криво усмехнулся. Его лицо побледнело, глаза холодно поблескивали.
— Но пока ты еще у меня работаешь, изволь выполнить задание.
— Последнее, — секунду помедлив, согласилась я.
Мне не хотелось враждовать с господином Скоробогатовым. Силы ведь явно не равные.
К тому же мою непримиримую позицию ослабило то, что сейчас, когда он стоял близко и я чувствовала на плече его руку, все мое истосковавшееся по нему тело устремлялось к его телу, излучающему мужскую силу, знакомому и желанному. Больше всего хотелось обхватить его руками и прижать лицо к сильной теплой шее.
Видно, я чем-то выдала себя, потому что Костино лицо вдруг стало открытым и нежным. Он порывисто обнял меня и, прижав к себе, зарылся лицом в волосы.
Я дала себе немножечко понаслаждаться, потом высвободилась, правда, достаточно мягко.
— Ну хорошо. Что я должна сделать?
Костя огорченно поморгал колючими черными ресницами.
— Я хочу устроить небольшую вечеринку.
— Сколько человек?
Он что-то прикинул в уме.
— Человек двадцать. Или чуть больше.
Теперь наши голоса звучали спокойно. Мы занимались привычным делом, хорошо понимали друг друга и смогли расслабиться.
— — Куда ты хочешь их пригласить?
— Не знаю. Но не в ресторан. Хотелось бы по-домашнему.
— А что, если здесь? С ночевкой.
— Неплохо. Мне нравится. Дом в порядке. Места много. Сад.
— Я могу попросить Таньку остаться. Она мне поможет, потом с нами повеселится.
— Я сам с ней поговорю. Что тебе еще надо?
— Дай сообразить. Вера Игоревна будет? А Генка с Мариной? Ну, тогда я продиктую Вере список продуктов, они с Мариной приедут пораньше, и мы все сделаем.
* * *
— Таким образом, после размещения заказа на этих двух предприятиях постоянную оплачиваемую работу получат еще почти двадцать тысяч человек. А значит, в двух городах, вся инфраструктура которых ориентирована на эти заводы, снова начнется жизнь.
Голованов тряхнул седеющей головой, окинул взглядом присутствующих и сел в кресло. Скоробогатов кивнул в сторону Геннадия Яковлева, тот встал и заговорил, сверяясь с записями в блокноте:
— С начала года нам удалось получить заказы иностранных производителей и разместить их на предприятиях на общую сумму…
Он прочитал цифру из блокнота, и собравшиеся одобрительно переглянулись.
— Это соответствует годовому бюджету Москвы, — заметил Кротов и обеспокоенно обратился к Голованову:
— Где гарантия, что деньги пустят на дело, а не разворуют?
— Мы и размещаем заказы только на тех предприятиях, где руководители — наши люди.
Кротов кивнул. Яковлев, пошуршав своими записями, продолжал:
— Привлечение иностранных инвестиций не самоцель, а способ раскрутить процесс восстановления промышленности. Наш следующий шаг — налаживание надежных связей между всеми производителями. Кроме того, необходимо срочным порядком внедрить новые технологии, что позволит вывести первую группу наших производителей на внутренний и мировой рынки.
Нами предприняты следующие шаги.
Во внимающей тишине зазвучали цифры, имена… Я встала и тихонько вышла из кабинета. На пороге остановилась. Господин Скоробогатов что-то с подъемом говорил, сияя яркими глазами, а пятеро его единомышленников слушали с предельным вниманием.
С самого начала вечеринка шла заведенным порядком. Гости были пунктуальны, съехались в течение четверти часа. Шумно здоровались, перебрасывались шутками, смеялись, направляясь к накрытому на веранде столу. Рассевшись кто где хотел, отдали должное выпивке и закускам. Присутствующие были знакомы между собой, делали одно дело, и неловкости за столом не возникало. Все было естественно и мило.
Потом гости разбрелись по дому и саду, Марина и Вера помогли мне убрать со стола и отправились покурить на свежем воздухе. Танька сидела на веранде с Олегом и его женой. Все остальные были при деле и на виду.
Юра и Вадим раздавали гостям напитки. Издалека я понаблюдала, как Вадим угостил себя коньяком, и показала ему кулак. Он покраснел и покаянно прижал ладонь к груди.
Шестеро мужчин оставались в кабинете. Я прикинула, чем бы их угостить, собрала поднос и понесла им.
Они праздновали очередную победу. Еще два русских городка вернутся к жизни. А они будут готовить следующий этап.
Эти люди, именующие себя в шутку комитетом, обладали знаниями, талантом и связями. Они не стремились ни к власти, ни к сверхбогатству. Их целью было восстановить славу России. Они многое могли и ничего не боялись. Они не афишировали свою деятельность и не декларировали свои цели, они просто работали, изыскивая возможности, строя, создавая, привлекая все новых людей, находя умных, честных, деловых… Это была невидная, медленная, каждодневная работа. И делали ее не только они, но эти шестеро были близкими надежными друзьями.
* * *
Яковлев нашел меня в дальней беседке. Он сел рядом и тоже закурил.
— Ты как? — спросил заботливо.
— Ты о чем?
— Да о твоем приключении.
— Почти забыла. Ген, а это действительно большое дело?
— Какое?
— Заказ.
— — Действительно.
— То-то кормилец сияет. Я его таким не знаю.
— Ты его вообще мало знаешь…
— Наверное.
Мы помолчали. Генка потушил сигарету о каблук и щелчком отбросил в кусты. Его бледное невыразительное лицо выглядело задумчивым. Этот мужчина десятью годами моложе меня — мой близкий друг. Он достался мне в наследство от Академика и заботился обо мне все время, пока я была одна. Теперь он руководит юридической службой у Скоробогатова, но по привычке присматривает за мной. А вот с его женой Мариной у меня дружбы не получилось, хотя мы постоянно общаемся и очень доверяем друг другу.
— Костя — редкий человек. Именно поэтому из всех своих учеников в наследники дед выбрал его.
— Ген, я все хочу тебя спросить: почему ты Академика дедом зовешь?
— Да потому, что он мне дед…
Я с удивлением воззрилась на Генку. Мы были знакомы десять лет, я встретила его в доме Академика, но даже не подозревала об их родстве.
— Жили-были две сестры. Одна вышла замуж за моего дедушку, а другая — за будущего Академика.
— Но его жена умерла совсем молодой.
Генка кивнул и продолжал свое повествование напевным голосом, словно рассказывая сказку:
— Жена Академика умерла очень рано, еще до того, как родилась моя мама. Наша семья жила в деревне на Урале. Я был глуп и самоуверен. Как же, первый парень на деревне! Школу окончил за восемь лет. Мне еще шестнадцати не исполнилось, а я решил — еду в Москву. Как ни отговаривали — ни в какую. Тут бабушка и вспомнила сестру Галочку, что вышла замуж в Москву за студента. Нашла бумажку с фамилией и старым адресом. Отец меня повез. И ты знаешь, нашли его.
Адрес дали в адресном бюро. Приехали. Он нас встретил, расспросил и признал. Знаешь, он хранил такое же фото, как бабушка. Две сестрички-девочки в обнимку в объектив таращатся.
— Ген, а тебе не было обидно, что ты единственный родственник, а он все чужим людям оставил, а тебе ничего?
— Смеешься? Как это ничего? Ты дальше слушай.
Отец уехал, а дед снял мне квартиру у профессорской вдовы с полным пансионом и устроил на подготовительные курсы на юрфак МГУ. Так я у Оксаны Михайловны до диплома и жил. К этому времени благодаря ей меня ни по выговору, ни по манерам от столичного жителя было не отличить. Дед и дальше помогал: аспирантура, защита диссертации. И главный подарок — устроил меня работать в одно место, где давали московскую прописку и отсрочку от армии. Потом помог квартиру купить.
Когда его не стало, сама знаешь, у нас с Мариной все было: прекрасная квартира, машина, гараж, работа и связи. Надежные связи с очень приличными людьми.
А это больше, чем деньги.
Я кивнула, признавая его правоту. Генка разговорился. Ему нравилось рассказывать мне о деде.
— Предок деда прибыл в Россию по призыву Екатерины Второй. Вся остальная кровь в нем русская, а фамилия осталась. Времена бывали разные, ему сколько раз советовали: смени фамилию. У бабки — Матвеева; у матери — Федосеева; у жены — Стрижова.
Нет, ни в какую. Гордый.
Но русской идеей был одержим. «Нет большего счастья, чем родиться русским в России». И работал во славу Родины. Сделал много. Ученых советская власть умела ценить. Дед имел все. Но в последние годы начался развал. Умные люди почуяли ветер перемен и начали делать деньги. Кто-то объяснил суть вещей деду. Кто-то, кому он верил. Дед понял: процесс не остановить — и решил спасти хоть что-то для будущей России.
— Он был не совсем нормален?
— Нормальнее других. Он предвидел, что рано или поздно появится возможность восстановления, и хотел быть готовым. И прекрасно понимал, что в первую очередь будут нужны деньги, и начал их зарабатывать, для чего пригодился опытный завод. Еще люди.
Они были, не много, но были. Его друзья, ученики, единомышленники. Плюс новые технологии. Ты что думаешь, Скоробогатову он деньги оставил? Денег не много. Ты была хранительницей уникальных идей и разработок Академика. И не только его. Поэтому так важно было твое участие в договоре. А кстати, ты знаешь, за что сидел Скоробогатов?
— За хищение?
— Нет. Государство получало свое сполна. Естественно, нарушения на заводе были, но дед Костю берег, и тот занимался легальной деятельностью. А все, что могло быть определено как противозаконное, шло через деда. Организовано все было хорошо. Деда бы сроду не поймали, но за ним ходил КГБ. Деду было предложено закончить один серьезный проект, от которого он в свое время отказался по этическим соображениям. Он послал ходоков в грубой форме, тогда ему сели на хвост, раскопали завод и решили прижать строптивого Академика.
Они бы вряд ли его посадили. Заставили бы работать на себя. Хотя кто знает? Но когда арестовали документацию, там не обнаружилось никакого упоминания Академика. Представляешь? Вообще ничего.
Скоробогатов оказался готов к аресту и получил десять лет. Вломили ему со злости по полной. А дед начал готовиться к его возвращению.
* * *
Пришла Марина, подозрительно оглядела нас, сидящих на разных концах скамейки, села между нами, позволила Генке обнять себя.
— Там Головановы и Жуков домой собираются.
— Пойду прощаться. Вы останетесь?
— Да, мы переночуем. Ты иди, мы посидим, покурим.
Гости не торопясь разъезжались. Мы с Костей вместе проводили всех до машин.
Наконец остались только Вера, Танька, Яковлевы да охранники. Решили попить чаю. Юра включил электрический самовар. Все собрались в круге света у стола.
Костя стоял на веранде, опершись плечом о столбик крыльца, и смотрел в темный сад.
— Костя, — позвала я негромко, и он медленно повернул ко мне голову, но не шевельнулся. Его лицо выглядело усталым и постаревшим, оживление покинуло его. — Иди пить чай.
Он не ответил. Я подошла к нему и встала рядом.
— Устал?
— Да, — безжизненно ответил он и добавил:
— Лена, мне надо ехать.
Я удивилась и коснулась его рукава; он не отреагировал на мое прикосновение, и я удивилась еще больше:
— Разве ты не останешься?
— Нет. Я поеду в Москву.
Что ему делать в Москве на ночь глядя?
— Как хочешь. Выпей чаю.
— Не хочу. Пусть ребята пьют, и поедем.
Он был какой-то неживой, не похожий на себя. Я не могла понять, что с ним случилось. Наверное, просто устал.
— Костя, я хочу, чтоб ты знал: я горжусь тобой!
— Правда? — Он неприятно усмехнулся. — Поэтому и побеседовала с Яковлевым?
Он с непонятной мне болью посмотрел глубоко-глубоко в мои глаза и вдруг легонько провел тыльной стороной ладони по моей щеке снизу вверх и, сбежав с лестницы, скрылся в саду.
Я осталась стоять, тупо глядя в темноту, недоумевая, чем его мог так опечалить мой разговор с Яковлевым. Мы вообще часто и подолгу говорим с Генкой, и Костя всегда относился к этому спокойно. Разве что подсмеивался над нашей манерой перезваниваться два-три раза в неделю.
Только ночью я где-то между снами вспомнила, что пообещала мужу переговорить с Яковлевым о разводе. Я вскинулась со сна и больше не уснула. Костя не знал, что моя решимость расстаться с ним сильно поколебалась. И причиной был именно разговор с Яковлевым.
— ..Лена, он действительно не понимает, почему ты так завелась из-за квартиры. Он не знал дома: интернат, казарма, общежитие, коммуналка, камера, барак. Для него дом — это просто место, где спят, а не святыня, как для тебя. Мы ему говорили, что нельзя делать евроремонт без твоего согласия. Но он уперся.
Страшно гордился собой и радовался, что успел к твоему возвращению.
Часть 2
Накануне
Уже три дня я жила дома. Как господин Скоробогатов и обещал, фирма, делавшая евроремонт, восстановила прежний вид спальни и кабинета. Вся остальная часть квартиры сияла великолепием, но казалась чужой и даже враждебной.
Два предыдущих дня я занималась налаживанием быта и ждала. Напрасно. Господин Скоробогатов не появился.
Не выдержав неизвестности, я собралась и отправилась в офис. Шеф отсутствовал. Я оставила на столе секретаря сводный аналитический отчет.
Господин Скоробогатов категорически отказывался считывать информацию с экрана компьютера, поэтому отчет распечатывался в единственном экземпляре.
По дороге к приемной, преодолевая некороткий путь по коридору, я встретила одну из молоденьких секретарш. Лицо девочки не было мне знакомо, мое ей тоже, и на мою улыбку девица ответила взглядом, полным холодного безразличия.
Другими словами, приняв меня за посетительницу, она не кинулась ко мне, готовая к услугам, а облила волной пренебрежения.
— Вера Игоревна, у нас есть человек, который отвечает за персонал?
Идеальная секретарша подняла на меня спокойные серые глаза, отложила ручку и села иначе на своем вертящемся стуле, готовясь к разговору. Весь ее вид радовал глаз. Кроме скромненького серенького костюмчика. Костюмчик вызывал зависть.
— В каком смысле? — осведомилась Вера Игоревна.
— Ну офис-менеджер…
— Нет.
И она начала перечислять, загибая стройные пальчики:
— У нас есть начальник безопасности, начальник канцелярии, начальники служб…
— Выходит, каждое подразделение живет по своим правилам?
— Похоже…
— Сотрудник может явиться в офис в джинсах и вести переговоры «без галстука»?
— Я не думала об этом. Наверное, так.
— А кто регламентирует внешний вид секретарш?
— Не знаю. Или Зиновьева, или никто.
— За три шага по коридору я встретила девочку в мини-юбке, без чулок, и другую, не пожелавшую ответить на мое приветствие.
Вера Игоревна слегка насторожилась:
— Она вас не узнала.
— Разумеется. Именно поэтому. Ее работа — быть приветливой с любым, кто переступит этот порог. Я могу попросить вас собрать где-нибудь всех девушек?
— Да. Через четверть часа в зале заседаний.
Эти пятнадцать минут у меня ушли на то, чтобы сформулировать требования к внешнему виду и манере поведения сотрудников (сотрудниц) секретариата.
Я изложила тезисы стайке разнокалиберных и разномастных девиц и категорически заявила, что невыполнение любого пункта автоматически повлечет за собой немедленное увольнение.
Сотрудницы, озадаченно переговариваясь, отправились к местам прохождения службы, а я, довольная, прибыла домой и уселась ждать реакции господина Скоробогатова на мое вопиющее самоуправство.
* * *
Время шло, и ничего не происходило. Вернее, происходило самое худшее. Господин Скоробогатов проигнорировал мою выходку.
От тоски я без всякой необходимости попила чаю и прилегла на постель поверх покрывала.
Огромную квартиру окутала тишина. Я лежала, такая маленькая, незащищенная, одинокая и никому не нужная.
* * *
В первый год нашего союза господин Скоробогатов был занят день и ночь. Он куда-то ездил, с кем-то встречался. А когда бывал дома, непрерывно разговаривал по телефону, что-то писал, читал неведомые бумаги…
В квартире постоянно толпились какие-то люди.
Кто-то приходил, кто-то уходил. Одни забегали на минутку, другие проводили целый день, а кое-кто и оставался ночевать…
Их всех приходилось кормить. Каждый день я варила борщ в восьмилитровой кастрюле, крутила по сотне котлет, пекла пироги…
Иногда, выйдя ночью в туалет, я видела свет в кухне и, зайдя, обнаруживала там едоков.
Господин Скоробогатов легко, как нож в масло, вошел в новое состояние и в новые отношения.
Свобода физическая, свобода выбора и еще какие бывают свободы… И он как рыба в воде.
Я скоро перестала удивляться. Работая как одержимый, господин Скоробогатов, казалось, весь мир заставлял вращаться вокруг себя. Нашлось дело и мне.
В сопровождении Олега Чешко я колесила по стране, встречалась с людьми, передавала то, что нельзя было доверить обычным каналам связи.
Олег — тридцатилетний, дурашливый, абсолютно лишенный чувства страха и предельно надежный, теперешний начальник службы безопасности у Скоробогатова, тогда был моим постоянным спутником. Мы попадали в разные — порой неприятные, порой откровенно опасные — ситуации. Но у меня не только волос с головы не упал, на меня не осмелилась сесть ни одна пылинка.
Олегу есть за что благодарить Скоробогатова.
Осужденный за превышение допустимой обороны (подстрелил мерзавца при задержании, когда тот кинулся на него с ножом), а на самом деле за то, что слишком близко подобрался к сильным мира сего, в лагере лейтенант милиции Чешко был обречен на скорую мучительную смерть. Господин Скоробогатов спас ему жизнь. И обрел преданного друга.
В те времена мы редко виделись. Иногда я заставала Костю на кухне. Он что-нибудь ел и глядел прямо перед собой, напряженно обдумывая очередную операцию. На худом лице огромные глазищи. В них хитрый блеск и какое-то недоступное мне знание.
И уж совсем редко по ночам в мою дверь раздавался стук. Он просовывал голову и неизменно спрашивал:
— Не помешаю?
И наступали чудесные минуты, наполненные нежностью. Костины губы чуть горчили от табака, дыхание пахло зубной пастой. Горячие неумелые руки робко двигались по моему телу. У меня кружилась голова.
Я обнимала Костю, и он, затихал, согреваясь в моих руках.
Для него это было самым главным. Он мог лежать сколь угодно долго совершенно неподвижно, сводя меня с ума, доводя до исступления.
Бывало, что усталость брала свое и он засыпал. а я лежала рядом, с удивлением прислушиваясь к бушующему во мне желанию.
Но чаще в какой-то момент мужское тело в моих руках становилось властным и нетерпеливым.
Его поцелуи обжигали кожу, сильные руки по-хозяйски уверенно обнимали меня.
Наша близость была источником радости для нас обоих. Мы встретились уже не очень молодыми людьми, но так уж случилось, что эта сторона человеческих отношений была нам малоизвестна. И мы вместе открывали ее для себя.
* * *
Нежные теплые губы легко коснулись моего лица.
На границе между сном и явью мне показалось, что он рядом, и по моему телу волной прокатилась дрожь.
Господи! Помоги мне. Чего это вдруг я начала об этом вспоминать? Мне уже пора о душе подумать, а я без мужика измаялась.
Я попыталась себя усовестить и, кажется, начала засыпать.
* * *
Резкая тревожная ночная трель телефонного звонка. Трясу головой, пытаясь проснуться. На часах двадцать пять минут десятого. Значит, я сплю всего минут десять — пятнадцать, а разоспалась, никак не проснусь.
Трубка выскальзывает из непослушных пальцев, но мне все-таки удается пристроить ее к уху.
— Мама…
Какой тоненький больной голосок. Больно бухает сердце. Лялька, девочка моя.
— Мама!.. — тоненько плакала трубка.
— Лялька, доченька, что? Кто обидел?
— Я умираю, мамочка. У меня рак. Рак печени.
— Нет! Лялька, девочка моя, нет.
Этого не может быть. Лялька, девочка моя, этого не может быть. Я поверила. Почему я сразу поверила?
— Да. Мамочка, я боюсь. Сегодня они сказали, мне осталось три месяца. Я не хотела тебе говорить.
Мне было стыдно. А теперь… Я не верила, что умру, думала, справлюсь. Но у меня боли. Болит и болит.
Все время. К кому только Миша меня не возил. Надежды нет. Сегодня мне назначили уколы. Наркотики.
Это конец.
— Подожди. Не паникуй. Врачи могут ошибаться.
— Они не ошибаются.
— Даже если не ошибаются. Три месяца — не завтра. Еще есть время. Мы поедем за границу. В лучшую клинику. Наверняка где-то умеют лечить твою болезнь. Мы узнаем где и поедем.
— Уже поздно. Меня нельзя вылечить.
Но тихий слабый голос у моего уха зазвучал иначе.
В нем появилась слабая надежда. И я продолжала, обрадованная и этой малостью:
— Пусть не вылечат. Будешь жить не очень здоровой. Не ты одна, таких много. Лишь бы подольше.
— Мамочка, я люблю тебя!
Я почувствовала, что она улыбается, и слезы, медленно скапливаясь в моих широко раскрытых глазах, перелились через край. Я не всхлипнула, не шмыгнула носом, бодро и ласково закончила разговор и только потом уткнулась мокрым лицом в сложенные на столе ладони.
Лялька, Лялька, девочка моя…
Как случилось, что мы стали чужими?
Я обиделась на жестокие слова, сказанные Лялькой в пылу ссоры. Почти три месяца мы не общались совсем. Потом я позвонила и наговорила на автоответчик приглашение на свадьбу. Дочь не пришла, и я снова обиделась.
Миша чем-то объяснял отсутствие жены. Не вспомнить. Я лелеяла свою обиду, а не подумала, что испытала Лялька, прослушав автоответчик. Ее мать выходит замуж, но не приехала поговорить, не познакомила с женихом, даже по телефону пригласила не лично, а через автоответчик…
Лялька решила, что я вырвала ее из своей жизни, обиделась и поступила так же.
За эти годы мы несколько раз встречались: на юбилее Николая, у Таньки, когда в прошлом году приезжал Пашка, и, конечно же, на различных светских мероприятиях. Встречи всякий раз были в присутствии большого числа людей.
Лялька держалась вежливо-отстраненно, мы улыбались друг другу, перекидывались парой слов и расходились.
«Я воспитала монстра», — говорила я себе, и мое сердце обливалось кровью. Я тосковала по дочери.
Но время шло. Я училась обходиться без постоянного присутствия Ляльки в моей жизни.
Тем более что в ней все больше места занимал Костя.
Моя новая жизнь налаживалась. И, насколько мне было известно, Лялькина тоже.
Перед отъездом в Женеву, еще до того как я узнала о поездке, я по делам своего фонда посещала префектуру Южного округа.
Лялька вышла из кабинета префекта. Моя очередь была следующей. Я встала, мы столкнулись лицом к лицу и неожиданно обнялись. Лялька показалась мне усталой и постаревшей. Я спросила, как у нее дела.
Она ответила, что очень устала, много работает, через два часа улетает на неделю в Киев.
Секретарь пригласил меня в кабинет, мы с дочерью еще раз обнялись и условились созвониться через неделю.
— Чао, Акулька! — сказала Лялька и улыбнулась своей прелестной улыбкой.
Как я была счастлива! Сколько радостных планов я строила! Как мечтала!
Я позвонила Ляльке из аэропорта. Ее не было ни на работе, ни дома. Я побеседовала с ее автоответчиком.
Вернувшись в Москву, я позвонила Ляльке, и опять дома никого не было. На работе секретарь соединил меня с Мишей. Его голос звучал нейтрально:
— Лялечка очень занята. Я передам, что ты звонила. Думаю, она свяжется с тобой, когда будет посвободней.
От его голоса из глубины души поднялась загнанная туда застарелая неприязнь. Я привычно подавила ее, оставаясь приветливой до конца разговора.
Миша не сказал мне о болезни своей жены ни слова.
* * *
Начальный шок от Лялькиного звонка начал проходить. Мой мозг лихорадочно работал, составляя план действий по спасению моего ребенка.
Главное, найти врача. Безразлично, в каком городе или в какой стране.
Но как его найти?
Я встала на колени перед письменным столом и выдвинула нижний ящик. Старая записная книжка перетянута аптечной резинкой, и все равно ее рассыпавшиеся листочки торчат в разные стороны. Аккуратно раскладываю листочки на ковре.
Телефон профессора Бронштейна обведен черной рамкой.
Григорий Львович был другом и личным врачом Академика. С его помощью Лялька переводила меня из городской больницы в клинику НИИ гинекологии, где меня с трудом выходили после неудачной операции.
Если бы он был жив, обязательно бы мне помог.
На похоронах профессора я познакомилась с его сыном, живущим в Америке, и он сказал, что внук Григория Львовича Лева окончил медицинский институт и работает в клинике деда.
Я поднялась с пола и, оставив книжку на столе, пошла за телефоном.
Он обнаружился на тумбочке у кровати. Я протянула руку и толкнула стоящий там же будильник. Будильник закачался, я остановила его ладонью и увидела, что показывают стрелки.
Двадцать минут после полуночи не лучшее время для телефонного звонка незнакомому мужчине. Хорошо, я попытаюсь найти Леву Бронштейна утром. Он должен знать, какой врач и в какой стране достиг наибольших успехов в лечении рака печени.
Если не найду Леву, обращусь в Академию медицинских наук, в Министерство здравоохранения.
Волнение мешало уснуть, мешало лежать спокойно, требовало выхода в действии. Я снова и снова представляла себе лицо дочери. И не могла поверить, что у нее рак. Лицо Ляльки было бледным, усталым, осунувшимся. Но на нем не лежала печать ракового больного, а ведь я видела, как выглядели за несколько месяцев до смерти моя мама и Академик.
Все больше и больше я уверовала в возможность ошибки. Если же это не рак, то ничего не потеряно.
Временами мое возбуждение сменялось апатией, страхом, сознанием бесполезности любого действия.
Но я не позволяла себе потерять надежду.
Очередной раз взглянув на часы, я увидела, что время движется к трем, и решила просто дождаться утра.
Ой, а деньги-то! Про них я и не подумала. Что, если сумма потребуется значительная, а у Кости не окажется столько свободных денег? Придется искать, а на это уйдет время.
Не раздумывая я схватила телефон, набрала номер и с удивлением слушала гудки. Минута, две, три…
Где он, черт побери, шляется в три часа ночи?
Мелькнула мысль, что я никогда не интересовалась, где проводит господин Скоробогатов ночи. И с кем.
Меня охватили злость и обида. Всякий раз, когда он нуждался во мне, я была на месте и готова помочь ему. Впервые он мне понадобился, и что же?
Черт! Эту проклятую квартиру сроду не обойдешь, впору пускать рейсовый автобус. И какая из комнат теперь Юрина? Раньше он спал на диване в холле, а теперь?
— Юра! — завопила я, стоя посредине какой-то европлощади неизвестного назначения.
Из одной из дверей вылетел взлохмаченный Юра в тренировочных штанах и с голой волосатой горой мышц над ними. Он хлопал глазами. Я заикалась от злости.
— Чем ты занят?
— Сплю…
— Молодец! Продолжай. Тебя для того и наняли.
— Что случилось?
— Какая тебе разница? Твое дело тело охранять, а живое оно или мертвое — тебе плевать!
— Вам плохо? Врача?
Вид разволновавшегося Юры неожиданно несколько успокоил меня. По крайней мере я перестала заикаться.
— Ты знаешь, где Константин Владимирович?
Кивок.
— Где?
— В казино.
— Что он там делает? — Идиотский вопрос.
Движение плечом. Не знает.
— Позвонить ему можешь?
Кивок.
— Позвони. Скажи, он мне нужен.
Кивок.
О Боже!
* * *
Я включила свет в кухне и поставила варить кофе.
Великолепие белых стен, блеск хромированных частей мебели и всевозможное оборудование делали кухню чужой и совершенно безликой.
Я избегала бывать здесь без необходимости. А когда-то это было самое любимое место в квартире. Да что в квартире, в целом свете.
Опять поднялась обида на господина Скоробогатова, уничтожившего мой столь любовно налаженный быт.
На душе стало окончательно тоскливо и муторно.
Страшно хотелось курить, но я решила этого не делать, чтобы не злить господина Скоробогатова запахом дыма. Он чрезвычайно тяжело бросал курить.
Выпив кофе, я поставила чашку в мойку, отложив мытье на утро. Потом все-таки вымыла, вытерла и убрала в шкаф. Привычные движения успокаивали меня.
Какое-то время постояла посреди кухни, бессмысленно глядя в стену, вздохнула и, выключив свет, встала у окна, отодвинув штору. Это окно выходит на подъезд, и я надеялась увидеть, как приедет господин Скоробогатов.
Не успели мои глаза привыкнуть к темноте, как раздался щелчок и вспыхнул свет.
Он стоял в дверях кухни. Ворот белой крахмальной рубашки распахнут, темные волосы в беспорядке, одна рука в кармане брюк под распахнутым смокингом, другая на уровне плеча упирается в косяк.
Привычно отметив мужскую привлекательность ладной фигуры, я подняла глаза на лицо.
Господин Скоробогатов изрядно выпил. Чтобы об этом догадаться, надо хорошо его знать. По виду он такой же, как всегда. Выдает его холодный блеск серо-голубых глаз да необычайная бледность лица.
Он толчком выдыхает воздух сквозь сжатые зубы.
До меня доносится запах коньяка. Костя терпеть не может коньяк, но пьет только его. Таким образом он регулирует потребление спиртного. Одна из его маленьких хитростей.
— Зачем звала? — недружелюбно поинтересовался господин Скоробогатов, ощупывая меня жадным взглядом.
Мне не понравился взгляд и то, как он стоит, подобравшись, словно перед прыжком.
— Мне нужно поговорить с тобой.
Я вдруг испугалась, что господин Скоробогатов откажет мне в моей просьбе.
— О чем?
— Костя, мне нужны деньги…
— Сейчас?
Господин Скоробогатов неприятно ухмыльнулся и вдруг…
Он отлепился от косяка, ногой закрыл дверь и сделал ко мне большой шаг… Я услышала тяжелое дыхание, и в тот же миг он, запустив руку мне в волосы, рывком поставил меня на колени.
Мои колени больно стукнулись об пол. Жесткая рука безжалостно надавливает на мой затылок, прижимает мое лицо к столу. Я почувствовала, как другая рука грубо задирает мой халат…
Происходящее показалось настолько нереальным, что первым моим чувством была растерянность. Потом я испугалась, что в кухню может войти Юра. А потом не осталось никаких чувств" только чувство неудобства позы.
Все закончилось так же неожиданно. Я почувствовала, что свободна, и с трудом поднялась на ноги.
Происшествие оглушило меня. Я не могла поверить, что подобное произошло со мной, не узнавала мужчину, которого, как мне казалось, знала до донышка, была обижена, раздосадована, напугана.
Прошло довольно много времени, пока мне удалось заставить себя взглянуть на господина Скоробогатова.
Он уже привел в порядок свой костюм и стоял у окна, отвернувшись от меня и ссутулив широкие плечи.
Я встала у него за спиной. Он обидел меня, но в тот момент я не хотела думать, почему он так поступил.
Меня занимали другие проблемы.
Почувствовав меня рядом, он медленно, словно с трудом, обернулся и посмотрел несчастными, больными, трезвыми глазами.
— С чего началось, тем и закончилось, верно? Ты ведь всегда считала меня способным на насилие. Нисколько не удивилась. Даже не сердишься.
— Я удивилась и сержусь. Мы еще поговорим об этом. Но не сейчас. Ты дашь мне денег?
В синих глазах появился нехороший блеск.
— Тебе настолько нужны деньги? Зачем?
Как-то сразу я поняла, что не хочу ничего ему говорить. Я смотрела в его лицо — такое знакомое, такое неизменно притягательное, и впервые мой муж был мне неприятен. В первую очередь потому, что я хотела искать у этого человека помощи и сочувствия.
Прищуренные чужие глаза не отрываясь смотрели на меня, ожидая ответа.
Было ясно, что я не хочу его денег. И не возьму их у него.
Я повернулась и, чувствуя навалившуюся усталость и пустоту, побрела прочь.
— Что, деньги больше не нужны? — насмешливо прозвучало сзади. Он шел за мной следом. — А может, они тебе и не были нужны?
Господи! Помоги мне, дай силу выстоять, пережить эту ночь.
У двери спальни Скоробогатов дернул меня за плечо, повернул к себе лицом. Он был в ярости.
— Так зачем ты звала меня?
Мне надо было срочно лечь. Голова кружилась, тело мгновенно покрылось холодным потом. Слабой, непослушной рукой я попыталась оттолкнуть мужа, но кружение перед глазами сделалось нестерпимым, потом все потемнело, я почувствовала, что сползаю по чужому телу…
Обморок был коротким. Я очнулась на руках Скоробогатова. Он положил меня на постель и сел рядом, глядя на меня встревоженно и совсем не зло.
— Тебе лучше?
Я кивнула, почувствовав боль в затылке от движения.
— Все уже прошло. Только слабость.
— Хочешь, я вызову врача?
— Не стоит. Мне надо просто поспать.
— Когда тебе нужны деньги?
— Мне не следовало просить их у тебя. Тем более звонить ночью.
— Зачем они тебе?
— Не важно.
Я чувствовала себя усталой, и ничего, кроме этой усталости, сейчас не существовало.
— Лена, я дам любые деньги. Но имею я право знать зачем?
— Имел. Еще час назад.
— Понятно. Теперь у тебя есть повод наказывать меня. Настоящий. Не в виде придуманного из-за евроремонта.
В его голосе снова звучала едкая насмешка. Что делается в его голове и сердце? Что вообще с ним происходит? Из-за чего его так корежит?
И вот, когда не осталось сил на эмоции, я смогла спокойно и трезво оценить свою жизненную ситуацию.
Он смотрел непримиримыми льдистыми глазами.
Мой муж. Мой мужчина. Человек, которого я люблю.
Что бы он сделал там, на кухне, если бы я не подчинилась ему? Взял бы меня силой? Отпустил бы? Я не узнаю этого. Да это и ни к чему. Потому что я знаю другое. Я никогда не откажу ему в близости. Не хочу.
Не могу.
Я не могу отказаться от него. И похоже, он не может отказаться от меня. Тогда что же мы делаем друг с другом? С нашей жизнью?
Когда-то я оттолкнула дочь. Нет, не оттолкнула.
Не сделала попытки удержать. Позже не сделала попытки вернуть.
И вот опять. Жизнь ничему не учит меня. Мне суждено снова и снова наступать на одни и те же грабли.
Я отодвинулась с краю и, потянув Костю за рукав, заставила лечь рядом. Он нехотя подчинился. Наши плечи соприкасались, я ощущала шершавую ткань смокинга.
— Мне не понравилось то, что ты делал на кухне.
Я сказала это и удивилась тому, как ровно прозвучал мой голос.
— А мне понравилось? — вскинулся Костя, но я снова уложила его и придавила ладонью, чтобы не вскакивал.
Под ладонью металось его сердце. Мне было жаль Костю, жаль себя. Мы не умели управлять своими чувствами, не умели щадить чувства другого.
— Ты нарочно злишь меня, — сказал Костя, и я поняла, что он укрощен.
— Раздевайся и ложись. Уже четыре часа.
Он заполз под одеяло и лег, стараясь не дотрагиваться до меня.
Я обняла его холодное, на все согласное тело, повернула на бок, спиной к себе, прижалась грудью.
— Лен, давай помиримся, — попросил он шепотом.
— Хорошо.
Я потерлась лицом о его затылок, вдохнула знакомый запах и покрепче обняла. Он потихоньку согревался в моих руках и словно расширялся, по-хозяйски располагаясь в супружеской постели. Но оставался неподвижным.
Моя ладонь легонько погладила его плечи, грудь, живот. Я очень соскучилась по нему. Уже больше месяца мы были в разлуке или в ссоре. Во мне скопилось море нежности. Отбросив все мысли и сомнения, я позволила себе просто любить. Я дала себе волю. Делала все, что хотела, не контролируя себя. Костя с радостной покорностью следовал за мной, отзываясь на каждое мое движение.
* * *
Когда я проснулась, мужа уже не было рядом.
Стрелки на будильнике образовали прямой угол. Девять часов.
После короткого сна я чувствовала себя неважно.
Очень хотелось позвонить Ляльке, услышать ее голос, узнать, как она, подбодрить.
Но возможно, Миша уже уехал на работу, а Лялька еще спит. Позвоню попозже.
Первое, что я сделала, — набрала номер покойного Бронштейна. Мне очень повезло. Его внук Лева жил в квартире деда, был дома и вспомнил меня. Он обещал все узнать и позвонить мне после двух часов.
Чтобы окончательно проснуться, пришлось принять холодный душ и выпить большую чашку очень крепкого кофе.
Потом я немного походила по комнате, поглядывая на телефон, постояла в раздумье и все-таки позвонила.
Напрасно. К телефону никто не подошел. Значит, Лялька спит, а Миша привернул звонок телефона, уходя на работу.
За время моего отсутствия скопилась уйма дел, требующих моего вмешательства. Я позвала Юру, и мы покинули дом.
За полтора часа мне удалось наведаться в пять мест.
Отовсюду я звонила Ляльке. Поначалу к телефону никто не подходил, в последний раз было занято.
Я колебалась между желанием немедленно ехать к дочери и желанием дождаться сообщения Бронштейна, чтобы ехать не с пустыми руками.
Было и еще кое-что, останавливающее меня от желанного визита. Лялька настойчиво просила не приезжать без предварительного телефонного звонка. Она повторила свою просьбу несколько раз.
Наши отношения только начинали налаживаться, и мне следовало действовать очень осторожно, чтобы ничего не напортить.
С Лялькой всегда было непросто, а сейчас, когда она так больна…
Может быть, она не хочет, чтобы я видела, как ей плохо. Она гордая, моя девочка.
Не ко времени разболелось сердце. Я велела Юре ехать домой. Из машины позвонила и отменила последнюю встречу.
Скинув босоножки у входа, я босиком прошлепала на кухню, накапала в стакан валокордина, выпила и посидела с закрытыми глазами, слушая, как больно ворочается в груди сердце.
— Юра, включи, пожалуйста, автоответчик.
— Лена, это Марина. Сегодня в шестнадцать собеседование для воспитательниц. Не забудь, ты обещала быть.
— Елена Сергеевна, это Марков из «Новостей».
Я по поводу вашего участия в дискуссии о непрерывном образовании. Я выслал вам вопросник по факсу еще позавчера. Очень прошу, посмотрите.
— Лен, я забыл про деньги. Позвони Боровской, скажи, сколько нужно и когда. По-прежнему твой.
— Уважаемая Елена Сергеевна! Объединение народных промыслов «Сибирь» с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине госпожи Троицкой Елены Сергеевны, последовавшей вчера около полуночи. Гражданская панихида состоится сегодня в пятнадцать часов в крематории, после чего для близких покойной будет накрыт поминальный стол в ее доме. Автобусы будут поданы к крематорию в пятнадцать тридцать.
— Лен, это Мила. Ты собираешься мне звонить?
Юра остолбенело смотрит на меня от двери. Из автоответчика звенит возмущенный Милкин голос.
— Перекрути, — прошу я, но не слышу собственного голоса.
Юра по шевелению губ угадал мой приказ, пощелкал кнопочками автоответчика, встал рядом со мной.
— Уважаемая Елена Сергеевна…
Безликий, ровный девичий голосок прочитал стандартный текст. Текст для всех.
— Юра, я не понимаю… Это что, шутка такая?
Вчера я говорила с ней по телефону. Она сказала, что врачи дали ей три месяца. Не могла же она умереть через два часа! Не могла…
Я беспомощно смотрю на Юру и вдруг вижу, как по его грубому загорелому лицу текут слезы.
Значит, он не думает, что это розыгрыш. А что это?
Разве так сообщают матери о смерти единственной дочери?
«Уважаемая Елена Сергеевна…» У девочки текст сообщения и список имен. Она набирает номер телефона и читает сообщение, меняя только обращение. Я окаменела. Страшная правда не дошла до меня. Я все еще оставалась женщиной, у которой есть дочь.
Так в моей душе и в моей жизни поселился кошмар.
Абсурдность происходящего подавила мое сознание настолько, что я спокойно и размеренно произвела ряд действий.
Юра безмолвно следил за мной, в его глазах плескался ужас.
Прежде всего я взяла телефонный справочник и нашла в нем номер телефона крематория. Мужской голос без всякого выражения подтвердил, что на пятнадцать часов назначена Троицкая.
Положив трубку, я постояла в раздумье, прикидывая, как мне поступить. Приняв решение, походила взад-вперед по коридору, соображая, как осуществить задуманное.
— Юра, мне нужны сигареты, кофе и коньяк.
Он кивнул и скрылся в кухне.
Я снова взялась за телефон. У Троицких было занято. Видимо, секретарша зачитывает сообщение. В офисе «Сибири» тоже занято. Собирают народ на кремацию. Скорей-скорей. Время не ждет. Кстати, а почему это оно не ждет? Почему кремация сегодня, а не, предположим, завтра? Из-за жары? Может быть. На градуснике за окном двадцать семь градусов. Юра принес поднос со всем заказанным. Я держала в руках телефон.
— Телефонная станция.
— Добрый день. Вас беспокоит секретарь господина Кротова из мэрии.
— Здравствуйте. Я вас слушаю.
— Дело в том, что господин Кротов сейчас у мэра и тому нужна срочная справка. Ее можно получить по телефону, но номер все время занят. Вы не могли бы как-нибудь помочь?
— Минуточку. Какой у вас номер?
Я назвала.
— Не кладите трубку. Я вас соединю.
— Огромное спасибо.
Щелчок, какое-то шуршание и новый женский голос:
— Алло?
— Михаила Павловича, пожалуйста.
— Кто его спрашивает?
— Ас кем я говорю?
— Я его сотрудница. Дело в том, что у Михаила Павловича умерла жена и он занят похоронами.
— Его нет дома?
— Кто вы?
— Член семьи. Вы позовете Михаила Павловича?
— Нет. Он не сможет подойти.
— И все же скажите ему, что звонит Скоробогатова.
Ее не было довольно долго. Тон голоса несколько изменился:
— Пожалуйста, извините. Михаил Павлович, оказывается, ушел. Я передам, что вы звонили.
— Не надо. Я узнала все, что хотела.
Что я узнала? Что хотела. Лялька умерла. Меньше суток назад. Через два часа ее кремируют. Миша не хочет со мной говорить. Бред.
— Юра, выясни, сколько ехать до крематория, и закажи цветы.
Я курила сигарету за сигаретой, ожидая момента, когда нужно будет одеваться, чтобы ехать.
— Алло?
— Привет! Ты почему дома? Я по поводу денег.
Боровская говорит, ты не звонила. Лен, ты чего, все еще обижаешься на меня?
— Нет.
— Деньги возьмешь?
— Они больше не нужны.
— Почему?
— Она умерла.
— Кто?
— Лялька. Моя дочь.
— Я сейчас приеду.
Он приехал через пятнадцать минут. Потянул носом воздух, открыл створку окна. Только после этого обеспокоенно заглянул мне в лицо. Он выглядел скорее раздосадованным.
— Что случилось?
— Лялька умерла.
Он недоверчиво взглянул в мои сухие глаза.
— От чего?
— Рак печени.
— Разве она болела? Ты мне не говорила.
— Я сама узнала вчера вечером.
— От кого?
— От нее. Она позвонила и сказала, что врачи дали ей три месяца.
— А когда она умерла?
— Сегодня ночью.
— Вот черт!
Его правый кулак ударился в левую ладонь.
— Теперь ты мне никогда не простишь, что так любила меня этой ночью.
Я была наповал сражена его эгоизмом. Конечно, он практически не знал Ляльку, но ведь она моя дочь…
— Я полный болван! Лен, не сердись. Мне жаль, что так случилось. Я знаю, ты ее любишь. Что я могу сделать?
— Ничего. Спасибо.
Я видела, что он не способен на искреннее сочувствие. Его застарелая ревность к моему прошлому, к Ляльке мешала ему разделить мое горе. Ну что ж. Я обойдусь.
— Ты мне скажешь, когда идти на похороны? Я обязательно освобожусь.
Он нежно поцеловал меня, погладил по плечу. Мое спокойствие обмануло его, он решил, что я философски отнеслась к несчастью, и, ободренный, уехал.
Я надела черное закрытое платье, набросила на голову черный кружевной (еще мамин) шарф, и мы поехали.
Я сидела на переднем сиденье рядом с Юрой. Все заднее сиденье было завалено розами.
* * *
Лицо. Мертвое лицо моей Ляльки. Какое маленькое. Такое личико было у нее в семь лет. Уголки губ опущены. Ей было больно и страшно.
Цветы, цветы. Как одурманивающе пахнут эти бесконечные цветочные охапки.
Миша. Что у него с лицом? Прижимается ко мне рыхлым телом, плачет.
— Мамочка…
Как неприятен его запах! Пота? Болезни? Страха?
Женщина-церемониймейстер в строгом костюме. Голос летит вверх. Зал огромен. Люди. Речи. Шепот.
Маленькая холодная неживая рука. Возьми мою руку, доченька, пусть тебе не будет так страшно.
— Прощайтесь! — горестно-властно звучит под сводами.
За этой стеной — пламя. А Вдруг она не умерла?
Холодный липкий мгновенный страх.
— Нет! Нет! Нет! — шепчу, говорю, кричу.
— Тихо, тихо, Леночка. Не надо.
Костя. Он обнимает меня за плечи, прижимает к себе.
Я не хочу.
Я хочу быть с дочерью. Хочу видеть ее лицо. Еще, еще… Пока можно. Отстраняю мужа, наклоняюсь, целую холодный костяной лоб. Кто-то, желая проститься с Лялькой, пытается осторожно оттеснить меня.
Я остаюсь на месте. Вереница людей обтекает меня.
Недоуменный шепот:
— Кто это?
— Ее мать.
Мать. Тридцать лет я была матерью. Это было главным в моей жизни. Всегда, даже в годы нашего разрыва. Я находила возможность следить за ее жизнью, а иногда и приходить на помощь. А вот сейчас, в эту минуту я перестаю быть матерью.
— Пожалуйста, отойдите в сторону.
Костя, преодолевая мое сопротивление, заставляет меня сделать шаг назад.
Гроб на постаменте плавно плывет к стене. Стена расходится на две половины. Пламя…
Все меркнет перед глазами. Я опускаюсь, опускаюсь…
Меня подхватывают, выводят из зала.
В аванзале кучка людей. Следующий покойник.
Ляльки больше нет. Нет совсем. Нет вообще. Ни живой, ни мертвой. Нет ее тела. Горстка пепла.
Но если ее душа еще здесь, еще с нами…
Лялька, доченька, прости меня. Я люблю тебя. Я всегда любила тебя. И всегда буду любить. Прости!
* * *
Подошел Миша, бледный, трясущийся, но с выражением облегчения на потном помятом лице. Он взял мою ладонь в свои влажные холодные руки. Я инстинктивно дернула рукой, пытаясь высвободиться, опомнилась, сдержала неприязнь, чуть сжала его пальцы. Он благодарно припал лбом к моему плечу.
— Мамочка, прошу тебя, поедем к нам. Помянем нашу Лялечку. И вас прошу, Константин Владимирович. Хотя бы ненадолго.
Костя вопросительно взглянул на меня, и я кивнула.
Мне было необходимо побывать там. В той квартире, где Лялька провела последние часы своей жизни.
В подъезде на лестнице стояли какие-то люди. Они топтались, курили, разговаривали, расступались, прижимались к стене, пропуская нас. Многие здоровались.
Ждали, когда позовут за поминальный стол.
Я поднималась на третий этаж, глядя на них. Незнакомые лица. Не все здороваются, кто-то просто отводит глаза.
Люди стояли и у дверей квартиры. Как только Скоробогатова узнали, вокруг засуетились, какие-то мужчины и женщины бросились к нему.
Появилась усталая молодая женщина, взяла меня за руку, представилась:
— Я Клара. Пойдемте со мной.
Спальня. Шторы опущены, зеркала завешены, кровать тщательно заправлена. На тумбочке лекарства, железная коробочка со шприцем.
— Посидите. Вам, наверное, хочется побыть одной?
Да. Но это потом. Все потом.
— Нет. Вы кто, Клара? Подруга Елены Сергеевны?
Она кивнула, не сразу, после некоторого раздумья.
— Пожалуй. Я была ее помощницей последние три года. Почти три. Она взяла меня в августе. Я закончила школу вязания «Сибирь», как раз когда искали помощника. Был конкурс. Елена Сергеевна выбрала меня. Вот с тех пор мы вместе. Я видела ее каждый день. Очень привязалась. Очень. — Она говорила сбивчиво, сглатывая слезы. — Это удар для меня. Не такой, как для вас, но удар. Я понимаю, как вам больно. Вы посидите. А я пойду, там дел полно.
Она заметила мой взгляд, прикованный к шприцу.
Села, скрестила руки на груди, заговорила устало и размеренно:
— Елене Сергеевне назначили обезболивающие уколы. Михаил Павлович должен был делать их сам. Его научили. Он очень волновался. Елена Сергеевна его подбадривала. Он рассказывал об этом и плакал. Говорил, что, когда набирал шприц, одну ампулу испортил, расстроился ужасно, лекарство редкое, он с трудом достал. А оно не понадобилось. Успел сделать только один укол.
Я стояла посреди комнаты, зажав в кулаке маленькую ампулку. Не знаю, зачем я взяла ее. Сначала стекло холодило кожу, потом согрелось, и я забыла о том, почему сжимаю кулак.
Оглядывая комнату, я пыталась представить последние часы Ляльки. Когда она мне позвонила? До укола или после? Почему-то это казалось важным.
Где был в это время Миша? Знает ли он о телефонном звонке? О том, что нашей размолвке пришел конец? Говорила ли ему Лялька о нашей встрече в префектуре? Был ли той ночью в квартире кто-нибудь еще?
Как умирала Лялька?
Странно слышать, что ее называют Еленой Сергеевной. Словно говорят обо мне. Мы с ней полные тезки. Поэтому Сережа выдумал Ляльку и Акульку. И ни одну не звал Леной, чтобы не обижать другую. Сережа любил Ляльку. Он не хотел других детей.
Миша никогда не называл меня Акулькой. Я бы не стала возражать. Он всегда звал меня мамочкой. Еще до свадьбы. Миша держится так, словно ссоры не было.
А ведь она затрагивает и его. И как мне кажется, она его устраивала.
Я поклялась себе не давать воли неприязни. Я должна была сдерживаться в этот день. Ради Ляльки. И ради Миши. Ему тяжело, он потерял жену. У них была дружная семья. Миша умел делать Ляльку счастливой.
А она любила его.
Как она умерла? Почему? Какие ее слова были последними? Может быть, она обращалась ко мне, просила что-нибудь мне передать? Надо поговорить с Мишей. А вдруг он не скажет? Что же тогда делать?
Я ослабела от растерянности.
За спиной хлопнула дверь. Лицо стройной высокой блондинки показалось мне знакомым. Она обняла меня, уткнулась в грудь залитым слезами лицом. В этот день мне тягостно неприятны любые прикосновения. Но я терпела.
— Тетя Лена, какое горе! Я видела ее на прошлой неделе, она звонила мне позавчера. У нее не пропадала надежда. Это как гром среди ясного неба.
Я узнала женщину. Школьная Лялькина подружка Люда Воронина. Она села на стул, вытирая лицо скомканным мужским платком в синюю клетку. По щекам непрерывно текли мутные от туши слезы.
— Я не успела на кремацию. Пришла с работы, дочка говорит, звонили. Я сначала вообще не поверила.
А потом взглянула на часы — пять. У меня истерика.
Я не ждала, не думала. Ей говорили — цирроз. Она по врачам, по бабкам, по целителям. У нее Мишка — золотой муж. Куда он ее только не возил!
— Сколько это продолжалось?
— А вы не знали? О Господи, как же я забыла…
Она растерянно заморгала, не зная, что сказать.
— Да нет, Людочка, мы помирились. Я месяц была в командировке. А потом никак не могла ей дозвониться. Но я не очень волновалась. Думала, лето, отпуск…
А вчера она мне позвонила и…
Я махнула рукой, не в силах говорить из-за комка в горле. Люда опять заплакала.
— Ой, горюшко… Вот за месяц все и случилось.
Почувствовала себя плохо. Поменяла врача.
Нас позвали за стол.
Миша, пьяненький, красный, с перепутанными жидкими волосенками, суетливо угощал. Какие-то женщины разносили еду.
Я выпила рюмку водки и ничего не почувствовала.
Положила в рот щепотку кутьи. Долго жевала, не чувствуя вкуса. Сухое горло отказывалось делать глотательное движение, и я гоняла рисинки и изюминки во рту. Сидящий рядом мужчина положил мне на тарелку блин, сверху стряхнул из ложки горку красной икры.
Пододвинул стакан компота. Я протянула руку за стаканом и обнаружила, что она сжата в кулак.
Я подумала, куда бы деть ампулку, и опустила ее в карман пиджака Скоробогатова. Он, оказывается, все это время сидел рядом со мной и тихонько о чем-то разговаривал с соседом с другой стороны. Я вытерла о скатерть вспотевшую ладонь и наконец отпила компот и проглотила его вместе с кутьей. Стало немного легче.
Вокруг жужжали голоса. Каждый считал своим долгом сказать что-нибудь доброе о Ляльке. Миша тряс головой:
— Мы пятнадцать лет вместе. Целую жизнь. Десять лет женаты! Десять лет…
На его жирном воспаленном лице пот смешивался со слезами. В уголках рта запеклась слюна.
Неужели Лялька любила его? Мне стало так тошно, что не было сил. Я взяла пустой стакан из-под выпитого кем-то компота, налила до половины водки и выпила.
* * *
Вспыхнул свет, и я осознала, что сижу на табурете посреди кухни. Костя, присев на корточки, положил ладони мне на колени и снизу заглядывал в лицо встревоженными потемневшими глазами.
— Пойдем, Лена. Тебе надо лечь. Уже поздно.
Ты бог знает сколько времени сидишь здесь в темноте.
— Костенька, как ты там оказался?
— Юра позвонил.
— Я не просила его.
— Я знаю. Это я велел ему сообщить, если ты соберешься выйти из дома. Пойдем, Леночка, не мучай себя. Дочку не вернешь и сама заболеешь.
— Тебе ее не жалко.
— Так нельзя сказать. Мне тебя жалко.
Его лицо сморщилось, я погладила сильную кисть на своем колене. Костя подтянул к себе табурет, сел и обнял меня. Я прижалась спиной к его груди. Хотелось пить, свет резал глаза, кружилась голова.
— О чем ты все время думаешь?
— От чего она умерла? Я ведь не знаю.
— От сердечной недостаточности.
Я не поняла и, повернув голову, уставилась на Костю.
— Почему от сердечной недостаточности? Ведь у нее был рак печени.
— Это заключение врача.
— Ничего не понимаю! Это похоже на кошмар.
Страшно и необъяснимо.
— Ну почему необъяснимо? Троицкий мне все рассказал. У Елены Сергеевны были постоянные изнурительные боли. Начало сдавать сердце, легкие. Врач выписал обезболивающее. Троицкий научился делать уколы. Две предыдущие ночи она не спала. И он с ней вместе. Уже практически не стоял на ногах. После укола жена уснула, он прилег рядом и отключился. Когда проснулся, увидел, что она мертва. Врач сказал, что она умерла во сне, спокойно.
Я вспомнила трагические складки у губ дочки и не поверила.
— А" почему такая спешка с кремацией? Почему вообще кремация? У нас есть участок на Котляковском кладбище. Там похоронен ее отец.
— Троицкий сказал, что это воля жены. Она хотела кремацию и не хотела, чтобы на нее, мертвую, приходили смотреть. Ну вот он и воспользовался ближайшим свободным временем.
— Уж очень ближайшим.
— Так случилось.
* * *
День за днем я лежала в постели. Я не спала, не читала, не смотрела телевизор, я даже не вставала.
Мне казалось, моя душа пребывала в чистилище.
Впереди меня ждал ад. Мне было все равно.
Юра приносил еду, ставил на тумбочку. Потом уносил.
Приходил Костя, приставал ко мне с разговорами и просьбами поесть.
Меня раздражали его призывы и увещевания. Я отворачивалась, закрывала глаза.
Он сидел, вздыхал, гладил мое плечо.
Однажды под утро я заснула. Мне приснилась Лялька. Я не видела ее, просто ощущала присутствие. Она была рядом и была грустна. И я почему-то знала, что ее печалит мое состояние.
Юра вошел в комнату, и я попросила горячего чая с лимоном.
Он просиял и, изо всех сил кивая, кинулся выполнять просьбу.
Я выпила чай и откинулась на подушки, испытывая слабость. На лбу выступила испарина.
— Юра, сколько дней я в постели?
— Сегодня шестой.
— Дай мне телефон.
Я поговорила с Танькой. Она все знала и ревела белугой, но пыталась утешать меня.
— Я тебе звоню, звоню! Каждый день! И девчонки. Мы все с ума сходим. Лялька, ой, горюшко, девочка моя, племяшечка, кровинушка… И ты… Я не знала, что думать. Ни Юра, ни Костя ничего не говорят. Я Пашке телеграмму дала. И плачу, плачу. Вдруг ты тоже… Ой, Лена, Леночка, что же это? Она ж мне двух недель нет, как звонила. Только и сказала, что нездоровится, отдохнуть надо. А что так-то плохо… Не сказала ничего. Ты-то как? Держишься?
— Держусь. Я вот чего хотела-то…
Мы обо всем договорились. С этого момента у меня появилась цель.
Я встала, борясь с головокружением, на дрожащих ногах отправилась в ванную.
Из зеркала на меня смотрело чужое измученное лицо.
Я заставила себя есть и ходить по квартире. Сидя на кухне напротив Кости, поужинала с ним вместе. Он сиял. А когда я спросила о делах фирмы, он вдруг часто заморгал и уткнулся горячим лицом в мою руку, лежащую на столе.
К вечеру я очень устала. Может быть, поэтому мне удалось уснуть. И снова мне приснилась Лялька.
Тихий свет ласкал мою измученную душу, ободряя меня, призывая жить.
А наутро я сделала небольшую зарядку (после чего пришлось полчасика полежать), позавтракала и села за компьютер. На много меня не хватило, но жизнь возвращалась ко мне.
Девятый день
В то утро я встала, приняла душ, позавтракала и позвала Юру.
— Юрочка, возьми список, купи фруктов.
— Я позвоню Олегу. Он пришлет кого-нибудь.
— Не надо. Быстренько сбегай, купи на базарчике у универсама. А я немного приберу у себя. За полчаса со мной ничего не случится.
Юра поколебался, но ушел. Я сняла с гвоздика в прихожей ключ и, осторожно выскользнув из квартиры, поднялась на верхний этаж. Ключ подошел к двери одной из квартир. Ее хозяин, художник Шатров, уехал на этюды в Среднюю Азию и оставил мне ключи.
Я прошла через большую светлую комнату к маленькой резной двери в углу противоположной стены.
От этой двери у меня тоже был ключ. За дверью открылась лестница, ведущая на чердак, где у Шатрова оборудована мастерская.
Закрывая по дороге все двери, я миновала мастерскую и через другую дверь попала на лестничную клетку в соседнем подъезде.
В этом подъезде вахтера не было, и я, никого не встретив, покинула дом.
* * *
«Господи! — взмолилась я, глядя на скорбный лик Христа. — Господи, помоги мне, дай мне простить себя, дай поверить, что моя дочь упокоилась с миром».
Почему, ну почему я не умею молиться? Меня с детства учили никого ни о чем не просить, справляться самой, жить по собственным силам.
Я так и жила. Сейчас моих сил не хватает. Я прибегаю к твоей помощи. Господи!
Ласковые руки обнимают меня сзади. Мы с матушкой Ларисой выходим в старый парк, садимся на скамейку.
Тянется разговор, вроде бы ни о чем: о здоровье, о детях, о каждодневных незначительных новостях.
На самом деле мы говорим о другом. Я жалуюсь на нестерпимую боль, Лариса сочувствует, жалеет, утешает. Слов вроде бы не произнесено, но мне становится чуточку легче.
И тут Лариса говорит:
— А ведь она была здесь. Твоя Лялька. Пришла после заутрени, нашла меня. Я ее сразу даже не узнала. А ведь видела не так давно. Она всегда на день ангела причащается. За месяц с небольшим она постарела на десять лет. Похудела, подурнела.
— Ляленька, ты не больная ли? — спрашиваю.
— Прихватило меня, тетя Лариса.
— Ты у врача была?
— Да что врачи? Врут все. Я за здоровьем следила всегда, каждые полгода анализы сдавала, а она ухудшение пропустила и не признается. Твердит, что ничего страшного. Хорошо, Миша другого врача нашел. Теперь после обследования лечить начнут.
— Дай Бог! Ляленька, хочешь, дядя Коля «во здравие» отслужит?
— Хочу. Спасибо вам. И еще знаешь, я с Акулькой помирилась.
— Слава Богу!
— Ой, а я-то как рада! Мы встретились, обнялись.
Она совсем не сердится. Уже звонила мне. У меня в последнее время сил нет бегать, как раньше, я лежу и вспоминаю. Как мы с Акулькой жили. Я отца почти не знала, его вечно дома не было. Мы все вдвоем. Везде.
У меня было самое счастливое детство, самая лучшая мама. А потом отец мне сказал… Я убежала в Бронницы и два дня ревела в бабушкином доме. Потом решила домой ехать, соскучилась по ней. Выхожу, а она на крылечке сидит. Тоже два дня просидела. Я сейчас болею и думаю — это мне за грехи. Два греха на мне: мать и дети. Три аборта. Первый сразу, как замуж вышла. Миша говорит: «Что же, мы еще не пожили, я на тебя не налюбовался…» А потом уж сама. Бизнес, бизнес. Думала, потом, еще молодая. Да вот уж пятый год не беременею. Не поверишь — радовалась. А мама…
Я приехала у нее денег просить, а она не дает. «Подожди, — говорит, — несколько месяцев, я дачу продам». Я требую. Она уперлась. Я просто озверела.
Она мне никогда не отказывала. Ну я и сказала ей те гадкие слова. Не знаю, как я могла. Она вся побелела и спокойно так говорит: «Уходи». И все. Ты ведь знаешь, чем я ее попрекнула, как язык-то мой поганый повернулся, но где-то месяца через полтора позвонил Яковлев, говорит, мать согласна дачу продать. Но я уже вроде перекрутилась. С Мишей посоветовалась.
Он говорит: «Дорого яичко к светлому дню. А сейчас нам от нее ничего не нужно». Потом вдруг приглашение на свадьбу. Кто? Что? Миша узнал. Какой-то уголовник, только что из тюрьмы. Я хотела поехать на свадьбу. Миша не разрешил. Говорит: «Я съезжу, посмотрю. Если бы ей твой совет был нужен, она бы его спросила».
Так и все. Привыкла. Жила. Вроде счастлива. А душу свербило: как моя Акулька? Теперь все будет хорошо.
Девятый день (продолжение)
— Алло?
— Марина, здравствуй. Я тебя не разбудила?
— Нет. Ты как?
— Спасибо, выжила. Твой муж дома?
— Дома. Позвать?
— Если можно.
— Нужно. Он там с Сашкой физику делает. Ты очень вовремя, пока у них до смертоубийства не дошло.
— А почему бы тебе самой Саше не помочь? Ты ведь, помнится, МИФИ заканчивала.
— Так всегда и бывает. Но сегодня папочка устроил родительский день. Вернее, вечер. Катьку он уже полностью воспитал. Она добровольно спать легла в семь часов. Сейчас завершает воспитание Сашки. И образование заодно.
Судя по голосу, Марина была на пределе, а ее семейная жизнь под угрозой.
— Ну позови мне его.
— Гена! Тебя к телефону. Лена, я твоя должница. — И негромко, совсем другим тоном:
— Я хочу, чтоб ты знала. Нам с Генкой очень жалко Лялю. И еще. Ты можешь рассчитывать на нас во всем.
— Я знаю. Спасибо.
Я успела проглотить комок в горле до того, как услышала мужской голос с остатками гнева:
— Слушаю.
— Привет, Макаренко!
— Привет. Маринка совершенно распустила ребят. Не представляю, что из них вырастет.
— И не надо. Поживем — увидим. Но что-то подсказывает мне — все у них будет хорошо. Да и как иначе? Оба — твоя копия.
Генка попался на лесть, как и всякий мужчина. Он перестал пыхтеть, успокоился и повеселел.
— Ты чего звонишь ночью? Не спится?
— Еще и не ложилась.
— Ах да. Сегодня же English club. — Он хихикнул — По этому поводу и звоню.
— Забавно было?
— Как всегда.
— Значит, забавно. А что наш клиент? Кормилец был прав?
— Как всегда, — повторила я.
Генка обеспокоенно спросил:
— Лена! Ты в порядке?
— Да. Я звоню по делу.
— Так давай.
— Ты что-нибудь о продаже «Сибири» слышал?
— Краем уха. Лялька отказалась.
— А Миша продает…
— С чего ты взяла?
Я кратко пересказала подслушанный в клубе диалог. Яковлев молчал. Я терпеливо ждала.
— Интересно… — раздумчиво протянул мой собеседник и повторил:
— Интересно.
— О чем ты?
— Вот что. Я с утра кое с кем переговорю, а потом к тебе приеду. Ну, скажем, часам к двум. Заодно и пообедаю. Ты бы могла приготовить грибную лапшу?
Только не покупную, а домашнюю. И голубцы…
* * *
Разговор под пальмой не шел у меня из головы.
Сама не понимая зачем, разыскала сумку, в которую, уходя с поминок, переложила ампулку. Ампулка оказалась на месте — в маленьком карманчике под «молнией».
Я долго рассматривала под настольной лампой стеклянный цилиндрик, разбирала надпись на нем. Название лекарства мне ни о чем не говорило. Я переписала его на бумажку. Ампулку положила в коробочку из-под сережек, которые ношу чаще всего, и убрала в шкатулку с драгоценностями, радуясь тому, что господин Скоробогатов все еще не вернулся из клуба и некому задавать мне вопросы.
Юра позвал меня на кухню пить чай. Я отказалась, но он все равно принес чашку свежезаваренного чая с лимоном.
— Спасибо. Что-то я сегодня устала.
— Как Илья Муромец.
Я удивленно смотрела на Юру. Что-то я не помню, чтобы он рассуждал на отвлеченные темы. Да еще с привлечением фольклора.
А Юра, продолжая меня удивлять, развил свою мысль:
— Он тридцать три года просидел на печи — и сразу на подвиг. И вы девять дней из дома не выходили, а потом сразу на подвиг.
Повернулся и вышел из комнаты. Вот так.
Юра совершенно прав. Взрыв энергии, сменивший полный упадок сил, выглядит болезненным. Похоже на истерику.
Чай горячий, сладкий, необычайно вкусный. Выпила я его с удовольствием, но беспокойство не отпустило меня.
И снова в моих руках телефон.
— Вас слушают очень внимательно.
— Здравствуй, Андрюша.
— Тетя Лена, ты как? Мать сказала про Лялю. Я поверить не могу. Мы с ней пару месяцев назад в театре встретились. Она нас с Иркой в буфет сводила.
Шампанское, мороженое, шоколад. Она была такая, как всегда: красивая, веселая. Так жалко…
— Я знаю, Андрюша. Спасибо.
— Ты как? Мать говорила, заболела. Сейчас лучше?
— Лучше.
— Хочешь, мы с Танюшкой приедем?
— Хочу. В пятницу на дачу. Ладно?
— Ага. На все выходные.
— Мама не спит?
— Не знаю. Подожди, я посмотрю.
— Алло? — Хриплый со сна голос.
— Лидунь, прости. Я тебя разбудила?
— Не бухти. Я рада тебя слышать. Как доехала?
Костя бушевал?
— Не очень. Лидунь, что это за лекарство?
Я по слогам прочитала название. Лидуня переспросила. Я прочитала еще раз.
— Нет, Лен, я его не знаю. Даже никогда не слышала. Завтра спрошу у заведующей.
* * *
Кости все не было. Я переоделась ко сну, но не ложилась.
Смерть дочери вызвала во мне болезненное неприятие. Я не могла смириться с произошедшим, не могла поверить, что молодая здоровая женщина буквально сгорела от неожиданной болезни. А потом ее тело с какой-то неприличной поспешностью было доставлено в крематорий, и там оно сгорело, оставив лишь горсточку пепла.
Сгорела, сгорела, моя дочка сгорела…
Очень хотелось позвонить Леве Бронштейну. Он вполне мог знать это лекарство. Я помаялась, побродила по квартире, но решила отложить звонок на утро.
Костя пришел, когда я уже лежала в постели. Дохнув коньяком, поцеловал меня в висок.
— Костя, Лялькин бизнес чего-то стоит?
— Немало.
— Все достанется Мише?
— Конечно.
— Когда он сможет продать «Сибирь»?
— А зачем ему продавать?
— Ну, если захочет…
— Сразу, как вступит в права наследства.
— Это быстро?
— По-разному. Думаю, в данном случае около месяца.
— А можно затормозить?
— Если нужно.
— Ты можешь?
— Понадобится — скажи.
— Считай, сказала. Пусть он вступает в свои права максимально долго.
* * *
— Лева, здравствуйте. Это Скоробогатова.
— Здравствуйте, Лена. Я вам звонил. Вы в курсе?
— Спасибо.
— Рад быть полезным. Как дела у вашей дочки?
— Она умерла.
— Печально. Примите мои соболезнования. Как это случилось?
— Сразу. В заключении врача — сердечная недостаточность.
— Правда? Странно… И вскрытие подтвердило?
— Его не делали.
— Почему?
— Не знаю. Так зять решил. Ее кремировали.
— Кремировали?
Господи! Что он все переспрашивает? Тупой, что ли?
— Лева, с этим уже все. Я просто не могу больше об этом говорить. И думать.
— Да, конечно. Простите.
— Лева, вам известно такое лекарство?
Я уже безо всякой бумажки, на память, выговорила трудное слово.
— Нет. По названию похоже на синтетический наркотик. Продиктуйте по латинским буквам, я попытаюсь узнать. Только я, к сожалению, должен на неделю уехать из Москвы. По приезде сразу займусь. Вам не к спеху?
Нет, мне не к спеху. Мне это вообще непонятно зачем нужно. Не могу объяснить, что меня беспокоит в этом лекарстве.
Лялька так давно отдалилась от меня, что ее смерть никак не повлияла на внешнюю сторону моей жизни.
Я сидела за компьютером, выезжала по делам, говорила по телефону.
Костя обосновался в моей спальне. На все попытки его выдворить только поднимал короткую черную бровь.
Я жила обычной жизнью и вела себя как всегда.
Но иногда, оставшись одна, я вынимала ампулку и подолгу смотрела на нее.
* * *
Женщина моих лет что-то писала за столом, заваленным карточками больных, и не сразу подняла голову. Ее лицо было спокойным и усталым. Светлые, небрежно накрашенные глаза за стеклами очков смотрели равнодушно.
— Талончик, — потребовала она.
— Извините, но я хотела поговорить.
— У меня прием, больные ждут, мне некогда разговаривать.
— Я понимаю, но прошу вас. Это не долго, всего один вопрос. Я высидела очередь и все равно не уйду.
— Давайте, только быстро, — неохотно покорилась женщина. Чувствовалось, что у нее просто не осталось сил, чтобы еще и спорить. Она откинулась на спинку стула, но не выпустила из рук авторучку.
— Вы помните Елену Сергеевну Троицкую?
Лицо врача изменилось. Раньше оно было просто недовольным, теперь излучало неприкрытую неприязнь.
— Она больше не является моей пациенткой.
— Это я знаю. Но хочу знать почему.
— А вы, собственно, кто?
— Меня тоже зовут Елена Сергеевна. Я мать Троицкой.
— Вот оно что! Ваша дочь отказалась от моих услуг.
Женщина обиженно поджала губы. Она все еще переживала ту историю.
— Моя дочь как-то объяснила свой поступок?
— Сказала, что я недостаточно компетентна. А было так. Троицкая пришла ко мне с жалобами на ухудшение состояния. Я назначила обычную серию анализов. Они ничем не отличались от предыдущих, обычная послегепатитная печень в состоянии ремиссии. Больная не согласилась, потребовала устроить ей консультацию.
Я не видела оснований. Она отправилась к заведующей, устроила скандал. А что, собственно, случилось?
— Она умерла.
Лицо напротив выразило непонимание:
— От чего? Несчастный случай?
— Нет. От рака печени.
Врач решительно покачала головой и уверенно заявила:
— Это невозможно. У нее не было рака печени. Ее печень была несколько увеличена, и все. После желтухи ваша дочь очень следила за собой. Вы можете взять в регистратуре ее карточку, там анализы за многие годы.
Повторяю, ваша дочь очень следила за собой после желтухи.
Она сняла очки, потерла указательным пальцем переносицу, помолчала, усваивая новость. В ее поведении не чувствовалось никакого сомнения. Женщина была уверена в своем диагнозе.
— У вас есть результаты вскрытия?
— Нет. Вскрытие не проводилось.
На меня смотрели потрясенные близорукие глаза.
Карточки в регистратуре не оказалось.
— Где же она?
Пожилая неторопливая регистраторша пожала плечами за разделяющим нас стеклом:
— Наверное, дома. Многие так делают — берут домой и там хранят.
* * *
В это утро Клара не выглядела утомленной и казалась совсем молодой. Весь Лялькин персонал должен постоянно носить на работе что-нибудь из изделий народных промыслов. На Кларе красовался потрясающий жилет, связанный крючком из ярко-красной блестящей пряжи.
Мы сидели за столиком в маленьком полуподвальном кафе в самом начале Арбата. Работал кондиционер. Он и завешенные окна, расположенные высоко под потолком, создавали прохладу и полумрак. На каждом столике горел небольшой светильник в форме свечи.
Клара сразу и без вопросов согласилась встретиться со мной, когда я позвонила.
— Что вы сказали Михаилу Павловичу, когда отпрашивались?
— Ничего. Я предупредила, что после обеда загляну в ателье-салон, поинтересуюсь, как идет ремонт.
— Хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы Михаил Павлович знал о нашей встрече. Если спросите: «Почему?» — отвечу, что не знаю.
— Я понимаю. Вам просто не хочется осложнять отношения.
— Может быть. Я вам благодарна, что вы пришли.
— Не за что. Мне тоже хочется поговорить о Елене Сергеевне. Последние два года мы проводили вместе много времени. Стали не то что подружками, но не чужими. Мне ее не хватает. С ней можно было разговаривать обо всем. Ее все интересовало, ей до всего было дело.
— Клара, эта ее болезнь… Мне непонятно. Я видела ее за месяц до… Она ни на что не жаловалась, кроме усталости.
Клара отпила глоток остывшего кофе и сделала знак официанту принести свежего. Ее манеры свидетельствовали о привычке к подобным местам. А я бываю в ресторанах редко и чувствую себя не очень уверенно.
Кофе показался мне горьким, и Я отставила чашечку, а теперь слизывала с ложечки мороженое, запивая малиновым соком.
Официант заменил Кларе чашку. Она отпила и оперлась локтями о стол. Наши лица сблизились.
— Я впервые о болезни услышала от Михаила Павловича. Он сделался озабоченным, по сто раз на дню звонил, спрашивал, как она, просил напомнить ей, чтобы пила травы.
— Что за травы?
— Да обычные. Что-то желчегонное. Кукурузные рыльца, что ли…
Я кивнула; Лялька действительно пила травы. Она вообще любила всякие отвары и настои. Миша смеялся:
«От Ляльки всегда пахнет травой, и мне снится, что я ночую в стогу».
Мне было плохо. Клара тоже выглядела подавленной.
— Дальше — больше. Однажды пришел расстроенный. Сказал, что у Елены Сергеевны пожелтели белки глаз. В то утро и она расстроилась. До этого вроде внимания не обращала, а тут притихла. Начала ладонь к правому боку прижимать. А потом вообще кошмар начался. Врачи, целители, бабки… Елена Сергеевна сильно похудела. Михаил Павлович от нее ни на шаг.
Я однажды случайно увидела. Он на коленях перед ее креслом стоит, руки ей целует, плачет: «Ляленька, милая, как же я без тебя?» Я просто обалдела. Зачем он так? Живую отпевает.
У меня по щекам потекли слезы. Клара махнула рукой официанту, заказала коньяк.
Мы выпили. Клара достала из сумочки пачку бумажных платков. Она аккуратно промокнула глаза, высморкалась. Я тоже взяла у нее платок, вытерла лицо.
Клара одобрительно кивнула.
— Пойдемте отсюда. Курить хочется. Сядем где-нибудь в скверике.
Мы расплатились и встали из-за стола. Юра, читающий журнал за столиком у двери, тоже встал, оставил на столе деньги за кофе и присоединился к нам.
Мы сели на скамейку в скверике во дворе одной из арбатских улочек. Юра со своим журналом устроился на соседней. Клара размяла сигарету, чиркнула спичкой и, глубоко затянувшись, села, уперев локти в колени. Я ждала продолжения ее рассказа, но не торопила ее, давая вспомнить мельчайшие подробности того времени.
— Не знаю, может быть, вам это неприятно слышать, но Михаил Павлович мне никогда не нравился.
Он грубый, заносчивый и не слишком умный. С ним тяжело работать. К тому же он распускает руки. Я-то с любым справлюсь, а молоденькие девчонки из-за него настрадались. Я знаю двух, которые из-за него уволились. А Галке он проходу не давал, а когда их Елена Сергеевна застукала, все на нее свалил, дескать, пристала, спасу нет. Опозорил девку.
Но тогда, во время болезни жены, он всех нас поразил своей заботливостью и преданностью. Все для нее делал сам. В последнюю неделю все дела на меня и Аллу Николаевну — нашего бухгалтера — бросил, сидел с женой. Мы ему предлагали хорошую сиделку. Елена Сергеевна просила позвать какую-то тетю Лиду. Он расплакался при мне, начал обвинять ее в том, что она ему не верит, не любит его. Она тоже заплакала, обняла его. У нее были тонкие, совершенно прозрачные руки. Тогда я поняла, что она умрет.
Клара закрыла лицо руками и так сидела, расплываясь в моих истекающих слезами глазах.
— Последняя неделя была похожа на театр абсурда. Он ревновал ее к знакомым, друзьям. Это стало манией. Он препятствовал ее общению с любыми людьми. Уходя из дома, даже совсем ненадолго, отключал телефон. Узнав, что я в его отсутствие помогла Елене Сергеевне позвонить вам, пришел в бешенство, потребовал передать содержание разговора. Но и после этого не успокоился, назвал меня предательницей и выставил из квартиры.
— Значит, они были вдвоем, когда Лялька умерла?
Девушка кивнула темноволосой растрепанной головкой и откинулась на спинку скамьи, прижавшись ко мне плечом.
— И все равно я не обиделась на него за грубость, он вызывал во мне сочувствие и уважение. Я прощала ему все, что он творил после ее смерти. Он торопил похороны, не хотел никого и ничего слышать, все время твердил: «Она так хотела». Он не хотел сообщать родным. Нам с трудом удалось внести ваше имя в список оповещаемых, и то потому, что он побоялся ссориться с вашим мужем. Он не отвечал на вопросы, сразу кричал, топал ногами, рыдал. Мы все жалели его. А потом… Через несколько дней после похорон Алла Николаевна позвала меня к себе в бухгалтерию и показала кучу счетов.
Понимаете, он оплачивал лечение жены не из личных средств, а из средств фирмы. Я этого понять не могу… И почему-то все происшедшее приобрело другую окраску.
А вам Елена Сергеевна просила передать…
Я замерла, не сводя глаз с милого задумчивого личика.
— «Маме скажите, пусть не плачет, я счастливо прожила и ее всегда очень любила». И еще: «Пусть мама Мишу не бросает, поможет ему, он совсем один остается». И просила передать вам вот это.
Клара достала из сумочки конверт.
* * *
Три ступени вниз, и железная дверь. Она наглухо закрыта. Юра нажал кнопку звонка, раздался хриплый искаженный голос, шедший откуда-то сбоку:
— Куда?
— Что? — опешила я.
— Говорите в микрофон, — велел недовольный голос.
Я беспомощно озиралась, а Юра сообщил в пластмассовую коробочку над кнопкой звонка:
— К преподобному Пафнутию.
— Входите, — разрешил голос.
— Останься, — велела я Юре.
Он отрицательно мотнул головой. Я разозлилась:
— Делай, что тебе говорят.
Юра толкнул дверь, и я оказалась в полутемном тесном тамбуре. Из него вела другая дверь. Я потолкала ее, дверь не поддалась, и я почувствовала, как ярость накатывает на меня. Я несколько раз пнула дверь ногой.
— Обалдела? — поинтересовался грубый голос. — Закрой входную дверь.
Входная дверь закрылась. Юра остался за ней. Я в панике всем телом навалилась на противоположную дверь и со всего маху ввалилась в следующее помещение.
Это было что-то вроде лестничной клетки. В глубине ее помещалась стеклянная будочка, а в ней лупоглазый качок. Качок крутил пальцем у виска и мерзко ухмылялся.
Я шагнула к будке. Единственное, чего я сейчас хотела, — это добраться до лоснящейся физиономии охранника и несколько облагородить ее парой глубоких царапин.
Парень о чем-то догадался, ухмылка исчезла с его лица, он быстро выпалил:
— Добро пожаловать. Следуйте вниз по лестнице по указателям до нижнего уровня.
Лестница освещалась тусклыми настенными светильниками. Я ни за что в жизни не дотронулась бы до перил. Опираться о стену тоже не хотелось. Поэтому я начала потихоньку двигаться строго посередине лестницы, опуская сначала левую ногу и, убедившись, что она стоит устойчиво, подтягивая к ней правую.
Через десять высоких ступеней мне встретилась квадратная площадка. Коридор из нее был так же плохо освещен и вел, судя по указателю, прямо в объятия потомственной ясновидящей Дианы.
Кроме того, где-то там же можно было получить европедикюр с гарантией (?). К педикюру вела красная стрелка, третий указатель скромно обещал Ювеналия.
Гадая, на что бы мог сгодиться Ювеналий, я продолжила спуск. Лестница была узкой, и я радовалась, что никого не встретила, только однажды мне послышался стук двери наверху. Впрочем, к этому времени я уже полностью отключилась от действительности. Ползла себе потихоньку, наслаждаясь тишиной и легким запахом сырости.
Похоже, деятели из гражданской обороны пристроили к делу один из ядерных бункеров или бомбоубежищ, появившихся в Москве в годы «холодной войны».
Еще дважды я достигала коридоров. Но ни целительница Даша, ни прорицатель Август, ни астролог кандидат технических наук Потапов О.Я., ни их сподвижники мне не были нужны.
Все мои мысли были устремлены к преподобному Пафнутию, блаженному, травнику и Божьему угоднику, как повествовало газетное объявление. Именно его имя значилось в списке, полученном мной от Клары.
Именно его услуги оплачивались из кассы «Сибири».
Коридор нижнего уровня был освещен еще более скудно, чем лестница. Запах сырости тоже усилился.
Мне стало интересно, сколько времени я спускалась. Чувства говорили, что примерно неделю, мозг предполагал, что час. Часы показали, что чуть больше десяти минут.
У дверей преподобного стояло несколько старинных канцелярских стульев, массивных, с прямыми спинками, прямоугольными сиденьями, обитыми коленкором.
Все стулья, кроме двух крайних, были заняты.
Я поздоровалась. Народ, состоящий в основном из женщин раннего пенсионного возраста, благожелательно ответил.
Полная молодящаяся старуха хлопнула по соседнему стулу морщинистой рукой:
— Садись. За мной будешь.
Раздался звонок. Сидящий на ближайшем к двери стуле приличный мужчина встал и скрылся за дверью.
Все пересели, сдвинувшись на один стул.
Я тоже села на теплый после старухи стул. Стало неприятно. Впрочем, и до этого было неприятно.
* * *
Преподобный Пафнутий оказался небольшим благостным и вовсе не старым мужиком.
Поблескивая голубенькими глазками, он выслушал мои жалобы на боль в правом боку и равнодушие врачей, покивал, погладил лысину маленькой плоской ладошкой и осторожно осведомился:
— А какой диагноз врачи, значит, называют?
— Да какой, — пренебрежительно махнула я рукой. — Разве им можно верить?
— Это да, это да, — снова покивал преподобный. — Ну а орган-то какой обозначают?
— Печень. — Я болезненно сморщилась и приложила ладонь к правому боку. Голубенькие глазки оценивающе уставились на камни в перстнях.
— Желтухой болели? — оживился он.
Я удрученно кивнула, он тоже кивнул и протянул руку куда-то вправо. Я уже и раньше с любопытством поглядывала на синенькие занавесочки. За ними оказались полки, плотно уставленные пузырьками.
Преподобный протянул мне пузырек:
— Это настой. Травы собраны ночью под Ивана Купалу на заповедных заливных лугах, настояны на воде из Синь-озера.
Синь-озеро. О нем говорила Клара, когда перечисляла все Мишины чудачества. Он запретил Ляльке варить траву самой, покупал готовые отвары. Вода из Синь-озера.
— Спасибо вам, преподобный. А вот если рак или цирроз? Тогда как? Другие настои?
— Этот настой от всех печеночных болезней. Пей за полчаса до еды медленно и с молитвой.
Мужичок протянул лист бумаги с компьютерной распечаткой.
— — Я неверующая.
— Атеистка, что ли?
— Нет. Просто неверующая.
— Это плохо. Но настой все равно поможет. Стань лицом к востоку и пей.
Он назвал цену, не глядя сунул деньги в шкатулку на столе и кивнул на дверь у себя за спиной:
— Иди с миром, сестра. Я за тебя молиться буду.
Настой иссякнет — приходи.
Стал ясен ответ на мучивший меня вопрос — куда деваются люди, вошедшие в кабинет Пафнутия.
Я поднялась по другой, идентичной первой, лестнице, прошла мимо другого, но очень похожего качка в другой, но точно такой же будке и, миновав две двери, оказалась в совершенно незнакомом месте.
Светило солнце, и я внезапно ощутила, как озябла и отсырела в подвале. Где же Юра? Как мне найти ту дверь, у которой он остался?
Я яростно закрутила головой, пытаясь сориентироваться.
— Женщина, женщина. Да вы, вы, в юбочке…
Странное обращение явно адресовалось мне. Под детским грибочком сидела бабуля, посещавшая Пафнутия непосредственно передо мной.
— Идите, посидим на солнышке. Я чего-то никак не согреюсь.
Я присела на низкую скамеечку, вытянула ноги.
— Ты чем болеешь-то? — сочувственно спросила соседка.
— Печень пошаливает.
— Ну, это, если не сильно серьезно, Пафнутий поможет. У него хорошие отвары — помогают. Не от рака, конечно.
— А вы у него часто бываете?
— Я-то? А в первый раз. Это соседка моя, Татьяна Михайловна, к нему ходит. Очень его хвалит. У нее самой много болезней. Да и дочка ее не сильно здоровая. А у нас в семье слава Богу…
— Зачем же вы к Пафнутию пришли?
— Это я из-за зятя. Он у нас так-то неплохой, да ведь сама знаешь, как сейчас: на работе платить перестали. Он на заводе мастером двадцать лет отработал.
На Доске почета висел. Ну, понятное дело, уволился.
Двоюродный брат устроил на фирму. Что-то там делает. Деньги вроде получает, не то чтобы маленькие, а душа не лежит. Вот скажи, как бывает. Стал попивать.
Его жалко, дочку жалко, а всего жальчее ребятишек.
Ну что тут делать? Вот Татьяна Михайловна меня к Пафнутию и направила. Он ей с сыном помог.
— Он что, какое-то средство от пьянства знает?
— Про это я не скажу, не в курсе. Здесь дело другое. Хитрость. — Старушка неожиданно лихо подмигнула и повторила значительно:
— Хитрость. Начал у Татьяны Михайловны сын попивать, ну она давай ему на мозги капать: цирроз, цирроз. Утром он похмельем мучается, она ему эдак в глазки посмотрит: «Вот уж глазки пожелтели». Думала на его мнительности сыграть. А он только ржет. Ну понятно, мужик молодой, здоровый… И заливает себе пуще прежнего.
А тут, на счастье, у ее дочки гастрит обнаружился.
Знающие люди присоветовали обратиться к травнику.
Кто уж не знаю, рекомендовал преподобного Пафнутия. Татьяна Михайловна пошла. У него настой очень хорошие. Дочке сразу помогло.
И стала Татьяна Михайловна к нему ходить. А у кого чего болит, тот про то и говорит. Значит, и она Пафнутию рассказала про сына и как он цирроза-то не боится.
А Пафнутий говорит: «Можно так сделать, что забоится», — да и дал ей настой. Татьяна Михайловна смотрит утром, а у сына-то глаза и впрямь пожелтели!
Она в слезы, сын в панику. Побежал к врачу, а печень увеличена. Теперь в рот не берет. Так только когда…
— А как она его настой пить заставила?
— Она, вишь, подгадала, когда он кашлял. Пафнутий чего-то добавил в грудной сбор.
— Но ведь это может быть вредным.
— Вот и нет. Кончишь пить настой, все и пройдет.
У моего зятя как раз ангина началась, вот я бегом к Пафнутию. А ты-то от чего, говоришь, лечишься?
— Болезней много, денег мало.
— Это да, это да. Глянь-ка, что за парень?
Из дверей бомбоубежища выбрался Юра в распахнутом пиджаке. Его красное лицо было потным и встревоженным.
Я окликнула его и помахала рукой, подзывая.
— Это чего ж, твой, что ли? Кто он тебе? Сын?
Брат? Может, муж?
— Это мой охранник.
— Как? От кого он тебя охраняет?
— Ото всех.
— А кто ж приставил?
Желтенькие глазки поблескивали в складках лица неприкрытым любопытством.
— Муж.
— Старый?
— Новый, — брякнула я и спохватилась:
— В каком смысле старый?
— Тебя намного старше?
— Нет, не намного. — Я запуталась. — Вообще не старше. Он моложе меня.
— Ну это ты, девка, видать, сильно прокололась.
Я не поняла, чего больше звучало в ее голосе: осуждения или восхищения.
Юра отвернулся. Его плечи вздрагивали от хохота.
В данный момент меня занимали другие проблемы, и я отложила разборки с ним до другого раза.
Мы довезли Зою Васильевну до ее дома в Южном Чертанове, выслушали целую лекцию о целителях и целительницах.
Я спросила о тех, кто значился в Кларином списке.
Про Марьяну Зоя Васильевна сказала, что она «утешительница». Про Симеона наша приятельница не слышала.
Простившись с Зоей Васильевной, я по мобильнику связалась с Танькой.
Выслушав задание, подруга, не задавая вопросов, повесила трубку.
* * *
Симеон осуществлял свою благородную деятельность в двухкомнатной квартире на втором этаже замызганной «хрущобы».
На лестнице, впрочем, довольно чистой, нам встретилась молодая женщина с вытаращенными, почти безумными глазами. Она покачиваясь прошла мимо нас.
Мы с Юрой посмотрели друг на друга.
Юра сунул руку под мышку, к кобуре. Я фыркнула и показала ему кулак.
Дверь в квартиру Симеона была приоткрыта. На всякий случай я нажала на кнопку звонка. Не раздалось ни звука. Звонок не работал.
Я переступила порог и сделала шаг вперед, давая войти Юре. В прихожей было темно. Запах. Странный запах. Знакомый и забытый. Запах из детства. Так пахло в москательной лавке. Бабушка по старинке этим словом называла магазинчик, где торговали керосином, мочалками, вениками, мазутом — короче, всем тем, что могло понадобиться в деревенском хозяйстве.
За Юрой захлопнулась входная дверь, и прихожая погрузилась в кромешный мрак. Я почувствовала движение, Юра протиснулся мимо меня, прижав к чему-то бесформенному и мягкому, скорее всего к одежде на вешалке.
Стало светлее. Юра отыскал и открыл дверь в комнату.
Наше присутствие наконец привлекло внимание. Худая женщина без возраста и, судя по легкомысленному сарафанчику, без комплексов вышла из кухонной двери.
Дверь осталась открытой, и моему взору предстала захламленная крошечная кухонька, стол, заставленный бутылками, тарелками, закопченный чайник…
Комната тоже оказалась неопрятной и захламленной.
Затоптанный пол, засаленная мебель, на всем налет копоти и сала. Мерзкое, убогое, отвратительное место, скорее берлога или нора, чем человеческое жилье.
И Симеон напоминал животное: жирное, грязное и похотливое.
Он смотрел медвежьими глазками, умными и злыми, прямо мне в лицо, и его толстые красные губы лоснились, а волосатые короткие нечистые пальцы шевелились.
Симеон от всех болезней лечил керосином.
В машине я закурила. Юра, после секундного колебания, тоже. С этой минуты мы стали соучастниками. Узнай господин Скоробогатов, что Юра позволил мне курить, да еще и сам взял у меня сигарету, — парню не жить. Впрочем, мы уже сегодня натворили на хороший нагоняй. Так что кормильцу лучше пребывать в счастливом неведении.
— Домой?
Юра довольно неуклюже выбросил окурок в окно.
— Мы ведь можем по Полянке ехать?
Он кивнул.
— Ну тогда уж заедем к Марьяне. Это где-то там в переулке.
Юра лихо развернул машину, меня прижало к сиденью, и я закрыла глаза.
* * *
Центр нетрадиционной медицины был точь-в-точь платная стоматологическая клиника. В чистом светлом вестибюле за стойкой сидела роскошная платиновая блондинка.
На стойке, помимо телефонов, помещалась табличка, сообщающая курс доллара, стыдливо именующегося условной единицей.
Выяснилось, что Марьяна в данный момент ведет прием, но попасть к ней крайне сложно, поскольку желающие записываются за месяц вперед.
К счастью, на регистраторшу благоприятное впечатление произвело мое желание передать ей некоторое количество условных единиц.
Мимо трех респектабельных дам, вальяжно расположившихся в кожаных креслах, я под предводительством отзывчивой женщины, проигнорировав кабинет с табличкой «Марьяна» (просто «Марьяна», но золотом по голубому), вошла в следующий за ним, без всякой таблички.
Моя спутница приоткрыла дверь в соседнюю комнату и что-то туда прошептала.
Ободряюще мне покивав, дама ушла. Я оглядела чистенькую комнатку. Крашенные белой краской стены, белый пластиковый пол, стеклянный стол в углу, белый кожаный диванчик в другом. Зеленые растения на окне, полу, стенах.
Я устроилась на белом диванчике и замерла, проникаясь атмосферой комнаты. Пожалуй, мне здесь нравилось. Хотелось закрыть глаза и откинуться на спинку дивана. Что я и сделала.
Послышалось мелодичное легкое позвякивание. Я открыла глаза и выпрямилась.
Она стояла передо мной. Довольно полная, статная женщина под пятьдесят. На ней было длинное свободное платье, черное с большими сиреневыми и лиловыми цветами. Ее шея, грудь и руки были увешаны огромным количеством бус, цепей, цепочек, браслетов. Все это при малейшем движении тихонько звенело. У женщины были темные, с легкой проседью кудри до плеч и бледное смуглое лицо. Темные глаза смотрели кротко и ласково.
Сев рядом со мной, женщина положила на мою руку свою, довольно крупную, с красными длинными ногтями и диким количеством перстней с огромными фальшивыми камнями. Рука оказалась теплой, чуть влажной и дружеской.
— Что привело вас ко мне?
— Беспокойство. Знаете, вроде все хорошо, но на душе как-то тревожно. Жизнь не радует.
— Давно это чувствуете?
Черт побери! Такое ощущение, что Марьяна не притворяется. Ей действительно интересно, что со мной происходит.
— Не очень.
— Не было у вас размолвки с кем-то из близких?
В моем мозгу что-то звякнуло.
— Да. Было.
— Я чувствую. Ваша аура испорчена. И очень сильно. Такой урон, как правило, наносит кто-то из близких. Подруга, сестра, мать. Я смогу вам помочь. Но и вы должны помочь мне. В следующий раз принесите фото или какие-нибудь вещи своих близких, я постараюсь определить, от кого исходит негативный импульс.
Пока же постарайтесь вспомнить всех, с кем были конфликты. Старайтесь избегать контактов с ними. Приходите через неделю в это же время.
Она встала, ласково улыбаясь и протягивая руку на прощание.
Вот тут-то меня и посетило вдохновение. Я схватила руку Марьяны двумя своими и заговорила, сглатывая мгновенно хлынувшие слезы:
— Простите, простите меня. Я не сказала вам правды. Причина моего беспокойства мне известна.
Это моя дочь. От предыдущего брака. Мой теперешний муж много моложе меня, а дочь молода и очень хороша собой. Что мне было делать? Я не могла оставить ее с нами и не могла позволить двадцатилетней девушке жить одной. Я отправила ее к бабушке, матери отца.
Теперь дочь совсем взрослая, закончила институт, мы купили ей квартиру. Она может очень хорошо выйти замуж. Партнер моего мужа по бизнесу влюблен в нее. Достойный и обеспеченный человек. Мой муж очень заинтересован в этом браке. Но наша дуреха уперлась.
Не люблю. О Боже! И свекровь… Выжившая из ума старуха! Она влияет на мою дочь. Та ничего не хочет слушать.
Я заломила руки, удивляясь собственному актерскому дару. В тот момент я верила и в дуру-дочь, и в стерву-свекровь. Мое отчаяние было искренним.
И Марьяна мне поверила. Ее лицо выражало сострадание, но в глазах тлел холодный расчетливый интерес.
— Я не пожалела бы ничего, лишь бы дочь начала слушаться меня.
Так. Похоже, я попала в точку. Интерес в глазах Марьяны стал вполне отчетливым. Выражение лица сменилось на деловое. Надо немножко добавить. И я добавила, продолжая теребить руку Марьяны и заливаясь слезами:
— Никаких денег не пожалею для того, кто мне поможет. Никаких!
Марьяна утешающе обняла меня за плечи. Я бессильно привалилась головой к ее большой мягкой груди. Рыдания слегка стихли. Да и пора. А то потом глаза час красными будут.
Поглаживая мое плечо, Марьяна заговорила, и ее голос тоже звучал как поглаживание:
— Ничего. Ничего. Все можно поправить. Я вам помогу. Приводите свою девочку. Я с ней поработаю.
Она поймет, кто ей друг, кто враг. У меня будет время через неделю. Я вас запишу. И поживите с дочкой вместе. На даче, например. — Она помолчала и продолжала более настойчиво, словно пытаясь что-то внушить:
— Чтобы не терять времени до нашей встречи, обратитесь в гомеоцентр «Вита» к доктору Белову, скажите, от меня. Я ему позвоню. Он вам даст лекарство. Оно общеукрепляющее, но попутно снимет агрессию и предубежденность.
Ваша дочь станет покладистой и послушной. Если вы все сделаете правильно, я сумею вам помочь.
Белов тоже был в Кларином списке, но в «Виту» я не поехала.
* * *
Я застыла на пороге кухни, завороженная дивным зрелищем. За столом сидел господин Скоробогатов. Белоснежная майка туго обтягивала загорелое мускулистое тело.
На столе стояла большая эмалированная миска, тарелка с крупно нарезанными кусками вареного мяса, несколько очищенных зубчиков чеснока, буханка «Бородинского» хлеба и литровая банка сметаны.
Господин Скоробогатов ел борщ. Делал он это, полностью погрузившись в процесс: разрывал крепкими зубами мясо, громко схлебывал с ложки густое красное варево, хрустел чесноком, отламывал сильными пальцами и запихивал в рот куски хлеба.
Истово — вспомнила я подходящее слово. Мужчина ел истово. От усердия у него на лбу и над верхней губой выступила испарина.
Я залюбовалась мужем. Он поднял затуманенные сытостью глаза.
По всему было видно, что борщ едоку нравился Он наслаждался едой, был благодушен и, увидев меня в дверях, спросил без строгости:
— Где ходишь? — И, не дожидаясь ответа, похвалил:
— Борщ опять получился.
После чего, в подтверждение своих слов, засунул в рот полную ложку борщевой гущи. Его худые щеки раздулись, изо рта торчала капуста. Вытаращив глаза, господин Скоробогатов старался прожевать пищу.
Я приблизилась к столу и хлопнула обжору по затылку:
— Ешь прилично.
Синие глаза укоризненно уставились на меня. Едок обиженно засопел. Выражение довольства сползло с его лица, и мне стало стыдно. Я легонько погладила пострадавшее место.
Синие глаза блаженно сощурились, сопение перешло в довольное. Ложка опять засновала между миской и ртом.
* * *
Стол был накрыт к чаю, но Милка со своей чашкой устроилась на подоконнике. Она курила, пуская дым в открытое окно.
Наше застолье продолжалось около часа. Мы выпили, пообедали, теперь пили чай с Танькиным пирогом. Танька печет замечательные пироги с ягодами, особенно ей удаются вот такие — со свежей вишней.
На столе, чуть в стороне от посуды, на маленьком жостовском подносике топорщится бумажный сверток.
Милка выложила его из своей сумки, как только вошла в комнату, и больше не обращала на него внимания. Мы внимание обращали, поглядывали в сторону подносика, но помалкивали, терпеливо ждали.
Наконец Милка залпом допила свой кофе, поставила чашку на блюдце и двумя руками взбила рыжую копну на голове.
Мы тоже, словно по команде, одновременно допили чай и со сдвоенным стуком поставили чашки.
Дважды оттолкнувшись от пола пятками. Милка на стуле подъехала к столу и протянула руку к подносику.
Мы замерли.
Худые пальцы с длинными выпуклыми ногтями ловко развернули сверток и принялись выставлять его содержимое на поднос.
Появились два одинаковых пузырька, ампулка, маленькая квадратная коробочка. Мы завороженно следили за манипуляциями подруги. Что нас так заворожило, непонятно. Ничего, кроме этих предметов, ни я, ни Танька увидеть не ожидали.
— Так! — Милка строго глянула на нас. — Все это Ленкин Юра привез мне вчера утром. Как Ленка и просила, я отдала весь товар на экспертизу. Результаты экспертизы у меня. — Госпожа следователь хлопнула себя по карману широкой полотняной юбки. — Но прежде чем я вас с ними (результатами) ознакомлю, вы расскажете мне о происхождении этих предметов.
Она брезгливо ткнула пальцем в экспозицию.
Я поторопилась все объяснить:
— Один пузырек я получила от Пафнутия. Второй, тоже от Пафнутия, получила Танька.
Танька пожелала принять участие в разговоре и перебила меня:
— Я рассказала Пафнутию о муже-пьянчужке, о том, что он не хочет лечиться. Пафнутий поначалу только гмекал, но я так просила-умоляла, что он, добрая душа, пожалел меня и нацедил пузыречек.
Танька замолчала и принялась обмахиваться салфеткой, а я смогла продолжить объяснения:
— В ампулке лекарство, которое Миша ввел Ляльке.
Коробочку мне дала Клара — секретарша из «Сибири». Она разбирала Лялькин рабочий стол и обнаружила коробочку. Клара видела, как Лялька принимала гомеопатические шарики. Я подумала, что, возможно, их выписал доктор Белов и коробочка от них.
Милка подождала, не скажу ли я еще чего. Я молчала, чувствуя, как холодеет в груди и немеют руки.
Танька не выдержала напряжения и зло ткнула Милку в бок:
— Ну!
Милка, сморщившись, потерла бок и нехотя начала:
— Это действительно настой желчегонных трав.
Очень хороший. У Таньки тот же настой. Но в нем еще один алкалоид растительного происхождения. Не спрашивайте, что это значит. Я просто цитирую заключение эксперта. Действие алкалоида таково, что желчные протоки сужаются, желчь застаивается, появляются все симптомы гепатита. Из организма выводится быстро. На третий день после окончания приема от него и следа не остается. В коробочке следы вещества, представляющего собой слабый наркотик. При длительном приеме появляются апатия, высокая внушаемость… А вот в ампулке бетапротизон. Сильнейший синтетический наркотик. У нас запрещен к применению. Но тем не менее поступает в продажу под различными названиями. При даже незначительной передозировке наступает смерть от паралича сердца. Ампула содержит количество вещества, максимально допустимое для здорового человека, то есть последнюю безопасную дозу.
У меня зашумело в ушах. Я машинально зажала их ладонями, но шум не прекращался. Я хорошо помнила хрустальную пепельницу на ночном столике и две использованные ампулы в ней. Клара говорила, что Миша не сразу смог набрать шприц и испортил одну ампулу.
Но ведь она узнала об этом от Миши.
Танька смотрела мне прямо в лицо. Ее взгляд стал тревожным. Она быстро налила в рюмку водки и, держа мою голову, влила мне в рот отвратительное пойло.
Водка обожгла горло. Стало нечем дышать. Я раскашлялась. Из глаз полились слезы. Но в ушах больше не шумело, и я смогла спросить:
— Мила, что все это значит?
— Полагаю, у тебя возникли подозрения, и ты предприняла нечто вроде частного расследования. Мне трудно сказать так сразу, но вся совокупность фактов вполне может свидетельствовать о преступном умысле.
* * *
Крашеная дверь. Табличка с тремя фамилиями. Я почему-то медлила, не решаясь постучать. В торце длинного коридора окно, забранное решетками. За окном яркий летний день. В коридоре сумрачно и почти безлюдно.
Я постучала, услышала какое-то ворчание за дверью, сочла его за приглашение и вошла.
Комната небольшая, со следами недавнего ремонта, безликая. Четыре письменных стола, с полдюжины стульев, два двухсекционных сейфа, шкаф для бумаг, вешалка, окно с грязно-желтой задвинутой шторой.
В комнате, помимо меня, только один человек. Именно тот, кто мне нужен. Сидя за столом, стоящим торцом к окну, он разговаривал по телефону.
Не глядя в мою сторону, мужчина движением руки указал мне на стул. Решив, что получила приглашение сесть, я опустилась на стул у подоконника, на котором стояли две пачки отечественного детского питания.
На вид ему было чуть больше двадцати пяти лет.
Щуплый, с русым хохолком в аккуратной прическе, в темно-синем свитере. Свитер ручной работы, связан не очень умело, но старательно. Парень им, видно, дорожит. Рукава чуть поддернуты, чтобы не вытягивались на локтях.
— Прошу тебя, не стирай. Я приеду и сделаю.
Просто клади пеленки в таз с водой. Если ты будешь стирать, грудница сразу не отвяжется. — Голос парня звучал умоляюще и зло. Пальцы, державшие трубку, в характерных ссадинах. Мужчины всегда состирывают руки в кровь, когда им приходится заниматься ручной стиркой.
Он замолчал и закончил разговор с застенчивой нежностью:
— Пока. И я тебя. И я очень. И я. Да. Да!
Он не справился с собой и, кладя трубку, счастливо улыбнулся. И еще посидел некоторое время, отвернувшись к окну и улыбаясь. А потом повернул ко мне поскучневшее лицо, показывая, что готов слушать.
Слушая меня, старший лейтенант милиции Серегин А.С. не улыбался. Его покрасневшие от бессонных ночей глаза равнодушно смотрели поверх моего плеча, руки праздно лежали на столе.
— Сожалею, — сказал он, дождавшись конца моего рассказа, и в его голосе не было ни капли сожаления. — Сожалею. Но уголовное дело не может быть открыто за отсутствием оснований. Нет ни трупа, ни орудия убийства, ни доказательств, ни путного мотива.
Одни ваши подозрения.
Он помолчал и добавил зачем-то, по-прежнему не глядя на меня:
— Я сочувствую вашему горю.
И опять в его голосе не прозвучало сочувствия.
Все, что он мне говорил, я уже слышала вчера от Милки. Нет оснований для возбуждения уголовного дела.
— На фига им очередной «висяк»? — сказала Милка.
— Впрочем, — скучно закончил беседу милиционер, — заявление мы у вас не имеем права не принять.
Оставьте у дежурного, он зарегистрирует.
* * *
Я сидела в уголке дивана, поджав босые ноги. Комната ярко освещалась всеми наличными лампочками, светился и экран телевизора, работающего без звука.
Необъяснимая привычка господина Скоробогатова: влетев в дом, мгновенно включить все лампы, телевизоры и приемники. Обычно в течение последующих нескольких минут я, под его негодующие вопли, выключаю все лишние энергопотребители, но не сегодня. У меня нет сил на борьбу. К тому же мне необходим мир в доме для разговора с мужем.
Все светит, полыхает, играет и поет, а мира нет.
Муж, все больше хмурясь, выслушал мой доклад.
— Извини, Лена. Я не могу поверить, что Троицкий — убийца. Мы мало знакомы, но он определенно не тот тип. Можешь мне поверить.
Я верю в то, что господину Скоробогатову знаков мы типичные убийцы, верю, что Миша не типичный.
— Послушай, милый, может быть, у меня от горя помутился рассудок или я страдаю паранойей, но Милка ведь нормальная.
— При чем здесь Милка?
Костя бродил по комнате, стараясь не встречаться со мной взглядом.
— Слушай. Миша получил предложение какого-то американца о совместном бизнесе. Он всегда мечтал жить в Штатах. Лялька категорически отказалась даже говорить об отъезде. Миша отступил, но не сдался. Он знал, что Лялька слаба перед ним, и надеялся ее со временем уломать. Но тут будущий партнер начал торопить его с вложением средств, к тому же на горизонте появились щедрые покупатели, готовые отвалить за «Сибирь» любые деньги. Миша заторопился. Он и в мыслях не держал убийство. Ему было только нужно, чтобы Лялька перевела на него свою фирму. Вот он и начал убеждать ее в болезни. Для этого и использовал целителей. Если бы она поверила, что у нее рак, и передала ему дело, он со временем перестал бы ей давать снадобье. Скорее всего он бы ограбил ее, бросил и уехал в Штаты. Рецепт на препарат он приобрел на всякий случай. Я говорю «рецепт», хотя не видела его, но, думаю, лекарство было приобретено легально. Возможно, Миша был близок к цели, и его жена, узнав, что ей осталось всего три месяца, сделала бы все, как он хотел. Но тут Миша узнал, что Лялька связалась со мной. Я могла бы показать ее врачам, увезти за границу, короче, Миша испугался, что его афера раскроется.
Он убил ее.
Костя, уже давно стоящий передо мной и не сводивший взгляда с моего лица, теперь сел рядом и положил ладонь на мое плечо. Он не делал вид, что изумлен, и я была ему за это благодарна.
— Чего ты хочешь, Лена? Покарать его? Как?
Убить? Сама ты не можешь. Нанять киллера? У меня киллера нет. Предположим, я его найду. Вольные стрелки нынче не водятся. Значит, у него есть хозяин. Понимаешь, о чем я?
Понимаю. Очень хорошо понимаю. Костя — один из немногих по-настоящему богатых людей, кто не связан с криминальным миром. Устроиться так было невероятно сложно, но кое-что и кое-кто из прошлого сделали такое положение возможным.
Беда в том, что положение никогда не было устойчивым. Любая ошибка господина Скоробогатова приведет к необратимым переменам. Ясно каким. Наняв киллера, мы бы до конца жизни сидели на крючке у его хозяев.
Конечно, я Костю понимала.
Понимала я и лейтенанта Серегина. Его нежелание переживать по поводу того, что господин Троицкий уморил свою жену ради нескольких миллионов баксов, очень мне понятно. Ведь жена самого Серегина, несмотря на страдания, причиняемые грудницей, вынуждена стирать пеленки, поскольку зарплата лейтенанта милиции не позволяет обеспечить младенца памперсами.
Серегин мучается из-за этого и из-за того, что приходится покупать более дешевое отечественное детское питание. А всем известно, что эти смеси переслащены и это приводит к появлению диатеза у детей.
Понимала я и свою подругу Милку, которая, работая следователем прокуратуры, не была всесильной и не могла помочь каждому страждущему.
Я всех понимала. Я только не понимала, что мне-то делать?
Косте было меня жалко. Его рука притянула меня ближе, прижала к своему боку. Он уткнулся лицом в мою макушку.
— Леночка, все очень похоже на правду, с этим трудно спорить, но вдруг ты все-таки ошибаешься? Троицкий ввел всего одну ампулу, а умерла твоя дочь просто от сердечного приступа. Все остальное может казаться или быть правдой.
У меня не было сил возмущаться. Не было сил оттолкнуть его. По правде, мне и не хотелось его отталкивать. Его объятия согревали и успокаивали меня.
— Господи! Костя, тебе так хочется меня успокоить, что ты готов поверить в полное отсутствие мозгов у меня в голове.
Костю поразила столь длинная фраза, он сел так, чтобы видеть мое лицо.
— Если считать фактом, что Миша сам создал симптомы рака, зачем ему вообще вводить наркотик?
— Чтобы избавить ее от боли… — неуверенно предположил Костя, но тут же, устыдившись, поспешил внести новое предположение:
— А если стараниями Троицкого дело действительно дошло до рака? Или если он в это поверил?
Я покрутила пальцем у виска, но мой муж уже завелся:
— Почему нет? Может, он не хотел, чтобы игра зашла так далеко? Мучился, расстраивался. Помнишь, Клара рассказывала тебе, как он страдал?
— Ну не знаю. По-моему, бред. К тому же сути дела не меняет.
— Не скажи. Кто-то ведь сказал твоей дочери, что у нее рак. Кто?
— Не знаю. Я проработала не весь список.
Мы замолчали. Костя тихонько перебирал мои волосы. Я перебирала воспоминания.
Восемнадцатилетний Миша, поразительно похожий на молодого Есенина: пшеничная волна на лбу, лазоревые глаза, мечтательная полуулыбка. Невысокий, гибкий, несколько женственный.
Девчонки не принимали его всерьез, обожали тискать, щипать, ему это нравилось.
Только Лялька отнеслась всерьез к нежному тихому мальчику. Полюбила. Вышла замуж.
Я помню их свадьбу. Красивый, нежный, несколько отстраненный Миша и рядом Лялька: крупная, неловкая, с грубоватым лицом и с сияющими восторгом прелестными глазами.
И кремация. Суетливый, оплывший, неприятный толстяк средних лет, избавляющийся от трупа жены с такой поспешностью, с которой прячут следы преступления.
— Я все проверю, — пообещала я Косте и себе. — У меня еще есть время.
— Вот и хорошо, — облегченно вздохнул мой муж.
И он крепко обнял меня, прижался щекой к моему виску и начал поглаживать мое плечо теплой жесткой ладонью. Он был рад, что я не стану карать Троицкого немедленно.
* * *
День клонился к вечеру, и в старом парке становилось прохладно. Мы нашли уединенную скамейку и сели, радуясь уединению. Лариса все не шла, мы молчали, и молчание мучило меня.
— Я ничего не могу сделать, да. Мил?
Я положила ладонь на худое, обтянутое черными джинсами колено подруги. Она закинула голову, глядя на столетний могучий дуб позади скамейки.
— Скоро осень. Странно: казалось бы, листья зеленые, небо ясное, тепло, а приближение осени чувствуется.
В ее голосе звучала та же тоска, что оккупировала мою душу. Мы сидели рядом, и, кажется, впервые за сорок лет нам нечего было сказать друг другу.
Появилась Лариса. Она шла к нам по дорожке с обеспокоенным выражением милого лица и выглядела одновременно тихой и энергичной. Не понимаю и никогда не понимала, как ей это удается. Я не встречала никого похожего на нее.
Лариса раздвинула нас и села посредине, сунув свои руки под наши. Теперь мы все трое образовали цепочку. Стало спокойнее. Мы обменялись новостями и поговорили о Ларисиных детях. Лариса была в курсе всех новостей, ей звонила Танька.
Я, не чувствуя ничего, кроме усталости, равнодушно рассказала еще раз о посещении милиции и разговоре с мужем.
Упоминание киллера потрясло матушку Ларису. Она не на шутку разволновалась, и ее обычно бледное лицо покраснело.
— Как можно, Лена, Мила? Никто не вправе лишать человека жизни. Кроме Бога. И думать не смей!
— Что же делать? Пусть живет и радуется?
— Его Господь накажет, — уверенно сказала Лариса.
— О Господи! — Я в тоске до боли стиснула руки. — Если бы мне твою веру. Я бы ждала хоть до Страшного суда. А вдруг не накажет? Я хочу это видеть, ты слышишь? Видеть эту кару. Я жить не могу.
Понимаешь? Ларочка, он ведь звонит мне… «Мамочка, как ты? Как мне плохо без нашей Лялечки». Я ненавижу, ненавижу его!
Я задыхалась, рванула ворот блузки, обрывая пуговицы. Милка вскочила со скамейки.
Мы с Ларисой тоже встали. Я положила ладонь на горло, борясь с удушьем. Милка устремилась к дальнему от церкви выходу из парка. Мы с Ларисой, обнявшись, шли за ней. Я успокоилась, снова смогла дышать.
На высоком берегу Москвы-реки мы сели прямо на траву. Вид реки умиротворял. Милка закурила. Лариса прилегла, опершись на локоть.
— Если нельзя Мишу осудить, наказать по закону, я бы хотела, чтобы он мучился страхом разоблачения. Или чтобы все знали, что он убил. Я хотела бы всем рассказать.
Это было заветное, я высказала его раздумчиво.
Милка, прижав плечи к моим коленям, так же раздумчиво возразила:
— Как ты это устроишь? Скажешь ему — он посмеется, доказательств-то нет. Будешь рассказывать другим — сочтут сумасшедшей, скажут, от горя помешалась.
* * *
Юра ждал меня у машины. Мы подошли втроем, и он коротко поклонился Милке и Ларисе.
— Спасибо, что не потащился за нами, — сказала Милка.
Юра дернул плечом и отвернулся. Я подумала, что он действительно дал мне побыть с подругами наедине, а не маячил за моим правым плечом.
Девчонки поцеловали меня. Я неуклюже, будто в первый раз, забралась на заднее сиденье машины.
В окно я видела, как они стоят рядом и держатся за руки. Очень разные, но с одинаковым выражением любви и беспокойства на лицах.
Я чувствовала себя воздушным шариком, из которого выпустили воздух. Никогда я так долго не поднималась на свой этаж. Только обессилев у дверей, я вспомнила о существовании лифта.
Дождавшись, когда Юра впустит меня в квартиру, я из последних сил добралась до своей комнаты и упала ничком на кровать. Засыпая, почувствовала прикосновение теплых рук.
Юра снял с моих ног туфли и укрыл свободным концом покрывала.
Проснулась я в сумерках, с больной головой и сухим горлом. Не включая света, я, покачиваясь и цепляя мебель, побрела на кухню. Стакан апельсинового сока из холодильника спас меня.
В ванной я стянула с себя платье и засунула его в ящик для стирки. Вода из крана показалась теплой, я ждала, пока она стечет, и рассматривала себя в зеркале над раковиной. Лицо не блистало свежестью, но мы видали и похуже. Холодная вода принесла облегчение.
Я не стала вытирать лицо и шею, просто накинула длинный ситцевый халат и вышла.
Квартира выглядела нежилой. Только из-под закрытой двери в гостиную пробивалась полоска света.
Юра сидел на диване и смотрел телевизор. Рядом с ним стояла миска с фруктами.
Его круглая голова стремительно повернулась на звук моих шагов, сильное тело напряглось. Я улыбнулась ему, он остался сидеть и расслабился.
Я устроилась в уголке дивана, натянув халат на поджатые ноги и опершись на валик. Миска стояла между мной и Юрой, я потянулась и взяла огромную грушу. Груша дивно пахла и была сочной на вид. Я откусила большой кусок, сок брызнул. Я невольно зажмурилась.
Лялька всегда жмурилась и морщила короткий прямой нос, когда ела что-то сочное или пила газировку.
Слезы тихо заструились по моему лицу.
Я ела грушу и плакала. Слезы бессилия истощали меня. Это был момент, когда я была готова сдаться.
В слезах расплывался экран телевизора и происходящее на нем. Какие-то люди в белых одеждах, стоя посреди густого леса, вздымали вверх руки и кричали непонятные слова.
— Что это? — спросила я, протянув в сторону экрана руку с зажатым в ней огрызком.
— Американский боевик.
Юра ответил не оборачиваясь. Он не хотел видеть, как я плачу. Жалел меня. Я это знала и старалась держаться при нем, не раскисать.
— Кто эти люди?
— Школа выживания для жертв насилия. Героиня попала туда после нападения в лифте.
— Что с ними делают?
— Учат не подчиняться обстоятельствам, не сдаваться, не позволять себя унижать.
История заинтересовала меня. Я пристальнее вгляделась в экран. Слезы высохли, и теперь я видела, что толпа состоит из женщин. Женщины стояли плечом к плечу, выкрикивая как заклинание: «Я не жертва! Я не жертва!» — и вскидывали сжатые кулаки.
Неожиданно для себя, не осознавая, что делаю, я села по-турецки, выпрямила спину и, зажав кулаки, начала повторять сначала тихо, потом все громче и громче вслед за женщинами:
— Я не жертва! Я не жертва!
Действие фильма двигалось дальше, на экране замелькали городские улицы, а я все сидела, раскачиваясь, и повторяла:
— Я не жертва! Я не жертва!
Все поплыло перед глазами, резкая боль разрывала грудь. Я начала задыхаться. Почувствовала стакан у губ, С трудом сделала глоток. Второй дался уже легче.
Эти приступы повторялись вновь и вновь, иногда без видимой причины. Юра знал, что надо делать. От глотка коньяка спазм проходил, я снова могла дышать свободно. Но после этого начинался озноб, а вот что делать с ним, мы не знали. Не знали и врачи, которых возил мне господин Скоробогатов.
Меня колотило так, что зуб не попадал на зуб.
Стремясь избавиться от мучений, я, лежа на боку, подтянула к груди колени, обхватила их руками, плотно зажмурила глаза. Так, в позе эмбриона, я замерла, считая до десяти, и снова до десяти, и снова…
Юра беспомощно стоял на коленях у дивана. Я слышала его дыхание, похожее на всхлипывания. Вдруг он обхватил меня руками, прижал к себе, гася дрожь, легко разогнулся, встав на ноги, заходил по комнате, держа меня на руках, изо всех сил прижимая к своей груди.
— Лена! Леночка, — прошипел он сквозь стиснутые зубы. — Леночка! Я убью его. Хочешь? Хочешь?
Ты только скажи. Я убью его.
Меня заколотило еще сильнее. Теперь и от страха.
* * *
Господин Скоробогатов вернулся домой к ужину и обнаружил жену спящей под ворохом одеял.
Он потянулся зажечь бра, я почувствовала его рядом и проснулась.
— Ты почему лежишь в халате? — спросил муж, целуя меня.
— Так случилось, — ответила я, обнимая его за шею и не давая разогнуться.
Он опустился на мою подушку, спросил обеспокоенно, нежно перебирая мои пальцы:
— Был приступ?
— Не очень сильный, — успокоила я, — быстро прошел.
— Тебе надо отдохнуть и подлечиться.
— Ты мое самое лучшее лекарство.
Я прикусила его мочку, и он щекотно поежился, втягивая голову в плечи.
— Ты правду говоришь? — Голос выдал, как он счастлив.
— Правду, Костенька.
Я повернулась на бок и обняла его.
— Ты любишь меня?
— Очень.
— И не жалеешь, что вышла за меня замуж?
— Нет.
— Никогда?
— Никогда. Если не считать пяти — семи раз…
— Лена! — возмутился мой доверчивый муж.
— Никогда. Ни разу.
— И я. Никогда. Ни разу.
Он вздохнул, крепко-крепко обнял меня. Я его поцеловала. Потом он меня, потом я, потом он, потом…
* * *
Ларисин голос в трубке был спокоен, речь обстоятельна. Как всегда.
— Лена, ты сказала, что хотела бы, чтобы Миша узнал о твоих подозрениях.
— Да, — зачем-то ответила я, хотя меня и не спрашивали.
Лариса невозмутимо продолжала, проигнорировав мою реплику:
— Или распустить слух, чтоб другие узнали. Я все время об этом думаю. Я могу тебе помочь распустить слух.
— Как? — Я задохнулась от удивления и опять была проигнорирована попадьей.
— Я советовалась с Милой. Она одобрила. Сказала, что если Миша заволнуется, то, вполне возможно, допустит ошибку и это позволит его как-нибудь прищучить.
Лариса помолчала. Я тоже молчала, отказавшись от попытки поучаствовать в разговоре. И правильно.
Лариса не ждала моих слов, она просто собиралась с силами. Из трубки послышался легкий вздох, и Лариса, еще более раздумчиво, чем обычно, продолжила:
— Знаешь, Леночка, возможно, это не совсем по-христиански, но мне очень хочется прищучить Мишу, если он виноват…
Если он виноват… А если нет? Вдруг это роковая ошибка? Какая? Откуда я знаю? Роковая.
Нет покоя моей душе.
А Лариса, вымолвив на прощание:
— Приезжай завтра после ранней обедни, я тебя кое с кем познакомлю, — повесила трубку.
* * *
Юра привычно вырулил на стоянку у церковной ограды. Я подождала, пока он закроет машину, и мы вместе направились к храму.
Матушка Лариса ждала нас у вымощенной булыжником дорожки. С ней рядом стояла маленькая худенькая женщина.
Моложавое лицо с большими темными глазами и коротко остриженная темноволосая головка с чуть торчащими ушками показались мне знакомыми.
Юра, тихо охнув, произнес имя.
Верно. Эта женщина не без оснований считается одним из самых бесстрашных репортеров страны и ведет колонку новостей в популярной столичной газете. В ее послужном списке репортажи из всех «горячих точек» страны, участие в освобождении заложников и пребывание в плену. Ее темные глаза много видели, все понимали и были полны печали.
Лариса познакомила нас. Журналистка выслушала меня, кивнула и, не задавая вопросов, пообещала:
— Завтра в хронике будет материал, который, думаю, вас устроит.
— Вы вот так просто сделаете такое для незнакомого человека? — неприятно поразилась я.
Моя собеседница не обиделась. Напротив, в темных глазах засветилась симпатия, и она улыбнулась мне.
— Нет. Я бы не стала такое делать почти ни для кого. Но для матушки Ларисы я сделаю все.
Лариса перекрестила вслед маленькую решительную фигурку.
* * *
В машине я поняла, что опаздываю. Если статья появится завтра, то и Миша может начать действовать завтра. А я еще не готова.
Всю дорогу до дома я напряженно размышляла.
Мой план был всем хорош. Но в нем было слабое звено. Этим звеном была я.
Автоответчик хрипловатым Милкиным голосом сообщил.
— Мы проверили, кто проводил консультацию в поликлинике онкоцентра в тот день, когда там была Лялька. Ее принимал доктор Славкин. У нас кое-что на него нашлось, и ему пришлось со мной поговорить.
Вот что он поведал… Понятно, не под протокол, а так, на голубом глазу.
За штуку баксов он сказал больной Троицкой, что у нее рак.
Нет, не так. Он ничего не говорил, печально покачал головой и стал глядеть в окно. Лялька спросила:
«Что?» Он вздохнул. Она поняла, спросила: «Сколько мне осталось?» Он успокаивающе-фальшиво что-то залепетал. Она спросила: «Но хоть три месяца у меня есть?» «Да, — сказал он, — три месяца у вас есть».
Он ничем не рисковал. Нигде ничего не написал. И даже ничего не сказал. Он не интересовался, зачем мужу больной Троицкой нужна его ложь. Взял тысячу долларов, и все. Он соучастник, но я никогда не смогу этого доказать. Однако я не я буду, но этот хренов эскулап получит свое. Василек мне поможет. Кстати, он здесь и передает тебе привет.
* * *
Ну вот и все. Теперь я сделаю то, что должна сделать. И у Миши останется всего один шанс. Но я его ему оставлю.
* * *
— Костенька, я хочу побыть с тобой вдвоем.
— Я тоже.
— Нет. Ты не понял. Я хочу побыть с тобой вдвоем, как раньше. Чтобы в квартире больше никого. Ты и я. Отправь Юру.
— Это неразумно.
— Конечно, нет. Но я устала быть разумной. Отправь Юру.
— Хорошо. Попрошу Олега держать пару ребят в радиофицированной машине у подъезда.
— Я люблю тебя.
— Я тебя тоже. До встречи.
Юра нахально слушал разговор, стоя за моей спиной.
— Ты сегодня вечером свободен. И ночью.
— Я бы предпочел остаться дома.
— Сожалею. Но придется уйти.
Он независимо вскинул голову, четко повернулся через левое плечо и, покачивая широченными плечами, удалился.
Ну разбаловала я парня!
* * *
Теплая душистая пена ласкала тело, а синие Костины глаза душу. Я протянула ему губку:
— Потрешь жене спинку?
Он улыбнулся и окунул губку в ванну. Его руки были нежными и знакомыми, их прикосновения разливались теплом внутри меня.
— Леночка, Лена, — приговаривал Костя севшим от сдерживаемого желания голосом. — Горяченькая, голенькая, чистенькая…
Его губы скользнули по моей щеке, шее, плечу. Я сдула пену с его лица, поцеловала полуоткрытый смеющийся рот.
— Какого черта! — внезапно разгневался мой муж. — Ты там и вся в пене, а я здесь и в халате.
Почему нам поставили такую маленькую ванну? Ведь можно купить любую, хоть десять квадратных метров, хоть двадцать…
— Конечно, — с подъемом поддержала я, — и устраивать групповые заплывы.
— Групповые? — неприятно поразился муж. — Откуда эти извращенные фантазии?
Он гневно уставился на меня. Я покаянно повесила голову. И Костя постановил:
— Ничего группового. Парные заплывы. Только ты и я.
— Дивно. Но пока ты не можешь прийти ко мне, я приду к тебе. Иди, все приготовь и жди меня.
Я взяла в руки душ. Костя, нажав на мое плечо, немного притопил меня. В отместку я, ударив ладонью по воде, направила в его сторону веер брызг. Муж отпрыгнул к двери, закрываясь от брызг ладонью, подмигнул мне и исчез.
Это была самая лучшая моя ночная рубашка: прозрачная бледно-сиреневая с белыми кружевами. Она приятно струилась по телу до самого пола. Я ужасно понравилась себе в этой рубашке, с распущенными по плечам волосами и с удовольствием постояла перед зеркалом.
Выйдя из ванной, я постояла, ориентируясь в квартире. И обнаружила, что гостей ждали не в гостиной.
Из-за гостеприимно распахнутой двери спальни лилась тихая музыка и приглушенный свет.
Костя, в пижамных брюках, с обнаженным мускулистым торсом и босиком, что-то поправлял на туалетном столике. Именно там он сервировал свое угощение: бутылка шампанского в серебряном ведерке, ваза с моим любимым виноградом, коробка конфет.
В полумраке комнаты Костя казался совсем юным, и меня охватила странная робость. А скрипки пели нежно и печально. И все, что происходило, было нежным и печальным.
Костя протянул мне бокал и притронулся к нему своим. Раздался мелодичный звон. Я отпила глоток.
Костя обнял меня. Его горячая грудь прижалась к моей.
Я танцевала, закрыв глаза, подчиняясь сильным рукам мужчины и ненавязчивому ритму музыки.
Легко кружилась голова. Костя целовал меня. Его губы были сухими и легкими. Мои ладони скользили по его плечам.
А скрипки все пели и пели, жалуясь на то, что не сбылось, а обещало быть таким прекрасным.
Что-то мешало отдаться сладкой грусти. Мне удалось сохранить романтически-торжественный вид, когда Костя шагнул ко мне с бокалом шампанского.
Пижамные брюки были не единственной его одежкой, на его стройной обнаженной шее лихо топорщилась бабочка. Край галстука царапнул мою щеку, я не удержалась от смеха и отвела голову, чтобы видеть лицо мужа.
Лицо было торжественным и лукавым, именно таким, какое должно быть у человека с голым брюхом и галстуком-бабочкой.
— Что явилось причиной столь сугубой элегантности?
— Что у тебя за сленг?
— Так говорит продвинутая молодежь.
— Правда? Где ты с ней разговариваешь?
— Я читаю периодику.
— Брось. А кстати, куда эта молодежь продвинулась?
— Не знаю. В будущее. Или нет? Чего ты мне голову морочишь? Зачем галстук-то нацепил?
— Василий Иваныч так делал.
— Какой Василий Иваныч?
— Чапаев.
— Анекдот? Расскажи.
— Лето. Жара. Вечер. Петька встречает Василия Иваныча. Тот идет по улице в трусах и галстуке, «Ты куда, Василий Иваныч?» — «В клуб на танцы». — «А чего без штанов?» — «А на фига в такую жару? Баб-то все равно не будет». — «А галстук-то зачем?» — «Ну вдруг придут».
Я счастливо смеялась, обхватив руками шею мужа, а он крепко сжимал мою талию и Кружил меня под тихую музыку скрипок. —.. ;., А потом мы лежали в постели. Я почти забыла обо всем, кроме человека, который был рядом. Мой мужчина, мой муж, единственный, любимый… Часы показывали, что мне пора. Костя не мог угомониться. Его губы и руки оставались жадными и не хотели отпустить меня. Я мечтала: пусть так будет всегда.
Но не сегодня.
— Принесу еще шампанского.
Я встала, обвязалась простыней и под растроганным взглядом мужа вышла на кухню.
Когда я вернулась, в каждой руке у меня было по бокалу. Один я поднесла к своим губам, другой протянула мужу. Прежде чем выпить, он обнял меня и усадил рядом. Выпив шампанское залпом, он снова приник к моим губам. Я ответила на поцелуй, желая, чтобы он никогда не кончился. Стрелки на часах торопили меня.
Наконец снотворное подействовало, и Костя уснул.
Сон настиг его внезапно. Он лежал на спине, откинувшись на подушки, с легкой улыбкой на четко очерченных губах и с завитком черных волос на высоком лбу.
Я поцеловала его в висок, щеку. Не удержалась и коснулась губами теплых губ.
* * *
В кабинете я надела заранее приготовленную одежду, взяла уложенную спортивную сумку и, неслышно ступая туфлями на резиновой подошве, покинула квартиру.
Для бегства я выбрала уже опробованный путь через квартиру художника. Но на этот раз мне предстояло воспользоваться не только его квартирой, но и его машиной.
«Жигули» пятой модели стояли в железном гараже позади дома, У меня были ключи и от машины, и от гаража.
Кроме того, у меня была доверенность на мое имя на управление машиной. Все очень просто. Гараж во дворе был построен без необходимого разрешения, и муниципальные власти грозили его снести. Я обещала художнику, если катаклизм произойдет, перегнать машину к себе на дачу.
В основе моего плана лежал тот факт, что никому в целом свете не известно, что у меня во владении имеется автомобиль.
К нынешнему варианту плана я пришла не сразу. Поначалу я хотела обратиться за помощью к Юре. Скорее всего, хорошенько взвесив свои возможности, я бы так и поступила. Но его горячечный шепот: «Лена, Леночка! Я убью его… Ты только скажи. Я убью его!» — сделал обращение к нему невозможным.
Меня и сейчас еще начинало колотить от воспоминаний.
Можно было попросить Лидуниного Лешку. У него есть машина — новый «Москвич». Но это значило втянуть в дело его и Лидуню. Нет уж. Это только мое дело. Я сама не знаю, чем все это может кончиться. И так страшно. За себя. А если еще за Лешку и Лидуню бояться, я не выдержу.
Я сделаю все сама. Никому ничего не скажу. Сразу обо всем забуду.
В принципе, конечно, в чем проблема? Есть машина. Есть пять часов времени. Есть известный маршрут.
То есть известно, как ехать и что дорога не должна занять более трех часов в оба конца. Сама операция, именно то, ради чего все затевается, займет от силы полчаса.
Ну и зачем мне Юра или Лешка?
А вот затем. Все хорошо. Кроме того, что плохо. А плохо я вожу машину. В последний раз я сидела за рулем три года назад, когда возила Костю на дачу. Но тогда было раннее утро и рядом был человек, умеющий водить.
Этой ночью Мне предстояло пересечь центр. Конечно, ночью на улице машин мало. И пешеходов мало.
Зато много пьяных водителей.
Готовясь к реализации своего плана, я утром, сказав Юре, что пойду поухаживаю за цветами художника, почитала его книжку о «Жигулях». Книжка, вернее, огромный альбом, всегда лежала под столом в прихожей. Я ее заметила, бывая прежде в квартире.
Мне было известно, что художник отключил аккумулятор и слил бензин. Эти сведения он сообщил мне среди остальных, столь же ненужных, передавая хозяйство при отъезде.
«Учись, — говорила мама. — Не бывает ненужных знаний». И как в воду глядела. Теперь я знаю, что необходимо подключить аккумулятор и налить в бензобак бензин из канистры, что в углу гаража за досками.
А не знай я этого, как бы я поехала?
Ободряя себя таким образом, я вышла из соседнего , неохраняемого подъезда и через кусты посмотрела на смутно темнеющую у моего подъезда машину.
Свет в салоне не горел. Доблестная Костина стража скорее всего спала без задних ног.
Но с другой стороны, чем черт не шутит? Вдруг парни бессонно и напряженно вглядываются во тьму?
Береженого Бог бережет. Тоже мама говорила. И я по узенькой асфальтовой дорожке вдоль стены дома добралась сначала до угла, а потом до противоположной стены, а уж здесь, найдя прогалину в густо растущих кустах и спугнув с полдюжины кошек, прокралась к гаражу.
У дверей гаража я оглянулась на Покинутый дом.
Он был темен, и только четыре длинных вертикальных полосы освещали его — это вполнакала горел свет в подъездах.
Смазанные маслом петли не скрипнули, двери гаража отворились, пропуская меня внутрь, и снова закрылись. Я помнила, что выключатель слева от двери, и почти сразу нашарила его.
Машина показалась неожиданно большой, а моя затея безумной и невыполнимой. Пришлось постоять, собираясь с силами. Я стиснула зубы и принялась за дело.
Удалось все. Я подключила аккумулятор (при этом сбила косточки на левой руке и сломала ноготь на указательном пальце правой), налила бензин (на пол и себе на тапочки тоже), переоделась, положила в «бардачок» документы, бросила на заднее сиденье сумку с инструментами, села за руль, глубоко вздохнула и повернула ключ зажигания.
Мотор заурчал, я вытерла о джинсы вспотевшие ладони и положила их на руль. Предельно собравшись, я задним ходом выехала из гаража. И ни за что не задела!
Я сумела закрыть гараж, сумела выехать со двора и развернуться по движению и теперь медленно ехала вдоль тротуара.
Боже! Какое счастье, что ночью нет автобусов! Какое счастье, что люди ночью не бродят по улицам!
Какой это кошмар — вождение автомобиля! Руки потные, спина потная, пот заливает глаза. Глаза, боясь что-то пропустить на дороге, вылезают из орбит. Пальцы мертвой хваткой сжимают руль. Я чувствую, как они немеют от напряжения.
«Правая нога — тормоз, левая — газ», — шепчу я себе и тихонько подвываю от ужаса происходящего.
Как же жарко! Я не смогу открыть окно. Мне ни за что в жизни не отцепить пальцы от руля. Теперь уже никогда, до самой смерти.
Ой, как ноет желудок!
За окном фонари, огни реклам. Слева пролетают автомобили. Для меня они тоже огни. Ну к чему столько огней? В стране энергетический кризис, а они светят вовсю. Отвлекают. Световая реклама. Кошмар. Убийство. Почему ее не запретят?
А у меня самой что-нибудь горит? А что должно гореть? Фары… Как долго еще я смогу ехать по прямой? А вдруг это не тот ряд?
Мамочка! Что же это такое? Ну почему, почему я не садилась за руль все эти годы?
С удивлением замечаю, что постепенно дело, однако, налаживается. Руки уже не стискивают баранку руля, ноги автоматически нажимают на нужную педаль.
Некоторую часть пути преодолеваю в фарватере «Запорожца». Лучшего попутчика трудно придумать. Раздолбанный ветеран отечественного автомобилестроения (а ныне иномарка) потихонечку трухает впереди меня именно на той скорости, которая устраивает меня как нельзя больше. Я повторяю все его маневры у светофоров и на поворотах.
Но счастье не может длиться вечно, и я с грустью провожаю взглядом своего лоцмана, свернувшего на боковую, улицу.
Маршрут, разработанный мной накануне, когда я ползала в течение часа по карте Москвы, позволил мне обогнуть наиболее опасные места, используя малолюдные улочки и переулки. Чтобы пересечь город и выехать на Варшавское шоссе, мне понадобилось времени в два раза больше, чем любому другому автомобилисту.
И все-таки это не мешало мне гордиться собой.
* * *
Первое, что я сделала, оказавшись на нужном мне шоссе, — съехала на обочину и заглушила мотор.
Я сидела в машине, откинувшись на спинку сиденья и бросив на колени дрожащие кисти рук.
Было тихо, темно и страшно. Шоссе убегало в темноту и выглядело пустынным, но местность вокруг наполняли неведомые и оттого опасные звуки.
Мне хотелось посетить заманчивые кустики, темневшие неподалеку, но я не осмелилась.
И вот я снова не спеша еду по дороге в направлении Бронниц. Несколько раз меня обгоняли машины, дважды ослепили фары встречных. Всякий раз я обмирала от страха. Одна на безлюдной дороге, я была совершенно беспомощной и с моим умением водить стала бы легкой добычей для любого обидчика.
Бронницы ничем не напоминали Москву. Город спал.
Я пересекла его насквозь и через полкилометра свернула на первую же грунтовую дорогу. На мое счастье, дождей давно не было, и грунтовая дорога по твердости не уступала асфальтовому шоссе.
Проехав около километра, я съехала в редкий перелесок и, остановив машину, выбралась на тропинку, ведущую к деревне. Оставить машину было не страшно, в окрестностях жило не много людей, в основном одинокие старухи. Не страшно было идти по тропинке, по обе стороны которой тянулось поле овса с горохом.
На ходу я скрывала стручки гороха, шелушила их и бросала горошины в рот.
Луна слабо освещала известную мне до мельчайших подробностей местность, и я легко ориентировалась, чувствовала себя спокойно и уверенно.
Когда-то в течение многих лет я проводила все свои отпуска в доме свекрови. После ее смерти дом остался Сереже, а от него перешел Ляльке.
Лялька дом любила, содержала в порядке и приезжала сюда всякий раз, когда выдавался случай. Уже третье лето в доме жили арендаторы — супружеская пара из Бронниц.
Я подобралась к дому со стороны задней калитки, изредка подсвечивая себе фонариком. Усадьба еще Сережиным дедом была разделена на две части. Та, на которой росла картошка, отделялась от другой, с садом и огородом, забором.
У арендаторов была собака. Она бегала всюду, но на картофельное поле не допускалась. Причиной служило то, что маленький метис фокстерьера за неимением лис охотился на кротов и разрывал картофельные посадки.
Просунув руку между досками калитки, я отодвинула щеколду и, приоткрыв калитку, пролезла в щель.
В это мгновение луна засияла ярче, видимо, выйдя из-за невидимого облака, и осветила цель моего путешествия. Я быстро и насколько возможно бесшумно пробежала по борозде.
Мои тапочки и джинсы промокли от росы.
Вот и голубятня. Я задрала голову, но не увидела ее верхней части. Голубятня являлась гордостью деда и до сего дня оставалась самым высоким строением деревни. Я прижалась спиной к лестнице и прислушалась.
Стояла та тишина, которая свойственна ночной деревне. Шумели деревья под пробегающим ветерком, перебрехивались собаки, квакали лягушки.
Не снимая спортивную сумку с плеча, я сдвинула ее со спины на живот и поставила ногу на нижнюю ступеньку лестницы. Мои пальцы ухватились за шершавую деревянную планку.
Единственное, чего я боялась, — это появления фокстерьера. Было не ясно, как он себя поведет, ведь мы виделись всего один раз четыре года назад. Что, если собачка не признает нашего знакомства, поднимет лай и привлечет ко мне внимание?
Этого, к счастью, не случилось. Я сделала то, что намеревалась, и покинула усадьбу. Мои руки были сбиты и кровоточили, но боль мало волновала меня, как и следы моего пребывания, которые, возможно, остались.
Лялькины арендаторы — люди сугубо городские, огородничество только осваивают, едва управляются с овощными грядками и картошку каждый день не навещают.
На обратном пути в чистом поле я неожиданно вспомнила о своей нужде и присела рядом с тропинкой.
Удачное выполнение задуманного сделало меня беспечной. Я даже не Посветила себе фонариком. Луна спряталась, кругом была беспросветная мгла. Моя душа пела.
Что-то мокрое легко коснулось моего обнаженного тела, и тут же мягкое, нежное скользнуло, словно дуновение ветерка.
Я одной рукой заглушила крик, рвущийся из груди, другой натянула джинсы и, не застегивая «молнию», ломанулась неизвестно куда по полю, запуталась в овсе и в своих ногах и свалилась во весь рост, громыхнув по хребту сумкой и придавив что-то небольшое, живое и верткое. Существо взвыло от страха. Я взвыла в ответ и закрыла глаза.
Фокстерьер, покинувший дом в поисках ночных приключений, набрел на меня в поле, обрадовался (узнал?) и подошел поздороваться. Когда я перестала бегать, орать и падать на него, а просто спокойно легла поперек тропинки, он поприветствовал меня вежливым повизгиванием и облизал мое лицо.
Я села, погладила пса по влажной жесткой шерсти.
Он забрался ко мне на колени, тычась в меня мордой.
Сосиску, прихваченную мной специально на случай такой встречи, пес проглотил мгновенно, а потом проводил меня до машины.
Обратная дорога показалась мне много легче и заняла меньше времени. Сразу за Бронницами я развила космическую для себя скорость в 70 километров и уже очень скоро въезжала в Москву.
Москва оказалась непривычно пустынной. Видимо, наступил тот самый «мертвый час», когда вчерашний день закончился, а сегодняшний еще не начался.
Мне удалось въехать в гараж. Когда двери закрылись, я включила свет и оглядела машину. С ней все было в порядке. Я отключила аккумулятор, переоделась, собрала в сумку мокрые вещи и вышла из гаража.
Двор был пустынен и тих. Я пробралась в подъезд.
Он оказался практически неосвещенным, только где-то наверху слабо горела лампочка. Я крепко ухватилась за перила и начала осторожно подниматься, считая ступеньки.
В квартире художника я еще раз переоделась, развесила мокрые вещи в ванной и, теперь уже в халате и шлепанцах, проникла в свою квартиру.
Костя мирно спал, приоткрыв рот и раскинув руки.
Я подошла к окну и отодвинула штору. Ночь за окном начала сереть в ожидании близкого рассвета. Меня не было дома около четырех часов.
* * *
Костя выглядел вялым и недовольным. Он отхлебнул кофе и с раздражением отставил чашку.
— Что? — заботливо спросила я.
— Мерзость, — коротко ответил мой муж и потер ладонью левый глаз.
У меня тоже слипались глаза и кружилась голова.
— Мы вчера выпили слишком много шампанского.
— Много? Я пару бокалов. А ты вообще не пила.
— Пила, — запротестовала я. — Ты просто не помнишь.
— Верно. Я отключился. Голова сегодня будто отсиженная. Надо перед работой заскочить в поликлинику, измерить давление.
Ой-ей-ей! А врач предложит сделать анализ крови, а Костя сделает, а в крови снотворное. И мне конец.
Господин Скоробогатов вытрясет из меня душу и, конечно, чистосердечное признание.
Да лучше умереть, чем признаться мужу, что я темной ночью в течение четырех часов одна разъезжала на машине и расхаживала пешком по Москве и окрестностям. А как признаться, для чего я это делала? Нет, лучше умереть.
Господин Скоробогатов мне не простит. Я лишусь остатков его доверия и остатков свободы. Муж посадит меня на цепь или замурует в квартире. А может, в «домушке». В город будет вывозить в бронированном автомобиле и в наручниках.
От страха я проснулась и почувствовала прилив сил.
— Тебе не следует сразу бежать к врачу. Мнительность для организма губительней болезни. Лучше сделай легкую гимнастику, прими прохладный душ…
— Что у тебя с руками? — прервал меня муж.
Его глаза были прикованы к моим рукам, прижатым к груди. Все пальцы густо залиты йодом, ногти коротко острижены. Вся на нервах, я забыла прятать руки и попалась.
— Что у тебя с руками? — повторил муж. В его голосе я не уловила ни заботы, ни сочувствия. Интересно, что он думает, что у меня с руками? Ответ я придумала, но уверенности, что он понравится, не было.
— Чистила сковородку сутужной мочалкой.
— Чем?
— Сутужной мочалкой. Так бабушка звала железную щетку.
— С утра пораньше?
— Ну и что? Настроение было.
— Обалдела? На фига тебе драить сковородку?
— Она закоптилась.
— Выброси. Купи новую. Мы что, не можем себе позволить?
Он закрыл глаза и прижал пальцы горсточкой к виску. Сердиться было больно, и, на мое счастье, разборка закончилась.
Я, вся забота и нежность, захлопотала возле занедужившего мужа.
— Милый, иди в ванную. Раз кофе тебе сегодня неприятен, я сделаю чай. Через пятнадцать минут все будет готово.
На кухне у меня целая полка с лечебными травами. В основном для косметических целей. Вот и земляника, засушенная целиком, с ягодками, цветочками, листиками и стебельками. Прекрасное мягкое мочегонное. Я пью землянику иногда, чтобы убрать мешки под глазами.
Для мужа заварю побольше. Пусть побегает в туалет, зато снотворное выведется.
Через полчаса несколько приободрившийся господин Скоробогатов готов отбыть на работу. Его задерживает отсутствие Юры. Как всегда, при необходимости ждать муж раздражается.
Я успокаиваю его, поглаживаю по плечу. Он успокаиваться не желает, дергает плечом.
— Какого черта этот парень шатается где-то до сих пор?
— У него увольнительная до девяти. А сейчас восемь двадцать. Если спешишь — иди, я побуду одна.
Муж смотрит на меня как на внезапно помешавшуюся и возвращает плечо под мою руку. В благодарность я целую его надутые губы и воркую нежно:
— Костенька, если к обеду не расходишься, обратись к врачу или попроси Веру Игоревну измерить тебе давление.
Но Костя уже забыл обо всем. Уткнувшись лицом в мои волосы, он, посапывая, трется носом и губами о мою макушку.
Звук открываемой двери заставляет любимого разжать руки и поднять разгоряченное лицо. Я, на ходу поправляя блузку и прическу, выскакиваю в прихожую.
Разочарованный муж, подтягивая узел галстука, идет, следом.
Под его бдительным взглядом мы с Юрой не говорим друг другу ни слова. Но Юра ободряюще мне кивает и протягивает газету.
— Что это? Начинаешь день с чтения газеты? — насмешливо щурится господин Скоробогатов. Я не отвечаю. В нетерпении, со страшной скоростью проведя обряд прощания, я практически выталкиваю обескураженного мужа из квартиры.
* * *
Репортерша выполнила свое обещание. На первой странице газеты, там, где помещается хроника текущих событий, под заголовком «Загадочная смерть» я нашла коротенькое сообщение.
"Не так давно Москва прощалась с молодой успешной предпринимательницей. Еще за пару месяцев до этого специалистка по народным промыслам чувствовала себя здоровой. Ее внезапная смерть потрясла всех, кто знал эту жизнерадостную энергичную женщину. Одна из близких родственниц покойной сообщила нашему корреспонденту, что в семье сомневаются в естественности смерти.
Наследником процветающего бизнеса стал муж предпринимательницы ".
Я прочла заметку несколько раз. Меня заколотило.
Юра в упор смотрел мне в лицо.
— Ты все успел?
Он кивнул.
— Тебя никто не видел?
Он отрицательно мотнул головой.
— Спасибо, дружок. Я твоя должница.
Парень расплылся в широкой улыбке и ускакал куда-то в глубь квартиры.
Я включила компьютер и села за работу.
После десяти начал звонить телефон. Мне было слышно, как Юра отвечает на звонки.
— Нет, ее нет дома. Ее нет в городе.
— Нет, ее нет.
— Да, она дома. Я передам. Она читала.
— Нет, ее нет.
— Да. Да. Работает. Нет. Я знаю. Читала.
— Нет. Не плачет. Я передам. Хорошо.
— Нет. Ее нет.
— Нет. Ее нет в стране.
— Нет, мне ничего об этом не известно.
— Да. Хорошо. Сейчас. Елена Сергеевна, вас просит Клара.
Ага! Вот оно. Я глубоко вздохнула. Раз, другой, успокаивая сердцебиение.
— Спасибо, Юра. Алло, Кларочка, здравствуй.
— Елена Сергеевна! Вы читали?
— Клара, ты откуда звонишь?
— С работы.
— Уйти можешь?
— Да. Через полчаса.
— Тогда слушай инструкции.
Я передала Юре трубку, он назначил Кларе свидание на углу, описал машину и водителя. Затем, не кладя трубку, позвонил Олегу и попросил его послать Кешу на «Жигулях» за Кларой.
— Переведи телефон на автоответчик, — попросила я. Юра кивнул.
Я пошла за ним в кухню, села у стола и стала смотреть, как он ставит чайник.
— Как ты думаешь, если знать нашу семью, кто «близкая родственница»?
— Вы.
— Еще?
— Татьяна Ивановна.
— Еще?
Он сделал сложное движение, одновременно качнув головой и пожав плечами.
Я поняла. Кто же еще? Никто.
Что ж, Танька не подведет. Хотя я ее ни о чем не предупреждала.
* * *
Кеша поднялся вместе с Кларой. Она не могла отвести взгляд от белокурого красавца атлета. Кеша обожает женское восхищение и готов ответить на ее призыв немедленно. Клара это почувствовала и потянулась к нему всей своей девичьей душой. И телом.
Юра, не раз бывавший свидетелем подобных романов, откровенно ухмыльнулся и отправил Кешу ждать в машине.
Кеша театрально вздохнул, метнул Кларе томный взгляд и удалился. Юра успокоил приунывшую девушку:
— Он подождет вас в машине, потом отвезет куда скажете.
Клара приободрилась, и мы с ней направились в гостиную. Юра принес с кухни приготовленный мной поднос, поставил его на столик и покинул нас.
Поблескивая зеленоватыми глазами, Клара начала свой рассказ:
— Я нашла газету на столе, как только пришла на работу. У нас персонал начинает работать в разное время от девяти до одиннадцати часов. Сегодня к десяти собрались почти все. На каждом столе лежала газета. Все газеты были сложены так, что заметка бросалась в глаза.
Патрон приехал сразу после десяти. Как всегда, ни на кого не глядя и не здороваясь, прошел в свой кабинет. Мы все притихли, только переглядывались. Почти сразу раздался визг по селектору:
— Клара!
Я, под откровенные усмешки и ободряющее подмигивание, прошла в кабинет.
Михаил Павлович стоял за своим столом, опершись на ладони, лежащие на газете. Он весь трясся, челюсть ходила ходуном, глаза выпучились.
Я остановилась у дверей, стараясь выглядеть как всегда. Дверь тихонько проскрипела. Это Ирка-секретарша пристроилась к щелочке подслушивать.
Михаил Павлович толчками выдыхал воздух и никак не мог начать говорить. Я почему-то подумала, что у него совершенно плоские глаза, как бледно-голубые фарфоровые блюдца. А он все пыхтел, его лицо наливалось кровью. Наконец он выдавил несколько звуков, так хрипло, что я даже не поняла, что он сказал.
Я хлопнула ресницами. Он еще больше покраснел.
Хотя я не могла поверить, что такое возможно. Воздух с шипением вышел у него изо рта. Я поняла.
— Кто? — Он тыкал пальцем в газету.
— Я не знаю.
— Ты видела?
— Да.
— Кто еще?
— Все.
Он вдруг съежился и сел. У него даже лицо опало.
— Кто принес?
— Не знаю. Когда я пришла, газета лежала на моем столе.
— И на всех других?
— Да.
— Ты принесла?
— Нет.
Мне было нечем убедить его, но он сразу поверил.
— Алла Николаевна?
— Она уехала к родне. В Брест.
— Это ничего не значит.
— У нее нет ключей.
— А у кого есть?
— У вас и у охраны.
— Еще?
— Больше ни у кого. У вас два комплекта.
— Могли украсть?
— Наверное.
Михаил Павлович побарабанил пальцами по столу.
Я все стояла у дверей. В эту минуту я поняла, что больше не останусь у него работать. Мне стало страшно. Я вдруг сразу отчетливо поверила, что он может быть виноват. В том, что случилось с Еленой Сергеевной. Я никогда раньше не видела такого испуганного человека. И я испугалась сама.
Никто не работал. Никто даже не пытался работать. Люди переходили от стола к столу, шептались, без конца выходили курить. Обсуждались два вопроса: откуда взялась газета и что следует предпринять шефу?
Ни разу не прозвучало слово «клевета». И меня снова словно озарило. Я поняла, что все испытывают после смерти Елены Сергеевны то же, что и я…
Работа перестала приносить удовольствие, общение — радость. От всего, что составляло смысл нашего дела, осталась только зарплата. И еще. Все так же, как я, глухо ненавидели Троицкого. Почти никто не думал, есть ли основания для сомнений у автора статьи, все злорадствовали из-за беды Троицкого.
Михаил Павлович пробыл у себя около часа. Почти все время разговаривал по телефону. Потом вызвал Ирку, велел ей собрать все газеты и принести ему.
Ирка подошла к начальнику отдела сбыта. Он вырезал заметку, сунул ее в карман. Ирка пошла дальше.
Она всем показывала дыру в газете. Все смеялись. Многие тоже вырезали заметку. Ирка свалила газеты на стул в углу кабинета шефа.
Через некоторое время Троицкий, ссутулясь и втянув голову в плечи, пронесся к выходу и уехал.
Все собрались и пошли толпой обедать, оставив одну Ирку на телефонах. Она выла, но ей пообещали, что после обеда отпустят домой.
Я вышла вместе со всеми и поехала к вам.
* * *
Танька примчалась без звонка. Юра впускал ее, когда явился господин Скоробогатов. Он неодобрительно посмотрел на потную, с выпученными глазами Таньку, перевел на меня тот же неодобрительный взгляд. Я поежилась.
Взгляд переместился на Юру. Юра тихо слинял.
Танька неудовольствия не заметила. По-родственному обхватила господина Скоробогатова поперек туловища, потискала, обмусолила ему лицо, оставляя следы оранжевой помады.
Господин Скоробогатов с неожиданным подъемом тоже включился в церемонию приветствия и потискал Таньку, звонко чмокая ее румяное, влажное от пота лицо.
У меня засосало под ложечкой, а Танька, приняв Костины ласки как должное, скинула босоножки и поплыла в гостиную. Костя, не сводя с меня настороженного взгляда, легкими тычками направлял ее движение.
На пороге гостиной он на миг отвлекся. Этого мне хватило. Я наступила Таньке на ногу, она вскинула глаза, я прикусила нижнюю губу, она кивнула. Костя вернул нам свое внимание, мы смотрели в разные стороны.
— Чему обязаны? — вежливо осведомился господин Скоробогатов у гостьи, когда мы расселись в гостиной со стаканами холодного пива. Мы все предпочитаем отечественное пиво. Не потому, что импортное хуже, а потому, что нам нравится «Балтика».
Я пила «первое», Костя и Танька — «шестое».
— Чего это? — не поняла Танька.
— Чему обязаны визитом?
— Это ты спрашиваешь, чего я пришла? — дошло до Таньки. Она неожиданно обиделась:
— Меня-то Ленка позвала, а ты сам-то чего здесь?
— А где ж мне быть? — притворился непонимающим господин Скоробогатов.
— Как где? В «домушке», — прищурилась Танька.
Меня мало волновала их перебранка. Они умели остановиться и не довести разговор до скандала. Я хотела знать, с чем пришла Танька, и хотела знать, что в столь ранний час пригнало в конюшню кормильца. Но выяснять это надлежало с каждым индивидуально.
Парочка переместилась на кухню и начала греметь там, открывая холодильник и зажигая плиту. Ясно, собираются пировать. Плохо, что на кухне. Значит, их застолье затянется за полночь. Позже Костя приволочет гитару, и они будут петь. А мы с Юрой слушать.
Потому что Юре питье не положено, а мне сроду не выпить столько, чтобы их догнать.
Костя пролетел от двери к бару и обратно. Ясно, к холодильнику, водку охладить. Я поплелась на кухню и достигла ее в тот момент, когда они открыли по очередной бутылке пива и Костя спросил:
— Тань, а ты не из-за статьи прибежала?
— Из-за какой?
Ой Танька, ой торговка, голубенькие глазки, святая простота. Знаю, что врет, но верить хочется. А господину Скоробогатову не хочется.
— А ты сегодняшнюю молодежку не читала?
— Нет. Я на рынок до почтальона ухожу и почту вечером забираю.
— Значит, этого не видела?
Костя откуда-то из-под себя извлек газету.
Танька уставилась в то место в газете, где был Костин палец, прочла, шевеля губами.
«Не переигрывай, дуреха! — мысленно взмолилась я. — Если он что-то заподозрит, он меня запрет». :
Но Танька была в образе и неподражаема.
— Ты думаешь, это о Ляльке? — помолчав и поморгав глазами, спросила она, сраженная наповал собственной догадливостью. Ее глаза медленно переходили с Костиного лица на мое и наливались слезами. Сейчас Танька не играла. Она приехала, чтобы пролить эти слезы. Присутствие Кости останавливало ее и заставляло крепиться.
Я села рядом с Танькой. Мы держались за руки и тихо плакали. Костя расстроился. Его глаза беспомощно моргали, уголки губ жалостливо опустились. Он жалел нас, ужасно любил. И не верил ни на грош.
— Значит, это не ты «одна из близких родственниц»? — спросил господин Скоробогатов. Он мучился, не смел на нас взглянуть, но все-таки спросил. Вот характер! Я в очередной раз возгордилась мужем.
— Нет, Костенька, это не я, — честно ответила Танька. — Я и журналистов-то никаких не знаю.
— И не ты? — зачем-то спросил Костя меня. Он явно не рассчитывал на ответ. Я и не ответила.
Мы выпили вкусной холодной водки не чокаясь и поели, молча, с неожиданным аппетитом. И еще выпили. Все молчали и чувствовали себя неловко.
Костя мешал нам и знал это, но какое-то время вредничал. Потом встал:
— Ну ладно, девки, гуляйте одни. Я поеду, имение посмотрю.
Он не выглядел обиженным. Я точно знала: он не обижен. Мой муж — чуткий человек. Он понимает, что сейчас нам с Танькой надо побыть вдвоем.
Мы проводили Костю до дверей. Танька обняла его и ушла. Я заглянула в синие тревожные глаза:
— Приходи ночевать, ладно? Мне без тебя плохо.
Он кивнул и поцеловал меня. Я закрыла за ним дверь и вдруг вспомнила, что он не вызвал машину. Я бросилась к окну, выходящему на подъезд.
Костя садился в свою машину. Значит, он заскочил домой ненадолго и не отпускал Вадима. У него еще есть дела, он приходил просто посмотреть на меня.
Танька мыла посуду. Я взяла полотенце и, встав с ней рядом, начала вытирать.
Когда посуда была расставлена по местам, стол вытерт, а пол подметен, Танька вышла и вернулась со своей сумкой. Она достала пачку сигарет и, показав глазами в сторону коридора, спросила, имея в виду Юру:
— Заложит?
Я отрицательно качнула головой, закрыла дверь, мы сели у раскрытого окна и закурили.
Мы обе были настолько зажаты, что алкоголь не произвел никакого действия.
— Я правда не видела газету утром. Я ее и вообще-то каждый день не читаю. Выписываю по привычке. Чтоб бумага в доме была. Ну так вот. Ларек я открыла в девять. Торговля шла ни шатко ни валко, но не прекращалась. Я на полчаса закрывалась поесть.
Потом еще поторговала. Потом около меня остановились две тетки, начали выбирать мясную гастрономию.
Я таких не люблю. Все перелапают, обхают и если купят, то на копейку. Не покупатели; а, как у нас один парень говорит, экскурсанты.
Я ждала, когда они наиграются, и мысленно кляла их на чем свет стоит, но пока молчала, сдерживалась.
Вдруг тетки разлетелись в разные стороны, а передо мной Миша! Прям как чертик из табакерки! Я его сначала не узнала. Он всегда такой чистенький, сладенький, как леденец обсосанный. Прости, Господи!
Она перекрестилась правой рукой, левой держа сигарету.
— А тут прямо фурий злобный! Весь потный, распатланный, расхристанный. Машет у меня перед лицом сложенной газетой. Изо рта шип и слюни.
«Ты что, сука старая, охренела?»
Я и впрямь «охренела». Со мной так еще никто не разговаривал. Я его за грудки схватила, дернула на себя, втянула в ларек и толкнула себе за спину, вглубь, к ящикам с консервами. Там что-то загремело. Тетки глаза вылупили и за Мишкой полезли. Но я перед ними стекло опустила. Они носы сплющили, смотрят.
Я газету подняла, прочла и все поняла. Миша сидит на ящике, трясется, в глазах слезы и страх смертный. Мне так гадко, так мерзко стало.
«Уходи, Миша. Я в газету не писала. И говорить с тобой не хочу. Уходи. Я охрану позову».
Ее звали Роза, в честь Розы Люксембург. Хотя теперь, когда ей исполнилось пятьдесят лет, чаще ее называли Роза Дмитриевна. Или по прозвищу — Королева бензоколонок. Именно так, во множественном числе. Потому как владела эта дама огромным числом бензоколонок в Москве. И не только. А начинала свой жизненный путь она в светлом социалистическом прошлом в качестве оператора бензоколонки. Которую успешно приватизировала. Ну и пошло-поехало.
Сейчас Роза Дмитриевна сидит в плюшевом кресле в офисе фонда и пьет кофе с коньяком. Она принесла чек на очередной взнос, передала его бухгалтеру и зашла навестить меня. А я решила, что она заслужила рюмочку.
Мне симпатична эта приземистая толстушка с разлохмаченной «химией» на крупной голове и выщипанными в ниточку бровями над веселыми маленькими глазками. У нее широкий улыбающийся рот и громкий голос.
Роза Дмитриевна одной из первых поддержала идею фонда и регулярно переводит нам деньги. Два ее сына заняты в материнском бизнесе. Про мужа известно только, что он есть.
Сейчас моя гостья неожиданно заговорила именно о муже. Вертя в толстых коротких пальцах, унизанных массивными перстнями, чайную ложечку, она сокрушалась:
— Вы слышали? Где-то с месяц назад умерла женщина, владевшая сетью надомниц. Они вязали, вышивали, плели кружева и еще что-то. Короче, народные промыслы. Всю продукцию реализовывали через лотки на нескольких рынках и ателье-салон. Не золотое дно, но бизнес достойный. Она умерла в одночасье, и сразу пошел слух, что муж дело продает. А на днях в газете намек, мол, похоже, не сама она умерла… Понимаете?
Кому ее смерть выгодна? Наследникам. А наследник всего — муж.
Роза Дмитриевна покачала головой в тяжком раздумье и налила себе коньяку.
— Я ведь тоже замужем. И ему мои дела не по нутру. Вышел на пенсию, продал квартиру, которая от матери досталась, купил дом в деревне. Живет один, ко мне не едет. Вот я и думаю: помру, все прахом пустит.
А отписывать ребятам не могу, не по-нашему это, не по-православному, раз муж есть…
Роза Дмитриевна действительно была огорчена, почему и откровенничала со мной. Кроме того, мы были знакомы меньше двух лет, она знала меня в качестве жены Скоробогатова, и только. О моей связи с героиней ее рассказа она и не подозревала.
Выпив очередную рюмку. Роза Дмитриевна закурила длинную черную сигарету и, вдруг хмыкнув, завершила повествование:
— Сегодня встретила я этого мужа. Троицкий его фамилия. Мы знакомы, не так чтобы очень близко, но там-сям встречались. Ну другой человек. Словно его через стиральную машину пропустили: весь мятый и полинявший. Встретились мы в банке. Стояли у соседних окошек. Я на него невольно пару раз глянула. Он, видно, мой взгляд перехватил. Догнал у дверей, загородил дорогу, от злости весь дрожит.
"Что вы, госпожа Самойлова, на меня таращитесь?
Думаете, я жену убил?"
Не знаю, что на меня нашло. Посмотрела я ему прямо в глаза и спрашиваю:
«А ты убил?»
Он вздрогнул, глаза в сторону метнулись, он задом дверь толкнул и выскочил.
Я плюхнулась на ближайший стул. Сижу, а между лопаток струйка пота течет, течет…
Роза Дмитриевна залпом выпила новую порцию коньяка. Было заметно, что ее отпустило. Дама развеселилась. Увидев входящего Юру, нагнулась ко мне и заговорщицки зашептала:
— Какой у тебя мальчишечка славный. Уступишь мне, а?
Я покачала головой. Захмелевшая бизнес-вумен огорченно похлопала коротенькими, густо накрашенными ресничками и предложила:
— Не хочешь отдавать, давай меняться. У меня знаешь какой красавчик? Хочешь, позову?
* * *
Я не сразу решила, стоит ли мне звонить репортерше. Позвонила, не будучи уверена, что поступаю правильно.
Она показалась мне озабоченной, когда, выслушав мою неловкую благодарность, негромко заметила:
— Елена Сергеевна, боюсь, что вы можете пожалеть о моем вмешательстве.
— Что случилось?
— Пока ничего. Но шеф-редактор рубрики нехорошо обрадовался теме. А он у нас, как бы это попонятней сказать.., борзый очень.
Прошло несколько дней, и стало ясно, что она имела в виду.
Статья называлась «Кошелек или жизнь». В ней описывалось несколько неясных случаев смерти богатых москвичей. В частности, скоропостижная кончина владелицы «Сибири». Была приведена беседа с соседкой по подъезду, не устававшей удивляться обстоятельствам смерти и похорон предпринимательницы.
* * *
Дом малютки ремонтировали югославы. Молчаливые черноволосые мужчины прилежно и настойчиво, словно муравьи, копошились в комнатах, сновали по коридорам.
Детей на время ремонта не выселяли, просто переводили из комнаты в комнату. Сначала мебель перетаскивал персонал, состоящий на сто процентов из женщин, потом строители стали это делать сами.
Я ходила по дому с прорабом, проверяя качество и объем выполненных работ. Ремонт оплачивал фонд.
Закончив дела, я зашла в бухгалтерию.
Марина вместе с пожилой женщиной склонились над заваленным бумагами столом.
«Им нужен компьютер», — подумала я и сделала очередную пометку в записной книжке.
— Я закончила, можно ехать. — Я стояла на пороге и не хотела проходить в крошечную, душную комнату.
Марина подняла золотоволосую голову:
— Мне надо еще полчасика. Подожди в саду.
Я кивнула и вышла в сад. До него у нас еще не дошли руки. Он довольно большой, заросший и неопрятный. Листва уже побурела от пыли. Скамейка, старая, давно не крашенная, но крепкая, стоит под тополем в самой гуще кустов.
Я пробираюсь к ней и сажусь, сбросив босоножки.
Земля на вытоптанном кусочке травы перед скамейкой теплая, и босые ступни наслаждаются прикосновением к ней.
Одиночество. Это именно то, в чем я нуждаюсь. Я позволила своему лицу расслабиться, скинув ставшую привычной маску спокойствия. Какое облегчение… Уголки рта опускаются, голова повисает, плечи ссутуливаются.
Голоса. Меня ищут. Я надеваю босоножки, провожу платком по лицу, руками взбиваю прическу.
Марина тревожно заглядывает мне в лицо и, успокоенная, улыбается. Со мной все в порядке. Спокойное приветливое лицо, прямая спина, гордо откинутая голова, уверенные движения.
Из машины я позвонила Милке на работу.
— Эмилия Владиславовна приболела, — пробасила трубка, и я набрала домашний номер.
— Алло? — хрипло вопросили после пятого гудка.
— Мил, ты чего, простыла?
— Ага, ангина.
— Навестить-то тебя можно?
— Навести. Я не заразная.
— Ладно. Сейчас приеду.
— Выпить захвати. И поесть. А то Танька мне одно молоко и бананы покупает. Вычитала где-то, что при ангине полезна банановая диета. На мне проверяет, дура. А у меня за три дня уже хвост прорезался.
Юра и Марина стараются не смеяться громко, уважая мои чувства к Милке.
Обобрав универсам и овощной рынок поблизости, добираемся до родной девятиэтажки.
Юра провожает меня до Милкиной квартиры. Хотя какой от него толк, если обе руки заняты пакетами. С другой стороны, пакеты кому-то носить надо.
Милка в длинном и, конечно же, красном халате открывает дверь. Юра опускает пакеты на пол в прихожей.
— Отвезешь Марину и займи себя чем-нибудь пару часов. Поешь, что ли, где-нибудь…
Мой телохранитель кивает, выходит и остается у двери. Милка, покачивая головой и похмыкивая, запирает все замки и засовы. Юра с той стороны толкает дверь плечом. Дверь сотрясается, но выдерживает.
Милка показывает мне большой палец. Мы тащим пакеты на кухню.
— Ты прости Юру, — говорю я. — Он действует по инструкции. У кормильца — паранойя.
— Да нет, — серьезно возражает Милка, — твой Скоробогатов прав. Береженого Бог бережет.
— А ничего, что ты ходишь? Температура-то у тебя какая?
— А… — беспечно машет рукой моя подруга. — Сейчас подносик создадим да пойдем в комнату. Я лягу, и ты рядом. Жрать хочется, моченьки нет. Танька-стерва голодом морит. Я хотела Лидуню позвать, да она на даче. Правда, Лешка набивался.
Она хохочет. Я тоже смеюсь.
Без малого тридцать лет назад Лешка был Милкиным мужем. Чуть больше полугода длился их брак.
Жизнь у них не задалась с первого дня. Лешка — удалой лейтенант из «уголовки» — был горяч, ревнив и не слишком образован. Интеллигентная, свободолюбивая умница Милка не долго терпела его эскапады и отправила «Отелло» восвояси.
На этом их история кончилась. А через пять лет началась другая.
Лидуня окончила медицинское училище и работала в поликлинике медсестрой. И вот однажды к ней в процедурный кабинет пришел парень. Они долго приглядывались друг к другу, но все-таки вспомнили о своем знакомстве.
Выяснилось, что Лешка ушел из милиции и, вспомнив, чему учился в техникуме, устроился прорабом на стройку.
За все пять лет после развода Милка с Лешкой ни разу не виделись и вообще не интересовались жизнью друг друга. И все равно, когда Лешка начал ухаживать за Лидуней, та страшно переживала, не знала, как сказать Милке, и для решительного разговора с ней брала с собой Таньку.
Все это давно быльем поросло. Лидуня вырастила из Лешки хорошего мужа. Но всякий раз на общих праздниках подвыпившая Милка начинает на глазах у всех клеиться к Лешке.
Лидуня делает вид, что ей это безразлично. Лешка крутится, как уж на сковородке, и смущается. Танька злится, а Милка радуется. Каюсь, я тоже веселюсь.
Милка устроилась в подушках, хлопнула рюмашечку водочки и впилась длинными желтоватыми зубами в изрядный кусок копченой курицы. Я очистила яблоко, потом грушу, разрезала на кусочки, придвинула к Милке.
Она благосклонно взглянула на меня и стала заедать курицу ломтиками фруктов. Она так любит. Я принялась чистить апельсин.
Милка запила съеденное томатным соком и откинулась на подушки, вытирая пальцы вафельным полотенцем. Она не наелась, просто сделала передышку. Ей хотелось поговорить.
— Что ты затеяла? — спросила подруга прокурорским тоном.
— Ты о чем это? — Я притворилась непонимающей, в лучших традициях ее постоянных клиентов.
— Не дури! — прикрикнула Милка. — Газетка — твоих рук дело?
Я кивнула, отпила пива и зажевала бутербродом с ветчиной.
— Ешь с огурцом, — велела Милка.
Я послушно откусила от огурца. По-Милкиному, ветчину надо есть с огурцом, паштет — с помидором.
Ну и так далее, всего не упомнишь.
— Зачем ты его дразнишь?
— Ты сама сказала, что если он испугается, то может наделать ошибок и выдать себя.
— А он испугался?
— Очень.
— Плохо.
— Почему?
— Слишком напуганный человек становится опасным.
— Или нет.
— Или нет. Ты веришь, что он виновен в смерти Ляльки?
— А ты?
— Пожалуй.
Она помолчала, потом сделала то, что было ей совершенно несвойственно. Обняла меня и положила голову мне на плечо.
— Я боюсь за тебя, Ленка. Держись от него подальше.
«Ну уж дудки», — подумала я и кивнула Милке, поглаживая ладонью ее длинную худую спину.
* * *
— Привет!
— Привет! Ты откуда звонишь? Из Берлина?
— Из дома.
— Тогда чего ночью? Часовые пояса перепутал?
— Да нет, я тебе с самого утра звоню. Как контору навестил.
— А что случилось?
— «Сибирь» покупает исключительно крутой пацан. Мой человек больше не может тянуть процедуру вступления в наследство…
— Что мне делать? Я не успеваю. Еще хотя бы пару недель…
— Исключено. Дней пять — семь от силы.
— Спасибо.
— Не за что. Не знаю, что уж ты там задумала, но все равно — удачи тебе! Целую.
— Я тебя тоже. Марине привет.
* * *
— Господи! Как же я устала! — сказала Клара и вздохнула мне прямо в ухо. Я немного отстранилась от телефона. — Он совсем обезумел. Готовит фирму ч( продаже. На нас рычит как зверь. Никому не доверяет.
Ирку выгнал из приемной. На коммутатор посадил Сюткину. Она всегда ему наушничала. Я теперь не смогу вам звонить с работы. Вы позволите в случае необходимости звонить вечером?
— Конечно, Клара, звоните всякий раз, когда захочется, даже если не будет повода.
* * *
Утром господин Скоробогатов брюзгливо сообщил мне, что недельный аналитический отчет не содержал ни анализа информации, ни самой информации.
Это было не правдой. Отчет, подготовленный нашей аналитической группой, был неплох. Я его прочла.
Костино недовольство мне понятно. Я в работе над отчетом не участвовала. А должна была. Господин Скоробогатов не переносит, когда манкируют должностными обязанностями.
Поскольку приходилось признать правоту кормильца, я покаянно потерлась носом о его шею, выпрашивая прощение.
Господин Скоробогатов ласку принял, но до конца меня не простил. Отбыл на работу суровый и насупленный.
Переполненная раскаянием и чувством вины перед персоналом офиса, я закопалась в куче газет и журналов на разных языках, отмечая что-то для себя, а что-то занося в компьютер для последующих отчетов.
Работа была привычная и, пожалуй, любимая. Но в это утро она меня не захватывала. Мысль то и дело соскакивала с того, чем мне надлежало заниматься.
Но вот стрелки на старинных напольных часах расположились в нужной мне позиции. Я бросила компьютер и набрала телефонный номер.
— Клара, это Елена Сергеевна, как дела?
— — Все по-прежнему, — сдержанно ответила Клара, не скрывая удивления, вызванного моим звонком.
— Что с продажей? — приставала я.
— Пока ничего. Какие-то сложности с наследованием. Прошел слух о наличии завещания.
— Откуда слух?
— Неизвестно, вроде от нотариуса. Но никакого завещания не обнаружено.
Кларин голос звучал все более сухо, но я никак не могла отвязаться.
— А где искали?
— О Господи! Ну откуда же я знаю? Наверное, везде.
— А ее сейф в нашем банке?
— А разве был сейф? — заинтересовалась Клара и, судя по характерному щелчку в трубке, кто-то еще.
— Да, конечно.
— Елена Сергеевна, я сейчас очень занята.
Клара довольно ясно давала понять, что разговор неуместен. Я соизволила наконец догадаться.
— Хорошо, Клара, извини. Я позвоню позже.
Я посидела, полюбовалась телефоном, размышляя, позвонить Яковлеву или нет. Идея распустить слухи о завещании принадлежала ему. Он сам и мы все рассказали о якобы существующем завещании всем, кому могли.
«Сибири» слух достиг в течение недели. Хорошо.
Решив не отвлекать от работы ни Яковлева, ни себя, я с чувством глубокого сожаления рассталась с телефоном.
После некоторого раздумья я сходила на кухню попить водички из-под крана и снова сделала попытку начать работать.
Журналы и газеты все так же громоздились на столе, экран дисплея приветливо и приглашающе светился.
Повозившись на стуле, я нашла положение, показавшееся наиболее удобным, и, придвинув к себе один из журналов наугад, приступила к чтению.
* * *
Время шло. Я трудолюбиво таращила глаза, стараясь уловить смысл прочитанного. Смысл с завидным упорством ускользал.
Я приходила в отчаяние, потом в бешенство, снова в отчаяние… Через какое-то время заставляла себя успокоиться и предпринимала очередную попытку начать работать.
Зажав ладонями уши, я с тупым упорством в третий раз прочла короткую английскую фразу и наконец поняла ее смысл. Почти одновременно поняла, что фраза написана по-французски.
Волна бешенства накрыла меня. Я размахнулась и что было сил метнула журнал в сторону двери.
Именно в этот момент дверь открылась. Журнал летел прямехонько в лоб Юры. Я, оцепенев, наблюдала полет, не в силах ни крикнуть, ни зажмуриться.
Юра ловко поймал трепещущий листочками журнал и спокойно сунул под мышку.
— Елена Сергеевна, там пришли.
Я продолжала злобиться, поэтому спросила строго:
— Кто пришел?
Юра ответил подчеркнуто безразлично:
— Михаил Павлович Троицкий.
Мои злобно выпученные глаза выпучились еще больше. Просто вылезли из орбит. На лице Юры появилось озабоченное выражение. Он оставил свое место у двери и, сделав несколько шагов, остановился около меня, по-прежнему с журналом под мышкой.
— Ну что ж, зови! — решительно приказала я.
Юра помедлил, задумчиво разглядывая мое лицо, и направился к двери. Я остановила его:
— Положи журнал.
Юра вернулся к столу, аккуратно положил журнал передо мной и не спеша вышел.
Я провела ладонями по лицу, двумя руками взбила волосы. Волнения не было. Я была готова к встрече. И знала, что и как буду говорить и делать.
Я стала спиной к окну, прямо напротив двери, и смотрела, как Миша входит в комнату. У меня не было никакого желания скрывать свои чувства. Я смотрела на него исподлобья, с выражением недоброжелательного ожидания.
Мишино лицо тоже выражало истинные чувства.
Неприязнь, агрессию и страх. Он старался спрятать страх как можно дальше, но прищур голубоватых глаз и невольно прикушенная нижняя губа выдавали его.
Юра тоже вошел в комнату и теперь стоял за Мишиной спиной.
Я взглядом велела парню уйти. Он упрямо набычился, поджал губы в ниточку и отрицательно мотнул головой.
Я сурово нахмурилась, он сдался и повернулся, чтобы уйти. Но, уже взявшись за ручку двери, предупредил нашего гостя:
— Я буду за дверью.
— Да ради Бога, — расплылся в улыбке Троицкий. — Хоть под дверью.
Проводив Юру взглядом, обратился уже ко мне:
— Твоя овчарка меня не любит.
Я пожала плечами, разглядывая зятя. Сегодня он был в полном порядке и похож на себя всегдашнего.
— Зачем ему? Юра с тобой под венец не собирается.
— Да? — ехидно прищурился Миша. — А мог бы. Он холост, я вдов, оба свободны. А как я слышал, его пристрастия…
— Мы будем обсуждать сексуальную ориентацию моего телохранителя?
Я села в кресло, кивнула Мише на такое же по другую сторону журнального столика. Зять тут же сел, поддернув брюки, и, словно защищаясь, выставил вперед ладони.
— Ни Боже мой. Хотя, конечно, небезынтересно, почему господин Скоробогатов доверяет тебя именно ему. Боится, никто другой не устоит перед твоими чарами?
Он откровенно издевался надо мной. Я оставалась спокойной. Разговор не задевал меня. Мои мысли были заняты другим.
— Мы обсудили моего охранника и моего мужа.
Теперь, очевидно, следует поговорить о погоде и о собаках. После чего ты сможешь откланяться.
— Ты хочешь, чтобы я ушел? — не поверил Миша.
— Хочу.
— Даже не узнав, ради чего я здесь?
— Даже.
Он поерзал в кресле, провел ладонью по редеющим белокурым волосам. Мое безразличие сбило его с выбранной линии поведения. Но Троицкий еще не сдался.
— Угости меня своим кофе, и я все тебе расскажу.
Он вытянул скрещенные ноги и усмешливо взглянул на меня. По-доброму, как казалось ему, по-шакальи, как видела я.
— У тебя есть пять минут. Хочешь — говори, хочешь — выметайся молча.
Миша надулся, глядя куда-то мне за плечо. Я просто слышала, как прокручиваются шестеренки у него в голове.
Мише нужен был скандал. Он надеялся получить информацию, для чего стремился вывести меня из равновесия, считая, что, потеряв над собой контроль, я сообщу ему что-то важное. План сорвался, и теперь он лихорадочно придумывал новый.
— Ну все. Ты у меня побывал. Теперь уходи.
Троицкий послушно встал и задумчиво покачался с пятки на носок.
Несмотря на невысокий рост и явно избыточный вес, выглядел он неплохо. Да нет, выглядел он хорошо: был молод и привлекателен. Некоторая нервозность не портила его. Наоборот, окрашивала румянцем бледноватые щеки.
Я так ненавидела его, что могла оставаться спокойной в его присутствии. Ничто не могло ни убавить, ни прибавить силы моему чувству.
Миша колебался, и в какой-то момент я испугалась, что он и впрямь уйдет. Этого нельзя было допустить, и я, стремясь вызвать в нем чувство протеста, еще нажала на него:
— Уходи! И запомни: ты был здесь в последний раз. Больше тебя в мой дом не пустят.
— Почему это? — вскинулся Троицкий, обрадованный возможностью продолжить разговор в тайной надежде вызвать меня в конце концов на скандал.
— Ты знаешь.
Я пошла навстречу его желаниям и дала втянуть себя в перепалку.
— Ты что, по-прежнему носишься с этим бредом?
— Что ты называешь бредом? — все больше втягивалась я, словно нехотя поддерживая разговор.
На самом деле я, кажется, впервые в жизни так тщательно подбирала слова. Миша должен был сказать и услышать то, что я хотела. И при этом думать, что драма разыгрывается по его сценарию. До поры до времени. Он так и думал, поэтому, дразня меня, насмешливо выговорил:
— Твою идею, что я убил свою жену.
На мгновение я выпала из кадра, не в силах проглотить простую фразу, произнесенную столь обыденно, и молчала, глядя прямо в его гладкое, красивое, несколько женственное лицо. Миша тоже смотрел прямо на меня и что-то увидел, потому что в его зрачках мелькнул страх и убавилось уверенности в голосе.
— Я не убивал Лялю. И никто не убивал. Она умерла от болезни.
— Или от укола…
— Чушь! Лекарства прописаны врачом.
(Да. О враче я почти забыла. Что там Милка накопала?).
— А дозировка?
— А что дозировка? — Он затаился.
— Сам знаешь…
— Нет, я не знаю.
— Зачем ты пришел? Еще раз услышать, что я считаю тебя убийцей своей дочери? Считай, услышал.
— Ты сумасшедшая.
— Нет.
— Да. Твое место в дурдоме.
— А твое в тюрьме.
Он начал заводиться, но еще сдерживался.
— Это ты устроила заметку в газете?
— А если не я?
— Тогда кто?
— Кто-то, кто думает как я.
— Твои придурочные подружки?
— А если нет?
Я откровенно дразнила Мишу, и он попался. Его лицо побагровело, глаза вытаращились.
— Кто же, если не вы?
— Видимо, существуют люди, которым происшедшее кажется подозрительным. Я их не знаю, но обязательно познакомлюсь и тогда…
— Что тогда? — зашипел он побелевшими от бешенства губами и сжал кулаки. — Никто ничего не докажет. Никогда.
У меня закружилась голова. Если то, что я услышала, не признание… Лялька, Лялька, доченька, девочка моя.
Я на мгновение закрыла глаза, открыла их и, глубоко вздохнув, покачала головой:
— Я тоже так думала. — Голос плохо слушался меня.
— А теперь не думаешь?
Ему почти удалось справиться с собой. Это помогло и мне взять себя в руки. Я еще раз глубоко вздохнула.
— Когда я думала, что тебе удалось «идеальное» убийство, — словно не слыша его, продолжала я, не отводя глаз от своих сцепленных на столе рук, — даже тогда я поклялась себе, что ты не останешься безнаказанным. Газетная заметка — пробный шар. Я поделилась бы своими подозрениями со всей страной через газеты, журналы, телевидение… Я употребила бы все деньги моего мужа, его влияние, связи, всю свою энергию, чтобы вбить в головы людей твой образ женоубийцы. Ты бы ездил из города в город, из страны в страну, но везде на тебе было бы клеймо подозреваемого в убийстве.
Я подняла на него глаза и увидела, как он напуган.
Он снова сел в кресло. Но сейчас он рассыпался от страха, распался на отдельные фрагменты. И я добила его:
— Но теперь ничего этого не понадобится. Твое преступление перестало быть «идеальным». У него есть свидетель.
Его лицо обрюзгло, постарело и дрожало, как холодец. Он пытался что-то выговорить, но из его полуоткрытого рта вырвался только хрип.
— Этот свидетель — моя дочь. Она передала мне привет с того света. И теперь твоя песенка спета.
Его страх достиг такого уровня, что сделал его безрассудным. Он боролся с желанием поверить мне.
— Это бред! — Мужчина подобрался, подался вперед. — Если бы ты могла, ты бы уже звонила в милицию.
— Я позвоню. Обязательно. Теперь я знаю, где находятся доказательства, и как только получу их, для тебя все будет кончено.
— Ты лжешь! Тебе нравится пугать меня.
— Чего тебе бояться? Если ты не виноват…
— Прекрати, — тихо попросил он. — Где твои дурацкие доказательства?
— Конечно, в ее сейфе в Сигма-банке, — рассмеялась я.
— У нее не было сейфа, — неуверенно возразил Миша.
Я промолчала. Через некоторое время он спросил, все еще не веря мне:
— Откуда ты знаешь о сейфе?
— От Ляльки.
— Ты знаешь шифр?
Он мне поверил.
— Скоро узнаю. — Я словно случайно скосила глаза на стоящую на письменном столе фотографию. Я сделала это не в первый раз. И Миша тоже не в первый раз проследил за моим взглядом. Но в его глазах не мелькнуло ни искры интереса.
Ну что мне теперь, пальцем, что ли, тыкать?
Я еще раз покосилась на фотографию, перехватила Мишин взгляд, смутилась, поспешно отвела глаза и попыталась закрыть фотографию спиной.
* * *
За пятнадцать лет до происходящих событий Лялька и несколько ее друзей-второкурсников после стройотряда решили недельку отдохнуть у нас в деревне. Я поехала с ними их кормить.
Это было веселое время. С первой минуты ребята затеяли игру в детективов, все время прятали (прятались) — искали, устраивали тайники.
Самым лучшим был Лялькин тайник на голубятне. Чтобы достичь его, надо было залезть на самый верх голубятни и, придерживаясь за перекладину, вытянуться во весь рост, повиснув на высоте третьего этажа, и сунуть руку под стреху. Трюк был непростой и отнюдь не безопасный. Перекладина держалась на ржавых болтах, а у подножия голубятни лежала невесть откуда взявшаяся бетонная плита.
Этот тайник был предназначен только для Ляльки и Миши. Тогда начинался их роман.
Я подсмотрела, как они тайком от остальных пробирались на голубятню и, зависнув над бездной, лезли под стреху, и потом обливалась холодным потом, представляя, что будет, если вылетит болт из перекладины, когда Лялька, держась одной рукой за ненадежную перекладину, другой полезет под стреху.
* * *
Миша наконец обратил внимание на мои маневры и теперь с интересом смотрел на фотографию. Она была ему знакома и сделана пятнадцать лет назад.
Мы с Лялькой стояли и смеялись. За спиной у нас высилась голубятня.
Снимок хранился у Ляльки. Он нравился нам обеим. Я хотела его забрать, а она не отдавала.
В день похорон я видела его на столе у Лялькиной постели. Видимо, он был среди тех фотографий, в которых Лялька искала утешения в свои последние дни. А потом Клара отдала его мне.
Ремонт в Доме малютки закончился и удался на славу. Стены вместо привычной масляной краски были оклеены бело-голубыми обоями, грязно-коричневый линолеум на полу сменило утепленное моющееся покрытие серого цвета.
Кроватки сделали на заказ на мебельной фабрике в Рязани. Рабочие, насидевшиеся без работы и зарплаты, взялись за дело с охотой и любовью. А уж когда узнали, для кого кроватки, постарались на совесть.
Геннадий, помогающий фонду в качестве юриста, нашел возможность достойно оплатить работу. У рязанских мебельщиков был праздник. У маленьких социальных сирот тоже.
А этот малыш был не социальным, а настоящим сиротой. Его мама, едва покинув детский дом, забеременела от известного только ей мужчины и умерла во время родов.
А он выжил. И сейчас стоял, чуть покачиваясь на кривеньких ножках, крепко держась за кроватку крошечными пальчиками.
Мальчик смотрел на входящих в комнату женщин в белых халатах. На бледном худеньком личике синие серьезные глаза занимали ровно половину. Редкие черные волосики топорщились на круглой головке. Застиранная голубая рубашонка была его единственной одежкой.
Все другие дети спали в кроватках. Кроватки стояли в два ряда вдоль стен, оставляя широкий проход.
Мальчик не спал и смотрел на нас. А мы смотрели на него. Заведующая рассказывала мне его историю:
— Его мать тоже была помещена в Дом малютки сразу по рождении. Отец неизвестен, мать — несовершеннолетняя воспитанница интерната. Так что наш Костик — потомственный сирота.
В голосе женщины не было удивления собственным рассказом. Чему здесь удивляться? Государственный ребенок в третьем (а может быть, четвертом?) поколении. Дело житейское.
Я смотрела на крошечного птенца и думала: суждено ли ему прервать цепь сиротства? Или его дети тоже станут сиротами при живых родителях?
Костя тоже смотрел на меня. И глаза у него были такие же, как у его тезки. Вдруг эти глаза стали еще более похожи из-за появившегося в них выражения.
Малыш улыбнулся, показав два довольно длинных нижних зуба, протянул в мою сторону руку и, глядя на меня узнавшими глазами, уверенно выговорил:
— Мама.
* * *
Я сидела, вжавшись в спинку сиденья, и тихо плакала. Слезы текли и текли по лицу. Я подбирала их платком. Платок совсем вымок и не собирал влагу с лица, а только размазывал ее.
Юра молчал, а поскольку он молчал всегда, меня это не тяготило. Закончив плакать, я открыла окно и подставила лицо встречному ветру. Закрыла глаза и какое-то время просто сидела. Ни о чем не думала, ничего не хотела.
* * *
В свои без малого два года она еще почти не ходила, но была спокойная и улыбчивая. Ее улыбка открывала короткий ряд острых зубов. А на щеках прорезались ямочки. Волосики пахли кипяченым молоком.
На ней было не по размеру большое, застиранное, ситцевое сиротское платье. Она сразу протянула мне руки, и я прижала ее к себе, теплую, легкую.
А старенькая ее бабушка утирала глаза концом головного платка и говорила:
— Ну вот и мамка приехала. Леночка, скажи:
«Мама».
И дочка, перебирая пальчиками мои дешевенькие бусы из искусственного янтаря, пролепетала:
— Мама!
История рождения моей девочки трагична и одновременно банальна.
Двое молодых людей встретились в чужой деревне, в чужом доме, у чужих людей. Их толкнула друг к другу не любовь и даже не влечение — потребность в человеческом тепле, боязнь одиночества.
Сережа был близок с племянницей своей квартирной хозяйки несколько раз, о браке не думал, ничего ей не обещал. Закончив работу, уехал, через некоторое время получил письмо от старой женщины. Девушка не сразу решилась открыть свою беду, что-то делать было поздно. Ляльке суждено было явиться на свет.
Сережа расписался с матерью своего будущего ребенка и стал посылать ей деньги.
Он приехал, когда Лялька родилась, сразу ее полюбил и почти каждую неделю приезжал навещать свою дочку.
Может быть, между молодыми людьми со временем зародилось бы чувство, но когда ребенку исполнилось три месяца, ее мать заболела крупозным воспалением легких и умерла.
Девочку отдали в Дом малютки. Ровно через год Сережина мама поехала навестить внучку и сразу забрала ее оттуда. К этому времени девочка весила десять килограммов, не говорила и не ходила.
Не знаю, что чувствуют женщины, обнимая рожденных ими детей. Я всегда чувствовала страх. Страх за жизнь, здоровье, благополучие маленького, доверчивого человека.
Так Лялька вошла в мою жизнь. Слишком молодая и слишком влюбленная, я не задавалась вопросом, как мог Сережа решать мою судьбу, не спросив меня. Напротив, его поступок казался мне свидетельством веры в меня. Я гордилась этой верой и была готова оправдать ее.
Поглощенные друг другом и своими переживаниями, мы с Сережей не подумали, что будет дальше.
Проведя месяц, отпуска в родной Сережиной деревне, где для всех я была наконец-то приехавшей легкомысленной Лялькиной матерью, мы вернулись домой. Здесь нас ждало первое испытание. Славик, сурово насупив брови, неприязненно смотрел на ребенка.
Со временем он убедился, что я счастлива, но так никогда и не простил Сережу и не принял его дочь. Мой брат молчал, а дочка сторонилась своего хмурого дяди.
С Танькой же проблем не возникло. Она досиживала последние декретные месяцы, оформляла Пашку в ясли и во всем помогала нам. Пока я бегала, оформляя документы на удочерение, добиваясь места в яслях и ставя дочку на учет в детской поликлинике (на это ушла чертова уйма времени). Танька сидела в няньках с племянницей и легко управлялась с двумя погодками.
Это она на вопросы бабок во дворе: «Чьяй-то у вас девочка такая?» — дерзко вскидывала голову с высоко взбитыми черными кудрями:
— Наша. Ленкина дочь!
По нашему поселку поползли слухи, но со временем, не имея подпитки, они утихли. Милка, работавшая секретарем у начальника районного отделения милиции, помогла быстро и предельно секретно выправить чистые метрики, и зажили мы с Лялькой тихо и счастливо.
Сережа оказался не семейным человеком. Большую часть времени он проводил в экспедициях, а дома, несмотря на всю любовь к нам, томился и рвался на простор.
Первый звоночек прозвучал примерно лет через десять. Однажды Лялька спросила:
— Мам, что значит «привенчанный»?
Лялька была великой мастерицей задавать самые удивительные вопросы, я же взяла за правило на все отвечать.
— Раньше, если ребенок рождался до брака, родители при венчании ставили его рядом, и он считался законным. Обе дочери Петра Первого были привенчаны. А где ты слышала это слово?
Я спросила просто так, но ответ лишил меня покоя на долгое время.
— Мы с девчонками после школы пошли к гастроному за мороженым, и там какая-то бабушка показала на нас другой и сказала: «Вишь, девочка-то привенчанная». Только не знаю про кого. Нас много было.
Прошло еще три года, и Лялька, прямо с порога. спросила, глядя на нас с Сережей:
— Правда, что папа мне не родной?
А потом, после разговора с Сережей, она пробежала мимо меня с залитым слезами лицом, слепо ударилась о дверь и выбежала из квартиры.
Я помню ее потерянное, помертвевшее лицо, помню, как раскачивалась дверь, как я бежала за ней, потом ехала на электричке, сидела на крылечке, моля Бога оставить мне дочку.
Она вышла из дома и упала мне на руки, и долгие годы мы не говорили ни о чем и были близки, как только могут быть близки мать и дочь.
А потом, в пылу ссоры, не помня себя. Лялька выкрикнула:
— Если бы ты была мне родной матерью…
И осеклась, испугавшись…
* * *
Наша машина уже давно ехала по Москве.
Я достала косметичку и привела в порядок лицо.
Мне казалось, я ни о чем таком не думаю, просто перед внутренним взором стояли синие глаза в щеточках черных ресниц. Серьезные и доверчивые. Чьи? Костины? Но какого Кости? И сладкий лепет: «Мама».
* * *
Случилось так, что Лялька осталась моим единственным ребенком.
Сережа не хотел других детей. Может, боялся, что буду меньше любить Ляльку. Он очень тщательно предохранялся, но, когда Ляльке было пять лет, я все-таки забеременела.
Мы с дочкой были счастливы. Ждали. Иногда мечтали о девочке, иногда о мальчике. Придумывали имена.
Я была на четвертом месяце, когда Лялька принесла из детского сада краснуху и заразила меня.
Врачи настаивали на аборте, пугали, что ребенок родится слепым идиотом. Сережа присоединился к ним:
— Как ты будешь жить, видя его муки?
Я согласилась. Пережила весь физический и душевный кошмар. Операция прошла неудачно, после нее я не чувствовала себя здоровой ни одного дня в течение двадцати лет.
Больше я не беременела. Странно, когда угроза беременности миновала, наша постельная жизнь иссякла.
Постаревший Сережа, выпивая с друзьями на кухне, слезливо жаловался:
— Знали бы вы, что такое прожить жизнь с женщиной, не способной стать матерью.
Но я не чувствовала себя несчастной. У меня была моя дочка. Она мне всегда очень нравилась. Я любила ее и знала, что она любит меня и предпочитает всем другим людям на белом свете.
И Сережу я любила. Он был хорошим мужем.
Заботливым и надежным. Меня устраивало в нем все, даже то, что он не слишком ласков и любящ.
Я любила Сережу за тот подарок, который он сделал мне, — за мою дочку.
* * *
Юра по-прежнему молчал. Позже, когда я буду вспоминать эту поездку, мне покажется что-то необычное в его молчании. Я вспомню, как, глядя сзади в его спину, обратила внимание, что он чаще обычного передергивает плечами и гнет вперед шею, словно от внутреннего беспокойства.
Потом он откроет мне дверцу машины, и я увижу огонек тревоги в его глазах. А может быть, все это я просто напридумывала, копаясь в воспоминаниях, пытаясь что-то понять, вернуть?
Нет, тогда я ничего не почувствовала. Вышла из машины и пошла к нашему офису. Я шла не спеша, давая Юре возможность закрыть машину и занять свое место за моим правым плечом.
Я не смотрела по сторонам и успела сделать всего пару шагов, когда большое Юрино тело выросло передо мной. Я ткнулась в каменную спину носом, невольно ухватилась за него рукой.
— Какого черта… — начала я гневно и вдруг почувствовала, что Юра валится на меня, и я, не понимая происходящего, просто испугавшись, что он упадет, попыталась поддержать его.
Он был тяжелый и становился все тяжелее, и я не могла удержать его и старалась только как можно мягче опустить на асфальт.
Это длилось секунды. Я сидела, чувствуя, как по моим рукам течет горячее и липкое. Поверх распростертого на моих коленях Юры я видела его. Убийцу.
Он был в голубом джемпере и в белых джинсах. В обеих руках, опущенных вниз, он держал пистолет с глушителем.
В наше время благодаря американскому кино каждая домохозяйка узнает этот предмет. Я тоже узнала.
Я не почувствовала испуга. Просто смотрела в знакомое лицо. Наши глаза встретились. Его были белыми от безумного страха. Он пошатнулся, сделал шаг назад и, отбросив пистолет, бросился бежать.
Выстрела на шумной улице с оживленным движением никто не слышал. Все произошло мгновенно. Люди на улице не видели или не поняли. Или испугались.
Никто не мешал убийце убегать.
Я сидела на тротуаре, прижав к себе Юру, и смотрела на удаляющееся голубое пятно.
* * *
Охранник офиса заметил, как мы подъехали, и вышел навстречу. Сейчас он бежал ко мне, что-то крича по рации.
Я подняла руку и указала ему в сторону убегающего человека, с моих пальцев капала кровь.
Охранник побежал через улицу, продолжая на бегу кричать в прижатую к губам рацию. Следом сорвалась только что подъехавшая машина. Раздались крики, свистки, закружился людской водоворот.
Около меня начала собираться толпа. Какие-то люди пытались отнять у меня Юру.
Кто-то пронзительно кричал: «„Скорая“! „Скорая“!»
Я увидела белые рукава. Рукава потянулись к Юре.
Я попыталась отстранить их, выставила локоть и крепче прижала ладонь к красному пятну на широкой груди.
Пятно разрасталось, и разрастался внутри моей души ужас, заполняя ее всю.
Спокойный голос где-то совсем рядом приказал:
— Позвольте мне помочь ему.
Я не позволила, и голос добавил, объясняя:
— Я врач. Я помогу ему.
Я не сразу поняла, и поверила тоже не сразу. Казалось невозможным убрать руку с красного пятна. Голос продолжал настойчиво убеждать меня.
Я поверила и отдала ему Юру. Но сначала нагнулась и поцеловала его в лоб.
Он открыл затуманенные, невидящие глаза, прошептал:
— Лена.., жива.
И мы оба потеряли сознание.
* * *
Сознание возвращалось ко мне медленно. Просто мозг отказывался включаться, не желая вспоминать, не желая участвовать в кошмаре происходящего.
Когда же это все-таки произошло и воспоминания навалились на меня, главными чувствами оказались усталость и страх. Юра…
Я открыла глаза и установила, что лежу на диване в кабинете мужа.
Сам Костя стоял на коленях у моего изголовья. Я близко увидела его бледное, встревоженное, постаревшее лицо. Он вздохнул, встретив мой взгляд:
— Как ты?
— Нормально. Юра жив?
'Костя кивнул и вдруг уткнулся лицом мне в грудь.
Я с трудом подняла непослушную руку и положила на его вздрагивающее плечо.
Незнакомый дрожащий тоненький голос откуда-то сзади проговорил, всхлипывая:
— Юру увезли в больницу. С ним поехал Олег.
Все сидят в конторе, ждут, когда он позвонит. Начали подъезжать те, кто сегодня не работает, на случай, если в Склифе не хватит донорской крови.
Героическим усилием повернув гудящую голову, я обнаружила источник звука. Вера Игоревна, заплаканная, с растерянным взглядом, не похожая на себя. Неудивительно, что я не узнала ее голос.
Выяснилось, что, кроме нее, в комнате находился еще один человек. Немолодой кряжистый мужчина в белом халате. Он стоял у стола, что-то убирая в саквояж.
Вот что означает боль в левом предплечье. Мне сделали укол.
Врач приблизился к дивану, подождал, пока господин Скоробогатов поднимется с колен и отойдет в сторону, взял мое запястье, глядя на свои наручные часы, посчитал пульс.
Бережно опустив мою руку, мужчина благожелательно мне кивнул и, заявив:
— Она в порядке, — направился к двери.
Мы все трое сказали спасибо сутуловатой спине.
Спина промолчала и скрылась за дверью.
— Его не удалось догнать?
Я спросила о том, что меня беспокоило почти так же, как жизнь Юры. Костя понял, о чем я говорю.
— Нет. Он скрылся где-то во дворах. Милиция ищет.
— А здесь есть кто-нибудь из милиции?
— Да. Капитан с Петровки ждет, когда с тобой можно будет поговорить.
— Уже можно. Вера Игоревна, попросите его зайти минут через пять.
Она повернулась идти, но я остановила ее:
— И еще, пожалуйста, найдите и передайте с ним досье по Юрмале.
Вера вышла. Я села на диване, поправляя одежду и прическу.
Костя сел рядом, внес свою лепту, погладив меня по голове и застегнув одну из пуговок на платье.
— Ты думаешь, это Пуппинь?
Я не ответила, обняла мужа за шею, заглянула в глаза:
— Костенька, у нас будет ребенок.
В синих глазах метнулся ужас. Я невольно улыбнулась.
— Я не сошла с ума. Нашего сына зовут Костя.
Ему семь месяцев. Он очень похож на тебя.
Я отвернулась от потрясенного мужа, чтобы дать ему возможность переварить услышанное. В это время дверь открылась, и я встала навстречу входящему в комнату мужчине.
Милиционер выглядел лет на тридцать и казался усталым, много повидавшим и ко всему готовым.
Я протянула ему руку, он пожал ее, явно смиряя силу, и назвал себя.
Я вернулась на диван к Косте и предложила сесть вошедшему, где ему удобнее. Он огляделся, выбрал один из стульев и, поставив его напротив меня, сел, устойчиво расставив ноги.
Дождавшись его взгляда, я заговорила:
— Этого человека зовут Влад. Очевидно, Владислав. Фамилия либо Прохоров, либо Прохоренко. Он живет в Риге. Работает на человека по фамилии Пуппинь. У нас есть его фото.
Милиционер по-прежнему прижимал к боку папку, которую принес с собой. Он смотрел на меня с хмурым удивлением и не сразу понял, чего я хочу, когда я потянула папку за уголок.
Получив папку, я раскрыла ее, и из конверта, прикрепленного к внутренней стороне обложки, достала пачку фотографий. Перетасовав их, одну протянула капитану.
Снимок был сделан мной в Женеве из окна отеля.
На фоне машины стояли два парня. Я ткнула пальцем в левого, щеголеватого белокурого красавца.
* * *
— Алло?
— Елена Сергеевна? Это Бронштейн. Добрый вечер.
— Левушка, голубчик! Вас сам Бог послал.
— Как вы? Я слушаю в машине радио. Только что в «Новостях» передали про покушение…
— Спасибо за звонок. Я уже сама вам звонила. И домой, и на работу. Вас нигде нет.
— Что случилось? Вам нужна моя помощь?
— Да. Левушка, они меня не пускают!
— Кто не пускает? Куда? Ну-ка возьмите себя в руки и объясните толково.
— Да. Сейчас.
Я несколько раз глубоко вздохнула и, кажется, действительно взяла себя в руки.
— Лева, мой телохранитель помещен в реанимационное отделение. Меня к нему не пускают.
— И не пустят. Существует правило. В реанимацию допускается только персонал отделения.
— Но что же мне делать? Я должна его увидеть.
Сделайте что-нибудь. Пожалуйста, помогите мне! Они никого не слушают. И денег не берут.
— Хорошо. Я ничего не обещаю, но попытаюсь.
Позже позвоню. Держите себя в руках.
Не знаю, что он сделал, но мне позвонил сам заведующий отделением и сухо сообщил, что завтра после обеда меня пропустят к их пациенту.
— Не более пяти минут. — И, не слушая мои всхлипы и благодарный лепет, отключился.
Олег повез меня сам. Влад все еще скрывался. А возможно, он покинул Москву, хотя милиция заверила нас, что делает все возможное.
Никто и не сомневался.
Я понимала, как господину Скоробогатову хочется запереть меня в «домушке» под охраной взвода автоматчиков. Но он молчал. И когда я собралась в больницу, тоже ничего не сказал. Только вскинул на меня несчастные серые глаза.
Конечно же, Олег поехал со мной совсем не потому, что не доверял своим ребятам. Просто он надеялся прорваться к Юре. Но Олега не пропустили в отделение. Он остался в коридоре, а я вошла, и дверной замок щелкнул за моей спиной.
Не помню, как и куда я шла. Не помню, как выглядели помещения. Я просто шла, не глядя по сторонам, и остановилась, увидев Юру.
Юра лежал на непонятном высоком ложе и был опутан проводами и трубками. Его неподвижное тело напоминало огромную муху, запутавшуюся в гигантской паутине.
Он был без сознания. Прикрытая простыней грудь поднималась редкими толчками.
Я сделала шаг к изголовью и с болью вглядывалась в знакомое лицо. Оно казалось чужим. Бледное, невероятно худое, с черными провалами глазниц. Изо рта и носа куда-то в сторону тянулись тоненькие трубочки-катетеры.
Юра выглядел беспомощным и беззащитным. И еще очень юным.
Я с щемящей болью смотрела на моего спасителя, и во мне зрел протест.
— Юра, не умирай. Слышишь, мальчик? Вернись ко мне. Пожалуйста. Ты нужен мне. Прошу тебя, Юра!
Я прошептала свою просьбу истово, как молитву.
Женщина-фельдшер положила мне на локоть теплую жесткую ладонь и вывела из палаты.
Олег обнял меня, и я уткнулась лицом ему в плечо.
Мы постояли так какое-то время, и я услышала голос фельдшера:
— Не плачьте, женщина. Может, еще выкарабкается ваш парнишка. Я здесь за двадцать лет чудес навидалась. Да и доктор говорит: «Раз до сих пор не помер…»
* * *
Прищурив яркие глаза, полковник Ершов в упор, не скрываясь, разглядывал меня.
Я, в свою очередь, разглядывала полковника. Посмотреть было на что.
Сидящий передо мной мужчина оказался победительно-красив. Темные горячие раскосые глаза, нос без изъяна, смуглая гладкая кожа и неожиданно нежные, пухлые, слегка надутые губы. Над высоким лбом копна жестких волос «перец с солью». Стройная шея, широкие плечи, сильные руки.
Вот это экземпляр! Не ожидала встретить такого в МУРе. Вообще не верила, что подобные водятся в живой природе.
На первый взгляд я определила его возраст в районе сорока, приглядевшись, поняла — ближе к пятидесяти.
Наглядевшись на меня и, очевидно, составив обо мне мнение, полковник скучным, но приятного тембра голосом задал мне стандартные вопросы.
И получил стандартные ответы.
Покончив с рутиной, Ершов отложил ручку и немного отодвинулся от стола.
Я поняла, что настало время «неформальной беседы». Все повадки моего собеседника выдавали в нем большого «знатока» женской души. И похоже, его жизненный опыт приучил полковника относиться к своей внешности как к беспроигрышному аргументу в дискуссиях с дамами (особенно предпенсионного возраста).
Я позволила себе расслабиться, когда полковник начал разговор в манере «крутого интеллигента» (если такие возможны).
— Вы по-прежнему утверждаете, что в Куликова стрелял именно этот человек?
Ершов повернул ко мне фотографию, лежащую перед ним. Я взглянула на нее и кивнула.
— Вы знакомы с ним?
Я снова кивнула. Полковник едва заметно поморщился, недовольный моим немногословием.
— Как давно?
Пришлось открыть рот. Можно было, конечно, показать на пальцах, но я решила заговорить:
— Менее двух месяцев.
Полковник обрадовался, услышав мой голос, и поспешил использовать согласие говорить.
— Где и при каких обстоятельствах вы познакомились?
— В Женеве. Совершенно случайно.
— Как в дальнейшем развивались ваши отношения?
— Никак. Отношений просто не случилось.
— И тем не менее вы уверены, что в Куликова стрелял именно он.
— Уверена. Стрелял именно он, но не в Куликова, а в меня. Юра меня прикрыл.
— Почему?
— Потому что охранять меня — его работа. Юра — профессионал.
— Нет, почему этот человек стрелял в вас?
— Вы полагаете — я это знаю?
— Уверен.
— А я не уверена. Хотя предположения у меня есть.
— Поделитесь со мной?
— Пожалуй.
Я помолчала, собираясь с мыслями. Мой взгляд устремился внутрь меня, туда, где складировались воспоминания о похищении. Глаза же невидяще уставились на графин с водой, стоящий на углу стола.
Я настолько глубоко задумалась, что вздрогнула, когда Ершов неожиданно встал и, с графином в одной руке и стаканом в другой, начал огибать стол.
Он оказался очень высоким, гораздо выше, чем я себе вообразила. Двигался он резко, каждым движением демонстрируя скрытую силу.
Встав передо мной, полковник налил полстакана воды и протянул мне. Я, запрокинув голову, ошарашенно смотрела на длинную руку с не очень чистым стаканом в ней.
Он что, с ума сошел? Предлагать мне теплую некипяченую воду в общественном стакане…
Я была шокирована и не собиралась этого скрывать.
Глаза полковника хищно блеснули, он вернул графин на место и присел на край стола, держа стакан по-прежнему в руке.
Его обтянутое светлыми брюками колено покачивалось в полуметре от моего носа. Мне стало смешно.
Методы полковника Ершова никак нельзя назвать традиционными.
Видимо, по его расчетам, столь опасная близость с его мужественным телом должна была деморализовать меня.
Я решила не разочаровывать великого психолога и задержала на лице обиженно-оторопелое выражение.
— Я слушаю вас, — напомнил о себе полковник, качнул ногой и отпил из предназначенного мне стакана.
Вообще-то я люблю следить за реакцией собеседника, для чего во время разговора смотрю ему в лицо.
В данном случае от этой привычки пришлось отказаться. Полковник был настолько высок, что видеть его лицо я могла, только сильно запрокинув голову.
Но это, во-первых, неудобно, а во-вторых, некрасиво.
Я решила отнестись к нашему разговору как к телефонному, то есть определять реакцию собеседника только по его репликам, сопению и ритму дыхания. Для полного антуража я села так, чтобы видеть телефонный аппарат.
— Человек с фотографии мне известен как Влад.
Фамилию свою он мне не называл, но я случайно слышала что-то вроде Прохорова или Прохоренко. Он работает на конкурента моего мужа в Риге.
Я сказала то, что полковнику по идее должно было быть известно из рапорта капитана, допросившего меня сразу «по горячим следам». Тем не менее он довольно натурально удивился:
— Конкурента? Это интересно. Какие у вашего мужа дела в Риге?
— Ну вообще-то такие вопросы как-то не принято задавать. Но вам я отвечу. Никаких. Речь идет о крупном международном заказе. На него претендовали мой муж и хозяин Влада. Получил заказ господин Скоробогатов. Это стало известно накануне покушения.
— Стрелять из-за заказа?
— Задействованы десятки миллионов долларов, Убивают и за меньшее.
Я была терпелива, разъясняя очевидное. Полковник зашел с другой стороны:
— Почему стреляли в вас?
— А в кого надо?
— Ни в кого не надо.
Ершов поерзал на краешке стола. Я перевела взгляд на его колено. Мужской голос повторил мне в макушку:
— Ни в кого не надо. Но логичней было в Скоробогатова.
— Меня проще достать.
— Нет, не думаю.
— Не хотели никого убивать. Просто пугали.
— Кого?
— Мужа.
— Зачем? Заказ-то уже все равно его. Да и стреляли на поражение. Парень хотел убить. Вас.
— Почему меня?
Я все так же не видела лица Ершова. Мне это неудобства не доставляло. А полковнику доставляло.
Я совсем не стремилась смотреть ему в глаза. А вот он видеть мои глаза стремился. Ему это было необходимо.
Поэтому полковник протянул руку, ухватил за спинку ближайший стул, поставил его напротив моего и сел верхом, положив на спинку руки, а на них подбородок.
Теперь я оказалась глаза в глаза с милиционером.
Очень любопытным и очень неглупым милиционером.
— Почему меня?
— Не знаю. А вы?
— И я не знаю.;
— Вообще странная история, вот вы говорите, что это происки обойденного конкурента вашего мужа. — Полковник выпрямился и теперь сидел, придерживаясь за спинку вытянутыми руками. — Я бы принял эту версию, если бы… — Он поднял вверх указательный палец. Красивое задумчивое лицо озарилось легкой улыбкой. — Если бы киллер ждал вас, предположим, в подъезде и стрелял наверняка. Три пули в грудь и контрольный выстрел в голову.
Меня передернуло от его делового тона. Он заметил, довольно пожмурился и закончил:
— Но этот парень палил в центре Москвы, на глазах толпы людей, рискуя не попасть в вас, зато попасть в милицию.
Собственный каламбур понравился Ершову, и теперь его лицо светилось улыбкой от уха до уха.
Удивительно несимпатичный мужчина!
Ершов легко поднялся со стула и снова присел на край стола, постукивая кулаком по колену.
— Нестыковочка выходит.
Зато у меня в этот момент все состыковалось! Вспомнился взгляд Влада, самый последний, в Рижском аэропорту. Направленный на меня взгляд загнанного, но не укрощенного зверя.
Значит, не Виллис послал Влада рассчитаться со мной. Я почувствовала облегчение и радость. Во всей этой истории меня больше всего угнетало, что Вилька-латышонок мог приговорить меня.
Нет, это не он. Убийцу никто не посылал. Его пригнала неукротимая, нерассуждающая злоба. Наверное, он не собирался стрелять там, просто хотел посмотреть, разведать, но, увидев меня, потерял способность думать. Его единственной мыслью, единственным желанием было убить.
Ершов не отрываясь смотрел мне в лицо. Он подобрался, построжел, но проговорил обманчиво мягко:
— Расскажите все.
Как? Как рассказать все и ничего не сказать?
Я провела ладонью по лицу.
— Да, вы правы. Он хотел убить меня. Думаю, хочет и сейчас. Если сможет — убьет. Потом еще кого-нибудь. Пока он не убийца, но, начав, будет убивать.
Я устала от разговора и больше не играла, говорила что думала, смотрела прямо в темные внимательные глаза.
Что-то удивило Ершова. Он ответил мне потрясенным взглядом.
Соскользнув со стола, полковник резко повернулся и направился в угол комнаты к холодильнику. Открыл дверцу, достал бутылку боржоми. Посмотрел на нее, потом на меня, решительно убрал ее и достал две бутылки пива.
Пиво было холодным. Я не люблю немецкое пиво, но сейчас с удовольствием сделала несколько глотков и поставила бутылку на пол у ножки стула.
Я чувствовала себя измотанной, и что-то подсказывало, что разговор не закончен.
* * *
Полковник Ершов снова сидел напротив меня за своим столом. Пиво он выпил одним глотком и сейчас задумчиво крутил бутылку, держа ее за горлышко крепкими пальцами.
Мы оба смотрели, как он это делает.
Прошло не менее пяти минут, прежде чем Ершов оторвал взгляд от бутылки и взглянул на меня. Его лицо неуловимо изменилось. Передо мной сидел немолодой мужчина. И голос его звучал устало и обыденно.
— Елена Сергеевна, я должен сообщить вам о гибели вашего зятя. Троицкого Михаила Павловича.
Я тупо смотрела на него. Клянусь, в первый момент я не испытала никаких эмоций. Я даже не сразу поняла, о ком он говорит. Кажется, я перестала думать о Мише в тот миг, когда за ним закрылась дверь моей Квартиры. Я предоставила его судьбе. Что бы он ни сделал в дальнейшем, меня это не касалось.
Миша вышел из моей квартиры и ушел из моей жизни. Оказывается, из своей тоже. Что ж, это его выбор. Или нет?
— Что с ним случилось?
— Вам, конечно, известен дом в деревне?
— Да. Этот дом достался дочке от бабушки. Но он сдан в аренду.
— Именно арендатор и сообщил в милицию. Они с женой на эту ночь уезжали в город. Возвратившись, обнаружили у забора машину Троицкого. А потом и его самого. Вернее, тело. Оно лежало у основания голубятни на бетонной плите. По заключению врачей, смерть наступила мгновенно.
Полковник замолчал и посмотрел мне прямо в глаза.
Я тоже молчала и смотрела на него. Я все еще ничего не чувствовала. Совсем. Только мне требовалось немедленно вернуться домой и закрыться в своей комнате.
Ершов чего-то ждал. Не дождался, легко вздохнул, выдвинул ящик стола, достал пачку сигарет, заглянул в нее. Обнаружив, что пачка пуста, досадливо скомкал ее и не глядя бросил за спину в корзину.
Я проследила взглядом за летящим комочком. Попал.
У меня в сумочке лежала пачка дамских сигарет с ментолом. Я открыла сумку, показала Ершову сигареты.
Он поморщился, потом кивнул. Я достала одну сигарету, пачку толкнула по полированной столешнице в сторону полковника.
Мы закурили — каждый от своего огня.
Полковник выдохнул струйку дыма, махнул рукой, разгоняя ее, с интересом взглянул на длинную черную сигарету.
— Так вот, поскольку нигде поблизости не было обнаружено никаких следов, кроме принадлежащих Троицкому, версия об убийстве отпала сразу. Итак: самоубийство или несчастный случай?
Я решительно покачала головой:
— Самоубийство исключено. Миша был молод, здоров, обеспечен. И очень себя любил.
— Но разве у него не могло быть депрессии? Скажем, связанной с недавней потерей жены?
Я опять покачала головой:
— Жена была для него только женой.
Ершов непонимающе уставился на меня. Я объяснила, испытывая непонятную самой боль от своих слов:
— Она не была смыслом его жизни.
Ершов понял, кивнул:
— Может быть, вы правы. Значит, остается несчастный случай. В пользу этой версии говорит то, что рядом с телом найдены обломки перекладины. Она крепилась наверху голубятни болтами. Видимо, со временем крепление ослабло и, когда Троицкий ухватился за перекладину, один из болтов вылетел.
Я не сомневалась, что так и было. Интересно, удалось ли найти в траве болт? Захотелось спросить. Неожиданно вспомнились детективные истории про лейтенанта Коломбо. Это помогло взять себя в руки и обуздать неуместное любопытство.
Полковник Ершов проводил меня до дверей. У самой двери извинился и вернулся к столу. Вспомнил об оставшихся на столе моих сигаретах.
— Оставлю пару? — обернулся ко мне.
— Конечно, — охотно позволила я.
— Спасибо.
Он протянул мне узкую длинную пачку. Наши руки встретились. Его пальцы оказались твердыми и горячими, он не спешил их убрать.
Неуловимым движением мужчина взял мою руку, и мне показалось, что он поднесет ее к губам. Одно мгновение он колебался, потом, подавив вздох, легко сжал мою ладонь и с видимым сожалением отпустил.
Очень недолго, одну коротенькую секунду, его лицо было нежным и печальным.
Потом все прошло.
Полковник, словно сбрасывая наваждение, тряхнул копной волос, открыл дверь и почти весело спросил:
— Зачем он туда залез?
* * *
Все спрашивали:
— Зачем он туда залез?
Только Милка спросила:
— Как ты заставила его туда залезть?
Конечно же, вся гоп-компания примчалась навестить «жертву покушения». Посмотреть, «как ты тут».
И не только смотрели, но и щупали, охали-ахали, шмыгали носами.
Мой новый телохранитель, которого все звали по фамилии, да и сам он говорил о себе в третьем лице — Филатов, оторопело таращился на моих подруг.
Посмотреть действительно было на что.
Все четыре представительные дамы говорили одновременно, порой не соглашаясь друг с другом, переходили на крик. При этом непрерывно перемещались по комнате, то садясь, то вскакивая, подбегали ко мне, обнимали, ощупывали, прижимали к себе, отталкивали "на длину руки, чтобы, всхлипывая, получше рассмотреть. Снова притягивали и орошали мое лицо слезами.
Даже уравновешенная Лариса пару раз вскочила с дивана и нервно побегала по комнате.
Мне с трудом удалось оторвать Филатова от потрясающего зрелища и уговорить пойти на кухню приготовить гостьям чай.
Парень усилием воли подтянул отпавший подбородок и, оглушенно потряхивая круглой головой, покинул нас.
Чтобы как-то разрядить обстановку, я рассказала девчонкам о Мише.
Повисла тишина. Все молча переглядывались.
Лариса перекрестилась и взглянула на меня, словно говоря: «Вот видишь. Бог его наказал». Она не произнесла этого вслух, и я благодарно обняла попадью за все еще гибкую талию.
Довольно быстро шок от сообщения прошел, и все заговорили. Как водится, одновременно.
— Ну зачем? Зачем он туда залез?
А потом, когда все напились чаю и засобирались домой, оставшись со мной наедине, Милка спросила:
— Как ты заставила его туда залезть?
Ее зеленые глаза щурились в сильно накрашенных ресницах. Ресницы слиплись, на них застыли комочки туши. Пудра на Милкиных щеках лежала неровно, не скрывая, а подчеркивая неровность кожи и морщинки.
Губная помада размазалась.
И хотя не это вызвало мое раздражение, я не стала его сдерживать:
— Господи! Ну что ты за чувырла?! Ну чего, кажется, проще научиться прилично краситься? А ты тридцать пять лет мажешься, и все без толку!
Милка не обиделась. Махнула рукой:
— Теперь уж и не научусь. Поздно, Леночка, старые мы…
И она обняла меня. Второй раз за одну неделю. И кажется, третий за всю жизнь.
* * *
— Алло?
— Привет!
— Привет! Ты в курсе, который час?
— Ага. А ты чего — спишь?
— Нет.
— И я нет. Ты как?
— Вроде нормально. Кажется, я вообще начинаю привыкать к такой жизни.
— Да ладно тебе. Все проходит. Чем ты расстроена?
— Как ты догадался?
— Догадался. Что случилось?
— Ничего. Правда ничего. Просто Милка сказала, что мы старые…
— Да уже не девочки.
— Генка!
— Ладно, ладно, я шучу. Эмилия Владиславовна просто устала.
— Нет. Дело не в этом. Милка права. Мне сейчас больше лет, чем мои родители прожили.
— Это ничего не значит. Твой возраст не старость. Просто твои родители умерли очень рано. Они не успели состариться. А некоторые живут долго. Вот, к примеру, у моей бабушки жива родная тетя.
— Знаю. Эта тетя моложе твоей бабушки на два года. Ты сам мне рассказывал.
— Разве? Больно ты памятливая себе во вред.
— А ты болтушка.
— Есть немного. Тебе лучше?
— Пожалуй. Спасибо.
— На здоровье.
— А чего ты звонишь?
— Чтобы поздравить.
— С чем это меня сейчас можно поздравить? С очередным криминалом? Что там у нас — убитые, раненые?
— Не заводись. У меня хорошая новость.
— ?
— Готовы документы на усыновление. Через неделю можно будет забрать мальчика.
— Геночка, милый… Что же ты молчишь?
— Я не молчу. Ты счастлива?
— Не знаю. Я так ждала этого…
— Перестань, Лена, не реви. Вот черт! Ну что ты, в самом деле? Все будет хорошо. Слышишь?
— Да. Спасибо. Я знаю, все будет хорошо. Просто очень давно не случалось ничего хорошего. Я отвыкла.
— Привыкай. Не раскисай, Лена. Ладно?
— Ладно.
— Вот Маринка тоже тебя поздравляет. И Костю.
— Передай спасибо.
— Передам. Ну все, спокойной ночи.
— Подожди. Ген, у меня еще одна просьба…
— — Все, что хочешь…
— Я хочу выкупить «Сибирь».
— Разумеется. Я сам проведу переговоры с наследниками.
— Мой долг тебе все больше.
— Что есть, то есть. Целую.
— И я;
* * *
Юра все еще без сознания. Мне снова позволили посмотреть на него. Я смотрела и смотрела. А он лежал беспомощный и равнодушный. И мог умереть каждую минуту. Он такой молодой, в его жизни еще ничего не было. Он не должен умереть.
Но если это случится…
В больницу меня возил Вадим. Олега нет в городе.
Он занимается поисками Влада.
Мне сказал об этом Костя, перед тем как уехать на работу.
— Милиция, конечно, что-то делает. Но и мы тоже.
Костя разглаживал кончиками пальцев складочку у меня меж бровей и задумчиво смотрел мне в глаза.
— Не знаю, чего я боюсь больше: что Влад будет охотиться за тобой или что ты будешь охотиться за ним.
Его глаза были близко-близко, и я поняла, что он не шутил, и не стала делать вид, что не поняла его слов.
Эти месяцы и ему добавили морщин, но никогда прежде он не был так мил и близок мне. Я обняла своего мужа.
— Человек не может любить сильнее, чем я люблю тебя.
Костя беспомощно опустил ресницы, на щеках вспыхнул слабый румянец. Но тревога не ушла из его глаз.
Его поцелуй был нежным и обреченным. Бедный мой муж! Нет покоя моей душе.
* * *
— Мама!
Я снова просыпаюсь среди ночи от тихого зова. Знаю, что больше не засну. Вылезаю из-под одеяла, в; темноте, стараясь ничего не задеть, выбираюсь из комнаты.
Я еще не привыкла к расположению предметов в ней. На пороге задерживаюсь, прислушиваюсь к ровному сопению Кости и выскальзываю за дверь.
По лестнице спускаюсь уже смелее. В доме мы с Костей одни. Но это только сегодня.
Завтра приезжает наш сын. И в доме появятся новые люди. Домработница, охранник. Но не няня. Няни не будет.
Мое переселение в «домушку» произошло самым естественным образом. Ребенок не должен жить в загазованной части города.
В кухне, не зажигая света, просовываю руку в свой тайник и достаю сигареты.
Открываю створку окна, сажусь на подоконник и закуриваю.
Ночь ясная и почти теплая, хотя на дворе начало сентября. Или именно поэтому. Бабье лето.
У самого моего окна дерево. Если протянуть руку, можно коснуться ветвей с остатками листьев. Днем листья желтые, ночью — черные.
Уже несколько ночей я курю у раскрытого окна и смотрю на дерево-растрепку.
Я стараюсь не вспоминать. Жду, что вспыхнет свет и знакомый голос произнесет сакраментальное:
— Курить вредно для здоровья. Курить по ночам — преступление!
И можно будет вступить в дискуссию по поводу курения и убежать от воспоминаний.
Воспоминания. Они преследуют меня, досаждают, отравляют каждый час жизни, вламываются в сознание, бессистемные, тяжкие, радостные, вне всякой хронологии и повода, возникающие в мозгу и перед глазами, требующие осмысления и признания.
Воспоминания мучат и радуют меня. Я знаю, что не смогу жить, пока не покончу с воспоминаниями, не освобожусь от них…
* * *
Влада видели в Рижском аэропорту.







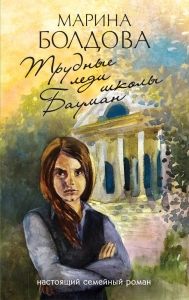




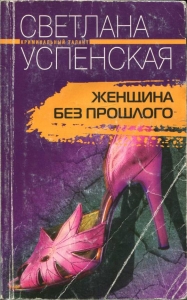
Комментарии к книге «Банкирша», Александра Матвеева
Всего 0 комментариев