Монго Макколам Путешествие в любовь
«Ян! — кричала она про себя. — Ян, пусть это будет завтра…»
Внезапно она захотела его. Его… Ее длинное худое тело под простыней сжималось и вытягивалось. «Как труп», — подумала она. Интересно, трупы сжимаются или вытягиваются?
— Считай до ста, — произнес голос. Чей? Ее или матери?.. — Считай до ста.
Она замерла и, вспоминая, как отвечала ребенком, медленно расслабилась.
— Поставь мой шар рядом, — прошептала она.
Ее веки, дрогнув, приподнялись — и вот он, стоит на ночном столике, таинственный, темно-синий, все тот же… Ее дыхание становилось ровнее по мере того, как шар начинал светиться большими и крошечными звездочками, от которых по темному небу тянулись едва заметные серебристые нити, образуя дивные видения: рычащий лев с надписью «Лев» на боку, гордый гигант с обнаженным мечом по имени «Орион», другие фигуры, а повсюду за ними простиралась темно-синяя таинственность Неба, Вселенной, и тонущая в ней маленькая девочка прошептала: «Аминь!»…
— …Иди же, Лизмас!.. Ma, Лизмас не хочет со мной играть, — пожаловалась Линет из детской.
Лежа сейчас в постели столько лет спустя, ее сестра Элизабет вздохнула. Вечно жаловавшаяся Линет! Счастливы они были только тогда, когда старшая сестра читала им навевавшие сон детские стишки.
Она видела себя, завороженно стоящей в чулане перед найденным шаром. Наверху шара сияла голубая точка. Очарованная девочка не могла понять, что это такое. Она боязливо протянула к ней палец. Не будет ли слишком горячо? Уж не остановившаяся ли это звезда? Ее палец приблизился, и точка исчезла. Она убрала палец, и звезда засверкала вновь. Девочка бросила взгляд через плечо: под потолком тускло светила лампочка. Всего лишь отражение. Она облегченно вздохнула, постигнув какую-то толику этой круглой таинственности. Улыбнувшись, девочка снова прикоснулась пальцем к отражению и повернула сферу. Стали появляться фигуры: козерог, краб (совсем как на пляже!), рыбы, мужчины и женщины — далекие, грустные и неподвижные… Потом появился Орион, и она тут же влюбилась в него. Нет, даже не влюбилась… Ей казалось, что она любила его всегда. Волшебное видение, подчинявшееся игре мечтателя, появлявшееся и исчезавшее по его желанию. Со странной смесью экстаза и муки в душе она сбежала по ступенькам и, с криком: «Ma! Можно мне взять это?», ворвалась в гостиную.
— Но, Джоанна, я только стараюсь… — говорила мать. Бесконечно медленно головы взрослых повернулись к ней. — Элизабет, разве ты не видишь, что я разговариваю с тетей Джоанной?
— Но, — прокричала она, — могу я взять это?
— Дорогая, я… Что?
— Небо!
— Элизабет, восьмилетней девочке пора уже знать, что нельзя взять небо. А теперь иди…
— Небо там, наверху! — От нетерпения она пританцовывала на месте. — Я имею в виду…
— О! — хохотнула тетя Джоанна. — Она говорит о шаре. О старой небесной сфере дедушки.
— Да, да, в чулане!
— Успокойся, Элизабет, — мама сделала бесконечную паузу. — Да, припоминаю. Он провалялся там целую вечность. Но… — Она снова принялась за шитье.
— Могу я взять его? — умоляла девочка.
— Думаю, да. Не понимаю только, зачем тебе этот старый пыльный шар. А теперь иди играй и не мешай нам разговаривать.
Она убежала. Той же ночью шар стоял рядом с ее кроваткой. Потом он всюду сопровождал ее, куда бы она ни попадала. И сейчас шар стоял рядом. Она вдруг вспомнила: в тот дождливый вечер шестнадцать лет назад тетя Джоанна была расстроена. И не без причин. Бедная тетя Джоанна!
Девушка снова открыла глаза. Вот она, Вселенная, вращающаяся рядом с моей головой… Глаза закрылись, но она продолжала видеть ее: Вселенную, находившуюся в центре ее детства в те годы, свободные от Яна, задолго до того, как он стал Любимым. Серебристые от песка, зеленоватые от воды, позолоченные солнцем годы детства обволакивали ее. Она повернулась на спину, вытянула руки поверх простыни и стала погружаться в глубины прошлого, прошептав:
— Ян, приезжай завтра!
Детством был дом, выходивший на залив, на пляж, начинавшийся за деревьями и камнями тихого запущенного сада. Большой дом, в котором изредка появлялся отец. Он был фантастически красив. Как и его сестра, тетя Джоанна Отец всегда казался старым и молчаливым. За завтраком он отгораживался газетой от жены и дочерей Потом эта преграда падала, он чмокал маму в щеку и, открыв парадную дверь, уходил от семьи.
По вечерам, в ожидании ужина, он тоже отгораживался газетой. Или стеной молчания, когда бродил по саду, разглядывая крошечные одичавшие цветы. Там он проводил и выходные. Когда же мама принимала гостей, служанка относила чай в его кабинет, пропахший чернилами и табаком.
В ее памяти прошла целая вереница служанок и кухарок, прибывавших в своей «городской» одежде и появлявшихся чуть позже в накрахмаленных белых передниках, а потом исчезавших через несколько дней вместе со своими чемоданами. Одни говорили маме, что слишком много работы, другие — что семья слишком «трудная», но уходили все…
Нет, домом — настоящим домом — было даже не само здание, а пляж после полудня и ее детские ночи, когда Элизабет Уайкхем и ее хорошенькая сестренка Линет произносили свои молитвы и спали, а шар стоял рядом с кроватью. Линет ненавидела его и называла «грязной старой штуковиной», крепко прижимая к себе краснощекую куклу с глазами-шариками, которые закрывались со щелчком, когда ее переворачивали. Элизабет терпеть не могла вечно улыбающуюся куклу, считая ее жестокой предательницей.
Шел ли в детстве дождь? Или всегда была зима? Зимой шар был ближе, понятнее, а летом, полускрытый москитной сеткой, казался страшно таинственным. В один из благословенных дождливых дней она и нашла его. А были ли другие дождливые дни?
Вечера на пляже казались бесконечными: солнце сверкало на песке, расцвечивая деревья вокруг. А там, за маленькой бухточкой, иногда проплывали по заливу суда, словно их тянули на веревочке по голубой воде. В заливе бывали и большие волны, а в бухточке — лишь легкая зыбь, ласково слизывавшая песок со ступней длинноногой девочки. Ступни медленно погружались в песок, а она зачарованно наблюдала за этим и ждала, что вот-вот кто-то невидимый цапнет ее за палец. Но случалось это всегда неожиданно, она радостно взвизгивала, выкапывала краба и бросала его подальше в зеленую воду. При отливе над поверхностью появлялись две скалы, которые она называла «Два льва», хотя они совсем и не походили на Льва на шаре. Когда их накрывал прилив, они угрожающе, хотя и печально, затаивались в воде. Два льва, Орион…
Она прохаживалась вдоль кромки воды, высматривая крабов. Линет сидела в луже и хлопала лопаткой по воде. «Глупое создание», — подумала Элизабет, отмахнувшись от ее вечного «Лизмас-поиграй-со-мной». Глупенькая… Она вдруг остановилась. Похожие на папины сигары, только тоньше и Красивее, на мелководье блеснули две серебристые фигурки, словно висящие в стеклянном мире. За ними, из ниоткуда, появились другие. «Рыбки!» — выдохнула она. Под каждой рыбкой еще одна, ее темная двойняшка, повторяла движения первой. Девочку охватило внезапное счастье. «Рыбки, — шептала она. — Рыбки и их тени». Они подплыли еще ближе и… тут же исчезли.
— Линет, идиотка! Ты напугала их своей лопаткой! — возмутилась было она, но через секунду уже неслась по пляжу с криком: — Ma! Я видела рыбок!
Мама, сидевшая в тени дерева в белом шелковом платье и широкополой соломенной шляпе, подняла глаза от вышивания.
— Вот как? Чудесно, но… — она повернулась к двум пожилым дамам в таких же шляпках, — … но слава Богу, ты их не поймала. Это было бы жестоко и… — она улыбнулась, — неприятно мамочке.
Пожилые леди рассмеялись, разглядывая угловатую десятилетнюю Элизабет с косичками, похожими на крысиные хвосты.
Ох уж эти взрослые, всегда-то они или сидят, или медленно двигаются, или шьют! Никогда не бегают по песку, не передают друг другу секреты улыбками… Как будто она хотела поймать тех рыбок! Да, ее пальчики непроизвольно сжимались, но только чтобы остановить мгновение! А поймать? Убить? Она презрительно взглянула на восседавшую Взрослость, тряхнула головой, отвернулась и села на песок. Взрослые — сумасшедшие.
Сзади нее послышались голоса, и она прислушалась. «Она очень открытая… Не то что Линет… Она в Джоанну». «Ну нет, — отозвался мамин голос, — с бедняжкой Джоанной другое. Она…» Мама перешла на шепот. «О!» — ответили пожилые дамы и дружно закивали головами в больших шляпах. Это тайное перемывание костей ее любимой тетке вызвало у Элизабет искреннее негодование. Джоанна была единственной из всех взрослых, с кем она чувствовала себя запросто. Единственной, кто соображал.
— Что ты сказала? — импульсивно спросила она мать.
— Ничего, дорогая. Невежливо задавать такие вопросы. А теперь иди поиграй.
— Ты сказала что-то о тете Джоанне.
— Элизабет… — с угрозой в голосе начала мать, но та не дала ей договорить.
— Ты сказала. А если я невежлива, то и ты невежлива. Ты сама всегда говорила, что шептаться нехорошо. — Она вскочила и с покрасневшим от гнева лицом поспешила в конец пляжа к своему другу — Большому камню…
Взрыв смеха в большом доме за садом вернул девушку в настоящее. Смех повторился, на этот раз в нем звучали смятение и испуг. Она прислушалась. Несмешной смех раздался снова и быстро замер в ночной тиши. Что они там делают? Во что-то играют? Идиоты! Эти Дейли просто ужасны…
Смеха больше не слышалось, и в наступившей тишине она снова превратилась в девочку-подростка, в свои девять, десять, одиннадцать, двенадцать лет уходившей подальше от голосов взрослых. Однажды один из этих голосов сказал: «Она похожа на отца… у нее такой же длинный нос». В ту ночь она оторвала взгляд от шара и, уткнувшись носом в подушку, молилась: «Боже, сделай меня такой же красивой, как все считают Линет!»… Но утром нос у нее остался прежним, и она потеряла веру в силу молитвы. «Наплевать!» — пробормотала она и отправилась по слепящему песку к своему другу Большому камню, которому тоже было наплевать на ее нос. Два льва в одном конце пляжа и Большой камень — в другом. Двух львов она побаивалась, потому что по-настоящему их и не знала, а Большой камень любила, часто сидела на нем и разговаривала с ним. Широкий, старый, темно-коричневый, он торчал из песка, полого спускаясь к воде. Она вскарабкивалась на него и пилила его шкуру щепкой. Щепка не оставляла на нем следа и, значит, не делала ему больно. Теплая коричневая поверхность казалась самым надежным местом на свете, и девочка чувствовала себя на ней очень уютно. (Много, много лет спустя, когда она привела Яна познакомиться с Большим камнем, друг ее детства как бы съежился и погрузился в песок, и она чуть не расплакалась.)
Уйдя как-то от взрослых к Большому камню, она встретила там темноволосого мальчика, которого не видела раньше. Он был немного старше и крупнее ее. Его присутствие раздражало, но она промолчала и, вскарабкавшись на камень, стала ковырять его своей щепкой.
— Что это ты делаешь? — поинтересовался мальчишка.
— Ничего, — холодно ответила Элизабет.
— Щепкой ты его никогда не продырявишь, здесь нужен динамит.
— Знаю. — Она вдруг с ужасом представила себе разорванного взрывом друга.
— Слушай, хочешь я тебя пощупаю?
Она не поняла и промолчала.
— Это здорово, — пояснил он, и в ней шевельнулось странное любопытство. — Спорим, ты не разрешишь?
— Спорим, что разрешу! — заносчиво и испуганно выпалила она и дала ему дотронуться до себя.
— Ну как, приятно? — самодовольно осведомился он.
— Не-а, — ничего не почувствовав, ответила она.
— Нет, тебе приятно! — разозлился он. — Мой папан говорит, что в жизни стоит делать только три вещи: драться и заниматься любовью. А я только что занимался с тобой любовью и знаю, что это здорово.
Презрительно оттолкнув его, она спросила:
— А третья?
— Делать деньги, но это не для тебя. Мой папан говорит, что чертовы женщины не могут делать деньги. А у меня будут миллионы фунтов! — выкрикнул он напоследок и, раскинув руки «самолетом», помчался по пляжу.
— Дурачок! — пожала плечами Элизабет и снова принялась ковыряться в Большом камне, довольная, что ее оставили в покое…
«И именно там, — думала она, мечась на постели, — мы… О, Ян, любимый!..» Болезненная тоска охватила ее, потом отпустила, и она опять погрузилась в детство.
Вот она на солнцепеке пилит щепкой Большой камень, а в тени мать, в белом платье и соломенной шляпе, занимается рукоделием… Ритмичные повторы сонной памяти. Другие голоса, другие цвета взрослых, темные шелка пожилых, их монотонные сплетни… «Как жарко… Бедная Джоанна… Алек в Лондоне… За кого она вышла?.. Бедная Джоанна…» И вечный рефрен за чаем, когда их с Линет звали к столу: «Ах, какая душка!» Линет с розовым личиком и россыпями кудряшек… Ее же встречали сухим: «А вот и Элизабет» и тискали Линет, давая ей сдобные пышки, джем и… уверенность.
— Да, уверенность, — вслух повторяла теперь Элизабет. — У Линет никогда никаких проблем. Красивая, избалованная дрянь.
Даже сейчас, спустя двенадцать (или более?) лет, ее сердце болело так же, как болело тогда. И однажды вечером, идя за остальными в дом по кромке воды, она сказала: «Ненавижу вас всех за то, что вы говорите за моей спиной!». Два льва, Большой камень, крабы под серебристым песком и зеленая вода ответили ей молчаливым упреком, и она прошептала: «Простите…», зная, что все равно ничего не может изменить.
Когда ей стукнуло двенадцать, бесконечное лето внезапно оборвалось. Это был год еще одного Льва. Его приобрел отец за пять шиллингов, чтобы он отпугивал своим лаем грабителей. Но большой коричневый Лев всех любил и никогда не лаял. Два месяца, высунув язык, он носился за ней по саду и пляжу. А потом, — она задрожала от одного воспоминания об этом — Лев лежал на боку в прачечной, задыхаясь и дергая ногами, словно продолжал бессознательно бежать в своей агонии, а она в ужасе стояла рядом на коленях, склонившись над ним.
— Какой-то злой человек отравил его, милая, — сказала мать. — Тут уж ничем не поможешь. Лучше иди наверх. Это очень жестоко, но…
— Он думает, что это сделала я! — вскричала девочка. — Лев, Лев, я этого не делала!..
Но Лев только еще раз содрогнулся всем телом и замер.
— Он умер, милая, — сказала мать.
— О, Лев!.. — прошептала она и наконец расплакалась.
Той ночью она шептала своему шару: «Я узнаю, кто это сделал. Я убью их. Я сама возьму яд и…». А утром, с сухими глазами, девочка наблюдала, как отец и садовник хоронили Льва в углу сада. Линет рыдала, а она подумала: «Дурочка, твои слезы опоздали». Все казалось поздним в то знойное утро поздней осени, и она еще не понимала, что это кончается ее детство. Она пыталась найти яд, чтобы отомстить за пса, но никто не поддержал ее. Вскоре его могила заросла травой, и Лев уже не осуждал ее. Но когда она смотрела на скрытых приливом Двух львов, ей казалось, что бедный пес с упреком глядит на нее сквозь землю, и она шла к Большому камню, гладила его жесткую шкуру, и скоро он стал Львом и простил ее.
Так кончилось детство. Его унесло течением, как уносит сейчас, на зыбкой грани сна и яви, его символы и звуки. Скалы, песок, вода — все ушло, кроме шара. Ибо и сама она уплыла прочь, захватив с собой только свой шар. Он остался. Девушка сонно шевельнулась, пытаясь дотянуться до него, но рука безвольно скользнула вниз, в пропасть сна.
Легкий ветерок чуть отодвинул штору и скользнул под дверь, прихватив по дороге лежавший на полу у кровати листок бумаги. Ветер повлек его к порогу и он, поколебавшись какое-то мгновение на краю нижней ступеньки, лег на траву. Потом пришел летний дождь. Его тяжелые, мерные, как шаги часового, капли падали с конька крыши на металлический подоконник, окончательно усыпляя девушку…
Утром они пришли по золотистой дороге — крошечные фигурки, несущие свои дары. Облачка пыли у их ног образовывали дымку, и на расстоянии казалось, что они плывут над землей. Их хламиды, расцвеченные фруктами и цветами, были богаты и веселы, как и их дары, приносимые во имя веры в то, что все сбудется так, как они надеялись, рассчитывали, планировали…
Элизабет открыла глаза и на дороге к деревне увидела пеструю толпу жен фермеров, несших к деревенской церкви свои подношения к завтрашнему празднику урожая. Шествие возглавляла пятнадцатилетняя дочка миссис Джири, одетая во все желтое.
Рядом с Элизабет, возлежащей в шезлонге, высился ствол эвкалипта, кора которого переливалась красным, алым и кремовым, а над ним шевелилась крона из сине-зелено-серых листьев. Уголки ее губ печально опустились: сон, пробуждение, явь… явь без Яна.
«Кто ты? — спросила она себя. — Теперь, когда кончились видения прошлого? Ты — Элизабет Уайкхем, ты болела, а сейчас поправляешься. Вот кто ты… Но ты не можешь писать стихи. Ты вообще ничего не можешь… а он не приехал».
Вяло, неохотно она повернула голову в ту сторону, откуда ему надлежало появиться. Уверенная, что там пусто, она, тем не менее, впитывала взглядом все подряд, боясь что-либо пропустить. Слева был холм, поросший молодыми, застывшими от зноя деревцами. Из-за холма выбегала желтая дорога, которая, прорезая деревню, огибала обшитую досками церковь, уродливую старую пивную, почту, магазин, пару коттеджей и поднималась серпантином на другой холм по ту сторону долины. Глаза девушки лихорадочно прослеживали все ее изгибы. Дорога. Дорога из Сиднея в Сидней. Она скрывалась за деревьями и появлялась вновь на вершине холма — желтое пятно. Пустое желтое пятно.
Взгляд Элизабет скользнул на вздымающийся на западе Старый Улей — вовсе не улей, а всего лишь скала, увенчанная несколькими деревцами. «Чертов камень!» — пробормотала она и зажмурилась, сдерживая слезы. «Не будь дурой, — приказала она себе, — возьми книгу и читай. Все лучше, чем реветь!»
Ее рука механически подняла с травы книгу и поднесла к глазам. Она начала было читать, но мысли витали где-то далеко: Ты провела здесь шесть недель. Целую вечность. Но это всего лишь полтора месяца с тех пор, как ты не видела его. Он пишет дважды в неделю. Выполняет свой долг? Нет, он пишет с любовью. О своей работе, считая, что тебе это интересно… Но о работе ты не читала, смотрела лишь на начало и конец — «Дорогая Лиз!» и «С любовью, X». Так он подписывается только для тебя. Тебе же хочется, чтобы он писал только о тебе и себе, о том, как он тоскует по тебе, а ты бы сравнивала это с тем, как ты сама тоскуешь по нему… Несколько дней назад он написал, что приедет на уикэнд, что сможет вырваться на целых три дня, и пусть миссис Джири приготовит ему пристанище. И только потому, что он не приехал вчера вечером, ты совсем расклеилась. Тебе уже мерещились то разбитый мотоцикл и лужи крови, то Ян, беспечно танцующий с блондинкой в ночном клубе. Не психуй, подожди, он приедет. Жди…
Книга упала на колени, и она закрыла глаза. Ее окружали звуки лета. Сзади, в высокой траве, послышались шаги. «Уходи, кто бы ты ни был», — молила она. Шаги замерли. «Оставь меня в покое». Шаги прошелестели мимо.
Доктор Лернер остановился, взглянул на темную головку мисс Уайкхем, на ее длинные ноги, покоящиеся на шезлонге, и пошел дальше. Так он и бродил по саду — незаметная, тихая фигурка в сером. Добрел до затененной веранды большого дома, где сидели миссис Дейли с журналом и мистер Дейли с газетой. Неопределенно улыбнувшись, он направился к белому однокомнатному коттеджу мисс Уайкхем, а затем, словно продолжая вить свою паутину, — назад через сад к двум высоким соснам, между которыми была калитка.
Сад светился, сиял под солнцем. Его сверкание было почти невыносимым даже для прикрытых темными очками глаз миссис Дейли. Вот-вот снова разболится голова. Но есть аспирин. Куда без него? И как этот человек может разгуливать без шляпы под таким ужасным солнцем?
— Кто он? — спросила она.
— Кто, дорогая?
— Этот доктор Лернер или как его там…
Мистер Дейли, специалист по рекламе, бросил проницательный взгляд на вышагивающую фигуру.
— Врач, я полагаю, — проронил он.
— В нем есть нечто странное. По-моему, он и не доктор вовсе. Вспомни, что случилось вчера, в какое глупое положение он тебя поставил!
Мистер Дейли промолчал. Она имеет в виду Элеонор. Как будто было что-то серьезное! Хотя… Да нет, просто шутка, ничего больше. Не такой уж он дурак — девочке нет и шестнадцати. Проказница! А ведь сразу и не скажешь… Странные создания эти женщины. Единственный товар — именно товар, хихикнул он про себя, — который не выставишь на рынке, не продашь, хотя он и пользуется постоянным спросом. Слишком непредсказуемый товар… Никогда не докажешь, что он соответствует наклейке, и это знает каждый. Хм! А мозги-то еще работают! Да, отдых определенно пошел на пользу. Взять, к примеру, рекламу зубной пасты. Когда сжимаешь тюбик, всегда знаешь, чего ожидать. Но когда сжимаешь женщину… рискованное предприятие. М-мда…
— Ты прочла весь журнал? — спросил он.
— Давным-давно, — ответила миссис Дейли.
«Слава Богу, я люблю читать, — думал Чарльз Дейли. Иначе в рекламном деле не усидеть».
Миссис Дейли стало скучно. Она осмотрела свои руки Лак на ногтях выглядел безукоризненно. Она вытянула ноги — чулки сидели безупречно, без единой складочки. Она достала из сумочки зеркальце и принялась придирчиво изучать свое лицо: губы, глаза, выщипанные брови, прическа — все выглядело, как и полчаса до этого, то есть идеально.
Да, с ней все в полном порядке, но что толку? Никого, с кем эти красные губы могли бы посплетничать, не на кого положить глаз… Никто здесь не появляется, идти некуда. Никого, кроме убогого доктора и той надменной сучки, разлегшейся в шезлонге под эвкалиптами. И старой миссис Джири с ее смешными волосами и бесстыдно юной и кокетливой дочкой Элеонор. И Чарльза, скрючившегося в кресле, вечно поглаживающего свои дурацкие усики, лысеющего… Его шея, казалось, укорачивалась и утолщалась с каждой минутой. Крутанув кольцо на пальце, она зло бросила:
— Чарльз, ты становишься жирным, как боров.
— Вот это здорово! — невпопад пробормотал он, уставившись на страницу с рекламой дезодорантов. — Чудотворцы наших дней.
Миссис Дейли громко зевнула. Интересно, этот тип действительно доктор? Но после вчерашнего…
— Чарльз! Я думаю, он все же врач.
— М-м?… Вот как? А мне кажется, он ученый.
— Минуту назад ты сам сказал, что он врач. А теперь…
— А я передумал. Ты не против? — хохотнул мистер Дейли.
— Не будь идиотом!
Мистер Дейли сразу посерьезнел.
— Да нет, я в самом деле думаю, что он из этих исследователей. Ну, атом и все такое прочее… Чудотворцы наших дней.
— Вчера вечером он действительно исследовал тебя… Нет, Чарльз, я все же думаю, что он доктор. Возьмем эту девицу в шезлонге. Он ходит так, чтобы услышать, если она позовет. Интересно, что с ней такое? Ну, кроме ее самомнения, разумеется.
— О, нервы, только и всего…
— А ты откуда знаешь?
— Я знаю только, что она нездорова.
— То-то и оно! Чем она болеет?
— Понятия не имею, старушка.
— Ты просто невозможен! Не понимаю, чего ради мы забрались в такую глушь?
— Ты же сама говорила, что устала от цивилизации. Хотела пожить простой жизнью… А мне здесь нравится. Появляются всякие свежие идеи…
— А, помолчи! — устало махнула рукой миссис Дейли и сняла очки. Но тут сад бросился на нее, как лев, и она поспешила снова надеть их.
Интересно, что же все-таки с этой девицей? Может, аборт? Кольца она не носит… Нет, она явно не из таких. Недостаточно привлекательна. Что же еще?.. Отдельная комната, завтрак в постель, весь день в шезлонге под деревом, постоянно пьет молоко, рано ложится… О, неужели… С выражением восторга и ужаса миссис Дейли вцепилась в руку мужа.
— Я знаю, Чарльз! — прошептала она ему на ухо и откинулась на спинку кресла. — Точно! Но… лучше тебе все разузнать.
— Что за вздор, старушка! Я не…
— Ты можешь вытянуть все из доктора. Займись этим сейчас же. Ты мужчина, и тебе он скажет. Если я окажусь права, то не останусь здесь больше ни на одну ночь. И натравлю полицию на миссис Джири. Это просто отвратительно!
Чарльз Дейли с трудом поднялся. Чего только не сделаешь ради спокойной жизни. Ох уж эти женщины!
Щелкнул замок калитки.
— Доброе утро, мистер Дейли! — приветствовала его нагруженная пакетами, свежая и соблазнительная Элеонор.
— Доброе утро, девочка, — по-отечески ответил он под взглядом жены. — Для нас есть письма?
— Нет, о вас пока не вспомнили, — кокетливо ответила Элеонор и запорхала по саду среди зарослей роз и маков, как бабочка, перелетающая с цветка на цветок. Замедлив свой полет у плетеного шезлонга под эвкалиптами, она объявила:
— Вам телеграмма. Пришла еще вчера вечером, но почтальон совсем обленился. Знает, негодник, что я все равно забегу утром.
Дрожащие пальцы Элизабет разорвали конверт и достали сверкнувший на солнце желтый листок.
«ВРЕМЕННО ЗАДЕРЖИВАЮСЬ ЗПТ ЛЮБЛЮ X ТЧК»
Мир завертелся перед ее глазами, но слова с нелепыми «зпт» и «тчк» остались.
— Когда это было? — словно издалека услышала она свой собственный голос.
— Я же сказала, она пришла вче… С вами все в порядке?
— Да… Да. Большое спасибо, Элеонор.
«Элеонор прочитала. Они, там на почте, всегда все читают. Деревня, весь свет, все знают, что я жду его. И все смеются».
— Вам что-нибудь принести?
— Нет, спасибо, Элеонор.
Элизабет тупо смотрела на полоску желтой бумаги, а видела смятую кучу металла на обочине и окровавленную голову Яна… Она провела рукой по глазам. Нет, нет, с ним ничего не случилось. Он послал телеграмму сам, ведь она подписана только им одним известным знаком. Будь благоразумной. Задерживается. Но почему? Надолго? Мог бы и объяснить! Должен же он понимать, с каким нетерпением я его жду!
«Временно задерживаюсь». Идиотизм какой-то. «Задерживаюсь» — уже значит «временно», если ты искренен. Откуда она послана? Так, посмотрим… Вечно на почте не хватает чернил, чтобы пропечатались все буквы! С… д… е… Должно быть, Сидней. Значит, он даже не выехал, как собирался, вчера в четыре часа… А я-то думала…
Ее глаза наполнились беспомощными слезами. «Я была больна, — объяснила сама себе она, — потому и плачу с такой легкостью». Но в голове звучало: «Вся беда в том, что ты слишком любишь его». Она снова взглянула на телеграмму.
Итак, никакого несчастного случая. И она благодарна Богу за это. Но что случилось? Работа? В этой странно пахнущей лаборатории с полуживыми крысами он совершенно забывает о ней и только автоматически посылает письма и телеграммы с условной подписью «X».
«Он мог бы приехать!» — в отчаянии шептала она, и перед ее глазами возникло лицо матери, говорившей ей два года назад с тревожной улыбкой: «Он не для тебя, Элизабет». Два года назад мать сказала это впервые. Ян тогда поздно проводил ее домой — они все никак не могли расстаться — а мать дождалась ее и позвала к себе. «Ты должна больше спать, ты ведь такая слабенькая!» — уговаривала она дочь, прежде чем перейти к главному:
— Если ты будешь встречаться только с одним мужчиной, у людей сложится ложное впечатление.
— Но я не хочу больше ни с кем встречаться, — возразила она. — И мне плевать на людей и их впечатление.
— Но, дорогая, пойми, ваши отношения…
Отношения! Она обожала его, и он, как ока надеялась, отвечал ей тем же.
— Он мне очень нравится, — отстраненно сказала она тогда.
Последовали отвратительные замечания типа: «У него нет денег»; «Его отец пил»; «Он не в твоем духе»… Произнося их, мать внимательно приглядывалась к худенькой угловатой девушке, которую никогда не понимала и которую в тайне побаивалась.
— Откуда тебе знать, кто в моем духе? — возразила Элизабет.
И теперь мамино лицо перед ее глазами повторяло те же слова. Уж не права ли мать? Не слишком ли они разные люди? Он — без корней, сирота; она — дитя большого уютного дома. Даже если ты выше условностей, то все равно есть вещи, которые подразумевались как бы сами собой. Например, чистота. А он привык к крысам и жуткому запаху дезинфекции. В нем столько чуждого!.. Так кто же в моем духе? А, мисс Ламберт… Она воспитывала меня, когда кончилось детство.
Да, когда умер Лев, и его могилу закрыли кусты, ее детство кончилось.
— Мы с папой решили послать тебя в пансион, — как-то дождливым днем объявила ей мать. — Там ты научишься всему, что должна знать юная леди.
— Не хочу, — ни секунды не задумываясь, ответила девочка, полагая, что и так знает достаточно.
— Но почему, дорогая?
На столь резонный вопрос она просто не могла ответить: «Потому что не хочу покидать Двух львов, Большой камень и тетю Джоанну», и, пряча глаза, проронила:
— Не хочу покидать… тебя.
Довольная мама улыбнулась и притянула ее к себе, а девочка уже думала о том, что ни за что не оставит шар. Пусть ей придется уехать, бросить пляж, дом, друзей, но не шар! Мать начала говорить о том, что по мнению их семейного врача она растет слишком быстро, а жизнь в деревне и простая пища пойдут ей на пользу.
— Что еще за пансион? — перебила ее девочка.
— Называется он «Холтон». Ну, это место, где девочек вроде тебя учат светским манерам, учат как вести себя в обществе, не стесняться, легко поддерживать беседу, не быть букой… Это весело.
«Здравствуй, Линет, какая же ты хорошенькая! А, вот и Элизабет…»
— Не хочу.
— Но ты должна, дорогая.
— Почему ты не посылаешь туда Линет? Она красивенькая, и ты любишь ее, все так говорят.
— Линет не… Перестань спорить, дорогая.
— Что «не»?
— Я не понимаю.
— Ты сказала: «Линет не…». Что «не»?
— Уже не помню, Элизабет. Перестань дурачиться. От «Холтона» ты будешь в восторге.
Разгневанная этим лживым «Уже не помню», она умчалась к себе наверх и бросилась на постель. «Линет не нуждается в пансионе», — вот что собиралась сказать мать. «А я, значит, нуждаюсь…» — с горечью подумала она и как когда-то давно вдавила нос в подушку, чтобы укоротить его и стать красивой, раскованной и «не букой». Если надавить посильнее… Больно, да и все равно не поможет. Глядя сквозь слезы на шар, Элизабет шептала: «Она оставляет Линет при себе, потому что любит ее, а меня — нет». На темно-синей Вселенной появились фигурки, сочувствующие, но молчащие. Она встала и пошла к тете Джоанне.
«Я ничего ей не скажу, — говорила она себе. — Просто схожу в гости».
Розовые азалии любовались склонившимся над ними прелестным лицом тети Джоанны.
— Что ты тут делаешь? — как обычно спросила тетя.
— Мама говорит, — выпалила она, — что я должна поехать в какой-то дурацкий пансион, а я не хочу.
— В «Холтон» что ли? Поедешь, — бросила Джоанна, не отрываясь от азалий. — Научишься там хоть чему-нибудь полезному. А теперь, зверюшки, — обратилась она к цветам, — вы напились, так что растите.
— Но это же глупо! Мама говорит…
— Твоя мать дурочка, но на этот раз она права. И ты поедешь. Тебе понравится мисс Ламберт. Чертовски умная женщина. Я училась с ней в школе. Благодари свою звезду за то, что тебе дают шанс стать не такой, как твоя сестра. В «Холтоне» тебе будет хорошо.
Немного успокоенная, Элизабет вернулась домой и вскоре отправилась в «Холтон» — красивую школу на склоне горы в шестидесяти милях от Сиднея.
Но тетя Джоанна ошиблась: «Холтон» ей не понравился, да и «Холтону» она пришлась не по вкусу. Но мисс Ламберт оказалась настоящим чудом. С самого первого мгновения. Ее орлиные глаза внимательно смотрели на девочку, прижимавшую к себе большой старый шар.
— Она не захотела оставить его дома, — извинилась мать.
— И правильно, — живо откликнулась мисс Ламберт. — Я бы тоже ни за что не бросила такое сокровище.
О, взрослая поняла!! Поняла, что шар обладает отнюдь не детскими тайнами, которыми нельзя делиться!
— Ну, если вы одобряете… Тогда пусть…
«Какая же она глупая рядом с этой леди!» — с жестокой радостью подумала девочка.
— Конечно, одобряю. — Мисс Ламберт не давала матери закончить ни одной фразы (позже Ян скажет ей, что она всегда так поступала). — Я не поощряю влюбленность моих учениц в кукол и медвежат коала. Но это, — она положила худую ладонь на шар, — я ценю высоко. Мало что из любимых детьми вещей и красиво, и полезно. Могу сразу сказать, что вашей девочке крупно повезло — у нее есть вкус. Когда у ребенка нет вкуса, одному Богу известно, сколько усилий стоит Ему и… мне развить его. — Мисс Ламберт повернулась к девочке, взиравшей на нее с немым обожанием. — Ты согласна, Элизабет?
— Конечно, — ответила та и покраснела.
— Вот видите, мы уже отлично понимаем друг друга! — рассмеялась мисс Ламберт. — Не хотите ли чашечку чая, миссис Уайкхем?
— Нет, спасибо, — поспешно проговорила мать.
Короткий поцелуй, объятия, и мама уехала.
— Твоя мама рассказала мне, какая ты, — сказала мисс Ламберт. — Теперь сама расскажи мне о себе.
Но ей пришлось лишь отвечать «да» или «нет»: за нее говорила мисс Ламберт.
Что еще, кроме мисс Ламберт, можно вспомнить о «Холтоне»?.. Старая маленькая парта. Единственная скромная вещь в просторных, богато обставленных комнатах. Потемневшая от времени, резко контрастирующая с окружающими ее полированными, медового цвета партами. Ее крышка сама по себе была целым миром, изборожденным бесчисленными канавками, оставленными давно исчезнувшими ножами, линейками, карандашами…
Единственная вещь (как она узнала позже), оставшаяся от подержанной мебели, с которой начинался «Холтон». Никто не знал, почему ее не заменили вместе с остальными партами. Догадалась одна Нора Хьюсон: «Ее сохранили для Элизабет Уайкхем, — объявила она классу. — Гадкую парту для гадкого утенка». Как бы то ни было, парта осталась, принадлежала ей, и она любила ее.
Девушка невольно улыбнулась, вспоминая, но тут парта исчезла, и снова зазвучал голос мисс Ламберт:
— Разве мама не говорила тебе, что такое скоро должно случиться?
— Нет, — прошептала она, совершенно больная и потрясенная.
Проснувшись в то утро, она бросилась к мисс Ламберт, дрожа от страха и смущения. Та пробормотала что-то насчет преступной халатности, усадила ее в кресло и объяснила что к чему. Страх сразу прошел, но его сменило периодически возвращавшаяся тошнота.
Через несколько недель то же самое произошло с Норой Хьюсон, но вела она себя по-другому.
— Я становлюсь взрослой, — объявила она в спальне, встав в позу феи из сказки. — Я распускаюсь, как цветок!
Какая несправедливость — у нее даже не болела голова!
— Не цветок, а жгучая крапива, — бросила Элизабет, жутко завидуя ее уверенности и раскованности.
— Если уж я не цветок, — взвизгнула Нора, — то тебе-то точно никогда им не стать, Элизабет Уайкхем! Гадкий утенок!
«Да. Долгие годы меня никто иначе и не называл, — подумала она сейчас. — Только Ян».
Мало приятного могла она припомнить из жизни на восхитительном горном склоне. Но зато научилась ценить красоту. В «Холтоне» ее сознание распахнулось, она познавала себя (или думала, что познает себя), разведывала короткие аллеи своего разума, и они внезапно удлинялись перед ее изумленными глазами. «Пока ты сохранишь способность удивляться, — говорила ей мисс Ламберт, — им не будет конца». Так, растущая девочка видела и чувствовала желтый солнечный свет, как никогда не видела и не чувствовала его дома на пляже, и он струился сквозь желтые занавеси в просторную спальню, высвечивая орлиный профиль мисс Ламберт.
Парта, мисс Ламберт… Что же еще? «Дайте же вспомнить вас», — умоляла она, и одно из темных пятен памяти стало проясняться. Ах, снова Нора Хьюсон… как соринка в глазу. Но образ Норы тут же начал таять и опять заговорила мисс Ламберт. Это был очередной урок.
— Красота держится на расстоянии. Она может заставить вас плакать. Часто она недружелюбна, ибо не нуждается в друзьях. Она может обойтись без меня и без вас. Особенно без тебя, Нора Хьюсон, так как ты никогда не видишь ее. Итак, она сама по себе. — Мисс Ламберт скользнула взглядом по лицам учениц и остановилась на Элизабет. Она говорила как бы для нее одной, повествуя о печали и надежде, которые одни лишь они могли понять и разделить. А девочка опустила глаза и, сама не зная почему, заплакала.
По ночам она, наедине с собой, сгорала не от желания выйти замуж за высокого смуглого мужчину, а от страсти к поэзии, вспыхнувшей в ней в тот вечер, когда мисс Ламберт протянула ей книгу стихов со словами: «Не разочаровывай меня, почитай это».
С тех пор стихи преследовали ее и днем, и ночью, на уроках и на хоккее с мячом (она вдруг полюбила его и научилась неплохо играть), не давали спать, уносили в лиловые сумерки за окном и снова бросали на пружины кровати с такой силой, что захватывало дух.
Даже сейчас те стихи Суинберна[1] могли вознести ее и закружить вокруг верхушки эвкалипта. Нет, мисс Ламберт не была разочарована.
Тогда в темной спальне Нора Хьюсон объявила со своей кровати:
— Я выйду замуж за самого богатого мужчину, которого только встречу. А ты что будешь делать, Элизабет?
— Я?
— Да, ты. — Нора ехидно ожидала каков бы ни был ответ, он наверняка всех рассмешит. А Элизабет медленно, с трудом возвращалась на грешную землю из заоблачных высот поэзии.
— Я? — рассеянно повторила она и вдруг четко объявила: — Я буду писать стихи.
Ее ответ превзошел все самые смелые ожидания Норы, и она зашлась в смехе. Но Элизабет это почему-то совсем не задело — внезапно открывшееся призвание захватило ее, и она лежала тихо-тихо, как добровольная жертва на языческом алтаре.
— Синий чулок! — радостно взвизгнула Нора…
…Девушка беспокойно зашевелилась. Сколько раз ее так называли? Нора, Линет, мать, подруги… Вся ее жизнь была отмечена насмешками.
Но она была полна решимости писать. Она сразу поняла, что это станет для нее чем-то очень важным, даже важнее мисс Ламберт… после того, как «Холтон» уйдет за горизонт прожитых лет. «Я буду писать стихи всю жизнь» — мысленно поклялась она шару. Шар стоял, как всегда молчаливый и таинственный, но в нем вдруг сверкнул лучик света, словно в подтверждение тому, что ее детская клятва принята. Он был ее свидетелем.
Боже, как она старалась! Но слова никак не складывались в строки, перо замирало, вычеркивало неуклюжие буквенные построения, писало вновь и вновь перечеркивало. Когда же появился Ян, все рифмы разом вылетели у нее из головы, и она обвинила в этом его. «Ты отобрал у меня все, Ян, а теперь даже не приехал!» — вот что могла бы она ему сказать, но никогда не скажет. Ведь если он все-таки приедет, радость вытеснит обиду. Лучше поздно, чем никогда… О, неизмеримо лучше!
И опять картины далеких событий стали обволакивать ее. Вот она, Элизабет Уайкхем, уже одна из старшеклассниц, сидит, склонив голову и сдерживая слезы. Ей привиделась гигантская обнаженная мужская фигура (навеянная, наверняка, скульптурами Родена), шагающая с одной планеты на другую, так что его ноги образовывали арку в небе. (А может, это Орион с ее шара был причиной видения?) Хотя лицо фигуры оставалось невидимым, она знала, что крошечные миры, по которым шагает исполин, вызывают в нем сострадание. Кто это? Бог? Она чувствовала на себе взгляд мисс Ламберт, и голос, голос Бога, шагающего по сферам, призывал ее разделить печаль и славу. И она — девочка-песчинка, сидящая в холле «Холтона» близ Сиднея, что в Австралии, Мире, Вселенной, которую держал на ладони Господь — всей душой отдалась печали и славе — этим холодным требованиям красоты.
Детское осознание себя частью мироздания все еще потрясало ее. Она заморгала, смахивая ресницами внезапные слезы. Слишком легко стало плакать, все дело в этой чертовой болезни…
В последний год учебы Элизабет в «Холтоне» мисс Ламберт чуть ли не каждый день зазывала ее к себе в кабинет, где они, почти на равных, обсуждали множество вещей.
— Как тебе миссис Уайт? — спросила однажды директриса, ставя кофейник на плиту.
— Миссис Уайт? Я…
— Боюсь, ты расстроила ее. Она сказала, что, показав ей школу, ты даже не поинтересовалась, решила ли она прислать к нам свою дочь.
— Но это ее дело! Я же не продавщица, чтобы навязывать свой товар.
— Разумеется. Я этого от тебя и не требую, — улыбнулась мисс Ламберт. — Но, мне кажется, дело здесь в другом. Ты довольно резка, Элизабет.
— Знаю… Но люди, большинство людей, кажутся такими мелкими… а вы учили меня видеть лишь значительное, имеющее смысл…
— Итак, ты холодна, скрытна, резка… одним словом — наихудший образчик будущей выпускницы «Холтона».
— Мне, право, жаль, — проронила пристыженная Элизабет.
— Я пошутила, — рассмеялась мисс Ламберт. — Тебе следовало бы уже знать меня получше. Но ты должна запомнить: нельзя недооценивать общественные приличия. Если их правильно соблюдать, даже они обретают свое значение. Добродетели нужны не только — как полагает большинство моих учении и их матерей — для привлечения мужчин, но и для самоуважения, для…
И тут Элизабет впервые перебила мисс Ламберт.
— Но вы же их презираете! — воскликнула она. — Вы сами не раз говорили об этом. Я не понимаю… не понимаю, почему вы здесь! Вы, с вашим удивительным видением вещей, только напрасно растрачиваете себя на тупоголовых ограниченных девиц, мечтающих лишь выскочить замуж! О, я-то благодарю Небо за то, что здесь оказались именно вы. Если бы не вы, я бы ничему никогда не научилась, но как же вы, вы сами?!
— Держи свой кофе, Элизабет, — тихо проговорила мисс Ламберт. Она как-то сразу сгорбилась и постарела.
В смятении от этой убийственной реакции на ее слова, девочка взяла чашку.
— Я скажу тебе, почему я здесь. Может, в один прекрасный день это тебе пригодится.
— Извините, мисс Ламберт, я…
— Не извиняйся Я даже рада этому. Так вот… — Она села, сжала чашку в ладонях и уставилась в нее. — Я отправилась в Англию, в Оксфорд, как, надеюсь, поступишь и ты, Элизабет. Там я встретила одного молодого австралийца. Он учился в аспирантуре. Умница, математик, красавец… Мы полюбили друг друга. По окончанию учебы он должен был вернуться в Австралию, и мы договорились: когда я получу диплом, мы поженимся. Приехав домой, я узнала, что неделей раньше его увезли в больницу после внезапного приступа. Его болезнь оказалась неизлечимой. К чему скрывать? Он сошел с ума, и его перевели в клинику для душевнобольных. Это произошло почти сорок лет назад, и он все еще там. Иногда, очень редко и крайне ненадолго, он совершенно нормален. Остальное время он никого не узнает, не помнит даже, кто он… Короче говоря, все мои планы пошли прахом. Мне было очень нелегко. Друзья считали, что смена обстановки пойдет мне на пользу, и когда открылся «Холтон», помогли получить место младшей учительницы. Так я оказалась здесь.
Она говорила словно сама с собой, забыв о девочке, лицо которой окаменело от жалости и неожиданности рухнувшего на нее доверия взрослого человека, рассказавшего ей, как равной, о своей личной трагедии.
— Со временем я стала старшей учительницей, а затем и директрисой, — продолжала мисс Ламберт. — Я не часто грущу и совсем не жалею, что приехала сюда. «Холтон» для меня все. И не только потому, что забота о молодых умах важна сама по себе, а, скорее, оттого, что иногда среди этих молодых умов вдруг обнаруживается один особенный, вроде твоего, Элизабет. — Она подняла голову и улыбнулась. — И вот питаешь его тренируешь, зная, что наше общество не дает особого шанса женщинам.
Она неожиданно протянула руку и сжала колено девочки (даже сейчас Элизабет чувствовала прикосновение ее пальцев).
— И помни, Элизабет, — горячо добавила мисс Ламберт, — если ты приучишь свой ум искать красоту, то обретешь мощную защиту от всего, что может случиться. Девочки не всегда придают ей должное значение, но она еще не раз им пригодится. Во времена невзгод она не становится другом, но может поддержать жизнь, может стать целью существования… — Резко отвернувшись, она грубовато бросила: — Иди спать.
Любовь, когда она нагрянула два года спустя, оказалась вдвойне тяжелее из-за мисс Ламберт. Кому ей, Элизабет, быть верной? Себе влюбленной или той себе, что существовала уже давно, с того дня, как ее, двенадцатилетнюю, мать привезла в «Холтон», и до той ночи, когда она, двадцатилетняя, проучившись уже почти год в университете, встретила Яна? Не в силах решить это сразу, она отвезла его в «Холтон», чтобы познакомить с мисс Ламберт. Чего она добивалась? Наверное, чтобы Ян и мисс Ламберт подружились. А они невзлюбили друг друга с Первого взгляда.
Когда они возвращались на его мотоцикле в Сидней, она прошептала ему на ухо:
— Она воспитала меня, научила меня всему, и я люблю ее.
В реве мотоцикла ее слова прозвучали как жалкое извинение.
— Слава Богу, что этот солдат в юбке не добился своего, — прокричал он через плечо, и ветер стегал ее его словами, — иначе ты попросту прогнала бы меня, упала перед ней на колени и умоляла о прощении за свою неверность.
«Я разочаровала ее» — думала теперь Элизабет. Но ведь и мисс Ламберт не оправдала ее надежд — не полюбила Яна, не произвела на него должного впечатления… Она невольно улыбнулась при воспоминании о своей глупенькой детской надежде на то, что Яну понравится мисс Ламберт, а он — ей, и все они заживут счастливо вместе.
Но был и страх. Она боялась, что потеряет Яна, как мисс Ламберт — своего математика. В самом деле, как похожи их случаи! Единственная разница в том, что они не в Англии, и он не уезжает раньше нее домой. Им ни в коем случае нельзя расставаться, — думала она, пока мотоцикл нес их домой.
— Не уезжай в Англию! — перекричала она ветер.
— Что такое? — рассмеялся он. — В Англию? Не отказался бы…
И ее страх оправдался: она заболела, и они разлучились. Любопытно, обычно она боялась разлуки из-за его болезни, а не из-за своей — из головы не шел бедный чокнутый математик.
Любят ли мужчины так, как женщины, ставя свою жизнь в зависимость от жизни другого? Ян держится иногда так… отчужденно! Но где он? Почему не приехал? Уж не пришло ли время потерь?
«О, — прошептала она, чувствуя подкатывающую слабость и дурноту, — и зачем я только встретила его?»
В сумрачной гостиной «Горного отдыха» старинные часы тяжело вздохнули и прокашляли одиннадцать раз, и на веранде появилась миссис Джири со стаканом молока.
— Надеюсь, ей уже лучше? — послышался негромкий заискивающий голос миссис Дейли. — Скажите, у нее не… — она перешла на доверительный шепот, как бы говоря: «Не волнуйтесь, я умею хранить тайны».
— Она была нездорова, — как всегда спокойно ответила миссис Джири.
Миссис Джири двигалась по залитому солнцем саду, и кусты, розы и маки расступались перед ней, словно преклоняясь перед таинственностью и ее жрицей, приближавшейся к девушке под эвкалиптом.
Элизабет слышала, как где-то за ее спиной беседуют доктор Лернер и мистер Дейли. Мужчины, — думала она, — это отдельная раса. У них всегда находится тема для разговора: бизнес, политика, прочая важная ерунда… «Этот мир наш, — говорили их лица, — и мы обсуждаем его; слушайте, женщины, но не прерывайте».
На ее кисти тикали часики, подаренные ей Яном почти год назад в день их неофициальной помолвки. Если бы не болезнь и «Горный отдых» (а также работа, деньги и так далее), они могли бы уже пожениться. Она взглянула на часы и автоматически завела их. Сама идея кольца была ему ненавистна, и она с радостью приняла в подарок часы. Девушке пришлось одолжить ему нехватавшие десять фунтов, и это показалось ей тогда хорошим знаком. Маленькие, аккуратные часики; стрелки неумолимо обегают игрушечный циферблат… Одиннадцать. Время молока для нечистых. «Мне бы не часы, а колокольчик прокаженного. Я была нездорова…»
«Вы были нездоровы», — обхаживала ее миссис Дейли с искусственной улыбкой — последним напоминанием о ее былом похотливом очаровании. Как бы ей хотелось все знать! Интересно, сочтет ли ее Ян (если приедет, конечно) привлекательной?
— Но атомная бомба!.. — воскликнул где-то за ее спиной мистер Дейли, и голубое марево сгустилось вокруг Старого Улья, а воздух запульсировал в ушах. Атом. Спасения нет. Атом везде: в бомбах, деревьях, воздухе, воде… и в ней самой. Ян тоже все время говорил об атомах.
— Бомба, — повторил мистер Дейли, и залитый солнцем пейзаж со Старым Ульем и всем остальным растворился в черно-белом грибовидном облаке. Девушка зажмурилась и… услышала:
— Пора, Элизабет.
Над нею, со стаканом молока в руке, возвышалась миссис Джири. Ее удивительные рыжие волосы горели на солнце жарким огнем, бросая розоватый отблеск на спокойное, немного утомленное лицо. «Вы всегда кажетесь мне уверенной, — подумала Элизабет, беря стакан. — Никогда не радуетесь и не печалитесь, хотя ваш муж и сбежал от вас. В чем же вы так уверены, миссис Джири?»
Миссис Джири строго смотрела вниз, на осунувшееся после болезни лицо девушки. Каково ей сейчас? Где ее парень? Каждый день на протяжении шести недель, ровно в одиннадцать, она приносила ей стакан молока и говорила: «Пора, Элизабет». На этот раз она положила руку ей на плечо и добавила:
— Он приедет.
Она повернулась и пошла к дому, а солнце высвечивало фрукты и цветы на ее длинном платье.
«Миссис Джири знает, — подумала Элизабет. — Если она считает, что он приедет, значит так и будет. Но действительно ли она так считает? Если он не приедет, что это изменит для нее? Ничего».
Элизабет потягивала ненавистное молоко, продолжая думать о том, что миссис Джири ожидает всего — и плохого, и хорошего с одинаковым равнодушием, и когда что-то происходит, она ничему не удивляется. Она не побоялась выйти за молодого мужчину — перекати-поле из босяцкого ниоткуда — поселившегося в «Горком отдыхе», женившегося на ней и укатившего, шесть месяцев спустя, в босяцкое никуда, оставив ее в положении. С олимпийским спокойствием она родила его ребенка — вечно хихикающую Элеонор. Миссис Джири с ее переливающимися платьями и горящими волосами была воплощением самой жизни, и ничто не приводило ее в смятение, даже ЭТО.
Элизабет поставила стакан на камень, и ужас ЭТОГО охватил ее. Она отчаянно пыталась заставить себя произнести вслух жуткое рычащее слово «туберкулез», но ее воля была парализована тем, что означало оно для нее и Яна. За ее спиной продолжали прогуливаться и беседовать доктор Лернер и мистер Дейли, дерево над ней шепталось само с собой, где-то за кустами Элеонор пела о любви, солнце ослепительно сияло, но надо всем вставал леденящий Ужас. Сжав зубы, она старалась отделаться от него. Смутно слышались голоса мужчин, жужжание насекомого, чириканье птицы. Звуки, всегда раздражавшие ее, казались теперь дружелюбными, но удалялись, отступая перед волной страха. Ее руки, безжизненно лежавшие на подлокотниках, судорожно вцепились в них. Волна немного отступила. Как удержать ее, отогнать дальше? И как звезда возникло имя: Ян. Имя, означавшее тревогу, муку, экстаз… Ян, Ян, Ян… Дрожь проходила. Жизнь с Яном. Любовь с Яном. Ее руки расслабились. Ян.
Ян возник (хотя тогда она и не подозревала, что его так будут звать) еще до ее отъезда из «Холтона». Однажды вечером она сказала мисс Ламберт:
— Я часто думаю о…
— Конечно же, об университете, — продолжила та за нее. — Вот что тебе нужно. Ты ведь не разочаруешь меня, правда?
И она не разочаровала ее и поступила в университет на деньги скептика отца.
— Па, я хочу в университет, — заявила она как-то отцу в углу сада. Отец смотрел на цветы, на траву, на дом, избегая ее взгляда. — Ты мне разрешишь? — спросила она с улыбкой женщины, навязывающей себя незнакомцу.
— Что это тебе даст? — спросил он у резеды.
— Нужно же чем-то заниматься, — уклончиво ответила Элизабет.
— Довольно дорогой способ заниматься «чем-то», — проворчал он, впервые взглянув на нее. В его голубых глазах мелькнула искорка смеха, скептическая, но вполне дружелюбная.
Ей захотелось поцеловать его морщинистую щеку, но это было бы проявлением дочерних чувств, поэтому она с улыбкой парировала:
— Дорогой, но стоящий. Ты можешь себе это позволить.
Его глаза снова обратились к резеде.
— Что намерена изучать? Искусство?
— Искусство.
— Что ж, если мама не будет против, я оплачу расходы.
Он снова все переложил на мать, и разговор с дочерью перестал его интересовать.
— Ну, дорогая, — сказала мама, — если папа согласен, я не стану возражать. Не вижу в этом вреда. Но ты ведь не собираешься учительствовать, а? Надеюсь, ты сумеешь быстро выйти замуж.
Видимо, по ее мнению, искусство было легкой формой порока, которая не причинит девственнице непоправимого вреда.
Она с радостью поступила в университет и встретила там Яна.
Перед ней снова возник его образ — в полупрофиль, как тогда, когда она увидела его впервые… Но тут на ветку над ее головой уселась сорока и пронзительно заверещала, вдребезги разбив зеркало воспоминаний. Девушка открыла глаза и гневно воскликнула: «Пошла прочь!». Птица искоса, словно оценивающе, взглянула на нее и, решив не связываться, улетела.
Ее глаза снова закрылись, и осколки памяти слились воедино, дав стоп-кадр: Ян стоит в полупрофиль к ней и, слегка хмурясь, смотрит на танцплощадку.
Она проучилась в университете уже чуть больше года. Больше года? Невероятно. Месяц за месяцем, день за днем они оказывались в нескольких ярдах, даже дюймах друг от друга, а она не замечала его присутствия.
И вот — танцы, одна из обычных вечеринок студентов факультета искусств. Она отправилась туда со стайкой однокурсниц, отправилась с радостью, но без особой надежды.
— Я не знаю ни одного приличного кавалера, — поделилась она с подругами.
— Ничего, — ответили ей, — в кавалерах недостатка не будет.
Она танцевала с несколькими молодыми людьми, причем с истинным наслаждением, ибо обнаружила, что танцует хорошо. Это походило на мечту. Были ли у тех молодых людей лица? Наверное, но сейчас она не могла вспомнить ни одного. На память приходил лишь профессор ботаники в потертом зеленом смокинге, с которым она спорила о современной литературе.
Когда она присела передохнуть, положив на колени крохотную сумочку из серебряной кольчужки, рядом с ней оказался высокий темноволосый юноша, и незнакомый, молодой, чуть жестковатый голос произнес:
— Мы, кажется, встречались, мисс Уайкхем?
Молодой человек, не похожий на других. От него веяло нетерпением, даже когда он смеялся или говорил. Он стоял рядом, лицом к танцующим, и его голова поворачивалась то к ней, то к ним. Он словно говорил: «Давай же потанцуем», словно думал о чем-то другом, ожидавшем впереди. Все это она отметила моментально, так же как и широкий лоб, квадратную нижнюю челюсть, непослушную прядь черных волос…
— Так вы меня не помните? — спросил он и вдруг рассмеялся. — А вот я вас знаю.
— Боюсь, что вы ошибаетесь. — Она встала и вежливо улыбнулась. — Но почему…
— В последний раз мы встречались на пляже.
«На пляже? — молнией сверкнуло в ее сознании. — На моем пляже?»
— Я был тем мальчишкой, что приставал к вам на скале. Меня зовут Ян Колхаун.
— О!.. — Она почувствовала, что румянец заливает не только ее лицо, но и тело. Тот самый мальчишка, что спросил: «Ну как? Здорово?». Тот самый мальчишка, отец которого считал, что главное в жизни — заниматься любовью, драться и делать деньги. В ней шевельнулась враждебность к нему.
— Ах, да, — сдержанно улыбнулась она. — Помню. Вы жили недалеко от нас.
Что еще она знала о нем? Впрочем, мать что-то говорила… Но что?
— Да, — кивнул он, затягиваясь сигаретой, — если это можно назвать жизнью.
Они молча стояли посреди грохочущего бедлама, и она исподтишка рассматривала его: высокий, красивый, немного скованный. Он не походил на человека, озабоченного, как его отец, сексом, драками и добыванием денег. Смокинга у него, видимо, не было — он был одет в поношенный синий костюм и рубашку с потертым воротничком.
Ян вдруг повернулся к ней и отрывисто бросил:
— Извините, мне пришла в голову одна мысль… Крысы.
— Крысы? А, понятно, — пробормотала она, чувствуя себя полной дурой.
Он рассмеялся.
— Извините еще раз. Я думал о той работе, что провожу с крысами.
Ей привиделись исполосованные скальпелем, окровавленные крысы.
— Так вы не с факультета искусств?
Он скорчил презрительную гримасу:
— Нет, естественных наук. Учусь в аспирантуре. Искусство для тех, кто не знает ничего ни о чем. Или для девушек, убивающих время до замужества.
Она не успела обидеться — он рассмеялся заразительным мальчишеским смехом, невольно заставив ее улыбнуться в ответ.
— Есть и такие, — признала она, — но…
— А вот и одна из них, — воскликнул он, схватив ее за руку. — Вы только посмотрите!
— Где?
— Да вон там, — он показал на признанную красавицу первого курса их факультета, окруженную молодыми людьми. — Ну? Разве не самая идиотская представительница златокудрой безжизненности?
«Он не переносит девиц типа Линет», — с облегчением подумала она.
— Но я думала…
— Что именно?
— Нет, ничего. Если честно, я с вами согласна. Я просто подумала, что мужчины считают ее хорошенькой. Вот вы, например. Вы не находите ее привлекательной?
— Я? — Его высокомерное удивление граничило с нелепостью. — За кого вы меня принимаете? Уж не думаете ли вы, что все мужчины предпочитают блондинок и болтушек?
«Именно так меня и приучили думать», — чуть было не ответила она.
— Нет, но…
— Вздор. Она вам и в подметки не годится. Вот вы — красивая.
Она была ошеломлена. Потом ее наполнило неведомое прежде чувство благополучия и уверенности.
— А вы не знали? — удивился он.
Она молча покачала головой.
Он снова рассмеялся:
— Боже мой, я и не подозревал, что женщины бывают так скромны. Вы похожи на одну из тех женщин с портретов древнего семейства Борджиа: красивое удлиненное лицо, рядом с которым все остальные кажутся какими-то помятыми. Хотите сигарету?
Она покачала головой с таким странным ощущением, словно ее тащат на веревке за колесницей.
— Вскоре после моей неудачной попытки соблазнить вас у скалы, — продолжал он, — мы переехали. Вернее, переехали мы с мамой. Она не могла больше выдерживать постоянных пьянок отца. — Ян рассеянно вертел в пальцах сигарету. — Забавная штука жизнь. Казалось, стоит лишь освободиться от него — он, кстати, скоро умер, — и все разрешится само собой. Но все вышло наоборот, как в случае с уходящими на пенсию почтальонами. Они всю жизнь проводят на воздухе в любую погоду, а когда уходят на покой, тут же заболевают воспалением легких. Так и здесь — спокойная жизнь обернулась разочарованием. Ничто уже не держит тебя на взводе. Скучища. Как бы то ни было, через год после развода с отцом мама умерла. И я остался с дедушкой и бабушкой.
— Сочувствую.
— Да чего там! — махнул он рукой. — Давайте лучше потанцуем. Кстати, не могу же я и дальше называть вас «мисс Уайкхем». Как ваше имя?
— Элизабет.
— Ну а мое вы уже знаете. Может, перейдем на «ты»?
Она радостно кивнула.
И они танцевали, и в воздухе витало сумасшествие.
Она была счастлива танцевать с молодым человеком, который так объективно говорил о своих родителях, заботился о крысах, питал отвращение к унынию; который, как это ни невероятно, считал ее красивой и «не мог дальше» называть ее «мисс Уайкхем».
— Ты хорошо танцуешь, — сказал он.
— Благодарю вас, добрый господин, — ответила она и тут же обругала себя за это внезапное кокетство. Почему она так сказала? Это же совсем не в ее духе! Но он, похоже, не обратил внимания.
Музыка смолкла, и Ян сказал:
— Послушай, мне надо идти. Я должен повидать моих крыс.
— Спокойной ночи, — вздохнула она, расстроенная.
— Спокойной ночи. — Он повернулся, оставляя ее посреди опустевшего зала, но вдруг бросил через плечо: — Не хочешь взглянуть на них? Потом я подвезу тебя домой.
Через мгновение он уже вывел ее из душного залитого светом зала и с таким нетерпением повлек за собой по мокрой траве, что она рассмеялась.
Они шли под холодной луной, слыша в отдалении музыку. Она продолжала смеяться, не в силах остановиться.
— Что с тобой? — спросил он.
— О, — еле выговорила она, — это какое-то безумие!
Это действительно было безумием. Он тоже рассмеялся, потом схватил ее за руку и бросил:
— Пошли скорее, крысы заждались.
И они поспешили к длинному белому зданию, лишенному каких-либо архитектурных излишеств и потому выглядевшему стерильным. В чистых коридорах стоял странный запах. Что бы это могло быть? Вмешалась ее извращенная память. Она вспомнила, как отворачивалась мать, ставя ей в детстве клизму. Она снова хихикнула и невольно подумала: «Я истеричка».
— Вот мы и пришли. — Он распахнул дверь.
Большая комната, уставленная вдоль стен столами и раковинами. В конце ее — клетки с крысами. Ее охватила дрожь отвращения, и она остановилась у двери, а Ян поспешил к своим подопечным.
— Ты похож на заботливого отца, — сказала она и прикусила губу: опять ляпнула не то.
Но он не слышал ее; все его внимание поглотили крысы. Она заставила себя приблизиться и увидела маленькие серые тела, жалкие и в то же время кошмарные, распластавшиеся на полах своих клеток. Она не заметила в них ничего особенного, если не считать их лихорадочно вздымавшихся и опадавших боков.
— Мне кажется, они дышат слишком часто, — проронила она.
Ян поднял одну крысу за хвост, и девушку охватил страх, что он сунет ее ей под нос; она еле сдержалась, чтобы не сделать шаг назад.
— Черт! — тихо произнес он.
— В чем дело? — еле слышно поинтересовалась она.
— Готова. Не выдержала. А, ладно… — Он пересек комнату и бросил маленькое тельце в коробку.
Элизабет вздрогнула. Жуткая наука, жуткий ученый, бесчувственный спаситель человечества, спокойно произносящий: «Не выдержала». Каких неслыханных мук не вынес бедный зверек? Этот мужчина ужасал ее, она была уже готова возненавидеть его.
— Почему мужчины так бесчувственны? — воскликнула она.
— Что? — рассеянно отозвался он.
— Почему… А, неважно.
— Я отвезу тебя домой.
— Хорошо. А где машина?
— Машина? Я не могу позволить себе такую роскошь. У меня мотоцикл.
Ну и ну! Ее гнев быстро сменился тревогой.
— С коляской? — спросила она без всякой надежды.
— Зачем мне коляска? — удивился он.
Она осторожно уселась позади него, и он скомандовал: «Держись крепче за мою талию, чтобы не свалиться». И вот они несутся в сторону ее дома; ее длинная юбка скручена между ног; она отчаянно держится за его талию, а луна мечется по небу.
У калитки она соскочила с мотоцикла и прокричала:
— Спокойной ночи! И… спасибо!
— Спокойной ночи. До скорого, — прокричал в ответ он, мотоцикл взревел и унес его прочь.
Мать не спала.
— Это ты, Элизабет? — окликнула она, и девушка покорно пошла в ее спальню. — Хорошо провела время, дорогая? Кажется, я слышала мотоцикл?
— Правильно, — весело отозвалась она. — Меня привез молодой человек.
— Вот как?
— Помнишь Колхаунов? Так вот, это был Ян.
— А… Бедный мальчик! Его несчастная мать… умерла вскоре… («Ох уж эти унылые взрослые!» — подумала Элизабет.) Бедный мальчик! У него же совсем нет денег. Его отец пропил все…
— Не страшно! — ответила она, поцеловала мать и поспешила к себе.
Каким живым казался шар в ту ночь! Лев рычал, как мотоцикл; Орион бродил и покрикивал… Весь шар пришел в движение. Девушка улыбнулась, синий глобус растворился, и она уснула.
Сонная, расслабившаяся в редкой теплой тени эвкалипта, она и сейчас испытывала экстаз той первой встречи. Экстаз и… тревогу. Эти ощущения со временем лишь усилились, и она продолжала цепляться за Яна, как цеплялась тогда, на мотоцикле. Ее не оставляла уверенность, что так будет всегда, даже когда они станут солидной седовласой парой. «Если он когда-нибудь приедет, если мы когда-нибудь поженимся», — прошептала она.
«До скорого!» — крикнул он и с ревом испарился в лунном свете. Было ли это обещанием? Непонятно, а она приучила себя все тщательно планировать, заблаговременно устанавливая сроки. И сейчас она жаждала более традиционного подхода. «Когда я снова увижу вас?» Даже столь избитый вопрос был бы лучше этого «До скорого». Может, это просто бессмысленная учтивость, вроде словечка «дорогой», которым Линет называла своих обожателей, постоянно трезвонящих по телефону?
Следующие три недели она выглядывала его в университете, прохаживаясь рядом со стерильным храмом науки, который величала про себя «Крысиным домом». Лишь однажды за все это время ей показалось, что она видит его среди шумной толпы. Она хотела было броситься вслед за ним, но ноги отказались повиноваться. Почему? Что ее испугало? То, что «так не принято»? Или же при свете дня магия кончилась, и он уже значил для нее не больше, чем молодые люди с факультета искусств, с которыми она болтала и смеялась в перерывах между лекциями?
В конце третьей недели она внезапно решилась позвонить ему, вскочила из-за обеденного стола и набрала номер университета. Слушая гудки, Элизабет лихорадочно соображала. Как позвать его? «Пожалуйста, будьте добры мистера Колхауна из «Крысиного дома»? Бред… На другом конце ответили: «Университет», и она в панике бросила трубку.
«Ты дура, — сказала она себе. — Ты не Линет, и тебя не окружают толпы поклонников. Ян первый заинтересовал тебя всерьез. Это шанс. Но, с другой стороны, он всего лишь один из множества «янов», возящихся с пробирками в «Крысином доме». Беда в том, что ты слишком впечатлительна. Ты не можешь встретиться с мужчиной моложе пятидесяти больше, чем на пять минут, чтобы не… Что «не»? Чтобы не влюбиться?..»
Под ее рукой зазвонил телефон.
— Мисс Уайкхем дома? — отрывисто спросил его голос. Его!
— Я слушаю.
— Это Ян Колхаун.
— А, привет!..
— Как поживаешь? — вежливо поинтересовался он.
— Прекрасно, спасибо. А ты? Как твои крысы?
— В порядке. Вернее, наоборот. Те, которых ты видела, подохли. У меня новая партия. С ними все хорошо… пока.
— О… — тупо отозвалась она.
— Послушай, я собираюсь в кино. Не хочешь составить мне компанию?
Она согласилась. Они договорились на следующий вечер и повесили трубки. Вот так!
В тот день Элизабет прогуляла лекции. «Уж не влюбилась ли я?» — спросила она свое отражение в зеркале — длинноносую Борджиа, причесывающую длинные темные волосы. Вероятно, нет. Это не имеет значения. Главное, она чувствует себя очень счастливой. Просто чудо, что телефон зазвонил в тот самый момент. И она увидит его опять. Сегодня же вечером.
Перед уходом она весело поцеловала мать.
— С кем встречаешься, дорогая?
— С Яном.
— С Яном? А, юный Колхаун… Ну что ж, повеселись. Только не возвращайся слишком поздно. Тебе надо больше спать.
— Можно подумать, что я старая развалина! — рассмеялась она.
— Привет.
— Привет. Я не опоздала?
— Нет, ты вовремя, слава Богу. Ненавижу ждать, а ты?
Его вовсе не интересовал ее ответ. Сегодня он был таким же, как на танцах. И она была такой же. Она смотрела на экран, и ее заполняла странная мечтательность, ощущение, что она пребывает в каком-то особом, нереальном мире.
Ни о чем не спросив Элизабет, он просто привел ее туда, куда шел сам. Она уже видела этот фильм, но ничего не сказала.
— Я нечасто хожу в кино, — сказал он в перерыве, — только когда есть время и показывают то, что мне интересно.
— И я, — кивнула она.
— Конечно, нельзя относиться к фильмам всерьез, — добавил он. — Я хожу, чтобы развлечься.
Она ходила только на фильмы, которые, по ее мнению, того стоили, и воспринимала их вполне серьезно, но решила об этом умолчать.
Начинался завораживающий, разочаровывающий, вознаграждающий, пугающий и бесконечный процесс познания другого человека.
После кино они выпили кофе, и он проводил ее домой. Из страха перед мотоциклом она надела широкую юбку. И напрасно — назад они ехали на трамвае.
Она пригласила его зайти. Он согласился. Она предложила ему выпить, и он снова не стал возражать, заметив, что виски куда лучше того жуткого кофе, что они пили час назад. И она добавила к его портрету еще один штрих: он не любит кофе, который варят в городских забегаловках.
— Пора идти, — вдруг сказал он.
— В «Крысиный дом?»
— Нет, домой.
Никаких нудных объяснений. Его не удивило, что она не считает странным, что он мог отправиться в такое позднее время к своим крысам. Девушка ликовала.
— Приходи к нам в воскресенье на ленч.
— С удовольствием, но сейчас мне пора возвращаться в мою холостяцкую берлогу, поближе к крысам.
— Сочувствую.
— Мне нравится.
— Рядом с крысами?
— Главное — уединение. Никто не мешает мне, и я никому не мешаю.
Это могло быть и предостережением: не пытайся разделить со мной мое, не посягай на мое одиночество, мои вкусы — только мои. Но она, поцеловав на ночь мать и юркнув в постель, решила ему не следовать. «Мы говорим на одном языке», — сказала она шару.
В воскресенье он пришел на ленч, и во время общей вежливой беседы она задалась вопросом: а что думает отец? Не тревожит ли его это? Нет, он слишком стар. А мать? Ну, она-то известно о чем думает: приятный молодой человек, но ему не повезло с родителями, и у него нет денег. Прекрасно, что он дружит с Элизабет, но не больше.
Однако главную угрозу представляла Линет. Не понравится ли она ему? Не было ли его отвращение к той красивой первокурснице напускным?
Линет, как всегда, являла собой само очарование. Элизабет сухо представила ее Яну, отошла к окну и стала мысленно молиться, пока Линет, улыбаясь, строила ему глазки и что-то лепетала своим серебристым голоском. Он отвечал вежливо, но не более, и когда Линет, наконец, прощебетала: «Простите, но мне пора бежать, у меня свидание с Джонни», Элизабет вздохнула с облегчением. О, Джонни бы подождал, если бы она поймала на крючок Яна! Но на этот раз у нее ничего не вышло, и она была в ярости: как же, гадкий утенок привел в дом мужчину, а этот дурак, олух, болван не клюнул на красавицу Линет.
— Как тебе Линет? — спросила она, когда они прогуливались по саду.
— Хорошенькая. Но красивой я считаю тебя. Слушай, почему бы нам не поужинать где-нибудь в городе?
— С удовольствием, — ответила она с трепетом в сердце.
Вот так легко они начали встречаться. Когда у него было время, он проводил его с ней. Они выпивали где-нибудь по чашечке чая или кофе в дешевых ресторанчиках (он любил китайскую кухню, которую она терпеть не могла) — в такой вот обстановке она изучала его и окружающий мир. Особенно ей запомнился один субботний вечер, окрашенный серебристым сиянием, которое покрывало все — тротуары, людей, машины… И сквозь это сияние она впервые заглянула в его душу, в то, чего он боялся и что ненавидел.
Все сияло от дождя, шедшего, должно быть, все время, что они бродили по городу, но она не замечала его, видя лишь приглушенное сияние. Сливаясь с толпой и одновременно выделяясь в ней, они шли и шли, а вокруг мелькали фигуры, жесты, какие-то детали… Так они забрели на Роу-стрит, где за витринами магазинов маячили бледные лица продавцов, поджидавших клиентов.
— Не купить ли нам что-нибудь? — спросила она.
— Ага, — ответил он совершенно серьезно. — Четыре дюжины платьев, двенадцать дюжин шляп…
— И целую ванну орхидей.
Он быстро взглянул на нее и заметил:
— А ты без шляпки.
Она неопределенно пожала плечами.
— Ты вообще носишь шляпки?
— Никогда.
— Вот и отлично, — торжествующе заключил он. — Тогда не будем их покупать. Пошли отсюда.
Непонятная радость переполняла ее, радость от всего увиденного и услышанного. Когда они свернули на Пит-стрит, она схватила его за руку и воскликнула: «Посмотри-ка!». «Посмотри, — кричало ее сердце, — на этого старичка с поднятым воротником, катящего тележку с хризантемами!» Среди цветов торчала табличка «Бог есть любовь». Услышав ее восклицание, старик обернулся и что-то пробормотал (быть может, «Бог есть любовь»?), а золотистые цветы закивали головками, словно говоря: «Этот старик служит нам, мы служим Богу, а Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь…».
— Подожди, — услышала она голос Яна, увидела, как почти нечестиво подмигнул старик, и тут же в ее руках оказался огромный букет, и цветы кивали ей, словно заранее подтверждая все, что бы она ни сказала. «Я так счастлива!» — подумала она, и они закивали: «Ты так счастлива, ты так счастлива!..». Старик коснулся рукой края шляпы и укатил свои свидетельства любви.
— Замечательный старый негодяй! — смеясь, заметил Ян. — Он просто полон любви!
— Не придирайся. Уверена, так оно и есть.
— Что именно? Что он негодяй, или что он полон любви?
— И то, и другое.
На Кинг-стрит Ян остановился у кондитерской и провозгласил:
— Духи, украшения, миндаль в сахаре — все это я дарю тебе. Правда, только в теории, зато от всего сердца. Давай выпьем кофе, я сегодня щедрый.
В кафе пожилые женщины вокруг них пили, ели и с удивлением и ужасом обсуждали дела своих знакомых. «Старые обжоры!» — бросил Ян. А ей нравилось все, что бы ни говорил он в тот день, в тот час, в то мгновение. Официантка принесла им кофе, но девушка сидела, не прикасаясь к чашке, захваченная совершенством этого дождливого вечера, счастьем того, что рядом сидит Ян. Одним своим присутствием он оживлял все; казалось, окружающие предметы начинали вдруг проявлять свою живую суть и спрашивать: «Ты знаешь нас?». Но самым большим вопросом оставался он сам…
— В чем дело? — поинтересовался он. — Почему ты так пристально смотришь на салфетку? Она тебя заворожила?
— О, — вздохнула она и улыбнулась. — Не знаю… Да, я действительно заворожена, но… — «Ничего больше не говори, — предостерегла она себя. — Мы еще не сказали ничего личного. Не будь первой». Она презирала себя, но знала, что первым об этом должен заговорить мужчина. Иначе женщину ждет унижение.
Перед ними из ресторана выходили три пожилых, скрюченных ревматизмом леди, и Элизабет подумала вслух:
— Как много на свете старых больных людей!
— Верно. И от них следует избавляться.
Это было подобно грому среди ясного неба, и она воскликнула:
— Нет!!
— Да, — с улыбкой парировал он. — Эти люди никому не нужны, даже самим себе. Люди с неизлечимыми болезнями. Те, чьи дети стареют, ухаживая за ними, так как они все никак не могут умереть. Например…
— Прекрати! — свирепо прошептала она. — Прекрати немедленно!
— …Например, алкоголики. Какая от них польза?
Они уже не двигались в толпе так свободно, как раньше — наступали на чьи-то ноги, кого-то толкали, их толкали в ответ… Стало как-то теснее, появилось множество острых углов, как и в голосе Яна.
— Взять хоть моего отца, — продолжал он, ускоряя шаг. — Он был горьким пьяницей. Об этом известно всем, в том числе тебе и твоей матери. Какой от него был прок? Он ненавидел себя, ненавидел жену, ненавидел сына… Его переполняло чувство вины. Каждый уикэнд он запирался в сарайчике в углу сада, и время от времени оттуда доносилось позвякивание бутылки о стакан. Он говорил, что хочет уйти от всех как можно дальше. Все уикэнды, которые нормальные люди проводили на пляже. Не знаю даже, кого я ненавидел больше — нормальных людей или его.
Элизабет задумалась. Каждый уикэнд… Мужчина, лежащий во мраке сарая, пока там, на воле, солнце золотит песок и воду. Слушающий крики играющих детей. Ненавидящий их, пытающийся уйти от них и от себя, погружающий лицо в мешок, служащий ему подушкой…
— Сочувствую тебе, — прошептала она.
Прозвучало это банально и неубедительно, но он только бросил:
— Таким людям не следует жить.
Перед ними открылся мокрый, ярко-зеленый парк. Ян остановился, глядя невидящим взглядом на деревья и мокрые скамейки, на которых никто не сидел.
— Я обрадовался, когда он умер, — сказал он, — хотя практически и не знал его. У меня было такое ощущение, словно я от чего-то освободился.
Они молча подошли к грустной скамейке под деревом. Она была мокрой и на нее время от времени глухо падали крупные капли, как будто дерево оплакивало ее. Элизабет охватило наивное желание отождествить себя с Яном, слиться с ним в его несчастье, увидеть мир его глазами.
— Я тоже совсем не знаю своего отца, а мать… она совсем чужая, — сбивчиво заговорила она. — Линет же… В некотором смысле, вероятно, лучше быть сиротой.
Он расхохотался:
— Если бы ты была сиротой, ты бы так не думала. Никто так рано и так остро не понимает, что являет собой жизнь, как сирота.
Она почувствовала себя глупой и неопытной. В самом деле, что являет собой жизнь? И в то же время в его горечи ей почудилось некоторое высокомерие.
— О, люди добры, — продолжал он, — но всему есть предел. И сироты достигают этого предела раньше остальных. Сирота — существо до отчаяния самостоятельное. Поэтому, если у тебя есть гордость, — а у кого ее нет? — ты знаешь, что не можешь ныть и клянчить, как другие, те, кто может отдать долг. Обязанности по отношению к равным тебе людям уравновешиваются. Уверен, что твои родители никогда не чувствовали себя кому-либо обязанными. О, я говорю не только о деньгах… Если же ты сирота, и к тому же у тебя нет денег, ты никогда не станешь равным другим, пока не будешь свободным ото всех.
Уж не обиделся ли он?
— Ты всегда хочешь быть свободным… ото всех? — робко спросила она.
— Не знаю. — Он избегал ее взгляда; вид у него был подавленный и раздраженный. — Да какое это имеет значение? Пошли, посмотрим хронику.
На экране мелькали красавицы-купальщицы, напрягали мускулы борцы, дергался и сверкал разделенный на части мир, и она видела в нем отражение их с Яном разделенности. Вот он сидит рядом, в каком-то дюйме от нее, но мысли его не с ней. Он обитает в таких сферах, которых ей никогда не узнать. Мужчина с экрана послал ей широкую улыбку и пошутил. Бойкие слова гремели в зале в десять раз громче, чем в жизни. Ян посмотрел на нее и тоже улыбнулся. Гигант на экране смеялся.
«Каждый человек — остров» — всплыла в памяти цитата. Но, как бы то ни было, они являются частью друг друга. Но часть не поглощает целого. Никто, как бы ни был он близок, как бы ни любил и ни был любим, не смотрит твоими глазами, не думает твоей головой, не чувствует твоим сердцем. Ее шар значит для нее одно, для него — другое. Его крысы значат для него одно, для нее — другое.
И сейчас, под своим эвкалиптом, она начинает понимать, что обособленность неизбежна. Ее следует признать, и ничего тут страшного нет. И вот приглушенные звуки летнего утра внезапно зазвучали громче, словно она — другая, более мудрая, чем прежде — услышала их по-новому. Так, должно быть, слышат миссис Джири и доктор Лернер. Таинственный, тихий, умный доктор Лернер… Она покорно сидела, прислушиваясь.
Сад за ее спиной шушукался. Лепестки и листья роз соприкасались под бесшумным бризом, маки кивали головками в еле слышно звенящем воздухе, высокая трава шепталась с туфлями доктора Лернера, опять задумчиво прохаживающегося в одиночестве взад и вперед.
— Уф, ну и жарища! — высказался мистер Дейли, вернувшись на веранду и снова опускаясь в свое кресло.
— Ну, ты спросил? — нетерпеливо заерзала его жена.
— О чем?
— О ней, разумеется! Только не говори, что забыл.
— Ах, о ней? Нет, дорогая, не забыл. Но мы обсуждали другие, более важные темы. Он умный парень, этот доктор.
— О Боже! И как ты только умудряешься деньги зарабатывать, понять не могу! Или всеми делами заправляет твоя секретарша? В это я бы охотно поверила.
— Кончай, старушка, я…
— Ты что, уже забыл вчерашний вечер? А Элеонор? И не смей называть меня «старушкой». Воск в чужих руках — вот ты кто! — Поддаваясь раздражению как избавлению от скуки и бранясь ради брани, она показала на доктора Лернера: — Он… Он не проболтался, а говорил с тобой на «более важные темы». Ты прав, он-то умен, чего о тебе не скажешь. Да этот доктор из тебя веревки вьет! А если уж он может проделывать такое с тобой, что тогда говорить о женщине? Да-а…
— Заткнись!! — Мистер Дейли разозлился не на шутку; все признаки были налицо: жесткий взгляд, плотно сжатые губы, пульсирующая жилка на виске. И она сразу успокоилась, радуясь его гневу — таким он ей нравился, таким он больше походил на человека, умеющего делать деньги.
— Спроси его сама, — предложил он.
— Вот еще! — огрызнулась она.
— Тогда спроси ее.
Миссис Дейли посмотрела на сад. Во всех этих цветах и травах, залитых режущим глаза солнцем, было что-то отталкивающее. Посмотрела она и на фигурку под деревом. Чтобы добраться до нее, надо пересечь яркий, чуждый ей мир, да еще и в туфлях на высоком каблуке…
— Слишком жарко, — пробормотала она.
— Тогда помолчи, — примирительно произнес мистер Дейли; жилка перестала подрагивать, а маленькие глазки повеселели. Он снова взялся за журнал.
Все же приятно, когда Артур проявляет властность. Ну да ладно. Миссис Дейли достала зеркальце и опять принялась рассматривать свое лицо, волосы, ногти. Мерцающий сад застыл в ожидании. Начинался извечный ритуал. Вскоре она взорвется от скуки — взорвется словами, поступками, эмоциями. «Еще как!» — молча пообещала она, поправляя прическу.
Бриз улетел, шушуканье стихло, и Элизабет едва слышала мир вокруг себя. Где сейчас Ян? Что делает? Он так нужен ей… Она изогнулась в шезлонге, пытаясь стряхнуть с себя невидимые оковы настоящего и прошлого.
Тогда, выходя из кинотеатра, она придумала себе головную боль, и он проводил ее домой. Не головная боль, головокружение одолевало ее. Она хотела остаться наедине со своим одиночеством.
«Он не любит меня. Я бы уже знала, если бы он любил», — думала она, ворочаясь в постели и тщетно пытаясь читать. Примерно через час у калитки остановилась машина, хлопнула дверца, и заструился серебристый смех — вернулась Линет со своим кавалером. Слава Богу, что у них с сестрой разные спальни! Она ждала, когда калитка закроется. Прошла минута, две… Вдруг Линет испуганно вскрикнула, и послышался новый голос… голос Яна! Перед ней моментально возникло нелепое и отвратительное видение: скинув маску безразличия к Линет, он похотливо ждал в темноте ее возвращения. В следующее мгновение она выскользнула из кровати и замерла у окна.
— Вы меня напугали, — кокетливо пожаловалась Линет. — Я приняла вас за грабителя.
— Я ждал, — невозмутимо ответил он.
— Ждали? Чего?
— Когда погаснет свет в комнате вашей сестры. Вам это кажется ненормальным?
Обрадованная Элизабет распахнула окно и крикнула:
— Эй, ты все еще здесь?
— Да, — над оградой показалась его голова. — Вот объясняю твоей сестре, что я не бандит, а бедный Ромео.
— Обманщик! — фыркнула она. — Я думала, ты давным-давно ушел.
Линет, с лицом оскорбленной добродетели, и ее молчаливый спутник — юный и смущенный — вошли в дом, но Элизабет не обратила на них внимания.
— Что ты там поделываешь?
— Да вот, брожу по округе и наблюдаю за жизнью богачей. Я уже обчистил все особняки, кроме вашего. Мои карманы полны серебряных столовых приборов.
— Глупенький! — ласково улыбнулась она.
— Они весят целую тонну. Надо пойти и расплавить их, может, хватит на наш медовый месяц. Извини, что я был весь вечер таким мрачным. Спокойной ночи.
Она лежала в темноте, и ее сердце пело: «Он любит меня! Любит, любит, любит!..».
То взлетая на вершины единения, то падая в пропасти неразделенности, она снова и снова спрашивала себя: почему я люблю его? Несказанно сладкий вопрос для размышлений и неописуемо трудный для ответа. Ее сердце отвечало без колебаний: потому что он замечательный. Но разум, с воспитанной в нем мисс Ламберт разборчивостью, возражал: а почему он, по-твоему, замечательный?
Что у них общего? Они хорошо танцевали вдвоем, но это получалось и у многих друзей, даже у братьев и сестер. Их обоих увлекала музыка, но по-разному, как выяснилось на первом же концерте, который они вместе посетили. Они слушали Первый концерт Брамса, потом Баха. Ее музыкой был Брамс: шторм и дыхание, гордость и печаль, а посреди всего — маленькое скерцо, неописуемо значительное и волнительное. «Любовь, любовь», — шептало ее сердце, и скерцо замирало в отдалении — она уже не слышала его, но оно продолжалось где-то там, куда улетело.
И сейчас, полтора года спустя, оно звучало в птицах и листьях над ее головой.
В перерыве, в толкотне вестибюля она попыталась объяснить ему, что означает для нее эта музыка. А он улыбнулся и покачал головой:
— Нет. Для меня Брамс слишком витиеват. Витиеват и сентиментален. Никакой ясности. Никакой чистоты. Вот подожди Баха…
— Да знаю я Баха! — с досадой возразила она: этот Ян Колхаун напоминал иногда паровой каток.
— Вот это музыка! — объявил он. — Бах мог бы быть ученым.
— Ну уж нет… — в отчаянии начала она, но тут прозвенел звонок, и они пошли слушать Баха.
Красиво, но не так, как у Брамса, ибо не было в нем той печали и великолепия, трепетать от которых ее научила мисс Ламберт.
— Так в этом-то все и дело, — настаивал он, когда они ехали домой в трамвае. — Бах конкретен, он контролирует себя, знает, куда идет, а когда знаешь, куда идешь, добираешься туда быстрее.
— Как ученый? — поддразнила она. — А куда идешь ты?
— Я иду к открытию. Хочу выяснить, что вызывает рак у крыс, — очень серьезно ответил он, и ее пронзила внезапная острая боль: это для него важнее всего.
— Да, как ученый, — продолжил он. — Или, скорее, как архитектор. Он строит дом в уме. Послушай, ты описала мне, что заставляет тебя видеть Брамс. А знаешь, что заставляет меня видеть Бах?
Он рассказал, и его восторженность поневоле заставила ее увидеть то, что видел он: в этой музыке не было вуали, которая, оставаясь невидимой, все же скрывает от взора все то, что знают сердце и голова. Она выстраивала здание, заставляющее людей поднимать головы и радующее их сердца. Спокойная, размеренная и бесстрастная, лишенная печали и полная уверенности, эта музыка возводила то плотные, подпираемые аккордами колонны, то дивные изящные шпили. Она вырастала башней у самой Луны, прибавляя ей сияния. Она вбирала в себя серебристый свет, разлитый над Сиднейским заливом, пока, наконец, не наполнялась всем, что ты думаешь, знаешь, спрашиваешь. И давала ответ — ответ на волнение, боль, радость, холод, жару, на жизнь камня и стоящего на нем человека. А потом, с суровым достоинством, эта музыка оценивала все созданное ею и… кончалась.
Несколько мгновений она разделяла его ощущения. А потом была остановка. Звякнул звонок, трамвай загрохотал дальше, и они снова разделились на две части — два сидящих рядом человека в окружении зевающих, спешащих лечь в постель людей.
— Извини, я немного увлекся. Но не могу понять, как ты не замечаешь разницу.
— Я вижу ее, — грустно сказала она, — хотя иногда разницы и нет. Такое же ощущение вызывает у меня поэзия.
— У меня поэзия не вызывает подобного чувства.
Она была благодарна ему за то, что он поделился с ней чем-то сугубо своим, сокровенным, но испытывала странную ревность и грусть от того, что его мнение так не схоже с ее. Как если бы две вращающиеся сферы услышали на мгновение издаваемую ими музыку.
— Иногда в тебе просыпается мужской ум, — заметил он позже. — Но чаще ты просто женщина.
«Ты презираешь женщин», — подумала она. Глупо, ведь она сама ни во что не ставила большинство женщин, которых знала — свою мать, Линет… Опечаленная тем, что у него, оказывается, есть своя поэзия, чуждая ей, она все же спросила:
— Тебе нравятся стихи? Ты читаешь их когда-нибудь?
— Редко, — рассмеялся он. — У ученых нет на это времени. А ты?
Она машинально кивнула и сказала скорее себе, чем ему:
— Я и писать их пытаюсь.
— Не получается? — сочувственно спросил он.
Сочувственно или снисходительно?
В постель она легла с ощущением грустного счастья и, как часто бывало раньше (да и после), попыталась выразить свою досаду в стихах, которым поклялась в «Холтоне» посвятить себя. Но слова не приходили, и она попыталась оправдаться перед самой собой, сказав: «Это он виноват. Он мешает».
Она все еще смотрела на чистый лист, когда к ней влетела раскрасневшаяся Линет. «Я чудесно провела время!» — прожурчала она. В своей радости она, похоже, забыла на время о неприязни к сестре. Но та, взглянув на нее, сухо посоветовала:
— Застегни верхние пуговицы на платье прежде, чем пойдешь пожелать спокойной ночи маме.
Линет смутилась и проронила: «Спасибо». Ее щеки залила краска. В ярости от того, что ее устыдило это бледное существо с тревожным взглядом, которое, по нелепости судьбы, доводилось ей сестрой, она тут же забыла о благодарности. «Ты и в самом деле синий чулок», — хихикнула она и упорхнула.
«Синий чулок? — спросила себя Элизабет, оставшись наедине с чистым листом и своими мыслями. — А он полагает, что я порой слишком женственна. Похоже, мне нет удачи ни в том, ни в другом».
Нет, решила она, поворачиваясь на шезлонге, мы не были похожи или ближе больше, чем другие люди. Он сказал, что у меня мужской ум, и тут же поправился — лишь временами. Видел бы он меня сейчас…
Солнечный луч пронзил листву и упал на ее лицо. Она со стоном отодвинулась.
Он, все же, другой, более сдержанный. Когда они хохотали — в кино или при виде какого-нибудь идиотизма на улице, — он всегда прекращал смеяться первым. Когда он веселился, ел, пил, то всегда сохранял рассудительность и… помнил о крысах. Треклятые крысы!
«Но разве ты не такая же?» — пришло ей в голову. Не совсем. Как бы то ни было, я думаю о нем и о себе, и еще, быть может, о поэзии, но не о крысах. «Не дури», — прошептала она и нарочно повернула голову под солнечный луч. Но так было. Даже когда они занимались любовью, она иногда чувствовала, что он где-то далеко. И почему любишь такого непохожего на тебя человека?
«Ты красива», — сказал он в самый первый раз, сказал без каких-либо эмоций, давая объективную оценку. (Его объективность могла и возвысить и раздавить.) Не была ли эта фраза тем запалом, который зажег ее сердце? Наконец-то кто-то из ее ровесников счел ее лучше Линет!
Но чтобы любить его по-настоящему, она, Элизабет Уайкхем, должна любить умом не меньше, чем сердцем. А именно так она его и любила. Ум, что менял свой пол, как хамелеон меняет свой цвет, но не ради безопасности, а, скорее, наоборот — этот ум любил его. Этот нелепый ум нуждался в постоянной подпитке. Что же удовлетворяло его в Яне Колхауне?
Именно то, что обижало порой ее сердце: в нем было нечто сильное, холодное и свободное, бравшее начало в его прошлом — полной противоположности ее семье и «благополучным», обеспеченным молодым людям. Независимость, граничащая зачастую с грубостью, пленяла девушку. Враждебное отношение к общественному положению, безжалостный взгляд на старость и болезнь, отстраненность… Она знала его имя, его родителей, его работу (смутно); знала, что он беден и снимает комнатенку недалеко от университета. Но больше ничего. Его окружала тайна. И это был вызов.
Его независимость служила магнитом. Однажды вечером во время прогулки на пароме в Мэнли она забросала его вопросами:
— Что ты делаешь, когда не занят с крысами?
— Тогда я с тобой, — рассмеялся он.
— А когда не со мной? Ты ведь не все время со мной… — она попыталась обратить все в шутку, не желая казаться кокетливой или требовательной.
— О… — он зевнул и потянулся. — Не знаю. Сплю.
— Столько времени?! — О небо, это прозвучало так, словно она требовала больше времени для себя!
— Почему бы и нет?
Нос парома обтекала черная вода. Мимо, в величавом танце, проплывали огни города. Она не могла остановиться, как не могла прекратить струиться вода.
— Дома мы всегда плотно завтракали, — сказал вдруг он. — В основном из-за отца. Бекон и яйца, или почки… или кеджери. Ты любишь кеджери?
— А что это такое?
— Ты даже не знаешь? Это блюдо из рыбы с рисом и яйцами.
— А чем завтракаешь ты?
— Ну… завтракаю. — Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, полуприкрыв глаза.
— Чаем с тостами?
— Не волнуйся ты об этом. Здесь так чудесно.
— Да, — вздохнула она.
Чай с тостами или вообще ничего? Она знала только мужчин, которые хорошо питались тем, что им готовили другие.
Паром обогнул мыс Брэдли, и перед ними открылась магическая водная дорожка к Мэнли. В отдалении восточные пригороды вытянули свои украшенные драгоценностями руки в море. Послышалось глухое рычание, и из огней бухты Роуз возник серебристый силуэт с плюмажем у носа.
— Гидроплан, — определила она. — Из дома мы их видим постоянно.
Ян не слушал. Наклонившись вперед, он не отрывал глаз от скользящего мимо красавца. Звук достиг апогея, и самолет, оторвавшись от воды, исчез на севере.
— Занятная штучка, — пробормотал он, снова откидываясь назад и прикрывая глаза.
Вода продолжала струиться мимо, двигатель вибрировал, началась сильная качка. Она схватила его за руку, чтобы не упасть. Ян уперся ногой в перила и рассмеялся:
— Что, морская болезнь?
— Нет, ничего подобного, — отозвалась она и тут же воспользовалась его настроением, чтобы спросить: — Какая у тебя комната?
— Ты ее видела.
— Я говорю не о лаборатории, а о комнате, в которой ты живешь.
— Обыкновенная комната.
Ей захотелось схватить его за плечи, встряхнуть и потребовать: «Расскажи мне!», но она лишь спросила:
— Какого цвета у тебя шторы?
— Даже не помню. — Он заложил руки за голову и взглянул на нее. — Что-то вы сегодня очень любознательны, мисс Уайкхем. Зачем вам все это знать?
Девушка вспыхнула, но в темноте он ничего не заметил.
— Да так, просто интересно, — с деланной небрежностью бросила она.
— Почему вы решили подвергнуть меня допросу с пристрастием? — Он улыбался, но в его тоне чувствовалось предостережение.
— Вздор, — возразила она, и они надолго замолчали.
Как могла она сказать: «Я хочу представить тебя таким, каким ты бываешь в любое время дня и ночи, чтобы знать: вот он ложится спать, и красно-белое покрывало на кровати кажется черно-серым в темноте; вот он просыпается, и солнце просвечивает сквозь зеленые занавески; вот он чистит зубы своей голубой зубной щеткой…» Но она не знала даже, есть ли у него покрывало и занавеси, не говоря уж об их цвете. Не думает ли он, что его комната смутит, отпугнет Элизабет Уайкхем, привыкшую к роскоши и комфорту? Или он просто не желал, чтобы кто-нибудь, в том числе и она, знал это?
Навстречу им двигалась башня огней. Приближаясь, она удлинялась, и вскоре мимо них проскользнул паром, идущий в Сидней.
— «Корабли, проходящие мимо в ночи», — тихо процитировал Ян. — Эта фраза всегда трогала меня. Правда. Почему становится так грустно, когда два судна расходятся в ночи?
«Я не знаю, — думала она, когда они сошли на берег, чтобы погрузиться в игру света и шума Мэнли, — я не знаю и десятой доли того, что знает он».
Они бродили по улицам, потом оказались на набережной Тихого океана и молча стояли там под шепчущимися кронами сосен, ощущая на лицах влажное дуновение из темноты. Вот так всегда: они или молчали, или спорили. Спорили до изнеможения о музыке и людях, всегда других людях, не о себе. Стоя тогда рядом с ним, она с радостью бы принесла в жертву и Брамса, и Баха, лишь бы узнать, какого цвета его шторы и зубная щетка.
Далеко в море мелькнул огонек, исчез, появился опять: катер из Ньюкасла. Если бы Ян снова сказал что-то о судне, проходящем в ночи, она бы заплакала, ибо, как он и говорил это действительно было трогательно. Девушка невольно поежилась.
— Замерзла? — спросил он.
— Немного, — ответила она, и они, оставив песню океана и сосен, вернулись на пристань.
И снова вода струилась у носа парома, и снова мимо проплыла башня света встречного судна. Он хранил молчание. Она смотрела на небо, ни о чем не думая.
— Орион.
Тихо произнесенное им слово упало в ее мозг, и, пока еще расходились круги от него, к ней пришло решение. Орион, шар. Она покажет ему часть себя — шар, и он ответит взаимностью.
— Посмотри-ка на него, — негромко говорил Ян. — Старина Орион прогуливается по небу. Такой огромный, что его трудно разглядеть. Видишь? Те три звезды в ряд — это его пояс. А вот — торчащая рукоятка меча. Выше — его голова. А вот его шагающие ноги, видишь? Он прекрасен. Статуя в небе.
Зная Орион лучше него, она слушала с довольной улыбкой.
Когда они приехали к ней домой, она принесла шар (после возвращения из «Холтона» он впервые покинул свое место рядом с ее кроватью), испытывая какой-то необъяснимый страх. Никто, даже Ян, не мог понять его. Он мог сказать что-нибудь непоправимое и ранить навсегда, не сознавая этого. Робко улыбаясь, она поставила шар перед ним.
— Я решила показать его тебе, — пояснила она и затаила дыхание.
Какое-то время Ян, как оглушенный, смотрел на шар, потом осторожно коснулся его пальцем, совсем как она тем давним дождливым вечером в чулане. Убрав палец, он глубоко засунул руки в карманы.
— У меня был только плюшевый медвежонок, — прошептал он, не спуская глаз с шара.
Замечательные слова! Он понял! В экстазе счастья она сжала его руку, повторяя про себя: «Я люблю тебя, я так сильно люблю тебя!» Вот подходящий момент задать свой вопрос — теперь он обязательно ответит!
— А теперь скажи, как выглядит твоя комната?
Он переменился в лице.
— Просто место, где я сплю.
— Да, но какая она?
— О, женщины! — в смятении воскликнул он. — Все-то им надо знать! Я пошел. Спокойной ночи.
Сейчас она понимала, что за эту таинственную свирепость и любила его так сильно. За его отличие ото всех, кого она знала. Потом она любила его еще сильнее за мягкость, ребячество, уязвимость, которые постепенно, шаг за шагом, открывала в нем.
Однажды тихим теплым вечером, слишком хорошим, чтобы тратить его на кино, они спустились на пляж.
— Здесь гораздо спокойнее, — мирно заметила она.
Перед этим они беззлобно пререкались по поводу ее слуха — полной неспособности воспроизвести мелодию. Пока она вела его вниз между скал, он все удивлялся:
— Невероятно, чтобы женщина с таким чувством ритма, так хорошо танцующая, любящая музыку…
— Но не такую как ты, — поддразнила она.
— …Хотя и не такую как я, увлекающаяся поэзией, не могла отличить одну ноту от другой.
— Не могу, — весело подтвердила она. — Что правда, то правда.
— Спой мне «Боже, храни королеву», — велел он.
— Не могу.
— Можешь. Я тебе помогу.
— Не стоит, — улыбнулась она. — Честно, я не смогу.
— Но это же смешно!
Каким далеким кажется теперь тот вечер, а было-то это всего год с небольшим назад! Они созерцали мелькавшие на воде блики — блуждающие, таинственные, никак, казалось, не связанные со степенно светившей луной.
— Смешно! — повторил он, сел на песок и принялся сначала рассеянно, а затем деловито собирать осколки разбитой бутылки из-под пепси-колы и складывать их в кучку.
— Я помогу, — сказала она и подкинула ему пару осколков.
— Ну нет! — поспешно и совершенно серьезно возразил он. — Этим я всегда занимался сам. Обычно я прибирался в конце пляжа, — он взглянул на Большой камень, — иногда и там тоже, пока ты играла в другом конце. А однажды я наводил порядок на дороге. Ее залили гудроном и засыпали щебенкой, а я пытался собрать отлетевшие осколки. Но закончить я не успел — мать отвела меня домой и отшлепала за то, что я вывозился в гудроне. Я горько расплакался, но не потому, что мне было больно, а потому, что понял внезапно безнадежность своих усилий.
Он напевал что-то про себя, пока не собрал все осколки, потом закурил. Обычно она обижалась, когда он не предлагал сигарету и ей, но не сейчас. Сейчас Ян был самим собой — маленьким мальчиком, жившим, как и она, в своем собственном мирке. В нем появились какая-то простота и спокойствие.
— Странно, — прошептал он, глядя в воду. — В детстве часто имеешь свои представления о том, как должны обстоять дела, и когда они складываются не так, считаешь это катастрофой. Скажем, торт на день рождения должен быть с розовым кремом, если же нет — праздник испорчен. Но есть и другие представления, которые берутся как бы ниоткуда, кажутся частью схемы всей жизни, а не только данного случая. Я думал, что этот отрезок пляжа должен, просто обязан быть опрятен. Если же нет, случится что-то неприятное. Поэтому я и стремился навести здесь порядок…
Она ясно увидела маленького мальчика, в одиночестве подбирающего мусор.
— И еще был плюшевый медвежонок, спавший со мной. Его звали Нат. Днем он оставался на моей подушке. Я знал, что мать сбрасывает его на пол, когда убирает постель. Разумеется, винить ее нельзя, но мне это казалось ужасным, и каждый день после того, как она заканчивала уборку, я пробирался в спальню и усаживал Ната на подушку, чтобы он мог все видеть. Если мне это почему-то не удавалось, я чувствовал себя весь день просто ужасно. Я переживал за Ната, так как знал, каково бы было мне, если бы меня бросили куда-то лицом вниз, или мне пришлось бы весь день смотреть в стену. — Он потянулся. — Но все проходит…
— Не говори так, — прошептала она.
— Ответственность! — насмешливо продолжал он, не слыша ее. — Вот что это было. Чувство ответственности, развившееся слишком рано. Наверное, поэтому я и хотел услышать, как ты поешь. Все должно быть на своем месте. Вставай, песок уже остыл… — Он поднял ее на ноги. — Уверен, твоя мать настаивает, чтобы ты береглась от простуды и больше спала… особенно после того, как появился я.
Мягкие, нежные слова обволакивали ее, как одеяло. Он, оказывается, вовсе не резок, а так же уязвим, как и она сама.
До сих пор он редко притрагивался к ней. Вероятно, потому, что считал ее вполне способной подняться в трамвай без посторонней помощи, а не потому что сознательно держался на расстоянии. Они гуляли бок о бок и разговаривали. Лишь иногда он прикасался к ее руке (и она вздрагивала и начинала трепетать, как дерево на ветру), но это не было даже намеком на ласку. Он был не из тех, кто по-братски кладет руку на талию или по-дружески обнимает. Да и она была «не из таких». Ее разборчивость и неопытность не позволяли считать это приятным. Поцелуй на прощание — другое дело, но и этого она не позволяла, пресекая попытки других мужчин не из страха или неприязни, а просто потому, что не желала, чтобы ее целовали. Она не разделяла мнения Линет, полагавшей, что раз уж мужчина выводит тебя «в свет», он имеет право надеяться на такое вознаграждение. Что-то вроде чаевых. Но она не хотела целоваться. Если уж парочка целуется, этого должны желать оба, иначе женщина оказывается или рабыней, или хозяйкой. Но сейчас она, наконец, захотела, чтобы ее поцеловали. Когда же он сделает это? Поскольку они оба удерживались от ласк, поцелуй — казалось ей — стал бы признаком их взаимной любви.
Стоя у двери ее дома, он говорил и говорил, явно не спеша уходить, а она думала: «Поцелует ли он меня?». Потом его руки как бы сами собой охватили ее локти, и она едва удержалась от того, чтобы не прильнуть к нему. А он все говорил, глядя на дверь за ее спиной… Она почти ничего не слышала. Наконец он замолчал, а затем…
— Лиз, — шепнул он, и сердце девушки рванулось навстречу этому ласковому голосу, назвавшему ее так. — Лиз, можно я поцелую тебя на прощание?
Она подняла голову и в тот миг, когда ее губы потянулись к его губам, заметила на лице юноши выражение застенчивости и неуверенности — выражение, в котором слились томление и готовность получить отказ.
— Почему ты выглядел так странно? — прошептала она минуту спустя.
— Опасался, что ты откажешь. Но когда это все же случилось, я почувствовал такое облегчение, что даже не заметил, как столкнулись наши носы. А ты?
— Нет, мой дорогой. Я люблю тебя. Я люблю тебя…
Она погрузилась в спокойное, почти триумфальное счастье. Пытка неизвестностью кончилась. И он, так же, как она, мучился страхами и неуверенностью — они были равны в своих чувствах. «Я люблю его, люблю его всего». Она могла сказать это, чувствуя, что уже знает его, и каждую ночь говорила это шару, и Лев величественно рычал, а Орион сдерживал свой шаг, чтобы издать победный крик. Ян был, как Орион — он всегда был Орионом: чудом, силуэтом в небе и в сердце, красивым и внушающим благоговение.
Старясь удержать счастье того мгновения, Элизабет села на шезлонге и наклонилась вперед, положив подбородок на руку. Она смотрела на муравьев, длинные караваны которых двигались извилистыми путями по стволу эвкалипта, но думала совсем о другом. Раскручивавшийся в памяти ролик слов и образов нес правду о прошлом, правду о том, почему она любила его. Она любила его с самой первой встречи, и с тех пор, постепенно, перед ней открывались все новые и новые грани его души. Каждая новая черточка, открытая в нем, была вознаграждением и подтверждением того, что она любит его. Другие девушки, как она отлично знала, редко задавались вопросом «почему?», а просто отдавались своим желаниям. Но с ней все было по-другому. Ее любовь была неотъемлемой частью девушки, ум которой спасла от крушения и питала мисс Ламберт. Другая же часть ее еще оставалась объективной, еще наблюдала за ней и Яном как бы со стороны, все еще холодно спрашивала: почему?
Иногда та часть, которая не принадлежала Яну, вдруг разрасталась и набирала силу. Как муравьи поднимаются по стволу дерева, так и она поднималась по венам и сосудам, заполняя все ее существо. Эта часть поднимала крик против нее остальной, пребывающей в рабстве, жестоко напоминала ей, что всего лишь несколько месяцев назад, перед тем как грянула болезнь, она снова и снова спрашивала его:
— Ты любишь меня? Ты меня любишь? О, мой дорогой, ответь! — Она умоляла, плакала, обнимала его, как бедная слабая зверюшка. — Скажи мне еще раз, что ты тоже любишь меня!
Он мягко запротестовал:
— Бедняжка Лиз, ты требуешь, чтобы все было возвышенным, не так ли? Интересно, все женщины таковы?
— Да, — прошептала она, прижимаясь губами к его бьющемуся сердцу.
— Прости, но мне не нравится выворачиваться наизнанку.
Это причинило ей боль. К тому времени Элизабет Уайкхем, которую он знал, превратилась в трепетный комок нервов. И холодная, умная Элизабет Уайкхем ненавидела теплую, любящую Лиз Уайкхем, шептавшую сейчас в тени эвкалипта, забыв о времени и месте: «Я люблю тебя слишком сильно? Я слишком требовательна? Я слишком нуждаюсь в тебе, чтобы ты был счастлив?»
Ее вопросы поднялись в воздух и затерялись в листве. Все вокруг затаило дыхание, ожидая полудня. В полдень, возможно, эта обморочная неподвижность будет сломана, подует ветер или пойдет дождь, хотя пока что небо было чистым и пустым, если не считать льющегося с него света. Сад тоже был пуст. Она знала об этом, даже не поворачивая головы. Доктор Лернер, так долго и так тихо прогуливавшийся за ее спиной, прошел между двумя кустами роз, что-то сказал и исчез… должно быть, перенесся в свою лабораторию, чтобы заняться алхимией. Может, своим колдовством он устроит чудо, и на том отрезке дороги высоко на холме появится черная точка… И тогда ожидание закончится, деревья придут в движения и зашелестят, подует ветер, пустота заполнится, зазвучат трубы…
Воображая это, она улыбнулась далекому пятну дороги, словно пробуя свою собственную магию. Но напрасно.
Тот первый поцелуй открыл их друг для друга. Его гордость и сдержанность могли больше не опасаться разочарований: он знал, что к унижениям детства не прибавится еще одно.
Связанные ласками, они вступили в период безмятежного счастья. По крайней мере она. Оглядываясь сейчас назад, она понимала, что желание чего-то большего приходило к ней медленнее, чем к нему. Для нее это было чудное время глубокой, безмятежной интимности. Она существовала с ним словно в шаре с золотистым воздухом и сквозь прозрачные стенки взирала на внешний мир. После того, как они признались друг другу в своих чувствах, им уже не было нужды в какой-то программе (пойти в кино или пообедать), в предлоге, чтобы быть вместе. Они встречались и утром, и после обеда. На несколько минут или часов, всякий раз, когда он был свободен. Виделись они и в студенческом клубе, и их знакомые не преминули обратить внимание на их «роман» — один из многих, расцветавших между лекциями.
Однако наиболее продолжительными и приятными были их свидания в выходные. Они часто ходили на пляж — он приезжал, а она спускалась через сад, — плавали, а потом лежали рядом, часами не произнося ни слова. Иногда она рассказывала ему о детстве, Двух львах, Большом камне, о Линет и взрослых, сидевших в тени дерева. Они дружно пришли к выводу, что семья — это занудно. Но занудность семей их детства не распространялась на них, став частью прошлого. Все вокруг казалось теперь безобидным, неспособным причинить боль. Большой камень осел, наполовину занесенный песком, развесистое дерево уже не казалось громадным и недосягаемым, Два льва, даже скрытые водой, утратили свою таинственность. Все это вызывало сладкую тоску, ощущение проходящего времени и… уверенность.
Пока солнце пекло им спины, Ян тоже делился обрывками детских воспоминаний, и горечь его слов растворялась в медленно наступающем вечере.
Так, обмениваясь тем, что хранила их память, они извлекали на свет божий воспоминания своих сердец, детские прозрения — нечто, единожды увиденное или услышанное и оставшееся навсегда.
Не было никаких проблем, никаких осложнений, только магические пустяки. И, уверенная в Яне, уверенная в себе, она, пока золотой шар проносил их сквозь долгие вечера, пыталась иногда размышлять о нем бесстрастно, отстраненно. Это было даже забавно, но получалось редко.
Был ли этот мужчина, неподвижно лежащий рядом с ней на песке, нежным только в порывах? Или всегда? Может, он просто стесняется своих чувств?
Потом Ян поворачивал голову, и это движение было своеобразным ответом. «О чем ты думаешь?» — сонно спрашивал он, а она отвечала: «О том, как я счастлива». Его ресницы чуть вздрагивали, словно фиксируя ее ответ, но глаза не открывались. Она придвигалась ближе, их локти соприкасались, будто целуясь, и что-то более теплое, чем солнце наполняло ее… но тут он внезапно вскакивал и бросался в воду.
Или они лежали на траве. Ибо вновь появился его мотоцикл, и они выезжали в окрестности Сиднея, добираясь аж до Курраджонга. Мотоцикл стремительно проносился по холмам и долинам, и фруктовые деревья сливались в сплошную зеленую стену. По серпантину Курраджонга они поднимались до крутого поворота, где останавливались послушать птиц. Деревья у дороги принимали их в свой величественный мир прохладных зеленых сумерек, и на них лились изысканные звуки, казавшиеся голосами неподвижной листвы.
И снова его нога ударяла по стартеру, заглушая волшебную музыку природы, и они карабкались на плато, чтобы бросить там мотоцикл и растянуться на траве. Под ними расстилалась цветущая земля, фруктовые деревья уже не сливались в зеленую реку, несущуюся мимо них, а образовывали море изобилия, раскинувшееся на север и на юг.
Она больше не боялась упасть с мотоцикла (как уже вообще ничего не боялась), а рев и скорость были для нее частью чуда. Но все же долгая езда утомляла, и, растянувшись на траве, они как бы достигали некой конечной цели бытия, сливаясь с первозданной красотой.
Постепенно, уикенд за уикендом, их руки все чаще переплетались, а щеки соприкасались; они целовались, и их губы все дольше не могли расстаться, притягивая друг к другу тела…
Напряженно склонившись вперед на шезлонге, она снова видела каждую травинку, деревья, служившие им укрытием от нескромных глаз, спокойный рисунок садов внизу под холмом и чувствовала давление его груди, заставлявшее ее запрокидывать голову, задыхаясь от сладости удовольствия и боли. Как это произошло? Очень просто. «Лиз, так дальше нельзя», — сказал он однажды. Голос его звучал необычно, тело подрагивало от напряжения. «Так больше не может продолжаться», — повторил он и вскочил на ноги. Неожиданность его заявления потрясла ее. Небо слепило глаза. Она прикрыла их ладонью и встала на колени рядом с возвышающейся над ней фигурой. «Да, — тихо ответила она, смахивая с глаз упавшую прядь волос, — не может».
А ведь это не было полной неожиданностью. Она знала правду жизни (какая нелепая фраза, ведь это не единственная правда!), знала не от матери, никогда не говорившей на эту тему, и даже не от мисс Ламберт, сводившей эту сторону отношений к голой схеме, словно плотский аспект любви не имел для интеллигентной женщины никакого значения. Сами того не подозревая, девочки из университета своими небрежными, обрывочными рассказами дали ей представление об этой правде. Даже Линет, бросавшая двусмысленные намеки, просвечивавшие темными камешками в потоке ее болтовни, помогла ей. Да, Элизабет Уайкхем знала правду жизни, но, казалось, ничего общего с ней не имела. Ее больше интересовала поэзия. Да и потом, разве она не дурнушка? А теперь эта правда камнем упала на нее с раскаленного неба, на фоне которого вырисовывался силуэт нервно прикуривающего сигарету мужчины, и она, эта правда, кипела и вспыхивала в нем. Домой они вернулись, не проронив ни слова.
А было это в воскресенье. Той ночью она решилась: в следующий уикенд все будет по-другому. Чему быть, того не миновать. И думала она об этом не как о физиологическом акте, сопровождаемым новыми ощущениями, а как об отдаче, о вручении себя ему, об удовольствии для них обоих. «Прекрасная жертва…», — прозвучало у нее в голове. Но это не было жертвой — она не видела ничего страшного в том, чтобы отдать ему свою девственность.
Не испытывая ни волнения, ни страха, она всю неделю ничего ему не говорила. Это была тайна, сюрприз. Ян выглядел подавленным, а она радовалась про себя, предвкушая, каким счастливым станет он к началу следующей недели.
В четверг он сказал:
— Послушай, Лиз, прости меня за…
— Это не важно, — перебила она его.
— Еще как важ…
— Не будем сейчас об этом. Не стоит. Оставим до следующей недели.
— Но…
— Прости, дорогой, мне надо бежать — лекция. Пока.
В пятницу она спросила его:
— Что будем делать завтра?
Он немного поколебался, потом спросил:
— А ты как считаешь?
— Думаю, стоит снова съездить на Курраджонг, — беспечно ответила она.
— Не сможем. Мой «железный конь» сломался. Надо бы привести его в порядок.
Девушка было растерялась, но быстро нашла решение:
— У меня тоже завтра есть кое-какие дела. Давай встретимся после ужина.
— И что будем делать?
— Так, погуляем…
Он уныло посмотрел на нее, явно полагая, что прогулка не сулит ничего нового, но, с другой стороны, и не таит опасности. Выглядел он при этом ужасно комично.
— Ладно.
Его унылый взгляд пробудил в ней нетерпение. Дурачок, откуда ему знать, что все будет прекрасно, что его ждет такое счастье?
Ей действительно нужно было написать эссе. Но как могла думать она сейчас о чем-то, кроме того, что ей предстояло? Беспокойно расхаживая на следующий вечер по комнате, она остановилась наконец перед зеркалом. Под этой одеждой — тело, которое через несколько часов уже не будет принадлежать ей одной. Она с любопытством изучала свое отражение, пытаясь проникнуть взглядом под покровы, увидеть себя как тело, как нечто предназначенное ему, как то, что после сегодняшнего вечера всю оставшуюся жизнь будет нести его отпечаток; тело, которое… Ей почудился в воздухе нарастающий ритм Библии. Как странно, как все это странно… Узкие, почти мальчишеские бедра. Небольшой аккуратный зад. Маленькие твердые груди. Острые плечи. В чем тайна этого тела? Почему оно заставило его дрожать и пылать на фоне неба? Она подумала о его теле, задрожала сама и отказалась от попыток постичь эту тайну. Отвернувшись от зеркала, Элизабет распахнула окно.
Рядом с окном росло дерево, в кроне которого свили гнезда множество птиц. По вечерам они собирались дома, располагались под лиственными сводами и оглушали своим щебетанием. Чирикающие создания порхали тут и там, перелетали с ветки на ветку, спеша по своим, одним им ведомым делам. Наблюдая их беззаботную жизнь, девушка думала: «Как странно… Это вот-вот случится, а они так и будут резвиться среди листвы. Потом они заснут в своих гнездах, а со мной уже случится Это. Утром они высвободят головки из-под крыльев и снова начнут носиться взад и вперед…» Будет ли у ее тела ощущение, что оно уже использовано? Будет ли она сама, шагая по улице, обедая, слушая лекции, чувствовать себя использованной? На какое-то мгновение она испугалась матери. Вздор. Она, Элизабет, никогда не могла определить, девственница ли та или иная незамужняя женщина. Например, Линет. Да она и понятия не имеет ни о чем таком. Или имеет? Нет. Линет — девственница. Она наверняка боится. Но я, Элизабет Уайкхем, старшая дочь в приличной семье Уайкхемов, «умница», «гадкий утенок», «синий чулок», перестану быть девственницей. Незамужняя, лишенная невинности, женщина Яна. Лишенная невинности дочь будет целовать мать на ночь…
Она боязливо рассмеялась (идея о замужестве не приходила ей в голову, пока). В этот момент позвонили в дверь. Пришла тетя Джоанна. Элизабет почувствовала прилив нежности к своей старой грубоватой тетушке. «Ох, — думала она, расчесывая волосы, — с какой радостью я бы все ей рассказала, но это невозможно». «Никому ничего не рассказывай!» — проинструктировала она себя напоследок и спустилась в гостиную.
— Привет, тетя Джоанна, — сказала Элизабет и поцеловала ее в обветренную щеку.
— Ты чудесно выглядишь, — объявила Джоанна; в ее свирепом старческом взгляде мелькнула хитринка. — Что-то у тебя глазки сверкают… Плакала?
— Нет.
— Это хорошо. Большинство женщин выглядят свежее, немного поплакав. Истерики им на пользу.
Элизабет рассмеялась и отвела взгляд.
— Я в порядке, — ответила она, глядя в окно.
Там внизу, через несколько часов, когда сядет солнце и наступит ночь…
— Не так-то уж часто в последнее время мы видим Элизабет по выходным, — говорила мать, разливая чай.
«Как и Линет», — чуть не сказала Элизабет, но мать лишь улыбнулась бы, как бы говоря, что Линет — другое дело. Передав чашку тете, она смотрела на нее и думала: «Боже, как она постарела! И выглядит совсем больной…»
— Как ты поживаешь? — спросила Элизабет, не обращая внимания на слова матери.
— Как всегда хорошо, — ответила Джоанна и заговорила с матерью о сыне Агаты и дочери Джефри (это еще кто такие?), о давно умерших родственниках, о прадедушке и его лакее и так далее, и так далее… Они болтали о мужчинах и женщинах, давно обратившихся в прах, орошая их брызгами своей памяти, оживляя их.
Элизабет наблюдала, как за окном угасает вечер. Солнце село и разговор прекратился. Мертвые вернулись в свои могилы. Тетя Джоанна вздохнула и со щелчком закрыла свою сумочку.
— Проводи меня домой, — приказала она, и Элизабет пошла со своей теткой под фиговыми деревьями бухты Моретон по земле, усеянной их плодами. Девушка страстно желала, просто жаждала довериться Джоанне, и порыв этот оказался таким сильным, что она заговорила:
— Что бы ты сделала, если бы…
— Не спрашивай меня! — рявкнула тетка. (Уж не взволнована ли она?) — Не спрашивай меня, почему кто-то что-то делает в наши дни. Мужчины гоняют на машинах, девушки разгуливают в шортах, молодые люди не желают работать… Не спрашивай меня, что делать.
Она ЗНАЕТ? Знает и отказывается отвечать?
Они дошли до калитки, и Джоанна сказала:
— До свидания, милочка. И будь осторожна. Вот и все.
Она что-то поняла или почувствовала, или это просто старческий пессимизм?
Вечер перетек в ночь, наступил ее час. Когда он появился, она уже ждала на пляже.
— Привет.
— Привет, — мрачно ответил он.
Некоторое время они молчали. Вода расстилалась перед ними, как лист черного стекла, и все же волны мягко накатывались на песок, и на их гребешках вспыхивали и искрились яркие точки света.
— Ян?
— Да?
— Помнишь, что ты сказал в тот день?
— Да. — Он смотрел на воду, и в его голосе прозвучал холодок. Темнота почти скрывала его лицо, но Элизабет все же заметила на нем жесткое выражение. Жестче, чем она ожидала. Так просто, казалось, здесь, в спасительной тьме, просто сказать: «Я твоя!» и нырнуть в его объятия. Но вместо этого они сидели, как два Будды.
— Ну… — начала она охрипшим от робости голосом. Он молчал. — О, Ян, помоги мне! Ты был прав тогда, так продолжаться не может. Но может по-другому! Не надо останавливаться… Я хочу, чтобы ты взял меня.
Он рассмеялся. Она не могла поверить своим ушам. Может, это кашель? Нет, вот опять: короткий горький смешок.
— Ты сама не знаешь, о чем говоришь, — покачал он головой. — Не знаешь, что это значит.
Его слова больно ранили ее, она глухо застонала, и тогда другой Ян, тот, которого она знала и любила, обнял ее и быстро заговорил:
— О, любимая, любимая моя, прости, я сделал тебе больно. Просто я пытался… пытаюсь остановить тебя… ради тебя самой. Ты не знаешь, как это может отразиться на тебе. Твое воспитание… Нет, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что ты не такая, как другие девушки, не такая жесткая — тебя многое может ранить. Это было бы несправедливо. О, дорогая, это было бы чудовищно несправедливо! Ну, не плачь, Лиз…
Неожиданные слезы ушли так же быстро, как и появились.
— Извини, — вздохнула она. — Я такая глупенькая! Я хотела сказать все это совсем по-другому. У тебя нет платка?
Высморкавшись, она почувствовала, что робость и неловкость прошли, словно еще одно препятствие осталось позади.
— Господи, ну и дура же я! — рассмеялась она.
— Вовсе нет, — возразил он, и его рука крепче сжала ее руку.
Она прислонилась лицом к его плечу и прошептала:
— Я думала об этом. Я не боюсь.
— Лиз, — тихо заговорил он, — неужели ты не понимаешь? Мы не сможем скоро пожениться.
— Неважно.
— У тебя может быть ребенок. И вообще, потом ты будешь чувствовать себя ужасно.
— Не будет у меня никакого ребенка. И почему я должна чувствовать себя ужасно, если ты любишь меня?
— Да, но… ты не…
— Молчи, молчи, молчи… — счастливо зашептала она, и он смолк.
— Жутко неудобно так сидеть, — сказала она через некоторое время.
Он отпустил ее, и Элизабет легла на песок, оказавшийся холодным и твердым. По небу шагал Орион, настоящий Орион. Она поглаживала руку Яна, лежавшую ладонью вниз у ее бедра. Удивительный покой снизошел на нее, и ее рука замерла. Орион застыл на небе, и она ждала того, что должно, обязано было случиться. Потом Орион исчез, заслоненный лицом Яна. «Лиз, Лиз…», — шептал он, его руки жестко трогали ее, под ней был жесткий песок, жесткие песчинки хрустели в ее волосах и громыхали в ушах, и все, что касалось ее, было жестким, жестким, жестким… Затем небо вдруг завращалось, и вместе с ним завертелось все — набегающая волна, пронзающий ее меч, жестоко сверкающий Орион… Она успела испуганно подумать: «Какой ужас!» прежде, чем боль погасила все мысли и звуки.
Позже, много позже ее слух уловил слабый плеск: вода, как ни странно, продолжала набегать на берег. Открыв глаза, она увидела над собой спокойно сияющий Орион. Пляж. Тяжесть на груди — его рука. Она повернула голову, и в ее волосах мучительно захрустел песок. Она пошевелилась, и вдруг с ужасом поняла, что эта испытывающая боль плоть уже не принадлежит ей одной. Она ощущала, как пляж (ее пляж!), песчинки, на которых она лежала, смотрят мириадами глаз на новую Элизабет Уайкхем, запятнавшую здесь все, что было в ней хорошего. Но это скоро прошло. И у нее осталось лишь острое желание уюта, тепла, сна.
Спасибо тебе, Господи, Ян был нежен и добр, поддерживал ее, когда они пересекали сад. У дверей он поцеловал ее в лоб, и она взобралась по черной лестнице, избежав зова матери.
Но зов последовал:
— Мисс Уайкхем!
Пронзительный возглас вырвал ее из воспоминаний, и она задрожала в предчувствии чего-то страшного. Склонившись над ее плечом, миссис Дейли продолжала выкрикивать:
— Мисс Уайкхем, я имею право знать, мы все имеем право знать, что здесь происходит. Вы обязаны ответить!
Солнце высветило искаженные черты лица, над которым совсем недавно поработали в салоне красоты, но все равно помятого, с губами, дергавшимися так, будто что-то в голове миссис Дейли отказывалось правильно работать.
— Прошу прощения? — вернувшись в настоящее, произнесла Элизабет холодным нервным голосом.
На таком близком расстоянии это прыгающее лицо пугало. О чем говорила эта женщина? Как посмела она влезать в ее воспоминания, в ее душу, в ее постель, причем именно в тот момент, когда она, Элизабет, совершенно беззащитна?
— Вы обязаны сказать нам, — пробормотала миссис Дейли. — Я видела, как вы пошевелились (должно быть, когда она дернулась при воспоминании о боли), и подумала, что вы не спите. Вы же не откажитесь сказать нам? В конце концов, вы просто обязаны сказать, не заразно ли…
Нелепость ее страхов вызвала у девушки истерический смех.
— Это чудовищно! — воскликнула она и расхохоталась в лицо миссис Дейли.
— Я… Вы обязаны… — машинально повторило лицо.
— Убирайтесь! — устало произнесла Элизабет.
Безумное лицо исчезло.
Она попыталась вновь нащупать в своей памяти Яна в тот момент, когда он поцеловал ее в лоб. Да, он оказался прав: она испытала боль и шок. Для некоторых девушек это было бы легко, так же легко, как довериться миссис Дейли. Но только не для нее.
Ее перестало трясти. Миссис Дейли и в самом деле ушла.
«Но даже тогда, — уже более спокойно подумала она, — я не поняла до конца, что он имел в виду».
Понимание этого пришло через несколько недель.
Она настаивала на своем. Ян боялся снова причинить ей боль, но она буквально заставила его еще раз овладеть ей. «Все будет хорошо», — сказала она ему и заверила себя, сжав зубы: «Все должно быть хорошо». Если она предлагает себя по-настоящему, то не должна бояться того, чего желает он, ненавидеть то, от чего он получит удовольствие. (Удовольствия для себя она пока еще не представляла.) Она была бы виновата, если бы он не смог насладиться, если бы продолжал тревожиться, старался быть осторожным и нежным — невероятно нежным — как если бы имел дело с больным ребенком. «Скоро все получится», — несмотря на боль, весело сказала она ему потом.
И все получилось.
«Железный конь» снова ожил, его поршни и шатуны работали, как ненормальные, и он уносил их на полянку на склоне Курраджонга, и все было хорошо. Все было удивительно, сказочно хорошо. Утомленная и довольная, она касалась губами его груди и чувствовала биение его сердца.
— Что ты делаешь? — шептал он.
— Целую твое сердце.
«Целую твое сердце»… Эта фраза звучала в ней днем и ночью. «Ты выглядишь такой усталой, Элизабет», — говорила ей мать, и это было правдой. Она и сама замечала это, когда не была с ним: усталая, напряженная, раздражительная… «Это было бы несправедливо». О, теперь она отлично понимала, что он имел в виду. Если бы она могла кому-нибудь рассказать… Но некому. Свободу и раскованность она чувствовала только с ним, но эта свобода обращалась еще большей замкнутостью, когда он уходил. Ох, если бы она могла кому-нибудь рассказать…
И она рассказала, но кому!
Выдался совершенно гнусный день — надо было работать, а Элизабет не могла себя заставить. Просидела битый час в библиотеке, тупо уставясь в книгу, но думала только о нем. Наконец она сдалась и отправилась в клуб, в надежде встретить там его. Но там его не оказалось, и она побрела к «Крысиному дому», ревнуя Яна к его работе и завидуя его увлеченности наукой. Он мог оставить ее ради своей лаборатории, забыть о ней. Для нее же все дышало им: книги, которые она читала (пыталась читать), пища, которую она ела (пыталась есть, так как утратила аппетит), каждая мелочь, каждый поступок, даже сон. Он часто посещал ее сны — почти узнаваемый сгусток теплой темноты.
В тот проклятый день она так и не встретила его. Конечно, он пребывал в своем мире, куда она не допускалась. Раздраженная и раздосадованная, Элизабет вернулась домой и легла на постель, пытаясь сделать запись в дневнике. Она давно уже отказалась от мысли писать стихи. Жизнь острее — придумала она себе оправдание и купила записную книжку, решив вести дневник. В нем она будет писать ему письма, словно нанося на карту полет своего сердца. Впрочем, уже покупая книжку, она знала, что из этой идеи ничего путного не выйдет — она могла жить только Яном, а не записями о нем.
Так ничего и не написав, она откинулась на кровати и смотрела в потолок, когда к ней вбежала возбужденная Линет. Вертясь перед зеркалом, она объявила:
— Джек пригласил меня в ночной клуб. Мы поужинаем и потанцуем. Если он будет паинькой и не станет распускать руки, я позволю ему поцеловать себя на прощание. — Заметив в зеркале, что Элизабет закрыла глаза, она сочувственно добавила: — Бедняжка Лизмас! Не переживай, и ты скоро кого-нибудь найдешь.
Элизабет открыла глаза и в изумлении уставилась на белую фигурку, прихорашивающуюся перед зеркалом. «Видишь, какая я хорошенькая? — казалось, говорили яркие глазки ее отражения. — Видишь, какую веселую, полную поцелуев жизнь я веду? Видишь, ты, которую никто не целовал, ты, что валяешься на кровати в протертых джинсах и завидуешь моему наряду?»
Она пристально смотрела в глаза этому нелепому, нахальному отражению, чувствуя, как в ней закипает гнев, и взорвалась:
— Глупенькая маленькая девственница, — услышала она свой жесткий голос, — ты даже не знаешь, о чем говоришь.
— Как ты смеешь?! — взвизгнула Линет. — Ты-то навсегда останешься старой девой!
Она разразилась истеричным хохотом, сквозь который Элизабет снова услышала свой спокойный, ледяной голос:
— Я давно уже не девочка.
Хохот смолк. Линет вытаращила глаза. Ее взгляд упал на левую руку сестры. Элизабет небрежным жестом пошевелила пальцами без колец, взяла книгу и принялась читать там, где она открылась.
— Ты лжешь! — прошипела Линет и пулей вылетела из комнаты.
Элизабет продолжала держать перед собой книгу, ненавидя себя и весь белый свет. «Я не лучше ее», — подумала она. Потом ее охватил страх: Линет побежит с новостью к матери.
Но Линет не проговорилась. Однако с тех пор она избегала встречаться взглядом с сестрой и уже не пыталась доказать ей свое превосходство. «Рассказав матери о моем грехе, она бы признала, что я ее опередила», — поняла Элизабет. Цинично? Нет, это только правда.
Вспышка пошла ей на пользу. Интересно, все ли любовницы стремятся доверить кому-нибудь свою тайну? В бульварных романах их обычно изображают ветреными и несдержанными. Уж не осознание ли того, что она поступила «неправильно», побудило ее признаться?
С этой мыслью она уснула и впервые за многие недели отлично выспалась — без снов, без Яна. Наутро она встала, уже не испытывая ни малейшего желания посвящать посторонних в свои секреты.
Но со временем стали возникать другие, непредвиденные прежде страхи, новое напряжение, и она начала постигать последнюю и самую важную часть предостережения Яна.
Все дело в «беспорядочной половой жизни». Вычитав это выражение в любовном романе, Нора Хьюсон спросила о его значении мисс Ламберт, и та коротко пояснила: «Есть два вида: смерть сердца и отсутствие уверенности».
Второй случай — как раз про нее. Ни ее сердце, ни ее тело не «любили» стольких, чтобы в них не осталось любви. Ее сердце было болезненно живым, сфокусированным на одном единственном мужчине. Но их связь являла собой полное и совершенное отсутствие уверенности… для нее. «Беспорядочность» проявлялась почти каждый день. Иногда она выражалась в мелочах: измятая, испачканная травой и землей юбка, которую приходилось чистить и гладить, а она это терпеть не могла. Но подобные мелочи складывались в ненавистную грязь. И был страх разоблачения. Однажды, когда они лежали на своей поляне, раздалось пыхтение, и рядом появился большой черный пес, проявивший к ним повышенный, хотя и вполне дружелюбный интерес. Они услышали свист и окрик. Элизабет сжалась в комочек, как прозревшая Ева, пытающаяся прикрыть свой срам. Ян приподнялся на локте и посмотрел через плечо.
— Все в порядке, — успокоил он ее.
Она робко обернулась и увидела среди деревьев удаляющегося мужчину.
— Слава Богу, он нас не видел.
— Может, и видел, но не обратил внимания. Какое ему дело?
Все верно, но ей было стыдно — стыдно за то, что им приходится прятаться, бояться чужих глаз. Приземленная логика Яна раздражала. Она так и не смогла к ней привыкнуть. Они вернулись к любовным утехам, но это было уже не то.
Как-то она спросила его:
— Ян, почему бы нам не пойти к тебе?
На его лице появилось хорошо знакомое ей замкнутое выражение.
— Это невозможно. Извини, но это совершенно невозможно.
— Но почему, милый? Это же не опаснее, чем…
— Дело не в опасности. Моя комната — не место для тебя, слишком она неприятная…
— При чем тут это? Мы же не любоваться ею будем. Разве приятно, когда за тобой подглядывают всякие бродяги?
— Тогда уж лучше мне приходить к тебе.
— Но это…
— Невозможно. Верно. Вот поэтому мы и здесь — на нейтральной территории, — пошутил он, и она покорно улыбнулась.
— Как бы хотелось иметь свою квартиру!
— Если бы у меня была квартира, мы могли бы пожениться. Но у меня нет денег на достойное жилье.
— Я готова жить, где угодно.
— Вздор.
И была еще одна неуверенность — неуверенность ревности. Ее буквально раздирало желание узнать, с кем он спал до нее. Знакома ли она с этой девушкой (или девушками?), продолжает ли он видеться с ней, не предпочитает ли ее ей?
— Ради всего святого! — раздраженно отвечал он на ее вопросы. — Не думаешь ли ты, что я веду реестр дам и их достоинств?
Значит не одна.
— Сколько их было? — настаивала она.
— А я сказал, что они были?
— Ты сказал «реестр дам».
— О Боже, Лиз, я говорил образно.
— Но до меня ты же спал с другими?
— И что из этого? Не имеет никакого значения.
— Для меня имеет значение, что я сплю с тобой.
— О, Лиз, ради Бога…
Он мог бы сказать: «Я тебе говорил, я же тебя предупреждал», но не говорил, и она была благодарна ему за это, однако остановиться уже не могла:
— Если бы я спала до тебя с другим мужчиной, то непременно сказала бы тебе об этом.
— Я бы это и сам понял, — невольно рассмеялся он, и она не сразу поняла, что он имел в виду.
В такие моменты она по-детски сожалела, что это ее первая любовная связь, что ей не хватает опыта и развращенности. Она отчаянно старалась восполнить их своим пылом, и ей не приходилось для этого притворяться, ибо теперь она жила по-настоящему только в его объятиях.
Ко всему прочему добавлялась боязнь зачать, присутствующая постоянно и забываемая только в порыве страсти. «Что мы будем тогда делать?» — снова и снова спрашивала она себя. «Беспорядочность» угнетала. Элизабет ни о чем не сожалела, но жаждала надежности, которую мог дать только брак. В браке все неприятности исчезнут, останутся только любовь и безопасность.
Одержимая этой новой мыслью, она все чаще спрашивала:
— Милый, мы когда-нибудь поженимся?
— Надеюсь.
— Поскорее бы… — умоляла она, задетая его пессимизмом.
— У меня нет денег.
— Мы могли бы откладывать, могли бы…
— Могли бы. И ты могла бы пойти работать. И что? Потом ты родишь, уйдешь с работы, и мы трое будем жить на хлебе и воде. Ты же знаешь, у меня только моя паршивая стипендия.
Он был прав. Ее семья, хотя и крайне неохотно, могла бы помочь. Но их с Яном гордость никогда не позволит им жить на деньги ненавистной ей семьи. У нее мелькнула и более страшная мысль: а хочет ли он вообще жениться? Он никогда не рассуждал об обустройстве домашнего очага, о будущей семье… Он лишь признавался в любви, да и то нечасто. Может, нынешнее положение вещей устраивает его? Не раздражает ли его ее настойчивость?
— Извини, дорогая. — Ян с силой сжал ей руку. — Мы поженимся, как только сможем, сама знаешь.
Она уронила голову ему на плечо и разрыдалась.
— Лиз, любимая, не плачь, ты же никогда не плакала…
И все приходилось скрывать от матери, которая давно уже отказалась от мысли повлиять на нее, бесконечно напоминая о бедности Яна, о пьянстве его давно умершего отца… Но, пока жива, она будет противиться их отношениям. В дни золотого шара эта бесконечная война не слишком задевала Элизабет, но позже стала раздражать все больше и больше. Мать критиковала ее внешность, подразумевая, что в этом тоже виноват Ян. Волосы у нее слишком прямые, джинсы «не такие», шорты слишком короткие. А мотоцикл был столь ужасен, что одно упоминание о нем бросало мать в дрожь. «Ты забываешь о своем здоровье, дорогая. Ты выглядишь такой измученной!»
И мать была по-своему права. Элизабет действительно устала, устала страшно, но не потому, что много работала, а от неизвестности.
Однажды мать спросила без обиняков:
— Элизабет, ты хочешь выйти замуж за этого молодого человека?
Прозвучавшая в вопросе надменность обидела ее, и она уточнила:
— Ты хочешь знать, намерен ли Ян жениться на мне? Да, намерен.
Сочувственно-заговорщически, словно она была на стороне дочери, мать сказала:
— Знаешь, дорогая, ты еще слишком молода, и отец никогда не позволит тебе выйти замуж за человека, который не сможет тебя содержать.
— То есть, не сможет обеспечить мне ту жизнь, к которой я привыкла? Я знаю. Но мне скоро исполнится двадцать один… И отец разрешит, если ты его попросишь.
— Я уже говорила с ним. Он со мной согласен.
— Так значит это не его, а твоя идея? Почему бы ему самому не сказать мне, что он против? — Ответ она знала заранее. Безразличие отца глубоко обидело ее. — Ему на меня наплевать! Я не виновата, что родилась девчонкой! Это ваша вина!
— Элизабет, пожалуйста… — мать прикрыла глаза рукой.
— Извини, — сухо бросила она.
При чем тут мнение отца, если она почти не видела его? Лишь изредка выглядывал он из-за своей газеты, безразличный ко всему пожилой человек, случайно оказавшийся ее родственником.
— Отец никогда не обращал на меня внимания, — продолжила она уже спокойнее. — Почему же он решил вмешаться сейчас?
— По крайней мере он содержит тебя и оплачивает твою учебу в университете.
«Где я встретила Яна», — подумала она и улыбнулась, но улыбка сразу исчезла, потому что мать сказала:
— Он считает, что тебя нельзя выдавать замуж за человека с доходом менее тысячи фунтов в год.
Элизабет почувствовала острый приступ любви и верности Яну, его единственному костюму, фланелевым брюкам в пятнах, спортивной куртке, его убогой комнате, «железному коню», потертым воротничкам, крысам — всему, что так отличало его от этой семьи.
— Какая ерунда! — рассмеялась она и вышла из комнаты.
Она передала этот разговор Яну, надеясь, что он тоже посмеется, но он только коротко бросил:
— Я так и знал.
— Что ты имеешь в виду?
— Но это же очевидно. Твои родители ждут от будущего зятя не только ума. Наука привлекательна, но не приносит дохода. К тому же мужчина женится и на семье невесты… А семьями я сыт по горло.
Эти слова пробудили ее былую тревогу.
— Ян, ты не собираешься… — она никак не могла закончить.
— Что?
— Сдаваться.
— Что значит «сдаваться»? Все же ясно, Лиз. Будь я даже миллионером, твои родители все равно были бы недовольны.
— Мало ли…
— Как я уже говорил, я могу лишь откладывать то немногое, что может быть отложено. И мы поженимся, как только сможем.
Так это и продолжалось. Снова и снова повторялись те же слова: брак, откладывать, семья, откладывать, семья, брак… И среди этих унылых слов внезапно вспыхнуло и засверкало новое: Джоанна. Она умерла во сне. Невероятно, но ее суровая старая тетушка была мертва. Элизабет испытала чувство огромной потери: из жизни ушел единственный член «семьи», который ей нравился.
Гроб, заваленный цветами, которые так любила старая леди, вынесли, и «семья» осталась в гостиной, уставленной множеством безделушек. Судя по всему, тетя Джоанна была очень одинока. Элизабет отчаянно хотелось плакать, но она не могла. Да и не стала бы, так как Линет — которую Джоанна презирала, и которая ненавидела тетушку — горестно выла, как побитая собака. А мать говорила:
— Бедная Джоанна. Вы, девочки, думали, что она злая, но она была в этом не виновата.
«Я знала ее лучше тебя, — подумала Элизабет, — мне-то ничего не надо объяснять».
— Тетя не нуждается в оправданиях, — проронила она.
— Ты не все знаешь. Вскоре после свадьбы ее муж упал с лошади и все последующие годы, вплоть до своей смерти, никогда… не хотел ее. Мне рассказал об этом доктор Гарри, полагая, что я могу чем-то помочь. Сама она никогда не говорила об этом.
Ослабевшая от жалости и ужаса, Элизабет села. Бедная, бедная тетя Джоанна! А она-то думала, что знаю ее. Каково же было ей все эти годы!..
— Бедная тетя Джоанна, — шептала она, сжимая подлокотники шезлонга. Не станет ли она сама второй Джоанной, ждущей мужчину, который не приедет? Мужчины приносят горе — математик мисс Ламберт, муж тети Джоанны, ее Ян…
В затхлой конторе адвоката им зачитали завещание. Не считая мелочей, все свое довольно приличное состояние Джоанна завещала «моей старшей племяннице Элизабет Уайкхем, которую я надеюсь увидеть счастливой еще при жизни».
Только тогда девушка заплакала от ощущения утраты. Ей казалось, что она потеряла мать, объявившуюся только после своей смерти. Они с Джоанной знали и понимали друг друга. И она была счастлива еще при жизни Джоанны. Джоанна видела ее счастливой, заметила ее счастье в тот вечер, когда Элизабет ждала ночи и тела Яна. «Ну как ты, девочка?» — спрашивала она, и это означало: «Ты счастлива?» И Джоанна хотела продлить ее счастье, годы исполнения желаний, которых ее саму лишил несчастный случай с мужем. Внезапно у Элизабет словно пелена упала с глаз: Джоанна знала о бедности Яна. Мать наверняка рассказала ей, и она решила помочь. Теперь им не нужно ждать, они могут пожениться и зажить долгой, счастливой жизнью.
— Тебе очень повезло, дорогая, — сказала мать. — Но будь осторожна с деньгами. Порадуй себя хорошим подарком, купи пару платьев, но не делай глупостей.
«Будь осторожна»! «Не делай глупостей»! Прямо из кабинета адвоката она бросилась к телефонной будке.
— Ян! — кричала она. — Я должна увидеть тебя. Срочно!
— Что случилось?
— Многое. Я…
— Ты не беременна?
— Да… нет. Не знаю, но дело не в этом.
Они встретились в университетском парке, и она сообщила, что они спасены.
— Но, Лиз, — он откинул волосы со лба знакомым ей нетерпеливым жестом, — я же говорил тебе, что не могу жить на твои деньги, на деньги твоей семьи, и ты со мной согласилась.
Элизабет застыла, как громом пораженная. Он, наверное, не понял. Дрожа от возбуждения, она пояснила:
— Но, мой дорогой, это же не одно и то же. Джоанна не была членом нашей семьи. И вот она умерла и оставила нам деньги. Она…
— Нам? Тебе.
— Какая разница? Она хотела, чтобы мы поженились. Она знала о нас, поэтому и завещала все мне.
— Это твои деньги, а не мои, — продолжал упорствовать он.
— Хорошо, что не так с моими деньгами? Они же не заразные.
— Мужчина, если он себя уважает, не может жить за счет жены.
— Ян, не будь идиотом. Сначала ты не желал жить на деньги семьи. Теперь не хочешь касаться моих денег. Чьи деньги тебя бы устроили?
— Мои собственные.
— Но ты же миллион раз говорил, что у тебя их нет.
— Спасибо за напоминание. Я говорил, и тоже миллион раз, что я могу откладывать, и я откладываю.
— Сколько же времени тебе понадобится?
— Может, века, но я никогда не женюсь на чужих деньгах. Не желаю быть обязанным кому бы то ни было. Сыт этим по горло. И я не приму подачку твоей тетушки.
— Какая щепетильность! — усмехнулась она; в ней говорило отчаяние. — Похоже, ты хочешь жениться только на своих условиях. А я значения не имею. Я могу и подождать. В своей нелепой, помпезной гордости ты просто плюешь на меня!
— Спасибо.
— Ох, Ян… Ты не будешь жить за мой счет, будешь работать, как сейчас, и содержать себя. А я — себя. Все так просто!
— А кто будет платить за квартиру, за ребенка, когда он родится, за хозяйство? Так не пойдет, Лиз.
Они долго сидели молча. Казалось, с того момента, как она сказала ему, что все их беды кончились, прошли годы. Сейчас конец пути был так же далек, как прежде.
— Ян…
— Да?
— Ты не хочешь прекратить?
— Что?
— Да все. Нет, не трогай меня… Ты ведь не хочешь жениться? Не хочешь связывать себя? Понимаешь… — она запнулась, — если ты не хочешь, нам лучше остановиться. Прямо сейчас. Я уже не могу продолжать в том же духе. Ты был прав — мне не хватает мужества, я вся на нервах… О, Ян, пожалей меня!
— Лиз, дорогая, — он взял ее за руки. — Я люблю тебя и хочу жениться на тебе, но не могу быть кому-либо обязанным. Неужели ты не понимаешь?
— Но ты же не любил тех людей, кому был чем-то обязан. А меня любишь. Люди, которые любят друг друга, делят все, что преподносит им судьба. Это не значит «быть обязанным», это иное.
— Разве? Ох, Лиз, я даже не знаю…
Они опять замолчали. Наконец, дрогнувшим голосом, она произнесла:
— Ну что ж, мне остается только ждать.
Больше они не ссорились. Вместо семьи, предметом их разговоров стали ее деньги: деньги, откладывать, брак. К этой теме они возвращались снова и снова. Охваченный ужасом перед ее деньгами, он постоянно подчеркивал свою любовь к ней, а она уговаривала, успокаивала его, как медсестра капризного ребенка, уповая лишь на то, что он и вправду любит ее.
Так обстояли дела, когда произошло ЭТО. Только так она могла назвать случившееся. И ЭТО сразу оттеснило мысль о браке на задний план и…
С дороги, из-за изгиба холма, послышался низкий рев. Она резко села. Неужели она, идиотка, не заметила «железного коня», спускавшегося с холма напротив и пересекавшего деревню? Это же надо, ждать все утро и не заметить! Никаких сомнений, это мотоцикл. Дрожа, она поднялась с шезлонга и повернулась к калитке. Сейчас, уже сейчас она окажется в его объятиях! Победный рев слышался все отчетливее, и ей показалось, что она умрет от счастья. Ее мышцы, каждая клеточка ее тела, сама кровь, казалось, застыли. Взревев еще громче, мотоцикл подъехал к калитке и остановился. С него слез молодой мужчина в воротничке священника, которого она никогда раньше не видела.
— Здравствуйте, — бессмысленно обратился он к ней. — Чудесный денек!
У нее не было сил ответить ему.
В воцарившейся тишине из гостиной «Горного отдыха» послышался удар гонга, возвещающий о ленче.
Когда она появилась в дверях, все уже сидели за столиками. Миссис Дейли поправляла прическу, мистер Дейли приглаживал усы, Элеонор стреляла глазками по сторонам, словно выискивая повод посмеяться. Доктор Лернер бесстрастно перелистывал меню, а напротив сидел обманщик с воротничком пастора — молодой, прыщавый, худой, застенчивый, неуверенно улыбающийся.
— Элизабет, — сказала вернувшаяся с кухни миссис Джири, — это отец Хиггинс. Он приехал на праздник урожая и на ночь остановится здесь.
— Верно, — улыбнулся отец Хиггинс и повторил свое бессмысленное «здравствуйте».
— Здравствуйте, — ответила Элизабет и села справа от миссис Джири.
Все принялись за еду, и миссис Дейли вежливо поинтересовалась:
— Вам уже лучше, дорогая?
Элизабет не ответила.
— Мисс Уайкхем была очень больна, — пояснила миссис Дейли отцу Хиггинсу.
— А, все мы иногда болеем, — вставил мистер Дейли и, сам не зная почему, подмигнул Элизабет.
Отец Хиггинс кивнул и улыбнулся и супругам Дейли и Элизабет в надежде угодить всем. «Что-то тут не так», — подумал он. Эта мисс Уайкхем пугала его — она выглядела как-то угрожающе, так, словно в любой момент могла взорваться. Она явно несчастна, и он мог бы попытаться помочь ей, утешить… Выдавив улыбку, он неуверенно произнес:
— Чудесная погода.
Элизабет рассеянно смотрела на него, пытаясь представить на его месте Яна. Отец Хиггинс опустил глаза и покраснел. Его слова наконец дошли до нее, она пожалела его и ответила:
— Да, конечно.
«Извините, мистер Хиггинс, за мою невнимательность… — мысленно добавила она. — Боже, как жадно он ест!
— Мистер Хиггинс, мистер Хиггинс, — заговорила Элеонор, — знаете, что сделал вчера доктор Лернер?
Их всех словно осветили прожектором. В его ярком свете отец Хиггинс окончательно смутился и сбивчиво ответил:
— Нет, Элеонор, не знаю.
— А вы знаете, мисс Уайкхем? Уже, наверное, слышали?
— Я слышала смех.
«Высокомерная сучка», — зло подумала миссис Дейли.
— О, — поспешно отозвался мистер Дейли, — в этом нет ничего интересного, право…
«Что-то будет, — подумала Элизабет, — они похожи на сдуваемых ветром птиц».
— Ни за что не догадаетесь, — верещала Элеонор.
— Уверена, отец Хиггинс не догадается, — вмешался визгливый голос миссис Дейли. — Мужчины все одинаковы, дорогая.
— Это было потрясающе! — взвизгнула Элеонор.
— Так что же он сделал, Элеонор?
— Ты же знаешь, ма, ты была здесь.
— Что он сделал? — строго повторила миссис Джири.
— Он нас загипнотизировал, — голос Элеонор вдруг приобрел мечтательный оттенок. — Он заставил миссис Дейли сказать, чего она боится больше всего на свете — родить ребенка. А мистера Дейли он заставил сказать, о ком он думает. Оказалось, это я. Мне же он сказал, что у меня нет секретов. Он сказал, что у мамы тоже нет тайн, и что ей часто хочется распустить волосы, но она думает, что будет некрасиво, и никогда этого не делает.
«А если бы я тоже была там?» — подумала Элизабет и живо представила себе следующий диалог:
«— Чего вы боитесь, мисс Уайкхем?
— Да всего… Особенно Яна.
— О чем вы думаете, мисс Уайкхем?
— О Яне.
— Что вы хотите больше всего, мисс Уайкхем?
— Яна, Яна, Яна…»
Повисло неловкое молчание, только миссис Джири и доктор Лернер казались спокойными.
— Боже, какой вздор! — воскликнула Элизабет в полной тишине.
«Это просто абсурд! — думала она. — Если бы Ян был здесь, она бы не вела себя, как истеричная школьница, кожу которой царапал при каждом обороте земной шар».
Мистер Дейли встал из-за стола, потянулся, сел за пианино и, подпевая себе хриплым баритоном, заиграл анданте так, словно это была игривая «шутка» Баха.
— Прекрасная вещь, — заметил он, прерывая игру. — Жаль только моя астма не позволяет исполнить ее достойно.
— Кто хочет помочь нам с отцом Хиггинсом украсить церковь? — как ни в чем ни бывало, спросила миссис Джири.
Остальные с сомнением посмотрели на слепящий солнечный свет за дверью и стали перешептываться. В конце концов все ушли. Все, кроме Элизабет и доктора Лернера. И она от него сбежала.
Элизабет пошла через пронизанный солнцем сад к эвкалипту, возвышавшемуся опаловым куполом на фоне белого неба. Она старалась не спешить, уговаривая себя: не беги, не оглядывайся. Но, дойдя до своего шезлонга, девушка все же оглянулась. Доктор стоял на веранде, глядя на небо и набивая трубку.
Она опустилась в шезлонг. Последовать за ней сюда он не осмелится. Глубоко вздохнув, она рассмеялась. Откуда этот нелепый страх? Чего она боится? Того, что он опять будет задавать вопросы… Зачем ему спрашивать ее о том, о чем она не хочет говорить? Но все шло к тому, что вопросов не миновать. Она вспомнила, как утром он бродил за ее спиной, словно вил в неподвижном воздухе паутину, привязывавшую ее к шезлонгу, дереву, саду…
Где он сейчас? Она украдкой оглянулась. Доктор стоял среди маков на полпути к ней и, глядя на нее, улыбался. Медлительный, безжалостный, неотвратимый… Она отвернулась и стала ждать его приближения, как ребенок в темной комнате, услышав шаги, ждет, когда откроют дверь.
— Могу я посидеть здесь немного?
Чувствуя себя беспомощной жертвой, она еще больше вжалась в шезлонг и тихо ответила:
— Если хотите.
«Агония», — подумал доктор Лернер, садясь на землю. Агония на фоне зачарованного ландшафта. Она страдает, для нее это агония… Он поднял прутик и стал царапать им землю.
— Каким огромным кажется все, на чем сосредоточиваешь внимание, — заметил он.
— Действительно, — холодно ответила она. — Как бы вам понравилось быть муравьем или кем-то еще более крошечным?
Прутик прочертил четыре линии, выходящие из одной точки. «Паук, — подумала она, — или цветок». Детский рисунок цветка… Память ее вернулась в «Холтон», к резному орнаменту на парте.
— Что это? — робко спросила она.
— Чудовище взрослых. Распадающийся атом.
Элизабет снова почувствовала наползающий страх.
— Почему вы все время говорите об атоме? — воскликнула она. — Утром в саду и сейчас… Это…
Внезапная мысль потрясла ее: это Ян, это почти тот глупый крестик, которым он подписывает свои телеграммы. Она снова бросила взгляд на дорогу — на ней не было никакого движения.
Доктор Лернер молча дорисовал атомный взрыв, и на земле не осталось ничего, кроме крошечных гор и бездн, посреди которых извивался дождевой червяк.
Она вспомнила смех, донесшийся до нее прошлой ночью, и разговор за ленчем.
— Вы действительно их загипнотизировали? — неожиданно для самой себя спросила она.
Скажи он «да» или «нет», ее презрительное отношение к «подопытным» все равно бы не изменилось, но он ответил иначе:
— Мозг можно заставить делать лишь то, что в нем и так заложено.
«А он умен», — нехотя признала она. И вдруг почувствовала облегчение. Надо внушить Яну желание приехать. И тогда он примчится сюда, слезет с мотоцикла, повернется к ней и крикнет: «Привет, Лиз!». Да, именно так. А если он сделает что-то другое или не произнесет одного из этих двух слов, случится нечто ужасное. Все пойдет не так, мечты не сбудутся… Но он должен, должен приехать. А потом… Ее мысли устремились в будущее: жизнь вместе, кровать, диван, трава, вместе, одни, поляна, Курраджонг… Курраджонг? Но и в «Горном отдыхе» наверняка найдется поляна. Ее глаза обежали поросшие лесом холмы. На ветку эвкалипта прямо над ее головой села птичка и просвистела что-то вроде: «Чистое счастье! Чистое счастье!» Элизабет нервно рассмеялась, и по ее щекам покатились слезы.
Доктор Лернер поднял на нее глаза и кивнул, словно она только что в чем-то призналась. Он напомнил ей их семейного доктора Гарри. Тот тоже всегда с мудрым видом кивал, всегда знал заранее, что ему скажут. И никогда не принимал сказанного всерьез. Что вообще могут врачи? Что они могут сделать с ЭТИМ? Вот один из них сидит рядом и умно кивает.
— Зачем вообще нужны доктора? — воскликнула она. — Что вы можете?
— Я не настоящий доктор, — спокойно возразил он. — Видите ли, наука…
— Я не знаю ни одного настоящего доктора, — резко перебила его она.
Он только пожал плечами, и ее охватило яростное желание шокировать, испытать его. Выпрямившись в шезлонге, Элизабет зло посмотрела на доктора Лернера. Слово, готовое слететь с ее уст, было настолько чудовищным, что им следовало не пугать, а бить наотмашь. Услышав его, он вскочит и убежит. Все человечество сбежит, оставит ее одну… Но ей не хотелось, чтобы он уходил.
— У меня туберкулез, — отчеканила она, вызывающе глядя ему прямо в глаза.
Глаза опустились. Убежит или не убежит?
Он наблюдал за суетой муравьев. Слышал ли он ее?
— Большинство людей приходит в ужас, — насмешливо добавила она.
Уйдет или нет?
— Я знаю.
Ей стало не по себе.
— Откуда?
Он повел головой в сторону отдельного побеленного коттеджа, как бы включив в этот жест и шезлонг, и ежедневный стакан молока, и вообще всю ее жизнь в «Горном отдыхе».
— Нетрудно было догадаться.
— И вы не боитесь?
— Нет, — почти рассеянно ответил он, провожая глазами маленькую группу, направляющуюся к церкви.
— Миссис Дейли пришла бы в ужас.
— Она охотно придет в ужас от чего угодно, — пожал он плечами. — Для нее это хоть какое-то разнообразие.
Испытывая одновременно легкую досаду и облегчение, Элизабет сказала:
— Вы отнеслись к ЭТОМУ очень спокойно. Наверное, я должна быть вам благодарна.
— Вам следовало бы быть благодарной за то, что вы уже почти поправились.
Он вовсе не поучал ее, и она поняла это. И он был прав. Она и в самом деле должна быть благодарна за то, что уже не чувствует себя смертельно усталой от бесконечного спора с Яном по поводу ее денег, от того вечера, того жуткого мгновения, когда в ее жизнь вошло ЭТО.
Доктор Лернер не знал, да и не мог знать всего ужаса, беспощадности той минуты. Ее широко открытые глаза видели сейчас не деревню и окружающие ее холмы, а парадное крыльцо своего дома, сверкающее в свете лампы лакированным деревом. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и ей показалось, что эта сцена обречена повторяться вечно. Ее сердце пробудилось, началось ее путешествие — движение по краю пропасти к однообразной жизни, в котором она, борясь с собственной гордостью, была не в состоянии идти дальше. Они просто стояли перед дверью и произносили строки своих ролей.
— Хорошо, Лиз, — устало сказал Ян, — я попытаюсь взглянуть на это твоими глазами.
— Попытайся, — так же устало ответила она.
И на этом сцена должна была закончиться, чтобы повториться завтра, послезавтра… Ему оставалось сказать: «Ну, спокойной ночи», обнять ее и поцеловать, а ей — прошептать: «О, мой дорогой…» Потом он должен был взять у нее ключ и отпереть дверь, а она — войти, запереть дверь и отправиться делить подушку со своим горем. Он же должен был удалиться в ночь, унося свое сердце и голову, которые она уже устала пытаться понять.
И он сказал свое «ну» и хотел было обнять ее, когда на нее напал кашель. Она кашляла и кашляла, и не могла остановиться. «Платок!» — выдохнула она и согнулась, раздираемая кашлем. Когда приступ прошел, и она отняла ото рта платок, на нем была кровь.
На ее глазах сгусток крови разрастался, поглощая весь мир. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» — донеслись до нее его слова. Она тряхнула головой, и кровавое море исчезло, но осталось пятно на платке — яркое, как лакированное дерево. Она смотрела на него с каким-то холодным, отстраненным любопытством, но когда чудовищный смысл его проник в ее сознание, она лишь чудом устояла на ногах.
— О Боже, Ян, взгляни!!
А он? «Давай не будем волноваться, милая», — произнес его дрогнувший голос, и он снова обнял ее. «Лучше не надо», — прошептала она, а он запечатлел на ее губах долгий поцелуй.
Подобрав оброненный ею ключ, он отпер дверь, и она вошла в дом, чтобы провести в нем пять долгих месяцев. Конец пути, споры окончены, горизонт ужасающе близок — чувствовала она в первые дни отчаяния, когда у нее не осталось ничего, даже занятий в университете.
Доктор Гарри был весел, но сдержан. Он не позволял матери стенать в ее присутствии. Уложив девушку в постель и велев ей не паниковать, он спустился в гостиную для серьезного разговора с матерью.
— Доктор Гарри очень добр, — сказала позже мать. — Тебе следовало бы поехать в… санаторий, но… но сейчас в этом нет необходимости. Мы будем сами ухаживать за тобой, дорогая. При соблюдении известной осторожности, опасности заражения нет. Но тебе придется оставаться в постели.
— Как долго.
— Пять месяцев, может, шесть…
— Пять месяцев!
Это же целая вечность! За пять месяцев она могла бы выйти замуж, оказаться в безопасности…
— Дорогая, — склонилась над ней мать, — мы все надеемся, что ты скоро поправишься.
Несмотря на слабость, она не удержалась от вопроса:
— Только надеетесь?
— Надеемся и любим, мы все любим тебя…
Она попыталась проглотить огромный, как ее шар, ком в горле.
— Мне ничего не передавали?
— Передавали?
— Да, я слышала телефон.
— Ах, да… — неохотно ответила мать. — Звонил Ян. Я сказала ему, что ты нездорова.
— Он попросил разрешения навестить меня?
— Да, дорогая. Я сказала, что надо подождать.
— Мама, если ты боишься за него, то он уже мог заразиться.
Несправедливо, опасно, но иначе она не могла. Если ее изолируют от Яна, ей не на что будет надеяться.
— Если ты не позволишь ему приходить ко мне, — с отчаянием в голосе пригрозила она, — я буду весь день говорить с ним по телефону.
Мать с неохотой обещала посоветоваться с доктором Гарри. Не доверяя матери, Элизабет сама умоляла доктора, и он, тоже неохотно, согласился. И он подтвердил сказанное матерью: пять месяцев, если не больше. «Надо верить в успех, дитя мое, — добавил он на прощание. — Мы захватили болезнь в самой ранней стадии, и это огромная удача».
И она лежала в своей чудесной комнате, и каждый вечер мать объявляла: «А вот и Ян, дорогая! Только недолго, Ян, хорошо?»
Он приносил с собой внешний мир, столь отличный от мира ее комнаты. Целыми днями она лежала, не слыша жизни, разве что звук мотора проезжающей машины. На дерево у окна прилетали птицы, и она полюбила их. Своим щебетанием они отмечали рассвет и наступление сумерек — чередование дней. Ей страшно не хватало простой механики мира, обычных повседневных звуков и движений, шума улиц… Раньше она и подумать не могла, что это так важно. До болезни все эти звуки были всего лишь обычной оркестровкой ее бытия, но теперь, без них, она чувствовала себя заточенной в стерильной тишине. Она читала газеты и книги, слушала радио, но они только подчеркивали ее изолированность. И каждый день она ждала вечера, когда Ян принесет ей мир и себя.
— Как там крысы? — спрашивала она, и он рассказывал, стараясь делать это интересно и занимательно, чтобы развлечь ее. Иногда она понимала его, но чаще путалась в мудреных научных названиях. И все же она хотела знать: крысы стали символом той жизни, в которой она уже не участвовала. Она жаждала понять, что там без нее поделывает внешний мир.
— Я пишу диссертацию, — объявил однажды Ян. И она внимательно следила за продвижением его труда, и настояла на прочтении, когда он закончил его. Почти ничего не поняв, она все же выслушала все до конца. Впервые его работа заинтересовала ее не меньше, чем он сам. Его наука перестала быть соперницей, став, скорее, подругой.
Иногда они медленно вращали шар, ничего не говоря друг другу. В другие вечера ее не интересовали ни мир, ни шар, только он. Она забывала, где она и почему; оставалась только девушка, безмерно любящая мужчину, который сидел на краю ее постели. И она задавала ему все те вопросы, что мучили ее на протяжении дня.
Проходили недели, и она продолжала любить его так же сильно, но уже не так нетерпеливо. Она обнаружила в себе запас какой-то тихой, спокойной энергий, совершенно не известной раньше, в то неистовое время, что предшествовало болезни.
Ожидая вечера, Элизабет неторопливо размышляла о Яне и о себе. Проблемы не давили, поскольку уже не требовали немедленного разрешения. И к своему удивлению, она с этим смирилась. Ей пока хватало того, что он приходит по вечерам, и она может видеть его, говорить с ним, держать его руку, просто любить его…
Так она лежала и ждала, а птицы за окном носились, как безумные, среди листвы, прыгали, чистили перышки, били крыльями. С наступлением темноты дерево замолкало. Затем слышались шаги на лестнице и звяканье фарфора на подносе — мать несла ей ужин (Линет переехала к подруге, а очередная горничная наотрез отказалась обслуживать больную). Она разворачивала салфетку, без особой охоты пробовала принесенные блюда и выпивала рекомендованный доктором стаканчик хереса. Потом мать уносила поднос. За окном темнело. Птицы спали, спрятав головы под крыло и изредка чирикая, когда им снились дневные полеты.
Но однажды на лестнице раздались другие шаги, тяжелые и медленные — папины. Его неожиданный визит вызвал у нее удивление и радость.
Высокий, седой, ссутулившийся, мистер Уайкхем осторожно присел на край постели.
— Ну, девочка, как ты? — немного смущенно спросил он.
— Привет, папа, — улыбнулась она.
Благородный орлиный профиль, правильное, но неинтересное лицо, лицо из другого мира. В тот вечер она полюбила отца, пожалела, что не знает его лучше, и что не родилась мальчиком (только ради него, разумеется, иначе не было бы Яна!)
— Как ты чувствуешь себя сегодня?
— Прекрасно, — весело отозвалась она. — Сама себе кажусь симулянткой.
Ее легкомыслие, похоже, тронуло его; в его глазах появилась теплота, когда он неуклюже взял ее руку и крепко сжал.
— Поправляйся скорее, храбрая девочка, — пробормотал он. — Спокойной ночи.
Отец взял поднос, и его тяжелые шаги замерли внизу.
Этот небольшой эпизод согрел ее, что редко бывало в отношениях с семьей. «Храбрая девочка». Вовсе она не храбрая, но его слова растрогали ее. Уж не сблизила ли ее болезнь с семьей? Но тут у калитки прогромыхал и затих мотоцикл, и она забыла о семье. Когда «железный конь» капризничал, Ян приходил пешком. Он всегда появлялся примерно в одно и то же время, а для этого — не без злорадства думала она — ему приходилось раньше оставлять своих крыс.
— Да, она поправляется, — донесся голос матери. — Только, пожалуйста, недолго.
— Да, конечно, — ответил он.
И вот мать открывает дверь, и перед ней Ян и весь мир.
— Как поживают крысы?
— Сегодня удачный день, — ответил он и поцеловал ее в щеку (после той ночи она настаивала, чтобы он, на всякий случай, не целовал ее в губы, но он часто забывал об этом, а она не напоминала).
— Лучше зажечь свет, — сказала она, — а то мать будет нервничать.
Он повернул выключатель, и ночь за окном стала угольно-черной.
— Помнишь, ты сказал однажды, что от старых и больных надо избавляться? — спросила она, беря его руку.
— Я сказал такое?
— Да, тем дождливым вечером в парке. Я хорошо запомнила твои слова: «От больных надо избавляться», — улыбнулась ему она, больная.
Он смущенно рассмеялся и сильнее сжал ее руку.
— Неужели я это сказал? Чего мы только не говорим иногда…
— Так это было не серьезно?
— Конечно нет.
— А я все говорила серьезно.
— Это было преувеличением.
— Я бы не хотела, чтобы от меня избавились.
— Если кто-то попытается, дай мне знать.
Сейчас он говорил вполне серьезно.
— Непременно, — пообещала она. — Ян, ты доволен?
— Чем? — не понял он.
— Вот этим, — свободной рукой она дотронулась до своей груди.
— О Боже, Лиз! Я рад, что тебе лучше, я…
— Я о другом, — мягко перебила она. — Доволен ли ты тем, что мы больше не спорим?
Он явно старался быть справедливым, не причиняя боли, и ей стало жалко его.
— Пожалуй, — признал он. — Хотя, Бог свидетель, я бы предпочел иной способ прекратить наши споры.
— Я тем более.
— Лиз, я много думал об этом, старался…
— Не надо, милый. Я тоже довольна. Сейчас я как бы отдыхаю… Природа — мудрая сволочь. Мне просто было интересно узнать, что ты чувствуешь.
Они заговорили о другом — о студенческих сплетнях, которые раньше ее совершенно не интересовали Он мало что знал.
— Ты должен все разузнать, — повелела она, — и сообщить мне завтра же.
Пришло время расставаться. Он посмотрел на ее руку и тихо сказал:
— Как я хотел бы подарить тебе кольцо…
«Обручальное?» — хотела она поддразнить его, но это было бы нечестно, и она ласково ответила:
— У меня же есть часы, любимый. Какая разница?
— Часы, купленные на твои же деньги, — криво усмехнулся он. — Спокойной ночи, дорогая.
Она приподняла голову для поцелуя. Он поцеловал ее в губы и ушел. Шаги по лестнице, шаги по дороге, щелчок калитки, рев мотоцикла, тишина… И все — ни Яна, ни мира. Ее день и вечер кончились.
Она повернулась на бок, лицом к шару, погасила свет, и в окно вошла мерцающая ночь. Через несколько часов темнота побледнеет, птицы, одна за другой, извлекут головки из-под крыльев и озвучат дерево своим щебетанием, от которого проснется и она. Начнется новый день, ведущий к вечеру, к Яну.
Так проходили недели и месяцы, пока однажды утром доктор Гарри не объявил:
— Мне кажется, все чисто.
— Значит, мне лучше?
— Насколько я понимаю, да. Понадобится еще один рентген.
— Я могу вставать?
— Не сразу, Лизмас (он знал ее с детских лет). Торопишься. Ты только начала выздоравливать. Ты же умница, подумай сама, можно ли вскакивать с постели, проведя в ней пять месяцев?
— Нет… — в смятении признала она. Все случилось так неожиданно! Она ощущала себя зверем, чью берлогу раскопали посреди зимней спячки.
— Я знаю одно чудесное местечко, — говорил доктор матери. — Сам там отдыхал… замечательная женщина… ухаживала за матерью, пока та не умерла в девяносто восемь лет… муж… оставил ее с ребенком…
Память вернула ее в «Горный отдых», куда она приехала по его рекомендации и где вновь погрузилась в томительное выздоровление. Шесть недель назад, в такой же вечер как сегодня, их машина поднялась на холм, и она увидела внизу деревню.
— Вот он, — показал доктор Гарри, и на противоположном холме, как по волшебству, возникли ферма, две высоких сосны, сад и побеленный коттедж. — Это и есть «Горный отдых».
Слова прозвенели в ее ушах, словно колокола монастыря. «Горный отдых»… Выглядит привлекательно. И пока машина спускалась с холма и пересекала безлюдную деревню, она говорила себе: теперь все будет хорошо. Когда миссис Джири вела ее через сад, кивнув бродившей по нему серой фигуре (которая сейчас, шесть недель спустя, тихо сидела рядом с ней), она самонадеянно решила: мы отложили наши споры на время, но когда вернемся к ним, Яна уже не будут пугать ее деньги.
Но в «Горном отдыхе» мало что изменилось. Разлука (которой удавалось избежать в Сиднее) и тревожная слабость выздоравливающей усилили ее сомнения до такой степени, что сейчас она уже ненавидела себя и это место. Лежать целый день в саду и думать о прошлом…
Благодарной? Почему она должна быть благодарной? Ах, да…
Как ни странно, ей совсем не хотелось плакать. Неужели доктор Лернер так благотворно на нее действовал? Они провели здесь вместе шесть недель, а говорили всего лишь несколько раз.
— Пожалуй, мне следует быть благодарной, — сказала она, продолжая начатый разговор.
Он смотрел в сторону церкви.
— Любопытно, что они сейчас там делают?
— Миссис Дейли думает, что возня с цветами испортит ее маникюр, — машинально отозвалась она.
Он улыбнулся даже без намека на упрек, но она почувствовала себя неловко.
— Извините, я просто глупо пошутила.
Странно, но ей было с ним легко — она чувствовала себя раскованно и непринужденно. Не от того ли, что сегодня она впервые без страха посмотрела в лицо своим воспоминаниям?
— Да нет, вы правы, — снова улыбнулся доктор Лернер. — Но ее тревоги напрасны, там найдется кому заняться цветами…
Внезапно в ее успокоившемся было мозгу возник фургон, а вместе с ним и то утро, когда они с Яном побывали на рынке. В воздухе носились непривычные резкие запахи, скрипели и грохотали колеса, цокали копыта, ломовые лошади выкатывали глаза, пятясь, фыркая, скользя на растоптанной ботве и гнилых капустных листьях. На прилавках громоздились ярко-красные помидоры, обрамленные нежной зеленью салата. Из большой кучи малиновой редиски Ян выбрал одну, надкусил и небрежно отбросил, и она сверкнула белым на черном булыжнике мостовой. Через мгновение ее уже раздавило лошадиное копыто, а появившееся следом громыхающее колесо размазало в бесформенное ничто. Конский хвост хлестнул Элизабет по лицу, и она, вскрикнув, отскочила в сторону. На них надвигался огромный фургон с выгоревшими красными и золотыми буквами на боку, и из него до нее донесся обрывок чьей-то фразы: «Они занимаются цветами…»
Доктор Лернер продолжал говорить, и его тихий, спокойный голос, казалось, помогал ей проникнуть взглядом сквозь стену далекой церкви.
— Они вошли в церковь, — зашептала она, — всеми командует миссис Джири, показывая, как крепить цветы на спинках скамеек. Ей следовало бы…
— Да-да? — с интересом отозвался доктор.
— И… — Слова, описывающие то, чего нельзя было увидеть, улетели, унесенные, должно быть, волной врожденной застенчивости. Но зрение осталось. Она точно знала, что сейчас миссис Джири остановилась перед алтарем. Остальные смирно ждали за ее спиной. У их ног лежали плоды земли, которые скоро украсят сосновые скамьи, кафедру и алтарь. Там были огромные тыквы и охапки цветов — золотистых настурций и красных хризантем. Цветы на платье миссис Джири заиграли, когда она, обернувшись, принялась раздавать обязанности: миссис Дейли будет украшать пучками настурций скамьи, Элеонор укрепит на кафедре хризантемы, мистер Дейли должен помочь жене, а они с мистером Хиггинсом займутся алтарем…
Часы в гостиной пробили три раза, и их вибрирующий звук проплыл над садом. Она прислушалась. Били ли четвертый удар? Нет, лишь эхо, отраженное высоким белым небом, в котором одиноко и лениво кружила ворона.
— Три часа… — вслух сказала она.
Ее охватила дрожь, и она нервно зевнула. Те, в церкви, вернутся не скоро. Она зевнула еще раз.
— Да, — кивнул доктор Лернер. — Три часа. Вам следовало бы немного вздремнуть.
Обыденность этой фразы заставила ее рассмеяться.
— Таково ваше лечение?
— Да. Короткий сон пойдет на пользу.
Доктор, задумавшись, сидел рядом и вдруг заметил у ее ног листок бумаги. Он поднял его и прочитал вслух:
— «Элеонор, Элеонор, Луне подобный взгляд»… Спите. И пусть вам приснится ваша ненаписанная поэма.
Уже засыпая, она улыбнулась ему.
Она спала и видела сон. Ее окружало море цветов, и она могла заглянуть в душу каждого. Огромные, они раскрывались перед ней, и она любовалась скромными сердцами настурций и гордыми сердцами хризантем. Цветы пели ей на языке, который она часто слышала и понимала, и жаждала, но не могла говорить на нем. «Мать Земля, мать, жена и дочь Солнца», — пели цветы, и все, стоящие перед алтарем, вторили им. Облаченная в поющие цветы миссис Джири распустила волосы. Потоками кроткого огня они скатились до ее колен, и цветы в них засверкали и расцвели изумительными красками. «Мама Джи, — пели они, — где Рей, где твой муж Рей?» А миссис Джири смотрела туда, где Элеонор-Луна светилась желтым, ослепляя мистера Дейли, сводя его с ума. Волосы миссис Джири стекали вниз, покрывая голубоватый Старый улей. В исходящих от них лучах бледный сосновый крест тянулся к небу, и бледный отец Хиггинс опустился перед ним на колени. Она, Элизабет, что-то говорила, но не слышала своих слов. Тогда она крикнула громче, протестуя против этой внезапной глухоты, но снова не услышала себя, а все вокруг отвернулись от нее. И огромная куполообразная пустота там, где был ее эвкалипт, поглотила цветы. Эта пустота лишила ее последних сил, и она растворилась в воздухе, превратившемся в огромную стеклянную волну, напоминавшую наклоненную башню или изогнутую стену. Она пыталась прокричать слова, которые разбили бы эту волну и решили бы все. Она не знала этих слов, но чувствовала, что если бы могла произнести их вслух, они пришли бы сами…
Она проснулась от собственного крика.
Мгновение Элизабет лежала молча, а потом прошептала:
— О, как бы я хотела… — Она отбросила волосы с влажного лба и, запинаясь, закончила: — Как бы я хотела… писать стихи!
— Нет ничего невозможного. — Доктор Лернер по-прежнему сидел рядом, царапая землю прутиком. — Все вокруг нас таково, каким мы это видим.
Вечер окружал их, как золотой океан, подернутый рябью птичьих трелей.
— А теперь, — предложил он, — давайте прогуляемся.
— Еще одна процедура? — сонно улыбнулась она.
— Я не настоящий доктор, — терпеливо повторил он и добавил: — Меня больше интересуют атомы.
Атомы. Опять это слово. Но сейчас оно не вызвало в ней страха.
— Многие люди боятся атомов, — продолжал он размышлять вслух, — но из них состоит весь мир. А мира не стоит бояться, ему надо удивляться… Ну так как, идем?
Надо не бояться, а удивляться… Она посмотрела на полоску дороги, на желтую, неподвижную, выжидающую ленту бесчисленных атомов. Проследив за ее взглядом, он тихо добавил:
— Мы пойдем туда, откуда все видно. Далеко идти не придется.
Он помог ей подняться. Она снова посмотрела на дорогу. Это стало не просто необходимостью, а частью некого ритуала, который обязательно надо довести до конца.
Они побрели через сад. Из гостиной донеслось четыре удара, и их звуки поднялись над соснами, под которыми они шли. Она и не подозревала, что проспала так долго. Около поленницы чистым белым цветом сверкали свежие щепки. На холме перед ними верхушки эвкалиптов, залитые лучами заходящего солнца, раскачивались, как золотые шатры, и с их ветвей доносилась песня вернувшихся в свои гнезда птиц.
Они подошли к калитке из иссушенного солнцем, растрескавшегося дерева. Словно во сне, она склонилась над ней, и та превратилась в целый мир, а каждая трещинка — в долину, где обитали крошечные существа. По одному из каньонов торопился домой черный муравей. Краем глаза она заметила его движение и отпрянула, но не потому, что испугалась, а просто не желая смущать его.
Они миновали калитку, и она, верная своему ритуалу, оглянулась назад, на дорогу и церковь. К ней вернулось ее внутреннее зрение, и она снова видела, что в церкви светлело по мере того, как настурции, пучок за пучком, украшают спинки скамей. Все — и мужчины и женщины — почти не разговаривали, поглощенные общим делом.
Медленно шагая по тропинке со своим новым другом (а она уже считала его таковым), девушка невольно подумала о том, что люди много говорят лишь тогда, когда им нечем заняться. Самые молчаливые люди — одинокие, потому что они заняты всегда. Заняты собой.
Тропинка, бегущая среди деревьев, кора которых свисала со стволов многоцветными лохмотьями, походила на диковинную зебру — красную глину пересекали темные тени. Она привела их к небольшому ручью. Украшенный драгоценными осколками кварца и разноцветными камешками, он пел свою тихую песню, журча у ног, когда они пересекали его по шатким мосткам.
Они поднимались по пологому склону. Доктор что-то говорил, но Элизабет не понимала сказанного, воспринимая его голос как часть музыки вокруг себя. А слышала она все — от сердцебиения муравья до дыхания земли. Все эти звуки сплетались в спокойную фугу в ритме постижения и завершения.
Они вышли на открытое место.
Это была вершина холма, увенчанная пирамидой из камней. Их взору открылась вся долина, раскинувшаяся под солнцем позади Старого улья. Далеко внизу, в крошечной церквушке, миссис Джири поставила последний цветок в серебряную вазу и оглядывала плоды своих усилий. И сейчас она, Элизабет Уайкхем, неподвижно стоящая рядом с доктором Лернером на вершине холма, знала, что в это бесконечное мгновение сердца людей, сидящих там, в церкви, раскрылись. Сердце мистера Дейли признало, что некоторые вещи следует дарить, а не продавать. С радостной дрожью мистер Хиггинс думал о том, как же все-таки хорошо, что он стал пастором. В сердце миссис Дейли прозвучало: «Почему я не могу всегда быть такой?» «Как красиво!» — прошептала Элеонор и обняла мать. «Ну вот, — сказала миссис Джири, — все и готово».
Из долины к пирамиде камней поднимались едва слышные звуки жизни: лай собак, мычание коров… В молчаливом пении вращающегося воздуха они смешивались с щебетанием птиц, похожим на звучание колокольчиков.
— Не хотите мне все рассказать? — спросил доктор Лернер.
— Я… хотела бы, — спокойно ответила она. — Но я не думаю, что сейчас это нужно.
Из ее глаз покатились тихие слезы облегчения.
— Да, — согласился он, — верно. Вы уже это переросли.
Он не знает Яна, не знает ее страхов… Продолжая беззвучно плакать, она вдруг поняла, что он прав: есть некая изначальная схема, что-то вроде атомов, и, признавая это, признаешь все. И тогда встречаешь жизнь стойко и уверенно, как миссис Джири.
— Он приедет, — сказал доктор Лернер.
— Да.
Она перестала плакать. Да, Ян приедет. Она не знала, когда, но не сомневалась, что просто должна ждать, что будет ждать его всегда, где бы он ни был — в ее объятиях или в Сиднее. Жить она могла только им. Ради него она будет часто предавать себя, никогда больше не отступит внутрь темно-синего шара самой себя. Как бы тесно они ни были связаны друг с другом, им никогда не слиться воедино, они вечно будут двумя сферами на одной орбите, слушающими музыку друг друга.
Она закрыла глаза. «Я — его, ему достаточно лишь попросить, потребовать… Хватит ли мне сил, уверенности?» Достаточно одному атому схемы отказать, и все рухнет. Вот уже шесть недель она не видела его, а ведь раньше лишь его присутствие давало ей силу жить. Они любят и живут по-разному. Может, она любит сильнее. Он пришел к ней, как Орион, шагающий по небу. Но что она для него?
В приступе страха она сжала кулаки и сильно зажмурилась. «Держись, — приказала она себе, — держись!» Она сдержалась, и пришло облегчение — напряжение спало. Научившись однажды плавать, плаваешь всю жизнь. «Я научусь плавать», — прошептала она.
Что-то коснулось ее руки. Она открыла глаза.
— Смотрите! — сказал доктор Лернер и показал на дорогу.
И она посмотрела. По полоске дороги что-то двигалось. Мотоцикл. У нее перехватило дыхание. Доктор Лернер взял ее за руку, и она задышала опять. Не спеша, молча, они проделали обратный путь вдоль ручья, через калитку, мимо поленницы. Тем временем мотоцикл проезжал по деревне, и из церкви вышли отец Хиггинс, миссис Джири и Элеонор, мистер и миссис Дейли. У дома доктор Лернер оставил Элизабет, но она даже не заметила этого. Она пересекла сад, подошла к своему эвкалипту и стояла, не шевелясь, лицом к калитке. Послышался рев мотора: он приближался, заполняя весь мир. Мотоцикл остановился. Она застыла на месте.
— Привет, Лиз! — крикнул Ян.
Мир вокруг вспыхнул и взорвался, огромная волна откатилась, разбилась, рассыпалась ослепительными брызгами, и она бросилась в его объятия.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Суинберн, Алджернон Чарлз (1837–1909) — английский поэт, автор многочисленных сборников стихов, поэм, драмы в стихах.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


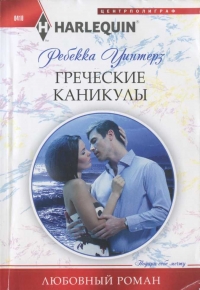



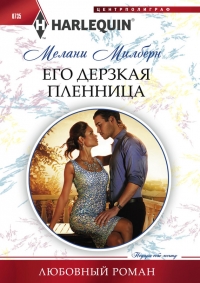
Комментарии к книге «Путешествие в любовь», Монго Макколам
Всего 0 комментариев