Зинаида Шедогуб Работа по распределению
Новогодний вечер в пединституте.
Темноту разрезают разноцветные огоньки праздничных гирлянд. Я стою у стены и тщетно пытаюсь разглядеть однокурсниц, Свету и Лилю.
– Подруги выходят замуж, а у меня нет даже парня. Неужели так никому и не понравлюсь? Значит, поеду скоро по распределению, – с досадой вздыхаю я, считая, что зря так долго вертелась перед зеркалом, укладывая непокорные волосы в замысловатую прическу. – Все зря… Лучше бы поехала домой, в Черный Ерик. Нет, все же зря осталась в Краснодаре…
– Пойдем, Дюймовочка, танцевать, – вдруг слышу я и радостно вздрагиваю. Еще не видя говорящего, пытаюсь улыбнуться и поправляю прическу, чтобы ему понравиться.
Боже, как он красив! Блестящие волосы коротко острижены. На высоком лбу темнеют чуть изогнутые брови. Синие очи смотрят умно и насмешливо. Под тонким носом пламенеют чувственные губы.
Танцует он так легко, что я, стыдясь своей неуклюжести, изо всех сил пытаюсь уловить движение его мышц, чтобы предугадать очередное танцевальное па и не опозориться.
Закончился танец, и незнакомец предлагает:
– Давай, Дюймовочка, отсюда куда-нибудь убежим.
– Хорошо, – не задумываясь, отвечаю я, готовая последовать за ним в тот миг хоть на край света.
Взявшись за руки, мы идем в парк.
Неслышно падают с неба снежинки, повисают на ветках деревьев, покрывают серебром дорожки, скамейки, клумбы… Все сказочно блестит. Город погружается в тишину, и мы тоже молчим. Говорят только губы да руки.
– Как же доберусь? – думаю я, пытаясь вырваться из его объятий.
Видя мое беспокойство, мужчина тоже очнулся.
– Замерз, и поздно уже. Пойдем, крошка, ко мне. Я тут недалеко живу.
– А как тебя зовут? – дрожа, спрашиваю я.
– Ну, давай знакомиться: Игорь. Да не трусь, – хохочет он. -
Женщин никогда не беру насильно. Захочешь сама – да. Отвезти на такси тоже не могу: все деньги вчера в ресторане оставил. Так что деваться тебе некуда.
– Да, деваться мне действительно некуда, – считаю я.
Как заколдованная, подчиняюсь любому желанию незнакомца, обнимаюсь, целуюсь… И это я, недотрога… Раньше бы пошла в общежитие и сама, а сейчас, как загипнотизированная, следую за
Игорем, впервые в жизни испытывая физическое влечение к мужчине и боясь этого чувства.
– Ты, конечно, из станицы… Наша… Кубанская… И зовут тебя
Мария, – гадает Игорь.
– Нет, – шепчу я. – Во-первых, хуторская, во-вторых, не Маша, а
Вера.
Щелкнул замок – и мы в комнатке.
Диван. Книжный шкаф. Небольшой письменный стол. Между мебелью узкий проход.
Вот и все, дорогая… Не успела познакомиться с парнем и сразу в постель… Хорошо, если отсюда живой выйдешь!
– Раздевайся, ложись на диван и отдыхай, – приглашает Игорь.
– Нет, не хочу… Понимаешь: у меня еще никого не было… – чуть не плачу я. – Да и нельзя мне: отец этого не перенесет… Мама после родов умерла, он сам меня вырастил. Опозорюсь – умрет…
– Переживет, – ехидно смеется Игорь. – И не ной. Я ведь тебе обещал. Вот только поцелую тебя и спать завалюсь.
Он страстно впился в мои губы, но, заметив страх, недовольно оттолкнул меня, отвернулся к стене и замолчал.
Я сижу рядом, боясь пошевелиться, но, когда, наконец, понимаю, что мужчина не притворяется, а спит, осмелев, встаю с дивана и рассматриваю в шкафу книги, ищу документы и фотографии, чтобы хоть что-то узнать о незнакомце. Ничего не нахожу, только в ящике стола обнаруживаю шприцы и думаю:
– Может, он наркоман?
Всю ночь придумываю страшные истории, а когда начинает светать, тихонько выхожу из дома и еду в общежитие.
– Где ты была? Я так волновалась… – сонно бурчит Светлана, увидев, как я на цыпочках вхожу в комнату.
– Ночевала у тетки в городе, – неумело вру и чувствую, как фальшиво звучат мои слова. Как в омут, бросаюсь в постель и тяжело вздыхаю.
– Все хорошо, что хорошо кончается, – успокаиваю себя, хотя и понимаю, вряд ли все так закончится: Игорь уже вошел в мое сердце, и забыть его будет непросто.
Закончились каникулы, начались занятия, а Игорь больше не появлялся.
Жду его каждый день. Лектор что-то рассказывает о Владимире
Маяковском, а я не слышу ни единого слова: все черчу и черчу в тетради какие-то замысловатые кружочки и думаю:
– Я ему понравилась, не могла не понравиться: где он еще найдет такую красивую, чистую, невинную…
При выходе из аудитории сталкиваюсь с Игорем. Он весел и элегантен. Сжав мою руку, мужчина так, словно видел меня вчера, говорит:
– Получил зарплату. Сейчас пойдем, Зеленоглазка, в кино, а потом
– в ресторан.
Я, конечно, счастлива.
Кинотеатр "Кубань" переполнен. Мы сидим на последнем ряду, у самой стены. Игорь обнимает меня и одновременно наблюдает за мною. Я же так увлеклась сюжетом, что то смеюсь, то плачу, то вздрагиваю при каждом взрыве, словно снаряды попадают в меня.
– Ну, и сентиментальная же ты… На платок, утри слезы: я все это не люблю… И вставай: пора нам в ресторан. Будем поднимать настроение, – недовольно бурчит Игорь.
Покорно встаю, иду к выходу, но внутри у меня все клокочет:
– Неужели тебя не тронул фильм: ведь он о войне, о верной любви, о семье, о детях…
– Что за нравоучения? Ты уже как учительница в школе! – злится
Игорь. – И скажу тебе, Вера, прямо, чтоб ты не тешила себя иллюзиями: меня тошнит от всего этого… Из всех этих слов мне близко одно: любовь, но учти: свободная любовь. Говорили ли о ней в твоем институте? Это, понимаешь, настоящая любовь… Её нельзя удержать ни брачным свидетельством, ни детьми… Она приходит неожиданно и так же неожиданно уходит. А семья, дети, ссоры – это уже не любовь…
Игорь всё говорит и говорит, излагая теорию свободной любви, а я от его слов сжимаюсь как от удара.
– Вот и узнала милого… Да я ему нужна на вечер. Надо от него бежать подальше, – натыкаясь на прохожих и незаметно смахивая слезы, думаю я, хотя и понимаю, что никуда сейчас не убегу, пока жива во мне надежда на то, что он все-таки полюбит меня по-настоящему.
Кавказская мелодия просочилась на улицу Красную, и Игорь, неожиданно позабыв о своей теории, радостно сказал:
– Сейчас ты увидишь моих друзей…
Впервые в жизни вхожу в ресторан, и мне кажется, что все смотрят на меня осуждающе. Иду по залу, потупив взор, стесняясь окружающих.
Задыхаясь, стонет скрипка. Звонко заливается зурна. Звенят литавры. Гремят барабаны. Музыканты, не переставая, играют, и худые, горбоносые кавказцы словно плывут по воздуху, рядом с ними носятся разгоряченные выпивкой потные женщины, ярко накрашенные и безвкусно одетые.
За длинным столом отмечают чей-то юбилей и дружно поют: "Ой, мороз, мороз"… За другими столами тоже что-то поют, что-то кричат, но из-за шума трудно понять, о чём поют и что говорят. Игорь подводит меня к столу, за которым сидят двое.
– Познакомься, Вера, вот мои друзья, Эдик и Валера, почётные холостяки города Краснодара.
Эдик, худой, лысеющий мужчина лет тридцати – тридцати пяти, лихо вскакивает и, паясничая, докладывает:
– Князь Игорь, наблюдательный пост по твоему приказанию занят!
Затем, уже обращаясь ко мне, приглашает:
– Садитесь, сударыня!
Видно, он всегда здесь говорит одни и те же слова, считая их оригинальными.
Валерий, толстый, неуклюжий, даже не поднялся, чтобы меня поприветствовать, но раздел меня взглядом и заметил:
– Игорь, ты, как всегда, оригинален. Я за тобой на очереди…
Друзья Игоря мне сразу не понравились: говорят обо мне пошлости, назойливо ухаживают за мной. Эдик подливает вино и следит, чтобы я выпивала шампанское, Валерий под столом пытается коснуться моей ноги, и я с трудом уворачиваюсь от его ласк. Все это смущает меня, и мечтаю лишь о том, чтоб этот ужасный вечер поскорее закончился. Но мужчины сидят в ресторане до тех пор, пока их не просят выйти.
Приподнимаясь из-за стола, Валерий хватает меня за руку и пьяно хрипит:
– Учти, девочка, Игорь надоест, ты моя…
– Как вы можете, – выдергивая пальцы из потных мужских ладоней, возмущаюсь я и прижимаюсь к Игорю, ища у него защиты.
Мужчины, не торопясь, идут по улице Красной, вспоминая бурную юность, многочисленных подружек, кричат, пугая редких прохожих.
Когда, наконец, расходятся по домам, я радуюсь: теперь-то смогу поговорить с Игорем. Но он пьян, постоянно лезет целоваться, и я жалею о том, что вновь осталась у него.
– Не могу: ты же знаешь…
– О папочке… – иронично смеётся мужчина. – Давай сядем сейчас на мотоцикл и поедем к твоему папочке… Я ему объясню, что любить можно и без ЗАГСа…
– Зачем я тебе нужна? Ты на мне женишься? – вновь и вновь задаю вопросы, хотя уже знаю, какой ответ будет дан на них.
– Верочка, ты мне нравишься, но жениться не буду: я известный холостяк, – покачивая головой, пьяно бормочет Игорь. – Клянётесь в вечной любви, а сами только и думаете, как заарканить мужика, как посадить его на цепь… Видел не одну такую… Любишь – будь моей.
Нет – уматывай…
Я не знаю, как правильно поступить, как привязать к себе Игоря, потому что у меня с ним все впервые: первый поцелуй, и это чувственное притяжение, и эта близость к мужчине, которого видела в девичьих снах и так боюсь потерять… Теперь сама должна принять решение. Может, привязать его близостью? А отец? А позор?
Словно уловив мои мысли, Игорь произносит:
– И гулять хочется, и чистенькой остаться хочется… Эх, ты, простота… Зачем тогда в ресторан пошла? За это платить надо, дорогая, а то ребята меня засмеют… Ну, что ж, – заметил он, – есть разные способы, как и чистенькой остаться, и радость мне доставить… И заодно перестанешь быть овцой, и поумнеешь немножко.
Раздевайся, доверься мне, и все будет в порядке.
Дрожащими руками снимаю зеленое шелковое платье и швыряю его на диван.
– Как ты совершенна! – восклицает Игорь, восторженно скользя ладонью по моей белоснежной шее, бойко торчащей груди, тонкой талии.
– Тебе надо всегда ходить голой, чтоб не скрывать эту красоту…
От стыда закрываю глаза, потому что Игорь рассматривает меня, как статуэтку, как вещь, а я жду от него других слов и других признаний…
Он легко приподнимает меня, садит к себе на колени и, тяжело дыша, пытается войти в анальное отверстие, а когда все же пробивается к цели, то восклицает:
– Как здорово! Как чудесно!
Что во всем этом безобразии чудесного, я не понимаю: больно, с каждым движением раздувается кишечник, начинаются колики, хочется вырваться из цепких мужских рук и убежать.
– Зачем же так? Все равно уже потеряла себя… – думаю я и, пытаясь сдержать охватившую тело дрожь, выдавливаю:
– Игорь, давай, как все…
– Ты разрешаешь? – радостно кричит он и, посадив меня на диван, бежит в коридор.
– Я сейчас, только обмою…
Вода, с воем вырываясь из трубы, бьется о раковину.
Обреченно падаю на постель, внутренне восставая против близости, и думаю о себе, как о посторонней:
– Так тебе, Верка, и надо… Не лазь с мужиками по ресторанам: за все надо платить…
Игорь прибегает холодный, хочет вновь завестись, но у него ничего не получается, и, утомленный, он ложится рядом, недовольно бурча:
– Ломалась, ломалась, а сама не девушка…
Не пытаюсь оправдываться. Лежу без движения, как мертвая, совершенно раздавленная случившимся. Слезы одна за другой катятся по щекам. Я плачу потому, что так долго мечтала о чистой, красивой любви, о встречах при луне, о признаниях и клятвах, о жарких поцелуях, о долгом и бережном взращивании желаний, а все произошло так пошло, так прозаично, что не стоило об этом и мечтать… Я так и не поняла: стала женщиной или нет, но одно усвоила точно, что меня не скоро потянет на близость с мужчиной, а может быть, и никогда.
– И это называется любовью? – спрашиваю себя и отвечаю:
– Да, если это называется любовью, то я для нее не создана.
Меня тошнит. В животе бурлят газы. Набрасываю на голое тело демисезонное пальто и выхожу во двор. Сижу в холодном, грязном туалете, а где-то так странно в этот ранний час пронзительно стонет скрипка. Она поёт о чистой, возвышенной любви, о романтических грезах, зовёт куда-то в волшебную высь. Но чувствую, что она поёт уже не для меня: как роза, прихваченная морозами, я еще прекрасна, но нет уже той чистоты, той свежести, того благоухания, что прежде…
Вхожу в комнату, неся с собой холод – Игорь на мгновение приоткрывает глаза и шепчет:
– Как все же ты хороша…
Не отвечая на его шёпот, натягиваю одежду и разглядываю спящего, ищу на его красивом лице следы старости. Обнаружила у глаз несколько морщинок, представила известного холостяка одиноким, всеми забытым и стала жалеть сначала его, потом себя, понимая, что прощаюсь с ним навсегда. Никогда я больше не переступлю этот порог, никогда не буду больше с Игорем…
Зачем же тогда все это? Ответить на этот вопрос не могу: наверное, надеялась на чудо… Наконец, попрощавшись, плетусь на трамвайную остановку.
Кажется, уже все знают о моём позоре: вот оглянулся старик, почему-то усмехнулась женщина, презрительно посмотрел на меня молодой человек… Словно клеймо проклятия легло на мое лицо: исчезло радостное, беззаботное выражение, глаза смотрят грустно и виновато.
Один вечер – а рассчитываться за него буду, наверное, всю жизнь: несчастья повалились одно за другим. Начались женские проблемы.
Достала учебник "Кожные и венерические болезни". Читаю – и волосы дыбом встают на голове. Вот уж девочка с хутора… Ловлю себя на мысли, что не хочу больше жить… А тут еще месячных нет… К гинекологу тоже не иду: еще выгонят из института и сообщат отцу…
Куда деваться? Что делать? Чувствую себя прокажённой: всех сторонюсь, ото всех прячусь, насколько это возможно в городе. Решаю бросить занятия и поехать к бабушке Тане в станицу: там обычно скрываюсь от всех жизненных невзгод.
Автобус остановился на пятачке. Захожу в хлебный магазин, чтобы купить бабушке свежие булочки. Увидев меня, продавщица Нина весело улыбается, и её тройной подбородок опускается на пышную грудь.
– Давненько не була в станице… Чи замуж вышла? – с любопытством спрашивает она.
– Нет, никто не берёт… – отвечаю я.
– Пора, пора… Бачь, яка ты ловка, – замечает Нина. – Я тоже така була, а счас за прилавком не помещаюсь… А баба Таня твоя в больнице лежить, на скорой с приступом привезлы. Совсим сдала женщина, а тоже була красавица…
Испугавшись, тороплюсь в больницу, которая находится рядом, за школой, у самого ерика. Заглядываю в первую палату и вижу бабушку. В белой, обвязанной кружевом батистовой косынке, такой же кофточке, в синей сатиновой юбке она сидит на кровати и тщетно пытается попасть ногой в кирзовые чувяки.
– Бабуля, что с Вами? – видя ее слабость и беспомощность, с тревогой спрашиваю я.
– Ой, яка ж радость… Господи, благодарю тэбэ… Одна ж ты у мэнэ… Васю, Петю голодовка сморыла… Дид твий, Ваня, на войне погиб… Светочку, маму твою, Бог забрав, и таку молоденьку, таку красыву… Зачем? Лучше б пришёв за мной… – обнимая меня, шепчет бабушка и жалуется:
– Печень проклята замучила. Як шо съим – так и прыступ…
Она с любовью глядит на меня, и ее темно-зелёные очи наполняются слезами и сверкают изумрудами.
– Как же вы похожи, – говорит больная, лежащая у окна.
– А як же, – гордо замечает бабушка, – одна кровь, моя ж внучка.
Мы сидим, обнявшись, до темноты. Потом вспоминаем, что мне пора идти. Прощаюсь с больными и бреду по станице. Сыро. Серо. Холодно.
Под ногами чавкает грязь.
Низенькие хатки. Старое кладбище. Покосившиеся кресты. Чернеющее поле. Вот и бабушкин домик. Открываю скрипучую дверь, зажигаю огонь в лампадке, лампе – жилище оживает, потому что без хозяина дом сирота… Вношу дрова – и они, пылая, трещат и в печке, и в печи, вода кипит в выварке.
– Ну и устрою себе харакири, – думаю я, впервые радуясь одиночеству. Выпиваю стакан самогонки, сажусь в горячую воду и парюсь, парюсь, парюсь… Затем ползу на печь, ложусь на пышущую зноем лежанку и шепчу:
– Терпи, Верка, терпи… Может, перестанешь кидаться на незнакомых мужиков…
От жары бешено колотится сердце. Ломит поясницу, а я радуюсь этой боли, словно она спасет меня от всех бед. Нет сил ни плакать, ни кричать… Лежу неподвижно, слышу, как кровь струится по моему телу, и засыпаю. Просыпаюсь от стука. Это соседка Мотя колотит палкой в дверь и хрипло кричит:
– Верка! Чи угорела? Чи спышь? Не выйдешь – двери ломать буду…
Она, что-то бубня, куда-то уходит.
Как собака, у которой отбили зад, поползу по череню, осторожно спускаюсь на припечок, с него на ослон, потом на мазанный кизяками пол, подхожу к зеркалу: на меня глядят чужие, уже без девичьего невинного блеска глаза. В них обида, укор, горечь…
– Убийца, – твердят они, и я отвожу взгляд и вижу икону Божьей
Матери. Мария держит на руках сына и кротко глядит на меня. Её лицо излучает свет, доброту, любовь, и мне кажется, что она не осуждает, а жалеет меня, как сбившегося с пути человека.
– Прости, не наказывай, больше никогда не убью подобного себе…
– клянусь я перед иконой, – буду так же, как ты, прижимать сына, защищать и любить его.
Игорь зачем-то ищет меня, наверное, ничего не помнит, что было той ночью, но, желая жить беззаботно, боится завести от меня дитя. Я избегаю его: вдруг снова не выдержу и брошусь в любовный омут…
Поэтому пораньше ухожу с лекций, пропадаю в читзалах, почти не бываю в общежитии. После второй пары буквально сталкиваюсь с ним и бросаюсь от него так стремительно, что Игорь мчится за мной, хватает за руку и до боли сжимает её.
– Не узнаешь? – грубовато спрашивает он. – Быстро же ты забываешь своих возлюбленных… Пойдем в парк: поговорить надо.
Как подстреленная птица, бьюсь в его руках, пытаясь вырваться.
– Не могу, не хочу… Понимаешь: чуть не погибла… – возмущённо кричу я, но вдруг понимаю, что зря все это говорю: кто не видел смерть, тот не поймет, как она страшна… Что ему расскажу? Как читала книги о венерических болезнях и прокаженных? Как зимой пыталась утонуть в Кубани и не смогла? Как убила его и своё дитя?
Подчиняюсь ему и молча иду рядом. А в городе уже пахнет весной.
Солнце проглядывает сквозь фиолетовую гряду туч и ласково греет землю. Кое-где сквозь потрескавшийся асфальт пробивается тоненькая травка. В парке на деревьях зеленеют почки и вот-вот появятся клейкие листочки. Весело трезвонят птицы.
Игорь усаживает меня за низенький столик у крошечного озера, достает из дипломата бутылку красного вина, два разовых стаканчика, плитку шоколада и сообщает:
– Люблю здесь бывать…
– По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух… – подыгрываю я Игорю, желая по-доброму расстаться с ним.
– Обожаю поэзию… Как здорово ты читаешь! – восхищённо шепчет он, пытаясь обнять меня. Отодвигаюсь – его рука соскальзывает на мою грудь…
– Была беременна? – испуганно спрашивает он.
– Завидую тебе, – не ответив на вопрос, пытаюсь шутить я. – Ты такой знаток женщин… Пью за твое счастье, Игорь. Знай, что любила тебя… Так любила тебя, что готова была на любые безумства…
Прощай…
– Замолчи, что за панихида? – возражает мне Игорь. – Вера, ты мне снилась… Хочешь – живи со мной…
Поднимаюсь и ухожу. Не хочу больше выяснять отношения: всё бессмысленно. Его нельзя изменить, да и меня тоже. Чувствую, что мужчина так ничего и не понял. Оглядываюсь – Игорь одиноко сидит за столом и держит в руке стакан с вином.
Весна. Выходной. Подружки пошли гулять. Я пытаюсь заснуть, а мысли не дают покоя. Почему влюбилась в Игоря? Разве нет больше парней? Всё же видела с первой встречи… Да и он ничего не скрывал… Обижаться на него нечего: сама во всем виновата…
Настойчивый стук в дверь – я встрепенулась, сердце бешено бьётся:
Игорь пришел! У дверного косяка стоит Женька Губенко, мой однокурсник, поэт.
– Опять хандришь? – спрашивает он и, не дожидаясь ответа, сообщает:
– Только что написал стихи о Сергее Есенине… Оцени:
Когда мне грустно и печально,
Стихи читаю ваши я.
И сразу горечь и отчаянье
Мы делим вместе, как друзья…
Евгений декламирует, изредка приглаживая ладонью длинные пряди русых волос, падающих на узкие плечи. Я расслабляюсь и чувствую, как мокреют глаза.
– Нет, так нельзя! – заметив мои слёзы, восклицает поэт, как всегда поправляя прилепившиеся к широкой переносице массивные очки.
– Поднимайся: пойдем гулять.
Одергиваю примятую юбчонку, набрасываю темно-зеленый нейлоновый плащ и иду за ним…
Фонари тускло освещают асфальтированные дорожки, деревья и кусты.
Сгорбившись, Женя шагает впереди, за ним тороплюсь я. На Старой
Кубани молча стоим на мосту, любуемся темной лентой реки, омывающей остров, слушаем, как вскидывается внизу рыба. Затем находим спрятавшуюся в зарослях лавочку… Шумит, как водопад, текущая с ТЭЦ вода. Клубится над рекой пар. Весело прыгая по волнам, убегает вдаль луна. Купаются, наклонясь к воде, деревья. Что-то шепчет камыш.
Ивушка нежно обнимает ветками скамейку и ласково щекочет нас клейкими листочками. И вдруг из Жениных уст полились стихи:
– Как на озере зеркальном
Розоватый воздух чист.
Ветра веер опахальный
Гонит уж опавший лист.
В каждом жизнь была когда-то
Без прикрас и без чудес…
Просто жизнь: чиста и свята
Средь земли и средь небес.
И как будто нет значенья
В благоденствии листа,
Жизни вечное движенье
Прекратилось бы тогда.
Ночи длинные зимою,
Вьюга злится неспроста.
А под жухлою листвою
Зародилась жизнь листа.
Если раннею весною
Обломаешь ветку вдруг-
Оросится здесь слезою
И земля, и все вокруг.
Юноша заканчивает одно стихотворение и начинает другое.
Стихи, как птицы, вырываются из его уст, будоража мою душу. И мне кажется, что если бы Женя сейчас приголубил меня, пожалел, то я была бы ему самой верной подругой… Но он, забыв обо всем, читает свои произведения, и я понимаю, что ему нужен только слушатель…
Когда-то я мечтала о красном дипломе, об аспирантуре, но это было когда-то. А теперь не могу готовиться к госэкзаменам, и если даже сижу над учебниками, то думаю всё о нем… Игорь… Игорь…
Игорь… Но сколько можно мучиться? Наверное, надо умереть, чтоб забыть его. Изо всех сил напрягаю слух, но вижу только Светин курносый нос, её длиннющие ресницы, черную шапку курчавых волос и не могу понять, о чём она говорит.
– Господи! Хотя бы вытащить лирику Некрасова, – отрываясь от книги и блестя чёрными точечками глаз, просит Светлана, и я радуюсь, что, наконец-то, слышу её голос.
– Перед смертью не надышимся, – замечает Лиля. – Главное не паниковать… Я вот "Тихий Дон" не прочла, "Хождение по мукам" не открыла, Гончарова в руки не взяла… Вера, – обращаясь ко мне, просит она, – расскажи в двух словах о романе…
– Понимаешь: у помещиков Обломовых был сынок Илюша. Все делали за него слуги: одевали, кормили… И вырос хотя и добрый человек, но бездельник: ни работать, ни любить…
– Вы заходите первыми, – прерывает мою речь староста группы, сероглазая, тощая, крикливая девушка.
– Почему? – возмущаюсь я, зная, что все боятся председателя комиссии, Эльвиру Степановну Орлову, приглашённую из другого института. Говорят, она ни во что не ставит ни преподавателей, ни студентов.
– Потому что Лиля беременна, ещё родит у двери, а вы её подруги, с нею живете… Я тоже пойду: надо же кому-то ложиться на амбразуру пулемета…
Беру билет и долго не могу успокоиться: меня лихорадит, руки дрожат, буквы расплываются. Наконец, читаю: М. Шолохов, Л.
Толстой… Все. Экзамены сдам: это мои любимые писатели… Смотрю на подруг: Света улыбается, вероятно, ей достался Некрасов. Лиля знаками показывает, что погибает.
– Может, кто пойдет без подготовки? Будущие учителя должны знать литературу в совершенстве, – предлагает Орлова, приглаживая и без того зализанные назад жиденькие волосы.
– Готовьтесь, девочки, не торопитесь, – советует Татьяна
Ивановна, преподаватель литературы, бабушка Таня, так любовно называем её мы, студенты.
Неожиданно поднимается Светлана. Боже мой, зачем? Ей обычно так не везет на экзаменах… Лучше всех знает, а вечно без стипендии…
Николай Алексеевич Некрасов родился…
– Погодите, – прерывает ее Эльвира Степановна. – Это каждый ученик знает… Вы прочитайте нам стихотворение, о котором не упоминается в школьной программе.
– И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста…
– Нет, – перебивает Светлану Эльвира Степановна, укоризненно глядя на преподавателей кафедры литературы, – это программное произведение.
– Не торопись, мой верный пес, – уставясь на неё, с дрожью в голосе говорит студентка, но, видя недовольное покачивание головой, умолкает, подбирая очередное произведение.
– Что ты жадно глядишь на дорогу…
В неведомой глуши, в деревне полудикой… – вновь и вновь со слезами в голосе начинает декламировать Светлана и тут же умолкает.
Я не могу сосредоточиться: слежу за этим поединком и боюсь одного: подруга не выдержит, сорвётся и наговорит глупостей.
– Достаточно: идите, – холодно прерывает очередную попытку Орлова.
Светлана, вся в красных пятнах, уходит, а я удивляюсь, почему никто из преподавателей не защитил её.
Вызывают отвечать Лилю. Она, выпятив вперед живот и глядя в прищуренные бесцветные глазки Орловой, выразительно, чеканя каждое слово, говорит:
– Перечитаем роман Гончарова "Обломов"! Кого же мы видим? Илюша
Обломов…
– Какая речь! – восхищается Эльвира Степановна. – Вот это настоящий литератор! Сколько чувств… Блестяще… Достаточно…
Отвечать за Лилей сложно: не хватает смелости, дерзости, индивидуальности. Я тороплюсь, хочу побольше выбросить из себя знаний, но меня перебивают:
– Куда торопитесь? Вас же дети не поймут… Идите…
Выхожу из аудитории – ко мне плача бросается Светлана.
– Как обидно, – твердит она. – Я же всё знала…
– Нет, не всё. Ты не знала, что нужно было Орловой. Её можно было сразить только артистическими способностями, но ничего, – успокаиваю я подругу. – Покажешь ещё свои знания в далекой сибирской деревне…
Получив диплом, еду домой, в Чёрный Ерик, чтобы отдохнуть перед поездкой в Чечено-Ингушетию, куда я направлена работать по распределению. Останавливаю автобус возле хаты, чтобы как-нибудь дотянуть набитые вещами и книгами чемоданы. Открываю покосившуюся деревянную калитку – ко мне с визгом бросается пес Моряк, приземистый, неуклюжий коротышка. Изо всех сил виляя хвостом, он лижет мои руки, лицо, хватает ручку чемодана, словно пытается мне помочь.
– Эх ты, Серый! – поглаживая серую с проседью шерсть кобелька, шепчу я. – Рада видеть тебя, псина моя дорогая…
Наконец, втаскиваю вещи в дом. Здесь все по-старому: чисто, просто, по-мужски неуютно. На кухне, на толстых железных крюках, вбитых в стены, висят низки тарани, красуются судаки, щуки, сазаны.
На огромном кухонном столе лежит кусок осетра, в стеклянной банке чернеет икра, на блюде – жареная рыба. Видно, отец ждал меня.
Набрасываюсь на еду и, насытившись, ползу в зал, падаю на старенький диван, машинально беру альбом – на меня глядит юное лицо моей матери. Буйно вьющиеся светлые волосы. Подкрашенные фотографом большие малахитовые глаза. Маленький, чуть приплюснутый носик. В усмешке сжатые тонкие губы.
Сейчас мы ровесницы… Я родилась – мамы не стало… С годами боль не уменьшилась – стала больше. Читаю здесь же написанные мной стихи в прозе:
Ах, если бы была жива моя мама…
Я бы сказала ей самые ласковые слова, какие только есть на Земле.
Ах, если бы была жива моя мама…
Я всегда носила в себе эти слова, но почему-то боялась их произнести, словно ожидала какую-то важную минуту, когда их можно было бы сказать, отдать разом всю мою любовь.
Ах, если бы жива была моя мама…
Но мама умерла, а эти слова так и застыли на моих устах.
Тяжело их носить, тяжело думать, что их некому больше сказать.
Ах, если бы была жива моя мама…
– Может, и мне судьба выделит так мало времени, – думаю я. -
Сирота. Брошенная, несчастная…- жалею себя и плачу.
Просыпаюсь от крепкого запаха рыбы: рядом сидит отец и скрюченными от воды и соли пальцами поправляет на мне одеяло.
Приподнимаюсь и душу его в объятиях. Глажу густо посеребрённые темно-русые кудри и шепчу:
– Здравствуйте, папочка Федечка!
– Сдаюсь, – смеётся он. – Рад, что моя козочка дома. Теперь не расстанусь с тобою… А то один, як бирюк…- жалуется отец, и его карие очи заволакиваются грустью. – За шо Бог наказав, не знаю… Не жизнь – одни потери… Пацаном пережив тридцать третий. Яка була дружна семья: мамо, тату добри, не лаються… Братья Иван, Степан,
Петя один краще другого… Усих похоронылы на кладбище, а тату последнего прямо в огороди, под орихом. Мэнэ, сдыхающего, подобрав на базари дидок – рыбак, отвиз в Черный Ерок. Тут на рыбке и спасся.
А потом проклята война… Выжив. Женывся на ангеле. Минута счастья – и все… Я ж однолюб… Пробовав – не принимае душа никого…
Слушаю исповедь отца и не знаю, как признаться, что не хочу оставаться на Кубани: всё здесь напоминает об Игоре. Хочу уехать на край света, забыться, начать жить заново. Ещё минута – и расплачусь, обо всём расскажу… Вырываюсь из крепких отцовских объятий и мчусь, сбивая капустные листья к каналу. Ноги, подол халата в росе. Рядом радостно мчится Моряк. Ложусь на деревянный мостик: а вода в Черном ерике и в самом деле чёрная…
На зеркальной тёмной поверхности появляется моё изображение.
– Боже мой, какие мужики дураки… – любуясь собою, шепчу я, забыв о том, меня не понял только один из них.
Но вот волна смывает моё изображение. Поднимаю голову: по широкой глади канала, плавно огибающей хутор, несётся лодка, распугивая гусят, утят и куликов. Всё… Проснулся народ… Пошла потеха… За первой появляется вторая, третья, четвёртая… Одна лодка, надрывно воя, подходит к причалу и обдает меня брызгами.
– Дурак! – кричу я на соседа Алёшку.
– Рыбачишь? – весело спрашивает он, хотя прекрасно видит, что удочек рядом со мной нет. – Какая тут рыбалка? Вот я знаю место: там рыба даже на пустой крючок берётся… Приглашаю тебя…- не обращая внимания на мою ядовитую ухмылку, продолжает Алексей.
Критически рассматриваю парня. Высок, некрасив. Чем-то похож на
Женьку: тот же небрежно вырубленный нос, такие же огромные, на выкате серые глаза, такие же мясистые губы… Чем не жених? Говорят, мужчине красота ни к чему… Видала уже одного красивого… Попробую еще раз. Может, что получится…
– Хорошо, – наконец, соглашаюсь я. – Приготовлю рыболовные снасти и поедем когда-нибудь среди недели.
– Ловлю на слове, – хохочет Алёшка, чувствуя себя на волне удачи.
– Приглашаю тебя сегодня в кино.
– Вера! Завтракать! – зовёт меня отец.
– Ну, до вечера, – прощаюсь я с парнем и тороплюсь к дому.
Сижу в клубе и пытаюсь смотреть фильм. Не получается: Алексей мучает мои ладони, до боли сжимая пальцы, а потом страстно целует их и что-то шепчет при этом. Ненавижу боль: еле сдерживаю желание вырваться и нагрубить.
– Клин выбивают клином, – считаю я, надеясь, что привыкну к юноше, а потом и полюблю его.
Заканчивается фильм – начинаются танцы. Духовой оркестр играет вальс, и Алексей без устали кружит меня с такой скоростью, что всё мелькает, всё сливается в одну сплошную пёструю ленту. Боюсь выпасть из его рук и упасть. Наконец-то музыканты делают перерыв. Алёша подводит меня к своему другу Роману и просит:
– Я на минутку выйду, а ты покарауль…
Ромка провожает товарища взглядом и торопливо, брызжа слюной, шепчет:
– Верка, по-дружески советую: будь осторожна. Проспорыв, тебе
Лешка: сказав, шо через неделю будешь спать с ним…
Настроение испорчено. Цепенею от злости: и тут та же грязь.
Неужели нет чистых отношений? Что же мне так не везет? Не прощаясь, покидаю фойе: ни танцевать, ни видеть никого не желаю. Меня догоняет
Алексей и прижимает к кирпичной стене.
– Вера, почему ты ушла? Тебе плохо? Шо рыжий натрепав?
Я молчу и сердито решаю:
– Ну, сосед, тебе конец: влюблю в себя и брошу…
Теперь обдумываю каждый жест, каждое слово, чтобы поразить воображение хуторянина.
В понедельник Алёша пригласил меня на рыбалку.
– Действует по плану, – злорадно смеюсь я. – Ну, держись, хлопец!
Надеваю белое в чёрный горошек платье, новые белые туфли, крашу ресницы, губы, затейливо укладываю косы…
– Красавица! Невеста! Пропав Лешка, пропав, – довольно хохочет отец, надеясь, что я выйду замуж и не поеду в Чечню. – Ступай: парубок уже, наверно, заждався…
В серых брюках, белоснежной сорочке, выкупанный в дешёвом одеколоне Алексей лихо подкатил к причалу, спрыгнул на мостик и на руках перенёс меня в лодку. Заревел мотор, и лодка птицей понеслась над водой.
Мелькают беленькие хатки, заросли камыша, тростника, каналы и канальчики, лиманы и лиманчики… То там, то здесь взлетают вспугнутые рёвом двигателя дикие утки, гуси, величественные цапли…
От этого мелькания рябит в глазах. Наконец, у небольшого островка мотор затихает, и лодка, покачиваясь на волнах, подплывает к нему и носом упирается в землю.
Тишина, какой я не слышала давно, окружает меня со всех сторон.
Забрасываю удочку – сразу же тянет… Таранка! Дрожащими руками вновь забрасываю. Таранка, таранка, таранка… Руки дрожат, не могу на крючок натянуть червя… Забываю обо всём на свете. Есть только удочка, крючок да серебристый блеск рыбы.
– Может, остановишься, хватит… Всю не переловишь… – шепчет
Алёша, приподнимая меня вместе с удочкой на руки, и несёт на остров.
Возвращаюсь к реальности: я на острове, на свидании. На жёсткой темно-зеленой траве лежит голубое покрывало, рядом стоит корзинка с вином и фруктами. Юноша затуманенным взглядом глядит на меня и дрожащими от страсти пальцами пробует налить вино.
– Д-давай в-выпьем за нас, – чуть заикаясь от волнения, предлагает он. – За наше будущее…
Подношу стакан к губам и тяну горьковатый напиток. По телу, волнуя, бежит сладкое тепло, кружится голова… Алёша пододвигается ближе, обнимает меня, целует и шепчет при этом ласковые слова, которые никто на свете мне еще не говорил:
– Солнышко… Ласковая… Единственная…
Радуюсь тому, что ещё кому-то нравлюсь. Парень клонит меня к земле, и я подчиняюсь ему. И этот полёт так сладостен и приятен. Но как только голова касается земли, где-то в подсознании возникает мысль, что Алёша меня не любит, что он на меня поспорил…
Выкатываюсь из-под обезумевшего от страсти, дрожащего существа, змеей ползу к воде и бросаюсь в речку. Прохлада мгновенно отрезвляет. Плыву назад, к хутору… Вскоре меня догоняет Алёшка, насильно втаскивает в лодку, и мы, обессиленные, злые, сидим молча рядом.
– Эх, ты… – спустя некоторое время выдавливает из себя парень.
– А ты… Ты же на меня спорил…
– Не мужики – бабы… Ну, ляпнув сдуру… Так я ж люблю… Уже дома сказав, собирався свататься… Эх, ты, деревянная…
И чем больше говорим, тем яснее понимаем, что уже всё в прошлом: разбитой тарелки не склеишь.
В аэропорту меня провожает отец. Худой, сутуловатый, он понуро стоит у чемоданов, и тщетно я пытаюсь разговорить его. Уныло хмурится, сосёт папироску за папироской, сухо покашливает, потому что спазмы сжимают его горло, и он, пряча от меня глаза, молчит. Мне тоже грустно: почему-то кажется, что я уезжаю навсегда и больше никогда не увижу ни отца, ни города, ни края. Оформляю багаж, а сама думаю о том, как тягостно для нас прощание. Хотя бы быстрее улететь… И когда, наконец, приглашают пройти к самолету, я облегченно вздыхаю.
– Прощай, дочка… Береги себя… Прости, если шо делав не так…- сдавленно шепчет отец и обречённо машет рукой.
– До свидания, папочка Федечка, – прижимаюсь я к нему и хочу сказать добрые, тёплые слова, которые согрели бы отца в одиночестве, но они где-то застряли в горле, и не могу их выдавить.
Ревут моторы, самолет бежит по бетонке и отрывается от земли.
Мелькают внизу городские кварталы, шоссе, парки, синеет красавица
Кубань, желтеют квадраты полей, обведенные тонкими ниточками лесополос, бегут по холмам и горам зелёные леса, и вскоре в окна иллюминаторов начинают биться косматые бороды облаков. Чем выше поднимается самолет, тем лучше моё настроение. Забылось тягостное прощание, я в ожидании новых встреч и приключений…
Ловлю на себе два-три нескромных взгляда, брошенных из-под чёрных приплюснутых фуражек. Удивляюсь: в Краснодаре никогда не пользовалась таким успехом.
– Давай знакомиться… Алик, – улыбаясь, говорит мой сосед, протягивая янтарную кисть винограда.
– Вера, – коротко отвечаю я. Наши пальцы на мгновение соприкасаются и разбегаются от мощного потока биоэнергии.
– Вот это да! – вздрагиваю я, одергивая руку.
– Гостил в Краснодаре у дяди. Сейчас еду в Орджоникидзе. Потом загребут в армию, а невесты нет. Приедешь меня провожать?
– добродушно спрашивает юноша.
– Может быть, – уклончиво обещаю я.
Парень болтает без умолку, и я, устав от его трескотни, открываю роман Теодора Драйзера "Дженни Герхардт" и погружаюсь в чтение.
– Все… Подлетаем… Смотри: внизу Грозный, зеленый, красивый город. Вон петляет Сунжа, норовистая, бурная речка, – заглядывая в иллюминатор и плечом касаясь моего плеча, говорит мой новый знакомый. – Покажу город, поеду в Министерство образования, чтоб знать, куда тебе посылать письма. Считаю, Вера, в Кавказ ты влюбишься: у нас обалденная природа, да и обычаи здесь другие…
– Все. Начинаю новую жизнь, – думаю я. – Буду честно работать, любить детей… Да, хорошо, что поехала по распределению.
*В ЧЕЧНЕ*
Автобус притормозил на обочине шоссе. Выбрасываю чемоданы на выгоревшую от солнца траву и оглядываюсь: от дороги ползет вверх, по склонам горы, аул, в котором буду теперь жить.
Яркое солнце освещает пустынные, упирающиеся в лесок улицы, каменные и глинобитные дома, огороженные акацией и плетеными заборами огороды. Снизу просматривается центр аула – небольшая площадь, на которой находится несколько длинных, похожих на сараи зданий, вероятно, клуб, сельсовет, школа. Деревьев немного, зато за селом сочно зеленеют леса. Вдали виднеется другой аул, поменьше. И нигде ни речушки, ни озерца…
Утопая в пыли, волоку проклятые чемоданы и чувствую себя рыбой, выброшенной на берег: задыхаясь от жары, постоянно открываю рот и облизываю пересохшие губы.
Наконец-то я у школы. На крыльце бросаю вещи и захожу в здание.
Здесь тихо и безлюдно. Кабинеты закрыты. Только одна дверь отворена, и лёгкий ветерок шевелит желтые шёлковые занавески.
Заглядываю в комнату: за столом сидят двое и весело смеются.
Черноглазые, черноволосые, с большими тупыми носами, они похожи на братьев-близнецов.
– Вы к кому? – удивленно спрашивает один из них.
– К вам направлена на работу по распределению…- отвечаю я, лихорадочно отыскивая в сумочке документы. Нашла и дрожащими от волнения руками подаю их тому, кто задал вопрос, принимая его за главного.
– Я завуч и зовут меня Рамзан, а это директор школы Джахар, – передавая документы коллеге, знакомится со мной молодой человек.
Теперь-то я вижу, что парни совершенно разные. Завуч – плотный, широкоплечий здоровяк, а директор худощавый, болезненно бледный. Он долго рассматривает бумаги и говорит, обращаясь к Рамзану:
– Училась в Краснодаре, а мы в университете Ростова… Помнишь: были у них на соревнованиях… Не понравилось: в столовых свинина – можно помереть с голоду…
Увидев недоумение на моём лице, он прерывает свои воспоминания и кричит:
– Пятимат!
В кабинет заглядывает женщина средних лет, высокая и смуглая.
Чёрный платок надвинут на лоб, темно-карие глаза лучатся из-под опущенных ресниц.
Джахар что-то лопочет по-своему – Пятимат отрицательно качает головой. Директор горячо настаивает, и чеченка, наконец, соглашается.
Чувствую себя неловко: обо мне говорят, а я ничего не понимаю.
– Хорошая из меня получится учительница… – с иронией думаю о себе.
– Это наша техничка, – словно угадывая мои мысли, переходит на русский директор. – Она возьмет тебя на квартиру: там уже живут наши учительницы…
Пятимат легко поднимается вверх, к лесочку, – я следую за ней, волоча по пыльной дороге чемоданы. Чеченка останавливается у плетёного забора, за которым виднеется каменный дом, с большим, похожим на нос корабля крыльцом. Двери в жилище открыты, и на ветру, как флаги, развеваются алые занавески.
Женщина открывает калитку – и, гремя цепью, ко мне бросается кобель. Хозяйка, что-то крича, оттаскивает злобно лающего пса и прикручивает его к кривой, искалеченной людьми и животными акации.
– Не бойся, заходи, – приглашает Пятимат меня в дом и недовольно качает головой. – И как тебя, такую маленькую, мама отпустила… У нас нельзя…
– Меня отец тоже хотел удержать, да не послушала, а мамы у меня нет…
Вхожу в комнату. Огромный, как дерево, фикус, кровати, стол, три стула – вот и все убранство жилища. Около фикуса, на постели, сидит заплаканная женщина. Я смотрю сначала на её выпирающий из-под халата живот, а потом только вижу печальные серые глаза, худенькое бледное личико, узкие плечики, тоненькие ручонки.
– Наташа, опять плачешь? – участливо спрашивает её Пятимат.
– Сулейман не приехал. Обещал и не приехал, – по-детски всхлипывая, жалуется беременная.
– Я же предупреждала… – перебивает квартирантку Пятимат. – Наши мужчины красиво говорят, много вам обещают, а живут по Корану… Мой
Хусейн сначала любил меня, потом стал ругать: рожала девочек. Родила ему сына… Всё равно купил новую жену. Так было больно… Думала: сойду с ума… Знала: надо смириться… А не могла… Хорошо вторая жена сбежала… А у твоего, Наташа, Сулеймана мать не хочет русскую… Не мучай себя: отправляйся к маме в Москву или в общежитие просись: Хусейн ругается… Плохо говорит о русских… сказала чеченка и вышла из комнаты.
– Хусейн гад, квазимода… Живёт в городе, денег жене не дает: наверное, копит, чтобы купить новую женщину… Увидишь – пожалеешь
Пятимат! – сердито восклицает беременная, а потом, чуть успокоившись, спрашивает:
– Ты откуда приехала?
– С хутора Чёрный Ерик.
– Впервые слышу такое название, – смеётся Наташа, и лицо её становится миловидным. – А я москвичка… Два года назад сбежала с собственной свадьбы. Отец – генерал… Нашёл мне жениха из его же свиты, тоже военного и очень перспективного… Нарядили в белое платье… И так грустно мне стало: что будет дальше, всё знаю… Вся жизнь спланирована родителями до конца… Взбунтовалась. Села в поезд – и я на Кавказе… Здесь Сулеймана встретила и полюбила. А у меня ведь порок сердца. Врачи запретили рожать, но хочу подарить
Сулейману сына, хочу показать ему силу моих чувств. Может, после рождения ребенка разрешат нам быть вместе.
– Наверное, – киваю я, а сама думаю о том, что никогда не свяжусь с местным.
После дороги устала – голова клонится к подушке, не пытаюсь бороться со сном, уже не различаю слов, и только тихое Наташино бу-бу-бу ещё тревожит моё сознание.
– Соня! Просыпайся! Погляди на своего хозяина! – настойчиво будит меня Наталья.
Шатаясь, подхожу к окну: по двору ковыляет Хусейн. Весь в чёрном, маленький, горбатый, он похож на паука, устремившегося за добычей.
Всё живое прячется от него: бегут индюки и гуси, мяукая, карабкается на забор кот, прижимаясь к земле, скрывается за акацией кобель.
Пятимат бросается навстречу мужу, но тот тычет палкой в сторону наших окон и сердито кричит.
– Нас ругает, – поясняет Наташа, хотя и без её слов понятно, о чём говорит хозяин.
– Вот расходился… Сегодня он злее, чем обычно. Ишь как психует… – комментирует поведение Хусейна беременная.
Хозяин что-то говорит Пятимат, и она заливается слезами. Он кричит и кричит без умолку, потом хлопает дверью и уходит со двора.
Бросаюсь в комнату хозяйки и на мгновение застываю в растерянности: Пятимат катается на полу, рвёт на себе волосы и исступленно рыдает… Дети тоже вопят… Заметив меня, чеченка переходит на русский, но все равно трудно понять её речь.
– Не могу так жить… Не хочу так жить… Почему? Почему? Родила сына… Иди сюда, Хасболат… Какой красивый мальчик! Чем ему не угодила? Не хочу жить…
Пятимат, страшная, безумная, ползёт к порогу – девочки, рыдая, цепляются за её платье и пробуют удержать мать… Трещит ткань, и я тоже помогаю детям, а в дверях стоит заплаканная Наташа и кричит:
– Вы хотите, чтоб я здесь родила?
Пятимат, по-детски всхлипывая, говорит:
– Хусейн купил новую жену… Сказал, чтоб выгнала вас… Пока будет с ней в городе… Не хочу её видеть – лучше умереть… Бедная я, бедная… В войну нас выгнали из домов, как скот, согнали в отары, погрузили в товарные вагоны и повезли на север… От холода, голода, бездомья умерли все мои родные… Выросла в детдоме… За что всё это? Лучше б умерла ещё тогда…
– Что ты мелешь? – возмущаюсь я. – О детях подумай! Что с ними будет без тебя?
– Бороться надо! – поддерживает меня Наташа. – Ты живёшь не в первобытном строе, а в советской стране – многоженство у нас запрещено…
– Нельзя…- стонет чеченка. – У нас другие законы. Пожалуюсь – меня проклянут все… Надо смириться, принять новую жену, но внутри у меня всё горит… Это вы, русские, меня испортили… Не жила бы так долго среди вас – не страдала бы…
На Пятимат больно смотреть: её лицо, и без того смуглое, почернело, глаза запали, в них поселились тоска.
Тридцать первое августа. Вечер. Читала методическую литературу и от скуки уснула. Просыпаюсь: напротив, на кровати, сидит красавица, держит косу и, целуя её, грустно говорит:
– Бедная моя мамочка… Попала в аварию… Травма черепа…
Волосы обрезали… Лежит в больнице без памяти… Не знаю, смогу ли работать…
В её голосе звенит боль – в карих глазищах сверкают слёзы.
– Я бы тебе, подруга, помогла, да сама скоро в роддом попаду… – сочувствует Марине Наташа.
– Спасай маму – буду тебя замещать… – неожиданно для себя самой обещаю я.
– К вам, девушки, можно зайти? – спрашивают Рамзан и Джахар.
– О, да тут все в сборе! – радостно восклицает завуч, обращаясь к
Марине. – А я тут голову ломаю над тем, кого бы послать в твой класс…
Девушка вновь повторяет историю об аварии, о тяжёлом состоянии матери.
– Найдешь замену – можешь ехать домой… – сочувствует Марине
Рамзан. Джахар тоже поддерживает решение друга.
– Верочка уже согласилась…
– Не знаю, как она потянет всё… – бурчит завуч. – Мы ведь пришли просить ее, чтобы она подхватила часы Али. Он болен…
– Да знаем о его болезнях, – ехидно смеётся Наташа. -
Хронические… Наверное, опять девицы сняли отель в Пятигорске или
Нальчике… Опять его взяли в плен…
Но ни завуч, ни директор не реагируют на её слова.
– О, у вас так приятно пахнет едой! – напрашивается на ужин Рамзан.
– Плохо, что в ауле нет столовой. Готовить не умеем, да и некогда
– поэтому и болезни… – жалуется Джахар. – За несколько лет посадил желудок… Была операция… Нужна диета… А какая тут диета?
– А ты женись на мне, – шутит Наташа.
– Ты тоже на консервах живёшь…
Я понимаю, что пора накрывать на стол. Утром сварила плов, осталась ещё икра, Марина тоже кое-что привезла.
– Надеюсь, тут нет свинины? – спрашивает Джахар.
– Нет… – быстро отвечает Марина и начинает хвалить мои кулинарные способности. Кажется, она забыла о своей беде и уже кокетничает с мужчинами.
– А что бы вы сделали, если бы вас всё же накормили свининой? – с любопытством спрашиваю я.
– Не знаю, как Рамзан, а я бы этого человека убил, – жёстко отвечает Джахар. – Но слышу свинину за километры: меня не обманешь…
– Да, этот убьет… Вот так и умереть недолго… – содрогаюсь я.
Вспоминаю, как мой отец так же говорил о баранине, и думаю о том, что люди искусственно создали барьеры, чтобы разделить друг друга на враждебные группы. Один мой вопрос – и между нами уже пропасть.
Пропало желание откровенничать, и я уже с нетерпением жду ухода гостей: надо готовиться к школе, а времени остается так мало.
Наконец, мужчины поднимаются из-за стола.
– Верочка, проводи нас, – просит Рамзан.
– Не хочу, – думаю я, со страхом глядя на огромные ручищи завуча.
– К такому медведю в лапы попадешь – считай, пропала…
Отказать прямо тоже боюсь: все же мое начальство. Поэтому отделываюсь шуткой:
– Я мужик, казак. У меня две жены… Вот одна из них вас и проводит…
Марина провожает гостей, а я быстро убираю со стола, чтобы быстрее броситься в постель и остаться наедине с собой: завтра первое сентября, мой первый урок, а я до сих пор не нашла тех нужных слов, которые запомнятся детям на всю жизнь. Не могу никак сосредоточиться: Марина и Наташа весело хохочут, вспоминая ужин.
Засыпаю, так и не решив, о чём буду говорить завтра.
Первого сентября будильник звенит только для меня. Не выспалась, и так хочется еще поваляться в постели, но понимаю, что надо вставать: школа зовёт… Долго сижу перед зеркалом, то разбрасываю кудри по плечам, то вновь закалываю их в причёску: так хочется понравиться детям.
Иду по пыльной улице осторожно, стараясь не измазать лакированные туфли. На меня с любопытством глядят ребята и кричат:
– Учительша, здрастуй!
– Ну что за ноги, что за жопа! – оценивает мои достоинства кто-то сзади.
– Отстаньте: она моя…
Оглядываюсь: за мной следуют парни. Один из них, высокий и худой, подходит ко мне и говорит:
– Ты откуда, красотка?
– Из Краснодара… – машинально отвечаю я и сразу же понимаю, что зря ответила на вопрос, что потом от юноши не отвяжусь. Забыв о своих лакированных туфлях, теперь уже не иду, а бегу в школу.
Врываюсь в учительскую и не могу отдышаться.
– Наверное, Казбек пристал? Это горячий юнец: будь с ним осторожна. Такое, говорят, вытворял в школе… – понимающе улыбается
Оксана, учительница начальных классов, симпатичная украиночка. -
Если будет доставать, пожалуйся Рамзану: только его он и слушает…
– Здравствуй, Вера Фёдоровна! Иди за мной: познакомлю с твоим классом… – перебивает Оксану завуч.
Чувствую, что буду в школе под пристальным вниманием Рамзана: что-то он проявляет ко мне особый интерес.
Заходим в кабинет: пятиклассники стоят как оловянные солдатики.
– Работать будет легко: Елена Николаевна в начальной школе их вымуштровала хорошо… – шепчет мне завуч.
Он что-то говорит детям по-чеченски, потом переходит на русский.
– Знакомьтесь: Вера Фёдоровна – ваш классный руководитель.
Слушайтесь её.
Я рассказываю о себе, потом называю детей по списку, но вскоре понимаю, что зря потратила время: всё равно не запомнила ни одной фамилии, ни одного лица… Один мальчик, Ахьят, хочет выйти, отпускаю его и продолжаю вести урок. Через несколько минут входит ученик и протягивает мне записку. Читаю: "Я тибья лублу ти будиш майей жиной Казбек "
Чувствую, что краснею и по-настоящему злюсь:
– Ахьят, ты поступил плохо – ступай в угол…
Забыв о наказанном, говорю о красоте русского языка, показываю портреты великих писателей и поэтов, читаю стихи… Не знаю, понимают ли меня ребята, но слушают мой рассказ и сидят тихо. Только одна девочка смотрит не на меня, а в угол. Оглядываюсь: Ахьят стоит на одной ноге, в позе ласточки. На лбу выступил пот, худенькие ручонки опускаются вниз, а он их постоянно пытается поднять вверх.
– Почему ты так стоишь? – сердито кричу я, думая, что мальчик издевается надо мной.
Ахьят плачет – из-за парты приподнимается все та же девчонка в расшитой украинской сорочке.
– Он не виноват, – защищает она своего одноклассника. – Нас так наказывала Елена Николаевна…
Обнимаю малыша и усаживаю его за парту.
– Не буду вас так наказывать, – обещаю я. – А сейчас пойдем в лес. Вы покажете мне природу…
На опушке леса я отдыхаю. Сажусь на поваленное дерево и чувствую умиротворение: вокруг меня, как бабочки, кружатся дети. Кто собирает груши и яблоки, кто осенние цветы, кто просто бегает. Девочки жмутся ко мне, преподносят лесные дары, поправляют прическу…
– Все дети на Земле рождаются ангелами, – думаю я. – Это мы, взрослые, учим их злу и ненависти.
Во второй смене провожу уроки в Маринином классе и радостная возвращаюсь на квартиру.
– У меня все получилось! Дети меня приняли! – ликую я.
Но у калитки дорогу преграждает Казбек. Он упрямо твердит одно и то же:
– Ты будешь моей! Не хочешь жить здесь – уедем в твой Краснодар…
Не знаю, как отделаться от нежеланного ухажера. Буквально отталкиваю его от калитки – он пытается силой удержать меня, вырываюсь и вбегаю в комнату, сердито крича:
– Вот гад! Достал!
Наташа открывает серые глазки и с любопытством спрашивает:
– Кто?
– Казбек!
– О! Это опасный сосунок… Ко всем пристает… Из школы его выгнали… Не знаю точно за что… Говорят, нашей математичке вместо задачи член нарисовал и написал, что хочет её… Одним словом, молод, желаний много, кровь бурлит, вот и бегает за русскими… За своими-то нельзя: тех за руку взял – женись… Будет ещё приставать
– пошли его подальше…
Только сейчас замечаю, что Наташа не говорит, а шипит от боли, что её бледное личико покрылось испариной, что под глазами чёрные круги, что припухшие губы искусаны…
– Начинается? – испуганно спрашиваю я.
– Не знаю… Что-то нехорошо…
– Ты с ума сошла… Тебе уже давно надо лежать в больнице, а ты всё тянешь, играешь двумя жизнями! Фатима! – стучу я в стену, вызывая старшую дочь Пятимат. – Беги в школу: нужна скорая… Наташе плохо…
Беременная, скрючившись, лежит на кровати: боль сковала её тело, и слёзы постоянно струятся из её глаз.
– Всё… – шепчет она. – Это конец…
Мне жаль Наташу, и я пытаюсь успокоить её.
Наконец приехала скорая. Беременную переносят в машину, и она, прощаясь со мной, просит:
– Сообщи Сулейману…
Решаю сразу же выполнить её просьбу. Иду в школу. Прошусь в кабинет директора, чтобы позвонить Сулейману. Набираю номер: гудки… Наконец кто-то поднимает трубку и говорит на непонятном мне языке…
– Мне нужен Сулейман! – кричу я в трубку.
– Опять звонишь, русская… (И каскад ругательств режет мой слух.) Сулейман женился… Не звони ему больше…
В изнеможении сажусь на стул.
– Как нас, русских, здесь не любят, – огорчаюсь я.
– Что? Ругаются? – догадывается Рамзан. – Это можно понять: нас так долго истребляли… Всё уничтожено: вера, культура, традиции…
Мечетей нет… Преподаем в основном на русском языке…
– А если я донесу?
– Не донесешь: нет у тебя свидетелей… И запугать нас невозможно, так что зря ты это говоришь… – смеётся Рамзан.
– Чем же вы обижены? Учитесь в университетах… Имеете по несколько жён… На улицах звучит ваша речь – по-русски вы только ругаетесь… Кубанские казаки тоже немало пережили, но не ожесточились, как вы… – возмущаюсь я, выходя из кабинета.
За мной устремляется Рамзан.
– Не торопись, Вера: я тебя провожу…
– Не разрешаю…
Бегу по тёмной улице, боясь собственной тени. Если бы случайно натолкнулась на прохожего, то, наверное, умерла бы от страха.
Вот и знакомый дом-корабль. Забиваюсь в каюту. Как грустно одной!
Зачем я здесь? Нужна ли этим людям? Оставила отца… Так редко ему пишу… Это непростительно… Несмотря на усталость, не могу уснуть: воспоминания не дают покоя. Всё мерещится мне Игорь.
– Верочка, люблю тебя, часто вспоминаю, ты мне снишься… – шепчет он. И хотя я знаю, что сама придумала эти слова, но так приятно их слышать…
Утром открываю глаза: на часах без четверти восемь.
– Вот и первое опоздание, – нервничаю я.
Напяливаю на себя платье, хватаю портфель, бегу, распугивая щипающих траву кур. Прошмыгиваю мимо оторопевшего Казбека. Пересекаю порог школы ровно в восемь часов. К моему удивлению, в учительской ещё толпятся учителя, собирают деньги: Наташа родила ночью сына.
– Новый мужчина на Земле появился! – радуюсь я вместе со всеми.
На меня ехидно смотрит Рамзан и показывает на часы.
– Помоги! Казбек ко мне пристаёт, не дает проходу, – оправдываюсь я и краснею от лжи.
– Не бойся: он больше к тебе не подойдет, – обещает Рамзан, все так же весело глядя на меня.
Чувствую, что он понимает всё и без слов, и мне становится стыдно.
– Вера, передай Наташе, что я освобожу ей комнату в общежитии: пусть живет там с сыном…
– Всё… Не срывайте уроки! – делает замечание учителям директор.
– Скоро дети школу разнесут…
Не спеша идем по длинному коридору.
– Как ты здесь очутилась? – спрашиваю я Оксану.
– Жила в Полтаве. Познакомилась на танцах с солдатом, чернявым, красивым… Влюбилась… Вышла замуж, а после дембеля привез он меня в Чечню… Сначала жила со свекрухой – у неё своих детей куча. Я беременная, и она беременная… Рожали одновременно… Не выдержала… Голодно… Холодно… Тесно… Шумно… Теперь снимаем квартиру… Придёшь в гости – всё увидишь сама. Ну, хорошего тебе рабочего дня…
Пятый "А" встретил меня восторженно. Кое-кого я уже узнаю… Вот, вытянувшись, стоит Ахьят. Приветливо улыбается его защитница Милана, самая бойкая девочка в классе. Печально глядит на меня Галаев
Микаил. Что за беда у мальчика? Обязательно после занятий пойду к нему домой…
Уроки пролетают как мгновение. Прошу Милану проводить меня к
Галаеву.
– Его дом рядом! – восклицает девочка.
Идём по склону горы.
– Я живу тут! – радостно кричит Милана.
Удивлённо останавливаюсь: маленький оазис украинской культуры.
Низенький плетеный забор, на кольях блестят на солнце глиняные горшки. Нас встречает полненькая украиночка в вышитой кофточке, в расшитом маками передничке.
– Шо Милана наробыла? – с тревогой спрашивает она.
– Не волнуйтесь, – успокаиваю я женщину. – У вас хорошая дочь.
– Заходьте в хату, – приглашает меня хозяйка.
В комнате чисто. Везде: на рушниках, скатерти, покрывалах, занавесках – богатая вышивка. На окнах цветет герань.
– Сидайте… Вот горячи пирожечки. Вот молочко…
С трудом сдерживаю слёзы: мне кажется, что я попала на Кубань к бабушке Тане: та же речь, та же сердечность…
– Вот мои дивчата, – показывает женщина своих детей. – Мильку вы уже знаете. Она старшенька… А вон мои дивчатки-погодки…
Все девочки, как куклы-матрешки, отличаются только ростом. У них, как и у матери, глаза-васильки, правда, волосы почему-то рыжие…
Ем пирожок, пью молоко, и мне так хочется перейти на тот же язык, и я с трудом сдерживаю это желание.
Меня провожают всей семьей.
– Гукайте Галаевых, а то у их зла собака… – советует мне добрая женщина.
Стучу в калитку камнем. Пёс бросается на забор и готов его разметать… Из дома, из разных выходов, выбегают одновременно две женщины, молодая и пожилая.
– Мне нужна Галаева, – спрашиваю я.
– Мы Галаевы, – отвечают они.
– Кто из вас мама Микаила?
Молодица уходит, а на меня вопросительно смотрит пожилая женщина.
Черный платок надвинут на лоб. Наполненные тоской глаза. Скорбно сжатые губы…
– Я классный руководитель вашего сына… Хотела бы побеседовать с вами…
Женщина загоняет пса в сарай и приглашает меня на свою половину.
В комнате полумрак: тёмные тяжёлые гардины, тёмный, почти чёрный ковёр на стене, такие же покрывала на кроватях.
– У вас горе? Почему так грустен Микаил? – спрашиваю я.
Галаева молчит, глядя в одну точку. И я вдруг понимаю, что зря потеряла время, что могла бы проверить партию тетрадей, отдохнуть или поесть…
Но вдруг в помертвевшем взоре появляются живые искорки, и женщина жалуется:
– Когда-то я была счастливой… Любил муж, и мальчики были весёлые… Муж купил молодую жену, редко приходит на мою половину…
Больно мне… Не хочу жить…
– Как помочь ей? – думаю я. – Может, поговорить с Галаевым, чтобы он пожалел жену, поддержал её, дал глоток воздуха… Но станет ли он слушать русскую?
Не знаю, что и сказать… Протягиваю руку, беру в ладони высохшие пальцы, ласково глажу их и шепчу:
– Я буду приходить к вам… Надо жить: у вас такие золотые дети…
Чувствую, как теплеет её взгляд: тяжело одной переносить беду, а несколько добрых слов могут спасти душу. А кто помог бы мне? Совсем запуталась… Чего ищу, не знаю… Часто копаюсь в прошлом… Порой становится страшно: что-то случилось со мной после встречи с Игорем: могу общаться с мужчинами, но только общаться: мысль о близости с кем-либо приводит меня в ужас… А я ведь так люблю детей! Не брать же их в детдоме! Сказать бы этой женщине, что она по-своему счастлива: сама любила и её любили, родила таких сыновей, так что утешать надо меня, да некому…
Отпускаю ладони Галаевой: пора идти. Опаздываю: надо замещать уроки…
– Почему вы работаете в Маринином классе? Где моя девочка? – испуганно спрашивает меня женщина, без разрешения заходя в класс.
– Вы Маринина мама? – догадываюсь я: те же огромные карие очи, тот же высокий лоб, толстая коса удавом сжала голову. Значит, коллега наврала: не было никакой аварии, а я, дура, работаю в две смены, замещаю в школе всех гуляк, не пишу отцу писем, валюсь с ног.
– А вы не лежали в больнице? – задаю почему-то этот бессмысленный вопрос, заранее зная на него ответ.
– Как видишь, жива и здорова… Да что же случилось с моей девочкой?
– Уехала лечить вас… – грустно шепчу я, вдруг вспомнив, что идёт урок, что нас слушают дети…
– Ребята! – приказываю я школьникам. – Отпускаю вас сегодня рано, но если кто в коридоре от радости закричит, то просидит у меня в кабинете ещё четыре часа…
Видно, угроза моя подействовала: дети без шума покинули школьное здание.
– Скоро привезу Марину… Догадываюсь, где она… Думаю, опять бывший муженёк дорогу ей перешёл: любит она его проклятого… Чуть поманит её пальцем – она за ним, как собачонка, ползёт… Помилуются месяц-другой – потом зятёк напьётся, наговорит ей гадких, пошлых слов, подерутся и опять расстанутся на год… Вот такое нам наказание… – со слезами на глазах рассказывает огорчённая женщина.
– Не может быть, – удивляюсь я. – Марина такая сильная, боевая…
– Все мы боевые до поры до времени, а счастливых видела немного… – прощаясь со мной, горько говорит Маринина мама.
Сажусь за учительский стол, заваленный тетрадями. Тетради – это самое страшное в моей работе. Сколько их? Всё время, вся жизнь уходит на них. Может, что-то бы создала своё, а я каждый день испещряю красными чернилами сотни страниц и не знаю, нужно ли это детям?
– Спасибо тебе за всё! – громко говорит кто-то, и на стол падает коробка шоколадных конфет.
Приподнимаю голову: рядом в шикарном костюме стоит молодой человек, стройный, гибкий, юный… Тонкие черты лица. Славно выточенный нос, искусно вырезанные губы, не знаю, какой талантливый художник создал эти чудные глаза и брови…
– Это наш красавец Али пожаловал, – догадываюсь я, и мне становится весело уже потому, что его красота абсолютно не волнует меня, что у меня уже выработался иммунитет на таких мужчин. Отдаю ему его тетради и как ребёнок радуюсь, что стопок стало меньше. Всё: не хочу больше проверять. Лучше пойду к Наташе в роддом. Там я нужнее.
Подруге плохо – к ней не пускают… Стучу в окно – мне передают записку. На клочке бумаги корявым почерком нацарапано:
"Верочка! Большое спасибо за передачу! Чувствую себя еще неважно, но мой Русланчик здоров, похож на Сулеймана, такой же красавчик…
Сообщи, почему он не приходит? Что случилось? Я так волнуюсь…
Наташа."
Знаю, что надо рассказать подруге о женитьбе Сулеймана, но пусть немного окрепнет. Не хочу добить её этой новостью: горькая правда не всегда полезна.
Настойчиво звенит будильник. Открываю глаза: вокруг темнота.
Зачем так рано проснулась? Ведь сегодня воскресенье… Наконец, вспоминаю: вчера на перемене Рамзан мне вручил письмо и ехидно заметил:
– Тебя, Верочка, как и Али, знают на Кавказе…
– Ты преувеличиваешь мои возможности, – парирую я и жду, когда завуч покинет классную комнату.
Открываю конверт. На меня с фото смотрит Алик. Пронзительный взгляд… Сжатые в усмешке губы… На обратной стороне мелким витиеватым почерком написано:
"Здравствуй, Верочка! Меня забирают в армию. Жду тебя в
Орджоникидзе на вокзале до 11 часов… Приезжай!!! Целую. Алик".
Так не хочется вставать… Но ведь обещала… Стягиваю себя с кровати, одеваюсь и выхожу на улицу.
Луна тускло освещает аул. Страшно. Одиноко. Только собаки лениво тявкают за заборами.
За аулом дышится легче. Спешу, почти бегу по шоссе, чтобы подняться в город к вокзалу. Вдруг из переулка выворачивает машина.
Как испуганная птица, мчусь с дороги, чтобы спрятаться за тополем.
На обочине тормозит скорая, и шофер, высовываясь из окошка, зовет:
– Девушка! Не прячься, выходи! Подвезу.
– Наш, русский! – радуюсь я, подходя к машине.
– Тебе куда? – спрашивает шофер.
– Иду на вокзал, потом поеду в Орджоникидзе…
– Я тоже еду в ту сторону… Можешь составить мне компанию и сэкономишь время. Вот только заеду в два – три места, загружусь – и вперед. Согласна?
Несколько минут я размышляю. Вроде бы парень не вызывает тревоги.
Добродушный. Разговорчивый. Не пристает. А главное русский! Неужели он обидит меня? И так не хочется плестись еще несколько километров к вокзалу… И сэкономлю время…
– Да, – принимаю я приглашение юноши.
Мы колесим по улицам города. Шофер что-то грузит в скорую, а потом разворачивает машину назад, к аулу.
– Сейчас возьму друга и поедем по прямой дороге через горы. По ней почти никто не ездит, только шоферы-ассы… Там так красиво, да и короче она намного, – сообщает водитель.
Чувствую себя обманутой: в скорую садится парень, он что-то по-своему бормочет другу – тот сердито ему отвечает.
– Девушка! – приглашает меня кавказец. – Иди сюда: угощу тебя спиртом. Мы приятно проведем время…
Он назойливо стучит в окно, требуя, чтобы водитель остановил машину и пересадил меня из кабины к нему…
Я сжимаюсь от страха и взглядом умоляю шофёра, чтобы тот не слушал своего товарища.
– Всё, – думаю я при каждом торможении на повороте, – сейчас изнасилуют и выбросят меня в пропасть… И почему именно со мной происходят подобные истории?
А горы всё круче и круче. То над нами нависают лысые скалы, то с пологих склонов сползают леса. Дорога бежит у самой пропасти, и, кажется, ещё мгновение – и мы полетим в бездну…
Но вот машина преодолела перевал и легко покатилась вниз.
Водитель изо всех сил пытается сдержать этот бег.
Дружелюбно гляжу на него: он мой спаситель. Рыжеволосый.
Светлоглазый. Хорошо говорит по-русски… Что было бы, если бы на его месте оказался кто-то другой…
А за окном мелькают леса. Прохладно. Сказочно. Сквозь зеленые, жёлтые, пурпурные кроны едва пробиваются лучи солнца. К небу тянутся дубы, грабы, ясени, кое-где плющ и дикий виноград удавом сжал их стволы, пытаясь сбросить с древесины изумрудные моховые шубки. В раскрытое окно ветки протягивают мне жёсткие ладони блестящих листьев.
Внизу появляются следы пребывания человека: заброшенные сады, полуразрушенные овчарни, сваи – остатки от моста на перегородившей дорогу горной речке.
– Тут мелко. Мой вездеход пройдет, – утверждает шофёр, направляя машину через поток.
Скорая легко преодолевает препятствие, но на середине реки фыркает, чихает и захлебывается. Парни дружно прыгают в воду и, ругаясь, уходят, чтобы найти какой-нибудь транспорт и вытащить из воды машину.
Сижу в кабине и смотрю на стрелки часов. Всё… Можно уже не спешить: опоздала… Да… Судьба вертит мной, как хочет. Значит, не суждено мне быть с Аликом: жизнь приготовила мне другой сюрприз…
А внизу бурлит и злится вода, бьётся о колёса машины, тщетно пытаясь вытолкнуть её из потока. Смотрю на этот водоворот, вспоминаю другую речку и думаю уже в который раз:
– Зачем я здесь?
Вынимаю из сумки блокнот и ручку и пишу отцу:
"Здравствуйте, дорогой мой папочка Федечка! Я жива, здорова и очень скучаю… Наверное, зря не послушала Вас и не осталась дома…
Теперь так часто вспоминаю Краснодар, и Чёрный Ерик, и нашу славную
Кубань и понимаю: нет её краше на всей Земле. Как хочется пронестись в лодке по каналу, поехать на рыбалку на лиманы или Азовское море!
Сейчас мечтаю лишь о том, чтоб быстрее прошло время и я возвратилась домой…"
Гортанные крики кавказцев отвлекают меня от письма. Горцы, стегая волов кнутами, пытаются загнать скотину в речку, чтобы вытянуть из воды машину. Быки, упрямо расставив ноги, ревут, изо всех сил упираются, словно их гонят на убой… Мои спутники тоже что-то кричат и бьют животных. Мокрые, забрызганные водой и грязью, они выглядят измученными.
– Им уже не до любви, – с ехидством думаю я. – Теперь бы только добраться до любого населённого пункта – и в обратный путь…
Побывала в Орджоникидзе… Что буду завтра врать на работе?..
Мне повезло: ребята, выбравшись на шоссе, остановили автобус, и к вечеру я была уже в ауле.
Меня удивил свет в окнах и чей-то гомон.
Захожу: в комнате на табуретке сидит Марина и о чём-то говорит с
Пятимат. Она, как мусульманка, закуталась в платок, и только карие очи печально глядят на меня. Ни о чём её не расспрашиваю: и так всё ясно: муженёк украсил лицо фонарями…
– Ты только погляди… – приоткрывает она край платка, после того как нас покидает Пятимат. – Только не испугайся…
Распухший нос. Синие вздутые губы. Царапина на правой щеке…
– Да, поработал на совесть, – шепчу я. – А как же ты пойдешь в школу?
– Что-нибудь придумаем… Ты всем расскажешь, что у меня страшная зубная боль, а пока будем лечить зубы, синяки сойдут…
В понедельник я не стала героиней дня: все только и говорят о
Марине, расспрашивают о здоровье её матери, да и о ней самой.
Неумело вру о бессонной ночи, о страшной зубной боли, и все верят… И только Рамзан с улыбкой на устах слушает наши страшные истории и с сарказмом в голосе спрашивает:
– А что ж ты, Верочка, не в платке? Всё прошло нормально?
Ох, как злит меня его вечная ирония и его всезнайство. Иногда кажется, что он следит за мной. А это так раздражает…
После занятий иду в общежитие к Наташе: надо ей помочь. Она так беспомощна с ребёнком: ни приготовить, ни постирать… Её одно спасает: в груди есть молоко, так что малыш выживет… Наташа спит на кровати, рядом с ней, у груди, лежит Русланчик, держит во рту сосок и лениво сосет. Подруга так худа, так бледна, что на неё больно смотреть…
Присматриваю и себе уголок… Здесь поставлю раскладушку и буду помогать Наташе. Так не хочется жить на старой квартире: Хусейн каждый день мечется по двору: начал строить новый дом для молодой жены. Ему помогают мужчины всего аула. Везде строительный материал, чужие люди, грустная Пятимат – дом-корабль уже не привлекает.
А если к Наташе приедет Сулейман? Тогда на ночёвку придётся возвращаться на старую квартиру, к Марине.
Последний день занятий в первой четверти совпадает с днем моего рождения. Рамзан, широко улыбаясь, зазывает меня кабинет, вручает мне духи "Красная Москва" и взволнованно говорит:
– Поздравляю, поздравляю, Верочка, с Днем твоего рождения…
Счастлив работать с тобой…
Надо бы поблагодарить его за внимание и заботу, но я почему-то всегда боюсь оставаться с ним наедине и открываю дверь в коридор.
Рамзан замечает мой страх и тут же переводит разговор:
– Пойдем, Вера, в пятый "А": тебя ждёт сюрприз…
Входим в классную комнату: Микаил играет на гармошке "Лезгинку", а Ваха, стройный, красивый мальчик, не танцует, а словно плывет в танце, гордо расправив плечи, вскидывая руки, как крылья, то влево, то вправо, то надвигаясь на Милану, то вновь уходя от неё…
Мы садимся за стол и аплодируем детям. Танцы сменяются песнями, и я удивляюсь, как живо здесь народное искусство. Если бы сейчас ребята попросили меня исполнить народный танец, то я бы опозорилась…
После уроков приглашаю детей в лес: дома ведь у меня нет… Вот там раздам им конфеты, побегаем, поиграем, чтобы не замерзнуть…
Пообщаемся часа два и разойдемся. По дороге к нам присоединяется Али.
– Я сам люблю бродить по лесу, когда всё надоест, но сегодня,
Верочка, ничего у тебя не получится: вон гляди: лес оцепили военные, милиция… Кого-то ищут…
– А, может, пропустят?
Подхожу к офицеру со своей просьбой…
– Ты что с ума сошла? – грубо отвечает он. – Из тюрьмы бежал убийца… Где-то тут прячется в лесах… А ты со своими детьми…
Марш отсюда по домам… Всё вас, русских, на приключения тянет…
Мне неловко перед ребятами: они ведь всё понимают…
Извиняясь, раздаю ребятам конфеты, и они неохотно расходятся по домам.
В центре аула многолюдно. У сельсовета на корточках сидят в белых одеждах древние старики, которых раньше я никогда не видела. На площади стоят чёрные "Волги", рядом с ними – высшее начальство
Чечено-Ингушской республики.
– Можешь мне объяснить, что здесь происходит? – спрашиваю Али.
– Ты же сама всё знаешь… Один житель из нашего аула несколько лет назад вырезал семью в соседнем ауле. Его бросили в тюрьму…
Теперь он на свободе… Кто-то из наших ему помогает.
Не выдадим преступника – соседи вырежут наш аул… Вот старейшины и решают… И начальство к ним с поклоном приехало… Что старшие скажут, то и будет…
– Замолчи, Али. Ты специально меня пугаешь?
– Не бойся, – успокаивает меня коллега. – У нас старики мудрые: не станут из-за убийцы жертвовать всем аулом…
Прощаюсь с Али и иду к Наташе: погибать будем вместе.
Но у подруги настоящий праздник. Ей не до событий в ауле: наконец-то явился Сулейман, и она то плачет, то смеется от счастья, рассматривая подарки. Сулейман же прижался к животику Русланчика и тоже шепчет что-то нежное… Я вижу только его черную блестящую шевелюру и слышу его приятный голос. Понимаю, что им сегодня не до меня… Ухожу… И так обидно: они меня даже не заметили…
Возвращаюсь в дом-корабль. А здесь идет стройка: Хусейн, подобный высохшему пауку, бегает по двору и покрикивает на всех. Повеселевшая
Пятимат пытается помочь мужу: видно, угар любви ко второй жене прошёл, и Хусейн стал бывать и у первой жены.
В нашей комнате беспорядок. Марина валяется на неразобранной постели: у неё хандра, и она притворяется, будто спит. Я молча тоже падаю на кровать, отворачиваюсь к стене и вскоре засыпаю.
Вторая четверть… Днём веду уроки, вечером проверяю тетради или нянчу Русланчика. Обожаю этого малыша: люблю его купать, пеленать, кормить, люблю носить его по коридору общежития или по двору, прижимаясь к его мягкой, бархатной щёчке, и целую, целую малыша, понимая, какое это счастье – родить ребенка… Сейчас я завидую
Наташе: Сулеймана она не потеряла: он часто теперь приезжает к ней и заботится о Руслане… Пусть у него есть настоящая жена, но любовь не убьёшь и не скроешь: она в их взглядах, в диком влечении друг к другу, в их сыне… И, когда приезжает Сулейман, чувствую себя лишней и ухожу.
Одиноко бреду по коридору общежития. В какой-то из комнат шум, гвалт, звучат песни, кажется, Муслима Магомаева…
– Что там за праздник? День рождения или заранее отмечают Новый год? – думаю я.
Открывается дверь, и меня приглашают войти коллеги.
– Мало нас, мужчин, в коллективе, но я вас хотел познакомить еще с одним. Кубанскому гостю наш рог, – приподнимаясь из-за стола, весело приветствует меня Рамзан.
Вспоминаю, как на просьбы завуча проводить его, утверждала, что я казак, и отправляла с ним "жен своих", Марину или Наташу… Так что теперь отпираться нечего… Ну, казак так казак… Казаки никогда не сдаются… Беру стакан и медленно тяну отвратительную, горькую жидкость.
– Быстрей пей! Меня скоро замутит! – брезгливо скривившись, кричит Марина.
– Не пей глотками – иначе свалишься, – сочувственно советует мне
Али.
Глотаю и глотаю, как отраву, проклятую водку… Наконец, стакан пуст, и я демонстративно переворачиваю его вверх дном.
– Вот это казак, – смеется Рамзан.
Удивляюсь ему: сам не пьет, пытается жить по своим законам, а нас, русских, спаивает… Или это делает специально, чтоб я свалилась… Но ничего у него не выйдет…
– Только б не опьянеть! Пора уносить ноги! – мысленно приказываю себе, чувствуя, как мгновенно деревенеет язык и немеют губы.
– Бежать… Бежать… – шепчу я, пытаясь выбраться из этой комнаты, и натыкаюсь на чью-то фигуру.
– Рамзан… – обреченно думаю я. – Все: поймана птица…
– Верочка, разреши пригласить на танец? – это приглашение звучит как насмешка, потому что мужчина прекрасно знает, что ни отказать ему, ни оттолкнуть его я не в состоянии. Водка парализовала мою волю, мое тело, и, если бы не сильные руки Рамзана, я бы упала…
Он изо всей силы прижимает меня к себе, и мы сливаемся в одну фигуру. Танцуя, Рамзан подносит меня к двери, в коридоре впивается в пытающиеся сказать "не надо, отпусти" губы и несет в свою комнату…
Он долго и страстно целует меня, что-то говорит о любви, но я уже ничего не понимаю и не чувствую… Мне все равно…
Очнулась я на рассвете и не сразу поняла, где нахожусь. Чьи-то волосатые руки змеями обвивают мою фигуру и судорожно прижимают к себе…
– Рамзан! – молнией поражает меня мысль. – Прославилась… Да, недаром нас чеченцы называют гулящими… Хотела быть другой, хотела всем что-то доказать – а очутилась в постели у завуча…
Пытаюсь потихоньку выползти из мужских объятий, но вскоре понимаю, что сделать это незаметно невозможно: при каждом моем движении его руки удавом сжимают мое тело до боли. Значит, уйти не попрощавшись не смогу…
– Рамзан, отпусти, – подаю я голос. – И так опозорилась…
Мужчина прикрывает ладонью мои губы и шепчет:
– Молчи, пожалуйста, молчи… Я об этом мечтал с нашей первой встречи… Люблю тебя… Готов на любые безумства… Хотел даже украсть тебя… Прости, что пришлось поступить так по-зверски…
По-другому не смог к тебе подступиться. Давай жить вместе, – целуя мои руки, говорит он.
– Это невозможно, – возражаю я. – Твои родные никогда не примут меня, а жить так, как Наташа с Сулейманом не хочу…
– У нас все будет по-другому… Уговорю мать, поженимся, будем растить детей… – горячо убеждает меня Рамзан, и в его темно-карих глазах появляется надежда на счастье.
И мне жаль разрушать его мечту, но я прекрасно знаю, что летом возвращусь на Кубань к отцу, что поиски личного счастья окончены: просто я в эту ночь поняла, что ни мужчины, ни секс меня больше не интересуют… Если такой парень, как Рамзан, не смог разбудить во мне женщину, то, видно, это сделать невозможно…
– Тебе надо забыть меня, – советую я Рамзану, одеваясь.
– Нет, не смогу…
– Сможешь… Всё со временем проходит…
Я тихонько выскальзываю в коридор, надеясь, что меня никто не увидит. Но мои старания напрасны: сначала сталкиваюсь с директором школы и съеживаюсь от его улыбки, как от удара, потом ко мне подходит Сулейман и просит зайти к Наташе: у Русланчика заболел животик.
Несмотря на ранний час, подруга с ожесточением трясёт коляску и никак не может успокоить ребенка.
– Господи! Не могу больше! – увидев меня, по-бабьи стонет Наташа.
– Одна… Кругом одна… Он уехал, и никто мне не поможет…
– Сейчас всё будет в порядке, – успокаиваю её. – Нагреем утюжком пеленочку, приложим её к животику, и Русланчик засмеётся… А ещё мы нашего малыша возьмём на ручки, и он будет счастлив… Вот видишь: твой сынок уже не плачет…
– Как это у тебя получается? – удивляется Наташа.
– Я же казачка… А у нас бабы всё умеют делать: и дрова рубить, и траву косить, и детей растить… Это у нас в крови.
– А как ты очутилась в такую рань в общежитии?
Чувствую, что краснею, и не знаю, как ответить на этот вопрос…
Врать не умею, да и скоро моё поведение станет обсуждать весь педколлектив. Здесь каждая новость развлекает надолго.
– Смотри, девка! Повторишь мою судьбу… – назидательно говорит мне Наташа. – Вижу, что нравишься ты Рамзану… И хороший он, и добрый, но женится, уж поверь мне, на чеченке… И будешь, как я, делить его с женой и ждать редких свиданий…
– Нет, я здесь не останусь: летом возвращусь на хутор…
– Эх, дуреха… Да кто ж тебя отпустит? Трудовую книжку тебе
Рамзан ни за что не отдаст… Два года надо еще отработать по направлению, – сочувствует мне подруга.
Новый год не принёс мне радости. При виде меня все шушукаются и даже не прячут ухмылок: видно, людям приятно ощущать, что кто-то ещё хуже их. Даже Али осуждающе качает головой:
– Не ожидал… Недолго же ты продержалась… Теперь никогда не женюсь: женщинам нельзя верить… Все вы одинаковые…
– Ты разочарован в русских женщинах, так что не обобщай: жениться
– то будешь на чеченке… – дерзко отвечаю я.
Избегаю Рамзана, но сделать это в школе почти невозможно: он повсюду: и в учительской, куда захожу за журналами, и в коридоре, и в классах, где я работаю…
Несколько раз в неделю посещает уроки, чего раньше не делал, а потом разбирает их, каждый раз говоря одно и то же:
– Прекрасный урок, Верочка… Ох, извиняюсь, Вера Фёдоровна. Как интересно ты опрашиваешь! Ещё лучше объясняешь новый материал: доступно, понятно… Слушал бы тебя и слушал… Жаль, что у тебя нет желания слушать меня…
– Рамзан, не позорь меня, не преследуй, не ходи на уроки: мне и так не сладко… Я к тебе хорошо отношусь и даже не обижаюсь на то, что ты сделал со мной… Летом уеду домой: там ждут меня мой отец, мой дом, мой хутор, моя родина.
– Нет! Никогда не отдам тебе трудовую книжку! Не отпущу… – злится завуч.
Думаю, что Рамзан понимает, как мне сложно теперь работать в коллективе, и по-своему пытается защитить меня: но от этого не становится легче.
Я побледнела и похудела, меня начало поташнивать. Значит, вновь беременна. Я даже не расстроилась от этой новости, как когда-то в
Краснодаре. Ну что ж, привезу отцу живой подарок из Чечни, выращу, воспитаю… Лишь бы малыш был здоров, и тот проклятый стакан водки не сказался на нём… Буду надеяться на лучшее: Рамзан не пьёт, я и отец тоже, может, Бог простит меня, грешницу, не буду же я убивать дитя вновь. Теперь самое главное для меня – скрыть беременность от всех, а это сделать так трудно.
– Что с тобой, подружка, уж не влипла ли ты? – беспокоится Наташа.
– Ах, эта сухомятка… Желудок за год испортила, – жалуюсь я.
– Да, ты тут не одна такая: нет столовой, нет буфета, а в школе работаем в две смены… Откуда здоровье, – сочувствуют мне коллеги.
Я рада, что меня не рвет, а тошнота хоть неприятна, но незаметна для окружающих.
Весна. Тепло. Часто с детьми ухожу в лес: там так красиво. Всё зеленеет и цветет. Пахнет подснежниками. Дети рвут черемшу и едят её, отыскивают под прелой листвой прошлогодние груши, дарят мне весенние цветы, девочки плетут венки и украшают мои волосы… В лесу так хочется молчать и слушать…
– Вера! Где же ты? – вдруг слышу голос Рамзана.
– И здесь нашел! Нигде от него не скроешься, – сердито думаю я.
Услышав его голос, дети радостно кричат что-то по-своему.
– Вот и отдохнула…
Рамзан о чём-то разговаривает с детьми, а потом переводит для меня:
– Попрощайтесь с Верой Фёдоровной и идите по домам. Мне нужно поговорить с вашим классным руководителем.
Хочу остановить ребят, но Рамзан меня обрывает:
– Не о любви я пришёл говорить… У тебя, Верочка, горе… Вот телеграмма…
Беру её трясущимися руками и не могу читать: слёзы застилают свет, ничего не вижу…
– Бедный папочка! – кричу я. – Не выдержал одиночества… Зачем я
Вас оставила?
– Успокойся, Верочка… – обнимает меня Рамзан. – Может, твой отец поправится: у него инсульт… Сейчас ты поедешь домой и поможешь ему. Я дам тебе отпуск без содержания… Пойдем – помогу тебе собраться и отвезу в Грозный.
Все было как во сне: и поездка в столицу, и расставание с
Рамзаном в аэропорту, и возвращение домой: я плачу и корю себя за то, что редко писала письма, что оставила отца одного… Не помню, как добралась до хутора. Кажется, на попутных машинах…
Останавливаюсь и озираюсь: ночь, Чёрный Ерик спит, нигде ни огонька, только у клуба на столбах горят несколько лампочек, тускло освещая белое здание, ряд акаций и чей-то забор. Со страхом тороплюсь домой: не могу представить отца больным и беспомощным… В волнении не могу открыть калитку – а Моряк, узнав меня, жалобно воет на цепи. На двери замок – исчезла надежда на то, что в телеграмме написана неправда. Значит, всё плохо… И, хотя не раз приезжала из
Краснодара в дом, где никого не было, и ночевала одна, но никогда не испытывала такого жуткого страха…
Зажигаю свет во всех комнатах: в зале на столе записка:
"Верочка, сегодня вечером Федя скончався в Славянске в больнице.
Отмучився, бедный… Если приедешь ночью и буде страшно, приходи.
Твоя крестная мама".
Машинально сажусь на диван. Ни плакать, ни кричать уже не могу.
Перебираю лежащие на тумбочке бумажки, нахожу начатое отцом письмо:
"Здравствуй, дорогая моя доченька! Замучив почтальоншу… Жду от тебя весточку. Что с тобою? Разрывается сердце от боли…"
Смотрю на ещё живые строчки и ругаю себя за редкие письма, за то, что чужим отдавала больше времени, чем близким, за то, что не осталась с отцом, за то, что не родила от Игоря сына, за то, что исковеркала себе жизнь… Единственный тот, кто меня по-настоящему любил, ушёл навсегда. Вот теперь я одна… одна…
– Простите меня, папочка Федечка, – скорбно шепчу я. – Никогда больше не оставлю Вас… Буду жить в Вашей хате, как и Вы, буду растить своего ребёнка, буду работать…
И вдруг мне кажется, что кто-то там, внутри, толкает меня ножкой, чтобы напомнить, что я не одинока в этом мире. *Эпилог*
Придвинув кресло к телевизору, я напряженно слушаю "Новости".
Меня интересуют вести из Чечни: там офицером служит мой сын, Руслан.
Когда показывают фото или документальные кадры, надеваю очки и вглядываюсь в лица и русских, и чеченцев, ищу знакомые черты.
Называют фамилии погибших, и я радуюсь, что среди убитых нет моего сына и моих учеников.
Давно уже не сплю без снотворных лекарств, но и они не помогают мне: как только закрываю глаза, вижу один и тот же сон.
Ночь. Луна освещает скалистые горы. По извилистой дороге, вдоль ущелья, гуськом идут солдаты – впереди – мой сын. Они держат автоматы на взводе и готовы в любую минуту выстрелить… А на верху скалы, за огромным камнем, с оружием в руках притаился Рамзан. Вот он целится в Руслана.
– Рамзан! Не стреляй: это твой сын! Руслан! Брось оружие: это твой отец! – истерично кричу я и просыпаюсь от своего же крика.
Вновь пью лекарство и долго думаю о том, как быстро мы, люди, потеряли то доброе, что было в нас… Вспоминаю Чечню, своих ребят,
Джахара, Рамзана, Али, Сулеймана, Пятимат и прошу у Бога:
– Господи! Спаси нас, грешных! Отучи от ненависти – научи любви…
Молюсь каждый день:
"Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю! Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен, щит и ограждение – истина
Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень… За то, что он возлюбил
Меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя Мое".
Молитвами и живу: они дают надежду на спасение сына.



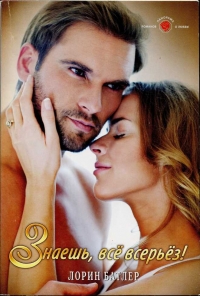




Комментарии к книге «Работа по распределению», Зинаида Шедогуб
Всего 0 комментариев