Вера Ивановна КРЫЖАНОВСКАЯ РЕКЕНШТЕЙНЫ
Часть 1 Габриэль
I. Воспитатель
По одной из прекрасно содержимых дорог прирейнской Пруссии быстро мчалась щегольская карета, запряженная парой лошадей, которыми правил старый кучер в ливрее с графской короной на пуговицах. Сентябрь был на исходе, и осень давала себя чувствовать. Беспрерывно шел мелкий частый дождь, и все кругом тонуло в густом сероватом тумане.
Дорога была гористая, окаймленная с обеих сторон сплошным лесом. Порой сквозь его прогалины открывались чудные ландшафты; но путник, сидевший в карете, казалось, был погружен в тяжелые думы и не обращал никакого внимания на местность, по которой проезжал. Плед, дорожный несессер и сундук на козлах показывали, что он едет издалека.
Путник был молодой человек лет двадцати восьми, высокий, худощавый, но крепко сложенный; его характерное лицо с правильными чертами возбуждало симпатию. Он снял шляпу и откинул голову на подушки кареты; золотисто-русые волосы, короткие, но густые, мягкими прядями обрамляющие его белый широкий лоб, резко выделялись на синем фоне атласа; усы и небольшая борода были того же цвета. Брови были темные, соединялись на лбу и оттеняли большие черные глаза, спокойные и строгие; в эту минуту они были отуманены мрачной грустью, которая сказывалась и в суровом выражении губ; но порой его мужественное лицо озарялось отблеском энергии и гордости, доходящей до упрямства.
Барон Готфрид Веренфельс был последний отпрыск благородной и древней фамилии, обедневшей мало-помалу вследствие начала войн и несчастий. Отец его пытался поправить состояние спекуляциями, которые сначала удались, но потом окончательно разорили его. Подавленный этим несчастьем, старый барон застрелился, оставив своему единственному сыну лишь долги да заботу о матери и о молодой жене, с которой он едва только вступил в брак.
Более года Готфрид отчаянно боролся, чтоб сохранить маленькое имение, обеспечивающее ему скромное существование, но неожиданное банкротство лишило его этого последнего ресурса; смерть жены не менее жестоко поразила его сердце, и нервная болезнь приковала его к постели на несколько месяцев. Тотчас по выздоровлении молодой человек стал обдумывать, как создать себе новое положение.
Он был разбит, но не уничтожен. С помощью одного из друзей Веренфельс поместил мать и свою маленькую Лилию, которой был тогда год, к одной старой родственнице, своей крестной матери, а сам решился ехать в Америку попытать счастья. Он готовился к отъезду в Новый свет, когда неожиданное предложение изменило его намерение.
Банкир Фридман, старинный друг его отца, не переставал оказывать доброе расположение молодому человеку; теперь он письменно просил его немедленно повидаться с ним по весьма важному делу.
Обменявшись поклоном с Готфридом, банкир сказал без всяких предисловий:
— Мой милый Веренфельс, я имею нечто предложить вам, и если вы согласитесь, то, по-моему, это будет выгодней, чем поездка в Америку. Я сейчас получил письмо от моего друга и клиента, графа Вилибальда Рекенштейна. Он просил меня рекомендовать ему человека умного, образованного, хорошего круга, а главное энергичного, который взял бы на себя воспитание его сына, мальчика с испорченным характером вследствие несчастных обстоятельств, ленивого и дерзкого до крайности. В течение полугода он вывел из терпения трех воспитателей.
— Вы считаете выгодной должностью быть козлом отпущения у такого чудовища? — спросил Готфрид с усмешкой.
— Погодите. Кроме этого чудовища, которому едва девять лет, в доме его отец — такой симпатичный и благородный человек, какого только можно себе представить; к тому же больной и одинокий. Он живет уединенно в своем Рекенштейнском замке. Практическая сторона дела — значительное вознаграждение, которое граф предлагает тому, кого я рекомендую; оно равняется жалованью большой государственной должности. Это сейчас вывело бы вас из затруднительного положения и дало бы вам возможность обеспечить вашей матери и вашему ребенку удобства жизни. Вы могли бы даже откладывать на будущее время; таким образом, вам было бы легко впоследствии попытать счастья в Новом свете, когда вы исполните принятое вами обязательство и маленький Танкред — согласно желанию отца — поступит в военную школу. Со свойственной вам энергией, я полагаю, вы справитесь с маленьким чертенком.
Готфрид опустил голову. Рассудок говорил ему, что его старый друг прав.
— Вследствие каких обстоятельств этот несчастный ребенок так испорчен?
— Это вина его матери, — отвечал Фридман. — Графиня, говорят, отчаянная кокетка, занята нарядами, жаждет всеобщего поклонения и отравляет всех, кто попадается в ее сети. Была ли она виновна перед своим мужем или нет, но только он имел дуэль с одним слишком ревностным ее обожателем. Графиня уехала от мужа и увезла Танкреда, которому было тогда три года. С тех пор она живет за границей, где ведет веселую жизнь, сохраняя, впрочем, наружное приличие, так как возит с собой старую родственницу. Но сына своего она решительно развратила своим безграничным обожанием и поклонением его недостаткам. — Граф, серьезно раненный на дуэли, заперся с тех пор в своем замке и только в прошлом году узнал, какое воспитание получает его сын. Он потребовал возвращения ребенка, и мать отдала его с условием увеличения ее годового содержания. Остальное вам известно. Я забыл лишь сказать, что, так как правая рука графа осталась слабой, вам придется помогать ему в его переписке.
Готфрид согласился принять предлагаемую ему должность, и мы застаем его едущим на место своего нового назначения. Какое-то тайное опасение теснило его грудь, и его гордая душа возмущалась при мысли о подчиненном положении, которое ожидало его.
Глубоко вздохнув, он выпрямился, провел рукой по лбу, как бы желая отогнать докучливые думы и, опустив стекло, стал глядеть в окно. Дорога в этом месте загибалась и довольно быстрым скатом спускалась в долину, лежащую среди лесистых гор; в глубине ее, на холме, возвышалось обширное здание, окруженное садами. То был Рекенштейн. Сердце молодого человека, непонятно для него самого, почему-то сжалось.
Пока Готфрид рассматривал свою будущую резиденцию, карета въехала в аллею вековых дубов и повернула в ворота золоченой решетки, над которыми возвышался герб; затем, обогнув площадку, украшенную фонтаном, она остановилась у подъезда.
Два лакея выбежали встретить приезжего, и один из них, помогая ему выйти, почтительно сказал:
— Граф желает вас видеть, сударь, как скоро вы отдохнете.
— Проводите меня в назначенную мне комнату, я немедленно оправлюсь и тотчас пойду к графу.
Предшествуемый лакеем, Готфрид прошел вестибюль, убранный цветами, откуда лестница с золочеными перилами и устланная ковром вела в комнаты верхнего этажа; затем длинная анфилада парадных комнат привела его в прелестный маленький зал, смежный со спальней, где тотчас и сложили его вещи.
— Куда ведет эта дверь? — спросил Готфрид лакея, помогавшего ему переодеваться, указывая на полуспущенную портьеру.
— В комнату маленького графа; только теперь господин Танкред запер ее на ключ, так как он очень недоволен вашим приездом.
— Разве он сидит в запертой комнате?
— Маленький граф в саду. Он очень рассердился, когда доложили о вашем приезде; разбил большую китайскую вазу, положил ключ в карман и убежал.
Готфрид, окончив свой туалет, направился в комнаты владельца замка. Старый камердинер ввел молодого человека — доложив о нем предварительно — в кабинет графа. Обои и мебель темно-зеленого цвета придавали этой комнате суровый, мрачный вид.
Возле окна человек лет около пятидесяти сидел в кресле с высокой спинкой, украшенной гербом. Ноги его, обложенные подушками, были укутаны одеялом; лицо, болезненно-бледное, сохраняло отпечаток замечательной красоты; темные глаза, отуманенные грустью, выражали доброту и страдание; волосы на голове, еще густые, начинали седеть.
— Добро пожаловать, месье Веренфельс! Мой старый друг Фридман писал мне о вас так много хорошего, что вы уже овладели моим доверием и моей симпатией, — сказал граф, протягивая Готфриду свою исхудалую руку и устремляя приветливый взгляд на красивую, атлетическую фигуру молодого человека.
— Благодарю вас, граф, постараюсь оправдать ваше доверие, — отвечал Готфрид, садясь в кресло, которое указал ему граф.
— Тяжелую обязанность я взваливаю на ваши плечи, мой юный друг, — продолжал хозяин дома. — Характер Танкреда таков, что я и понять не могу, откуда он мог взять такие манеры. Его грубость и леность невообразимы; у него отвращение ко всякому труду. Никто до сих пор не мог побороть его упрямства, а когда он впадет в бешенство, то не помнит себя. А между тем, когда вы его увидите, то пожалеете, как и я, что это маленькое существо, так богато одаренное, погибает нравственно.
— Я сделаю все, что человечески возможно, чтобы исправить вашего сына. Но уполномочиваете ли вы меня, граф, употреблять меры строгости, если я найду это нужным?
— О, конечно, даю вам на то полное право. Передаю вам, так сказать, мою отеческую власть. Наказывайте строго, секите его, если он того заслужит. Я сам давно должен был начать это делать, но мое болезненное состояние лишило меня всяких сил.
В эту минуту в соседней комнате раздались шаги, и в кабинет ворвался маленький мальчик в синей суконной матроске.
Готфрид с любопытством глядел на него, и ему стали понятны и сожаление графа, и его слабость к сыну. Никогда он не видал такого красивого ребенка. Бледное личико с тонкими и правильными чертами камеи, обрамленное длинными черными локонами с синеватым отливом, казалось идеалом, который мог создать лишь великий художник. Но пурпуровый ротик выражал каприз и упрямство, а большие синие, как васильки, глаза сверкали гордостью и дерзостью.
Увидев нового воспитателя, Танкред остановился и, не удостоив поклоном, смерил его презрительным взглядом.
— Черт его принес! — проворчал он. Затем отвернулся, бросился в кресло, положил ноги на стол и, схватив папироску, зажег ее и стал курить.
— Вот видите! — сказал граф с унынием, и в его голосе и жесте слышалось нервное раздражение.
— Я приступлю к воспитанию моего ученика и заставлю его понять, как он должен вести себя в присутствии отца.
Затем Готфрид спокойно подошел к Танкреду, взял у него папироску, бросил ее в пепельницу и, приподняв мальчика, поставил его на ноги.
— Маленьким детям не полагается курить, и я запрещаю тебе дотрагиваться до папирос, — сказал он строго. — И чтобы я в первый и последний раз видел, что ты позволяешь себе так непристойно держаться перед своим отцом и передо мной. Берегись не слушаться меня, если не хочешь быть строго наказанным.
Танкред на минутку как бы окаменел, а затем, дрожа от злости, кинулся к отцу и, топая ногами, закричал:
— Папа, ни одного дня не смей оставлять здесь этого нахала, который позволяет себе дотрагиваться своими грязными руками до графа Рекенштейна и угрожать ему; прогони его тотчас же. Я этого хочу.
— Танкред, не стыдно ли тебе! Ты совсем не любишь меня, если причиняешь мне такие волнения, — проговорил граф слабым голосом.
Мальчик бросился к нему, охватил его шею и зарыдал.
— Я не хочу никого слушаться, — твердил он сквозь слезы. — У мамы все делали, что я хотел. Учиться мне скучно. Если ты хочешь, чтобы я тебя любил, прогони этого грубияна.
— Будь благоразумен, дитя мое, — отвечал граф, целуя кудрявую голову мальчика. — Месье Веренфельс твой воспитатель; ты должен его уважать и слушаться. Будь вежлив, прилежен, и он будет к тебе добр. Графу Рекенштейну необходимо учиться; блестящий офицер, каким ты хочешь быть со временем, не может оставаться невеждой, не умеющим ни читать, ни писать.
Граф замолчал и, бледнея, откинулся на спинку кресла. Готфрид поспешно подошел и, отводя Танкреда, сказал:
— Видишь, как твое поведение огорчает отца. И как тебе не стыдно так плакать; большой мальчик рыдает оттого, что надо учиться. Какой срам! Пойдем.
Танкред хотел сопротивляться, но встретив спокойный, энергичный взгляд своего нового воспитателя, он опустил голову, дал взять себя за руку и покорно пошел за Готфридом.
Придя в свою комнату, Готфрид с тем спокойствием, которое, по-видимому, действовало внушительно на его воспитанника, приказал тому отпереть замкнутую дверь. После минутного колебания Танкред вынул из кармана ключ и молча, с угрюмым взглядом, подал его лакею. Дверь мгновенно была открыта.
С новым удивлением Готфрид вошел в спальню с голубой атласной обивкой на стенах и на мебели. Широкая кровать, украшенная кружевами, стояла на возвышении, покрытом мехом; а рамка туалетного зеркала из массивного серебра изображала амуров, держащих свечи. Готфрид почувствовал неприятное ощущение, войдя в эту комнату, и спросил лакея, по приказанию ли графа было так убрано помещение его сына.
— Нет, — отвечал лакей. — Это господин Танкред хотел непременно занять комнаты графини, а так как сам барин ни во что не входит, то управляющий приготовил для вас будуар и уборную.
В тот лее вечер за игрой в шахматы с графом Готфрид попросил у него разрешения занять со своим воспитанником другое помещение, более соответствующее нуждам ученика.
— Конечно, — отвечал граф, — выбирайте какие хотите комнаты. Я отдам приказание управляющему устроить их согласно вашим указаниям.
На следующий день, осмотрев замок, Готфрид выбрал четыре комнаты, смежные со средней частью здания времен Возрождения; одна из них выходила на широкую террасу, ведущую в сад.
Танкред был взбешен такой переменой. Он не смел выказывать своего неудовольствия, так как его воспитатель внушал ему невольный страх; но затаенная злоба кипела в нем и при первом случае вырвалась наружу.
Это было на третий день их водворения в новом помещении. Они были в классной комнате, смежной с террасой. Готфрид сидел у окна и читал газету. Танкред, стоя у дверей террасы с книгой в руках, не учился, а барабанил с досадой по стеклу. Вошел лакей и положил на стол большую папку тетрадей.
— Возьми прочь этот хлам, который я видеть не хочу, и убирайся к черту, — крикнул Танкред, взглянув искоса на врагов своего спокойствия. Заметив, что лакей не обращает никакого внимания на его слова, Танкред побагровел, разбил ногой стекло балкона, подбежал к столу, схватил тетради и швырнул их в лицо лакея, осыпая его потоками брани.
Готфрид, молча следивший за этой сценой, встал и без раздражения, но как человек, обладающий непреодолимой властью, взял маленького графа за уши, поставил его на колени и сказал:
— Подними тетради и положи их в порядке; пока это не сделаешь, ты не будешь обедать.
Такое обращение и такая угроза довели до крайнего раздражения озлобленного мальчика. С криком орленка он вскочил на ноги, бросился на лакея, бил его кулаками и ногами, ухватился за его жилет, оторвал от него карман и неистово кричал:
— Негодяй, каналья, я сверну тебе шею, если ты сию минуту не возьмешь его за шиворот и не вышвырнешь прочь. Если же послушаешься меня, я дам тебе десять талеров!
Готфрид, видя, что надо приступить к энергичным мерам, чтобы остановить зло в корне, взял камышовую тросточку, гибкую как хлыстик, и прежде чем маленький граф мог ожидать чего-нибудь подобного, он был схвачен и подвергнут примерному наказанию. Напрасно он вырывался из железной руки, которая его держала: силы и упрямство его были преодолены, что и сказалось потоком слез. В первый раз непокорный ребенок был побежден.
Чтобы дать своему ученику поразмыслить на свободе о суровом уроке, который был дан ему, Готфрид оставил его обедать одного в своей комнате. Но когда, отобедав сам с графом, Веренфельс возвратился к себе, то не нашел уже там Танкреда; он убежал, и его нигде нельзя было найти.
— Должно быть, он побежал к судье, — сказал Петр.
— К какому судье?
— К уездному судье, Линднеру. Он живет в Рекенштейнской деревне, по ту сторону парка. У него много детей одного возраста с маленьким графом, и господин Танкред любит туда ходить.
Готфрид взял шляпу и пальто и, расспросив, какой дорогой идти, отправился отыскивать своего ученика. Погода была великолепная. Маленькая боковая дверь в бронзовой решетке была открыта, и Готфрид вошел в аллею дубов и лип, в конце которой виднелись дома большого села и высокая колокольня церкви. Девочка, сидевшая с вязаньем на пороге первого домика, вежливо указала ему дом судьи, находившийся по ту сторону улицы, несколько в стороне, и окруженный хорошеньким садом и огородом. Широкий балкон, обвитый виноградником, белые занавески и великолепные цветы на всех окнах придавали этому уютному жилищу свежий и изящный вид.
Перед верандой два маленьких мальчика, семи и девяти лет, играли с деревянной лошадкой; пятилетняя девочка нанизывала красные ягоды на длинную нитку.
— Дома ваши родители? — спросил Готфрид, кланяясь дружески детям.
— Отец вышел, — отвечал старший мальчик, снимая с головы свою соломенную шляпу. — Но мама там, в саду, с Танкредом. Он не хотел играть с нами, и мама велела нам уйти.
Молодой человек пошел по указанной аллее и вскоре увидел беседку из жимолости, под сенью которой на скамейке сидела молодая женщина в темном платье и белом переднике. Обняв рукой Танкреда, припавшего кудрявой головой к ее груди, она что-то тихо говорила ему, видимо, стараясь его успокоить.
Заметив приблизившегося посетителя, поклонившегося ей, мадам Линднер протянула ему руку и приветливо спросила:
— Вы пришли, вероятно, за вашим маленьким беглецом?
— Да, сударыня. Но если позволите, я отдохну у вас немного.
Танкред быстро приподнялся и, увидев Готфрида, схватился обеими руками за голову и, топнув ногой, крикнул с комическим отчаянием:
— Даже сюда я не могу убежать, чтобы спастись от тирании. Ах, если бы мама знала, как я несчастлив, как меня мучают, она не отдала бы меня. Я всех ненавижу в замке, и папу, и вас, которого он называет своим другом и которому поручил убивать меня.
— Танкред, можно ли так говорить об отце и своем воспитателе, — перебила его мадам Линднер.
— О моем тюремщике, о моем палаче! — возразил неукротимый мальчик.
— Замолчи. Я не хочу больше слышать ничего подобного. Ступай играть с Конрадом и с Франсуа. Иди, будь умником. Обещаешь ты мне это?
Танкред медленным шагом направился к своим товарищам.
Готфрид сел на скамейку, с которой госпожа Линднер сняла корзинку с детским бельем и со связкой ключей.
— Трудная ваша обязанность, месье Веренфельс! У Танкреда тяжелый характер, — сказала она, — это несчастный, заброшенный ребенок. Для матери он служил всегда игрушкой, предметом ее фантазий, ее прихотей; а голова француженок, приставленных к нему, была вечно занята интригами. Танкред всегда любил приходить сюда; гувернантки пользовались этим; предоставляя его мне, они свободно занимались своими любовными делами.
— Да, положение ребенка печальное, — сказал Готфрид, снимая шляпу и проводя рукой по волосам, — но нелегкое и для графа. Он, по-видимому, обожает своего сына.
— Конечно. Танкред живой портрет графини, которую граф боготворил. Надо сказать правду, она такая красавица, что нет ей подобной; но при этом пустая светская женщина. Граф, должно быть, не раз пожалел свою первую жену, кроткую и любящую.
— У графа не было детей от первого брака?
— От покойной графини Хильды остался сын, граф Арно, которому должно быть теперь двадцать один год; его обширные владения находятся рядом с Рекенштейнскими землями.
— Танкред ничего не говорил мне о своем брате.
— Он никогда его не видел. Все в этой стране знают о семейном несогласии, возникшем вследствие вступления графа во второй брак. Его тесть и теща были тогда еще живы и решительно восстали против этого супружества, но напрасно; свадьба состоялась. Дед и бабушка взяли к себе маленького Арно и воспитывали его в столице. С тех пор он никогда не видел отца; и по смерти графа Арнобургского граф Вилибальд был устранен от опеки, и даже разрыв с графиней Габриэль не привел графа к сближению с сыном.
Приход судьи прервал рассказ Гертруды Линднер. Она пошла в дом, чтобы распорядиться подать кофе. Разговор мужчин перешел на другие предметы.
Готфрид чувствовал себя так хорошо в этой милой семье и внушил судье и его жене такую симпатию, что когда он стал прощаться, чтобы вернуться в замок со своим чертенком, то должен был дать обещание часто навещать своих новых знакомых.
Молодой человек охотно исполнял свое обещание, а несколько времени спустя дом судьи сделался для него еще более привлекательным. Однажды утром, когда пришел с Танкредом, чтобы взять с собой Конрада и Франсуа и пойти вместе в лес за грибами, Готфрид был очень удивлен, увидев на балконе незнакомую молодую девушку, которая помогала мадам Линднер заготовлять консервы. Это была девушка лет семнадцати; ее светло-русые волосы и кроткое, милое личико с голубыми, ясными глазами выражали невинность и доброту.
Жена судьи представила ее, сказав, что это их племянница Жизель, дочь старшего брата ее мужа, и что она приехала помочь ей в хозяйстве. Заметив вскоре, что Жизель была столь же образованна, сколь и красива, Готфрид находил в ее обществе все более и более удовольствия.
Прошло несколько месяцев; положение Готфрида еще улучшилось; его энергия и деятельность расположили к нему вполне сердце графа. После нескольких бурных сцен, нескольких чувствительных наказаний и сажания на хлеб и воду Танкред покорился. Хотя неохотно, но все же он повиновался, и спокойный, строгий взгляд наставника имел над ним такую власть, что он не мог противиться ей.
Подчиненный полезному режиму, разумно занятый классным учением и телесными упражнениями, вставая и ложась в определенные часы, мальчик стал красивее и здоровее; бледность сменилась румянцем; он вырос и заметно развился. Готфриду оставалось бороться только с его леностью и затаенной враждой, которую воспитанник выказывал ему при каждом случае.
Граф был в восторге от заметного улучшения в манерах и в физическом состоянии Танкреда и все более и более привязывался к Готфриду, который действительно стал его правой рукой, его надежным помощником в делах, его доверенным лицом в полном смысле этого слова.
Готфрид имел основательные сведения о всем, что касалось эксплуатации имения. Он вскоре заметил серьезные беспорядки в управлении лесом и в операциях паровой мельницы, недавно устроенной. Он счел своей обязанностью сообщить это графу и добросовестно помог ему вникнуть в эти злоупотребления и восстановить порядок.
Преисполненный благодарности, граф посвятил молодого человека еще более в свои дела, наполовину увеличил его жалованье и объявил ему, что, как только сын его поступит в военное училище, он сделает Готфрида главным управляющим. Веренфельс чувствовал себя спокойным, счастливым и стал мечтать о будущем. Он заметил, что Жизель чувствовала к нему нечто более, чем простое расположение; и сам он привязался к этой милой молодой девушке. Готфрид говорил себе, что, сделавшись главным управляющим, он будет в состоянии вновь обзавестись хозяйством. Жизель, простая, деятельная и хорошая хозяйка, может быть именно такой женой, какая ему нужна, преданной дочерью его старой матери, а для его маленькой Лилии — матерью и наставницей. Но несчастье научило его быть осторожным, и он не позволил себе пробудить в сердце Жизели надежд, которые вследствие каких-нибудь обстоятельств могли не сбыться. Он решил не приступать к решительному объяснению, пока его судьба не будет окончательно обеспечена.
Веренфельс вошел однажды утром в кабинет графа, чтобы дать ему подписать некоторые деловые письма; он нашел его сидящим у окна с письмом в руках и всецело поглощенным своими мыслями.
Готфрид положил бумаги на стол и хотел молча уйти, но граф поднял голову и позвал его.
— Я получил сейчас известие, которое радует и удивляет меня, а вместе с тем оно вызвало во мне так много воспоминаний.
Граф медленно сложил большой лист, украшенный гербом.
— Мой сын Арно, — продолжал он, — пишет мне самым миролюбивым образом, сообщает, что скоро приедет ко мне, и просит забыть все, что так напрасно разделяло нас.
— Верьте, граф, я искренне счастлив, что сгладилось недоразумение, которое должно было так тяготить ваше отцовское сердце.
Голос и взгляд молодого человека выражали самое сердечное участие.
— Благодарю вас, Веренфельс. Садитесь и побеседуем немного. Я не люблю говорить об этом печальном прошлом; но питая к вам особое уважение и дружбу, расскажу в коротких словах все, что произошло. Чтобы вы лучше меня поняли, я должен обратиться к тому времени нашей фамильной истории, когда в XIV веке род наш разделился на две ветви. Старшая ветвь, вследствие брака своего представителя с богатой наследницей из одного высокого рода, стала именоваться Рекенштейн Арнобург, а младшая, которой принадлежит замок, где мы находимся, приняла название Рекенштейн — Рекенштейн. С течением веков многочисленные разногласия разделили эти две ветви, и старшая окончательно усвоила себе фамилию Арнобург. Но в наше время от древнего рода оставалось два представителя — я и Хильда, единственная дочь графа Арнобург. Было решено соединить нас браком и при этом постановлено, чтобы наш старший сын назывался графом Рекенштейном, а второй носил бы и увековечил фамилию своей матери, унаследовав замок и большую часть владений, принадлежащих к нему.
Брак мой с Хильдой, хотя и вызванный семейными соображениями, был самый счастливый, и лишиться жены после десятилетнего супружества было большим для меня несчастьем. Она оставила мне единственного сына — Арно.
Здесь я должен сказать, что во время моего пребывания в столице, где я служил в кирасирах, я подружился с молодым офицером, графом Девеляром, человеком весьма симпатичным, но легко увлекающимся. Несчастная страсть испортила ему карьеру. Он влюбился в молодую актрису, прекрасную, как ангел, и женился на ней. Эта выходка лишила его службы и большого майората, который перешел к его двоюродному брату. Он вышел в отставку, и я потерял его из виду.
Через два года после смерти моей жены я неожиданно получил письмо от Девеляра, в котором он мне писал, что, будучи несчастлив в супружестве, он жил в провинции, обходясь кое-как малым остатком своего состояния. Чувствуя приближение смерти, он умолял меня взять на себя опеку над его единственным ребенком, пятнадцатилетней девочкой, находящейся в пансионе. Я поспешил к нему, поклялся заботиться о его дочери и закрыл ему глаза. Затем я поехал навестить мою воспитанницу. Это свидание решило мою судьбу. Габриэль была красива, как ее мать; я полюбил ее и решился жениться на ней.
Это намерение вызвало сильное неудовольствие в моей семье. Мне не могли простить, что я позабыл Хильду и даю мачеху своему сыну. Случайная встреча внушила моей теще сильную ненависть к Габриэли. У меня почти силой отняли Арно. Рождение Танкреда подняло настоящий ураган. Мысль, что сын ненавистной женщины будет носить имя Арнобурга, страшно раздражила мою тещу. Арно воспитывался в Берлине, во враждебном мне духе, назывался Арнобургом, был сделан моряком, чтобы быть дальше от меня, и после смерти деда и бабушки жил в Швеции у тетки. Теперь ему исполнился двадцать один год, и он должен приехать, чтобы вступить во владение своими землями. Я не рассчитывал увидеть его, так как он никогда не делал ни одного шага к сближению. Его неожиданное письмо доставило мне большую радость. Я жажду обнять его и надеюсь, что он будет другом Танкреду, когда меня не станет.
Позвоните пожалуйста, мой друг, чтобы мне позвали управляющего. Надо приготовить комнаты для блудного сына, который, впрочем, богаче меня. Танкред будет беден в сравнении с братом.
II. Арно и его мачеха
Две недели спустя граф получил телеграмму, которая сильно его взволновала.
— Арно извещает меня, — сказал он Готфриду, — что завтра, в девять часов утра, он будет на станции. Я прошу вас, мой милый Веренфельс, поехать с Танкредом встретить его. Я положительно не могу свидеться с моим сыном в толпе посторонних людей. Но он будет рад увидеть своего маленького брата и вас, о котором я не раз писал ему.
Танкред, сияющий от удовольствия, что едет встречать незнакомого ему брата, поднялся чуть свет и успокоился лишь тогда, когда сел в карету. Не менее нетерпелив и еще более счастлив был Антуан, старый охотник графа, служащий тридцать лет в Рекенштейне.
Когда поезд остановился, Готфрид, взяв за руку своего воспитанника, пошел с ним вдоль вагонов, стараясь угадать в массе пассажиров того, кого они ожидали. Вдруг он увидел, что Антуан, опередивший его, со слезами радости целует руку высокого молодого человека, выходящего из купе первого класса. Но и без этого указания Веренфельс узнал бы Арно по сильному сходству с отцом. Совершенно таким был изображен граф Вилибальд на большом портрете в год его совершеннолетия. Тот же высокий, гибкий стан, те же темные глаза, добрые и кроткие, те же каштановые волосы, то же аристократическое изящество во всей фигуре.
Поздоровавшись дружески со старым слугой, он увидел Танкреда, который бежал к нему с распростертыми объятиями. Молодой граф внезапно побледнел и провел рукой по лбу; затем, быстро преодолев себя, наклонился к ребенку и несколько раз нежно поцеловал его. Не выпуская руки своего маленького брата, Арно подошел к Готфриду и поздоровался с ним с самой дружеской приветливостью.
— Мой отец, — сказал он, — писал мне, как много мы вам обязаны, месье Веренфельс, и я питаю к вам живейшую симпатию. Надеюсь, что мы будем весело проводить время в Рекенштейне. Я столько лет был в разлуке с отцом, что теперь должен усердно и возможно дольше ухаживать за ним.
Сперва Танкред овладел вполне своим братом: не переставал болтать и задавать ему вопросы. Тот не успевал отвечать и всматривался в него как-то особенно вдумчиво и нежно. Но, утомленный дорогой и впечатлениями, Танкред прислонился к подушкам кареты и, со свойственной детям способностью везде приловчиться, уснул глубоким сном.
Готфрид прикрыл его пледом, и когда он снова сел на свое место, Арно сказал ему:
— Мой отец писал мне, сколько терпения и труда стоило вам дисциплинировать Танкреда. Я положительно не могу понять, от кого у него такой тяжелый характер.
— Это умный и богато одаренный ребенок, но ленивый, дерзкий и чрезвычайно капризный; мать избаловала его.
— Мать избаловала, — повторил Арно с удивлением и сильно краснея. — Поверьте, месье Веренфельс, что это неправда. Быть может, она была слаба к нему, как женщина слишком молодая для того, чтобы быть разумной матерью. По моему мнению, отцу не следовало соглашаться на разлуку с женой и с сыном. Но я должен вам сказать, что чем больше я гляжу на Танкреда, тем более поражаюсь его удивительным сходством с матерью. Это одно лицо.
— Разве вы знаете графиню? — спросил с удивлением Готфрид. — Я полагал, что вы никогда ее не видели.
— Я неожиданно встретился с ней в Париже, где провел три последних месяца. Мы обоюдно были поражены, узнав, что мы такие близкие родственники; и увидев мою мачеху, я понял, почему отец полюбил ее.
Несколько непринужденная улыбка скользнула по губам Арно, и мимолетный румянец промелькнул на его свежем лице.
— Лишь моя детская неопытность могла заставить меня недружелюбно отнестись к вполне законному поступку. Ах, я многое должен загладить перед отцом. Но скажите, месье Веренфельс, действительно ли здоровье его так плохо, как он мне писал?
— Граф чувствует себя дурно, и апатия, овладевшая им, старит его преждевременно.
— Все изменится. Отец будет снова счастлив. А… вот и Рекенштейн! — вскрикнул Арно. Глаза его блестели, и, опустив стекло, он с жадностью всматривался во все окружающее.
Свидание отца с сыном сильно взволновало обоих. Долго они сжимали друг друга в объятиях, и граф не мог насмотреться на молодого человека, так живо напоминавшего ему его собственную молодость, а также и добрую, любящую женщину, с которой он был так счастлив.
Арно поразила перемена, происшедшая в графе, и его болезненный вид. Со слезами на глазах он взял его руку и прижал к своим губам.
— Прости мне, отец, горе, которое я тебе причинил в моем неведении жизни. Теперь ты будешь иметь во мне вдвойне преданного тебе сына.
Молодой человек сдержал слово. С настойчивостью и любовью он вырвал отца из апатии, изводившей его, приучил к продолжительным прогулкам пешком и верхом, возил его к соседям, приглашал их к нему; словом, так хорошо вел дело, что после двух месяцев насильственного режима граф Вилибальд сделался неузнаваем. Сгорбленный стан выпрямился, болезненная бледность сменилась свежестью лица, и его темные глаза приобрели прежний блеск. Граф сам не узнавал себя и называл Арно чародеем.
Была половина мая. Арно находился в отсутствии по случаю вступления во владение наследством. Вернувшись верхом из Арнобурга, он прошел к отцу. Граф Вилибальд, возвратясь с прогулки, курил у себя в комнате, читая журнал. Сообщив все подробности своей поездки, молодой граф вдруг прервал разговор и сказал с волнением:
— Папа, мне надо передать тебе письмо, ответ на которое ожидается с мучительным нетерпением.
— О каком письме ты говоришь? Это возбуждает мое любопытство.
Слегка дрожащей рукой Арно вынул из кармана портфель, достал из него надушенный конверт, запечатанный гербовой печатью, и подал его отцу.
Граф мгновенно побледнел, и его протянутая рука опустилась.
— Что это значит? Откуда у тебя письмо Габриэли? Я узнаю ее почерк, — проговорил он, тяжело дыша.
— Она сама дала мне его для передачи тебе.
— Так ты видел ее? Но где же?
— Эту зиму в Париже, — отвечал Арно с некоторым замешательством. — Мы неожиданно встретились. Но потом я с ней говорил и увидел, что ее раскаяние так глубоко, ее любовь к тебе так искренна, что я счел своей обязанностью взять это письмо.
— Ее любовь ко мне! — повторил граф с едкой иронией. — Какую ложь рассказала тебе эта вероломная женщина, изменившая мне и покинувшая меня.
Лицо молодого графа вспыхнуло, и слегка дрожащим голосом он возразил:
— Не слишком ли ты строг, отец, клеймя таким суровым словом неосторожность неопытной молодой женщины? Габриэль, действительно, оскорбила тебя своим легкомысленным кокетством, но я не считаю ее способной на бесчестный поступок. И мне кажется, что во всяком случае тебе бы следовало прочитать ее письмо.
Он настойчиво положил конверт в руку отца, а сам из скромности отошел к окну. Граф колебался еще с минуту, его нервно-дрожащие руки как бы отказывались открыть письмо. Воспоминание всего, что эта женщина заставила его выстрадать и что разлучило их, жгло его. Наконец, с внезапной решимостью он сломал печать.
— Арно! — крикнул он минуту спустя.
Молодой граф, стоявший прислоняясь к стеклу и погруженный в свои думы, поспешно подошел, стараясь угадать на взволнованном лице отца его решение.
— Возьми и прочитай; потом дай мне совет, ты зрелый человек теперь, — сказал граф, подавая ему письмо, которое Арно взял с некоторым смущением.
Волнуемый противоречивыми чувствами, он погрузился в чтение послания Габриэли к оскорбленному супругу. Оно было очень хорошо написано, исполнено любви, смирения и раскаяния:
«Прости мне горе, которое я причинила тебе своей преступной ветреностью, — писала графиня между прочим. — Позволь мне вернуться, чтобы ухаживать за тобой и загладить мои заблуждения. Не будь жесток, Вилибальд; ведь ты же любил меня. Ужели это чувство умерло в тебе и ты останешься глух к моей мольбе? Если бы ты знал, какой одинокой я чувствую себя! Как я жажду соединиться с тобой и с моими детьми, моими сыновьями, так как Арно овладел моим сердцем благодаря своей доброте и своему великодушию. Он вполне сын твой по сердцу. Когда я его увидела, то поняла, что тебе, единственной и первой любви моей непорочной молодости, принадлежит мое сердце, несмотря на ошибки и увлечения, омрачившие это чувство». В заключение она говорила, с каким нетерпением и с каким мучительным беспокойством ожидает решения своей судьбы: помилования или приговора.
С пылающей головой и тяжело дыша, Арно положил письмо на стол. Множество бурных чувств толпилось в его мозгу. Так это он пробудил в сердце Габриэли уснувшую любовь. Она любила еще его отца, она желала возвратиться в его объятия, заслужить его любовь. Неопределенная грусть сжала сердце молодого человека при воспоминании об очаровательной женщине, которую граф безумно любил и ревновал. О, теперь он понимал это чувство. Но его душевное волнение было непродолжительно. Честная, великодушная натура Арно подсказала ему, что сделать: его долг водворить мир в семье. Счастье отца и Габриэли должно быть его счастьем.
— Я думаю, отец, что прощать есть долг христианина, — сказал он, просительно глядя, — и что эта молодая женщина слишком долго оставалась одинокой, предоставленной искушениям и опасностям. Место Габриэли под кровом ее мужа, близ ее ребенка. Не отталкивай ее!
Со слезами на глазах граф привлек Арно к себе на грудь и долго не выпускал его из своих объятий.
— Ты гений мира, как твоя кроткая, святая мать, — сказал он. — Габриэль вверила свою защиту в хорошие руки. О, дай Бог, чтобы ее раскаяние было искренно и ее возвращение принесло бы нам счастье, как ты надеешься. Я напишу ей, что если она желает, то может возвратиться. Теперь же, когда этот вопрос решен, расскажи мне, дитя мое, где и как вы с ней встретились?
— Я приехал в Париж в начале января. У меня было письмо от тетушки к ее внуку Магнусу, очень милому молодому человеку, состоящему при шведском посольстве. Он знакомил меня со знаменитой столицей. Я просил представить меня в семейные дома. Магнус сказал мне, что скоро в одном салоне высшего финансового мира будет большой костюмированный бал, где соберется избранное общество; он обещал устроить мне приглашение, чтобы доставить возможность сделать выбор семейств, с которыми я пожелаю познакомиться. Мы приехали на тот вечер оба костюмированные. Сначала я был поглощен феерической роскошью убранства, богатством и вкусом костюмов; но когда это первое любопытство было удовлетворено, мне захотелось познакомиться с кем-нибудь. Я заметил в толпе белое домино, которое тотчас овладело всем моим вниманием. Надо тебе сказать, что я чрезвычайно люблю красивые руки; рука домино небрежно играла веером, и белая перчатка этой маленькой, как бы детской ручки обрисовывала такую изящную форму, что я не мог отвести от нее глаз. Под атласным полузакрытым плащом виднелся костюм королевы Марго, тоже белый и весьма богатый. Я не отставал от незнакомки; она прошла в зимний сад, где в ту минуту никого не было, кроме черного домино, газа и уединение которого выражало полнейшую скуку. Тетя Люси, — сказала она, садясь возле этой печальной фигуры, — можно ли скучать на таком прелестном вечере. Я пришла сюда освежиться, ускользнула от толстого барона и сниму маску». Она сняла ее и отерла платком разгоревшееся лицо. Скрытый деревьями, я глядел на нее и думал, что вижу восемнадцатилетнюю девушку пленительной красоты. И когда она вернулась в большой зал, я подошел к ней, напевая: «Plus blanche que la blanche hermine…» — «Ты ошибаешься, красавец Рауль; я только наружно бела», — ответила незнакомка. «Кажется, ты хочешь запугать меня, — сказал я на это, — уверить меня, что сердце твое черно, как твои черные локоны». Она рассмеялась: «Ты, может быть, прав, и я начинаю думать, что ты меня знаешь». Я подал ей руку, и мы, весело разговаривая, смешались с толпой. Наконец она попросила меня отвести ее в зимний сад, к ее старой родственнице; сказала, что умирает от жары, сняла маску и предложила мне последовать ее примеру. Чтобы положить конец нашему обоюдному инкогнито, я поспешно повиновался; но едва она услышала мою фамилию и взглянула мне в лицо, как вскрикнула и опустилась на подушки, бледная как смерть. «Что с вами? — спросил я с испугом. — Я не могу предположить, чтобы мое имя или мое лицо могли причинить вам столько страдания». Она приподнялась и, со странным выражением устремив на меня свой взгляд, проговорила: «Я не была приготовлена найти в вас… моего сына; я Габриэль, графиня Рекенштейн».
Эти слова поразили меня как громом. В голове моей, как ураган, бушевала мысль, что эта женщина, имеющая вид восемнадцатилетней девочки, была моя мачеха, которая стоила мне дуэли и оскорбила честь нашего имени. Вероятно, эти мысли отразились на моем лице, так как она сказала с горечью: «Вы меня ненавидите и осуждаете по внешним данным, как сделал ваш дед. Вы не можете простить вашему отцу, что он дал мне свое имя». — «Мне достаточно было вас увидеть, чтобы понять чувства моего отца и извинить их!» — промолвил я.
Она протянула мне руку и сказала со слезами на глазах: «Если ваши слова искренни, то навестите меня, Арно; мне нужно поговорить с вами».
Немного остается прибавить к сказанному. Я был у нее и убедился, что ее раскаяние в прошлом искренно, что она любит тебя и жаждет твоего прощения. Я обещал ей примирить ее с тобой и всеми силами стараться снова соединить вас.
— Рука Провидения устроила эту странную случайность, — сказал Вилибальд, сжимая руку сына.
С этого дня все зашевелилось в замке. Граф, видимо, стал находить интерес в жизни, и, судя по приготовлениям, которые производились в комнатах графини, заметно было, что любовь к красавице жене глубоко таилась в сердце мужа. Он написал ей письмо и получил ответ, преисполненный радости и благодарности. Габриэль извещала, что тотчас приведет в порядок свои дела в Париже и недели через три прибудет в Рекенштейн.
Один Готфрид, услышав о возвращении графини, ощутил неудовольствие и досаду, похожие на отвращение. Не умея объяснить себе такую странность, он решил избегать этой женщины насколько возможно. Ему казалось, что прибытие ее предвещало ему нечто дурное. Вскоре он заметил, что, несмотря на беззаботный вид и наружную веселость, Арно находился в каком-то лихорадочном раздражении, в какой-то тревоге, которая не давала ему покоя. Готфрид искренне привязался к симпатичному молодому человеку, и мучительное опасение теснило его грудь. «Что, если Габриэль настолько суетна, — думал он, — что станет играть чувствами пасынка неведомо для него самого. Какое печальное и трагическое усложнение готовится тогда в будущем!»
Танкред, напротив, утопал в блаженстве. Он был уверен, что приезд матери положит конец насильственным занятиям и всяким наказаниям. Зная ее слепое к нему поклонение, мальчик не сомневался, что она отстранит от него все, что ему неприятно.
Канун дня, назначенного для приезда графини, прошел в лихорадочной деятельности. В ее комнатах производились окончательные приготовления. Экзотические растения преобразили ее террасу в душистую рощу, и граф с помощью Арно украсил туалетный стол и будуар множеством дорогих безделушек.
Было начало июня; погода стояла прекрасная, душно-жаркая. Но к вечеру небо заволокло тучами, и разразилась сильная гроза.
— Как это некстати, — сказал граф, глядя, как деревья гнулись от ветра и ливень наводнял аллеи. — Этот непрошенный дождь повредил цветы, и Габриэль увидит их совсем погибшими. Надеюсь, что это не дурное предзнаменование, — прибавил он, и лицо его мгновенно омрачилось.
Уложив спать Танкреда, Веренфельс ушел к себе в комнату и сел у окна. Небо было беззвездно и черно, дождь не переставал лить, и гром все еще гремел в отдалении. Какое-то беспокойство, какая-то неопределенная тоска охватили его душу. Ему казалось, что настал конец его спокойной жизни и скромным надеждам, которые подал ему Рекенштейн; что с завтрашнего дня начнется нечто новое и тяжелое — томительная борьба между слабой, капризной матерью и его строгостью, которую он считал своим долгом.
Печальный и расстроенный, он лег в постель, но страшный сон преследовал его всю ночь. Ему казалось, что какая-то посторонняя сила, против его воли, с ошеломляющей быстротой влекла его к сероватому облаку; но по мере его приближения это облако обращалось в готический замок с почерневшими стенами, окруженный зубчатыми башнями и башенками с резными балконами. Окна — одни с остроконечными сводами, другие с широкими рамами — перемешивались на стене фасада. Главный подъезд, мрачного вида и украшенный гербом, вел во внутрь крепости. К своему удивлению, Готфрид узнал в этом призрачном здании замок Арнобург.
Вдруг черная туча вырвалась, кружась, из одной башни и охватила его удушливым дымом. Стараясь выбиться из него, он увидел женщину, которая, протянув руки, загораживала ему путь. Она носилась перед ним в длинной белой одежде, ее черные, распущенные волосы, как покрывало, окружали ее. У нее было лицо Танкреда, и ее глаза, синие, как васильки, но сверкающие и резкие, как клинок стали, казалось, пронизывали его.
Готфрид хотел отступить, но соблазнительное и страшное существо настигло его, прильнуло к нему и, как змея обвивая его шею, сжимало ее, подобно железным тискам. Напрасно он вырывался со стесненным сердцем, трепеща от любви и ненависти. Призрак увлекал его и топтал кого-то ногами, причем раздавались мучительные стоны. Веренфельс в ужасе повернул голову и заметил распростертых на земле графа и Жизель, лишенных чувств, с печатью смерти на лице. Несколько далее Арно, с взволнованным видом и раной в груди, исчезал в пространстве. Обезумев, выйдя из себя, Готфрид отчаянным усилием вырвался из этих объятий, гибких, но цепких, как объятия гада.
«Оставь меня, я не хочу тебя!» — кричал он в сильном раздражении. На минуту видение опустилось перед ним на колени как бы с мольбой; но когда он оттолкнул обольстительницу, она встала с угрожающим видом; сверкнув глазами и прошипев что-то сквозь зубы, подняла руку и ударила его в лицо с такой силой, что он потерял равновесие и скатился в пропасть. Разбитый и истерзанный, он встал наконец и увидел, что находится в комнатке с железной решеткой; запертая дверь не поддавалась его усилиям. Он был в тюрьме; и едва осознал это, как раздался насмешливый хохот и сильный удар потряс стены. Дрожа, покрытый холодным потом, Готфрид приподнялся на постели и прошептал: «Слава Богу, что это сон». Он объяснил свой кошмар влиянием грозы. Действительно, погода бушевала с новой, необычайной силой, молнии освещали комнату мрачным светом, раскаты грома повторялись непрерывно, сотрясая стены, и дождь, смешанный с градом, ударял в стекла. «Вот что, действительно, похоже на зловещее предзнаменование», — сказал себе молодой человек.
К утру погода прояснилась, и радостные лучи солнца беззаботно осветили пространство.
Когда все собрались к завтраку, граф был бледен и жаловался на нервную головную боль. Гроза мешала ему спать, а когда он задремал на минуту, молния ударила в старый дуб под его окном. Он проснулся со страшной мигренью.
— У меня к вам просьба, Веренфельс, — сказал он, когда встали из-за стола. — Уже многие являлись с рапортом о повреждениях, причиненных ураганом в лесах и на паровой мельнице. Мне трудно поехать осмотреть все это сегодня; съездите вместо меня и сделайте необходимые, на первый случай, распоряжения.
Молодой человек согласился с тайной радостью. Он был счастлив, что не увидит прибытия Габриэли, решил употребить на осмотр весь день, ужинать у судьи и возвратиться лишь ночью. Во всяком случае его присутствие было излишним на семейном торжестве.
Когда он ушел, граф обратился к сыну:
— Арно, ты поедешь с Танкредом встретить Габриэль. Я не могу с моей мигренью провести три часа в карете. К тому же надо велеть исправить бьющие в глаза последствия грозы, которые могут произвести неприятное впечатление на нашу приезжую.
После отъезда двух братьев, граф пошел в помещение Габриэли и сам наблюдал за сменой сломанных растений на террасе; велел срубить несколько деревьев, наполовину вырванных из земли, которые были видны с балкона. Затем, приказав вовремя доложить ему о приезде графини, пошел к себе в кабинет, чтобы переодеться.
Давно граф так внимательно не занимался своим туалетом; окончив его, он отослал камердинера и остановился в задумчивости перед большим зеркалом своей уборной. Пытливым взглядом, как будто видел перед собой постороннего, он всматривался в свое отображение. Мог ли он еще нравиться обольстительной, капризной женщине, которая говорила, что наружность Арно пробудила в ее сердце любовь к мужу? Если это чувство и было искренно, примирится ли она с переменой, происшедшей в течение разлуки?
Братьям недолго пришлось ждать на станции. Нетерпение Танкреда было так сильно, что он не мог оставаться спокойным, и едва поезд остановился, как он кинулся к одному из вагонов с криком: «Мама, мама, наконец ты приехала». Он раньше Арно увидел мать.
Когда Арно подошел к своему маленькому брату, дверь купе отворилась и из него выпрыгнула молодая женщина, щегольски одетая. Страстным движением она привлекла Танкреда в свои объятия и покрыла его поцелуями; затем протянула руку Арно и сказала с чувством:
— Как я рада видеть вас обоих, но… Вилибальд не приехал? — спросила она, бросая кругом беспокойный взгляд.
— У отца была сегодня утром сильная мигрень; затем гроза, разразившаяся нынешней ночью, причинила много вреда, и отец хотел сам присмотреть, чтобы все было исправлено к вашему приезду, — отвечал Арно, целуя ее руку.
— Это несерьезное нездоровье? — спросила Габриэль, опираясь на руку пасынка и направляясь к экипажу.
— Нет, нет, отец счастлив вашим возвращением, дорогая Габриэль, и ваша любовь укрепит окончательно его здоровье; мы все будем счастливы, а во мне вы найдете самого любящего и самого покорного сына, — заключил он.
Габриэль поблагодарила его лишь взглядом.
Как только немного отъехали, графиня сняла шляпу Танкреда, провела рукой по его блестящим кудрям и сказала, целуя его:
— Дай поглядеть на тебя, мой кумир, мой рыцарь Танкред. Право, ты вырос и похорошел на диво; но учишься ли ты чему-нибудь?
— Ах, если б ты знала все, что я хочу тебе рассказать, мама, и как я несчастлив, волосы встали бы дыбом у тебя на голове, — воскликнул мальчик.
— Несчастлив! — повторила, смеясь, Габриэль. — Ты, должно быть, не хочешь заниматься, маленький лентяй. Я помню, как ты три месяца учил басню «Ворона и лисица».
— Теперь дело серьезней басни с приездом моего негодного учителя.
— Перестань, Танкред! — перебил его Арно, который сам хотел разговаривать со своей мачехой. — Не успела мама приехать, как ты надоедаешь ей. После будешь иметь время высказать свои жалобы.
И он стал рассказывать ей о своих планах на лето, о сельских праздниках, которыми намеревался развлекать ее, и об ожидаемом приезде двух его друзей, приглашенных им, чтобы увеличить общество.
Габриэль весело с ним разговаривала; но когда экипаж приблизился к главному подъезду, она замолчала и вперила взор в высокую фигуру графа, вышедшего на крыльцо. Едва карета остановилась и прежде, чем Арно или лакей успели помочь ей выйти, она выпрыгнула на подножку и, как птичка, вспорхнула на лестницу. Быстро схватила она приветливо протянутую ей руку мужа и прижала ее к губам, несмотря на присутствие всего служительского персонала.
— Прости меня, Вилибальд, прости не только на словах, но и сердцем, — прошептала она со слезами на глазах.
Граф вздрогнул и хотел отдернуть руку, но взволнованный, побежденный умоляющим выражением прелестного личика, он привлек Габриэль в свои объятия и поцеловал ее в лоб; затем подал ей руку и повел в ее комнаты. Как только они остались одни, молодая женщина, бросив в стороны перчатки и шляпу, привлекла мужа на диван и, припав головой к его плечу, разразилась рыданиями. Было ли то искреннее раскаяние, или напряжение нервов — трудно сказать, но этот поток слез испугал графа; ласково и нежно он старался успокоить ее, уверяя, что прошлое сглажено и позабыто.
Мало-помалу графиня успокоилась, и, когда муж ушел, уговорив ее отдохнуть до обеда, она отерла последние слезы и с любопытством стала осматривать все сделанные для нее приготовления и сюрпризы. Кончив осмотр, которым осталась вполне довольна, она свернулась клубком на диване и, полузакрыв глаза, с торжествующей улыбкой на устах предалась мечтам.
Габриэль не была грубой кокеткой, которая легко увлекается и не дорожит своей честью. От такого унижения ее ограждали гордость и эгоизм. Но крайне пылкая и страстная, она порывисто и всецело отдавалась своим ощущениям; как любовь, так и ненависть, возбужденная в ее сердце, не умирали никогда. Обстоятельства еще более развили в ней некоторые врожденные недостатки. Выйдя замуж в неполные шестнадцать лет за человека на двадцать три года старше ее, который боготворил ее и предупреждал все ее капризы, окружал ее роскошью и почетом, она избаловалась, привыкла швырять деньги, покорять сердца и не выносила никакого соперничества. Ее дивная красота сделалась ее кумиром; в поклонении самой себе она видела цель своей жизни. Поражать женщин своими туалетами, мужчин своими чарами было единственной ее заботой. Каждый мужчина, который к ней приближался, должен был делаться ее рабом; искусным кокетством она его привлекала, очаровывала; но едва победа была одержана, интерес пропадал, и взгляд ненасытной сирены искал новой жертвы. Эта опасная игра была началом несогласий графа с женой; напрасно он увещевал и запрещал, ревновал и наблюдал, — страсть покорять мужчин, заставлять их трепетать от ее взгляда сделалась потребностью Габриэли. Новая неосторожность подобного рода с молодым офицером вызвала дуэль и затем разрыв между супругами.
III. Цирцея
Готфрид весь день производил осмотр. Усталый, он приехал к семи часам вечера в дом судьи. Принятый, как всегда, с распростертыми объятиями и окруженный дружеским вниманием Жизели, молодой человек чувствовал себя так хорошо, что вечер пролетел с быстротой молнии. Был двенадцатый час, когда они расстались.
Медленным шагом и тихо напевая, Готфрид направился к замку. Ночь была великолепная: теплая, спокойная; полная луна заливала серебристым светом тенистые аллеи парка. Торжественная тишина природы действовала благотворно на душу молодого человека. Он думал о Жизели, теряясь в мечтах о будущем. Представлял себе эту милую, скромную девочку хозяйкой своего дома, ухаживающей за его матерью, за его маленькой Лилией и вполне счастливую с ним в скромной обстановке. Готфрид приближался к большому пруду, мимо которого ему нужно было проходить, и хотел отдохнуть на своем любимом месте у воды, на скамье под вековым дубом. Как вдруг внимание его было привлечено глухим рычанием. Он остановился. Послышался треск ветвей под чьими-то шагами и снова чье-то рычание.
— Это, должно быть, Али-Баба; верно, этот негодный Танкред опять выпустил его, чтобы пугать служанок скотного двора, — прошептал с неудовольствием Готфрид.
Али-Баба был медвежонок, которого граф купил в прошлом году, уступая просьбам сына. Он жил в конце парка, в шалаше, окруженном забором, и хотя не был опасен, но его все-таки держали на цепи. Два раза Танкред спускал его, забавляясь криками служанок и шумом, который поднимали птицы и дворовые звери.
Собираясь отвести медвежонка в его шалаш, молодой человек ускорил шаг и вышел на прогалину, окружающую пруд. Медведь опередил его и, освещенный луной, направлялся рысцой к скамье, скрытой в тени, где Готфрид намеревался отдохнуть.
В эту минуту раздался крик и женщина в белом показалась между деревьев; обезумев от страха, она кидалась во все стороны, преследуемая медведем, которого забавляла эта импровизированная охота. Увидев, что незнакомка направляется, как стрела, к пруду, куда неизбежно должна была упасть, Веренфельс кинулся за ней, чтобы ее удержать; но ноги ее, вероятно, запутались в платье, она вдруг пошатнулась и упала на траву в двух шагах от воды.
— Куш! Али-Баба! — крикнул Готфрид, подняв трость. Медвежонок, увидев его, направился к нему, радостно рыча, послушно лег и стал лизать свои лапы. Молодой человек наклонился к даме, которая, казалось, была в обмороке. «Это, должно быть, графиня», — говорил он себе, поднимая молодую женщину и всматриваясь с любопытством и восхищением в ее прелестное лицо. В ту же минуту она открыла глаза и с испугом взглянула на него.
— Графиня, позвольте мне довести вас до скамьи и позвать вашу камеристку, — сказал почтительно Готфрид.
Но в этот момент взгляд ее упал на медведя и, ухватясь за руку молодого человека, она вскрикнула в нервном волнении:
— Нет-нет, не уходите! Я боюсь! Ужели вы оставите меня одну с этим хищным зверем! С каких пор Вилибальд придумал такое нововведение, чтобы медведи гуляли у него по парку?
— Медвежонок не опасен, графиня; не бойтесь и позвольте предложить вам руку.
Графиня согласилась, однако при первом шаге пошатнулась, вскрикнула и чуть не упала, но Готфрид поддержал ее.
— Я, кажется, вывихнула ногу и не могу идти, — проговорила она ослабевшим голосом. — Как быть теперь?
— В таком случае прикажите мне, графиня, отнести вас домой; тут несколько минут ходьбы. Габриэль смерила его быстрым взглядом.
— Я согласна, если это не очень утомит вас. Но скажите, кому я обязана такой услугой?
— Я Готфрид Веренфельс, воспитатель маленького графа Танкреда, — отвечал молодой человек, поднимая ее, как ребенка, своими сильными руками.
Странные чувства волновали Готфрида, пока он быстро направлялся к замку со своей легкой ношей. Нервная дрожь, вызванная испугом, все еще пробегала по телу графини; и эта дрожь как бы сообщалась сердцу молодого человека, пробуждая в нем попеременно то восхищение, то враждебную ненависть, которую он ощущал, прежде чем увидел ее; и беленькая ручка, блестевшая бриллиантами, покоясь на его плече, казалась ему тяжелой, как свинец.
Он почувствовал душевное облегчение, когда положил, наконец, графиню на один из диванов в ее будуаре.
Эта прелестная комната, освещенная лампами с розовыми стеклами, казалась созданной для Габриэли. Освещенная этим магическим светом, молодая женщина казалась Готфриду неотразимой красавицей; он говорил себе, что никогда в жизни не видал таких идеальных черт, такого нежного цвета лица и таких блестящих ясных глаз с длинными изогнутыми ресницами.
Габриэль со своей стороны только теперь увидела ясно лицо своего импровизированного кавалера. С минуту ее глаза глядели на него со странным выражением, но одумавшись тотчас, она протянула ему руку и выразила живейшую благодарность.
— Я сейчас сообщу о случившемся графу, — сказал Готфрид, почтительно целуя пальцы молодой женщины.
— Нет, нет. Вилибальд весь вечер страдал сильной мигренью; ему необходим отдых. Не беспокойте его.
— Графу Арно, в таком случае.
— И ему не надо. При своей пылкости он всполошил бы весь замок. Я не хочу, чтобы раньше утра посылали за доктором, так как не думаю, чтобы тут было что-нибудь опасное, и могу потерпеть.
Молодой человек, оставив графиню, пошел к кастеляну и велел ему послать нарочного в город, чтобы доктор мог приехать утром в замок; приказал также распорядиться, чтобы Али-Баба был снова посажен в свой шалаш. Сделав это, он вернулся к себе, чтобы лечь спать, но образ Габриэли не покидал его. «Она, действительно, красива так, что каждый может сойти с ума, — говорил себе Готфрид. — Бедный Арно, я понимаю, какая опасность угрожает твоему сердцу».
Наутро, пока Танкреда одевали, Веренфельс пошел к Арно и сообщил ему о случившемся ночью. Молодой граф был очень этим встревожен и поспешил кончить свой туалет, чтобы скорей пойти к своей мачехе.
— Я готов держать пари, что это опять Танкред выпустил Али-Бабу. Гадкий мальчик. Какое бы от этого могло выйти несчастье! — воскликнул в сердцах Арно. Затем, глядя в сторону, он спросил нерешительно:
— Вы видели Габриэль; не правда ли, что она очаровательно красива?
— Красива, как сказочная фея, но едва ли подобно ей благодетельная, — медленно отвечал Готфрид. — Если бы я смел сделать сравнение, я бы скорее уподобил графиню сирене, прелестной и обворожительной, но табельной для каждого, кто, не обладая мудростью Улиса, приблизится к чернокудрой обольстительнице.
Молодой граф сильно покраснел.
— Я понимаю тонкость и глубину вашего замечания, Готфрид. Оно сделало бы честь мудрому Улису, на которого вы ссылаетесь. Но теперь пойдемте скорей. Быть может, она чувствует себя хуже.
В вестибюле молодые люди встретили доктора, возвращавшегося от графини. Он успокоил Арно, сказав, что нет ничего серьезного в ушибе, что опухоль на ноге исчезнет через несколько дней, а что вообще молодая женщина совершенно здорова. Графиня велела отнести себя на террасу, чтобы пить утренний кофе с семьей.
Когда Веренфельс пришел на террасу со своим воспитанником, графиня была уже там; она лежала на диване и отвечала, улыбаясь, на вопросы Арно. Готфрид взглянул на нее и убедился, что, несмотря на нездоровье, графиня была хороша: ее дивная красота не боялась дневного света и сапфировый цвет ее ясных глаз являлся во всем своем блеске. Туалет графини, изысканно-простой, шел к ней великолепно.
Танкред кинулся к матери, обнял ее и с жаром поцеловал. Габриэль тоже поцеловала его; но затем, слегка отстраняя его и отвечая легким наклоном головы на глубокий поклон наставника, сказала:
— Какой ты порывистый, дитя мое, ты совсем измял меня.
Арно привлек к себе брата и сказал, смеясь:
— Вот я поймал вашего преследователя и не выпущу его.
Но мальчик вырвался от него и стал на колени возле матери.
В эту минуту на террасе показался граф и, видимо взволнованный, подошел к жене.
— Как ты себя чувствуешь, моя дорогая? Ты очень страдаешь? Я сейчас только узнал о несчастии с тобой и очень недоволен, что мне этого тотчас не сообщили.
— Успокойся, Вилибальд, это я запретила тревожить тебя. Доктор уверяет, что через несколько дней я совсем поправлюсь.
— Но я все же должен разузнать, кто выпустил медведя.
При этих словах густой румянец покрыл щеки Танкреда. Графиня заметила это и, подняв глаза на мужа, сказала с очаровательной улыбкой, пожимая его руку.
— Я уверена, что медведь вырвался сам. А если и есть тут виновный, то умоляю — не ищи его; я была бы в отчаянии, если бы тебе пришлось наказать кого-нибудь в первый день моего приезда. Не могу не упрекать себя за мой глупый испуг; мне бы следовало понять, что медвежонок ручной. Но нет ничего хуже, как потеряешь голову. Месье Веренфельс спас меня не столько от медведя, сколько от самой себя.
Граф улыбнулся и, подойдя к доктору и к Готфриду, поздоровался с ними и поблагодарил последнего за оказанную услугу. Затем, взяв из рук лакея подносик с завтраком графини, стал сам прислуживать ей с помощью Арно. Последний не сводил глаз с мачехи.
Веренфельс завтракал молча, вовсе не вмешиваясь в разговор. Воспользовавшись минутой, когда граф встал, он подошел к нему, чтобы дать отчет в произведенном накануне осмотре. Между ними завязался оживленный разговор. В это время Арно обратился к доктору, прося его приехать завтра, чтобы переменить повязку на ноге больной. Графиня на минуту осталась одна.
Она прислонилась к подушкам, полу-закрыв глаза, и из-под своих черных длинных ресниц бросила пытливый взгляд на воспитателя, с которым ее муж разговаривал так дружески. Еще накануне она заметила могущественную красоту молодого человека; теперь она могла еще свободней разглядеть его характерное лицо, изящную непринужденность манер и энергичное спокойствие всей его фигуры, свидетельствовавшее, что он больше привык повелевать, чем повиноваться.
Взгляд ее встретился со взглядом Готфрида, но большие черные глаза молодого человека скользнули по ней с холодным равнодушием. Габриэль покраснела до корней волос, и ее тонкие брови сдвинулись. Это равнодушие поразило ее, как оскорбление. Она привыкла видеть, что глаза мужчин всякого возраста устремляются на нее с восторгом; что все, хотя бы и безмолвно, преклоняются перед ее царственной красотой. «Как же этот, подчиненный человек, осмеливается быть слепым? — спрашивала она себя с досадой. — Он даже не воспользовался оказанной им услугой, чтобы попытаться занять положение менее подвластное».
Ее размышления были прерваны Танкредом, который, кончив завтракать, опять пришел, стал на колени возле нее и с выражением отчаяния припал к ее подушкам.
— Отчего ты такой грустный, мой кумир? И что значит эта морщина? — спросила Графиня, проводя пальцем по его лбу.
— Я не хочу уходить от тебя и не хочу учиться, — шептал он. — Если б ты знала, как много я должен заниматься, как он мучает меня; и если я тотчас не послушаюсь его, он бьет меня.
— Что ты говоришь! Может ли это быть! — И Габриэль порывисто приподнялась.
В эту минуту Готфрид, кончив разговор, взглянул на часы и позвал Танкреда:
— Танкред! пора заниматься.
Мальчик не шевелился; но Габриэль, бросив чарующий взгляд на молодого человека, проговорила с улыбкой:
— Я кладу маленькое veto на ваше решение; мне кажется жестоким заставлять учиться ребенка в такую чудную погоду и прошу дать ему каникулы.
Готфрид взглянул на графа, который стоял за креслом графини; но тот покачал отрицательно головой.
— Я очень сожалею, графиня, что должен воспротивиться вашему желанию; но граф, поручая мне воспитание Танкреда, дал мне право распределять его занятия. Я нахожу, что даю ему довольно времени для игр и отдыха; но ввиду его непомерной лености не могу согласиться прервать его занятия.
Габриэль, закусив губы и с холодным презрением смерив Готфрида взглядом, отвернулась и сказала небрежно:
— Я полагаю, Вилибальд, ты не отказался от права изменять распоряжения воспитателя твоего сына, особенно когда они налагают на ребенка непосильный труд.
— Графиня, — сказал Веренфельс, слегка бледнея, — Танкред пользовался такими вакациями до моего поступления, что по своим познаниям не может сравниться и с семилетним ребенком. Впрочем, все что я делаю, то делал с согласия и одобрения графа. Но если мои распоряжения не нравятся вам, графиня, то я готов сегодня отказаться от места.
Граф сдвинул брови.
— Перестаньте, Веренфельс; вы знаете, что я не потерплю, чтобы вы нас оставили. А тебя, милая Габриэль, я буду просить не вмешиваться в то, что касается воспитания Танкреда. Я одобряю полезные и разумные меры месье Веренфельса и надеюсь, что ты тоже будешь благоразумной матерью.
Танкред встал, покраснев от злости и готовясь возражать; но Готфрид не дал ему на то времени:
— Ступай в свою комнату, — сказал он строго. — Ты слышал, что сказал твой отец; так принимайся за занятия без всяких рассуждений.
— Но ведь это грубиян! И ты позволяешь служащему у тебя говорить таким тоном с графом Рекенштейном! — воскликнула Габриэль настолько громко, что Готфрид, уходя, мог слышать ее. — Ах, бедный мой Танкред!
Лицо се пылало от гнева, и губы дрожали.
При виде завязавшегося скандала Арно побледнел и с душевной тревогой глядел на мачеху.
Но граф, привыкший с давних пор к бурным сценам и к капризам жены, как скоро ей что-нибудь не нравилось, нисколько не смутился. Он пододвинул стул. к дивану, поцеловал ее руку и дружески серьезным тоном сказал:
— Дорогая моя Габриэль, Бог свидетель, как я счастлив нашим примирением; моя первая забота доставлять тебе счастье и удовлетворять твои желания. Ты не можешь думать, что я стал равнодушен к ребенку, которым ты меня подарила и что я отдал его с непростительной небрежностью в распоряжение человека грубого и жестокого, который мучил бы его без причины. Не в упрек тебе, так как прошлое сглажено и забыто, но я должен напомнить, что когда ты мне возвратила Танкреда, это был мальчик с отвратительными замашками, и потом лентяй и невероятный неуч. Молодая мать, слабая и любящая, как ты, не может управлять таким характером, как у него. Для этого нужен мужчина энергичный и основательный, словом, такой человек, как Готфрид, который обуздал Танкреда и заставил его сделать удивительные успехи. А потому, прошу тебя, не расстраивай плана его занятий, вполне мною одобренного, и не препятствуй власти, которую я ему дал.
— Я не могу выносить, чтобы он бил моего ребенка, моего кумира, к которому до сих пор никто не прикоснулся пальцем.
— Если кумир заслуживает, чтобы его били и иначе не покоряется, то что же делать, — заметил граф, улыбаясь. — Впрочем, будь спокойна, незначительное число наказаний, весьма заслуженных, не повредило ни здоровью, ни красоте Танкреда. Ты сама нашла, что он похорошел, и видишь при этом, что он окреп и проворен, как кошка. Когда ты узнаешь короче Веренфельса, то будешь питать к нему такое же уважение и доверие, как и я. Так прошу тебя, не держись с ним так оскорбительно, не относись к нему, как к подчиненному. Это человек самого лучшего общества, дворянин такого же древнего рода, как и мы; лишь превратности судьбы и необходимость доставлять средства жизни матери и своему ребенку заставили его принять на себя обязанность воспитателя.
— Он женат! — воскликнула Габриэль, не поднимая глаз.
— Вдовец. Старый барон, отец его, лишился своего состояния; но так как Готфрид сам был землевладельцем, то имеет большие сведения по этой части, и его опытный взгляд открыл множество злоупотреблений в Рекенштейне, которые я не мог констатировать по причине моей болезни. Этот человек с неутомимой деятельностью, с беспримерным усердием привел все в порядок, сберег таким образом значительные суммы денег, словом, сделался моей правой рукой.
— Это правда, maman, месье Веренфельс человек весьма достойный и справедливый, несмотря на свою строгость к Танкреду. Своевольный мальчик только его и боится, — вмешался Арно, счастливый водворяющимся соглашением.
— Я вижу, что должна сдаться на ваши доводы, господа, — промолвила с усилием Габриэль, принужденно улыбаясь.
— Благодарю тебя, моя дорогая, что соглашаешься со мной и нисходишь к моим желаниям, — сказал граф, целуя ее в лоб. — Теперь я тебя оставлю, так как мне нужно сделать кое-какие распоряжения, а ты, Арно, замени меня; старайся развлечь Габриэль и будь любезным, услужливым сыном.
После ухода графа Арно предложил мачехе прогуляться по саду и велел привезти кресло на колесах, которое было в употреблении у отца во время его болезни. Когда вскоре лакей подвел кресло к террасе, Габриэль сказала со вздохом:
— Экипаж мой готов, но как я доберусь до него с моим увечьем?
— Надеюсь, вы позволите мне донести вас до кресла? — спросил, краснея, молодой граф.
Очаровательная улыбка озарила лицо молодой женщины.
— Конечно, не откажу моему сыну в том, что позволяла слуге. Только умоляю вас, Арно, не говорите мне больше о грубияне, — прибавила графиня, когда он усаживал ее в кресло.
Отослав лакея, молодой человек сам повез Габриэль, и, весело разговаривая, они углубились в тенистые аллеи парка.
Эта прогулка вдвоем приводила в восторг Арно; он бы хотел нескончаемо продлить ее и остановился лишь близ своего любимого искусственного грота. Дверь из коры, покрытой мхом, вела в обширный зал из каменных глыб и сталактитов. Два окна со стрельчатыми сводами распространяли таинственный полусвет в этом убежище, исполненном прохладой. В одном из углублений грота журчал фонтан, падая в бассейн, над которым стояла прекрасная мраморная группа, изображающая Эроса и Психею. Посреди редких деревьев, образующих рощу, была расставлена прелестная мебель в виде раковин, окружавших соломенные столики; с потолка спускались лампы.
Не без труда Арно вкатил кресло в грот и, сбросив свою соломенную шляпу, вытер лоб. Затем обошел зал и нарвал букет алых роз.
— Не правда ли, здесь хорошо; воздух такой свежий, ароматный? — сказал он, подходя к Габриэли. Молодая женщина, откинув голову на спинку, сложив на колени руки, устремила взгляд с каким-то странным выражением на одну группу деревьев и, казалось, забыла все окружение.
— О чем вы так задумались, Габриэль? — Он вложил ей в руку цветы. Она вздрогнула.
— Я думала, — отвечала она, — о том дне моей молодости, который мне напомнило это место.
— Вашей молодости! Вы — олицетворенная молодость и красота! — И Арно залился веселым смехом.
— А между тем это так. Я думала о давнем времени, более десяти лет тому назад, — отвечала Габриэль с тяжелым вздохом. — Мне было тогда пятнадцать лет и три месяца. Я приехала в Рекенштейн провести каникулы у моего опекуна с моей преданной Люси, родственницей, которую вы видели у меня в Париже. И в этом самом гроте, на том самом месте, где вы сидите в эту минуту, Вилибальд сделал мне предложение. Тогда я мечтала о совсем иной для себя жизни.
И она снова вздохнула.
— То, что вы говорите, делает для меня это место вдвойне дорогим, — сказал Арно, слегка краснея. — От отчего, милая Габриэль, вы вздохнули? Не был ли то вздох сожаления? Разве вы не чувствуете себя счастливой?
— И да, и нет. Ваш отец был всегда добр, очень добр ко мне, и конечно, моя вина, что я не дала ему счастья. При виде этого грота меня охватывают воспоминания. Я помню каждое слово, каждую мысль, наполнявшую тогда мое сердце. Но оставим это; будущее светло и ясно, меня так любят и балуют. Чего я могу желать более? — Она взяла букет и стала вдыхать его аромат. Затем выбрала две алые розы и приколола их себе на грудь.
— Жаль, что у меня нет здесь зеркала; мне бы хотелось вколоть цветок в волосы; я это очень люблю.
— Я принесу сейчас из замка, — заявил поспешно молодой человек.
— Нет, нет, это пустая прихоть; остановитесь, Арно, и сами будьте моим зеркалом: вколите мне розу: я доверяю вашему вкусу.
Молодой человек поспешил исполнить ее желание, но когда пальцы его коснулись шелковистых прядей, он побледнел и рука его задрожала.
— Жалею, что я не художник, — сказал он, стараясь скрыть свое волнение.
Молодая женщина, казалось, ничего не заметила:
— Мне остается еще одна. Это для вас, моего доброго, великодушного сына, которому я столь многим обязана.
Она взяла последнюю розу и коснулась ее губами; затем, с доброй дружеской улыбкой и чарующим взглядом увлажненных глаз, сама вдела ее в петлицу молодого человека.
Видя, что он взволнован и смущен, Габриэль, сделав небольшую паузу, искусно переменила разговор. Они повели речь о Париже, о празднествах, которые намеревался давать Арно, о приглашенных друзьях, и время летело так быстро, что Габриэль, по-видимому, была очень удивлена, когда на часах замка пробило двенадцать.
— Ах, будем завтракать здесь. Тут так чудно — свежо, и мне не придется передвигаться. Вот идет, кажется, садовник, позовите его, Арно, и велите, чтобы завтрак подали сюда.
Вскоре пришла экономка в сопровождении двух лакеев с корзинами, и в одну минуту был сервирован сытный и прекрасный завтрак.
— Доложите графу и моему сыну, что кушать подано.
— И месье Веренфельсу, — поспешил прибавить Арно, поправляя забывчивость графини.
Когда Готфрид вошел в грот, Габриэль сидела, небрежно откинувшись на спинку кресла, Арно с безмолвным восхищением обмахивал ее веером. Что-то шевельнулось в сердце Веренфельса против этой легкомысленной женщины, которая, пользуясь своей красотой, возбуждала чувства молодого человека, отделенного от нее пропастью. Когда граф вошел с Танкредом, Арно вез кресло к столу, и Габриэль, сияя улыбкой, поклонилась мужу и сыну.
— Хорошо ли Арно исполнил должность рыцаря, — спросил граф, — не скучала ли ты?
— Ах, скорее он мог скучать, — ответила Габриэль, — но выказал идеальное терпение и обмахивал меня с ловкостью и неутомимостью римского невольника. Затем мы с ним много говорили; я рассказывала ему, что в этом гроте ты сделал мне предложение. Но, Боже мой, я теперь припоминаю, что именно здесь мы заметили первый зуб у Танкреда.
Граф улыбнулся.
— Да, это место полно воспоминаний.
— А я за это украсила его. Тебе, мой милый Вилибальд, я также сохранила одну из моих роз и после завтрака сама вдену ее в твою петлицу.
Она продолжала болтать и шутить, вполне игнорируя Готфрида, который молча сел к столу и не вмешивался в разговор. Это недоброжелательное презрение Габриэли к воспитателю Танкреда смущало обоих графов, и они старались окружать его усиленной приветливостью. Не раз взгляд графини скользил по лицу молодого человека, который с холодным бесстрастием, казалось, ничего не замечал.
В ту минуту, как Арно наливал вино в рюмку, которую графиня с кокетливой улыбкой протянула ему, взгляд ее встретился со взглядом Готфрида. Темные глаза молодого человека не выражали восхищения, скорее, они были холодны, и под этим строгим, пытливым взглядом она опустила ресницы.
— Месье Веренфельс, строгий спартанец, должно быть не одобряет, чтобы женщины пили вино. Если бы я поднесла моему пасынку кубок, наполненный ядом, вы не могли бы бросить на меня более грозного взгляда.
Готфрид улыбнулся, и его холодный, насмешливый взор устремился на красивое лицо врага:
— Мне очень жаль, графиня, что мой безобидный взгляд не понравился вам. Впрочем, я полагаю, что такая прелестная и нежная рука не способна подать яд в рюмке вина.
— Тогда как же она поднесет его?
Габриэль улыбнулась, но ее пылающие глаза пожирали дерзкого молодого человека. Он нагнулся и, понизив голос, спросил:
— Вы хотите знать, как?
— Да.
— Например, в благоухании розы. Аромат цветка, говорят, тоже смертельный яд.
Габриэль, побледнев, отвернула голову; но так как завтрак кончился, то все встали, и слуги проворно убрали со стола.
— Поди сюда, Танкред, — позвала графиня. Мальчик стремительно прибежал и с жаром обнял ее.
— Ах, мой кумир, ты слишком пылок. И потом нехорошо, что ты так растешь. Я бы должна не признавать тебя: такой большой мальчик старит меня преждевременно. Кончится тем, что скоро ты будешь называться лишь папиным сыном.
Говоря это, она привлекла к себе голову ребенка и покрыла поцелуями его губы, глаза и шелковые локоны.
— Вилибальд, ты можешь гордиться своим сыном; ведь он красив, как юный бог. В Париже, на водах, в Италии все были без ума от этого очаровательного ребенка. И он будет еще лучше, когда я одену его в привезенные мной костюмы, подчеркивающие его красоту. Арно, — обратилась она к пасынку, — для вас он будет опасным конкурентом у хорошеньких женщин и разобьет не мало сердец.
— Ну этого можно не бояться, — отвечал, смеясь, Арно. — Прежде чем Танкред сделается таким страшным Дон-Жуаном, мне будет за тридцать лет, и я буду вполне остепенившимся человеком.
— Женатым и отцом семейства, надеюсь, — прибавил граф.
Но Танкред превратно понял слова брата и, покраснев, подбежал к нему.
— Ты воображаешь, Арно, что теперь я еще не умею ухаживать за дамами? Ты очень ошибаешься. Я всему научился у барона Ленэ, у графа Бомона, дона Маносла де Риваса и других маминых поклонников, которые к нам ездили. Я не хуже тебя умею подавать букет, носить веер или книгу и бросать такие взгляды…
И Танкред поднял глаза с таким комичным выражением влюбленного, что оба графа разразились неудержимым смехом. Габриэль покраснела.
Готфрид один остался серьезным и взглянул неодобрительно на легкомысленную мать, достойную глубокого осуждения за то, что пробуждала глупое тщеславие в сердце своего ребенка восхвалением его красоты. Графиня уловила этот взгляд.
— Наш строгий наставник недоволен, я это вижу, — сказала она насмешливо, — и боюсь, чтоб бедный Танкред не поплатился двойной работой за мое материнское поклонение.
— Это правда, я не даю ему случая упражнять те способности, которыми он сейчас хвастался, — отвечал спокойно молодой человек.
— Веренфельс хорошо делает, что заботится о привитии ему более полезных знаний, — заметил граф, вставая.
— Ты уходишь, Вилибальд, а я хотела попотчевать тебя конфетками, которые привезла. — И графиня надула губки. — Беги скорей, Танкред, и скажи Сицилии, чтобы она дала тебе ящичек с инкрустацией; она, вероятно, уже вынула его.
— Я вернусь еще вовремя, чтобы отведать конфет, мне нужно сделать некоторые распоряжения на фазаньем дворе. Не хочешь ли пойти со мной, Арно? А вы, Готфрид, останьтесь, займите графиню и прочитайте ей хорошую проповедь об обязанностях рассудительной матери.
Веренфельс собирался уйти, но эти слова удержали его. Он понимал намерение графа установить во что бы то ни стало более дружеские отношения; но так как молодая женщина тотчас после ухода мужа откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, то он, прислоняясь к массивной портативной вазе с цветами, молча устремил взгляд на красавицу. В небрежной, сладострастной позе она казалась олицетворенным искушением. Как бы почувствовав тяготевший на ней взгляд, Габриэль вдруг открыла глаза.
— Я жду, милостивый государь.
— Что прикажете, графиня? — спросил он с некоторым удивлением.
— Что прикажете! — повторила она с насмешкой. — Я ничего не смею вам приказывать; это мне строго запрещено. Но я жду проповеди, которую мой муж поручил вам мне прочесть.
— Граф шутил, говоря о проповеди, графиня; я не имею никакого на то права. А так как вы сами вызываете этот вопрос, то позвольте мне вам сказать, что вы сделаете несчастным вашего сына, если будете продолжать относиться к нему так неблагоразумно. Красота ребенка может приводить в восхищение его родителей и всех его окружающих, но возбуждать в нем тщеславие, — говорить ему о его физических преимуществах — по-моему, преступно. Нет ничего противней женоподобного мужчины, фата, хвастуна, который думает, что физическая красота может скрыть его невежество и его душевную пустоту. А таким человеком и будет Танкред, уже сейчас напыщенный фатовством, если вы не остановитесь в своей слабости к нему. Вы раздражены против меня, графиня, и то, что я сейчас сказал, конечно, не понравилось вам; но Бог свидетель, что все, что я делаю и говорю, имеет целью лишь пользу мальчика, порученного мне.
Габриэль слушала, устремив глаза на красивое, энергичное лицо говорящего, но ей некогда было отвечать, так как вбежал Танкред в сопровождении лакея, несущего колоссальную бонбоньерку; затем пришли оба графа. А немного спустя графиня сказала, что устала, и попросила отвезти ее в свои комнаты.
Как и предвидел доктор, в конце недели Габриэль была вполне здорова и ее ноги исправно служили ей. Для нее это было все, так как ее подвижная натура не выносила покоя. Молодая женщина непрестанно придумывала новые развлечения, и Арно помогал ей в этом с большим увлечением. Устраивал кавалькады, сельские праздники и приглашал провести один день у него в Арнобурге, что приводило в восторг графиню. Она никогда не ступала туда ногой и горела нетерпением войти победительницей в это гнездо своих старинных врагов.
Наконец настал столь желанный день посещения Арнобурга. Граф протестовал против немногочисленного общества, находя это слишком скучным; но Арно обещал ему, что все будет семейно, что его избавят от продолжительных прогулок и что доктор и уездный судья приедут вечером составить ему партию в вист.
Был полдень, коляска ждала у подъезда, и резвые лошади, горячась, били копытами от нетерпения. Граф и Готфрид, в перчатках и со шляпами в руках, ходили взад и вперед по вестибюлю.
— Дай, Бог, терпенья! — воскликнул граф, смотря на часы. — Туалеты жен это истинная напасть для мужей; да вы, конечно, знаете это по опыту, Веренфельс, так как сами были женаты.
Молодой человек покачал головой, улыбаясь.
— Нет; моя бедная, покойная жена была простая, скромная женщина, для которой туалет составлял последнюю заботу. Она не возводила его в искусство, а у меня не было средств наряжать ее. Но совершенно естественно, что у женщин высшего общества, как у графини, другие требования.
Граф вздохнул. Он знал, чего ему стоили в год эти светские требования жены.
В эту минуту одна из дверей отворилась, и в ней появилась Габриэль. Она вела за руку Танкреда. Позади была камеристка. Габриэль была в белом платье, которое казалось совсем простым, но знаток сумел бы оценить дорогие вышивки, украшавшие это кисейное платье, и редкие кружева на ее мантелэ и зонтике. Танкред был в парижском костюме из шелковой материи цвета экрю, с широким кружевным воротником и широким красным кушаком, обшитым бахромой; красный тюк прикрывал его черные кудри. Оба они были действительно так красивы, что просились на полотно. Позабыв все, граф устремил на жену и на ребенка взгляд, исполненный любви и гордости.
Заметив восторг мужа, Габриэль слегка покраснела и с милой простотой извинилась, что заставила его ждать.
— Я вполне вознагражден твоим прелестным видом; а костюм Танкреда действительно очень красив! — отвечал любезно граф, сам помогая жене сесть в экипаж.
День был прекрасный и жаркий. Габриэль раскрыла свой зонтик на ярко-красной подкладке и спокойно прислонилась к подушкам. Она была в прекрасном расположении духа и весело разговаривала с графом и даже с Готфридом, сидевшим против нее.
Проехали лес, который со всех сторон опоясывал Рекенштейн. Гордо возвышаясь на уединенной скале, показался вдали Арнобург. То было огромное здание, менее тронутое временем и нововведениями, чем Рекенштейн.
Когда коляска из-под мрачного свода ворот въехала в главный двор, три молодых человека уже с нетерпением ожидали гостей, стоя на ступеньках узкого крыльца. Арно, сияющий, обнял отца и брата, пожал руку Готфрида и затем подал руку своей мачехе, чтобы вести ее к ожидавшему их завтраку. После завтрака осмотрели комнаты и вернулись в зал.
— Габриэль желает, чтобы я показал ей фамильную галерею. Не хотите ли пойти с нами, Веренфельс? Я вам покажу портрет, который приписывают Гольбейну; все хотели его видеть. Я отдавал его реставрировать и только вчера мне прислали его обратно.
Молодой человек с удовольствием принял предложение. Ему давно хотелось видеть галерею. Они поднялись в первый этаж и длинным рядом парадных зал прошли в обширную галерею, освещенную с одной стороны высокими окнами со стрельчатыми сводами. Эта огромная галерея с прекрасным сводом, как в монастырских коридорах, была выстлана косоугольными белыми и черными плитами; а на стенах, на темных панелях, размещались в два и даже в три ряда портреты всяких размеров, и поясные и во весь рост, изображающие графов и графинь Арнобург-Рекенштейнских. Там и сям на пьедесталах красовались то воинские доспехи в полном составе, то пирамиды дорогого оружия, древних знамен и всяких трофеев.
Габриэль остановилась, как очарованная.
— Ах, как это интересно! — воскликнула она, крепко сжимая руку Арно. — Отчего в Рекенштейне нет такой галереи? Я так их люблю; в них дышит прошлое, под неподвижным взором этих угасших поколений. Впрочем, я нигде не испытывала такого сильного, захватывающего чувства, какое ощутила, войдя сюда.
— Подобная галерея, во всяком случае, любопытна, как история костюмов в течение многих веков, — сказал, улыбаясь, молодой граф. — Но так как это собрание предков имеет счастье интересовать вас, дорогая Габриэль, то я представлю вам их каждого отдельно. Начнем с правой стороны, с самых старых портретов. Вон первый Арнобург Рекенштейн — Руперт и его супруга Агнеса.
И он указал на два портрета, написанных на дереве.
— А вот их внук Эбергард, который пошел в монахи, после того как задушил свою жену по ложному подозрению.
— Фи! Изверг! — воскликнула Габриэль, отходя прочь и отводя глаза от грозного рыцаря, облаченного в кирасу поверх монашеской рясы.
Спрашивая имена и знакомясь с историей жизни изображенных лиц, они медленно продвигались вперед; и по мере того как они приближались к новейшим временам, галерея становилась богаче и полней.
— А это что такое? — воскликнула вдруг графиня, указывая на две большие рамы, занавешенные черным сукном.
— Эти портреты связаны с печальной фамильной легендой и изображают жену и брата Арно Арнобургского, которого вы видите вот тут.
И он указал на портрет такого же размера, изображающий вельможу приятной наружности в щегольском костюме времен Генриха II.
— Какая легенда? Расскажите нам, Арно; я предчувствую: это что-нибудь трагическое.
— Да, это нечто весьма печальное. Но вот факт таков, каким нам его передает хроника. Во второй половине XVI века в этом самом замке жили два брата: Жан Готфрид и Арно, на два года моложе первого. Они нежно любили друг друга; и когда младший, возвратись из путешествия по Италии, привез молодую жену — Жан Готфрид принял их с распростертыми объятиями. Бианка была дочь благородного венецианца, красивая, как греза, но пагубная для тех, кто к ней приближался; все должны были ее любить, и, по словам хроники, в глазах ее был демон, убивающий тех, кто подчинялся ее чарам.
Не разделяя мнение хроникера, я полагаю, что Бианка была красивое и опасное существо, которой не так легко противиться. Бедный Готфрид испытал это на самом себе. К несчастью, Бианка питала к нему безумную страсть. Ему бы следовало бежать от нее, но он не имел на то силы и, позабыв брата, увлекся ею. Но пылкой и страстной итальянке этого было недостаточно; она решила отделаться от мужа, который стеснял ее, и однажды Арно был найден заколотым; но удар оказался не смертельным. Жан, любивший брата, несмотря на то, что обманывал его, усердно ходил за ним; но глаза Арно раскрылись и он осыпал брата заслуженными упреками. Узнав, что не кто иной, как Бианка посягнула на жизнь своего мужа, Жан Готфрид был охвачен ужасом и раскаяньем; объявил своей невестке, что отказывается от нее и поступает в монастырь, чтобы искупить свое преступление. Конечно, эта безумная женщина вымолила у него последнее прощальное свидание. На этом свидании, устроенном в одном из старых флигелей замка, Бианка отравила своего любовника и себя. Их нашли мертвыми в уединенной комнате, которую Арно велел тотчас же замуровать, оставив там их тела. Затем велел занавесить черным сукном портреты двух преступников; и с тех пор ничей глаз не видел их.
Габриэль слушала со сверкающим взглядом и с трепетным вниманием.
— Вам известно, где эта комната?
— Нет. И я полагаю, что эта легенда не имеет основания. Вероятно, эти несчастные были погребены безо всякой пышности, что и дало повод распущенному слуху.
— Ах, Арно, велите снять сукно; мне бы хотелось видеть лицо бедной женщины, которая своей жизнью запечатлела свою любовь.
— Нет, нет, Габриэль, — возразил молодой граф, отрицательно качая головой, — я не могу нарушить волю моего несчастного предка; все его потомки чтили ее. Потом я суеверен, а говорят, что тот, кто откроет эти портреты, навлечет на фамилию целый ряд несчастий.
— Какая глупость! Можно ли в наш просвещенный век верить таким сказкам мамок? Умоляю вас, Арно, откройте портреты. Месье Веренфельс, помогите мне. Разве вам не интересно увидеть их?
Готфрид покачал головой.
— Нет, не надо шутить с судьбой и тревожить это мрачное прошлое. Будьте тверды, граф, не уступайте. Зачем видеть лицо вероломной женщины, которая двух человек ввергла в несчастье, посягнула на незаконное обладание и разрушила связь братской любви.
— Боже мой! Этот бедный Жан Готфрид был, конечно, более чувствителен к красоте. И какая ирония, что он носил имя того, кто так сурово его осуждает.
— Я жалею его за гнусную слабость, но Бианку осуждаю, так как не могу ни уважать, ни жалеть суетную, преступную кокетку, которая посягнула на жизнь мужа и любовника.
— Не всякий может быть Катоном, как вы, — проговорила Габриэль, чувствуя, что краснеет от досады, и отворачиваясь.
Приблизясь к Арно, она снова стала умолять его с такой настойчивостью, что молодой человек терял всякую твердость; и когда слезы показались на ее чудных синих глазах, обращенных к нему с жаркой мольбой, он не мог более противиться. Взял высокий табурет, стал на него и снял черное сукно, закрывавшее один из двух портретов; под этим покрывалом оказалось другое, третье, четвертое; последнее было снято и упало на пол, поднимая облако пыли. Тогда Арно и Готфрид вскрикнули, с изумлением переводя глаза от портрета Бианки на Габриэль. Последняя стала бледна, как ее белое платье, и молча всматривалась в черты преступной прабабки. Все трое долго не могли придти в себя, потрясенные поразительным сходством между портретом и Габриэль. Это было то же бледное лицо с правильными чертами, такое же капризное выражение румяных губ, те же черные локоны; разницу составляли лишь черные глаза Бианки, суровые и страстные.
— Какое диво! — вымолвил, наконец, Арно. — Если бы не черные глаза и не костюм, то можно было бы думать, что вы, Габриэль, служили моделью этому портрету.
— Да, это очень странно и доказывает, во всяком случае, что все, что на меня похоже, предназначено принадлежать фамилии Рекенштейнов, — отвечала молодая женщина, стараясь улыбнуться. — Но, Арно, теперь надо открыть другой портрет; я горю желанием увидеть черты того, кто внушил моей предшественнице такую безумную страсть.
В тревожном раздумье и тоже волнуемый лихорадочным нетерпением, молодой человек дрожащей рукой сорвал покрывало со второй рамы; и взоры всех троих с безмолвным изумлением устремились на портрет графа Жана Готфрида.
Это был красивый мужчина с благородной осанкой и насмешливым ртом; его большие глаза синевато-серые, как сталь, светились гордостью и энергией; маленькая бородка пепельного цвета обрамляла его лицо, и из-под тока с пером выгладывали коротко остриженные волосы того же цвета. Он был в ботфортах и в черном бархатном камзоле, обрисовывающим его стройный, крепкий стан. Молодой человек стоял прислоняясь к столу; одной рукой держал перчатку, другая опиралась на кинжал, висевший у его пояса. Равно как и первый портрет, это было высокое произведение итальянского художника. Но изумление присутствующих было вызвано не одним лишь совершенством исполнения, но тем, что, исключая более серьезное и мрачное выражение лица и разницу в цвете глаз и волос, граф Жан Готфрид был верным портретом Готфрида Веренфельса.
И Веренфельс, бледный, взволнованный, глядел на эту странную фигуру, изображающую его самого. Арно первым пришел в себя.
— Какая поразительная игра случая, — медленно промолвил он. — Габриэль и Бианка — одно лицо. Я, Веренфельс, — живой портрет моего предка. Кто объяснит эту тайну природы? Но, — добавил он с живостью, — надо позвать отца и других, чтобы показать им это чудо.
И он ушел почти бегом.
Глаза Габриэли были прикованы к лицу Готфрида, поглощенного созерцанием этих странных портретов. Минуту спустя она сказала дрожащим голосом:
— Теперь, когда я видела любовника Бианки, признаюсь, меня удивляет ее вкус. Можно ли привязаться к человеку, каждая черта которого выражает суровость и холодность; его бесстрастные глаза никогда, вероятно, не оживлялись любовью, и я не думаю, чтобы он отвечал на страсть бедной безумной женщины.
Молодой человек повернулся и устремил на графиню глубокий взгляд, озаренный необычайным блеском.
— Почему же нет! Я допускаю, что молодой граф мог быть очарован красотой Бианки. Впрочем, графиня, вы, может быть, правы. Быть очарованным красивой женщиной, которая соблазняет вас, не значит еще любить ее. Человек не оставляет ту, которую любит, но умирает, прижав ее к своей груди. Нет сомнения, однако, что бесчестный поступок всегда влечет за собой наказание, и человек, отдающий свое сердце на произвол страстей женщины, рано или поздно погибает. Если ваше предположение верно, графиня, то страсть Бианки понятна: холодность разжигает пламень, и отвергнутая любовь всегда бывает самой упорной.
Габриэль слушала, не сводя с него взора. В первый раз она увидела огонь в его больших черных глазах, причем в его голосе, всегда спокойном, прозвучало нечто неуловимое, неопределенное. Она вздрогнула и с принужденной улыбкой сказала:
— Как бы ни было, не смешно ли, что две личности, мало интересующиеся друг другом, как мы с вами, оказались живой копией этих древних Ромео и Джульетты. Надеюсь, что в этой жизни мы не сделаемся фатальны друг для друга.
Молодой человек почтительно поклонился.
— Лишь мне, графиня, может угрожать опасность; надеюсь, судьба пощадит меня.
Габриэль покраснела, но не имела времени отвечать, так как муж ее, в сопровождении Арно и двух баронов, поспешно вошел в галерею. Граф был взволнован и очень бледен.
— Это непростительно! — сказал он с раздражением. — Как можно так беспечно касаться фамильных преданий, тревожить это преступное прошлое, навлекать на себя гонение судьбы?
— Арно сделал это по моей просьбе, Вилибальд.
— О, я знаю, что твои прихоти не останавливаются ни перед чем.
— Милый папа, как ты можешь верить такому нелепому предрассудку, — ответил молодой человек примирительным тоном. — Слава Богу, с тех пор никто из нашей фамилии не умер трагической смертью.
— Никто? — промолвил граф с горечью. — Ты забываешь сына Бианки, который тоже умер насильственной смертью.
— Как это было? — спросила с волнением Габриэль.
— Ну, успокойся, раз это дело сделано, — сказал граф, овладев собой. — Но происшествие, о котором я вспомнил, действительно, весьма печально. Бианка оставила сына, который был живым портретом графа Жана, но имел такую же страстную, необузданную натуру, как его мать. Войдя в возраст, он влюбился в дочь ювелира и, по всей вероятности, женился на ней тайно.
Не удовлетворив своей страсти, он стал жалеть, что поддался увлечению, и вступил в супружество с молодой девушкой княжеского рода. Бедная Роземунда, которая уже имела от него сына, восстала против этого брака, но напрасно, так как у нее не было доказательств ее прав на графа. Она, по-видимому, покорилась судьбе, но, обладая дивной красотой, сумела снова воспламенить сердце изменника и согласилась иметь с ним свидание в охотничьем павильоне. Но на следующий день Филипп Арнобургский был найден задушенным шелковым шнурком во время сна; его ребенок, тоже задушенный, лежал в ногах кровати. Что же касается Роземунды, она исчезла и пропала без вести. А несколько месяцев спустя графиня Елисавета произвела на свет сына, который и был продолжением рода. Вы видите, друзья мои, что все, что происходило от этой преступной четы, приносило несчастье нашей фамилии. И их поразительное сходство с живыми людьми еще больше усиливает мои дурные предчувствия.
Потолковав еще о странном факте и полюбовавшись обоими портретами, все общество ушло из галереи. Но спокойствие было нарушено, веселость стихла; граф остался озабоченным, графиня была печальна и молчалива, и тотчас после чая семейство тронулась в обратный путь. Ехали молча, каждый был погружен в свои мысли, и Готфрид не подозревал, что в темной глубине коляски глаза Габриэли были прикованы к его лицу и следили за каждым его выражением, причем воображение молодой женщины наряжало его в разрезной камзол, в ток с пером и… как знать, быть может, наделяло его и теми чувствами, которые волновали сердце графа Жана Готфрида Арнобургского.
IV. Скрытая борьба
Следующие недели прошли без особых событий. Графиня казалась веселой, была неизменно нежна и приветлива с мужем, кокетлива и родственна с Арно, непростительно слаба к Танкреду, и лишь относительно Готфрида расположение ее духа было подвержено постоянным изменениям. То она была любезна, добра и, казалось, находила удовольствие в его обществе; то становилась надменной, язвительной, капризной, обращалась с ним, как с подчиненным, и, казалось, не выносила даже его голоса. Молодой человек с невозмутимым спокойствием покорялся этим незаслуженным переходам от благорасположения к немилости, за что граф был ему бесконечно признателен и всячески старался вознаградить его за такую несправедливость.
В один из периодов враждебного настроения Танкред был особенно ленив и невежлив. Готфрид наказал его и оставил без обеда. Габриэль узнала об этом только садясь за стол; она сильно покраснела, но промолчала, услышав, что ее муж одобряет наказание, которому подвергли ее кумира. Но едва встали из-за стола — она скрылась.
Граф ничего не заметил и стал играть в шахматы с Арно; Веренфельс, угадывая причину ее исчезновения, поспешил пойти к себе. Он не ошибся. Еще издали он услышал стук в дверь к Танкреду и, войдя в учебный зал, увидел графиню. В руках у нее была корзиночка с пирожками и холодным мясом; покраснев от злости, она силилась открыть дверь, ведущую в место заточения ее баловня.
— Дайте мне ключ! Ключ! — кричала она повелительно. — Я хочу видеть моего сына.
— Извините, графиня, но пока Танкред не осознает своей вины, не попросит прощения и не ответит своих уроков, он останется наказанным и запертым. Потом, если вы желаете, я пришлю его к вам.
— Уж не думаете ли вы давать мне предписания? — крикнула графиня все себя. — Я приказываю вам отворить дверь; я хочу видеть моего сына, этого несчастного мученика, предоставленного вашему зверству идиотом-отцом.
Кровь хлынула к мужественному лицу молодого человека.
— Вы говорите об отце вашего сына так громко, что он может слышать, — сказал он, понижая голос. — А теперь, графиня, я попрошу вас оставить эту дверь, пока мальчик наказан, она не отворится.
— Оставь, мама, и не сердись, — крикнул Танкред за стеной. — Скорее можно тронуть камень, но не его, и я лучше хочу быть голодным, чем попросить прощения у этого изверга.
— Советую тебе придержать свой язык; если я отворю дверь, чтобы заставить тебя молчать, то ты не будешь доволен, — сказал Готфрид таким знакомым Танкреду, голосом, что это тотчас отбило у него охоту дерзить.
Но Габриэль, казалось, дошла до безумия в своем бешенстве; с силой, какую нельзя было предполагать в этом прозрачном, нежном теле, она ринулась на дверь, дернула замок и сломала его. Готфрид с минуту глядел на нее с удивлением, как смотрят на дурно воспитанного ребенка, и хотел уже уступить, чтобы положить конец этой сцене, собираясь потом сообщить об этом графу, как вдруг Габриэль повернулась, спустилась через балкон в сад и, как стрела, промелькнула мимо окна. Охваченный предчувствием, что из упрямства она решится на какое-нибудь безрассудство, которое будет иметь дурной исход, он, не раздумывая более, бросился вслед за нею.
Помещение, выбранное новым воспитателем, находилось у стены одного из старых флигелей замка. Возле комнаты Танкреда и отделенная от нее лишь классной была круглая башня, которая с давних пор стояла незанятой; в нее можно было войти из сада, по витой лестнице подняться в комнату первого этажа, и из этой маленькой залы другая лестница вела вниз в кабинет, смежный с комнатой Танкреда, который лишь с внутренней стороны запирался замком. Но графиня не знала, что эта вторая лестница, уже подгнившая, была снята, а другая, такая же ветхая и без перил, тоже предназначалась к сносу.
Готфрид не ошибся и догнал Габриэль у входа в башню, но напрасно он кричал ей: «Не поднимайтесь, это опасно»; как бы ослепленная своей экзальтацией, графиня с легкостью тени поднялась по колеблющимся ступеням. Веренфельс побледнел и, не думая об опасности, какой подвергался сам, пошел тем же путем и достиг маленькой комнаты в тот момент, когда графиня ступала ногой на вторую лестницу, от которой осталось всего две, три ступеньки. Еще шаг — и она упала бы в пропасть, которую вдруг увидела перед собой; голова ее закружилась, но сзади кто-то схватил ее и поднял, как перышко.
Очнувшись, безмолвная от ужаса молодая женщина осознала, что чудом избежала смерти; поддерживаемая Готфридом, она дошла до старого дивана, обитого потертой парчевой материей.
— Можно ли так искушать Бога? Еще секунда, и вы бы упали и расшиблись, — сказал он строго, с досадой.
Габриэль ничего не ответила. Закрыв лицо обеими руками, она разразилась судорожными рыданиями; и в них потонули и досада, и страх.
Ни один мужчина не может видеть равнодушно слезы молодой и красивой женщины, особенно, если он только что опасался за ее жизнь. Слезы вообще искажают лицо, но этому обольстительному, опасному созданию они, напротив, шли чрезвычайно; страх, злость, скорбь — все, казалось, было создано, чтобы делать ее еще красивей. Готфрид не избегнул общего правила; с восхищением художника он всматривался в лицо Габриэли, орошенное слезами, а потом, подойдя к ней, сказал мягко:
— Успокойтесь, графиня, вы избегли несчастья. Но такого неблагоразумного приступа упрямства я не мог от вас ожидать. Сделайте же милость, поверьте мне, что я забочусь лишь о пользе вашего ребенка.
Она ничего не ответила. Однако Готфрид не мог допустить, чтобы она возвращалась одна этим опасным путем, так как у нее легко могла закружиться голова; он отошел и, прислонясь к окну, ждал, когда его случайная спутница успокоится. У ног его густым массивом тянулась зелень парка, над ним расстилалось голубое безоблачное небо. Молодой человек погрузился в свои думы, и тяжелый вздох приподнял его грудь, вздох нравственного утомления и жажды свободы.
В эту минуту он почувствовал легкое прикосновение к своей руке и услышал запах фиалки, любимый запах графини. Он с удивлением повернул голову и увидел перед собой Габриэль. Молодая женщина преобразилась; слезы еще блестели на ее длинных ресницах, но большие синие глаза глядели на него с выражением чистосердечия и раскаяния. Полу-смущенно, полу-улыбаясь, она промолвила.
— Простите мою вспышку и мою несправедливость относительно вас.
Несмотря на гордое спокойствие его натуры, сердце молодого человека забилось сильней; он не ожидал, что сирена будет извиняться; этот чарующий взгляд, блестевший каким-то неопределенным выражением, этот тихий молящий голос смутили его. Но тотчас овладев собой, он взял ручку,, лежавшую на его руке, и почтительно поцеловал ее.
— Если вы, графиня, считаете себя виноватой передо мной, то прощаю вам от всей души, но с условием, — добавил он, улыбаясь.
— С каким?
— С тем, что, если прекрасная владетельница замка снова увлечется своей материнской слабостью, я напомню ей наш разговор в этой башне.
— Согласна; только условие на условие. Не говорите ни мужу, ни Арно об этой безумной выходке.
— Буду молчать, если вы этого желаете, графиня. Но теперь нам нужно сойти вниз; имеете ли вы на то силы после вашего волнения?
Графиня подошла к выходу, но, взглянув на лестницу, отступила, бледнея.
— Не могу, у меня кружится голова. Как могла я в моем безумии не видеть, куда иду?
— Я спущусь первый и подам вам руку. Ступени крепче, чем я думал; они выдержат нас обоих.
— Я боюсь, мы оба потеряем равновесие. Готфрид улыбнулся.
— Не бойтесь, графиня, я не подвержен головокружениям.
Он стал спускаться, поддерживая молодую женщину, но едва они прошли ступеней десять, как Габриэль остановилась и закрыла глаза.
— Не могу; я упаду, — прошептала она. Видя, что она пошатнулась и побледнела, как смерть, Готфрид крепко обвил рукой ее талию.
— Держитесь за меня, графиня, и не глядите вниз.
Он продолжал осторожно спускаться, не столько ведя, сколько неся графиню, которая крепко держалась за него; подгнившие доски трещали под их ногами, песок и камни срывались в пропасть. И он обреченно вздохнул, когда сделал последний поворот. Его спутница не шевелилась; как бы лишенная чувств, она оставалась в объятиях, поддерживающих ее. Ей было дурно, быть может.
— Опасность миновала, графиня; мы ступим сейчас на землю, — сказал Готфрид, повернув голову к Габриэли.
Но в ту же минуту почувствовал, что по телу его пробежала как бы электрическая искра, и дыхание его остановилось. Он встретил взгляд Габриэли, устремленный на него с выражением такой страстной любви, что мгновенно ее отношение к нему, ее ненависть и капризы озарились новым для него светом. Этот взгляд промелькнул, как молния; она уже опустила ресницы и смотрела в пропасть. Но Готфрид теперь знал все и, как молодой человек, поддающийся влиянию красоты, не мог отнестись холодно к такому открытию. Вся кровь бросилась ему в голову, и, тяжело дыша, он поспешил опуститься с последних ступеней.
Свежий воздух сада, казалось, привел графиню в чувство. Избегая взгляда своего спасителя, она прошептала несколько слов благодарности и скрылась в аллее. Молодой человек слегка пришел в себя и с отуманенной, пылающей головой кинулся в кресло.
— Что, я сошел с ума, или видел сон? — шептал он. — Нет, этот взгляд таков, что нельзя обмануться. Так я должен бежать, покинуть замок; гибель и бесчестие гнездятся в этих синих глазах. О, я тысячу раз предпочитаю ее ненависть.
Однако, по мере того как он успокаивался, рассудок внушал ему крепнущее сомнение в том, что Габриэль любила его, и Готфрид спрашивал себя, не принял ли он за любовь то, что было лишь искусным кокетством. Вследствие чего он решил быть осторожным, наблюдать за молодой женщиной и уехать, если это окажется нужным, но не заранее, так как ему жаль было оставить без важной причины свое выгодное положение.
Следующие дни укрепили Готфрида в мысли, что он ошибся. Габриэль неизменно была любезна и добра с ним, но ничем решительно не выдавала других чувств. Расположение, все более и более сильное, которое она оказывала Арно, убедило его окончательно, что эта опасная кокетка не выносила ни в ком равнодушия к своей особе.
Сентябрь был на исходе. Осень давала себя чувствовать; пожелтевшие листья покрывали аллеи парка, частый дождь стучал в окна, и многие соседние замки опустели; их обитатели возвратились в столицу, чтобы приняться за свои дела или предаться удовольствиям. Унылый вид природы как будто отражался и на лице прекрасной владетельницы Рекенштейнского замка; она казалась озабоченной и скучающей. Однажды за обедом говорили о возвращении в город одного соседнего семейства, причем Габриэль сказала, что охотно последовала бы их примеру. Граф, казалось, не понял этого легкого намека и заявил спокойно, что предпочитает мирную семейную жизнь шуму и суете столицы и что проведет зиму в Рекенштейне.
С того дня лицо молодой женщины сделалось совсем мрачным; она стала раздражительна, капризна; перестала выезжать и выходить из своих комнат. Граф, казалось, не видел, не понимал этих бурных симптомов, но Арно тем более внимательно следил за ними и, твердо решаясь согнать всякую тень с чела обожаемой мачехи, отправился раз утром к ней в будуар.
Он нашел ее полулежащей на диване; черный бархатный пеньюар на серизовой атласной подкладке обрисовывал ее изящные формы и еще более подчеркивал белоснежный цвет ее лица и рук, выглядывающих из широких рукавов. Книга, валявшаяся на ковре, показывала, что она имела намерение читать. Поздоровавшись, Арно придвинул к дивану стул и, целуя ее руку, сказал с некоторым участием:
— Дорогая Габриэль, я давно вижу, что вы печальны, недовольны, озабочены, но не знаю отчего. Скажите, что с вами, и будьте уверены, что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы устранить от вас всякую неприятность.
Графиня приподнялась.
— Я знаю, что вы добры, Арно, а между тем боюсь, чтоб вы не сочли меня неблагодарной и неразумной. Обещайте мне быть снисходительным и… я признаюсь вам во всем.
Она положила руку на плечо молодого графа и, наклоняясь так близко, что ее щека почти коснулась его щеки, глядела на него простодушным, молящим взглядом.
Горячий румянец покрыл щеки Арно, и глаза его сверкали, когда он прижал к губам ручку, лежавшую на его плече.
— Говорите, Габриэль; вы не можете сомневаться во мне.
— Я бы желала, конечно, чтобы все так добросердечно относились к моим слабостям, — промолвила со вздохом графиня. — Так я сознаюсь вам, Арно, что мысль прозябать жалким образом всю зиму здесь положительно гложет меня. Я привыкла к обществу, к развлечениям; чувствую потребность посещать театры, слушать хороший концерт, а не карканье ворон. И все это возможно без особых хлопот, так как Вилибальд имеет в Берлине дом вполне устроенный; но он не хочет, потому что ревнив, как был и прежде.
— Можете ли вы винить его в этом? — спросил Арно, опустив глаза.
— Ну да, я понимаю, что ему, болезненному и ленивому, не хочется выезжать, и что ревность мучает его, когда я езжу одна. Но может ли он бояться чего-нибудь теперь, когда вы со мной, Арно, вы мой сын, мой брат, мой единственный покровитель там, где нет моего мужа. Мы можем не тревожить его и вместе с тем не плесневеть здесь, и, конечно, никто не осудит меня за то, что я танцую с моим сыном.
— Папа, вероятно, у себя в кабинете, — сказал Арно, вставая. — Я тотчас пойду переговорить с ним. Ободритесь, Габриэль; если только победа возможна, я одержу ее.
Приложив пальчик к губам, она послала ему воздушный поцелуй.
— Идите, Арно, мой дорогой, и возвращайтесь с добрыми вестями. Я буду ждать вас, как моего избавителя.
Исполненный твердой решимости, молодой граф направился в кабинет отца, который в это время спокойно занимался своими счетами. Увидев сына, он положил перо и повел дружеский разговор; но молодой человек, весь занятый своим планом, перевел тотчас речь на аргументы, говорящие в пользу жизни в столице во время зимнего сезона. Граф сначала слушал молча, затем рассмеялся.
— Я понимаю; ты пришел послом, чтоб искусно передать мне желание Габриэли, так как прямые заявления ни к чему не ведут; но, дитя мое дорогое, по многим причинам я не могу согласиться.
— Не можешь ли ты назвать эти причины?
— Да, я буду вполне откровенен. Во-первых, нахожу, что не следует без нужды вводить мою жену в искушение. Не могу не сказать, что она возвратилась совсем иной, что она добра и полна внимания ко мне; но знаю тоже по опыту, какое опьяняющее впечатление производит светская жизнь на молодое, красивое существо, жаждущее поклонений. Когда она увлекается вихрем удовольствий, то не знает меры, а мое здоровье положительно не позволяет мне ездить по всем балам, обедам, концертам, выставкам, театрам и пр. Мне нужен покой. Наконец, мои средства не позволяют мне таких непомерных трат; одни туалеты Габриэли поглощают страшные суммы; и мне потребовалось пять лет экономии и жизни в уединении, чтобы пополнить ущерб, причиненный моему состоянию тремя зимними сезонами. Возобновить подобные безумия было бы непростительно; я должен думать о Танкреде и оставить ему наследство, не обремененное долгами. Арно слушал внимательно.
— Я сознаю справедливость твоих аргументов, папа, но позволь мне некоторые возражения. По-моему, запереть молодую, красивую женщину в уединении, к которому она не привыкла, не приведет ни к чему хорошему и несомненно нарушит необходимые для тебя мир и спокойствие скорее, чем несколько выездов в город, так как, благодаря Богу, ты не какой-нибудь увечный. И наконец, разве я напрасно тут, разве не естественно, чтобы я заменял тебя около моей мачехи? Я буду охранять ее, как сестру, и буду делать это усердно, клянусь тебе, так как честь нашего имени мне дорога так же, как и тебе, я не допущу, чтобы малейшая тень омрачила ее. Что касается денежного вопроса, я понимаю его важность; но позволь указать тебе простой выход из него. У меня в государственном банке значительные суммы, образовавшиеся из процентов с капитала во время моего несовершеннолетия и из экономии деда, который, как ты знаешь, был немного скуповат. Эти деньги мне вовсе не нужны, так как я никогда не исстрачиваю и процентов, — и я прошу тебя взять этот накопившийся капитал, чтобы черпать из него на все, что потребуется на домашние расходы и на туалеты Габриэли сверх того, что ты желаешь тратить.
— Что ты говоришь, Арно! Я никогда не коснусь твоего наследства для пустяков. Нет, нет!
Он покраснел и энергично покачал головой. Но Арно взял руку графа, поцеловал ее и сказал ласково:
— Разве между нами может серьезно существовать вопрос о том, что твое, что мое; уступив моей просьбе, ты дашь мне доказательство любви и окончательного прощения всего, чем я был виновен перед тобой в течение стольких лет. Скажи «да», дорогой папа, и увидишь, как весело и счастливо мы проведем зиму в Берлине. Само собой разумеется, что денежный вопрос останется тайной между нами.
Граф привлек его к себе и поцеловал в лоб.
— Пусть будет, как ты желаешь. Я не имею духа сказать тебе «нет», хотя отказ в этой просьбе был бы разумней; впрочем, обещаю следить, чтобы расходы не выходили из надлежащих границ. А теперь пойдем сообщить эту новость Габриэли; воображаю, в каком она беспокойстве.
Граф не ошибался: долгое отсутствие пасынка привело графиню в лихорадочное состояние, и она побледнела, когда отец с сыном вошли к ней, Но граф весело сказал:
— Твой посол выиграл дело, Габриэль; мы проведем зиму в городе.
С криком радости, вырвавшимся из глубины души, она кинулась в объятия мужа и покрыла его поцелуями.
— Благодарю, благодарю тебя, Вилибальд! Ты, ты положительно лучший из мужей, и как там хочешь, а должен будешь танцевать со мной, уж я тебя не помилую.
— Ну, не знаю, останешься ли ты при этом желании, когда будешь окружена молодыми танцорами, — отвечал граф, смеясь.
— О, ты лучше и дороже всех для моего сердца. — И она прижалась головой к его плечу. — Но у меня к тебе просьба, Вилибальд. Разрешаешь ли ты мне поцеловать нашего доброго Арно, чтобы поблагодарить его за предстоящую веселую зиму; этим я обязана его красноречию, победившему твое непреклонное сердце. Я так благодарна ему!
— О, конечно, он вполне заслужил твой поцелуй. Кроме того, ты должна заискивать в его благорасположении, так как он берется заменять меня и будет твоим почетным кавалером, твоим аргусом.
Сияющая и веселая, как пансионерка, Габриэль привлекла к себе пасынка и долгим, горячим поцелуем прильнула к его губам. «Мой аргус! — промолвила она шутя. Но граф не видел, каким пламенным, чарующим взглядом она заглянула при этом в глаза молодого человека.
Известие о решении покинуть Рекенштейн, было неприятной неожиданностью для Готфрида. Он подозревал, что Арно влиял на это решение, и жалел благородного, честного молодого человека, которого легкомысленная сирена толкала в пропасть, где он мог очнуться слишком поздно.
Спустя три дня Арно поехал в Берлин, так как граф поручил ему заняться устройством их дома. Молодой человек повел дело на широкую ногу. Обновил часть мебели и, чтобы доставить удовольствие Габриэли, заново отделал обширный зимний сад, печальное состояние которого очень ее огорчало.
Благодаря рвению Арно и его деньгам, зимний сад получил снова свой прежний блеск. Он изображал морское дно с гротам и другими фантастическими зданиями из сталактита и раковин; в тени экзотических кустов и водяных растений красовались статуи и наяды; фонтан каскадами ниспадал в мраморный бассейн, и плюшевые скамьи изумрудного цвета манили к отдыху. Вечером, когда лампы, изображающие лилии и цветы лотоса, освещали эти тенистые уголки, когда свет этих ламп блестел, как драгоценные каменья, в мелких, как пыль, брызгах низвергающихся вод, — можно было думать, что находишься в каком-то волшебном мире.
В конце октября Арно уведомил, что все готово для приема семьи, но дела еще задерживали графа в Рекенштейне. Когда же и в начале ноября отъезд все еще не был назначен, раздражение и нетерпение Габриэли достигло своего апогея. Муж ее, заметив это лихорадочное состояние, сжалился над ней и сказал однажды за столом:
— Так как дела все еще задерживают меня здесь, то предлагаю тебе, дорогая моя, ехать без меня с Танкредом. А вы, мой милый Веренфельс, будете сопровождать и охранять мою жену. Мне совестно заставлять ждать долее моего доброго, заботливого Арно, который сгорает нетерпением там, как здесь таким же нетерпением томится моя милая капризница. Дней через двенадцать перееду и я. Габриэль этим временем успеет только разобраться в своих вещах, заказать новые туалеты и отдохнуть к моему возвращению для визитов, которые нам придется с ней делать.
Графиня поблагодарила мужа, но в ту же минуту, краснея от досады, с удивлением устремила взор на Готфрида, так как в ответ на слова графа он возразил:
— Не лучше ли мне остаться, граф, чтобы помочь вам скорей окончить ваши дела; графиню сопровождает такая большая свита, что, мне кажется, вы можете быть совершенно спокойны.
— Нет, нет, с ней отправятся лишь один лакей и две камеристки. Остальных слуг привезу я сам. Мне хочется, чтобы вы ехали, Веренфельс; я буду спокоен за жену и за Танкреда.
После обеда, когда граф ушел, Габриэль, направляясь к себе, остановилась в комнате, смежной со столовой, и, обратись к Готфриду, сказала язвительным голосом:
— Я еду завтра; если вы не будете готовы, месье Веренфельс, я доставлю вам удовольствие остаться здесь, только похищу у вас Танкреда. Как видите, я великодушна и даю вам возможность избежать роли цербера.
Молодой человек почтительно поклонился.
— Я буду готов сопровождать вас, графиня. Что же касается роли цербера, я счел бы ее слишком для себя лестной, и есть ли надобность приставлять такого сторожа к графине Рекенштейн.
Его спокойный властный взгляд пронизал как бы струей холодного воздуха пламенный взор молодой женщины, и она быстро отвернулась.
Придя к себе, графиня от досады кинулась на диван. Этот дерзкий человек осмеливался избегать чести провожать ее.
Ужели он неуязвим, что один из всех остается бесчувственным к ее красоте? Для непомерного самолюбия Габриэли равнодушие было оскорблением, и она решила во что бы то ни стало повергнуть его к своим ногам и хорошенько отомстить. Она не думала теперь о том, что это был человек подчиненный, принадлежащий к тому роду людей, которых она привыкла презирать; нет после найденного сходства между ним и графом Жаном Готфридом, образ Готфрида Веренфельса преследовал ее; что-то бушевало в ее груди, что-то влекло к нему, и сама она не подозревала всей глубины этого неопределенного чувства.
На следующий день графиня уехала в город с сыном и с Веренфельсом. Она, казалось, забыла свое неудовольствие и все капризы, была весела, пленительна, и так как Танкред все время ел, спал или глядел в окно, то Готфрид в течение всего пути служил предметом ее искусного кокетства. Как человек хорошо воспитанный и артистичный, он отвечал любезностями хорошего тона на любезность этой очаровательной женщины. И в самом доброгласии они приехали в Берлин, где Арно ожидал их на дебаркадере.
Рекенштейнский дом был старый, массивный, построенный в царствование Фридриха Великого и сохранивший снаружи и внутри стиль и украшения XVIII века. Войдя в вестибюль, Габриэль была приятно поражена, заметив, что все отделано заново и роскошно. Удовольствие ее увеличивалось по мере того, как они подвигались вперед по длинной анфиладе комнат. При виде своего будуара, этого изящного гнездышка, заново меблированного, с обоями вишневого цвета на стенах и такой же материей на мебели, с зеркалами в золоченых рамах и множеством душистых цветов, она вскрикнула от удовольствия:
— Благодарю вас, Арно, благодарю; это ваш подарок, я в этом уверена. Папа не подумал бы это сделать; порой он очень расчетлив.
— Нет, нет, все это от отца, а мой подарок на новоселье, дорогая Габриэль, я покажу вам после обеда.
Графиня явилась к столу очаровательной и отдохнувшей. Она принимала ванну и оставила распущенными свои чудные непросохшие волосы; лишь два маленьких коралловых гребешка придерживали их с обеих сторон; блестящие шелковистые пряди спускались по ее простенькому платью из серого кашемира, отделанному широкой кружевной фрезой вокруг шеи. Как бы не замечая восхищения молодых людей, она, смеясь, извинилась за свое вынужденное неглиже. После обеда, опираясь на руку Арно, графиня поспешила пойти взглянуть на обещанный сюрприз. Молодой человек, сияя радостью, повел ее в приемные комнаты и, пройдя бальный зал, остановился у двери, ведущей в зимний сад, которая прежде была заделана и завешена. Приподняв портьеру, он дал пройти Габриэли. Она остановилась, как очарованная. Все в этом волшебном месте было залито мягким и приятным светом, который отражался в каскадах и фонтанах; раззолоченные его блеском раковины горели, как в огне; в гротах царил таинственный полумрак. Танкред и Готфрид были тоже поражены, но мальчик прежде всех прервал молчание.
— Арно, ты волшебник! — вскрикнул он, хлопая в ладоши.
Молодая женщина как бы очнулась от сна. И не думая о присутствии своего сына и его восхищении, с сияющим взглядом кинулась на шею молодого графа и, целуя его, твердила: «Благодарю, благодарю!»
Прислонясь к мраморной группе, Готфрид глядел на эту сцену с чувством сожаления к Арно, с чувством досады и отвращения к этой легкомысленной и безнравственной женщине, которая, пользуясь тем, что врожденная честность молодого человека делала его слепым, вливала в его душу смертельный яд. Конечно, так могла благодарить сестра своего брата, мачеха — своего пасынка; но Габриэль была слишком опытной женщиной, чтобы не понимать, какие чувства волновали Арно и выражались в его взгляде. Зачем же позволять себе проявление благодарности в такой опасной форме? Арно не давал себе отчета в том, что происходило в его душе; но случай мог сорвать завесу с его глаз, и каким будет его нравственное состояние, когда однажды он поймет, что питает безумную страсть к жене своего отца.
Как бы почувствовав неодобрительный взгляд, обращенный на нее, Габриэль обернулась и посмотрела на Готфрида; руки ее опустились, и яркий румянец залил ей щеки.
Арно ничего не заметил, так как был слишком возбужден.
— Я глубоко счастлив, что вы довольны, Габриэль. Теперь позвольте мне отвести вас к диванчику, возле которого стоит наяда: она имеет нечто поднести вам.
Место, на которое он указывал, было особенно прелестно. Там, прислоненная к стене, украшенной сталактитами, виднелась огромная раззолоченная раковина, в которой стоял маленький диванчик для двух человек. Возле этой раковины мраморная нимфа держала в поднятой руке букет водяных цветов, в их лепестках скрывались лампы.
Когда Габриэль села, Арно взял с подножия статуи шкатулку с перламутровой инкрустацией и подал ее графине.
— Это мне? — спросила она, рассматривая с любопытством прелестный ящичек с графской короной на крышке.
— Конечно, вам. Это дар, который нимфа приносит своей прекрасной царице.
И Арно показал молодой женщине, как открывается секретный замок шкатулки. Внутри она была обита бархатом и разделена на две части; в одной из них лежало великолепное жемчужное ожерелье с рубиновым фермуаром, в другой — сапфировая парюра. На минуту Габриэль онемела от радости и удивления.
— Арно, — сказала она наконец, — чем заслужила я этот царский подарок, который мне совестно принять. Это, вероятно, ваша наследственная драгоценность.
— Не беспокойтесь, Габриэль. Конечно, я не имею права располагать фамильными драгоценностями, но поднесенные вам парюры принадлежат моей бабушке. И кто больше вас достоин носить этот жемчуг, дорогую для меня память о ней, и эти сапфиры, несовершенное подобие ваших чудных глаз?
Он нежно поцеловал ее руку.
В эту минуту вошел лакей и подал графу на маленьком серебряном подносе визитную карточку. Взглянув на нее, молодой человек встал с большим неудовольствием.
— Простите, Габриэль, что я оставлю вас на минуту. Я должен принять одного моего хорошего знакомого. Это молодой бразилец, с которым я познакомился в Рио-Жанейро, затем я снова встретился с ним в Париже и теперь здесь. Я назначил ему свидание вечером, но он не мог приехать и отложил до сегодня, о чем я совсем позабыл.
Оставшись одна, Габриэль еще раз полюбовалась на свои подарки; потом позвала Веренфельса и сына, чтобы и они поглядели на них, но лишь Готфрид, который тем временем осматривал сад, пришел на ее зов; Танкред же ничего не слышал, весь поглощенный созерцанием большого аквариума, который он нашел в одном из углублений стены.
— Поглядите, месье Веренфельс, какой великолепный подарок я получила от Арно. Как он добр; другие пасынки ненавидят свою мачеху, а он выказывает мне самую преданную любовь.
Готфрид стоял наклоняясь над шкатулкой, но при последних словах графини поднял голову и, устремив глубокий, пытливый взгляд в глаза молодой женщины, сказал:
— Да, графиня, это любовь, но любовь не к мачехе, а просто к женщине. Вы не можете не сознавать, какого рода чувство питает к вам Арно, а потому долг и сострадание разве не предписывают вам не платить ему за любовь злом, не губить его жизнь и его покой. Конечно, я не имею никакого права говорить вам это, я чужой, подчиненный человек в вашем доме, но ваш муж и молодой граф всегда относились ко мне как к другу и совесть моя заставляет меня вам сказать: «Не злоупотребляйте, графиня, своей ослепительной красотой, не толкайте в пропасть вашего пасынка; Арно так благороден и так должен быть свят для вас, что вам нельзя обрекать его на гибель».
Габриэль слушала его, бледная и трепещущая. Ее приводили в бешенство не столько его слова, сколько холодное спокойствие больших черных глаз, устремленных на нее без всякого восторга; они, казалось, читали в глубине ее души и беспощадно осуждали ее преступное кокетство. Бросив парюры, она встала и гордо, презрительно смерила взглядом молодого человека.
— Вы, кажется, бредите среди белого дня, месье Веренфельс, или, может быть, фантастический вид этого зала так омрачил ваш рассудок, что простую дружбу Арно, его сыновнюю преданность, его братские чувства вы объясняете таким гнусным образом. Никто не может мне запретить любить Арно, самая строгая нравственность не может осудить мою любовь к сыну моего мужа. Вам, милостивый государь, я замечу, что уже не первый раз вы позволяете себе переступать границы, которые вам предписывает ваше положение. Дружба моего мужа не дает вам права учить меня; вы приглашены воспитывать Танкреда, а не его мать. И без ваших советов я сумею охранить честь мою и моей семьи.
Бесстрастный вид Готфрида при этом жестоком ответе, странная улыбка, скользнувшая по его губам, подняли бурю гнева в груди Габриэли. И когда он поклонился и проговорил без всякого волнения: «Не премину принять к сведению приказание графини», — она повернулась к нему спиной и быстро вышла из сада.
В своем возбуждении молодая женщина пошла к себе самой дальней дорогой, приемными комнатами. В одной из них она вдруг увидела Арно и незнакомого человека, которые разговаривали с большим оживлением. Смущенная и недовольная, графиня остановилась; она не могла уйти назад, так как молодые люди заметили ее и поспешно встали.
— Извините, дорогая Габриэль, что я не предупредил вас, что мы поместимся в этой проходной комнате, — сказал Арно. — Но если на долю моего друга выпала такая счастливая случайность, то позвольте мне представить вам дон Район Диоза, boello у Arrogo графа де Морейра. — Затем, обратясь к гостю: — Моя мачеха, графиня Рекенштейн.
Иностранец низко поклонился, но его черные, пламенные глаза впились в лицо молодой женщины с таким страстным восхищением, что легкая улыбка шевельнула румяные губки Габриэли, она протянула руку бразильцу, приветливо пригласила его от имени мужа быть частым посетителем их дома, затем извинилась и ушла.
— Madre de Dios! — воскликнул дон Рамон; глаза его горели восторгом. — Не сон ли это? Ужели я видел живое существо, а не небесное видение! Ах, граф, как я завидую вам, что вы сын такой женщины. Чтобы видеть ее, беспрерывно любоваться ею, принадлежать ей, я был бы рад обратиться в ее болонку.
— Ну, дон Рамон, ваша тропическая кровь снова заговорила в вас с необузданной силой, — сказал Арно, смеясь. — И без такой трудной метаморфозы вы можете видеть графиню и любоваться ею, если только останетесь в Берлине.
— Я не собираюсь уезжать, — ответил поспешно пылкий молодой человек.
За чаем Арно передал Габриэли свой разговор с доном Рамоном.
— Мало сказать: вы победили его сердце, вы убили его наповал, — заключил он, смеясь. — И я боюсь, что у вашего стража чести будет много хлопот, чтобы удержать в границах благоразумия кипящую лаву его чувств.
В следующие дни графиня была почти невидима; бегала по магазинам, делала бесчисленные покупки и заказы и деятельно приготовляла себе зимние туалеты. Габриэль нашла в ящике своего стола портфель, туго набитый банковыми билетами. Она знала, от кого это, и сердце ее наполнилось торжествующей радостью. Власть, которую она приобрела над Арно и его кошельком, открывала богатый источник для ее любви к расточительности; к тому же неведомый для мужа источник, из которого она готовилась черпать смелой рукой. Несмотря на эту неожиданную радость, на перспективу мотовства и безумной роскоши, которые ей готовила зима, Габриэль не вполне была счастлива. Какое-то тайное беспокойство, какая-то непонятная пустота томила ее душу. И эта тоска сменялась порывами досады при виде человека, присутствие и голос которого, однако, заставляли биться ее сердце все с большей силой, человека, которого она хотела ненавидеть, но который был ей нужен, как воздух, если она долго не видела его.
После тяжелой сцены в зимнем саду Готфрид держался крайне сдержанно, избегал насколько возможно общества графини, ограничивался той долей вежливости, которую он был обязан оказывать хозяйке дома, никогда не говорил с ней, а когда глаза их встречались, взгляд его скользил по ней с холодным равнодушием и, казалось, не видел ее. В подобные минуты сердце Габриэли переставало биться; она желала бы уничтожить дерзкого, но еще более желала повергнуть его к своим ногам.
Арно заметил эти натянутые отношения и решил спросить Габриэль, что это значит. Однажды утром, накануне приезда графа, Готфрид был свободен; у Танкреда болела голова, он не мог заниматься и лег уснуть. Пользуясь этим, молодой человек пошел в библиотеку читать журналы. Он сидел в амбразуре окна, погруженный в чтение интересной научной статьи, как вдруг услышал, что кто-то вошел в соседнюю комнату; затем раздались голоса Арно и графини. Сперва он не обращал никакого внимания на их разговор, но одна фраза графа, произнесенная несколько громче, заставила его поднять голову.
— Я давно хочу спросить вас, что было причиной холодного тона, который установился между вами и Веренфельсом. Он как будто избегает вас.
— Право, не знаю. Я так мало занимаюсь расположением духа служащих у меня людей, — отвечала небрежно Габриэль, — и не думаю, чтобы вообще мог существовать какой-нибудь тон между господами и прислугой.
— Мне тяжело слышать, что вы говорите, Габриэль, и умоляю вас, не употребляйте никогда таких несправедливых и неуместных выражений, когда речь идет о таком уважаемом человеке, которого я чту как своего друга. Я подозреваю, что Готфрид рассердил вас чем-нибудь, но как вы можете до того увлекаться гневом, чтобы ставить в число слуг того, кто воспитывает вашего ребенка. А потом я должен вам напомнить, что хотя несчастье и вынудило Готфрида стать в зависимое положение, он все-таки остается таким же дворянином, как и мы. Бароны Веренфельсы ведут свой род с Крестовых походов, и последний их представитель не отличается от своих предков ни своей наружностью, вполне аристократической, ни своими благородными принципами.
Лицо Готфрида вспыхнуло от дерзких слов Габриэли, но, с трудом овладев собой, он остался на своем месте, прислушиваясь, что будет далее.
— Боже мой! Перестаньте бранить меня, Арно, из-за этого красавца, в которого вы с Вилибальдом решительно влюблены, — отвечала шутливо графиня. — Скажите лучше, какой цвет мне выбрать для первого бала, на который вы меня повезете первого декабря к барону X.
— Могу ли я вас бранить, Габриэль! Неужели Веренфельс позволил себе что-нибудь в этом роде? Бедный малый! Какая злая доля — не понравиться самой красивой женщине в мире.
— Опять о нем! Это просто невыносимо. Впрочем, вы имеете способность угадывать. Мне кажется, что этот дуралей вменяет мне в преступление дары, которыми наделила меня природа. Ах, виновата, скажу иначе, так как вы этого желаете, Арно. Этот достойнейший человек, кажется, ничего не смыслит в красоте. Он замечательный агроном; и в поле, в конюшне он совсем на своем месте, но на паркете чувствует себя неловко. Его идеал, вероятно, здоровая деревенская женщина с широкими, как валек, руками, толстощекая и румяная, как мак. Конечно, такую женщину он предпочел бы Венере Милосской, если только понимает разницу; но вернее всего, что он не умеет отличить коровы от порядочной женщины.
Последние слова графиня говорила с ожесточенным удовольствием, возвысив голос и отчеканивая каждое слово. И все потому, что она вдруг увидела Готфрида в зеркале, отражавшем через открытую дверь окно, возле которого он сидел и, казалось, был погружен в чтение журнала.
Следя за направлением взгляда Габриэли, Арно тоже увидел предмет их разговора и покраснел до корней волос.
— Боже мой, что, если он слышал! — прошептал он.
— Тем лучше, — отвечала она с вызывающим смехом. — Но довольно на эту тему; перейдем опять к более важному, к моему бальному туалету. Вы еще не сказали мне, какой ваш любимый цвет.
— Розовый, цвет зари, и молодости и… любви, — сказал Арно, глядя с благоговением на прелестное личико, обращенное к нему.
— Так решено; я буду в розовом. А теперь до свидания; моя модистка, должно быть, ждет меня.
Она послала ему воздушный поцелуй и исчезла.
С тяжелым беспокойством граф прошел в библиотеку; он хотел как-нибудь оправдать неприличную выходку своей мачехи. Но при его появлении Готфрид, закрыв книгу, так флегматично поднялся с места, что Арно стал думать, что он ничего не слышал из их разговора. А когда затем Арно предложил ему ехать с ним вечером в театр, то Веренфельс так охотно согласился, что граф окончательно пришел к убеждению, что весь этот эпизод ускользнул от слуха молодого человека, поглощенного чтением.
На следующий день приехал граф Вилибальд и был очень нежно принят своей женой. Когда затем он увидел роскошное устройство зимнего сада и пр., то, покачав головой, сказал сыну:
— Исполняя мое поручение, ты так увлекся щедростью, дорогой мой Арно, что я боюсь, не соединилась ли в тебе расточительность твоего прадеда с расточительностью твоей милой мачехи.
День первого бала, на котором должна была появиться Габриэль, наконец настал.
Граф хотел сопровождать ее, точно так же, как перед тем делал с ней визиты; но на этот раз легкая простуда удержала его, и было решено, что Арно один будет сопровождать Габриэль. Вечером граф сидел в столовой с обоими сыновьями и с Веренфельсом. Чай отпили, и лишь Танкред продолжал грызть сухарики, перелистывая книжку сказок, которую он получил в этот день от отца. Арно, молчаливый и рассеянный, часто поглядывал на часы.
Готфрид дорого бы дал, чтобы уйти из комнаты. При воспоминаниях об оскорбительных словах, пущеных графиней на его счет и ничем им не заслуженных, все возмущалось в нем; но граф стал продолжать начатый разговор и отнял у молодого человека всякую возможность исчезнуть, хотя бы для того чтобы отвести спать Танкреда; мальчик получил позволение дождаться прихода матери.
Послышался шелест шелкового платья, и все повернули голову к дверям. В комнату вошла Габриэль, держа на руке sortie de bal, и, улыбаясь, остановилась между столом и камином, вся залитая светом ламп. На ней было розовое атласное платье, покрытое кружевными воланами, приподнятыми с одной стороны длинными ветками роз; бриллианты сверкали, как роса, на цветах и на листьях, и гирлянда полураспустившихся роз обвивала ее черные кудри, на шее было надето жемчужное ожерелье — подарок ее пасынка. Никогда еще дивная красота молодой женщины не являлась в таком ослепительном блеске; ей можно было дать восемнадцать лет, когда с простодушной, сияющей улыбкой она взглянула на мужа.
Даже Готфрид не мог не восхищаться ею. Она была прекрасна, как Армида, но и так же опасна, как она. Арно, глядевший на нее в безмолвном экстазе, служил тому доказательством. Глаза графа горели гордостью и любовью, когда он подошел к ней и, целуя ее в лоб, сказал улыбаясь:
— Ты сделаешь многих несчастными сегодня на балу.
Как бы в возмущении графиня прислонила голову к плечу мужа; но из-под опущенных ресниц пламенный, нерешительный взгляд искал лицо молодого наставника, который, опершись на резной буфет, казался вполне равнодушным. Когда его черные глаза скользнули по ней, как бы не видя ее, такие холодные и бесхитростные, как будто глядели на какую-нибудь мебель, дрожь злобы пробежала по телу молодой женщины, и она быстро подняла голову. Граф еще раз окинул ее восхищенным взглядом.
— Никогда я не видел тебя такой красивой, дорогая моя, и жалею, что здесь нет живописца.
— Папа, месье Веренфельс живописец, — воскликнул Танкред, — он рисует красивые картины и портреты.
— Вы художник? — спросил с удивлением Арно.
— Не более, как любитель, и очень слабый, — отвечал молодой человек, слегка краснея.
— Вы слишком скромны, мой юный друг, — сказал весело граф, — но, как артист, вы, конечно, разделяете мое мнение, что в этом туалете Габриэль достойна кисти великого художника.
— К сожалению, граф, я не могу выразить моего мнения по этому поводу, так как, по словам графини, я не способен отличить коровы от красивой женщины. Кроме того, я состою, по словам графини, в числе прислуги вашего дома, что исключает с моей стороны всякое выражение вкуса и восхищения, не допускаемое в слуге.
Голос и взгляд молодого человека были проникнуты враждебной холодностью, и по мере того как он говорил, лицо графини все более бледнело.
— Габриэль, что это значит? — спросил граф, с удивлением насупив брови.
Ничего не отвечая, молодая женщина повернулась спиной к мужу и вышла из комнаты. Арно последовал за ней и в передней, помогая ей надеть шубу, прошептал:
— Я говорил вам, что Веренфельс не вынесет незаслуженных оскорблений.
— И отлично: я только того и требую, чтобы, наконец, выгнали из дома этого олуха, — отвечала она, и губы ее дрожали от бешенства. — Было бы слишком, если бы обидчивость моих слуг доходила до того, чтобы они позволяли себе говорить мне в глаза дерзости.
Стараясь всячески успокоить ее и очень огорченный ее волнением, Арно сел с ней в карету в надежде, что бальное оживление и предстоящий триумф сгладят это неудовольствие.
После поспешного ухода жены граф Вилибальд послал Танкреда спать, но удержал Готфрида, который хотел последовать за своим учеником.
— Я очень сожалею, — сказал граф, как только они остались одни, — что вы были оскорблены в моем доме так грубо. И кем же? Моей женой. Теперь прошу вас, Веренфельс, сказать мне, что тут случилось без меня? С самого моего приезда я замечаю между графиней и вами какую-то тайную вражду. Вероятно, вы опять поссорились с ней из-за Танкреда. И по какому случаю она отпустила вам такие любезности?
— Графиня, — отвечал Готфрид, — произнесла упомянутые мною слова в присутствии графа Арно. Он может дать вам все подробности, которые вы желаете иметь. Вообще, мы во многом расходимся с графиней, которая требует, чтобы все были рабами ее капризов, но я раб лишь своего долга. Я умею с должным почтением выносить ее неудовольствия, но позволить, чтобы она ставила меня в число лакеев, говорила бы, что я невозможен в салоне, как такой олух, место которого на конюшне или скотном дворе, и тому подобное, это не согласуется с моим достоинством. Я не могу оставаться в семействе, где без всякой причины подвергаюсь риску быть оскорбленным хозяйкой дома. И поэтому я пользуюсь случаем — которого ищу с минуты вашего приезда, — чтобы поблагодарить вас, граф, за вашу доброту ко мне и попросить найти кого-нибудь на мое место.
Вы, конечно, понимаете и извините мое решение оставить ваш дом как можно скорее.
В мрачном раздумье граф слушал его, не прерывая.
— Хорошо, Веренфельс, довольно сегодня на эту тему; мы поговорим об этом после. Добрый вечер.
Он пожал ему руку и, раздосадованный, пошел к себе.
На следующий день утром Арно пришел, по своему обыкновению, поздороваться с отцом и узнать о его здоровье. Озабоченный, раздраженный вид отца заставил его понять, что готовится гроза.
— Что с тобой, папа, ты как будто недоволен?
— Да, и имею на то основательную причину. Вчера вечером Веренфельс отказался от места и заявил, что желает как можно скорей оставить дом, где он не огражден от самых грубых оскорблений. Таким образом, мне угрожает потеря в его лице моей правой руки и человека, который имеет такое благотворное влияние на Танкреда, и все это из-за глупых капризов и возмутительного обращения, которое позволяет себе с ним Габриэль.
— Как это прискорбно, — прошептал Арно. — Но, быть может, оно и к лучшему, так как Габриэль тоже требует, чтобы ему отказали.
— Что такое? Она осмеливается требовать, чтобы он покинул нас, тогда как сама без всякой причины оскорбила его, — сказал граф, бледнея от досады. — Я должен радикально разубедить ее. Меня утомили все эти пертурбации в моем доме, вызываемые ее причудами. Я не хочу, чтобы Веренфельс уехал, и тотчас пойду объявить Габриэли, что если она не извинится перед Готфридом и не устроит так, чтобы он остался, я на этой же неделе уеду с ней в Рекенштейн; и там она сама будет смотреть за Танкредом и учить его, так как ради потехи выгоняет человека, который избавляет ее от этого труда.
Молодой граф покраснел до корней волос.
— Отец, ужели ты серьезно думаешь требовать от своей жены такого унижения? И я предсказываю тебе, что Габриэль на это не согласится. Выходка Веренфельса тоже превзошла границы; нельзя говорить порядочной женщине, что ее не могут отличить от коровы.
— Ах, отлично можно, раз эта порядочная женщина забывается до того, что вызывает такую выходку, причисляя к лакеям воспитателя своего сына. Я попрошу тебя, мой милый Арно, не вмешиваться в дело, которое исключительно касается меня и должно кончиться так, как я желаю. Твоя маменька слишком широко пользуется удовольствиями зимнего сезона в столице, чтоб не постараться всячески не лишить себя этого. Кстати, не знаешь ли, от кого могла быть прислана сегодня на имя Габриэли корзинка с цветами?
— Должно быть, от графа де Морейра. Не смущайся этим, отец; граф Рамон отличный малый, но, как бразилец, он немного экзальтирован, и красота Габриэли положительно помрачила его рассудок.
Граф насупил брови, ничего не отвечая. И Арно, находясь в тяжелом волнении, поспешил уйти и даже не остался дома, желая успокоиться на свежем воздухе и избежать предстоящих сцен.
Расположившись на диване в своем кабинете, Габриэль отдыхала от утомлений бала. Она вертела в руках розу, выдернутую из корзины с чудными цветами, которая стояла на столе возле нее. С задумчивой рассеянностью она мяла, обрывала цветок, и было очевидно, что это благоухающее приношение дона Рамона, равно как и он сам, не занимали ее мыслей. Мечты молодой женщины были прерваны появлением камеристки, доложившей о приходе графа. С видимой досадой она приподнялась, но, тотчас скрыв свое чувство, опять улеглась на диван и, когда вошел муж, лицо ее было приветливо и спокойно.
Граф был озабочен, рассеянно поклонился жене и, не поцеловав ей руку, как делал это всегда, взял стул и сел против нее. «Ах, — подумала она, — он пришел бранить меня за вчерашнюю историю». Но громко, совсем невинным тоном, спросила его с участием:
— Как ты бледен, Вилибальд; ты, верно, дурно спал?
— Да, Габриэль, я дурно спал, и по твоей вине. Вчера после твоего ухода Веренфельс отказался от места.
— И умно сделал после беспримерной дерзости, какую позволил себе против меня.
— Он поступил согласно мнению, которое ты высказала так громко, что он мог слышать, и, сознаюсь, его резкость, тобой же вызванная, удивила меня менее, чем то обстоятельство, что моя жена выказала такое отсутствие такта и хорошего воспитания. Оскорбить грубыми неприличными словами честного человека, которого несчастье поставило в зависимое от тебя положение, — неслыханное дело для женщины твоего звания.
Графиня зевнула и, лениво потягиваясь, сказала:
— Боже мой! Ты, кажется, обвиняешь меня. Неужели я такая невольница, что в своем доме, разговаривая с сыном, не могу высказать своего мнения? Тем хуже для месье Веренфельса, если он шпионит и подслушивает у дверей, как настоящий лакей. Быть может, это проявление сильной обидчивости имело целью добиться прибавки жалованья, А если он в самом деле так оскорблен, пусть уезжает; никто о нем не заплачет.
Граф слушал с нарастающей досадой.
— Твои капризы совершенно ослепляют тебя. Веренфельс твердо решился оставить наш дом, но я не хочу лишиться этого человека. Он необходим для Танкреда, который преобразился под его влиянием. Когда ты мне возвратила мальчика, то речь и манеры его были таковы, что можно было предположить, что он рос в обществе хуже лакейского. Так вот я пришел тебе сказать, что предоставляю тебе выбрать одно из двух: возвратиться в Рекенштейн, чтобы там посвятить себя воспитанию сына, или же извиниться перед Веренфельсом, уговорить его остаться, обещая ему на будущее время относиться к нему надлежащим образом.
— В своем ли ты уме? — спросила Габриэль, задыхаясь от волнения; ее тонкие ноздри трепетали, и дрожащими пальцами она ощипывала цветок, который держала в руках.
— В полном рассудке и повторяю, что до завтрашнего вечера даю тебе время обдумать; а затем, если Веренфельс останется при своем решении, я всех перевезу в Рекенштейн. Не хочу более сцен в моем доме из-за твоих беспричинных капризов и твоих фантазий. И, клянусь честью, сдержу слово, отвезу тебя в замок и не буду давать ни одного талера на твои туалеты. Не рассчитывай и на Арно относительно этого пункта; считая себя виноватым, что ненавидел тебя прежде, он хочет загладить эту вину своей щедростью, как проявлением сыновней любви. Но я сумею запретить ему всякое вмешательство в это дело.
Бледная, с пылающим взглядом Габриэль вскочила с дивана так порывисто, что корзина с цветами покатилась на пол.
— Мне, твоей жене, ты осмеливаешься предлагать такой выбор?! — взвизгнула она. — Ты опять хочешь выгнать меня своей грубостью? И на этот раз из-за такого…
Голос изменил ей.
Граф тоже встал. Он был бледен, но спокоен; ему были известны эти сцены бешенства и упреков, этот ад, который заел его и состарил преждевременно.
— Успокойся, Габриэль; подобные припадки бешенства разрушают здоровье, — сказал он, кладя руку на ее плечо. — И позволь тебе заметить, что ты слишком злоупотребляла подобными сценами, чтоб это могло еще производить на меня впечатление. Я простил тебе не с тем, чтобы ты снова начала эту игру; терпение мое истощилось, и ты забываешь мои права на тебя. С моего разрешения ты не уедешь как в первый раз; если же ты сделаешь это без моего согласия — я разведусь с женщиной, которая два раза бежала из моего дома. И тогда ты ничего не получишь от меня, кроме пожизненной пенсии.
Графиня слушала, широко раскрыв глаза и трепеща от злобы.
— А, — воскликнула она, сжимая голову обеими руками, — да будет проклят день, в который я вымаливала твоего прощения и отдалась в твою власть, связывающую по рукам и ногам.
Повелительный тон и твердый взгляд мужа убедили ее, что угроза его была серьезна. Охваченная безумным бешенством, она кинулась к графу и крикнула, топая ногами:
— Уйди прочь, избавь меня от твоего омерзительного присутствия; я ненавижу тебя. Слышишь ты?
Граф отступил, побледнев и сдвинув брови; но он вынес слишком много подобных бурь, чтобы испугаться этой сцены.
— И я того же мнения, что тебе необходимо остаться одной. Ты знаешь теперь мою волю, и я ни на йоту не отступлю от сказанного.
Когда Габриэль осталась одна, ею овладел как бы припадок сумасшествия. Она кричала, бегала по комнате, рвала на себе платье, билась головой об стену и, наконец, обессиленная упала на ковер, усыпанный обрывками батиста, кружев, измятых лент, ощипанных цветов. Сицилия, ее преданная камеристка, которая служила ей с самого ее супружества, знала по опыту, какие меры принимать в подобных случаях. Она подняла ее и отнесла на кровать; затем омыла лицо графини розовой водой, положила на лоб компресс и дала успокоительных капель.
Молодая женщина отдалась в ее распоряжение; полный упадок сил сменил безумное возбуждение. Мало-помалу она успокоилась и заснула тяжелым сном, который продолжался несколько часов.
Ни к завтраку, ни к обеду графиня не появилась. Танкред хотел войти к ней, но Сицилия не пустила его.
За обедом мальчик сообщил о своей неудавшейся попытке навестить мать. Готфрид тотчас понял причину этой болезни; но так как граф ничего на это не сказал и не упомянул об их вчерашнем разговоре, то и Веренфельс промолчал и поспешил уйти со своим воспитанником к себе.
Наблюдая, несколько рассеянно в этот раз, за своим учеником, который приготовлял уроки, молодой человек предался раздумью. Необходимость оставить дом, где он рассчитывал найти спокойную, надежную пристань, сильно смущала его. Вместе с тем его преследовал образ Габриэли, мысль, что эта женщина втайне любит его, неотвязно приходила ему на ум.
Он уловил накануне пламенный предательский взгляд, искавший его взгляда. Но он отгонял от себя подобное предположение, припоминая лишь дерзкие, презрительные слова, которыми она осыпала его.
V. Извинение
Было часов около восьми, когда лакей пришел доложить Готфриду, что кто-то желает с ним говорить и просит его выйти в коридор. Молодой человек встал несколько удивленный; но им овладело чувство неудовольствия, когда он увидел, что его ожидала Сицилия, камеристка графини.
— Извините, что я беспокою вас, господин Веренфельс, — сказала она, видимо смущенная, — но графиня прислала меня спросить вас прийти к ней на минуту по делу.
Веренфельс сморщил брови.
— К сожалению, я не могу исполнить требования графини, и у нас с ней нет никакого дела, насколько мне известно. Но если ей угодно прислать мне сказать, какое это дело, то я к ее услугам.
Сицилия не двигалась с места и в волнении крутила край своего передника.
— Месье Веренфельс, — сказала она вдруг, понижая голос, — прошу вас, не усложняйте еще более того, что и так очень сложно, и не отказывайтесь от коротких переговоров, которые избавят всех от больших неприятностей. Позволю себе сказать вам, что сегодня утром была весьма неприятная сцена из-за вас между барином и барыней. Старый граф бывает подчас очень жестоким.
Готфрид понял, что графиня решилась извиниться перед ним по требованию графа. Это ставило молодого человека в тяжелое положение, но мог ли он, несмотря на свое к тому отвращение, отказаться от этого свидания?
— Хорошо, я иду.
Камеристка попросила его подождать в маленькой приемной, затем, приподняв портьеру, сказала:
— Пожалуйста, графиня ждет вас.
Готфрид вошел в будуар, освещенный лампой, подвешенной к потолку; другая лампа, под кружевным абажуром на красной шелковой подкладке, стояла на столе возле дивана.
В комнате, казалось, никого не было. Молодой человек взглянул вокруг с удивлением, но в ту же минуту он увидел Габриэль, сидевшую на подоконнике, покрытом плюшевой подушкой. Она была в белом пеньюаре, и ее длинные, черные косы резко выделялись на нем.
Готфрид, взглянув на нее, тотчас понял, чего ей стоило свидание. Она была бледна, как ее белое платье, и руки ее, опущенные на колени, были крепко сжаты. Он подошел к ней, холодно поклонился и, устремив на нее взор, спросил:
— Что вам угодно графиня? Я к вашим услугам. Габриэль хотела ответить, но ее дрожащие губы отказывались ей служить.
— Я помимо моей воли тревожу вас, графиня, и, надеюсь, что вы скоро будете совершенно избавлены от моего присутствия, — сказал Готфрид с горечью.
Молодая женщина с трудом преодолела себя и, указав рукой на стул, промолвила:
— Я для того именно и желала видеть вас, чтобы просить остаться при моем сыне и не покидать нашего дома.
— Это невозможно, графиня, после того, что произошло.
— Но я хочу тоже выразить вам мое сожаление, что оскорбила вас, и обещаю, что никогда впредь вы не будете иметь причины жаловаться на недостаток уважения к вам. Если же вы останетесь при своем намерении отказаться от места, то это может вызвать мой развод с мужем. А я не думаю, чтобы вы желали этого.
Она говорила медленно, будто ей не хватало воздуха, затем замолчала и устремила глаза на своего собеседника. Множество разнородных чувств отражалось на его красивом, выразительном лице. Прежде всего он был неприятно удивлен; затем его смутила мысль, что из-за него разразилась такая гроза между супругами; но когда взгляд его упал на врага, на эту красивую, молодую женщину, так смирившуюся перед ним, в сердце его мгновенно пробудилось все его рыцарское великодушие; он быстро подошел к Габриэли и со свойственной ему симпатичной откровенностью сказал:
— Я остаюсь, графиня, и молю вас простить мне резкие слова, которые вырвались у меня вчера и были для вас причиной неудовольствия; это тем более тяжело, что я сам виноват, позволив себе в зимнем саду коснуться неосторожно оскорбившего вас вопроса. Я пойду сейчас сказать графу, что остаюсь при вашем сыне. Избави меня Бог быть невольной причиной семейного несчастья.
Габриэль слушала, прислоняясь к окну и закрыв глаза. Хаос чувств кипел в ее груди. Она ненавидела Готфрида за его холодность, за унижение, которого он ей стоил; но когда его враждебная сдержанность смягчилась, когда на нее устремились его глаза, горящие сердечным сожалением, вся злоба ее исчезла и уступила место странному мучительному чувству, непобедимому очарованию, которое приводило ее в упоение.
При последних словах молодого человека она подняла голову.
— Отчего вы говорите: «семейное несчастье»? Разве вы в самом деле думаете, что развод со старым, больным и жестоким человеком может быть для меня несчастьем? Когда сорокалетний мужчина искушает пятнадцатилетнюю девочку своим титулом, своим богатством, своим положением, реакция сердца неизбежна. И я не хочу более отрицать. Да, я люблю Арно, и ваши упреки в зимнем саду вполне заслуженны. И так как я не могу принадлежать моему пасынку, то не хочу развода. Неужели преступление, что я люблю Арно и желаю быть им любимой?
— Я не имею права судить о таком щекотливом вопросе. Могу только жалеть графа Арно. Но я думаю, графиня, что вы ошибаетесь в ваших собственных чувствах.
Готфрид говорил без всякой задней мысли, но в Габриэли слова: «вы ошибаетесь в ваших собственных чувствах» вдруг подняли сильную бурю. Давно она подозревала, какого рода чувство внушал ей Веренфельс, и теперь ее волнение не оставило ей никакого сомнения насчет несчастной страсти, покорившей ее ветреное сердце. И это сознание внушило ей мысль солгать, что она любит Арно.
Что значили слова Готфрида? Было ли то случайное мнение, или он подозревал истину, действительную причину ее ненависти, такой гордой, пылкой и страшной? Ей казалось, она умрет под тяжестью унижения от мысли, что холодный, сдержанный молодой человек угадал ее тайну. В эту минуту взоры их встретились, и в одно мгновение Готфрид понял то, что лишь подозревал. Под мимолетным впечатлением синие глаза выдали тайну, и лицо Габриэли вспыхнуло.
Графиня почувствовала себя сраженной; все чувства в ней дрожали, сердце ее билось так, что готово было разорваться, в глазах потемнело, и, боясь упасть с подоконника, она встала и ощупью искала спинку ближайшего кресла. Веренфельс невольно опустил глаза и хотел поспешно уйти, но, заметив смертельную бледность на лице Габриэли, которая с помутившимся взглядом едва держалась на ногах, он кинулся, чтоб поддержать ее.
— Боже мой! Вам дурно, графиня?
Его голос заставил ее очнуться; похолодевшие пальцы оттолкнули его руку, но едва она попробовала двинуться с места, как голова ее закружилась, и, изнеможенная волнениям этого дня, она упала без чувств на ковер.
Готфрид, не менее бледный, чем она, стоял с минуту, устремив глаза на простертую у его ног женщину. В нем тоже бушевали чувства и помрачали его обычное присутствие духа. Сознавать себя любимым — опасный яд.
Выйдя с трудом из своего душевного оцепенения, он нажал пуговку звонка и, как только вошла Сицилия, хотел уйти, но камеристка удержала его.
— Сделайте милость, помогите мне отнести графиню на кровать. Эта глупая Гертруда станет болтать в людской, когда узнает, что графиня упала в обморок во время разговора с вами. Потому я не хочу ее звать, а одной мне не справиться.
Ничего не отвечая, молодой человек поднял Габриэль и, предшествуемый камеристкой, которая указывала ему дорогу, принес и положил ее на кровать. Спальня Габриэли была прелестная комната, достойная своей обитательницы. Стены и мебель были обтянуты белым муаром; кровать с балдахином была украшена драпировкой из той же материи, с золотыми пасмантри и с вышивками; лампа под бледно-голубым колпаком разливала нежный свет, подобный свету луны.
Эта волшебная обстановка не могла не произвести некоторого впечатления на Готфрида. Со стесненным сердцем он стоял с минуту, устремив взгляд на Габриэль. Она лежала неподвижно на кружевных подушках, с закрытыми глазами, бледная и прозрачная, как идеальное видение. Затем вдруг, оторвав глаза от опасного созерцания, он поспешно ушел.
Сицилия стояла к ним спиной и озабоченно рылась в шкафчике, наполненном пузырьками с лекарствами и коробками с порошками. По уходу молодого человека, она подошла к кровати и стала заботливо ухаживать за своей госпожой. Хитрая камеристка знала графиню до тонкостей, была ее поверенной и имела на нее хотя и скрытое, но большое влияние. Для Сицилии причина ненависти Габриэли к воспитателю не была тайной, она угадывала ее, и эта сокрытая любовь, более упорная всех мимолетных увлечений ее пылкой и прихотливой госпожи, не нравилась ей.
Веренфельс вернулся к себе тяжело взволнованный. Графиня любила его, он больше в этом не сомневался. Но какое фатальное положение создавала ему эта страсть.
«Уезжай, несмотря ни на что. Твой долг покинуть этот дом, — нашептывал ему его добрый гений. — Бороться против любви такой красивой женщины опасно; не играй с огнем, обожжешься!» Но другой голос, под внушением какого-то необъяснимого чувства, шептал ему: «Ты не можешь уехать, обещая остаться. Имеешь ли ты право вызывать семейную ссору?» И он чувствовал себя как бы прикованным невидимой цепью.
Молодой человек облокотился, сжимая рукой пылающий лоб. Колеблясь между двух противоречивых внушений, он решился на компромисс, эту первую ступень падения. И сказал себе: «Я уеду, но не сейчас, буду ждать первого приличного предлога».
Так как Готфриду хотелось покончить скорей с этими колебаниями, он встал и тотчас пошел к графу, где нашел и Арно, который только что возвратился в замок.
— Граф, — сказал он после короткого обмена незначительными фразами, — я пришел извиниться за резкость моих вчерашних слов и поблагодарить вас за ваше доверие и доброту ко мне, превышающие мои заслуги; с глубокой благодарностью я остаюсь в вашем доме и по-прежнему буду заниматься воспитанием Танкреда.
— Вы объяснились с моей женой? Обещала она быть впредь благоразумней?
— Я сейчас говорил с графиней и пообещал не делать ничего, что могло бы причинить ей неудовольствие. Ах, граф, вы поставили меня в очень неловкое положение; я и не воображал, что вы так строго отнесетесь к этому вопросу. Тяжело видеть, когда женщина вынуждена смириться, а графине было так трудно этому подчиниться, что, когда я ушел, ей сделалось дурно.
Арно слушал молча, но при последних словах у него невольно вырвалось глухое восклицание, и, как только Готфрид ушел, он сказал с волнением:
— Как ты мог, отец, отнестись к Габриэли с такой безжалостной суровостью? Личное извинение было совершенно излишне. Веренфельс мог бы удовлетвориться и чем-нибудь меньшим для того, чтобы остаться. Вчера он достаточно отплатил за обиду. Бедная женщина! Что если ее здоровье пострадает от такого тяжелого унижения?
— Милый Арно, если б ты имел счастье быть, как я, одиннадцать лет мужем Габриэли, — сказал он спокойно, с горькой улыбкой, — ее обморок не встревожил бы тебя так. Богу известно, каких мук мне стоило это завидное счастье. От души желаю, чтобы судьба избавила тебя от такой доли и послала бы тебе жену кроткую, чистую и любящую, как была твоя мать. С нею я наслаждался истинным счастьем и душевным спокойствием. Но женщины, которые обладают демонической красотой, как Габриэль, вызывающей страсть, но ничего не дающей сердцу, и поклоняются лишь самим себе, — неизбежно делают человека несчастным. Я привык к этим супружеским бурям, они разыгрывались всегда вследствие моей неуступчивости, моего нежелания сделаться нищим. Габриэль разорила бы каждого, будь он богат, как царь, если бы дать ей волю.
Молодой граф опустил голову. Несмотря на свое ослепление, он чувствовал, что отец прав и что, конечно, он должен был много страдать, чтобы состариться прежде времени и иметь силу сопротивляться женщине, которую так страстно любил.
— Ты навестишь ее? — спросил он тихо.
— Нет, это вызвало бы новую сцену, — сказал спокойно граф. — Она очень сердита, что я осмелился принудить ее к чему-нибудь, и не захочет меня видеть. Ко всему этому надо относиться терпеливо. Конечно, в первые годы нашего супружества такие раздоры отнимали у меня сон и мирное настроение духа, и я заплатил тяжелую дань нравственной борьбы, прежде чем приобрел необходимое спокойствие, чтобы выносить такие бури. Но ты, Арно, пойди к ней, поговори с ней серьезно и узнай, не нужно ли ей доктора.
— Я сейчас иду, отец, раз это ты позволяешь, я постараюсь ее успокоить.
Молодой человек вышел очень взволнованный и взглядом, брошенным на супружеские отношения отца, и мыслью, что он проникнет в святилище этой пленительной женщины.
Сицилия радостно встретила его у дверей комнаты графини.
— Слава Богу, что вы пришли, граф, — воскликнула она. — Ваше присутствие, конечно, хорошо подействует на графиню; она в страшно нервном состоянии.
И, не предупредив Арно, что ее госпожа уже в постели, впустила его к ней.
Бледный, со стесненным сердцем, он остановился на минуту у порога, затем легкими шагами приблизился к постели и склонился над Габриэлью, которая лежала с закрытыми глазами, меж тем как слезы тихо катились по ее побледневшим щекам.
— Как вы себя чувствуете, дорогая Габриэль? — спросил он, взяв ее руку.
Молодая женщина открыла глаза и, стараясь улыбнуться, указала ему на стул возле кровати. Арно сел и ласковой речью старался ее утешить и успокоить. Габриэль сначала слушала молча; затем вдруг приподнялась, привлекла его к себе и, прижав голову к его плечу, разразилась судорожными рыданиями.
Молодой человек, смущенный, замолчал. Сердце его переполнилось состраданием к этому молодому существу, рассерженному и униженному. Он готов был отдать все на свете, чтобы утешить ее. И под влиянием этого чувства, которое казалось ему братским, наклонился и пламенным поцелуем коснулся ее губ. Но в ту же минуту тайный голос крикнул ему: «Не забывай, что это жена твоего отца». Голова его закружилась, он поднялся и, вырвавшись из объятий Габриэли, почти бегом кинулся в свои комнаты.
Расстроенный, со стесненным сердцем, он опустился в кресло. В первый раз в голове его возникла мысль, что он любит Габриэль не как сын, не как брат, но с безумной, преступной страстью. И под тяжестью этого неожиданного сознания, он с отчаянием сжал обеими руками свой лоб, покрытый холодным потом. Конечно, он еще ни в чем не мог себя упрекнуть. Ни разу у него не сорвалось с языка слово любви; но самое чувство не налагало ли на него долг бежать из дому, который сделался для него центром беспрерывных искушений.
Но при одной мысли не видеть более Габриэль, разлучиться с ней на несколько лет, быть может, сердце его переставало биться, и он возмущался всем своим существом. Нет, нет, только не это. Теперь, когда опасность ему известна, он будет избегать ее и победит свою слабость. Мало-помалу Арно успокоился и дал себе клятву, что никогда не позволит себе увлечься своими чувствами, о существовании которых Габриэль никогда не должна знать. Он поцеловал ее сегодня, но делал это и раньше в присутствии отца и с его разрешения; у него не вырвалось ни одного слова, которое выдавало бы его тайну, а впредь он будет осторожен и сдержан.
На следующий день графиня явилась к обеду. Она была бледна, как после болезни, но, увидев Арно, протянула ему руку и совершенно просто сказала:
— Простите меня, Арно, мой вчерашний порыв. Я, кажется, испугала вас, но я была в таком нервном состоянии, так рассержена, что голову теряла.
Эти слова и взгляд дружеский, невинный, сопровождающий их, тотчас возвратили спокойствие молодому человеку, который, краснея и внутренне трепеща, подошел и поздоровался с ней. Итак, она ничего не заметила, не подозревала, что значило его поспешное бегство. Приход Танкреда и его воспитателя рассеял окончательно смущение молодого графа.
С Готфридом графиня обменялась лишь сдержанным поклоном; минуту спустя вошел граф Вилибальд с таким видом, как будто ничего не произошло; он подошел к жене, поцеловал ей руку и сказал несколько приветственных слов. Затем повел ее к столу.
С этого дня произошла заметная перемена в характере Габриэли. Ее веселость, кокетство и капризы сменились равнодушием ко всем обитателям дома, начиная с мужа и кончая Танкредом. С Арно она была дружески добра, но сдержанна, что вполне отвечало манере держаться молодого графа; как бы в соответствии с немым соглашением они оба избегали всякой речи о памятном вечере, когда графиня просила извинения у оскорбленного воспитателя.
Она избегала, насколько возможно, присутствия Готфрида, говорила с ним несколько слов только тогда, когда это было необходимо, и молодой человек мог думать, что все ему померещилось, если б время от времени он не улавливал взгляда, брошенного украдкой, который заставлял биться его сердце и пробуждал в нем намерение бежать. Но уважительного к тому предлога не представлялось. Впрочем, если в окружении домочадцев ней графиня была апатична и равнодушна, то зато вне дома она с лихорадочным жаром искала развлечений. Стараясь подавить в себе тайное чувство, которое снедало ее и отнимало у нее покой, она кидалась от увеселения к увеселению, не пропуская ни одного собрания, окружая себя обществом, и с безумным увлечением носилась в вихре удовольствий.
Понятно, что эта царица красоты, душа и украшение всех празднеств, приобрела толпу ревностных поклонников. Но лишь один из них, казалось, пользовался некоторым расположением этой обольстительной прихотливой женщины, насмешливой, неуловимой и принимающей поклонения как должную дань своей красоте. Счастливый избранник, который как тень следовал за графиней всюду, где она ни появлялась, был дон Район де Морейра. Его дарила она порой ободряющей улыбкой, огненным взглядом. Разговаривая с пылким бразильцем, она отвечала его увлечению, пуская в ход все ресурсы своего блестящего, колкого ума. Когда они были вместе, что-то демоническое отражалось в этих двух личностях, одинаково пылких, страстных и остроумных. Более внимательный и глубокий наблюдатель понял бы в эти минуты, что графиня желает излить на кого-нибудь избыток чувства, переполняющего ее сердце.
Мало-помалу душу Арно охватила мрачная, пожирающая ревность. Он видел, как глаза Габриэли разгорались, когда она оживленно и остроумно вела разговор с дон Рамоном, все более возбуждая страсть бразильца своим утонченным кокетством. Молодой граф испытывал адские муки, но, чувствуя в самом себе преступную любовь, страдал безмолвно. Сохраняя свой пост стража чести, он следовал всюду за Габриэль, выносил даже с примерным стоицизмом дружбу дон Рамона, который, ничего не подозревая, поверял ему свои тайны. А между тем тонкий инстинкт ревности говорил Арно, что Габриэль решительно ничего не чувствует к бразильцу, что он служит лишь игрушкой для нее, громоотводом другого, скрытого чувства, снедающего ее сердце. И с душевной тревогой спрашивал себя, не он ли причина ее тайных волнений.
Один лишь человек знал истину: то был Готфрид. Но что мог он сделать, прикованный к своему месту все более возрастающей дружбой графа, который положительно не мог без него обходиться. Молодой человек ограничился тем, что старался стушеваться насколько возможно, в надежде, что, не находя себе никакой пищи, этот скрытый огонь угаснет сам собой.
Графу Вилибальду крайне не нравилось ухаживание бразильца и ветреная игра его жены с пылким молодым человеком. Неудовольствие его усилилось еще больше, когда он узнал, что для удовлетворения безумной роскоши Габриэль наделала новых крупных долгов у своих поставщиков. Началась целая серия тяжелых сцен; граф жестоко упрекал жену за ее ветреность, грозил, что перестанет принимать дона Рамона, и, лишь уступая убедительным просьбам, согласился заплатить часть долгов, но беспощадно запретил делать дальнейшие заказы. Арно, узнав о происшедшей ссоре, отнесся с сердечным участием к делу и предложил Габриэли с глазу на глаз значительную сумму денег; она приняла с радостью и уплатила сверх всего еще множество счетов, о которых не заявила его отцу. Мир, таким образом, был восстановлен. Впрочем, зима подходила к концу, и приближалось время возвращения в Рекенштейн. И ввиду окончания всех неприятностей граф Вилибальд сделался более сговорчивым.
Габриэль желала закончить сезон большим прощальным балом и при содействии Арно получила согласие мужа. Арно, бледный, печальный, но неизменный раб всех причуд Габриэли, занялся деятельно приготовлениями к празднеству, на котором должно было собраться все блистательное общество столицы.
В день бала граф Вилибальд и Арно потребовали, чтобы Готфрид был на празднике. Они не настаивали, чтобы он принимал участие в танцах, так как молодой человек упорно от всего отказывался, но им хотелось, чтоб он провел вечер со своим другом, который тоже не танцевал.
Поневоле пришлось уступить, и, уложив Танкреда, Веренфельс вмешался в толпу, наполнявшую салоны. Не находя тотчас в этой давке своего друга, молодой человек, облокотясь на консоль, стал рассматривать окружающее его общество. В этот момент была пауза между танцами и везде собирались отдельные группы: одни ходили разговаривая, другие сидели и ели мороженое или фрукты. В одной из групп Готфрид заметил Габриэль. Она сидела возле очень нарядной старой дамы и была окружена своей постоянной свитой: дон Рамон, Арно и несколько других молодых людей, которые сделались предметом насмешек за их слепую любовь и терзания, каким подвергала их бесчувственная сирена.
Габриэль была красивее, чем когда-нибудь. Ее бальное газовое платье цвета морской воды было вышито серебром. Нарциссы и болотные цветы украшали корсаж и ее черные волосы, падающие длинными локонами до самой талии. Она имела вид настоящей Ундины. Никогда еще молодая женщина не была так оживлена, так увлекательно остроумна. Каждое ее движение, каждый взгляд дышали избытком жизни, неудержимым пламенем души. Готфрид глядел на нее со странным стеснением в груди. Убеждение, что он любим этим обольстительным пылким существом, помрачало его душу, всасываясь в нее, как тонкий яд. Веренфельс удалялся от Габриэли, а вместе с тем жалел ее. Он знал, что она вышла без любви за человека, который никогда не умел покорить ее честолюбивое ветреное сердце. А между тем, — говорил себе Готфрид, — будь она женой человека энергичного и настолько ею любимого, чтобы иметь над ней власть не унижая ее, — быть может, лучшие и более благородные стремления возвысили и очистили бы ее.
Преступная игра графини с Арно и доном Рамо-ном, которых она возбуждала и мучила, не имея ни малейшего чувства ни к тому, ни к другому, возмущала и огорчала Веренфельса. Он спрашивал себя, чем это кончится. Он знал, что она пылала тайной страстью к нему и что ему ничего бы не стоило достигнуть того, чего напрасно добиваются другие. Прелюбодеяние, увы! не редкость у семейного очага, и сколько людей, называя себя другом мужа, не краснея становятся в постыдную роль обольстителя жены. Но честная душа Готфрида с отвращением отталкивала самую мысль о такой гнусной измене, и своей сдержанностью, своим холодным спокойствием он воздвигал непроходимую преграду между собой и графиней.
Бал был в полном разгаре, и рой танцующих кружился по залу под увлекательные звуки оркестра. Как вдруг Готфрид, разговаривающий с Вилибальдом, увидел графиню, которая с улыбкой приближалась к ним; кивнув дружески мужу, она обратилась к Готфриду и приветливо сказала:
— Я ангажирую вас на этот вальс, месье Веренфельс, а потом представлю вас одной старой почтенной владетельнице замка, которую вы пленили собой.
Молодой человек поклонился весьма удивленный, но, ничего не возражая, обвил рукой ее талию и увлек в вихрь вальса. Странное чувство охватило его; в первый раз он танцевал с Габриэль, и никогда еще эта обольстительная, опасная женщина не производила на него такого сильного впечатления. Графиня тоже, казалось, была в чаду упоения; с задумчивым взглядом и неизъяснимой улыбкой на полуоткрытых губах она легко и быстро неслась по паркету, увлекаемая своим кавалером.
Сделав тур, молодой человек остановился и хотел довести свою даму до стула, но графиня, указав на вход в зимний сад, возле которого они находились, сказала:
— Отведите меня в сад, я хочу отдохнуть немного.
Минуту спустя они шли под тенью пальм и других экзотических растений, направляясь к бархатной скамье, осененной зеленью померанцевых деревьев, покрытых цветами, и волшебно-освещенной лампами, скрытыми в листьях. Разгоряченный танцем, Готфрид был взволнован; щеки его раскраснелись, и все черты оживились совсем новым выражением. Габриэль заметила это и сказала ему с вызывающей улыбкой:
— Не чудо ли то, что я вижу? Бесстрастная, бесчувственная статуя догма принимает вид простого смертного!
И Веренфельс в первый раз голосом, вовсе не похожим на его обычный тон холодной сдержанности, ответил ей:
— Ах, графиня, Пигмалион оживил мрамор, а ваша красота не есть ли небесный огонь? И как могу я остаться бесчувственен, как камень, когда живительный луч этого пламени коснулся меня, недостойного!
Габриэль замерла на месте, как обвороженная этими словами и пылающим взглядом, обращенным на нее. Какое-то новое чувство, какое-то беспредельное счастье, никогда ею не испытанное, охватило все ее существо. Устремив взгляд на красивое оживленное лицо своего собеседника, она, казалось, упивалась им, затем привлекла его к скамье и усадила возле себя. С минуту оба молчали; вдруг Габриэль взялась за ствол дерева и потрясла его: белые душистые цветы осыпали их.
— Что вы делаете, графиня? — спросил, вздрогнув, Готфрид.
Она рассмеялась и, наклоняясь к нему так близко, что дыхание ее касалось его щеки, прошептала:
— Статуя ожила, это правда; но я надеюсь, что от прикосновения этих душистых цветов и сердце проснется и затрепещет, как у простого смертного.
В пылу увлечения Габриэль забыла все. Она любила в первый раз всеми силами своей души и не могла скрыть своего чувства; оно отражалось в ее взгляде и на ее трепещущих устах. Это не было одно из тех мимолетных увлечений, которое испытывало порой ее ветреное, непостоянное сердце. Нет, то была сильная, глубокая страсть, охватывающая своим пламенем, требуя, выманивая одного взгляда, одного слова любви. В глазах Готфрида потемнело; Габриэль была олицетворенным искушением, покоряющим его чувства своей красотой и рассудок самолюбием, свойственным каждому человеку. Он один дерзнул противиться львице и смирил ее, и сделался ее владыкой.
Он уже протянул руку, чтобы привлечь к себе Цирцею, устремившую на него взор, и губы его готовы были произнести роковые слова, которые связали бы их для измены и позора. Как вдруг перед его мысленным взором восстали образы графа Вилибальда и Арно и, по странному совпадению, портреты двух изменников в Арнобургской галерее, образы которых странной игрой случайности воскресли в нем и в Габриэли. Очнувшись как бы от опьянения, Готфрид провел рукой по своему лбу, покрытому холодным потом, и порывисто поднялся с места.
Огонь угас в его черных глазах, лицо было бледно, но спокойно; перед графиней Рекенштейн стоял бесстрастный и сдержанный воспитатель ее сына. Графиня не знала, каких усилий это стоило его честной душе; она видела лишь внезапную перемену, поняла, что дело ее проиграно, и кровь бросилась ей в лицо, но эта краска сменилась тотчас мертвенной бледностью. Она знала, что выдала себя, но, собрав все свои силы, старалась скрыть свои чувства.
— Здесь одуряющий запах, надо пойти в залу, — сказала она, обмахиваясь веером.
Очень кстати для них обоих раздались поспешные шаги, и минуту спустя показался Арно.
— Ах, вот вы где, Габриэль, а я ищу вас. Но как вы бледны! Что с вами? Вам нездоровится?
— Нет, я только устала; должно быть, слишком много танцевала. И я попросила месье Веренфельса провести меня сюда на минуту. Не тревожьтесь, Арно, — присовокупила она, заметив беспокойство в его взгляде. — Вы так добры ко мне, но вы не знаете тоже, как я люблю вас.
Она сжала руку графа и устремила на него взгляд, в котором не было ничего материнского.
Злоба и отвращение пробудились мгновенно в душе Готфрида. Как могла она, еще трепеща от страстного влечения к нему, снова приняться за преступную игру с Арно? И когда взгляд графини встретился с его взглядом, в нем отразилось такое презрение, что молодая женщина вдруг встала, как бы движимая механической силой, и, опершись на руку Арно, поспешно удалилась, прикрывая веером смертную бледность своего лица.
Они вошли в зал, когда оркестр снова принялся играть. Дон Рамон стремительно подошел к графине. Приветливо улыбаясь и более, чем когда-нибудь, сияя весельем, она вернулась в круг своих гостей, вызывая оживление везде, где появлялась.
Готфрид тотчас ушел к себе. Тишина и спокойствие ночи возвратили его хладнокровие, но мысль увидеть графиню была невыносима для него. И он решил во что бы то ни стало придумать предлог, чтобы безотлагательно уехать в Рекенштейн; отъезд семьи назначался через две недели. Случай помог ему. Когда на следующий день он увидел графа, то нашел его озабоченным: письма, полученные из замка, извещали его, что разлив реки причинил значительные повреждения, а к довершению этих неприятностей помощник управляющего упал с лошади и лежал, будучи прикован к постели недели на три, по крайней мере.
— Граф, позвольте мне поехать с Танкредом. По вашему указанию я сделаю все нужные распоряжения и до приезда вашего буду наблюдать за всеми работами.
Танкреду же деревенский воздух и большие прогулки будут очень полезны.
— Благодарю вас, Веренфельс, и принимаю ваше предложение, так как оно выводит меня из крайнего затруднения. Но когда вы можете ехать?
— Завтра утром пятичасовым поездом.
— Отлично! Сегодня вечером я дам вам все нужные инструкции.
Вечером, когда все собрались к чаю, Габриэль отсутствовала. Вследствие утомления после бала, она весь день не выходила из своих комнат.
Когда встали из-за стола, Готфрид сказал Танкреду, что он уезжает с ним завтра рано утром и велел ему пойти проститься с матерью. Мальчик был поражен, так как ничего не знал об этом решении, но когда отец повторил ему приказание, он, взволнованный, кинулся в комнаты графини.
Габриэль лежала на кушетке, поглощенная бурными мыслями, когда сын ее, озабоченный, с пылающими щеками, ворвался в ее комнату. При виде обожаемого ребенка лицо молодой женщины просветлело.
— Мама, я пришел с тобой проститься! — кричал Танкред, кидаясь ей в объятия.
— О каком прощании ты говоришь, мой маленький кумир? — спросила молодая женщина, покрывая его поцелуями.
Но когда мальчик сказал ей, что уезжает в Рекенштейн с Готфридом, она побледнела и прижалась лицом к кудрявой головке сына. Она понимала, что значит этот образ действия. И буря любви, смешанной с ненавистью, поднялась в ее душе против энергичного молодого человека, который избегал ее, тогда как она не могла вырвать его из своего сердца.
— Бедный мальчик, отец твой неистощим, придумывая средства разлучить тебя с единственным существом, которое тебя любит; вполне беззащитным он отдает тебя в распоряжение твоего грубого воспитателя, — прошептала Габриэль, и несколько горячих слез скатилось по ее щекам.
Танкред был сильно привязан к матери. В своем детском сердце он был горд своей мамой, такой красивой, снисходительной и так всеми любимой. А потому радость, которую внушало ему предстоящее путешествие, омрачилась; печальные мысли зароились в его голове, и, рыдая, он стал по-своему утешать ее.
— Не огорчайся, мама. Я буду вежлив и прилежен до твоего приезда, чтобы месье Веренфельс не имел повода наказывать меня. А потом, уверяю тебя, что теперь он добр ко мне, а когда он мне рассказывает эпизоды из жизни животных или историю жизни знаменитых детей, то я готов слушать его целую ночь. И, право, я не понимаю, зачем он старается сердить тебя.
Разговор продолжался в том же духе, но, взглянув на часы, мальчик вскрикнул:
— Теперь пусти меня, мама. Месье Готфрид рассердится, если я не лягу скоро спать; он велел мне быть в постели в десять часов, так как завтра надо встать в четыре часа утра.
Танкред вернулся в свою комнату, заплаканный и с огромной бонбоньеркой в руках.
Готфрид тоже только что вернулся к себе. Прощаясь с обоими графами, он просил их засвидетельствовать его почтение графине. Веренфельс укладывал в портфеле бумаги с различными указаниями относительно дел, которые он взял на себя в Рекенштейне и в Арнобурге, когда воспитанник его вошел с покрасневшими глазами и с бонбоньеркой в руках.
— Поди сюда, милый мой, — обратился молодой человек к Танкреду, — и скажи, отчего у тебя такой печальный вид?
Мальчик неохотно подошел.
— Ты плакал? Отчего? Ведь ты, казалось, был так доволен отъездом в замок? — спросил Готфрид, привлекая его к себе.
Отношения между воспитанником и воспитателем заметно улучшились. Поведение Танкреда поправилось, что позволило Готфриду отступить от своей строгости. Он старался развивать мальчика, забавляя его и доставляя ему всякие развлечения, подходящие к его возрасту.
— Да, я был доволен, — отвечал Танкред нерешительным голосом. — Но отчего вы стараетесь непременно рассердить маму? Она сейчас плакала горькими слезами при мысли, что я буду беззащитно предоставлен вашей жестокости.
— Право! Мама плакала. Я очень жалею ее, но не находишь ли ты, что ее опасения преувеличены? Ты отлично себя чувствуешь, несмотря на мою жестокость.
Танкред взглянул на него с простодушным удивлением, затем разразился чистосердечным смехом. Но через минуту, приняв снова серьезный вид, он озабоченно спросил:
— Скажите откровенно, месье Веренфельс, отчего вы ненавидите маму? Она так красива, и все так любят ее. На прошлой неделе я сам видел, как дон Рамон стоял перед ней на коленях и глядел на нее такими глазами, будто хотел ее съесть. Я не понял, что он говорил; что-то такое о смерти, о любви, о разбитом сердце. Но у него был такой смешной голос.
— А что мама отвечала на эти шутки дона Рамона? — спросил Готфрид, охваченный неприятным чувством.
— Она сказала: «Встаньте, дон Рамон, и сядьте на стул, а то я сейчас уйду от вас». Тогда он встал, целовал ей руки и, кажется, плакал. Она рассмеялась и сказала ему: «Потерпите, может быть, потом…» дальше я не помню.
— Танкред, — сказал Готфрид глухим голосом, — не говори никогда никому, что ты мне рассказал, особенно не говори папе и Арно. Это шутки, которых ты не понял, и, дурно перетолкованные, они могут причинить неприятности.
— Хорошо, буду молчать. Но вы мне не сознались, отчего вы ненавидите маму. Она говорит, что вы враждуете с ней из-за меня, но я ведь теперь вежлив и прилежен, за что же вам ссориться? Мама всегда то краснеет, то бледнеет от злости, когда я о вас говорю; а между тем то и дело расспрашивает меня о вас. Я все, все должен ей рассказывать, что вы делаете, что говорите и даже кому пишите. Вы, верно, обидели ее. А, вот и вы теперь покраснели, — воскликнул вдруг Танкред, всматриваясь подозрительно в своего воспитателя.
— Это от удивления, что графиня так дурно судит обо мне, — отвечал Готфрид, вставая. — Могу тебе сказать по совести, что у меня нет ненависти, к твоей матери, и я искренне желаю видеть счастливыми как ее, так и твоего отца. А теперь, милый мой, ступай спать.
Он поцеловал его, и ребенок, снова веселый и беззаботный, таким же искренним поцелуем ответил ему. Но оставшись один, молодой человек еще долго думал о странном и тяжелом положении, в которое поставила его злополучная любовь Габриэли.
На следующий день после приезда в Рекенштейн Веренфельс отправился к судье, с которым вел деятельную переписку в течение зимы. Лицо Жизели озарилось такой радостью при виде его, что у молодого человека не осталось никакого сомнения насчет чувств, которые он ей внушил. Молодая девушка очень похорошела. Ее кроткое личико, чистый, откровенный взгляд голубых, как незабудки, глаз, девственная невинность, которая отражалась во всем ее существе, — все это в первую минуту подействовало на Готфрида, как живительный воздух полей после удушливой атмосферы теплицы.
Но в тишине и уединении ночи он размышлял, сравнивал, строго испытывал свое сердце и не без ужаса признался себе, что незаметно увлекся на опасный путь, привык к тайной заманчивой борьбе с утонченным кокетством, с пылкой страстью, против которой он всегда должен быть настороже.
Готфрид был энергичной деятельной натурой. Он твердо вознамерился жениться на Жизели, чтобы смирить безумную страсть графини к нему. Узнав, что сердце его занято другой, гордая, прихотливая женщина забудет его, а он найдет в обязанностях мужа и отца ограждение от праздных мыслей.
Ему хотелось обручиться до возвращения Габриэли. И вот однажды, когда Танкред, счастливый полученным позволением, пошел с женою судьи в погреб пробовать сыр и помогать ей снимать сливки с молочных кринок, Готфрид воспользовался своим tete-a-tete с Жизелью, чтобы сделать ей предложение. Простыми, прочувственными словами он спросил ее, согласна ли она быть его женой, матерью его маленькой Лилии, будет ли она довольствоваться трудовой и скромной жизнью, которую он мог ей предложить, причем сообщил ей свои планы на будущее. Жизель слушала его, трепеща от счастья и волнения. Подняв на него свои чудные глаза, полные слез, она сказала тихим голосом:
— Я люблю вас, Готфрид, и ваш ребенок будет мне дорог, как мой собственный. Жить для вас, трудиться, чтобы усладить и украсить ваше существование, — такое огромное счастье, что я не смела никогда о нем мечтать. Не знаю, сумею ли я, простая несведущая девушка, составить ваше счастье, но достигнуть этого будет целью моей жизни.
Тронутый и признательный Готфрид привлек к себе и поцеловал свою невесту, давая себе мысленно клятву любить ее неизменно и энергично, отогнать прочь обаятельный образ, который пытался возникать между ним и русой головкой Жизели. В тот же вечер он заявил судье и его жене, что просит руки их племянницы. Предложение было с радостью принято. Молодой человек просил их только сохранить это в тайне, пока он не сообщил о своем намерении графу. Они обещали, и, таким образом, никто, даже Танкред, не узнал о важном событии, происшедшем в жизни воспитателя.
Отсутствие графа было более продолжительно, чем предполагали, и лишь через три недели он приехал с женой, с сыном и молодым итальянским художником, приглашенным, чтобы написать несколько портретов для фамильной галереи.
Арно казался печальней и еще бледней, чем месяц тому назад. Отец его был мрачен, озабочен и раздражителен. Неудовольствие его достигло крайних пределов, когда он узнал, что дон Рамон де Морейра, от которого он надеялся, наконец, отделаться, приобрел себе недалеко от Рекенштейна имение, где уже шли деятельные приготовления к его приезду.
Что касается Габриэли, она тоже побледнела, была нервна, утомлена и равнодушна. Готфрида она приняла холодно и, казалось, едва замечала его. Единственный человек, который, по-видимому, забавлял ее немного, был живописец; его блестящий разговор, исполненный интереса, изящные, приличные манеры делали его присутствие в доме приятным.
Гвидо Серрати — так звали итальянца — был красивый молодой человек, лет около 30. Его правильное лицо имело несомненное сходство с портретом Цезаря Борджиа, писанным Рафаэлем; но его утомленные черты, несколько преждевременных морщин в углах рта показывали, что он не был чужд и буйных страстей той же исторической личности, на которую так походил своей наружностью.
Серрати сильно не понравился Готфриду. Ему казалось, что под этой пленительной наружностью таится нечто неискреннее и злое. И вследствие этой тайной антипатии он избегал, насколько возможно, общества художника.
Несколько дней прошло без всяких случайностей. Но однажды утром в праздничный день графиня позвала к себе Танкреда с тем, чтобы он оставался у нее до самого обеда. Пользуясь этим, Готфрид пошел предложить своей невесте сделать с ним маленькую прогулку; но не успели они пройти небольшое расстояние, как вдруг неожиданно встретили графа. Увидев Веренфельса под руку с дамой, граф с удивлением остановился: несколько подозрительная улыбка скользнула по его губам. «Неужели, — думал он, — строгий наставник затеял любовную интригу?» Но Готфрид, хотя и против своего желания, тотчас вывел его из заблуждения, представив ему племянницу судьи как свою невесту. Граф был очень обрадован этой новостью, дружески поздравил обрученных и долго весело разговаривал с ними. Веренфельс давно не видел его в таком хорошем настроении духа.
И действительно, известие о женитьбе Готфрида обрадовало графа и рассеяло смутное, но тяжелое подозрение, которое мучило в течение последних двух недель. Однажды при получении письма от Веренфельса он вдруг уловил на лице Габриэли выражение, которое заставило его задуматься. Он совсем иначе взглянул на подозрительную ненависть между ними и вывел заключение, весьма близкое к истине. Конечно, он верил в честность Готфрида, но молодой человек мог быть легко увлечен и пленен такой неотразимой красотой. Узнав о его помолвке, он упрекнул себя внутренне за безрассудную мысль. Как мог он думать, что тщеславная и гордая Габриэль, очарованная бразильцем, может интересоваться человеком, который не имеет известного общественного положения и находится зависимом положении.
Проводив Жизель домой, Веренфельс с графом направились к замку.
— Прелестную девочку выбрали вы себе в жены, и, конечно, она составит ваше счастье. Когда же ваша свадьба?
— Не знаю, граф, это будет зависеть от обстоятельств, — ответил уклончиво Готфрид.
— Если хотите принять мой совет, то подождите до октября. Тогда кончится контракт моего управляющего Петриса; хотя я им и недоволен, но все же не хочу его обидеть преждевременным отказом. Его место и при этом управление владениями Арно будут давать вам хороший доход. Что касается дома, в котором вы поселитесь, позвольте мне взять на себя его устройство. Это будет мой свадебный подарок в память моей признательности вам.
Молодой человек горячо поблагодарил и, радостный, вернулся к себе, но вместе с тем он был встревожен: мысль увидеть за обедом Габриэль мучила его. Как примет она известие о его женитьбе?
Однако обед прошел очень спокойно в тесном кругу, так как Арно и Гвидр Серрати уехали на весь день в Арнобург, чтобы выбрать там место для мастерской; портрет молодого графа предполагалось делать прежде всех других. К удивлению Готфрида, графиня была совершенно спокойна; ни тени перемены не замечалось в ее отношениях к нему. «Ужели я ошибся из глупого фатовства? — спрашивал себя молодой человек.
— Ужели принял за любовь то, что было лишь кокетством?» Но успокоение, которое он ощущал при этом, смешивалось с каким-то странным чувством, похожим на досаду.
После обеда перешли пить кофе в маленький зал, смежный с кабинетом графа. Габриэль села на подоконник и глядела, как Танкред с помощью садовника работал в маленьком партере цветов, предназначенных для отца. Граф ходил взад и вперед по комнате, затем пошел в кабинет читать письма, только что принесенные с почты. Веренфельс между тем рассеянно перелистывал номера иллюстрированного журнала, разбросанные по столу.
— У нас сегодня вечером будут гости, Габриэль, — сказал граф, появляясь на пороге комнаты с раскрытым письмом в руке. — Мой старый друг адмирал Виддерс пишет, что он возвратился на днях из-за границы и хочет представить нам своего новобрачного сына с женой. Я очень рад свидеться с ним; бедняга был болен и провел три года в Италии.
Видимо недовольная ожидаемым визитом, графиня, нахмурив брови, ощипывала цветок, вырванный из букета.
— Кстати о новобрачных, я должен сообщить тебе новость, Габриэль. Ты можешь поздравить Веренфельса: он жених прелестной молодой девушки, с которой я встретил его сегодня.
Невольно Готфрид взглянул на графиню, которая ничего не ответила. Ужас охватил его, и на лбу выступил холодный пот. Расширив глаза, побледнев как смерть, Габриэль, казалось, готова была лишиться чувств; выронив цветок, она протянула трепещущую руку, машинально ища опоры. Испуг молодого человека был понятен. Если бы граф бросил взгляд на жену, — а для этого ему достаточно было поднять голову, — правда кинулась бы ему в глаза.
С нервной дрожью Готфрид встал, не зная что делать, и эти несколько секунд показались ему веком. Но, к счастью, граф занялся вошедшим в эту минуту лесничим и, чтобы переговорить с ним, перешел в соседнюю комнату.
Готфрид вздохнул облегченной грудью, счастливая случайность спасла его от беды, но он ненадолго успокоился. Переведя взгляд от дверей на графиню, он увидел, что она потеряла сознание и, скользя с подоконника, готова была упасть на пол. Как стрела он бросился к ней, удержал ее и посадил в кресло, затем кинулся в столовую, где слуги еще убирали со стола, взял стакан с водой и вернулся к графине, благословляя Бога, что был один свидетелем этого компрометирующего инцидента. Все будет скрыто в его душе и вычеркнуто из памяти.
А между тем, когда он наклонился над Габриэлью, чтоб обрызгать ее лицо водою, руки его дрожали, и сердце билось так, что готово было разорваться; в первый раз он терял хладнокровие, и душа его проникалась глубоким, нежным состраданием к этой гордой пылкой женщине. Сраженная ревностью, она окончательно выдала тайну своей любви и предоставила себя его власти.
Обморок Габриэли был непродолжителен. Минуту спустя она открыла глаза, но, встретив тревожный взгляд молодого человека, прочитав в этом взгляде сожаление и сострадание, ясно показывающие, что он все понял, она вздрогнула, как от прикосновения раскаленного железа; глухой вздох, подобный стону, вырвался из ее груди. Ей казалось, что она умрет под тяжестью такого унижения. До сих пор, несмотря на пожирающую страсть, она владела собой; Готфрид мог только разве подозревать ее чувства. Теперь же она выдала себя и именно в ту минуту, когда был нанесен смертельный удар ее самолюбию, когда он доказал, что любит другую.
Оттолкнув стакан, поднесенный ей ее врагом, свидетелем ее нравственного поражения, Габриэль закрыла лицо руками.
— Ради Бога, графиня, придите в себя и постарайтесь успокоиться, — прошептал он, но не получая ответа, осторожно отвел ее руки и, сжимая их, сказал:
— Из сожаления ко мне, если вы сохранили хоть тень доброго ко мне расположения, уйдите из комнаты, позвольте мне отвести вас в сад; подумайте, какие поднимутся сплетни, если кто-нибудь из слуг случайно войдет сюда. Свежий воздух возвратит вам силы.
Принудив ее встать, он взял ее под руку и увел в сад, но только тогда вздохнул свободно, когда они, не встретив никого, достигли густой тенистой аллеи. Габриэль, бледная и безмолвная, дала себя увести. Сраженная, пожираемая стыдом и ревностью, она не старалась даже скрывать свои страдания. Буря, охватившая ее страстную душу, лишила ее в эту минуту всякой власти над собой.
Веренфельс посадил графиню на скамью и хотел уйти, чтобы дать ей свободно придти в себя после нравственного потрясения; но едва он сделал несколько шагов, как вдруг услышал свое имя, произнесенное глухим голосом, и мгновенно остановился, как прикованный к месту. Преодолев свое волнение, он вернулся к Габриэли. Она позвала его, увлекшись порывом ревности, и ее выразительные глаза отражали хаос чувств. Взяв ее руки, Готфрид прижал их к губам.
— Простите мне тяжелые минуты, которые я невольно доставил вам, — прошептал он с волнением. — Для вас, для вашего мужа и для меня самого забудем этот злосчастный день.
Он повернулся и пошел к себе окольной дорогой. Трудно было бы описать состояние его души. Что не могли сделать ни красота, ни кокетство, ни сознание, что он любим, то сделало чувство сострадания, охватившее его сердце. Переходы от утонченного кокетства к презрительному пренебрежению, к каким прибегала Габриэль, не действовали на него, а ее преступная игра с Арно и с доном Районом возмущала его и делала неуязвимым. Но теперь все было иначе. Гордая сирена обратилась в женщину, которая, будучи поражена в самое сердце, выдала свою слабость и потерпела жестокое унижение. Готфрид почувствовал себя обезоруженным. При воспоминании, каким страданием, какой страстью прозвучал ее голос, когда она произнесла его имя, сердце его сильно забилось и густая краска выступила на лице. Бедный Веренфельс, враждебность, до сего ограждавшая его от искушения, исчезла, и с силой, которую он и не подозревал, губительный яд наполнял его честное сердце.
В щемящем волнении он ходил по комнате, спрашивая себя, чем кончится эта несчастная компликация.
Он рассчитывал супружеством рассечь гордиев узел, но убедился, что только запутался еще более. Он обратился мысленно к Жизели, но образ его простодушной невесты с русой головкой померк, затмился блеском демонической красоты обольстительной женщины с черными, как смоль, кудрями и пламенным взором.
Приход Танкреда и необходимость отвечать на вопросы мальчика и следить за его уроками восстановили равновесие в душе Готфрида. И когда лакей вошел доложить, что чай подан, Веренфельс уже чувствовал, что к нему вполне возвратилась его обычная холодная сдержанность.
Все общество было в сборе, когда маленький граф и его воспитатель вошли в зал. Бросив взгляд на Габриэль, Готфрид убедился, до какой степени женщины способны притворяться. Графиня переменила свой туалет, и, кроме легкой бледности, ничто не напоминало нервного кризиса, через который она прошла. Она сидела на диване возле молодой баронессы Вейдерс. Арно, Гвидо Серрати и молодой барон разговаривали с дамами, меж тем как граф и адмирал ходили по комнате, толкуя о политике.
Без малейшего смущения графиня представила гостям сына и Веренфельса, затем стала продолжать разговор с обычным оживлением и вскоре сделалась притягательным центром для всего мужского общества, не исключая даже и новобрачного. Никогда она не была так обольстительна и так беспечно весела. Маска была так искусна, что Готфрид спрашивал себя, не победила ли гордость любовь в изменчивом сердце этой тщеславной женщины, привыкшей к поклонению.
На следующий день все обитатели замка собрались за завтраком и разговор шел о фамильной Арно-бургской галерее, приводившей в восторг молодого итальянца, когда вошел Веренфельс, несколько запоздавший. Как только он сел возле Арно, последний сказал ему с улыбкой, пожимая его руку:
— Извините, что до сих пор я не поздравил вас, но отец только сегодня сообщил мне, что вы помолвлены. Желаю вам полного счастья. Но я никогда бы не думал, что такая наивная девочка может победить ваше сердце.
— Отчего же? Разве она вам не нравится? — спросил Готфрид, чувствуя сильную неловкость. Он один заметил, что Габриэль слегка побледнела и что ложка зазвенела в ее руке от нервной дрожи.
— О нет! Напротив, — отвечал Арно, смеясь. — Мадемуазель Жизель прелестная девушка, настоящий тип Гетевской Маргариты, с русыми косами и ясным взглядом голубых глаз. И я поздравляю ее с Фаустом, которого она приобрела. Только не знаю, почему-то я думал, что Фауст-Готфрид имеет слабость к более строгой и более классической красоте, вроде вашей первой жены.
При имени Жизель Гвидо Серрати с живостью спросил, обращаясь к Арно:
— Не та ли прелестная девушка, которую мы видели у судьи, невеста месье Веренфельса?
— Да, она. Можно позавидовать такой победе нашего друга, — сказал веселым тоном граф Вилибальд. — Но по какому случаю вы попали вчера к судье?
— Мне надо было, — отвечал Арно, — попросить его устроить одно спешное дело, и мы зашли к нему по дороге. А пока я говорил с месье Линднером, мадемуазель Жизель так обворожила Серрати, что потом всю дорогу он только о ней и говорил. Примите это к сведению, Готфрид, — заключил он, смеясь.
Веренфельс покраснел. Ему было невыносимо слушать этот разговор о красоте его невесты в присутствии графини, для которой каждое слово, каждая похвала была ножом в сердце. Никто не подозревал, какая драма разыгрывалась втайне. Оба графа подтрунили над смущением Готфрида, а итальянец теперь прямо обратился к нему:
— Не разрешите ли вы мне милость, о которой я хотел попросить мадемуазель Жизель? Дело вот в чем. Мне заказали для Миланской церкви престольный образ Благовещения. Но я напрасно искал оригинал, который осуществлял бы тип Мадонны, как я его воображаю. В мадемуазель Жизель я нашел воплощение моего идеала. Такое божественное лицо я видел только на картинах фра-Анжелико. И вы окажете мне огромную услугу, позволив сделать ее портрет, или по крайней мере набросок ее головки.
Как ни было это неприятно Готфриду, он не мог отказаться, чтоб не иметь вида ревнивца, особенно в присутствии графини. И без того ее возрастающая бледность вызывала в нем сильную тревогу, и он поспешил согласиться.
Разговор принял новое направление, толковали о заказанной картине, и Гвидо, ободренный благорасположением, которое ему оказывали, сказал, что счел бы свою работу вполне удавшейся, если бы при такой идеальной мадонне моделью для архангела ему \могла служить головка Танкреда.
Эта просьба была благосклонно принята. Граф дал свое согласие, и даже Габриэль просветлела на минуту. Мысль увидеть свой кумир, это верное отражение ее самой, изображающим небесного посланника, была ей, видимо, приятна. Но это чувство удовольствия длилось „ не долго, так как результат этого разговора потребовал от нее новых усилий над собой.
Оба графа со свойственным им великодушием предложили молодому живописцу тотчас начать эскиз его заказанной картины, чтоб он мог без затруднения окончить ее по возвращении из Рекенштейна. Желая дать Серрати возможность, рисуя портреты, работать и над картиной в промежутках между сеансами, ему предложили провести не два месяца, а все лето в замке. Гвидо с радостью и благодарностью принял предложение. Первые сеансы должны были происходить в Арнобурге, где была готовая мастерская. И молодой граф просил, чтобы всякий раз при этом семейство приезжало к нему на целый день.
— Но это значит злоупотреблять вашим гостеприимством, Арно, — заметила графиня.
— Что вы говорите, Габриэль! Я, напротив, злоупотребляю вашим снисхождением из эгоистического чувства. Находясь в вашем обществе, я буду в самом благоприятном настроении для позирования, благодаря чему портрет мой выйдет лучше. Кстати об этом, так как Танкред и мадонна должны будут тоже начать послезавтра служить моделью, то не согласитесь ли вы, дорогая Габриэль, заехал к мадемуазель Жизель?
— О, конечно, с удовольствием, — отвечала графиня глухим голосом, опуская глаза.
Неловкость положения и тайное беспокойство Готфрида усиливалось с минуты на минуту. Роковое стечение обстоятельств вынуждало графиню видеть Жизель, выносить присутствие невесты человека, которого она любила. Готфрид понимал, какой это может поднять ад в пылкой, тиранической, страстной душе этой женщины. Он старался приискать какую-нибудь возможность помешать сеансам, выдумать какой-нибудь предлог, чтобы удалить Жизель и не возбуждать ее появлением все дурные страсти Габриэль. Но напрасно он ломал себе голову, никакая спасительная мысль не приходила ему на ум, и со стесненным сердцем он должен был покориться неизбежности.
На следующий день Готфрид, в сопровождении Серрати, отправился к судье. Художник хотел сам просить молодую девушку служить ему моделью. Жизель покраснела и заметно смутилась от такой неожиданной просьбы.
— Я недостойна изображать Пресвятую Матерь Божию, но если Готфрид позволяет и я могу быть вам полезна, то я согласна, — сказала она, подняв на жениха свои чудные синие глаза.
— Месье Веренфельс уже дал свое разрешение, — сказал радостно Серрати.
— Но только я не могу служить вам моделью ни в одном из моих платьев, — заметила молодая девушка.
— И это затруднение устранено. Мадам де Рекенштейн сказала мне сегодня утром, что она велит своей горничной сшить простую белую шерстяную тунику и вуаль, который мне необходим. И вам, мадемуазель Жизель, останется только быть готовой завтра к одиннадцати часам; графиня заедет за вами, чтобы вместе отправиться в Арнобург.
Когда на следующий день граф с обоими сыновьями, его жена и Серрати вышли на крыльцо, их ожидали два экипажа.
— Папа, — сказал весело Арно, — я полагаю, что великодушие требует не разлучать Танкреда с наставником и Веренфельса с невестой; так оставим для них коляску, а ты и Серрати сядьте в кабриолет, которым я сам буду править. Мы приедем в Арнобург раньше Габриэли, так как она должна сделать маленький крюк, и успеем встретить дам.
Без всякого возражения Габриэль села с Танкре-дом, который, сияя удовольствием, болтал без умолку, и минут через десять щегольской экипаж остановился у дома судьи. Готфрид был уже там. Бледная, собрав все силы, чтобы не выдать своей слабости, Габриэль сидела прислоняясь к подушкам, но ее огненный взгляд был прикован к дверям, откуда должна была появиться молодая чета. Ей не пришлось долго ждать; почти тотчас на крыльцо вышла мадам Линднер и за ней невеста со своим женихом. Жизель была в белом кисейном платье и в соломенной шляпе с незабудками; но этот простой туалет дивно шел к ее чистой девственной красоте. В глазах графини потемнело; она не думала, что молодая девушка так пленительно хороша, и тотчас перевела свой взор на Готфрида, жадно ища на его лице выражения чувств, которые внушала ему его избранница, желая видеть, горит ли огонь любви в его спокойных строгих глазах.
Бесстрастный, как всегда, Готфрид подошел и, почтительно кланяясь, сказал:
— Позвольте, графиня, представить вам мою невесту Жизель Линднер и просить вас не отказать ей в таком же добром расположении, каким я всегда имел честь пользоваться в вашем доме.
— Поздравляю вас, мадемуазель Жизель, и прошу верить моим наилучшим к вам чувствам, — ответила Габриэль глухим голосом, подавляя свое волнение.
Смущенная и пораженная гордой, ослепительной красотой молодой женщины, Жизель сделала глубокий реверанс и, наклоняясь, почтительно поцеловала руку в перчатке, протянутую ей.
Лицо Готфрида вспыхнуло. Это проявление почтительности его будущей жены не понравилось ему, оскорбило его гордость. Причем сравнение, сделанное между этими двумя женщинами, на этот раз не было в пользу Жизели.
Графиня с живостью отдернула руку и предложила молодой девушке сесть возле нее; и между тем как Готфрид с Танкредом усаживались на передней скамейке, она сказала несколько любезных слов мадам Линднер.
Едва экипаж тронулся с места, мальчик наклонился к Жизели, притянул ее к себе и, крепко целуя, воскликнул:
— Боже мой! Как я рад, что месье Веренфельс женится на вас. Вы такая добрая, не позволите ему быть строгим ко мне, упросите его дать мне каникулы. Маме и Арно он отказывает, но вам не посмеет отказать.
Жизель, смеясь, отвечала ему, и тягостное молчание нарушалось лишь этой невинной болтовней. Устремив взор на дорогу, Габриэль не произнесла ни слова; Готфрид тоже был подавлен каким-то тягостным гнетом.
— Мама, какая ты бледная! Ты больна? — спросил вдруг Танкред.
Нет, я здорова, — отвечала молодая женщина, с усилием преодолевая себя, но в эту минуту встретила озабоченный взгляд Готфрида. Она вздрогнула и выпрямилась, затем тотчас, обращаясь к Жизели, завела с ней незначительный разговор о ее родителях, ее занятиях и образовании.
Тем не менее графиня и Веренфельс почувствовали, что у них отлегло от сердца, когда коляска остановилась у крыльца замка. Арно выбежал сам, чтобы помочь мачехе выйти из экипажа.
VI. Отчаянное покушение
С этого дня все сеансы продолжались регулярно в Арнобурге. Гвидо Серрати деятельно работал как над портретом, так и над картиной.
Граф Вилибальд, которого утомляли эти постоянные поездки, отказался присутствовать на каждом сеансе. Зная восторженное рвение, с каким Арно заботился о Габриэли, отец охотно предоставил ему развлекать свою прихотливую супругу. Но он не подозревал, что преступная страсть охватила душу его сына, отнимала у него покой и подтачивала его здоровье. Как был бы он несчастлив, если бы знал, какие муки ревности, любви и угрызения совести Арно скрывал в своей душе. Граф не придавал большого значения легкому кокетству Габриэли; он знал ее слишком хорошо, чтобы понимать, что она любила в пасынке лишь раба своих прихотей, руку, всегда готовую сыпать деньгами для удовлетворения ее требований; но что Арно служит ей забавой и что она убивает покой его души, этого он не предполагал.
Все мысли Габриэли были теперь поглощены Го-фридом и ее положением относительно него. Почти каждый день она видела невесту с женихом, и каждый взгляд, каждая улыбка, которыми они обменивались, поднимала в ней бешеную ревность. Жизель в простоте своих чувств часто увлекалась планами будущего, и уже один ласковый, фамильярный тон, каким она говорила ему «Готфрид», поражал, как кинжалом, сердце Габриэли. Но кроме терзаний ревности, гордость графини терпела страшные муки; несмотря на умение владеть собой, она не могла сгладить предательских следов своих тайных мучений, и тот, который менее всех должен был подозревать их, читал в ее взгляде, понимал значение ее внезапной бледности, внезапного трепета ее руки. И это доказывало ей, что ему известна ее тайна: его сдержанность с Жизель, тягостное стеснение, которое замечалось в нем при малейшей невинной фамильярности молодой девушки, и его старание не подавать никакого повода к ревности. Эта заботливость оберегать ее чувства оскорбляла самолюбие Габриэли, и сна изнемогала под тяжестью своего унижения.
Оставаясь одна у себя в комнатах, графиня предавалась порывам бессильного бешенства; по целым часам она ходила взад и вперед, и глухие стоны надрывали ей грудь. «О, если б я могла ненавидеть его, уничтожить, убить, — твердила она, — или умереть самой, чтоб не выносить этого сострадания, этого унизительного снисхождения к моей слабости».
Более двух недель прошло таким образом. Однажды адмирал Виддерс пригласил все семейство Рекенштейнов к себе на целый день. Праздновался день рождения его невестки, так как танцы могли кончиться далеко за полночь, то хозяин дома и предложил свои гостям остаться у него ночевать, с тем чтобы разъехаться на следующий день после завтрака. Графиня положительно отказалась ехать на этот праздник, а так как она была бледна и как бы не совсем здорова, муж не настаивал, и было решено, что лишь он с Арно поедут к адмиралу.
После их отъезда день тянулся весьма скучно. Серрати был в Арнобурге, где он работал, а графиня послала сказать Готфриду, что если он хочет, то может обедать и провести вечер у своей невесты, так как сама графиня будет кушать у себя в комнатах и желает, чтобы Танкред обедал с нею, но что затем она пришлет мальчика к судье. Молодой человек исполнил предписание, но был грустен, задумчив, какая-то неопределенная тоска теснила ему грудь и отнимала аппетит; он сидел молчаливый, рассеянно отвечал на оживленный говор своей невесты и почувствовал облегчение, когда слуга привел Танкреда, и он, в качестве воспитателя, вмешался в шумные игры детей.
Солнце садилось, когда Готфрид объявил, что пора идти домой, так как Танкред должен готовить уроки, а ему самому нужно писать письма.
Жизель проводила их до парка, и Готфрид, возвратясь к себе, тотчас сел к своему бюро, так как действительно ему надо было заняться важным делом для графа; что касается Танкреда, он попросил и получил позволение пойти на минуту поцеловать свою мать.
Прошло не более четверти часа, как мальчик бледный и весь в слезах вбежал в комнату, кинулся на шею Готфриду и, дрожа всем телом, прижался к его груди.
— Что с тобой, Танкред, не ушибся ли ты?
— Нет. Но я боюсь, не умерла ли мама, — прошептал ребенок.
Сердце молодого человека замерло, и на лбу его выступил холодный пот.
— Какой вздор ты говоришь! И откуда у тебя могла взяться такая мысль, — спросил он, приподнимая голову Танкреда и стараясь прочесть в его глазах, наполненных слезами.
— Мама была такая странная сегодня; она даже не оделась к обеду и ничего не ела. Потом в будуаре она вдруг стала целовать меня как никогда, прижала меня к себе, и слезы ручьем лились из ее глаз. Потом она мне говорит: «Танкред, если я умру, ты не забудешь меня? Когда ты вырастешь, будешь ты иногда вспоминать свою бедную маму?» Конечно, я стал плакать; тоща она отерла мои слезы, рассмеялась и сказала: «Я пошутила и, смотри, не рассказывай никому, что я тебе говорила. Будь спокоен, я увижу тебя красивым офицером, мой кумир», как она всегда говорит, — заключил мальчик с некоторым смущением.
— Но где теперь твоя мама? — спросил Готфрид, дрожа от нетерпения.
— Оттого я и боюсь, что ее нигде нет. Когда я увидел, что ее комнаты пусты, я побежал в гардеробную, но там, кроме глупой Трины, которая гладила белье, никого не было. Сицилия и Гертруда пошли в Арнольду, старшему садовнику: сегодня у него парадные крестины, и мама позволила им остаться там до одиннадцати часов. Трина сказала мне только, что мама пошла в сад. Я побежал ее искать, но ни в гроте, ни около бассейна нигде не нашел. Но мне попался навстречу маленький садовник Шарло и сказал, что видел маму в аллее, которая ведет в теплицу, только туда нельзя войти, дверь заперта, как я ни стучал, никто не ответил.
Встревоженный этим рассказом, заставившим его заподозрить покушение на самоубийство, Готфрид, целуя Танкреда, сказал:
— Успокойся, дитя мое, твои опасения напрасны. Мама, конечно, где-нибудь в парке читает или гуляет, но чтоб тебя успокоить, я пойду погляжу, где она, и за чаем ты увидишь свою маму. Садись без всякого смущения за уроки и будь умным мальчиком.
Веренфельс кинулся стремглав к оранжерее; он почти не сомневался более, что Габриэль хотела лишить себя жизни удушающей атмосферой ароматных цветов. И если ей удалось это сделать, какое горе для обоих графов, какая нравственная вина ложилась на него самого! В несколько минут он добежал до оранжереи и толкнул дверь; она была заперта. Он сильно стучал, но ничего не шевельнулось. Рекенштейнские теплицы, обширные и богатые, состояли из нескольких зданий; но если подозрение Готфрида было основательно, то графиня должна была находиться в оранжерее экзотических цветов.
Мучимый страхом и нетерпением, Веренфельс нажал дверь плечом, и, уступая атлетическому напору, она с треском отворилась. В оранжерее пальм, папоротников и пр. никого не было; в следующей за ней, где находились померанцевые деревья в цвету, розы, магнолии и другие душистые цветы, атмосфера была крайне удушлива. Все окна оказались закрытыми, и при слабом, тусклом вечернем свете он скоро увидел Габриэль. Полулежа на деревянном стуле, она не шевелилась, глаза ее были закрыты.
Готфрид коснулся ее рук, они были влажны и холодны, голова безжизненно откинулась, и на губах не было заметно ни малейшего дыхания. Подняв графиню на руки, как ребенка, Веренфельс вынес ее на воздух. Если он не опоздал, то чистый воздух мог ее оживить. С мучительным беспокойством молодой человек прижал ухо к ее груди; ему показалось, что слышно легкое биение сердца. И, не теряя ни минуты времени, он понес ее в замок.
Трудно описать, что происходило в душе Готфрида в течение этого пути. Уверенность, что графиня хотела лишить себя жизни из-за него, наполняло его сердце жалостью, сожалением и сверх того каким-то неизъяснимым чувством, весьма близким, но не тождественным любви. В эту минуту Жизель и все остальное было забыто; он видел и чувствовал лишь ношу, лежащую на его руках.
Двери террасы были открыты настежь, и в комнатах никого не было. Это давало молодому человеку возможность оказать Габриэли помощь и, быть может, привести ее в чувство, прежде чем он позовет слуг и пошлет за доктором.
Положив графиню на диван в ее будуаре, Готфрид открыл все окна, зажег лампу, затем взял с туалетного стола флаконы с солями, с уксусом и принес с постели подушечку, чтоб подложить под голову Габриэли.
Сначала все его старания оставались безуспешными. Напрасно он тер ей эссенциями виски, руки, давал нюхать соли, тряс ее в отчаянии, — Габриэль оставалась недвижимой. Дрожа, как в лихорадке, Готфрид провел рукой по ее лбу. Ужели в самом деле умерла эта пылкая молодая женщина, красивая, как спящая Психея? Но виноват ли он в этой смерти? Что он мог тут сделать? Ничего.
В эту минуту едва заметный румянец показался на бледном лице графини. Молодой человек вздрогнул и поспешно прижал ухо к ее груди. Он расслышал биение ее сердца, и легкое дыхание появилось на ее губах. «Габриэль!» — крикнул он, наклоняясь к ней.
Имя ее, как мучительный стон сорвавшееся с уст человека, так страстно ею любимого, казалось, пробудило жизненные силы молодой женщины; она протяжно вздохнула и открыла свои синие глаза. При виде Гот-фрида луч счастья озарил ее бледное лицо, но угас в то же мгновение.
— Габриэль, Габриэль, что вы сделали? Что вы хотели сделать? — шептал Готфрид с упреком. И, не получая ответа, присовокупил:
— Я сейчас принесу вам немного вина, и, умоляю вас, успокойтесь. Необходимо, чтобы слуги ничего не подозревали; я сейчас вернусь.
Он прикрыл ей ноги плюшевой шалью, которую нашел на кресле, и поспешно направился к себе.
— Ну что, нашли маму? — спросил Танкред, как только увидел его.
— Да, я пришел тебе сказать, что мама у себя в будуаре, но ей немного нездоровится и она просила меня почитать ей. Будь же добрым мальчиком, вели Осипу зажечь лампы и займись без меня.
— Я буду умен. Но отчего вы так бледны? — спросил он, глядя на него с беспокойством.
— Это тебе так кажется. Я надеюсь на твое обещание и скоро вернусь.
Готфрид прошел поспешно в столовую, взял из буфета полрюмки вина и вернулся в будуар. Никто его не видел, так как большая часть слуг была на крестинах.
Габриэль все еще лежала с закрытыми глазами в смертельном изнурении; тихие слезы катились по ее щекам. С неописуемым волнением Готфрид наклонился к ней; слезы ее, казалось, падали ему на сердце и жгли его, как огонь. Он чувствовал себя размягченным, обезоруженным и понял в эту минуту, что сам он неравнодушен, что для него было бы упоительным счастьем любить, назвать своею эту обворожительную женщину. И он знал, что ему стоит только протянуть руку, чтобы воспользоваться ее преступной страстью, заставить ее бросить дом и следовать за ним, куда бы он ни пожелал. Но снова честный порыв победил искушение. Чувство долга требовало, чтобы он преодолел свою слабость и употребил все свое влияние, чтобы и Габриэль поставить на путь долга, внушить ей силу и позабыть свою несчастную страсть и самому быть для молодой женщины не любовником, но ее душевным врачом.
— Графиня, выпейте вина, оно подкрепит вас, — сказал он, приподнимая ее.
Габриэль выпила без сопротивления, но зубы ее стучали по хрусталю, и нервная дрожь сотрясала ее нежное тело.
Готфрид придвинул стул и, прижав к своим губам руку Габриэли, сказал с грустью:
— Мы одни, и так как случай дает нам возможность переговорить свободно, надо разъяснить тайну, которая тяготеет над нами. И так уже произошло слишком много, чтобы мешкать еще более, и я умоляю вас сказать откровенно, что понудило вас, замужнюю женщину и мать, покуситься на самоубийство.
— Я хотела положить конец моему унижению, — прошептала она прерывающимся голосом.
— Унижение можно чувствовать только перед врагом, но никак не перед другом, преданным всей душой. Или вы считаете меня пошлым фатом, способным гордиться злополучной любовью, которую я внушил вам совершенно невольно — Бог мне в этом свидетель! — и надеюсь, Он научит меня и поможет мне возвратить вам утраченное спокойствие, вырвать горечь из вашего гордого сердца. Я понимаю, Габриэль, как вы страдаете, но вы простите, быть может, другу, каким я желаю быть для вас, что он угадал вашу тайну, в которой желал бы сомневаться.
Графиня закрыла лицо руками и разразилась судорожными рыданиями.
— Не плачьте так; вы приводите меня в отчаяние. А между тем, что могу я иное, как только стараться поддержать вас в нравственной борьбе, которой я невольная причина… Нас разделяет пропасть. — Он наклонился и, заглянув блестящим, глубоким взглядом в глаза молодой женщины, спросил: — Разве бы вы хотели замарать ваше чувство ко мне связью, которая бы стоила вам чести и уважения даже того человека, который был бы так низок и воспользовался бы вашей любовью к нему. Поверьте, где нет уважения, там нет и настоящей любви. Обладать вами как законной женой, любить вас и быть вами любимым неразделенным чувством, должно быть упоительным счастьем для того, кто мог бы этого достичь. — Последние слова он произнес глухим голосом. — Но мы с вами должны жить каждый в тех условиях, в какие Бог поставил нас.
Габриэль быстро приподнялась, губы ее дрожали, и голосом, исполненным горечи, она воскликнула:
— Разве думают о последствиях, когда любят? Разве не вменяют себе в заслугу своего равнодушия ко всему? Я не краснея созналась бы в любви к человеку, который отвечал бы моей страсти, но когда знаешь, что служишь лишь предметом сострадания, то нет другого средства залечить рану самолюбия, кроме самоубийства.
— Вы ошибаетесь, Габриэль, истинная привязанность доказывается сопротивлением искушению. Не трудно наслаждаться, когда не несешь даже ответственности, так как главная тяжесть позора ложится на обманутого мужа и на семью. А женщину, послужившую игрушкой, нравственно погубленную, можно оттолкнуть, бросить, когда она надоест, когда угаснет пламень этой минутной страсти. Я знаю, многие найдут меня безумным, но я имею свой взгляд на вещи. Я докажу вам мою глубокую дружбу и уважение, которое вы мне внушаете, спасая вас от самой себя, а не злоупотребляя вашей слабостью. Я знаю, что вы предпочли бы мою любовь и все ее гибельные последствия жестоким словам, которые я вам говорю, но настанет время — вы отдадите мне справедливость и будете мне благодарны.
Габриэль слушала, вздрагивая при каждом слове, как от удара ножом. Вдруг глаза ее загорелись.
— Хорошо, — воскликнула она с жаром, — я не имею для вас никакого значения и не нахожу никакой заслуги в том, что вы так упорно отталкиваете то, чем не желаете обладать. Но в таком случае я спрашиваю вас, по какому праву вы вырвали меня у смерти, добровольно мной избранной и которая уже почти избавила меня от всего этого стыда и унижения, от этой адской, проклятой страсти, пока она не довела меня до преступления?
Сжимая на груди руки и трепеща от бешенства, она продолжала:
— Бывали минуты, я придумывала, какою бы смертью уничтожить вас, которого я желала бы ненавидеть, но обречена любить. Ах, в этой мысли мой приговор, мое унижение, которое подавляет, убивает меня. Наслаждайтесь теперь вашей победой и презирайте меня: я это заслужила.
Голос ее оборвался; она хотела вскочить с дивана, но не имела на то сил.
Испуганный ее порывом, Готфрид встал.
— Вы искажаете смысл моих слов и не хотите понять меня, Габриэль. Я вижу, что не могу благотворно влиять на вас и быть вашим другом; но так как мое присутствие унижает вас, роняет вас в ваших собственных глазах до того, что вы решились на самоубийство, то мне остается только избавить вас от тягостного вам свидетеля вашей слабости. Я оставлю на днях ваш дом. И да хранит вас Бог, да поможет вам стать снова спокойной и счастливой. Прощайте.
Он взял ее руку, поцеловал и повернулся, чтобы уйти, но едва сделал несколько шагов, Габриэль вскрикнула глухим голосом. Взволнованный, не зная, что делать, он снова подошел к дивану.
— Готфрид, останьтесь, я сделаю все по вашему указанию, только не уезжайте. А еще, — молвила она, сжимая крепко горячей ручкой руку молодого человека, — поклянитесь честью ответить откровенно на мой вопрос.
— Обещаю.
— Скажите, любили ли бы вы меня, если бы я была свободна, если бы честь и долг не становились между нами?
Лицо Готфрнда вспыхнуло, на мгновение прошлое и будущее исчезло для него. Он чувствовал, он видел лишь чудный влажный взор, устремленный на него с выражением любви и мучительной скорби.
— Да, Габриэль, если бы я мог, не краснея, не делаясь бесчестным, обладать вами как своей законной супругой, я бы любил вас всеми силами своей души.
С улыбкой счастья на устах графиня упала на подушки и закрыла глаза. Румянец на щеках, ровное дыхание успокоили Веренфельса и дали ему надежду, что злополучное приключение не будет иметь дурных последствий. Он придвинул к дивану столик, поставил на него колокольчик так, чтобы графиня могла его достать, и ушел. Но голова его горела, и множество тяжелых мыслей бушевало в ней.
Уложив после чая Танкреда, он намеревался выйти в сад, чтоб посмотреть оранжерею и придумать, если окажется нужным, какое-нибудь благовидное объяснение, как вдруг Сицилия, вся взволнованная, вбежала в его комнату.
— Ах, господин Веренфельс, что такое случилось? Мне кажется, графиня умирает: надо позвать доктора и дать знать графу.
— Что такое? Этого не может быть, — возразил Готфрид. — С графиней, действительно, произошел несчастный случай, но нет и часу, как я видел ее, и она чувствовала себя хорошо.
— А я покоя не имела на крестинах, что-то толкало меня вернуться домой, — говорила со слезами камеристка. — В половине десятого я уже возвратилась. Найдя графиню уснувшей на диване, я ушла из комнаты, но так как затем долго не было звонка, я вошла, чтобы узнать, не желает ли графиня чаю. И тут я заметила, что она в каком-то необыкновенном состоянии. Глаза были полуоткрыты, она мне не отвечала и, казалось, не слышала моих слов, а когда мы с Триной переносили ее на постель, тело ее казалось совсем бесчувственным. Лишь бы она не отравилась, я давно этого боюсь.
— Нет, нет, причина такого состояния, вероятно, слишком сильный запах в оранжерее. Вернитесь к больной, а я пойду велю послать верхом одного гонца к графу, а другого к доктору.
— Бога ради, месье Веренфельс, придите на одну минуту взглянуть на графиню. Быть может, вы знаете, что делать в таком страшном состоянии до приезда доктора, — умоляла горничная.
— Хорошо, я приду, как только сделаю нужные распоряжения.
Десять минут спустя Готфрид снова наклонился над Габриэлью. Она лежала на постели в полном упадке сил, сменившем нервное возбуждение. Была минута, он сам думал, что она умирает, и сердце его мучительно сжалось. Что делать? Как помочь?
— Графиня, Бога ради, скажите, что вы чувствуете? — проговорил он с волнением. Его голос имел магическую силу и, казалось, вывел Габриэль из летаргии; веки ее медленно поднялись, и голосом слабым, как легкое дуновение, она прошептала:
— Ничего; слабость.
Мучимый беспокойством и страхом, Готфрид вышел в сад и, пытаясь справиться с волнением, стал ходить взад и вперед. Он желал, чтобы доктор и граф приехали скорей, и вместе с тем боялся, чтобы Габриэль в бреду не выдала своей несчастной тайны. Какое тяжелое осложнение! Он прошел в оранжерею и осмотрел сломанную дверь. К своему крайнему удивлению, он увидел, что она была заперта снаружи садовником, который, вероятно, не подозревал, что графиня находится там. Это обстоятельство могло быть благоприятно для объяснения случившегося.
В своем нетерпении Готфрид пошел ждать доктора и графов на дворе и вскоре увидел всадника, который мчался во весь опор на взмыленном коне. То был Арно, бледный и запыхавшийся от быстрой езды.
— Ну что, жива она? — спросил он, соскакивая с лошади. — Скажите, Бога ради, Готфрид. Я вижу по вашему лицу, что произошло нечто ужасное.
В коротких словах и держась насколько возможно правды, Веренфельс рассказал, что графиня пошла в оранжерею и была заперта там, вероятно, одним из садовников, конечно, не с намерением.
А когда по возвращении от судьи Танкред искал свою мать и не мог ее нигде найти, то он, Готфрид, боясь, не случилось ли что-нибудь, пошел в сад и, проходя мимо оранжереи (куда, как видели, направилась графиня), ему показалось, что он слышит слабый стон; тогда он выломал дверь и нашел молодую женщину в бессознательном состоянии. Но так как она скоро пришла в себя, то он не полагал, что это может принять серьезный оборот.
— Какая невероятная ветреность! — воскликнул Арно, стремительно направляясь в комнаты Габриэли.
Полчаса спустя приехал в карете граф и вскоре за ним доктор. Осмотрев больную, которая оставалась неподвижна, безмолвна и, казалось, не видела и не слышала ничего, он сделал некоторые предписания, сказал, что останется до следующего дня, и настоял, чтобы граф лег уснуть, так как он очень ослабел от вынесенного потрясения. Затем, оставив Арно около больной, доктор пошел в залу, где Готфрид, бледный и встревоженный, ждал его, мучимый нетерпением узнать, что он нашел.
— Это вы вынесли графиню из оранжереи? — спросил его старый доктор, окидывая пытливым взглядом красивого изящного молодого человека.
— Да.
— Так скажите мне, в каком состоянии вы ее нашли и не было ли какого-нибудь сильного потрясения до или после удушения.
Заметив, что его собеседник колеблется, он присовокупил:
— С доктором вы можете говорить так же откровенно, как с духовником; чтобы спасти эту молодую женщину, состояние которой очень серьезно, я должен знать правду.
С тяжелым волнением Готфрид заявил, что душевное состояние графини внушало опасения, что нервы ее были сильно возбуждены до и после катастрофы. Удовольствовавшись этим ответом, доктор снова вернулся к больной.
На следующий день Гвидо Серрати приехал из Арнобурга и был удивлен, узнав о случившемся накануне. Когда же, по уходе Арно, он остался один с Веренфельсом, то, устремив на него дерзкий, насмешливый взгляд, сказал шутливо:
— Вот приключение, дьявольски похожее на самоубийство.
— Отчего? Я не вижу никакой к тому цели, — отвечал холодно Готфрид.
— Ах, кто может угадать все «отчего» хорошенькой женщины? Нравственное утомление, ревность, отвергнутая любовь, мало ли что… И в отсутствие всех поэтическая смерть.
Взглянув с насмешкой на мимолетный румянец, выступивший на лице Готфрида, Гвидо встал и ушел. Сдвинув брови, Веренфельс, мрачный, вернулся к себе.
Следующий день был весьма тревожен. Графине было худо; летаргическое состояние, в котором она находилась, не поддавалось лечению, и доктор, равно как и ее родные, терял надежду на спасение. Но тем не менее молодая крепкая натура преодолела болезнь. Габриэль стала медленно приходить в себя, и вскоре опасность миновала. Несмотря на этот счастливый исход опасного случая, атмосфера тоски продолжала тяготеть над замком; и лишь Арно и Танкред приняли свой обычный вид. Граф Вилибальд оставался мрачным, озабоченным и украдкой пытливо всматривался в побледневшее лицо Готфрида и замечал в его спокойном виде некоторое принуждение.
Гвидо Серрати пользовался своими непредвиденными каникулами и деятельно работал над картиной. Он устроил себе наскоро у судьи мастерскую и проводил там целые дни. Молодой живописец нарисовал пастелью маленькую картину, изображающую четверых детей мадам Линднер, и таким образом завладел ее сердцем. Она предоставила ему полную свободу работать над изображением ее племянницы, но, конечно, не была бы так благосклонна, если бы подметила пламенные страстные взгляды, какие устремлял порой художник на милое личико Жизели. Молодая девушка, занятая своим рукоделием и поглощенная мечтами любви, ничего не замечала.
Бедная Жизель, она не знала, что образ ее поблек в сердце ее жениха, затемненный, стертый демонической дерзкой красотой, которая победила и пленила любимого человека, и что теперь его связывала с невестой лишь честь данного слова.
Состояние души Готфрида в течение трех недель, следовавших за покушением Габриэли на самоубийство, было самое тяжелое. Он не мог противиться увлечению и чувствовал себя все более и более прикованным к обольстительной женщине, которая так страстно любила его, но с которой его разделяла пропасть. Он горько упрекал себя, что не покинул замка сразу же после бала. И сердце, и рука его были тогда свободны, а теперь он связал свою судьбу с судьбой доверчивого ребенка, погубил свое сердце и попал в невозможное положение.
Но Веренфельс был слишком честен и слишком энергичен, чтобы долго колебаться. Слово, данное Жизели, налагало на него обязанность забыть Габриэль; причем подозрение трех лиц: камеристки, доктора и Серрати, выказанное ему в день покушения графини, внушало ему желание уехать как можно скорей. Он не видел графиню со дня катастрофы, так как, хотя она и поправилась, но не выходила из своих комнат. И Готфрид жадно искал предлога уехать до появления Габриэли; как вдруг два письма одновременно вывели его из затруднения, поразив вместе с тем тяжелой скорбью его сердце.
Одно письмо было от его матери. Она сообщала ему, что ее болезненное состояние внезапно ухудшилось и, чувствуя близость кончины, она просит его приехать как можно скорее: «Взглянуть на тебя в последний раз и благословить тебя — вот единственная радость, которую жажду получить в этой жизни», — писала она.
Другое письмо было от старого родственника его покойной жены, который был крестным отцом и ее самой, и их дочери Лилии. Но Готфрид не поддерживал с ним постоянно переписки. Вильгельм Берг уже много лет жил в Монако, где у него был собственный дом. Старик, как говорят, обладал солидным капиталом. Игорный дом в Монако представлял обширное поле для спекуляций, и Берг воспользовался этим, чтобы округлить свое состояние. Он давал деньги под довольно ростовщичьи проценты богатым иностранцам, которых непостоянство фортуны ставило в затруднительное положение и заставляло идти на какие бы то ни было условия. Он также покупал или брал в залог драгоценные вещи, когда ему предлагала их какая-нибудь игралыцица, находясь в бедственном положении. Но эти спекуляции не мешали Бергу пользоваться в Монако хорошей репутацией.
Берг и был тот родственник, который хотел помочь Готфриду, когда молодой человек намеревался эмигрировать в Америку. Теперь старик писал, что вследствие подагры он почти лишился ног, что зрение его слабеет и что он чувствует необходимость взять себе молодого и сильного помощника. «И вот я подумал о тебе, Готфрид, — писал он, — так как делаю тебя своим наследником еще при моей жизни. Ты примешь участие в делах, а я буду наслаждаться удовольствием быть окруженным семьей на старости лет. Для твоей матери и для Лилии климат Монако будет очень полезен. К тому же, у меня в доме живет дама средних лет, заведывающая моим хозяйством, которая была учительницей и может заняться воспитанием моей внучки. Приезжай же скорей и ответь мне, когда я могу тебя ожидать».
Хотя дела старика Берга внушали тайное отвращение Готфриду, он счел его предложение за указание свыше; оно давало ему выход из невыносимого положения и обеспечивало ему независимую будущность. И Веренфельс решил, что если его бедная мама умрет, он поселится в Монако с Жизелью и Лилией, а остальное устроит впоследствии.
Не мешкая, он пошел к графу и попросил у него разрешения уехать в эту же ночь к умирающей матери, причем показал ему ее письмо. Граф сразу же дал свое согласие и лишь спросил, когда он думает вернуться.
— Я ничего не могу сказать определенно, так как должен еще съездить в Монако к старшему родственнику, который делает меня своим наследником. Но это, надеюсь, не доставит вам никакой неприятности, так как Танкред хорошо подготовлен для военной школы, а для наблюдения за ним до моего возвращения могу рекомендовать вам прекрасного человека, кандидата теологии — он брат нашего школьного учителя.
— Прекрасно, так оставайтесь так долго, как хотите. Лишь первого октября кончается контракт Петриса.
Танкред был очень удивлен, узнав о неожиданном отъезде Готфрида. Но мысль сменить своего строгого начальника на робкого и добродушного кандидата очень улыбалась ему; он деятельно помогал Веренфельсу укладывать в чемодан вещи и в порыве дружеского чувства подарил ему прекрасный миниатюрный портрет свой, который принес от отца.
— Чтобы вы не забыли меня, — сказал он ласково.
Готфрид улыбнулся и принял подарок.
— Мне столько было хлопот с тобой, что я и так тебя не забуду, но я покажу твой портрет моей Лилии, которой теперь три года, и расскажу ей, какого страшного шалуна я воспитывал.
— Нет, нет! — воскликнул Танкред с неудовольствием. — Прошлое должно остаться между нами; пожалуйста, не говорите обо мне дурно вашей дочери. Что, если она вспомнит об этом, когда мы будем большие?
Находя это преждевременное фатовство очень забавным, Готфрид обещал молчать.
Вечером того же дня Арно пришел к своей мачехе, чтобы читать ей, как делал это обыкновенно, как вдруг вспомнил новость дня. Прервав чтение, он сообщил, что Готфрид уезжает и просил передать ей его поклон и искреннее желание скорого выздоровления.
К счастью для Габриэли, тень от темного абажура скрывала ее черты; в противном случае Арно испугался бы ее внезапной бледности.
— Надолго он уезжает? — спросила она нерешительным голосом.
— Да, я думаю, он не возвратится раньше октября, — отвечал спокойно молодой граф. — Его бедная мать умирает, но агония может затянуться. А по другому делу он должен еще ехать в Монако, — заключил молодой человек и стал продолжать чтение.
Габриэль ничего не слышала, вся поглощенная мыслью, что не увидит Готфрида в течение нескольких месяцев.
— Когда уезжает Веренфельс? — спросила она вдруг.
— Сегодня ночью, чтобы отправиться с пятичасовым утренним поездом.
Молодая женщина ничего не ответила, но немного спустя, ссылаясь на утомление, отпустила Арно. Она чувствовала необходимость остаться одной. Вся ее страсть к Готфриду пробудилась с удвоенной силой, и предстоящая долгая разлука приводила ее в отчаяние.
Со дня своего покушения на самоубийство она не говорила с Веренфельсом, но видела «его иногда из окна, сторожа минуты, когда он гулял с Танкредом или с ее мужем по одной из аллей, которая была видна из ее комнаты. А теперь и эту радость отнимают у нее. Он уедет без ее прощального слова. И возвратится ли он еще? Этот предлог не прикрывает ли бегства?
С возрастающим волнением молодая женщина ходила по комнате; часы, пробившие двенадцать, вызвали ее из задумчивости. С пылающим лицом Габриэль подошла к окну и прижала к стеклу свой разгоряченный лоб. Была чудная июньская ночь, теплая и душистая; днем шел дождь, но вечером погода прояснилась, и полная луна освещала аллеи и темные чащи обширного парка.
Неодолимое желание взглянуть хоть на окна любимого человека овладело Габриэлью; и как знать, быть может счастливый случай помог бы ей увидеть и его самого. Не колеблясь, она накинула на себя большой теплый креповый платок, закуталась в него и вышла на террасу. Она увидела, что во всех окнах замка было темно, полнейшая тишина царила повсюду; очевидно, все спали, и никто не будет знать о ее тайном выходе.
Проворная и легкая, как тень, она прошла площадку, усыпанную песком и освещенную луной, и скрылась в тени деревьев, направляясь к флигелю, который занимал ее сын.
Ноги ее в легких туфлях вязли в сырой траве, но Габриэль не обращала на это внимания и продолжала свой путь, прячась в тени из боязни, чтобы кто-нибудь не увидел ее в окно.
Наконец, она становилась, задыхаясь от волнения. Перед ней возвышался старый корпус замка, и на звездном небе отчетливо выделялась и эта величественная масса, и башня с остроконечным шпицем. Прислонясь к старому зданию, тянулась анфилада окон и широкая терраса, прилегающая к комнатам Танкреда. В помещении мальчика было темно, но два смежных окна были освещены, и на спущенной шторе виднелась колеблющаяся тень. Глаза графини впились в это отражение. И Готфрид, как бы сдаваясь на немой призыв, вышел на террасу и прошелся по ней несколько раз, задумчиво опустив голову, затем направился в сад и пошел по аллее, возле которой скрывалась Габриэль.
— Готфрид! — прошептала она, выходя из тени в двух шагах от него.
Молодой человек вздрогнул, устремив взор на Габриэль; освещенная луной, она казалась волшебным видением.
— Вы здесь, графиня?
— Я не могу дать вам уехать, не простясь с вами, — прошептала она, протягивая ему руки и обращая к нему взгляд, исполненный такой любви и такого отчаяния, что Готфрид был порабощен. Он поспешно подошел к ней, взял ее руки и поцеловал их.
— Благодарю. Но какая неосторожность придти сюда ночью, по сырой траве; вы едва оправились и рискуете простудиться.
— Пускай! Я хотела видеть вас перед этой долгой разлукой и спросить… — она наклонилась к нему, — можете ли вы носить дурные обо мне воспоминания? Будете ли вы думать без отвращения и презрения о женщине, которая, изменив своему достоинству, выдала вам свои чувства и заставила вас напомнить ей о благоразумии и долге?
Слезы помешали ей продолжать.
— Что вы говорите, Габриэль! Как смею я осуждать чувство, которое так предательски овладело сердцем человека, чувство, которое причинило вам столько страданий?! Если мои слова, моя искренняя дружба тронули вашу душу, если вы обещаете мне мужественно бороться с вашей слабостью, посвятить всю свою любовь благородному, великодушному человеку, мужу вашему, если вы будете для Танкреда благоразумной матерью и для Арно истинной сестрой, я буду думать о вас с уважением и с чувством благоговения, и всюду вас будет сопровождать моя молитва о вашем счастье.
Увидев слезы, орошающие лицо Габриэли, он сказал с тяжелым волнением:
— Вы заставляете меня страдать этими слезами, которых я не могу осушить.
— Прощайте, — прошептала графиня, протягивая ему руку.
Порабощенный и позабыв все, Готфрид привлек ее в свои объятия и прижал губы к ее шелковистым локонам, но почти тотчас оттолкнул ее и убежал. Голова его горела, и совесть упрекала его. В последнюю минуту он ослабел, изменил доверию графа и слову, данному Жизели. «Никогда больше я не должен подвергать себя искушению, если не хочу быть подлым», — говорил он себе, возвращаясь в комнату.
Графиня с минуту оставалась неподвижна. Безумная радость охватила ее душу, и одна лишь мысль «он побежден, он мой, несмотря ни на что, так как он любит меня», бушевала в ее голове. Молодая женщина преобразилась; с пылающим лицом она вернулась к себе и кинулась в постель.
Радость графини уменьшилась бы на много, а упреки совести Готфрида увеличились бы во сто раз, если бы они знали, что их свидание было подмечено двумя свидетелями. Один из них был Гвидо Серрати; возвращаясь с ночной прогулки, он увидел Габриэль в момент, когда она подходила к Веренфельсу. Движимый любопытством, он спрятался, желая видеть, что произойдет. «Я не ошибался, — говорил он себе с насмешливой улыбкой, — предполагая, что тут что-то кроется. Да, она положительно без ума от этого злакудрого красавца. Такие открытия ценятся на вес золота, и это поможет мне, прежде всего, овладеть моей прелестной мадонной, в которую я безумно влюблен, а во-вторых, обеспечить мое существование. Обладание подобной тайной прибыльно для живописи. Но Веренфельсу я не завидую; не радость навязать себе на шею такого черта».
С этого дня графиня начала оживать. Свежая, веселая, счастливая, она снова стала интересоваться жизнью, была нежна и внимательна с графом, который казался грустным и не совсем здоровым, и братски добра с Арно. Уверенность, что она любима Готфридом, наполняла ее сердце радостью. Она терпеливо выносила разлуку и не думала о том, что будет после этого.
Сеансы возобновились, и Серрати делал теперь ее портрет. При всяком случае, как только они оставались одни, Гвидо наводил разговор на Жизель и рассказывал множество маленьких эпизодов, происшедших между ней и ее женихом во время болезни графини. Эти рассказы, искусно рассчитанные, возбуждали в графине жестокую ревность, целую бурю страсти, и позабыв всякую осторожность, она сама стала расспрашивать художника.
Однажды Габриэль была в мастерской с глазу на глаз с Гвидо. Он, как всегда, повел разговор на ту же тему и сообщил, что между женихом и невестой установилась деятельная переписка. Накануне Жизель получила письмо, сильно ее взволновавшее. Она перечитывала его несколько раз. «Кажется, дело идет об ускорении их свадьбы», — присовокупил Серрати, всматриваясь украдкой в побледневшее, взволнованное лицо молодой женщины.
— Простите, графиня, что я расстроил вас неосторожным словом, — сказал он вдруг, обратясь к ней и устремляя на нее смелый взор.
Габриэль вздрогнула и, собрав все свои силы, спросила, смерив его презрительным взглядом:
— Я вас не понимаю. То, что вы сказали, не могло расстроить меня!
— Я вижу, графиня, что должен говорить яснее, чтобы вызвать ваше доверие, и потому расскажу вам эпизод, который произошел в ночь отъезда месье Веренфельса. Погода была так хороша, что я вышел пройтись по саду, и случай привел меня к той части замка, которую занимает маленький граф. Вдруг я увидел красивого блондина, который с нетерпением ходил около террасы, затем направился к дубовой аллее, где тотчас из тени деревьев выступила молодая женщина и позвала его; он про…
— Довольно, довольно, — перебила его графиня, бледная, как смерть. — Я понимаю, что вы шпионите и хотите, чтобы вам заплатили за молчание. Во сколько вы его цените?
Художник насмешливо улыбнулся.
— Не раздражайтесь, графиня, надо благоразумно относиться к обладателю тайны. Я хочу дружески сговориться с вами.
— Сколько вы требуете?
— Я вам это скажу, когда выясню все обстоятельства. Вы любите человека, который отвечает вам взаимностью, но слишком строг, чтобы наслаждаться запретным счастьем. Сверх того, этот человек помолвлен и никогда не бросит ту, которой дал свое слово. Но я берусь расстроить это обязательство и сделать ее недостойной и неверной настолько, что щекотливый молодой человек не женится на ней. Если затем вы овдовеете, ничто не помешает вам выйти за человека, которого вы любите, и если… в довершение этих счастливых случайностей, граф Арно погибнет на дуэли с доном Районом де Морейра, например, огромное состояние Арнобургов перейдет к вашему сыну и даст вам возможность по-царски вознаградить друга, который вызовет эти счастливые случайности и устроит ваше счастье. Я беден и должен подумать о моей будущности. А потому попрошу у вас десять тысяч франков за молчание и пятнадцать тысяч, чтобы сделать неверной мадемуазель Жизель. О цене за ваше вдовство и за наследство молодого графа мы поговорим, когда настанет время.
Габриэль слушала, остолбенев от ужаса и негодования; она чувствовала себя как бы запутанной в паутине, как бы в руках этого циничного продажного человека.
— Вы осмеливаетесь предлагать мне целый ряд преступлений. И я не хочу, чтобы Арно погиб; ни за что, никогда, — проговорила вдруг Габриэль глухим голосом.
— Графиня, я предлагаю вам выход из невыносимого положения; богатство и счастье в будущем, благодаря разным роковым случайностям, в которых никто не будет иметь возможности вас осудить. Вы пожалеете о своей нерешительности, когда будет поздно; вот письмо Веренфельса, которое докажет вам справедливость моих слов.
Он вынул из кармана сложенный листок, положил его на колени молодой женщины и снова взялся за кисть.
Дрожа, как в лихорадке, Габриэль откинулась в изнеможении на спинку кресла, и судорожно мяла в руке письмо Веренфельса. Целый ад ревности и страсти кипел в ее груди.
Она выпрямилась, порывисто развернула письмо и стала читать: «Дорогая Жизель»… буквы прыгали и мешались в ее отуманенных глазах, и прошло несколько минут, прежде чем она была в состоянии продолжить чтение. Под впечатлением тайных упреков совести молодой человек был нежным и более отдавался излиянию чувств, чем это было бы без этой причины. В сердечных выражениях он говорил о болезненном состоянии его матери и передавал ей благословение и поцелуй, которые умирающая посылала своей будущей невестке. Далее он писал: «Мне грустно, что-то давит и волнует меня, и я спрашиваю себя порой, достоин ли я тебя, Жизель, и сумею ли я сделать тебя счастливой, как ты того заслуживаешь? Но я отгоняю эти мысли, зная, как глубока твоя любовь ко мне. Когда ты станешь подругой моей жизни, невинный взор твоих голубых глаз, чистых как небо, прогонит эти черные мысли, этого демона, смущающего меня. И потому я хочу ускорить насколько возможно нашу свадьбу. Я знаю, что твоя любовь даст мне покой и счастье».
Трепещущей рукой Габриэль сложила листок. Сумрачно сдвинув брови, она то бледнела, то краснела. Ей был понятен тайный смысл этих строк; демон, убивающий его спокойствие, была его страсть к ней. В союзе с Жизелью он хотел найти спасение и счастье. Эта простая ограниченная девочка будет обладать тем, что она считает своею собственностью. «Нет, никогда! Их надо разлучить, развернуть пропасть между ними во что бы то ни стало», — говорила она себе, бледнея, и мрачный огонь сверкал в ее глазах. Она не замечала насмешливого пытливого взгляда, с каким художник следил за борьбой в ее душе, и улыбку удовольствия, с какой он отвернулся, кончив свои наблюдения.
Беспомощная ревность пожирала ее. Демон-искуситель пробудил пагубные страсти, таившиеся в ней, и протягивал к ней свои когти, чтобы схватить ее и ветреную, страстную женщину сделать преступницей, сообщницей негодяя. Оставаясь глухой к голосу своего доброго ангела, кричавшего ей: «Удержись», она рванулась к итальянцу и прошептала:
— Я заплачу вам за молчание, а если вы разлучите Жизель с Готфридом, я награжу вас сверх ваших ожиданий.
VII. Сила зла
Как справедливо, что первый же шаг в сторону от прямого пути бывает пагубным для нас шагом, он часто ведет к гибели, он всегда дает сильное оружие роковой случайности, которая сторожит нас в образе человека, находящего свой интерес в грехе и несчастии ближнего. Увлеченная своей безумной страстью, Габриэль рискнула пойти на ночное свидание с Готфридом, и это неуважение к долгу честной женщины отдало ее в руки Серрати, который воспользовался ее преступной любовью как орудием, чтобы погубить ее. Как ни была она легкомысленна и страстна, никогда бы она не посягнула на жизнь мужа и Арно, даже для того чтобы сделаться женой Веренфельса, и, несмотря на ослепление ревности, эта мысль приводила ее в ужас и внушала к итальянцу отвращение, смешанное со страхом, которое она должна была скрывать, зная, что находится в его власти.
Гвидо Серрати был опасный человек. Под его приятной наружностью, вежливым и скромным видом скрывалась вероломная, лукавая, развратная душа. Кроме хитрости и энергии, которыми он был наделен от природы, случай вложил ему в руки страшное и тайное оружие, на которое он и рассчитывал, чтобы исполнить обещания, данные Габриэли. Этим оружием была гипнотическая сила.
Несколько лет тому назад Серрати сопровождал в Индию одного итальянского старого вельможу, который пригласил его в качестве секретаря и художника, чтобы составить большой альбом индийских типов, замечательных монументов и других интересных предметов. Во время этого путешествия Гвидо имел случай оказать услугу старому индийцу, и тот из благодарности посвятил его — найдя его к тому способным — в эту науку, дающую такую власть. Молодой человек сумел удивительным образом воспользоваться уроком и уже не раз подчинял своим желаниям и своим интересам волю людей, с которыми имел дело.
И теперь он предполагал воспользоваться этой странной силой, которая тяжелым свинцом ложится на умственные способности человека и подчиняет их чужой воле. Это влияние тем более опасно, что никакое чувство в человеке, в живом, в растении не может ему противиться. Эта тайная власть способна внушать как добро, так и зло, и каждый человек повинуется ей, если только умеют употреблять средства, соответствующие его натуре. Тот, например, на кого не подействует вид металлического предмета, пристальный взгляд, гипнотические пассы, тот поддается звукам музыки, отдаленному звону колокола, виду какого-нибудь яркого цвета и запаху, настолько сильному, чтобы произвести в нем поражение нервной системы, бездействие мозга, необходимое, чтобы чужая воля могла поработить его.
Слепцу, например, слух и обоняние будут служить проводниками, чтобы внушить ему постороннее внешнее представление; глухому — зрение и свет. Но, кроме того, к каждому должны применяться особенности, соответствующие его натуре.
До сих пор эта сложная наука мало известна и мало пользуются ею; но тем, которые занимаются ее исследованием, будущее готовит много неожиданного. Эта сила будет играть огромную роль в медицине и в жизни.
Страстный и развращенный, Гвидо почувствовал сильное влечение к Жизели. Нежная красота молодой девушки с русой головкой воспламеняла его чувства, но честность Жизели и то обстоятельство, что она была невестой человека гордого, с которым нельзя было шутить, заставляли художника скрывать свои чувства. Покровительствуемый случаем, хитрый итальянец решил удовлетворить свою прихоть не только не рискуя, но еще и надеясь получить за это крупную сумму денег, вполне прикрываясь сообщничеством графини.
Для приведения в исполнение своих намерений он начал с того, что вечером же объяснился с Габриэлью. Затем он попросил у графа позволения разместиться для работы в маленьком мавританском павильоне, находящемся в конце парка, возле большого пруда, и состоящего из двух комнат и стеклянной галереи.
Как только Гвидо устроился в своем новом помещении, он отправился в дом судьи и попросил Жизель дать ему еще два-три сеанса.
Делая вид, что рисует, Серрати пристально глядел на молодую девушку, напрягая всю свою волю, чтобы мысленно внушить ей некоторые жесты и слова. На другой день он принес с собой мандолину и по окончании сеанса сделал на ней несколько аккордов. Затем предложил молодой девушке научить ее играть; она, улыбаясь, согласилась. Он подошел и, положив ее пальцы на струны инструмента, заставил извлечь из него несколько звуков. Сам же, наклоняясь над ней, устремил на ее лоб и затылок всю силу своей воли.
— Довольно на сегодня, — сказал он смеясь, — теперь я спою вам что-нибудь.
Гвидо сел против нее и, аккомпанируя на мандолине, затянул мерную странную песнь; в ней слышались то пронзительные дрожащие звуки, то нежные, медленные и страстные, между тем как его пристальный огненный взгляд, казалось, был прикован к чертам своей жертвы. Незаметно для Жизели какая-то странная тяжесть, какое-то оцепенение овладело ею; ее ослабевшие руки упали на колени, утомленная голова прислонилась к спинке кресла, глаза были лихорадочны и неподвижны, лицо побледнело и изменилось.
«Дай мне розу, которая украшает твои душистые волосы», — пропел итальянец глухим дрожащим голосом.
Машинально, с неподвижным взглядом, Жизель сняла со своей головы розу и подала ее Серрати, который продолжая петь, вынул из груды кисточек ореховую палочку и дотронулся ее кончиком до лба молодой девушки, и она почти мгновенно закрыла глаза и, казалось, уснула.
— Слышишь ты меня? — спросил Серрати, наклоняясь над ней.
— Да, — прошептала Жизель.
— Я велю тебе придти в час ночи ко мне в мавританский павильон Рекенштейнского парка и беспрекословно мне повиноваться. А теперь проснись, забыв все, что произошло в течение этого получаса.
Серрати говорил повелительным тоном, делая ударение на каждом слове, затем приложил противоположный конец палочки ко лбу спящей и сел на свое место; в ту же минуту Жизель открыла глаза, видимо, не сознавая, что она спала, и спокойно принялась за свое рукоделие.
День прошел без всяких приключений. Жизель совершенно забыла итальянца, так как после обеда получила письмо от Готфрида, поглотившее все ее мысли. После ужина, когда дети легли спать и домашние дела были окончены, молодая девушка ушла к себе в комнату, еще несколько раз перечитала письмо жениха и написала ему ответ.
Пробило двенадцать часов, когда она кончила свое письмо, вложила его в конверт и заклеила. Она встала и хотела лечь спать, как вдруг остановилась в нерешительности, глаза ее помутились; тихая, едва слышная мелодия звучала над ее ухом, образ Серрати носился, колеблясь, перед ее мысленным взором и, казалось, манил ее к себе. Сознание, что она должна делать что-то, чего не могла припомнить, причиняло ей странное, мучительное беспокойство.
Не давая себе отчета в том, что делает, она накинула на себя легкий плащ, вышла в сад и тенистой дорогой направилась к замку.
Дрожащие звуки песни слышались все яснее и яснее и, казалось, неслись перед нею, увлекая ее за собой с возрастающей быстротой, и будто звали ее к известной цели, неведомой, однако, для нее.
Ноги молодой девушки быстро неслись по песчаным аллеям, но в ее отуманенной голове не было сознания, что она в Рекенштейнском парке, что идет мимо пруда, и лишь при виде мавританского павильона она остановилась; ее отуманенный взор блуждал бессознательно по тонким колоннам, по разрисованным позолоченным арабескам, по фонтану, с журчанием падающему в мраморный бассейн. Затем вдруг, как бы в помешательстве, она кинулась без памяти к входу в павильон, где дверь тотчас отворилась и на освещенном фоне обрисовался стройный силуэт мужчины. Минуту спустя Гвидо Серрати без сопротивления прижимал свои губы к ее губам и, захлопнув дверь, увлек молодую девушку в глубину комнаты.
С этой злополучной ночи Жизель впала в странное душевное состояние, непостижимое для ее близких. Бледная, мрачная, она сторонилась от всех, вздрагивала при малейшем шуме и упорно ничего не отвечала на тревожные вопросы судьи и его жены. Но с наступлением ночи неведомая сила влекла ее к павильону, к бессердечному негодяю, который погубил ее из корыстолюбия и беспечного разврата.
Однако эти ночные посещения не могли долго оставаться тайной. Первый заметил их запоздавший лакей; потом женщина, возвращавшаяся из деревни от больного родственника; затем слух об этом скандале дошел до молодого учителя, заменявшего Готфрида у Танкреда.
Молодой человек хотел убедиться в этом собственными глазами; когда же увидел Жизель, входящую в павильон, он не мог более сомневаться, и его честное сердце возмущалось подобной развращенностью в девочке, которой едва исполнилось девятнадцать лет. Но он не мог решиться сообщить об этом Веренфельсу и Линднерам, которые одни только не знали о позоре, павшем на их дом.
Цель Серрати была достигнута, прихоть его удовлетворена, и он решил, не откладывая, разыграть последний акт драмы. Когда ночью пришла Жизель, он взял ее руку и, покоряя ее взглядом, как змей птицу, сказал:
— Ты напишешь своему жениху то, что я тебе продиктую; вот, возьми перо и бумагу.
Без всякого сопротивления несчастная написала:
«Готфрид, я недостойна тебя, я люблю другого и отдалась ему. Забудь меня и прости, и если ты сохранишь хоть тень жалости ко мне, то избавь меня от стыда увидеть тебя когда-нибудь».
Перо выпало из руки Жизели, и глаза ее закрылись. Тогда Серрати сказал ей повелительно:
— Завтра утром ты напишешь слово в слово такое письмо и отошлешь его Веренфельсу. Сюда ты не будешь больше приходить, но помни то, что произошло, помни, что ты приходила добровольно, из любви ко мне.
Как в чаду, молодая девушка вернулась домой, чтобы пробудиться в бездне позора и отчаяния.
На следующий день Серрати воспользовался первым случаем остаться одному с графиней, чтобы передать письмо, которым совершался разрыв между Готфридом и его невестой.
— Это копия с того письма, которое сегодня отправлено, — заявил итальянец.
Бледная, с выступившим потом на лбу, Габриэль прочла записку, плод преступления более низкого, чем убийство, и чувства радости, ужаса и угрызения совести смешались в ее душе. Конечно, Готфрид свободен; это успокаивало ее ревнивое сердце. Но преступление заставляло ее дрожать. Рассудок ее отказывался понять, как Жизель, будучи невестой такого человека, как Веренфельс, могла даже глядеть на другого, а не только увлечься низкой любовью к Серрати.
— Хорошо, сегодня вечером вы получите от меня условленную сумму, — прошептала она, вставая.
Уже тотчас после соглашения с итальянцем тайная тревога терзала графиню, и по мере того, как обрисовывалась интрига, губящая несчастную Жизель, это лихорадочное волнение усиливалось, и чтобы заглушить его, подавить этот хаос чувств, бушевавших в ней, она снова кинулась в вихрь удовольствий. Общество своим шумом заглушало ее совсем; поклонение толпы приводило ее в упоение.
Дон Рамон приехал и возобновил свое ухаживание. Он казался более влюбленным, чем когда-либо, и Габриэль со слепой ветреностью еще более возбуждала своим кокетством пылкого молодого человека. Арно задыхался от ревности и даже намекнул отцу, что было бы разумней отказать бразильцу от дома. Но граф оставался мрачен и равнодушен и, казалось, не придавал никакого значения ухаживанию дона Рамона и кокетству своей жены.
После разрыва Готфрида с невестой тайное волнение графини усилилось еще более. С ненасытной жадностью она искала развлечений, но под этой притворной веселостью таились упреки совести и желание, насколько возможно, загладить преступление.
И вот однажды днем, когда обоих графов не было дома, Габриэль сторожила Серрати и, увидев, что он направляется в мавританский павильон, подошла к молодому человеку.
— Мне необходимо серьезно поговорить с вами, сеньор Серрати, — сказала она без всякого вступления. — Вы поймали меня врасплох и воспользовались минутой ревности, чтобы вовлечь в западню и эксплуатировать случайно открытую тайну. Но зло совершилось, надо стараться смягчить последствия. Мысль, что вы погубили при моем сообщничестве невинное существо, не дает мне покоя; я пришла вам предложить жениться на Жизели. Я дам молодой девушке богатое приданое, и так как она вас любит, то ее честь и ее счастье будут одинаково ограждены.
Густая краска мгновенно выступила на лице художника, и брови его сдвинулись; но тотчас овладев собой, он ответил со своей обычной уклончивостью:
— Вы в свою очередь, графиня, ловите меня врасплох. Я вовсе не собирался жениться, но тем не менее ваша щедрость делает возможным подобное супружество, и я почти решаюсь согласиться с вашим желанием; Только попрошу вас дать мне время обдумать, чтобы принять окончательное решение.
Графиня утвердительно кивнула головой и удалилась. Она не видела, какой ядовитый и насмешливый взгляд сопровождал ее.
«Глупая, тщеславная женщина, — ворчал Гвидо, — она думает заставить меня поплатиться моей свободой за ее любовные шашни. Надо поспешить дать графине более плодотворные занятия, чем забота об успокоении своей совести».
Через несколько дней после этого разговора в замке был праздник. Многочисленное общество собралось на сельский бал, устроенный Габриэлью с присущим ей вкусом и роскошью. Танцевали в саду в устроенной для этого бальной зале и в замке, где все открытые террасы были великолепно освещены, и под звуки двух оркестров нарядные веселые толпы двигались по аллеям сада.
Кончили вальс, и Габриэль, танцевавшая его с доном Рамоном, опираясь на его руку, шла по аллее, ведущей к замку. С разгоряченным лицом наклоняясь к своей даме, бразилец говорил ей что-то с большим оживлением. Ни он, ни она не заметили, что кто-то, скрываясь в тени деревьев, шел следом за ними, стараясь слышать их разговор.
Сопровождаемые этим скрытым наблюдателем, дон Рамон и Габриэль достигли террасы, менее других освещенной, которая примыкала к залу, ведущему в столовую, а другим концом к кабинету графа. Лампы, висевшие между душистыми растениями, освещали мягким светом террасу, которая отделялась от комнаты спущенной портьерой.
Видя, что графиня и ее кавалер направлялись в эту сторону, Гвидо Серрати, — так как шпионил не кто иной, как он, — быстро опередил их, согнувшись, проскользнул позади растений и скрылся в складках портьеры.
Несколько минут спустя наблюдаемая пара поднялась по ступеням, и Габриэль, опускаясь на маленький соломенный диванчик, произнесла шутливо:
— Сядьте, дон Рамон, и успокойтесь; вы очень разгорячились от танцев.
— Нет, нет, — отвечал бразилец голосом, задыхающимся от страсти, — я должен говорить с вами, добиться объяснения, или я сойду с ума.
Не слушая далее, Гвидо вышел из своей засады, прошел зал, где никого не было, затем столовую, где слуги накрывали ужин. «Где же граф?» — шептал с нетерпением Серрати. И как бы отвечая этому призыву, граф показался у входа в соседнюю комнату, выходя из бальной залы.
— Не видели ли вы Арно, месье Серрати? — спросил он утомленным голосом.
— Кажется, я видел сейчас молодого графа и графиню; они проходили по залу и теперь разговаривают на террасе.
— Благодарю, — сказал граф, направляясь к указанному месту. Серрати же быстро другим ходом кинулся в сад.
Не дойдя нескольких шагов до портьеры, граф вдруг остановился; он ясно услышал голос, говоривший с жаром:
— Да или нет, Габриэль? Любите ли вы меня? Глаза ваши то жгут, то леденят меня. Я должен знать, что это — игра или любовь?
С побагровевшим лицом граф подошел и взглянул между складок портьеры; он не ошибся, то был дон Рамон; с пылающим взглядом и дрожащими губами он наклонился к Габриэли, которая отвечала ему небрежно:
— Боже мой! Вы знаете, дон Рамон, что я не имею права вас любить.
— Да, но эта пытка превышает мои силы, и я должен раз поцеловать губы сирены, которая не перестает обещать мне небо и заставляет терпеть муки ада, — воскликнул молодой человек, теряя всякую власть над собой. Стоя на коленях возле дивана, он хотел обнять графиню.
Габриэль, испуганная этим порывом, глухо вскрикнула:
— Оставьте меня, безумный!
Но в ту же минуту показался граф и, решительно схватив бразильца за шиворот, с силой отбросил его от графини.
— Негодяй, который осмеливается в моем доме грубо оскорблять мою жену! — крикнул он голосом, задыхающимся от бешенства. — Я требую от вас удовлетворения.
Он выпустил из рук дона Рамона, который потеряв равновесие, упал бы на плиты, если бы не удержался за балюстраду.
Габриэль почти без чувств опустилась на диван, между тем как молодой человек, побагровев от бешенства, с минуту не мог произнести ни слова. Наконец, он сказал хриплым голосом:
— Я к вашим услугам, граф, и буду ждать ваших секундантов, предоставляя вам выбор оружия.
Никто из присутствующих не заметил, что Арно приближался к террасе. Он, услышав последние слова, с минуту оставался на ступенях и затем с решимостью подошел к ним.
— Что случилось? — спросил он, с беспокойством устремляя взор на расстроенное лицо отца.
Граф Вилибальд почувствовал вдруг слабость и схватился за спинку стула.
— Нетрудно догадаться, — продолжал Арно, обращаясь к дону Рамону, — что вы оскорбили графиню и мой отец вызвал вас на дуэль. Но я тоже представитель чести Рекенштейнского имения, и вы будете драться со мной, а не с больным человеком, которого вы так бесчестно оскорбили, пренебрегая долгом чести и гостеприимства.
— Что ты говоришь, Арно, — воскликнул граф, стараясь выпрямиться. — Я никогда не позволю тебе заменить меня, я сам разделаюсь с этим негодяем.
— В таком случае я буду драться после тебя, — заявил энергично Арно.
— Принимаю вызов от вас обоих, — ответил дон Рамон и стремительно убежал в сад.
Тяжелое молчание царило с минуту на террасе; граф первый прервал его:
— Надо вернуться к гостям, так как не следует посвящать их тотчас же в этот скандал. Я пойду в зал. Поздней ты придешь, Арно, ко мне в кабинет, чтобы условиться о подробностях дуэли. Вот конечный результат бесстыдного кокетства, бешеной погони за любовью каждого мужчины, чтобы забавляться возбужденной в нем страстью.
Бросив на жену взгляд злобы и презрения, граф скрылся за портьерой, но едва он сделал несколько шагов по залу, как голова его закружилась, он остановился и, шатаясь, оперся на стол. Головокружение было непродолжительно, но внезапная слабость приковала его к месту; он хотел позвать, но вдруг внимание его было привлечено словами, которые донеслись до него с террасы, причем его бледное лицо сильно вспыхнуло.
Едва муж вышел, как Габриэль вскочила с дивана, кинулась к Арно и сказала задыхающимся голосом:
— Откажитесь от дуэли, Арно, умоляю вас на коленях. Дон Рамон попадает в птицу на лету. И я с ума схожу от мысли, что он может убить вас.
Габриэль говорила правду: она не предвидела и не имела в виду дуэли. Но если жертва была необходима, то она лучше желает, чтобы этой жертвой был ее муж, так как смерть его делала ее свободной; но лишиться Арно, своего верного раба, эта мысль наполняла ее сердце скорбью и ужасом.
Молодой граф вздрогнул от этого неожиданного взрыва чувств в молодой женщине.
— Габриэль, вы дрожите за мою жизнь, — прошептал он. — О, с каким счастьем я пожертвую ею для вас! И вы не подозреваете, каким избавлением будет для меня смерть.
— Нет, — повторила Габриэль, обливаясь слезами и простирая к нему сжатые руки. — В доказательство, что вы меня любите, откажитесь от дуэли. Если я лишусь вас, единственного человека, который поддерживает, любит и понимает меня, то все погибло для меня в будущем.
Как в порыве безумия, Арно схватил ее руки и привлек ее к себе.
— Габриэль, что значат эти слова? Какое чувство внушает их вам? Если ты любишь меня, скажи мне это один только раз, и все страдания мои будут забыты.
— Да, да, я люблю тебя, Арно, и ты должен жить для меня!
— Нет, я должен умереть после преступного признания, которое вырвалось у меня, — сказал молодой граф дрожащим голосом. — Могу ли я жить под этой кровлей, когда сердце мое полно преступной страсти к жене моего дорогого отца. Я бы должен был бежать, но жизнь вдали от тебя хуже смерти. Дай мне умереть от пули бразильца, кровь моя смоет оскорбление, нанесенное моему бедному отцу, и избавит меня от преступного, загубленного существования.
— Я не хочу, чтобы ты умер, — повторила настойчиво графиня. — Пусть Вилибальд выходит на дуэль, он вызвал дона Рамона.
Шум от падения тяжелого тела в соседней комнате, сопровождаемый глухим хрипением, прервал их раз говор. Бледный взволнованный Арно приподнял портьеру, но при виде отца, распростертого без движения на ковре, он глухо вскрикнул и кинулся к нему, как безумный.
«Я убил его моим гнусным признанием, — шептал он, приподнимая бесчувственную голову графа. — Бог покинул и проклял меня».
Известие, что граф Вилибальд поражен апоплексическим ударом, печальным образом прервало бал; гости спешили разъехаться, глубоко потрясенные несчастьем, постигшим такой приятный, гостеприимный дом.
Граф в бесчувственном состоянии был перенесен в свою комнату; по счастливой случайности, старый доктор, друг графа, был тут и мог тотчас же оказать помощь больному.
Бледный, как смерть, Арно помогал ему, не спуская глаз с посиневшего лица графа. После употребленных первых средств больной слегка пошевелился, но глаза его остались закрытыми. Доктор отошел в глубину комнаты, позвал к себе Арно.
— Я должен предупредить вас, граф, что состояние вашего отца безнадежно; одна сторона вся поражена, и минуты его сочтены.
Глухой стон вырвался из груди молодого человека.
— И он не придет в себя? — спросил он с тревогой.
— Нет, я полагаю, что к нему вернется сознание, и если язык, как я надеюсь, не поражен, надо будет воспользоваться этими минутами, чтобы узнать его последнюю волю.
Подавленный, обессиленный, Арно опустился в кресло и закрыл лицо руками.
Доктор снова сел к постели, и, как он предвидел, граф вскоре открыл глаза в полном сознании. Взгляд его окинул комнату, остановился на сыне и затем обратился к доктору:
— Друг мой, скажите откровенно правду, — прошептал он. — Я, кажется, умираю; смерти я не боюсь, но я должен сделать некоторые распоряжения. Имею ли я на это время?
Со слезами на глазах доктор наклонился к нему и пожал ему руку.
— Жизнь и смерть в руках Божиих, — сказал он с волнением, — но для человеческого искусства состояние ваше очень серьезно, и я одобряю ваше намерение распорядиться немедленно вашими делами.
— Благодарю. Теперь не откажите мне в дружеской услуге. Отдайте приказание, чтобы тотчас позвали сюда нотариуса, судью и священника. Я продиктую мое завещание и хочу причаститься. Затем, не велите никому входить сюда, мне надо поговорить с сыном.
— Все будет сделано. Примите успокоительных капель, они поддержат ваши силы.
Доктор дал лекарство, поправил подушки больного и ушел, взглянув с состраданием на молодого графа, который, будучи подавлен угрызениями совести и отчаянием, казалось, ничего не видел и не слышал.
— Арно! — позвал слабым голосом умирающий.
Молодой человек вздрогнул, встал и, подойдя к постели, упал на колени и прильнул губами к руке отца.
— Встань, несчастное мое дитя, и постарайся выслушать меня спокойно: мне немного осталось времени…
— Ах, отец, ты не отталкиваешь меня с отвращением, не проклинаешь меня за то, что охваченный преступной страстью, я похитил у тебя сердце твоей жены и нанес тебе смертельный удар. О, как я подл и преступен! — заключил он, трепеща от стыда и раскаяния.
— Успокойся, мое бедное дитя. В сердце моем нет ни капли желчи против тебя. Могу ли я тебя осуждать, что ты поддался очарованию этой губительной красоты, которая, как всепоглощающий огонь, убила и меня? Я виноват, что в моем непонятном ослеплении не подумал, какой опасности ты был подвергнут. Не твое признание нанесло мне смертельный удар, но убеждение, что ты должен быть страшно несчастлив, если, будучи молод, красив и богат, тяготишься жизнью и ищешь смерти. Поцелуй меня; мне нечего тебе прощать, я, напротив, благословляю тебя на радость и любовь, которыми ты усладил последние дни моей жизни.
Слезы лились по лицу Арно; он наклонился и трепещущими губами поцеловал отца.
— Теперь, дитя мое, поклянись мне исполнить то, о чем я хочу тебя просить.
— Клянусь.
— Обещай мне никогда не покушаться на свою жизнь.
— Но если дон Рамон убьет меня? — прошептал нерешительно Арно.
— Результат дуэли в руках Божиих, но я говорю тебе о самоубийстве. Ты должен вырвать из своего сердца пагубную любовь, которая снедает тебя, должен удалиться и постараться забыть. Это тебе удастся, так как от любви не умирают. Время залечивает всякую рану, отсутствие изглаживает из наших мыслей самые мучительные воспоминания. С Габриэлью тебя разделяет невозможность: ты не можешь жениться на вдове своего отца. И, несмотря ни на что, я счастлив этим, так как женщина эта, такова как она есть, неспособна дать прочного, истинного счастья. Как ты, Арно, так и я боготворил Габриэль, а между тем едва был терпим ею. Она злоупотребляла бы твоей слабостью, как злоупотребляла моею, и ты, как я, стал бы жертвой позора и гибели. Чтобы иметь над ней перевес и повелевать ею, нужен человек иного закала, чем мы.
Ты сейчас упрекал себя в том, что похитил у меня сердце жены. Успокойся; уверяя тебя в своей любви, Габриэль лгала. Она любит в тебе лишь верного раба, руку, всегда готовую сыпать золото, чтобы удовлетворять ее безумной роскоши. Она просила тебя не драться с доном Рамоном, боясь, чтобы ты, послушное орудие в ее руках, не погиб на дуэли, а я не остался бы жить.
Бог мне свидетель, что в этот великий час я не хочу осуждать жену, произносить над ней мой приговор за ту случайность, которую она не предвидела. И самое ее желание быть свободной законно до некоторой степени: так естественно, что муж, старый, больной, не что иное, как неприятная тягость для этой красивой страстной женщины, безумно влюбленной в другого.
— Что ты говоришь, отец? Ты предполагаешь, что Габриэль любит дона Рамона? — воскликнул Арно, вставая. Он изменился в лице и весь дрожал.
— Нет, не дона Рамона. Она любит безумно Веренфельса. В ночь его отъезда она имела с ним свидание, которому я был случайным свидетелем, после чего у меня не осталось никакого сомнения насчет ее чувств.
— О, вероломный негодяй! — воскликнул Арно, как подстреленный падая в кресло. Сердце его разрывалось от отчаяния, ревность душила его.
Со слезами на глазах граф глядел с минуту на изменившееся лицо сына, затем сказал нежно:
— Приди в себя, дитя мое, будь тверд и не обвиняй несправедливо честного, благородного человека. Веренфельс не искал и не вызывал этого свидания; Габриэль пришла, увлеченная своей страстью, но из ее собственных уст я слышал, что Готфрид уже ранее старался призвать ее на путь долга и добродетели, что, несмотря ни на что, она наконец заполонила его, победила его сердце. Это общечеловеческая слабость, которую я прощаю ему… Давно, впрочем, у меня были подозрения, которые подтвердились кое-какими подробностями, простодушно рассказанными Танкредом. Случай в оранжерее был не что иное, как покушение на самоубийство. И я уверен, что когда моя смерть сделает ее свободной, она выйдет за Веренфельса, и я этим доволен. Ей нужен именно такой муж; он уже смирил ее и переломит ее нрав, как переломил нрав Танкреда.
Граф замолчал, утомленный. Арно ничего не ответил. Он прижал голову к подушкам, сдерживая стоны, теснившие его грудь.
Несколько минут спустя тихо постучали в дверь; то был доктор, который пришел сказать, что священник и другие, призванные графом, ждут в соседней комнате.
При появлении приглашенных Арно встал с таким спокойным видом, которого нельзя было ожидать, отдал приказания, сделал нужные распоряжения, затем сел к постели отца, и лишь особое выражение в лице молодого человека выдавало его внутреннее волнение.
Граф начал диктовать завещание.
Он постановил, чтобы Танкред в эту же осень был отдан в военную школу, и его опекуном назначал полковника барона Оттокара Вельфенгагена, своего двоюродного брата и старшего товарища по полку. Надлежащая сумма определялась для воспитания и содержания мальчика, который, достигнув совершеннолетия, вступит в обладание всеми доходами; но особо оговоренным пунктом ему запрещалось до двадцати пяти лет касаться капитала, продавать или передавать другому что-либо из своего состояния. Своей жене граф завещал, как вдовью часть, пожизненную пенсию, которая будет ей выдаваться до самой ее смерти даже в случае вступления ее во второй брак. Он предоставлял ей право жить в Рекенштейнском замке, равно как и в его доме в Берлине.
При редакции этого параграфа Арно наклонился к отцу и сказал ему шепотом:
— Папа, увеличь пенсию, завещай ей, как дар, тридцать тысяч талеров, которые я имею лишних в моем распоряжении; она привыкла к роскоши, а Веренфельс беден, нам следует устранить препятствия к ее счастью.
Граф глядел с любовью на великодушного молодого человека, который не хотел вымещать на любимой женщине своего страдания. Без возражений он исполнил его желание, включив в завещание вышеназванный дар.
Когда документ был составлен и подписан всеми свидетелями, граф выразил желание причаститься Святых Тайн; и пока умирающий оставался один с духовником, Арно пошел к Танкреду, чтобы разбудить его и отвести к отцу, который желал его благословить.
Ночная лампа, подвешенная к потолку, освещала слабым светом комнату и кровать с шелковыми занавесами, на которой спал мальчик глубоким сном. Мрачный и озабоченный, Арно подходил к брату, как вдруг вздрогнул и остановился. Возле кресла, в ногах кровати, он увидел Габриэль; она стояла на коленях, закрыв голову руками. И эта отчаянная поза составляла тяжелый контраст с ее шелковым розовым платьем, обнаженными плечами и помятыми розами в ее черных волосах.
Услышав, должно быть, шорох шагов, она вдруг встала и кинулась к Арно, но, заметив перемену в выражении его лица и во взгляде, остановилась и прошептала голосом, в котором слышались страх и досада:
— Что тут происходит? Меня, по-видимому, забывают, и Христофор позволил себе не пустить меня в комнату Вилибальда.
— Это потому, что отец умирает и не хотел, чтобы ему помешали продиктовать духовное завещание. Успокойтесь, Габриэль, вы будете свободны и можете не бояться больше, что он не станет драться на дуэли, — ответил Арно с такой стойкостью, какой он никогда не проявлял.
Молодая женщина вскрикнула и, ошеломленная, упала в кресло. При виде этого истинного душевного волнения, взгляд молодого человека смягчился, и, наклоняясь к ней, он сказал:
— Вы этого не желали, не правда ли, Габриэль, и вы не любите Веренфельса?
Но в эту минуту графиня была неспособна притворяться; ничего не отвечая, она закрыла руками свое взволнованное, побледневшее лицо.
Арно горько улыбнулся и, оставив ее, подошел к брату и разбудил его.
— Вставай скорей, Танкред; папа очень болен и хочет тебя видеть.
Он помог испуганному мальчику одеться и увел его, не взглянув на мачеху. Но у дверей она догнала, остановила его и, схватив за руку, прошептала голосом, задыхающимся от слез:
— Арно, умолите Вилибальда позволить мне придти проститься с ним, не дайте ему умереть без того, чтобы я попросила у него прощение в моей неблагодарности.
— Хорошо, — проговорил он, тяжело дыша и отнимая свою руку, — я сделаю все, чтобы уговорить его.
Заливаясь слезами, Танкред кинулся к отцу и в своей детской скорби умолял его не умирать. С отуманенным взором граф положил руку на кудрявую головку мальчика и благословил его. Затем благословенно причастился Святых Тайн. Когда торжественная церемония была окончена, Арно наклонился к больному и сказал тихо:
— Папа, Габриэль умоляет тебя пустить ее проститься с тобой и попросить у тебя прощения.
Заметив в графе тревожное волнение и резкий жест отрицания, молодой человек присовокупил с убедительной мольбой:
— Не отказывай ей; мне кажется, ее раскаяние искренно. И в такую торжественную минуту, приняв Святые Тайны, символ любви и прощения, можешь ли ты желать перейти в лучший мир, оставив кого-нибудь непрошенным на земле!
— Ты прав, дитя мое, не надо уносить в вечную обитель никакого мелкого злопамятного чувства. И быть может, зрелище смерти заставит легкомысленную женщину серьезней взглянуть на жизнь. Позови же ее скорей; я чувствую, что слабею.
Арно нашел мачеху в ее будуаре. Спрятав лицо в подушки дивана, она горько плакала.
— Придите, Габриэль, отец зовет вас, — сказал он, слегка дотрагиваясь до ее руки.
Молодая женщина тотчас встала и пошла вслед за ним; но у дверей комнаты графа она остановилась, вздрогнув, и готова была упасть. Арно поддержал ее. Голос священника, читающего отходную, произвел на нее потрясающее впечатление.
— Соберите все свои силы, если хотите не опоздать, — шепнул ей Арно.
Трепеща и робко ступая, Габриэль приблизилась к постели и упала на колени, припав губами к руке мужа, который лежал на подушках бледный, с печатью смерти на лице. Мучительное чувство раскаяния и страха охватило ее. Внутренний голос, всегда понятный совести человека, шептал ей, что, лишаясь мужа, такого снисходительного и великодушного, который дал бедной сироте имя, богатство, положение, она лишалась покоя, мирной жизни, где ее окружал почет, и что, несмотря на любовь Готфрида, будущее для нее было темной пропастью, куда ее увлекал злой рок. Проникнутая суеверным страхом она схватила холодную, влажную руку того, чьей смерти желала, но с которым, как казалось ей в эту тяжелую минуту, она лишалась всего.
— Это ты, Габриэль? — спросил слабым голосом умирающий.
— О, Вилибальд, прости мне всю мою низость против тебя, мою неблагодарность, все горе, которое я тебе причиняла в ответ на твою доброту, — взывала графиня голосом, задыхающимся от рыданий.
— Я прощаю тебя, Габриэль, вполне и от всего сердца. Пусть этот час раскаяния улучшит и облагородит тебя. Будь благоразумной матерью для Танкреда, любящей, честной женой тому, кого избрало твое сердце. Я знаю все и не хочу, чтобы воспоминание обо мне служило препятствием твоему счастью.
Подавленная стыдом и раскаянием, Габриэль встала и прижала голову к груди мужа.
— Благослови тебя Бог за твое великодушие, Вилибальд. А между тем, такое прощение сильнее упрека для меня. Непостоянная, легкомысленная кокетка, я делала тебя несчастным и убила тебя. Ах, я так много грешила в последнее время под влиянием гибельного чувства, что проклятие Божие — я боюсь — все же поразит меня и отомстит мне за тебя помимо твоего желания.
— Успокойся, бедное дитя, и ищи в молитве поддержку своим слабостям, а теперь поцелуй меня в последний раз в знак нашего полного примирения.
Габриэль прижала свои горячие губы к губам умирающего, но, заметив, что глаза графа вдруг потускнели и лицо покрылось мертвенной бледностью, она глухо вскрикнула. Доктор поспешно подошел и, увидев, что холодеющее тело судорожно передернулось, перекрестился, меж тем как священник торжественно произнес:
— Душа христианина, возвратись к своему создателю.
Минуту спустя все было кончено.
Трепещущая и бледная, как полотно, графиня откинулась назад; широко раскрыв глаза, она с минуту пристально глядела на усопшего, затем без чувств упала на ковер. Арно, который вчера еще забыл бы все, все бросил бы, чтобы помочь ей, поднял голову при ее падении, но не тронулся с места, и меж тем как доктор с помощью старого лакея уносил графиню, молодой человек стал на колени, привлек Танкреда, чтобы и он был возле него, и весь отдался молитве.
Габриэль скоро очнулась от обморока, но находилась в тяжелом состоянии духа. Она чувствовала себя уничтоженной и несчастной; все, казалось, рушилось вокруг нее. Когда же она вспомнила об ожидаемой дуэли, ее охватила безумная тревога. Что, если Арно падет теперь жертвой ее легкомыслия!
С внезапной решимостью молодая женщина поспешно подошла к бюро и трепещущей рукой написала:
«Дон Рамон, ваше увлечение вчера вечером имело гибельные последствия: муж мой умер от апоплексического удара. Понимаете ли вы мое отчаяние и муки моей совести? И можете ли вы после такого несчастья драться на дуэли с моим пасынком? Если бы он пал от вашей руки, я, кажется, сошла бы с ума. Итак, если вы дорожите моим уважением и моей дружбой, напишите Арно несколько слов извинения и уезжайте отсюда. Если все то, что вы говорили мне вчера, правда, то вы уважите мою просьбу.
Габриэль».
Она заклеила письмо и велела своей преданной Сицилии немедленно отправить его. Два часа спустя она получила следующий ответ:
«Графиня, ваше желание для меня свято, и вполне справедливо, чтобы я старался загладить мою вину и извинился перед графом Арнобургским; вызов его был. ему внушен законным негодованием. Я в отчаянии, что увлекся своей пылкостью, и молю вас простить меня. Безумная любовь, которую вы мне внушаете, служит мне единственным оправданием; но пролить кровь между нами считаю гнусным. Я уезжаю на несколько месяцев и молю Бога хранить и подкрепить вас. До свидания.
Рамон де Морейра.
Облегченная от огромной тяжести, Габриэль уснула, крайне утомленная. На следующий день утром верховой привез письмо от барона де Морейра графу Арнобургскому.
«Надеюсь, граф, — писал дон Рамон, — вы не объясните трусостью то, что я вам скажу. Вы достаточно меня знаете, чтобы быть уверенным, что я никогда не уклонялся от дуэли, но я узнал о смерти вашего отца, и мысль, что мое безумное увлечение способствовало тому, ужасна для меня. И в виду этого незакрытого еще гроба дуэль с вами немыслима для меня. Я немедленно уезжаю отсюда и прошу у вас прощения за мой вчерашний поступок. Но можете ли вы осуждать меня за то, что я был ослеплен моей страстью к этой очаровательной женщине! Счастлив тот, кто может противиться ей».
С тяжелым вздохом Арно сложил письмо. Жизнь была ему ненавистна, и умереть от руки дона Рамона было бы для него желанным исходом. «Да, счастлив тот, кто может противиться этому коварному созданию, гибельному для Рекенштейнов», — прошептал он с горечью.
После похорон графа Вилибальда в Рекенштейнском замке водворилась мрачная пустота. Арно удалился в свое имение и не трогался оттуда, занятый приготовлениями к дальнейшему путешествию. Он решился океаном отделить себя от Габриэли и, согласно обещанию, которое дал отцу, стараться вытеснить из своего сердца соблазнительный образ. Успеет ли он в этом? В настоящую минуту состояние его души было ужасным. Страсть и ревность терзали его, лишая покоя и сна,, подтачивая здоровье и заставляя его подчас бояться помешательства.
Он думал, что не вынесет этих мук, но душа, соединенная с телом, — эластичная ткань: человек мучается, корчась, как червь, когда ступает на него давящая пята судьбы, но истерзанный, разбитый, он встает… и продолжает жить.
После смерти мужа графиня заперлась у себя в комнатах и не принимала никого, удаляла от себя даже Танкреда. И мальчик, скучая в замке, проводил большую часть времени в Арнобурге или у Фолькмара, куда тащил беспощадно доброго и слабого кандидата.
Весть о скором отъезде Арно достигла Габриэли и усилила ее мрачную грусть. Все вдруг покидали ее. От Готфрида не было никаких известий; она даже не знала, слышал ли он о событиях, происшедших в их доме. Безмолвное уединение, которое ее окружало, давило ее, как кошмар; и порой этот обширный замок казался ей саркофагом, закрывшимся над ней.
Однажды вечером графиня сидела у себя в будуаре. Лампа под абажуром слабо освещала ее голову, откинутую на спинку кресла, побледневшее лицо и сложенные руки, ослепительная белизна которых выделялась на черном платье, делая их похожими на дивное изваяние. Погруженная в свои думы, молодая женщина не заметила, что портьера приподнялась и Арно остановился на пороге. Не отрывая глаз, он смотрел на любимую женщину, которая никогда не казалась ему более обольстительной, и тяжелый вздох вырвался из его груди.
Габриэль вздрогнула и поднялась.
— Арно! — проговорила она нерешительным голосом, протягивая ему руку. Перемена, происшедшая в наружности ее пасынка, мучительно сжимала ей сердце.
— Я пришел проститься с вами, Габриэль, — сказал молодой граф, подходя к ней. — Я уезжаю на много лет, может быть, навсегда.
— К чему такие печальные предчувствия? — прошептала она, приглашая его сесть.
— Это не предчувствие, но простительное для путника предположение. Знаешь, когда расстаешься, но не знаешь, свидишься ли снова. И так как, быть может, сегодня мы прощаемся навсегда, я не хочу, чтобы вы сохранили неприятное обо мне воспоминание, чтобы злоба осталась между нами. Я люблю вас, Габриэль; это чувство последует за мной в изгнание, и я хочу покинуть вас без негодования, так как истинная любовь все выносит и все прощает.
Графиня опустила голову, и несколько капель горьких слез скатилось по ее щекам.
— Ах, Арно, не считайте меня такой гнусной. Никогда, клянусь вам, я не играла так легкомысленно вашим сердцем, как сердцем каждого другого; никогда я не хотела сделать вас несчастным. Я люблю вас, как брата, как друга, и если б я могла возвратить покой вашему сердцу, я бы сделала это во что бы то ни стало. Вот хотите, — она схватила его за руку, — я откажусь выйти вторично замуж? Я это сделаю, если это может возвратить вам покой.
Лицо Арно вспыхнуло на мгновение, но, победив бурю своих чувств, он с твердостью сказал:
— Габриэль, я не хочу обещания, которое вскоре стало бы тяготить вас и, быть может, вызывать ваше проклятие. Я никогда не могу обладать вами, и во мне нет жестокого эгоистичного желания омрачить вашу жизнь. Будьте свободны и счастливы, выберите себе человека по сердцу. Молодой красивой женщине необходимо иметь покровителя.
Разговор продолжался более спокойным тоном, но от предложения остаться пить чай граф отказался.
— Я должен ехать, — сказал он, вставая: — дайте мне, Габриэль, что-нибудь, что напоминало бы мне о вас в моем изгнании.
Молодая женщина поспешно подошла к письменному столу и вынула оттуда футляр, в котором был миниатюрный портрет, изображающий ее шестнадцатилетней девушкой в подвенечном платье с венком из померанцевых цветков на голове.
— Вот возьмите, Арно. Когда я позировала для этого портрета, я была невинна и счастлива и мое сердце было полно любви к вашему отцу.
— Благодарю, — сказал молодой человек, пряча футляр в карман своего платья.
— Будете вы писать мне, Арно?
— Нет, с завтрашнего дня я разрываю с прошлым. Рекенштейн и все, что обитает в нем, перестает существовать для меня. Я не хочу ничего знать, пока сердце мое не излечится. Но тем не менее, если когда-нибудь вам это понадобится, обратитесь к моему банкиру в Берлин, месье Флуру. Я остаюсь вашим братом, вашим помощником, вашим другом; не забывайте этого. А теперь прощайте. Храни вас Бог.
Быстрым движением он привлек ее к себе, поцеловал в губы и выбежал прочь.
— О, безумная! я сама изгнала моего лучшего друга, — промолвила Габриэль, падая на кресло и разражаясь рыданиями.
* * *
В один прекрасный сентябрьский день легкий кабриолет, запряженный парой почтовых лошадей, катился по шоссе, ведущему к Рекенштейнскому замку. В экипаже сидел Готфрид; небольшой чемодан лежал у его ног. Молодой человек устремил задумчивый взгляд на замок, который начинал выступать в конце долины, весь окруженный своими садами. Как все изменилось с того дня, когда два года тому назад он ехал той же дорогой!
Охваченный грустью и смутной надеждой, он вздохнул и спросил себя, какова будет их встреча с Габриэ-лью теперь, когда они оба свободны. Молодой человек узнал от кандидата о происшедших событиях. Известие о смерти графа и об отъезде Арно вырвало его из мучительного оцепенения, в которое его поверг разрыв с Жизелью; внезапная измена молодой девушки, нравственная развращенность, выказавшаяся в ее бесстыдной связи с художником, внушали Готфриду отвращение и ужас. Но когда в его воспоминании возникал милый образ невинной Жизели с чистым, искренним взором, падение ее делалось для него непонятным.
Смерть матери, последовавшая вскоре затем, и все хлопоты с переездом в Монако вполне поглотили молодого человека. Вильгельм Берг принял его с искренним радушием и сразу привязался к маленькой Лилии с той нежностью, которая часто охватывает. старых холостяков. И Готфрид, успокоенный и подкрепленный в душе любовью своего родственника, стал снова думать о Рекенштейне и его обитателях. Он написал кандидату, прося его дать ему известия, и спрашивал, вышла ли Жизель за Гвидо Серрати. Он не получил ответа, и после некоторых колебаний решился ехать сам на один или два дня в замок, чтобы взять оставленные вещи и узнать, что происходило в течение почти трех месяцев после смерти графа.
В момент, когда кабриолет готовился повернуть в аллею, Готфрид велел ехать по шоссе, которое ведет к деревне, и выпустить его у входа в парк, а вещи отдать в служительский флигель. Он не хотел остановиться у главного подъезда.
Тяжелое ощущение охватило душу человека, когда он увидел колокольню церкви и красную крышу дома судьи, выглядывающую из-за деревьев, полуобнаженных теперь, и, уступая внезапному побуждению, он обратился к кучеру, который был из этой деревни, и Готфрид знал его.
— Руперт, ты, вероятно, помнишь, говорили об иностранце-художнике, который приезжал делать портреты графини и графа Арно? Не знаешь ли, давно он уехал?
Кучер повернулся и сказал, глядя искоса:
— Разве вы не знаете, что этот самохвал утонул три недели тому назад?
— Утонул? — повторил изумленный Готфрид. — Каким образом? И отчего ты называешь его самохвалом? — присовокупил он более спокойно.
— Я знаю то, что мне рассказывал брат, который служит конюхом в замке. Так вот, после смерти старого графа графине было не до портрета, и живописец мог бы уехать, но он нашел себе работу в окрестностях и проводил время то тут, то там; но главной его квартирой был мавританский павильон парка. Туда к нему приехали раз господа братья Румберг, чтобы звать его на рыбную ловлю. День был жаркий, и им захотелось выкупаться. Но, едва они вошли в воду, как вдруг итальянец вскрикнул, говорят, и стал тонуть. Старший Румберг кинулся за ним и вытащил его; но, хотя река неглубока в этом месте и живописец оставался в воде каких-нибудь несколько минут, он не ожил. И я не один думаю, что черт потопил его. Колдуны, которые губят невинных, всегда кончают таким образом. Злой дух берет себе их черную душу.
Кабриолет остановился. Готфрид вышел и в тягостном раздумье ступал по парку. Но мысли его приняли вдруг иное направление, когда на повороте аллеи он заметил женщину, которая медленно шла опустив голову; длинный трен ее траурного платья шумел по сухим листьям, большой газовый вуаль покрывал ее голову. Сердце его забилось сильнее, и он ускорил шаг, чтобы подойти к ней.
Да, то была Габриэль. Унылая, томимая тоской и грустью, она вышла пройтись в парке. Мрачное уединение, окружающее ее, действовало расслабляющим образом на эту светскую молодую женщину, снедаемую к тому своей страстью. Страшные ощущения, вызванные смертью ее мужа, угрызения ее совести и отъезд Арно заглушили на время это чувство, но мало-помалу оно снова овладело ею. Она не переставала думать о Готфриде, сердилась за его молчание, приходила в отчаяние, но не могла решиться написать ему. В эту самую минуту она была погружена в подобные мысли, как вдруг шум поспешных шагов коснулся ее уха. Она подняла голову и увидела Готфрида. Из груди ее вырвалось восклицание такой нескрываемой радости, что ей стало стыдно самой себя, и, то краснея, то бледнея, она промолвила:
— Ах, вы появились так неожиданно, что испугали меня, месье Веренфельс.
— Извините, графиня, что испугал вас моим внезапным появлением, — отвечал молодой человек, не менее ее взволнованный, целуя ее руку. — Я думал, что лучше будет, если я войду не главным подъездом.
— Ах, я рада вам, откуда бы вы не вошли, но я нервна до невозможности. Печальные события, постигшие нас, и жизнь в этом обширном опустелом здании, делают меня больной.
Разговаривая, они направились к замку, и Готфрид узнал, что Танкред отправился на несколько дней к Евгению Фолькмару, что кандидат уехал, так как получил место, и что на будущей неделе графиня намеревалась ехать в столицу с сыном, который должен был поступить в военное училище.
Габриэль и ее гость обедали вдвоем и вечером пили чай tete-a-tete. Графиня как бы преобразилась; присутствие любимого человека действовало на нее, как солнце на захиревший цветок: на щеках появился румянец, в глазах блеск, и ее улыбающиеся губы старались даже скрывать отражение того счастья, которое наполняло ее душу. Нервная, страстная, она все отдавалась настоящей минуте, беспредельно наслаждаясь присутствием, лицезрением, беседой того, кого любила.
Обаяние этой сильной увлекательной страсти, при сознании, что теперь они оба свободны, производило свое действие на холодную, рассудительную натуру Готфрида. Он приехал с намерением держаться в пределах самой строгой сдержанности, из уважения к трауру графини, предоставив будущему решить их судьбу; но под живительным огнем очей Габриэли все эти соображения исчезли. Он сам не замечал, какая перемена совершалась в нем. Почтительная сдержанность сменялась любезностью и желанием нравиться; речь его оживлялась, большие черные глаза горели нескрываемым восторгом и все смелей и смелей заглядывали в глаза Габриэли.
Они разошлись поздно; и, возвратясь к себе в комнату, Готфрид был как в чаду. Ночь принесла ему некоторое успокоение, и на следующий день, когда Сицилия пришла звать его к завтраку, он уже решил — вопреки желанию сердца — уехать обратно вечером того же дня. Молодой человек чувствовал, что слабеет, покоряясь силе любви, и боялся, чтобы в порыве увлечения решительное слово не сорвалось с языка раньше срока, который предписывало ему чувство деликатности и уважения к памяти графа.
Графиня приняла Веренфельса у себя в зале и, в ожидании завтрака, попросила его подсесть к ее пяльцам: она вышивала ковер для сельской церкви. Молодая женщина повела разговор с таким же оживлением, как и вчера, но Готфрид чувствовал себя неловко, не зная, как лучше ей сказать, что уезжает сегодня же вечером.
Наконец, он попросил позволения взять экипаж после завтрака, чтобы съездить к Фолькмару для свидания с Танкредом, так как не хотел уехать, не простясь со своим учеником.
При этих словах лицо Габриэли покрылось смертельной бледностью; мысль снова лишиться Готфрида, не видеть, не слышать его, сразила ее; ей казалось невозможным вынести эту разлуку. Чувства, которые волновали молодую женщину, так ясно отражались на ее изменившемся лице, что Веренфельс был сражен; сердце его мятежно билось, и, позабыв все свои разумные соображения, всю щепетильность чувств, он наклонился и припал губами к трепещущей ручке, которая тщательно старалась направить иголку.
— Я должен уехать, — прошептал он, — но могу ли я вернуться через год, чтобы предложить вам вопрос, который решит нашу судьбу?
Габриэль наклонила к пяльцам вспыхнувшее лицо; глаза ее пылали.
— Ах, Готфрид, — ответила она тоже тихим голосом, — нужно ли вам спрашивать о том, что вам давно известно. Приезжайте через год, когда я буду иметь право открыто перед всеми сказать вам мое «да».
Лакей, вышедший доложить, что кушать подано, прервал их разговор; но решительное слово было произнесено, и беседа, возобновленная позднее, заключилась поцелуем обрученных. День пролетел как стрела; завоеванное, наконец, счастье окружало, как ореолом, прелестное лицо Габриэли, и она являлась совсем в ином свете. Готфрид в упоении все более и более отдавался своей любви.
Чай был подан в будуаре, так как новость была уже известна хитрой камеристке: инстинкт или уши открыли ей секрет. Жених и невеста свободно продолжали свою бесконечную беседу. Было решено, что данный ими друг другу обет будет храниться в строгой тайне, что графиня, съездив в Берлин, сдаст Танкреда в военную школу, вернется в замок на все время своего вдовства, а в октябре, через год и четыре месяца после смерти графа Вилибальда, состоится их свадьба.
— Но ты, однако, приедешь ко мне на Рождество, Готфрид?
— Конечно, и надеюсь, что к той поре я буду в состоянии сказать тебе, где мы поселимся в будущем.
— Разве мы не будем жить здесь, или в Берлине в Рекенштейнском отеле? Вилибальд укрепил за мной право жить в этих обеих местностях даже в случае второго супружества.
Веренфельс, улыбаясь, покачал головой.
— И ты считаешь это возможным, Габриэль! Могу ли я жить в замке покойного графа и быть управляющим сына моей жены? Нет, я один должен заботиться о содержании моей семьи и таким способом, чтобы это не роняло моего достоинства. Ты выходишь не за богатого человека, дорогая моя, и должна примириться с мыслью, что тебе придется отказаться от многих привычек роскоши; мы не будем держать лакеев, поваров, и ты сама будешь немного заниматься хозяйством.
Слегка нахмурившись, графиня промолвила нерешительным голосом:
— Ты забываешь, что я получаю годовое содержание, которое обеспечивает нам возможность жить прилично; и я не понимаю, отчего нам не жить здесь или в Берлине, где дом вполне устроен. — Твои слова заставляют меня приступить тотчас же к разговору на серьезную тему, что я думал отложить на после, — отвечал Готфрид.
Он достаточно знал графиню, чтобы понимать, какую ему придется вынести борьбу, прежде чем он заставит быть благоразумной эту избалованную, прихотливую молодую женщину. Но он твердо решил отучить ее от привычки бездумно тратить деньги, а также положить конец ее кокетству со всеми.
— Я прежде всего отвечу на твое возражение. Вполне устроенный дом, о котором ты говоришь, принадлежит новому графу Рекенштейну; из его доходов платят за содержание этого дома, и, как вдовствующая графиня, ты имеешь полное право пользоваться им. Таким образом, твоего годового дохода достаточно, чтобы удовлетворить твоим прихотям. Но с минуты, когда ты делаешься моей женой, я не могу жить за счет твоего сына. Теперь сообщу тебе мои планы на будущее. Мой старый родственник, который живет в Монако, делает меня своим наследником и дает теперь же в мое распоряжение довольно значительную сумму денег, которая доставляет мне возможность купить небольшое имение; доходы с этого имения вместе с тем, что ты получаешь, позволяют нам жить очень комфортабельно и держать лошадей и экипаж, что, впрочем, необходимо в деревне. Я позабочусь тоже, чтобы дом был красив и удобен, настолько элегантно убран, чтобы не оскорблял утонченного вкуса моей милой прихотницы. Но в других твоих привычках, дорогая моя, ты должна будешь сделать полное изменение. Роскошь туалета должна прекратиться. Граф Вилибальд не мог выдерживать такие издержки, а я не потерплю их даже из твоих средств. Впрочем, пышность нарядов была бы неуместна по многим причинам. Я бы не чувствовал себя как дома, мне все бы казалось, что графиня Рекенштейн, заблудись, нечаянно попала в мое скромное жилище. Твоя ослепительная красота не нуждается в тряпках, чтобы возвысить себя. И сверх всего, я не хочу, чтобы моя маленькая Лилия привыкла видеть роскошь, которую не готовит ей будущность. Впрочем, тебе и случая не представится показывать свои туалеты, так как то общество, какое ты принимала в городе, не поедет к нам, а помещики, наши соседи, вероятно, будут люди простые, занятые своим хозяйством, мало думающие о визитах.
По мере того как он говорил, густая краска покрывала лицо Габриэли, губы ее нервно дрожали, и она с трудом сдерживала слезы, готовые пролиться из ее глаз.
Когда она мечтала о любви Готфрида и о счастье быть его женой, то никогда не думала об этих темных сторонах вопроса. Она была подавлена тем, что услышала сейчас. Отказаться от нарядов, от удовольствия нравиться и быть предметом восторженного поклонения, как царицы всех балов; зарыться в жалком поместье, чтобы сделаться простой хозяйкой, это было таким для нее страданием, будто ей вырвали сердце. По тону голоса Готфрида слышно было, что он не уступит и что настал конец роскоши и кокетству. А между тем, а между тем она не смела возражать из страха, что он откажется от нее; она понимала, что он способен на такую решимость. И хотя знала силу слез над влюбленным и тысячу раз злоупотребляла этим средством, тут она на них не рассчитывала. Габриэль боялась и стыдилась строгого взгляда этих черных глаз, а лишиться любимого человека в момент возродившегося счастья было для нее хуже смерти.
С сердечной нежностью и тревогой Готфрид следил за нравственной борьбой, отражавшейся на прелестном лице молодой женщины. Он не обманывал себя насчет трудностей, ожидавших его впереди, и тех бесчисленных бурь, которые будут волновать его супружескую жизнь даже в таком случае, если в увлечении любви Габриэль согласится на все. Но он чувствовал в себе силу вынести эту борьбу и вырвать мало-помалу из сердца молодой женщины недостатки, которые, по его мнению, были систематично развиты слабостью графа Вилибальда и обожанием Арно.
Тем не менее видя, как мужественно она старалась победить бурю, поднявшуюся в ней, он был тронут, и сердце его сильно забилось в груди. Он привлек ее к себе и, целуя ее трепещущие губы, прошептал:
— Габриэль, дорогая моя, мне тяжело, что я вынужден требовать от тебя так много жертв, но я не могу иначе, а между нами должна быть полная откровенность.
— Я согласна на все, Готфрид, и для тебя отказываюсь от прошлого, — прошептала графиня прерывающимся голосом. Но это обещание будто уничтожило в ней последние силы, она разразилась рыданиями и прижала голову к плечу своего укротителя, единственного человека, против воли которого она не смогла восставать.
Луч счастья и гордости блеснул в глазах молодого человека при этой первой победе, и он не старался остановить ее слез, так как видел в них проявление спасительной реакции, и, только когда она несколько успокоилась, Готфрид нежно сказал:
— Благодарю тебя, моя дорогая, за это доказательство твоей любви. Но, поверь мне, отсутствие роскоши и рассеянной, пустой жизни доставят тебе менее сожаления, чем ты думаешь. Истинная любовь дает столько счастья в тесном семейном кругу, что светское общество делается излишним. А я буду жить только для тебя, не буду иметь другой мысли, как твое счастье.
Он встал и, приготовив стакан лимонада, подал его Габриэли. Она выпила несколько глотков, затем сказала, улыбаясь сквозь слезы:
— Ах, настал конец моего могущества! И я предчувствую, что ты обуздаешь меня, как обуздал Танкреда. Молодой человек расхохотался.
— Во всяком случае, для твоего воспитания я думаю употребить особый метод и более мягкие меры, так как половина власти все же останется в твоих руках.
Он обвил рукой ее талию и прижал губы к ее нежной щеке. В эту минуту портьера приподнялась, и Танкред остановился на пороге, окаменелый от изумления, не понимая этой невероятной сцены.
— Мама, не спишь ли ты? — вскрикнул он внезапно раздраженным голосом.
Графиня оглянулась, вся вспыхнув.
— Зачем вы целуете маму, месье Веренфельс? При жизни папы вы никогда этого не делали, — продолжал мальчик, видимо, сильно пораженный.
— Танкред, мой кумир, — сказала Габриэль, привлекая сына в свои объятия, — если ты любишь меня, то будешь любить и месье Веренфельса: он мой жених и заменит тебе отца, которого ты лишился.
Мальчик покраснел и опустил голову с выражением недовольства, но тем не менее дал Готфриду поцеловать себя, мало-помалу развеселился и обещал свято хранить случайно обнаруженную тайну. Только перед ужином, прощаясь на ночь, он сказал со вздохом:
— Однако я бы лучше желал, чтобы дон Рамон был моим вторым отцом.
— Ну, делать нечего, тебе надо примириться с тем, что вышло не по-твоему, так как мама не разделяет твоего вкуса, — отвечал, смеясь, Готфрид.
Несколько дней прошло в невозмутимом счастье. Но вот однажды управляющий пришел к Готфриду с просьбой помочь ему отправить вещи Гвидо Серрати, оставшиеся в замке.
— В столе мавританского павильона, — сказал старик, — полный ящик бумаг художника; их забыли, когда отправляли все его вещи. Все писано по-итальянски, а так как я не знаю этого языка, а вы с ним знакомы, то не будете ли вы так добры, месье Веренфельс, не поможете ли мне разобрать и привести в порядок эти бумаги. Может быть, окажется возможным отправить их прямо семейству покойного.
— С удовольствием, месье Петрис. Дайте мне ключ от павильона, я сейчас пойду погляжу, есть ли там что-нибудь, стоящее хлопот.
Порешив тотчас заняться этим делом, Готфрид пошел сказать Габриэли, что идет в павильон. Молодая женщина слегка побледнела: имя Серрати и воспоминание о нем производило на нее мучительное, давящее впечатление.
— Я провожу тебя до круглой площадки фонтана, — сказала графиня. И когда они прошли некоторое пространство, она робко проговорила:
— Я все хочу тебя спросить, нет ли у тебя неприятного ко мне чувства за мое прошлое?
— Что за вопрос! Я не имею ни права, ни желания заниматься прошлым; будущее и наша любовь — вот все, что меня касается и что интересует меня.
— Итак, ты безусловно прощаешь мне все, что было сделано мной до нашей помолвки? Ведь я могла быть очень дурной.
— Да, да, даю тебе полное отпущение твоих грехов, — отвечал Готфрид, смеясь.
При входе в комнату, которую занимал Серрати, чувство презрения и гадливости охватило молодого человека. Художник был всегда ему антипатичен, и циничное нахальство, с каким он соблазнил Жизель и потом кинул свою жертву, делало его в глазах Готфрида еще мерзостней. Впрочем, все, что видимым образом напоминало итальянца, исчезло отсюда; что касается стола, забытого при описи, никто не знал, что художник пользовался им, так как он стоял в глубокой амбразуре окна первой комнаты. Готфрид сел к этому маленькому бюро и выдвинул его единственный ящик. Там были тетради, образующие род журнала; затем разные заметки, счета и кое-какие наброски; и сверх всего этого лежал недописанный листок бумаги.
Надеясь найти какое-нибудь указание, Веренфельс вынул и развернул листок, чтобы слегка пробежать его глазами, как вдруг лицо его вспыхнуло, и взгляд стал жадно пожирать строки, написанные рукой покойного.
«Милый мой Иосиф, — писал Серрати, — твой скептицизм переходит всякие границы, и не будь ты мой брат, я бы оставил тебя коснеть в неведении, но на этот раз тайная сила, существование которой ты так упорно отвергаешь, дала такие осязательные результаты, что сомнение становится ересью. Но так как я предполагаю остаться здесь еще три недели или месяц, то, щадя твое любопытство, я расскажу тебе в коротких словах, как все произошло, сообщу тебе если не весь ход действий, то, по крайней мере, полученные результаты».
Затем следовало короткое, но ясное изложение интриги, разыгравшейся в Рекенштейне, начиная с разговора художника с графиней до кончины графа. Серрати ставил себе в заслугу, что вызвал эту катастрофу своим ловким вмешательством, и надеялся получить еще крупную сумму денег.
Бледный, как смерть, Готфрид положил письмо и провел дрожащей рукой по лбу, покрытому холодным потом. Ему казалось, что пропасть раскрылась под его ногами. Женщина, которую он любил, на которой хотел жениться, была преступницей, разрушившей все преграды на своем пути. В какую бездну ее пагубная страсть ввергла несчастную Жизель! Ужас и любовь боролись в сердце молодого человека. Его строгая честность удаляла его от графини, но обаяние этой бурной, всепоглощающей страсти влекло его к обольстительной женщине, образ которой носился перед ним, возбуждая все его чувства и приводя его в упоение.
Вдруг он вспомнил о Жизели, невинной жертве гнусного злодеяния. И это он погубил несчастную девочку, выбрав ее щитом своей слабости. Не был ли он обязан загладить все, что она выстрадала, и покрыть своим именем ее незаслуженный позор? Тяжело дыша, Готфрид поднялся со стула и стал ходить по комнате. Долг чести подсказывал ему жениться на Жизели, но мысль отказаться от Габриэли так мучительно терзала его сердце, что была минута, когда эта жертва казалась ему выше его сил. Мало-помалу он успокоился и, спрятав письмо в карман, вышел из павильона.
Торопливо, как бы боясь, что откажется от своего решения, он отправился к дому судьи. Все там имело печальный вид; один лишь младший мальчик сидел на ступенях веранды и учил свой урок. При виде Веренфельса ребенок встал, краснея, и со смущением прошептал, что отца нет дома, что мать занята в прачечной, но что тетя Жизель наверху, у себя в комнате.
Не размышляя долее, Готфрид поднялся по лестнице, и в полуоткрытую дверь комнаты он тотчас увидел Жизель. Она сидела у окна в такой глубокой задумчивости, что ничего не видела и не слышала. Не веря своим собственным глазам, Готфрид остановился на пороге, и беспредельная жалость охватила его душу при виде страшной перемены, которая произошла в молодой девушке в течение нескольких месяцев и делала ее неузнаваемой. Лучи заходящего солнца освещали ее лицо, бледное, как воск, и поразительно худое; ее большие глаза, обведенные темными кругами, были устремлены в пространство; выражение мрачного отчаяния, казалось, застыло на ее чертах.
— Жизель! — прошептал Готфрид, наклоняясь к ней и взяв ее руку.
Молодая девушка вздрогнула и, узнав своего бывшего жениха, глухо вскрикнула и, закрыв лицо руками, хотела бежать. Но Готфрид удержал ее, сел возле нее и сказал ласково:
— Останься и успокойся, бедное дитя; ты не имеешь причины краснеть передо мной, и то, что я хочу тебе сказать, докажет тебе, что ты не виновница, а жертва.
Не говоря об участии графини в этом деле, он объяснил ей, каким способом Серрати подчинил ее волю и заставил молодую девушку отдаться ему. Чудеса магнетизма и внушения были известны Готфриду, и эти вопросы интересовали его.
Жизель слушала, онемев от ужаса и от удивления.
— Ах, — сказала она наконец, — теперь я понимаю, что происходило во мне. Благодарю вас, Готфрид, что вы открыли мне тайну; это избавляет меня от презрения к самой себе, которое не раз влекло меня к самоубийству. Теперь я умру счастливой, что снова приобрела ваше уважение.
— Зачем такие мучительные мысли? Ты будешь жить для меня, Жизель; вдали от этих несчастных мест ты возродишься для счастья и забудешь этот мрачный сон. Серрати умер, что лишило меня возможности взыскать с него за его подлость; но что касается тебя, Жизель, я буду таким любящим мужем, что ты забудешь прошлое.
Мимолетный румянец выступил на бледных щеках молодой девушки. Затем она покачала головой и промолвила с полной безнадежностью и утомлением:
— Благодарю тебя за твое великодушие, Готфрид, но предчувствие говорит мне, что я не воспользуюсь им; что-то разбито во мне, и я чувствую, что умираю.
— Если такова воля Божия, ты умрешь моей женой, — ответил молодой человек, вставая. — До свидания; я должен теперь вернуться к себе, но приду переговорить с твоим дядей о необходимых подробностях. Предупреди его, чтобы он ждал меня, так как я хочу сегодня же уехать из Рекенштейна.
Медленно, опустив голову, Веренфельс возвращался в замок. Совесть его говорила ему, что он хорошо поступил, а между тем мысль о сцене, которая его ожидала у Габриэли, как свинцом теснила ему грудь. Силой воли он заставил себя быть спокойным и внутренне упрекал себя за свое смущение перед разрывом с преступницей, недостойной женщиной.
Габриэль ждала его в будуаре; его долгое отсутствие приводило ее в нетерпение, но при первом взгляде, брошенном на молодого человека, она встала бледная. Никогда она еще не видела его таким мрачным, строгим, и его суровый взгляд, устремленный на нее, пронизывал холодом ее сердце.
— Мы совсем одни? — спросил он, запирая за собой дверь.
— Совершенно одни; даже Сицилия в гардеробной. Но что случилось, Готфрид? Боже мой, я предчувствую несчастье, — воскликнула графиня, кидаясь к нему.
Но Готфрид отступил и, вынув из кармана письмо итальянца, подал его ей, сказав лаконично:
— Прочтите.
Почти машинально молодая женщина пробегала глазами обличительное письмо. В комнате водворилась мертвая тишина, которую нарушало лишь шуршание бумаги в похолодевших и дрожащих пальцах графини; затем она в изнеможении упала на стул. Мысли ее путались. Что скажет он, он, из-за кого она шла на все? Молодой человек стоял безмолвный, прислоняясь к столу, но в глазах его горело смешанное чувство презрения и скорби, и слова замерли на ее губах.
— Я полагаю, вы сами понимаете, что все кончено между нами, — сказал Готфрид тихим голосом. — Смерть вашего мужа, это — дело вашей совести и суда Божия; но загладить зло, причиненное несчастной, которую вы погубили, — мой долг. Итак, я женюсь на ней. И позвольте вам сказать, что я горько сожалею, что был невольной причиной стольких преступлений и несчастий.
Габриэль слушала, побледнев и широко раскрыв глаза. Она, казалось, не поняла смысла его слов; но вдруг глухо вскрикнула и, упав на колени, протянула к нему сложенные руки:
— Готфрид! Пощади меня, наложи на меня какое хочешь наказание, но не отталкивай меня! Ведь ты любил меня! Как же ты можешь отказаться от меня без жалости и сожаления? Я не могу жить без тебя и на коленях умоляю простить меня.
Этот вопль и выражение безумного отчаяния, которое звучало в словах графини, поколебали твердость молодого человека: страсть к очаровательной женщине побуждала его привлечь ее в свои объятия, все забыть и поцелуем дать ей прощение. Усилие, сделанное им над собою, вызвало в его тоне жестокость, которой не было в его сердце, и, оттолкнув Габриэль, он сказал резким голосом:
— Нет, я не хочу дать свое честное имя женщине без принципов, которая вступает в сообщничество с негодяями и платит им деньги. Ты внушаешь мне отвращение.
Габриэль вскочила на ноги, как раненая пантера, и обеими руками схватилась за голову.
— Готфрид, возьми назад это ужасное слово и прости меня! — вскрикнула она вне себя. — Избавь меня от того, что выше моих сил, — лишиться тебя. Уже любовь к тебе вовлекла меня в преступления, близ тебя я еще могу сделаться иной; если же ты меня оттолкнешь, я сделаюсь гибелью всех, кто будет ко мне приближаться; и я чувствую, даже твоя голова не будет для меня священной. Сжалься! Избавь меня от новых грехов!
Тронутый и испуганный душевной бурей, потрясавшей все существо молодой женщины, Готфрид поспешно подошел к ней и взял ее руку.
— Несчастное создание, как можно было замарать любовь таким множеством дурных поступков! Если моя слабость может тебя утешить, то признаюсь, что, несмотря ни на что, я люблю тебя, но жениться на тебе не могу. Нас разделяет могила графа Вилибальда и слово мое, данное Жизели. Прощай, Габриэль, я уезжаю сегодня же ночью.
Габриэль ничего не ответила. С минуту она оставалась, как окаменелая, затем упала без чувств на ковер. Весь дрожа и как в чаду, Готфрид отнес ее на диван. Несколько минут он смотрел на нее, как бы желая запечатлеть в своей памяти это безжизненное лицо, затем быстро вышел из комнаты.
Когда Габриэль пришла в себя, то сначала думала, что видела дурной сон, но эта иллюзия была непродолжительна. При сознании горькой истины новый ураган отчаяния охватил ее. Лишиться человека, которого она любила до безумия, и в ту минуту, когда полагала, что приобрела его навсегда, лишиться его потому, что он ее презирает! При этой мысли голова ее кружилась. «Ах, ты был прав, Арно, — прошептала она, ломая руки и тяжело дыша, — истинная любовь все прощает и все извиняет; любимую женщину не отталкивают, как Готфрид оттолкнул меня, когда я ползала перед ним на коленях, умоляя о прощении. Вилибальд! Арно! Вы жестоко отомщены».
С пылающей головой, молодая женщина ходила быстрыми шагами по будуару; она задыхалась и, открыв дверь балкона, кинулась в сад. Холодный воздух освежил ее, и она в изнеможении опустилась на скамью; но минуту спустя вдруг поднялась, как гальванизированная, и спряталась в тени кустов. Она услышала шаги Готфрида; мрачный и озабоченный, он прошел мимо нее, не подозревая ее присутствия. В темноте нельзя было рассмотреть выражения его лица, но затем была минута, когда ясно обрисовался его строгий силуэт. Нервная дрожь пробежала по ее телу; она прижала голову к стволу дерева, с трудом удерживая крик бешенства и отчаяния. Она знала, куда он шел: к Жизели, к этому ненавистному существу, которое, несмотря ни на что, будет обладать ее любимым.
Как гонимая фуриями, Габриэль вернулась в комнаты. Под влиянием дикой ревности мгновенно произошла перемена в ее пылкой душе. В эту минуту она ненавидела Готфрида так же сильно, как любила до сих пор, и не желала ничего более, как отомстить ему, уничтожить его.
Опершись на стол и устремив пылающий взор в пространство, она погрузилась в раздумье. И со дна ее души, этого сфинкса с тысячью изгибов, как из неизмеримой бездны, восстали демоны дурных страстей, уснувших, но не укрощенных, омрачая ее совесть, заглушая всякое смущение.
Габриэль встала бледная, как смерть, но решительная.
«Ты дорого поплатишься, Готфрид, за этот адский час, — шептала она с жестокой улыбкой. — А! Ты не хочешь дать мне свое честное имя. Погоди, у тебя не будет честного имени ни для какой другой женщины. Я внушаю тебе отвращение, как женщина без принципов, так я могу не стесняясь совершить еще одно преступление, если это доставит мне удовольствие унизить тебя».
Она поспешно вернулась в будуар, взяла с бюро маленький кинжал с инкрустацией на ручке, впустила лезвие в замочную скважину стола, нажала и сломала замок. Затем вынула из ящика портфель, наполненный банковыми билетами. Это были 30 тысяч талеров, которые Арно дал ей, как завещанные отцом, и спрятала бумажник в карман. Как тень, она пробралась в комнаты Танкреда; мальчика там не было, и она поспешно прошла в комнату Готфрида, освещенную лампой, висящей на потолке.
Молодая женщина окинула взглядом всю обстановку. Очевидно, Готфрид, прежде чем уйти, почти окончил свои приготовления к отъезду. Два дорожных мешка были уже замкнуты; но чемодан, еще открытый, лежал на двух стульях, и на столе стояла шкатулка, предназначенная, вероятно, для бумаг и документов. Габриэль попробовала открыть шкатулку, но она была замкнута и ключа не было. Тогда она проворно подошла к чемодану, вынула из-под вещей сюртук, положила портфель в его карман, затем, сложив аккуратно сюртук, снова подсунула его под все вещи.
— Мама, что ты спрятала в платье месье Веренфельса? — послышался голос Танкреда в ту минуту, когда она уничтожила всякий видимый след своего шаренья в чемодане.
Если бы молния упала к ногам Габриэли, она не была бы более потрясена; ей показалось, что земля уходит из-под ног, когда она встретила удивленный взгляд ребенка.
Она кинулась к Танкреду, увела его из комнаты и, закрыв дверь на замок, опустилась в кресло в таком состоянии духа, которое невозможно описать.
— Что с тобой, мама? — спросил испуганный мальчик.
— Танкред, — прошептала она, привлекая его к себе, — если ты меня любишь, если хочешь, чтобы я жила, поклянись, что никогда, слышишь ли, никогда ты не скажешь никому, что видел меня там, возле чемодана Веренфельса. Если же ты, мой кумир, не сдержишь своего обещания, я умру в тот же день, как ты проговоришься.
Ребенок глядел на нее со страхом и удивлением. Бледное, изменившееся лицо матери, ее пылающий и странный взгляд дали ему понять, несмотря на его неопытность, что произошло нечто необыкновенное, и, разражаясь рыданиями, он кинулся на шею матери с криком:
— Никогда, никогда, клянусь тебе, не скажу ни слова, только живи!
Поглощенные своим волнением, ни мать, ни сын не слышали, что в соседней комнате отворилась дверь и вошел Готфрид. При словах Танкреда, которые Веренфельс ясно слышал, он остановился, и сердце его болезненно сжалось; он думал, что графиня требовала от сына, чтобы он не говорил об их помолвке, так скоро расстроенной. Затем подойдя к чемодану, он с шумом закрыл его.
Габриэль вздрогнула и тотчас встала; еще раз прижала Танкреда к своей груди с уверенностью, что он будет молчать; затем, шатаясь,. вернулась к себе. Случай благоприятствовал ей, никто из слуг не встретил ее, и даже Сицилия не подозревала, что госпожа ее уходила из своих комнат. Когда она вошла к себе, ей прежде всего бросилось в глаза письмо Серрати, упавшее на ковер. Она подняла его и тщательно сожгла на свечке. Затем упала на кушетку; силы ее истощились. Когда час спустя Сицилия, удивленная, что графиня так долго не зовет ее, вошла спросить приказаний насчет обеда, она была испугана состоянием, в котором нашла Габриэль и тотчас оказала ей нужную помощь, не изменяя при этом своей обычной сдержанности.
Хитрая камеристка только что узнала, что Веренфельс оставляет замок, и этот неожиданный отъезд в связи с отчаянием, упадком сил графини, открыл Сицилии почти всю правду.
С полнейшей апатией Габриэль дала себя раздеть и уложить в постель, причем сказала утомленным голосом:
— Завтра вечером мы едем в Берлин. Позаботься, Сицилия, чтобы все было уложено и готово и скажи экономке, что она должна отправиться раньше меня, с утренним одиннадцатичасовым поездом.
— Все будет сделано, как вы приказали, дорогая графиня. Примите только успокоительных капель и постарайтесь заснуть. Я пойду распоряжусь кое-чем и сейчас вернусь к вам.
Но Габриэль не могла уснуть. Несмотря на сцену, которая разыгралась сегодня утром, несмотря на ненависть и гнусную месть, мысль, что Готфрид оставляет замок, что никогда, конечно, она его не увидит, мучительно разрывала ей сердце. Все ее чувства, болезненно напряженные, сосредоточились в слухе; впрочем не столько ухом, сколько сердцем она уловила шум экипажа, остановившегося у главного подъезда, затем глухой стук колес, который мало-помалу замирал в отдалении.
Когда пришла Сицилия и осторожно наклонилась над кроватью, холодные пальцы сжали ее руку и Габриэль спросила разбитым голосом:
— Он уже уехал?
— Да, графиня, десять минут тому назад, — отвечала камеристка, ни секунды не сомневаясь о ком шла речь.
С помощью наркотических капель, которые ей дала Сицилия, Габриэль заснула на несколько часов.
Под предлогом, что хочет сама наблюдать за приготовлениями к отъезду графиня встала рано утром, отдала подробные приказания камеристке и экономке, затем велела позвать к себе в будуар управляющего, чтобы дать ему некоторые предписания.
Петрис был нездоров, и вместо него пришел его помощник Лаубе. Когда деловой разговор был окончен, Габриэль подошла к бюро, чтобы достать деньги, которые назначала для помощи бедных и для других надобностей; но вложив ключ в замок, она вскрикнула от удивления и констатировала вместе с Лаубе, что замок был сломан и портфель с тридцатью тысячами талеров похищен.
— Я ни на кого не имею подозрения, но кража так велика, что не знаю, можно ли не сделать заявления, — сказала молодая женщина с некоторым колебанием.
— Ах, графиня, нельзя и подумать оставить без расследования подобное преступление. Я сейчас пошлю за комиссаром, чтобы произвести следствие и подвергнуть обыску весь ваш служебный персонал.
— Но это будет скверная история; и потом, погодите, Лаубе, я не хочу, чтобы мой сын был свидетелем скандала. Я отправлю его с мадам Стейжер, которая во всяком случае непричастна к делу, так как она провела три дня у своей больной сестры и вернулась только сегодня утром, как мне сказала Сицилия, а вчера перед обедом у меня еще был в руках портфель. Ничто, впрочем, не мешает наблюдать за ней в городе. Так пошлите же за комиссаром, пока я буду отправлять сына.
Она велела позвать Танкреда, сообщила ему, что так как ее задерживает до утра одно дело, то она отправляет его в город с экономкой. Мальчик не противился этому. Он был печален и задумчив и перед тем, как уйти, спросил вдруг:
— Мама, разве ты поссорилась с Веренфельсом? Вчера вечером, после того как ты ушла, он сказал мне, что уезжает и никогда не вернется. Он был добр, как никогда, и казался таким несчастным. Мы оба плакали.
— Не говори мне о нем. Никогда больше не произноси его имени, — сказала Габриэль, бледнея. — Помни, мой кумир, что этот человек причинил страшное зло твоей матери и сделал ее несчастной.
Ни следствие, ни обыск, произведенный комиссаром, не привели ни к какому результату.
— Графиня, — сказал Лаубе, — крупная цифра похищенной суммы и неуспешность наших поисков принуждают меня выразить подозрение против бывшего воспитателя маленького графа. Несмотря на приличный вид месье Веренфельса, некоторые указания говорят против него. Известно, что он провел послеобеденную пору в будуаре, что его отъезд более чем неожидан, так как сам он мне сказал вчера утром, что останется здесь еще несколько дней; наконец, судья,, которого я видел сегодня, сообщил мне, что Веренфельс снова посватался за мадемуазель Жизель — что, нахожу, не делает ему чести — и что он намеревается купить имение; а это более чем подозрительно, так как известно, что у него нет никаких средств.
Габриэль слушала, опустив голову. Несмотря ни на что, сердце ее трепетало, но отступить было трудно, и дерзкие слова «я не хочу дать тебе мое честное имя» снова звучали в ее ушах. Бледная, но непоколебимая, она встала и сказала спокойно:
— Как ни кажется неправдоподобным ваше предположение, месье Лаубе, я не считаю себя вправе пренебрегать каким бы то ни было указанием и должна вам признаться, что видела, как месье Веренфельс рассматривал вчера маленький кинжал, которым, как кажется, и совершен взлом. Предоставляю действовать властям, не мешая ни в чем, что они признают необходимым для уяснения дела.
VIII. Гражданская смерть
Не подозревая, какая гроза собирается над его головой, Готфрид был весь погружен в свои печальные думы. Поезд быстро уносил его далеко от места, где осталась половина его сердца. Мрачный, исполненный тоски, молодой человек сторонился своих спутников, ни с кем не говорил и выходил из купе только, чтобы поесть.
Было часов шесть, когда поезд остановился на станции большого города; и так как это была остановка на час времени, то Готфрид вышел на вокзал и стал ходить взад и вперед. Он не заметил, что начальник станции и господин в партикулярном платье, пробиравшиеся сквозь толпу, как бы разыскивая кого-то, остановились, увидев его, внимательно его осмотрели, затем после короткого совещания подошли к нему.
— Извините, но позвольте вас спросить, не с бароном ли Готфридом Веренфельсом я имею удовольствие говорить? — спросил начальник станции с легким поклоном.
— Да, это я. Что вам угодно?
— Я попрошу вас войти на минутку ко мне в кабинет по важному делу.
Удивленный и недовольный, Веренфельс пошел вслед за ним; но как только дверь заперлась позади их, господин в партикулярном платье подошел к Готфриду и подал ему карточку.
— Я агент охранной полиции и должен, к моему сожалению, барон, подвергнуть обыску ваши вещи и вашу особу в виду имеющегося на вас важного обвинения.
— Обвинения на меня? — спросил Готфрид, краснея от досады. — Недоразумение более чем странное! Вот мои ключи и билет от багажа, — присовокупил он, бросая то и другое на стол. — Могу ли я узнать, по крайней мере, кто меня обвиняет? — спросил он с раздражением минуту спустя.
— Никто — прямо. Но крупная кража совершена в Рекенштейнском замке, и ваше имя находится в числе подозреваемых лиц, — отвечал полицейский, всматриваясь в него пытливым взглядом.
Как громом пораженный, Готфрид отступил и, шатаясь, прислонился к стене. Если Габриэль вмешалась в обвинение, что-нибудь ужасное угрожало ему. В глазах у него потемнело; и оба свидетеля этого страшного волнения обменялись значительным взглядом. В эту минуту принесли вещи, и начался обыск. Осмотр обоих мешков и шкатулки не дал никакого результата. Бледный, с пылающим взглядом молодой человек следил глазами за каждым движением полицейского; он сам теперь ожидал, что найдется что-нибудь, что именно — он не знал. Но вдруг припомнил, что во время его отсутствия Габриэль приходила к сыну, а раньше, быть может, была и в его комнате. Что значит для этой женщины еще одно преступление?
После всего принялись за чемодан, осматривая тщательно каждую вещь. Вдруг агент вынул из кармана сюртука кожаный портфель и констатировал, что он наполнен банковыми билетами.
— Тридцать тысяч талеров, — сказал он, сосчитав деньги, — все верно, месье Веренфельс; именем закона арестую вас, как изобличенного в краже.
Бешенство и отчаяние лишило Готфрида способности говорить, но почувствовав на плече руку агента, он с отвращением отшатнулся и воскликнул глухим голосом:
— Какая подлость! Мне подложили этот портфель.
— Ах, милостивый государь, это оправдание всех уличенных воров, — ответил сыщик с презрением.
При этих словах, оскорбляющих все чувства несчастного, силы изменили ему; острая боль сжала его сердце, все потемнело вокруг него, и, как дуб, вырванный с корнем, он упал без чувств.
Каково было душевное состояние Готфрида, когда дверь тюрьмы закрылась за ним, трудно описать. Он сознавал себя погибшим, так как не мог дать никаких убедительных доказательств своей невиновности; у него не было даже письма Серрати, которое бы бросило подозрительный свет на характер Габриэли. В отчаянии он не раз думал о самоубийстве, но чувство благочестия и мысль о ребенке всегда останавливали его.
Почти месяц спустя после заключения Готфрида однажды утром сторож, принеся ему обед, вручил вместе с тем маленькую коробку и затем ушел. Молодой человек равнодушно открыл ее и к своему удивлению нашел в ней свежую ветку розы, завернутую в атласную бумагу; рассматривая цветок, он заметил привязанную к стеблю полоску бумаги, на которой были написаны тонким, измененным почерком весьма понятные для него слова:
«Ты не имеешь больше честного имени, но я все же люблю тебя. Прости и согласись взять меня, Готфрид. Я сумею тебя освободить какою бы то ни было ценою и пойду за тобой на край света?
Пораженный Готфрид с изумлением глядел на эти строки, на это новое доказательство упорной и безумной страсти этой тигрицы, которую он так неосторожно раздражил. Он с отвращением кинул на пол розу, раздавил ее каблуком и разорвал записку.
Когда сторож вошел снова, то нашел заключенного лежащим на постели лицом к стене. Служитель молча поднял раздавленный цветок и обрывки бумаги и отдал этот красноречивый ответ Сицилии, ожидавшей в его комнате…
Прошло около двух месяцев после этого последнего инцидента. Габриэль лежала однажды, свернувшись на диване своего кабинета в Рекенштейнском отеле, погруженная в глубокое раздумье. С тех пор как ее камеристка принесла ей затоптанные обрывки ее письма, после этого окончательного доказательства презрения к ней Готфрида, затаенное бешенство кипело в ее груди, перемежаясь с припадками упреков совести. В эту минуту она старалась изменить направление своих мыслей, заставляя себя обратить их на дона Рамона, который снова появился в Берлине и хотя с большей сдержанностью, но возобновил свое ухаживание. Утром этого самого дня она имела с пылким бразильцем разговор, предметом которого было предложение, почтительно высказанное. Ее ответ равнялся обещанию, и молодой человек оставил ее сияющий и исполненный надежд. Снова перед молодой женщиной раскрывалась будущность богатства и наслаждений. Конечно, влюбленный миллионер будет исполнять каждое ее желание и окружать ее феерической роскошью, которую она так любила. Ведь он был ее рабом! А между тем, думая об этом, она тяжело вздохнула, ясно сознавая, что оттолкнула бы от себя все за одну лишь улыбку, за один лишь взгляд любви того, кто укротил ее и даже в пропасти, куда она его столкнула, отвергал ее с презрением.
Молодая женщина поднялась с пылающим лицом и тяжело дыша. Взгляд ее упал на кипу газет, журналов и на письмо, лежавшее на ее столе. Машинально взяла она это письмо и пробежала его глазами. То был отчет смотрительницы Рекенштейнской фермы с уведомлением об отправке разной провизии и с подробностями о хозяйстве. Но в конце фермерша присовокупила:
«Зная, как Вы были всегда добры, графиня, к племяннице судьи, мадемуазель Жизели Линднер, позволяю себе сообщить Вам, что эта несчастная молодая девушка умерла на прошлой неделе. Известие о гнусном преступлении ее жениха нанесло ей последний удар. Она истаяла, как свечка. Да простит ей милосердный Бог ее прегрешения».
Бледная, дрожащими руками, графиня сложила письмо. Эта преждевременная смерть была ее делом. Эта могила взывала к Высшему Судье о мщении против нее. А между тем преступление не привело к желанной цели. Но зачем эти поздние сожаления? Что сделано, того нельзя переделать. Она взяла газету и стала читать, но вдруг задрожала и прильнула глазами к столбцу следующего содержания:
«В суде городе С… разбиралось печальное и потрясающее дело. Оно доказывает, что, к несчастью, деморализация и позор поражают даже самые почтенные семейства и что жажда наслаждаться во что бы то ни стало влечет к преступлению людей, носящих самые древние имена. Подобный представитель рыцарской расы, барон де В***, был уличен в воровстве со взломом у графини де Р*. Несмотря на его приличный вид, на его отрицание и жаркую защиту его адвоката, уличенный приговорен к двухлетнему тюремному заключению».
Листок выпал из рук Габриэли, и глаза ее загорелись диким огнем.
— Отомщена! — прошептала она. — Это честное имя, которого я недостойна, у тебя его нет больше. Удар, нанесенный мною, еще хуже того, который поразил меня; и я знаю, что ты предпочел бы смерть. — Она сжала руками свой пылающий лоб: «Да, я отомщена, а между тем не чувствую счастья, которого ожидала от удовлетворения моей мести. Я не нахожу покоя, так как хотя все думают, что он вор, но я знаю, что он не виновен, а он знает, что я бесчестна и преступна». Она прижала голову к подушкам и разразилась рыданиями. «Ах, Готфрид, зачем своей безжалостной жестокостью ты принудил меня сделать тебе так много зла и предал меня терзаниям совести?!»
Через год и полтора месяца после смерти графа Вилибальда Рекенштейн избранное общество собралось в католической церкви столицы, где с большой пышностью праздновалась свадьба дона Рамона и графини Габриэли. Среди аристократической и нарядной толпы был и Танкред, уже в форме военной школы, с радостной улыбкой на румяных устах.
В тот час, когда молодая графиня де Морейра, опираясь на руку своего мужа, принимала в своем салоне, залитом солнцем, поздравления приглашенных, в отдаленном городе на берегу Рейна, в тюремной келье, одиноко сидел заключенный. Его бледное лицо выражало страдания и отчаяние. Несчастный не знал, что в эту самую минуту та, которая погубила его, празднует новый триумф красоты и гордости. Готфрид не знал ничего об этой насмешке судьбы. Закрыв лицо руками, он был погружен в раздумье, и из его истерзанного сердца вырывался все тот же вопрос: «Где же правда Божественная, если нет правды человеческой?»
Часть II Лилия
I. Двенадцать лет спустя
За пределами города Монако, близ шоссе, ведущего в Вентимиль, стоял уединенный дом довольно мрачного вида. Три больших окна, выходящих на улицу, были всегда завешены темными гардинами; с обеих сторон дома, охватывая обширное пространство, тянулась серая стена, довольно высокая, из-за которой выглядывала густая зелень сада; несколько каменных ступеней вели к массивной узкой двери, через которую проникали во внутрь этого жилища, всегда безмолвного и как бы необитаемого; и лишь блестящая, медная доска с надписью «В. Берг» доказывала, что тут живут.
Мы вводим читателя в большой зал ре-де-шоссе этого дома, в послеобеденную пору прекрасного апрельского дня. В комнате было много света от двух больших окон и стеклянной двери, которая выходила на террасу, обнесенную мраморной балюстрадой и украшенную цветами в красных каменных вазах. Мебель этой комнаты — роскошная и удобная — была, впрочем, очень старинная, и ее темный цвет и темные обои на стенах придавали бы мрачный вид жилищу, если бы множество букетов разнообразных цветов не оживляло его не наполняло своим благоуханием.
Возле открытого окна, в кресле на колесах, сидела женщина лет пятидесяти; ноги ее были обернуты шерстяным одеялом. Седеющие волосы обрамляли ее лицо, еще привлекательное, несмотря на его болезненную худобу; выражение чрезвычайной доброты и кроткие, грустные глаза придавали ему особую прелесть. Она внимательно читала последний выпуск одного английского периодического издания, а на столике возле нее лежала груда книг и журналов.
На маленьком диване возле другого окна расположилась молодая девушка, вся погруженная в шитье детской рубашечки; вокруг нее были разбросаны чепчики, кофточки и белые шерстяные башмачки.
Это была шестнадцатилетняя девочка слабого сложения и болезненного вида; ее худенькие члены, высокие и узкие плечи, неразвитый стан были несомненным следствием быстрого роста. Худощавое, угловатое лицо с бесцветными губами ясно показывало, что она только что перенесла серьезную болезнь, но черные бархатные глаза горели жизнью и энергией; брови почти сходились вместе и придавали оригинальный характер ее чертам, резко выдающимся вследствие чрезмерной худобы; две косы, золотисто-рыжеватые, длинные и густые на диво, красиво выделяясь на ее синем кашемировом платье, спускались до самого пола.
Время от времени она прерывала свою работу, чтобы погладить собачку, которая лежала свернувшись возле нее на диване, или чтобы взглянуть на жердочку, продетую в окне, на которой качался попугай. «Лилия, Жако хочет сахару», — вдруг крикнул попка, прерывая тишину, царившую в комнате.
Обе женщины подняли голову, посмотрели друг на друга и обменялись улыбками.
— Как идет твоя работа, дитя мое? — спросила старушка.
— Очень хорошо, тетя Ирина; завтра я смогу одеть моего крестника с ног до головы, — ответила молодая девушка, давая конфетку попугаю. — А ты, тетя, не нашла ли чего-нибудь нового в «Banner of right»?
— О да, есть очень интересные вещи. И я советую тебе прочитать весьма любопытную статью о передаче мыслей. Это очень займет тебя. Но вот, кажется, идет твой отец.
Минуту спустя дверь отворилась, и на пороге показался человек высокого роста. Не трудно было узнать в нем Готфрида Веренфельса, так как на вид он мало изменился. Несмотря на свои сорок два года, он был все еще красивый мужчина аристократической наружности, и серебристые нити были едва заметны в его русых волосах. Только внимательный наблюдатель заметил бы, что желтоватая бледность заменила свежесть его лица, что на лбу легло несколько глубоких морщин, губы приняли жесткую, злобную складку, и нечто горькое и суровое таилось в его взгляде, бывало столь ясном и гордом.
— Вот я пришел, дорогая моя, пить чай и отведать пирога, на который ты меня пригласила в свое собственное царство, — сказал он, улыбаясь и целуя Лилию.
Она встала и подошла к нему, как только он вошел.
— Благодарю тебя, папа. В день, когда мне исполнилось шестнадцать лет, ты непременно должен оставить свои скучные книги и посвятить мне весь вечер. Ах, не садись только на диван, ты можешь раздавить Пашу.
— Избави меня Бог причинить тебе такое горе в день твоего рождения. Я, напротив, хотел бы доставить тебе удовольствие, и если у тебя есть какое-нибудь особое желание, скажи мне, я буду рад исполнить его.
— Как ты добр, папа. Но дай подумать, что бы мне пожелать. Ах! Вот что. Если хочешь сделать мне большую радость, купи для Паши серебряный ошейник с его именем из кораллов или гранатов. Я видела такой ошейник у собачки одной английской дамы, и с тех пор — вот уже два года — я мечтаю иметь такой же.
Готфрид покачал головой и сел в кресло возле старушки.
— У тебя настоящее обожание к этой собачонке, и ты балуешь ее, как иной и ребенка не балует.
— Ведь кроме меня ее некому баловать. И потом, если верно предположение, что душа животного прогрессирует и делается человеческой душой, то Паша будет очень приличным человеком; у него замечательные вкусы, — сказала Лилия, смеясь и гладя рукой свою собачонку, которая лениво потягивалась, принимая ее ласку.
— Какие странные идеи! И вот, очевидно, источник, откуда ты их черпаешь, — заметил Веренфельс, кладя обратно на стол книги и журналы, заглавие которых только что прочитал. — Милая моя Ирина — обратился он к старушке, — я знаю, что вы заражены болезнью нынешнего времени, которая носит название спиритизма, и ничего не имею сказать против этого относительно вас самих; но вы напрасно внушаете эти идеи Лилии.
— Вы знаете, Готфрид, что это верование было моим спасительным маяком, поддержкой во время тяжелых испытаний моей жизни. То, что вразумляло и утешало меня, может ли повредить Лилии?
— Да, потому что это бездоказательные утопии, и вся эта неосмысленная литература может повредить и нравственному, и физическому развитию молодой девушки.
— Что ты говоришь, папа! Это высокое учение, девизом которого служит изречение: «Без любви к ближнему нет спасения», задача которого просветить совесть человека, сделать из всех людей одну братскую семью, это учение может мне повредить! — воскликнула Лилия.
— Сделать из людей братскую семью, превратить шакалов, готовых растерзать друг друга, в голубков.. Ха, ха, ха! Одной этой претензии достаточно в моих глазах, чтобы видеть во всем этом учении сущий вздор.
Готфрид рассмеялся сухим, презрительным смехом.
— Но допустить даже, что эти пустые мечты не причиняют вреда, они все-таки применимы лишь в четырех стенах. Когда живешь уединенно, вдали от света и его страстей, можно мечтать об идеале и строить планы об улучшении человечества; но стоит только войти в соприкосновение с людьми, с их неблагодарностью, с их грубым эгоизмом, чтобы радикально разочароваться.
— Как, отец, ты не веришь в прогрессивное улучшение человечества?
— Я полагаю, что люди всегда будут люди. Высокое учение Христа не могло исправить их сердца. И вот их благодарность — они распяли Иисуса! Мучили и поносили Его точно так, как и всех своих благодетелей. И чего не могло сделать христианство, того не сделает спиритизм.
— Но ведь ты никогда не читал книг, которые так порицаешь!
— Он и не хочет просветиться, — заметила с грустью старушка.
— Подымите, mesdames, свои печально поникшие головы, — сказал весело Готфрид, — я прочту все ваши книги, чтобы поражать вас вашим собственным оружием. Но вот Рита с чаем и хваленым пирогом. Не будем больше спорить…
Около десяти часов они разошлись, и Готфрид вернулся к себе в библиотеку. Он сел к большому столу, заваленному книгами и рукописями; но вместо того, чтобы заниматься, откинулся на спинку кресла и, полузакрыв глаза, отдался своим думам. Невыразимая усталость, мрачная горечь заменили теперь веселость, которую он выказывал своей дочери, и порой губы его нервно дрожали, обнаруживая внутреннее раздражение.
Его осуждение и два ужасных года, которые он провел в тюрьме, произвели сильный переворот в душе гордого молодого человека. Сначала думали, что он сойдет с ума, и его преследовало желание наложить на себя руки, чтобы смертью избавить себя от нравственных мук; но его искреннее глубокое благочестие и мысль о ребенке, который остался бы сиротою, помогли ему победить искушение.
Старик Берг написал Готфриду, что считает его невиновным в низости, которую ему приписывают, и по истечении срока наказания принял его с распростертыми объятиями и усыновил, чтобы дать ему законное право носить его имя. Но Готфрид был разбит морально и физически и вскоре по возвращении опасно заболел. Добрая Ирина ходила за ним, как преданная сестра, и он стал медленно поправляться.
В душе его что-то окончательно надорвалось; позор, замаравший его древнее незапятнанное имя, необходимость скрывать его теперь, оставить своей дочери темное плебейское имя снедали гордую душу Веренфельса, и порой ему было невыносимо тяжело глядеть на своего ребенка. Неизлечимая болезнь сердца, которую он принес из своего заточения, физическим страданием увеличивала его нравственное расстройство. Весть о смерти Жизели глубоко опечалила его, и он свято чтил память этой невинной жертвы, которую Габриель погубила так же, как и его.
При воспоминании о графине все кипело в нем зажигая в его сердце дикую жажду мщения. И ему казалось, что если бы он, в свою очередь, мог погубить эту женщину, упорная, нечистая страсть которой повергла его в бездну, это облегчило бы его сердце.
Побуждаемый этим чувством, он вскоре после своего выздоровления навел справки и узнал, что Танкред был в военной школе, а Габриель вышла вторично замуж за графа де Морейра и уехала с ним в Бразилию. Еще более мрачный и молчаливый, Готфрид вернулся в Монако, избегая людей и общество, ища в чтении и в сухом изучении наук забвения и покоя. При жизни старика Берга, который с помощью своего доверенного продолжал вести дела, Веренфельс мог жить, как ему хотелось; но после смерти своего родственника он должен был взять все в свои руки и, несмотря на свое отвращение к занятиям такого рода, продолжал вести аферы старика Берга, так как хотел быть богатым и обеспечить за Лилией в материальном отношении, по крайней мере, спокойную будущность. И так как посредничество Гаспара избавляло его по большей части от прямых отношений с его клиентами, дело шло, не доставляя ему никаких беспокойств.
В этой печальной и суровой атмосфере Лилия росла одинокая. Она любила и боялась своего отца, который то выказывал ей беспредельную любовь, то сторонился и избегал ее, как будто ему было больно видеть свою родную дочь.
Она никогда не посещала никакого пансиона. Ирина, родственница ее крестного отца, заменяла ей мать и была ее наставницей. Прекрасно образованная она вместе с Готфридом занималась обучением молодой девушки, которая таким образом в свои шестнадцать лет оказалась серьезнее и более сведущей, чем большая часть ее сверстниц. Быстрый рост и слишком нежное сложение привели ее к болезни, окончившейся благополучно, но о которой свидетельствовали ее бледность худоба.
В тот самый вечер, когда Веренфельс у себя в кабинете раздумывал о своей дочери, день рождения которой раскрыл его старые раны, в залах казино Монте-Карло, залитых светом, богато одетая дама, опираясь на руку молодого человека, медленно проходила сквозь толпу, направляясь в игорный зал.
Это была красивая пара. Их изящный вид и поразительное сходство друг с другом привлекали общее внимание. Даме казалось лет тридцать — тридцать два. Ее прелестное, матово-бледное лицо оттенялось черными, как смоль, волосами, закрученными по-гречески и приколотыми бриллиантовой стрелой; пожирающий огонь, горевший в ее глазах, синих, как васильки, и очертания рта выражали сильные страсти и придавали ее красоте нечто демоническое.
Молодому человеку, который вел ее под руку, могло быть не более двадцати трех лет, и он донельзя походил на нее. Его лицо, слишком красивое для мужчины, выражало холодное равнодушие, но в глазах его таилось беспокойство.
— Вы знаете эту интересную пару, месье Фенкельштейн? — спросил молодой человек своего соседа. — Вот уже несколько дней я вижу эту даму; она ведет чертовскую игру!
— Да, я имею честь знать графиню де Морейра; с нею сын ее от первого брака, граф Танкред Рекенштейн, — отвечал еврей-финансист, кланяясь своему соседу и поспешно направляясь в игорный зал.
Габриель и ее сын уже вошли в этот вертеп необузданных страстей, который можно справедливо назвать вратами ада; вошли в зал, где груды золота, рассыпанные по зеленому сукну, возбуждают алчность, доходящую до безумия; где лихорадочное, опьяняющее волнение успеха и неуспеха заставляет биться сердце и зажигает в глазах огонь; но где, вместе с тем, можно видеть все животные чувства на лицах, разгоревшихся от алчности или помертвевших от отчаяния. Многие оставляют этот блестящий зал, разорив себя и своих близких, не видя другого исхода из своего бедственного положения, кроме самоубийства. Если бы они хотели понять, эти малодушные, которые ищут смерти, чтобы избавиться от последствий своих безумных увлечений, и думают самоубийством спасти, по крайней мере, свою честь; если б они хотели понять, повторяю, что пуля не может снять пятна, которое ложится на честь, так как честь есть принадлежность души, а не тела; если б они знали, что за пределами земного существования, куда они думают укрыться от ответственности, их ожидает наказание более беспощадное, чем кара людская, — мучение совести за погубленную жизнь!
Габриель сидела у одного из столов, вся поглощенная перипетиями игры в «rouge et noire», и лихорадочным взглядом следила за лопаточкой крупье. Танкред стоял позади ее, скрестив руки, и с мрачным выражением лица следил глазами, как убывали банковские билеты, лежавшие около графини.
— Перестань играть, мама, ты опять все проиграла, — прошептал он, наклоняясь к матери.
— Я отыграюсь, счастье вернется, — отвечала Габриель отрывистым голосом, вынимая из портфеля остальные билеты.
— Я пойду в буфет выпить стакан лимонада; кончай к моему возвращению, чтобы мы могли тотчас уехать, — сказал Танкред, уходя.
Едва он скрылся в толпе, как банкир-еврей, который стоял в нескольких шагах и не сводил глаз с графини, подошел к ней и сказал:
— Графиня, я к вашим услугам, располагайте какой угодно суммой; счастье перейдет на вашу сторону. Я чувствую, что вы выиграете.
Габриель подняла глаза и, увидев Фенкельштейна, который не раз помогал ей, давая в долг, она наклонила голову в знак благодарности и, не считая даже, придвинула к себе деньги и карточку, на которой банкир записал данную сумму. Два часа спустя, едва держась на ногах и бледная, как смерть, графиня оставляла казино, опираясь на руку сына.
— Что ты сделала, мама, ты проиграла наши последние деньги, и я не знаю, право, как мы уедем из города.
Габриель не сомкнула глаз всю ночь. Более чем упрек сына, ее мучила совесть, и в сильном волнении она ходила по комнате без остановки и отдыха.
«Ах, что это? — спрашивала она себя. — Страсть к игре овладела мной; я — бесчестная женщина, которая разоряет и губит всех, кто ее любит. Что это такое, мои ли преступления, или твое проклятие, Готфрид, гоняет меня, как окаянную, с места на место и нигде не дает покоя?»
На следующий день, часов в двенадцать, Сицилия подала своей госпоже карточку банкира Фенкельштейна, который желал видеть графиню. Габриель побледнела, но должна была его принять. Обменявшись поклоном, банкир вынул из портфеля пачку гербовых бумаг и сказал:
— Графиня, эти векселя вместе с суммой, которую вы получили вчера, представляют собой значительный капитал, и я пришел узнать, когда и как вы желаете рассчитаться со мной.
Габриель взяла бумаги, прочитала их, и смертельная бледность покрыла ее лицо. Она хотела говорить, но ее дрожащие губы отказывались ей служить. Банкир, не спускавший с нее глаз, наклонился к ней:
— Графиня, я друг ваш и готов на все, чтобы угодить вам. Я знаю, что вы несостоятельны, но, если вы хотите, мы можем сговориться.
— Как? — спросила с усилием Габриель.
Банкир был еще человек молодой, довольно приятной наружности. Не скрывая более страсти, которая горела в его взгляде и звучала в его голосе, он наклонился еще ближе и, схватив руку графини, проговорил:
— Скажите слово, графиня, и эти бумажки будут разорваны. Я миллионер, и все, что богатство может доставить, я положу к вашим ногам. Если бы, к несчастью, я не был женат, то предложил бы вам мою руку, но теперь должен ограничиться тем, чтобы просить вашей любви и умолять вас не отвергнуть моих чувств.
Габриель слушала его молча, широко раскрыв глаза; голова ее кружилась. Ужели она так низко пала, что первый попавшийся думает, что он может купить ее, как любовницу, за несколько тысяч франков?! Ее буйная и гордая натура вдруг пробудилась; она вскочила с глухим восклицанием и ударила банкира по лицу.
— Вот мой ответ! — проговорила она вне себя.
— Как, мама! Он осмелился тебя оскорбить? — вскрикнул Танкред, вбежав в комнату, и, бросившись к финансисту, схватил его за горло.
— Оставь его! — сказала графиня, становясь между ними.
— Вы рассчитаетесь со мной за все эти оскорбления, граф Рекенштейн, — прошептал банкир, посинев от злобы. — Если в течение двадцати четырех часов вы не уплатите мне все сполна, я осрамлю вас перед судом.
Он схватил бумаги, разбросанные по столу, и стремительно вышел.
Несколько минут длилось молчание; затем граф спросил:
— Сколько ты ему должна?
— Тридцать тысяч талеров. Ах, Танкред, прости меня, — прошептала едва слышно графиня.
— Полно, мама, я не осуждаю тебя. И теперь не до объяснений между нами, а дело в том, чтобы уплатить этому негодяю и самим выпутаться как-нибудь. Какое несчастье, что в силу духовного завещания я не могу располагать моим имуществом! Что скажешь, не телеграфировать ли банкиру Арно? Быть может, он выручит нас из беды.
— Ни за что! Запрещаю тебе это! — вскрикнула нервно графиня. — И потом, мы только напрасно потеряли бы время, когда дорога каждая минута. Арно, быть может, уже нет на свете; более двенадцати лет он не подает признака жизни. Я лучше дам тебе мои драгоценные украшения, которые стоят, во всяком случае, не менее этой суммы, — присовокупила она с большим спокойствием.
Габриель пошла в спальню и принесла оттуда несколько футляров; но когда она отдавала сыну парюру из бриллиантов и сапфиров, рука ее дрожала, как в лихорадке: это была та парюра, которую подарил ей Арно.
— Я рано утром послал за Небертом; теперь он, вероятно, уже здесь. Я сейчас покажу ему эти вещи и попрошу устроить дело, — сказа! молодой граф, пряча драгоценности в маленький мешок и уходя из комнаты.
Его ожидал человек средних лет с хитрым энергичным лицом. Это был Неберт, нечто вроде маклера и фактора, который служил Танкреду, как преданный агент, для обрабатывания его мелких финансовых и любовных дел. Неберт много лет был секретарем и управляющим у дона Рамона де Морейра. Скопив себе довольно крупную сумму денег, он занимался теперь собственными делами и жил часть года в Монако, где его сестра была замужем за содержателем гостиницы, а остальное время в Берлине. Танкред, зная Неберта как честного и преданного человека, имел к нему большое доверие.
Не входя в подробности, граф высказал своему поверенному необходимость уплатить в двадцать четыре часа и передал ему все драгоценности, прося заложить их и даже продать, если нельзя иначе.
Неберт покачал озабоченно головой.
— Я не знаю, право, граф, как нам справиться с этим делом, — сказал он, потирая лоб. — Продать так скоро нечего и думать; заложить нетрудно, но ни один из ростовщиков не даст той суммы, которая вам нужна. Это такие гиены. Они дают франк за то, что стоит сто франков, не считая страшных процентов, которые берут, и срок назначается всегда очень короткий.
— Как же быть? — спросил Танкред, вытирая пот, выступивший у него на лбу.
— Погодите, граф, мне пришла мысль. Здесь есть один человек, который дает деньги под залог и без залога. Правда, он берется только за верные дела, но ведутся они честней, и проценты берутся не безбожные. Если месье Берг пойдет на эту сделку, то, быть может, все устроится. Я отправлюсь тотчас к его агенту, месье Гаспару, и через два часа принесу вам ответ.
Готфрид сидел в своем кабинете, контролируя счета, когда его старый лакей доложил, что пришел Гаспар по важному спешному делу. При виде агента со свертком в руках выразительное лицо Веренфельса омрачилось. Необходимость производить оценку залога внушала ему отвращение; всякий раз ему стоило большого труда подавить свою щепетильность относительно дел такого рода.
Гаспар коротко сообщил все, что требовалось знать, и выложил футляры на стол.
— Эти вещи принес один фактор, которого зовут Небертом, и прежде, чем придти сюда, я зашел к ювелиру, чтобы оценить камни. Они очень хороши, но все же я нахожу, что требуемая сумма слишком велика.
— Чьи эти вещи?
— Неберт отказался назвать своего доверителя, но он ждет в первой комнате, и с вами, месье Берг, быть может, он будет откровенней.
С внутренним отвращением Готфрид открыл футляры и стал рассматривать сапфировую парюру, но вдруг он вздрогнул; в последнем футляре на черном бархатном фоне красовалась очень оригинальная вещица: маленький павлин с распущенным хвостом, блестевшим разноцветными каменьями. Работа была замечательная, и этот ювелирный шедевр был несомненно ему знаком. Но где он его видел? Ах, у нее, у проклятой… Сколько раз переливающийся блеск этого павлина сверкал в складках мантильи Габриэли! Бледный, дрожащими руками он повернул брошь и взял лупу. Да, он не ошибся: с изнанки, наполовину скрытый под складными крыльями, виднелся хорошо ему знакомый герб Рекенштейнов с короной о девяти зубцах.
— Позовите сюда того, кто принес эти вещи, Гаспар, — приказал Веренфельс глухим голосом.
Весьма удивленный внезапным волнением своего патрона: Гаспар поспешил исполнить его приказание/ и через несколько минут вернулся в кабинет с Небертом.
Готфрид смерил долгим пытливым взглядом посланного Танкреда.
— Я должен предложить вам, милостивый государь, несколько вопросов, чтобы узнать, откуда у вас эти вещи и как могло случиться, что вы закладываете драгоценные каменья, принадлежащие семейству, которое, как мне известно, слишком богато, чтобы прибегать к подобным мерам? — спросил он строго.
— Месье Берг, я не имею права назвать моего доверителя, — проговорил смущенный Неберт.
— Так возьмите эти вещи: я не впутываюсь в темные дела. Если вы не можете сказать, от кого вы получили эти драгоценности, то я не могу вести с вами дел.
Неберт в полном отчаянии, не зная, что делать, мял в смущении свою шапку.
— Вам одному, месье Берг, — сказал он наконец, — если только вы обещаете хранить тайну, я назову того, кто послал меня.
— Оставьте нас, Гаспар. Скажите мне только, — обратился Веренфельс к Неберту по выходе своего агента, — кто закладывает вещи с гербом графов Рекенштейнов?
— Сам молодой граф. Он здесь со своей матерью, графиней де Морейра. Они были несчастливы в игре, и необходимость уплатить в двадцать четыре часа вынудила их прибегнуть к такому способу. Но это хорошее дело, месье Берг. И если даже у вас не выкупят эти парюры, вы ничего не потеряете.
— А! так граф игрок?
— Нет, не он. Графиня одержима этой пагубной страстью, — отвечал со вздохом Неберт.
— Месье де Морейра тоже здесь?
— Нет, дон Рамон застрелился два года тому назад в припадке меланхолии, как говорят доктора.
«И его тоже погубила эта тигрица», — сказал себе Готфрид.
— Сколько желаете вы получить?
Неберт назвал сумму.
— Хорошо. Теперь попрошу вас уйти и дать с полчаса времени подумать и рассчитать, прежде чем дать вам решительный ответ.
Оставшись один, Готфрид оттолкнул кресло и стал ходить по комнате в лихорадочном волнении. Она была здесь и сообщник ее тоже, так как Танкред должен был знать, что произошло. Чтобы попасть в комнату Готфрида и спрятать в чемодан портфель, Габриэль должна была пройти по комнате сына, так как дверь, выходящую в коридор Веренфельс, запер сам и унес с собой ключ. С мучительной ясностью слова, которые он слышал тогда, снова звучали в его ушах: «Танкред, мой кумир, клянись, что не проговоришься никогда, ни одним словом…» О чем она могла просить мальчика, как не о том, чтобы он не рассказывал о подлости, которую она сделала! И вот случай отомстить, которого он так жаждал, как бы ищет его сам, являясь к нему в дом, и дает в его руки бич, чтобы нанести чувствительный удар этой ненавистной женщине. Но недостаточно бичевать, надо погубить тех, кто сделал из него вора, загубил его жизнь и похитил у его ребенка их дворянское имя.
Вдруг Готфрид побледнел, сморщил лоб и упал на стул, прижав руку к своему больному сердцу, задыхаясь от его учащенных неправильных биений. Но его нравственное напряжение было такое, что подавляло даже физические страдания, и минуту спустя он встал с суровой, жесткой улыбкой на губах.
«Да, — проговорил он, — сама Немезида привела тебя сюда, граф Рекенштейн. Я возьму твое имя взамен моего, которое ты замарал. Что может быть проще такого решения, чтобы Лилия Веренфельс, дочь вора, снова приобрела свое общественное положение, сделавшись твоей женой. И это будет так».
Он позвонил и велел позвать Неберта.
Но тут вдруг ему пришло на ум опасение, не женат ли Танкред, что представлялось возможным, так как ему было двадцать три года.
— Я обдумал, и вот мое решение, — сказал он агенту, с беспокойством ожидавшему ответа. — Требуемая сумма очень крупная, но я все же не отказываю; но для этого я должен говорить с самим графом и с ним лично поставить условия. Кстати, совершеннолетний ли граф, женат ли он и служит ли где-нибудь?
— Графу Рекенштейну двадцать три года, он не женат и служит в белых кирасирах.
— Прекрасно. Так, если граф желает сговориться со мной насчет этого дела, попросите его приехать ко мне безотлагательно; я буду его ждать.
Несколько успокоенный, но недовольный вместе с тем, Танкред слушал доклад своего посланного.
— Досадно, что вы должны были назвать меня, Неберт. И зачем этот проклятый ростовщик хочет видеть меня?
— Благодарите Бога, граф, что он поддается, а то, право, не знаю, что бы мы делали. Сумма такая крупная, что, конечно, он желает условиться без посредничества.
— Ну делать нечего, велите заложить экипаж, пока я одеваюсь.
Мрачный, озабоченный молодой человек оделся с помощью камердинера. Он почти не смыкал глаз всю ночь, и сцена, разыгравшаяся утром, окончательно обессилела его. А время уходило в этих переговорах, когда была дорога каждая минута, и если все это ни к чему не приведет… какой скандал! Он не хотел и думать об этом.
Танкред не подозревал, выходя из экипажа у дома Готфрида, что его бывший воспитатель, скрываясь в складках гардин, всматривался любопытным и враждебным взглядом в своего будущего зятя, которого он сам себе избрал. Спустя несколько минут граф вошел в кабинет; человек, от которого зависела его судьба, сидел облокотясь на бюро и, казалось, был погружен в свои мысли.
— Согласно вашему желанию, месье Берг, я пришел лично переговорить с вами об известном вам деле, — сказал молодой человек.
— Очень хорошо, граф; мы переговорим и об этом, и о многом другом, — отвечал Готфрид дрожащим голосом и, встав, сделал несколько шагов к посетителю.
Как бы увидев призрак, Танкред побледнел и широко раскрыл глаза.
— Веренфельс! — воскликнул он прерывистым голосом и схватился за спинку кресла, так как голова его закружилась.
— Да, Веренфельс, вор, преступник, пойманный на деле. Ты еще помнишь его, бесчестный мальчишка. Теперь сознайся, как твоя достойная матушка смастерила с тобой эту подлость!
Объясняя себе смущение молодого человека его причастностью к делу, Веренфельс вне себя схватил его руку и тряхнул так, что, казалось, готов был убить его. Но Танкред не сопротивлялся. Двенадцать протекших лет как бы исчезли; как бывало маленький мальчик дрожал и сдавался покоряющему действию этого огненного взгляда и железной силе этой руки, так и теперь молодой человек сделался покорным и бессильным. И когда Готфрид, овладев своим бешенством, отпустил его, граф, как разбитый, опустился на стул, глаза его закрылись. Это последнее волнение окончательно уничтожило его. Он чувствовал страх и стыд перед этим человеком, так подло оклеветанным и погубленным.
Бледный, сдвинув брови, Веренфельс глядел на него несколько минут; затем, положив руку на его плечо, сказал:
— Будь мужчиной, Танкред. Теперь не время падать в обморок, а надо отдать отчет о прошлом. Сознайся прежде всего, как было дело; я хочу это знать. Граф вздрогнул и вскочил на ноги.
— Я ни в чем не сознаюсь, — крикнул он с пылающим взглядом.
— Ты, может быть, в самом деле думаешь, что я украл портфель?
— Нет, это я положил его к вам в шкатулку, и я готов на всякое удовлетворение, — отвечал Танкред глухим голосом, откинув свои черные локоны с влажного лба.
Готфрид рассмеялся отрывистым смехом.
— Ты? А сам не знаешь даже, куда ты его положил. Во всяком случае, твоя ложь делает тебе честь. Виновна твоя мать.
— Но я не обесславлю ее признанием, бесцельным к тому же, так как оно не восстановит вашего честного имени. Но теперь, как взрослый мужчина, я спрошу вас в свою очередь: разумно ли было доводить до отчаяния женщину, зная ее безумную страсть к вам? Нельзя безнаказанно играть с огнем, месье Веренфельс. Я понимаю, что вы вызвали меня, чтобы подвергнуть оскорблению и иметь меня в своей власти; весьма естественно, что вы хотите воспользоваться тем, что случайно узнали об отчаянном положении, в какое нас поставила несчастная страсть моей матери к игре. Я также понимаю, что вы имеете право требовать удовлетворение за ужасное оскорбление вашей чести. Возьмите взамен мою жизнь. Вместо того чтобы застрелиться в моем отеле, я предпочитаю честную дуэль. И моя смерть так больно поразит мою мать, что это, может, удовлетворит вашу жажду мщения.
Готфрид слушал его молча.
— Твои слова показывают, что в тебе есть немного рыцарской крови графа Вилибальда, но я не хочу твоей смерти, Танкред. Ты сейчас сказал, что твое признание не восстановит моей чести, смерть твоя еще менее может быть мне полезна. Но у меня есть дочь, которая неслыханным преступлением твоей матери лишена честного имени и общественного положения; я для Лилии требую у тебя удовлетворения. Ты женишься на ней и заменишь именем Рекенштейна замаранное вами имя.
Танкред отступил, вскрикнув:
— Жениться на вашей дочери, которую я никогда не видал? Подумайте, Веренфельс, что вы говорите. Это было бы не удовлетворение, но адская месть. И потом… через несколько часов я не смогу уже дать ей честного имени.
— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но когда речь идет о таком деле, как это, между двумя порядочными людьми, — денежный вопрос играет последнюю роль. Я позабочусь, чтобы графиня Рекенштейн носила незапятнанное имя; но берегись, если ты настолько бесчестен, чтобы отказаться от этого справедливого удовлетворения.
Граф тяжело дышал.
— Хорошо, — сказал он минуту спустя, — я рассчитаюсь за дурной поступок моей матери и покрою моим именем ваше обесславленное имя. Устройте свадьбу как можно скорее, так как я горю нетерпением оставить Монако. Что касается суммы денег, которую вы отправите еврею, я дам вам за нее расписку.
Он поспешно подошел к бюро, написал и подписал документ и подал его Веренфельсу.
Готфрид взял и положил его обратно на стол.
— Я бы не подумал, быть может, — сказал он, — взять это обеспечение: несмотря на суровый урок, какой имел в жизни, я все еще верю в честность людей. Но как бы ни было, я уплачу указанную сумму Финкелыптейну, а вас, граф, я жду завтра, чтобы покончить со всеми мелочами и представить вас вашей невесте.
Танкред поклонился в знак согласия и стремительно вышел из кабинета.
— Боже мой, на что вы похожи, граф! Разве он отказал? — спросил Неберт, как только они сели в карету.
— Нет, все устроилось, но какою ценой! — отвечал Танкред с невыразимым отчаянием и злобой.
Оставшись один, Веренфельс облокотился на бюро и отдался своим думам. Жестокое чувство удовлетворенной мести наполняло его сердце, ослепляя его до того, что он не думал о том, какую будущность готовит его дочери подобный брак. Он сознавал лишь одно, что стыд и грязь, которые Габриэль навлекла на него, перейдут на ее сына, на ее кумира, что возле Танкреда она будет всегда видеть дочь человека, который, несмотря ни на что, отвергнул ее и презирал ее за бесчестность.
Наконец он поднял голову, вздохнул и позвонил.
— Доложите барышне, что я прошу ее придти ко мне сейчас же, — сказал он вошедшему лакею.
Надо было предупредить Лилию о принятом решении. И когда несколько минут спустя молодая девушка вошла к нему, он в первый раз оглядел ее не как отец, но как мужчина, который оценивает красоту женщины. В эту минуту в простом сером платьице, с зачесанными назад волосами, бледная, слабенькая девочка не могла называться хорошенькой, но она обещала сделаться красивой, за это ручались изящная грация ее членов, пока еще слишком худощавых, и в особенности ее большие глаза, черные, бархатные, которые составляли пикантный контраст с ее золотисто-русыми волосами.
— Ты звал меня, папа? — спросила она, садясь на табурет возле бюро.
— Да, дитя мое. Я должен открыть тебе тайну, — отвечал Готфрид, привлекая ее к себе с таким сильным душевным порывом, какого она никогда не замечала в нем.
— Что с тобой, папа, не болен ли ты? — спросила Лилия, тревожно устремив на отца свой нежный, ясный взгляд.
— Когда ты узнаешь, какие страдания снедают меня и сделали из меня мрачного, молчаливого мизантропа, каким ты видишь меня с самого детства, ты поймешь мое настоящее волнение. Настал момент открыть тебе это тяжкое прошлое, так как с нынешнего дня ты перестаешь быть ребенком и становишься женщиной и должна знать и понимать, отчего ты носишь чужое имя и какую обязанность налагает на тебя наша общая честь.
Тихим, прерывистым голосом он стал раскрывать перед ней мрачную драму, которая погубила его жизнь, и, все более и более увлекаясь, он забывал порою, что его слушает дочь. Бледная, трепещущая, она внимала этому рассказу, который раскрывал ее детские глаза на бездну житейских страстей.
Когда Готфрид дошел до обвинений его в воровстве и произнесенного над ним приговора, он прервал свой рассказ; у него сделался припадок, и, тяжело дыша, он опрокинулся в своем кресле, у него не хватало ни голоса, ни дыхания.
В мучительном беспокойстве, с лицом, орошенным слезами, Лилия склонилась над ним. В одно мгновение она поняла, что должен был вынести этот благородный, гордый человек; поняла тоже, что он мог быть любим безумно, до преступления.
— Бедный, дорогой мой отец, не волнуйся так. Бог видит твою невинность и, конечно, потребует отчета у этой недостойной женщины за твое незаслуженное страдание.
— Да, Богу известно, какие адские муки я выносил, — прошептал Веренфельс, выпрямляясь минуту спустя. — Я прозябаю с момента моей гражданской смерти и никогда не мог забыть моего незаслуженного позора. Но суд Божий иногда совершается еще здесь, на земле. Случай отомстить представился мне сам собою. Сегодня утром ко мне пришел Танкред, сын Габриэли.
— Танкред! — воскликнула Лилия. — Этот прелестный мальчик, портрет которого я нашла в твоей старой шкатулке, но тетя не позволила мне показать его тебе.
Легкая улыбка скользнула по губам Готфрида.
— Да, он, и я рад, что он тебе нравится. Мальчик сделался взрослым мужчиной, красивым и привлекательным, так что ты можешь исполнить свой долг без отвращения и снова приобрести твое общественное положение.
В коротких словах Веренфельс сообщил о том, что произошло утром, о бедственном положении Габриэли и ее сына и, наконец, о том, что обязал молодого человека дать дочери свое честное имя взамен отнятого у ее отца.
При последних словах Лилия, смертельно побледнев, отчаянно вскрикнула:
— Это невозможно, отец! Откажись от своего решения. Можешь ли ты желать отдать меня незнакомому человеку, который будет ненавидеть меня за это насилие. Разве эта недостойная сделка, эта месть, падающая на двух невинных, искупит твои страдания!?
Заметив, что отец отвернулся, она опустилась на колени и схватила его руку.
— Папа, тронься моей мольбой! Не умаляй заслугу благородно вынесенного несчастия; прости как христианин, помоги графине, но не ценою будущности твоей дочери; не связывай меня, некрасивую, не имеющую значения, с этим вельможей, требовательным, пресыщенным, который — равно как и его мать — будет презирать меня. Какое мне дело до мнения людей? Я знаю, что ты невиновен, и буду всегда с гордостью носить имя мученика чести.
На минуту слезы его дочери, ее горячая мольба поколебали Готфрида, но бушевавшие страсти, горечь всей его загубленной жизни, дикая жажда мести подавили это доброе движение.
— Встань, Лилия, и если ты меня любишь, избавь меня от просьб, которых я не могу исполнить, — сказал он глухим голосом. — Моя честь и мой долг предписывают мне возвратить тебе права, цену которым ты еще не понимаешь. И если только я не умру, Лилия Веренфельс, дочь вора, будет через несколько дней графиней Рекенштейн.
Молодая девушка молча встала и, шатаясь, вышла из комнаты. По звуку голоса она поняла, что всякая мольба бесполезна. И лишь в объятиях своего старого друга дала волю своему отчаянию и страху в виду неизвестной будущности, на которую так неожиданно оказалась обреченной.
Добрая Ирина была глубоко потрясена этим известием. Но она слишком хорошо знала железную волю Готфрида; она видела его медленную нравственную агонию, а потому, горько сокрушаясь, что в своем ослеплении он увлекся гордостью, несправедливой местью, она не могла вполне осудить его желание дать дочери имя и общественное положение. Она старалась успокоить молодую девушку, убеждая ее покориться воле Божьей и внушая ей, что, конечно, в этой или в иной жизни она заслужила такое тяжкое испытание.
Готфрид не был вполне спокоен. Порой из глубины его души всплывало сомнение и как бы угрызение совести, но реакция была слишком сильна: злоба, накипевшая в течение многих лет, вырвалась наружу с такой силой, что подавила собой всякое другое чувство. И с лихорадочной деятельностью он занимался всеми необходимыми приготовлениями, чтобы ускорить свадьбу.
На следующий день Веренфельс получил от Танкреда письмо и конверт с его бумагами.
«Я не в силах приехать сам, — писал молодой граф, — так как разбит душой и телом, мне необходимо некоторое время, чтобы придти в себя. Сделайте все нужные распоряжения и не мучьте меня новыми условиями, Веренфельс. Я увижу Вашу дочь в церкви, ведь этого достаточно, так как не любовь соединяет нас. Но требуется выяснить другой вопрос. Желаете ли Вы, чтобы я увез тотчас мою жену, что было бы не совсем удобно по отношению к моей матери, или Вы согласитесь, чтобы я уехал недели на две, на три и вернулся бы за Лилией, когда приготовлю все, чтобы ее принять. Известите меня о Вашем решении насчет этого, и также о дне свадьбы. Я уеду тотчас после венчания, так как пребывание в Монако для меня невыносимо».
Готфрид отвечал, что одобряет его намерение отвезти мать и приехать за женой тогда, когда он все устроит — недели через три или даже через месяц, смотря по тому, как ему удобней. Причем говорил, что эта отсрочка будет иметь ту хорошую сторону, что даст молодым супругам время привыкнуть к своему новому положению. В ответ на это письмо Танкред писал Веренфельсу, что приглашает его приехать с молодой обедать к ним на квартиру, чтобы провести вместе несколько часов до его отъезда с матерью в Берлин.
Письмо Веренфельса облегчило графа. Непоследовательный и ветреный, он успокоился мыслью, что в течение нескольких недель, по крайней мере, он будет освобожден от присутствия ненавистной незнакомой ему женщины, которую обязан, как каторжник, всюду тащить за собой. Как все удивятся безумной фантазии привезти из путешествия жену, никому не известную в их обществе! И что скажет его кузина Элеонора де Вольфенгаген, влюбленная в него, которая объявила ему, что лишит себя жизни, если он изменит ей?
И какова она, эта Лилия? Если она похожа на отца, то должна быть красива, а если нет? Он тем не менее должен отказаться от прелестной Элеоноры для того, чтобы жить с уродом. Содрогаясь от этой мысли, Танкред нервно отбросил со лба свои черные локоны.
Волнение графа усиливало еще то обстоятельство, что он один нес наказание, так как не мог решиться сказать всю правду матери. Зная ее вспыльчивый, непокорный характер, он боялся какого-нибудь отчаянного поступка, какой-нибудь безумной выходки, которая усложнила бы трудность их положения. Графиня со своей стороны, узнав, что дело с банкиром устроилось, спешила уехать из злополучного города, не понимая, что означает мрачное настроение ее сына и его желание продлить их пребывание в Монако. Встревоженная и мучимая угрызениями совести, она заперлась в своих комнатах. Это добровольное уединение дало Танкреду возможность свободно заняться всеми нужными приготовлениями. Он заказал свадебный обед и отчасти посвятил в тайну камеристку Сицилию, на которую мог положиться; он родился на ее глазах и не сомневался в ее преданности. Затем молодой человек написал письмо на имя матери и поручил Сицилии передать графине, когда он уедет венчаться.
В этом письме он рассказывал в коротких словах свою встречу с Готфридом, говорил о подозрении в сообщничестве, которое было внушено Веренфельсу тем обстоятельством, что он слышал мольбу графини к сыну хранить молчание, и, наконец, сообщал, какое удовлетворение Готфрвд потребовал для своей дочери.
«Я не имел духа сказать тебе устно, моя бедная, дорогая мать. Но прошу тебя, склонись перед неумолимой рукой судьбы, которая наказывает за преступное мое молчание, — я плачу теперь, давая дочери честное имя, которое мы отняли у отца. Прими же с достоинством и спокойствием неповинного и несчастного человека, которого ты погубила, так как встреча с ним и с моей женой неизбежна».
Танкред поехал под венец в сопровождении лишь двух лиц: Неберта и его зятя, которые должны были служить свидетелями. Церковь была пуста, так как с общего согласия было решено, что никто кроме действующих лиц не будет присутствовать при церемонии. Бледный и мрачный, как приговоренный к смерти в ожидании палача, молодой человек прислонился к стене. С мучительной ясностью он расслышал звук подъехавшего экипажа, и минуту спустя появился Веренфельс в сопровождении своих свидетелей: Гаспара и старого банкира, его друга. Готфрид вел под руку даму, покрытую вуалью и закутанную в темный плащ.
Граф машинально подошел и низко поклонился, но он не поднял глаз: ему страшно было взглянуть на ту, которая через несколько минут должна была соединиться с ним навсегда. Не все ли равно, впрочем, красива она или нет, он должен был связать ее жизнь со своею. Молча молодой человек подал руку своей невесте, как только Веренфельс снял с нее плащ, и подвел ее к столу, где тотчас были подписаны все бумаги и исполнены все формальности. И лишь перед освященным алтарем Танкред решился взглянуть на стоявшую возле него женщину.
Длинная вуаль закрывала ее всю, но из-под его складок выглядывала густая русая коса с резким золотистым оттенком. Граф ненавидел рыжих и с истинным страхом взглянул в лицо Лилии. Бледная, как смерть, опустив глаза, она, казалось, была подавлена страхом или скорбью. Бедная девочка не была привлекательна в эту минуту в своем белом платье, которое выставляло ее худобу, болезненный цвет лица и обнаженный широкий лоб, а ее главная прелесть — большие, бархатные глаза — прятались под опухшими веками, покрасневшими от слез.
Голова молодого человека закружилась, им овладело такое отчаяние, такая злоба, что он чуть не вскрикнул. Эта тень, это некрасивое, тщедушное создание без кровинки в лице было его женой, которую он должен представить в свет как графиню Рекенштейн! Какие насмешки возбудит его выбор среди товарищей и всех красивых женщин, искавших его любви! Никто не будет знать настоящей причины этого супружества. О, какой демон этот Веренфельс! Пользуясь случаем, он покупает графа в мужья этому отвратительному уроду, которого бы не пожелал и самый жалкий ремесленник.
Все эти мысли, как ураган, бушевали в голове Танкреда. Стыд и отчаяние делали его глухим к священному обряду. Когда священник спросил, добровольно ли он вступает в брак, «да», как глухой стон, сорвалось с его губ, и он не взглянул даже на прелестную ручку, когда надевал на ее тоненький пальчик символическое кольцо.
Наконец все было кончено. С трудом преодолев злобу, кипевшую в его сердце, Танкред поднес к губам похолодевшую руку жены, но когда Готфрид, поцеловав дочь, повернулся к нему, молодой человек бросил на него взгляд ненависти и презрения и, увлекая Лилию к выходу, проговорил отрывисто: «едем».
В ту минуту, когда все общество вышло из церкви, у подъезда остановился фиакр; из него выпрыгнул лакей Танкреда, бледный, взволнованный, кинулся к своему барину и тихо сказал:
— Граф, у нас несчастье: графиня отравилась и умирает; Сицилия послала меня предупредить вас об этом.
Танкред пошатнулся. Этот последний удар был выше его сил. Он протянул руки, ища опоры, глаза закрылись, и он упал на руки Веренфельса, подхватившего его.
Видя, что Танкред лишился чувств, Готфрид счел своей обязанностью сделать необходимые распоряжения.
— Гаспар, — сказал он, — отвезите мою дочь домой, так как мне нужно доставить графа к нему на квартиру.
— Послали ли за доктором? — спросил он лакея, помогая ему уложить Танкреда в карету.
— Никак нет-с, мы ничего не смели делать без приказания графа.
— Так поезжайте, Неберт, и привезите доктора как можно скорей.
Смертельно грустная, мучимая безотчетной тоской, предчувствием, которого не могла себе объяснить, Габриэль провела все утро на кушетке. Она распустила волосы, так как голова ее горела и была тяжела, как свинец; рука ее нервно играла лентой, стягивающей в талии ее серый атласный пеньюар. Она не замечала, что Сицилия несколько раз приподнимала портьеру и бросала на нее тревожный взгляд. Камеристка знала содержание письма, которое должна была передать своей госпоже.
Но заметив, что графиня находится в каком-то тревожном, болезненном состоянии, она долго колебалась. Зная, какую роль играл Веренфельс в жизни графини, хитрая горничная подозревала, что обвинение в краже, которое возвели на этого гордого молодого человека аристократической наружности, могло быть местью. Что же будет, когда графиня узнает о том, что совершилось теперь? Наконец, она решилась, понимая, что необходимо предупредить.
— От кого? — спросила графиня, взяв с видимым утомлением письмо. — От Танкреда? Что это значит?
— Граф, выходя из дому, поручил передать вам, графиня, это письмо, — ответила Сицилия, поспешно удаляясь в гардеробную, где, ввиду всех возможных случайностей, она приготовила стакан воды, успокоительные капли и флакон с уксусом.
На этот раз у Габриэли не сделалось нервного припадка, она не вскрикнула, не проронила слез, прочитав письмо. С минуту она не верила своим глазам, затем голова ее упала на спинку кушетки, между тем как рука судорожно мяло письмо сына. Это прошлое, которое она старалась заглушить, забыть в вихре всяких наслаждений, восставало перед ней как неумолимое memento mori; и Танкред, ее обожаемый сын, платился за совершенное ею преступление. Из этого хаоса мучительных мыслей, как молния, пробивалось множество воспоминаний прошлого, и образ Готфрида, ее жертвы и тирана, чья власть над ней никогда не угасала, таился в глубине ее души. И теперь она должна снова увидеть его, снова будет тяготеть на ней холодный и презрительный взгляд этих черных глаз, воспоминание о которых заставляло биться ее сердце. Вторично она будет переживать муки того гнусного часа, когда она решилась погубить Веренфельса. А теперь ее ожидает бесконечная мука, так как его дочь будет женой ее сына.
Вздрогнув, Габриель приподнялась и вытерла платком свой влажный лоб.
«Нет, я решительно проклята, так как гублю всех, кого люблю и кто любит меня, не исключая даже моего Танкреда. Но самое главное унижение — увидеть тебя, Готфрид, предавшего меня проклятию и забвению, тогда как я не могу вырвать тебя из моего сердца, встретить твой взгляд, исполненный ненависти и презрения! О, этот стыд выше моих сил! Рассыпься же прахом непокорное сердце, которое не слушает ни рассудка, ни гордости, ни совести! Это единственный способ избавиться от моих мук».
С внезапной решимостью она встала, прошла в свою спальню и опустилась на колени перед распятием, лежащим на ее «prie-Dieu».
«Боже милосердный, вручаю Тебе мою грешную душу, — прошептала она с жаром. — Ты, простивший своим убийцам, ты сжалишься надо мной. Вилибальд, Арно, великодушно простившие мне все, будьте моими ходатаями, если мы встретимся на небе».
Она перекрестилась. Затем подошла к шкафу, достала оттуда шкатулку, которую открыла ключиком, висевшим на ее браслете. Из кучи бумаг и других вещей она вынула маленький флакон, наполненный бесцветной жидкостью, и с минуту глядела на него с горькой усмешкой.
«Думал ли ты, Рамон, показывая мне этот яд твоей страны и уверяя, что в течение часа он убивает без страданий, что с его помощью я последую за тобой? Слава Богу, что я сохранила этот флакон. Твоя месть, Готфрид, не удастся вполне: ты найдешь здесь один лишь труп».
С удивительным спокойствием она налила в рюмку немного воды, прибавила несколько капель яду, остальное вылила в цветочный горшок. Затем, сняв крест, висевший в изголовье ее постели, вернулась в будуар и опять легла на кушетку; она тихо молилась в течение нескольких минут и вдруг, схватив рюмку, опорожнила ее сразу и снова стала молиться. Сначала она ничего не чувствовала, но вдруг странная теплота разошлась мурашками по всему ее телу, голова закружилась, крест выпал из ее рук, и, полузакрыв глаза, она опрокинулась назад.
В эту минуту на пороге будуара показалась прелестная девочка лет одиннадцати. То была Сильвия, дочь дона Района. И как будто эгоизм Габриэли, ее обожание своей красоты олицетворялось в ее детях. Сильвия так же, как и Танкред, была живым ее портретом.
Увидев, что мать ее лежала, как мертвая, девочка кинулась к ней, дрожа от ужаса:
— Мама, мама, что с тобой?
На этот крик Сицилия прибежала из гардеробной и, увидев пустую рюмку, инстинктивно угадала правду. Вне себя она кинулась в комнаты графа и послала к нему его камердинера предупредить о несчастии. Затем, возвратясь к своей госпоже, она старалась, но тщетно, привести ее в чувство. А потому, когда послышался шум экипажа, катившего во весь опор, она, как безумная, выбежала в вестибюль. Маленькая Сильвия, глубоко потрясенная, молча подняла крест, упавший на ковер, и став позади дивана, усердно молилась.
Сицилии чуть не сделалось дурно, когда она увидела, что лакей с помощью какого-то господина несет Танкреда, все еще не пришедшего в себя. Камеристка сразу узнала Веренфельса и, подойдя к нему, поспешно проговорила:
— Месье Веренфельс, швейцар поможет Осипу отнести графа к нему, а вы пройдите, пожалуйста, к графине; она отравилась, а вы, может быть, знаете, что делать в таком случае. Я совсем как потерянная.
— Я послал Неберта за доктором; но проводите меня к графине и потом принесите лимону и черного кофе, это хорошее противоядие.
Сицилия впустила Готфрида в будуар, потом побежала за указанными средствами. Волнуемый разнородными чувствами, Веренфельс подошел к дивану и устремил взгляд на Габриэль. Бледная, неподвижная, она, видимо, умирала: порой слышалось легкое хрипение, и посиневшие руки лихорадочно блуждали по платью, как бы ища чего-то.
— Пить! Горит… внутри… — прошептала умирающая.
Готфрид вздрогнул. В открытую дверь он увидел на столе в соседней комнате графин с водой: он пошел, налил в чашку воды и вернулся, колеблемый различными чувствами: ненависть, презрение и жалость боролись в его сердце.
Габриель повторила с невыразимым страданием: «Пить! Задыхаюсь!», и тогда он победил свое отвращение и, приподняв ее, поднес чашку к ее губам. Прикосновение этой руки, присутствие человека, которого она несчастно любила, производило еще необъяснимое действие на Габриэль. С нервным содроганием она открыла глаза и, встретив взгляд Веренфельса, поднялась, как гальванизированная.
— Ах, несмотря ни на что, мы должны были увидеться еще раз, но успокойся, Готфрид, я умираю достаточно наказанная. Как окаянную, меня преследовали упреки совести, но в этот страшный час прости меня. Тогда ты меня оттолкнул, и я сделалась преступной, теперь не дай мне умереть, не простив меня.
Она протянула руку, как бы ища его руки, но Готфрид с живостью отступил. Все мгновенно ожило в его памяти: все унижения, все муки, которые причинила ему эта женщина.
Глаза его сверкали, когда с злобной горечью он ответил ей хриплым голосом:
— Вы думаете, графиня, что прощать так же легко, как делать зло. Вы ошибаетесь, нельзя забыть в одну минуту двенадцать лет мучений и свою нравственную гибель. В сердце моем нет прощения для вас, и я не коснусь в знак примирения преступной руки, которая подложила портфель в мой чемодан. Я бы простил удар кинжала, вызванный женской ревностью, оскорбленной гордостью, но эту низкую бесчестную месть я не могу простить. Вы поступили хуже разбойника на большой дороге, и, верная вашему неизменному эгоизму, вы лишаете себя жизни, чтобы не быть вынужденной загладить свою вину против вашей жертвы. Но я должен был ждать ради моего ребенка. Нет, нет, Габриэль, рассчитывайтесь сами за ваши преступления, идите перед лицо Небесного Судии, обремененная моими проклятиями.
Готфрид остановился; волнуемый мучительными воспоминаниями прошлого, он задыхался и не мог продолжать.
— Да, будь проклята, проклята… — вымолвил он наконец с трудом и, бледный, трепещущий, направился к двери.
Но едва он сделал несколько шагов, чтобы уйти, как кто-то схватил его за руку. Готфрид вздрогнул и, оглянувшись, с удивлением увидел маленькую девочку. Бледная, с широко раскрытыми глазами, она уцепилась за него и прошептала с душевной тревогой:
— Не проклинайте маму.
Поразительное сходство ребенка с Габриэлью не оставляло никакого сомнения, что это была ее дочь от дона Рамона.
— Не проклинайте маму, не дайте ей умереть, не простив ей всего, в чем вы ее обвиняете, — продолжала молить девочка, опускаясь на колени, меж тем как крупные слезы катились по ее щекам.
Веренфельс был тронут. Ему казалось, что из этих ясных, невинных глаз исходил луч, приносящий успокоение и смягчающий его истерзанное сердце. И распятие, которое другой рукой девочка судорожно прижимала к своей груди, было как бы указанием Божественного страдальца, Который, пригвожденный к кресту, молился за своих врагов.
Подняв Сильвию он погладил ее черные локоны и ласково сказал:
— Благослови тебя Бог, дитя, за твою дочернюю любовь, наполняющую твое невинное сердце. Божие милосердие говорит твоими устами.
Он взял из ее рук распятие и, подойдя к графине, которая, широко раскрыв глаза, глядела на него неизъяснимым взглядом, вложил ей в руки этот символ мира и вечной жизни.
— Да отойдет с миром душа твоя, несчастная женщина. Мольба твоего ребенка обезоружила меня. Пусть мое проклятие не тяготеет над твоей могилой, и да простит тебя милосердие Божие.
Он наклонился и положил руку на влажный, холодеющий лоб умирающей. Глаза Габриэли мгновенно блеснули, легкий румянец выступил на ее щеках, на минуту к ней возвратилась ее дивная красота.
— Прощай, Готфрид, до скорого свидания, — прошептала она едва слышным голосом.
Затем, как бы истомленная этим усилием, она вытянулась последним судорожным движением, и смертная бледность покрыла ее лицо.
В эту минуту Сицилия ввела в комнату доктора и, между тем, как Готфрид подошел к нему сказать, что все кончено, вошел граф, сильно расстроенный и едва держась на ногах.
— Танкред, мама умерла! — воскликнула Сильвия, кидаясь к брату.
Он молча прижал ее к своей груди, затем опустился на колени возле усопшей и со сдержанным рыданием, спрятав лицо в складках ее платья, оставался глух к стенаниям Сицилии, и ко всему, что происходило вокруг.
Когда доктор ушел, Веренфельс прислонился к двери и глядел в раздумье на тело Габриэли и на ее детей, которые, прижавшись друг к другу, были всецело поглощены своей скорбью. Глубокая реакция произошла в душе Готфрида, столь возвышенной и доброй, если бы несчастье не ожесточило его. Теперь вся горечь, вырвавшаяся наружу, оставила после себя пустоту. Все земные расчеты были окончены. Женщина, которую он любил и ненавидел, умерла. Но порвалась ли всякая связь с нею? Или душа оживает там, за пределом всего земного, в том неведомом мире, который мы жаждем узнать?
С глубоким вздохом Готфрид отвел глаза от печальной группы и вышел из комнаты. Он понимал, что его присутствие было бы тяжело молодому графу и что сегодня, по крайней мере, его надо предоставить самому себе.
Когда он возвратился домой, встревоженная Лилия кинулась к нему с вопросом:
— Что случилось, папа?
— Она умерла, — ответил он тихо.
— Ужели вы не примирились перед ее смертью? Ужели ты дал ей умереть, не простив ее? Все время я молила Бога, чтобы Он смягчил твое сердце, послал бы тебе одного из своих ангелов, чтобы внушить тебе чувство милосердия, — присовокупила она со слезами на глазах.
— Молитва твоя не была напрасна, дитя мое. Ангел, посланный Богом, явился в лице дочери Габриэли. Я простил той, которая сделала мне так много зла. Ах, как все наши земные чувства ничтожны! И зачем мы понимаем это только после того, как они вовлекут нас в грех? Но я чувствую себя очень утомленным и пойду к себе; тебе тоже нужен отдых после всех волнений этого дня.
Действительно, Лилия была сильно утомлена душой и телом. Она пошла к себе в комнату и заперлась, так как чувствовала потребность быть одной. Сняв свое подвенечное платье, которое все еще было на ней, она накинула на себя пеньюар, села у окна и, сложив руки на коленях, погрузилась в раздумье. Вдруг она вздрогнула: взгляд ее упал на обручальное кольцо, блестевшее на ее пальце. Так это правда, она замужем. Это кольцо было символом, соединяющим ее на всю жизнь с этим красивым молодым человеком с бледным лицом, на которого она тоже взглянула украдкой. Через несколько недель она последует за ним и начнет новую жизнь как графиня Рекенштейн. Но какова будет их будущность? День их свадьбы не предвещал ничего хорошего, она была одна, а ее молодой супруг плакал над телом своей покойной матери. Он не сказал ей ни слова; видимо, не желал ее и покорился лишь необходимости. Каким же образом она найдет путь к его сердцу?
Лилия вздохнула и провела рукой по лбу. Приедет ли он к ней перед отъездом, чтобы сказать несколько приветливых ободрительных слов? О, тогда она даст ему обещание любить его и сделать все, чтобы составить его счастье.
На следующий день, после завтрака, Готфрид решился ехать к Танкреду, чтобы узнать, когда он думает отвезти тело покойной графини, и помочь ему распорядиться всем требуемым для печальной церемонии. По уходе отца Лилия прошла в его кабинет, желая дождаться его, чтобы узнать скорее их окончательное решение. Вся погруженная в свои мысли, молодая девушка села в глубокой амбразуре окна, образующей балкон и отделенной от кабинета портьерой. Вдруг кто-то порывисто отворил дверь, и звучный голос проговорил:
— Хорошо, так как ваш барин скоро вернется, я подожду его здесь. Войдите сюда, Неберт; мне нужно дать вам некоторые поручения.
Покраснев и колеблясь, Лилия поднялась с места. То был Танкред и не один. Между тем как она обсуждала, выйти ли ей к нему или нет, и не могла ни на что решиться, граф ходил по кабинету и, остановясь, сказал:
— Неберт, возьмите перо, я продиктую вам письмо к управляющему поместьем Биркенвальде. Впрочем, вы можете сами написать; скажите только Гоммеру, чтобы он сделал в доме все нужные распоряжения, так как я привезу туда на время траура жену и сестру с гувернанткой.
— Вы повезете графиню в Берлин или в Рекенштейн? — спросил с удивлением Неберт.
— Нет. Биркенвальде такая отдаленная местность, что там я смогу, в течение года по крайней мере, скрывать от глаз света самую некрасивую из всех графинь Рекенштейн, безобразнее какой не бывало в нашей семейной галерее.
— Это правда, что графиня слаба и бледна и что красавица мадемуазель Элеонора была бы лучшей вам парой, — заметил Неберт. — Впрочем, графиня выглядит такой тщедушной, что, вероятно, умрет при первой серьезной болезни.
— Дай Бог! так как я никогда не полюблю это привидение, и спрашиваю себя, как я буду выносить присутствие этого рыжего урода.
Злоба и презрение звучали в голосе графа.
— Мне страшно подумать, как я покажусь моим товарищам под руку с такой женой. Как поразит всех ее безобразие и ее глупое совиное выражение лица! И как все будут смеяться надо мной… Ну, довольно об этом. Пишите, Неберт.
Лилия слышала, как он бросился в кресло. Обомлев и судорожно сжав руки, она едва дышала; все кружилось перед ее глазами, в ушах звенело, и будучи не в состоянии держаться на ногах, она медленно опустилась на колени и прижала голову к подушкам кресла. Когда она очнулась от этого полуобморока, то услышала голос отца, разговаривающего с графом. Танкред спокойно сообщил о сделанных им распоряжениях относительно жены и своей маленькой сестры, за которыми намеревался приехать через три недели. При этом заявил, что сегодня же вечером увезет тело матери, так как отказался бальзамировать его ввиду быстрого разложения. Наконец, был поднят вопрос о деньгах и драгоценных уборах, которые Готфрид возвратил своему зятю. Затем молодой человек встал.
— Могу ли я видеть Лилию? — спросил он. — Я бы хотел поговорить с ней несколько минут и проститься.
— Конечно. Пойдемте в зал, я сейчас пошлю за ней. Но еще в последний раз я должен напомнить вам, Танкред, что ваша честь обязывает вас составить счастье вашей жены. Я буду наблюдать, чтобы вы любили и чтили ее.
— Я всегда с должным почтением буду относиться к графине Рекенштейн; что же касается вопроса любви, это решит будущее, так как нельзя заставить себя любить, — отвечал Танкред холодно, но спокойно. — А теперь, пожалуйста, пойдемте к графине, вы знаете, мне дорога каждая минута.
Едва они ушли из кабинета, как Лилия поспешно вышла другим ходом и, как испуганная лань, пробежала по комнатам, поднялась на лестницу, и только когда заперлась на замок в маленькой комнатке, служащей ей мастерской, она опустилась на стул и сжала руками тяжело дышащую грудь. Она дрожала вся с ног до головы. И ни за что не хотела увидеть в эту минуту графа, чувствовать на себе его взгляд теперь, когда она знала его мнение о ней, знала, как он ее ненавидит. Вскоре она услышала, что ее зовут и ищут по всему дому. Затем увидела, что ее отец и Танкред уходят через сад; она тотчас отвернулась, но этого взгляда было достаточно, чтобы черты графа неизгладимо врезались в ее памяти. Наконец, все стихло. Прошло более часа, и Лилия решилась вернуться к себе в комнату. Ее муж, надо было полагать, уже уехал. Заперев дверь на ключ, она села возле окна и отдалась своим размышлениям, между тем как горячие слезы катились медленно по ее щекам. Она ни за что не скажет отцу, какое вынесла унижение. Никто в мире, даже тетя Ирина, не узнает того, что она слышала. Но какая цель ее жизни? Человек, с которым она соединила свою судьбу, не только ненавидел ее, но любил другую, ту красавицу Элеонору, о которой говорил Неберт. А она, она — рыжий урод; ему стыдно будет вести ее под руку и показать товарищам. В безмолвной тоске она сжала руками свою голову и, казалось, снова слышала жесткий, презрительный звук голоса Танкреда, когда он произносил этот безжалостный приговор.
Вдруг она встала, поспешно подошла к большому зеркалу и стала в первый раз в жизни критически разбирать свою наружность и, под влиянием сильного возбуждения, судила себя с беспощадной жестокостью. Да, она была некрасива. Худощавые члены, плоская грудь, бледное лицо с обостренными чертами, непомерно большие глаза, их лихорадочный блеск и эта рыжая грива делали ее крайне непривлекательной. Да, он был прав; она безобразна до отвращения. Но она и не будет ему в тягость.
С горьким, суровым выражением губ и сдвинутыми бровями, Лилия отошла от зеркала. «Он не будет иметь причины краснеть, — говорила она себе. — Я должна буду следовать за ним, когда он приедет за мной, но я навсегда останусь в этом уединенном Биркенвальде. Никогда его товарищи не увидят меня, и если он захочет заставить меня ехать в Берлин, я кину ему в лицо его собственные слова. И, как знать, быть может даже я решусь сказать и ему и отцу, что не хочу следовать за человеком, который не желает даже дать себе труда узнать, не скрывается ли под некрасивой оболочкой любящее и преданное сердце. Нечестно ведь даже жить с мужем, когда гнушаешься им, не доверяешь ему, ненавидишь его… Но нет, ненавидеть кого-либо нам запрещает Бог, гордость тоже грех; но человеческое достоинство — добродетель. И этому чувству я останусь верна».
Она облокотилась и закрыла глаза, стараясь привести в равновесие свои чувства.
Пробило пять часов, и это вывело Лилию из задумчивости. Обед, надо полагать, был подан, и она должна была идти в столовую. Не взглянув в зеркало, она надела свое каждодневное платье, пригладила волосы и вышла из комнаты.
Заложив руки за спину, Готфрид шагал по залу. При виде дочери он остановился и сказал с неудовольствием:
— Не понимаю, куда ты исчезла, когда твой муж был тут, мы с ним искали тебя везде. Он хотел поговорить с тобой и проститься, но должен был, наконец, уехать, не повидав тебя.
— Надеюсь, что граф не был безутешен: счастье жениться на мне пришло к нему так неожиданно.
Пораженный тоном горькой насмешки, звучавшей в ее словах, Веренфельс поднял на нее глаза, но Лилия собирала ноты, разбросанные по роялю, и, когда она повернулась, лицо ее не выражало ничего.
Следующее затем время было как-то особенно томительно; на всех лежал какой-то гнет. Лилия работала более обыкновенного, с лихорадочным рвением отдаваясь изучению живописи и музыке.
Готфрид принялся снова за свои ученые труды, но мысли его были заняты другим. Тайное беспокойство, угрызения совести, все более и более обострявшиеся, терзали его.
Да, он отомстил, но эта месть, как ни была она справедлива, не дала желаемых результатов. Габриэль умерла, а Лилия, безмолвно замкнувшись в самое себя, утратила всю свою веселость, всю беззаботность юности, и достаточно было произнести имя Танкреда, чтобы вызвать в ней самое тягостное волнение. Спустя две недели после своего отъезда граф прислал письмо, в котором заявлял, что его служба и различные обстоятельства удерживают его еще недели на три, но что он приедет за своей женой в последних числах июня. При чтении этого письма Лилия горько улыбнулась. «Он придумывает отговорки и рад воспользоваться всяким предлогом, чтобы долее быть избавленным от меня», — сказала она себе мысленно.
Готфрид заметил ее внезапную бледность, горькое, почти нескрываемое выражение ее лица, и мучительное беспокойство все более и более наполняло его сердце. Неужели увлекшись эгоистическим желанием удовлетворить своему самолюбию, смертельно оскорбленному, он сделал свою дочь несчастной на всю жизнь? Под гнетом этого постоянного раздражения его болезнь, усилившаяся вследствие тяжелых волнений последнего времени, быстро прогрессировала. И однажды, когда пришли звать его к обеду, то нашли его лежащим в кресле и уже похолодевшим. Его бедное, растерзанное сердце перестало биться.
Отчаяние Лилии было глубоко и искренно. Всякое эгоистическое страдание исчезло, и всем своим существом она отдалась горячей молитве за упокой души отца. Она думала лишь о нем, о его душевных муках и тяжких испытаниях и хотела бы молитвой своей облегчить ему его первые шаги в загробной жизни, нашей вечной родине, куда следуют за нами наши дела, добрые и злые, любовь и ненависть тех, кого мы оставляем на земле.
Только после печальной похоронной церемонии Лилия стала думать о будущем. Недели через две, не позже, должен был прибыть Танкред, а она твердо решилась не только не ехать к нему, но избежать и самого свидания с ним. Он не знал о смерти Веренфельса, так как она запретила известить его телеграммой, и когда он нехотя приедет за безобразной графиней Рекенштейн, ее уже не будет здесь. Был момент, когда молодая девушка подумала о разводе, но какое-то необъяснимое для нее самой чувство заставило ее отбросить эту мысль. Она не хотела возвратить свободу Танкреду, не давая себе отчета, что именно руководит ею: чувство мстительности, или боязнь тех формальностей, с какими сопряжено подобное дело.
Проворно, с энергией, удивившей добрую тетю Ирину, она собралась в путь. Гаспар и банкир, друг ее отца, взяли на себя ликвидацию всех дел, и через неделю после погребения Готфрида Лилия уехала в Пизу с тетей Ириной, Пашей и попугаем. Из своих слуг она не взяла никого, отпустила даже свою горничную для избежания болтовни и огласки, которые могли бы помешать ей сохранить свое инкогнито. Роберту, старому камердинеру, и его жене, оставленным сторожить дом, было наказано никому — ни даже графу — не давать ее адреса и не проговориться о том, что они знают, где она находится.
Не подозревая, какой сюрприз ожидает его, Танкред приехал в Монако через несколько дней после отъезда своей жены. Он отвез предварительно Сильвию с ее гувернанткой в Биркенвальде, обширное поместье, находящееся в глуши Силезии и принадлежащее его сестре. Когда дон Рамон увидел, что он разорен, то, желая обеспечить будущность дочери, купил на ее имя эту землю и своим завещанием спас это маленькое имущество от расточительности Габриэли.
Мрачный, с затаенной злобой в сердце, молодой граф отправился в дом своего свекра, но каково было его удивление, когда Роберт, проведя его в зал, сообщил со слезами, что Веренфельс умер внезапно от разрыва сердца.
— Доложите графине, что я приехал, — сказал Танкред, задумчиво обводя глазами комнаты, имеющие вид опустелых и как бы необитаемых.
— Графиня уехала, — отвечал старый слуга с замешательством.
Заметив, что граф вспыхнул и насупил брови, Роберт пояснил нерешительным голосом, что его госпожа уехала со своей старой родственницей, не оставив ни письма на имя мужа, ни своего адреса и не заявив о времени своего возвращения, но что, быть может, старый банкир, месье Сальди, знает что-нибудь более определенное.
Сильно заинтересованный, Танкред отправился к банкиру, но тот тоже заявил, что ему неизвестно ни место пребывания молодой женщины, ни время ее возвращения. Он присовокупил только, что Лилия сказала ему, что она напишет мужу.
Задумчивый и немного смущенный, граф вернулся в отель, решив уехать в тот же день. «Вот неожиданная случайность! Веренфельс умер, а рыжий урод уехал на неизвестный срок, — говорил себе граф, шагая по комнате. — Не будет ли эта женщина так умна, чтобы отказаться от меня, не предложит ли развод? Нет, она не выпустит меня из рук». Досада и радость боролись в его сердце, но после всех размышлений, длившихся с час времени, ветреность, беззаботность его характера взяли верх. «Посмотрим, что из этого выйдет. Во всяком случае, так как я никому не говорил о моей женитьбе, то нет надобности объявлять о ней теперь, — сказал он себе весело. — И пока моя некрасивая супруга не соизволит появиться, я буду пользоваться у дам привилегиями холостяка». Он снял с пальца обручальное кольцо и спрятал его в коробку своего дорожного несессера; надо заметить, что это кольцо было вынуто из этой самой коробки только несколько часов тому назад, когда он ехал к своей жене, не внушающей ему ничего, кроме отвращения.
II. Новое испытание
Лилия провела около года в Пизе в полном уединении. Первые месяцы сильнейшая апатия владела ею; она заболела вследствие реакции на все, что она вынесла, и это усилило ее отвращение к жизни и к людям. Мало-помалу доброй тете Ирине удалось успокоить больную душу молодой девушки и заставить ее снова приняться за ее обычные занятия. Стараясь найти забвение в учении и в труде, Лилия еще с большим рвением, чем прежде, отдалась живописи, музыке и пению. Но все же жизнь в городе тяготила ее, она боялась среди приезжих иностранцев встретить неожиданно графа Рекенштейна. И, прочитав в газетах, что в окрестностях Тюбингена отдается в наем поместье, она поехала в сопровождении горничной поглядеть его и, оставшись им довольна, подписала тотчас контракт на имя своей родственницы.
Поместье, избранное молодой графиней Рекенштейн, состояло из маленького уединенного замка, окруженного лесом, но находящегося в очень живописной долине, и так как Лилия обладала хорошим состоянием, то обставила себя и тетю Ирину полным комфортом и роскошью. Тишина прекрасной природы, чистый и живительный воздух гор подействовали благотворно на больной организм молодой девушки. По совету доктора она научилась ездить верхом и так полюбила такого рода прогулки, что вскоре сделалась прекрасной наездницей; она проводила долгие часы на лошади и изъездила по всем направлениям местность, в которой поселилась.
* * *
В таком безмятежном спокойствии прошло три с половиной года, и, конечно, тем, кто видел Лилию в Монако, трудно было бы узнать ее теперь. Жизнь на открытом воздухе и физические упражнения, укрепляющие тело, преобразили ее. Вместе с тем к ней возвратилось ее душевное спокойствие; она покорилась судьбе, наделившей ее такой печальной долей. О Танкреде она ничего не знала. Он не разыскивал ее, это было ясно, и она твердо решила никогда не появляться к нему на глаза. У Лилии осталась лишь одна слабость, вызванная несчастным эпизодом ее жизни: презрительное пренебрежение к своей наружности и непобедимое отвращение глядеть на себя. Все зеркала были изгнаны из замка, и ее камеристке казалось весьма странным причесывать и одевать свою госпожу без зеркала. Ей едва удалось упросить Лилию позволить ей сделать модную прическу, но взглянув в зеркало, как эта прическа идет к ней, молодая женщина наотрез отказалась. Никогда более, если возможно, она не хотела видеть это лицо, которое он нашел некрасивым до отвращения. И теперь еще при воспоминании о той минуте, когда она услышала свой приговор, яркая краска вспыхнула на ее щеках.
Все более и более слабеющее здоровье тети Ирины начинало сильно беспокоить Лилию, и она собиралась везти больную старушку в Париж, чтобы посоветоваться с доктором, как вдруг неожиданное событие перевернуло всю ее жизнь.
Она получила письмо от Гаспара, в котором он извещал ее, что финансовый крах, совершившийся в Париже, вызвал целую серию банкротств, и что, по всей вероятности, погибло и все ее состояние.
Банкир, месье Сальди, потерпевший тоже значительные утраты, вызвал Лилию немедленно в Монако, так как было необходимо выяснить ее положение.
В первую минуту Лилия была потрясена известием, но — странное дело! — это несчастье, разорившее ее, не так больно отозвалось в ней, как то унижение, которое вынесла ее женская гордость, и ее более всего огорчала мысль, что бедная тетя Ирина будет терпеть нужду в последние дни своей жизни. Со всевозможной осторожностью, какую ей внушила ее любовь к доброй старушке, она сообщила ей о постигшем их несчастии.
— Вооружись бодростью, дорогая тетя, — говорила она ей, — настоящие испытания начинаются только теперь, но я надеюсь, что Бог поможет мне перенести это лучше, чем те ребячества, которые я принимала так близко к сердцу.
Старушка нежно прижала ее к своей груди.
— Я не была бы христианкой и спиритисткой, — отвечала она, — если бы придавала так много цены превратностям судьбы, да и мне ведь остается так мало жить! Но за тебя, дорогая моя, я буду молиться, чтобы силы добра поддержали тебя в этом новом испытании и руководили бы тобой.
Спокойно и энергично Лилия сделала надлежащие распоряжения. Все вещи были уложены, но так как за дом было уплачено за несколько месяцев вперед, то упакованные ящики были оставлены в замке до востребования. Затем она отпустила всех своих слуг и в сопровождении лишь тети Ирины и своих любимцев, Паши и попугая, уехала в Монако. Это произошло неделю спустя по получении письма с печальным известием.
Поезд прибыл на место утром, и Лилия весьма с понятным волнением ступила на дебаркадер, откуда уехала почти четыре года тому назад. Тогда ее гнало отсюда несчастье, другое несчастье возвращало ее назад.
Медленно подвигалась молодая женщина к выходу, поддерживая тетю Ирину.
Уже во время путешествия Лилия заметила, что многие, особенно мужчины, оглядывались на нее, когда она проходила мимо, и всякий раз это вызывало в ней неприятное ощущение. Ужели она до того подурнела, что обращала на себя внимание?
Здесь повторилось то же самое. Досадуя и краснея, она старалась ускорить шаг, как вдруг у выходных дверей один молодой человек, посторонясь, чтобы дать им пройти, сказал вполголоса своему товарищу: «Погляди, какая прелестная головка, настоящая Лерелея».
Лилия смутилась. Ужели это было сказано о ней? Но возвращение домой и первый разговор со стариком Робертом и его женой, рассказавшим ей теперь устно о посещении Танкреда, заставили ее забыть о произведенном впечатлении. Когда же молодая женщина вошла к себе в комнату, то вспомнила об этом, и одновременно в сердце ее пробудились все тяжелые ощущения, вынесенные ею в этом доме до и после свадьбы.
С внезапно решимостью Лилия подошла к трюмо и сняла покрывавший его занавес. Она хотела взглянуть на себя и снова судить о своей наружности. Но с каким изумлением она увидела в зеркале свое отражение! Эта стройная фигура на целую голову выше прежней Лилии, с прекрасно округленными формами и нежным, прозрачным цветом лица — неужели то была она? Большие черные, как бархат, глаза и брови, почти сходящиеся вместе, остались все те же, но как они шли теперь к ее прелестному лицу, оттеняя его и придавая ему энергичный вид, напоминающий ее отца. С большим спокойствием молодая женщина стала пытливо всматриваться в себя, разбирая каждую черту своей физиономии, как будто дело шло не о ней, а о ком-то другом. Но она была слишком хорошей художницей, чтобы не понимать, что ее оригинальная и поразительная красота должна была привлекать внимание и возбуждать желания в сердцах многих людей. С тяжелым вздохом она отошла от зеркала.
— Если б он увидел меня такой, как я теперь, он не сказал бы: безобразна до отвращения, — прошептала она. — И теперь, когда я разлучена с ним навсегда и впала в бедность, судьба дает мне красоту, этот опасный дар для одинокой женщины.
Она села, облокотясь у окна, и задумалась. Мало-помалу это горькое чувство уступило место радости, смешанной с гордостью. Ей не надо больше краснеть за себя: такая роскошная красота — могучая сила. Как знать, быть может, настанет время, когда Танкред пожалеет, что так безжалостно пренебрег некрасивой графиней Рекенштейн. Красивая не желает его и никогда не будет носить имя, которое ей отец купил насильно, а граф бросил ей, как милостыню.
Распутывание дел Лилии взяло более времени, чем предполагалось, хотя с самого начала было ясно, что из ее состояния можно спасти лишь кое-какие крохи. В эти тяжелые дни судьба как будто хотела удручить ее всеми возможными несчастиями, отнять все, что оставалось у нее дорогого в мире: тяжкая болезнь в несколько дней сразила и похитила добрую тетю Ирину.
Лилия чувствовала себя невыразимо несчастной и одинокой. Впрочем, ей некогда было предаваться своему горю, надо было решать, что предпринять в будущем и чем существовать.
Молодой женщине не оставалось решительно ничего, кроме дома в Монако, который ничего не давал, а требовал еще расходов для уплаты налогов и для своего содержания. А между тем она желала во что бы то ни стало сохранить это место, полное воспоминаний, где она росла, где умер ее отец. Кроме того, если б она продала это дорогое для нее жилище, старик Роберт и его жена лишились бы приюта, где рассчитывали умереть, а ничтожные деньги, скопленные ими, не обеспечили бы им сносного существования.
После долгих размышлений Лилия решила отдать дом в наем, а тем, что будет с него получать, покрывать требуемые расходы, обеспечивая за собой, таким образом, обладание недвижимым имуществом. Сверх всего, она желала оставить для себя флигель, где находилась ее комната, и примыкающую к нему часть огорода. В одной из комнат она предположила поместить старика Роберта с женой с тем, что они будут наблюдать за домом, а остальные комнаты намеревалась загромоздить всем, что желала сохранить из мебели и разных вещей, оставленных ею на память и с которыми ей не хотелось расстаться. Что касается ее самой, она решила искать себе места учительницы, компаньонки или чего-нибудь подобного, что может дать ей насущный хлеб.
Когда молодая женщина высказала свой план старому банкиру Сальди, всегда отечески доброму к ней, он сказал, неодобрительно покачав головой:
— Милое дитя мое, прежде чем ступить на путь разных случайностей в звании наставницы, вы должны, покоряясь чувству долга, обратиться к вашему мужу. Граф должен решить, может ли его жена жить в качестве компаньонки. И во всяком случае, он обязан возвратить вам значительную сумму денег, которые были ему, кажется, даны вашим отцом, и это обеспечило бы вам снова богатое состояние.
— Нет, нет, я никогда не обращусь к графу Рекенштейну, — отвечала Лилия, бледнея и сдвинув брови. — Мне также нечего требовать с него, так как сумма денег, о которой вы говорите, мне возвращена. И если вы сохранили ко мне вашу добрую дружбу, то помогите мне найти место в хорошем семействе, под именем Берг, само собой разумеется.
После долгих препирательств банкир должен был согласиться.
«Лучше умереть с голоду, чем обратиться к нему, — говорила себе Лилия, возвращаясь домой, взволнованная и с пылающим лицом, — и напоминать о себе этому недостойному человеку, который в течение четырех лет не позаботился узнать о несчастной молодой сироте, как бы забыв, что она его законная жена». Да, душа красавца Танкреда более безобразна, чем была безобразна ее наружность. И он заслужил, чтобы она втоптала в грязь имя Рекенштейна, которым он гордится.
Прошло более двух недель, а от банкира не приходило никаких известий. Лилия уже думала послать в газеты объявление или же обратиться в бюро, доставляющие места, как однажды утром месье Сальди пришел сообщить молодой девушке, что нашел ей, через посредство одной родственницы его жены, очень выгодное место.
— Эта родственница, — сказал он, — друг детства компаньонки баронессы Зибах, молодой вдовы, принадлежащей к лучшему обществу. Бедная девушка, занимавшая эту должность, страдает глазами, что вынуждает ее к полному бездействию. По просьбе моей жены, вас рекомендовали и, так как вы отвечаете всем требованиям, то есть, так как вы музыкантша, достаточно сильны в живописи, чтобы помогать в случае надобности в рисовании, и говорите на разных языках, то баронесса согласилась вас взять. Жалованье очень хорошее, и обращение, как говорит кузина, не оставляет ничего желать.
— А где живет баронесса?
— Летом в своем поместье в Силезии, зиму, кажется, в Берлине. Но ведь этот вопрос второстепенный.
Лилия с минуту колебалась. В Берлине служил Танкред. Впрочем, это не важно, так как в таком обширном городе можно было прожить десять лет, не встретясь ни разу. И если бы даже он ее увидел, то не мог бы узнать. Итак, Лилия заключила условие, и было решено, что она уедет через две недели.
Грустная, но непоколебимая, молодая девушка делала необходимые приготовления к отъезду. Она не создавала себе иллюзий, так как хорошо знала, как горек трудовой хлеб и как много скорби и унижений ожидало ее.
Усердно помолясь над могилами отца и своей преданной наставницы, Лилия оставила Монако. Мрачная покорность судьбе наполняла ее душу. Прошлое умерло, будущее было темно, как грозовая туча.
* * *
После нескольких дней путешествия, невольно рассеявшего ее немного, что благотворно подействовало на ее настроение, Лилия приехала в поместье баронессы Зибах. Это был красивый, большой, комфортабельно устроенный дом, окруженный садом. Немного отдохнув и переменив туалет, молодая девушка сошла вниз, чтобы представиться баронессе.
Ее ввели в большой зал, выходящий на террасу. У стола, загроможденного книгами, журналами и мелкими дамскими рукоделиями, сидела красивая молодая женщина, лет двадцати трех, очень смуглая, отчасти итальянского типа; ее черные большие влажные глаза, полные огня, устремились с видимым удивлением на прелестное лицо новой компаньонки, которая поклонилась ей скромно, но с изящным благородством.
— Милости прошу, мадемуазель Берг. Мне говорили о вас много хорошего, — сказала приветливо баронесса. — Садитесь, пожалуйста, и побеседуем. Но я вижу, вы в трауре; вы лишились кого-нибудь из близких?
— Да, баронесса, я схоронила тетушку, воспитавшую меня, в ней я потеряла моего последнего друга, так как я круглая сирота.
— Как это печально! — промолвила с участием мадам Зибах; но заметив, что речь об этом производила тяжелое впечатление на молодую девушку, перевела разговор на искусство, литературу, поэзию, заявив при этом, что сама она отчасти поэтесса и собирается издать сборник баллад и народных песен.
— Надеюсь, что вы будете хорошо чувствовать себя здесь. У меня характер очень миролюбивый, и вы мне очень нравитесь, — присовокупила мадам Зибах со свойственной ей живостью. — Мне бы следовало дать вам отдохнуть сегодня, но мне так хочется услышать вашу игру на рояле, а потому я помучаю вас немножко, попрошу сыграть что-нибудь.
— Я не устала, баронесса, и буду очень счастлива, если мои слабые таланты удовлетворят вас, — отвечала Лилия с милой улыбкой. Простое приветливое обращение молодой женщины производило на нее самое приятное впечатление. Она так боялась, что к ней будут относиться, как к горничной.
Артистическая игра новой компаньонки вполне удовлетворила баронессу, и она объявила, смеясь, что если другие таланты ее таковы, как этот, то ей придется радоваться, что болезнь глаз заставила мадемуазель Генриетту Штребер оставить ее. Разговор был прерван приходом няни с сыном баронессы, мальчиком лет трех; вслед затем пошли пить чай на террасу.
Добрые отношения, установившиеся с первого вечера, улучшались с каждым днем. Молодая женщина становилась все более и более довольна, а Лилия, умная и проницательная, очень скоро поняла, чем она может ей нравиться.
Мадам Зибах была вспыльчива, капризна и страстна до крайности. Сверх того, у нее была мания считать себя артисткой по всем родам искусства, а между тем, как ветреная и светская женщина, она не имела терпения работать и подняться в чем бы то ни было выше посредственности. Она читала Лилии напыщенным тоном свои стихотворения, лишенные всякого таланта, сочиняла вальсы и фантазии, которые заимствовала целиком у разных композиторов; наконец, она рисовала по фарфору, по кости, по атласу и масляными красками множество вещей, предназначаемых для подарков бесчисленному множеству ее родных. Само собой разумеется, что такое обилие занятий лишало ее возможности посвящать хоть сколько-нибудь времени своему сыну.
Маленький Лотер был всегда предоставлен няне, и Лилия, любившая детей, занималась с ним и держала его у себя в комнате так долго, как только могла. Она взяла на себя также заготовление множества артистических работ, которые баронесса рассылала родственникам как свои собственные произведения. И все эти вещи были так мастерски исполнены, отличались таким вкусом и изяществом, что баронесса была в восторге.
— Право, милая мадемуазель Берг, вы так хорошо рисуете, что вашу работу нельзя отличить от моей, — заявила она с невозмутимой наивностью. — Если хотите, я обучу вас единственному искусству, которого вам недостает, — верховой езде, — присовокупила она весело.
— Благодарю вас, баронесса, я езжу верхом, и так как я привезла свою амазонку, то могу сопровождать вас в ваших прогулках, если желаете, — отвечала Лилия, улыбаясь.
— Вы волшебница! Но скажите, пожалуйста, как ваше имя?
— Меня зовут Нора.
Лилия в своем паспорте выставила свое второе имя.
— Какое хорошенькое имя; я так и буду называть вас. И с завтрашнего дня мы начнем ездить верхом.
Около месяца прошло в полном довольстве для Лилии. Баронесса была действительно добра к ней, относилась к ней как к равной, и так как жалованье было хорошее, то молодая девушка решила его откладывать, рассчитывая накопить достаточную сумму, чтобы жить скромно во флигеле своего дома, хотя бедно, но независимо. Одно в баронессе было несимпатично Лилии: это ее имя — Элеонора. Оно было ей неприятно по воспоминанию о ненавистном утре на другой день ее свадьбы, и когда она в первый раз услышала, что баронессу зовут Элеонорой, она подумала, не та ли эта, которую любил Танкред, но тотчас отбросила такое предположение, находя его смешным.
Однажды мадам Зибах совершенно неожиданно объявила, что она страшно соскучилась в этой глуши и намеревается вернуться в Берлин. Сборы были очень быстры, и несколько дней спустя баронесса и Лилия поселились в прелестной вилле неподалеку от города. Этот кокетливый домик, с двумя башнями по бокам, был окружен садом и отделялся от шоссе высокой бронзовой решеткой.
На другой день их приезда мадам Зибах велела оседлать верховых лошадей.
— Поедемте, мадемуазель Нора, я покажу вам окрестности, — сказала она. — Мы можем совершать такие прогулки в течение еще нескольких дней, а как только узнают от моего отца, что я приехала, так и посыплются визиты, и тогда прощай покой и свобода.
День был великолепный, но слишком жаркий, и Лилия находила весьма странной прогулку в самый полдень. С полчаса времени они ехали молча, как вдруг на дороге показалось облако пыли, быстро приближаясь и отражая блеск чего-то металлического.
Баронесса внимательно всматривалась и вдруг сильно покраснела и пустила лошадь в галоп. Лилия поспешила за ней и вскоре увидела, что всадник, едущий к ним навстречу, был офицер в кирасирской форме. Приблизясь на несколько шагов, он осадил лошадь, пущенную во весь опор, и, приложив руку к козырьку, крикнул радостно:
— Здравствуйте, кузина!
В то же время лошадь Лилии поднялась на дыбки с такой горячностью, что это привлекло внимание офицера на другую амазонку, и он протянул руку, чтобы схватить лошадь за узду; но наездница уже усмирила своего коня. И, заставив его описать полукруг, устранила надобность в помощи.
Бледная, как смерть, молодая девушка наклонилась, лаская лошадь, и старалась овладеть собой, так как в красивом молодом человеке в белом мундире, еще лучше обрисовывающем его изящные формы, она узнала Танкреда. С видимым удивлением он устремил взгляд на неподвижное, мрачное лицо незнакомки, но Элеонора прервала его созерцание.
— Вот приятная неожиданность! Я. не предполагала видеть вас сегодня, Танкред, но раз вы тут, я вас не отпущу: вы должны обедать и провести весь вечер у меня.
— С большим удовольствием, Я вчера узнал от Лео, что вы возвратились, и вот я прямо с парада; все мои дела покончены.
— Счастливый смертный! каждый бы желал таких дел, как ваши. Получить такое наследство, какое получили вы от вашего кузена Девеляра! Но виновата. Мадемуазель Берг, позвольте представить вам моего кузена, граф Рекенштейн-Девеляр.
Граф поклонился, приложил слегка руку к каске и еще раз с любопытством окинул взглядом изящную фигуру новой компаньонки и ее красивое бледное лицо с черными, сверкающими глазами.
Кавалькада повернула назад и легкой рысью направилась к вилле. Лилия отстала несколько от них, стараясь привести в порядок свои мысли. Какая злая насмешка судьбы — эта встреча в доме, где она служила, с человеком, который бежал от нее, отрекся от нее с презрением. По счастью, он ее не узнал, и только рыжие волосы напомнили ему безобразную идиотку.
Когда они подъехали к крыльцу, граф помог кузине сойти с лошади, между тем как Лилии помогал жокей.
— Потерпите с четверть часа, Танкред, я пойду скорей переоденусь, и тогда мы будем завтракать. Держу пари, что вы умираете с голоду, — сказала, улыбаясь, баронесса.
— Конечно. У меня волчий аппетит. Но скажите, Элеонора, откуда у вас эта молодая девушка, ваша компаньонка? У нее очень оригинальное лицо, — спросил Танкред, провожая глазами Лилию, которая поднималась по лестнице.
— Мне рекомендовали ее. Впрочем, это очень хорошая девушка, деятельная, с большим тактом. Вам она не понравится, потому что у нее рыжие волосы. Ах, Танкред, вы должны будете раз исповедать мне причину этой антипатии к рыжим, — прибавила она, смеясь.
— Я предпочитаю не открывать вам этой тайны. И надеюсь, что никогда не буду вынужден к такому признанию, — отвечал с принужденной улыбкой молодой человек.
Завтрак был подан на террасе. Когда Лилия, переодевшись, спустилась вниз, то нашла баронессу и ее кузена в оживленной беседе. Снова шла речь о полученном наследстве и вообще о счастье, благоприятствующем молодому человеку.
— Счастье, это нечто условное, милая кузина, — возразил граф, развертывая салфетку. — И как знать, среди всех этих милостей судьбы не таится ли во мне что-нибудь, что снедает и отравляет мою жизнь.
Лилия, сидевшая молча против него, подняла голову, и глаза ее сверкнули насмешкой. Граф заметил это, и мимолетный румянец скользнул по его лицу. Он устремил враждебный, пытливый взгляд на молодую девушку, которая не вмешивалась в разговор и едва касалась кушаний, но, казалось, тоже внимательно наблюдала за ним.
«Не будь это смешно, я бы подумал, что эта девушка чувствует ко мне ненависть; с каким-то особым выражением она всматривается в меня. Впрочем, глаза у нее чудные», — сказал себе граф, и заметив, что Лилия взялась за стакан, чтобы протянуть его лакею, он взял графин и сам налил ей воды. Случайно его взгляд упал на руку молодой женщины, и он увидел у нее на пальце массивное обручальное кольцо. Элеонора, не перестававшая следить за ним глазами, сказала улыбаясь:
— Мадемуазель Нора упорно не говорит — замужем она или невеста. А между тем не носит другого кольца, кроме обручального.
— Быть может, это тайный брак или тайное обручение, — заметил граф с легкой насмешкой.
— Если б у меня была подобная тайна, то, чтобы скрыть ее, не было бы ничего легче, как спрятать этот символический знак. И потом, граф, разве только кольцо служит свидетельством, что человек связан? Кольцо, которое я ношу, память о моем отце.
Голос Лилии был любезен и вежлив, но в ее глазах, обращенных к Танкреду, выражалась такая холодная насмешка, что досада шевельнулась в его сердце; вторично во взгляде и голосе этой подчиненной было нечто, вызывающее краску смущения на его лице. Не отвечая, граф повернулся к кузине и возобновил с нею свой разговор, с презрительной небрежностью игнорируя компаньонку.
Молодая девушка оставалась молчаливой и сдержанной, украдкой всматривалась в Танкреда и констатировала, что он имел вид человека пресыщенного, что в глазах его виднелась холодная надменность и что среди дорогих колец на его красивой белой руке не было обручального кольца.
«Негодный человек, фат и обманщик», — говорила себе Лилия, улавливая любовные взгляды, которые молодой человек бросал на свою кузину.
По окончании завтрака Элеонора позволила Лилии уйти к себе до обеда. Со стесненным сердцем и опущенной головой молодая девушка направилась к башне, где находилось ее помещение, состоящее из будуара и спальни. Она села к окну и, прислонив голову к спинке кресла, закрыла глаза, между тем как тихие слезы текли по ее щекам. В груди ее бушевала буря негодования против безжалостной судьбы, которая, отняв у нее все, поставила ее теперь лицом к лицу с этим человеком, богатым, счастливым, независимым, между тем как она, которую он отбросил от себя, как гада, должна была исполнять обязанности наемщицы. Много времени она провела в таком состоянии, наконец встала утомленная и хотела направиться к столу, чтобы прибрать кое-какие вещи, разбросанные на нем. При этом Лилия случайно взглянула в сад, расстилавшийся под окном будуара; с этой высоты можно было видеть все извилины этого маленького парка. Вдруг она вздрогнула и вся вспыхнула. В одной из аллей она увидела баронессу и Танкреда. Они шли под руку, и судя то тому, как граф наклонился к своей даме и как она прислонилась к нему, не трудно было понять, что они говорили о любви. Затем они сели на скамейку, оба смеялись, вдруг граф обвил рукой талию Элеоноры и поцеловал ее. Был ли это насильственный, или добровольно обмененный поцелуй — этого Лилия не могла различить.
Нервным движением она опустила занавес и, кинувшись на диван, спрятала голову в подушки. Она не хотела видеть эту гнусность, эту легкую любовную интригу между женщиной, лишенной всякого достоинства, и человеком без принципов, который, скрывая, что он связан, злоупотребляет доверием женщины, рассчитывающей, вероятно, выйти за него замуж. И она, его жена, не могла стать перед ним, снять с него маску и крикнуть ему «обманщик!». Горячие слезы орошали ее лицо. Неведомое ей доселе чувство, едкое и такое мучительное, что она готова была вскрикнуть, терзало ее сердце, потрясало все ее существо. В эту минуту ей хотелось бы уничтожить Элеонору и его, этого изменника, который, несмотря ни на что, все же был ее собственностью. Эта буря чувств стихла быстро, как всякое сильное возбуждение. «Что со мною? Я сама себя не понимаю, — шептала она, утирая свое воспаленное лицо. — Не безумно ли с моей стороны считать утраченным то, чем я не обладала? Я должна победить в себе недостойное, необъяснимое чувство; должна быть твердой, так как еще многое ожидает меня».
Лилия встала и хотела приняться за предположенное занятие, но почти тотчас должна была отказаться от этого, так как чувствовала себя нехорошо. В висках стучало; горячая голова, казалось, готова была разлететься.
Тяжело дыша, молодая девушка прошла в спальню и легла в постель. Она хотела уснуть, надеясь, что час отдыха подкрепит ее силы, ослабевшие от нравственного потрясения. Вскоре она впала в тяжелый сон; но когда пришли звать ее к обеду, она почувствовала, что положительно не может сойти вниз, и велела просить извинения у баронессы.
После обеда Элеонора пришла узнать, что случилось с ее компаньонкой. Не действительное участие заставило ее это сделать, а скорее желание показать Танкреду, как она добра ко всем, ее окружающим.
— Что с вами, моя милая Нора? — спросила она, наклоняясь к ней и дотрагиваясь до ее руки. — От вас пышет жаром. Я сейчас пошлю за доктором.
— Нет, нет, баронесса, Бога ради не беспокойтесь, — отвечала Лилия, с трудом скрывая отвращение и ненависть, снова закипевшие в ее груди. — Это просто нервная головная боль, которая к завтрашнему дню пройдет сама собою, если вы позволите мне остаться весь вечер у себя в комнате.
— Конечно, оставайтесь в постели. Только разденьтесь и распустите волосы, это вас облегчит. Как можно оставлять на больной голове такую тяжесть, как ваши косы! До свидания; я сейчас пришлю вам прохладительного.
Когда баронесса вернулась на террасу, Танкред сидевший с сигарой за чашкой кофе, спросил небрежным тоном:
— Ну, что случилось с вашей таинственной компаньонкой?
— Бедная девушка, кажется, очень больна, и я не знаю, не послать ли за доктором.
— Пошлите ей Фолькмара. Я видел его вчера; он хотел быть сегодня у вас. В силу того впечатления, которое он производит на своих клиентов, быть может, он своим видом принесет не менее пользы больной, чем его микстуры.
— Перестаньте, Танкред, вы невыносимы. Я, право, была бы очень довольна, если бы Фолькмар приехал.
— Да вот он, кажется, идет, — заметил граф. — У него удивительное чутье! Как только где-нибудь заболеет хорошенькая женщина, он тут как тут.
По аллее, ведущей к террасе, поспешно шел молодой человек высокого роста и щегольски одетый. Его умное, с тонкими чертами лицо внушало симпатию; но большие темные глаза, холодные и ясные, обличали наблюдателя и ученого. Молодой доктор поцеловал руку баронессы, затем дружески поздоровался с товарищем детства, с которым сохранил самые лучшие отношения.
— Здравствуй, Евгений! Много ли ты вылечил сегодня припадков меланхолии, мигреней, бессонниц и, главное, сердцебиений? И твое присутствие вызывало или исцеляло их?
— Достаточно, чтобы возбудить ревность в тебе, который причиняет пальпитации такому множеству сердец, не исцеляя ни одного из них, — ответил весело Фолькмар.
— Конечно, он завидует привилегиям, какие дает вам ваша профессия, и общей симпатии, которую высказывают вам дамы. Но довольно об этом. Скажите лучше, доктор, обедали ли вы? Мы только что встали из-за стола, но через четверть часа все будет вам подано, если вы, как добрый друг, скажете мне правду.
— С благодарностью принимаю ваше предложение, баронесса. Меня задержала одна больная, и… я страшно проголодался.
По уходе Элеоноры, вышедшей, чтобы распорядиться насчет обеда, на террасе некоторое время царило молчание. Граф был задумчив, озабочен как будто и вертел в руках сигару, не замечая, что она погасла.
— Что с тобой, Танкред? Ты бледен и дремлешь среди белого дня. Не могу предположить, чтобы ты скучал здесь, — присовокупил он лукаво. — Так что же с тобой?
— Ничего. Только жизнь так пошла, что порой становится невыносимо, — сказал граф, зевая, и нервным движением бросил сигару за балкон.
— Ты томишься жизнью, когда природа и судьба так щедро наделили тебя своими дарами. Это показывает, что ты нуждаешься в радикальном лечении.. Послушайся меня, Танкред, и женись. Тебе двадцать восемь лет, пора тебе пристроиться. Слава Богу, ты довольно покутил на своем веку, и теперь на тебе лежит обязательство иметь двух сыновей, чтобы продолжить род Рекенштейнов и род Девеляров.
— Черт тебя подери с твоим советом! Он хуже болезни. Я признаю лишь одно обязательство, а именно: жить как можно приятней. Но вот Элеонора. Ни слова об этом, прошу тебя.
Во время обеда доктор рассказывал множество юмористических случаев, действительно комичных, бывавших в его медицинской практике. После кофе, когда стало темнеть, Элеонора воскликнула вдруг:
— Ах, доктор, я забыла попросить вас взглянуть на больную в моем доме, мою новую компаньонку.
— Ах, у вас новая? Так ли она очаровательна, как эта добрая мадемуазель Штребер?
— Гм… она не представляет собой вполне типа старой девы, как мадемуазель Генриетта, но она все же очень оригинальная и рыжая к тому же, — сказал Танкред, бросая на кузину многозначительный взгляд.
Доктор скорчил гримасу.
— Делать нечего, моя профессия не позволяет мне быть разборчивым.
Следуя доброму совету баронессы, Лилия разделась и совсем распустила волосы; затем, надев легкий белый пеньюар, легла на кушетку. Нани, ее камеристка, очень ей преданная, подложила под голову подушку, спустила занавески, подвинула к ней стол, на котором поставила стакан с лимонадом и лампу под зеленым абажуром. И когда больная задремала, Нани ушла.
Не спеша Фолькмар вошел в комнату, следом за баронессой, и первую минуту ничего не мог различить в полумраке.
— Она спит, — сказала мадам Зибах, указывая на диван.
Доктор спокойно надел пенсне, но вдруг он остановился, как вкопанный, взгляд его упал на Лилию, которая, закинув голову на подушку, спала глубоким, но тревожным сном. В этом неподвижном состоянии ее тонкие, классические черты лица выделялись, как черты камеи. Масса роскошных золотистых волос покрывала ее всю шелковистыми прядями.
Лицо молодого доктора мгновенно вспыхнуло. Взглянув на баронессу, которая кусала платок, чтобы не расхохотаться, он с живостью подошел к кушетке и наклонился над спящей красавицей; с минуту глядел на нее как очарованный, наконец взял ее руку. Лилия вдруг проснулась, и ее большие глаза, горевшие лихорадочным огнем, остановились с испугом на незнакомом человеке, склоненном над нею.
— Успокойтесь, я доктор. Будьте добры, скажите мне, что вы чувствуете?
— Да, мадемуазель Берг, наш друг, доктор Фолькмар тотчас поможет вам, я уверена.
— Ах, баронесса, зачем беспокоить доктора из-за такого незначительного нездоровья, — отвечала молодая девушка с легким неудовольствием, стараясь отнять руку. Но Фолькмар удержал ее с авторитетом, не допускавшим возражения.
— Позвольте мне самому судить о вашем состоянии, — сказал он своим звучным и приятным голосом и в то же время повернулся к столу и снял абажур.
— Извините, но полусвет мешает мне вас видеть, — присовокупил он, заметив, что Лилия закрыла глаза.
Задав ей несколько вопросов и пощупав пульс, он попросил ее откинуть пеньюар, чтобы позволить ему послушать ее сердце; молодая девушка сильно покраснела, но ничего не сказала, когда он прижал ухо к ее груди.
— Вы, должно быть, вынесли какое-нибудь сильное нравственное потрясение, сильное волнение.
— Нет, нет, доктор, это просто нервная головная боль, какая у меня часто бывает.
Фолькмар улыбнулся.
— Я ни на чем не настаиваю, а только констатирую, что у вас сильное биение сердца, тревожный и неправильный пульс и высокая температура. Я пропишу вам капли; вы будете принимать их каждые два часа; а завтра навещу вас. И, надеюсь, вам будет лучше. Тем не менее попрошу вас не выходить весь день, так как вам нужен полный отдых.
Когда Фолькмар ушел, баронесса осталась еще несколько минут около Лилии, сказала ей, что это один из лучших докторов столицы, и к тому же очень милый молодой человек.
— Танкред, ты с ума сошел, или хотел посмеяться надо мной, рассказывая, что это некрасивая старая дева, вроде Штребер, — воскликнул доктор, врываясь на террасу, — тогда как это обворожительная Лорелея!
Граф быстро повернулся к другу и устремил на него пытливый взгляд.
— Ого! уж загорелось! А ты еще всегда упрекаешь меня, что я вспыхиваю, как порох, — сказал он насмешливо. — Но я советую тебе быть осторожней. Это рыжая особа, которую ты находишь такой красивой, чрезвычайно таинственна и в ней есть что-то неприятное, вот посмотришь.
— Я знаю, что она красива так, что может свести с ума. И если бы ты видел ее такой, как видел ее сейчас я, с лихорадочным блеском черных глаз и распущенными золотистыми волосами, которые, как царская мантия, покрывали ее всю, как знать, быть может и ты воспламенился бы, как я, — сказал Фолькмар, запуская обе руки в свои густые темные волосы. — Сознаюсь, что на этот раз твое отвращение к рыжим мне приятно, по крайней мере, ты не будешь моим конкурентом.
— О нет, нет, с моей стороны тебе нечего бояться; я никогда не буду твоим конкурентом в твоих брачных намерениях, — отвечал Танкред, смеясь. Но Фолькмар не заметил, что смех его был принужденный и горькая улыбка скользила на его губах.
На следующий день Элеонора, уезжая в город за покупками, поднялась к своей компаньонке. Она хотела посоветовать ей беречь себя и хорошенько отдохнуть и вместе с тем просить ее присмотреть за маленьким Лотером.
— Оставьте сегодня всякую работу: доктор так просил, чтобы вы отдохнули; и в силу участия, которое вы ему внушили, он сделал бы мне сцену, если б узнал, что не исполняют его приказаний, — сказала, смеясь, Элеонора.
— Ах, доктора всегда преувеличивают. Я чувствую себя вполне хорошо; и если займусь рисованием, это меня развлечет, — отвечала, улыбаясь, Лилия. — Только потрудитесь, баронесса, выбрать, что вы желаете для медальонов: эти группы Ватто, или эти пейзажи, или в последовательном порядке ряд сцен из истории Психеи, например, или же из волшебной сказки, или из басни…
— Ах, вот хорошая идея! Изобразите басню, или арабскую сказку. Это будет очень оригинально. Сюжет выберите сами; я знаю, что у вас вкус хорош.
Возвращаясь к тому, что ее более интересовало, баронесса опять стала говорить о Фолькмаре; рассказывала о его успехах в обществе, о его материальном обеспечении и лукаво советовала молодой девушке не пренебрегать такой блестящей победой.
— Доктор, кажется, слишком легко воспламеняется и, следовательно, способен лишь на мимолетную вспышку; так что гораздо благоразумней не основывать никаких надежд на этой минутной победе.
— Ну нет, вы ошибаетесь, считая Фолькмара ветреным. Хотя он и друг Танкреда, он очень серьезный и основательный человек. Но кстати, не правда ли, он замечательно красив?
— Да, он красив…
Так как Лилия ничего больше не прибавила, Элеонора воскликнула с удивлением:
— Что вы хотите сказать вашим молчанием? Вы были бы первая женщина, которая находит пятна у этого солнца красоты.
— Нет, граф бесспорно красив, красив, как статуя, слишком красив, быть может, для мужчины, но совсем не симпатичен. Он, должно быть, ветрен, пресыщен и капризен, словом, слишком проникнут сознанием своих преимуществ. Женат ли он?
Элеонора, глядевшая на нее с удивлением, расхохоталась.
— Нет, он не женат. Но мне так смешно сходство ваших мнений друг о друге. Вы находите его антипатичным, а ему вы кажетесь неприятной и мрачной. Так что, конечно, вы с ним никогда не сойдетесь. Впрочем, у Танкреда есть слабость ненавидеть рыжеватых, за что над ним сильно подсмеиваются… Но мне пора ехать; до свидания, милая Нора.
«Он ненавидит мое воспоминание во всех рыжих, — прошептала Лилия с горькой усмешкой. — Впрочем, он не находит меня больше некрасивой до отвращения, это я видела так же точно, как видела его некрасивую душу из-под этой обманчивой маски классической красоты». Она провела рукой по лбу, как бы желая отогнать докучливые мысли; затем взялась за кисть.
Мало-помалу она так углубилась в свою работу и в свои мысли, что вздрогнула, как внезапно пробужденная, когда Нани приподняла портьеру и доложила, что пришел доктор. Лилия тотчас встала.
— Позвольте поблагодарить вас, доктор, за ваш вчерашний визит и за сегодняшний, — сказала она, протягивая ему руку. — Прописанное вам лекарство мне очень помогло. Как видите, я совсем поправилась.
— Я вижу только, что вы так же деятельны, как и энергичны, — отвечал Фолькмар, садясь к столу и с восхищением устремляя взор на прелестное лицо, которое при дневном свете еще более выделялось нежностью и лилейной белизной. — Вы так еще бледны и слабы, а уже на ногах и за работой. Нет, нет, я скажу баронессе, что вам нужен покой на несколько дней.
— Бога ради, доктор, не делайте этого, — перебила его Лилия, краснея. — Я здесь не у себя, а на службе; баронесса имеет право на мой труд, и я всегда чувствую себя хорошо, когда могу исполнить обязанности, взятые мною на себя; тогда как всякая излишняя любезность тягостна мне. Если же, однако, вы пропишите что-нибудь для укрепления нервов, я буду вам очень благодарна. В детстве я страдала малокровием, и это, должно быть, еще отзывается во мне.
— Право! Я бы этого не подумал. Несмотря на прозрачную бледность вашего лица, здоровье ваше мне кажется очень хорошим, исключая нервы, которые надо серьезно лечить.
Она предложил ей несколько вопросов, касающихся ее положения настоящего и прошлого. Затем, рассматривая нарисованные ею на вазе цветы, сказал:
— Да вы настоящая художница! Кому вы предназначаете эту прекрасную работу? Но, может быть, это нескромный вопрос?
— Нисколько. Ваза принадлежит баронессе, и она ее готовит в подарок кому-то. И так как ей самой некогда рисовать, то она просила меня сделать это. Но мало времени, и я должна спешить, чтобы окончить к назначенному сроку.
— Если тот, кто получит этот дорогой подарок, никогда не видал работ баронессы, то может подумать, что это она рисовала, — заметил доктор, невольно смеясь. — Впрочем, у меня есть предложение. К какому времени ваза должна быть готова?
— К 25 сентября.
— Ну, так я угадал. Это подарок Рекенштейну; 25 сентября — день его рождения. Только, пожалуйста, не выдайте меня, — добавил он, заметив неприятное впечатление, произведенное этими словами.
— Конечно, не проговорюсь. Впрочем, не все ли мне равно, кому мадам Зибах назначает эту работу, — ответила Лилия, победив свое волнение.
— Но меня удивляет, — продолжал Фолькмар, — что баронесса хочет заставить думать Танкреда, что она сделала такие поразительные успехи. Граф сам прелестно рисует и большой знаток в этом деле.
Когда доктор ушел, Лилия принялась за кисть, но вдруг, бросив ее на стол, разразилась нервным смехом. «Я рисую подарок Танкреду! Это, право, оригинально. Если бы я могла по крайней мере ввернуть какой-нибудь острый намек в эти картинки». Подумав немного, она поспешно подошла к этажерке и взяла оттуда книгу со сказками в богатом переплете, украшенную множеством гравюр, — воспоминание детства, которое она привезла с собой. — Долго она перелистывала книгу, вдруг насмешливая улыбка озарила ее лицо. «Вот, что мне надо. Калиф, обращенный в аиста, как бы создан для этого случая. Заколдованный калиф вынужден жениться на сове. Я придам ему черты графа; сцены метаморфозы будут очень забавны. Да, я нарисую эту сказку, так как баронесса предоставила мне выбор картинок».
Элеонора была немного недовольна сюжетом медальонов, находя его странным; но затем изменила свое мнение, решив, что Танкред действительно может быть героем волшебной сказки, что восточный костюм дивно идет ему и что все это презабавная шутка.
В первых числах сентября баронесса оставила виллу и поселилась в великолепной квартире, которую она занимала на одной из лучших улиц столицы. Теперь у нее было забот более чем когда-нибудь: она устраивала все для зимнего сезона, бегала по магазинам и делала визиты.
Утром 25 сентября Танкред был у себя в уборной со своим другом доктором. Последний, полулежа на диване, курил сигару, следя глазами за графом, который в щегольском бархатном халате гранатового цвета натирал ароматической пастой свои розовые ногти.
— Что это ты, Евгений, онемел или мечтаешь о своей бесчувственной Лорелее? — спросил Танкред, поворачиваясь к другу.
— Нет, я глядел на тебя и меня забавляли твои мелочные заботы о своей особе. Как можно быть таким женоподобным? Ведь на твоем туалете такое множество флаконов, ящичков, щеточек, паст и духов, как ни у одной из самых кокетливых моих пациенток. Ты и так нравишься женщинам.
— Ах, мне надоело нравиться, но нельзя же, как дикарю, совсем не заниматься собой.
Нервным движением он оттолкнул щетки и все принадлежности туалета и, запустив руки в волосы, растрепал свою прическу.
В эту минуту вошел камердинер и подал на маленьком серебряном подносе раздушенную записку.
— От баронессы Зибах письмо, а подарок, присланный при этом, я поставил в кабинете, — доложил он.
— Пойдем, Евгений, поглядим, какой новой мазней награждает меня Элеонора, — сказал Танкред, пробежав глазами записку. — И к чему такая хорошенькая женщина увлекается манией к искусствам?
В кабинете стояло что-то объемистое. Граф снял атласную бумагу, в которую была завернута вещь, и при первом взгляде на вазу с букетом редких цветов он воскликнул с удивлением:
— С каких пор баронесса сделала такие успехи! Посмотри, Евгений, эти фантастические цветы нарисованы замечательно хорошо.
Доктор, надев пенсне, рассматривал вазу все с большим и большим вниманием. Вдруг он расхохотался и упал на стул в припадке спазматического смеха.
— Что с тобой, Евгений? Что ты находишь смешного в подарке Элеоноры?
Доктор с трудом овладел собой.
— Во-первых, — сказал он, утирая глаза, — как можешь ты быть наивен, чтобы думать, что баронесса сделалась художницей в несколько месяцев. Но погляди, пожалуйста, на картинки в медальонах. Ха, ха, ха! История калифа, обращенного в аиста и обязанного жениться на сове, чтобы получить свободу. И у калифа твое лицо. Ха, ха, ха!
И Фолькмар стал смеяться, как сумасшедший.
Крайне удивленный Танкред наклонился и стал рассматривать картинки, прелестно нарисованные и исполненные юмора. В них были переданы все перипетии этой интересной сказки.
Сначала был изображен калиф с визирем в момент, когда они покупают у разносчика волшебную табакерку. Метаморфоза, вследствие которой у визиря от человеческой фигуры осталась лишь одна голова, а калиф важно выступал на ногах аиста, — была полна комизма. Лицо Танкреда, прелестное под восточным тюрбаном, передавало очень верно его мины: небрежность пресыщенного человека, с какой он относился к покупке, его насмешливость, когда он увидел превращение визиря, и, наконец, самой забавное — выражение ужаса и отвращения, внушенные молодому султану необходимостью жениться на сове.
— Что значит эта глупая шутка? Что за идея была у Элеоноры нарисовать такой вздор? — воскликнул Танкред полусмеясь, полусердясь.
— Эту вазу разрисовала так неподражаемо хорошо не баронесса, а мадемуазель Берг, — сказал Фолькмар, — я застал ее за этой работой.
— Знала она, что ваза назначалась мне? — спросил граф, насупив брови и кусая губы. И при этом говорил себе: «Разве я не женат на сове? И это прямой намек. Но как может ей быть известна моя тайна?»
— Да, — ответил доктор, — я думаю, она знала, тем более что придала герою сказки твои черты.
— Вот я проучу ее невоспитанную, дерзкую и поставлю на надлежащее место. И Элеонору тоже обличу, — говорил, горячась, Танкред.
— Как это можно! — перебил его Фолькмар. — Ты хочешь скомпрометировать меня перед баронессой. Она никогда не простила бы мне, что я узнал случайно тайну ее быстрых успехов.
— Это правда. И не стоит труда терять хоть одно слово из-за такой глупой шутки. Так пойдем ко мне в уборную; я выкурю сигарету, чтобы привести в порядок мои нервы; затем надо будет одеваться: скоро двенадцать часов, а в час придут завтракать товарищи.
Едва молодые люди расположились на большом турецком диване, как подали другое письмо; но в этот раз едва граф бросил взгляд на адрес, как добрая улыбка озарила его лицо.
— От Сильвии, — сказал он, поспешно вскрывая конверт.
— Ну, как здоровье твоей сестры? — спросил доктор, когда Танкред прочитал письмо.
— Хорошо, слава Богу. Она пишет, что скучает, жаждет жить наконец со мной и приедет в Берлин 20 октября. Так что надо озаботиться приготовлением всего необходимого для нее и для мадемуазель Герберт. Конечно, бедная девочка с ее любящим сердцем и меланхолическим характером чувствует себя одинокой вдали от единственного родного существа.
— Графиня Сильвия прелестная девочка! И очень жаль, что ее здоровье такое слабое. Внезапная смерть матери должна была произвести на нее потрясающее впечатление.
Лицо Танкреда омрачилось.
— Да, бедняжечка вынесла тяжелые испытания. Не знаю, говорил ли я тебе, что первым ударом для нее, сильно отозвавшимся на ее здоровье, была смерть дона Рамона.
— Я знаю, что твой отчим застрелился, но ты никогда не говорил мне о подробностях.
— Да, он застрелился, но к несчастью Сильвия из сада, где играла, услышала выстрел; она кинулась в кабинет и нашла отца, лежащим в луже крови и умирающим. Он жил, говорят, еще несколько минут, но Сильвия одна присутствовала при его агонии. Мамы не было дома, а когда они возвратилась, то нашла Сильвию возле тела в состоянии какого-то отупения. Бедный Рамон! Я сохранил о нем самое хорошее воспоминание. Это человек любил меня как родного сына; что касается Сильвии, он боготворил ее. Бедная девочка начинала только что поправляться от этого ужасного потрясения, как внезапно умерла мать. Это привело Сильвию в такое состояние, что я боялся за ее рассудок. Тогда я поселил ее в Биркенвальдене.
Танкред остановился на минуту и с тяжелым вздохом провел рукой по волосам. Но, стряхнув тяжелые мысли, осаждавшие его, продолжал:
— Уединение только ухудшило ее состояние. По совету докторов я повез ее в Швейцарию и поместил в пансион в семействе пастора. В этой обстановке она почувствовала себя хорошо и прожила там все время, за исключением коротких наездов в Рекенштейн. Полгода тому назад, когда ее образование было окончено, я отвез ее в Сорренто и оставил там с мадам Герберт, нашей дальней родственницей, очень доброй старушкой.
— Теперь ты хочешь вывозить ее в свет и выдать замуж?
— Да, я хочу попробовать развлечь ее светскими удовольствиями, так как она осталась нервной, дикой и склонной к припадкам меланхолии. Ах, Евгений, если бы ты мог вылечить ее! Я был бы даже очень доволен, если бы она поддалась чарующему впечатление, какое ты производишь на своих пациенток, а ты изменил бы свой вкус и воспылал любовью к ней.
— Как у тебя все скоро! Ты преувеличиваешь неотразимость моей притягательной силы. Но обещаю тебе заняться здоровьем твоей прелестной сестры.
— Благодарю тебя. Теперь пора позвать Осипа. Сейчас должны съехаться товарищи.
Обдумав хорошенько, граф не подал виду, что открыл тайну и узнал, кто рисовал вазу. Ограничился лишь тем, что любезно поблагодарил свою красавицу-кузину и восхвалял ее прекрасную работу. Но украдкой он наблюдал за Лилией, в сердце его таилось чувство досады и недоверия к ней. В ее взгляде и улыбке он улавливал порой нечто, возмущающее его, и в редких словах, с которыми он обращался к ней, равно как и в ее коротких возражениях, звучала почти нескрываемая враждебность. Но что более всего раздражало Танкреда, это то, что он чувствовал влечение к этому странному существу: роскошная красота молодой девушки, несмотря ни на что, вызывала его восхищение.
Фолькмар, следивший за этой тайной враждой, рискнул однажды сказать Лилии:
— Я бы хотел вам предложить один вопрос, нескромный и даже дерзкий, мадемуазель Нора, но вы ответите мне, если сочтете меня достойным ответа.
— Спрашивайте, доктор, и если я могу, то охотно отвечу вам, — сказала с улыбкой молодая девушка.
— Так скажите мне, за что вы ненавидите графа Рекенштейна? Он такой красивый, так полон рыцарских чувств, что сердца всех женщин покоряются его власти: всем по крайней мере он внушает симпатию, исключая вас. И что всего страннее, это то, что чувство враждебности кажется обоюдным между вами.
Лилия слушала, не обнаруживая ни малейшего смущения; затем, подняв глаза на молодого человека, сказала спокойно:
— Вы заблуждаетесь, месье Фолькмар. За что бы я могла ненавидеть графа Рекенштейна? А он, полагаю, едва удостаивает замечать мое существование. Но что мне действительно в нем не нравится, это то, что он слишком занят собой, словом, слишком много возлагает на свой алтарь.
Вследствие тех противоречивых чувств, которые ему внушала Лилия, Танкред стал реже бывать у баронессы, ссылаясь на приготовления к приезду сестры, требующие его наблюдений. Впрочем, дня за три, за четыре до прибытия Сильвии граф и Фолькмар приехали обедать к баронессе, которая открыто поощряла ухаживание молодого доктора за ее компаньонкой и очень часто приглашала его.
За обедом Элеонора вдруг спросила:
— Скажите, Танкред, что сделалось с бароном Фридбергом? Вот уже более месяца его не видно. Не болен ли он? Я давно хочу спросить вас об этом и все забываю.
Насмешливо и с любопытством Танкред взглянул на Лилию, но увидев, что она с самым равнодушным спокойствием продолжает разрезать жареного бекаса, он повернулся к кузине:
— Ах, Фридберг сделался героем трагикомического приключения. Во-первых, сделался наследником, а во-вторых, с ним стряслась большая беда.
— И вы называете это трагикомическим приключением?
— Подождите. Комическое вытекает из трагического. Во-первых, вот уже более месяца, как он приходил, видимо расстроенный, просить у своего командира трехмесячный отпуск и, получив его, он уехал, и мы больше о нем не слыхали. Но вот с неделю тому назад он прислал прошение об отставке; и через брата одного нашего товарища, землевладельца в Вестфалии, мы узнали, что с ним случилось. У Фридберга была очень богатая тетка, от которой он надеялся получить наследство, и в виду этого жил на широкую ногу и тратил деньги без счету. Конечно, он был весь в долгах, но кредиторы ждали терпеливо и любезно, так как тетушка с наследством была больна и со дня на день должна была умереть. Но представьте, что сталось с Фридбергом, когда он узнал, что проклятая старая дева завещала весь свой капитал на благотворительные дела, свой дом — крестнику, а ему — сумму денег, которой хватило только, чтобы уплатить портному и сапожнику. Бедный Карл думал, что сойдет с ума. И послав душу старухи ко всем чертям, решил ехать в Гамбург, где жил его главный кредитор, бывший пивовар, обладатель миллионов, но, несмотря на это, скупой лихоимец. Бедный Фридберг надеялся сговориться с этим мошенником, но тот принадлежит к такому роду людей, которые умеют пользоваться подобными случаями и, как Шейлок, заставляют расплачиваться кусками живого тела. Вчера вечером мы сидим в офицерском клубе, разговариваем, как вдруг к нам врывается Левенталь с криком: «Знаете ли, что Фридберг возвратился женатым!» Левенталя окружили, и он рассказал, что встретил барона выходящим из своего дома под руку с дамой, которую он отрекомендовал как свою жену. Новая баронесса была ни больше, ни меньше, как дочь бывшего пивовара, некрасивая, глупая, маленького роста, толстая и с веснушками по всему лицу. Левенталь говорит, что она очень смешна, а Фридберг имеет вид человека, который перенес тяжкую болезнь. Оно весьма понятно. Бедняга! Ему и не снилось, что его принудят идти на такую торговую сделку. Но как бы ни было, хотя и ценою счастья, честь имени спасена, что все же утешительно.
При этом рассказе Лилия страшно побледнела, и сердце ее мучительно сжалось. Хотя ее отец и был побуждаем совсем иной причиной, но разве он тоже не воспользовался несчастьем человека, чтобы связать ее судьбу с судьбою этого гордого аристократа, который бежал от нее, пренебрег ею. Подняв глаза, она случайно встретил насмешливый взгляд графа.
— Вы тоже, мадемуазель Берг, как я вижу, принимаете участие в судьбе бедного барона. Это, правда, ужасно носить в сердце своем идеал, мечтать о счастье и быть вынужденным соединить свою судьбу с уродом и, как каторжному, видеть себя прикованным к нему на всю жизнь.
— Если чья-нибудь участь внушает мне сожаление, то лишь участь этой бедной женщины, которую отец принудил, быть может, к этому супружеству, лестному для гордости бывшего коммерсанта. Что же касается барона, который своими увлечениями довел себя до необходимости торговать собой, я нахожу вполне заслуженным наказанием его обязательство дать этой несчастной право — дорогой ценой купленное — носить его имя и неразлучно жить с ним. Впрочем, если эта женщина ему так противна, он легко может избавиться от нее.
— Что вы говорите, Нора, разве каждый способен на убийство! — воскликнула баронесса.
— К чему убийство? Есть средства более простые, — возразила Лилия, и странное выражение насмешки скользнуло на ее губах. — Например, можно поселить неподходящую супругу в каком-нибудь отдаленном поместье. Или лучше еще поселиться в городе, где никто на знает о совершившемся браке, скрыть, что женат, даже снять с пальца кольца, этот неприятный символ союза, которого стыдишься, и жить весело, выдавая себя за холостого.
По мере того, как она говорила, густая краска залила лицо графа и тотчас сменилась смертной бледностью.
— За кого вы считаете офицеров, мадемуазель Берг? — спросил он, задыхаясь от бешенства, и так порывисто поставил на стол стакан, который держал в руках, что тот разбился, и красное вино разлилось по скатерти.
— Танкред! Танкред! Как можно так горячиться? Мадемуазель Нора пошутила, а вы приходите в ярость, — воскликнула баронесса, которая равно, как и доктор, ничего не могла понять из этой сцены.
— Вы правы, кузина, я слишком вспыльчив. Но все же, мадемуазель Берг, я советую вам быть осторожнее в словах и не касаться так беспечно чести оскорбительными предположениями.
Лилия, ни мало не смущаясь, спокойно ответила на это:
— Извините, граф, если мои слова показались вам оскорбительными. Но я иначе понимаю честь, иначе сужу о том, какую цену имеет человек, который, будучи вынужден нести ответственность за свои увлечения и неудачи на зеленом поле, избирает не бедность и труд, а торговую брачную сделку и, совершив такую спекуляцию, даже не покоряется честно судьбе, но жалуется товарищам на свою горькую долю и стыдится показать ту, которую назвал своей женой.
Насупив брови, Танкред отвернулся и, почти перебивая речь Лилии, обратился к доктору:
— Поедешь ты сегодня на вечер к графине Фернер?
Фолькмар и Элеонора обменялись удивленными взглядами.
«Решительно эти двое для меня загадка», — сказал себе Фолькмар и стал снова наблюдать за Танкредом.
После обеда баронесса и граф расположились в кабинете, а Лилия села за рояль и с обычным искусством исполнила фантазию Листа, которую мадам Зибах особенно любила. Фолькмар стоял за стулом молодой девушки, как бы затем, чтобы перевертывать листы, но в действительности, чтобы любоваться прелестным лицом и золотистыми косами, чаровавшими его с каждым днем все более и более.
Непредвиденное обстоятельство прервало игру. Лакей пробежал по комнате, и по его докладу Элеонора вышла, чтобы в дверях передней встретить входившего прелата.
— Ах, ваше преосвященство, какая неожиданная для меня радость видеть вас! Я не знала, что вы возвратились из Рима.
— Я всего несколько дней, как приехал. Но, пожалуйста, не стесняйтесь и главное — не прерывайте артистической игры, которую я слышал, входя к вам, — сказал приветливо прелат.
Это был человек средних лет, с бледным лицом и с той характерной складкой губ, которая составляет как бы неотъемлемую особенность каждого католического священника.
Прелат подошел к доктору и графу и дружески пожал им руки; затем его глубокий и пытливый взгляд остановился на Лилии, встретившей его низким поклоном. Когда баронесса представила ее, прелат приветливо просил ее продолжать игру и начать пьесу с начала, так как он очень любит музыку. Затем мадам Зибах увела его к себе в кабинет.
Лилия послушно села за рояль; но играя, она прислушивалась к разговору, который вели вполголоса за ее стулом Фолькмар и Танкред.
— Не поедешь ли ты со мной? Я не выношу благочестивых разговоров, в какие Элеонора вдается теперь, — говорил граф.
— Поедем. Я тоже предпочитаю отдохнуть у тебя в кабинете. Как только мадемуазель Берг кончит, я пойду проститься с баронессой.
— Иди сейчас, я заменю тебя здесь.
Фолькмар уступил свое место и направился в кабинет.
Лилия сделала вид, что не заметила происшедшей смены, и, кончив пьесу, встала.
— Ах, это вы, граф, благодарю вас, — сказала она с легким поклоном.
— Да, мадемуазель Берг, это я. Доктор пошел проститься с моей кузиной, так как мы с ним сейчас уезжаем.
Лилия ничего не отвечала. Она собрала ноты и положила их на этажерку. Танкред, следивший за ней молча, спросил вдруг с некоторым колебанием:
— Мадемуазель Берг, вы говорите по-итальянски замечательно хорошо; где вы учились этому языку? Не жили ли вы в Монако?
Она повернулась к нему; ее большие глаза горели лукавством.
— Нет, граф, я никогда не была в Монако. Но отчего у вас такое предположение? Разве мои неосторожные слова за обедом заставили вас думать, что я в этом городе видела таких мужчин, о каких говорила?
— Я вовсе не думал об этом разговоре, но начинаю предполагать, что вы упорно ищете ссоры со мной, — сказал он с досадой.
— Это было бы несовместимо с моим положением подчиненной и не имело бы ни цели, ни причины, — заметила Лилия холодно и направилась в маленький зал, где она вышивала экран.
III. Сильвия
Два дня спустя Танкред сидел со своей сестрой в будуаре, составляющем часть помещения, которое в былое время занимала Габриель. Молодая девушка была еще в дорожном платье и, положив голову на плечо брата, нежно обвившего рукой ее талию, улыбаясь, рассказывала ему подробности своего путешествия и не могла не радоваться, что она снова в родительском доме. Сильвия де Морейра была живым портретом своей матери, а вместе с тем совсем иной. Глубокая грусть, казалось, тяготела на всем ее существе, и в больших синих глазах не было того пожирающего огня, помрачающего ум, того демонического пыла, которые делали Габриэль столь опасной. В Сильвии все дышало простотой, спокойствием и чистотой. Это была идеализированная Габриель.
— Я тоже, дорогая моя, счастлива, что ты опять со мной, — говорил Танкред, обнимая сестру. — Ты будешь душой этого огромного пустого дома. Мы станем давать балы и пиры, так как я хочу, чтобы ты развлекалась и чтобы к тебе снова вернулась веселость, свойственная твоему возрасту.
Молодая девушка покачала головой.
— Нет, нет, я терпеть не могу шума и празднеств. Лишь бы ты был со мной в дни тяжелого настроения моего духа, когда картины прошлого осаждают, преследуют и терзают меня. И ты сам разве не утомился рассеянной жизнью?
Она наклонилась и пытливым взглядом заглянула в глаза молодого человека.
— Ты не чувствуешь себя счастливым, Танкред. Ты можешь обмануть свет, но не меня.
— Сильвия, если ты меня любишь, то клянись, что никогда не выдашь моей тайны, никогда даже не намекнешь о ней, — воскликнул граф с волнением.
— Что ты говоришь, Танкред? Разве ты можешь навсегда отказаться от обязанностей, которые взял на себя? Ведь ты клялся перед алтарем беречь и любить бедную девочку, которую наша мать лишила честного имени. Мне часто во сне является образ несчастного Веренфельса, и его слова осуждения звучат над моим ухом. Вполне справедливо, что отец потребовал, чтобы ты восстановил честное имя дочери. Быть может, он принудил ее к этому браку. Ведь она бежала от тебя. И это бегство доказывает, что она не глупа, а горда и чувствовала твое отвращение к ней. И какое ее теперь положение: ни девушка, ни замужняя женщина, ни вдова. Как и где скрывается она? Конечно, она не носит твоего имени. Графиню Рекенштейн заметили бы тотчас. Нет, нет, бросая таким образом свою жену, ты поступаешь нечестно, Танкред. И имя Лилии Веренфельс преследует меня как кошмар, как упрек совести.
— И меня тоже, — сказал граф, бледный от волнения. — Но ты требуешь слишком многого, Сильвия. Неужели я должен еще отыскивать эту безобразную, неуклюжую женщину, при воспоминании о которой восстает все мое существо, неужели должен привезти ее сюда и обречь себя на жизнь с нею, как с женой? Эта жертва превосходит мои силы, несмотря на упреки совести. Я предпочитаю не знать, что с нею сталось, и если она вдруг вынырнет, предложу ей согласиться дружелюбно на развод и обеспечу ее будущность. Если же она так и останется исчезнувшей, то я буду нести, как наказание, мое одиночество и в свете слыть за холостого. Только молю тебя, не напоминай мне никогда того проклятого момента, когда я навесил на себя ярмо каторжника.
Он вскочил с дивана и с отчаянием запустил обе руки в свои черные локоны, но, встретив тревожный взгляд сестры, постарался овладеть собой.
— Не огорчайся, Сильвия. Я буду жить для тебя, для твоего счастья: твоя семья будет моей семьей. Я очень богат теперь и могу дать тебе такое приданое, как принцессе. А до тех пор мы будем веселиться. Завтра тебе надо отдыхать, но в в четверг мы поедем к Элеоноре обедать запросто, а пятнадцатого ноября будет твой первый выезд в свет. Это день рождения кузины, и она дает бал. Затем мы будем устраивать празднества, и ты, моя красавица-сестра, будешь изображать хозяйку дома вместо совы, которая догадалась исчезнуть.
Он привлек к себе молодую девушку, поцеловал и стремительно вышел, чтобы скрыть свое волнение. Но Сильвия понимала состояние души брата и чувствовала, как его горячие губы нервно дрожали, целуя ее. С тяжелым вздохом она закрыла лицо руками, и тихие слезы полились из ее глаз.
Баронесса приняла графа и его сестру самым дружеским образом. Она была одна и, усадив Сильвию около себя, стала расспрашивать о ее пребывании в Сорренто. Танкред рассеянно шагал по комнате, заглядывая украдкой в рабочий кабинет, смежный с залом. Там обыкновенно сидела Лилия, работая над каким-нибудь артистическим подарком и слушая при этом бесконечные рассказы баронессы о ее успехах и ее туалетах. Но теперь комната была пуста. У окна стояли пяльцы и корзины с шерстью и шелками.
— Можно поглядеть вашу работу, кузина? — спросила Сильвия.
— О да, конечно. Пойдемте.
— Как это хорошо! Совсем как нарисовано, — воскликнула Сильвия при виде бесподобно вышитого рисунка, изображающего Афродиту, выходящую из вод.
— Правда, красиво? Это экран, который я делаю в подарок бабушке. Мне помогает кончить его мадемуазель Берг, моя компаньонка. Он вообще бесподобная особа, очень деятельная; и что важней всего — умеет держаться на своем месте.
Пока дамы говорили, Танкред ходил молча по комнате.
— Фолькмар приедет сегодня? — спросил он, наконец.
— Конечно. Ведь вы знаете, какой магнит притягивает его сюда. Да вот он, кажется, уже тут, — ответила лукаво Элеонора.
Действительно, то был доктор, и с его приходом разговор сделался более общим. Но, несмотря на оживленную беседу, глаза молодого доктора беспрестанно обращались к дверям, откуда обыкновенно входила Лилия.
— Ты прожжешь портьеры баронессы, — заметил Танкред.
— Я? Чем это? — спросил доктор с удивлением.
— Чем? Своими глазами, которые так и жгут эту дверь.
— Боже мой, какое бы это было несчастье, если бы вместо портьеры доктор сгорел бы сам, — сказала, смеясь, Элеонора. — Но ваша пытка сейчас кончится. Вот идет Лорелея.
Лилия, действительно, вошла в зал. В первый раз она была не в трауре, так как баронесса сказала, что ее вечно черное платье нагоняет сплин. Сильвия не могла оторвать глаз от красивой молодой девушки, которую ей представили как мадемуазель Берг, и сжала ей руку более дружески, чем это допускал этикет. Лилия тоже всматривалась в мадемуазель де Морейра с участием и любопытством. «Вот она, та Сильвия, о которой ей говорил отец в день ее свадьбы — в самый ужасный день ее жизни. Осталась ли она такой же любящей и кроткой, как обещала, будучи ребенком?»
Тем не менее она была смущена, наконец, упорным вниманием, с каким молодая графиня разглядывала ее. «Отчего она так смотрит на меня?» — спрашивала себя Лилия, недоумевая.
После обеда Сильвия села возле Лилии и разговаривала с ней, оставив остальное общество и не обращая внимание ни на удивление Элеоноры, ни на неудовольствие своего брата.
— Ах, как мадемуазель Берг красива и симпатична! — воскликнула молодая графиня, как только села с Танкредом в карету.
— Она хорошенькая и приличная девушка, но тем не менее я должен тебе заметить, что вовсе не идет, чтобы ты искала исключительно ее общества.
Последующие дни были очень оживленными. Баронесса была вся поглощена приготовлениями к балу. Танкред делал визиты со своей сестрой, представляя ее во всех семьях, где он бывал; возил ее по театрам, музеям. Молодой человек, казалось, ненасытно жаждал развлечений и шумных удовольствий. Но Сильвия угадывала сердцем, что скрытое раздражение таилось под его наружным весельем. Действительно, граф чувствовал себя несчастным.
Последнее время он был нервен более чем когда-нибудь.
Странные намеки, которые он подозревал в словах Лилии, привлекали его внимание к молодой девушке и внушали ему противоречивые чувства. Ее дивная красота очаровала его; мысль, что ей известна его тайна, делала ее почти ненавистной ему.
Сильвия со своей стороны чувствовала непобедимую симпатию к молчаливой и скромной молодой девушке, глубокий взгляд которой успокоительно действовал на нее. Не раз, когда она приходила и не заставала баронессу дома, она шла к Лилии и проводила с ней целые часы, меж тем как маленький Лотер играл у их ног с хорошенькой болонкой графини.
Наконец настал день бала. Залы баронессы, артистически декорированные цветами и освещенные а giorno, были уже полны гостей, но Лилия все еще оставалась в своей комнате, чувствуя непреодолимое отвращение к этому балу. Бледная, сдвинув брови, она стояла у окна, прижимая лоб к стеклу и погруженная в мрачные мысли.
Перед тем молодая девушка долго смотрелась в зеркало, оценивая себя со строгостью равнодушного критика.
— Стыдился ли бы он теперь вести меня под руку, этот тщеславный и бессердечный человек? Нет, я заметила в его взглядах, что он находит меня красивой, — прошептала она, и отойдя от зеркала, подошла к окну.
Порывистое вторжение Нани вывело Лилию из задумчивости.
— Боже мой! Я уже третий раз, барышня, прихожу докладывать вам, что баронесса зовет вас, а доктор Фолькмар пришел узнать, отчего вы не идете. Он ждет вас в коридоре, — говорила, запыхавшись, камеристка.
Ничего не отвечая, Лилия, взяв свое sortie de bal и веер, вышла из комнаты.
Прислоняясь к двери, ведущей в столовую, стоял Фолькмар во фраке и белом галстуке. Луч страстного восхищения сверкнул в его глазах, когда он увидел входящую Лилию.
— Зачем вы избегаете людей и веселья? Должно ли тяжелое прошлое вечно омрачать вашу душу, и разве искренняя дружба не может посеять в ней новых зародышей жизни и надежд?
Лилия покраснела. Она поняла, что баронесса передала ему ее слова и что он не хочет отказаться от своих намерений.
— Если обстоятельства таковы, что уничтожают навсегда всякий зародыш жизни, — возрождение невозможно.
— Нет, нет, молодое человеческое сердце неисчерпаемо-плодотворно. Надо быть только терпеливым и дать прошлому порасти травой, — возразил Фолькмар с веселой улыбкой. — А пока, мадемуазель Нора, позвольте ангажировать вас на следующий вальс.
Войдя в большой зал, Лилия искала глазами баронессу и не находила ее. Но она тотчас увидела Сильвию: бледная и видимо утомленная, молодая графиня направлялась в соседнее зал. Лилия поспешила подойти к ней, и они обе сели на маленький диванчик, скрытый в цветах.
— Если бы вы знали, мадемуазель Берг, как этот шум, эта музыка и особенно танцы действуют мне на нервы. А Танкред находит, что это такое удовольствие, к которому я должна привыкнуть. Буду стараться исполнить его желание, но это нелегко дается.
Затем окинув взглядом Лилию, она сказала улыбаясь:
— Вы восхитительны сегодня, милая Нора. Я поражена — что же будет с мужчинами? А ваши глаза, ах, ваши глаза! Я не могу на них наглядеться.
— Я очень рада, что они вам так нравится.
— Да, они мне нравятся и напоминают кого-то…
Сильвия вздрогнула, но не окончила фразы, так как в эту минуту доктор и кирасирский офицер вошли в комнату искать своих дам на вальс, который уже начали играть.
Лилия никогда не бывала на балах и не привыкла к танцам, а потому после нескольких туров с доктором так запыхалась, что попросила его отвести ее отдохнуть немного. Фолькмар был очень рад случаю и повел ее в маленькое зал, приготовленное для карточной игры и никем еще не занятое. Едва они успели сесть, как вошел Танкред, вытирая лицо, разгоряченное танцами. Увидев Лилию, он остановился и окинул пламенным взглядом прелестную молодую девушку. Он не ожидал, что она могла быть до такой степени хороша.
— Я ищу тебя, Евгений. Графиня Фернер желает говорить с тобой, — сказал он, затем, подойдя к Лилии, проговорил, кланяясь ей: — Позвольте просить вас на тур вальса.
Лицо Лилии приняло тотчас выражение холодности и враждебности, как бывало всегда, когда она имела дело с Танкредом. Но граф не обратил на это внимания и, не дожидаясь согласия, подал ей руку и увел в зал. Сердце молодой девушки билось так сильно, что, казалось, готово было разорваться. Странное чувство счастья, смешанного с горькой скорбью, теснило ей душу Она бы желала вырваться из обвивавшей ее руки и бежать, бежать далеко от того, кому никогда не хотела сознаться, кто она. На мгновение глаза их встретились; взгляд графа выражал такое искреннее восхищение и так смело впивался в глаза, что она отвернулась, смущенная и взволнованная.
Красота молодой девушки, танцующей с графом Рекенштейном, обратила на себя общее внимание, и Лилия вскоре была окружена танцорами, несмотря на все свои старания скрыться и не быть вынужденной танцевать. Баронесса заметила ее, проходя мимо, лукаво улыбнулась, увидев Фолькмара, стоявшего позади ее стула, затем затерялась в толпе.
Кончалась очередная кадриль, когда Лилия услышала какое-то шумное волнение в конце зала. Она поспешила туда. В то же мгновение толпа расступилась и она увидела, что доктор с другим молодым человеком уносили Сильвию, упавшую в обморок.
— Боже мой! Что случилось? — с тревогой спросила Лилия.
— Ничего серьезного, надеюсь, — отвечал Фолькмар. — Пожалуйста, помогите мне оказать первую помощь графине.
Сильвию отнесли в спальню баронессы, где камеристка помогла расшнуровать ее. Лилия натерла ей виски ароматическим уксусом, в то время как доктор давал ей нюхать соли.
— Это ничего. Она слишком много танцевала для первого раза, и шум бала подействовал на ее слабое здоровье. Будьте так добры, мадемуазель Нора, сообщите графу, что его сестра чувствует себя дурно.
Лилия поспешила исполнить поручение, но она тщетно обошла все комнаты: Танкреда нигде не было. Не зная, что делать, она пошла заглянуть в комнату возле столовой, куда складывали в этот день все лишнее из других мест. Но едва она приподняла портьеру, как увидела баронессу и Танкреда, который стоял возле нее, обвив рукой ее талию; затем он вдруг наклонился к ней, и звук поцелуя коснулся слуха Лилии. Побледнев, как смерть, молодая девушка замерла на месте. Баронесса не оказывала ни малейшего сопротивления и с увлечением отвечала на его поцелуй. Вдруг граф заметил сверкающий и враждебный взгляд, устремленный на него, и выпрямился, бледнея, меж тем как Элеонора глухо вскрикнула.
— Мадемуазель де Морейра сделалось дурно, и доктор просит вас прийти к ней немедленно в спальню баронессы, — поспешила сказать Лилия, устраняя таким образом всякое объяснение и, не дожидаясь ответа, выбежала из комнаты.
Молодая девушка задыхалась от волнения. Она не давала себе отчета, что источником ненависти, бешенства и презрения, которые кипели в ее сердце, была ревность. Она чувствовала лишь неодолимую потребность уединиться, но это желание не могло быть удовлетворено. Она почти бежала по коридору, ведущему в ее комнату, как вдруг едва не столкнулась с доктором, который выходил из комнаты баронессы.
— Нашли ли вы графа, мадемуазель Берг? Его сестра пришла в себя. Но, Боже мой! Что с вами? — воскликнул он вдруг и подвел ее к лампе, висевшей на потолке. — Вы тоже больны? Позвольте мне дать вам успокоительных капель, так как у вас вид, будто вынесли какое-нибудь потрясение, — добавил он, покачивая головой.
Эти слова тотчас возвратили Лилии присутствие духа. Подавив энергично бурю, бушевавшую в ней, она отвечала, улыбаясь:
— У вас странное воображение для человека науки. Я просто устала, так как никогда в жизни не танцевала так много. Тем не менее приму успокоительных капель; непривычный шум бала вызвал у меня сердцебиение. Но я совершенно здорова.
— В таком случае, побудьте немного около графини Сильвии; она должна полежать час или два, прежде чем уехать, — сказал Фолькмар, всматриваясь в лицо Лилии долгим, пытливым взглядом.
Сильвия лежала на кушетке, на подложенной под голову подушке. Ее лицо было смертельно бледно, но оно оживилось улыбкой, когда Лилия подошла к ней и сказала:
— Я побуду около вас, графиня, чтобы наблюдать за вами и развлекать вас, если позволите.
— Конечно, я буду вам очень благодарна, мадемуазель Нора, но могу ли я принять такую жертву и лишить вас бала, — отвечала Сильвия, удерживая дружески ее руку.
— Ах, не бойтесь лишить меня удовольствия, от которого я сама рада избавиться, — отвечала Лилия, едва сдерживая свое волнение. Но в ту же минуту отдернула руки и отступила на несколько шагов. Она увидела, или вернее почувствовала, что в комнату вошли граф и баронесса.
— Что с тобой, дорогая моя? Как ты себя чувствуешь? — спросил Танкред с беспокойством, меж тем как Элеонора наклонилась к молодой девушке и поцеловала ее.
— Мне лучше. Я чувствую себя даже совсем хорошо и только устала. У меня закружилась голова от непривычки к шуму. Но, пожалуйста, кузина, вернитесь в зал; вам нельзя не быть там. И ты, Танкред, иди и веселись. Мадемуазель Нора добра, хочет побыть со мной.
Поговорив немного с Сильвией и сказав несколько любезных слов компаньонке, баронесса исчезла. Но Танкред сел на край дивана и продолжал беседовать с сестрой.
Лилия подошла к столу и, приготовляя себе прием успокоительных капель, украдкой наблюдала за мужем, удивляясь сердечной нежности, которая звучала в его голосе и отражалась в каждом его движении. Она считала неспособным на такие чувства этого пресыщенного и беспечного человека.
— Хочешь, я останусь с тобой? Право, я боюсь уйти, ты так бледна, — сказал граф, целуя лоб и губы сестры, меж тем как она гладила рукой его густые черные локоны.
— Нет, нет, не хочу, чтобы ты оставался. Иди танцевать. А мы с мадемуазель Норой будем развлекать друг друга, она тоже не любит балов.
— Да, слышал… — сказал граф, вставая. — Странная фантазия двух девушек избегать удовольствий свойственных их летам.
— Что делать, граф, для всего нужно призвание, даже для того, чтобы наслаждаться случайными радостями, — заметила Лилия, глядя на Танкреда. При этих словах молодой девушки в глазах его сверкнула досада; однако он не уходил, собираясь что-то сказать, и, не решаясь, нервно вертел цепочку часов. Лилия поняла, что он хочет просить ее хранить молчание о поцелуе, которому была свидетельницей, и ею овладело сильное желание уколоть его.
— Вы хотите что-нибудь сказать, граф? — спросила она, взглянув на него с жесткой насмешкой. Затем, понизив голос, добавила: — Я понимаю, вы хотите доставить мне возможность поздравить вас по случаю вашей помолвки с баронессой.
Танкред мгновенно побледнел и, смерив свою собеседницу надменным и холодным взглядом, промолвил в ответ:
— Вы слишком спешите предрешать мои намерения, мадемуазель Берг; и вообще придаете слишком серьезное значение всякой любезности между близкими родными. Моя кузина платила мне проигранное пари.
Он повернулся к ней спиной и ушел. Лилия наклонилась над столом, чтобы скрыть улыбку. Ловкость, с какой граф вышел из затруднительного положения, возвратила ей хорошее расположение духа.
Сильвия внимательно следила за сценой у стола, и когда Лилия села возле нее, молодая графиня взяла ее руку и неожиданно спросила:
— Мадемуазель Нора, отчего вы ненавидите Танкреда? Ваши чудные глаза, на которые я так люблю смотреть, так как они производят на меня впечатление мира и благоденствия, изменяют свое выражение, когда вы говорите с моим братом. И когда я вижу, как было сейчас, этот беспощадно строгий взгляд, он леденит мою кровь и напоминает мне человека, которого я никогда не забуду. Я ежедневно молюсь за него.
— Если мои глаза напоминают вам человека, который оставил такое тяжелое впечатление в вашем юном сердце, то мне прискорбно это несчастное сходство, так как я желала бы видеть вас счастливой и спокойной, — сказала тихо Лилия.
— Нет, нет, Нора, я думаю о нем, как о высшем существе, как о мученике, как о святом. Более этого я не могу вам сказать. Но не он причина моих тягостных мыслей и. тех мучительных видений, которые преследуют меня.
Глубокое волнение охватило сердце Лилии; с благодарностью и любовью она наклонилась к прелестной девочке, которая хранила о ее несчастном отце такое благоговейное воспоминание.
— Отгоняйте эти гнетущие думы, графиня, и пусть прошлое не омрачает вашей блестящей будущности.
Сильвия вздохнула.
— Кто знает, что эта грозная неизвестность готовит каждому из нас? Жизнь многих, обещающая быть такой блестящей, угасает в крови и в грехе. Вы внушаете мне такое доверие, Нора, что я скажу вам, на что я намекаю. Я говорю о смерти моего отца. Он был так красив, так добр, а между тем лишил себя жизни в припадке черной меланхолии.
Голос ее оборвался, и горькие слезы заструились по ее щекам.
— Не волнуйтесь так, не думайте об этом несчастье, — сказала Лилия с состраданием.
— Ах, это невозможно. Каждый день я на коленях молю Бога простить ему эту преступную смерть, но доходит ли моя молитва до неба?
— Можете ли вы в этом сомневаться? Как может искренняя молитва такого невинного сердца, как ваше, не достигать милосердного Бога? Будьте уверены, что она, как благотворная роса, облегчает душу вашего отца. Те, кого мы любим, не исчезают в могиле, как в пропасти. Их душа остается близ нас, знает каждую нашу мысль, черпает силу и надежду в нашей любви.
На следующий день, после завтрака, баронесса вследствие, конечно, внушений графа сказала Лилии:
— Вчера, когда вы пришли за нами, этот несносный Танкред заставил меня поцелуем заплатить проигранное пари Но вы понимаете, милая Нора, что, несмотря на наше родство, я бы отказала ему в этом, если бы не имелось в виду, что в скором времени более тесная связь соединит нас.
Эти слова возбудили в сердце Лилии насмешку над баронессой, ненависть к ней и презрение к графу который так нагло обманывал свою кузину неисполнимыми желаниями.
Впрочем, следующие затем недели дали столько дел молодой девушке, что ей некогда было думать, и она мало появлялась в обществе. Приближались рождественские праздники и надо было приготовить так много подарков для родственников Элеоноры, что голова шла кругом.
Сильвия часто приходила проводить с ней время и сообщать о событиях дня. Баронесса была олицетворенной деятельностью, так как, кроме своих собственных изобретений, помогала Танкреду в устройстве двух вечеров, которые граф предполагал дать на Рождество и на Новый год: костюмированного бала и живых картин. Для картин надо было выбрать сюжеты и действующих лиц, что и предполагалось сделать на предстоящем бальном собрании у мадам Зибах.
В день этого собрания Танкред, его сестра и доктор были приглашены обедать и остаться на вечере. Все трое приехали рано, и так как Элеонора еще не возвратилась из поездки в город, то молодые люди пошли вслед за Сильвией в мастерскую, где Лилия кончала рисовать маленькую картину для базара. Это была копия с произведения известного художника, сделанная с фотографии и изображающая блудницу перед Иисусом.
Сильвия села возле своей подруги и внимательно следила за каждым движением кисти. Фолькмар сидел по другую сторону, между тем как граф рассматривал вещи, которые баронесса жертвовала на дело благотворительности. Кончив осмотр, он подошел к мольберту, но при первом взгляде на картину сказал:
— Фи! Какую антипатичную тему вы выбрали, мадемуазель Берг. Эта великая грешница вовсе не поэтична, а евреи с камнями в руках — настоящие каннибалы. Вот картина, которую я, конечно, не люблю.
— Тем лучше, — перебила его Сильвия, — так как я хочу просить тебя купить ее для меня.
— Отчего этот сюжет не нравится вам, граф? — спросили Лилия, устремляя на него свой взгляд. — Разве вы находите обычай древних евреев относительно неверных жен слишком жестоким?
— Конечно, — вмешался Фолькмар, — жестоко убивать женщину, отдавшуюся сильнейшему из всех чувств; я беру сторону слабого пола.
— Извини, я не разделяю твоей либеральности, Евгений. Женщина, впавшая в прелюбодеяние, заслуживает смерти: своим поведением она подрывает счастье семьи и самые основы общественного блага.
Лилия между тем, окончив рисунок, встала и, убирая краски, сказала с лукавой улыбкой:
— Я согласна с месье Рекенштейном. Нарушение супружеской верности такое гнусное преступление, что заслуживает смерти. Только этот закон должен простираться на мужчин так же точно, как и на женщин. Неверный муж, пренебрегающий данной клятвой, точно так же виновен и заслуживает той же казни. Его жена должна бросить в него первый камень, а за ней и все обманутые жены обязаны добить его. Если бы обнаружилось, что он скрывал, что женат, это увеличило бы наказание. Например, до убиения его бы следовало подвергнуть поношению и упрекам всех обманутых женщин.
Танкред сильно покраснел и так быстро отвернулся, что уронил маленькую этажерку с фарфором.
— Ах, как я неловок! — сказал он нагибаясь, чтобы поднять осколки.
В эту минуту вошла Элеонора и сказала, смеясь:
— Какое разорение вы тут делаете, кузен! Хотите, кажется, разбить все хорошие выигрыши лотереи.
— Это он от испуга при мысли быть побитым каменьями, если рискнет жениться, — пояснил Фолькмар и рассказал баронессе, в чем дело.
— Это правда, у меня дрожь пробежала по телу, когда я представил себе, каким полем избиения стал бы Берлин, если бы этот жестокий закон был приведен в исполнение, — сказал Танкред с возвратившимся к нему веселым настроением. — Но пылающий взгляд мадемуазель Берг заставляет меня предполагать, что у нее затаенная злоба исключительно против неверных мужей, и она без смущения бросила бы в них такой огромный камень, что убила бы их всех сразу, — добавил он, глядя лукаво на кольцо, которое носила Лилия.
Заметив, что она в свою очередь покраснела, граф самодовольно улыбнулся и, подав руку баронессе, повел ее к столу.
После обеда общество снова соединилось, и, в ожидании гостей, завязался разговор о предполагаемых картинах.
— Они могут быть великолепны! У нас такой большой выбор красивых женщин и красивых мужчин, — сказала с живостью баронесса, — и я пригласила молодого художника, месье Линдберга, чтобы помочь нам артистично поставить картины. Надо только выбрать интересные сюжеты.
— Это будет не трудно, — заметил Фолькмар. — Например, пир Клеопатры и Антония. Ваш тип красоты как бы создан для этой роли; и костюм египтянки, полагаю, должен удивительно подойти вам. А Танкред будет отличным Антонием.
— Благодарю, я не имею ни малейшего желания сбрить для этого бороду.
— Боже мой! Танкред, ведь она опять отрастет. И потом, вероятно, были римляне, которые носили бороду; я даже видел на картине Антония с бородой.
— Ну хорошо, для нас роли готовы; я предлагаю выбрать для Фолькмара какую-нибудь типичную роль. Например, китайское погребение. Ты, Евгений, идешь впереди процессии, а родственники и друзья покойного, которого ты отправил на тот свет, собираются побить тебя каменьями, оплевать тебя, выказать тебе всякими путями свое негодование. Эта картина была бы очень декоративна и назидательна вместе с тем.
— Видите, какой злой язык! Я придумываю ему прекрасную роль, а он желал бы публично оскандалить меня. Представь лучше сам неверного мужа, которого все обманутые женщины побивают каменьями.
— Успокойся, дружище, — сказал Танкред, смеясь и похлопывая его по плечу. — Чтобы тебя утешить, мы представим еще Лорелею и тебя перед нею у подошвы скалы.
Появление гостя прервало болтовню. Все приглашенные собрались мало-помалу, и возобновился бесконечный спор, так как нелегко было удовлетворить каждого и каждому дать роль, подходящую к его наружности.
Когда общество собралось в зале, поднялись самые жаркие споры. Дело шло о картине для финала. Желательно было выбрать что-нибудь замечательно красивое и с большим количеством действующих лиц. Все, что предлагалось, встречало какое-нибудь возражение. Танкред посоветовал обратиться к Лилии, хранившей упорное молчание.
— У мадемуазель Берг такой артистический вкус, такие пикантные идеи! И я держу пари, что она найдет какой-нибудь сюжет, который понравится всем.
Лилия подняла голову и, встретив его насмешливый, вызывающий взгляд, улыбнулась.
— У меня есть одна идея и сюжет, отвечающий требуемым условиям, только я думаю, вы не захотите его.
— Отчего? Если роль, которую вы мне назначите, хороша и декоративна, я обещаю ее принять, клянусь даже в этом. Вот все свидетели.
— В таком случае я предлагаю изобразить графа де Глейхена перед троном императора, представляющего ему своих жен. Пышность средневековых костюмов даст великолепные декорации, и, сверх того, картина имеет то достоинство, что заключает в себе четыре главные роли: император, граф и две его жены, различные по типу и костюмам.
Взрыв гомерического смеха разразился в зале, затем поднялся крик и восклицания:
— Да, да, мы изобразим эту картину. И вы, граф, будете представлять графа Глейхена. Вы должны принять эту роль, вы клялись в этом, — твердили наперебой мужчины и женщины.
Густая краска покрыла лицо Танкреда. Он почти с испугом глядел на Лилию. Но она не имела времени сказать что-нибудь, потому что одна из дам, жена члена французского посольства, попросила объяснения:
— Я не понимаю сюжета. Что это за граф, у которого две жены?
— Говорят, что был такой, — отвечала Элеонора, продолжая смеяться, — и я расскажу вам в нескольких словах легенду. Если не ошибаюсь, это было во второй или в третий крестовый поход. Молодой граф де Глейхен отправился в Палестину, оставив в своем замке молодую жену, которая его обожала. Поход не был благоприятен для графа: он был взят сарацинами и сделался невольником в доме одного родственника калифа. Как-то случайно он не попал в список пленных, подлежащих выкупу, и умер бы жалким образом в неволе, если бы дочь паши не влюбилась в него безумно, увидев его в саду, где его заставляли работать. Каким образом граф и сарацинка познакомились и полюбили друг друга, легенда не рассказывает; только в конце концов молодая девушка устроила ему возможность бежать, и сама бежала с ним, унося драгоценные украшения, представляющие огромное состояние. Возвратись в Европу, граф был в затруднительном положении. Влечение сердца и благодарность внушали ему желание дать почтенное положение женщине, пожертвовавшей для него всем, а его первое супружество не давало ему на то никакой возможности. Молодая графиня почувствовала такую благодарность к той, которая спасла ее обожаемого мужа, что хотела пойти в монастырь и уступить ей свое место. Турчанка не пожелала принять такой жертвы.
Чтобы положить конец этой битве великодушия, они отправились в Рим просить решения папы. Святой отец, тронутый самоотвержением этих двух женщин, дал — в виде исключения — графу Глейхену право иметь двух законных жен и женил его на сарацинке, после того как она приняла крещение. Возвратясь из Рима, Глейхен представил своих двух графинь императору. Затем вернулся к себе, где против обыкновения — повествует легенда — прожил очень счастливо, так как две его жены не ревновали друг к другу и никогда не ссорились.
— Вот оригинальная легенда! — молвила молодая француженка, смеясь. — Но кто будет изображать двух графин де Глейхен?
— Кто желает, mesdames? — спросил один офицер, товарищ Танкреда.
Так как никто не отвечал, молодой человек заметил, улыбаясь:
— Дамы молчат потому, что такой дележ противен духу нынешнего времени. И я предлагаю разыграть Рекенштейна в лотерею. Мы напишем имена присутствующих здесь красивых дам. Глейхен выдернет кого судьба ему назначит.
Новый взрыв хохота встретил это предложение. И несмотря на злобу, кипевшую в сердце Танкреда, внешне он должен был разделять общую веселость.
Князь Гоген, придумавший такую комбинацию, тотчас приступил к ее исполнению; две молодые девушки взялись помочь ему; одна из них нарезала бумажки, другая свертывала их.
В несколько минут все было готово. Билеты положили в фуражку князя, встряхнули их хорошенько, затем веселая, шумная толпа окружила Танкреда.
— Вынимай обеими руками сразу, Рекенштейн, чтобы не было предпочтения той или другой даме, цвета которых ты будешь носить, — молвил, смеясь, князь.
Граф опустил обе руки в фуражку, затем театральным жестом протянул их и сказал:
— Прочтите: в правой руке имя жены законного союза, в левой — сердечного.
Офицер, которому был подан один из двух билетиков, проворно развернул его и, обращаясь с поклоном к Элеоноре, сказал:
— Вам, баронесса, суждено изображать даму сердца.
Тем временем князь, прочитав другой билет, с лукавой улыбкой подошел к Лилии и подал его ей.
— Мадемуазель Берг, судьба велит вам вкусить плоды вашего совета, представив собой жену графа Глейхена.
Лилия сильно покраснела.
— Извините, князь, но имя мое было написано по ошибке. Я не принимаю участия в вечерах, которые устраивает граф Рекенштейн, и он потрудится выдернуть другой билет.
— Отчего же, милая Нора? Я бы так хотела, чтобы вы участвовали в картинах, — поспешила заявить Сильвия.
— Нет, нет! — возразила Лилия, энергично качая головой.
Танкред сверкающим взглядом следил за этой маленькой сценой. При отказе молодой девушки он подошел к ней.
— Если картина, так единогласно одобренная, будет ставиться, то я хочу, чтобы она оставалась такой, какой назначила судьба; в противном случае я отказываюсь, так как нахожу совершенно справедливым, чтобы вы поплатились за ваши злые выдумки, приняв участие в их исполнении.
— Соглашайтесь, соглашайтесь, Нора: раз он заупрямился, надо исполнить его желание, — воскликнула баронесса.
А молодой художник добавил с энтузиазмом:
— Умоляю вас, мадемуазель Берг, не лишайте нас возможности поставить эту чудную картину. Дух Тициана управляет рукой графа, так как мадам Зибах со своей отчасти восточной красотой будет дивной сарацинкой, а вы с вашим лилейным цветом лица и золотистыми волосами представите собой идеал владетельницы замка.
— Итак, мадемуазель Берг, — обратился к ней снова Танкред, — решайте, хотите вы или нет быть графиней де Глейхен, моей законной женой?
— Надо согласиться, если иначе нельзя, — отвечала Лилия таким тоном насмешки и отвращения, что все, не исключая Танкреда, расхохотались.
— Благодарю вас, хотя согласие выражено очень нелестно для меня, — сказал граф с низким поклоном.
Молодой человек вернулся к себе мрачный и озабоченный. Он не мог не сознавать, что чувство, которое ему внушала бедная компаньонка его кузины, было серьезного свойства. Как смешно! Он понимал достаточно хорошо характер молодой девушки, чтобы знать, что она недоступна для связи, а жениться на ней он бы не мог, даже если бы пожелал.
«Ах, — говорил он себе, шагая в лихорадочном волнении по кабинету, — недоставало мне только несчастной страсти к этой неизвестной личности, которая ненавидит меня и как будто знает мою тайну. Но кто бы мог ей открыть ее? Не родственница ли она Лилии? Ее странное сходство с типом Веренфельсов, равно как и ее намеки, могут внушить такое предположение. Она возмущает меня, а между тем, когда она смотрит на меня своими бархатными глазами, я чувствую, что покоряюсь ей, что она пробуждает во мне желания как ни одна женщина в мире. Будь проклят час, когда я связал себя с ненавистной мне женщиной, которая скрывается от меня и умерла, быть может, так как вот уже четыре с половиной года, как она исчезла. Что, если я свободен и только не знаю этого! Но как это узнать? Как поднять эту скандальную историю! Нет, лучше теперь!» — и с глухим стоном он кинулся на диван.
Под влиянием чувства, которое все более и более овладевало им, он то избегал, то искал общества Лилии, что было нетрудно, так как приготовления по картинам и репетиции часто сводили их. И когда однажды молодая девушка примеряла костюм владетельницы замка и геральдическую корону, какую должна была носить графиня де Глейхен, Танкред чуть не выдал себя. Его восторженный взгляд впился в прелестное и аристократическое лицо девушки, и, позабыв все, он с наслаждением надел бы на эти золотистые волосы корону Рекенштейнов.
В день бала обе дамы надевали шубы, как вдруг раздался шум подъехавшего экипажа и кто-то стремительно вошел в переднюю. То был камердинер генерала де Вольфенгагена, приехавший объявить баронессе, что ее отец опасно заболел, просит ее приехать немедленно и шлет ей карету, которая сейчас привезла доктора.
Элеонора закусила губы.
— Мадемуазель Берг, поезжайте, пожалуйста, в Рекенштейнский замок и скажите графу, что я приеду через час, когда успокоюсь насчет здоровья отца; я уверена, что оно не представляет никакой опасности.
Лилия молча повиновалась, но сердце ее сжалось, когда карета остановилась у освещенного подъезда замка. С затуманенным от волнения взглядом она вошла в обширный вестибюль, откуда широкая лестница, устланная коврами и украшенная цветами и статуями, вела в приемные комнаты первого этажа. Вестибюль, казалось, преобразился в караульный зал Лувра времена Карла IX; все лакеи были в костюмах того времени; вдоль всей лестницы и у дверей залы были расставлены алебардисты.
Лилия приехала первой, и слуги не успели снять с нее манто и капюшона, как появился Танкред и, увидев, что она одна, быстро спустился с лестницы. С невольным восхищением она глядела на молодого человека, идеально красивого во костюме XVI века, скопированного с портрета той эпохи. Его белый атласный камзол с ярко-красными вставками в рукавах блестел бриллиантами, равно как и эфес его шпаги, висевшей у него сбоку.
Граф, казалось, вовсе не был огорчен отсутствием кузины; он рассеянно слушал объяснения Лилии по этому поводу, заботливо помогая ей снять капюшон. С любопытством он окинул взглядом ее костюм и с трудом удержался от восторженного восклицания.
Танкред предложил ей руку, чтобы подняться по лестнице. Он не спускал глаз с ее лица, не понимая глубокого волнения Лилии, которая шла молча, с болью в сердце от мысли, что она, все же опираясь на руку своего мужа, входит в эти залы, где ей следовало быть госпожой. Вдруг он наклонился к ней и проговорил полушепотом:
— Вы были сегодня хороши, как видение. Ах, если бы все лилии были похожи на вас!
Прелестная в костюме королевы Марго, Сильвия поспешила к ним навстречу; и снова стали говорить о баронессе и о внезапной болезни ее отца. Но гости, приезжавшие непрерывно, заставили молодых хозяев дома заняться своими обязанностями.
Прошло более часа, а мадам Зибах все еще не возвращалась. Бал был в полном разгаре, и Лилия, красота которой в этот раз произвела сильное впечатление, танцевала без остановки, когда Танкред пришел ее ангажировать. Молодая девушка попробовала отказаться, ссылаясь на усталость, но граф так настаивал, что она встала и дала себя увлечь в вихрь вальса.
По окончании танца Танкред подал ей руку и сказал, указывая на вход в оранжерею.
— Позвольте отвести вас в оранжерею. Вы устали, я это вижу, а здесь так душно. Вы увидите, как там хорошо.
Лилия помнила рассказы отца о феерической красоте той залы, которую Арно с такой любовью отделал вновь, чтобы доставить удовольствие своей мачехе. Воспоминания охватили ее, и, ничего не отвечая, она направилась с графом в оранжерею, почти пустую в эту минуту. То, что она увидела, превзошло все, что она себе представляла. Действительно, страной грез казался этот тропический уголок.
Вот золоченая раковина с прислоненной к ней мраморной Наядой. Здесь Арно преподнес Габриэле шкатулку с драгоценными украшениями. И тут же Готфрид сделал попытку вразумить графиню, попытку, имевшую такие гибельные последствия. А далее рощица со скамьей из искусственного мха, под тенью апельсиновых деревьев и фонтан, с журчанием падающий в мраморный бассейн. Здесь графиня склонилась к ее отцу, ожидая признания в любви, и окончательно выдала тайну своей гордой души.
Позабыв своего спутника, Лилия остановилась, и ее глаза приковались к этому месту, исполненному воспоминаний. Глубокое сострадание к графине охватило ее. Любить всей душой и быть отвергнутой тем, кого любишь! О, как это мучительно тяжело!
Танкред тоже остановился и, несколько удивленный, устремил взгляд на Лилию, которая, отдавшись своим мыслям, казалось, позабыла все окружающее. Не подозревая, какие ощущения волновали молодую девушку, он думал, что она очарована сказочной красотой этого места, и, не желая мешать ей, сам погрузился в созерцание своей спутницы. Лилия действительно казалась живым цветком, распустившимся в этой волшебной обстановке. Ее высокая стройная фигура имела гибкость лилии, и шея с классическим контуром могла поспорить белизной с атласными листьями, из которых она, казалось, выходила, между тем как идеальная чистота отражалась на ее прозрачном лице, оживленном легким румянцем вследствие охвативших ее воспоминаний.
В синих глазах Танкреда мгновенно вспыхнул огонь, яркий румянец залил его лицо. Красота Лилии приводила его в упоение. Ему казалось, что он никогда не видывал такой обольстительной женщины. Он позабыл свое отвращение к рыжим; блеск золотистых локонов обворожил его, но он не мог приподнять их и покрыть поцелуями! Ветреный и неукротимый, привыкший удовлетворять своим прихотям, Танкред позабыл все и, наклоняясь, прильнул горячими губами к обнаженному плечу Лилии, которая вздрогнула, как ужаленная змеей. Тем не менее она не отступила, лишь бархатные глаза сверкнули огнем жестокой насмешки и странная улыбка скользнула по ее губам.
Танкред был озадачен. Он ожидал гнева, упреков за его дерзость, но чтобы его увлечение было осмеяно, этого никогда не бывало.
— Простите, — сказал он со смущением, — но я воображал, что вижу перед собой графиню де Глейхен.
— Конечно, конечно; я уверена, что если бы вы вообразили перед собой графиню де Рекенштейн, то не ошиблись бы таким образом, — отвечала Лилия с язвительной насмешкой и, помочив платок в струе фонтана, вытерла плечо, которого коснулись губы графа.
Танкред побледнел при этом неожиданном оскорблении.
— Вода смывает все оскверняющее и даже прикосновение таких нечистых губ, как мои, — сказал он, дрожа от бешенства.
— Конечно, особенно тех, на которых запечатлелось такое множество случайных поцелуев, — отвечала Лилия, смерив его холодным взглядом; затем повернулась и ушла из оранжереи.
Граф кинулся на диван и отер платком свое воспаленное лицо. Эта женщина имела особую способность мучить его, покорять его гордость, как покорила его чувства. Чем объяснить то, что сейчас произошло? Как она, такая недоступная, краснеющая от каждого смелого взгляда и любезного слова, вынесла его поцелуй, не тронувшись с места, с презрительной насмешкой, вместо отчаянного негодования, какого он мог ожидать? И она осмелилась омыть место, к которому прикоснулись его губы! Затем она бросила ему в лицо намек, что будь это графиня де Рекенштейн, он счел бы за пытку поцеловать ее.
«Ах, Лилия, страшный призрак моей жизни! — шептал он прерывистым голосом, — неужели ты вечно будешь загораживать мне путь к счастью? Если б я был свободен, ты сделалась бы моею, жестокое, обольстительное создание, несмотря на ненависть ко мне. И какая причина этой ненависти? Не основана ли она на знании моей тайны? Но как она может быть ей известна!»
В оранжерею вошло несколько человек, что отвлекло графа от тяжелых размышлений и напомнило ему его роль хозяина дома. Но напрасно его гневный взгляд искал в залах Лилию: молодая девушка уехала с бала под предлогом, что необходимо узнать, что так долго задерживает баронессу и не нужна ли она ей.
Мадам де Зибах не могла оставить опасно заболевшего отца. Более двух недель здоровье старого генерала находилось в неопределенном состоянии, и дочь была прикована к его постели.
Генерал поправлялся медленно. Живые картины были отложены на неопределенное время.
Лилия очень редко видела теперь графа; и они относились друг к другу с холодным равнодушием. Зато Сильвия усердно навещала ее и звала к себе. Но мысль бывать в Рекенштейнском замке внушала Лилии отвращение, и она под разными предлогами уклонялась от приглашений мадемуазель де Морейра.
Раз утром она получила записку от Сильвии, которая убедительно звала ее к себе. «Я простудилась и сижу дома, — писала она, — а так как я знаю, что Элеонора проводит весь день у отца, то Вы свободны, Нора; приезжайте посидеть со мной. Не принимаю никаких отговорок и предупреждаю, что Вы не встретитесь с Вашей антипатией: Танкред едет на большой прощальный обед, который дают одному офицеру, выходящему из полка; оттуда брат отправится на бал. Так что мы будем совсем одни. Я пошлю за Вами мою карету».
Лилия сочла невозможным отказаться. Она нашла Сильвию одну, и молодые девушки весело отобедали вдвоем. Затем Сильвия показала подруге замок, картины, драгоценные камни, собранные одним из предков; водила даже, несмотря на ее сопротивление, в апартаменты графа под предлогом показать настоящую картину Тициана, висевшую в кабинете Танкреда. Затем они вернулись в покои Сильвии, ярко освещенные, как это любила молодая графиня. Они много беседовали; затем Лилия рассматривала роскошные безделушки, украшавшие стол и этажерки. Большой портрет в золотой рамке, висевший над бюро, обратил на себя внимание Лилии. На нем был изображен молодой человек иностранного типа, резкий брюнет с черными, огненными глазами.
— Это мой отец. Не правда ли, он красив? И его доброта равнялась его красоте, — сказала Сильвия, глядя с любовью и гордостью на изображение дона Рамона.
Лилия всматривалась с грустью и сожалением в черты человека, который тоже пал жертвой опасной Цирцеи.
— Пойдемте, Нора, я покажу вам портрет моей матери.
Мадемуазель де Морейра отворила дверь соседней комнаты, которая, видимо, служила ей молельней и другой дверью сообщалась с ее спальней.
Лилия побледнела, и ее глаза впились в висевший перед ней портрет. Вот женщина, которая так страстно любила ее отца и на коленях молила у него прощения.
Как мог он противиться ей и отказаться от нее? При этом она вспомнила тот день, когда Готфрид открыл ей свое прошлое и когда у него вылилось так много говорящее признание: «Ах, как мне было трудно вырвать ее из моего сердца!»
— Как она хороша! И как вы на нее похожи, — проговорила Лилия невольно.
— Да, но красота ее была гибельна для тех, кто к ней приближался, — прошептала Сильвия. — Говорят, что я ее живой портрет. Но я ежедневно на коленях молю Бога, чтобы моя красота не принесла горя тем, в ком она возбудит любовь, как то было с моей матерью. Красота моей матери погубила ее первого мужа, ее пасынка Арно, моего отца и еще одного человека, которого она любила более всех.
Сильвия вынула из-за корсажа медальон, висевший на длинной золотой цепочке, и открыла его. В нем было два миниатюрных портрета: с одной стороны Арно, с другой — Готфрида.
— Этот медальон был снят с нее после ее смерти. С тех пор я с ним никогда не расстаюсь, хотя в нем и не нашлось места для моего бедного отца, — сказала Сильвия с горечью, поспешно закрывая портрет Габриэли.
Они поспешили в будуар и, облокотясь на стол, долго рассматривали раскрытый перед ними медальон.
— Чем более я разбираю черты этого красивого лица, тем более убеждаюсь, что вы похожи на него.
Она поднесла портрет к лицу своей подруги.
— Поглядите, это тот же широкий лоб, те же черные бескорыстные глаза, то же строгое и энергичное выражение рта и даже такие же почти сросшиеся брови. Знаете, Нора, если бы у этого человека была дочь, она, вероятно, походила бы на вас.
— Действительно, есть некоторое сходство между мной и этим портретом; но это чистая случайность, так как я никогда не знала никого, похожего на этого человека, — отвечала бледная, смущенная Лилия, стараясь улыбнуться. — Но скажите, пожалуйста, графиня, кто этот другой молодой человек с такими симпатичными глазами и таким честным, откровенный выражением лица? Вы сказали, кажется, что его зовут Арно.
— Да, это Арно, граф Арнобургский, брат Танкреда от первого супружества его отца с графиней Хильдой Арнобургской. И лицо Арно служит отражением его души.
— Граф Арнобургский не живет в Берлине?
— Нет, вот уже семнадцать лет, как он уехал и путешествует по Индии и другим восточным странам, — отвечала Сильвия с новым вздохом. — Мы не имеем о нем никаких известий. Мне бы очень хотелось, чтобы он возвратился. Я могу целыми часами глядеть на его портрет и особенно на эти красивые темные глаза, такие кроткие и ясные; мне кажется, что я черпаю в них спокойствие и даже здоровье, когда у меня бывают мои нервные головные боли. Не смейтесь, Нора, это правда. Взгляд Арно магнетизирует меня, хотя это лишь нарисованные глаза. Несмотря на то, что он не так красив, как Танкред, он мне больше нравится. Мой милый братец, — добавила она, смеясь, — похож немножко на героя романа, он слишком красив для простого смертного: и так как ему очень напели об этом, то он сделался пресыщенным, капризным и несносным.
— Это правда, что месье Рекенштейн очень уверен в своих наружных достоинствах и высоко ценит их, — заметила Лилия с насмешкой.
— Ну вот, вы сейчас режете как ланцетом, как только речь коснется его. Но надо взять в соображение обожание, какое ему высказывают женщины. Они не дают ему времени пожелать быть любимым. Когда он приехал ко мне в Сорренто, все оборачивались на улице, когда мы проходили. И он не пробыл там трех дней, как познакомился, не знаю каким образом, с прелестной итальянской маркизой Анжеликой де С., и начался бесконечный флирт; букеты и записочки так и сыпались с обеих сторон. И вдруг она ему надоела. Красавица Анжелика была в таком отчаянии, что хотела, говорят, лишить себя жизни. И когда я увидела ее с мужем, некрасивым и ревнивым стариком, я очень ее пожалела. Но постойте, я вам ее покажу; я нашла фотографическую карточку маркизы в портфеле, который Танкред позабыл.
Она подошла к одному шкафчику и, выдвинув ящик, достала оттуда маленький портфель красного сафьяна с инициалами графа. Лилия, покраснев по уши, слушала рассказ о пикантных приключениях своего милого супруга; она взяла с живостью карточку и с насмешливой улыбкой прочла над изображением красавицы-итальянки несколько слов посвящения в весьма нежном духе.
— Да, он большой ветреник, — продолжала Сильвия. — Сколько сувениров, записочек и портретов я нашла раз случайно в ящике его стола!.. Ах, как бы я не хотела, чтобы Танкред был моим мужем. Я бы не имела ни минуты покоя, если бы знала, что мой муж бегает за каждой юбкой и влюбляется в каждое хорошенькое личико. Представьте себе, Нора, даже мою горничную Лизетту, и ту он заметил. Правда, она очень хорошенькая. И вот недели две тому назад я застаю его у себя в гардеробной; протянув руки, он не пускал ее из комнаты, потом поймал и поцеловал ее в обе щеки. Я так рассердилась, что сперва побранила Лизетту и сказала ей, что если еще что-нибудь подобное повторится, то я ее отпущу. Она плакала и говорила в свое оправдание, что она не может быть грубой с графом. «Нет, можешь, — отвечала я ей. — Ударь его по щеке, если он еще раз позволит себе поцеловать тебя; он не имеет на это права». А после обеда я сказала Танкреду: «Не стыдно ли тебе соперничать со своим лакеем? Но впредь твое ухаживание будет иначе принято: я велела Лизетте ударить тебя по щеке, если ты опять позволишь себе что-нибудь подобное». Он расхохотался как сумасшедший и говорит мне на это: «Какая ты смешная, Сильвия, что делаешь так много шуму из-за того, что я поцеловал камеристку. Разве это имеет какое-нибудь значение? Я за свою жизнь целовал всех женщин, которые мне нравились; и всегда буду это делать, и никто из них не будет за это в претензии». Когда я ему сказала, что могут встретиться женщины, которым это не понравится, он с удивлением взглянул на меня. Нет, нет, быть женой Танкреда ужасно! Я бы не желала такого мужа, и вы тоже, Нора, я уверена.
— Добровольно я бы его не выбрала; но как знать, насмешливая судьба не назначила ли мне в мужья такого же ветрогона, — отвечала Лилия со странной улыбкой.
Звонкий кашель и бряцание шпор в соседней комнате заставили вздрогнуть молодых девушек. Минуту спустя на пороге показалась высокая фигура Танкреда. Он был в возбужденном состоянии, и лицо его выражало самодовольство. Видимо, ему было приятно, что Лилия узнала о его успехах, так как он устремил на нее смелый взгляд; покраснев, она упорно молчала. Он сел возле Сильвии, не менее смущенной, и сказал:
— Ну, милая моя сестра, продолжай твою хвалебную речь.
— Фи, Танкред, ты шпионил, слушал у дверей! Это гнусно! — воскликнула Сильвия в негодовании.
— Ничуть, напротив, это очень назидательно. По крайней мере я узнал, что ни одна из вас не желала бы меня в мужья, что я негодный человек, что моя добродетельная сестрица шарила у меня в ящиках и, наконец, что хотя Арно и менее красив, но более симпатичен и более нравствен, что, уверяю тебя, не мешает ему целовать хорошеньких женщин не менее моего.
— С час времени он шпионил без зазрения совести. Это замечательно! — промолвила Сильвия в смущении.
— Еще того хуже клеветать на меня перед мадемуазель Берг, которая будет теперь бояться остаться со мной одна в комнате, считая меня за какого-то разбойника.
— Нисколько. Я уверена, что вы никогда не попробуете слишком подступиться ко мне.
— Вы в этом уверены?
— Гадкий мальчик! Если бы ты рискнул на что-нибудь подобное, то имел бы удовольствие, какое, говоришь, никогда еще не испытывал: почувствовать хорошенькую женскую ручку на своей щеке, — сказала, смеясь, Сильвия.
Граф наклонился к Лилии и, окидывая ее смелым и насмешливым взглядом, спросил:
— Правда, вы были бы так строги из-за невинного поцелуя? Следовало бы попытать, чтобы этому поверить!
Лилия вспыхнула.
— Вы слишком хорошо пообедали, месье Рекенштейн, и в эту минуту шампанское говорит вашими устами.
Танкред встал, покраснев так же, как его собеседница. Он действительно выпил очень много, а вино делало его всегда задорным.
— Ваше предположение очень лестно, но оно по крайней мере избавляет меня от всякой ответственности за мои поступки. После урока, который я вам дам, вы будете осторожней и не станете позволять себе оскорблять офицера, говоря, что он пьян.
И прежде чем Лилия, не ожидавшая ничего подобного, успела подумать о защите, он схватил ее за талию и поцеловал ее в губы, полуоткрытые для возражения. Вне себя молодая девушка встала и так же неожиданно, как был неожидан поцелуй, ударила графа по щеке. Сильвия вскрикнула от испуга, меж тем как Лилия кинулась к дверям. Но прежде чем она успела добежать, сильная рука остановила ее.
— Вы останетесь здесь и не убежите, чтобы не выносить скандала перед лакеями, — крикнул Танкред глухим, неузнаваемым голосом. Он буквально задыхался; и увидев его пылающие глаза и пену у рта, Лилия испугалась и пожалела о своем увлечении. В сущности, ведь это ее муж поцеловал ее; и она даже забыла в эту минуту, что он не знает, кто она для него. И лишь бессознательная любовь, какую ей внушал граф, говорила в ней, когда она, положив свою руку на руку молодого человека, сказала тихим голосом:
— Простите мне мое раздражение и успокойтесь.
Танкред сбросил ее руку; но его огненный взгляд впился в красивые глаза молодой девушки, обращенные к нему с робкой мольбой и с таким выражением, какого он никогда у нее не видел. В эту минуту Сильвия, которая, побледнев, стояла прислоняясь к стене, вдруг судорожно зарыдала и упала на стул.
— Останьтесь около моей сестры и успокойте бедную девочку. Можете не опасаться, что я когда-нибудь обеспокою вам моим присутствием, — сказал Танкред несколько спокойнее, повернулся и стремительно вышел.
Трепещущая и безмолвная, Лилия подошла к подруге и привлекла ее в свои объятия, стараясь ее утешить. Мало-помалу ей удалось успокоить Сильвию, убедив ее, что она напрасно упрекает себя, что вызвала эту сцену своей болтовней и своими шутками.
— С характером графа, — говорила Лилия, — подобная сцена рано или поздно должна была разыграться, случайность и прощальный обед только ускорили дело, — закончила она, стараясь придать голосу шутливый тон. — Но вы понимаете, графиня, что после того, что произошло, я не смогу бывать в вашем доме; мы будем видеться у баронессы.
Едва мадемуазель де Морейра оправилась от перенесенного волнения, Лилия простилась с ней и в передней встретила Фолькмара. Он толковал о чем-то с камердинером и спросил ее с удивлением:
— Не слышали ли вы что-нибудь о болезни графа, вследствие которой к нему не пускают даже меня?
— Я не видела месье Рекенштейна, а графиня не говорила, что он болен, — ответила она холодно.
— Так надо разведать, что за причина его мизантропии. Проводив вас, я пойду к нему, — сказал доктор, подавая ей руку.
Придя в свои апартаменты, граф заперся и стал ходить взад и вперед, как лев в клетке. Вино, злоба и страсть кипели в нем. Сорванный поцелуй, несмотря на грубый отпор, еще более воспламенил его, и когда он вспоминал тревожный невинный взгляд, устремленный на него, мгновенно преобразивший гордую, язвительную молодую девушку р смущенного, беспомощного ребенка, сердце его билось так, что готово было разорваться. И им овладевало непобедимое желание привлечь ее в свои объятия, подвергая себя новому оскорблению. Но Танкред не напрасно был сыном Габриэли: он унаследовал от нее непомерное самолюбие и пылкость. Чувство оскорбленной гордости все более и более подавляло добрые движения его сердца, внушая ему желание отомстить Лилии.
Он был отвлечен от своих дум стуком в дверь и голосом доктора:
— Отвори, Танкред. С каких пор дверь твоя заперта для меня?
— Я упустил тебя из виду, когда отдавал приказание никого не принимать, — отвечал граф, отпирая дверь. — Впрочем, я уверен, что ты не замедлишь убежать от меня; мне немного нездоровится, и я прескучный сегодня.
— Да, рука твоя горяча, как огонь. Что с тобой?
— Ничего; я пьян и у меня болит голова, — ответил он, бросаясь врастяжку на турецкий диван и барабаня шпорами по валику дивана.
— Ты изорвешь эту бесподобную шелковую материю. Сколько же ты проглотил бокалов шампанского, что так расстроил себе нервы? Обыкновенно ты хорошо выносишь все это.
— Я не считал. Но прощальный обед в честь барона Редера был очень оживленным.
— Я забыл, что его провожают сегодня. Но довольно об этом. Скажи лучше, часто ли мадемуазель Берг навещает твою сестру? Я видел, как она уезжала.
Граф приподнялся. Злопамятность, проявлявшаяся еще в мальчике, когда ему противоречили, сверкала в глазах и звучала в голосе Танкреда, когда он ответил на вопрос друга:
— Слишком часто, на мой взгляд, и я собираюсь значительно ограничить эти сношения, так как нахожу их неприличными между моей сестрой и этой темной авантюристкой.
— Напрасно. Твои предположения ни на чем не основаны, а общество этой прелестной девушки, такой приличной и образованной, может быть только полезно графине Сильвии.
— Нет, это ты слеп в своей любви, которая, я предчувствую, дурно кончится. Ведь баронесса передала тебе свой разговор с Берг, заявившей, что она никогда не выйдет замуж. Отчего бы так, если б не было какой-то тайны в ее жизни. Быть может, она убежала от своего мужа, а он везде ищет ее. Впрочем, возможно, что ей запрещено вступать в брак, и она согласилась бы осчастливить красивого и богатого молодого человека, не обременяя его цепями Гименея.
— Перестань говорить вздор. Никогда бы мой язык не повернулся сказать легкое слово этому чистому и гордому созданию.
— Ах, эта гордость, быть может, так велика лишь при публике. Рискни, поцелуй с глазу на глаз, она только улыбнется. Не гляди на меня с таким удивлением; я говорю по опыту; на костюмированном бале я поцеловал ее в плечо, и… она приняла это довольно благосклонно.
— Ты не шутишь, Танкред? — спросил Фолькмар, бледнея.
— Честное слова; мы были одни в оранжерее, и я рискнул.
Доктор ничего не ответил; он встал и, повертевшись немного в кабинете, взял шляпу и простился, сказав, что должен навестить больного.
На следующий день, после завтрака, граф объявил сестре, что не одобряет ее сношений с мадемуазель Берг и просит ее ограничить их, насколько то приличествует графине де Морейра, с девушкой, находящейся в услужении.
— Танкред, ты хочешь таким путем отомстить за резкость поступка, которую вполне заслужил своей дерзостью, — сказала Сильвия со слезами на глазах.
— За то или другое, но я запрещаю тебе держаться на дружеской ноге с этой дерзкой личностью.
— Потому что она охраняет свое достоинство, а ты, женатый человек, не стыдишься вести себя таким образом.
— Если ты будешь упорно напоминать мне этот проклятый эпизод моей жизни, я застрелюсь в один прекрасный день, — крикнул с досадой молодой человек, но увидев испуг и потоки слез, вызванные этими словами, он раскаялся в своей вспыльчивости и не ушел от сестры, пока ласками и самыми торжественными обещаниями никогда не посягать на свою жизнь не вызвал снова улыбки на ее уста.
IV. Возвращение изгнанника
Почти неделю спустя после описанных нами событий, Сильвия сидела у окна своего будуара, ожидая возвращения брата, который должен был приехать к завтраку. Под окном на маленьком кругленьком диване лежали книги и вышивание. Соскучась, молодая девушка бросила свою работу и стала глядеть на прохожих. Не без удивления она увидела, что у главного подъезда остановился фиакр, из которого вышел человек в штатском платье и, взяв свой маленький чемодан, проник в замок. «Кто бы мог быть этот оригинал, который приехал сюда, как в отель? Могу себе представить, как Мюллер выпроводит его», — подумала она, смеясь. Но к ее удивлению незнакомец не вернулся. Впрочем, она тотчас забыла об этом незначительном обстоятельстве, так как ее внимание было отвлечено какой-то ссорой.
Тем временем таинственный путешественник вошел в вестибюль и, бросив чемодан на бархатную скамейку, подошел к швейцару, толстому величественному старику с седыми волосами, который смерил его с головы до ног негодующим взглядом.
— Дома граф? — спросил незнакомец, человек высокого роста, стройный, со смуглым лицом, обрамленным темной бородой.
— Нет, сударь, графа нет дома, и неизвестно — когда он вернется, — отвечал швейцар несколько гневно, но вместе с тем почтительно, так как аристократический, приличный вид посетителя, не соответствующий его экипировке, удивлял его. Но вдруг с глухим восклицанием он выронил из рук свою палку с золотым набалдашником:
— Боже милосердный! Да это наш молодой барин.
— Вы узнали меня, почтенный Мюллер, хотя я не могу больше называться молодым, — отвечал приезжий с улыбкой, меж тем как лакеи, бывшие в вестибюле, вытянулись как наэлектризованные.
— Ах, какое счастье послал мне Бог! Снова я вижу вас, граф. Но как же вы приехали совсем один? — спросил старый слуга, со слезами на глазах целуя руку Арно.
— Мой камердинер и мои вещи прибудут завтра. А теперь скажите мне, почтеннейший, правда ли, что Танкреда нет дома?
— Да, да, он на службе, но графиня у себя. Боже мой, как месье Танкред будет счастлив! — добавил старик в волнении.
— Пусть здесь никто не трогается с места. Я хорошо знаю дорогу и сам о себе доложу до прихода брата, — сказал слугам Арно, медленно поднимаясь по лестнице.
Множество воспоминаний, тяжелых и счастливых, обступили его при входе в этот дом, который он оставил семнадцать лет тому назад. Сколько раз он хотел писать, узнать о судьбе своих близких и всякий раз оставлял свое намерение, боясь коснуться прошлого, отравившего лучшие годы его жизни. Давно его скитальческая жизнь томила его. Рана его сердца зажила под смягчающей рукой времени, и усилившаяся тоска по родине заставила его возвратиться. Только ему не хотелось расспрашивать предварительно о том, что происходило в его отсутствие; он хотел неожиданно очутиться в этом новом мире, увидеть, как его примут, убедиться, что его безумная страсть окончательно погасла.
Все эти мысли толпились в голове Арно, меж тем как он медленно проходил по комнатам, с любопытством осматривая происшедшие перемены. Графиня, о которой говорил швейцар, вероятно, жена Танкреда. Габриэль давно должна была быть баронессой Веренфельс. У дверей бывшего будуара он остановился на минуту в нерешительности; затем, приподняв тяжелую парчевую портьеру розового цвета, окинул комнату взглядом. У окна на круглом диване он увидел женскую фигуру в домашнем платье белого кашемира, на котором резко выделялась длинная и черная коса. Этот гордый и правильный профиль был слишком хорошо знаком Арно, и почти невольно он вскрикнул:
— Габриэль, ужели время не властно над вами!
При звуке его голоса сидевшая на диване быстро повернулась и с удивлением устремила на него свой взгляд; но минуту спустя она кинулась к графу с радостным криком: «Арно!» Теперь граф в свою очередь был поражен, так как не замедлил понять, что видит перед собой не знакомую ему личность, а живой портрет той, которую он любил, но не ее самое. Молодая девушка, однако, тотчас остановилась в смущении.
— Мою мать звали Габриэль, а я Сильвия де Морейра, — сказала она, протягивая ему обе руки.
Арно с живостью взял ее руки и несколько раз поцеловал их.
— Благодарю вас за этот прием; одним словом он воссоздал семью путнику, который возвратился таким одиноким. Вы дочь дона Района? И он тоже живет здесь? Но отчего вы сказали «Мою мать звали Габриэль?»
Он замолчал, взволнованный и смущенный.
— Мой отец умер, и мать моя тоже. Я живу здесь с Танкредом.
— Габриэль умерла! Умерла! — повторил граф.
— Да. И я жалею, что моя наружность вызывает в вас тяжелые воспоминания. Но не правда ли, вы простили маме? — спросила с беспокойством молодая девушка.
Граф покраснел.
— Да, так как вам, очевидно, известно все, то могу вам сказать, что простил до глубины души, и мне не только не тяжело, но напротив, приятно видеть вас, как воскресший ее образ.
Поспешные шаги в соседней комнате прервали их разговор. Нетерпеливая рука откинула портьеру, и в комнату ворвался сияющий Танкред.
— Арно! Наконец ты возвратился! — воскликнул он, бросая фуражку на ковер и стремительно кидаясь в объятия брата. С минуту они стояли обнявшись; затем Арно отступил и сказал с доброй улыбкой:
— Дай мне поглядеть, как развился мой маленький Танкред.
— Этот эпитет не подходит ко мне больше, — возразил, смеясь, молодой человек. — И ты, Арно, сильно изменился.
— Постарел, хочешь ты сказать. А ты таков, каким обещал быть. Ты даже слишком красив для мужчины.
— Ну вот, и ты повторяешь ту же фразу. Не могу же я, однако, сделать себе шрам на лице, чтобы подурнеть, — сказал Танкред с неудовольствием. — Женщины, впрочем, меня никогда в этом не упрекают. Но познакомился ли ты с сестрой? Поцеловал ли ее? Это дочь дона Рамона, второго мужа моей матери.
— Я знаю. Но я еще не просил у Сильвии позволения поцеловать ее, так как я для нее человек незнакомый, хотя желал бы очень, чтобы она не отказала мне в правах брата.
Сильвия сильно покраснела, но не колеблясь протянула ему свои розовые губки, и он нежно поцеловал их.
— Ты говоришь, что ты незнакомый для нее человек, — сказал Танкред, смеясь. — Еще несколько дней тому назад она повторяла одной своей подруге, что обожает тебя и по целым часам смотрит на твой портрет, и что даже твои нарисованные глаза излечивают ее от мигрени.
— А я неблагодарный и не подозревал, что тут есть любящее меня сердечко; теперь я заглажу мою вину и радуюсь, что мои живые глаза будут исполнять свою обязанность еще лучше, чем нарисованные, — отвечал Арно, садясь на диване и усаживая Сильвию возле себя.
— Скажи еще, какие комнаты ты хочешь занять, чтоб велеть приготовить их. Мюллер говорит, что ты явился, как простой турист.
— Багаж и люди мои прибудут завтра, но я горел нетерпением быть скорее здесь. Если ты можешь дать мне несколько комнат из моих прежних, я буду очень счастлив.
— О, там все осталось неприкосновенным; стула не переставили в твоем старом гнезде, которое Бригитта берегла как Аргус, рассказывая при этом Сильвии разные легенды о тебе.
Сделав нужные распоряжения, Танкред снова вернулся, сел возле брата, и началась бесконечная беседа, меж тем как Сильвия вся отдалась радостным мыслям. Энергичное спокойствие, светившееся в глазах Арно, убеждало ее, что в этом человеке она найдет нравственную опору, которой не имела в Танкреде, несмотря на его любовь к ней.
Едва Танкред остался один с сестрой, как сказал ей:
— Ни слова о Лилии; помни, что ты клялась мне молчать.
— Как, даже от Арно ты хочешь скрыть истину? — спросила она бледнея.
— От него более чем от кого-нибудь.
Вечером того же дня братья сидели в кабинете Арно. Они беседовали, куря и медленно прихлебывая из стакана старое бургонское вино.
— Послушай, Танкред, я бы хотел узнать у тебя некоторые подробности о том, что меня очень интересует, — сказал Арно после некоторого молчания. — Каким образом твоя мать вышла за Морейра? Я ожидал услышать совсем другое имя. Скажи, твой прежний гувернер Готфрид де Веренфельс не появлялся в замке после моего отъезда?
Молодой граф вдруг побледнел так, что брат глядел на него с удивлением.
— Я коснулся больного места, Танкред; но неужели ты скроешь что-нибудь от меня?
— Нет, если ты желаешь; но к чему шевелить это тяжелое прошлое?
— Я имею право знать его.
— Хорошо, я расскажу тебе то, что мне известно.
— Да, Веренфельс приехал в замок и был помолвлен с моей матерью. Какое новое несогласие опять разлучило их, я не знаю, но накануне моего отъезда в военную школу он навсегда оставил замок. Мама в этот вечер была как помешанная, и перед самым отъездом Веренфельса она прокралась в его комнату, когда его там не было, и сунула что-то в его чемодан, который стоял открытым. Она не заметила меня, и когда я с удивлением спросил ее, что ей тут надо, она остановилась, как пораженная громом, и, страшно взволнованная, заставила меня поклясться, что я никогда не скажу никому, что она была в комнате Готфрида. И угрожала наложить на себя руки, если я изменю своему слову. Конечно, я поклялся во всем, что ей было угодно. Утром следующего дня я уехал в Берлин и не слышал более ничего о Готфриде. Мама вышла замуж за дона Рамона, который всегда был для меня самым добрым отцом, и я совсем забыл о таинственном происшествии, как вдруг одна случайность озарила его новым и ужасным светом. Я был произведен в офицеры и мои первые эполеты праздновал большим обедом. Один из присутствующих предложил тост за здоровье Веренфельса, который оказал такую большую услугу, победив мою леность и мои капризы. Я рассмеялся и, наполнив бокал, сказал, что действительно бедняге много было со мной хлопот, и выразил сожаление, что он скрылся неизвестно куда. «Как, ты не знаешь, что, покидая Рекенштейн, Веренфельс украл крупную сумму денег у твоей матери; в его чемодане нашли банковые билеты, и он был приговорен к двухлетнему тюремному заключению».
Арно потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Потом он поднялся со стула, бледный, как призрак.
— О, несчастный! И Габриэль пала так низко! — воскликнул он.
— Мне тоже, как обухом, ударило по голове. Я понял, какого гнусного преступления я был соучастником. И потрясение было так сильно, что я лишился чувств, — продолжал Танкред порывистым голосом. — Все приписали этот обморок избытку радости и утомлению. Но мать поняла, и у меня с ней была страшная сцена, имевшая результатом долгое охлаждение. Но трагическая смерть дона Рамона и затем болезнь Сильвии, о которой я уже тебе говорил, примирили нас. К тому же мне было жаль ее; я понял, что угрызения совести терзали ее беспрерывно, лишая покоя и счастья. Что-то демоническое кипело в ней; с лихорадочным увлечением она кидалась в вихри всех удовольствий, предавалась игре, так как лишь эти сильные волнения давали ей минутное забытье. Таким образом мы приехали в Монако, и мама проиграла в рулетку такую сумму денег, что мы оказались несостоятельными должниками одного нахального еврея, который позволил себе оскорбить мать гнусными предложениями.
— Ах, зачем я не вернулся раньше! — прошептал Арно. — Но отчего вы не обратились к моему банкиру? У него всегда был открыт для вас кредит в сто тысяч марок.
— Мать ни за что не хотела прибегнуть к тебе, а моего капитала я не мог касаться до двадцатипятилетнего возраста. В такой крайности я хотел заложить некоторые драгоценности; но устроить это дело было трудно, из-за краткости срока. И единственный человек из дающих под заклад, который согласился дать требуемую сумму, был… Готфрид Веренфельс. Избавь меня от передачи подробностей, — продолжал Танкред глухим голосом, — но через несколько часов после этого открытия мать моя умерла: она отравилась. И Веренфельс имел то удовлетворение, что женщина, погубившая его, умерла у него на глазах.
Долгое молчание последовало за этим рассказом; слышалось лишь тяжелое, прерывистое дыхание обоих братьев. Наконец Арно снова сел и устремил свой взгляд глубокого сострадания на Танкреда, который, откинув голову и закрыв глаза, казалось, изнемогал под тяжестью воспоминаний.
— Успокойся, бедное дитя, ведь ты не виновен в этой трагической истории. Но как же ты выпутался из беды?
— Я все уплатил, хотя мне это стоило тяжелых жертв.
— Я должен поехать в Монако, — заявил Арно, — повидаться с Веренфельсом, вымолить его прощение и загладить, насколько возможно, то зло, жертвой которого он пал.
— Ты его не увидишь: он умер от разрыва сердца спустя несколько недель после мамы.
— И он тоже умер! Но, быть может, он оставил семью? Мне помнится, у него был ребенок, дочь кажется. Не женился ли он вторично?
— Нет.
— Ну, так надо отыскать его дочь, которая лишилась честного имени. Разве ты не понимаешь, Танкред, что обязанность одного из нас жениться на ней, тем более что мы — причина ее раннего сиротства, так как, конечно, Веренфельс не умер бы в сорок два года, если бы незаслуженный позор не снедал его гордую душу. Это мое убеждение, что на нас лежит обязанность загладить зло: один из нас должен снискать расположение молодой девушки и поставить ее в качестве графини Рекенштейн или графини Арнобургской в то общественное положение, которое ей принадлежит.
Танкред сидел облокотясь, пряча от брата свое лицо, отражавшее столько горечи и злобы.
— Ты увлекаешься, Арно, — сказал он, наконец, тихим голосом. — Эта девушка так отвратительно некрасива, что жертва была бы выше наших сил.
— Это тем более обязывает нас устроить ее. И может ли быть речь о наружности, когда дело идет об уплате долга чести? Впрочем, я поеду сам в Монако и приму меры, чтобы вступить в сношения с мадемуазель Веренфельс.
Молодой граф порывисто вскочил со стула. Отчаянное бешенство звучало в его голосе, когда он воскликнул:
— Брось этот старый скандал, не шевели позора! Готфрид был богат и оставил дочери большое состояние, которое обеспечивает ей независимое существование; она не пропадет. Не будем более говорить об этом; я больше не в силах.
Арно глядел с удивлением на воспаленное, изменившееся лицо брата и, приписывая его возбуждение расстройству нервов, вызванному тяжелым воспоминанием, он замолчал, переменил разговор и оставил Танкреда лишь тогда, когда увидел, что он совсем успокоился.
Прошло несколько недель после приезда Арно. Жизнь в обширном Рекенштейнском замке оживилась его присутствием, сделалась более интимной и более серьезной. Приводя в порядок многочисленные дела, накопившиеся и запутавшиеся за время его долгого отсутствия, он наблюдал за братом, отдавшимся снова рассеянной жизни. Танкред ездил по вечерам и бегал за женщинами. И у Арно очень скоро сложилось убеждение, что молодой человек несчастлив, что какая-то тайная скорбь снедает его душу и таится под его принужденной веселостью.
Но причина этого затаенного страдания оставалась неведомой для Арно, и его деликатные попытки узнать истину ни к чему не привели.
Раз он посоветовал Танкреду жениться, доказывая, что на нем, как на представителе известной фамилии и обладателе большого состояния, лежат обязательства относительно его рода и его страны; а главное, что нормальная жизнь с красивой и любимой женой даст ему больше счастья, чем все его увлечения, которыми он имел время пресытиться. В ответ на эти разумные советы молодой человек отвечал цинизмом и критиковал женщин, заинтересованных им, с такой беспощадной жестокостью, с таким едким презрением, не исключая и баронессы, что Арно прекратил разговор, окончательно убежденный, что прежде чем искать лекарства тайному недугу, надо было найти его причину.
Но зато, чем более граф узнавал Сильвию, тем более привязывался к этой прелестной девушке, которая представляла собой очищенное и идеальное воплощение его первой любви. Он баловал ее, как в былое время баловал ее мать, и не знал большей радости, как замечать возрастающее доверие, с каким она обращалась к нему, когда желала чего-нибудь. Только теперь речь шла не о счетах поставщиков, не о бриллиантах и нарядах, но о делах благотворительности, о бедных, которым надо было помочь. И когда однажды Танкред, обиженный, упрекал ее, что она не обращается больше к нему, а выпрашивает все у Арно, она ответила, смеясь:
— Потому что ты даешь всегда с ворчанием, а он с улыбкой.
Самыми приятными вечерами для Арно и Сильвии были те, которые они проводили вместе. Он рассказы вал о своих путешествиях, о приключениях на охоте и с неослабным удовольствием читал в блестящих глазах, устремленных на него, разнообразные ощущения, вызываемые его рассказами.
Конечно, граф Арно был вынужден возобновить сношения с родными и знакомыми. Везде радостно принимали и приглашали, наперебой красивого и богатого холостяка.
Баронесса Зибах тоже приняла своего кузена с распростертыми объятиями. Арно сделал ей визит и два раза обедал у нее, не встретив Лилии. В первый раз она сказала, что у нее сильная мигрень, а во второй воспользовалась довольно серьезным нездоровьем маленького Лотера. Баронесса ничего против этого не имела, так как всегда была рада сложить на другого свои материнские обязанности. После случая с пощечиной молодая девушка находилась в неловком положении, и многие мелочи, как результат этой неприятной истории, сделали встречи с графом положительно невыносимыми. Во-первых, удаление от нее Сильвии дало ей понять, что молодой графине запретили относиться к ней, как к подруге; потом странная перемена в Фолькмаре, который стал избегать ее, а между тем испытующим взглядом всматривался в нее и, казалось, старался заглянуть в глубину ее души, вызвали в ней подозрение, что каким-нибудь образом ее оклеветали; и никто, кроме Тан-креда, не мог это сделать, мстя ей так низко за то, что самым законным образом она защищала себя. Но Лилия была слишком горда, чтобы и помыслить приблизиться к Сильвии и оправдываться перед молодым доктором. Она просто избегала графини и на грустный подозрительный взгляд Фолькмара отвечала гордым и холодным равнодушием.
Танкред тоже избегал встреч с Лилией и устраивал свидания с Элеонорой у ее отца или у одной старой родственницы, которых ни тот, ни другая никогда не посещали так усердно. А между тем он сгорал внутренне; и эта долгая разлука разжигала еще более страсть, смешанную с ненавистью, какую молодая девушка внушала ему. Наконец, встреча сделалась неизбежной.
Баронесса снова пригласила обедать Сильвию и своих кузенов; а так как неожиданно пришли Фолькмар и прелат, то им тоже предложили остаться. Маленькое общество, собравшееся в зале, вело оживленный разговор, но Лилия не появлялась. Сильвия, Танкред и доктор все чаще и чаще взглядывали украдкой на дверь, через которую она всегда входила; и не вытерпев, мадемуазель де Морейра спросила наконец:
— Разве Нора опять больна, что ее не видно?
— Нет, она придет; но задержится на час до обеда, чтобы ответить не спешные письма, полученные из дома.
— А где находится дом вашей таинственной компаньонки? — спросил Танкред дерзким тоном.
— Я уже вам говорила, что ее родина — Южная Бавария, — отвечала мадам Зибах. — Но я не понимаю вашей враждебности к этой прекрасной особе.
Несколько минут спустя вышла Лилия; поклоняясь почтительно прелату и с холодной сдержанностью другим, села к столу и молча занялась вышиванием. Лишь время от времени она взглядывала на Арно и прислушивалась к его разговору с прелатом. Она так хорошо знала графа Арнобургского из рассказов отца, называвшего его самым лучшим и честнейшим человеком.
Арно, со своей стороны, был поражен аристократической красотой молодой девушки и изящным благородством ее манер. Он с удивлением заметил, как надменно Танкред ответил на ее поклон, и какая холодная враждебность существовала между ними.
«Где я видел такие глаза? — спрашивал он себя, встретив снова устремленный на него взгляд. — Гордый и бесподобный взгляд! Вполне возможно, что мой братец позволил себе какую-нибудь вольность и будучи за то проучен, относится теперь к ней с высоты своего величия».
После обеда все пошли в кабинет, где был приготовлен кофе и стояла ваза с конфетами. Сильвия села возле Лилии и тихо разговаривала с ней. Бедная девочка не могла долее выдержать и шепнула своей любимице, что она ни при чем в этом наружном охлаждении и что любит ее всем сердцем.
— Я угадываю причину вашей принужденной сдержанности и знаю настоящую цену притеснениям графа. Мои чувства к вам, мадемуазель Сильвия, никогда не изменялись, — ответила она с ласковым взглядом.
Танкред тем временем ходил взад и вперед; внутреннее раздражение мучило его, и он не переставал глядеть украдкой на Лилию, причем сердце его сжималось всякий раз, когда взгляд молодой девушки устремлялся на Арно с видимым сочувствием. Движимый злобой, кипевшей в нем, он ушел в зал и оттуда в рабочую комнату. Молодой человек чувствовал потребность быть одному и кинулся на стул возле больших пяльцев, где Элеонора — а в действительности Лилия — вышивала большой ковер.
Вдруг граф заметил в корзинке, стоявшей возле пяльцев и наполненной шерстью и шелками, довольно большую книгу и тетрадь.
«А! Посмотрим, какое чтение занимает эту святую Нитуш, — говорил он себе, поспешно наклоняясь к корзинке. — Быть может, в уединении эта неприступная особа упивается романами Золя».
К своему большому удивлению, он прочел на переплете книги: «Библия в Индии» Жаколио; а на тетради: «Спиритический и магнетический указатель». «Ого, мы занимаемся тайными науками. Постой, еретичка, я сейчас подведу тебя. Прелат отлично проучит тебя, заблудшую овцу своего стада».
Взяв книгу и тетрадь, он пошел в кабинет и, с большим самодовольством показывая то и другое, спросил, смеясь:
— Что значат эти corpus delicti, которые я нашел в вашей рабочей корзинке, кузина? С каких пор вы сделались еретичкой и читаете запрещенные книги, в которых рассказывается о сношениях с дьяволом?
— Вы говорите загадками, кузен, — возразила баронесса, меж тем как прелат читал с видимым неодобрением заглавие сочинений, которые Танкред положил на стол.
— Я нашел эти отступнические сочинения в вашей рабочей корзинке и поспешил показать их его высокопреосвященству, чтобы он спас вашу душу от погибели, — продолжал граф, глядя украдкой на Лилию.
Молодая девушка сильно покраснела. Она знала ханжество Элеоноры, и спор с ней и с фанатическим священником был ей крайне неприятен; но встретив недружелюбный, вызывающий взгляд мужа, глаза ее сверкнули гордой смелостью, и, взяв со стола порицаемые сочинения, она сказала твердым голосом:
— Это мои книги.
— Как! — воскликнул изумленный прелат, — вы, такая молодая, читаете эти бессмыслицы, придуманные шарлатанами, чтобы злоупотреблять легковерием глупцов, и вы заражаете вашу душу этими произведениями атеистической литературы, которая старается подрывать основы религии!
— Извините, ваше высокопреосвященство, я не считаю за грех изучать науку, доказывающую фактами те истины, которым нас учит церковь, дающую нам возможность наглядно убеждать в бессмертии души и показывающую нам, что, по закону милосердия нашего Отца Небесного, мы можем иметь общение с отошедшими, которых мы любили.
— Софизм, софизм! Закон Моисея, равно, как и евангелие, запрещает вызывать умерших. Лживый демон, принимая на себя маску чистых духов, является, чтобы губить и деморализовать души людей, — возразил раздраженный прелат.
— Если эти, так называемые демоны научают меня лишь добру, внушают мне своим примером, что я несу ответственность за каждый мой поступок и должна применить к делу их дивный девиз: «Помимо милосердия нет спасения», то я не могу допустить, чтобы они желали зла моей душе.
— Во всяком случае, мадемуазель Нора, эти загробные сношения не что иное, как вредные галлюцинации, если только не плутовство. Наука строго осудила фанатическую секту спиритов, явившуюся результатом безумия, — возразил с жаром Фолькмар.
Насмешливая улыбка скользнула по губам Лилии.
— Эта бледная официальная наука, к несчастью, всегда последней признает самые великие открытия. После того, как она осмеяла Галилея и Гальвани, отвергла силу пара и возможность передачи посредством электричества, наука должна бы быть осторожней, а не продолжать упорно срамить себя, произнося свой приговор в вопросах, которых она не изучила, и не признавая существования сил, для нее неизвестных.
Доктор покраснел; но в эту минуту прелат, перелистывавший книгу Жаколио, с восклицанием, исполненным негодования, перевел спор на почву истории.
Тут вмешался Арно. Он тоже защищал древнюю науку, существование дивных, неведомых сил, неоспоримые доказательства которых факиры дают ежедневно публично на площадях городов Индии, между тем как самые поразительные проявления этих сил происходят в таинственном мраке пагод и храмов. Но наконец он тоже замолчал, предоставляя поле сражения Лилии, так как прелат обращался главным образом к ней.
Опершись скрещенными руками на стол и сдвинув брови, Танкред следил за перипетиями этой интеллектуальной борьбы, которую он сам вызвал, и глаза его были прикованы к оживленному лицу молодой девушки, смело и ловко защищавшей свое мнение. Мало-помалу перевес стал клониться на ее сторону, она поражала прелата его собственным оружием, разбивая его доказательствами, черпаемыми из всех наук, восстанавливая с беспощадной логичностью при помощи археологии и истории развитие религиозных, социальных и нравственных идей. Граф слушал ее очарованный. Она являлась ему совершенно в ином свете; эти бархатистые глаза, которые он видел лишь холодными и насмешливыми, теперь светились возвышенным умом. Эта скромная компаньонка была и ученой, и артисткой; неожиданно она выказала глубокие, разносторонние знания, ум твердый и гибкий, способность к быстрым возражениям, причем она не теряла меру сдержанности и уважения к антагонисту.
— С вами можно считаться, вы стойкий и деликатный противник, что делает спор приятным, — сказал, наконец, прелат, вставая.
— Мы возобновим этот разговор, и, несмотря ни на что, я надеюсь, милое дитя мое, обратить вашу мятежную душу к той простой вере, незараженной софизмами, которая одна дает христианину мир и опору в жизни.
Когда священник ушел, баронесса, слушавшая все время безмолвно, воскликнула:
— Нора, я восхищалась, как вы возражали прелату. Но, Боже мой, откуда вы все это знаете? Вы говорили, как книга.
— Мой отец интересовался этими вопросами, и ему я обязана тем немногим, что знаю, — отвечала она уклончиво.
Но Арно сел возле нее и продолжал разговор, которым вскоре оба они были поглощены. Граф рассказывал ей о своих экскурсиях на берега Нила и Евфрата, о раскопках, какие он предпринимал, об опытах, какие делал со старым брамином, открывшим ему о первобытной истории мира удивительные вещи, которые смутили бы ученых, если б они могли взглянуть на древние документы, эти остатки угасшей цивилизации в ту эпоху, когда только возникали великие египетские города.
Лилия слушала с трепетным вниманием, беспрерывно задавая вопросы; а граф, находя в ней ум, подготовленный для понимания, переходил, увлекаясь, все к новым и новым предметам. Ни тот, ни другая не замечали, что Сильвия, опершись на кресло, сидела бледная и безмолвная, и что Танкред едва отвечал на болтовню Элеоноры, в первый раз казавшейся ему невыразимо скучной. Ее кокетливая улыбка раздражала его своей приторностью, и нежное восхищение, отражавшееся в ее взгляде, действовало ему на нервы.
Танкред не спал ночь. Впечатление, произведенное на него Лилией, усилило еще более его страсть к ней. Он не мог забыть ее прелестного лица, оживленного, подвижного, и ее глаз, блистающих умом. Очарование этого глубокого, просвещенного ума покорило его так же, как и ее красота. А между тем мучительная ревность примешивалась к этому чувству; он ревновал ее к своему брату, которого она дарила такими добрыми улыбками, такой открытой симпатией, к брату… который был свободен.
Цепь, связывающая его с отдаленной супругой, показалась ему тяжела как никогда. Неодолимое желание свободы охватило его; и вдруг в нем созрела решимость положить конец этой пытке, превышающей его силы, объясниться с Лилией и получить от нее согласие на развод, хотя бы ценою самых больших жертв.
Несколько успокоенный, молодой человек уснул и утром написал Неберту, единственному человеку, который знал его тайну, вызывая его в Берлин. Бывший поверенный дона Рамона жил теперь в Рекенштейне, где управлял большой шелковой фабрикой, устроенной Танкредом вскоре после смерти матери. Неберт женился на одной из дочерей судьи и пользовался блестящим положением в его округе. Преданность Неберта семье, которой он служил, была все та же.
Несколько дней спустя приехал Неберт. В продолжительном тайном разговоре граф высказал ему все муки, которые ему причиняло его ложное и невыносимое положение; он поручил ему поехать в Монако, узнать, возвратилась ли Лилия и если да, то начать с ней переговоры насчет развода.
— Даю вам на это самое широкое полномочие. Идите на все допускаемые условия графини, лишь бы она согласилась дать мне свободу; а если ее нет в Монако, то отыщите ее. Я имею, наконец, право узнать, что делает и где находится женщина, носящая мое имя.
Неберт глядел с сожалением на расстроенное красивое лицо своего собеседника, который нервно дрожащей рукой подергивал свои усы.
— Я понимаю ваше чувство, граф, и сделаю все, что будет зависеть от меня, чтобы устроить это дело по вашему желанию. Уверять вас в моей скромности считаю излишним.
Жизнь Лилии тем временем тоже не представляла ничего приятного. Баронесса все чаще и чаще бывала капризна и не в духе. Она была недовольна Танкредом; ее тревожила неровность его настроения, его холодность подчас и скучающий вид, увлечения, которым он стал сильней предаваться, и главное — его упорное молчание о том, что более всего ее интересовало, о их браке, который она считала делом решенным. Раз на ее довольно прямой намек по этому поводу граф улыбнулся, поцеловал ее руку и промолвил:
— Одно препятствие замыкает мне уста, но скоро оно будет удалено, и тогда, кузина… вы увидите, что будет.
Элеонора успокоилась после этих таинственных слов и ждала; но были минута, когда в ней снова пробуждались сомнения. Мужчины так изменчивы, и Танкред более чем кто другой. В часы такого мрачного настроения баронесса, поверяя свои тайны Лилии, рассказывала ей о всех безрассудствах, о всех скандальных связях графа, которые ей были известны, прибавляя однако, что когда они поженятся, то он остепенится, и что она со своей стороны будет наблюдать за его верностью.
Можно себе представить, что чувствовала молодая девушка во время этих назидательных бесед. Но их главной опасности она и не сознавала; не замечала, что мысль ее была занята Танкредом, что ее ревность была постоянно возбуждена и что связь ее с этим человеком становилась все прочней. Никогда Лилия не чувствовала себя такой несчастной, такой одинокой. И в таком настроении духа примирение с Фолькмаром было для нее весьма отрадно.
Однажды утром, через несколько дней после спора с прелатом, доктор, пользуясь минутой, когда они были одни, сел возле нее и поцеловал ей руку.
— Что с вами, доктор? — спросил Лилия с удивлением.
— Я прошу у вас прощения за дурную мысль, которую я имел на ваш счет, — ответил он с таким теплым взглядом, исполненным такой честной любви, что злопамятство молодой девушки мгновенно исчезло. И с этой минуты они стали более близки, сделались друзьями более чем когда-нибудь. Около Фолькмара она искала забвения, стараясь отрешиться мыслью о Танкре-де и о всем, что тяготило ее.
Через десять дней после своего отъезда Неберт возвратился. Граф только что проснулся, как его камердинер доложил ему о прибытии управляющего. Накинув наскоро халат, Танкред прошел в кабинет; но при первом взгляде, брошенном на своего поверенного, он побледнел.
— Вы привезли мне дурные известия, Неберт, я это вижу.
— Да, граф, я должен сообщить вам нечто непредвиденное и обескураживающее, но если позволите, я буду говорить по порядку.
— Говорите! — сказал Танкред, утирая пот, выступивший на его лбу.
— Приехав в Монако, — начал Нерберт, — я тотчас отправился в дом покойного месье Берга.
— Берга!.. Разве его звали Бергом? Я совсем забыл это, — перебил его граф, вздрагивая. — Может ли это быть! Но об этом после.
— Итак, — продолжал Неберт, — я пошел в этот дом, но он принял совсем другой вид. Все ре-де шоссе занято мастерской цветочницы и портнихой. О домохозяевах они ничего не знают и направили меня к управляющему. Он живет во дворе, во флигеле; и оказалось, что это тот же самый старик, который впускал нас, когда мы приезжали по известному нам делу. Он сообщил мне, что графиня в отсутствии, но что ее местопребывание ему неизвестно; и я не мог решительно ничего выпытать от него. Я хотел обратиться к банкиру Сальди, как свидетелю брака, но он умер за два месяца до того, и его семья, обедневшая вследствие несчастного переворота, покинула Монако. Я был в большом затруднении. Начать официальные поиски, обратиться к властям я не посмел без вашего форменного разрешения и уже собрался возвратиться за вашими приказаниями, как вдруг мне пришла на ум одна мысль. В то время, когда я еще вел дела в Монако, я бывал в сношениях с одним старым евреем-фактором Стребельманом; это настоящая городская хроника! Он и рекомендовал мне тогда месье Берга, или вернее месье Веренфельса. Хотя старик и не занимается больше делами, но он дал мне неожиданные сведения. От него я узнал, что банк, в котором лежали деньги вашего свекра, лопнул, и графиня осталась без копейки. О браке вашем он не знает. Затем он сказал, что мадемуазель Берг возвращалась на некоторое время и, похоронив свою родственницу, умершую с горя, отдала дом в наем, поселила в нем своих старых слуг и уехала, — он не знает наверно куда, но имеет основание думать, что она живет в Англии в качестве учительницы музыки. Он мне тоже рассказал, что отец молодой барыни был разорившийся дворянин, которого старик Берг усыновил перед тем, как передать ему дела. Узнав все это, я опять отправился к старику Роберту и строго заявил ему, что вы имеете право знать, где находится ваша жена. Была минута, когда он, казалось, колебался и наконец сказал, что ничего не может сообщить, так как ему неизвестно местопребывание графини, но что он берется доставить письмо, если оно будет прислано к нему.
Танкред слушал, не прерывая длинного рассказа своего поверенного. Голова его шла кругом, и он с трудом переводил дыхание. Жена его разорилась и, одинокая, работала, чтобы снискать средства к жизни, и между тем не обратилась к нему; а он, из небрежности, даже не возвратил ей денег, ссуженных Готфридом для уплаты Финкельштейну.
— Оставьте меня теперь, Неберт. Я вам очень благодарен, но мне надо побыть одному; вечером придите опять, и я вам сообщу о моем решении.
Оставшись один, Танкред кинулся на диван, стараясь привести в порядок мысли, бушевавшие в его голове.
Голос совести упрекал его в том, что он покинул сироту, которая, однако, была его законной женой. Что же делать теперь? Его обязанность была обеспечить будущность жены, не отказываясь, однако, от развода. И результатом всех этих размышлений было то, что Танкред решился написать графине и выяснить положение дела.
Не теряя времени, он сел к бюро и, оттолкнув раздушенные бумажки, которые дюжинами разлетались в форме любовных записок, он взял большой лист со своим вензелем, чтобы написать на нем это первое письмо к своей жене. Но самое начало затруднило его; как назвать ее, чтобы это не было ни слишком нежно, ни слишком холодно. И решился, наконец, так как писал по-французски, начать обычным обращением: «madame».
«Необходимо, — писал он, — положить конец странным отношениям, в которых мы находимся по воле Вашего отца, связавшего нас друг с другом, не приняв во внимание наших вкусов. Что Вы не желаете меня, достаточно доказывается упорством, с каким Вы скрываетесь. Я не отыскивал вас потому, что если бы Вы желали встречи со мной, то Вам легко было бы найти графа Рекенштейна. А между тем я узнал с крайним сожалением, что Вы лишились состояния и служите по найму, что более чем странно для женщины, носящей мое имя. Ввиду недостатка симпатии между нами предлагаю Вам развод, обязываясь при этом обеспечить надлежащим образом Вашу будущность. Но еще, прежде чем приступить к делу, прилагаю к этому письму ту сумму денег, которую я Вам еще должен и не мог возвратить по причине Вашего исчезновения. Попрошу Вас также дать мне Ваш точный адрес. Примите и проч.
Танкред Рекенштейн»
Вечером он отдал письмо и деньги Неберту, прося отправить их старику Роберту с наказом прислать ответ прямо к нему в отель.
С лихорадочным нетерпением он ожидал ответа и надеялся, что он будет благоприятен, так как зачем бы женщине, убегающей от него, не согласиться развязать друг друга? И убаюкивая себя этой надеждой, он уносился сладкой мечтой приобрести любовь Норы, несмотря на ее холодную сдержанность и постоянную враждебность к нему.
Пакет со штемпелем Монако вдруг положил конец его мечтам. В нем возвращались ему деньги и его письмо, оставленное нераспечатанным. В первую минуту безумное бешенство охватило Танкреда. Эта женщина, убегающая от него, находит удовольствие держать его, как муху в паутине. Но эта злоба перешла в глубокое отчаяние при мысли о будущем. Влачить свое существование при таких условиях казалось выше его сил; действовать законным порядком он не хотел; это внушало ему отвращение, и мысль о скандале заставляла его трепетать. Не имея возможности сделать тут что-нибудь, граф весь день оставался у себя в комнатах. Вечером он был приглашен с братом и Сильвией на чай к баронессе. Сначала он хотел отказаться, но страсть к Лилии и ревность к брату заставили его поехать, несмотря на его бледность и расстроенный вид, обративший внимание его близких и Элеоноры; но эту перемену в лице он приписал мигрени. Один лишь человек угадывал действительную причину его недуга: то была Лилия. При виде страдальческого выражения в складках его губ, она пожалела, что не прочла его письма, и жалость, самое предательское из всех чувств, закралась в ее сердце. Как знать, о чем он просил ее?
Но что сделано, того не вернуть. И чтобы рассеять осаждавшие ее мысли, она вступила в ученый разговор с Арно и ей удалось, наконец, заинтересоваться этой беседой. Зная ее любовь к древностям, граф Арнобургский принес коллекцию картин и рисунков, изображающих замечательные предметы и разные наброски, сделанные на месте им самим; наконец, он подарил ей, как воспоминание их мысленного путешествия к берегам Нила, прекрасного скарабея, привешенного на цепочке и снятого им самим с одной мумии, найденной в подземелье, которое вскрывали при нем.
Арно, не подозревая, что дружеское сочувствие, какое он выказывал красивой и умной девушке, возбуждало ревность в Сильвии, равно как и в Танкреде, предавался без всякой задней мысли удовольствию беседы. К тому же на него всегда производила неприятное впечатление холодная надменность, какую его брат выказывал Лилии. И ничего не понимая в их обоюдной враждебности, он старался загладить своей приветливостью то, что считал неуместным по отношению к особе, вполне достойной уважения, несмотря на скромность ее положения.
Задыхаясь от ревности и затаенной злобы, Танкред следил за выражением их обоюдной приязни; улыбки и блестящие взгляды, обращенные на его брата, возмущали его. Бог знает, чем это может кончиться. Арно со своими либеральными идеями, конечно, не остановится перед щепетильностью дворянства и женится на буржуазке, как сам он желал это сделать. Но он был связан и теперь был вынужден слушать скучную болтовню своей кузины.
Этот вечер казался ему бесконечным, и он вернулся к себе в неописуемом состоянии Духа. Пылкий и страстный, как его мать, он готов был разбить себе голову о препятствия, возникающие на его пути. С час времени он ходил по комнате и мысленно искал выход из своего положения; потом вдруг сел к бюро и дрожащей от раздражения рукой быстро, не колеблясь, написал следующие строки.
«Вы возвратили мне мое письмо, не прочитав его; это ответ слишком жестокий и достаточно ясный. Вы меня не жалеете, так как старательно прячетесь от меня. Предоставляя себе свободу, Вы не хотите отпустить каторжника, прикрепленного к Вам. Несмотря на это, я пишу вторично и взываю к Вашему великодушию. Если в Вас есть чувство гуманности, покончим эту пытку, терзающую мою жизнь, терпение мое истощилось. Эта вечная ложь, которую я влачу за собой, убивает меня. Можете ли Вы быть так мстительны, чтобы держать человека пленником и отравлять каждый час его жизни? Если Вы будете упорствовать в Вашем молчании и будете продолжать скрываться, Вы принудите меня к самоубийству. Подобный исход может ли удовлетворить Вас? Еще раз умоляю Вас возвратить мне свободу и разойдемся полюбовно. Хотя наш брак был заключен при исключительных условиях, я имею неоспоримое право устроить Вам привольную, спокойную и счастливую будущность.
Т. Р.»
На конверте он написал: «весьма нужное», и два раза подчеркнул эти слова; затем вложил его в другой конверт на имя Роберта, как сказал ему Неберт.
Когда Лилия получила это второе письмо, то помня, как она жалела, что отослала первое, не вскрыв его, распечатала конверт. Но когда она прочла отчаянное послание Танкреда, в душе ее поднялась сильная буря.
Оскорбленная в своих чувствах и в своей гордости и уступая первому порыву, она схватила перо и тотчас написала ответ. Но когда, отослав письмо, она пришла к себе в комнату, слезы хлынули из ее глаз, и, заглушая свои рыдания, она спрятала голову в подушки дивана. Мучительная скорбь, терзающая ее душу, заставила ее понять, что она любит Танкреда; и мысль, что даже та номинальная связь, какая их соединила, будет порвана, причинила ей это страдание. Но эта любовь, едва осознанная, была отравлена чувством озлобления, похожим на ненависть. Этот недостойный человек, покинувший ее и отталкивающий ее окончательно, похитил ее сердце, обрекая ее на все муки отвергнутой и несчастной любви. В смятении своих чувств она забыла, что граф в действительности ничего не сделал, чтобы овладеть ее сердцем, и был всегда враждебен и холоден.
Однажды утром Танкред, мучимый нетерпением, перебирал полученные письма и журналы, как вдруг увидел пакет, надписанный крупным неверным почерком старика Роберта. С лихорадочным волнением он сорвал первый конверт и, увидев на втором свой адрес, подписанный незнакомой рукой, вздохнул свободно. Но радость его сменялась бешенством и удивлением по мере того, как он читал следующие строки.
«Избавь меня Бог, граф, посягать моей жестокостью на вашу драгоценную жизнь. Вы умоляете меня возвратить Вам свободу; но ужели связь, соединяющая нас и скрываемая Вами от всех, действительно стесняет Вас в Ваших вкусах и удовольствиях? Я не думала, что обязанности, взятые Вами на себя по отношению к той, которой Вы клялись перед алтарем в верности и покровительстве, могли бы так сильно тяготить Вас, даже когда Вы их и не исполняете. Но я спешу, граф, положить конец Вашим томлениям и соглашаюсь на развод. Приступайте к делу; с моей стороны не будет никаких препятствий, и я подчинюсь всем формальностям. Что касается Вашего великодушного намерения обеспечить мою будущность, — освобождаю Вас от этого. Если я не умерла с голода до той минуты, как Вами овладело неодолимое желание свободы, я и впредь буду жить своим трудом, так как привыкла не рассчитывать ни на кого, как только на самое себя, и не имела в виду благоприятный, неожиданный случай, заставивший Вас выступить, чтобы еще раз торговать собой: разорившись, Вы продали себя моему отцу; сделавшись богатым, Вы хотите откупиться. Извольте! Только не думайте, что за подлость, совершенную Вашей матерью против моего несчастного отца, Вы, соучастник этого преступления, расплатитесь комедией в церкви и дарованием мне Вашего имени, достойного Вашей особы и которое никогда не было равным незапятнанному имени моего отца; ему стоила жизни деликатность, заставившая уважать честь тех, кто отнял у него его честь. Уже тогда я бы охотно отказалась от Вашей особы, если бы могла противиться воле моего отца. Но теперь, когда я свободна, делаю это от всего сердца, потому что насколько Вы красивы наружностью, месье Рекен-штейн, настолько Вы некрасивы душой, гораздо некрасивее той совы, которую Вы так боялись показать как свою жену. И теперь, в этом первом и последнем письме, которое я Вам пишу, я объясню причины моего исчезновения. Когда на другой день после свадьбы Вы пришли в кабинет отца и диктовали Вашему поверенному письмо, обрекавшее меня быть удаленной в Биркенвальде, я была случайно скрыта в амбразуре окна; моя робость помешала мне выйти, что вынудило меня услышать ваши злые и неделикатные слова на мой счет. Идиотка, женщина некрасивая до отвращения, никогда не хотела быть Вам в тягость, быть терпимой в Вашем доме.
Лилия де Веренфельс».
С глухим восклицанием Танкред опрокинулся в кресле, письмо выскользнуло из его рук и упало на ковер. Все фибры дрожали в нем; он задыхался. Под гнетом жестких оскорбительных слов, которые он прочел, гордость его сильно страдала, а между тем совесть его кричала ему, что упреки были заслужены; что он поступил подло относительно этой женщины; не только не искупил преступления матери, но еще увеличил его. Конечно, требуя этого справедливого удовлетворения и поручая ему свою дочь, Готфрид не предполагал, что он покинет ее, отречется от нее, как он это сделал.
Уже ранее расстроенный беспокойством, молодой человек вдруг почувствовал себя очень дурно. Вся кровь, казалось, прилила ему к мозгу, красная пелена заволокла глаза, в ушах зашумело, затем все потемнело вокруг него, и он лишился чувств.
Несколько минут спустя Фолькмар вошел в кабинет. Он пришел по просьбе Сильвии поглядеть на больную камеристку и воспользовался случаем зайти на минуту к своему другу, странное, нервное состояние которого внушало ему беспокойство. Он вошел по обыкновению без доклада. Увидев, что граф лежит откинувшись в кресле с закрытыми глазами, доктор подумал, что он спит, и окликнул его, смеясь:
— Танкред, ты начинаешь спать среди бела дня. Ах ты лентяй!
Он бросил шляпу на стул и подошел к бюро. Тут только он с ужасом заметил, что граф был в обмороке, и раскрытое письмо, упавшее на ковер, привлекло его внимание. «Боже мой, какое известие могло так поразить его?» — думал Фолькмар, поднимая листок. Он посмотрел на подпись, и затем взгляд его упал на слова: «Я согласна на развод». Молодой человек вздрогнул и, не помышляя даже о своей нескромности, с жадностью прочел письмо, которое открыло ему печальную семейную драму. «Бедный Танкред, так вот тайна, отравлявшая твою жизнь», — прошептал Евгений. Он запер на ключ дверь спальни и залы, затем спрятал в стол письмо Лилии и, вынув из кармана флакон с солями, старался привести графа в чувство. После долгих хлопот доктора бледное лицо Танкреда слегка оживилось, и он открыл глаза.
— Пойди ляг, тебе крайне нужен отдых, — сказал Фолькмар.
С помутившимся взглядом и лихорадочной дрожью Танкред, поддерживаемый доктором, дотащился до дивана и без сопротивления дал себя уложить и прикрыть покрывалом; но вдруг он открыл глаза и прошептал тревожно:
— Где письмо? Чтобы слуги не нашли его.
— Успокойся, я спрятал его в стол, — отвечал Фолькмар с дружеским участием, сжимая руку графа. Танкред сильно покраснел.
— Евгений, ты прочел и знаешь все?
— Все — нет, но достаточно, чтобы жалеть тебя и понимать многие странности твоей жизни. Но не тревожься, тайну твою узнал твой лучший друг, который желает помочь тебе нести ее тяжесть.
Со свойственной ему пылкостью Танкред кинулся в объятия своего друга. Сердце его было переполнено, и, прерывая свой рассказ потоком слез и судорожными рыданиями, он открыл Фолькмару всю истину о своем прошлом.
Доктор слушал его глубоко взволнованный, но не останавливал его, так как считал благотворной эту сильную реакцию; лишь с нежностью старшего брата гладил рукой шелковистые локоны Танкреда; снова уложил его на диван и дал ему успокоительных капель.
Увидев, что он несколько успокоился, Фолькмар сказал:
— Я не могу одобрить твоего поведения, Танкред, но раз зло сделано, хорошо, что твоя жена дает свое согласие на развод.
— Да, но в каких выражениях! Как собаке она бросает мне мою свободу, так резко высказывая свое презрение. Теперь я не хочу ее великодушия! — воскликнул граф вне себя.
— Это было бы новым безумием с твоей стороны. Ваши отношения так отравлены, что всякий компромисс невозможен. Так не делай же глупостей, прими предлагаемую свободу. Для тебя, равно как и для твоей жены, самое лучшее забыть этот печальный эпизод; быть может, во время процесса ты найдешь возможность уговорить ее принять обеспечение, и если тебе это удастся, все будет хорошо.
Танкред провел день в страшном состоянии духа. Что-то необъяснимое боролось в нем. Презрение Лилии жгло его как раскаленное железо, внушая ему решение, против которого отчаянно возмущалась его страсть к так называемой Норе Берг. Он не сомкнул глаз за всю ночь и, как приговоренный к смерти, ходил по комнатам, обуреваемый страхом, что не устоит в борьбе, терзающей его. В полном изнеможении он опустился на стул возле бюро и перечитал письмо Лилии.
— Надо решиться на что-нибудь, — проговорил он. — Один мыслитель, знавший хорошо человеческое сердце, сказал: «Победа дает спокойствие».
Граф с минуту сидел облокотясь, затем с пылающим взглядом взял лист бумаги и перо. Гордость одержала победу.
«Всякое великодушие, — писал он, — теряет свою цену, если сопровождается насмешкой и осуждением. Ваше согласие возвратить мне свободу проникнуто таким бесчеловечным презрением, что я отказываюсь его принять. Ваши упреки, впрочем, заслужены. Я дурно поступил с Вами, а мои легкомысленные слова были жестоки и непростительны. Тем не менее и я не считаю себя недостойным имени, которое ношу, и как все Рекенштейны исполню мои обязательства, сожалея, что давно не сделал это. Но в одном ошибаетесь: я не продал себя Вашему отцу, и Вы не можете дарить мне свободу, потому что я не хочу разводиться и приеду в Монако за графиней Рекенштейн, чтобы привезти ее к себе домой. Надеюсь, что Вы поступите согласно моему желанию; как бы ни было сильно ваше презрение ко мне, Вы обязаны подчиниться воле Вашего мужа. Жду ответа с указанием места и времени нашей встречи.
Т. Р.»
В течение трех дней молодой человек не выходил из своих комнат, внушая Арно и Сильвии серьезное беспокойство насчет своего здоровья. И сам Танкред чувствовал себя настолько разбитым нравственно, что принял совет брата и попросил шестимесячный отпуск, в чем полковой командир не отказал ему.
Когда Танкред пришел в первый раз после этого к баронессе, она нашла его до того изменившимся, что вскрикнула от испуга, а сердце Лилии сильно забилось. Да, он не был неуязвим, и, должно быть, она ему нанесла сильный удар, чтобы так преобразить его. Несколько дней спустя, когда, запершись в своей комнате, она читала ответ мужа, новая буря забушевала в ее груди. Судьба давала ей возможность избежать разлуки, которая, не взирая ни на что, терзала ее сердце, но Лилия не хотела слушать предательский голос и, несмотря на горькие слезу, орошавшие ее лицо, прошептала: «Я не хочу твоей жертвы. Если даже на дне грязи, накопившейся в твоей душе, и сохранились какие-нибудь ростки добра, мне не дано увидеть их вырастающими. Будь свободен и женись на пустой кокетке, за которой ты ухаживаешь с таким постоянством. Она будет тебе лучшей парой».
На следующий день Лилия написала в Монако бывшему адвокату своего отца, прося его послать от ее имени в католическую консисторию Берлина прошение о разводе ее с графом Танкредом Рекенштейном. Это дело должно поднять много шуму и послужить достаточным наказанием ее изменнику-супругу.
Не трудно понять, в какой мучительной тревоге Танкред ждал ответа, который должен был окончательно решить его судьбу. Если дочь Веренфельса унаследовала характер отца, то с ней нельзя будет сговориться, но, вероятно, она не откажет ему в личном свидании, чтобы определить условия развода. Каждое утро молодой человек имел намерение сказать Арно о своем предприятии, но не мог решиться на это и, наконец, отложил объяснение до своего отъезда в Монако. Но он тем усерднее стал посещать Элеонору, которая нежила его, относилась к нему все более и более фамильярно и с часу на час ждала, что он сделает ей предложение, воображая, что его отпуск будет употреблен для послесвадебного путешествия.
Прелат спросил однажды Элеонору, когда она объявит о своей помолвке с графом Рекенштейном.
— Как только будут устранены некоторые препятствия, которые не позволяют ему открыто заявить об этом, — отвечала она, краснея.
Прелат был очень удивлен этими словами. Можно себе представить изумление прелата, когда в консисторию поступило прошение о разводе графини Лилии Рекенштейн, урожденной баронессы де Веренфельс, с графом Танкредом; при сем заявлялось, что через десять дней, то есть к двадцатому августа, графиня явится сама для ведения процесса.
Эта бумага, перейдя из консистории в руки прелата, поразила его, как громом; но он увидел в ней объяснение слов баронессы. «Так вот препятствие! Увлечение молодости, брачный союз в Монако, — говорил он себе. — Но как граф хорошо скрывал свою тайну! Должно быть, они скоро разошлись с женой. Однако она баронесса. Ну, теперь ничто не будет препятствовать счастью молодых людей. Надо скорей сообщить им эту добрую весть».
Покончив свои дела, прелат отправился в Рекенштейнский замок и, не найдя там графа, поехал к баронессе, уверенный, что увидит там и Танкреда. Он не ошибся. Бледный и озабоченный, каким был постоянно в последнее время, молодой человек перелистывал какое-то иллюстрированное издание, меж тем как его кузина вышивала, не переставая болтать.
Обменявшись поклонами, священник сел и сказал весело:
— Расправьте ваши морщины, граф, я принес известие, которое положит конец вашим тревогам и обрадует не менее того баронессу. Вот прочтите.
Он подал графу прошение о разводе.
Смущенный и ничего не понимая, молодой человек взял бумагу, машинально развернул ее, меж так как баронесса спрашивала с любопытством:
— Что это за бумага, ваше преосвященство?
— Это документ, уничтожающий препятствие, которое до сих пор мешало вашему счастью, — отвечал он с лукавой улыбкой. — Мадам Рекенштейн сама просит развода с графом Танкредом.
Элеонора встала бледная, как полотно.
— Танкред женат? И его жена хочет с ним развестись? — прошептала она дрожащими губами.
Один взгляд, брошенный на графа, который, побледнел и смотрел на врученную ему бумагу широко раскрытыми глазами, совершенно убедил ее в истине этих слов. Она сжала руками свою голову и, глухо вскрикнув: «Ах, он меня обманул», — упала без чувств на диван.
Пораженный и совершенно сбитый с толку, прелат глядел то на графа, то на Элеонору. Он не мог представить, что принесенное им известие, вместо того чтобы обрадовать их, произведет впечатление упавшей динамитной бомбы. Она не знала, что он женат, а он, казалось, не ожидал развода. Но когда баронесса упала, прелат вскочил с кресла и вскрикнул:
— Что все это значит? Женаты вы или нет, граф, или эта бумага не что иное, как мистификация?
Но так как Танкред не трогался с места и не собирался помочь кузине, прелат нажал пуговку электрического звонка и крикнул: «Воды! Воды!».
В это время Лилия шла в мастерскую, намереваясь рисовать, но, услышав этот крик и шум в кабинете, бросила кисти и побежала поглядеть, что случилось. Увидев прелата, который старался привести в чувство Элеонору, и заметив, что граф стоит бледный, как смерть, с бумагой в руке, она остановилась удивленная. Затем вынула из кармана флакон с солями, отослала лакея, взяв у него принесенный стакан с водой, и занялась баронессой; она омыла ей лицо свежей водой, и минуту спустя молодая женщина открыла глаза. Почти тотчас она порывисто поднялась и, увидев графа, крикнула резким голосом, прерывающимся от бешенства:
— Как! Ты еще тут, негодный человек! Прочь с моих глаз, обманщик, лишивший меня покоя! Скрывая от всех, что ты женат, и злоупотребляя моим доверием, ты завлекал и компрометировал меня.
Голос ее сорвался. Лилия, не ожидавшая ничего подобного, сильно вздрогнула и тотчас отступила, так как Танкред кинулся к кузине с пылающим взглядом и, судорожно схватив ее за плечи, проговорил, стиснув зубы:
— Замолчи и по крайней мере в присутствии твоих слуг не начинай объяснений.
При словах «твоих слуг», которые могли адресоваться только к ней, одной бывшей тут, яркий румянец залил щеки молодой девушки, и, смерив графа презрительным и насмешливым взглядом, она сказала тихим голосом:
— В моей скромности можете быть уверены, граф.
Танкред ничего не ответил, повернулся спиной и кинулся прочь из будуара. Прелат поспешил за ним, крича ему вслед:
— Отдайте мне бумагу. Ради Бога, отдайте бумагу!
Запыхавшись, прелат догнал молодого человека в передней и схватил его за руку.
— Послушайте, граф, ведь надо же возвратить мне прошение о разводе… Ну вот, хорошо. А теперь еще одно. Ваша жена приедет сюда на будущей неделе; официально я должен пробовать примирить вас и обязан вызвать вас для свидания с ней, прежде…
— Хорошо, хорошо, ваше высокопреосвященство, я буду к вашим услугам, когда и как вам будет угодно меня вызвать, только в эту минуту не заставляйте меня говорить об этом деле, я не имею на то сил, — отвечал Танкред, вырываясь и спускаясь с лестницы, как ураган.
Когда прелат вернулся в будуар, чтобы переговорить с баронессой, то нашел ее в таком нервном припадке, что Нора и камеристка едва могли ее сдерживать. Взяв молча свою шляпу и покачивая головой, он ушел.
В ту минуту, как он выходил на улицу, у подъезда остановилась коляска; в ней сидели Арно и Сильвия, приехавшие за баронессой и Лилией, чтобы ехать вместе на цветочную выставку.
— Ах, я очень рад, что встречаю вас, — сказал прелат, кланяясь молодым людям, и, отводя их в сторону, присовокупил вполголоса: — У баронессы истерический припадок; не желая этого, я произвел настоящую революцию, объявив, что жена графа Танкреда просит развода с ним. Я думал, что ей известно, что он женат, и…
Он остановился, потому что Сильвия глухо вскрикнула, меж тем как Арно отступил бледный, повторяя:
— Танкред женат? И его жена хочет развестись с ним? Но это невозможно!
Прелат протянул обе руки и воскликнул с комическим отчаянием:
— Опять неожиданность. Не могу прийти в себя от удивления. Оказывается, что я извещаю всю семью о событии, которое граф так хорошо скрывал от всех и кончил тем, что сам забыл о нем, так он был ошеломлен, узнав, что его жена хочет развестись с ним. На будущей неделе она приедет сюда, чтобы ускорить процесс.
Не ожидая ответа, он сел в свой экипаж, ворча сквозь зубы: «Нет, ничего подобного никогда не бывало. Ах, негодяй, как должно быть он мучил эту бедную женщину, чтобы довести ее до крайности. Мне очень интересно увидеть ее».
Бледные и оцепенелые, Арно и Сильвия с минуту молчали.
— Войдем. Я бы хотела видеть бедную Элеонору; удар слишком тяжел для нее, — проговорила молодая девушка, первая придя в себя.
— Знала ты, что он женат и на ком? — спросил Арно.
— Да, я одна знала это и видела, как он страдал. Но все же грешно, что он бросил эту женщину; она дочь несчастного Вереяфельса, которого моя мать погубила.
Волнение помешало ей продолжать.
— Как трагическая компликация! Но что было причиной их несогласия? — спросил граф.
— Ее некрасивая наружность. Потом она скрылась; и я не знаю, откуда она опять явилась, чтобы просить развод, что, впрочем, вполне естественно.
Уже в зале были слышны истерические рыдания, крики и смех Элеоноры, доходившие из спальни, и молодые люди не рискнули идти дальше.
Через некоторое время шум стих, и вскоре вышла Лилия с лихорадочным румянцем на щеках и, видимо, утомленная.
— Удивительно, что тут происходит, — сказала она, пожимая плечами. — Известие, что месье Рекенштейн женат, привело баронессу в самое печальное состояние… В настоящую минуту у нее полный упадок сил; но я уверена, что это не будет продолжаться долго.
Она еще говорила, как прибежала камеристка сказать Лилии, что баронесса зовет ее.
— Разрешите мне пойти вместо вас, может быть, я ее успокою. А вы пока отдохните, — сказала мадемуазель Морейра и ушла вслед за горничной в спальню кузины.
Но она вернулась очень скоро.
— Ничего нельзя сделать в эту минуту. Элеонора неспособна теперь выслушать ни одного разумного слова. Надо послать за доктором, Нора.
— Я послала за Фолькмаром, но боюсь, что его не найдут дома в такую пору.
— Мадемуазель Берг, придите скорей, барыне дурно! — кричала вбежавшая камеристка.
— Поедем, — сказал граф. — По дороге мы завернем к доктору. До свидания, мадемуазель Нора, — обратился он к молодой девушке, пожимая ей руку.
Арно спешил увидеть Танкреда и объясниться с ним.
Через полчаса тяжелого ожидания приехал Фолькмар; по счастливой случайности Арно встретил его на улице.
Доктор энергично оказал помощь баронессе, которая билась, как безумная, и довела до изнеможения всех окружающих. Холодные компрессы и наркотические капли успокоили ее мало-помалу, и она наконец заснула. Лилия и доктор пошли в кабинет, и, дав молодой девушке предписания, Фолькмар спросил.
— Что скажете об этой неожиданной новости?
— Я не нахожу это непредвиденным. Со стороны графа Танкреда всегда можно было ожидать какой-нибудь безумной выходки, — отвечала Лилия, улыбаясь.
— Потом я не могу надивиться, как его жена решилась выпустить его из рук.
— Отчего же! Ее, вероятно, утомило любоваться им издали.
— Это очевидно; но только она будет жалеть его. Такого красавца и богача не бросают без сердечных терзаний; вот доказательство… — и он указал папироской на комнату баронессы.
— У его жены чувства менее пылки, быть может. И если она не глупа, то поняла в конце концов, что удерживать такого мотылька, такого баловня женщин, выше ее сил. К тому же этот брак не давал ей ничего, кроме неприятностей; сделавшись свободной, она найдет, быть может, мирное счастье.
Фолькмар вздохнул и устремил долгий, пытливый взгляд на молодую девушку, которая, откинув голову на спинку кресла, казалось, предалась печальному раздумью.
— Да, мирное счастье близ любимого существа — кто этого не жаждет! Для меня это тоже идеал жизни. Только я боюсь, что обречен тщетно желать и никогда не достигнуть его.
Лилия приподнялась и с неизъяснимым выражением заглянула в большие темные глаза молодого доктора, смотревшего на нее с такой глубокой любовью, что она была тронута. В этом честном взгляде и вообще в преданности молодого человека было нечто действующее успокоительно на ее больную, истерзанную душу. Да, возле него она найдет, если не упоительное счастье, то сердечную безмятежность, о которой она только что говорила.
— Зачем отчаиваться? Такой красивый, такой честный, более чем кто-либо вы заслуживаете найти любящее и преданное сердце, если не полное счастье, столь редкое на земле, — сказала она тихо.
Лицо Фолькмара вспыхнуло.
— Нора! — воскликнул он, быстро наклоняясь. — Подумали ли вы о значении ваших слов? Должен ли я видеть в вас обещание?
— Да. Через шесть недель кончается мой контракт с баронессой; тогда я буду свободна и с радостью приму ваше покровительство, если… — она остановилась на минуту, затем продолжала нерешительным голосом: — Если вы удовлетворитесь моей дружбой, моим обещанием посвятить мою жизнь на то, чтобы составить ваше счастье. Я не могу обещать вам любовь, и в моем прошлом есть печальная страница, хотя в ней нет ничего, что бы заставляло краснеть меня и того, кто на мне женится.
С глазами, сияющими восторгом и благодарностью, молодой человек взял обе руки Лилии и покрыл их поцелуями.
— Благодарю вас, моя дорогая. В свою очередь клянусь вам сделать все, чтобы заставить вас забыть печальное прошлое, заставить вас полюбить меня так, как я люблю вас. Но велите ли вы мне молчать пока о моем счастье?
— Да, умоляю вас, никому не слова об этом; через две — три недели самое большее — мы можем объявить о нашей помолвке.
После ухода доктора Лилия пошла в комнату, приказав камеристке сказать ей, когда баронесса проснется. Облокотясь на стол и сдвинув брови, она предалась своим думам.
Все кончено! Она распорядилась своим будущим еще раньше, чем была окончательно порвана связь, соединяющая ее с Танкредом. «Так надо было поступить, я слишком красива, слишком одинока, — говорила она себе. — И та минута, которая доставит мне радость видеть его наказанным, сожалеющим об утрате женщины, о которой он не скажет теперь „некрасива до отвращения“, эта минута вознаградит меня за мои страдания, за все, что я вынесла, будучи покинутой им». Но, несмотря на свое желание проникнуться убеждением, что ожидаемое ею торжество и ее будущность как жены обожающего ее человека обильно вознаградят ее за все пережитое, сердце Лилии обливалось кровью, испытывая невыносимое страдание при мысли о приближающейся минуте, которая разлучит ее навсегда с красивым молодым человеком, принадлежащим ей по закону и которого она любила, как ни восставали против этого ее оскорбленные гордость и рассудок.
Возвратясь в замок, Арно, расспросивший у Сильвии все, что было известно, пошел в комнаты брата, так как желал выслушать всю правду от самого Танкреда. Молодой граф сидел запершись в своем кабинете, но на зов брата отворил дверь, затем кинулся в кресло, не сказав ни слова. Арно тщательно запер двери соседних комнат и, садясь возле него, сказал с упреком:
— Ну, теперь скажи мне все. Как мог ты так долго скрывать от меня такой важный факт! Или ты сомневаешься в моей любви к тебе?
— Нет, нет. Но язык мой отказывался говорить об этом проклятом эпизоде моей жизни, — проговорил Танкред глухим голосом.
Затем, ничего не пропуская, он рассказал о своей встрече с Готфридом и о результате этого свидания.
— Клянусь тебе, Арно, что не ради необходимости уплатить Финкелыптейну я решился на этот брак; для этого я не продал бы своей жизни, а скорей — без ведома матери — обратился бы к твоему банкиру, — продолжал с жаром Танкред — Я слишком уверен в твоей преданности, чтобы не смущаясь принять временное одолжение. Но когда я увидел этого человека, так несправедливо погубленного и так благородно пощадившего нашу семейную честь, предоставленную его власти безумной страстью моей матери, — клянусь тебе, я почувствовал себя вором, подлым сообщником преступления. И когда он потребовал моего имени взамен своего, я нашел это настолько справедливым и был так подавлен угрызениями совести и стыдом, что без всякого размышления дал свое согласие. Бог свидетель, что я хотел честно исполнить свой долг, забыть Элеонору и жить с женой, данной мне Богом. Но, когда в церкви я увидел некрасивую, тщедушную и неуклюжую девушку, с которой я связывал себя на всю жизнь, бешенство и отчаяние охватили меня, а смерть матери еще более ожесточила мое сердце, Я имел неосторожность высказать Неберту, какое отвращение внушает мне моя жена; к несчастью, она услыхала мои слова и, когда я пришел за ней, она скрылась. Никогда она не подавала признака жизни; и стыд огласить такое странное положение заставлял меня молчать. Наконец, я не мог этого более выносить, и, узнав через Неберта, что она лишилась своего состояния, я написал ей.
Он вынул из стола письмо Лилии и подал его Арно, сказав предварительно, что сам он писал ей.
— Ее прошение о разводе — ответ на мое второе письмо, в котором я отказывался разойтись с ней, — заключил молодой человек прерывистым голосом.
Арно тяжело вздохнул.
— Ах, как я упрекаю себя, что оставил вас на столько лет, эгоистично занятый лишь собственным чувством. Будь я здесь, не случилось бы все это несчастье. Что касается дочери Веренфельса, она не могла поступить иначе; и я должен откровенно тебе сказать, что, по-моему, тебе следует стоять на своем отказе от развода. Честь запрещает тебе предоставить нищете и всем случайностям жизни наемщицы дочь несчастного человека, нравственно умерщвленного Габриэлью, так как нет сомненья, что молодая девушка никогда ничего не примет от тебя. Постарайся, по крайней мере, сойтись с ней. Ее поведение доказывает гордость и энергию, ее письмо — острый ум и деликатные чувства. В ней, конечно, есть что-нибудь отцовское; даже некрасивая наружность иногда изменяется, так что долг и счастье могут быть соединены.
Танкред опустил голову. Он не хотел признаться, что есть женщина, которую он любит, и что для исполнения долга честного человека он должен победить страсть более опасную и упорную, чем его юношеская любовь к Элеоноре. Его совесть, равно как и гордость, внушала ему, что стыдно принять свободу от молодой девушки, которая настолько горда, что, бросая ему эту свободу, ничего не хочет брать взамен.
— Ты прав, Арно. Надо покориться тому, что неизбежно. Я постараюсь получить прощение Лилии и примириться с нею, — сказал он, наконец, тихо. — Но чтобы не возбудить здесь разговоров и чтобы мне привыкнуть к ней, я увезу ее на несколько месяцев в Рекенштейн. Не будешь ли так добр, не поедешь ли приготовить все необходимое для нашего приезда? Сам я не могу теперь отлучиться.
— Изволь; завтра же отправлюсь. Я очень рад твоему решению, только мне кажется, нехорошо тебе скрываться с женой. Ты должен откровенно отнестись к делу: не стесняясь глупой болтовни, представить графиню в свете и через две недели, проведенные здесь, уехать в деревню. За устройством маленького помещения для приема твоей жены ты можешь наблюдать сам.
V. Beatl possidente
В ночь с четверга на пятницу Танкред не сомкнул глаз; в лихорадочном беспокойстве он ворочался на постели, думая о завтрашнем дне и о нелюбимой женщине, с которой через несколько часов он снова должен соединиться, принося ей в жертву любовь к Норе. Только на заре он уснул лихорадочным сном; и в сновидениях образ Лилии и образ Норы смешивались между собой, и то одна, то другая была его женою.
Он кончал одеваться, когда к нему вошла Сильвия. Она устремила тревожный взгляд на озабоченное и бледное лицо брата; затем кинулась к нему на шею и старалась утешить его.
— Не мучайся преждевременно, Танкред. Как знать, быть может все устроится лучше, чем мы думаем. И не будь жесток к бедной Лилии; ведь она желала дать тебе свободу, — добавила она с умоляющим взглядом.
— Неужели ты думаешь, что я буду дурно относиться к женщине, с которой хочу примириться? Но мне пора отправляться, — промолвил он, беря со стола перчатки.
— Ты поедешь без обручального кольца? — спросила она робко.
Граф ничего не ответил, но выдвинул ящик стола и вынул из потайного отделение совсем новое обручальное кольцо и надел его на палец; затем вышел, сказав коротко «до свидания».
Вздохнув, Сильвия пошла в комнаты невестки и еще раз осмотрела и маленький зал с мебелью, обитой розовым атласом, и голубой будуар; затем повесила над бюро портрет Готфрида, переснятый и увеличенный фотографом с имеющейся у нее миниатюры.
Прелат был еще один и принял дружески Танкреда; он тоже старался поднять дух молодого человека, который рассеянно внимал его словам, прислушиваясь к каждому звуку в передней. Несколько позже одиннадцати часов вошел лакей и подал прелату визитную карточку.
— Просите, — сказал он, взглянув на нее, и кивнул многозначительно графу.
Танкред встал бледный, как смерть, и рука его нервно впилась в мягкую спинку стула, меж тем как его синие глаза, почти черные от волнения, устремились на дверь, в которую должно было войти злополучие его жизни. Через минуту дверь отворилась, и в ней показалась Лилия. На ней было элегантное, но простое черное шелковое платье; большая черная фетровая шляпа с пером еще более подчеркивала ее ослепительный цвет ее лица и золотистый отлив ее волос.
Широко раскрыв глаза, Танкред молча глядел на нее. Голова его кружилась, а между тем в одно мгновение для него разъяснилось отношение к нему молодой девушки: ее ненависть, насмешки и двусмысленные намеки.
Прелат, вставший для встречи графини, глядел на вошедшую не менее изумленный, не понимая, что значит присутствие здесь компаньонки баронессы.
— Мадемуазель Берг, какими судьбами? Я ожидал мадам Рекенштейн, так как мне сейчас подали ее карточку, — сказала он, пожимая ее руку и принимая от нее сверток бумаг.
— Я и есть графиня Рекенштейн, ваше преосвященство, и вот все мои документы, — спокойно отвечала Лилия, бросив холодный и насмешливый взгляд на мужа.
— Нет, это превосходит всякое вероятие! — воскликнул прелат. — Видано ли когда-нибудь, чтобы муж не знал своей жены и несколько месяцев посещал дом, где она живет, не зная кто он! Месье Рекенштейн, признаете вы или нет за свою супругу особу, здесь стоящую?
Танкред уже преодолел свое первое смущение и, несмотря на досаду, которую вызвало в нем его смешное положение, будто гора спала с его сердца с той минуты, когда Нора оказалась Лилией. Легкий румянец оживил его бледное лицо, и странно звучал его голос, когда он ответил, принимая от священника бумаги:
— Я не могу не верить заявлению присутствующей здесь особы, хотя та, с которой я венчался, была совсем иной. Впрочем, ваше преосвященство, вы знаете из моих рассказов странные подробности моего брака.
Он развернул бумаги и внимательно прочитал метрическое свидетельство, брачное свидетельство и, наконец, паспорт на имя Норы Берг; рассмотрел марки и гербы, затем, сложив два первых документа, опустил к себе в карман, а паспорт разорвал и бросил обрывки на пол.
Лилия, удивленная и оскорбленная этим очевидным недоверием, побледнела от досады и сделала шаг к нему, меж тем как прелат с любопытством наблюдал за ними.
— Что вы позволили себе сделать? — воскликнула молодая девушка с пылающим взглядом.
— Лишь то, что я имел право и обязанность сделать, — отвечал спокойно граф. — Закон запрещает жить с фальшивыми документами; такие случаи предусмотрены сводом законов о наказаниях. Вы жили не под именем вашего мужа, и я уничтожил паспорт, каким вы не имели права пользоваться. Два других документа я прячу, так как их место у меня. Слишком долго для графини Рекенштейн вы скитались по свету.
— Я перестаю быть ею.
— Это другой вопрос. Пока вы носите это имя, на вас лежат обязанности относительно него. Если в течение пяти лет вы серьезно желали порвать нашу связь, вы всегда могли меня найти, я достаточно известен в Берлине и никогда не прятался под чужими именами. Я не говорил о моем браке с убежавшей от меня женой, но никогда не отрекался от него, как вы. Вы говорите, что ваш отец принудил вас к этому супружеству; я этого не знал, но ваше непонятное молчание давало повод к странным подозрениям. И во всяком случае вы не имели права, — голос его дрожал от сдержанной злобы, — вы не имели права наняться в услужение к баронессе Зибах, дом которой я посещаю, и заставлять меня разыгрывать перед глазами всех такую смешную роль.
Лилия слушала, сдвинув брови, это суровое, но справедливое обвинение; но в сердце ее накопилось слишком много горечи, чтобы спокойно обсудить дело.
— Я не могла, однако, умереть с голоду и должна была работать. В дом баронессы я попала случайно, для того вероятно, чтобы ближе узнать и оценить вас, — отвечала она с насмешкой.
— Вам надо было сперва развестись, а потом делать все, что вам угодно. Графиня Рекенштейн, жена человека богатого, не имела права оскандаливать своего мужа.
— Допустим, что я, по-видимому, виновата, так как не обратилась к великодушному супругу, всегда готовому принять меня под свой кров, хотя вот уже пять лет как он позабыл о моем существовании; и узнав, что я лишилась состояния и осталась совсем одинокой, довольствовался тем, что бросил мне известную сумму денег, позабытый долг, и с отчаянием просил развода. Но вы забываете одно обстоятельство, граф, что вы стыдились показать вашу жену, некрасивую до отвращения, и хотели заключить ее в Биркенвальде, чтобы скрыть от глаз всех людей это ярмо каторжника, затемняющее честь дворянина и кавалера. Беру вас в свидетели, ваше преосвященство, могла ли я, бедная, ненавистная, презираемая, просить чего-нибудь, искать убежища под кровом человека, который, пользуясь молчанием этой отдаленной супруги, праздновал в Берлине свои блистательные победы, никогда не носил предательского обручального кольца, чтобы не испугать легковерных женщин, слушавших его любовные речи.
В эту минуту она заметила, что кольцо надето у него на пальце.
— Ах, оно появилось для сегодняшней комедии, — сказала она с легким нервным смешком, — но, надеюсь, оно не долго будет безобразить вашу руку: развод скоро освободит нас друг от друга.
Танкред слушал молча, не отводя глаз от оживленного и подвижного лица собеседницы; при последних ее словах он насмешливо улыбнулся.
— Вы ошибаетесь. Я вам писал, и его высокопреосвященство свидетель того, что я пришел сюда с тем, чтобы отказаться от развода. Я не освобождаю вас от обязанности быть моей женой и предоставляю вам объяснять всем, как вы хотите, вашу причудливую идею служить у баронессы.
Испуг и досада выразились на лице молодой девушки.
— Что значит эта новая фантазия? Вы вымаливали у меня свободу; вот письма, которые служат тому доказательством. А теперь я требую развода. Слишком долго вы смеялись надо мной; я не желаю мужа, который никогда не исполнил ни одной из своих обязанностей относительно беспомощного существа, которому он клялся быть покровителем. Впрочем, — добавила она с большим спокойствием, — я более не принадлежу себе; я дала слово другому.
— Могу я узнать, кому вы дали так опрометчиво ваше слово? — спросил Танкред, сморщив брови.
— Фолькмару. Он любит меня всей душой и не будет краснеть за меня.
Краска, покрывавшая лицо Танкреда, мгновенно сменилась бледностью. Фолькмар любил ее, это правда; он совершенно забыл об этом среди своих разнообразных ощущений этого часа. Мысль разрушить его счастье ужаснула его. Но не может же он уступить ее!
— Евгений знает, что вы моя жена?
— Нет. Он выдал бы вам тайну, и я была бы лишена удовольствия сообщить вам это приятное, неожиданное известие, — отвечала Лилия с некоторым самодовольством.
— Вам это прекрасно удалось. Только вы слишком поспешили, и, дав обещание Евгению, вы поступили безрассудно. Двоемужество, графиня, преследуется законом точно так же, как и проживание под ложным именем. Но так как вы любите сюрпризы, я спешу взамен того, который вы так искусно мне устроили, преподнести вам со своей стороны неожиданное для вас заявление, что вы тотчас последуете за мной в Рекенштейнский замок, чтобы отдохнуть от трудов и утомлений. С этой минуты я снова беру на себя все права над вами, и если — хотя и по вашей вине — я не исполнял моих обязанностей относительно вас, как вы меня в этом упрекнули, впредь я буду исполнять их тем более исправно, — завершил он насмешливо и страстно.
Яркий румянец покрыл лицо Лилии. Множество разнородных чувств волновали ее, и все они были подавлены досадой, что этот муж, к которому она относилась с презрением, которого в своем озлоблении против него хотела осмеять, вдруг выступил перед ней властелином и в одно мгновение разрушил и ее сопротивление, и ее планы на будущее. Потеряв всякую власть над собой, утратив то хладнокровие, которое всегда давало ей перевес над пылким молодым человеком, Лилия крикнула, топнув ногой:
— А я не желаю вас и не последую за вами! Я хочу развода и уеду к себе.
Танкред взял свою шляпу.
— Я вижу, вы любите шумные скандалы и трагические сцены, — сказал он спокойно, — в таком случае я прибегну к закону, чтобы водворить мою упрямую супругу в дом мужа. Власти заставят вас понять, если вы сами того не знаете, где ваше место, и внушат вам, что без законных прав нельзя жить нигде.
— Довольно, довольно. Не стоит наносить друг другу оскорбления, — вмешался прелат, взяв с отеческим участием руку Лилии, которая, вне себя и дрожа все телом, тщетно старалась найти слова достаточно оскорбительные, чтобы поразить графа так сильно, как ей хотелось.
— Успокойтесь, милое дитя мое, — продолжал священник, — и покоритесь тому, что неизбежно. От графа Танкреда зависит принять или не принять развод, а ваше место — в его доме. Граф сожалеет, я уверен, что бы виноват перед вами; подтверждаю, что он имел твердую решимость примириться с женой; следовательно, будет стараться своей любовью загладить печальные воспоминания прошлого. Но вам, графиня, следует быть более уступчивой, позабыть обиды и быть любящей женой и покорной человеку, с которым соединил вас Бог. Прощение обид есть основной закон христианской религии; а вы, последовательница учения, мнящего знать тайны загробной жизни и имеющего девизом: «Без милосердия нет спасения», хотите оставаться злопамятной и озлобленной. Припомните, как красноречиво вы объясняли мне, что спиритическая вера более всякой иной учит понимать и извинять человеческие слабости и страсти; и что ее назначение просвещать людей, возвышать и направлять души пониманием причин их страданий и цели, к которой они стремятся. Эти принципы любви и милосердия примените теперь к делу не относительно чужих, но относительно мужа, которого Бог поставил на вашем пути, чтобы вы его облагородили, так как вы сильны и вам известны законы, управляющие нашей судьбой, а он слаб и омрачен своими страстями. Если ваше учение имеет действительную силу, то его последователи не ограничатся лишь проповедованием своих принципов. Что касается меня, так как я не спирит, то я напомню вам слова святого апостола Павла: «Вера без дел мертва есть».
Опустив голову и тяжело дыша, Лилия слушала слова священника, который поражал ее собственным оружием. Уже не раз в течение времени испытаний и унижений ее вера, о которой она заявляла, колебалась, и теория не согласовалась с практикой. Тем не менее, она всегда возвращалась к этой вере и черпала в ней мужество и терпение. Но в эту минуту гордость, досада и упрямство делали ее глухой и слепой. Она чувствовала и видела лишь то унижение, что она вынуждена повиноваться этому человеку, который с презрением покинул и отверг ее, а теперь по новому капризу требовал ее к себе, пользуясь правом сильного, вместо того чтобы извиниться приветливым словом. А потому ей не пришло и на мысль в эту трудную минуту платить прощением за обиду.
Она хотела, по крайней мере, уколоть Танкреда, отомстить ему хотя бы словами за невозможность отделаться от него. Наружно, казалось, к ней возвратилось хладнокровие, и, подняв голову, ледяным тоном, она произнесла:
— Хорошо, граф, я уступаю, так как понимаю, что право сильного всегда одерживает победу. Отняв у меня все: мои документы, мой покой и мою свободу, вы ведете меня, как пленницу, в ваш замок, чтобы разыгрывать роль женатого человека. У вас в самом деле талант замечательного комедианта; после того как я видела вас играющим с таким совершенством роль холостяка и жениха вашей кузины, я едва узнаю вас в роли добросовестного и повелительного мужа. Так как иначе поступить нельзя, я последую за вам, граф, и буду разделять удивление ваших слуг при виде вашего возвращения из гостей женатым на мне.
Она поклонилась почтительно прелату, покачивающему головой, и вышла из кабинета. Танкред, не ответивший ни слова, пожал наскоро руку прелата и последовал за Лилией. Надев свое пальто, он предложил руку жене, но она, делая вид, что не заметила этого движения, продолжала застегивать свою мантилью.
— Эта ничтожная формальность входит в роль, которую нам предстоит играть, Лилия, — сказал граф с усмешкой. — Вы не можете сойти с этой лестницы и подняться в Рекенштейнский замок иначе, как под руку с вашим мужем.
Молодая девушка ничего не отвечала, но упорно не желая опереться не предлагаемую ей руку, почти бегом спустилась с лестницы и вскочила в экипаж графа с такой поспешностью, что он не успел помочь ей. Смеясь от души, Танкред сел возле нее.
— Боже мой! Лилия, какая поспешность; я никогда не видел в вас такого проворства, — заметил он с лукавой улыбкой.
Ничего не возражая, Лилия вжалась, насколько было возможно, в угол кареты. Голова ее кружилась. Она не предвидела такого окончания дела. И быстрая, энергичная решимость Танкреда, необходимость моментально повиноваться ему внушали ей такую к нему злобу, что она забыла свои слезы и душевные страдания при мысли о разводе. Все ощущения последнего времени вместе с тем, что она испытала в это утро, совершенно расстроили ее.
Граф тоже задумался, стараясь привести в порядок хаос своих мыслей. Упоительное чувство счастья преобладало над всем. Кошмар печальной жизни с женой, которую надо было выносить из чувства долга, устранен навсегда. А осуществление мечты приобрести Нору, казавшейся столь далекой, совершилось вдруг так неожиданно и внезапно. Ему не предстояло более бороться с препятствиями, преодолевать сопротивление; женщина, которую он боготворил, которая покорила его своим умом так же, как и своей красотой, — принадлежала ему, и никто не мог вырвать ее из его рук. Из всех женщин он выбрал бы это гордое и очаровательное существо, стряхнувшее с него скуку пресыщенного человека. Молодая девушка постоянно язвила его, не выказывала ему ни малейшего чувства, а между тем научила его ценить общество женщины действительно образованной и умной. Ах, как ему надоели амуретки с приторными кокетками, которые только и умеют говорить о тряпках и о чувствах; как ему надоело одерживать над ними победы! Что касается Лилии, он надеялся утешить негодование ее молодого сердца; а помимо этого камня преткновения, будущее представлялось ему безоблачно ясным. Он вздохнул полной грудью и бросил сияющий взгляд на свою молодую жену. Только в эту минуту он заметил, что она была вся в черном. Мысль, что она войдет в его дом, одетая в траур, сжала его сердце тяжелым чувством.
Танкред взглянул на улицу и увидел, что они едут мимо цветочного магазина; он дернул шнурок, вышел из кареты и через минуту вернулся с бесподобным букетом роз и нарциссов и подал его Лилии.
— Позволь мне предложить тебе эти цветы, чтобы немного оживить твой мрачный туалет; и пусть они будут символами счастья, которое тебе предназначено внести в этот дом, куда ты войдешь госпожой.
Молодая женщина кивнула головой и взяла небрежно в руку букет. Но она не имела времени отвечать, так как карета остановилась у подъезда и лакей выбежал отворить дверцу. К его удивлению, равно как и к удивлению всех других лакеев, собравшихся в вестибюлях, граф проворно выпрыгнул из экипажа, подал руку мадемуазель Берг, которая стояла бледная, с букетом в руках.
— Можете поздравить нас, Мюллер, вот моя жена, графиня Рекенштейн, — сказал весело Танкред.
Лилия поблагодарила старого служителя, растерянно и смущенно проговорившего какое-то приветствие, ответила легким наклоном головы на низкий поклон других слуг, затем, опираясь на руку мужа, поднялась, как во сне, по широкой лестнице.
При входе в большой зал Сильвия, бледная и встревоженная, ждала незнакомую невестку. Увидев Нору под руку с Танкредом, она вскрикнула от радости и удивления. Лилия, еще более взволнованная, уронила свой букет и бросилась в объятия милой девушки, которая, не зная, кто она, всегда оказывала ей искреннюю дружбу. Обе они не сказали ни слова, но губы их слились в долгом поцелуе.
Танкред молча поднял букет и положил его на стол. Но Сильвия, заметив по выражению лиц, что бурная сцена разыгралась между молодыми супругами, воскликнула минуту спустя:
— Нет, я не могу прийти в себя! Нора, моя любимица, оказалась Лилией. Ах, как могла ты, плутовка, быть такой скрытной и столько времени не признаваться мне?
Потом, кидаясь на шею брата, шепнула ему лукаво:
— Ну что, ты все еще недоволен? Все еще находишь ее некрасивой до отвращения?
— Как знать, если не наружность, то, быть может, душа ее некрасива. С самого начала она проявила враждебное ко мне отношение, — ответил граф, уходя из комнаты и оставляя приятельниц одних.
— Ваша враждебность, надеюсь, будет непродолжительна, — сказала весело Сильвия, обнимая невестку. — Танкред, я уверена, раскаивается в своей виновности перед тобой. Впрочем, ты довольно жестоко наказала его; он очень страдал и теперь отдаст тебе все свое сердце. Такая красивая, умная, кто может видеть тебя и не полюбить!
— Я не хочу его любви! — вскрикнула Лилия, и горячие слезы брызнули из ее глаз. — Если бы ты видела, как он насмехался надо мной перед прелатом. Вместо того чтобы извиниться, он мне приписал вину во всем и заставил меня следовать за ним, грозя властями, если я не соглашусь. Ах, я не хочу и повторять тебе всех оскорблений, какими он меня осыпал, этот фат, привыкший к поклонению женщин. Но я не слепа. И если на его стороне закон сильного, на моей стороне — нравственный закон; и я внушу ему, как держаться относительно меня. Он очень ошибается, если думает найти во мне покорную супругу, которая примиряется по первому знаку, как героиня комедии.
Сильвия глядела на нее с удивлением. Ужели эта спокойная, рассудительная Нора говорила с ней с таким лихорадочным волнением, с дрожащими губами и пылающим лицом? Чтобы дать разговору другой оборот, она сказала:
— Пойдем, сними шляпу и манто; ведь ты дома. Я покажу тебе комнаты, которые мы с братом приготовили тебе.
— Ты — да; но могу себе представить, с каким рвением Танкред готовил помещение для урода. Если бы ты видела, с каким ужасом и отвращением он глядел на дверь, когда я входила. Появление чумы он не мог бы ждать с большим страхом. Ах, не говори мне о нем!
Тем не менее прелестный уголок, в котором ей предстояло жить, произвел на нее приятное впечатление. И поблагодарив еще раз Сильвию, она сняла шляпу и перчатки.
— Ну, вот ты и водворилась, хотя и не вполне, — заметила, смеясь, мадемуазель де Морейра. — Теперь я напишу записку Элеоноре, чтобы объяснить ей твою метаморфозу; сама ты не можешь в настоящее время ступить ногой в ее дом. Вместе с тем, я велю сказать Нани, чтоб она прислала твои вещи, так как приданое может быть готово только через несколько дней; а завтра мы переговорим с моей портнихой о твоих визитных платьях.
Через четверть часа Сильвия вернулась со смехом.
— Вещи твои приехали вместе с Нани, которую Элеонора вышвырнула за дверь заодно с твоими сундуками. Если ты довольна этой девушкой, так ты оставишь ее у себя. Она мне сообщила, что баронесса упала в обморок, узнав, кто ты; а когда она пришла в себя, с ней сделался страшный нервный припадок.
Вдруг Сильвия, сторожившая у окна приезд Арно, вскрикнула:
— Ах, Лилия, вот доктор! Какой у него счастливый, беззаботный вид. Бедный! Я решительно не знаю, как сказать ему правду.
— Я сама объясню ему, какая неодолимая сила не позволяет мне исполнить данного слова, — ответила Лилия, сдвинув брови, меж тем как Сильвия поспешно уходила.
— Обе графини в красной гостиной, — доложил лакей, встретивший Фолькмара.
Молодой человек, исполненный любопытства, проворно прошел две комнаты, предшествующие названной гостиной, но на пороге последней остановился удивленный, увидев Лилию; бледная, в белом платье, она стояла опершись на кресло. Доктор окинул взглядом комнату. Где же графини: Сильвия и жена Танкреда? И зачем Нора, такая нарядная, здесь, на семейном обеде?
Вдруг адская мысль мелькнула в его голове. Нора говорила о какой-то тайне и носила обручальное кольцо. Что, если она жена Танкреда?
— Нора, что значит ваше присутствие здесь? — вдруг вымолвил он прерывистым голосом.
Лилия поспешно подошла и протянула ему обе руки.
— Фолькмар, простите меня! — прошептала она трепещущими губами и устремляя на него умоляющий взгляд. — Помимо моей воли, я виновата перед вами. Я желала развода и была уверена, что получу его, но граф не согласился разойтись.
Бледный, как смерть, молодой человек прислонился к дверям. Ему казалось, что пропасть раскрылась у его ног, поглощая его будущее, его счастье, его надежду; не произнося ни слова, ни упрека, он молча опустил голову.
Лилия, тревожно следившая за ним, коснулась его руки, меж тем как слезы катились по ее щекам.
— Не огорчайтесь так, если в вас сохранилась хоть тень дружбы и любви ко мне. Вы молоды, и жизнь вознаградит вас. Но видеть, что вы страдаете из-за меня, мне так тяжело.
Голос ее прервался от волнения.
Фолькмар с живостью взял ее трепещущую руку и прижал к своим губам.
— Успокойтесь, я знаю, что вы не хотели сделать меня несчастным. И я понимаю, что Танкред, не желавший развестись с женщиной, которая ему не нравилась, не разойдется с вами. Это моя злая судьба, — сказал он с горькой улыбкой.
В эту минуту в соседней комнате раздались поспешные шаги, и вошел Танкред. Он тоже был бледен, и лицо его выражало тяжелое волнение. Как только он вошел, Лилия выдернула свою руку из руки доктора и, бросив враждебный взгляд на мужа, повернулась и ушла, прошептав: «Пусть объясняется как знает».
Несколько минут царило гнетущее молчание, нарушаемое лишь тяжелым и прерывистым дыханием обоих молодых людей.
— Евгений, какая трагическая судьба делает меня разрушителем твоего счастья! — воскликнул наконец Танкред. — Боже мой, я вижу, как ты страдаешь; я чувствую себя вором относительно тебя, а между тем могу ли я поступить иначе! Евгений, ужели я должен лишиться тебя, как друга? — спросил он, бросаясь в кресло в нервном волнении.
Фолькмар быстро поднял голову.
— Нет, нет, Танкред, могу ли я перестать быть твоим другом потому, что судьба против меня? Да, узнать, что она твоя жена, было страшным ударом для меня. Но разве ты в этом виноват? Вчера еще ты сам этого не знал. И потом, — грустная усмешка мелькнула на его бледном лице, — ты предупреждал меня, что есть нечто подозрительное и таинственное в красавице Лорелее; предсказывал, что появится муж, чтобы отнять ее у меня в момент, когда я менее всего буду этого ожидать. Что этим мужем окажешься ты — этого ни один, ни другой из нас не подозревали. А что не отказываются от такой женщины даже для своего лучшего друга, я это понимаю и извиняю.
— Ах, как мне тяжело основывать мое счастье на твоем несчастье! — воскликнул граф. Губы его нервно дрожали и, терзаемый множеством разнородных ощущений, он прижал лицо к спинке кресла.
Фолькмар устремил на него долгий, задумчивый взгляд. Он не мог сомневаться, что этот печальный и странный конфликт причинил сильное страдание Танкреду. И вдруг вспомнил, что Лилия обещала ему только дружбу; не ясно ли теперь, что красивый привлекательный молодой человек, принадлежащий ей по закону овладел сердцем молодой девушки; ее ненависть к нему ее язвительные намеки были не что иное, как ревность, заставлявшая ее страдать, не разрывая связи, соединяющей их.
Проведя рукой по влажному лбу, доктор выпрямился.
— Оставь это, Танкред, и не отравляй своего счастья, приобретенного такой дорогой ценой, — сказал он спокойно, — впрочем, ты еще не пользуешься им; тебе предстоит победить досаду, негодование и упрямство твоей жены. Я сам виноват: я был неосторожен и должен за это поплатиться. Моя дружба к тебе поможет мне преодолеть мою ревность. Впрочем, — продолжал он шутливым тоном, с каким обыкновенно относился к своему другу детства, — я всегда имел привычку, как старший, уступать тебе во всем, балованное неотразимо милое дитя! И делаю это еще раз!
Танкред с неудержимой пылкостью, характеризующей его, кинулся на шею Фолькмара и стал душить его в своих объятиях.
— Евгений, ты мне прощаешь невольное зло, которое я тебе причинил, и остаешься моим другом?!
— До самой смерти, — отвечал доктор со странной улыбкой, незамеченной графом. — А теперь, — продолжал Фолькмар, — пойдем в зал. Лишь она и ты видели мою слабость; для других это не должно быть известно. Я останусь обедать, как это было условлено, и выпью бокал шампанского за ваше счастье.
— Благодарю тебя, — сказал Танкред с сияющим взглядом. — Кто имеет такого друга, как ты, тот не имеет права жаловаться на испытания, которые посылает ему Провидение.
Меж тем как друзья вели этот многозначительный разговор, приехал Арно; и Сильвия, не перестававшая его сторожить, встретила его еще в передней.
— Ну что, как все произошло? — спросил он, улыбаясь и целуя ее руку.
— Ах, лучше, чем мы могли себе представить. Жена Танкреда прелестна. Пойдем же скорее к ней, Арно, — отвечала Сильвия радостно, уводя его за собой.
При виде своего beau-frere, Лилия встала красная и в смущении опустила глаза. Но удивление графа не длилось более минуты.
— Вот приятная неожиданность! — воскликнул он радостно. — Теперь я понимаю, где я уже видел эти чудные бархатные глаза, которые так интриговали меня.
Он взял обе ее руки и с дружеской сердечностью поцеловал их.
— Очень рад вашему прибытию в нашу семью; любите меня немного и будьте снисходительны к Танкреду; он скоро сделается вашим рабом, и вы окончите воспитание этого ветреника, так успешно начатое вашим отцом.
— О, конечно, вас, месье д'Арнобург, легко полюбить, — отвечала Лилия, смотря на него теплым, благодарным взглядом.
— Как! Вы так церемонно называете вашего ближайшего родственника, Лилия? Протестую и требую, чтобы вы звали меня по имени, а через несколько дней, когда мы ближе познакомимся, буду просить говорить мне «ты» и не отказать, если Танкред позволит, в братском поцелуе, — сказал Арно с доброй улыбкой, которая привлекала к нему сердца.
— Ах, он ничего не может мне запрещать, — заметила Лилия с презрением.
— Ну нет! — Ваш хорошенький ротик, например, его исключительная собственность. Но где же наш новобрачный?
— В красной гостиной с Фолькмаром, — отвечала Сильвия и, не дожидаясь разрешения своей невестки, сообщила, какого рода объяснение происходило между друзьями.
— Ну, это было так же неосторожно, как и жестоко, милая Лилия, — сказал граф, покачивая головой. — Будем надеяться, что доктор мужественно вынесет это тяжкое испытание. А теперь пойдем в большое зал; они, вероятно, скоро присоединятся к нам.
Когда они вошли в зал, Танкред и доктор были уже там, и тотчас завязался общий разговор. Если бы не чрезмерная бледность, то ничто не выдавало бы волнений Фолькмара. Он спокойно разговаривал о посторонних вещах, старался даже быть веселым, но тем не менее смутная грусть и тревога, казалось, тяготели над всеми присутствующими. Такое же стеснение царило за обедом. Когда пили шампанское, Фолькмар поднял бокал и в самых теплых выражениях пожелал молодым счастья и долголетия. В ту минуту, как Танкред чокался бокалом с женой, глаза их встретились; молодой человек позабыл и свою сдержанность и присутствие друга; он видел и чувствовал притягательную силу бархатных глаз и, наклонясь, поцеловал жену в губы, Лилия вздрогнула и бросила тревожный взгляд на Фолькмара, который, вдруг побледнев еще сильней, дрожащей рукой поставил бокал на стол. Выпив кофе и выкурив сигару, доктор встал и простился; целуя руку Лилии, он устремил на нее долгий взгляд, проникнутый каким-то особым выражением.
— До свидания, до скорого свидания! Или вы будете избегать меня? — спросила молодая женщина с волнением.
Тревожное предчувствие сжало ей сердце. Он глядел на нее, будто прощаясь с нею навсегда. Что если она никогда больше не увидит этих ясных симпатичных глаз! Это было бы ужасно.
— Нет, напротив, графиня, я надеюсь часто видеть вас, — отвечал Фолькмар, целуя еще раз ее руку. Затем он ушел в сопровождении Танкреда.
— Боже мой! Лишь бы доктор не сделал какого-нибудь безумства: у меня такое неприятное чувство, будто я никогда его не увижу, — сказала с беспокойством Сильвия.
— Как можно об этом думать! Доктор слишком серьезный человек, чтобы позволить себе такую слабость, — отвечал Арно, взглянув с сожалением на бледное, тревожное лицо своей невестки.
Вечер тянулся довольно скучно. Все были озабочены и неспокойны. Перед чаем два товарища Танкреда пришли к нему по делу, и он велел подать себе чай в кабинет. Тотчас после чая Лилия простилась с Сильвией и с Арно, сказала, что утомилась, и ушла к себе.
Нани раздела ее, зачесала ей волосы к ночи и, надев на нее легкий белый пеньюар, ушла. Молодая женщина заперла на ключ дверь приемной комнаты и дверь гардеробной и, вздохнув свободно, вернулась к себе в спальню. Проходя мимо зеркала, она остановилась на минуту, всматриваясь в свою пленительную наружность.
«Да, я красива, и вот объяснение его упорства; но он ошибается, думая, что приобрел себе новую одалиску», — прошептала она, опускаясь на кушетку. Закрыв глаза, молодая женщина погрузилась в размышления, стараясь привести в порядок хаос своих чувств.
Вдруг она вздрогнула. Ей послышалось, что кто-то постучался в дверь; она встала и тихонько прокралась в приемную. Толстый ковер заглушал ее шаги. Но она не ошиблась: нервная, нетерпеливая рука пробовала открыть запертую дверь, и легкое бряцание шпор не оставляло сомнений в том, кто был этот посетитель.
Молодая женщина стояла неподвижно; сердце ее сильно билось, между тем как ее лицо то бледнело, то краснело.
«Полночь, — прошептала она, взглянув на часы, — слишком поздно, чтобы еще наслаждаться его обществом. Может оставаться за дверью. Ах, слава Богу, он уходит». Она вздохнула облегченной грудью; но вдруг ей пришла мысль, что, быть может, она нехорошо закрыла дверь гардеробной или дверь коридорчика, который, как ей сказала Нани, ведет в комнаты графа. Как стрела, она метнулась в спальню и попробовала ту и другую дверь; обе были заперты на ключ. — Но вдруг она вздрогнула и замерла на месте, не успев отнять руки от ручки дверей, так как услышала возле себя насмешливый голос Танкреда:
— Замки новые и крепкие, милая Лилия; не бойся воров. Но я удивлен, что застаю тебя еще на ногах. Я стучался в дверь гостиной и, не получив ответа, думал, что ты легла и спишь. К счастью, в моем распоряжении потайная дверь, которой я и буду всегда пользоваться, чтобы входить не беспокоя тебя.
Едва Лилия пришла немного в себя от изумления, как, возбуждаемая несмешливым тоном мужа, вспыхнула как порох. Она совсем забыла, что Танкред имел неоспоримое право входить к ней; не подумала, что, быть может, он желал объясниться без свидетелей, испросить у нее прощения, примириться с ней.
— Вот что переходит всякие границы, граф, — воскликнула она. — Как вы позволяете себе входить ко мне, когда я не желаю вас видеть. Я имею, надеюсь, право такого дня, как сегодня, пользоваться уединением и покоем.
Она не знала, насколько ее лихорадочное волнение и ее неглиже, в каком Танкред никогда не видел ее, делали ее прелестной.
Пламень страсти вспыхнул в глазах Танкреда. Он наклонился так близко, что губы его слегка коснулись ее щеки, и протянул руку, чтобы привлечь ее к себе. Но молодая женщина с отрицательным жестом отодвинулась к туалетному столу. Яркая краска негодования и страха выступила на ее лице; воспоминания всех скандальных приключений Танкреда, о которых так образно рассказывала баронесса, рисовались перед ней, и задыхающимся голосом она проговорила:
— Слишком поздно!
— Это правда, слишком поздно я заметил, что жена моя так красива; но жизнь длинна, ошибка поправима, — сказала Танкред полушутя, полусерьезно. — И позволь мне тебе сказать, Лилия, что титул графа дурно звучит в твоих устах; для тебя этот титул канул в бездну, как и многое другое. Мадемуазель Берг могла этим жестом и пылающим взглядом воздвигать преграду между ней и графом Рекенштейном, но моя жена не может этого делать. Я не узнаю тебя, Лилия, с сегодняшнего утра. Ты, такая спокойная и строгая, как воплощенный долг, ужели ты в самом деле думаешь, что не имеешь никаких обязательств относительно меня, раз я сознаю свою вину и возвращаю принадлежащее тебе место, назначенное тебе твоим отцом. Соединяя нас браком, покойный барон мог ли иметь в виду ту роль, какую ты, по-видимому, желаешь разыграть? Ты очень странно относишься ко мне и, будь это возможно, вышвырнула бы меня из комнаты, где я имею неоспоримое право быть.
— Никакого не имеете! — отвечала Лилия, и в голосе ее звучало непоколебимое убеждение. — Вы даете себе право, когда вам это вздумается, и, конечно, ваша совесть, так внезапно пробудившаяся, продолжала бы дремать, как дремала в течение пяти лет, если бы я была все еще уродливой идиоткой, совой, некрасивой до отвращения, вид которой возмущал все струны вашей души. Я отлично понимаю вас, ветреный человек, лишенный всяких принципов, вечно гоняющийся за новой любовницей, за существом, которое можно обесславить и затем бросить как ненужную вещь. В этот раз судьба покровительствует вам, подставляя вам под руку вашу собственную жену, довольно красивую, к несчастью, чтобы возбуждать ваши дурные инстинкты. Вы привыкли наслаждаться жизнью, не стесняя себя чувствами; но я другого мнения и признаю только те обязательства, которые заключены добровольно и запечатлены любовью, а не прихотью человека, вздумавшего развлечься тем, что раньше он так глубоко презирал.
— А! Я внушаю тебе ужас и отвращение, — вскрикнул он, — потому что я не ползаю в ногах, вымаливая вашего прощения и вашей любви. Я сам теперь не желаю вас. Ужели ты думаешь, что я не найду себе женщин, которые буду любить меня?!
В своем волнении, на замечая того, он говорил то «ты», то «вы».
— Только, — продолжал он, — вы вашей беспримерной выходкой не заставите меня согласиться на развод. Я оставлю вас у себя и дам вам почувствовать все удовольствия роли, какую вы желаете играть; но она, быть может, не так интересна, как вы воображаете. Представив вас в общество, я повезу вас в Рекенштейн и, так как вы не хотите быть моей женой, то будете моей экономкой; а я тем временем буду изменять вам перед вашим носом с каждой хорошенькой женщиной, которая мне встретится; пока вы сами не придете вымаливать моего прощения, можете развлекать себя хозяйством.
Лилия побледнела. Она поняла, что, оскорбляя так безжалостно самолюбие этого избалованного и капризного человека, она сама возбудила в нем против себя его мстительность и его дурные страсти. Ей удалось, однако, скрыть, что она чувствует себя разбитой, и презрительная насмешка звучала в ее голосе, когда она ответила:
— Я никогда не сомневалась, что вы будете мне изменять с большим искусством и с полнейшей бесцеремонностью. Вы забываете, что я только сегодня оставила дом баронессы и, конечно, богата назидательными сведениями. Что касается вашей грубой выходки, совсем казарменного тона, которым вы отвечаете на мои слова, то он доказывает справедливость моего мнения: ваше тщеславие не выносит правды.
Танкред готовился к новому возражению: как вдруг сильно постучали в дверь гардеробной, и Нани крикнула взволнованным голосом:
— Графиня, скажите пожалуйста графу, что за ним пришел лакей доктора; случилось несчастье — месье Фолькмар застрелился.
Граф глухо вскрикнул и кинулся к двери. Лилия, уже расстроенная предшествовавшими волнениями, упала на ковер, словно пораженная молнией.
Шум при ее падении заставил Танкреда оглянуться; забыв свою досаду, он кинулся к ней и поднял ее. «Как она хороша! — прошептал он. — Но подожди, безбожная, я припомню тебе этот час и заставлю расплатиться за все твои оскорбления». Он положил ее на диван, открыл дверь и выбежал прочь.
В кабинете его ждал Мартын, старый камердинер фолькмара. Бледный и дрожащий, он рассказал, что его барин возвратился после обеда, заперся у себя в кабинете, приказав не беспокоить себя; но Мартын слышал, что молодой человек долго ходил взад и вперед по комнате. Вместо чая, как всегда, он велел подать себе вина; и когда Мартын принес вино, то заметил, что все ящики стола были открыты и Фолькмар только что сжег и изорвал множество бумаг. Затем он велел камердинеру пойти спать, но смутное беспокойство на давало старику сомкнуть глаз. Около половины двенадцатого один из пациентов доктора пришел звать его к своей больной жене. Мартын вместе с этим пациентом стучали в запертую дверь кабинета, но ответа не последовало, а минуту спустя раздался выстрел пистолета. Испуганные, они подняли страшный шум и с помощью дворника взломали дверь. Они нашли Фолькмара, опрокинутого в кресле с пистолетом в сжатой руке, но без признаков жизни. Дворник побежал объявить полиции, а он поспешил пойти за графом, как лучшим другом своего барина.
Бледный, как смерть, Танкред вышел из дому. Лестница и квартира Фолькмара были уже полны любопытных; два доктора входили в переднюю одновременно с графом. У старой ключницы сделался нервный припадок, и несколько соседок оказывали ей помощь. Но Танкред пошел впереди всех и поспешно направился к бюро, где тело Фолькмара находилось еще все в том же положении, только пистолет лежал теперь на ковре.
Почти такой же бледный, как и его друг, Танкред наклонился к нему и помутившимся взглядом всматривался в красивое неподвижное лицо, сохранившее в складках губ выражение горечи и страдания. «Евгений, Евгений! Как мог ты это сделать?!» — шептал он, взяв его руку, не успевшую остыть.
В эту минуту пришел комиссар, и доктора освидетельствовали рану, из которой еще сочилась кровь. Они могли лишь констатировать смерть.
— Пуля попала прямо в сердце, — заявил один из них, — он был слишком хороший доктор, чтобы не суметь направить пистолет, и рука его не дрожала!
Тело положили на постель, и граф, объявив свое имя и свои отношения к покойному, взял на себя все необходимые распоряжения до приезда родственника Фолькмара, на имя которого Евгений оставил письмо.
Когда наконец все ушли, Танкред предался отчаянию с тем страстным пылом, какой он проявлял во всем. Он лишился своего лучшего друга; и виновницей этого была женщина, только что нанесшая ему оскорбление и оттолкнувшая его с презрением. Едкое чувство, близкое к ненависти, заговорило в его сердце против Лилии, вызвавшей своим молчанием эту трагическую катастрофу.
Было около трех часов утра, когда он вернулся домой. В гостиной, смежной с его кабинетом, он нашел Сильвию, Арно и Лилию. Они были подавлены несчастным событием и не ложились спать. Арно очень желал присоединиться к брату, но боялся оставить дам в их тревожном состоянии, особенно невестку, с трудом приведенную в чувство от глубокого, продолжительного обморока.
Увидев смертельную бледность и изменившиеся черты брата, Арно поспешно встал и пожал ему руку, сказав несколько слов сердечного участия. Ничего не отвечая, Танкред повернулся к жене и проговорил голосом, преисполненным горечи:
— Радуйтесь, графиня Рекенштейн, так искусно придуманный вами сюрприз удался сверх вашего ожидания. Ваше молчание, мотивированное опасением, что друг мой предупредит меня, избавит меня хотя бы от малой доли страдания, хотя бы насколько-нибудь уменьшит мое смешное положение, привело к самоубийству честного человека, любившего вас.
— Танкред, какое несправедливое обвинение! Могла ли я это предвидеть? И разве я этого хотела?
— Так чего же вы хотели? — жестко спросил Танкред. — Не молчат, когда искренне желают отделаться от кого-нибудь, и не поддерживают невинными улыбками страсть и надежды человека, будучи еще связанной с другим. Но вы мечтали лишь о том, чтобы отомстить, унизить мужа, который бился, как муха в паутине, вам на потеху. О, вы достойная дочь своего отца; и вы, как он, поклоняетесь лишь самой себе и вашей гордости. Он тоже, этот безупречный рыцарь, этот раб чести, возбуждает безумную страсть, затем, преклоняясь перед своей собственной честностью, отталкивает женщину, которая его любит, доводит ее до преступления и до самоубийства. Безжалостная и эгоистичная, как он, вы хотели заклать меня в жертвенник вашей оскорбленной и кровожадной гордости; но стрелы ваши не попали в цель, и бедный Евгений поплатился жизнью за песнь сирены, пропетую прелестной Лорелеей.
Не ожидая ответа, он повернулся и вышел в сопровождении Арно, который чувствовал, что никогда молодой человек так не нуждался в слове любви и дружеской поддержке.
— Прости Танкреду, что он так несправедлив в своем горе, — молвила Сильвия, плача и обнимая невестку.
Разбитая душой и телом, Лилия вернулась к себе и легла; но сон бежал от ее глаз и множество мучительных мыслей терзали ее. Смерть Фолькмара преследовала ее, как упрек совести, и она строго разбирала и судила свое поведение относительно него. Конечно, она никогда не поощряла ухаживаний молодого доктора, держалась с ним любезно, насколько то следовало с человеком, посещавшим дом баронессы; но дал ли бы он своей любви развиться, если бы она с самого начала честно призналась ему, что она замужем? Нет, он, быть может, забыл бы ее.
Похороны Фолькмара происходили с большой пышностью; гроб исчезал под массой венков, и немало искренних слез было пролито над телом доброго, симпатичного человека, погибшего преждевременно жертвой рока.
Накануне похорон Лилия и ее невестка в сопровождении Арно отправились в дом покойного. Графиня плакала, долго молилась у гроба и положила букет цветов на грудь усопшего. Но при погребении ни та, ни другая не присутствовали, чтобы не обращать на себя внимания любопытных.
Душевное состояние Лилии было печально и уныло; и лишь неукротимая гордость давала ей силу иметь всегда спокойный и холодный вид. Ее отношения к Танкреду ограничивались ледяной вежливостью; и сверх всех неприятностей, она должна была еще деятельно заняться туалетами, так как граф заявил, что в назначенный им день они начнут делать визиты, что затем дадут большой обед и что она должна позаботиться о приготовлении надлежащих туалетов как для названных случаев, так и для непредвиденных.
Наконец суетливое время выездов и приемов пришло к концу. Молодая графиня Рекенштейн была должным образом представлена обществу, приняла различные приглашения, появлялась с мужем в театре и наконец созвала всех знакомых на большом обеде перед отъездом в деревню.
Когда все гости разъехались, молодые супруги остались одни в маленькой красной гостиной.
— Слава Богу, что вся эта суета кончилась! — воскликнул Танкред с видимым нетерпением. — Я хочу как можно скорей уехать в Рекенштейн и попрошу вас, графиня, поторопиться со сборами, чтобы нам выбраться отсюда дня через три: самое позднее.
Он слегка поклонился и направился к дверям.
— Танкред! — окликнула вполголоса Лилия.
— Что вам угодно?
— Я хотела просить вас отпустить меня одну в Рекенштейн, — сказала графиня, подходя к нему. — Никто не будет удивлен, что вы не сопровождаете меня в замок; останьтесь в городе, где больше развлечений; они нужны вам.
— Я искренне тронут вашим внезапным и нежным участием, — прервал ее насмешливо граф, — но успокойтесь; я не приношу жертвы, а желаю отдохнуть в деревне от удовольствий последнего времени. Не бойтесь, впрочем, я ничем не буду вам мешать; замок велик; могу даже занимать отдельный флигель. Что касается развлечений, в них не будет недостатка; у нас не мало соседей: я буду много выезжать, и так как наши отношения не замедлят сделаться басней всей окрестности, — меня будут жалеть от всей души.
— Что вы хотите этим сказать? Полагаю, что каждый разумный человек будет гораздо более жалеть меня, — сказала Лилия, сморщив лоб.
Граф насмешливо улыбнулся.
— Вы ошибаетесь, моя премудрая супруга. Будучи вынужден объяснить как-нибудь ваше внезапное появление, я сказал, что женился на вас против воли вашего отца, который тотчас из-под венца увез вас неизвестно куда, сделав мне самую тяжелую сцену. К этому я прибавил, что, возвратясь сюда, я не говорил о моем браке, так как был глубоко оскорблен, но найдя вас, поспешил примириться. Теперь ясно, что каждый объяснит мое внезапное охлаждение сделанным мной печальным открытием, что я напрасно поспешил; что, когда женщина, молодая и красивая, отваживается жить одна в течение пяти лет, муж становится так же далеко от сердца, как и от глаз. И вы сами бросили на себя тень, оказывая мне при посторонних так много доброты; моя холодная сдержанность достаточно доказала, что оскорблен, обманут — я.
Каждое слово этого объяснения была ложь. Но он хотел оскорбить Лилию, довести до бешенства и заставить ее раскаяться, что она так грубо оттолкнула его. Заметив, что достиг цели, так как графиня пошатнулась как ошеломленная, он продолжал, прислоняясь к столу и скрестив руки:
— Неужели вам, действительно, никогда не пришло на ум, что по наружному виду все будет против вас и что самая строгая добродетель может подвергнуться пересудам злых языков? Без серьезных причин муж не бывает холоден к красивой жене, с которой его разлучили в церкви и которую он снова принял с распростертыми объятиями; и если из честности и сожаления я бы не продолжал отказывать в разводе, на вас указывали бы пальцем и не сомневались бы в причинах, заставивших нас разойтись.
С воспаленным лицом и тяжело дыша, Лилия прислонилась к столу. Да, их несогласие не могло не возбудить подозрений; слуги не знали, где она провела все время; но чтобы подозрения были такого рода, это не приходило ей на ум.
— Гнусная ложь! — вскрикнула она прерывистым голосом.
— Докажите противное, — возразил граф, подергивая с усмешкой усы.
В эту минуту глаза их встретились. Жестокая радость, что ему удалось уколоть ее, так ясно выражалась в жгучем взгляде Танкреда и в беспечной, насмешливой улыбке, скользнувшей по его губам, что это мгновенно возвратило графине ее хладнокровие. Она выпрямилась, и взгляд, брошенный ею на мужа, ответил ему насмешкой за насмешку; губы ее дрожали, и она сказала язвительным голосом:
— Так радуйтесь нанесенному вам оскорблению, которое заставит друзей и соседей жалеть вас. Но ваша ветреность известна всем. Вы не можете отрицать ваших шумных любовных похождений с брюнеткой Розитой, наездницей цирка, с танцовщицей Браун, с оперной певицей мадемуазель Адари, которую вы содержали эту зиму открыто для всех. Я уже не говорю о таких маленьких грешках, как хорошенькая белошвейка на Вильгельмштрассе, как цветочница и… целый реестр, достаточный, чтобы возмутить самую терпеливую жену и вызвать неприятности, способные испортить мужу его настроение духа.
Эти слова на минуту привели Танкреда в замешательство.
— Ах, не знал, что вы так за всем следите, — заметил он.
— Не я, а баронесса. Она рассказала мне о ваших успехах.
— Бедная Элеонора не знала, какую опасную соперницу она приютила у себя и как ее откровенность была неуместна. Это заставляет меня выслушивать первую супружескую проповедь. Благодарю.
И с насмешливым низким поклоном добавил:
— А все же, графиня, ваши колкости не производят на меня большого впечатления и не изменяют того, что я высказал на ваш счет.
Лилия повернулась к нему спиной, и, ничего не говоря, вышла из комнаты. Минуту спустя в ту же дверь вошла Сильвия, раздраженная, с покрасневшим лицом.
— Чем ты опять так расстроил Лилию? Как тебе не стыдно сердить и оскорблять ее на каждом шагу?!
— Она тебе жаловалась? — спросил невинным тоном Танкред.
— Нет, но я застала ее в слезах, и она не хотела объяснить мне их причину; но я сама угадываю ее, находя тебя здесь.
— Так я открою тебе истинную причину ее слез. Бедной Лилии не удалось взбесить меня; ее язвительные слова скользнули по мне, как вода по стеклу. А что может быть ужаснее для женщины, как неуспешная попытка вывести из себя человека, если ей того хочется? Эта неудача и вызвала ее слезы.
— Фи, Танкред! Ты обижаешь жену, а потом лжешь на нее, вместо того чтобы пойти попросить у нее прощения.
Танкред повернулся на каблуке и стал насвистывать охотничий мотив.
— Мне, просить у нее прощения?! — резко возразил он некоторое время спустя. — Это зачем? Отчего не ей у меня? Расстояние между нами одинаковое. Но оставим этот разговор; наши ссоры с Лилией не твое дело. Я имею предложить тебе более важный вопрос, милая сестра. Скажи, сделай милость, что заставило тебя отказаться от двух таких выгодных партий, как барон Дорн и граф де Гейерштейн? Оба красивы, богаты, оба сделают блистательную карьеру, один на военном поприще, другой на дипломатическом. Потом, они самые искренние мои приятели, и я был уверен, что ты выберешь одного из двух.
— Оттого я им и отказала, что они неизменные товарищи всех твоих безрассудств и похождений.
— Это очень лестно. Но твои опасения напрасны. Самый ветреный человек делается солидным, когда на его шее висит супружеская цепь; и ревнивая жена лучше всякого тюремного сторожа. Достаточно нескольких бурных супружеских сцен, чтобы обратить в ягненка, в надломленный цветок самого отчаянного кутилу. А тебе это будет еще легче, так как оба очень в тебя влюблены и просили меня уговорить тебя.
— Нет, они слишком в твоем роде; даже в их предложении не было слышно того глубокого и полного чувства, той истинной любви, которая выражается в каждом взгляде, звучит в голосе и чувствуется сердцем. Что касается сильной любви графа, — Сильвия расхохоталась, — она явилась у него по приказанию отца; старый граф был очень недоволен его открытой связью с вдовой коммерции советника Гаммера и приказал сыну покончить и жениться приличным образом.
— Кто тебе это сказал? — спросил удивленный Танкред.
— Его сестра. Ты видишь, источник очень верный. Нет, нет, если я не найду человека серьезного, умного, сердечного, я не избавлю тебя от твоих опекунских забот.
— Полагаю, что опека будет продолжительна и что ты рискуешь остаться старой девой. Все мои приятели заранее подверглись твоему приговору. Должно быть, Лилия научила тебя с презрением относиться ко всему, что имеет соприкосновение со мной, и находить, что мы все мужики и солдафоны, прикрытые фраком или мундиром.
— Она это сказала? — спросила с изумлением Сильвия.
— Да. И подавленный собственным ничтожеством, я должен отказаться искать тебе жениха. Попрошу Арно заняться этим делом. Он, такой серьезный и последнее время такой меланхоличный, лучше поймет твои требования; если же не найдет никого тебе по вкусу, то не останется другого ресурса, как ему самому жениться на тебе.
— Танкред! — воскликнула Сильвия, покраснев по уши. — Воздержись от шуток дурного тона. Арно такой превосходный человек…
— Что же, ты недостойна его?
— Конечно. А потом, не могу же я выйти замуж за брата.
— Та-ра-ра! Это родство — одна фантазия. Кто может помешать графу Арнобургскому жениться на дочери Габриэли и Района де Морейра? Ты имеешь даже некоторый шанс, — продолжал неосторожный, неисправимый ветреник. — Ты поразительно похожа на мать, которую он любил так безумно, что в течение семнадцати лет едва мог забыть ее, а может быть, не забыл и теперь. Но, к несчастью, у тебя нет того чарующего обаяния, той демонической силы, которыми наша мать покоряла сердца мужчин.
Сильвия смертельно побледнела; не говоря ни слова, она повернулась и ушла к себе.
— Ого! Надо будет исследовать этот любопытный вопрос, — прошептал он, улыбаясь.
Переодевшись в домашнее платье и отослав своих горничных, мадемуазель де Морейра предалась размышлению, и несколько горячих слезинок скатилось по ее щекам. Безрассудные слова брата порвали завесу, скрывавшую от нее самой ее собственное сердце. Да, Арно был для нее идеалом; она стремилась к нему душой, и не родство становилось преградой между ними, а равнодушие графа, который не находил в ней того, что любил в ее матери; видел в ней лишь бледную копию, тело, лишенное духа. Была минута, когда она горько пожалела, что не обладала такой же обаятельной, порабощающей силой, но почти тотчас покачав своей хорошенькой головкой, прошептала.
«Нет, даже ценой твоей любви, Арно, я не хотела бы причинить тебе страдания, подобные тем, какие ты вынес».
Опасение, что Арно может заметить ее чувство, сильно смущало ее, а мысль, что она лишь напоминала ему его прошлую любовь, приводила ее в нервное раздражение. И она решила принять первое предложение, какое ей будет сделано, чтобы выйти из неловкого положения и иметь цель жизни.
В назначенный день Танкред и Лилия сели в купе первого класса. Она была холодна и спокойна, он — задирист и язвителен.
Путешествие совершилось благополучно, и Лилия делала вид, что не замечает, как ее муж, выходя на каждой станции, лорнировал с хвастливой бесцеремонностью всякую хорошенькую женщину, какая попадалась ему на глаза. В Рекенштейне их приняли с торжеством. Школьный учитель сказал приветственную речь, и под градом злых насмешек, какие нашептывал ей муж, молодая графиня вступила в замок. Супруги поместились в отдельных апартаментах и после нескольких дней отдыха начали делать визиты в окрестностях.
Между соседями самым близким был один старый граф де Равенгорст, года два-три назад поселившийся в своем поместье, бывший кутила, подагрик и почти слепой, но чрезвычайно богатый. Последним его безрассудством была его женитьба на молодой и красивой женщине, не очень богатой, но большой кокетке, интриганке, жаждущей удовольствий.
Танкред, казалось, был обворожен, увидев графиню, которая была действительно прелестной женщиной; маленькой, стройной, как сильфида, с пепельными волосами и зеленоватым цветом больших прекрасных глаз, вследствие чего ее прозвали Ундиной.
На мадам де Равенгорст Танкред произвел не менее сильное впечатление, и, судя по тому, как она к нему относилась, Лилия поняла тотчас, что в ней появилась опасная соперница, если она действительно станет оспаривать ее у Танкреда.
Знакомство сразу стало очень интимным, так как оказалось, что Танкред встречался в Берлине с братом графини Генриетты, который приехал провести у зятя свой двухмесячный отпуск.
Визит был очень скоро отдан, и между графом Рекенштейн и красавицей-соседкой начался усердный флирт, между тем как брат последней ухаживал за Лилией; но Танкред делал вид, что не замечает, какое страстное восхищение молодой человек выказывал его жене.
Раз утром Лилия, возвращаясь с прогулки, встретила мадам де Равенгорст; она ехала верхом одна. Дамы поговорили с минуту, но амазонка не могла скрыть своего нетерпения и поспешила уехать.
Мрачная, нахмурив брови, Лилия вернулась в замок. Возбужденная в ней ревность внушала ей разные подозрения, обратившиеся в уверенность, когда из окна своего будуара она увидела, что Танкред несся во весь опор вдоль авеню и затем повернул лошадь к лесу. Буря забушевала в душе молодой женщины, возбуждая в ней желание отомстить. И это желание приняло определенную форму, когда полчаса спустя щегольский экипаж брата соперницы остановился у подъезда.
Барон Дагобер де Сельтен был красивый молодой человек, стройный блондин, как его сестра, и гусарский мундир шел к нему как нельзя более.
Лилия встретила барона с той милой приветливостью, какой она никогда не оказывала ему; задержала его, потом повела в сад, показала ему оранжереи, олений парк, фазаний двор; наконец, принимая с полной благосклонностью любезное внимание и пламенные взгляды своего спутника, Лилия села с ним возле пруда, чтобы кормить лебедей.
Они были поглощены этим невинным занятием, когда в конце аллеи показался Танкред с раскрасневшимся лицом и очень разгоряченный. Он шел очень скоро, хлопая хлыстом и не сводя глаз с Лилии. Она была прелестна в своем белом платье и большой шляпе из голубого крепа; с веселой улыбкой она бросала лебедям кусочки хлеба, которые подавал ей собеседник, говоря ей что-то с большим оживлением.
— Боже мой! Лилия, что за дикая идея тащить барона в сад, когда солнце печет, как в странах жаркого пояса, — сказал Танкред, стараясь придать голосу шутливый тон и кланяясь гостю.
— Мы здесь в тени; и возле воды довольно свежо, — ответила она простодушно. — Я старалась, как умела, развлечь нашего милого соседа; ты так долго не возвращался: провожал, вероятно, графиню до дома.
— Да, — отвечал граф, неприятно пораженный, и поспешил переменить разговор.
Вернулись в замок, и так как было довольно поздно, то Лилия оставила барона обедать. Затем играли в крокет, и графиня отпустила гостя лишь после чая. Танкред задыхался, а молодая женщина была в восторге от этих симптомов затаенной злобы своего супруга и находилась в прекрасном настроении духа. Когда наконец барон уехал, граф сказал язвительно:
— Сельтен обворожил тебя сегодня: ты не могла с ним расстаться.
— Разве это тебя стесняло? Ведь я одна занимала гостя; ты был так молчалив, что месье Сельтен спросил меня, что с тобой, я отвечала, что у тебя болят зубы.
— Тем более ему следовало убраться прочь. Какая бестактность оставаться бесконечно, когда хозяин дома нездоров. Потом я должен тебе заметить, что совсем неприлично показывать ему такое внимание в мое отсутствие: декорум должен быть соблюден.
Лукавая улыбка скользнула на румяных устах Лилии.
— Боже мой! Ему хотелось тебя видеть, а так как я знала, что ты отправился на прогулку с графиней, то и оставила его. Потом зубная боль не такая болезнь, чтобы из-за этого уезжать.
— Вероятно, барон сказал тебе, что я провожаю мадам Равенгорст; он встретил нас, — заметил граф, насупив брови.
— Ах, нет! Ведь он твой приятель и слишком скромен, чтобы вмешиваться в дела, которые его не касаются. Я сама догадалась, так как встретила графиню; она не могла удержаться на месте от нетерпения, и когда затем я увидела, что ты мчишься вдоль авеню, как ураган, то поняла, что вы спешите друг к другу, чтобы отправиться вместе на прогулку.
Танкред отвернулся взбешенный и, выходя из комнаты, сильно хлопнул дверью.
С этого дня барон сделался усердным посетителем Рекенштейнов, ухаживал за прекрасной владетельницей замка, которая принимала его с неизменной приветливостью. Танкред был вне себя от ревности: бесился втихомолку, когда барон помогал Лилии сойти с лошади, или выйти из экипажа, или вообще оказывал какую-нибудь подобную услугу. Он совсем перестал интересоваться графиней де Равенгорст, не трогался из замка и, когда приезжал Сельтен, следил за ним, как сторож.
Лилия была в восторге от такого положения дела, так как это удовлетворяло ее мстительность и успокаивало ее ревность. Она не щадила Танкреда и смеялась исподтишка, когда он употреблял всякие хитрости, чтобы первому подойти снять ее с лошади, или жаловался на мигрень, когда она хотела играть в четыре руки с бароном. Тем не менее молодая женщина действовала настолько с тактом, что граф не мог ни к чему придраться. Он понимал, что она дразнит его и хочет его помучить, но, несмотря на эту уверенность, не мог победить своей ревности и страха, что эта опасная игра может привести к гибельным последствиям.
Приезд Сильвии и графа Арнобургского вскоре после нее, придал этой игре неожиданный оборот. Барон стал понемногу отставать от Лилии, влюбился заметным образом в мадемуазель де Морейра и ухаживал за ней так, что его намерения сделались ясными для всех. Танкред был бесконечно рад, а Лилия немного досадовала, что расстроились ее манеры; и так как граф больше хотел, чтобы Сельтен был его родственником, чем соперником, то он открыто поощрял искания барона.
Но сама Сильвия оставалась равнодушной к ухаживанию молодого человека. Она была печальна, задумчива, избегала присутствия Арно настолько, как прежде искала его, и жаждала уединения. Граф заметил эту странную перемену, смущение молодой девушки, когда он обращался к ней с речью, ее старание избегать тех братских фамильярностей, которые, бывало, она так охотно допускала, и он счел своей обязанностью быть с ней строго сдержанным. Он тоже стал печален, раздражителен, озабочен и объявил, что, как ни было приятно гостеприимство Рекенштейна, он решил поселиться окончательно в Арнобурге, где намеревался провести и зиму.
Накануне дня, назначенного для этого переселения, вся семья собралась к первому завтрака на террасе. Затем Лилия вышла для какого-то хозяйственного распоряжения, Арно сел в сторону с журналом; Сильвия собиралась последовать за невесткой, но Танкред остановил ее:
— Послушай, — сказал он, — я имею основание думать, что послезавтра на балу барон Сельтен сделает тебе предложение. Надеюсь, что на этот раз ты будешь благоразумна и без всяких капризов дашь свое согласие. Это прекрасная партия, человек честно любит тебя. Что ты можешь желать лучшего? Такого совершенства, как Арно, тебе не найти, — заключил он лукаво.
Сильвия вспыхнула, но Арно побледнел и сдвинул брови.
— Я бы желал, чтобы ты не включал меня в свои дурные шутки. А что касается твоего желания породниться с Сельтеном, оно удивляет меня.
— Отчего? Барон вполне порядочный молодой человек и прекрасный офицер. Разве ты имеешь что-нибудь против него?
— Ничего, только это кутила и мот, запутавшийся в долгах, так что состояние Сильвии придется ему кстати.
— Боже мой! Арно, можешь ли ты вменять в преступление Сельтену такую обыкновенную вещь. У кого нет долгов, когда он молод и когда он служит в гвардии? Мне известны долги барона: они не переходят границ приличия, и Равенгорст обещал уплатить их в случае женитьбы; состояние Сильвии избавит его от необходимости делать новые долги; он остепенится от любви к жене. А твои резоны не таковы, чтобы отказать человеку. Что скажешь на это, сестра?
— Если ты думаешь, что женитьба на мне будет иметь тот добрый результат, что обратит ветреника на путь истинный, то я согласна выйти за барона; он кажется мне добрым малым, — отвечала мадемуазель де Морейра глухим голосом.
— Отлично! — Твое решение делает тебе честь. И, быть может, на этом же балу мы объявим о вашей помолвке.
— Нет, нет! Не так скоро. Мне надо некоторое время, чтобы привыкнуть к этой мысли, — воскликнула бледная, взволнованная Сильвия и, схватив шляпу, кинулась в сад.
Покраснев по уши, Арно встал и, бросив журнал так, что он полетел за перила, подошел к брату.
— Скажи, пожалуйста, зачем ты мучаешь девочку и упорно навязываешь ей на шею этого негодного мота, волокиту, которого она не любит? Мало того, что в твоей собственной жизни ты так ветрен, такой невозможный муж, ты еще играешь будущим своей сестры и приносишь ее в жертву капризу ревности.
— Ошибаешься, — возразил Танкред, улыбаясь, — Я имею в виду лишь счастье Сильвии. Я не могу создать ей такого мужа, о каком она мечтает; но необходимо дать ей цель жизни, чтобы излечить ее от несчастной любви к тебе, так как сам ты не хочешь жениться на ней.
Арон побледнел и отвернулся.
— Ты не можешь жить без глупостей, Танкред. Сильвия любит меня, как брата, и связать ее с человеком, который годится ей в отцы, было бы дурной гарантией ее будущности.
— Вот ты говоришь глупости, Тебе тридцать восемь лет, ты красив и здоров, как двадцатилетний юноша. Отчего же ты не можешь составить счастье женщине? Сильвия была влюблена в тебя прежде, чем тебя увидела; она носит на шее твой портрет. Но ты слеп и просто глуп. Но, погоди, мне пришла мысль. Я стану ее допрашивать и заставлю сказать правду, а ты слушай за дверью и будешь удовлетворен, — заключил шутливо неисправимый ветреник.
— Фи! Как тебе не стыдно предлагать что-нибудь подобное, — отвечал Арно, поворачиваясь к нему спиной, беря шляпу и уходя прочь с террасы.
Опустив голову, граф медленно шел по тенистой аллее, стараясь привести в порядок многосложные чувства, вызванные в нем словами Танкреда. Он давно понял, какого рода чувства внушала ему Сильвия, но старался подавить любовь, которую считал возвратом несчастной страсти, омрачившей лучшие годы его жизни. Ценою каких усилий и страданий он приобрел спокойствие и душевный мир, и вот, при первом вступлении в родительский дом, он видит перед собой живой образ Габриэли, такой, какой он ее воображал: воплощение мира и счастья.
Всеми силами своей души он привязался к прелестной молодой девушке, синие глаза которой напоминали ему бури прошлого и сулили счастливую будущность, мирную пристань, если бы только он мог ее достигнуть. Но он решил не делать попытки, так как находил себя слишком пожилым и серьезным, чтобы составить счастье семнадцатилетней девочки. Слова Танкреда поколебали его решимость. Что если этот ветреник прав?! Если действительно Сильвия любит его, не принесет ли он в жертву ложному убеждению счастье их обоих? Имеет ли он даже право допустить неподходящий брак и дать ей кинуться, очертя голову, в объятия первого попавшегося развратника, который отравит ей жизнь?
Сам того не замечая, граф дошел до грота, находящегося в глубине сада, где он провел с Габриэлью столько упоительных часов. С глубоким вздохом он отворил дверь, чтобы отдохнуть, перешагнул порог, остановился, увидев в конце грота Сильвию: она сидела у одного из столиков, закрыв лицо руками, и обильные слезы текли сквозь ее тонкие пальцы.
С внезапной решимостью граф подошел к ней.
— Сильвия, о чем ты плачешь? — спросил он, наклоняясь к ней.
Молодая девушка встала, вся вспыхнув.
— Ничего, это нервы; затем разговор с Танкредом взволновал меня, — прошептала она, стараясь уйти.
Но Арно, взяв ее за руку, посадил возле себя на маленьком диване.
— Ты плачешь потому, что не любишь барона и решаешься все-таки выйти за него. Зачем это? Разве ты не имеешь больше никакого доверия ко мне? — спросил он, устремляя откровенный, ласковый взгляд в смущенные глаза молодой девушки, опустившей голову. — Правда ли, что всем этим женихам ты предпочитаешь утомленного путника, любящего тебя всеми силами своей души? Скажи, желаешь ли ты подарить мне свою любовь, протянуть мне руку и следовать за мной в мой старый уединенный замок?
Сильвия подняла голову. В глазах ее отражалось то сомнение, то счастье; но вдруг она обвила руками шею графа и воскликнула с простодушным восторгом:
— Арно, милый Арно, можешь ли ты еще спрашивать, хочу ли я быть счастливой! Скажи лучше, действительно ли правда, что ты меня любишь, ты, такой совершенный, такой превосходный во всем. И не будет ли тебе тяжело найти ничтожного ребенка, слабую, неодухотворенную копию в той, которая напоминает тебе пленительную женщину, внушавшую тебе такую сильную любовь?
Граф покраснел.
— Оставь прошлое, ревнивица; оно похоронено и забыто. Твоя мать пронеслась в моей жизни как разрушительный ураган, а ты явилась на моем пути как солнечный луч, который рассеет последние тени; твои глаза, невинные и ясные, не обрекают на безнадежное страдание, а сулят мир и счастье. Но ты можешь ли быть счастлива со мной?
— Ах, об этом не беспокойся. Разве ты не чувствуешь, что я любила тебя с той минуты, как увидела в медальоне моей матери, — воскликнула Сильвия с сияющим лицом. — Мысленно я постоянно следила за тобой в отдаленных краях, где, я знала, ты скитаешься, не находя покоя; я ежедневно молила Бога даровать тебе душевный мир и возвратить тебя к нам. Бог услышал мою молитву, и если Он поможет мне сделать тебя счастливым, заставит тебя забыть свои страдания, это облегчит душу матери, она увидит, что я залечила рану, которую она нанесла.
Слишком растроганный, чтобы отвечать, граф прижал ее к груди.
— И мы проведем в Арнобурге эту зиму, не правда ли? — спросила Сильвия, отвечая на его поцелуй. — Я терпеть не могу города с его шумом и рассеянной жизнью.
— О, я разделяю твой вкус. Но не соскучишься ли ты со своим старым мужем?
— Ты старый? — переспросила Сильвия, положительно обиженная. — Конечно, ты красивее и привлекательнее всех этих безголовых фатов, которых я видела в Берлине.
— Так я не буду тебя разочаровывать насчет моей красоты и всех моих совершенств, — отвечал Арно, смеясь. — А теперь пойдем; скоро подадут завтрак, мне любопытно видеть удивление Танкреда, когда он узнает о счастливом результате его болтовни.
На террасе слуги кончали приготовления к завтраку. В стороне, за маленьким столом, сидела Лилия и разбирала цветы; между тем как ее муж, положив руки в карманы, ходил по комнате, рассказывая, что Сильвия согласна выйти за барона, и заявлял, что он крайне доволен решением сестры.
— Сильвия, подтверди своей невестке, что ты выходишь за Сельтена, — крикнул Танкред.
— Нет, нет! — спроси у Арно, — отвечала молодая девушка, смеясь.
— Да, я подтверждаю, что она никогда не выйдет за него, так как помолвлена со мной. Поздравьте нас, граф и графиня Рекенштейн, — сказал весело Арно. — А вы, — обратился он к слугам, — принесите шампанского.
Танкред подпрыгнул от радости, между тем как лакеи побежали исполнять приказание.
Затем он так обнял брата и сестру, что чуть не задушил. Лилия в свою очередь поздравила их. Счастливая, она прижала Сильвию к своей груди и протянула обе руки Арно.
— Теперь я знаю, что она будет счастлива, — сказала Лилия с чувством.
Свадьбу назначили через месяц, и Танкред настаивал, чтобы ее праздновали с надлежащей пышностью. Время проходило быстро, так как приготовления к этому торжеству дали всем много дела.
Лилия была поглощена заготовлением приданого для невестки. Арно устраивал и украшал свой старый замок для приема его будущей прелестной владетельницы. Танкред деятельно занимался всеми подробностями свадебного пира и устройством блистательного фейерверка. Одна Сильвия ничего не делала и жила как в счастливом сне.
Эта деятельность и множество вызываемых ею развлечений ослабили несколько ожесточенную войну между графом и графиней Рекенштейн. Конечно, они все еще продолжали ссориться при каждом удобном и неудобном случае, но бывали минуты перемирия, когда они благоразумно рассуждали о разных хозяйственных и даже денежных вопросах.
В глубине души оба жаждали мира. Счастье Арно и Сильвии, их спокойное согласие возбуждали легкую зависть в сердце Лилии и лихорадочное нетерпение в сердце Танкреда. Тем не менее примирение не наступало, так как оба были упрямы; она не хотела сделать первого шага, а он не знал, как к этому приступить, и все добрые стремления кончались новой ссорой…
Наконец, настал день свадьбы.
С самого рассвета все было в движении в Рекенштейне. Делали последние приготовления: развешивали гирлянды, вешали шкалики, которыми предназначалось осветить парк, и церковь превращалась в букет редких цветов. Танкред, осмотрев окончательно все, стал скучать; брат был в Арнобурге, дамы не показывались, шум и суета в доме действовали ему на нервы, и он велел оседлать лошадь и уехал, предупредив камердинера, что вернется к завтраку.
Около полудня граф, возвращаясь с долгой прогулки, въехал в небольшой лес, смежный с парком.
Лошадь шла шагом по тропинке, тянувшейся вдоль реки, воды которой, прозрачные, как кристалл, катились по песчаному дну.
Молодой человек был разгорячен жарой настолько же, как и давящими мыслями, осаждавшими его. И вдруг ему пришло желание освежиться, окунувшись в реке.
Не размышляя более, он соскочил с лошади и привязал ее к дереву. Затем, отыскав неподалеку маленькую бухту, окаймленную мхом и окруженную живой изгородью, густой как стена, он разделся и прыгнул в воду.
Граф не подозревал, что два любопытных глаза внимательно следили за ним с той минуты, как он появился на прогалине. То были глаза человека средних лет, одетого в рваное отрепье; его красный нос и поблекшее лицо свидетельствовали, что он был пламенным поклонником Бахуса.
Едва граф, умевший прекрасно плавать, достаточно удалился, как бродяга подполз, точно змея, к его платью, жадной рукой притянул к себе весь гардероб Танкреда и скрылся в чаще леса.
Можно себе представить душевное состояние графа, когда он увидел, что из его туалета у него осталась лишь соломенная шляпа, висевшая на суку и не замеченная мошенником.
Страшно взбешенный, он разразился ругательствами, хотя все еще с лихорадочным раздражением искал вещи, отказываясь верить очевидному; но факт не подлежал сомнению, надо было с ним примириться и ждать терпеливо прохожего, которого он мог бы послать в замок.
Дрожа от бешенства и нетерпения, Танкред поместился в чаще кустарников, ближе к дороге, чтобы видеть ее в том и другом направлении, но ожидания его были тщетны. Было часов пять по крайней мере, в семь должны приехать приглашенные на свадьбу, а он был прикован к месту. Лошадь его тоже потеряла терпение. Долго он слышал, как она ржала и билась, наконец, порвала, вероятно, узду, которой была привязана, так как затем по тропинке раздался ее топот; она убежала рысью, направляясь, конечно, к себе в конюшню через авеню своим обычным путем.
В замке отсутствие графа стало возбуждать беспокойство. Его напрасно прождали к завтраку, и теперь, в час обеда, он все еще не возвращался. Охваченная недобрым предчувствием, смешанным со смутной ревностью, Лилия взяла шляпу и перчатки, намереваясь встретить мужа, или узнать, по крайней мере, когда и где он проезжал.
Когда Танкред со своего наблюдательного поста увидел приближающуюся женскую фигуру, он хотел ее окликнуть и просить, кто бы она ни была, послать ему лакея, но разглядев, что это Лилия, промолчал; он был взбешен, но не мог решиться открыть ей свое смешное положение.
Он не имел, впрочем, времени долго размышлять, так как в эту минуту послышались тяжелые шаги и стук копыт, и на повороте дороги показался старый охотничий смотритель; он был очень озабочен и вел за узду лошадь Танкреда; колени лошади были в крови.
— Где вы нашли ее, Вебер, и отчего она ранена? Не случилось ли несчастья с мужем? — спросила молодая женщина, бледнея.
— Да, графиня, есть факт, не обещающий ничего хорошего, — отвечал старый смотритель, почесывая за ухом. — Очень подозрительный человек пришел в сельский кабак и продал там платье и белье; метка белья обратила внимание кабатчика, и он послал за комиссаром; когда мошенника, который был мертвецки пьян, обыскали, то нашли на нем часы графа и запонки. Так как эта каналья не в состоянии отвечать, а я случайно был там, то комиссар послал меня в замок спросить, заметили ли кражу; но по дороге я встретил лошадь, вот в таком виде и это внушило мне тревожные мысли.
— Ах! Очевидно, что совершено преступление! — вскрикнула молодая женщина вне себя.
— Успокойтесь, графиня, быть может, он только ранен и лежит в обмороке.
— Садитесь на лошадь, Вебер, и поезжайте скорее в замок. Пусть бьют в набат, чтобы тотчас шли на поиски, — приказала Лилия, опираясь на дерево, так как ее дрожащие ноги отказывались служить.
Оставшись одна, она опустилась на пень и закрыла лицо руками. Молодая женщина была страшно поражена. Ясно, что живой Танкред не дал бы себя ограбить и даже раненый дотащился бы до дому, позвал бы на помощь; ее возбужденное воображение рисовало ей ужасные картины: она уже видела, что приносят обезображенный труп мужа, облитый кровью, и мгновенно мучительный упрек совести так сильно сжал ее сердце, что оно готово было разорваться. Не ответила ли она грубым отказом на его раскаяние? Не мучила ли его всячески, зная, что он ее любит? А теперь он умер; все кончено; она не может загладить обиды, которые так эгоистично наносила ему ее мстительность. Поток горьких слез хлынул из ее глаз, и, ломая руки, она воскликнула:
— Бедный, бедный мой Танкред! Я не хотела с ним примириться, а теперь уже поздно.
Убитый, прячась в своей засаде, на расстоянии нескольких шагов, Танкред следил за этой сценой, не подавая признака жизни.
— Ах, злодейка, как она меня любит и жалеет мертвого, а живому наносит лишь одни оскорбления, — шептал он, тронутый и довольный.
Но увидев слезы Лилии и услышав ее восклицание, он не вытерпел и крикнул смущенным и вместе с тем лукавым голосом:
— Нет, нет, ничто не утрачено, я жив и невредим. Проклятый бродяга украл лишь мои вещи, пока я купался. Так не порти своих прекрасных глаз напрасными слезами.
Лилия вскочила на ноги и вскрикнула. Она не могла понять, откуда слышен был этот голос; но как только комизм положения стал ей ясен, она разразилась неудержимым смехом и Танкред невольно вторил ей. С трудом преодолевая себя, она сказала, не то смеясь, не то сердясь:
— Это мне нравится! Вместо того чтобы крикнуть, когда мы говорили с Вебером, ты шпионишь за мной.
— А иначе разве бы я услышал твое признание в любви? Но, ангел мой, после будешь журить меня, теперь иди, пожалуйста, в замок и пришли Осипа с платьем; мне надоело разыгрывать роль Адама в раю.
— Боже мой! Не простудился ли ты? — спросила Лилия с беспокойством.
— Нет, не бойся, я все время потел с досады и нетерпения, — отвечал молодой человек со смехом. — Но еще вот что: скажи, чтобы меня не искали и не делали шуму; пусть попросят комиссара отпустить эту пьяную каналью ко всем чертям; не надо разглашать этот глупый случай.
— Хорошо, хорошо, — отвечала Лилия, направляясь бегом к дому.
Возвратясь, она нашла весь замок в волнении. Но графиня положила конец общему смятению, объявив, что граф жив и здоров. Она послала смотрителя к комиссару, а камердинеру велела отнести как можно скорее невольному пленнику необходимую одежду.
Час спустя, одевая невесту, Лилия увидела возвращающегося мужа и указала на него Сильвии. Молодая девушка уже знала о случившемся, и обе они смеялись, как безумные. Но о том, что она выдала себя перед этим несносным Танкредом, Лилия умолчала.
Она кончала одеваться, когда ей доложили, что несколько экипажей показалось в конце авеню; бросив последний взгляд в зеркало, молодая женщина самодовольно улыбнулась.
В ту минуту, как она входила в большую гостиную, в противоположной двери показался Танкред в полной парадной форме. Увидев жену, он покраснел и поспешно подошел к ней; присутствие слуг помешало их объяснению, но по тому, как он поцеловал ее руку, и по счастливому, смущенному взгляду Лилии оба поняли, что вражда окончена.
После ужина новобрачные уехали в Арнобург, но бал продолжался, и на горизонте занималась заря, когда Танкред проводил своих последних гостей.
Лилия вернулась к себе, счастливая и спокойная, как никогда. Она вышла на террасу и, опершись на балюстраду, устремила задумчивый взор на необъятную зелень парка, еще освещенного, который, казалось, соединялся с темной каймой леса, окружающего Рекенштейн.
Шаги Танкреда, искавшего ее, заставили ее оглянуться. Он вошел на террасу и, сияющий, растроганный; подошел к ней.
— Дашь ли мне, наконец, свою любовь и прощение, жестокая властительница моего сердца? У твоих ножек, как ты того требовала, молю тебя о мире, — сказал он, преклоняя колено.
Молодая женщина, смущенная, смеясь, запрокинула обеими руками голову мужа и запечатлела долгий поцелуй на его губах.
— Неисправимый мотылек, долго ли я буду властвовать над тобой? — прошептала она.
— Нет, нет, довольно ветреничать, — воскликнул Танкред, вставая и страстно привлекая ее в свои объятия. — Ты не знаешь, как я утомлен безрассудными увлечениями, как жажду покоя и мирного счастья у семейного очага. И потом, — он лукаво усмехнулся, — Веренфельсы созданы для того, чтобы обуздать меня.
— Дай Бог, чтобы эта власть поддерживалась неизменно, чтобы мир и любовь были всегда девизом нашей жизни, — с глубоким чувством ответила Лилия.




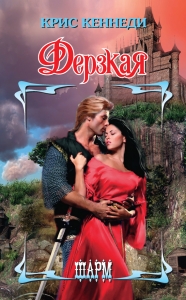
Комментарии к книге «Рекенштейны», Вера Ивановна Крыжановская
Всего 0 комментариев