Ирина Красногорская Великая княгиня Рязанская
Часть первая Дочь великого князя Московского
1
Ещё-ещё-щё-щё-щё!
– Марьюшка, да ухватись же за рушник! Упрись, упрись в меня ножками. Да не сюда, не сюда – в грудь. Ничего ей не поделается. Господи, никак опять сомлела? Что же делать? Царица Небесная, помоги!
Свекровь и бабки-повитухи сбились с ног у постели великой княгини Московской Марии Ярославны.
– Курицу бы теперь, несушку…
– Да где ж её возьмёшь в такую пору? Побрызгайте на лицо! Скорее! Да не так, всё вас, неумех… Ноги поднимите. А ветер-то, ветер. Всё из-за него. Ни зги не видать. Ещё свечей! Эх, не к добру днём свечи жечь. Да разве в такую непогодь… Слава тебе, порозовела. Ещё-щё-щё… Нет, опять. За Тимошкой беги, блаженным. Да икону захвати, ту, что восет[1] в огороде нашли, Чудотворную…
– Перед ней князь молится.
– Скажи, я велела.
Внесли икону, тёмную, тусклую, византийского письма. Едва угадывалась на ней святая Анна, большеглазая, тонконосая, с указательным пальцем на крохотных губах.
– На грудь клади.
– Так не преставилась же…
– Клади, кому говорят!
Вбежал Тимошка. Волосы на темени вздыблены, у висков срезаны наголо, руки прячутся в широких рукавах, ноги босые высоко заголены. Захлопал руками-крыльями, зазвенел цепями да колокольцами, закудахтал несушкою. Помчался вокруг постели роженицы. Всё быстрее, быстрее, быстрее.
– Ещё-ещё-щё-щё-щё! Ну, наконец-то! Слава тебе, Царица Небесная! – Софья Витовтовна утёрла рукавом пот со лба, грузно осела на подставленную бабкой скамью.
И разъяснило в одночасье.
Бабки и близкие княгини не сразу это заметили, занятые теперь уже новорождённой: она не желала кричать. Поняли, что посветлело в ложнице[2] и ветер стих, когда княгиня Мария Ярославна неожиданно ясно и громко сказала:
– Благодать!
Этим вот впервые за три дня без крика и стона произнесённым словом и нарекли девочку. То есть нарекли, конечно, иначе – Анна. Но всем известно было тогда, на исходе зимы 1451 года, что это одно и то же.
Имя тихое, мягкое, словно шелест майской травы. Так же звали и родную, покойную тётку девочки, выданную за византийского царевича и ставшую потом женой императора, так звали и прабабку её, мать Софьи Витовтовны.
«Анна-Анна» – вызванивали колокола над Московским Кремлём; «Анна-Анна» – тоненько вторили им, скрипели полозья княжеских саней, увозивших великую княгиню-мать Софью Витовтовну от великокняжеского терема. Княгиня отъезжала к себе на двор, в Ваганьково, отсыпаться.
Искрились сугробы, сверкали инеем деревья. Хохлатые сойки обклёвывали всё ещё рясную[3] рябину. Ягоды осыпались в снег, складывались на нём в нарядные узоры.
У лобного места на Красной площади собрался праздный люд. Грызли конопляные семечки, уминали сапогами снежные намёты. Ждали. Выстроились в очередь, ожидаючи казни (кому палец, кому руку, кому и голову под топор класть), воры, лихоимцы, разбойники.
Палач сметал с колод снег, и он порошился, белый-белый. Галдело рассаживалось на крышах ближайших лабазов и лавок возбуждённое вороньё.
Перед санями великой княгини толпа нехотя расступилась. Осуждённые глядели на княгиню с надеждой, зрители с недовольством зашептали, не очень таясь:
– Ну вот, принесла нелёгкая. Сейчас особое повеление объявит.
– Не иначе дитя народилось в княжеских хоромах. Вон ведь как звонарь благостит[4], надрывается прямо.
– А может, так явилась – поглазеть?
Княгиня подъехала к каменному возвышению. Тяжело поднялась в санях и крикнула зычно, удивительно зычно для своих преклонных лет – приближалось к восьмидесяти:
– Во имя святой Анны казнь ныне отменяю! Всех милую!
Палач метнул в колоду топор – сверкнуло лезвие, брызнули в снег деревянные крошки.
– Трухлявая, менять надо, – зло сказал палач и пнул колоду.
Едва успели нянюшки завернуть новорождённую в нагретые пелёнки и принести её в особую младенческую горницу, как вошёл в неё великий князь Василий.
Полюбоваться, взглянуть (может быть, удостовериться?) – ни один из этих глаголов не подходит, чтобы верно передать цель княжеского прихода. Несколько лет великий князь Московский Василий Васильевич был незряч и обзавёлся уже приставшим к его имени на века прозвищем Тёмный. Василий Тёмный.
По княжескому терему и подворью передвигался он к тому времени уверенно и споро. Хорошо помнил, где что стоит и лежит. Требовал, правда, чтобы у вещей сохранялось постоянное место. Узнавал по шагам и дыханию домочадцев и слуг. Когда же ему предстояло с кем-нибудь знакомиться или принимать иноземных гостей, брал с собой старшего сына Ивана, мальчонку семи-восьми лет, и тот нашёптывал, как выглядит, как держится новый человек.
«Очи мои ясные» – говорил о сыне князь, а дворня между собой называла княжича обидно: «Поводырь». Иван узнал прозвище и плакал. Чтобы не позорить сына, чтобы утвердить его право наследовать престол, Василий объявил его, десятилетнего ещё, своим соправителем. И перед новоявленной сестрёнкой, которую отец бережно держал, Иван стоял, уже наделённый властью, и привычно, прилежно нашёптывал:
– Маленькая, с локоток. Личико шафрановое, круглое, как тыковка. Глаза закрыты. Носа нет. Почти. Одни ноздрюшки.
– Пригожая?
– Важная, – уклончиво ответил Иван, сестрёнка ему не понравилась, и добавил, чтобы утешить отца, – очень важная.
– Ничего, – усмехнулся князь, – к свадьбе выровняется. Положи-ка, Ванюша, княжну в зыбку.
Иван не мог дотянуться до зыбки, хотя и встал на цыпочки (зыбка, покачиваясь, уходила из-под рук), но помощи подскочившей няньки не принял, крикнул обиженно:
– Я сам, сам!
– Да сам, батюшка! Чего уж не сам, – поспешно согласилась нянюшка и, перепугавшись, что он не удержит сестрёнку, быстро опустила зыбку. – Клади полегонечку. Вот сюда, головкой на север.
– Не уроните ребёнка, ироды, – предупредил князь, когда девочку уложили.
– У иноземцев, сказывают, – заговорила нянюшка, – детишек с младенчества на лежанках пестуют. Они от…
– В зыбке – здоровее, – отрезал князь. – А вы, няньки-мамки, с княжны глаз не сводите. Да смотрите, чтобы её не сглазили. Девчонка хилая. Восьмушка пуда в ней, не более.
– Восьмушка с четвертью.
– Ну, четверть эта к вечеру плачем изойдёт. Кормилицу надёжную подобрали?
– Матушка твоя, великая княгиня Софья, сама её назначила.
– Пусть кормилица придёт после вечерни. Я на неё посмо… покажется. Заходить к вам буду каждый день.
Няньки поклонились в пояс.
– Идём, сынок, к матушке. Чай, уже можно, – и князь, опережая сына, поспешно направился к дверям, забирая, однако, несколько правее.
– Косяк, ах, батюшки! Косяк! – всполошились няньки.
– Косяк! – передразнил князь. – Раскудахтались. Понабросали тут лохманины. Убрать немедля! – и, отбросив ногой половик, очень точно скользнул в узкую низенькую дверь.
– Ох, неладно как с половиком-то вышло, – сокрушалась младшая нянюшка, сворачивая его. – Великая княгиня Софья когда ещё велела ничего на пол не стелить.
– Так это в её тереме было. Марья не приказывала. Да и кто знал, что он сюда войдёт. С половиком-то теплее. Чего он так обеспокоился? Девка – а он: «Глаз не спускать».
– Прынцу посулил, – нянька засунула половик под лавку.
– Королевичу! – недобро усмехнулась вторая, старшая, складывая пелёнки и чистую ветошь в сундук.
– Ладушка моя, ягодка, молочка ещё не испробовала, а у неё уже суженый. Диво, да и только.
– И ничего дивного! У князей всегда так. Княжичу нашему Ивану семь годков было, а невесте его Марье, княжне тверской, и пяти не сравнялось.
– Так-то оно, так, да жалко – отдадут несмышлёную в чужую сторону.
– А ты не ной, не кормилица, – нянька колыхнула зыбку и тихо запела подблюдную:
Я ещё посижу, Я ещё похожу И суженого найду.А суженый Анны незадолго до этого выбрался из такой же точно зыбки. Висела она на таком же кованом крюке, вбитом в матицу, и нигде-то за тридевять земель, а за двести вёрст от Москвы, в тереме великого князя Рязанского Ивана Фёдоровича.
Ещё до рождения младенцев их будущие отцы, двоюродные братья, внуки Дмитрия Донского Василий московский да Иван рязанский поклялись скрепить свою дружбу и верность женитьбой детей, если пошлёт Бог мальчика и девочку. В лихую годину давалась клятва. Василий пребывал тогда на подступах к Москве, в Твери, только-только освободившись из Углича, куда его было сослал, свергнув, другой двоюродный брат, галицкий князь Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Шемяка. С отцом Дмитрия, родным дядей, а потом с Дмитрием самим да с его братом воевал Василий за московский престол с малолетства, аж двадцать восемь лет.
Несколько раз за это время князья-родственники занимали Москву, изгоняли из неё великого князя Василия, по-родственному жалея, не убивая его. И в последний раз Дмитрий Шемяка обошёлся по-братски с израненным, недавно возвратившимся из татарского, казанского, плена Василием. Лишил всего-навсего зрения. Приказал изловить, когда тот был с сыновьями на богомолье в Троице-Сергиевском монастыре, и в Москве уже выколол ему глаза. Не в битве, не в драке, не случайно, вполне намеренно. И совесть его при этом нисколько не мучила: точно так же поступил несколькими годами раньше Василий с родным братом Шемяки, своим тёзкой. Так что Дмитрий Юрьевич действовал по заповеди око за око. Точнее, наверное, – два ока за одно, потому что брат Дмитрия получил после наказания прозвище Косой, а Василий московский – более страшное, Тёмный. Месть местью, но ведь ещё и надеялся Шемяка, что уж слепой-то двоюродный братец – ему не помеха. Был братцу тридцать один год.
Как выжил, как выдюжил он? Знали об этом, наверное, лекари его угличинские случайные, слуги наспех там подобранные, и жена, если позволили ей в Угличе быть с ним рядом. Прочих близких Василия разогнал Шемяка по разным отдалённым уголкам. Счастливо спасшиеся малолетние сыновья князя, Иван и Юрий, очутились, благодаря добрым людям, в Муроме. Матушка Василия, великая княгиня Софья Витовтовна, семидесяти пяти лет от роду оказалась в Чухломе.
Чухлома! Холодом каким веет от этого названия, и кажется, городок где-то в дальней дали, нет, он всего лишь близ Костромы. Но от него до Углича в те годы ох как непросто было добираться – и не накладывали материнские руки лечебных мазей на изувеченное лицо Василия, не капали в глазницы целебных, а скорее бесполезных капель. Но всё же года не прошло, оправился князь и в седле проделал неблизкий путь от Углича до Твери.
Прибывший в Тверь повидаться с ним Иван рязанский застал его хоть и незрячим, но готовым опять бороться за власть. Жалея Василия и любя, желая поддержать в лихую годину, сказал за дружеским ужином, сам дивясь своей душевной щедрости:
– Буде родиться у меня дочь, возьми, Василий, её в невестки, за Ивана.
– Ан, нет, – возразил тот и положил руку на предплечье сидящего с ним рядом князя тверского, – вот, Борису обещал, что Иван Марью его посватает. Да и Москве поддержка князя рязанского и впредь нужна, когда и нас с тобой не будет. За сына, сына твоего не рождённого выдам дочь свою не родившуюся. Даст бог, они на свет явятся.
– Будь по-твоему, – легко согласился Иван, понимал, что за пристанище – укрытие, за поддержку Василий должен платить сполна тверскому князю. Отец Василия тоже в своё время заплатил пригревшему его Витовту женитьбой на Софье Витовтовне. И ещё подумал Иван: «Улита едет, когда-то ещё будет», – протянув руку в знак согласия.
Рука повисла над заставленным снедью столом.
– Эй! Зажгите свет! Доколе нам в потёмках сидеть? – вдруг крикнул Василий.
Вбежали слуги, шумно завозились у давно зажжённых светцов.
«Как же он дальше жить будет? – размышлял Иван, жалеючи. – Каши зачерпнуть сам не может, где уж ему править теперь. Да разве убогого до престола допустят! И кто повиноваться будет такому, в тёмной повязке?» – Он отвёл от Василия глаза.
Допустили…
Иван забыл про тётушку, великую княгиню Софью Витовтовну. Она тоже жалела Василия и, жалеючи, хотела для него только власти. Власти! И никак не могла ему простить, узнав, что в Троице-Сергиевском монастыре, моля своих недругов о пощаде, он клялся не выходить из кельи. Пусть в кельях сидят другие, думала она, не внуки славного Витовта. Не для того она выходила замуж за князя московского, чтобы дети её были смиренными иноками. Не один десяток лет она тратила силы, удерживая великокняжеский престол в своей семье. Да ещё девять детей родила. Последнего сына – когда надежды на наследника были ничтожны: в сорок четыре года, – а ведь сыновья родятся у молодых. У неё их было пятеро, но долго на свете не задерживались они. Последнего выходила. Уберегла от болезней, от дурного глаза. Без мужа осталась, казалось, уже на исходе сил, в пятьдесят четыре года. Её в монастырь упечь собирались, а она за престол уцепилась и раз за разом возвращала на него сына, сперва малолетнего, а теперь старалась, надеялась вернуть, удержать незрячего. Не напрасно же, когда она разрешилась от бремени, знамение было иерею их церкви, голос свыше, – назвать младенца Василием. Василий – царский.
О великокняжеской власти для слепого, конечно, мечтать уже было нельзя. А в том, что сын ослеп, Софья Витовтовна винила и себя: дался тогда ей этот пояс. Да не сорви его она с Васьки, мужниного племянника, всё, может быть, иначе повернулось бы. Но, кто знает, останься всё неразгаданным, не случились бы ещё худшие напасти, утешала она себя.
Ссора произошла на свадьбе великого князя Василия, которая как началась со ссоры, так ею и кончилась. Женился Василий, по материнскому велению, не на той, какую прежде собирался посватать и какую кое-кто из бояр прочил ему в жёны. Отец отвергнутой девушки, именитый боярин Всеволжский, не раз Василия поддерживающий, доставший даже в Орде ему ярлык на княжение, конечно, разгневался, грозил Василию страшными карами и превратился во врага. Приятели боярина недоброжелательно перешёптывались на свадебном пиру, иные и вовсе не явились. Зато прибыли на пир двоюродные братцы Василия, Юрьевичи, наконец-то с ним помирившиеся, разнаряженные, напомаженные, молодцеватые. А на тёзке великого князя сверкала ещё и драгоценная опояска, так что гости на Ваську с его обновой больше, чем на молодых, смотрели.
Софью Витовтовну тоже заинтересовало богатое украшение – глаз от него не могла отвести. Заметил это старый боярин Пётр Константинович и пояснил:
– Пояс, что на Ваське, по праву наследования, твоему сыну принадлежать должен, великая княгиня. Поскольку этот самый пояс подарен был князю Дмитрию Донскому к свадьбе и подменён другим, победнее.
Софья Витовтовна не дослушала, как и кто подменил подарок, как попал он к Юрьевичам, подскочила к пляшущему Ваське – и рванула опояску.
– Вот и нашлась пропажа! У, ворюга!
Посыпались на пол яхонты, захрустели под ногами хмельных плясунов розовые жемчужины.
– Да ты что, тётушка, белены объелась? – взъярился Васька. – Отдай! – и грубо обхватил княгиню.
Пляска прекратилась. Дерущихся окружили бояре, скоморохи, дворовые. Никто не решался вмешаться. Сидящие за столом тоже медлили, опешив.
– Ой, да помогите же, убивают! – вырвалась княгиня, с растерзанным поясом метнулась к столу, схоронилась за спиной ничего не понимающего сына. – Слуги, эй, слуги!
Слуги наконец-то скрутили Ваську, поволокли в угол. Лаяли собаки. С перепугу долгожданно загорланили рыжие петухи, доставленные на свадьбу, чтобы криками своими отгонять злых духов от пирующих.
– Яхонты, мои яхонты! – вопил Васька.
Плясуны бросились поднимать. Рассовывали их по карманам. Шемяка, спьяну не сообразив, что к чему, рвал карман на боярине Петре Константиновиче, дёргал его за седую бороду, орал дурным голосом:
– Ах, ты, старый опёнок, туда же – воровать!
Передрались. Юрьевичей вытолкали с пира врагами. Распря разгорелась сызнова.
Да и что греха таить, сама Софья Витовтовна потом подсказала поучить Ваську, по её подсказке стал он Косым. Только неправильно подручные сына подсказку истолковали – сокрушалась Софья Витовтовна. Она советовала на глаз сонному Ваське положить могильную кость или монету, снятую с века мертвеца, – враз бы он ослеп и безболезненно, а лентяи – сынки боярские – сделали всё иначе…
Знала Софья Витовтовна толк в магии. Это она надоумила Василия и великого князя рязанского Ивана носить при себе магниты. Магниты притягивали их, не давали ссориться.
Она же первая догадалась (жаль, думала, поздно), что кто-то подсунул другой, дешёвый пояс не из жадности – иной корысти ради: перенёс колдовски на него свои грехи и несчастья и передал Дмитрию.
Да, вспоминала она, беды в их семействе случались всякий раз, как доставали из сундука подменный пояс. Чтобы убедиться в догадке, призвала своего тайного, любимого ведуна, красивого, черноволосого, татарского вида парня. Посмотрел он на княгиню ласково-ласково своими продолговатыми, тёмно-карими, ну совсем, как у лесной косули, глазами, а на пояс не взглянул даже. Обернув руку платком, бросил его в кубок венецианского стекла – покраснела вода в кубке, загустела кровью.
– Несомненно, на поясе порча, – сказал он оторопевшей Софье Витовтовне. – Надо, чтобы его семь дней поносила дева непорочная. Порча ей передастся.
– Ой, да господи! Ой, да кому же? – всполошилась Софья Витовтовна. – Да ведь жалко бедняжку. Нет у меня никого на примете. Разве что… Да нет, она же не дева… Ты уж, милок, сам найди кого-нибудь.
Ведун нашёл дворовую девчонку. Вскоре от чужих грехов она начала тяжелеть и родила к весне… чёрного злого щеночка. Ведун сам его Софье Витовтовне показывал. Пояс вернул и опять при ней опускал в воду. На сей раз вода не замутилась даже. Но Софья Витовтовна на всякий случай понесла пояс в церковь освятить. А потом всё-таки велела его разобрать и Васькин – тоже. Камни да золото пожертвовала горожанам – отстраивать дома после развалившего Москву «великого труса». Кожу собственноручно сожгла в печке.
Из Васькиных жемчужин сделала монисто, немного к ним добавив своих, ну а те, с подменённого, за услуги подарила ведуну.
Москвичи знали историю княжеских поясов и сочувствовали княгине, были на её стороне. Да и как не поддерживать её, как забыть, что она вместе с ними переживала и моровую язву, и злейшую засуху, когда пересыхали самые глубокие колодцы, и другие напасти, была с ними и тоже страха натерпелась (конец света!) во время великого труса. Своя! Уже забылось, что дочь она литовского князя Витовта, навсегда прижилась на московской земле, глубоко корни пустила. А Шемяка – галицкий, разве он о москвичах печься будет.
Не удержался Шемяка в Москве.
А научился или не научился Василий самостоятельно черпать кашу – это ли важно! Важно, что через десять лет после рокового для него 1446 года он возглавил поход против свободолюбивого Новгорода, и новгородцы лишились былой независимости.
2
До Переяславля Рязанского из Москвы по хорошей погоде княжеский поезд добирался четыре дня. Трижды ночевали путники в чужих неопрятных избах, где вместе с хозяевами, на удивление Анне, жили не только куры, но и хорошо подросшие за лето телята. В одной избе на стрехах гнездилось очень много голубей. Они долго возились там в сумерках, противно стонали, сыпали вниз перья и помёт. Только угомонились, через дымовую дыру принялся лить дождь. Хозяйский сынишка взобрался на крышу. Но прежде, чем закрыть дыру, просунул в неё нечёсаную голову, показал Анне язык и очень ей понравился.
– Я, пожалуй, за этого парнишку выйду замуж, – сказала она доверительно своей невестке Марье, жене брата Ивана.
– Эх, глупая! – засмеялась та. – На кой ляд тебе чумазый холоп? Тебя королевич Бова посватает, с яхонтами на пальцах, в жемчугами шитом оплечье, в красных сапожках.
– Нашли, девки, время болтать глупости, – шикнула княгиня Марья Ярославна. – Скорее укладывайтесь. Да не забудьте кошели под голову положить. А ты никак опять с куклой! – пристыдила Мария Ярославна свою четырнадцатилетнюю невестку.
Великая княгиня была уже несколько дней не в духе. Во время ночёвок всё тревожились, хорошо ли двери заперты, не задремала ли стража. Сокрушалась, что дорога трудная, долгая. Опасалась татар, иных лихих людей. Боялась в челне переплывать Оку: вода мутная, мусор так и крутит.
– А тебе не всё равно, в какой тонуть, в мутной ли, в чистой? – пошутил князь.
Она обиделась, замолкла. Когда же благополучно переправились, принялась метаться на своём кауром коньке от князя к дочери с невесткой. Хотела убедиться, удобно ли им, правильно ли княжеская лошадь выбирает дорогу, в порядке ли у князя седло, будто сын Иван не следил. Спрашивала, мягко ли девкам в повозке, не растрясло ли их. Пересаживалась с коня в возок и обратно, ворчала о трудности дороги, о преждевременности поездки, пока князь не одёрнул:
– Перестань стенать, Марья. Иван – единственный мой любимый брат. Друг собиный[5]. Не хоронить его хочу – живым уви… застать. Не зря же гонца посылал он, звал.
Анне дорога до Переяславля не казалась опасной. Светлой полоской, будто луч солнца по речной волне, бежала она с пригорка на пригорок. И Анна думала, как хорошо было бы зимой покататься с этих пригорков на салазках. Пенилась у обочины цветущая гречиха, блестели листвой весёлые перелески, ярко зеленела отрастающая отава. У одного поворота рос чудо-цветок: высокая, в рост человека, лоза вся в розовых венчиках.
– Смотри, Анюта, цвет прямо как у меня на прялке, что Ванюша подарил! – изумилась Марья.
Придержали коней, чтобы полюбоваться, и подоспевшая Мария Ярославна пояснила, что цветок этот зовётся рожа, и занесли его на рязанскую землю, должно быть, чумаки с Украины, когда привозили соль.
– Хочу рожу, сорвите! – уросливо затянула Анна.
– Нет, – сказала княгиня, – пусть растёт, – и, свесившись со своего конька, огрела коренную.
Лошади рванули, увезли ревущую Анну от чудо-цветка.
Княжеский терем в Переяславле Анне показался немногим краше курной крестьянской избы: невысокий, деревянный, с затянутыми бычьими пузырями оконцами. Покои отапливались не по-чёрному, да и печи муравлёными изразцами были изукрашены. А вот блохи, как и в тех нечистых избах, сразу же на ноги кинулись. Только матушка, на удивление Анне, не возмутилась, как там, не кликнула сенную девку, чтобы вымела их полынным веником, – просто тряхнула юбками и поспешила в объятия тучной в своих красно-белых одеждах княгини рязанской. Она из-за тучности, видно, не успела встретить гостей на крыльце.
– Доброго здоровья, дорогая сестрица!
– Доброго здоровья, сестрица любезная, братец желанный. Легко ли доехали?
– Не заметили, как и домчались, – ответила княгиня московская, улыбаясь. – Только…
А княгиня рязанская, не дослушав, уже тискала Анну:
– Моя касаточка, моя ласочка! Притомилась, чай, в дороге?
Анна увертывалась от липких поцелуев, сучила покусанными ножками.
– Не дергайся, когда тётушка целует! – прикрикнула мать.
– Блохи, видно, покусали? – участливо спросила княгиня рязанская, опуская Анну на земляной пол. – Тьма их тьмущая нынче. Лето-то какое сухущее. Я уж все половики и скатёрки велела на солнце вывесить. Так что, не обессудьте, гости дорогие, что голо в горнице.
– Персидский порошок хорошо помогает, – сказала Марья из-за спины великой княгини московской.
– Да где же возьмёшь его? Ой, племяннички дорогие, с вами-те я и не поздоровалась, – княгиня рязанская раскрыла объятия, раскинула руки и стала похожа на клушу.
– Я пришлю, сестрица…
Тут два молодца ввели князя Ивана. Князь оттолкнул их и, еле передвигая ноги, сам направился к гостям, худой, давно не стриженный, в длинной посконной рубахе. Княгини бросились поддержать. Княжич Иван привычно подтолкнул отца. Обнялись, перецеловались, уселись за стол в красном углу. Неважно одетые слуги подали мёд и мятный квас – со свиданьицем.
«Каков поп, таков приход», – подумала княгиня московская, отхлебывая из щербатой кружки.
– Вот, бог дал, и свиделись, братец.
– Свиделись… А я невестку к тебе привёз. Анна!
Анна оторвалась от матери, притиснулась к отцу, встала под его руку.
– Ну что, люба ли тебе? Пригожа ли? – с тревогой спросил Василий.
– Пригожа. Очень пригожа. А подрастёт, ещё краше будет. Косы длинные, русые, у висков кудряшки. Лицом кругла и светла. Брови тёмные, прямые. Глаза карие, строгие.
«Чего это дядька меня так рассматривает? – не понравилось Анне. – Зачем обо мне рассказывает? – И догадалась: – Для отца, он-то меня никогда-никогда не видел, никогда-никогда не увидит», – и потёрлась щекой об отцовскую руку.
– Не балуй, дочка! А где же наш зять будущий, любимый? Где Аннин суженый? – спросил Василий весело. Один он не видел, как плох князь Иван, как ему худо.
– Схоронился где-то на подворье, – сказала княгиня рязанская. – Эй! Где же вы там?
Два молодца, как давеча князя, ввели не Бову-королевича в расшитом жемчугами оплечье, с перстнями на пальцах – обыкновенного мальчишку, маленького, головастенького. Красные сапожки на нём всё-таки были. Он трепыхался в руках молодцев, пытался вырваться и напомнил Анне Петрушку, которого показывали скоморохи на Красной площади. Его подтащили к столу.
– Ты что же гостям не кланяешься? – строго спросил князь Иван, а княгиня заметила:
– Сыночек наш не так пригож, как ваша дочечка, – и погладила мальчишку по голове. Он дернулся (молодцы продолжали его держать) и сказал тихо, как-то безразлично:
– Укушу.
– А зятёк-то наш с норовом! – засмеялся Василий.
Княжич Иван смотрел на мальчишку с радостным изумлением, Мария Ярославна – с неудовольствием, Анну он возмутил: какой-то каржавенький озорник. Разве женихи такими бывают?
– Руки у него все в цыпках, и на лбу шишка, – сообщила она отцу громким шёпотом.
– Ай-да, шишку-те он сам себе набил. Как что не по нему, головой об пол бьётся, – пояснила княгиня рязанская.
– Он что, полоумный? – уже тише шепнула Анна.
– Помолчи, стрекоза! – приказал отец. – С лица воду не пить.
При чём тут лицо? – терпеть не могла Анна этой пословицы, как и другой, что также слышала от нянюшек и от родных чуть ли не с пеленок: стерпится – слюбится. Надулась, насупила брови.
– Не огорчайся, девонька, – сказала княгиня рязанская, – он хороший, добрый. Поцелуйтесь, детки, подружитесь.
– Горько! – выкрикнула раскрасневшаяся то ли от кваса, то ли от мёда Марья.
Мария Ярославна взглянула на неё строго. Дети целоваться не стали. А мальчишка ещё раз спокойно предупредил:
– Укушу.
Княгиня московская сидела с каменным лицом, изо всех сил стараясь, чтобы на нём не отразилось недовольство. Мальчишка балованный раздражал: свои не ангелы, но чтобы так уросить[6] при гостях… Сейчас на дядьку с тёткой скалится – сущий волчонок, а подрастёт, глядишь, и против Москвы вызверится. Нет, надо прибирать к рукам пока не поздно. Сегодня же настоять на сговоре.
Под столом у самых её ног собаки затеяли свару, и беспечные хозяева не пытались их приструнить (так бы и пнула какую, да страшно, вдруг укусит), обрадовалась, когда князь Иван сказал:
– Ну, княгинюшки, отдыхайте без нас до обеда. А мы с братом пойдём ко мне в опочивальню.
Слуги поспешили к нему, помогли подняться. Он опять отстранил их, обнял брата, и они побрели к дверям. Княжич Иван было пошёл следом, но дядя остановил:
– Ты, братич[7], останься. Нам с глазу на глаз надо потолковать.
– Останься, сын, и подружись с моим тёзкой.
Рязанского княжича звали Василием. Двоюродные братья нарекли сыновей в честь друг друга. Уже второе поколение рязанских и московских князей жило в дружбе.
К обеду, накрытому в гридне, пригласили переяславских бояр, епископа, несколько именитых татар, ещё какую-то оказавшуюся в ту пору в городе рязанскую знать. Принарядили суженых, посадили рядком, сразу же положили перед ними большой и самый красивый пряник.
Анна любовалась напечатанным на нём узором: розовым цветком и белой, как снеговик, боярышней. Цветок ей казался похожим на тот, что промелькнул утром у дороги, а боярышней конечно же была она в праздничном наряде.
Суженый тоже поглядывал на пряник и, не дохлебав ботвиньи, вдруг схватил его, взломал косо.
– Не ломай! – запоздало воскликнула Анна.
– Ишь ты! Одной тебе, что ли, подали, – прошамкал суженый, пережёвывая обломок, и, отломив ещё кусок, швырнул Анне: – На, подавись!
Тогда она его огрела ложкой. Суженый плеснул на неё остатками ботвиньи.
– Да господи! Да боже мой! – вскричали в лад княгини. – Ведь не голодные же! – И, подбежав, наградили своих любимцев тумаками.
– Митька, тащи ещё пряник! Нет, два тащи!
– Не надо мне пряника. Не люблю есть пряники, – плакала Анна. – На нём узор прелестный. Глядеть любо.
– Вот так всегда, – жаловалась княгиня московская рязанской, когда детей посадили порознь, – красивые кушанья не ест, жаворонки там печёные, пироги ли, яблоки, – любуется. «Жаль есть, – говорит, – красу такую». А всё отец виноват, – перешла она на шёпот, – приучил во всё вглядываться. Гуляет с ней и велит всё ему рассказывать. И с тех пор, как сам незряч, во всём ему красота чудится. Намедни застала их с Анюткой под липой. Цвет обрывали. А он и говорит ей: не только-де цветки эти полезны да духовиты, посмотри, говорит, как хороши они. Из тычинок одних составлены, а были бы поболее, глаз от них не оторвал бы. Врагов вокруг него полно, ему бы с ними расквитаться, а он о тычинках каких-то вспомнил.
– Мой тоже переменился, – притиснулась княгиня рязанская ближе, жарко задышала Марии Ярославне в ухо. – Постричься в монахи хочет. «Может, – говорит, – постригусь – полегчает, отпустит хворь». Да где ей отпустить, – княгиня утёрла глаза, – не отпустит. А мне через месяц родить. Хорошо ли, когда у младенца отец в монастыре?
Принесли ещё пряников, но уже с другим узором, с птицами Сирином и Алконостом. Потеснили ендовы и миски с гречневой кашей, рубленными яйцами заправленной, с жареной рыбой, с перепелами в сметане.
– А и в самом деле, хороши у тебя пряники, сестрица. Надо бы узор переснять. – Мария Ярославна отломила у одного краюшек, спросила, смакуя: – На меду или на патоке?
– Старинные доски, бабонькино благословение, – объясняла княгиня рязанская, польщённая. – Я подарю тебе – доски.
– Сама с чем останешься? – засовестилась Мария Ярославна.
– Да у меня их много, и в огне не горят. Вот ведь большой пожар был, с полгода тому. Вся худоба сгорела, все шабалы, все половички да утиральнички…
– А как же те, что во дворе, сказывала, висят? Ну что от блох выжариваются? – не утерпела, вмешалась Анна, сидевшая теперь по левую руку от тётки.
Мария Ярославна улыбнулась выжидающе, а княгиня рязанская, густо заалев румянцем, крикнула:
– Эй, Митька, доски пряничные нам тащи! С полдюжины, что поцелее.
– У нас так же было, – начала Мария Ярославна, погрозив Анне пальцем – молчи, княгини да боярыни за столом примолкли, прислушиваясь. – Когда Москву затрясло, терем наш – в щепки. Утварь вся побилась, изломалась, а махоточка[8] глиняная, от старости щербатая, цела-целёхонька. С нею и к свекровушке двинулись на Ваганьково, у неё хоромы уцелели, а посуда вся – в черепки. Махоточка эта и сгодилась.
– Вот страху-те, наверное, натерпелись. Мы и то думали, конец света пришёл, когда у нас тут стены зашатались, да и подсвечник по столешнице пополз… А так ведь всё обошлось.
– На Скоморошей горе, – напомнила боярыня, что сидела подле Анны, – у скомороха Петьки Смородины хлевушек только и развалило. Скотину, сказывали, придавило.
– Ах, да какая у скомороха скотина! Козы, чай, одни, – Мария Ярославна слизнула с пальцев сметану.
Митька внёс оберемок[9] досок.
– Куда их?
– Куда! Не на стол же! Клади на пол.
Гостьи оторвались от перепелов и карасей, вслед за великими княгинями вышли из-за стола полюбоваться досками. Восхищались громко, преувеличенно, чтобы польстить своей княгине, рязанской, да и чтобы московская гордячка не подумала, будто ей рухлядь какую всучивают:
– Хороши, ах, диво, как хороши! Ни на одной узор не повторяется. И письмена по кайме. Мастера-то у нас – грамотеи.
Анна к столу не вернулась. Осталась разбирать доски. Примостилась рядом с ней одна блохастая собака, потом – другая. Анна показывала им доски, подносила прямо к тёмным влажным носам.
– Смотрите, смотрите, какой многоглавый город. Какие окошечки у домов затейливые, решётчатые. А на крыше островерхой – петух! Видите?
Собаки моргали коричневыми добрыми глазами и смущённо отворачивались.
За столом продолжалась трапеза. Тянулась неспешная застольная беседа. Князь Иван едва сидел, но этого никто не замечал. Хмельные мужчины хулили новгородцев, литовцев; забывшись, пару раз ругнули ордынцев, татары прикинулись, что ничего не слышали; говорили об охоте на вепря: налились овсы, пора на деревьях близ них мостить повети, чтобы караулить зверя. Женщины обсуждали средства против моровой язвы: от синих болячек, коль они на теле объявятся, спасения нет – через три дня хворый умирает, от красных можно излечиться, если днём и ночью к ним красные же тряпицы прикладывать, мокрые, конечно.
– А старшенькому моему икона помогла Чудотворная, – рассказывала княгиня московская громко, стараясь перекрыть гул мужских голосов. – Тряпицы неделю прикладывала, извелась вся – не легчает. Спасибо старушке пришлой, надоумила на огороде в мусорной куче покопать. Покопали – святая Анна в холстину конопляную обёрнута…
Суженый сыпал в малиновый кисель себе, отцу, дяде ложку за ложкой соль, и никто не замечал. Даже то, что он столкнул солонку на пол, углядели только собаки.
Анна спала под столом, обняв теремную доску, и снился ей многоярусный белокаменный город на берегу незнакомой реки.
3
Осень покатила за Покров. Уже отвьюжили на мостовых пёстрые хрусткие листья, бурыми сугробами притулились к заборам и завалинам. Вениками-голиками темнели деревья, и только лиственницы тускло светились, как догорающие лучины. Но всё ещё было сухо и солнечно. И пряди летучей паутины всё ещё норовили сесть на лицо. А под вечер совсем по-летнему перед теремом столбилась, толкалась мошкара, невесть откуда влетали в покои поутихшие было комары, опять надоедливо зудели, не давали Анне заснуть.
Спозаранку же, по-летнему, шумел, будил её торг.
Он раскинулся напротив княжеских хором за Кремлёвской стеной на тесной от лабазов, лавчонок, прилавков и клетей Красной площади, которую в народе звали Пожар – так часто она занималась огнём.
На Пожар, приехав из Переяславля, каждое утро Анна тащила мамку. Протискивались в пряничный ряд, и Анна всякий раз изводила мамку, долго выбирая пряник, да так зачастую и не купив его. Торговцы, угадав в ней княжну, иногда дарили один-другой. И Анна сама несла с торга сласть, пачкая ею рукава и полы шушпана[10].
Бывала она и в рядах, где продавали утварь, дивилась на расписные колыбельки, прялки, шкафчики и салазки. Близко подходила к ним, водила пальцем по затейливым узорам. Утвари, конечно, никто ей не дарил, и купить её Анна не могла. Печатные пряники, на пахучих иноземных приправах замешанные, ценились дорого, хоть и недолговечны были, а уж прялки да шкафчики делались на века – разве девчонке, даже княжеской, к ним подступиться.
Узнав про Аннин интерес, старшие, денежные, братья Иван и Юрий стали приносить ей для забавы пряничные доски. Их немало скопилось к осени в печурах девичьей горницы. Мамки и няньки смеялись:
– Зимой на растопку пойдут. Ишь, поленница в избе выстроилась.
Анна злилась, не понимала шуток и, придя с торга, перебирала, пересчитывала своё богатство, вновь рассматривала разные картинки, вспоминала, кто из братьев какую доску принёс, что сказал.
Иван дарил всё больше доски с видами каких-то сказочных городов и при этом приговаривал одно и то же:
– Любуйся, сестричка, когда-нибудь такой же у себя в Рязани построишь.
Юрий предпочитал изображения цветов, трав, диковинных птицедев и говорил о девах, поясняя непонятное:
– Это такие вольные, неземные существа, Анютка.
– Ангелы?
– Нет, не ангелы, но им также доступны глуби небесные и бездна премудрости. Сосредоточились в них девичья чистота и тайна.
– А что это бездна премудрости? – спрашивала Анна, девичья чистота её не занимала.
– Это, как тебе сказать? Вырастешь – поймёшь.
Птицы-девы, которым было доступно нечто непонятное, Анне не нравились. Их деревянные лики были однообразно некрасивы и ничего не выражали. Надумала сама вырезать таинственную птицу с ликом великой княгини Марьи, Марьюшки то есть, жены Ивана.
Анна знала и любила её уже года три. Десятилетней Марья вошла в их семью и после свадьбы («До времени», – как сказала бабушка Софья Витовтовна) поселилась в Анниной горнице. Анна была рада этому. А Марья сперва жить с ней не хотела и спать отказывалась на одной лежанке.
– Держаться всё время вместе будете, чтобы не изурочили[11] порознь. Мамки Аннины опекать вас будут. У Марьи в Москве много врагов, – наставляла Софья Витовтовна.
– Какие у меня враги? – изумилась Марья. – Ведь меня здесь никто не знает.
Софья Витовтовна больше ничего не стала объяснять, сама раздела Марью и уложила рядом с Анной.
Вместе они спали, отгородившись подушкой, – Анна во сне брыкалась. Вместе хворали и дружно тогда мастерили куколок, чтобы свою хворь им передать. На щепках угольком рисовали лики, шерстяными нитками обматывали туловища. Из ниток же плели косы и головные уборы. Хворь проходила, а невестка с золовкой всё куколок цветной шерстью обряжали да на подоконниках выстраивали.
С лета Марья жила на половине великого князя Ивана, вернее ночевала, дни она, как и прежде, проводила у Анны в её просторной, всегда полной прислуги и каких-нибудь пришлых горнице.
И в то утро, когда Анна принялась вырезать доску, у окон её светлицы пять или шесть девок вышивали рушники и рубахи, нянька катала на сундуке выстиранное бельё, какая-то странница дремала на Анниной лежанке, и мамка искала у неё в голове, в углу две служанки драли перо.
Бухнула дверь. Застучали в сенях каблучки, но никто из девок и баб не шелохнулся: знали Марьину стремительную поступь.
– Анка! – крикнула Марья с порога. – Суженого привезли!
Анна подняла голову – нож чиркнул по пальцу. Кровь тут же залила доску, закапала на пол.
– Ахти! – взвизгнула нянька.
– Бедная моя головушка! – вскочила с лежанки мамка. – Не уберегла.
Анна зажала палец и вопила благим матом. Бабы заметались по горнице – искали тряпицу. Вскинулась на лежанке странница, часто-часто крестилась. Марья с перепугу бросилась в сени:
– Помогите! Помогите! – Опомнилась, вернулась, рванула подол нижней юбки – не поддался новый холст. Полоснула по нему злосчастным ножом, оторвала лоскут, перевязала палец.
– У собачки боли, у кошечки боли, у Аннушки пройди.
Повязка набухала кровью.
– Знахарку надо – кровь остановить.
– Ой, боюсь, матушка узнает. Она мне не велела доски резать, – захныкала Анна. – Не женское дело, сказала, и тебе, мамка, велела за мной следить.
– Уследишь за тобой, как же! Сегодня же все доски пожгу. А заживёт палец – за вышиванье сядешь. А ну подними его. Остановилась, кажется.
– Кровь – к родне, – сказала странница и спросила с любопытством: – Кого там привезли, Марьюшка?
– Какая я тебе Марьюшка, – неожиданно для всех разозлилась всегда покладистая Марья. – Великая княгиня я, Мария Борисовна. И как смеешь ты, пришлая, на постели княжны валяться! Обнаглели! Понабились в горницу, будто на дворе мороз. А ну – все на волю! Дух от вас тяжёлый.
Служанки послушно направились к двери. Поднялась странница, неспешно принялась оправлять постель.
– А ты что мешкаешь? Без тебя приберут.
Странница подняла котомку и у двери, обернувшись, зло поглядела на Марью.
– Не изурочила бы, – встревожилась Анна.
– Не ведьма, чай, – успокоила её и себя Марья. – Так вот, девонька, прибыл твой суженый, и, значит, ты тоже скоро будешь великой княгиней.
– И буду сама на торгу покупать себе пряники и резать доски.
– Несмышлёная, дурочка! Да разве женское это дело.
Приезду рязанского княжича в Москву предшествовала беда. Он, восьмилетний, сделался круглым сиротой. Причём мать умерла раньше и, видимо, от родов. Места в Архангельском соборе, усыпальнице переяславских князей и княгинь, для неё почему-то не нашлось. Имя её в старинных документах не упоминается, так что в историю она вошла безымянной.
Великий князь рязанский Иван незадолго до смерти всё-таки постригся в монахи, а заботы о детях своих – сыне Василии и дочери Феодосии – поручил брату и другу, князю Василию.
Детей привезли в Москву. На княжеский престол в Переяславле Василий Тёмный посадил московского наместника.
Рязанцы сперва возроптали, но скоро успокоились: наместник ни с какого бока не наследник, сам права на рязанский престол не имеет и никого на него не пустит, посидит до совершеннолетия Василия и уберётся восвояси.
Наместник въехал в Переяславский кремль с изрядной ощетинившейся пищалями свитой, с несколькими именитыми татарами, которые должны были удостовериться, что всё свершается правильно, согласно воле покойного.
Жизнь в Переяславле Рязанском начинала идти на московский лад.
Анне не терпелось увидеть суженого. Но его сперва долго парили и мыли в бане, потом стригли, потом повели отдыхать в гостевую горницу. Марья сказала, что выйдет он к обеду, и принялась вязать носки. Анна взялась сматывать шерсть с маленьких клубочков в один, но из-за обвязанного пальца дело у неё не двигалось.
– Брось, не мучайся, – сказала мамка, – давай-ка новый сарафан примерять. К обеду в нём пойдёшь.
Анна быстренько стянула будничный, осталась в холщовой с рукавами нижней рубахе. Подали новый сарафан, голубой с серебряными пуговицами-бубенчиками на груди.
– Этот? – недовольно протянула Анна, она видела, когда его шили. – Не надену! Хочу красный, какой был на тетушке, княгине рязанской.
– Таких девоньки не носят.
– А я хочу! – Анна оттолкнула мамку с её голубым сарафаном.
– Да ты примерь, – вступилась Марья, – голубой тебе к лицу.
– Вот и носи сама! – уселась, как была в рубахе, на резную низенькую скамеечку, взялась опять за клубочки.
Время приближалось к обеду. В поварне уже заправляли щи толчёным старым салом: из-за устоявшегося тепла скотину жалели резать. Рубили крутые яйца для гречневой каши. Жарили на постном масле лук. Манящий дух его быстро распространялся окрест, заставляя сглатывать голодную слюну обитателей большого княжеского терема и дворовых сторожевых псов, косматых и злющих.
В трапезной любимые персидские кошки Марии Ярославны, задрав пушистые хвосты, вились у стола, вскакивали на скамьи, трогали мягкими лапками край столешницы, мяукали. С мягким стуком падали на холщовую скатерть ложки, позвякивала посуда.
И вдруг в этот приятный для уха шум вломился рёв.
– Кто это? – испугалась Анна.
– Княжич приезжий в кубок венецианский написал, – смеясь, пояснила входящая уже с красным сарафаном мамка. – Ну в тот, в коем пояс подменный проверяли. Вот, должно, Марья Ярославна его учит маленько.
– Бить великого князя! – взвизгнула Анна, швырнула клубочки. В одних чулках и рубашонке рванулась из горницы. Мамка и княгиня Марья – за ней.
– Постой, постой! Надень ичиги, хоть платком покройся!
– А-а-а! Не бейте его! Не смейте! – влетела Анна в гостевую горницу.
Княжич в коричневом праздничном кафтане, с шитым жемчугом оплечьем, спиной лежал на полу, как хрущ, и, как хрущ, дергал тонкими в красных сапожках ногами. Вопил:
– Не дамся, больно! Больно!
Вокруг него суетились брат Иван, великая княгиня-матушка, слуги, не били – пытались зачем-то снять сапог. У матери в руках была хворостина, выдернутая наспех, видимо, из голика. Заметив новых зрителей, княжич завопил ещё громче.
– А ну замолкни! – с порога сказал князь Василий. Княжич враз затих. Домочадцы расступились, пропуская к нему князя.
– Болит?
– Очень!
– Давай!
Княжич послушно вдел в протянутые руки левую ногу – князь одним рывком сдёрнул с неё сапог, выругался.
– Вот как надо! Распустили нюни, раскудахтались, – метнул сапог – пискнула кошка. – А чёрт бы тебя! – отёр вспотевшее лицо онучей. – Мой руки, стервец, и в трапезную – живо!
Княжич вскочил, быстренько поковылял к дверям, припадая на ушибленную, правую – не левую, ногу. Подобрал сапог, повернулся, сказал ехидненько:
– Онучу-те верни, дяденька. Пот ширинкой отирают, – и хлопнул дверью.
– А вы чего молчали? – взъярился князь, стараясь почему-то запихнуть в карман злосчастную онучу. – Позастило?[12] И чтобы пальцем его не трогали! Никто!
– Да кто же его трогал? – оправдывалась княгиня. – Знаешь, что он тут умудрил.
– Знаю.
– Ну, я его постращать маленько, а он на стол сиганул, с него на поставец. Тот пошатнулся. Хорошо, что устоял, не придавил парнишку.
– Ушибся сильно?
– Да нет!
– Костоправа к нему.
Кто-то из слуг кинулся выполнять приказ.
– И не то чтобы пальцем, чтобы словом худым его никто не наказывал, – продолжал князь. – Не дай бог, озлобится. Волк нам в Рязани не нужен. Пёс домашний, от хозяина ни на шаг не отступающий, больше подходит. Иван, пусть княжич при тебе будет, как друг собиный, денно и нощно.
– Нощно нельзя. При нём теперь Марья, – напомнила Мария Ярославна тихо.
– Найдёт и на Марью время! – во всё горло воскликнул князь.
Марья застеснялась, прикрыла лицо широким рукавом, смущённо бормотнула:
– Уж ты скажешь, батюшка.
– Как там? – ночная кукушка дневную перекукует, – засмеялся князь и обнял жену. – Не пора ли обедать?
Анну в этой кутерьме он не приметил. Она обиженно засопела, поволокла по полу к дверям принесённую мамкой шаль.
4
После рождения Анны одряхлевшая Софья Витовтовна прожила только два года, и то не дома, а в монастыре. А ведь было время, больше всего боялась монастырских стен, заточения. И вот постриглась добровольно, потом и схиму приняла. Не хотела обузой стать домашним или решила грехи замаливать? Если принять во внимание схиму, скорее последнее. Грехов у Софьи Витовтовны хватало. Как же сражаться за власть, как её удерживать, оставаясь безгрешной? Кроме ослепления племянника, на её совести, говаривали, были ещё две внезапные смерти соперников Василия. Вдобавок злые языки приписывали ей и чисто женский грех, нешуточный. Оспаривая право малолетнего княжича Василия на власть, противники его объявили, что он байстрюк. Слух этот, хотя и весьма сомнительный, просочился через века и, не принятый историками на веру, всё-таки осел на страницах их серьёзных трудов. В своё время он, наверное, доставил немало неприятностей Софье Витовтовне (вряд ли ей удалось отмахнуться от него – мол, плевать: враги для пользы своей распустили), наверное, пришлось доказывать, что всё это сказки, как-то его пресекать, но едва ли думала она, что этот слух, это задевающее её женскую честь обвинение войдёт в историю.
В семье Василия Тёмного никто не заикался о грехах Софьи Витовтовны, а через десять лет после смерти княгини грехи эти начисто стёрлись в памяти даже невестки её Марии Ярославны. Добродетели же вспоминались, как и всяческие наказы.
Мария Ярославна, имеющая уже сама немалый жизненный опыт, все начинания свои по хозяйству теперь неизменно подкрепляла ссылками на заветы Софьи Витовтовны: «Так матушка-покойница делала…», «свекровушка моя говаривала», «бабушка твоя наказывала».
Анна удивлялась, когда это матушка столько бабиных наказов успела перенять – жили-то они врозь. И уж совершенно поразилась, когда все знавшие Софью Витовтовну стали утверждать, что внучка характером – сущая бабка. Ну как она могла перенять бабин характер, если от встреч с ней запомнились только тёмно-коричневый глянцевый посох да край чёрной юбки, отделанный по самому низу щёточкой бахромы?
– По наследству передался, – говорила Анне мать, вроде бы и не огорчаясь.
По наследству, без указания в завещании, достался Анне от бабы и небольшой ларец с дорогими украшениями. А в завещании баба Анну и не упомянула. Мария Ярославна видела в этом не злой умысел и не старческую забывчивость – лишнее подтверждение особой добродетели и ума свекрови. В завещании Софья Витовтовна распределяла между близкими в основном своё недвижимое имущество: сёла, землю, угодья. И говорила будто бы, его составляя и предполагая недовольных: «Я не солнышко – всех не обогрею, – и ещё: – Не для того деды-прадеды московскую землю, как лоскутное одеяло, собирали, чтобы я её по миру пустила».
Нет Анны в завещании, как, впрочем, и брата её Ивана, а жена его, Марьюшка, есть.
– Ивану, по праву наследования, как старшему сыну и сопроводителю всё равно отцовская доля достанется. Марьюшка же от родины оторвалась, и, случись что, куда ей деваться? Вот баба Марьюшке деревеньки и отказала. Ну а ты отрезанный ломоть, – объясняла мать, – как тебя землёй оделить – вся в Рязанию уйдёт. Да и не обошла тебя баба: вон какой вклад в приданое сделала. Первая. С него и собирать тебе начали. Не с пустыми руками в дом мужа явишься. Утрём нос боярыням рязанским, завидущим.
Сундуки с приданым стояли в опочивальне Марии Ярославны и год от года множились. Укладывались в них голландские холсты, персидские шелка, фряжские аксамиты[13], алтабас[14], смоленское и московское полотно, шерсть, посуда, одежда, полотенца, скатерти, мелкая утварь и украшения. Всего не упомнить, не перечесть.
Большая часть дорогих вещей: иноземные ткани, серебряная посуда, – перекочевала в Аннины сундуки из сундуков Марии Ярославны, а той досталась от матери, бабки и, может, от прабабки. Так и лежали эти вещи долгие годы без всякой пользы: слишком ценны, чтобы быть им в ходу, только на свадьбах и показывались гостям, как диковины.
Чтобы уберечь диковины от порчи, требовалась особая забота. Два раза в месяц содержимое сундуков пересматривалось, перетряхивалось, просушивалось, прокатывалось, чтобы не залежались складки, не обернулись рваниной – дорогие ткани не любят частой носки, но и без движения им лежать вредно.
В пятницу спозаранку в княгининой опочивальне начиналась весёлая, желанная для всех работа. Девки под присмотром ключницы и великой княгини потрошили сундуки, щеголяли, проветривая, в дорогих сарафанах и шубах. Анна примеряла какие-то огромные для неё шушпаны, крутила головой перед зеркалом в сползающей на глаза сороке, а потом наступала очередь маленького сундука, и княгиня всех выпроваживала, и Анну – тоже, запирала двери, сама проверяла его содержимое.
Наконец настала долгожданная для Анны пятница, когда её, одиннадцатилетнюю, допустили до заветного сундука.
Совсем не простым делом оказалось открыть хитрый замок, самой Анне это не удалось. Неловко, от нетерпения, подняла крышку. Под ней – зелёный, как майский луг, ковёр, подарок ордынского хана к её дню рождения.
– Стели на пол, будем на него всё складывать, – сказала Мария Ярославна, а сама села на скамеечку, наблюдала с удовольствием, как Анна вытаскивает ценные вещицы, подолгу держит их, разглядывая. Отмечала, про себя усмехаясь, что дочь передаёт драгоценности совершенно холодными руками – от волнения они у неё стыли. Тщательно осматривала, принимая перстни и браслеты с яхонтами, аметистом, чётки и монисто из солнечного камня балтов[15], янтаря, любимого камня Софьи Витовтовны и совсем не ценимого в Москве, рассказывала:
– Камень этот, твоя бабонька сказывала, – слёзы морской царевны. Очень целебный, снимает усталость, силы придаёт, от зоба излечивает. А на этом браслете бирюза. Она приносит счастье супругам. И бабонька говорила, произрастает из костей тех, кто помер от любви. Наденешь на свадьбу.
Анна потянула назад колдовской браслет, примерила. Он сполз по тонкой поднятой руке до самого локтя. Опустила руку – соскользнул с кисти: велик.
– А подогнать по руке нельзя?
– Успеется, до свадьбы ещё нагуляешь тела. Подтопи-ка печку, Анна, что-то ноги мёрзнут.
Анна опустилась перед топкой, высекла огонь. Занялась, закручиваясь, розовая береста. Быстрый огонь зарумянил Анне лицо. Княгиня залюбовалась дочкой, сказала, не сдержалась:
– Пригожая ты девка, Анна. Годочка через два можно замуж выдавать.
– Может, я не пойду за Василия? – проговорила Анна полувопросительно, складывая бабушкино подаренье в резной ларчик.
– Чего это ты удумала? Обязательно пойдёшь. Москве нужна Рязания. А рязанцы, знаешь ли, горды, непокорны. Силой их взять трудно. Не раз твои пращуры пытались… Уж прадед твой Дмитрий на что воитель был, но и тому не удалось. Пришлось дочь свою в невестки Олегу рязанскому предложить, тем только дружбу и наладили. А без рязанской поддержки, доченька, татар нам не сломить, хоть и поослабли они.
Мария Ярославна замолчала, прикрыла глаза. Задремала? Или сомлела – испугалась Анна, спросила тревожно:
– Матынька, ты что?
– Приоткрой топку, посидим немножко.
Анна опустилась на ковёр у ног матери.
Через слюдяные оконца уже вползали в опочивальню ранние декабрьские сумерки. Будто ладони татарских плясуний, играло в топке пламя. Сыпались на железный лист у печи тёмно-красные угольки. «Такие горячие камни на диадеме, что достались от Софьи Витовтовны Марьюшке, – подумала Мария Ярославна. – Польская королева Ядвига, кажется, их Софье Витовтовне подарила. Ну что бы эту диадему свекровушке да Анне отказать».
– Пиропы эти камушки зовутся, угольки.
– Что?
– Свят-свят, задремала, видно. Много в моей жизни врагов было, – сказала Мария Ярославна, обрывая мысль о не доставшихся дочери камнях, – и порчу насылали, и яду подсыпали, и в дальнем городе в монастыре, как в тюрьме, держали. Смерти моей желали, чтобы отца твоего на другой женить. Да… Натерпелась я… Ой, моль, Анна! Лови! Никак в сундуке завелась?
Княгиня вскочила, согнулась над сундуком, опустила в него руки, как в колодец, по самые плечи.
– Нет, вроде нету.
Анна бегала по горнице, хлопала ладошами, потом сделала вид, что поймала.
– Всё! Что дальше-то? Ну, извести тебя хотели…
– Да-да. И я, грешница, как в силу вошла, должницей не осталась. Но враги все эти мелкие были. Самые же лютые – татары. Их перевести всю жизнь мечтала. Думала, что муж их одолеет, а он в междоусобице погряз. Теперь на вас, на детей моих, вся надежда. Боже, как я их ненавижу! – воскликнула Мария Ярославна и стукнула кулаком по крышке сундука. – И тебе, дочка, ненависть завещаю.
Анну поразило материнское неистовство. Сама она с детства привыкла относиться к татарам с брезгливой неприязнью, как к нищим или убогим. Считала их существами низшими и дивилась, что взрослые подчиняются им, боятся их, а няньки пугают ими детей.
Ненависть ещё не успела вызреть у Анны. Только в год её рождения подступали к стенам города беспощадные враги, воины царевича Мазовши, а так относительно спокойным выдалось время её детства и отрочества. Мирные татары ездили и бродили по улицам Москвы, захаживали на княжеское подворье, сиживали за праздничным столом, как гости. Перебежали в Москву из Казанского ханства испросить у великого князя покровительства царевичи Касим и Якуб, сыновья хана Улу-Мухаммеда, некогда пленившего князя. И князь принял их на службу. Касим помогал ему бороться с Шемякой и с золотоордынским Сеид-Ахметом. За эту помощь Касим получил во владение землю на окраине Московского княжества с Городцом-Мещерским. И стал городец зваться Касимов.
Те страшные времена, когда нападения татар можно было ждать со дня на день, отошли, но ведь и не избылись совсем.
Ненавижу – легко сказать, а как почувствовать? Анна молчала.
– Копим добро, копим, – сказала Мария Ярославна, стоя перед сундуком на коленях и перебирая в нём что-то, – а всё может в одночасье сгинуть. Не раз уж так бывало, не с нами, так с другими. Дожить бы только до того светлого дня, когда дети мои стряхнут эту нечисть с русской земли. Не передрались бы только братцы. Ох, горячи и немирны. Юрий поласковей всех, но не он соправитель, не он наследник… Бабонька всё сокрушалась, что не он. Больше всех его любила. А ты Ивана больше любишь.
– Мне, матынька, все братцы милы.
– Не юли. Это тебя, сестрицу долгожданную, все они любят, а ты, лисичка, того, кто богаче одарит.
– Ну, матынька! – Анна обняла княгиню сзади за полные плечи, расцеловала запрокинувшееся навстречу её губам лицо. – Матынька! Не за подарки тебя люблю. Ты не притомилась ещё?
– До обеда управимся, – сказала довольная лаской княгиня. – А ты с Иваном дружи. Он надёжный. Не предаст. Вот он как суженого твоего к рукам прибрал, будто шёлковый стал парнишка. С ним-то часто ли видишься?
– Только за трапезой, ты же знаешь. Он всё с Иваном: на учении, на охоте, а то на лошадях гоняют.
– Ничего, не с девкой какой время проводит, не с посторонним, это удача, нам, Аннушка, выпала, что Василий осиротел, прости господи, меня, грешную. Жаль только крови в вас много общей, и московской, и литовской. По московской – вы троюродные, а по литовской… надо бы заняться сосчитать: бабка твоя Софья была двоюродной племянницей прабабки Василия Евфросиньи. Ну, даст бог, обойдётся.
– Что обойдётся? – не поняла Анна.
Мария Ярославна вместо ответа спросила строго:
– А ты в седле теперь хорошо держишься или всё так же квашня-квашней?
– Квашня, – смущённо хохотнула Анна: не в первый раз её мать об этом спрашивала, всякий раз после её ответа мамку песочили, что мало с ней занимается – ездит княжна плохо, еле на воде держится, на верёвке кулём висит. Теперь Анна боялась, что мать и про верёвку спросит, но она спросила о другом:
– Открыла ли мамка тебе тайны женские?
– Открыла, – пролепетала Анна, зарываясь в материн сарафан лицом.
– Ну-ну, уронишь! – сказала княгиня, поднимаясь с колен. – Ишь, заалела маковым цветом. Лучше в девках всё узнать, чем в подоле принести. Давай-ка назад всё складывать, – она принялась сноровисто для своего пышного тела собирать раскиданные по ковру вещи. – А мужу никогда ни в чём не перечь. На ласку не скупись. Уступай. Выслушивай. Поддакивай. Похваливай. – Мария Ярославна засмеялась. – Мужики похвалу любят. Пожалуй, даже больше ласки. Я уж на своём веку так юлила, так ластилась – вспоминать противно. Зато и тихо в семье, мирно.
– А вот это надо дать иконописцам обновить, – сказала Марья Ярославна, когда всё убрали в сундук, и Анна самостоятельно заперла его мудрёный замок.
В развёрнутой холстине лежала тёмная-тёмная старинная икона. В оконце затейливой серебряной ризы едва угадывалось женское большеглазое лицо, отчётливо лишь виднелся тонкий палец у крохотных сомкнутых губ.
– Святая Анна. Твоя покровительница. Икона Чудотворная. Про неё тебе не раз рассказывали. Грех, конечно, Чудотворную в сундуке держать. Но такую разве на люди выставишь? Переписать надо. Тоже твоё приданое.
Иконописцев пригласили в княжеские хоромы. Мария Ярославна не решилась передать им икону: опасалась, что подменят чудотворную доску простой, потому и призвала их к себе, пусть красят на глазах.
Пришли двое: немолодой, с длинными, по плечи, седыми, будто серебряными волосами и такой же серебряной бородкой, и кудрявый русоволосый юноша, с тёмными чёрточками усов над тонкими губами. Оба невысокие, щуплые. У обоих худые, очень похожие, прекрасные лица, серые с мягким прищуром глаза, маленькие и узкие, как у девушки, кисти рук. Не спеша расположились за столом у окна.
Анна устроилась рядом с матерью на скамейке чуть поодаль, во все глаза смотрела на чудесных пришельцев. Те тоже поглядывали на неё с доброжелательным вниманием. Потом занялись иконой. Ловко и бережно сняли оклад – обнажилась тёмная, изъеденная по торцам доска. Чуть светлели нимб над ушедшим во мрак женским лицом и часть руки с удлинённым указательным пальцем.
– Да, ничего под этой многовековой грязью не угадать, – сказал негромко старший. – Письмо несомненно старое и, по-видимому, незаурядное.
– Попробуем очистить?
– Не стоит – испортим. Оставим это потомкам. Может, они искуснее нас будут.
– А если то, что сделаем мы, окажется лучше, и они не захотят счищать? – усомнился юноша, вытаскивая из берестяного короба и расставляя на столе глиняные плошечки с красками, раскладывая кисти.
– Да, задача – как узнать, что лучше, когда первое скрыто вторым? Разве что потомки наши будут насквозь видеть, – он засмеялся.
Анне тоже стало смешно, но тут же вспомнилось, няньки рассказывали, жила в Москве в старые годы колдунья, которая через закрытые глаза, чёрным платком повязанные, видела спрятанные в ларчик ключи, кольца, деньги и разную другую мелочь. За эти бесовские способности колдунью сожгли на костре.
Подсох грунт. Металлическим заострённым стержнем старший иконописец стал чертить на нём лик, всё так же ласково, чуть вопросительно поглядывая на Анну. Та, не скрывая любопытства, вся подалась к столу, прижала указательный палец к губам. Юноша тоже пристально, не таясь, посмотрел на неё и принялся красить рисунок. Ложились на доску охра, лазурь, киноварь, вспыхивали радугой.
Анне хотелось посмотреть, что же там выходит у мастеров, но она не решалась из-за матушки встать со своего места. Но вот княгиня сама направилась к столу, Анна – за ней.
– Тут работы ещё непочатый край, – останавливал их иконописец, – ещё лик не прописан как следует, да и одежда. Смотреть ещё нечего.
Но княгиня уже склонилась над иконой, загородила её от Анны широкой спиной:
– Ах, боже мой! Похожа-то как! А это не грех? Останется ли после икона чудотворной?
– Не грех! – твёрдо сказал старший иконописец. Говорил он тихо, усталым голосом, но уверенно, и его очень приятно было Анне слышать.
– В иконе важен не лик, а суть его – образ. Никто из здравствующих иконописцев не видел святых, которых ему писать приходится, и всяк их пишет по-своему. Разве ты, великая княгиня, не заметила, что даже Богоматерь на всех иконах разная? Последнюю я, к примеру, писал с внучки боярина Всеволожского.
– Как знаешь, – сказала Мария Ярославна недовольно, теперь уже потому, что иконописец упомянул её врага, и чуть подвинулась, уступая Анне место.
Красивая, но хмуроватая женщина лет тридцати в наброшенном на голову по самые брови тёмно-вишнёвом покрывале, будто повязанная вдовьим платком, приняла её любопытный взгляд и ответила на него. В её взоре Анна угадала строгость, непреклонность, скорбь и даже осуждение. Знакомое-знакомое и неузнаваемое лицо.
– Не признаёшь, что ли? – повернулась к ней мать, улыбаясь.
– Нет, это не я! Я совсем иная.
– Будешь такой, – сказал иконописец и улыбнулся ласково и грустно.
Красками, взятыми у иконописцев, на старой доске, где некогда был Николай Угодник, Анна писала икону. Изображала Богоматерь – светловолосую юную, почти девочку, с измождённым страхом и ожиданием лицом, с выпроставшимися из лазурного хитона, сложенными на высоком животе, тонкими по-детски руками. Писала с Марьюшки, которая ждала ребёнка и очень боялась родов. Вышло похоже. И обеим очень понравилось. Радостная Анна помчалась показать икону матери.
На сей раз Мария Ярославна обошлась без сомнений. Схватила лежащее у печи полено и кинулась на дочь.
– Дурацкой мазнёй иконы переводить. Прабабушкино подаренье! Негодница! Святотатка![16] Бес в тебя вселился!
Как Анна ни увёртывалась, мать всё-таки пару раз огрела её по тощему заду. Затем опомнилась, отшвырнула полено, запричитала:
– Горе мне с тобой! Никак не угомонишься. Никак в толк не возьмёшь: красить – не женское дело. Тем паче иконы писать.
– Почему? – пробурчала Анна, поглаживая ушибленное место.
– Нечистое женщина существо. Греховное. Нельзя нам в алтарь входить, иконы писать. Во время месячных в церкви бывать. И после родов бабе в церковь можно только тогда, когда священник прочтёт над ней очистительную молитву. А ты брюхатую на святой доске накрасила. Не маленькая ведь, соображать должна.
– В монастырь уйду! – сказала Анна с вызовом. – Марьюшка говорила, инокини сами иконы пишут.
– Я вам покажу монастырь, пустобрёшкам. Обеих велю на конюшне высечь.
– Хоть насмерть забей! – крикнула Анна и совсем тихо, печально добавила: – Жизни мне нет без этого, матынька. Руки сами к угольку и кистям тянутся.
Мать молча прошла к одному из своих сундуков. Вынула едва ли не со дна его небольшой сверток. Развернула. Легко скользнуло, повисло на поднятой крышке узкое полотнище.
– Подойди ближе!
На полотнище шерстью, золотом и жемчугом была вышита во весь рост женщина поразительной красоты. Под ней – надпись: великая княгиня Софья.
– Вот чем можешь руки занимать, если не найдёшь иной, княжеской работы.
5
Несмотря на слепоту, великий князь Василий Васильевич не сидел в своём тереме сиднем. Раз за разом выезжал во главе многочисленного войска за пределы Московии, прибирал к рукам одно за другим соседние княжества. Согнал со столов князей галицкого, можайского, боровского. Последнего, бывшего друга и родственника, шурина, Василия Ярославовича, даже сославши в Углич, заключил в темницу. На просьбы жены выпустить брата, позволить ему уехать в Литву, куда бежал его сын, не откликался, а, вызнав, что сподвижники Ярославовича намереваются его вызволить, велел казнить их лютой казнью. Злые языки говаривали, что и Шемяка ранее не без вмешательства великого князя умер – не в бою, не в поединке, не на плахе даже – отравлен был и что, узнав о его смерти, великий князь совсем не по-христиански обрадовался.
А ведь присваивал себе соседние уделы Василий не потому, что уж очень о единстве Руси пёкся – о благополучии дома своего, своих сыновей заботился. Счастье, когда у человека есть сын, когда у князя – вдвойне: наследник! А если княжичей пятеро: Иван, Юрий, два Андрея, Борис, – и все в силу входят, все своей доли ждут… Не плошай, князь отец.
Иван возмужал и уже без отца ходил в походы, не отставал от него и Юрий, успел даже побывать у псковитян в наместниках, и другие сыновья князя давно сменили колыбели на сёдла.
Подолгу теперь пустовала мужская половина княжеского терема. Прибавилось хлопот Марии Ярославне, прибавилось волнений и тревог: раньше за одного-двоих тревожилась, а нынче улетел ясный сокол Васенька, троих сыновей забрал, да ещё племянника. Велел не горевать, не печалиться. Легко сказать! А тоска грызёт, тоска покоя не даёт. Для успокоения затеяла Мария Ярославна пелену вышивать для Архангельского собора, по обету. Задумала: в две недели управится – вернутся все живы и здоровы. Чтобы работа быстрее спорилась, чтобы не томиться одной за вышиванием, девок своих, Марью и Анну, позвала и ещё кой-кого из приближённых.
Собрались после обедни в трапезной, уселись у открытых окон с вышивками. Анна села рядом с Марьей и сразу предложила шёпотом:
– Споём?
– Споём! – с готовностью откликнулась та и тут же затянула высоким ломким голосом: – Не вода в города нахлынула…
– Злы татарины понаехали, – шутливо забасила Анна.
– Как меня, молоду, в полон берут, – согласно и ладно пропели обе.
– Ну завыли, словно волки на луну! – оборвала Мария Ярославна, зло откусила шерстяную алую нитку. – Нашли время. Мужики наши кровь проливают. Не дай бог, уже полёг кто-то, а вы, бесстыжие, в песне надрываетесь. Вот не сегодня-завтра съедутся ко двору, тогда… А сейчас почитай, Марьюшка, почитай нам Священное Писание. Помнишь, где намедни остановились?
Марья оставила вышивку, рубашечку вышивала первенцу Иванушке, села за стол, где лежала Библия, быстро нашла нужную страницу, принялась читать по складам, в чтении она не была искусна, как, впрочем, и большинство домочадцев великого князя, а сам он грамоты вообще не знал.
– «При-об-ре-ла ве-ли-ку-ю сла-ву», – читала Марья.
Анна, не слушая, бурчала:
– Как же, попоёшь тогда. – Представляла, какая начнётся гульба на мужской половине – от плясок да крика молодецкого ходуном заходит терем, до девичьих ли песен будет, их только за рукоделием и петь. «Как меня, молоду, в полон берут, во полон берут, полонить хотят», – песня плескалась в ней, рвалась наружу.
– «…состарилась в доме мужа своего», – читала Марья.
«Ну как это матынька не понимает, что песни не только весёлые поются: “Ах ты, батюшка, выкупай меня! Ты давай за меня сто городов…” А вдруг за батюшку отдавать сто городов придётся? И чего ему не сидится на месте? Зачем ему эти земли чужие? Господи, как страшно, как горько ждать! Никаких подарков не надо. Стану княгиней рязанской, ни на что чужое не позарюсь».
– «…слу-жан-ку сво-ю на сво-бо-ду», – бубнила Марья. Женщины вздыхали, может, тоже не слушали, не в первый раз ведь читалась книга «Юдифь», которую любила Мария Ярославна.
«Уж и нянюшки её наизусть знают, а Марья всё, как по дебрям, пробирается», – подумала Анна. «Ах ты, матушка, выкупай меня! Ты давай за меня сто локтей полотна…» – вытесняя мысли, билась, рыдала песня, а руки проворно сновали над полотном: горка вершиной вниз, солнышко, горка вершиной вверх, крест, опять горка, солнышко. «Скука какая: одно и то же, одно и то же который день уже. Хорошо ещё, другой конец ручника мамка вышивает, а то и состариться над этим ручником можно. И чего стараться, всё равно под ноги его на свадьбе постелят. Надо только изловчиться прежде суженого на ручничок наступить». За мыслями Анна и не заметила, как принялась украшать кресты чёрточками – в одну, в другую сторону.
– О, горе моё, бесталанная! – всполошилась вдруг мамка. – Княгиня-матушка Мария Ярославна, погляди, что девка наша умудрила на ширинке свадебной. О горе, горе!
– Ну чего, чего расшумелась! – Анна скомкала свой конец ручника. – Не сама я эти кресты выдумала, на нянюшкином навершнике видела. Матынька, неужто и тебе они не нравятся? Посмотри, так же красивее.
– Молчи, глупая! Несчастливый крест ты вышила. Крест Перуна. Огненный крест. Сколько раз тебе говорили: не в красоте дело – узоры из знаков состоят, знаки в заклинанья складываются. И пусть смысл их забылся, сила-то не иссякла. И нельзя, нельзя их абы как ставить. Пращуры наши места им определили. А ты, строптивая, всё мимо ушей пропускаешь, всё за красотой гонишься. Крест Наваждения намедни не к месту вышила, знак вод на дыбы вздернула. Нет сил моих твоё озорство терпеть – ступай в угол, негодница! На коленях моли Царицу Небесную…
– Не позорь, матушка-княгинюшка, девку, ведь невеста совсем. Моя вина – не досмотрела. Я в угол пойду.
– Станешь рядом.
– С ручником-то что делать?
– Сжечь!
– Так-то, так-то, матушка-княгиня, – закивали обрадованные расправой мамки княжичей.
– Окропить бы прежде, – предложила одна из боярынь.
Ручник окропили, разодрали на лоскутки. Мамкин конец был чудо как хорош, Анна не вытерпела, выскочила из угла, когда его метнули в печь.
– На нём нет перуно…
В печи ухнуло, загудело, затрещало. Померк свет в горнице. В ближнее к печи окно ворвалось серое облако, заюлило по полу, закидало всех то ли песком, то ли пеплом и скрылось в топке.
– О-о! Что же это? Бабы, девки, окна, окна затворяйте, вьюшки, заслонки!
Анна бросилась к окну. Рама рвалась из рук. У стены, точно пёс на привязи, металось вишнёвое деревце. Чуть поодаль, согнувшись коромыслом, никла к земле берёза, а на неё надвигалось что-то клубящееся, чёрное, жуткое.
– А-а!
Ухнуло где-то над теремом, затрещало, заскрежетало.
– Кровлю рвёт!
– Девки под столы, под притолоку!
– Буря! Чёрная буря!
Анна оказалась в дверях. С одной стороны её загородила мать, с другой – мамка. Марьюшка билась рядом на полу, на неё навалилась, держала её боярыня.
– Ванюшка, мой Ванюшка! Пустите, пустите!
Сколько так они хоронились – час, минуту? Про часы забыли, не вспомнили про них, когда буря внезапно кончилась.
И сразу же в трапезную набежали домочадцы, загалдели, перебивая друг друга, выражая сочувствие, ожидая ответного, торопясь поведать о бедах, потом потянулись с горестными сообщениями посадские.
Мария Ярославна принимала вести почти равнодушно, главной, самой чёрной страшилась. Марьюшка не спускала с рук орущего сына и будто умом тронулась, всё повторяла: «Счастье-то, счастье какое». Мария Ярославна в суматохе не обращала на неё внимания, как и на Анну.
Испуганная, расстроенная Анна (вдруг да её кресты всему причиной) побрела к себе в светёлку, легла, не раздеваясь, на постель, накрыла голову подушкой: на крыше уже начался дробный перестук молотков. Под него и заснула. Разбудила мамка.
– Анна, Анна, – звала негромко, скорее для порядка. – Вредно спать на заходе солнца. Вставай.
Анна не отозвалась.
– Вот так всегда, – сказала мамка кому-то, – напугается и спит. А тут, шуточное ли дело – такую беду накликала.
– Не её вина в этой напасти, – возразил знакомый (чей только?) голос. – Беда не округе – дому княжескому будет. Ей! Любимых родственников хоронить станет одного за другим. Сколько крестов огненных вышила?
– Ох, – заплакала мамка, – кажись, три и ещё один не дошила. Нельзя ли беду отвести, по глупости ведь она, дитя ещё.
Голос молчал, потом промолвил сурово, громко:
– Первый крест через шесть месяцев, второй через шесть лет, третий…
– Мамка! – закричала Анна. – Мамка же! С кем это ты? – и выскочила из-за полога.
– Бог с тобой, дитятко! – мамка обняла Анну, перекрестила. – Одна я. Будила тебя, не добудилась, уходить уже собралась. Василь Василич наш подъезжают, гонца прислали, сейчас будут.
Анна выбежала во двор.
Площадку перед крыльцом заполонили прибывшие. Не успев спешиться, они обнимали подбежавших женщин. Мария Ярославна, расцеловав мужа, обнимала Ивана, оттеснив Марью. Анна, минуя тянувшего к ней руки Юрия, подбежала к княжичу Василию, припала щекой к его пыльному сапогу.
– Желанный! Суженый!
– Не срамись, не жена, – сказал княжич тихо, почти не разжимая губ, так, как в детстве говорил: «Укушу». – На, подержи! – И протянул большой свёрток. Анна замешкалась, не зная, как его лучше принять, подскочивший стремянный перехватил этот куль, и она поняла, что в куле ребёнок. А Василий спешился и зашагал за стремянным к людской, на Анну он так и не взглянул.
– Это, Анютка, наш найдёныш, – объяснил Юрий, гладя сестру по взъерошенным после сна волосам, – Васятка её с ветлы снял в какой-то деревушке, не помню названия. Ну да неважно. Бурей, должно быть, забросило. Чья девчонка, мы так и не дознались. Она одно твердит: «С коровками летала». Да что с неё возьмёшь, года три-четыре ей, там и взрослые со страху друг друга не помнят. Вы-то как тут?
– Да так вот! – Анна показала на поваленные деревья, на обрушившуюся конюшню.
– Э, пустяки, на пару дней работы! Главное, сами целы. У нас тоже всё хорошо: из похода без царапин вышли, буря нас миновала. Не кручинься, Анютка, – Василий – хороший, надёжный парень, отца лучше нас доглядывал. А что неласков, так молод ещё – переменится. И тогда ты его прогонять станешь!
Юрий засмеялся и поцеловал сестру в губы. Она тут же вытерла их – не любила таких поцелуев.
Долго не могли угомониться в тот вечер на княжеском дворе. Да что там – на княжеском, вся Москва не спала до полуночи. Шутка ли – два таких события в один день: чёрная буря и возвращение войска. Убытки и прибытки, беда, радость и горе. Буря не только скотину и строения поубавила, не во всех московских приходах и людей досчитались. Из похода тоже не все вернулись, и добычей не каждый обзавёлся из ратников – сапоги прохудились, кафтан драный, конь охромел, а сума перемётная пуста на горе жене и детишкам. Вот и голосили то у одного, то у другого храма, а у третьего какие-то хмельные, всеобщей беде вопреки, вдруг принимались петь дурными голосами.
Давно темнота укрыла город, а всё не расходились москвитяне по домам – разбирали завалы, обменивались бедами, плескались в тёплых водах Москвы и Яузы. До Ильина дня с неделю оставалось, и бани ещё не топили. Наконец все понемногу успокоились, только стражники перекликались на кремлёвских дозорных башнях неохотно и сонно:
– Славен город Москва!
– Славны пределы московские!
– Пресвятая Богородица, спаси нас!
Анне не спалось: распирало голову, мучила жажда, то и дело приходилось выскакивать во двор по малой нужде.
– Покоя нет от тебя, непутёвая, – ворчала мамка, поспешая за ней босиком, – обуй мои ичиги. Куда свои-то подевала? Опять в постель с грязными ногами кувыркнёшься!
Анна добредала до кровати в мамкиных ичигах, а потом опять неслась во двор босиком.
– Господи, сил моих нет за тобой гоняться, – сокрушалась усталая мамка. – Говорила: не пей на ночь узвара[17], рыбки солёненькой поешь. Сольцы, что ли, теперь полизать тебе, авось поможет. И на двор не шастай: вон ведро поганое у печки. Как дитя малое, как дитя! – Она подтащила ведро к кровати и, плюхнувшись на свою лежанку, тут же захрапела, тоненько, с переливами.
– Мамка, мамка! Во двор пойду! Не зима же! Мамка.
Но та продолжала свистеть весенней синицей.
Анна нашарила свои ичиги, бесшумно выскользнула из светёлки. Так же бесшумно спустилась по лестнице, освещённой багряным светом лучин (в сенях свечей не жгли), прошмыгнула незамеченной мимо задремавшего у дверей стражника. Дверь была открыта. Шагнула за порог – тут же остановилась, дернувшись, будто перед ней натянули верёвку.
На крыльце, на средней площадке, в ярком свете луны возились (боролись?) двое. Здоровущая баба (девка?), по одежде не разобрать: в исподней рубашке, как Анна, и тоже простоволосая и босая, прижав к перильцам, душила кого-то небольшого щуплого. Он уже молчал, не отбивался, только ручки вздрагивали на плечах великанши!
– А-а! Отпусти, отпусти сейчас же! Караул! – закричала Анна и ринулась разнимать.
Девка мигом отпрянула от своей жертвы, точно на них ушат опрокинули, метнулась с крыльца, а за ней следом скатился… суженый, Василий Иванович, князь рязанский, растерзанный, взъерошенный, в одном сапоге.
И тут Анна сообразила, что они целовались.
– Они целовались! Целовались! – завопила она, увертываясь от мамкиных рук.
– Она целовала! Целовала моего суженого! – ломилась Анна в ложницу к матери. – Матынька, открой! Открой же!
– Замолчи сейчас же! – Мамка вцепилась в Аннину рубашку.
– А-а!
Пришлось влепить княжне пощёчину.
– Сплюнь, сплюнь! Вот так! Весь дом переполошила.
По двору катился, нарастая, разноголосый лай. В тереме захлопали двери. За спиной мамки громко дышал караул. И дверь ложницы вдруг открылась, великий князь Василий Васильевич, запахивая сурожский[18] халат, спросил громко и недовольно:
– Почему шумишь, Анна? Почему не спишь до сих пор?
– Напугалась она надысь, князь-батюшка. – Выступила мамка вперёд и, оттесняя Анну, зажала ей рот рукой. – А тут ещё лунность на дворе. Луна с постели подняла. Я с уголька попрыскаю…
– Это уж дело твоё. Но чтобы было тихо. Выспаться в родном доме не дают.
Князь хлопнул дверью, громыхнул изнутри засовом.
– Вот дурёха так дурёха! – перепуганная мамка легла с Анной, гладила её, как младенца перед сном, по худенькой горячей спине, по мокрым щекам. Спасла Богородица – не открылось, что выскочила княжна одна ночью во двор. Только бы стражник не проболтался, ну да нет ему корысти – сам, видно, задремал и тоже проворонил девку. – Надо же так дом переполошить из-за пустяка. Я, бедная головушка, подумала, напугал тебя кто или собаки набросились. И чего ты к княгине помчалась среди ночи?
Мамка была уязвлена – не к ней Анна кинулась со своей обидой. Как волка ни корми… Она ль княжну не холит, она ли не бережёт. С нею от зари до зари. А девка неблагодарная к матери льнёт. Да чего от неё ожидать – чужая кровиночка, выкормыш. А вот ведь, кто из родных пятерых сыновей и дочерей желаннее её? Может, потому, что заменила умершего поскрёбыша? Э, да чего об этом думать!
– Ласочка моя.
– Мамушка, – все ещё плакала Анна, – меня Васька оттолкнул при народе, а с этой бабой безобразной, грязной целовался тайком, в потёмках.
– Глупенькая, потому-то и оттолкнул, что целовать не умеет. Вот научит его Ледра разным хитростям любовным, разве тогда пройдёт он мимо красы ненаглядной, мимо ласочки моей. А Ледра не грязная, ты не беспокойся, девка она добрая, справная. Братцев твоих, Юрия да Андрея Большого, обучала, теперь вот Васятка подоспел…
– Не хочу, чтоб обучала! Матыньке всё равно скажу!
– Э-эх, Анютушка, цветик мой лазаревый, всякому делу обучаться следует. Не без ведома княгини-матушки наука эта идёт.
– Иван тоже обучался?
– А как же!
– И отроковиц тоже обучают?
– Упаси бог! Спи, милок! – Мамка поспешно поцеловала Анну, перекрестила. – Заболтались мы с тобой. Вторые петухи уже, а мы всё колобродим. Крышу латать скоро начнут, тогда не поспишь. – Она заспешила к лежанке, забралась на неё и сразу же засвистела синицей.
– Мамка, мамка, а почему я прежде не видела эту… Ледру? Почему её так чудно зовут? Кто она, девка сенная?
– Спи! Никто в терему зря хлеба не ест, – проговорила мамка невнятно, в полудреме и, зевнув, прибавила ясно: – Ледра весьма искусна в любви, весьма.
«Искусна в любви… Что это значит? – размышляла Анна. – Мамка говорила: любовные утехи нужны, чтобы были детки. А просто так для праздности, они – грех, большой грех. Учиться греху, учить греху разве не грешно? Значит, эта Ледра… За что её так прозвали? И какая она – красивая или конопатая? Лицом так и не повернулась. Почему же подумала я, что никогда её не видела? Значит, она грешница. И за грех, как странно, её никто не наказал. За грех она хлеб ест. За грех живёт в княжеском тереме, да ещё на нашей половине. Конечно, на нашей, иначе не была бы босая на крыльце. Может быть, в той горенке, что всегда закрыта. Ну да, дверь закрыта изнутри, на чердак открыта, а эта… Надо будет проковырять в ней дырку и посмотреть. А вдруг она вовсе не грешница и у неё детки есть от Ивана, Юрия, Андрея, а теперь ещё от Васятки будут. Но у Васятки уже есть ребёночек, зачем ему ещё. Жаль, не спросила, как зовут эту девочку, что с коровками летала. Любопытно, как летала?»
– А так, – сказала девочка, у неё были растрёпанные волосы и заспанные серые глаза, – давай, Анютка, руку и полетим.
– Давай, давай! – засмеялась Ледра, успевшая надеть красный рязанский сарафан. – Не бойся!
– Откуда вы взялись? – удивилась Анна. – Я же ещё не сплю.
– Конечно, не спишь, – подтвердила Ледра, она оказалась тёмно-русой, широконосой и чуть губастенькой, не красавицей, нет, лишь глаза были хорошими, тёмными, тёплыми, и в них плескалась печаль.
– Ну что ты меня так разглядываешь? Летим!
Они взялись за руки, как в хороводе, и поплыли над рассветной Москвой. Внутри этого маленького хоровода кувыркался, вскидывая ногу в красном сапоге, невесть откуда взявшийся суженый.
– Меня зовут Айвина! – перекрывая свист ветра, кричала девочка. – Айвина!
Проснувшись, Анна не вспомнила полёта, забыла о ночном происшествии.
6
С Преображения, с Яблочного Спаса до Сретенья Анна усердно ткала и вышивала узорчатые пояса: мужские широкие и длинные, шириной в пядень с кувырком, длиной в три аршина, женские поуже, в полпядени и покороче, в обхват, – отцу, матери, старшим братьям, Марьюшке. Сама себе оброк установила и срок назначила, а матушка княгиня не препятствовала, освободила даже от других дел.
Корпела Анна при свечах: день убывал и в терем, где были малые оконца, к зиме и вовсе перестал заглядывать. Ткала, спешила и всё раздумывала, делать ли пояс суженому; вроде мал ещё его носить – надевать пояса могли только взрослые, – а вдруг без её рукоделия беда как раз с ним случится после Сретенья, сбудется таинственное предсказание. Ведь известно было тогда, что пояс – не просто часть одежды и носят его не затем, чтобы штаны не спадали или рубаха не болталась: силу особую он в себе таит и человеку передаёт.
Но напрасно Анна о суженом беспокоилась, с ним ничего не стряслось, а горе всё-таки пробралось в дом: занемог великий князь Василий, князь-батюшка. Захирел, исхудал, а лекарей не желал звать, сердился, когда их приводили, кричал на весь терем:
– Уберите этих отравителей! Я здоров как бык!
Когда же силы совсем оставили его, сам себе болезнь установил – сухотку и татарина какого-то призвал на помощь. И тот истыкал ему тело тлеющим трутом, да, видно, перестарался, слишком горяч был трут. Пузыри вздулись огромные, обернулись незаживающими язвами, приключилась потом лихорадка.
– В монастырь, в монастырь, – шептал князь cпёкшимися губами. – Грехи замолить… Схиму приму…
Но великая княгиня Мария Ярославна постричься не дозволила. О детях пеклась, шутка ли, пять сыновей осталось, дочь. Внук на ноги поднялся. Не дай бог, пострижётся князь, часть наследства монастырю перейдёт, а чего ради? – грехи всё равно не успеет замолить: уже нос заострился, и пот липкий на челе выступил. Убедила князя духовную скорее подписать, которую сама и составила. По этой духовной великое княжение оставалось за Иваном, ему же шла треть всех московских доходов, ну а сама Московия раздиралась на части между княжичами, как раздирается подросшими хорями принесённая родителями лакомая добыча. Что поделаешь, князья тоже по законам природы живут: добывают, множат добро, живота не щадя, чтобы потом в одночасье раздать всем детям. Важно, чтобы делёж был справедливым. Ей казалось, она никого не обидела, каждый получил своё – по старшинству и заслугам. Юрию перепал Дмитров, Можайск, Серпухов и все владения бабки Софьи. Андрею Большому – да стоит ли перечислять? – никто из сыновей не был обделён, и себя она не забыла. Помимо нескольких уделов и волостей, городов Ростова и Романова, ей ещё завещалась власть родительская, и не только в делах семейных, но и государственных.
Поставил князь под духовной крест. Скрепили эту подпись великокняжеской печатью и потянулись приближённые и родственники прощаться с умирающим.
Курился ладан, трещали, коптили многочисленные свечи, полыхал жаром изразцовый бок печи – не продохнуть. Да ещё понабились в ложницу в одежде зимней, в волчьих шубах, овчинных кожухах, и от них шёл тяжёлый дух.
Прощались по старшинству. Однако после Юрия князь вдруг Анну с суженым кликнул. Но уже не смог руки поднять для благословления, не мог сказать напутственных слов.
– Батюшка, батюшка, собирайся с силами, – лепетала Анна, упав на колени перед ложем. – Батюшка, уже верба распустилась. Мать-мачеха расцветёт скоро. Тебе только до зелёных листиков перемочься, батюшка, – там полегчает.
Лепетала чушь, а сама не верила утешительным словам, глушила ими плач, заталкивала его поглубже – к сердцу.
– Батюшка, понюхай! – приложила к неподвижному лицу пушистую веточку. И вдруг подобие улыбки мелькнуло на нём. Разомкнулись запёкшиеся губы, прижались к её холодным пальцам.
Он умер в ту же ночь, 17 марта, не дожив до сорока шести лет.
Хоронили великого князя Василия Васильевича, Василия II, Василия Тёмного, по обычаю того времени, на следующий день, в белокаменном Архангельском соборе, воздвигнутом предком князя Иваном Калитой. В нём был похоронен и Калита, с тех пор собор стал усыпальницей великих московских князей.
Много народу набилось в него в этот горестный воскресный день. Ещё больше столпилось на паперти. Немало было иноземцев и, конечно, татар. Иноверцы в собор не входили. Но именно они сообщали потом в своих посланиях на родину, как убивалась на похоронах дочь князя, как упала она уже на заколоченный гроб, заголосила неприлично громко для княжны: «Это я, я погубила батюшку!» Великая княгиня Мария Ярославна велела увести дочь, так что гроб опускали уже без неё, без неё накрывали его закладной плитой, устанавливали каменную гробницу.
И ещё сообщали иноземцы, что по Москве идут слухи, будто внезапная болезнь здоровяка князя вызвана какими-то колдовскими знаками, вышитыми якобы княжной по наущению одной из нянек; няньку велено казнить, говорят, а княжну днями сошлют в монастырь.
И передавая все эти новости, обсуждая их между собой, чужестранцы с Запада посмеивались над московскими нравами – в их государствах давно уже не верили в таинственную силу знаков. Ведьмы, правда, нередко гибли на кострах, но случалось это вовсе не из-за каких-то невинных вышивок.
В донесениях послов главным поэтому были не слухи (они приводились как курьёз, образчик московской дикости, варварства), главным было то, что великая княгиня Мария Ярославна, вопреки предсмертной воле мужа, решительно отказалась обратиться к королю Казимиру за покровительством, сказала высокомерно, грубо, словно простолюдинка: «Сами со своими делами управимся – вон сколько нас, родственников да свойственников, и у всех головы на плечах – не кочаны». Писали, что только едва ли «родственники да свойственники» будут допущены к московскому пирогу: Иван вошёл в полную силу, двадцать два года ему, да и Мария Ярославна – женщина властная, весьма искушённая в государственных делах, а друг с другом они прекрасно ладят.
Правы оказались послы и тайные чужеземные соглядатаи: Анну действительно отправили в монастырь. Мария Ярославна решила, что только в тихой, отдалённой от московской суматохи обители девочка сможет наконец успокоиться, пора было к тому же ей и серьезно учёбой заняться, да и глупые слухи следовало скорее прекратить, пока они из Москвы не расползлись по всему княжеству.
В то, что виной несчастью – вышитые кресты, Мария Ярославна не верила, но не сомневалась: кто-то наслал на князя порчу. Однако нянюшка едва ли к этому была причастна: старая, глупая – не в её силах такое. Хотела за помощью к астрологу обратиться, к Василию Немчину, но тот незадолго до болезни князя словно в воду канул. И понять его можно было: пуганая ворона куста боится, а Немчина испугали на всю жизнь. Предсказал великому князю, что тот будет ослеплён. Предсказание сбылось день в день. Великая княгиня Софья, когда князь Василий вновь обрёл власть, хотела астролога на кол посадить, но князь вступился за тёзку. Правда, со двора всё-таки велел прогнать – от греха подальше. Вот и эту глупую мерзавку убрать с глаз долой решила Мария Ярославна и сослала нянюшку в Углич, поскольку нянчила она когда-то Андрея Большого, которому отец завещал город.
Анну же отправила в Серпухов. Этот древний город, ещё недавно бывший центром удельного Серпуховского княжества, гнездо славного деда Марии Ярославны Владимира Андреевича Храброго, достался Юрию, он и провожал сестру до монастыря.
До Серпухова от Москвы без малого сто вёрст. Добирались долго: внезапно началась распутица, так что пришлось оставить на дороге санный обоз со всякой поклажей и ехать налегке верхом. Вот где пригодилась Анне мамкина наука.
Самой мамки среди провожатых не было: занедужила накануне отъезда. Дворня шепталась, что не хворь, а гордыня её одолела. Мамка сказалась больной, потому что замыслила великая княгиня отлучить её от Анны за недогляд и сослать в Чухлому.
Анна об этих домыслах ничего не знала и, пока ехала в санях, горестно размышляла, отчего ей не позволили попрощаться с мамкой, почему та так неожиданно и сильно захворала и не повлечёт ли этот внезапный недуг новой тяжёлой утраты. Однако стоило ей взгромоздиться в седло, как все мысли улетучились, исчезла даже тоска по отцу. Всё её существо подчинялось теперь лишь одному стремлению – половчее держаться в седле. Стало казаться, что в жизни нет ничего важнее оплывающей, загаженной навозом, бесконечной дороги и этой смердящей[19], коварной твари, так и норовящей сбросить седока.
Лошадей несколько раз меняли на ямах, но Анна не заметила этого и считала, что борется, подчиняет, а больше отдаётся во власть всё одной и той же каурой дьяволице. Не уловила она и разницы между ямами: тёмные, крытые соломой длинные избы, заставленные санями, замусоренные сеном дворы, обустроенные конюшнями и сенниками, овечьи кошары, и всюду одуряющий запах лошадей и грязной, сырой овчины. Что делалось внутри постоялых изб, как они были обустроены, она не помнила, потому что едва ли не с порога проваливалась в сон. В одной лишь успела увидеть, как хозяйка моет огромный, вмазанный в печь котёл. Вычерпала ковшом на длиннющей ручке остатки похлёбки, потом взяла стоящий в углу, в куче мусора, голик и принялась им в котле шаркать. Плеснула из чугуна немного воды, и только Анна подумала, как же хозяйка будет эту воду выливать, а она уже согнулась над котлом, опустила в него голову в белом, повязанном до бровей платке. Скрылись в котле и её широкие плечи под зелёной бархатной безрукавкой, а вот уже только крупный зад висит над ним, задралась широкая юбка, обнаружились малиновые шаровары – татарка! Татарка и совсем молодая! А на стене в красном углу образа, и лампадка под ними…
Татарка всё втягивалась и втягивалась в котёл, стояла на цыпочках, едва касаясь белыми шерстяными носками крашенного охрой деревянного пола, – вот-вот нырнёт в посудину. Но нет, наконец, разогнулась и принялась отжимать над поганым ведром тряпку. Потекла с неё мутная густая жижа с ошметками капусты и перепревшей моркови. Еще раз бы сполоснуть котёл, но татарка залила в него несколько ушатов свежей воды, покидала мясо, капусту, калегу.
«Господи, что же она наделала? – удивлялась про себя Анна. – Для людей ведь, не для скотины стряпает, а котёл оставила грязным. А как же у нас в поварне моют котлы? Или там нет их?»
– Поварёнка в котёл сажают, – объяснила мамка, – и он выскребает всё нутро до блеска.
Анна вдруг увидела, как мамка подсаживает поварёнка в заполненный похлёбкой котёл. Поварёнок упирается, сучит ногами в красных сапожках. Да это суженый!
– Суженый, утонешь! – хотела крикнуть Анна, но голос почему-то пропал.
– Анна, Анночка, не спи, – тормошил её Юрий, – сейчас похлёбка поспеет.
– Я не сплю, – отозвалась Анна и стремительно унеслась куда-то в тёмную пустоту. Не было ничего вокруг, не было никого вокруг, её тоже не было. Не было никогда. И внезапно из пустоты, из небытия возникла какая-то точка, стала расти, клубиться, извиваться. Стала шипеть!
– Змея! – Анна спрыгнула с рундука, на который примостилась, отскочила к печке и споткнулась о поганое ведро. Оно повалилось, по солнечно-жёлтому полу растеклись помои.
– Бар, бар! – закричала татарка и бросилась к рундуку, прямо по жирной луже в своих белых носках. Из-за стола с куском баранины выскочил Юрий.
– Бар, бар! – татарка сорвала с рундука крышку – белыми змеями поднялись над ним шеи трёх гусынь, зашипели в лад, чуть приоткрыв бледные по-зимнему клювы.
«На яйцах сидят», – догадалась Анна и, моментально успокоившись, с удивлением заметила, как чисто в этой татарской избе и всё окрашено охрой: пол, лавки, рундуки вдоль окон и даже подоконники, на одном из которых выстроились сделанные из щепочек и шерстяных ниток куклы, такие же, как были у неё в детстве.
А в горнице не унимался переполох. В одних дверях столпились ямщики, в другие норовили прорваться татарчата, их сдерживала старуха в дорогом, ярком не по годам халате. Невесть откуда взявшийся важный тучный татарин принялся заталкивать гусынь назад, в рундук, хлопал их деревянной ложкой по лысоватым головкам. Они перепугано гоготали, махали крыльями. Широкой спиной татарин загородил рундук от хозяйки, и она металась возле него, повторяя своё: «Бар, бар!» – наконец, проскользнула под его рукой и захлопнула крышку. А татарин отчего-то разгневался, зашипел гусём на хозяйку, замахал короткими пухлыми ручками, закричала старая татарка, запищали узкоглазые дети. Анне стало смешно, но она на всякий случай заплакала.
– А ну вон все отсюда! – крикнул Юрий и швырнул в ямщиков кость. Татарин тоже воскликнул что-то повелительно, и всё утихло.
– Ну что ты, сестрёнка? Притомилась? – Юрий подхватил Анну на руки и, как маленькую, отнёс к столу. – Сейчас шурпы[20] похлебаешь. Ох, и вкусная удалась.
– Вкусная! – буркнула Анна. – А котёл-то грязный.
Хозяйка принесла чашу для мытья рук, постелила на колени Анне холстинку. Анна нехотя обмакнула кончики пальцев в тёплую пахнущую чебрецом воду. «Всё равно есть не буду!»
Юрий же (о ужас!) смачно хрустел жирными хрящами, не дожидаясь, когда подадут ей, едва ли он думал, что княжна станет есть из общей лохани – за столом, кроме них, сидело ещё человек пять. А как жадно, шумно пил он из большой пиалы, косы, похлёбку, которую зачем-то называл шурпой. Он будто совсем забыл о несчастной маленькой сестре, так увлечённо разговаривал по-татарски с усевшимся рядом с ним тучным татарином. И это старший брат – дела ему нет, что сестра до крови стёрла кожу и едва сидит, что ей плохо, трудно без мамки и сенных девок, что боится она неведомого монастыря и хочет домой, к матери.
Татарин важно слушал, кивая (кто он: хозяин яма, баскак или какой-то важный ордынец-путник?), потом изрёк что-то длинное и одарил улыбкой. «Надо мной насмехается», – решила Анна и впервые пожалела, что дурно учила татарский.
– Мурза сказал, – вдруг, словно прочитав её мысли, объяснил Юрий, – что видеть змею во сне – хорошая примета: встретишь мудрого человека, учителя. Не грусти, сестричка, всё будет хорошо! И отведай шурпу.
Она и не заметила, что перед ней поставили пиалу. Господи, как вкусно пахла эта похлёбка-шурпа. Но котёл скребла татарка грязным веником и на дне его оставила помои.
– Не буду есть эту дрянь! – Анна с вызовом посмотрела на татарина – он улыбался, обидно улыбался.
– Прости меня, сестра, грешен я, – смиренно, как матери, сказал Юрий, – совсем забыл, что Великий пост. Но грешить так грешить! – Он подвинул к себе пиалу. И хотя Юрий говорил по-русски и обращался к ней, Анне показалось, что слова его больше предназначались татарину. Тот сразу хлопнул пухлыми ручками, отдал распоряжение татарке, и она проворно поставила перед Анной плошку с двумя большими яйцами – ну кто же из православных ест яйца в Великий пост?
– Ешь, Анна, не то ты совсем обессилишь. Напоститься ещё успеешь: чай, не домой едешь, – сказал татарин по-русски, совсем, как отец сказал. И Анна, плача, съела два гусиных яйца. И об этом как о самом своём большом грехе говорила на первой монастырской исповеди.
7
В монастырь приехали незадолго до захода солнца, Анну ждала какая-то постель, а Юрий через час-другой должен был опять отправится в путь – опять седло, опять скользкая дорога – двадцать вёрст до княжеского терема в Серпухове. Устав обители не позволял гостям-мужчинам ночевать в монастыре, и ворота входящему и отъезжающему открывали только от восхода до захода солнца.
Юрий немного поговорил с настоятельницей наедине, потом кликнул пригорюнившуюся в коридоре у стены Анну.
– Христос воскрес, деточка! – ответила на Аннин поклон настоятельница и протянула для поцелуя руку. Рука оказалась холодной, обветренной и пахла огуречным рассолом. «От цыпок», – отметила Анна и, спохватившись, откликнулась:
– Воистину воскрес, – с удивлением соображая, почему настоятельница произнесла такое несвоевременное приветствие – до Пасхи было ещё далеко.
– Не приглашаю тебя сесть, деточка, – вижу, седло тебе было не в пору. Как же это так, братец, – отправить девочку в далёкий путь и не пригнать седло?
– Да мы не рассчитывали верхом ехать, – засмущался Юрий. – Весь скарб на дороге бросили: постель, одежду, снедь. Когда теперь прибудет…
– Ни Анне, ни нам этого ничего не нужно, братец. У нас общежитийный устав. Анна будет жить, как другие послушницы, и тех денег, что ты оставил, братец, вполне хватит.
«Почему она так часто говорит “братец”?»
И будто поняв, о чём Анна подумала, настоятельница объяснила:
– Мы родственники, деточка, – я тоже правнучка князя Владимира Андреевича. Но здесь, в стенах монастыря, наше родство ничего не значит. И я хочу, чтобы ты о нём ни с кем не говорила. Всё равны перед Богом. А здесь, в обители, княгиня и простолюдинка – все мы Христовы невесты. И всех нас привело сюда горе. Однако, – она улыбнулась, – есть всё-таки кое-какие отличия: ты, к примеру, только послушница, хотя и будущая великая княгиня, а я настоятельница. Не забывай об этом и веди себя со мной согласно нашим нынешним чинам. Христос с тобой! – Она позвонила в колокольчик – вошла с поклоном горбатая чёрная старушка. И только при виде её Анна заметила, что настоятельница молода, разве что немного старше Юрия и поразительно хороша собой.
– Отведи отроковицу в Ларисину келью.
– Но, матушка Ксения, там ведь…
– Отведи, отведи!
– Я провожу Анну, посмотрю, как устроилась?
– Долгие проводы – лишние слёзы, – усмехнулась настоятельница, – а тебе, братец, пора в дорогу – скоро солнце сядет.
Видимо, застеснявшись строгой Ксении, которой из-за молодости и красоты никак не шло звание матушки, Юрий не решился поцеловать сестру, лишь передал материнское благословение – искусный список с чудотворной иконы святой Анны, к её ризе и приложился. И тут померещилось Анне, что у святой и у молодой настоятельницы одно и то же прекрасное лицо.
В келье, куда привела Анну горбатая инокиня, прежде жила схимница Лариса, но недели две как келья пустует, а потому и выстыла, объяснила старушка. Печки в этой крохотной каморке не оказалось. И убранство её поразило Анну невиданной бедностью: киот с совершено чёрными образами, аналой перед ним, на котором раскрытая толстенная книга с забытыми на ней очками, словно Лариса внезапно вышла и сейчас вернётся, и покрытый рогожей топчан, в головах которого лежало вместо подушки гладко обструганное полено.
Да под топчаном громоздились какие-то цепи, гирьки и что-то похожее на конскую сбрую. Анна глядела на эту справу с брезгливым страхом: видимо, ею схимница умерщвляла свою плоть.
– Ты, девка, сиротинушка, что ли? – спросила монахиня с сочувствием, помогая Анне переодеться.
– Я? – изумилась Анна и тут же впервые произнесла это уничижительное слово применительно к себе: – Сирота…
– А бельишко на тебе, девка, шёлковое, не по званию, – укорила монахиня. – В обители такого не носят, не положено.
В княжеском тереме в Москве такое тоже не носили постоянно. Мария Ярославна дала его дочери лишь в дорогу – в шёлке не заводятся вши.
– В наше оденешься, – монахиня протянула грубую, плохо отстиранную, всю в каких-то пятнах рубаху.
– Мне бы помыться, – попросила Анна, изо всех сил стараясь справиться с отвращением, понимая, что ей в её нынешнем бесправном положении придётся надеть чужую затасканную рубашку, и пытаясь всё-таки хоть как-то оттянуть эту минуту. А мыться она не любила.
– Э, да у тебя месячные! – все ещё с удивлением разглядывая шёлковую рубашку, воскликнула старуха. – В храм тебе нынче нельзя.
Всё это старуха проговорила с суровой значительностью, будто раскрыла неожиданное преступление и вынесла справедливый приговор.
– Не, нет, – залепетала Анна испуганно, оправдываясь и стыдясь (о месячных она лишь слыхала от мамки), – это от седла.
– А ну скидай портки: негоже в монастыре женском да в мужской одежде.
Анна послушно оголилась, осталась в одних шерстяных носках.
– Не мыть тебя, а мазать надо, девка: ишь, все ягодицы в кровь стёрла. Обожди, за мазью сбегаю. А ты, если что, кричи Агнию, меня то есть.
Анна осталась одна, голышом, в чужом неприглядном ледяном обиталище. Говорят, голод – не тётка, а холод – что? Она надела застиранную рубашку, легла на покрытый несвежей рогожей топчан, укрылась ношенной кем-то рясой.
Матушка Агния не шла, сон тоже не шёл. Шею ломило от полена, ряса не грела. Догорела на аналое свеча. Лишь краснела лампадка у киота, куда Анна не успела поставить свою чудотворную. За оконцем, затянутым бычьим пузырём, мартовский вечер превращался в ночь. Уже несколько раз, отмечая час, ударяли в било. Никогда Анне не было так одиноко, так плохо, так жалко себя. «Неужели это навсегда?» – подумала и громко заплакала. А ведь совсем недавно она хотела постричься в монахини, чтобы заниматься иконописью, и вот, попав в монастырь, забыла об этом.
Отзываясь на её плач, кто-то резко пискнул под топчаном, легко скакнул к Анне на ноги, стремительно пробежал по её скрюченному телу к накрытой голове, за ним другой, третий – лёгкий и быстрый. Котята? Крысы! Анна онемела от испуга и не сразу вскочила. Но, вскочивши, сразу метнула в нахальных тварей сапоги, один за другим, едва не кинула подвернувшуюся под руку в темноте чудотворную, прижала её к груди, как оберег, и отбежала к окну. Она не стала кричать: кого звать – за толстенными стенами чужие. И эти жестокие черницы нарочно оставили её с крысами один на один. Дотянуть бы до утра, а там… она найдёт способ, чтобы послать весточку Юрию, умолит взять его к себе. Только бы лампада не погасла. Но слабенький огонёк вдруг трепыхнулся и потонул в кромешной тьме. Анна кинулась к двери – она не была заперта. По полутемному коридору со свечей в руках спешила горбатая старушка.
– Ой, девонька, прости – припозднилась: игуменья перебила мои задумки. Насилу с послушанием управилась – и сразу к тебе. А ты чего не спишь? Сесть-лечь не можешь? – втолкнув Анну в келью, тараторила старушка. Анна не могла вставить в её речь ни слова, таким плотным потоком она катилась. – Уж не крысы ли тебя одолели? Ох, дура я, дура, – забыла упредить, что свойские это твари, ручные. Лариса их приручила. А ты плакала небось – они на плач сбегаются. Она, вишь ли, Лариса, плакала много украдкой. Да ты одевайся, скоро служба начнётся. Смажу твои раны после, а даст бог, и сами затянутся.
Старуха принялась одевать Анну и справлялась куда проворнее, чем её былые служанки.
Отличающаяся от прочих послушниц теперь только небольшим ростом, Анна вышла со старушкой в коридор, по которому уже направлялись к храму инокини. Молодые, быстрыми лёгкими тенями проскальзывали мимо девчонки и горбатой старухи, а дряхлых, натужно опирающихся на палки обгоняли они.
– Всё не успеваю спросить, как зовут тебя, девонька?
– Анна.
– Имя какое славное – тихое, мягкое, словно шелест майской травы. Да, я тебе давеча про Ларису начала… Вообще-то мы друг о друге не рассказываем, друг друга не расспрашиваем, но тут случай особый. Она дитя своё нерождённое погубила, замолить грех не могла и всё плакала. А твари эти жалели её. Да. И понять не можем мы, от кого они, от Бога или от Диавола. Известно, что человек «есть поле битвы Бога и Диавола».
– Лариса эта умерла?
Агния не ответила и замолчала. Неуверенно шагая за ней по плохо освещённому коридору, Анна размышляла, как это можно убить ещё не рождённого ребёнка и приручить таких ужасных тварей. В их княжеском тереме специально держали редких кошек, чтобы они уничтожали крыс, ставили на крыс капканы, морили ядом. Мария Ярославна думала даже, что от крыс случается чума.
Длинный коридор внезапно оборвался, упёрся в паперть белокаменного храма. Он оказался заполнен монахинями. Горело множество свечей, и жаркий свет их усиливала позолота иконостасов. Анне показалось, что её слишком много, а иконы обилием своим загромождают небольшой храм, поглядеть их не удалось: Агния отвела её в стасидию[21].
– Обопрись о подлокотники, Аннушка, а то не выдержишь, упадёшь ещё от непривычки – служба длинная, на всю ночь.
Подошла молодая инокиня и, поклонившись, постелила под ноги Анны половик. Анна заметила, что такую услугу оказывают не всем, и в стасидиях, кроме неё, стоят лишь древние старухи: «Отчего же мне такая честь, если здесь все равны?»
Началась служба, такая же, как и в московских храмах, только в здешнем хор пел несравненно лучше. Лазоревыми, бледно-алыми прозрачными струями, словно воздух в июльский полдень, устремлялись голоса к высокому куполу и, без задержки преодолев его толщу, взмывали ввысь, в бездонную черноту полуночного неба.
– Матушка Агния, кто это поёт так волшебно?
– Ангелы. Ты проснись, проснись, Анна, пора к иконам прикладываться.
Нет, нет, она не спала. Этого не могло быть. Только на миг закрыла глаза – и уже служба кончилась. Может, она не начиналась?
Шаркая непослушными ногами, как бредущие впереди старухи, Анна поплелась вдоль стен, не глядя, в полудрёме, прикладываясь к каким-то иконам. Вдруг обожгло губы, будто прикоснулась она к горячей серебряной ложке. Испугавшись, отпрянула от иконы и окончательно проснулась. Следом за ней, оставив богатую ризу, шагнула из киота молодая женщина с сидящим на её левой руке ребёнком. Остановилась, замерла, вглядываясь в даль внимательно и обеспокоенно, словно решая, идти дальше или свернуть с пути.
Анна не ужаснулась и даже не удивилась происшедшему. Но глядела на неё во все глаза: поразила неестественная красота женщины, которую не портили суровое выражение лица и предчувствие какого-то неотвратимого несчастья, привлекло необычное, хотя и скромное, облачение незнакомки: тёмно-вишнёвое, отделанное тускло-золотистой каймой покрывало, из-под него выглядывал бежевый рукав нижней одежды, да голубоватый чепец. Ни одной яркой праздничной краски, но эта бедная одежда непостижимым образом подчёркивала невиданную, неземную красоту лица. А глаза у женщины были человеческими, небольшими, чуть усталыми.
– Ты чего тут застыла? – окликнула Анну горбатая монахиня, не замечая никакого чуда. Вдруг и для Анны оно исчезло, она и не заметила, как прекрасная женщина с крохотным ребёнком уменьшилась и укрылась за позолоченной ризой, едва виднелся её строгий лик да опалённые солнцем узкие кисти.
– Пойдём, Анна, пора спать, утро уже.
– Пусть ещё останется. Я сама провожу её, а ты иди отдыхай.
Матушка Ксения появилась так внезапно, будто тоже отделилась от стены.
– Очень приятно, деточка, что тебя привлекла самая древняя наша икона.
Настоятельница положила руку на плечо Анны, и в голове девочки что-то яркое вспыхнуло, тело её обдала стужа, будто откуда-то подуло ледяным ветром. Она вздрогнула, оглянулась. Настоятельница, улыбнувшись, положила руку на другое плечо. И сразу Анне стало тепло и покойно. Храм опустел. Поодаль одна заспанная послушница, чуть старше Анны, усердно гасила свечи, другая, чей возраст было трудно определить, складывала половики, поднимая пыль. Настоятельница покачала головой, и послушница исчезла.
– Спят во время службы, а потом ползают, как мухи, – недовольно сказала настоятельница и тут же, меняя тон, продолжила: – Это Богоматерь Одигитрия[22] – искусный список с главной святыни константинопольского храма Одигон. Перед Одигитрией с незапамятных времён и по сей день молятся константинопольцы, когда отправляются в дальний путь. Византийские императоры брали её с собой в походы. Она оберегает путешественников. Одигитрия – по-гречески путеводительница. А с этим образом не расставался наш прадед. Как попал он к Владимиру Андреевичу, неизвестно, а мне достался в наследство. И ничего ценнее этого у меня нет.
Настоятельница замолчала, всё ещё не снимая рук с плеч Анны.
– Поновить бы надо было образ, да боюсь испортить, изменить его. На Руси сейчас будто бы всего три подобных, византийской работы. Один привезла дочь Константина Мономаха Мария более четырёхсот лет назад. Она вышла замуж за киевского князя Всеволода Ярославича. Сейчас этот образ в Успенском соборе Смоленска. И ещё один, древней, список находится теперь в Рязани, вернее в Переяславле Рязанском. Мне не довелось его видеть – далека земля Рязанская, – но от знающих иконников слыхала, что он едва ли не лучше этого и ближе всех к константинопольскому. – Она вздохнула и добавила грустно:
– Скоро ты будешь владеть им, деточка.
У неё был приятный ласковый голос. Анна любила хорошие голоса и по голосам вернее, чем по поступкам, судила о людях, и, проникаясь доверием к этой малознакомой обладательнице красивого голоса, прошептала:
– Я буду сама писать иконы.
– Хорошо, – легко согласилась настоятельница. – Назначаю тебе послушание в иконописной мастерской.
– Значит, монахини всё-таки пишут иконы! – забыв, что в храме, крикнула Анна.
– Тс-с! – настоятельница приложила палец к губам, и от восторга Анна едва не закричала вновь: так похожа сделалась матушка Ксения на её святую покровительницу с Чудотворной иконы.
В холодную каморку, где обитали ручные крысы, Анна не вернулась – проспала до полудня в уютной, хорошо протопленной гостевой светёлке. Разбудила её уже знакомая старушка Агния, пришла смазывать ссадины. От неё узнала Анна, что матушка-настоятельница переменила послушание, велела отправляться на скотный двор.
– Оно и к лучшему, – заключила старушка, – сидеть тебе, девка, пока нельзя.
– А что я на скотном буду делать? – вспылила Анна. – Я княжна, а не дворовая девка!
– Э, – махнула рукой старушка, нисколько не удивившись признанию, – матушка-игуменья – тоже княжна, но со всеми нынче на скотном: коровы телятся, окот овец начался. Тебе, девушка, никак нельзя это время упустить: чтобы хорошо с челядью[23] управляться, надо самой всё уметь. Осенью в риге поработаешь, на мельнице. А сейчас недельки полторы – и конец.
Потрудиться Анне пришлось значительно дольше. И к работе её привлекали самой различной: она и навоз убирала, и корм скоту давала, и ягнят принимала, и ослабленных телят из соски отпаивала. Успела даже приручить злую и строптивую козу, что верховодила в овчарне. При первой встрече хотела коза её боднуть, как бодала незнакомок, да и знакомым доставалось нередко, разбежалась, нагнула голову, Анна, не разгадав её намерений, засмеялась и с места не сдвинулась, и коза вдруг пружинисто отскочила в сторону. В тот же вечер Анна попыталась её подоить, и свирепая Зорька, никого прежде к себе не подпускавшая, стояла не шевелясь, блаженно зажмурив глаза в длиннющих светлых ресницах. Молока нацедилось ложки две, но что возьмёшь с яловой непутёвой козы. Работать на скотном дворе оказалось очень интересно, и хотя она не скучала, но всё-таки не могла дождаться, когда же настоятельница выполнит своё обещание.
Наконец этот день настал, матушка Ксения сама повела Анну в мастерскую. Анна уже знала, что настоятельница – искусная иконница, едва ли не самая искусная в монастыре, да и вообще искусница: за что бы ни бралась, всё выходило у неё прекрасно, на всё хватало времени и сил: сутки она удлиняла за счёт сна, спала всего два-три часа, а силы черпала в молитвах.
Была вторая половина дня. Иконницы уже оставили работу в мастерской, разошлись по каким-то иным делам, лишь в углу некрасивая рябая девчонка долбила доску, то и дело попадая молотком по пальцам и тоненько взвизгивая. Настоятельница отослала её.
Горница, где писали иконы, была заставлена столами и разновеликими поставцами, на которых громоздились горшки с торчащими из них сухими, колючими даже на вид пучками трав и цветов.
Анну поразили теснота в ней и не присущий монастырю беспорядок, причём какой-то особый – красивый и живой. Небрежно расставленные на столах плошки, заполненные краской, соседствовали с дорогими, манящими киноварью и позолотой книгами. Тут же лежали доски с начатыми работами, ждали своей очереди, прислоняясь к столам, золотистые, лишь оструганные, заготовки. А на выскобленном до белизны полу горбатились обрывки телятины и ветоши. Маленькие шаткие скамеечки-треножки окружили, будто собрались взять в плен, резное дубовое кресло, на подлокотнике которого висел аксамитовый тёмно-вишнёвый халат с тускло-золотой каймой на рукаве.
– Кто же его тут носит? – изумилась Анна.
– Это иматион, – объяснила настоятельница, – верхняя одежда. Его используют здесь как образец, когда пишут складки. Травы и цветы – тоже для работы. Запылились за зиму, пора менять, а пальмовая ветвь, должно быть, совсем пересохла.
Настоятельница легко вскочила на шаткий треножник и достала нечто длинное, обернутое холстиной.
– Пальмовая ветвь. Из Палестины. Знаешь ли ты, где это?
Но Анна не слушала – её поразили книги на полках, такого количества ей прежде не приходилось видеть, и, оставляя без ответа вопрос настоятельницы, она воскликнула:
– Неужели же ты, матушка Ксения, всё это прочитала?
– Деточка милая! – засмеялась настоятельница. – Здесь только малая часть наших книг – то, что иконницам для работы.
Она подёргала бечёвку на обёртке и, не сумев развязать её, водворила свёрток на полку.
– Будет ещё время её посмотреть. А там книги нашей покровительницы, пресвятой Евфросинии. – Она показала на полку, висящую под самым потолком. – Слыхала ли ты о ней, это наша дальняя родственница?
Анна покачала головой.
– Ну конечно, – настоятельница чуть тяжеловато спрыгнула с треножника, – девочкам в нашем роду не спешат о ней рассказывать. А тебе знать о ней необходимо. – Она посмотрела на песочные часы. – У нас есть ещё время, садись, – и указала на трон-кресло, а сама опустилась на скамеечку у ног Анны.
Анна услышала удивительную историю о полоцкой княжне Предславе, жившей до неё за триста с лишним лет. Красивая и умная полоцкая княжна изумляла всех своей необъяснимой тягой к учёбе, неженским желанием посвятить науке жизнь. Вопреки воле родителей, постриглась в монахини, получила новое имя – Евфросиния, что значит по-гречески «радость».
– Да-да! В своей жизни она наконец обрела счастье, радость. Испросила у епископа дозволения жить при храме, в каморке у хоров. Отсюда слушала богослужение, отсюда любовалась полями и лесами, видом города, – словно вспоминая, говорила настоятельница, и Анне показалось, что рассказывает она о себе. – А после молитв занималась списыванием книг, а плату раздавала нищим. Одно из преданий утверждает даже, – настоятельница перешла на шёпот, – сама писала их. Летописи молчат об этом. Нет в них намёка и на то, что писала Евфросиния иконы, но молва об этом до наших дней дошла. А потом она отправилась в Палестину поклониться Гробу Господню и умерла там в русском монастыре, там и погребена.
Настоятельница поднялась со скамеечки и опять достала с полки свёрток.
– Эта пальмовая ветвь с её погоста.
Ей удалось сразу же развязать узел. Анна увидела огромный, надрезанный на узкие полоски, словно кто-то пытался сделать из него лапшу, сухой лист. Полоски от пересыхания скрутились в трубочки, потрескались. Лист стал настолько хрупким, что настоятельница не решилась освободить его от холстины. Анна прикоснулась к нему губами – от листа исходило тепло, незнакомый запах чужой далёкой страны.
– Все, кому посчастливилось побывать на Святой земле, обязательно привозили на Русь пальмовую ветвь, – сказала настоятельница, осторожно обвязывая свёрток, – от этого обычая появилось даже новое слово «паломник». Пальма – паломник.
– Сохранились ли иконы, написанные пресвятой Евфросинией?
– К счастью, да! Но ни одного письменного свидетельства нет, что это её работа, вот и числятся теперь они из-за древности своей образцами византийского письма. Такова уж доля наша женская, – настоятельница положила свёрток на место, – что не делами рук своих, не талантом, не умом даётся нам известность, а мучениями. Разве была бы известна нам умнейшая, образованнейшая римлянка, ныне святая Екатерина, если бы не колесовали её за веру христианскую? В Житии говорится, что под пытками цитировала она греческого философа Платона, и все читающие сейчас житие восхищаются этим. А как бы они отнеслись к дочери своей, читающей Платона, да и что они знают о Платоне? Думаю, несладко жилось Предславе в родительском доме. А ты-то, деточка, знаешь ли хоть грамоту? – спросила настоятельница.
– Умею читать бегло, – с гордостью ответила Анна, – и пишу немного. Матушка моя сказала, этого вполне хватит для княжны. Она хуже меня пишет, хоть и великая княгиня, а батюшка не знал грамоты вовсе.
– Вот-вот, таковы почти все наши правители. Как же избавиться нам от невежества, Господи? Не слишком ли велико наказание за первородный грех прародителей наших? Но что говорю я, несчастная? Это всё от погоды, от ветра. Прости мне, Господи, мысли тщеславные, греховные!
Настоятельница рухнула на колени перед образами, Анна поспешно опустилась рядом, зашептала за нею, дивясь её неожиданному безудержному плачу и тщетно пытаясь выдавить хоть слезинку:
– Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, Его же милость безмерна и человеколюбия неиcследимая пучина…
Молитва закончилась, настоятельница вытерла заплаканное лицо и, не поднимаясь с колен, сказала:
– Вот этот тёмный образ великомучениц Екатерины и Варвары мне особенно дорог. Принадлежал он прежде Спасскому монастырю, основанному пресвятой Евфросинией, и, по преданию, Екатерина писана с неё.
– С меня тоже писали образ, святой Анны, но только на эту святую ты больше похожа, матушка.
Настоятельница на это ничего не ответила, поднялась, отряхнула подол, помогла отряхнуться Анне.
– В конце учения напишешь образ святой Евфросинии.
– Я сейчас могу.
– Нет, деточка! Создание икон – дело великое, и идти к нему следует не спеша, поднимаясь со ступени на ступень. Надо уметь не только переписывать образцы, надо знать, что пишешь. Известно ли тебе, к примеру, что означает развевающиеся ленты в причёсках великомучениц, как они называются?
Анна молчала.
– А почему в руках Екатерины крест, пальмовая ветвь и меч? Ведь не была она воительницей, подобной ростовской княжне Феодоре, что сражалась в Куликовской битве. Молчишь? То-то же, торопыга. Не зря, значит, меня Юрий предупреждал…
«Ишь ты – Юрий! Без отчества, без величания, как о брате родном. Выходит, он ездит в монастырь не сестру навещать, а настоятельницу предупреждать, недаром же он говорит с настоятельницей на татарском и ещё на каком-то непонятном языке. О ней, об Анне, конечно, с его согласия и на скотный определили. А ведь так любил ещё недавно, так баловал. Все от меня отступились, все. Совсем одна осталась».
– Ничего дурного о тебе брат не говорил, деточка, предупредил только, что стремишься ты объять необъятное, хочешь всё успеть, а потому кое-что упускаешь. Этот твой духовный голод мы тут сможем утолить. Будешь мудрые книги читать, языки поучишь, татарский, немного греческий, чтобы хоть названия одежды и предметов, которые пишутся на иконах, знать. А станешь лениться, верну к овцам.
Настоятельница засмеялась, подошла к окну и подняла створку. В горницу ворвалась тёплая душистая сырость, пискнул перепуганный воробей и тут же защебетал беззаботно.
– Ну вот, дождь кончился, и ветер стих. Пора мне. О, песок весь пересыпался, не заметила за разговорами. Да, по вторникам будешь ходить к вышивальщицам. Вышивание для женщины – дело более надёжное, чем писание икон.
– Я не смогу, – очень тихо сказала Анна и заплакала, – из-за вышивок моих ведь батюшка умер.
– Ты ни при чём, деточка, – настоятельница обняла Анну, коснулась её мокрой щеки горячими нежными губами и, резко отстранившись, добавила холодно и строго, словно выносила приговор: – Князь Василий наказан судом небесным за жестокость и кровопролития, потому в пострижении ему перед смертью было отказано. – И, не оставляя Анне времени для вопросов, ласково позвала: – Манечка, входи!
Вошла рябая девчонка, что мучилась с долотом и молотком.
– Научишь Анну доски готовить. Спрашивай с неё по всей строгости и помни, что это твоя первая ученица, от того, как ты её выучишь, зависит, будут ли у тебя другие.
Настоятельница ушла, девчонки принялись за доски. Анна тюкнула раз, тюкнула другой – и всё по пальцам.
– Росомаха, неумеха! – сказала презрительно Манечка. – Намучаюсь с тобой – руки как крюки. Откуда только взялась на мою голову?
– Но-но! – Анна изо всей силы сжала рукоятку молотка. – У самой-то все пальцы в ссадинах.
– Это я со страху по долоту не попадала: боюсь игуменьи. Чудная она – не понять, чего ждать от неё, наказания или ласки.
– А эти старые отчего? – не унималась Анна.
– Углядела! – добродушно усмехнулась Манечка. – Это от песни: пою и стучу – тук-тук.
– Что поёшь?
– Разное, ну хотя бы это: «Не вода в города понахлынула…»
– «Злы татарины понаехали», – подхватила Анна, и дальше девочки пели вместе.
«Как там моя Марьюшка», – подумала Анна и, конечно, угодила по пальцам.
В первый раз за полтора года жизни в обители Анна проснулась сама. Обычно её долго будила старая келейница.
Уже рассвело, но, судя по звукам за окном, побудки ещё не было, и Анна решила в оставшееся до неё время погулять по затянутому муравой монастырскому двору. Плотная кудрявая мурава так манила поваляться в её упругой пышности. Но блаженно сминали её, барахтались в ней перед дождём кони, монахини же поспешно проходили через двор по выложенным белым камнем дорожкам.
Сейчас во дворе не было ни одной чёрной фигуры, но у певческого дома уже паслась стреноженная лошадь, и ворота монастыря были распахнуты – в проёме их румяным яблоком висело солнце.
«Кто-то пожаловал спозаранку», – отметила Анна без всякого любопытства – гостей в монастыре бывало много – и, оставив на крылечке постолы, шагнула в седую от росы траву. Ступни словно обдало кипятком, Анна взвизгнула и, почти не касаясь травы, понеслась-полетела в дальний конец двора, к саду, к зарослям бузины и малины, что скрывали его от посторонних глаз.
– Не от глаз это, – говорила Манечка, – от зайцев и всяких грызунов: они бузины и малины боятся.
Из этих-то неприступных для грызунов зарослей навстречу Анне выскользнули два длинных узких зверька, не обращая внимания на неё (она застыла при их появлении), а может, и нарочно для неё затеяли игру в догонялки, свивались кольцами, переплетались косичкой, высоко подпрыгивали, сверкая ярко-белыми грудками, тёмно-коричневые, блестящие, с круглыми лукавыми мордочками. «Ласки», – догадалась Анна и тихонько свистнула. Зверьки шмыгнули под лопух – и их как не бывало.
И будто восполняя Анне утрату, закружилась, застрекотала над садом нарядная сорока, её поддержала другая, потом третья. Удивлённые или напуганные чем-то, они вскоре оставили сад и, примостившись на кустах бузины, принялись обсуждать увиденное.
«Чудо какое! – засмеялась Анна. – Как прекрасно вставать на рассвете. Только бы не ударили в било. А это время моё! Как жаль, что прежде не догадалась: ранние вставания принесут хоть немножко свободы».
Среди многочисленных неприятностей монастырской жизни самой непереносимой была для неё необходимость рано вставать. Монастырские насельницы[24] спали очень мало: по три-четыре часа в сутки и то не подряд. Анне удавалось немного больше, и всё-таки она не высыпалась постоянно и дремала на ночных службах. Впрочем, не она одна, потому и назначалось инокиням послушание – будить задремавших.
«Матушка Ксения может не спать несколько суток и не выглядит усталой, работает наравне со всеми, а потом ещё пишет или читает – вот бы мне так». Анна наклонилась и окунула в росу руки. Их обожгло почти так же, как ступни. Она потерла мокрыми ладонями щёки, и они запылали, как от печного жара. Вспомнилось, что матушка Ксения оставляет на ночь в траве рушники, а утром обтирается ими, советует всем так делать, но вот этого-то как раз никто и не выполняет, не считая послушанием. А в силу росной земли поверили даже нелюдимки старицы: ставят с вечера глиняный кувшин, полный воды, на заре выбирают из-под него землю и к больным ногам прикладывают.
Анна восхищалась настоятельницей: столько всего она знает, столько всего умеет, а главное – иконы пишет, как заправсткий иконник. Успенский храм в монастыре одна расписала, по обету, получив на то разрешение у епископа. Фрески, словно луг в цвету, манят озорной яркостью, и радостны на них события из жизни святых. Невозможно было поверить, что, расписывая храм, матушка Ксения строго постилась, принимала пищу только по субботам и воскресеньям. Как от голода не кружилась у неё голова, там на высоте? Но спросить об этом настоятельницу Анна не решалась, а восторга своего скрыть не могла и в ответ услышала, что фрески – лишь скромное подобие тех, какие создал великий иконник Андрей Рублёв в Звенигороде для князя Юрия, дяди Василия Васильевича.
Великий иконник! Никогда прежде не приходилось Анне слышать такого сочетания. Никогда не произносилось при ней слово «великий» с таким почтительным восхищением. Великим мог быть князь. За звание это сражались, его оспаривали, его мечтали унаследовать. За него отец боролся с дядей, превратившимся из-за желания стать великим князем в злейшего врага. Слово «великий» (прекраснейшее из слов!) давало право на власть и на почести. Его произносили с гордостью великие, а все остальные – подобострастно, унижённо, завистливо. Непривычное сочетание меняло смысл сказанного: иконник поднялся над князем и снизошёл до него, чтобы расписать храм, и победа его была бескровной.
Великий иконник Андрей Рублёв! Андрей Рублёв – первое имя иконописца, которое стало известно Анне.
Она молилась перед иконами, любовалась ими. Ей всегда хотелось знать, кто же создал их, не раз спрашивала и никогда не получала ответа. Мать отмахивалась: какая разница, суть в самом образе, а не в том, кто его писал; братья не скрывали, что это их не занимает, отец же, по слепоте своей, забыл, как выглядят даже домашние иконы. И лишь матушка Ксения, не затрудняясь, называла имена. Анна узнала, что писали образы не только безвестные монахи и не помнящие родства миряне-изографы, как полагала её мать, но даже митрополиты и апостолы. Оказалось, что Чудотворную икону, которую с детства она знала как Богоматерь Владимирскую, написал евангелист Лука, а потом список с неё сделал игумен монастыря, ставший позднее митрополитом – святой Пётр. Список этот звался Богоматерью Максимовской и был одной из главных святынь московского Успенского монастыря, но только матушка Ксения смогла объяснить: Максимовской икона зовётся потому, что игумен Пётр подарил её митрополиту Максиму. Однако святые иконники жили во времена незапамятные, даже от святого Петра отделяло Анну почти полтора века. А великий Рублёв, о котором она никогда не слышала в своём доме, написал икону «Преображение» для её отца. Небольшая, многофигурная, находилась она в покоях отца и была его любимой. Её он каждый раз брал с собой в походы, с неё заказывал для сыновей списки.
О чудесном покровительстве Спасо-Преображения князю Василию Васильевичу любили рассказывать его родные и слуги. Анна слышала несколько разных историй, из них для себя, точнее для своих будущих детей и внуков, составила такую: Князь Василий Дмитриевич и княгиня Софья Витовтовна мечтали о наследнике. С двумя сыновьями им не повезло – родились хилыми и вскоре умерли, а потом рождались дочери. Надежда обзавестись сыном с каждым годом уменьшалась: ведь известно, что сыновьями Бог награждает молодых. О наследнике для князя молил Господа и духовник Василия Дмитриевича в своей келье. Это в Спасо-Преображенском, на Бору, монастыре Московского Кремля. В последний раз молился он не столько о наследнике, сколько о даровании жизни великой княгине Софье: роды были трудными, – и тут вдруг в дверь постучали, громко, настойчиво. Незнакомый голос властно произнёс:
– Иди нарецы имя великому князю Василию.
Духовник поспешил к дверям – за ним никого не было…
О чудесном происшествии он поведал князю и княгине, когда удостоверился, что она благополучно родила сына. И они, и их приближённые не усомнились, что чудесное сообщение содержит пророчество: быть родившемуся великим князем, не напрасно предначертано ему такое имя: ведь известно, что Василий – по-гречески «царский».
Но знаком особого покровительства Спасо-Преображения было чудо в Галиче.
Оставшегося в десять лет сиротой великого князя Василия Васильевича хотел лишить престола его дядя Юрий, тот самый, что был крестником преподобного Сергия Радонежского, тот самый, чьи хоромы в Звенигороде расписывал великий иконник Андрей Рублёв. Митрополит Фотий, помолившись в соборной церкви Преображения, отправился увещевать князя Юрия в Галич. Дядюшка отбыл туда, чтобы не присягать племяннику. Митрополиту он не внял, и тот, разгневанный, покинул город, не благословив его граждан: стояли они за своего князя стеной. Не успел отъехать митрополит от Галича, как там начался великий мор. Перепуганный князь Юрий помчался за митрополитом, настиг, вымолил прощения и целовал крест на верность племяннику Василию.
В память о небесном заступничестве лучшему иконнику Руси была заказана икона Преображения, ставшая оберегом князя Василия Васильевича.
Имя иконника появилось в этой истории после разговора с матушкой Ксенией, после её всегдашнего изумлённо-укоризненного: «Разве ты этого не знаешь?»
Собирая в подол румяную падалицу, чтобы угостить Манечку и горбатую келейницу, Анна шла по саду. Думала уже возвращаться, как услышала знакомое:
– Разве ты этого не знаешь?
Сзади никого не было, а впереди дорожка круто сворачивала вправо, терялась за старой грушей. Из-за её толстого ствола виднелись край чёрного подола и кусок рукава. Шагов пять было до этой груши-великанши, но Анна не спешила их делать: чего ждать от неурочной встречи – скорее всего разноса? Рясу грязными яблоками извозила, подол задран, ноги по колено перепачканы – она не видела, что лицо измазано. Мешкала, спешно соображая, как лучше оправдаться за недозволенную прогулку, как ответить на вопрос, не имеющий начала. А может, спросили не её, и там за толстенным стволом укрылся ещё кто-то. Ну, конечно! Она не сразу поняла, что мужской голос принадлежит Юрию.
– Разумеется, знаю, – сказал он раздумчиво и грустно. – Одна из наших изуверских догм.
«Это они обо мне. Значит, его конь пасётся. Неужели заметят и не услышу самого главного?» – а Юрий продолжал о какой-то догме:
– Её нужно просто отшвырнуть, как, как… стоптанный сапог!
– Неудачное сравнение! – засмеялась настоятельница.
– Как ты можешь смеяться, Анна, когда речь идёт о судьбе, о жизни?
«Анна, почему Анна? Её же Ксенией зовут».
– О твоей судьбе только. Не о жизни. А я свой выбор давно сделала. И если бы даже не была Христовой невестой… Я же старше тебя на десять лет. Их не перечеркнёшь, братец.
– Не называй меня братцем! Десять лет – вздор! Я не мальчик! Я воин и князь, хотя с тех пор, как увидел тебя, не занимаюсь делами княжескими. Ничем не могу заниматься, Анна, ничем. Все мысли о тебе. Я так люблю тебя, Анна, что готов продать душу дьяволу.
– Не святотатствуй.
– И ты меня любишь! Да, любишь, хотя и не признаёшься в этом. Бежим в Литву, в Казань! Сегодня, сейчас же!
– Нет! Ты не смеешь! Это грех, страшный грех! А как же я? Меня бросаешь? – Анна рванулась к груше (посыпалась под ноги падалица), оттолкнула выскочившую навстречу настоятельницу, рыдая, припала к Юрию.
– Ну, будет, будет, сестричка. Тише. Молчи. – Юрий обнял её, но в руках не было ласки, они удерживали, стискивали, сильно и властно.
– Не стану молчать, матыньке скажу! Всем, всем! Клятвоотступники! Ненавижу! – она вырвалась и помчалась в глубь сада, оставляя на кустах чёрные клочки.
– Анна, Анна, вернись! – звали в два голоса, бежали следом, но разве могли её догнать? Она юркнула в кусты у забора, затаилась, и преследователи проскочили. Однако тут же вернулись, остановились у зарослей бузины, где сидела Анна, и Юрий сказал:
– Она здесь, некуда ей больше деться. О, да тут и лаз какой-то протоптан. Сейчас посмотрю.
– Не трудись: её там нет, а лаз зайцы проделали, – устало возразила настоятельница. – Идём, мне давно пора – уже звонили.
– Куда идти? В обитель тебе дороги нет. Анна разболтает, и ты погибла. Бежим!
– Анна ничего не скажет – она девушка умная. Да «и не коснётся подозрение жены цезаря». А чтобы бежать, предавать веру предков, надо очень любить. Но я-то не люблю тебя, Юрий. Нет, не люблю. И если бы даже не была Христовой невестой, не полюбила бы, потому что я люблю дело. Только дело! Из-за него и постриглась.
– Одержимая, сумасшедшая! Я не верю тебе, не верю и не поверю никогда. Ты ещё пожалеешь! Сто раз пожалеешь. Ты просто трусиха! Прощай!
– Куда же ты? За стеной ров.
Но Юрий не остановился.
– Сегодня же, сейчас же прикажу в обитель не пускать мужчин никогда, слышишь, никогда!
«А про меня забыли, бросили и про ров с водой не вспомнили. А я, может, уже утонула», – и Анна громко заплакала.
– О чем слёзы твои, касатушка? День-то какой пригожий занимается. Пташки щебечут. На свободе гуляешь. По саду. Счастье-то какое! Побереги слёзы для другого раза. А сейчас помоги горемыке – кинь мне, милая, яблочко. Их много ночью нападало. Ветер был. Они всё шлёп да шлёп. Яблокопад, – кто-то невидимый засмеялся. Голос был низкий, хриплый, но вроде женский и шёл будто из-под земли. Анна вскочила, испуганно озираясь, с шумом раздвинула ветки, закрывшие лаз.
– Да тут я, рядом, в яме, у стены.
Перед стеной возвышался поросший чернобылем и пижмой холмик – кровля землянки или погреба, в переднюю срезанную часть его была вмурована[25] частая решётка. Анна приникла к ней и тут же отпрянула: дух из землянки шёл, как из отхожего места. А там, в смраде и полумраке, сидела (или стояла?) женщина в чёрном.
– Не пугайся, милая. Ох, какая же ты ладная. Недавно в обители?
– Полтора года скоро.
– А звать как? Да что мне в имени твоём? Где яблоки? – женщина сложила горсткой костлявые руки.
– Сейчас, сейчас! – Анна с облегчением отбежала от холмика. Уйти, уйти от этого ужаса, забыть, не знать, как прежде, что в саду тюрьма-яма с жуткой женщиной, несчастной женщиной. Зачем чужое горе делить, когда своего хлебнула через край? Но она поспешно собирала яблоки, их ветер подбросил к самому лазу, а может, и не ветер: пробираясь вновь через него, Анна поняла, что не первая им пользуется, и вовсе не зайцы, боящиеся бузины, протоптали тропинку.
Яблоки не пролезали через решётку, и Анна ломала их на кусочки. Они падали в отдалении от женщины.
– Ничего, ничего, – утешала та, – у меня цепь длинная, дотянусь. Вот уйдёшь, все подберу до единого.
– Кто ты? – спросила Анна.
– Не знаю. Говорят, грешница. А может быть, страдалица? Не знаю, не знаю. Яблоки вкусные, – она изловчилась, – подобрала кусок, а есть не могу – совсем зубов не стало.
Женщина была не старая (Анна присмотрелась), только тощая и очень грязная.
– За что тебя, матушка?
– Ах, за любовь, сестричка. За любовь, – сказала она певуче и лукаво. – Да за то ещё, что ребёночка своего нерождённого сгубила, – женщина заплакала. – Теперь бы был такой, как ты, дитятко.
– Что ты говоришь, матушка! Опомнись! Как можно сгубить нерождённого ребёночка? Он просто у тебя родился мёртвым. На то воля Божья.
– Ах, сестричка, не дай бог тебе знать эти способы. А я своего, как ядро из ореха, спицей вынула. Лучше бы мне на костре сгореть, чем вот так мучиться, гнить тут заживо. Это матушка Ксения сжалилась: духу не хватило смерти предать, но жалость её обернулась жестокостью. Теперь вот яблочки носит, благодетельница! У тебя нет рубашечки лишней?
– Есть. Но за ней в келью идти надо. Потом сюда не проберусь. Я и так устав нарушила.
– Ах, страсти-то какие! Ну посидишь денёк-другой в стене. Тут камор свободных много, – женщина засмеялась. Смех её очень не нравился Анне, а сама женщина вызвала брезгливую жалость.
– Я пойду: меня ведь ждут.
– Сними свою рубашку. Не жалей.
– Но она нечистая.
– Не грязнее моей, давай.
Анна поспешно, смущаясь, разделась, надела колючую рясу на голое тело и потом никак не могла просунуть рубашку через решётку, хотя и свернула её жгутом.
– А ты порви её на ленточки! – и опять смех, громкий, неприятный.
– Анна, Анна! – звала келейница у лаза, горб мешал ей пробраться. – Не беда ли стряслась с девкой? Наказал меня Господь узорочьем. Выходи! Ничего тебе не будет.
Анна оставила рубашку на решётке, с облегчением поспешила на голос, бормоча на ходу:
– Прощай, терпения тебе, матушка.
– И тебе того же самого, – услышала у самого лаза. Пробравшись через кусты, она постаралась придать лицу независимое выражение и поздороваться, как всегда:
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе, – ответила келейница холодно и больше не прибавила ни слова.
Анна никак не могла уснуть, а только начала задрёмывать, перед топчаном возникла настоятельница – то ли во сне, то ли наяву.
– Прощай, Анна, – прошептала она, словно не решаясь потревожить спящую, и тут же легонько потрясла её за плечо. – Светает. Лошади уже запряжены. Лучше тебе отъехать незамеченной.
– Мне? Куда? – Анна вскочила, отшвырнула на пол ряднинку[26], шлёпнулся под ноги настоятельницы дубовый изголовник. Та молча подняла их, спокойно положила на место. – Зачем, зачем отсылаешь? Я же ничего никому не скажу. Ей-богу, ни словечка! Или я виновата, что хотела помочь той бедняге?
– Ах, нет, – ни за то и ни за другое. Впрочем, можно и так: и за то и за другое. Ты нарушила наш устав в первый раз, и можно было бы просто наказать тебя за это послушанием. Но ведь ты же будешь нарушать его постоянно, потому что монастырь не для тебя – ты родилась для воли, девочка, здесь ты просто зачахнешь. Ты же буйная головушка, жизнелюбка.
– Мне жизни не будет без иконописи!
– Ах, деточка, что ты знаешь о жизни? – сказала настоятельница грустно и, подойдя к иконостасу, поправила в лампаде фитиль. Крохотное пламя, воспрянув, озарило смуглое лицо святой Анны, её огромные печальные глаза. – В монастырских кельях не живут, а хоронятся от жизни, с усердием готовятся перейти в мир иной и земным пренебрегают. А разве для того человек на свет является, чтобы сразу о другом мире помышлять, от своего естества отказываться, насильно плоть усмирять? Не зря же Бог создал людей разнополыми, не по ошибке же!
Настоятельница стояла к Анне спиной и говорила, словно бы и не ей, а размышляла вслух.
– По-моему, грех это – молодых в монастырях держать, от мира отрывать. Пусть предназначение своё, долг свой перед природой сначала выполнят: детей родят, на ноги поставят – а там уж клобук надевают.
– Моё предназначение – иконы писать, – сказала Анна строптиво, – сама же ты не раз говорила, матушка, что дар у меня. От Бога!
– Говорила и от слов своих не отказываюсь! – настоятельница резко повернулась, всколыхнула спёртый воздух кельи – взметнулся огонёк лампады, и будто тень скорби пробежала по лицу святой Анны. – Однако дар этот у тебя преждевременный: не научились миряне ценить дарования, не научились лелеять их, не обременять людей талантливых делами житейскими. Тяжело пока даровитому человеку в миру, в непонимании и отчуждении, вот и бегут помеченные искрой Господней к монастырям, словно зверушки в половодье к островкам тверди, а спасение далеко не все находят. Я не нашла его, Анна. Я очень, очень несчастна. Ни книги, ни живопись не радуют. Мне стало неинтересно, тоскливо писать лики святых, вглядываться в их рисованные очи. С каким наслаждением смотрела бы я в глаза своего мужа, любовалась бы земным лицом своего ребёнка.
А какие греховные сны мне снятся, Анна! Да разве мне одной? Считается, что дьявол нас, Христовых невест, смущает. Только не дьявол это, Аннушка – природа бунтует против насилия над ней, пытается вернуть заблудших на путь истинный. И если бы не десять лет между нами разницы, бежала бы я с Юрием. Убежала бы за тридевять земель, и никто бы не сыскал нас. Люб он мне. Очень. Хотя и мальчик совсем. Но вот одумалась – не смею его губить. Уедешь ты. Уедешь, чтобы прожить свою земную, женскую жизнь, да и мою тоже. Мы ведь так похожи с тобой. И при крещении получили одно имя, Анна, благодать. Я от своей благодати сама отказалась…
Она замолчала. Анне показалось – плачет, но настоятельница продолжала ровным голосом, властно:
– Я не могу допустить теперь, чтобы и ты отказалась, чтобы перестала, как тебе на роду написано, быть женщиной.
– А как же икона святой Евфросинии?
– Да не стоит это всё простых радостей жизни. Ох, как я хочу ребёнка. Боже, Боже мой! Понять не могу, отчего эта мерзавка решила избавиться от своего. Позора испугалась, нищеты? Но что значат они по сравнению с радостью материнства! Сжечь бы её, подлую, в срубе, но нет, пусть мучается, пусть о смерти денно и нощно мечтает. Она ведь рубашку у тебя выпросила, чтобы верёвку сделать. Она преступница. Она мученица. И я завидую ей. Да, да! Потому что она осмелилась любить.
Настоятельница ходила по келье, туда-сюда, туда-сюда. «Мечется, словно недавно пойманная рысь, – подумала Анна, – а ведь она и в самом деле в клетке, и путь на свободу ей закрыт».
– Ты успеешь ещё вернуться в эту клетку, – усмехнулась настоятельница, – когда пресытишься жизнью, когда исполнишь свой долг любви, супружеской и материнской. А сейчас одевайся и собирай пожитки. И не мешкай – силой выдворю. – Она присела на топчан и задумалась.
Анна принялась собираться. Всё у неё валилось из рук, громыхнула иконой, вынимая из киота. Настоятельница вздрогнула:
– Ты береги её. Удивительное, думаю, неповторимое творение. Сколько раз в твоё отсутствие я приходила полюбоваться ею, и всякий раз казалось, не на икону смотрю – в зеркало заглядываю. И совсем недавно поняла: икона эта хотя и византийского письма, но не древняя, просто по образу древней сработана, а писана она с тётки твоей Анны, которая тоже не успела прожить свою женскую жизнь, умерла рано, да ещё в чужой стороне, и детей у неё не было. Вот и выходит, что и за неё ты должна познать радость материнства, долюбить…
– Я попробую, – сказала Анна и всхлипнула, – попробую. Но писать тоже буду, и напишу святую Евфросинию. А этот образ дарю тебе. Молись за меня, матушка, – и она поцеловала настоятельнице руку.
8
Вопреки Анниному опасению её нежданному приезду домочадцы не удивились, а только обрадовались. Мария Ярославна, оказалось, отправила в монастырь гонца – со дня на день ожидали сватов из Переяславля Рязанского. И женская половина княжеского терема так была занята подготовкой к их встрече, что про Анну во всей этой суете вроде бы и забыли. Она слонялась по хоромам и по подворью и не могла найти себе занятия, и никто не собирался вовлекать её в какое-нибудь дело. Попробовала рисовать, но не заладилось – мешали тревожные думы. Сколько себя помнила, она мечтала стать великой княгиней Рязанской, и вот до осуществления мечты остались считаные дни – и нет радости, а главное, исчезла любовь к мальчику, которого она, а за нею и все её близкие называли «суженым». Анна пыталась представить его лицо, но навязчиво вспоминались почему-то красные сапожки и та ночь, когда душила его в своих богатырских объятиях Ледра.
Анна отыскала каморку, где, по её представлению, обитала соперница, но дверь была заколочена. Спросила осторожно у Марьюшки, но та считала полотенца в приданом, и важнее этого дела для неё ничего не было, лишь отмахнулась досадливо. А мамка, прощённая и вновь приставленная к своему дитятку ненаглядному, ответила неопределённо:
– Должно, со двора съехала: княжичи-то в силу вошли.
«Уж не отправилась ли она с великим князем в Переяславль, – ревниво подумала Анна. – Если так, то сгоню, непременно сгоню, как напакостившую кошку».
Наконец приехали рязанские сваты и с ними князь. Мамка, оглядев его, сказала уверенно, с одобрением:
– Великий князь, Василий Иванович, в силу вошли.
Анна силы не заметила: князь был щуплым, невысоким, будто и не вырос за два года, с мелкими чертами лица, остроносенький – не дурной, но неприметный. Она смотрела на него из окна светёлки. Встречать его ей не разрешили: князь ведь не был больше домочадцем и приехал сватать, как посторонний, и встречали его, как постороннего. Только Марьюшка забылась и расцеловала Василия. А князь Иван поздоровался подчёркнуто сухо и, запамятовав о давнишнем сговоре, собрал вдруг совет из родственников и самых доверенных приближённых, чтобы решить, давать ли согласие на брак. Собравшихся поступок князя обескуражил. Кто-то из бояр напомнил, что был прежде сговор, что великие князья Московский и Рязанский крест целовали.
– Дававших клятву нет теперь в живых, – спокойно возразил Иван, – да и когда они клялись, сестры моей ещё на свете не было.
– Но сговор, Ванечка, Иван Васильевич, – перебила Мария Ярославна, – в Переяславле скреплялся. Неужели ты не помнишь?
Князь отрешённо молчал, как замолкают, пережидая посторонний досадный шум, и продолжил, оставив вопрос без внимания:
– Сейчас не с Рязанью крепить нам союз надо и не с Ордой, а с Западом. Да. И я жалею, что у меня одна сестра. Польский король…
– Не хочу за королевича! Почему без меня решаете? Это несправедливо! Такой позор князю. За что?
Иван смотрел на сестру с радостным изумлением:
– Мою сестричку и монастырь не исправил – опять под дверями подслушивала. Что с такою делать прикажете?
– Выдать её за князя рязанского без промедления.
– Жаль с такою княжной пригожей расставаться, да не в Польшу, чай, рвётся, в своей, русской, стороне остаётся. Отдадим.
На том и порешили.
Венчались в самую стужу, 28 января 1464 года, в соборной церкви Успения Богородицы. Хотя от княжеского терема до собора было не более ста шагов, добирались до него на лошадях – невеста в крытых санях, увешанных соболиными шкурками и лисьими хвостами, жених – верхом, гости, кто как мог.
В соборе было жарко натоплено, да ещё горели и чадили многие сотни свечей, народу набралось столько, что и на паперти стояли впритык. Не только венчающиеся, но и гости сбросили шубы.
Анна освободилась от своей собольей (это был свадебный подарок Юрия), но не почувствовала облегчения: её свадебное платье весило больше пуда, столько на него усердные вышивальщицы нашили самоцветов и жемчуга.
– Срам какой, – возмущалась мамка, – платье чуть ли не тяжелее невесты, до чего девку извели в монастыре – кожа да кости, краше в гроб кладут. – И принялась подкладывать под платье толщинки. Мария Ярославна обеспокоилась, как бы не заметили этого обмана сваты: невеста в брачной опочивальне должна была раздеваться прилюдно.
– Да сыму я, сыму наряд так, что никто и не заметит, – успокоила мамка, – и к рубашке нательной пришью немного.
– Ох, ладно ли? – сомневалась Мария Ярославна, но мамку не остановила.
Анна от этих ухищрений заметно потолстела, но и ноги едва передвигала, ещё и высоченные, почти что в локоть каблуки мешали.
«Скорее бы все это кончилось, – думала она, когда её с суженым водили вокруг аналоя. – Хорошо ему небось, нет толщинок, и свадебный кафтан меньше моего наряда весит». Подумала и посмотрела на жениха: он тоже заметно потолстел и едва брёл. И ещё заметила, что он бледен, так бледнеют в церковной духоте перед тем, как рухнуть в обморок, а поняв, как ему плохо, больше о себе не думала.
По-настоящему она увидела его в соборе.
Так близко она его видела здесь, в соборе, впервые за два года. Правда, по обряду, прежде чем отправиться венчаться, жених с невестой встретились в его покоях и даже посидели за одним столом, рядом, но отделённые друг от друга красной тафтовой[27] занавеской, которую держали два мальчика. В присутствии жениха сваха заплела длинные Аннины волосы в две пушистые косы и щедро накрасила её румянами и сурьмой из подаренного женихом ларчика. Потом причесала и жениха тем же, что и невесту, гребнем, поставила перед ними большое зеркало и позволила в него поглядеться.
В затуманенной глади под градом обрушившегося на их головы хмеля Анна увидела лицо испуганного, затравленного и не желающего сдаваться мальчика, так же выглядел суженый в свой первый приезд, когда с него стаскивали сапог. От любви или жалости у неё больно сжалось сердце, и она, нарушив обряд, вторично через красный занавес прижалась щекой к его щеке и почувствовала, как она пылает.
В соборе она сжала руку суженого, пытаясь через неё передать ему остаток своих сил. Они оба выдюжили и очень внятно сказали:
– Да!
После венчания гости с новобрачным и родственниками начали пировать. Анну же раздели до сорочки, толщинок не заметили, и с прибаутками и срамными песнями водрузили на брачную постель. Её загодя сложили из сорока ржаных снопов, устлали мехами и тонким полотном. Поверх одеяла положили новую шубу, которая Анне была велика – шили на вырост. В опочивальне стоял лютый холод, нарочно не топили, так требовал обряд. В этой шубе молодая должна была встречать супруга. Шуба, лёгкая, тёплая, драгоценная, совсем не грела. Анну трясло. Всё её тело покрылось холодным потом, она ощущала его острый запах и тревожилась, что и суженый его почует. А ведь её долго и тщательно мыли, умащивали тело всякими мазями и притираниями, в них входили пахучие мяты и приворотный любисток. Под подушками лежали травы, которые тоже должны были благоухать, но все эти ухищрения опытных женщин оказались бессильны перед её страхом. Она забыла все наставления, которые в последние дни делала ей мамка, сваха и какие-то неизвестные женщины (которых с каждым днём перед свадьбой крутилось около неё всё больше и больше), и просто боялась, трусила, как никогда прежде. В детстве ей рвали зубы. Это было ужасно, но тогда к ужасу не примешивался стыд.
Скрипнула дверь. Анна сжалась в комок, уцепилась за край шубы. Но это в опочивальню проскользнула Марьюшка с куском пирога, протянула его Анне, зашептала быстро:
– Не бойся, Анночка! Это всем в первый раз стыдно, страшно и немножко больно, а потом… А потом – нет ничего на свете приятнее этого. Так бы с постели и не вставала. Ей-богу!
– Княгиня, голубушка, да как же ты здесь очутилась? Негоже это! Вон уже князя ведут, – мамка потянула Марьюшку за длинный рукав, увлекла ко второй двери, а в первую, основную, в сопровождении мальчиков с факелами уже входил Василий. – Ты не тревожься, княгиня, я подскажу, когда надо. – Мамка опустилась на приступочку у постели.
– Ты сейчас же уйдёшь, мамка! – Анна вскочила, отшвырнула шубу, опять нарушила правила. – Или я, или я – подожгу эти жуткие снопы!
Мальчики расставляли вокруг постели факелы, ставили не в светцы, а в бочки, наполненные зерном.
– Ну, ладно-ладно, не бушуй. Так и быть, уйду. Хотя и не по обряду это. Мамка должна оставаться в опочивальне, а дядька обязан стеречь за дверью и подать пирующим знак, когда всё свершится. Ты не дури только. Повинуйся мужу, чтобы связывать не пришлось. Если что, князь, ты меня кликнешь, я в кладовочке схоронюсь. – Она взяла с приступочки подушку и скрылась за маленькой дверью, которую Анна прежде не заметила. «Что же это мамка со мной, как с тёлкой на случке? Почему какие-то незнакомые невежественные бабы завладели всем домом и требуют выполнения постыдных обрядов. Почему я им должна подчиняться, с какой стати? И матушка им потакает. И всё это настоятельница называла женским счастьем?» Очень хотелось плакать, но как плакать при суженом, при муже… Он сиротливо сидел за столом перед блюдом с большущей жареной курицей. Её надлежало молодым съесть – первая семейная трапеза. Горели, потрескивая и чадя, факелы, горел на часах трут, что-то тихо шуршало в снопах. «Наверное, осыпаются колосья, – подумала Анна. – Что же ему сказать? Или пусть он первый скажет. Нельзя же так молча».
– Кабы ей не заснуть, – проговорил Василий тихо.
– Что? – не поняла Анна.
– Я говорю, кормилица может заснуть там с устатку, за день-то как намаялась.
– Да уже заснула, – засмеялась Анна. – Слышишь, как посвистывает? Это у неё храп такой.
Теперь засмеялся он:
– Курицу будешь, ведь с утра не ела?
– Не-а!
– Я тоже не хочу, а ведь надо.
– А ты в пшеницу зарой, не сразу найдут.
Василий не стал возражать, быстренько опустил курицу в ближайшую к постели бочку.
– А домовому что ж не оставил крылышка?
– Зачем чужого подкармливать? Наш домовой в Переяславле остался, ему и целой курицы не жалко.
Помолчали.
– Вась, ну чего ты там сидишь, холодно, – прошептала Анна в шубу.
Он не ответил.
– Вася… – и вдруг закричала: – Ой! Ой! – скатилась с постели. Этого крика не могли не услышать за дверями, но никто не проявил беспокойства.
– Что с тобой, Лисонька! – подскочил Василий, обнял жену за плечи.
– Там змей, – пролепетала она.
– Нет никого там, глупенькая, я сам каждый сноп перебирал. Это они оседают и шуршат. – Он пнул раз, другой пухлый бок постели. – Ну и стожище сложили! Видишь, нет никого?
– Боюсь там одна.
– Смешная! Ведь я с тобой. – Он снял камзол, накинул Анне на плечи. – Дай-ка разуюсь. Сапоги новые, жмут, едва выдержал в храме. Помоги снять, а? – Василий присел на приступочку. Анна ловко сдёрнула сапоги. На сей раз они были жёлтые, на высоких каблуках – серебряные подковки.
– Вот и выполнила первую обязанность – разула мужа. А теперь полезем, – Василий подсадил Анну, забрался сам, накинул на обоих шубу. Анна придвинулась к нему. Но Василий резко отстранился, словно притронулся к горячему. И тут же дядька за дверью прокричал:
– Устроились ли?
– Да! Да! Входите!
Загремели литавры, затрубили трубы, затрещали трещотки.
– Эх, Вася! Позор-то какой тебе – они же сейчас бельё смотреть будут.
Василий вскочил с постели, ринулся к дверям, но его потеснили входящие. Кто-то грохнул горшок об пол, следом разбили другой, третий, за ними пошли в ход глиняные миски. Весь пол покрылся черепками, и их принялись давить с остервенением.
Анна вдруг изо всех сил впилась зубами в указательный палец и не почувствовала боли, мазнула кровью по наволочке, простыне, рубашке, обмотала её подолом палец. А весёлый люд, передавив черепки, с радостными возгласами и шутками приблизился к постели.
Одни закружились возле неё хороводом, другие принялись гасить факелы, свахи и пробудившаяся мамка начали потрошить постель, выдернули из-под Анны простыню, углядели испачканную наволочку и довольные загоготали. И этот гогот был последним, что Анна помнила в этой ночи: она то ли затем потеряла сознание, то ли провалилась в сон.
Разбудил Василий:
– Вставай, соня, день такой погожий занимается. Потеплело. Давай улизнём на салазках покататься, пока гости спят.
Но улизнуть не пришлось. Анна не успела ответить, как в опочивальню ворвались свахи, мамка, дружки и подружки – все ряженые, принялись, шутя, будить, потом повели в баню.
В бане Анна вдруг застеснялась, хотя и мылась прежде не раз с братьями, да и с суженым, вернее мылись все порознь за невысокой перегородкой, одевались же все в одном предбаннике и зимой в снег нагишом прыгали вместе. А тут, как только её раздели, шмыгнула в тёмный угол, прикрылась шайкой, крикнула повелительно:
– Мамка, спину потри!
– Муж потрёт, – захихикала мамка, – теперь это его дело. Ну что же ты, князь, бери мочалку.
Василий, прикрываясь веником, несмело приблизился к Анне, а она неожиданно для себя сказала зло:
– Укушу!
И он с явным облегчением отпрянул:
– Видно, моё время ещё не настало, мамка! – и, бросив ей мочалку, полез на полок.
– Ох, плутовка, ох, плутовка, – корила Анну мамка, – всех перехитрить решила, но от женской доли не уйдёшь. Да и меня, старую, не просто обвести, покажи-ка палец, кабы не загноился.
После бани молодым ненадолго позволили разлучиться. Анна поспешила в свою светёлку, поскорее уложить итальянские карандаши и краски, присланные в подарок матушкой Ксенией. Сама она из-за морозов и недомогания приехать не смогла, о чём сообщила письмом, но дело, конечно, было в Юрии.
Из светёлки доносились громкие голоса: возмущённый, властный – Марии Ярославны и ещё чей-то плачущий и как будто оправдывающийся. Плачущая женщина стояла перед княгиней на коленях, спиной к вошедшей Анне, но Анна её сразу узнала – Ледра!
– Эта вот негодница вздумала удушиться в твоей комнате. Я её чудом из петли вынула. Несчастье-то какое, Господи, было бы – день свадьбы! Дрянь злобная, потаскушка! Чего ей не хватало? Жила, как сыр в масле. Говорит, разлуки с князем не может перенести, любит его, говорит, больше жизни. Шалава – сколько у неё любовий таких было. Ну и вешалась бы в конюшне или ещё где, а то ведь назло мне в твоих покоях. Что с ней, подлой, делать – убить мало, в монастырь, что ли, определить? Что скажешь, великая княгиня Рязанская?
– С собой возьму, пусть на князя стирает исподнее.
– Да ты что, девка! – изумилась Мария Ярославна и пнула Ледру, не сильно, однако. – Козу – в капусту?
– Лучше своя коза, чем чужая, – твёрдо сказала Анна.
– Дело девка говорит, – мамка стояла в открытых дверях, – побудет шалава эта близ князя, пока он в силу не войдёт, большой воли я ей не дам, не допущу.
– Иди собирайся в дорогу, – сказала Анна, – завтра на рассвете едем. – Это было первое приказание, которое отдала великая княгиня Рязанская.
Часть вторая Сестра великого князя Московского
1
Выехали в день трёх святителей, 30 января, чтобы на Сретение быть в Переяславле.
Мамка в дороге сокрушалась, что не подождали до оттепели – мёрзла, кутала Анну, то и дело останавливала крытый возок, где они вдвоём ехали, требовала поменять в жаровне камни. По её приказу разжигали рынды большой костёр, потом загорались костры вдоль всего длинного обоза. Путники грелись, калили камни, укладывали их в грелки-жаровни и, едва обогревшись, вновь садились – кто в сани, кто на заиндевевших лошадей.
Возок заносило на поворотах, в нём было тесно, темновато, а главное – ничего не видно в слюдяные окошечки, Анна чувствовала себя лягушонкой в коробчонке. На одной из остановок не выдержала и, путаясь в длинной волчьей шубе, побежала к саням князя:
– С тобой поеду – там не видно ничего!
– А на что тебе глядеть! – буркнул князь. – Обморозишься. – Но подвинулся, поставил поближе к Анне жаровню, укрыл своим тулупом.
– Анна, Анна, куда же ты? – переполошилась мамка, неуклюже побежала к саням. – Околеешь, лицо испортишь!
– Трогай! – засмеялась Анна.
Возница не смел ослушаться – и лошади понеслись. Морозный воздух полосовал щёки, вырывалась из-под полозьев ледяная крошка – и тоже в лицо, казалось, места на нём не будет живого. Деревенели вытянутые ноги. Но только в санях ощущалась скорость, только в санях почувствовала Анна радость от быстрой езды. И когда на повороте они опасно накренились, зачерпнули ободком снег, не испугалась, а крикнула, ликуя:
– Господи, благодать-то какая!
– Не вывались! – засмеялся князь и обнял вдруг бережно и крепко. От этого нежданного объятия Анне стало нестерпимо жарко, почудилось, что заполыхала шуба – уж не от жаровни ли загорелась?
Но нет, жаровня остыла, закуржавился[28] тулуп, продрог, поднял воротник возница, попросил князя остановиться. А она могла бы долго ещё ехать: может, и до самого Переяславля, прижавшись к суженому, ощущая его ласковое тепло.
Потом была тёплая дымная изба. Полная горница замёрзших, усталых людей. Хлопотала мамка, устраивая постели – Анне на лавке, себе – под лавкой. Суженый решил посмотреть, как расположились в других избах, проверить в сохранности ли поклажа, богатое приданое. Анну с собой не позвал, и тут она впервые за дорогу, а ведь уже две трети её проехали, остался один перегон до Переяславля, вспомнила про Ледру: к ней наладился непутёвый! – и неожиданно для себя заплакала.
– Ну-ну, – сказал он, – слезы тебя портят, Анычка! – смахнул капельку с её носа и всё-таки ушёл. Вернулся скоро, но она, обиженная, притворилась спящей. Князь прошёл к дверям, примостился на сваленных сёдлах, где спали его рынды. А утром не сел в сани – оседлал каурого жеребца и гарцевал на нём вдоль обоза. Поравнявшись с санями Анны, крикнул:
– Держись, княгиня! – и поскакал в конец поезда, туда, где смеялись и визжали сенные девки, где ехала в розвальнях Ледра.
Встречные подводы останавливались, пропуская княжеский обоз. Ездоки с почтением кланялись крытому возку, в котором томилась одна, злясь и отчаиваясь, мамка, и совершенно не обращали внимания на сидевшую в санях куль кулём насупленную Анну. Перед городом, однако, князь пересел в сани.
Обоз как раз остановился: не мог разъехаться с таким же, а то и большим, идущим навстречу, тяжело гружённым сеном, мешками с зерном и мукой, говяжьими тушами, бочками с какой-то снедью.
– Вот это богатство! – восхитилась Анна, забывая про обиду. – И куда везут?
– Куда надо, туда и везут, – смешался князь, – да мы сейчас спросим, – и подозвал дьяка, сопровождавшего обоз.
– Так в Москву, – объяснил дьяк. – На кормление. Четыре раза в год большие обозы и помесячно малые. Восемь лет уже возим. Как тебя, князь, забрали туда, так и возим.
– Он же, почитай, уже год, как здесь!
– Так-то оно так, – согласился дьяк, – да приказа не было, чтобы не возить, и Москва требует…
– Москва требует, – передразнила Анна и вдруг крикнула грубо, властно: – А ну поворачивай! – и встала в санях, удивительно похожая в эту минуту на бабку свою, Софью Витовтовну.
Дьяк мешкал.
– Ну что стоишь? – сказал князь. – Выполняй приказ великой княгини Рязанской, да поживее.
– Поворачивай! – победным кличем разнеслось над заснеженными равнинами, над застывшей Вожей. – Поворачивай!
Молодым не дали отдохнуть с дороги – сразу повели к застолью. Шли по узким, плохо освещённым переходам, винтовым скрипучим лестницам. На ходу Анну обнимали, тискали, целовали какие-то шумные хмельные женщины. Она решила, что это новые родственницы, и терпеливо сносила их неумеренные ласки. Своими яркими румянами женщины запятнали Анне лицо, правда, она этого не заметила, кто-то осыпал колким овсом, и он попал ей за ворот. А самая старшая, встретившая молодых на пороге трапезной, вдруг метнула горсть монет. Увернувшись – летели монеты прямо в лицо, – Анна поймала пару, зажала в кулак, на всякий случай, не зная, что с ними дальше делать.
В трапезной было тесно от пирующих. И те не сразу прекратили жевать при появлении молодых, и шум стих не сразу. Анне показалось, что она непрошеной гостьей попала на чужой пир. Но молодых посадили во главе стола, заставленного яствами, которые были уже изрядно тронуты, блюда перед пирующими нечисты, и прямо на дорогой скатерти громоздились груды костей и объедков.
Заметив недоумение Анны, сидевший рядом с князем боярин сообщил с гордостью:
– Пятый день пируем, вас дожидаючись!
«Ничего себе, – подумала Анна, – сколько же они за это время княжеских припасов извели. В Москве лишь день пировали, и то матынька сокрушалась, что дорого обошлось».
– Гулять так гулять! – веселился боярин. – Рязанцы – народ щедрый: что есть в печи – на стол мечи. Эй, слуги, перемену молодым!
«Кто же это такой, что же он распоряжается, как хозяин, а великий князь сидит, словно не у себя дома?»
Принесли новые кушанья. Анне очень хотелось есть, но не пришлось: гости-хозяева насытились за пять дней, а может, и за неделю, и желали речи говорить, желали подарки дарить и целовать за них княгиню в обе щеки. Она уже не думала о еде – хотела лишь спать, спать, спать, поскорее нырнуть в сон от этих подношений, которые уже не радовали, от чужих горячих и липких губ, от тошнотворного запаха перегара, лука и чеснока. И вдруг на неё будто водой плеснули, отогнали дрёму: перед ней стоял немолодой уже татарин, говорил по-русски витиеватое приветствие и смотрел на неё так, как никто никогда прежде. И хотя Анне прежде не приходилось видеть подобного, обращённого даже на другую, взгляда, она поняла: так смотрит на женщину мужчина, когда её желает.
А татарин говорил:
– Я приготовил свои подарки, не видя тебя, великая княгиня, и теперь понимаю, что они не достойны твоей небывалой красоты. Но нечего мне сейчас прибавить к ним, кроме любимого иноходца. Прими его, лучезарная княгиня. Правда, он горяч и не привык к чужим рукам. Однако, если великий князь разрешит, я попробую приучить его к тебе.
– Нет! – воскликнул Василий. – Нет! Да и конюшни мои забиты скакунами – лишнего стойла не найдётся.
Татарин низко поклонился и, не поцеловав княгиню, отошёл на своё место.
«Смешной, – думала Анна о князе сквозь дрему, когда мамка раздевала её в опочивальне, – от иноходца отказался, посмотрел бы на него сначала».
Мамка, поворачивая её, словно куклу, вспоминала гостей и подарки, осуждала:
– Боярыня Феодосия, та, что деньги метнула (монеты как раз выпали из рубахи на ковёр), тётка князя – баба прижимистая: только рушники и подарила, да и те сурового полотна. А у татарина этого, хана Касима, губа – не дура: разглядел мою ласочку. А он, старый хрыч, толк в бабьих прелестях понимает. В гареме у него девки красивые, да и наложниц недурных, сказывают, десять сороков держит, а то и больше. Будь у тебя на палец сальца побольше, он не то что коня, табуна бы не пожалел.
Мамка ущипнула Анну за бедро. Та взвизгнула и нырнула в постель.
– И этот, с голубыми буркалами, – продолжала мамка, собирая одежду, – ну князь Пронский, тоже прикипел. Ох, мужики, мужики, и невдомёк им, что ты у меня – яблочко незрелое, позднее. – Мамка засмеялась, провела по Анниной спине горячей рукой:
– Худышка моя! С гуся вода – с Анночки худоба.
– И откуда ты, мамка, всё знаешь? – спросила Анна и вдруг заснула и уже во сне беззвучно закончила фразу и про хана Касима, и про князя Пронского с васильковыми глазами. «Васильковыми, вас… силь… Василь… А где же Василий?»
– Вставай, вставай! – будила мамка. – Ишь ты, как разоспалась на новом месте. Что снилось-то? Великий князь уже в молельной, скоро завтракать сюда придёт, а ты всё спишь.
Мамка стащила с Анны кунье одеяло, принялась, как обычно, натягивать ей на ноги шерстяные чулки. Анна недовольно брыкнулась:
– Оставь! – Мамка обращалась с нею, как с маленькой, как с княжной, а не с Великой княгиней. Мамка не пожелала заметить протеста и продолжала одевать и как ни в чём не бывало разговаривать:
– А Василий надысь приревновал тебя, ласонька, есть в конюшне пустые стойла, и нет ни одного, не единого такого справного, как у хана, жеребца. Коровы у князя хорошие, всё ещё доятся, и молоко жирное, вкусное. Нет у нас, в Москве, таких. Да и всякой иной живности полны хлева и хлевушки. Доброе хозяйство у князя – ничего не скажешь.
В дверь постучали.
– Войди! – радостно воскликнула Анна, думая, что это князь. Но вошёл его постельничий – справиться, хорошо ли спалось княгине. Таков был порядок во всех княжеских семьях (Анна о нём забыла), если князь не ночевал на княгининой половине, он посылал утром к ней здороваться постельничего, даже когда следом шёл сам. И теперь было так. Только закрылась за княжеским посланцем дверь, только Анна спросила мамку, кто такой важный сидел рядом с князем на пиру, и та ответила: «Московский наместник», – как вошёл Сам. Мамка поклонилась ему поясно и шмыгнула в дверь, и тут же в опочивальню вплыли сенные девушки, расстелили скатерть на низком столе у окна, раскрыли ставни.
– Это любимая комната покойной матери, – сказал князь, – я в ней только окна переменил. Но и со слюдяными она была светлой – угловая, весь день – солнце. И вид из окон красивый. Да ты подойди, посмотри. Вот это – Трубеж внизу. Видишь, полынья дымится, а там дальше, у бора, – Сокор гора.
– Название чудное!
– Соками, соколиками назывались в старину дозорные. Они несли на горе службу, да и сейчас на ней сторожевой пост – гора высокая, далеко с неё видать.
Анна не разглядела высокой горы – снег, тёмная полоса леса.
– А я как-то из этого окна упал, – сказал великий князь хвастливо, будто о победе над басурманами. – Да и ногу вывихнул.
Анна засмеялась:
– Как в тот раз?
– Нет, нет, действительно повис на вишне… – и вдруг замолк: в комнату вошли стольник и крайчий[29] пробовать кушанья.
«Господи, когда же нас вдвоём оставят?» – подумала Анна.
Бесшумно сновали служанки и слуги, что-то приносили, выносили, топили печь (и почему бы ей из сеней не топиться?). Такая же толчея была по утрам и в московском тереме, и никогда там Анна не бывала одна. Но тогда жизнь на людях её не тяготила – она просто не замечала их. Теперь же все эти невольные соглядатаи мешали. Но при них, за трапезой, она всё-таки спросила Василия:
– Зачем в нашем княжестве московский наместник?
Князь ничего не ответил, а стольник за его спиной хмыкнул, будто в последний момент ухватил за хвост чуть не сорвавшееся с губ слово.
– Так давайте его в Москву отправим, – она лукаво улыбнулась.
– А что скажет на это Иван?
– А он скажет: «Ну и молодец!» – засмеялась Анна.
И не успел Василий высказать своего мнения, она уже просила у него монету. Монеты у князя не оказалось, хотя и швыряли их накануне в молодых пригоршнями: всё слуги подобрали. Стольник подал свою – на ней была всё та же удивившая Анну мордка.
– Что за неведомая зверушка на ней?
– Кунья мордка – знак великого князя, – в один голос сказали Василий и стольник, – давши монету, он посчитал для себя возможным вступить в разговор.
– А должен быть княжеский лик! – твёрдо сказала Анна. – Как в Москве. – И менее уверенно добавила: – Как во всех самостоятельных государствах.
И опять стольник хмыкнул, а князь промолчал, но на боярском совете сказал, что намерен отправить в Москву наместника и начать печатать собственные рязанские деньги. Никто из бояр ему не возразил. Гордые рязанцы давно мечтали избавиться от наместника, да не знали, как это сделать, чтобы не прогневить могущественного соседа – то ли опекуна, то ли хозяина. И вот наконец дождались: собственный хозяин объявился и заявил Москве о своей самостоятельности, да и не только Москве, но и татарам – тоже.
Со времени татаро-монгольского владычества рязанцы пользовались ордынскими монетами. Прадеду Василия, великому князю рязанскому Олегу, удалось получить разрешение надчеканивать на них княжескую печать. На ней изображалась часть знака Рюриковичей, потомками которых были рязанские князья, а она напоминала звериную, кунью, «мордку». При отце Василия на монетах появились надписи «Князь великий Иван Фед.» или «Князь великий Иван», но «мордка» осталась. И, чеканясь в Переяславле, монеты продолжали быть лишь подражанием татарских.
На новой монете рязанцы узнали князя, да и как было не узнать его, когда на это указывала надпись «Князь великий Василе», спорили только, что на голове князя – шапка или лучезарный венец, да хотели дознаться, кто изобразил его: слух прошёл, будто чеканился княжеский лик по рисунку княгини Анны.
О рязанских нововведениях Анна написала матери и брату как о приятных семейных новостях. Не забыла сообщить о расточительности наместника: закатил пир на весь мир, да ещё обоз с харчами отправил в Москву, когда князя с княгиней с минуты на минуту в Переяславле ожидали. Похвасталась справным княжеским хозяйством, и не со слов мамки – сама успела побывать и в хлеву, и в амбарах. В первый же день всё оглядела.
Сопровождала Анну тётка князя, которая оказалась двоюродной сестрой его матери, боярыня Феодосия. Когда Анна похвалила коров, она сказала не без гордости:
– Ох, да ведь теремное хозяйство всё в моих руках. Пеклась о бедных сиротах и день, и ночь. А до торговли и ремёсел не касалась – не женская это забота – вот и захирели они без рачительного хозяина под чужим присмотром. Да бог даст, теперь наладятся.
– Лошади у нас неважные, – посокрушалась она, когда шли чистым денником – часть стойл слева и справа от прохода пустовала, может быть, обитатели их были в работе, а те, что стояли, выглядели совсем недурно, но породистых среди них не было.
– Напрасно князь от подарка отказался, – пожалела Анна.
– Ан нет! – возразила боярыня. – Подарок подарку – рознь. Не за твои красивые глаза надумал хан такого коня лишиться: братцу твоему могущественному хотел лишний раз угодить, да так, чтобы шуму было от этого побольше. За братца твоего, княгинюшка, ему надо крепко сейчас держаться: ведь на чужой земле осел. Раньше-то Городец-Мещёрский нашим, рязанским, был, а вдруг да молодой князь его обратно потребует. Да и насчёт твоей красоты небывалой он приврал, ты уж прости меня, старуху. Таких красавиц у нас в Переяславле, почитай, дюжина на каждую улицу и в Городце-Мещёрском не меньше.
«Если всё, что говорит эта противная старуха, правда, – вспыхнув, подумала Анна, – то, как тогда объяснить странный взгляд хана? И почему на меня так не смотрит Василий? Может, он так глядит на Ледру?» Впервые после приезда, вспомнив про соперницу, Анна тут же решила проверить, как та исполняет её княжеский приказ, и на удивление боярыне попросила показать, где и как у них стирают княжеское бельё.
Всё оказалось, как в Москве, – бревенчатая пристройка к бане, вмурованные в печи котлы с кипящей водой и щёлоком, деревянные чаны и ушаты, заполненные мокрым тряпьём, разложенным по цветам, смрад и полно пара. В его облаках Анна увидела Ледру. Высокая, статная, не утратившая гордой осанки и за грязной, унизительной для неё работой, она очень отличалась от других портомоек, и Анна вдруг обрадовалась: таких-то наверняка не сыщется дюжины ни на переяславских, ни на мещёрских улицах. Поклонившись вошедшим, Ледра легко подняла большущий ушат и в клубах пара поплыла с ним к выходу.
– Полоскать в озере Быстром, – пояснила боярыня.
2
И замелькали дни в Переяславле, неотличимые один от другого, как листья на берёзе, что прежде, в Москве, росла под окном Анны. Задумала она такую же посадить в Переяславле, да боярыня Феодосия воспротивилась: зачем дерево дикое, бесплодное под окнами – лучше уж яблоню посадить. Анна не посадила ничего и обиделась на тётку, тем более та и не думала уступать ей теремное хозяйство. Анна ходила за ней повсюду тенью, но везде распоряжалась боярыня, будто княгини рядом не было. Анна не знала, как избавиться от унизительной опеки, пока мамка не надоумила:
– Раньше вставай!
Чтобы раньше вставать, нужно раньше ложиться, а в кустах над Трубежом всю ночь пели соловьи. Им вторили весёлые девушки, которые жили на острове в устье Трубежа, они, счастливицы, до рассвета катались на лодках. Анна тоже вздумала покататься, уже и лодочника с острова призвала, благо остров прямо против окон, но мамка отговорила:
– Пересуды пойдут: ты, девка, на виду – потому без мужа – ни шагу.
Князь был в походе, а может, на охоте, а может, засеки проверял – князья редко дома сидят, особенно молодые.
– Федосья – баба зловредная, так и ждёт, чтобы ты оступилась, – шептала мамка, – не ко двору ты здесь пришлась.
Мамка вызнала, что боярыня другую невестку желала, пронскую княжну Ульяну: считала, что этот брак для рязанцев выгоднее – Пронское княжество всё ещё оставалось самостоятельным, а породнившимся князьям легче было бы противостоять Москве. И если бы только одна боярыня так думала – мало было в Рязанском княжестве охотников оказаться навсегда под пятой Москвы. Женитьба юного князя на москвитянке почти лишила надежд на самостоятельность. Даже на переяславском торгу судачили: поймал коварный москвитянин князя Василия на лакомую приманку – и если б только своей свободой расплачивался, а то, поди, всё княжество посулил за девку. И окружение князя во главе с его тёткой словно забыло о давнишнем сговоре, о том, что Василий стал суженым Анны в малолетстве при жизни его родителей.
С появлением Анны рязанцы ждали от Москвы новых притеснений, ждали, что москвитяне хлынут в княжество голодными волками. И хотя с ней прибыла немногочисленная свита и сразу убрался восвояси наместник, подозрения не поубавились.
– Тебе бы только годочек продержаться, – наставляла мамка, – рачительной хозяйкой себя показать, потом можно и не хлопотать особенно – наследника родишь и, даст бог, приживёшься. А пока трудись, ласонька, не покладая рук.
Анна заставила себя вставать в три часа ночи. В первый раз, чтобы опередить боярыню Феодосию, вообще не ложилась. Потом втянулась. Феодосия, поняв сразу, что шустрая москвитянка дала ей отставку, противиться не стала, лишь посоветовала:
– В усердии своём, племянница, не вздумай сразу всё перестраивать. Нынешний порядок не один год складывался. Поддерживай хотя бы его, – боярыня усмехнулась, – если сумеешь, великая княгиня.
А вскоре удалось отлучить боярыню и от теремного владычества. Вездесущая, всевидящая мамка сказала Анне, что старшая горничная ворует в трапезной соль – отсыпает украдкой в тряпицу из солонки. Мамка сама застала её. Анна призвала боярыню и предложила отправить провинившуюся на скотный двор, чтобы вразумилась там среди коров да свиней.
– Ох, да нельзя этого делать! – сокрушилась боярыня. – Уж ты прости девушку: она из хорошей родовитой семьи.
– Простить! Соль – не мёд, на цветах не соберёшь! – Так говорила её мать, когда дети или служанки опрокидывали, случалось, солонку. И эти слова всегда раздражали Анну, теперь же, заметив сходство, она продолжала в материнском духе: – Пусть позор ляжет на голову её родовитой семьи. Да была бы она простой девкой, я бы выпороть велела бесстыжую, – и понимая, что её занесло, выкрикнула: – В Москве хитникам[30] руки рубят!
– Дело твоё, – спокойно сказала боярыня, – но моей ноги в тереме больше не будет.
Узнав о случившемся, князь выговаривать Анне не стал и тётку не удерживал. В тереме после отъезда боярыни судачили:
– Известное дело – ночная кукушка дневную перекукует.
Анна об этих пересудах не знала.
Недели через три после отъезда боярыни начался на княжеском скотном дворе падёж. Сначала околел любимый Анной ослик. Его привезли ранней весной из Орды в подарок молодой княгине от младшей жены хана. Подарки были от всех ханских жён, но этот порадовал Анну особо: живой, потешный, ласковый, шкурка что драгоценный аксамит, золотой бубенчик на шее, золочёные копытца. Анна принялась ухаживать за ним сама, кормила из соски кобыльим молоком, которое доставлял прибывший с осликом татарин, оставила в своей опочивальне. Ослик спал у неё в ногах на огромной кровати под пологом, лил на дорогие ордынские ковры, которые подарили старшие ханские жены. За это сенные девушки невзлюбили его. Анна тискала ослика, трепала за мягкие горячие ушки, смеялась:
– Натерпелся небось от ханш – теперь подарки их метит.
Но сенных девок шутки не остановили, взбунтовались:
– Руки отрываются – сил нет! Чем ковры эти по два раза в день высушивать, выветривать, может, их вместо ослика на конюшню определить? Нарастает животина – дух тяжёлый от мочи. Да и на волю ему пора – не птичка взаперти сидеть.
Василий тоже был недоволен, что ослик в тереме живёт, за завтраком у стола крутится, морду в блюда тычет. Уступила – отправила любимица на конюшню. А через неделю вырыл татарин яму на берегу Лыбеди, положил в неё завернутого в рогожу ослика, Анна не позволила с него бубенчик снять, сама засыпала землёй – с глаз долой, прогнала татарина. Потом околела коза, которую отличала Анна за необычные рога и весёлый нрав, пали несколько самых молочных коров. Их не стали закапывать, сожгли в овраге. Окурили хлев и конюшню. Отслужили молебен в церкви Николы Старого. Но мор загулял и по конюшне. Анна с мамкой сбились с ног, дневали и ночевали на скотном дворе, не могли сыскать причину страшного бедствия. На сглаз это не было похоже, да и верить в него не хотелось обеим, тем более слух прошёл, что скотину сглазила Анна своим неусыпным вниманием, а в слободских хозяйствах всё спокойно. Князь тоже обеспокоился, осторожно предложил за завтраком:
– Может, тётку вернуть? Ты извелась совсем, Анычка, исхудала, – и вдруг шмыгнул носом, принюхиваясь. – Да и пахнешь теперь, как скотница.
Василий сказал это добро, жалеючи, но ведь не с глазу на глаз. Анна вспыхнула до слёз:
– Я переодеваюсь во всё чистое и моюсь с благовониями!
И, швырнув ложку, выскочила из-за стола и устремилась к дверям. Мчась по узким переходам, слетая с крутых лесенок, Анна с отчаянием думала, что бежит воистину куда глаза глядят – не было во всём переяславском тереме места, где бы она могла отсидеться в одиночестве. В Москве зимой скрывалась на полатях, летом – на старом дереве у Красного крыльца, и никто так и не догадался её там сыскать. На переяславском подворье росли могучие вязы, посаженные ещё при великом князе Олеге. Но – княгиня на дереве! – Анна представила, как переполошатся, что подумают обитатели Кремля, увидев её там.
Она не стала прятаться: хотела, чтобы Василий нашёл её, надеялась, побежит следом – села на видном месте, под Кремлёвской стеной, у деревянных сходней, по которым спускались к Трубежу. Её хорошо видели бабы, стирающие бельё, и рыбаки, возвращавшиеся с уловом на остров. Но всё равно она здесь была одна, и те, на реке, не мешали ей думать. А раздумывала она над обидным замечанием Василия – прав был он: драгоценные благовония оказались бессильны против стойкого запаха хлева. Он исходил не только от её одежды, но даже от волос. Так же пахло и от мамки, а ведь она была чистюля. А всё потому, что нередки стали вечера, когда они вдвоём валились в опочивальне замертво на ордынские ковры, не в силах взобраться на постель. До мытья ли им тогда было? Злющих рязанских комаров не чувствовали. Кроме скотного двора, ещё дальние огороды на заливных землях у Оки требовали хозяйского пригляда, и неблизкие покосы, и лесные пасеки. Не поощришь вовремя бортников – и улетят дикие пчёлы к соседям, в бортни[31] Солотчинского монастыря. Можно было, конечно, тиунам[32] довериться, но тогда половина мёда, сказала мамка, попала бы их прожорливым домочадцам.
Узнав, что она ездила за Оку осматривать лесные угодья и лазила на бортные деревья, Василий сказал:
– Так ты скоро, княгинюшка, и до засек доберёшься, указания давать казакам начнёшь.
Тогда она не поняла, поощряет ли он её или осуждает. Теперь знала – осуждает. Даже ему не были нужны её старания, её желание сделаться настоящей хозяйкой, княгиней. А уж прочим обитателям Кремля и тем паче. И всё потому, что она – москвитянка. Но ведь и бабка Василия, Софья, дочь Дмитрия Донского, не на Рязанской земле родилась, а прабабка из Литвы прибыла. Как же они жили за этими древними дубовыми стенами? Неужели так же их неволили, также они не имели власти? И были так же одни-одинёшеньки в этом неласковом городе? Но она-то всё-таки не одна – за ней мамка. А за Василием – кто? За Василием – эти неприступные стены и эти люди, что так безучастны к ней. А что, если и он не волен в своих поступках и кто-то умный и хитрый (старый?) направляет его? Вот ведь не побежал вдогонку, не ищет…
Анна всхлипнула – никому-то она не нужна, был ослик, и того не стало. Она подумала о его прежней хозяйке, говорят, совсем девочка ещё, моложе её, а хан – старый. Как-то ей живётся? Вроде младшие жены самые любимые, но ведь есть ещё старшие. И все они делят ханскую любовь. Как хорошо, что она единственная у Василия. А Ледра? Ледра – портомойка! Анна посмотрела вниз на стирающих баб: самая высокая среди них – вроде Ледра, лупит вальком и поёт. Мерзавка – всё ей нипочём! Анна вырвала пук травы и со злостью швырнула с вала. И тут же, словно проросла из земли, возникла перед ней девчонка лет десяти-одинадцати, у неё были растрёпанные льняные волосы и чуть заспанные серые глаза.
– Давай, Анютка, руку, – сказала девчонка, – и полетим.
– Что? – изумилась Анна и потёрла глаза – девчонка не исчезала.
– Не плачь, Анна.
– Я и не плачу! Княгини не плачут! – возмутилась Анна. – Как смеешь ты обращаться ко мне так вольно!
– Я Айвина, – девчонка улыбнулась, – не узнаёшь? Но все меня зовут Еввула.
– Это ты, что ли, летала с коровками? – Анна засмеялась. Ей вдруг стало легко и весело: – Откуда ты взялась?
Девчонка пожала плечами.
– Ну живёшь где, почему я до сих пор тебя не видела?
– Везде и нигде! – беспечно сказала девочка.
– Будешь со мною жить! – Анна вскочила, отряхнула сарафан. – Идём!
– Подожди, Анна, – девчонка взяла её за руку, – ты не услышала самого главного: я знаю, отчего гибнет скот. Старик подсыпает в корм толчённые стеклянные бусы, вместо соли.
– Что же ты раньше молчала? Бежим!
Но девчонка не двинулась с места и удержала Анну:
– Я увидела это сегодня. А сейчас он толчёт бусы, чтобы подсыпать в солонку. Смотри! – Она протянула Анне большую прозрачную бусину. – Поднеси к глазам.
Анна ничего не увидела:
– Глупость какая-то! Ты издеваешься надо мной, Еввула? – она забыла её первое имя, будто никогда не слышала.
– Летим, мы ещё успеем!
Они очутились в трапезной в тот миг, когда густобровый мужик (новый стольник?) развернул над деревянной солонкой тряпицу. Она была точно такая, какую показывала Анне мамка, уличая горничную. Теперь соль не крали, её разбавляли толчёным стеклом. Анна схватила мужика за волосатое запястье и завизжала. Сразу же трапезную заполнили обитатели терема. Если бы мужик захотел скрыться, бежать, ему бы пришлось продираться через плотную толпу. Но он стоял как вкопанный, Анна же, вцепившись в его руку, вопила:
– На конюшню его! Немедленно! В железа! И бить кнутом, нещадно бить!
– Его судить будет боярский суд, – сказал подоспевший Василий спокойно и разжал побелевшие Аннины пальцы. – Давай тряпицу.
Мужик швырнул её на столешницу, блеснули прилипшие к ней крупинки стекла.
– Дело заговором против князя оборачивается, – сказал кто-то в толпе тихо. – Казни ему не миновать.
– Добро бы – только ему…
– Он скотину поморил! Он! – кричала Анна, еле сдерживаясь, чтобы опять не вцепиться в мужика, не расцарапать ему в кровь противную харю с густыми, сросшимися над переносицей бровями. – Еввула видала, как сыпал. Еввула!
Но Еввулы рядом не оказалось, и в трапезной её никто не приметил.
Боярский суд приговорил мужика к усечению головы. Других виновных не нашли, да особенно и не искали. Мужик поклялся, и все облегченно поверили, что никакого заговора не было – сам он, единолично, мстил великой княгине за дочь – ославила на всё княжество, теперь замуж девку возьмёт разве какой разбойник. Великий князь пообещал ему позаботиться о сиротах. То, что девка воровала соль, бояре ей в вину не ставили: кто только соль не воровал, кое-кто из них был тоже не без греха и крал не пригоршнями – мешками. А соль товар особый – одни беды от неё. Недаром примета появилась: соль рассыпать нечаянно – к ссоре. Бояре – мудрые головы, а вот мамка сокрушалась после суда:
– Неладно как вышло – надо было всю воровскую семейку отослать подальше от княжеского терема. Сорняки с корнем рвут, а мы с тобой, княгинюшка, лишь вершинку сощипнули. Ну да впредь умнее будем.
Винилась, что не доглядела за княжеским столом – и кто мужика этого в хоромы допустил? Допытывалась, как Анна его застала, как догадалась о толчёном стекле. Не могла себе простить, что Анна оказалась проворнее её и сама отвела от себя погибель. Девчонка совсем, а сообразила: – не на скотину покушаются. Она же, тетёха дурная, только княжеских коров берегла. Хорошо, что Москва далеко – нескоро до неё слух дойдёт. Но ведь дойдёт – и не простит её Марья Ярославна, отлучит от ласоньки. «Да нет, не может того быть?» – утешала себя и прибавляла иной раз вслух, как заклятье:
– Голову сложу, а не дам оторвать ласоньку мою от сердца. – Анне же повторяла вновь и вновь: – Это тебя Бог надоумил. Сберёг для больших дел, княжеских.
Казнили мужика в ненастный предрассветный час на торгу, близ Лыбеди. И хотя пастушьи рожки ещё не возвестили зарю и хозяйки не успели со скотиной управиться, многочисленный люд обступил лобное место. Собрались не только переяславцы, но и жители ближайших сёл. Ждали молча, лишь листья прибрежных ракит шептались тревожно, да испуганно попискивали готовые вот-вот подняться на крыло грачата. Грачи до времени снялись с гнездовий, но не полетели кормиться, низко кружили над непривычно безмолвной толпой.
Привезли осуждённого, спутанного по рукам и ногам, сбросили с телеги и, словно куль, швырнули на помост. Стражники с секирами окружили лобное место, оттеснили от него подальше толпу, лучшие, ближние места заняли бояре да именитые горожане.
Анна стояла у самого помоста и страшилась предстоящего. О том, что в Москве татям руки рубят, а убийцам, вольным и невольным, – даже головы, она знала понаслышке.
– Не для княжон это зрелище, – сказала сердито мать, когда лет в девять-десять Анна рвалась поехать с ней к лобному месту, – поневоле сама еду. Не спеши – на кровь да грязь ещё успеешь насмотреться.
Но Анне не терпелось узнать, как это бывает, и она пробралась на бойню, в такой же предрассветный летний час. Взгромоздилась на шаткую лестницу, заглянула в оконце. Она знала, что будут резать к обеду телёнка, забавного чёрно-белого бычка с бородавкой на веке. Ей было жалко бычка, но любопытство оказалось сильнее жалости, и она с нетерпением ждала, когда же наконец челядник[33] наточит нож. А он вроде и не торопился, всё пробовал лезвие тёмным, похожим на кованый крюк большим пальцем, поплёвывал и на него, и на ставшую голубой сталь ножа и снова точил. Но вот приблизился к телёнку, ухватил его за лобастую голову, за едва пробившиеся рожки, задрал её и полоснул голубым ножом по белой напрягшейся шее. Дальше Анна ничего не помнила – она очнулась на траве, лестница лежала рядом.
Теперь она боялась, что не выдержит – грохнется в обморок, опозорит себя и великого князя. К тому же ей стало вдруг жаль (сердце сжалось!) черноволосого, густобрового мужика. С него уже сняли путы, и он крестился и кланялся направо и налево. Поклонился и ей, как всем, будто это не её надумал извести. Извести – её! Так просто и так страшно. И суженого – тоже? Да, да! Солонка-то была одна на весь стол. Анна взглянула на князя – он показался ей белее белого снега, рот кривился, как перед (смехом?), как перед – плачем! Князя незаметно поддерживали стольник и постельничий. А ведь он не раз бывал на казнях и в сражениях. Подставить ему плечо? Заслонить? Закрыть ладонью глаза? Она, она виновата во всех бедах его и этого мужика.
Мужику уже обнажили шею и волокли к колоде.
– Милую! – она не успела крикнуть – палач поднял за седые волосы голову, которая только что была головой её первого врага.
3
Великая княгиня Московская Марья приехала в Переяславль нежданно. Гонца даже с дороги не послала – и не застала Василия. Он спозаранку отправился на несколько дней в заокское село Шумашь стрелять вепрей. Они так обнаглели, что не действовали на них ни трещотки, развешанные вокруг поля, ни дым костров – жрали, едва начинало темнеть, наливавшийся овёс, принялись и за пшеницу. Анна хотела вернуть Василия, знала, что порадуется он дорогой гостье, но та удержала:
– Успеется – не на один день приехала. Без Василия наговоримся вволю.
Но и без Василия наговориться им мешали – целый день были на людях.
– Ну что ж, зато ночь – наша, – не унывала Марья.
Улеглись в Анниной опочивальне на огромной кровати, которую Анна не любила из-за необъятной величины и плотного полога, за ним и днём была тьма непроглядная. Мамка привычно примостилась в ногах и тоже спать не собиралась – не засвистела, как обычно, синицей.
– А ты, мамка, поспи сегодня одна: мне, с Марьей, не страшно, – сказала Анна.
– Тебе-то не страшно, да я за тебя боюсь, – не захотела уступать мамка.
– Храпишь ты, Марье спать не дашь.
– Э, да у неё, чай, муж больше моего храпит, – не сдавалась мамка, – да и спать вы нынче не будете, сороки. – И всё-таки ей пришлось уйти, обиженной, недовольной: страсть как хотелось послушать, о чём будут судачить молодые княгини.
– Одолела совсем, – пожаловалась Анна, – шагу ступить не даёт, всё опекает, как дитя.
– Любит, – отозвалась Марья невнятно – расплетала тяжёлые косы и держала шпильки во рту. – Ты цени её, Анычка. Я всегда завидовала, что у тебя такая заботливая мамка, – сказала она уже громко, будто видела, что мамка далеко не ушла – легла под дверью, отогнав на шаг-другой стража.
– А мне в Москве первое время так любви не хватало, – уже совсем тихо, как горестное признание, произнесла Марья.
– Это тебе-то! – возмутилась Анна, оскорбилась за всё своё многочисленное семейство. – Все, все тебя лелеяли! Это я здесь одна-одинёшенька. И всяк мне пакость норовит устроить. С утра до вечера кручусь – и ни одного доброго слова. – Анна всхлипнула.
Марья придвинулась к ней, погладила по голове: волосы были жёсткими, прохладными и едва уловимо пахли… хлевом:
– В Москве говорят, зря ты, Анычка, так усердно принялась хозяйствовать, напрасно боярыню прогнала – врагов нажила. В Москве недовольны: нам нет нужды ссориться с рязанскими боярами.
– В Москве? – Анна вскочила, рванула полог. – Дышать нечем! Да причём тут Москва? И кто недоволен, кто говорит – бабы на торгу? – Она заметалась по горнице, зачем-то стала высекать огонь, хотя в светце ещё не догорели лучины. Трут не загорался – и она швырнула в угол кресало.
– Ты что буянишь? – сонно спросила мамка, но войти не решилась.
– Спи! – буркнула Анна и села на кровать.
– Не гневайся, Анычка, – Марья опять погладила её по голове, – в Рязани очень норовистые бояре, и не тебе, девчонке, им супротивничать. Иван так говорит, – поспешила она объяснить, хотя Анна и так поняла, что не Марьины это слова.
– И толчёное стекло, – Марья перешла на шёпот, – вовсе не Суворина задумка.
– Какого Суворина?
– Подьячего, что казнили. Разве я неправильно назвала? А может, Соворов он – ну да неважно. Матушка велела передать, чтобы ты остерегалась: за подьячим этим скрылись истинные злодеи. Он вину взял на себя, чтобы семейство своё не погубить.
– Да ты не очень пугайся, – уже от себя утешила Марья, – в обиду тебя не дадут.
– И откуда вы всё знаете?
– Да у нас тут на каждом шагу лазутчики, – гордо заявила Марья.
– Не может такого быть! Зачем? Что мы с Василием – враги вам?
– Ну не знаю я ничего, – захныкала Марья, – мне велели поехать предупредить тебя, я предупредила. А больше я ничего не знаю. Может, зря я про лазутчиков: княжеские дела – не моего ума дело. Я ведь великой княгиней только величаюсь. На мне Ванятка.
Марья долго рассказывала про Ванятку, Анна не перебивала её и – не слушала. Она думала о лазутчиках. Они ей показались куда опаснее злодеев-бояр, невзлюбивших её по недоразумению. Бояре одумаются, поймут свою ошибку и если не полюбят, то смирятся с ней. А лазутчики – это тревожно: надеется, значит, Иван прибрать к рукам и княжество Рязанское, как прибрал уже Ярославское, и Василию не доверяет. А ей? Её просто в расчёт не принимает – своя, будет выгоду Москвы блюсти. «Ошибся, братец мой самый старший, – я с пелёнок княгиня Рязанская!»
– Анна, Анна, ты спишь? – тормошила Марья. – У тебя-то дитятко скоро будет?
– Не знаю, – Анна не сообразила, что ответить.
– Боишься, что изурочу, или впрямь не знаешь?
– Не знаю.
– А как у вас с Василием? – спросила Марья с лукавым любопытством, желая узнать тайные подробности. Анна промолчала, радостно отметив, что московские лазутчики знают не всё. А может быть, не всё доносят? Марья истолковала молчание золовки как естественную женскую скромность и оставить занимательного разговора не захотела.
– Да что я спрашиваю – конечно, у вас всё хорошо. Вон ты какая справная, – она похлопала Анну по плечам, – и Василий в силу вошёл. Это нас женить поспешили. Смешно вспомнить: когда мы вместе спать стали, Иван силы не имел. Я уже и бояться перестала и всё над ним насмешничала, дразнила: «Слабак, слабак!» Он обижался. Потом ушёл к себе в ложницу. Ночь жду, другую, третью, а он не идёт. Утром, уж не помню, какого дня, бегу через сени и с ним невзначай сталкиваюсь. Обнял он меня, а я своё: «Слабак!» И тут он повалил меня на лавку, – Марья засмеялась, – где ведро с водой стояло, помнишь? Тут уж не до смеха мне было. Но пуще всего боялась, что войдёт кто-нибудь. Всегда через эти сени челядь сновала. А тут не души. Вот там Ванятку и зачали…
Она замолчала. Стало слышно, как в углу, куда Анна метнула кресало, стрекочет сверчок, а за дверью ему вторит мамка. И заметив это, княгини одновременно засмеялись.
– Ну вот, разоткровенничались, – смущённо сказала Марья, но на ответную откровенность вызывать не стала, продолжала о своём: – Рано нас женят, замуж отдают. Я только теперь во вкус супружеской жизни вошла. Спозаранку начинаю ночи ждать, а Иван редко приходит. Говорит: устаёт, грех – часто. А я… – Марья засмеялась счастливо, – только посмотрит на меня…
– А как он смотрит? – спросила Анна через дрёму.
– Как, как? Не знаю – страстно! Но у него вообще взгляд такой. Намедни на Наталью Полуэктову посмотрел, так она, сердешная, сомлела.
– Ты что, с ней дружишь? – спросила Анна подозрительно и ревниво.
– Не дружу, не дружу, Лисонька, разве матушка позволит – неровня она. Так услуги оказывает кой-какие. Пояс носила к ворожее…
– Да когда вы угомонитесь, полуночницы? – Мамка постучала в дверь. – Рассвет скоро.
– Полуэктова говорит, – Марья перешла на шёпот, – что высокие мужики в этом деле послабее низких. А Иван всё растёт, хотя и двадцать пять ему сравнялось. Не дай бог, правда это, что я тогда, бедная, делать буду? – Марья непритворно вздохнула.
– Плохо его Ледра учила, – сказала Анна скорее для себя, чем для Марьи.
– Что, что? – не поняла та.
– Ты Ледру знаешь?
– Нет, а кто это?
– А Еввулу? – ответила Анна вопросом, чтобы не расстраивать невестку. Еввулу Марья тоже не знала, но вспомнила странную безымянную девчонку, которая божилась, что летала с коровами. Анна хотела рассказать о недавней встрече с ней, но Марья опередила её вопросом:
– Образов ты больше не пишешь?
– Образов? – Анна почти забыла, что писала их. – Не успеваю, да и не пристало, наверное, княгине их писать.
– Заматерела совсем, – усмехнулась Марья. – Ну а знаменитые рязанские иконы видела?
Анна молчала.
– Вот завтра и поклонимся им, выберешь, чай, для дорогой гостьи часок. А теперь – спать, спать!
Светало. На острове запел пастуший рожок.
«Где же они там коров пасут?» – подумала Анна – и тут же громко рассмеялась: явственно увидела, как летят коровы стаей через Трубеж к заливным лугам, и впереди их – Айвина, играя на дудочке.
Чтобы избавиться от сопровождения боярынь и прочих именитых горожанок, великие княгини выскользнули из Кремля до завтрака и, думали, незамеченными. С помощью мамки, от которой им избавиться не удалось, они нарядились простолюдинками. Мамка и предложила переодевание, не сообразив того, что простолюдинки, разглядывающие в храме иконы, обязательно привлекут внимание. Но она любила переодевания, часто ими пользовалась – меняла свой облик, чтобы поточнее что-нибудь нужное выведать. На сей раз проверенный способ не удался: в Борисо-Глебском храме Владычной слободы их узнал сам епископ. Когда они смиренно стали под благословение и Анна, как все прихожане, хотела поцеловать ему руку, он улыбнулся и поцеловал ей руку сам, а потом и Марье. Вокруг сразу стали переглядываться, зашептались – известно было, что епископы целуются с князьями и только княгиням целуют руки.
Княгини задержались перед главной иконой храма, и подходящие прикладываться к ней прихожане кланялись им поясно.
Главная, чудотворная икона храма была известна не только на Рязанской земле, знали о ней в вольных городах Новгороде, Пскове и Вятке, в Московском, Ростовском, Тверском и Ярославском княжествах, говорили, что помнят её как Чудотворную в Чернигове.
Небольшая, византийского письма, некогда принадлежала она основателю Переяславля Рязанского великому князю Муромо-Рязанскому Ярославу-Константину. Рассказывали, что, будучи отроком, получил он её от отца – князя Святослава, который владел Черниговской и Тмутараканской[34] землями, поочьем с Муромом и Рязанью. Перед смертью якобы Святослав благословил ею младшего сына и передал ему семейную реликвию. Надеялся Святослав, что убережёт она сына от бед. И действительно, спасло отцово подаренье Ярослава от неминуемой, казалось, гибели. Весьма приверженный христианству, князь вздумал обратить в свою веру многочисленных подданных, мещёрских идолопоклонников, и те, отстаивая веру предков, однажды, разъярённые, ворвались на княжеское подворье, желая расправиться с князем.
Князь Ярослав вышел к хорошо вооружённой, жаждущей крови толпе с одной-единственной родительской иконой в руках – и усмирил взбунтовавшихся…
Примерно лет через двести после этого поднялись муромцы, на сей раз уже христиане, против своего епископа Василия, обвинили его во многих грехах, в жизни неправедной и тоже замыслили убить. Епископ, не тратя времени и слов на увещевания, бросился к Оке, захватив лишь спасшую князя икону Богоматери. Даже лодкой в сердцах и спешке не воспользовался – снял мантию, разостлал её по воде и, стоя на ней, вплавь пустился к Рязани «против быстрины речные». Случилось это чудо после обедни, в третьем часу дня, а в десятом часу того же дня епископ был в Рязани. Чудотворная икона с тех пор стала зваться Муромской. Позднее епископ Василий переселился в Переяславль Рязанский, сделавшийся к тому времени столицей Рязанского княжества, перенёс туда епископскую кафедру. Так Чудотворная икона оказалась в Переяславле и стала главной святыней Борисо-Глебского собора.
Княгини давно знали историю Чудотворной иконы, Анна не раз за свою жизнь в Переяславле прикладывалась к ней – и никогда её по-настоящему не видела. Теперь торопилась разглядеть её, сознавая, что долго стоять перед святыней, глазея, неприлично для княгини.
Безымянный византийский иконописец, от которого Анну отделяли по меньшей мере четыре столетия, изобразил Богоматерь с младенцем Христом на руках. Привычный, канонический образ, и всё-таки эту икону не спутаешь с подобной другой: наклонившись над младенцем, Богоматерь держит его так, будто качает. У ребёнка в одной руке хартия, другая поднята в благословении, но кажется, что он просто играет с матерью, нежно касаясь её иматиона собранными в щепотку пальцами. Эти едва уловимые отклонения от канона помогли древнему иконописцу передать вечное единство матери и дитя, – скорее почувствовала, чем поняла Анна, и ещё ощутила она, как на неё с иконы нисходит благодать.
– Эдак мы до обедни тут простоим, – спохватилась мамка.
Княгини молча вышли из храма. По щекам Марьи катились слёзы, и она не вытирала их.
Занялся золотой день. Сияли золочёные купола храма, золотыми блестками вспыхивали в бездонном небе слетающие с них голуби.
– Неладно как вышло, – сокрушалась мамка, – запамятовала, что сегодня владыка служит – совсем дни перепутала. Думала – старичок, отец Николай будет и сослепу нас не разглядит: ему что ни шушпан – то и крестьянка. А всё вы – превратили ночь в день, теперь до вечера, чай, отсыпаться будете, а там опять за своё.
– Не ворчи, мамка! – Анна обняла её, чмокнула в щёку. – День какой прекрасный, и мы – одни, пешком идём по слободе, никто нам в ноги не кидается, никто не разглядывает завистливо.
– Ну и Лисонька – не успела к почестям привыкнуть, как они уже в тягость, – пошутила Марья. – А я так люблю, когда меня как великую княгиню величают, и наряд княжеский мне больше к лицу, чем этот посконный. Вон молодцы по той стороне идут и даже не глянут, а были бы на нас сарафаны из алтабаса да венцы, жемчугом шитые…
– Да что ты, княгиня, мелешь, – всполошилась мамка, – и слава богу, что не глядят, вдруг да это злодеи какие.
– Какие злодеи во Владычной слободе, небось монахи это! – засмеялась Марья.
– Так они же не в рясах, – не согласилась Анна.
– Переоделись, как мы, и идут в другой посад, к девушкам, – Марья громко хихикнула.
– Ну развеселилась не к добру, – проворчала мамка, – ведёшь себя не как княгиня.
– Да я и не княгиня сейчас, – Марья одернула белый, шитый красной шерстью шушпан, который ей шёл не меньше княжеской ферязи.
– Боярыни теперь обидятся, что их к заутрене не позвали, – не могла успокоиться мамка, – верно, уже с ног сбились, нас разыскивая. Поспешим. Придётся теперь, чтобы не заметили, в обход идти через Тайницкие или Ипатцкие ворота.
– Пойдем через Глебовские, как все ходят, – строптиво возразила Анна и, смягчаясь, добавила: – Хочу Марье Одигитрию показать.
– Так лестница в часовню крута и неисправна.
– Ты можешь нас внизу, в башне, подождать.
Мамка поняла, что спорить бесполезно, при Марье Анна с ней ни за что не согласится и будет настаивать на своём. Дальше шли молча.
Скоро благополучно, неузнанными, миновали первые ворота с дубовыми вереями и сосновыми притворами, вышли на дубовый мост над глубоким сухим рвом. Анна оглянулась: ей показалось, что за ними следят, и действительно, в створе ворот появился и исчез тут же один из тех молодцев, что шли за ними от храма. «Кто же они, – подумала Анна, – лазутчики или мамка успела позаботиться об охране? А может быть, позаботился владыка и они – на самом деле переодетые монахи». Но со спутницами она подозрениями не поделилась, лишь прибавила шагу, преодолевая небольшую площадь перед Глебовской башней, главной башней Переяславского кремля, в которой были ворота для повозок и калитка для пешеходов, а над воротами – часовня.
Древняя башня сохранилась, говорили, ещё с основания Переяславля и тогда получила название Глебовской в память «сродственника» рязанских князей, страстотерпца Глеба. Образ прекрасного юноши, скорее даже отрока, святого мученика Глеба стоял в нише над воротами. Женщины поклонилась ему и, не задерживаясь, вошли в ворота.
– А помнишь Анна, – сказала Марья на ходу, – что ты спросила, когда читала «Сказание страстей…»?
– Помню, – отозвалась та, – но до сих пор не знаю ответа.
А спросила она мать, почему Святополка, убившего своих единокровных братьев Бориса и Глеба, называют окаянным, а его отца Владимира, который тоже убил своего брата Ярополка, желая завладеть его женой, считают святым. Мать ответа не нашла и в сердцах влепила ей пощёчину, чтобы не святотатствовала. Анна залезла под стол и оттуда крикнула:
– Яблочко от яблоньки недалеко укатывается.
Эту пословицу перед тем привела Мария Ярославна, но имела в виду она Святополка и его мать Гречанку, которая до первого замужества была монахиней. На то, что Гречанка была монахиней, Анна прежде не обратила внимания, более важным представлялось, что та – необыкновенная красавица, а потому на неё несправедливо, из зависти, возводят хулу. Теперь, вспомнив скорую материнскую пощёчину и свою глупую детскую горячность, Анна решила, что порицали безымянную красавицу не напрасно: она была клятвоотступницей, предавшей сначала своего небесного жениха для Ярополка, потом и того – для Владимира. Значит, предала она и саму христианскую веру. «Что сталось с ней, – размышляла Анна, – родила Святополка и умерла? У Владимира было двенадцать сыновей и три или четыре жены. Вроде бы она была не женой, а наложницей. В “Повести временных лет” говорится, что потому “не любил Святополка отец его, что он был от двух отцов: от Ярополка и от Владимира”. Надо будет Марью спросить, как это может быть?»
– Ты о чём там, Лисонька, задумалась? – спросила в это время Марья, поднимающаяся за нею по нескончаемому винту лестницы.
Где-то внизу поскрипывали ступени под мамкой, слышались её ойканья и стенанья – отпустить княгинь одних наверх она не решилась.
– О святом Владимире думаю, – ответила Анна. – И сейчас тоже понять не могу, за что его святым сделали.
– Землю Русскую окрестил! – вознесся снизу голос мамки.
– Как всё здесь слышно! – поразилась Анна.
– Убивать грех, – сказала тихо Марья, и опять холодное каменное нутро башни усилило звук. «Убивать грех», «убивать грех», – раскатилось эхом. Где-то вверху перепуганно захлопали крыльями, то ли голуби, то ли галки.
Часовня находилась в правом приделе башни, открытая всем небольшая темноватая комната, заставленная древними иконами, старинной посудой и мелкой утварью, увешанная вышитыми ширинками, – всё это были дорогие переяславцам вещи, которые они жертвовали для часовни.
Образ Одигитрии стоял в самом центре. Матушка Ксения оказалась права – он действительно повторял тот, что предстал перед Анной в монастыре. Но отличался от него своей необыкновенной судьбой. Эту святыню Анна видела уже не раз во время крестных ходов, но никогда её не разглядывала и теперь не в силах была это сделать: вспоминались слова духовника, что перед Одигитрией молился князь Юрий, собираясь на битву с Батыем, преклонял перед нею колена смелый рязанский воевода Коловрат, ею благословляли прекрасную невесту князя Фёдора. Как и мать Святополка, она была гречанка, но не обесчестила имени своего, напротив, совершила подвиг жертвенной любви, а потому и сохранилось оно в веках – Евпраксия.
– Эту икону, – заговорила Анна, – принёс в Рязань более двух веков назад епископ Евфросин.
– Знаю, – сказала Марья, – я как раз думала, хватит ли у нас духа, как Евпраксия, броситься с терема, если, не дай бог, татары погубят наших мужей.
– Так страшно, Марьюшка, умирать молодой!
– Ты увидишь своих внуков, Анна, – раздался за спинами княгинь незнакомый голос. Они испуганно оглянулись: говорила высокая худая девочка, у неё были растрёпанные льняные волосы и чуть заспанные серые глаза.
– Еввула? Как вытянулась! Это – Еввула, Марья.
Княгини пропустили её сообщение мимо ушей – пусть чудит, если ей это нравится.
– Откуда ты здесь? – спросила Анна.
– Я здесь живу, не в часовне, а в башне, в ней много каморок.
– Но ты жила на княжеской половине.
– На княжеской половине и тебя не видать, Анна, – лукаво улыбнулась девчонка, – а мне и вовсе нельзя: я теперь взрослая.
В последних словах Анна уловила печаль:
– Так живи у меня.
– Я вольная, Анна, вольная, – сказала девчонка, разведя руки, как крылья, и покачиваясь будто в танце.
– Но тебя тут обидеть могут… тати да и стражники, ты же взрослая…
– Да никто не сможет ко мне прикоснуться: я огораживаю себя, вот так, – она повела сначала правой, потом левой рукой, очертила неправильную окружность. – Попробуй, княгиня, подойти ко мне.
Марья шагнула – и отпрянула, словно наткнулась на стену. Потом принялась перебирать в воздухе руками, ощупывая эту невидимую стену. Анна смотрела, смеясь и не веря: Марья была известной шутницей. Однако ей тоже не удалось дотронуться до Еввулы. Та сама приблизилась к ним, с тревожным изумлением вгляделась в лицо Марьи и вдруг заговорила:
– Прости, горемычная, помочь тебе не смогу.
– В чём помочь? – изумилась Марья.
Еввула не ответила и поспешила к лестнице.
– Ты куда? – попыталась остановить её Анна, но она только рукой махнула и скрылась в лазке.
– Ну чего вы застряли? – мамка до плеч высунулась из него, не поднимаясь.
– Похоже, это ты застряла. С Еввулой не можете разминуться? – Анна протянула мамке руку. Но, уставшая, раздражённая ребячеством княгинь, та руки не приняла и стала кричать на всю башню, на всю округу, что приехал великий князь и слуги по двору носятся, их разыскивая, и уже на башню поднимаются.
– Ну вот, повидаюсь с Василием и поеду, – сказала Марья. – Растревожила меня эта девчонка блаженная. И чего она на лбу у меня увидела? Кабы беда какая с Ванюшечками моими не стряслась.
После полудня она уехала. Удержать её не пытались – не верить пророчествам было тогда опасно.
4
Давно уже не вмешивалась боярыня Феодосия в дела великой княгини Рязанской и не огорчала её своим присутствием: безвыездно жила в далёком селе Перкино, выращивала огурцы и только ими напоминала о себе, посылая их летом – свежими, зимой – солёными к княжескому столу.
Приутихли без неё Аннины недоброжелатели. Но молодая княгиня продолжала вставать чуть свет, а то и затемно, чтобы успеть с хозяйскими распоряжениями до завтрака. Казалось ей – проспит, пропустит день, и сразу же нарушится заведённый боярыней порядок, не избежать тогда великой княгине насмешек. А после завтрака – посещение церкви, торгов, приём боярынь и боярышень, примерка нарядов, проветривание сундуков, различные поездки по дальним и ближним сёлам – в конце дня голова кругом и опять что-то важное осталось на другой день.
А потому, словно кто толкал, в один и тот же ранний час вскакивала Анна с постели, одевалась торопливо, сама, и, не обуваясь, но, прихватив постолы, мчалась через огромный кремлёвский двор к коровнику. Мамка, как всегда, бежала следом, грузная, неуклюжая, квохтала, задыхаясь:
– Обуйся! Обуйся!
А с башен, почти всегда, озорничая, вторили стражники:
– Оденься, оденься!
Этот второй мамкин клич тоже знали и переяславцы, однако взывала так она лишь в холодную пору. Теперь же занимался рассвет июльского, обещавшего сухую теплынь дня. Анна неслась по обжигавшей ступни росной мураве, и беспричинное ликование поднималось в ней. Было радостно ощущать себя молодой, свободной, здоровой, лёгкой. Тело становилось всё невесомее, бег стремительнее: не бег – полёт. С радостной жутью она вдруг почувствовала, что оторвалась от земли и ступни отталкиваются от упругого предрассветного воздуха. В счастливом возбуждении, не в силах остановиться, она пролетела мимо главного входа в коровник, едва не врезавшись в угол его, свернула и, потеряв скорость, уже шагом двинулась вдоль стены – в конце её была маленькая дверь, у которой княгиню никто не ждал. Это даже хорошо, решила Анна, войти незамеченной и без провожатых, без их предупредительных и заискивающих объяснений оглядеть все закоулки.
Анна остановилась у отворённой двери, поджидая мамку, та всё ещё не показывалась из-за угла. Прислушалась, обуваясь, к странному говору. Скотницы говорили, мешая русские и литовские слова. Литвинки, куршанки – догадалась Анна. О них она уже знала: предки их появились на Рязанской земле почти век назад – приехали с прабабкой Василия княгиней Евфросиньей из Литвы. Сколько их тогда было, неизвестно, но число их с годами не уменьшилось, а напротив, увеличилось. Большинство из них по каким-то лишь им известным причинам предпочло жить в мещёрских дремучих лесах. Расселились они у лесных рек, которые называли по-своему, Курша и Нарма. И там, в глухомани, обосновали что-то вроде своего маленького княжества во главе с князем Меленей. Может, первый князь звался иначе, но все последующие носили это имя, и городище, где князья обитали, звалось Меленино, или Княжино. С русскими и татарами курши, «куршаки», как они себя называли, в брак не вступали, держались своих обычаев и православия не принимали.
«А ведь у меня бабушка Софья – литвинка, – подумала Анна, вслушиваясь в разговор и стараясь понять некоторые слова, известные с детства, – и бабушка матери – тоже. К тому же она – Елена Ольгердовна, значит, родная сестра прабабки суженого. А та, подумать только, ещё тётка моей бабушки Софьи. Столько, оказывается во мне литовской крови, а по-литовски я только “лабас” да “ачю” знаю».
Скотницы за приоткрытой дверью говорили:
– Ка тай рейшкя? – резко и визгливо.
– Нежик! – откликнулся весело другой голос.
– Придёт и цо тогда, – переходя на русский они цокали, как клесты.
– Герай! Успеет. Замескалась цо-то. Йи сярга.
– Проспала – миелосес бичюлес задержал.
– Да не с ней он спит – жмона порченая.
Скотницы появились в дверях с огромной корзиной навоза, в нелепых холщовых рубахах, какие носили незамужние куршанки: нижняя – длинная, подпоясанная на бёдрах и под коленями, верхняя – короткая, до талии, свободная, в шапочках, которые были ещё покрыты платками.
Анна посторонилась, давая дорогу, а куршанки, увидев, кто перед ними, взвизгнули, уронили корзину. Вывалился на ноги княгине навоз.
– Подлые! – закричала она, только теперь поняв, что судачили о ней. – Это я-то порченая! – и швырнула в окаменевших скотниц заляпанные постолы.
– Я вам покажу порченую! – Анна оттолкнула подоспевшую наконец мамку и помчалась к терему.
Перед дверями княжеской ложницы рында попытался её удержать, но она, оттолкнув его, ворвалась в душную полутьму.
Князь ещё был в постели.
Рядом с ним лежала Ледра.
При виде Анны она слабо вскрикнула, натянула на лицо тёмно-жёлтую простыню. И этот беспомощный, виноватый вскрик-всхлип, дорогая простыня из приданого прибавили Анне ярости – она стянула Ледру на пол за распущенные косы. Ледра была голой. В наготе она показалась Анне прекрасной. Бесстыдно, вызывающе прекрасной. И ощутив в этой красоте главную для себя опасность, с какой не справиться ввек, Анна в отчаянье стала пинать соперницу, не давая ей подняться. Наконец та изловчилась, вырвалась и голая – голая – скрылась за дверью.
Князь хохотал. Он не прекращал смеха и тогда, когда Анна, сорвав с себя сарафан и рубаху, накинулась на него. Смеясь, он увертывался от её кулаков, от её укусов, докатился до самого края постели – и вдруг стремительно и грубо подмял под себя…
«Так вот как оно бывает, – разочарованно думала Анна, лёжа с обессиленным, обмякшим князем. – Бедная, бедная Ледра – так тяжело, неприятно, мучительно зарабатывать на жизнь. Но от этого родятся дети, наследники, значит, придётся впредь притворяться довольной и терпеть эту муку, этот стыд».
– Ты бы хоть ноги сперва вымыла, – засмеялся князь и, поцеловав её, принялся одеваться. За дверью несколько раз кашлянули, потом негромко постучали – начиналось обычное княжеское утро.
В тот день Анна стоически перенесла догадливо-лукавые взгляды приближённых, их одобрительное перешёптывание, уклонилась от мамкиных расспросов. И хотя словом не обмолвилась о Ледре, в Кремле её больше не видела. Но не могла избавиться от тревоги, а потому ни на одну ночь не покидала княжеского ложа. И хотя по-прежнему ничего не рассказывала мамке, та, понятливая и многоопытная, несколько раз нашла повод, чтобы утешить:
– Вот родишь ребёночка, Ласонька, и познаешь сладость мужниных ласк.
Князь же был вполне доволен.
– Почему ты сам меня не домогался? – спросила как-то Анна.
– Жалел.
– Жалел?
– Ну да, потому что всю жизнь люблю тебя. А это у меня никогда прежде не было связано с любовью.
– Никогда? У тебя были бабы, кроме Ледры? – удивилась Анна.
– Ах, зачем тебе знать это, Анычка! Ни с кем мне не было так хорошо, как с тобой, – и, утешив таким образом, Василий безмятежно заснул. Анна же не спала всю ночь, мучилась ревностью и размышляла, почему он не сказал «нет». Представляла своих новых соперниц, тех, кого следует впредь опасаться. Кто они? Молодые вдовушки-боярыни? Поселянки из ближайших деревень, из Шумаши, к примеру, куда так любил ездить князь? Искусные в любви татарки или лесные мещёрские девки, которые, говорят, в ночь на Ивана-Купала бегают нагими по лесу, прыгают через костры и совокупляются с кем придётся на лесных полянах под хохот леших и кикимор?
– Больше ты без меня никуда, никуда не поедешь, – сказала она спящему Василию и потрясла его за плечо.
– Угу, – отозвался он и натянул на голову простыню, – комары одолели.
Но сопровождать Василия Анне не пришлось: скоро выяснилось, что она понесла, и мамка не разрешила ей ездить верхом, да и вообще отлучаться с княжеского подворья, счастливый князь поддержал её.
– Сынок, будет наследник! – радовалась мамка, ощупывая Аннин живот.
– Сынок, непременно сынок, – уверяли самые искусные повивальные бабки.
Однако в Москве решено было их искусству не доверять. Мария Ярославна настояла, чтобы Анна ехала в родительский дом, где и стены родные помогают, и сделала это загодя (роды предполагались в середине апреля). Приехали за ней Марья и Юрий в начале марта, сразу после Нового года.
Во время долгих сборов Анна почти не видела брата и была рада этому: стыдилась своего огромного острого живота, который не желал упрятываться под широкий, нарочно сшитый мамкой сарафан, стеснялась безобразных пятен на лице, их почему-то повитухи запрещали замазывать белилами. Юрий тоже не искал с ней встречи и всё время проводил на половине князя, а потом они уехали оба на неделю.
«Им хорошо, – со злой обидой думала Анна, – изжога не одолевает, спину не ломит, не тошнит, оба красавцы – хоть куда! Собрались и, не сказавшись, уехали. Небось к бабам подались в Шумашь или к гулящим девкам в Скоморошью слободу».
– В Мирославщину поехали, – сообщила Марья, хотя Анна её не спрашивала. Марья ей впервые за многие годы дружбы надоела вдруг, утомила бесконечными разговорами и заботами, а теперь ещё и обижала своею осведомлённостью.
– Спорные земли решили посмотреть. А по весне поделить. И чего их делить – мы одна семья. Что ваше, то и наше. Иван сказывал, не сегодня завтра вся Русь единой будет, московской. Он бы и теперь прибрал к рукам супротивников, да ребята мешают – уросливы, драчливы, всё Ивану наперекор делают, только матушке и покоряются. Что же ты не спросишь о них?
«Ребятами» звали в семье двух Андреев и Бориса. Очень дружные между собой, они чуждались старших братьев и младшей Анны, и в детстве не занимали её – сопливые, скорые на проказы, шумные. Да и видела их Анна редко: воспитывались они дядьками, на половине матери не бывали, подолгу жили в Боровске у бабушки, материной матери, которая души не чаяла в них, особенно в Борисе. Отчуждённость с годами не уменьшалась, и говорить о них Анне не хотелось. А Марья, не дожидаясь расспросов, уже перевела разговор на другое.
– Ты не бойся, Лисонька, – говорила она, складывая в короб красные пелёнки, пестрые ленты свивальников, – ничего страшного: у справной бабы живот болит, как при месячных, а татарки вовсе без боли рожают. Да и я Ванюшечку легко родила. А если и помучаешься, то скоро забудешь – баба должна каждый год рожать. Таково её предназначение! – Марья назидательно подняла палец, подражая Марии Ярославне. Получилось очень похоже, и Анна засмеялась.
На сей раз об Аннином увлечении иконописью Марья не спросила: до него ли, когда предстоит главное женское дело, но и не только пелёнки-распашонки её заботили. Страшилась она очень конца света.
В том, что конец света неминуемо наступит, никто не сомневался. Не было единого мнения – когда. Предполагаемые ранее сроки счастливо миновали, православные облегчённо вздохнули – и назначили новый срок. Теперь он приходился на начавшийся 1467 год. И тому были важные предзнаменования. Во всех русских княжествах стало известно, что ростовское озеро две недели выло по ночам, а потом пошёл из него скрежет и стук. В зимних лесах то там, то здесь стали встречаться белые волки. Начавшие в феврале телиться коровы приносили телят о двух головах. Появлялись на свет шестипалые, а то и с волчьей пастью младенцы.
– Господи, как хорошо на белом свете! Как жить хочется! – возвратилась Марья к разговору о конце света уже в дороге.
Она сидела с Анной в одной кибитке, присланной из Москвы.
– А Иван в конец света не верит, – говорила она себе в утешение, – и готовит новые походы. Хочет на татар идти, – Мария перешла на шёпот: – Да, да! И Юрия – главным полководцем: он ведь очень храбрый, Юрий. В прадеда своего Владимира Храброго удался. Иван тоже храбрый, хотя ребята и винят его в трусости, говорят, что он всегда братьев подставляет. Он просто осторожный.
Анна безучастно молчала, а сидящая с ними мамка согласно кивала головой в полудрёме.
– «Государь всея Руси обязан быть осторожным», – это Иван говорил сам, – Марья на миг примолкла, подоткнула на Анне одеяло и, хохотнув, продолжила: – Юрий обходительный такой, я сказала, что ты стесняешься, вот он и держится от тебя подальше, а мне сказал, что беременные женщины прекрасны и тебе беременность особенно идёт. Ты спишь, Анычка?
Анна не спала, но и не слушала Марью, поглощённая неотвязными горестными думами. Чем ближе подходил срок родов, тем чаще появлялись мысли о возможной смерти, а по дороге к Москве они перешли в уверенность – ей не выжить. Недаром же пригрезилось на постоялом дворе: стоит она у высокой голой горы, а с неё сводят Марья и мамка старенькую бабушку Софью. Лица её наяву Анна не помнила, баба умерла, когда ей два года было, а тут сразу узнала, – она, Софья Витовтовна. Хоть и одета не по княжески – в крестьянский нагольный тулупчик, в грубошерстный серый платок и старые сапоги. Большущие сапоги, едва ноги в них переставляла и, стесняясь своей неуклюжести и беспомощности, виновато улыбалась и что-то бормотала.
Когда же приблизилась, Анна услыхала:
– За тобой, внученька, за тобой иду.
– Нет, нет! Ты же меня так любила – не забирай, – взмолилась Анна и с плачем проснулась, всполошила мамку. Та, узнав, в чем дело, успокоила – покойники снятся к снегу.
И действительно, за ночь навалило сугробы. Крестьяне вышли с деревянными лопатами расчищать дорогу. Потом, когда двинулся княжеский поезд, возницы то и дело выскакивали из саней, а тяжёлую кибитку не раз приходилось толкать, и каждый раз Юрий помогал Анне выйти, а Марья выскакивала сама и нарочно бухалась в сугроб и визжала, барахтаясь в снегу, мамка притворно сердилась. Воспользовавшись остановкой, ямщики и сенные девушки в конце обоза играли в снежки и тоже кидались в сугробы и визжали.
Анна смотрела на них с печальной завистью.
А вокруг красовался вековой зимний лес. Под снежным покровом деревья изменили привычные очертания и стали похожи на исполинские диковинные цветы, зверей, птиц. Но красота эта таила опасность. То и дело дорогу преграждали не выдержавшие роскошного, но тяжелого убранства старые ели, пригнулись под снежной толщей кусты орешника. Даже кряжистые дубы, силясь стряхнуть с себя нежеланный наряд, обломали ветки.
«И всё это я вижу в последний раз, – подумала Анна, – и уж для меня-то конец света обязательно наступит в апреле. И образ святой Евфросинии напишет кто-то другой. Ох, матушка Ксения, зачем я тебя послушалась».
Анне шёл шестнадцатый год.
5
– Ещё-ещё-щё-щё-щё!
Аннушка, да ухватись за рушник! Упрись, упрись, в меня ножками! Да не сюда – в грудь. Ничего ей не поделается. Господи, никак опять сомлела? Что же делать? Царица Небесная, помоги!
Княгиня Мария Ярославна, мамка, бабки-повитухи сбились с ног у постели великой княгини Рязанской Анны Васильевны.
– За Тимошкой беги блаженным. Да икону пусть принесут, Чудотворную Владимирскую!
– Так она же в соборе.
– Несите!
Внесли икону, тёмную, тусклую, византийского письма. В громоздкий оклад из серебра, золота и драгоценных камней была упрятана её дивная красота, лишь кисти рук виднелись и лики.
Вбежал Тимошка. Седые патлы на темени вздыблены, у висков срезаны наголо, руки прячутся в широких рукавах, ноги босые, сизые высоко заголены. Захлопал руками-крыльями, зазвенел цепями да колокольцами, хрипло закудахтал, потом зашёлся в надсадном кашле.
– Поди прочь! – прикрикнула на него Мария Ярославна. – За знахаркой бегите, за той, что Полуэктову пользовала. Где Марья?
– Прихворнула.
– Нашла время? Тогда ты беги, мамка.
– Басурманка она – грех.
– Грех отмолим – беги!
Анна лежала в забытье (час-другой? – никто не замечал времени).
Наконец явилась знахарка, высокая, тонкая, в тёмно-вишнёвом, как на иконах, хитоне, из-под его тускло-золотой каймы, на голове, выглядывал край яркой голубизны чепца. Таким же чистым и ярким оказалось нижнее платье знахарки, когда она скинула на пол хитон.
– Айвина?! – воскликнула Анна. – Айвина! Я не хочу умирать. Помоги!
– Слава тебе, Господи, очнулась! – засуетились в опочивальне.
– Поднимите её! – прекращая суету, сказала знахарка повелительно, и все ринулись исполнять приказ. – И дайте воды помыть руки. Да не ей – мне.
От поданного рушника она отказалась, потёрла смуглые, узкие кисти и, не касаясь, обвела ими роженицу несколько раз:
– А теперь иди к порогу.
Анна послушно поплелась к открытой двери, едва переставляя безобразно распухшие ноги. За ней, словно заколдованные, не пытаясь протестовать, двинулись великая княгиня Московская Мария Ярославна, мамка, бабки-повитухи. У порога Мария Ярославна поддержала пошатнувшуюся Анну. Знахарка отстранила её и опять подняла над Анной руки:
– Теперь слушай и собирайся с силами. Я буду считать. На счёт семь ты, что есть мочи, ударишь о порог правой ногой. Будет больно, но…
– Над княжеским теремом заклятье, – вдруг прервал знахарку чей-то женский голос, раздавшийся то ли из-за спины Анны, то ли по ту сторону двери из молельни. – Ты спасёшь одну великую княгиню, помрёт другая. Через семь дней. Подумай.
– Считай! – возопила великая княгиня Мария Ярославна и обхватила сзади Анну.
– Один. Два. Три, – принялась медленно считать знахарка и все следом за ней, беззвучно шевеля губами. – Семь.
– Семь! – повторил давешний голос, и Анна изо всех сил ударила о порог.
– Ой!
– Ногу сломала?
И тут же закричал подхваченный знахаркой младенец.
– Будешь спать, долго спать, спать, спать, – говорила знахарка, водя перед глазами Анны большой прозрачной бусиной. Анна лежала в постели. Все родовые муки уже были позади, и мамка успела собственноручно захоронить в тайном месте послед. – Спать.
– Откуда ты взялась, Айвина? Когда приехала? – хотела спросить Анна, но не смогла – веки смыкались, рот не открывался, только улыбнулась благодарно.
Проснулась она через две недели, 30 апреля. Просыпалась ненадолго и раньше. Её кормили, обихаживали, прикладывали к ней ребёнка, чтобы чувствовал мать. Но этого она не помнила. И открывши глаза, не сразу поняла, где же она. Потом узнала опочивальню матери. Знакомые с раннего детства, теперь уже облупившиеся стены, расписанные райскими птицами и не встречающимися в природе цветами. Лавки вдоль стен, покрытые зелёным сукном. Такого же сукна раздвинутый полог над кроватью, пыль забила глубокие его складки. Потёртые ковры на полу. Солнечный зайчик дрожит на сводчатом потолке, значит, открыто окно, и от ветра зыбится вода в кружке. Всё, как в детстве, но она не ребёнок, так почему же в материнской постели? Остро пахло берёзой – весна!
Анна приподнялась и села. Тело пронзили сорок сороков острейших иголок, перед глазами поплыли радужные круги, но сквозь их мерцание она углядела всё-таки глиняную кружку и потянулась за нею. Рука оказалась слабой – кружка выскользнула, распалась на черепки, расплылась по ковру пахнущая молодой берёзой лужа. В кружке был настой берёзовых почек. Им Анну пользовали в последние недели беременности, когда у неё стали опухать ноги. И вспомнив это, Анна вспомнила и всё, что было с ней перед сном, и позвала требовательно и весело:
– Мамка! Мамка!
Вбежала Мария Ярославна, за ней сонм приближённых женщин, заполнили опочивальню, защебетали на разные голоса, но одно и то же:
– Проснулась, проснулась наша княгинюшка, воскресла наша ненаглядная, слава тебе, Господи!
Мария Ярославна осыпала поцелуями её лицо, шею, руки:
– Я уже не надеялась, что ты оживёшь. Василий, голубчик, аж почернел. Денно и нощно молился Богородице. Услыхала пресвятая заступница.
«Какой Василий? Ах, суженый», – догадка оставила Анну равнодушной, вызвав лишь лёгкое недоумение: откуда ему тут быть, но спрашивать она не стала. Мария Ярославна, радостно частя, объяснила:
– Как ты занемогла, он тут же примчался. И распутица не остановила. Как не утонул, через Оку переправляясь, одному Богу известно. Да что же это я? – спохватилась Мария Ярославна. – Девки, бегите, скажите князьям – очнулась. Очнулась! – И Мария Ярославна опять принялась целовать Анну. У толпящихся в бездействии женщин приступ радости уже кончился, они заскучали, и кто-то предложил:
– Может, дитятко принести, великая княгиня?
– Несите, несите! – радостно откликнулась Мария Ярославна, Анна промолчала, хотя спросили скорее её, – ребёнок был ей совершенно безразличен, но его уже несли.
– Вот мы какие баские! Вот какие богатыри! Ручки-ножки на месте, и всё остальное в полном порядке.
«И чего ликуют?» – Анна не представляла, что может быть как-то иначе, – совсем забыла о шестипалых, волчеподобных младенцах.
Мария Ярославна бережно и гордо приняла младенца и положила перед Анной. Он был мордастенький, шафраново-жёлтый, с закрытыми глазами в щёточках белесых ресниц и, как рыба, кругло открывал жадный ротик. Анна смотрела на него с неприязненным изумлением.
– Да сыночек это, сыночек, – перехватив её взгляд, поспешила утешить Мария Ярославна. – Вот и кормилица его, мамка. – Она подтолкнула к Анне грудастую нарядную молодку в богатом кокошнике.
– А моя мамка где? – встревожилась Анна.
Женщины молчали, потупив глаза. Мария Ярославна развязывала свивальник.
– А Марья? – Анна почувствовала недоброе.
– Прихворнули, прихворнули. С кем не бывает, – Мария Ярославна перестала возиться со свивальником и вдруг сгребла младенца и передала няньке. – Ступайте все – княгине покой нужен.
Женщины поспешно, с явным облегчением покинули опочивальню. После их ухода Анна продолжала допытываться, где мамка, Марья, Юрий.
– Да все живы-здоровы, – уверяла Мария Ярославна, – то есть здоровы не все, но поправятся. Вот встанешь на ноги… А Юрий с Василием вон в окно заглядывают – с дерева.
Князья, как мальчишки, оседлали берёзу и пытались дотянуться до подоконника.
– Сорвётесь! – испугалась Анна. – Слезайте немедленно.
Князья исчезли.
– Как дети малые! – возмущалась Мария Ярославна, но было видно, что ребяческая выходка князей её развеселила, правда, она тут же обеспокоилась, что кто-нибудь из хитников задумает проникнуть так в терем, а потому следует берёзу срубить. И она покинула опочивальню, чтобы немедленно отдать приказ.
В тот же день ребёнка ещё раз принесли Анне, и мать велела ей приложить его к груди. Молока не было, но Анна, чтобы не огорчать мать, повиновалась безропотно. Ребёнок потянул раз, другой – и зашёлся в обиженном плаче. И его тоненький жалобный голосок пробудил в Анне нежность к нему, сожаление, что не может его накормить, ревность, что привяжется он к чужой грудастой бабе.
Ребёнка уже окрестили и, по давнишнему уговору между его дедами великими князьями Московским и Рязанским, нарекли Иваном.
– А когда родится у Ивана ещё сын, назовем Василием, – пообещала Мария Ярославна. И рассказала, что восприемничали дитятю от купели Юрий и матушка Ксения, которая перебралась в Москву.
«Бедные мои, – подумала Анна, – теперь уже никогда им не быть супругами». Церковь запрещала брак между восприемниками.
Анна поправлялась быстро и через неделю уже бодро ходила по материнской половине, порывалась идти навещать болящих – пришлось открыть ей правду: обеих уже не было в живых.
Марья умерла через неделю после Анниных родов. Мария Ярославна сказала, от отравы, которой якобы какая-то ворожея пропитала её пояс. Носила его к ворожее Марьина наперсница Полуэктова. На дознании она клялась, что Марья сама её посылала – хотела покрепче привязать к себе великого князя. Его в это время как раз в Москве не было – отправился в Коломну. Марья сокрушалась, что нашёл он себе там присуху и назвала Полуэктовой её имя. Та на дознании его вспомнила и прозвище ворожеи не утаила, дом её указала, но той и след простыл. Боярский совет приговорил Полуэктову к казни за пособничество в колдовстве и смерть великой княгини. А тут вдруг умерла, ухаживая за Марьей, мамка. По Москве принялась гулять забредшая из Псковской земли «железа», и приехавший уже после похорон жены Иван отменил казнь, однако отправил семейство Полуэктовой с глаз долой.
На удивление Марии Ярославне, Анна отнеслась к известию спокойно – не заголосила, не сомлела, не всплакнула даже, отказалась взять на память что-нибудь из вещей умерших. Иван принёс богатое ожерелье Марьи – отвергла и вместо благодарности (ожерелье древнее, родовое князей Тверских) посоветовала:
– Невестке подари, когда Иван молодой женится.
Иван изобразил огорчение и обиду, но Мария Ярославна знала: доволен, что ценная вещь останется у него, – старший сын её был скуповат. Скупость по отношению к посторонним она одобряла и немало ей способствовала, но Марию Ярославну не радовало, что сын не видит разницы между посторонними и родными. Огорчало и то, что к родным в последние годы Иван сильно охладел, так что ей теперь в пору и самой к ворожее идти. После смерти Марьи уединился на своей половине, горе переживая в одиночестве, не выходил к общей трапезе. Приезд Василия, гостя, зятя, ничего не изменил: Иван принял его как удельного князя и вызывал к себе для разговоров. Анна не успела заметить в Иване перемены: когда она обрела способность передвигаться по терему, князей в нём уже не было. Чума оставила город, унеся десяток-другой жизней, тревоги о неминуемом конце света сменились более близкими заботами, об урожае: стояла необычная для мая засуха, и князья вернулись к своим повседневным делам. Юрий отправился в Дмитров, Василий, по настоянию Ивана, в свой Переяславль.
Без него, в сопровождении матери, вышла Анна впервые после болезни на залитый солнцем кремлёвский двор, отстояла службу в Архангельском соборе, поклонилась дорогим могилам. Марью похоронили в соборе, мамку – на его погосте. У её могилы уже курчавилась рябинка – Юрий посадил, мамка была и его кормилицей.
И опять Анна поразила Марию Ярославну своим спокойствием. Однако перед обедом вдруг ворвалась к ней в слезах, бросилась на грудь, заговорила горячечной скороговоркой:
– Это я, я, матынька, виновата в их погибели! Или ты? Ты! Ты меня спасла ценою Марьиной жизни! Ты от неё отступилась! Ты её предала!
– Замолчи, дура! – Марья Ярославна оторвала от себя Анну, толкнула на постель. – Марья своё назначение на земле выполнила. И не смотри на меня рысью – я тоже, а потому отправлю тебя и уйду в монастырь. – Она присела рядом с Анной, погладила её по мокрой щеке. – Буду грехи замаливать. – И еле слышно добавила: – Боюсь, не замолю – много их накопилось.
В словах Марии Ярославны было столько горечи и раскаяния, что Анне стало жаль её и стыдно за свои упрёки.
– Как же мы со своими грехами жить будем? – спросила тихо.
– Ох, да какие у тебя грехи! Не нажила ещё…
– Я ведь, матынька, слышала, – сказала Анна в подушку, боясь поднять на Марию Ярославну лицо, – как женщина предупредила о заклятье.
Мария Ярославна молчала, Анна решила, что не поняла или не расслышала сказанного:
– Сказала, что должна умереть великая княгиня…
– Так я тоже великая княгиня, – усмехнулась Мария Ярославна, – а вот ведь жива, – и погладила Анну по спине. Принимая ласку, Анна поднялась, села, обняла мать за широкие, тёплые, надёжные плечи, почувствовав привычную с детства, никогда не подводившую её опору, спросила уже без страха:
– А кто эта женщина?
– Не было никакой женщины! – ответила Мария Ярославна поспешно и резко.
– Как не было? Я второй раз голос её слышала, и каждый раз она пророчила беду. Ты же сама ей отвечала…
– Со знахаркой я разговаривала, с жидовкой, матерью лекаря, Антоном вроде его зовут. Прибыл недавно из Литвы.
– Какой Антон, какая жидовка? Меня Еввула спасла! – возмутилась Анна и вскочила.
– К трапезе сзывают, – отозвалась Мария Ярославна обеспокоенно, – а мы ещё не прибраны – сарафаны помяли, да и косы придётся переплетать, – и, не давая Анне вымолвить слова, крикнула зычно: – Девки! Эй, девки!
Тотчас же открылась тяжёлая низкая дверь, и, глядя на фигуры возникших в её проёме сенных девушек, великая княгиня Московская громко и торжественно произнесла:
– Владычица Небесная тебя спасла, через образ Чудотворный Пресвятой Богородицы Владимирской.
И хотя Анна не сомневалась в могуществе Пресвятой Девы, ей показалось, что на сей раз Мария Ярославна взяла на душу новый грех.
Приближался день отъезда Анны в Переяславль, который в Москве в разговорах все называли Рязанью. Но прежде, чем оставить отчий дом, Анне захотелось увидеть матушку Ксению. Во время Анниной болезни они встречались не раз, но всё это было на людях. Анне же хотелось излить душу, укрепить волю – жизнь в Переяславле без мамки, без Марьиных неожиданных, коротких приездов её пугала, предстоящая встреча с Василием не радовала. Успокоение можно было бы, наверное, сыскать в монастыре, но путь туда для неё был заказан: монахинями княгини становились только после смерти своих мужей или по их воле.
Она отправила к Ксении посыльного договориться о встрече, и та сразу же приехала, прошла в Аннину девичью светёлку, куда Анна перебралась после неприятного объяснения с матерью. Светёлка была запущена и захламлена приготовленными к отъезду вещами. Но ничто в ней не переменилось со времени Анниного детства: всё те же были поставцы и лавки, всё те же пяльцы с натянутым на них куском полотна стояли у окна, а напротив, у стены, – стул с обломанной спинкой, рядом с ним, между поставцом и стеной, пылились сваленные в кучу потешки. Матушка Ксения уселась на поломанный, но единственный мягкий стул и потянула за овчинные волосы куклу.
– Надо же, мужичок! – радостно изумилась она. – А у меня все ляльки были только девицами. И в красных сапожках. Сама шила?
– Мамка, – ответила Анна и заплакала. – Почему, почему я такая несчастная, почему от меня ушли те, кого я любила?
– У тебя остались сын и муж. – Матушка Ксения протянула Анне куклу – мужичок был похож на суженого. Отметив сходство, Анна продолжала уже без слёз:
– Да. Но я их теперь боюсь любить, боюсь потерять их. А знаешь, матушка Ксения, ведь Марья погибла вместо меня. Матынька говорит, что Марья выполнила своё назначение на земле. Это не так. Её назначение состояло в любви. Она любила всех, и её любили. И у мамки было то же назначение. Оно ведь не прекращается с рождением детей, с молодостью, да и со смертью, наверное, тоже. А великая княгиня Московская считает, что женщина, как пчелиная матка, должна лишь производить детей. Родила сына – может не задерживаться на земле. И со мной, своей дочерью, возилась из-за наследника.
– Ах, детка, что ты говоришь, опомнись – какой прок Марии Ярославне в рязанском наследнике. – Матушка Ксения обняла Анну, усадила на лавку, села рядом. Она была ещё красивее, чем три года назад, и от неё чудесно, как прежде, пахло розовым маслом. – Не мучайся, не злобись на мать. Она в смерти Марьи не виновата. Да и нельзя умереть вместо кого-то. Это выдумки чернокнижников. Умирают за кого-то, и это святая смерть. Так умерла твоя мамка. А великая княгиня Мария Ярославна, конечно, лукавит: своё утверждение она опровергла собственной жизнью. И она, и бабка твоя Софья не только детей, сыновей рожали, но и княжеством управляли, помогали своим мужьям и сыновьям, недаром же отец твой завещал сыновьям слушаться материнских советов. Тебе бы тоже не мешало.
Она встала и отошла к окну. Там на подоконнике выстроились глиняные свистульки – легонечко свистнула в одну и продолжала, разглядывая петуха с взгромоздившимся на него всадником:
– Но это сильные, волевые, властные женщины. К сожалению, Марья не была такой и как супруга не подходила государю всея Руси. Чтобы быть по-настоящему великой княгиней, одной любви к ближнему мало. Иван теперь не мальчик и, надеюсь, понимает, что ему нельзя ошибиться в выборе невесты. – Она вдруг резко переменила разговор: – А ты почему меня ничем не потчуешь, или за гостью не считаешь?
Анна, смутившись, кликнула девушек, велела накрыть в светёлке стол. За трапезой матушка Ксения спросила о прочитанных книгах, об успехах Анны в верховой езде. Только в последнем Анна и преуспела за три года самостоятельной жизни и, понимая, как этого мало, стала лепетать о скотном дворе, о рыбных ловлях и лесных пасеках. Матушка Ксения снисходительно улыбалась и кивала, а потом спросила о рязанских иконниках. Анна не смогла назвать ни одного.
– А в Москве объявился чудный иконник, мирянин, Дионисием зовут, – сказала матушка Ксения с гордостью и улыбнулась каким-то воспоминаниям, – но горяч и необуздан, канонов не хочет придерживаться, да и церковные предписания не соблюдает. Недавно расписывал храм Рождества Богородицы в Боровском монастыре, так принёс туда, к ужасу игумена Пафнутия, на харч баранью ногу, жаренную с яйцами. Поверишь ли, не успел досыта наесться, как напала на него почесуха – всё тело в один струп слилось. Едва не помер. Хорошо игумен догадался, простил ослушника и повелел ударить в колокол – болезнь как рукой сняло.
Посмеялись над незадачливым Дионисием, Анна пожалела, что не успела увидеть его работ.
– Увидишь ещё, – уверила матушка Ксения, – навестишь свою престарелую бабку в Боровске или братца и посмотришь, да и в Москве его иконы есть. А я тебе сейчас покажу, как фряжские изографы пишут, – и она вынула из кармана рясы маленькую овальную иконку.
На ней была красивая, молодая, тёмноокая женщина в красном иноземном платье, с золотой цепью – ожерельем на шее и груди, с золотой сеткой на светлых волосах. Анна смотрела на неё, как зачарованная. Но не красота женщины её поразила – изображение было объёмным.
Матушка Ксения объяснила, что это не икона. В далёкой фряжской стороне принято изображать не только святых, но и обыкновенных людей.
– Только её обыкновенной никто не считает, – сказала она, – это едва не самая умная и образованная девушка на свете. Мы иногда с ней обмениваемся посланиями, через паломников, торговцев. Недавно она эту миниатюру прислала. Вот как надо писать, деточка, – и свет, и объём, и лицо совсем живое.
– Мне бы так! – вырвалось вдруг у Анны, вроде даже против её воли, и она испуганно замолчала.
– А ты попробуй, – улыбнулась матушка Ксения, – у меня не вышло.
– А это не грех – ведь не по канону? – оробела Анна.
– Так ведь не икону писать будешь.
– О чём это вы тут шепчетесь без меня? – лукаво спросила вошедшая Мария Ярославна. – И трапезовать не пригласили. Едва вас отыскала. Ты уж извини, сестрица, нашу сумасбродку – не сумела тебя принять как следует.
– Нет, Анна ни при чём. Это мне захотелось в девичьей детство своё вспомнить, – сказала матушка Ксения, расцеловавшись с хозяйкой. – Я Анне Зою Палеолог показала…
– Ну-ка, ну-ка! – с повышенным любопытством воскликнула Мария Ярославна, но Анне показалось, что образ прекрасной иноземки она уже видела. – Это Зоя, или Софья Фоминична Палеолог, племянница византийского императора Иоанна, за которым твоя тётка-тёзка была замужем, – пояснила Мария Ярославна Анне и взяла образ. – Красавица! Царевна. И по матери рода великого… – она запнулась, забыла чужие слова.
– Великого диксуса феррарийского Италийской страны, – подсказала матушка Ксения.
– Вот бы такую – начала Мария Ярославна мечтательно и осеклась, – такую – с тебя, Анычка, написать!
Но та поняла, что мать пожелала иного: «Вот такую бы жену Ивану», но не решилась об этом сказать. И ещё Анна подумала, как несправедливо быстро и легко уходит вслед за Марьей и память о ней. Неужели добро забывается быстрее, чем зло? Ещё и полгода не прошло после её смерти, а две близкие ей женщины уже думают о невесте для Ивана. И вдруг чувство неприязни – не к ним, а к незнакомой красавице в красном – поднялось в Анне, и она сказала презрительно:
– Как можно царевне быть такой толстухой!
– Откуда ты это знаешь? – изумилась матушка Ксения. – На образе этого не видно, однако Зоя и впрямь тучная, послы говорят…
– Красивая женщина должна быть толстой, – заявила Мария Ярославна и повела пышными плечами, – у толстых женщин морщин и после сорока нет, а худышкам ледащим в эти годы не только толстинки подкладывать под сарафан приходится, но и морщины замазывать. – Она засмеялась и коснулась своей щеки, на которой, несмотря на полноту, белил и румян было в избытке – московские женщины любили краситься и не знали меры, а княгини им в этом не уступали.
Разговор на этом иссяк, и матушка Ксения первая догадалась, как из него выбраться, – попросила показать крестника.
Раскрутили пёстрые свивальники, размотали красные пелёнки. Они оказались внутри мокрыми, и Мария Ярославна принялась отчитывать нянюшек. А матушка Ксения, не дожидаясь, когда их заменят сухими, низко склонилась над младенцем, с наслаждением вдохнула его запах и поцеловала в сморщенную влажную пяточку.
У Анны немного отлегло от сердца.
6
Первым, кто разделил с Анной её горе, стал суженый. Оказалось, он тоже любил Марью и знал не только по общим детским трапезам. И то, что он вспоминал о ней, было неизвестно Анне. Вспоминал, как водили дядьки-мамки старших княжеских детей в лес, и Марье везло на боровики. Но, увидев гриб, она не спешила упрятать его в лукошко, а кричала на весь лес: «Идите сюда – я гриб нашла! А вон – ещё, ещё!» Однажды на лесной поляне попался ей на глаза какой-то странный шар на палке – тут же поведала о находке, и все бросились к ней стремглав.
– Я боялся, что кто-нибудь из княжичей прежде меня ухватит диковинку, и с разбегу пнул её, – рассказывал Василий. – «Падайте, падайте! Осы!» – кричали бегущие за нами дядьки, мамки. Мы упали, но волдырей не миновали. У меня губу так разнесло, что до носа доставала, у Бориса шишка на лбу была с яйцо, у Андрея Большого глаз заплыл. Всем досталось. Марье – больше всех, но одна она не хныкала и не причитала и меня не корила.
– Что-то я не помню такого случая, – ревниво удивилась Анна.
– Да где тебе помнить, Лисонька, тебя да Андрея Меньшого из-за малолетства вашего мы с собой не брали.
– А ещё был случай, – засмеялся Василий, – повис я на заборе. Хотел улизнуть с подворья на Пожар. Марья помогла слезть и штаны починила, да так искусно, никто и не заметил, что порваны были, и про забор никому не сказала.
– А я ничего не могу вспомнить путного, – огорчилась Анна, – наверное, это потому, что вся моя жизнь была связана с нею.
– Вот-вот! Мне Иван тоже говорил. Он ведь меня к себе призывал, чтобы вспомнить Марью. О делах мы не говорили, да и нет их у нас общих.
– А матынька его женить уже собирается, – Анна рассказала о Зое Палеолог и её замечательном образе.
– А ты напиши Марью, – предложил Василий, – или я велю кому-нибудь из солотчинских иконников её написать – дивные там умельцы. Беда только, Марью едва ли видели. Так что ты пиши.
Великий князь рязанский Василий Иванович с малолетства пристрастился к охоте. Она поощрялась в семействе Василия Тёмного. Он считал, что охота лучше всяких воинских учений воспитывает силу, отвагу, ловкость. Такими качествами с детства его тёзка-рязанец превосходил младших московских княжичей и в поле и на ловле, вызывая у них зависть и ревность, а предусмотрительного Ивана заставлял задумываться – к добру ли это в будущем приведёт? Конечно, сила, ловкость и смелость зятю и сподвижнику не помешали бы, но не был уверен Иван, что Василий по своей воле станет под его знамёна.
Перебравшись в Переяславль и получив долгожданную свободу, Василий не захотел принимать участие в походах москвичей и занялся охотой. Отчаянная его храбрость изумляла приближённых, порождала легенды, которые доходили до Анны и тревожили её. Она места себе не находила во время длительных отлучек князя. Всякий раз мысленно готовилась его хоронить. Мнилось ей, что Василия разодрал медведь-шатун, затоптал разъяренный зубр, перегрызла горло стремительная коварная рысь. Не раз, чтобы себе спокойнее было, пыталась Анна разделить опасные походы мужа, но тот упорно отклонял её просьбы: считая, что негоже красивой юной женщине, да ещё великой княгине, рыскать по полям и лесным чащобам с грубыми мужиками и с гончими псами.
И всё-таки Анне удалось уговорить мужа взять её на далекую и, казалось ей, особенно опасную охоту. Она не знала, что за звери водятся в том, самом южном краю Рязанского княжества, но не исключала встречи и с неуловимым, мало кем виданным единорогом – зверем таинственным, а потому особенно страшным. Изображения единорога часто встречались на прялках и пряничных досках, но похвалиться, что поймал его или хотя бы видел сам, не мог ни один Анне знакомый охотник.
Василий говорил, что единороги давным-давно вымерли, на медведя или зубра жену вести не собирался, но сам проследил за её охотничьими сборами, за её снаряжением. Заставил при нём пострелять из лука, нашёл, что у жены твёрдая рука и верный глаз, однако похвалил не её, а покойную мамку – за науку.
Ехали же они во владения двоюродного деда Василия – Григория Ивановича. «Дядюшка», как называл его Василий, был человеком в княжестве уважаемым и влиятельным. Отец Василия не принимал важных решений, не посоветовавшись с ним, о чём не забывал упомянуть даже в документах: «Се яз, князь великий Иван Фёдорович, поговорив с дядею с Григорьем с Ивановичем, пожаловал…»
Григорий Иванович был младшим племянником Олега Рязанского, сыном его сестры Анастасии, которую великий князь выдал замуж за сподвижника своего, бывшего ордынского мурзу Салахмира. Перейдя на службу к рязанскому князю, Салахмир принял православие и стал Иваном Мирославовичем, в просторечье Мирославичем.
Великий князь очень ценил его за верную службу, пожаловал ему во владение несколько вотчин и в документах тоже подчёркивал его значительность: «поговоря с зятем своим с Иваном Мирославовичем».
Женившись и обосновавшись на южной засеке Рязанского княжества, в ордынском порубежье, Иван-Салахмир не спешил расстаться со своими прежними обычаями: вёл по-татарски дом, ел конину и пил кумыс, имел наложниц и не мог никак взять в толк, почему трёх, на худой конец, двух из них нельзя сделать младшими жёнами. Он прожил долгую жизнь и всегда отлично ладил и с теми, кому служил, и с теми, от кого их охранял.
Теперь на засеке вёл службу его сын, тучный, но очень ещё подвижный старик, добродушный и хлебосольный, удивлявший соседей и родственников своими частыми женитьбами. С его жёнами всё время что-то приключалось: то умирали, то убегали, то попадали в гаремы ордынцев. Дядюшку не особенно огорчала очередная утрата – он брал в жёны более молодую и красивую. При этом он не ставил в известность высокопоставленных рязанских родственников и церковнослужителей, и те делали вид, будто не знают, что допускаемое число женитьб для христиан, три, давно им превзойдено.
А вообще-то о родстве своём с княжеским домом Григорий Иванович никогда не забывал и не позволял никому этого делать. Но напоминал о себе не докучливым посещением княжеских покоев, а частыми и щедрыми дарами. В советах его Василий не нуждался, поскольку никаких важных решений не принимал, да и советов не терпел. От дядюшкиных же подарков не отказывался и даже ждал их. Были это в основном иноземные товары и лакомства (недалеко от дядюшкиного поместья проходил караванный путь с Юга на Москву). Но и доморощенные дядюшкины арбузы и дыни, обласканные южным солнцем, вскормленные южным чернозёмом степей, отличались прекрасным вкусом.
Не раз звал Григорий Иванович внучатого племянника к себе в гости, звал радушно и почтительно, но тому всё недосуг было. И вдруг тот откликнулся на приглашение, собрался в одночасье, хотя время для гостеваний выдалось самое неподходящее: неустоявшиеся осенние холода, первая пороша, ни на полозьях, ни на колёсах не одолеть просёлочных дорог и ехать сто пятьдесят вёрст. Анна пыталась отговорить мужа, предлагала подождать, но Василий был непреклонен:
– Дожидаться тепла дома сидючи – с тоски помрёшь! Холода у нас большую половину года отнимают. Боишься – сиди на печи. Но без меня!
Двинулись большим обозом. Опять была утомительная, тяжёлая для Анны (три дня верхом) дорога, неудобные ночёвки на постоялых дворах, студёные потёмки, обязанности жены и матери. Стараясь достойно исполнить их на людях, Анна невольно подражала матери, так же, как она, бесконечно сновала вдоль обоза – от князя, едущего во главе его, до тёплого возка, в котором везли трёхлетнего княжича Ивана, укутанного в меха, обложенного грелками. В княжеских семьях было принято брать в дальние поездки детей: время суровое – пусть лучше с родителями будут. Однако суровое время могло приготовить встречу на лесной или степной безлюдной дороге с разбойниками, с отрядом шальных ордынцев. Надеясь, что любое нападение княжеские стражники отразят, Анна всё-таки в глубине души осуждала Василия: из упрямства пустился в опасный путь, дичи разной и у Переяславля полно. Вепрей, к примеру, давно уже никто не бил – мясом брезговали, зубров да лосей только на кожи забивали. Лоси-двухлетки, оставленные матерями после рождения новых телят, в городские слободы по весне забегали, в колодцы, случалось, проваливались, на ограде повисали, спасаясь от собак, – добивай стар-мал. Так что охотились в лесах мещёрских на птицу боровую да благородную озёрную, на зайцев прытких, мясом сладких. Простые горожане силки на них ставили. Князь с ловчими птицами и псами гончими на них ходил, чтобы застоявшуюся кровь свою в скачке по полям разогнать. Предпочитал же он настоящие богатырские охоты – на медведя или зубра. Теперь же, от скуки видно, взбрело ему в голову на косуль поохотиться в дядюшкиной вотчине.
7
Терем дядюшки в селе Милославском поразил Анну своим великолепием: белокаменный, наличники и колонки крыльца хитрым резным узором изукрашены, в оконные рамы цветные стёкла вставлены, на солнце яхонтами горят. Возле крыльца какие-то кусты холстиной обмотаны («должно быть, – розы», – догадалась Анна), двор камнем мощён. «А терем у дядюшки лучше нашего», – неприязненно подумала она и тут же ревниво оглядела всё подворье. Скромный храм, уступающий в благолепии терему, между ними белые глинобитные, крытые соломой хатки, каждая огорожена своим частоколом, хотя все строения и находятся за крепостной стеной. Больше ничего она заметить не успела – к ним спешили встречающие: воины, женщины, ребятишки, все татарского обличья, все в татарской одежде. Впереди – тучные, важные старик и старуха. С ними девочка (внучка?), нарядная, словно куколка, хорошенькая, на Марьюшку похожая. Все глядят, улыбаются – радуются.
Поддавшись этому настроению общей радости, Анна хотела самостоятельно соскочить с коня, броситься навстречу родственникам, но дядюшка опередил – снял с большой почтительностью, руку поцеловал и, величая великой княгиней, представил ей сперва хорошенькую, робкую на вид девочку, которая оказалась его женой, и важную старуху – старшую дочь. Обе потискали Анну в объятиях. Потом девочка властно и толково принялась отдавать распоряжения. В результате их княжич Иван с няньками и мамкой оказался в одном белом домике, Анна – в другом, где помещалась и сама хозяйка. Домик, хатка, состоял из двух горниц. В передней располагалась прислуга княгини, в задней находилась её постоянная опочивальня. Анна удивилась, что нет в этой горнице ложа, а для сидения употребляются разбросанные по ковру толстые подушки. К трапезе служанки внесли в опочивальню низенький стол.
– Зови меня Ульяной, – предложила княгиня Милославская, в знак почтения сама поливая Анне на руки. – Ну какая я тебе тётушка, тем более бабушка. – Она засмеялась – у неё был приятный смех. – Чай, сверстницы мы.
– И ты меня великой княгиней не величай, – отозвалась Анна, принимая от хозяйки расшитый рушник. Новая родственница ей понравилась, и эту трапезу вдвоём она посчитала желанием Ульяны сблизиться с гостьей, побыть с нею наедине. «Наверное, ей, как и мне, хочется обрести подругу. Милая какая, и имя такое хорошее – Ульяна, Иулиания. Жаль, что живёт далеко, часто видеться не удастся». Но оказалось, их уединение вызвано вовсе не Ульяниным желанием. Не успели они устроиться за столом, как Ульяна заговорила с досадой:
– Пируют князья без нас в терему. Испугались, что тайны их узнаем, разнесём по белому свету. А тайны эти и так сверху лежат. Дураку разве что не ясно, – собрались удельные князья с великим князем на большой съезд.
– А Василий сказал – на охоту, на этих, на косуль…
– Какие косули! – перебила Ульяна. – Решить они должны подальше от московских соглядатаев, как впредь жить. Как с силами собраться, чтобы прожор этот и нас не проглотил.
– Прожор? Какой прожор?
– Ой! – смутилась Ульяна. – Прости меня за слово грубое. Совсем забыла, что ты сестра Ивана Васильевича Московского. Это братец твой родной затевает прибрать к рукам наше княжество, как уже сделал это с иными соседями.
– Не будет этого! – запальчиво возразила Анна. – Не посмеет! – Ульяна, недоверчиво улыбаясь, покачала головой, и менее уверенно Анна добавила: – Он матушке обещал. – И тут же поняла, как это смешно, по-детски беспомощно звучит.
– Обещал! Верь мужским обещаниям! Тебя же обманул Василий: про съезд не сказал и на княжеский пир позвать не велел. Значит, не просто пир это, не пир, а сговор!
– Да кто ты такая, чтобы о государственных делах толковать! – вспылила Анна. – Девчонка! Откуда тебе всё это известно? Значит, и дядюшке верить нельзя. На охоту он звал! А сам, говоришь, съезд собрал. За спиной у великого князя! А вдруг он его извести задумал? Почему и разделили вы нас по разным лачугам. А-а! Где мой мальчик? Что с ним?
Анна оттолкнула стол. Что-то с него упало, что-то плеснулось на дорогой ковер.
– Сейчас стражу нашу кликну! В железа – вас!
– Виновата! Прости, великая княгиня! – Ульяна рухнула на мокрый ковёр. – Подслушала, когда Григорий Иванович уговаривал Владимира присоединить Пронское княжество к Рязанскому. Об опасности московской говорил. И ещё – если Владимир откажется, то он, Григорий Иванович то есть, к царю, к хану Ахмату обратится за помощью.
Анна остановилась у дверей, не зная, что предпринять. В комнате служанок стояла подозрительная тишина, будто все её покинули или затаились в ожидании условного знака.
– Клянусь тебе, против Василия они ничего не замышляют. Владимир согласился пристать к Рязанскому княжеству. Одного его москвичи, как курёнка, придушат. Не выдавай меня брату и мужу.
– Брату?
– Ну да! Владимир – брат мой единокровный.
«Так, значит, я не ошиблась, и среди встречающих был князь Пронский. Это он поклонился низко-низко. У сестры такой же, как у него взгляд, грустный и ласковый. Хотя, конечно, она змеёныш».
Ульяна молчала и смотрела печально и нежно, ожидала, как поступит великая княгиня, а та сказала беспечно, словно и не было тягостного разговора:
– Извини, запамятовала – никак не разберусь с рязанской роднёй, – и шутливо добавила: – К столу-то чего не зовёшь, бабушка? Есть хочется.
– Голод – не тётка! – обрадовалась Ульяна и хлопнула в ладоши – тут же в горнице возникли нарядные красивые девушки. Анна отметила, что от московских и от переяславльских красавиц они отличаются отсутствием белил на загорелых лицах и обилием красного в нарядах.
Девушки быстро всё прибрали, и тут только Анна увидела, что неказистая снаружи хатка роскошно убрана внутри. Коврам, сплошь завешивающим стены, позавидовала бы и Мария Ярославна, подивилась бы парчовой ткани на подушках, да и серебряная посуда на столе не оставила бы её равнодушной. «Вот тебе и захолустное поместье на засеке, вот тебе разбойные набеги татар, – думала она. – Откуда у дядюшки такое богатство? Может быть, частые женитьбы пополняют казну – не бесприданниц берёт? Небось и эту девчонку взял не в одной рубашке. А дочку выдать не смог, или она овдовела?»
– А почему это, бабушка, падчерица твоя с нами не трапезничает?
– Апфия с князьями беседует. Она во всех советах Григория Ивановича участвует. А меня они по малолетству моему до своих важных дел не допускают.
– Значит, не по знатности, не по уму допускают? – перебила Анна. – Выходит, и меня, великую княгиню, мать наследника Рязанского престола, малолеткой посчитали?
Ульяна только виновато улыбнулась в ответ и продолжала, желая поскорее высказать сверстнице свою обиду:
– А мне в малолетках до седых волос ходить: Григорий Иванович почти на пятьдесят лет меня старше, а дочери своей всего на пятнадцать. И будут они вместе управлять многие годы, – она вздохнула, – в их роду долго живут. Тебе повезло, что муж молодой…
– Молодой, немолодой – я смогла бы за себя постоять, – возразила Анна надменно, – Василий ещё пожалеет… – и не договорила, поняла, что, признавая свою обиду перед этой несчастной девчонкой, ещё больше её унизит. – Да нам же несказанно повезло, что мы здесь с тобой одни и не надо притворяться важными и мудрыми.
Анна обняла княгиню, та с детской искренностью прижалась к ней и поцеловала. И Анне вдруг почудилось, что целует не она, а… вот наваждение, соблазн, глупость… – и резко отстранилась.
– Прости, – испуганно пролепетала Ульяна, – я ведь от души, – и посмотрела на Анну синими ласковыми глазами князя Пронского.
– Это ты меня прости, Уля, не хотела тебя обидеть, боже упаси. Просто мне показалось… Да нет… Просто – я не ласкова. Не надо дуться! Выпьем за дружбу. Твоё здоровье, сестричка!
В кубках был кумыс. Он нежно пощекотал в носу и горле и в отличие от мёда ударил не в ноги, а в голову. Обеим стало весело, обида угасла.
– Девок позвать? – предложила хозяйка. – Пусть споют, попляшут. Вон мужики уже голосят.
В увешанную, устланную коврами горницу звуки едва проникали. Анна уловила только какой-то отдалённый, на низких нотах гул, который не показался ей пением, но Ульяна настаивала:
– Ладно поют. Это Григорий Иванович соловьём разливается – дискант у него. – И было неясно, шутит она или хвалит всерьёз.
Пришли девки. Зазвенели колокольцами на бубнах, завихрились в танце. Княгини не выдержали и сами пустились в пляс, забыв о своём высоком положении, мужьях и детях. О детях, правда, они всё-таки поговорили перед сном. Однако прежде чем похвалиться первыми зубками своей семимесячной дочки, Ульяна вспомнила о редкостном дорогом подарке мужа. Анна ожидала увидеть ларец с украшениями или сундук с иноземными тканями, а внесли маленькое лукошко. Из него, потянувшись, выгнув спинку, выскочил резвый зверёныш. Раскрыл розовую пасть и – мяукнул.
– Котёнок! – захлопала Анна в ладоши. Котят ей приходилось видеть только в Москве, в пору детства. Котёнок покрутился у лукошка и вдруг прыгнул ей на плечо, с нахальным проворством принялся теребить волосы.
– Вот это удалец! Да больно же, больно!
– Григорий Иванович заплатил за него щедро. Больше, чем за породистого коня, – говорила Ульяна, осторожно оторвав котёнка от гостьи и баюкая его, как ребёнка, – персиянин. Очень редкий. Надо бы кошечку приобрести ему в пару, да денег сейчас нет.
Котёнок, извернувшись, – укусил хозяйку за палец. Она взвизгнула, котёнок хватил её и ещё когтистой лапой. Стряхнув его на пол, Ульяна приказала унести котёнка – и стала рассказывать, как начала кусать её за грудь дочь, когда появились зубки, как пришлось поэтому приставить к ней кормилицу, и дочь не огорчила замена, скорее даже порадовала, отрываясь от груди чужой бабы, она всякий раз плутовато улыбалась матери.
– Я слезами обливалась, видя это. Вот тогда-то Григорий Иванович и подарил мне котёнка. А он тоже кусается. – Она всхлипнула.
– Какая же ты ещё маленькая, – ласково сказала Анна, – дядюшка, верно, тебя очень любит.
– Ему наследник нужен. Да и друг он Владимира. А я что? Слабенькая ниточка в прочной основе. – И, думая, что Анна не поняла сравнения, пояснила: – В прочной основе их давнишней дружбы.
– А ты любишь ли Григория Ивановича?
– Люблю? – Ульяна засмеялась. – Знаешь, что сказал мне Владимир, когда велел идти замуж? «О любви только сенные девки помышляют».
– Он что же, не любит княгиню?
– Она очень больна, – ответила Ульяна уклончиво, – изурочили, верно. Да что о любви зря толковать – не сенные девки, чай. Спать пора. Вон уже в тереме замолкли.
Анна прислушалась – за стенами хатки выл ветер, и будто погромыхивало.
– Гроза вроде собирается.
– В непогоду хорошо спится, – сказала Ульяна и позвала служанок.
Те быстро соорудили на полу всё на тех же подушках постели. Княгини улеглись. Некоторое время в горнице было тихо.
Анну поразило, что Ульяна так быстро заснула – с Марьюшкой они бы проговорили до рассвета. И, словно прочитав её мысли, та сказала:
– Я не сплю и думаю о нашем разговоре. Ты знаешь, лет сто назад, может, чуть больше, жила в этих местах простая женщина, жена дьякона Берёзовской церкви. Берёзово – это село такое, ничем тогда не примечательное. Во время одного из татарских набегов попала эта женщина в плен. Красивой была, а может, умной, чем-то отличалась от других пленниц, наложниц и жён хана Джанибека, и взял он её себе в жёны. Полюбил то есть. Ханы могут жениться по любви. Это наши князья женятся по государственной нужде. – Ульяна засмеялась.
«Василий женился на мне по любви», – хотела сказать Анна, но не стала огорчать хозяйку и вдруг вспомнила, как говорила мамка, что рязанская родня Василия намеревалась женить его на княжне Пронской – Ульяне. «Так эта девочка могла стать его женой, – подумала она без ревности, – и ему – не мне рассказывать под вой ветра хорошо всем известную историю ханши Тайдулы». Она больше не слушала Ульяну, а та говорила, может быть, не столько ей, сколько себе:
– Джанибек любил её до конца жизни. И когда она лишилась зрения, послал за митрополитом Алексием. И он исцелил ханшу. Да, он любил эту русскую женщину и не принуждал её изменить веру, она осталась христианкой и пеклась о православных церквах. Ты спишь, Анна?
Анна не ответила, но она не спала, тоже думала о Тайдуле. Но не о любви к ней хана. Размышляла, какими качествами должна была обладать простая женщина-селянка, чтобы стать его соправительницей. Одной красотой этого не достигнешь. Думала ещё, что татарские правители, держа своих жён в гаремах, откуда те не имеют будто бы права свободно выходить и никого там не принимают, тем не менее не лишают их власти, и Тайдула – не исключение. Вон ведь ещё у Батыя послом была женщина. Какого роду-племени, летописцы не упомянули, но женщина! Впрочем, думала, её бабку Софью и мать тоже не обделили властью. Не были они теремными затворницами при мужьях, не стали и при взрослых сыновьях.
«А вот суженый, кажется, намеревается держать меня в опочивальне и выпускать только на скотный двор. Обманул, посулил охоту, потащил за сто с лишним вёрст киселя хлебать, бросил одну. А ведь не случайно он меня бросил и взял – на смену обиде пришло подозрение. Хотел половчее Ивана предать. Отблагодарил за хлеб-соль нашу. Хлеб-соль… А ради чего его кормили, ради чего привечали? Сироту пожалели, меня великой княгиней видеть мечтали (могла бы и королевной стать) или княжество большое, могучее, завидное прибрать к рукам хотели? Да, вместе со мною, смирить мою гордыню, строптивость», – мысли путались, исключали одна другую.
Представился вдруг Иван, не домашний, не тот, что послушным сыном входил к матери, а облачённый в парадные одежды, прямой, важный, отчуждённый. Так ли уж он любит сестру, чтобы поступиться ради неё своими интересами? Вспомнилось, как отец наставлял его воспитать из рязанского приёмыша преданного пса. Воспитать послушного, безгласного слугу, обобрать до нитки, а её сделать княгиней нищего княжества, одной из своих вотчин?
Нет, братец дорогой, старший, ничего у тебя не выйдет!
А ведь какую силу набрал, – уже на русских невест и смотреть не желает, на византийскую царевну позарился. И уверен, что никто противостоять ему не будет. А рязанские мужики тем временем, как пальцы десницы, собираются в кулак перед ударом.
Анна вдруг увидела этот исполинский кулак: большой палец – дядюшка, средний – князь Пронский, безымянный – суженый. «А указательный, кто?»
– Указательный ты, Анна, – услышала она голос и сразу поняла, чей он, хотя прежде никогда его не слыхала. Синие огромные глаза, во всё красивое мужественное лицо, нет, больше – во всю горницу, полыхнули нестерпимым огнём, засияли, разогнав тьму.
И, противясь этому чуду, Анна воскликнула:
– Я же не сплю! – И спросила сияние: – А как же Юрий? Я не могу предать его.
– Его нельзя предать, – ответило сияние, затухая, – ты сделала правильный выбор.
– Я ничего не выбрала, – прошептала она в темноту.
– Ты сделала правильный выбор, Лисонька, – произнёс Юрий одобрительно и негромко, будто бы рядом. – Иван беспощаден и к своим близким.
Анна вдруг увидела Юрия где-то за пределами хатки, на высоком холме (крепостном валу?), маленького-маленького, и он всё уменьшался, пока совсем не исчез.
«Куда же ты, подожди!» – но крикнуть она не смогла, голос пропал.
За стенами хатки бушевала последняя осенняя гроза. Лил дождь, сменялся снегом. К утру подморозило. Схватились ледяной коркой поля у подножия крепости. Анне не хотелось выходить из жарко натопленной горницы, из её мягкого уюта. Однако нежданно протрубили охотничий сбор, и дядюшка сам пригласил молодых княгинь в поле.
– Хороший хозяин собаку в такую пору из дому не выгонит, а уж сам и подавно не пойдёт, – ворчала Ульяна, собираясь.
А Григорий Иванович уверял, что лучшей погоды для охоты на косуль и ждать нельзя – без выстрелов сами будут к ногам охотников падать. Следует только выгнать их из перелесков на поле.
На лошадях кое-как выбрались за околицу. Василий ехал рядом с Анной, но ни слова не сказал ей о княжеском соборе. Шутил, болтал о пустяках и, как о пустяке, сообщил, что его чуть было не женили на Ульяне Пронской, хорошо дядюшка вовремя на помощь пришёл.
– Может, правильнее сказать – дорогу перешёл?
– Как знать, жёнушка, как знать! – засмеялся Василий. – Тогда остановило то, что княжна все ещё в куклы играла. Она ведь моложе тебя?
– Значит, тогда её возраст был недостатком, а теперь, я смотрю, он превратился в одно из достоинств Ульяны? – В вопросе Анны не уловил князь ни ревности, ни интереса и, оставляя его без ответа, сказал:
– Мудрец дядюшка, большой мудрец. Только мудрость его всем во вред.
Некоторое время ехали молча. Анна разглядывала князя Пронского, статный, широкоплечий, основательный. Лицо некрасивое, но привлекательное. Глаза так и полыхают синевой – то ли грозовое, то ли лунное сияние. Он остановился, пропуская князей рязанских вперёд, поклонился радушно. Не мальчик! И как похож на Юрия. Таким станет Юрий лет в сорок. А суженый? А суженый…
– Как жаль, что непогода, – сказал Василий, – а то Ванятку можно было бы взять. Постоял бы с тобою в дозоре. Дело не хитрое – стой с луком и жди, пока загонщики и собаки выгонят на тебя лань. Тебе бы с ним не так скучно было стоять.
«Вот это позаботился! Уравнял с сыном, с младенцем! А что будет позднее?» – Анна огрела лошадь, и та, рванув, едва не упала.
– Чрезмерная лихость к добру не приводит, – пожурил дядюшка (Анна подскакала к нему) и утешил: – К полудню всё растает – вот тогда и дашь коню волю.
Вскоре остановились, спешились. Начали расходиться по уготованным местам. Анна предполагала, что окажется рядом с Ульяной. Но дядюшка для пользы дела развёл их. Анну поставил в зарослях бурьяна, скрывающего её с головой, Ульяну – у развалившегося овина, князей и прочих, собравшихся на съезд, довёл к перелеску, следом за ними двинулись лучники, ловцы и гончие, ошалевшие от морозного воздуха, предвкушения свободы и гона. Собаки поволокли на сворах псарей, и не каждый из этих дюжих мужиков смог удержаться на ногах.
Прошло совсем немного времени, как Анна заняла свой пост, а ей уже было скучно и неуютно возле засохшего куста пижмы. Попробовала развлечься, оглядывая окрестности, но ничего интересного не увидела: ржавая подковка перелеска – справа, покосившийся овин с развалившейся копной соломы – слева. За копной хоронилась Ульяна. Однако это занятие ей тоже надоело: то и дело в развале соломы мелькала её высокая лисья шапка. Впереди, до самого края, простиралось поле в короткой щетине какого-то жнивья. Холодало. Вопреки ожиданиям дядюшки, солнце не показывалось.
Но и любой, самый прекрасный, вид и чудесная погода не принесли бы теперь Анне радости – она не могла не думать о предательстве Василия, о своём унижении, к тому же ноги у неё начали мерзнуть. Захотелось немедленно бросить глупое стояние, уйти хотя бы к лошадям или к овину, развести там костёр – обогреться и собраться с мыслями, глядя на его пламя.
Но вдалеке, то ли в перелеске, то ли за ним, залаяли собаки, раздались голоса. Анне показалось, что она различает возбуждённый крик Василия: «Анна, Анна!» – и тут же усомнилась в этом: зачем было звать её, куда? Она не сообразила, что надо делать, когда на опушке появились две косули. Не чуя приближающейся охоты, они двигались совершенно спокойно вдоль зарослей кустарника, пощипывали какую-то сухую траву. Потом одна, матка, остановилась и начала рыть копытом землю. Ушедший несколько вперёд телёнок тоже перестал рвать траву и наблюдал за матерью, не пытаясь, однако, к ней приблизиться. А она вдруг подняла голову, прислушалась – и вмиг животные исчезли, словно их и не было. Анна не успела прицелиться.
Спугнул косуль не лай собак, не крики охотников, а отчаянные вопли каких-то птиц. Огромные, неуклюжие, они бежали по полю. Спотыкались, падали и как-то неловко, неумело пытались махать тяжёлыми крыльями. Анна решила, что эти странные великаны (некоторые чуть ли не в аршин ростом – не гуси, не лебеди) спасаются от какой-то беды, и вместо того, чтобы бить их без промаха, выскочила им на встречу, замахала руками, закричала:
– Кыш, кыш!
Птицы не свернули, не испугались, а приветственно запищали, окружили, словно птенцы нашедшие мать, словно цыплята, дождавшиеся птичницу. Беда уже настигла птиц, и они мчались к людям, к своим всегдашним врагам, заслышав охоту, за спасением. Тела птиц покрылись ледяным панцирем, и крылья не двигались. От долгого бега по стерне в своём ужасном наряде многие из них настолько обессилели, что, остановившись, упали.
Анна не знала, что делать, как помочь неизвестным красавцам. Птицы были коричнево-жёлтые, с частыми чёрными крапинками, с маленькими головками на высоких шеях. Эти пришельцы окружали её всё теснее и теснее, будто брали в плен, и пищали всё жалобнее, всё нетерпеливее. Она затрубила в рог. Тут же отозвалась Ульяна, и дважды протрубили из перелеска. И, уверовав в скорую поддержку, Анна попыталась погнать птиц к овину. Они не противились, послушно заковыляли, выстраиваясь косяком, как домашние гуси.
– Вот это добыча! – кричала Ульяна. Она бежала навстречу необычному стаду, волоча по стерне лук. – Какие дрофы жирные, да как много – больше сорока. Утрём нос охотникам!
Вдвоём княгини загнали дроф в овин, набросали соломы, а потом не без опаски развели на земляном полу костёр. Птицы столпились невдалеке, но подходить к огню не решались.
– Боятся на вертел попасть, – пошутила Ульяна. – Ох, и вкусны эти пташки жареными. Особенно если в квасе вначале вымочить.
Она облизнулась, будто уже откусила от румяного крылышка, и легла на солому. Анна села рядом.
– Вот подвалила удача! – Ульяна оглядывала птиц. – Что делать с ними будем? Сразу под нож или подкормим немного? Вы ведь ещё побудете у нас?
– Я их отпущу! – отрезала Анна. – Отогреются, подсохнут – и отпущу.
– Ну и княгини – настоящие поленицы!
Овин заполнился возбуждёнными охотниками. При их появлении дрофы испуганно сбились в углу, тревожно заклекотали.
– Мы наперегонки с гончими рыскаем, а княгиням дичь сама в руки идёт, на вертел просится, – радовался дядюшка. – Эй, Гринька, хватай ту, что пожирней, сейчас и отведаем! – И костёр разжигать не надо!
– Остановись! – удержала рынду Анна. – Я, великая княгиня Рязанская, отпускаю этих птиц на волю!
– Зачем так торжественно, Аннушка? – засмеялся Василий. Это же не пленные воины, а всего лишь дрофы. Да и принадлежат они дядюшке, поскольку на его лугах водятся.
– Я заплачу! Сколько угодно заплачу. Но они должны быть на свободе. Они мне доверились, – Анна едва сдерживала слёзы.
Дядюшка улыбался, наслаждаясь замешательством юной княгини, своим над нею превосходством. Василия выходка жены смутила: так распалилась при народе из-за дичи, когда дичь для того и создана, чтобы выслеживать её и бить.
– Не надо ничего платить! – вмешался Владимир Пронский и прошёл от дверей к соломе, на которой все ещё сидели княгини. – Дрофы не принадлежат Григорию Ивановичу. Сейчас они собственность княгини, она их поймала. А прежде были ничьи, поскольку водятся на спорных землях. Да и права княгиня, грех был бы их погубить.
– Я пошутил, Анна, – сказал дядюшка. – Настоящий охотник никогда не нарушит заповеди – не бить птицы и зверя, когда они ищут у него защиты. Так что им повезло. Пусть тут обсохнут, покормятся и отправляются восвояси. – Ты за ними присмотришь, – приказал он одному из охотников, – и чтобы ни перышка с них не упало! А нам придётся косулями довольствоваться, – Григорий Иванович подал руку жене. – Ну чего губы надула – лакомый кусочек мимо пролетел?
– Жалостливые какие, – отозвалась Ульяна, нехотя поднимаясь, – и кто только заповедь такую выдумал?
Владимир помог подняться Анне. Рука у него была горячей и крепкой, Анне не хотелось её отпускать. Но путь до околицы она прошла, всё-таки опираясь на руку мужа. И на этом, не таком уж длинном пути она завела речь о спорных землях, о том, почему они пустуют. Василий ничего толком сказать не мог, пришлось обращаться к дядюшке. Он объяснил, что существует договор между Московией и Рязанией – не занимать пограничных земель. Его неукоснительно соблюдают и те и другие – и не то что поселений на этих землях не ставят, но даже сено не косят, рыбу в озёрах не ловят, птицу и зверьё всякое, расплодившееся там во множестве, не бьют.
– Но это же непозволительное расточительство, – возмутилась Анна, так возмущалась её мать, когда случалось ей увидеть на полу корку хлеба. – Надо поменять соглашение, поделить землю.
– Поздно! – раздражённо воскликнул Василий и остановился на раскисающей дороге. – Как вы все понять не можете, что не сегодня завтра всё здесь будет принадлежать Москве. Любые наши усилия остановить это тщетны! Мы – младшие братья князей Московских ещё со времён прадеда Олега. Он это признал. И не вам всем он был чета! Младшие – значит, холопы! Стражи на восточных окраинах княжества Московского.
– Мы – независимое княжество, – запальчиво возразил дядюшка. – Мы ещё можем постоять за себя. Да! У нас храбрые, хорошо вооружённые воины и полные закрома.
– Э, дядюшка! Иван сомнёт нас, как только захочет. Удивляюсь, почему он медлит. Противостоять ему сейчас может только хан. Но и ему недолго осталось – вот породнится Иван… Так что занимайтесь лучше охотой. На своих угодьях. Пока они ещё ваши. – Василий засмеялся. Анна впервые заметила, что смех безобразит его.
– Ты шутишь? Ты дразнишь нас! – произнесла она миролюбиво.
– Нет, Аннушка. Неудачно тебе мужа выбрали. И изменить это уже поздно. Поздно! – выкрикнул Василий и вдруг побежал по оплывающей дороге. Спутники не останавливали его и не пытались догнать.
«Поздно! Поздно! – разносило эхо окрест, многократно усиливая звук. Казалось, он нёсся от самого поднебесья: – Поздно!»
Василий вскочил на коня. Конь как-то неуверенно сделал несколько шагов и – вдруг рухнул, подминая всадника.
– Измена! – завопила Анна и побежала первая. За ней – Ульяна, повторяя на бегу: «Жив он, даст бог, жив». От околицы уже тоже бежали какие-то люди. Они-то и вытащили князя. Открыв глаза, он сказал:
– Жаль Соколика – ногу сломал, – и, увидев Анну, попросил: – Пошли за Айвиной.
– За кем? – не поняла она.
– За Еввулой – скорее!
– Но она же в Переяславле.
– Я здесь! – раздалось из толпы, и люди начали расступаться, пропуская простоволосую – на голове только обруч из соломы, – по-летнему одетую и босоногую девушку.
– Еввула? – Анна бросилась к ней, хотела обнять, как единственно близкого ей человека в этой беде, но Еввула резко отстранилась:
– Не прикасайся! – От неё полыхало жаром.
– Откуда ты? – шарахнувшись, воскликнула Анна.
– Отойди подальше и уведи людей! – приказала Еввула.
Анна повиновалась. Уводить ей никого не пришлось – все сами с ужасом попятились, но расходиться, уходить не стали. Рядом с Анной оказались Ульяна и Владимир и, не сговариваясь, одновременно протянули ей руки. Одна рука просила защиты, другая – предлагала опору. Анна приняла обе.
Еввула склонилась над князем, заслонила его от толпы, согнулась в три погибели. Видна была только её худая спина, обтянутая небелёным холстом рубахи, от неё парило, как от каменки.
– Несите лубки, холстину и воду, – сказала она негромко, ни к кому не обращаясь, так, что каждый решил, что это приказ для него. Толпа колыхнулась в сторону Милославского. Анна вдруг почувствовала, что её больше не держат, и тоже рванулась бежать.
– Я к знахарям обращаюсь, – все так же негромко пояснила Еввула. И тихий голос её, приобретший поразительную строгость, остановил даже вырвавшихся в беге вперёд.
«Почему к знахарям? Есть ли они тут?» – мелькнуло у Анны. Но от толпы уже отделялись трое – два мужика и баба, все по виду татары.
«Знахари – татары! Как можно им доверяться? Беспечный человек дядюшка. А ему, ему можно доверяться? Не подстроил ли он падение? Целы ли подпруги? Цел ли Ванечка?!» – Анне показалось, что её разрывают надвое. Одно невидимое, но очень сильное, тянет к суженому, другое, не уступающее ему – к сыну.
– Ванечка! – Она врезалась в толпу.
– Остановись! – слабо воскликнула Еввула. Она поднялась и отступила от князя. У неё было бледное, странно постаревшее вдруг лицо, и по нему струился пот.
– Принесли лубки? – Говорила она с трудом и стояла как старуха, перенесшая паралич. Но знахари с лубками и князь Пронский с холстом и ведром воды не решались подойти.
– Не бойтесь – я оставила проход. – Еввула резанула воздух ребром ладони, показывая направление. – Идите. И ты, Анна, тоже.
Анна стремительно приблизилась к Еввуле – и почувствовала леденящий холод, и следовавшие за ней – тоже.
– Я отдала ему всё тепло. И теперь не могу… Привяжите лубки. У него обе ноги сломаны. Я всё сложила… – она говорила всё медленнее и медленнее, словно затухала. – Привяжут лубки, поцелуй его, Анна. Он очнётся. – Она протянула вперёд руки, как слепая, опасающаяся наткнуться на препятствие. Знахари осторожно обошли её и засуетились возле князя. Анна опять разрывалась, но чувствовала, что сила, удерживающая её у Еввулы, сильнее, однако не знала, как ей помочь, а та словно окаменела: молчала и не двигалась.
– Доченька моя, что с тобой? – Намереваясь обнять её и приголубить, Анна сделала только шаг – и наткнулась будто на невидимую стену.
– Жгите костры, – прошептала Еввула по ту сторону стены и вдруг рухнула на землю. Около неё сразу образовалась на земле ледяная корочка. – Я заняла у всех тепло. Тебя не тронула, Анна. Жгите.
– Что вы медлите! Жгите! – закричал Владимир и бросился к толпе.
Анна заменила его подле князя. Знахари заканчивали пеленать ему ноги. Вместо нарядных сапог были теперь безобразные кули. «Бедный мой, власти лишился, а теперь ещё и охромеет…» – Анна упала на колени, плача, как простая баба, и целуя князя на глазах у знахарей, на глазах татар, в лоб, щёки, уста. Он вдруг вздрогнул, поднял руку, то ли отстраняя Анну, то ли защищаясь от её поцелуев, посмотрел на неё недоуменно, будто не ожидал её тут увидеть, и сказал недовольно:
– Мне такой чудный сон снился, а ты разбудила – и я всё забыл…
– Очнулся! – закричала Анна.
– Очнулся? – изумился князь и тут же, вспомнив случившееся, встревожился: – А где же Еввула?
Анна оглянулась – Еввула лежала на том же месте, но рядом с ней пылал костёр, и она была укрыта полушубком.
– Что с ней? Умерла? – князь рванулся, намереваясь подняться. Знахари удержали и, взяв за концы подложенное под него полотно, понесли к повозке, до неё было всего несколько шагов, но дорога всё ещё оставалась скользкой. Анна, опасаясь, что знахари уронят князя, уцепилась за край полотна у его изголовья, сбивалась с шага и только мешала нести. Толпа двинулась следом.
– Что с Еввулой? – беспокоился князь. – На земле лежит, захворает.
– Туда ей и дорога, ведьме! – сказал кто-то за спиной у Анны, громко, дерзко. Ей показалось, что говорил не один человек – таким уверенным и мощным был голос. Она стремительно повернулась, выпустила носилки и остановилась перед толпой, распростёрши руки. Люди продолжали двигаться: одни не в силах сразу остановиться, другие, задние, не понимая, что случилось. На неё смотрели, как на хлипкое препятствие, которое ничего не стоит снести. Анна отступила – и почувствовала, что за спиной у неё свободное пространство, опереться не на кого, а из-под ног уходит земля.
– Запрещаю! Слышите? Запрещаю! – Она врезалась в толпу, рассекла её на два рукава и, перехватив испуганно-удивленные взгляды, продолжала кричать: – Запрещаю говорить так! Думать так запрещаю! Еввула спасла великого князя и достойна великой награды. – Анна кричала и продвигалась через толпу к обочине, отталкиваясь руками от людей, как отталкивалась бы в чаще от преградивших путь стволов. Она впервые касалась чужих тел, касалась напористо, грубо и не воспринимала их телами, чувствовала только в их неподвижности враждебное сопротивление и боялась не преодолеть его, боялась, что людская чаща сомкнётся и не выпустит, сомнёт, задавит. От страха, от желания поскореё выбраться Анна забыла, почему оказалась в толпе, почему разредила её, но увеличила её враждебность, уменьшила свою значительность и власть.
– Анна, что с князем? – Голос Владимира Пронского вернул её к действительности. Она стояла на дороге, уже оторвавшись от толпы на десяток шагов. Навстречу ей осторожно шёл Владимир, без шапки и полушубка, с закутанной Еввулой на руках. «Прошёл через кольцо отчуждения или Еввула сняла его?» – подумала Анна и тут же услышала тот же мощный, возмущенный крик:
– Своего спасла ведьма – нашего погубила! Григория Ивановича!
Погубила! Но как и когда? Его не было в толпе, и Ульяна исчезла. Где же они? Почему оставила её в беде, почему оставили Василия? И впрямь хотят его гибели?
Князя Милославского несли от омшаника на полотне. И рядом с несущими, так же, как Анна, сбивая им шаг и мешая, шла Ульяна. Анна и Владимир со своей ношей одновременно оказались у носилок. Григорий Иванович был без сознания.
– Он упал и разбился, – сказала Ульяна. – Это всё птицы. Это птицы виноваты. И кто их только наслал на беду нам? – Она зло поглядела на Еввулу.
– Нет, – возразила Еввула едва слышно и невнятно, как спросонок, – ему кровь бросилась в голову, когда упал Василий. Он любил его, как сына.
– Почему любил? Он ведь жив! Он будет жить? Ты спасёшь его, Еввула? – говорила Анна. – Возьми у меня силы. Он должен жить!
– Не могу, – прошептала Еввула. – У него там всё в крови. Она загустела. Он не проживёт и часа.
Подошли повозки. На одну положили Григория Ивановича, рядом примостилась Ульяна, на другую сел князь Пронский, подле Еввулы. Анна перехватила его коня и ускакала догонять телегу, вёзшую Василия.
Скорбный, странный обоз вошёл в Милославку. Скорбные обозы были милославцам не в диковинку, но они доставляли раненых с поля боя или убитых в сражениях с татарами, с отрядами разбойников. Случались несчастья и на охотах, но не князья тогда лежали бесчувственными на повозках и не скакали княгини во весь опор, да ещё и без провожатых. Не было прежде и такого, чтобы с почестями везли знахарок, стерегли и не пускали под нож прибившихся к селению диких птиц, переводили на них без пользы зерно. Впрочем, лакомиться даром дрофам долго не пришлось – вечером их изгнали из омшаника. Говорили потом в Милославском, что в тот же час отлетела и душа князя Григория, и благодарили силы небесные, что не отведали мяса птиц. Никто не сомневался, что птицы эти накликали беду и что не дрофами они были, а нечистью.
По обычаю того времени Григория Ивановича похоронили на следующий день после смерти. Подданные искренне оплакивали его. Несколько поколений милославцев выросло при нём и не знало иной власти, чем его. А жилось им неплохо, так что никто и не помышлял о новом князе – свой казался лучше прочих, чужих. Смерть Григория Ивановича сулила большие перемены, и рассчитывать на то, что они будут к лучшему, милославцы никак не могли: прямая наследница была мала, Ульяна умом и самостоятельностью не отличалась, да и жизненного опыта ей, пятнадцатилетней, не хватало. Незамужняя дочь князя к своим шестидесяти годам накопила столько злости и самодурства, что подумать о её правлении милославцы страшились. А тут ещё их всегдашний заступник и милостивец великий князь Рязанский Василий находился между жизнью и смертью и был так плох, что ему не сказали о кончине дядюшки. В общем, было немало причин, чтобы над могилой Григория Ивановича стоял не просто плач – ор.
Анна тоже плакала, винилась в случившемся – не прогнала проклятых птиц, попустительством своим беду накликала. Затихла, когда стоящий рядом князь Пронский подумал вслух:
– Кончилась наша самостоятельность…
– Я сохраню её!
– Что? – то ли не понял, то ли усомнился князь.
– Я сохраню независимость княжества. Клянусь, – проговорила Анна внятно, отделяя слова, и посмотрела на князя с вызовом – он недоверчиво и покровительственно ухмыльнулся.
– Милая княгиня, – заговорил с отеческой ласковостью, словно убеждая норовистого ребёнка, – это трудное, почти безнадёжное дело, а главное – не женское. Да и, даст бог, поправится Василий, он тебя до правления не допустит: «кесарю – кесарево».
Князь говорил тихо и, как показалось Анне, злорадно улыбался, и послышалось ей, что он произнёс: «не дай Бог, поправится». Она ужаснулась и не смогла найти должного ответа, не знала, как поступить: возмутиться, прогнать дерзкого с глаз долой, зачислить во враги до скончания лет или решить, что страшные слова почудились.
Она смотрела на князя полувопросительно, прижав указательный палец к губам, словно желая стереть невольную, неуместную на кладбище улыбку, и в это время была очень похожа на образ святой Анны. Но наблюдавшие за ней переяславцы и милославцы, да и князь Пронский видели у свежего могильного холма только растерявшуюся девочку в траурных одеждах, лишившуюся опоры и готовую пойти за каждым, кто проявит силу. И все они думали тогда, что нет для Анны в Рязани более властного и могущественного человека, чем присоединившийся к рязанцам добровольно сосед, и править она будет по его указке, а не по советам искалеченного мужа. И сразу же после похорон придворные Григория Ивановича потянулись к Владимиру за распоряжениями, и он, шурин покойного и новый рязанский князь, отдавал их без колебаний и сомнений.
Анна в это время отдавала свои приказы: потребовала усилить вокруг княжеского терема охрану, поменяла в обслуге всех милославцев на переяславцев, послала в Переяславль за воинским подкреплением, упредив во всём этом очень преданного Василию дядьку, и тайно отправила в Москву гонца к Юрию. Просила немедленно приехать в Мирославщину, не объясняя причины. И между этими хлопотами успела побывать на тризне, всё той же робкой девочкой, какой виделась милославцам, и как любящая жена не забыла сама покормить князя, потребовав, чтобы все кушанья при ней прежде отведали повара. Вечером, захватив новую свечу и кресало, навестила Еввулу. Ту поместили в коморку рядом с княжеской опочивальней. Из опочивальни был и вход в неё, так что и князь, и знахарка охранялись одинаково, и ухаживали за ними дядька Василия и мамка княжича попеременно. Сына Анна перевела в терем, в малую трапезную перед опочивальней и сама обосновалась там же. Так ей легче было за всеми доглядывать. Все эти перемещения она делала без ведома Ульяны и её престарелой падчерицы, а те и не думали противиться такому самоуправству – не до того было.
Еввула пришла в себя, но продолжала лежать на сеннике, положенном на пол и наскоро застеленном овчиной. У её изголовья на низеньком столике в плошке с бараньим жиром уже раскачивался, пытаясь прогнать тьму, жёлтый огонёк. Молча, думая, что Еввула спит, Анна зажгла свечу и испугалась: тьма не рассеялась, а стала сгущаться, разрываясь одновременно какими-то светящимися зубцами, будто её кромсала исполинская огненная пила.
– Не бойся, – сказала Еввула тихо, – это от устали – в тебе самой. Сядь, сейчас пройдёт.
Анна примостилась у неё в ногах, почувствовала, как тянет от дверей холодом – в безлесном Милославском топили плохо, – в кромешной тьме, на ощупь поправила на Еввуле тулуп и впервые за долгое время вспомнила отца. Став княгиней, она всё реже и реже думала о нём, перестала видеть его во сне, да и приближённые Анны, подчёркивая её родство с московским княжеским домом, связывали теперь её имя с Иваном. «Несчастный отец, – подумала она, – а что если…» – и заплакала. И тут же испугалась своих слёз – негоже плакать великой княгине при посторонних, при подданных. Давеча на кладбище она осудила мысленно княгиню Милославскую, когда та зашлась в плаче, и позавидовала ей – самой хотелось омыться слезами: собственная участь казалась не лучше Ульяниной, – но сдержалась и крепилась долгий день, и вот… Но посторонняя ли Еввула, подданная ли и кто она, являющаяся в самую трудную годину? Молчит, не утешает, бесчувственная.
– Тебе выплакаться надо, – тихо сказала Еввула.
– С чего ты взяла, что я плачу! Это от яркого света или шерстинка в глаз попала. Скажи лучше, долго ли Василию жить? – спросила спокойно, буднично, как справлялась бы, будет на неделе вёдро или ненастье. Еввула ответила почти так же, с едва уловимой печалью:
– До старости не доживёт. Ты окончишь свой путь вдовою, но будут у вас ещё дети, а у тебя и внуки.
– А Василий, – спросила Анна, не зная, радоваться ли ей предсказанию или огорчаться, – а Василий не дождётся внуков?
– Нельзя, Анна, далеко заглядывать в будущее, судьбу гневить. Василия поберечь надо: он сердце ушиб. Кости срастутся – холодцом корми да творогом, пока не встанет, а сердцу покой нужен. – Еввула замолчала и словно окаменела. Анне показалось, что она разглядывает что-то такое, что видно только ей и боится это спугнуть. «Ушла в себя, – подумала Анна, – видно, не для красного словца это говорится», – и тронула Еввулу за руку.
– Откуда ты всё это знаешь?
– Что? – встрепенулась та.
– Про будущее, про болезни.
– Вижу.
– И внутренности? – изумилась Анна и подвинулась к изголовью, заглянула Еввуле в глаза. Они были серо-зелёными, небольшими, кое-где на радужке темнели разновеликие крапинки. В зрачке Анна увидела своё перевернутое изображение – такое же, как видела в зрачках матери или Марьюшки. Но те не любили, когда она им заглядывала в глаза, Еввула не отводила взгляда, и была в нём большая печаль, словно дивные способности не приносили ей никакой радости. Да и чему радоваться, решила Анна.
– Ты колдунья? – спросила она осторожно, желая узнать, как Еввула распоряжается своим исключительным даром – только для людской пользы или во вред тоже.
– Я ведьма. Да ты не пугайся. Не было в этом слове прежде злого смысла. Его глупые люди позднее прибавили и стали ведьмами всех злодеек называть. Ведьма же значит ведающая какими-то тайнами природы, допущенная до знания их.
– Допущенная, кем? Разве этому учат? У кого же училась ты и когда?
Анна сыпала вопросами, не давая Еввуле ответить и не понимая, что та и не хочет отвечать. Наконец заметив её странное молчание, спросила испуганно:
– Неужто учителя твои не верят во Христа?
– Они ничего о нём не знают.
– Нехристи! – ужаснулась Анна и вскочила с сенника. – Ты знаешься с нехристями?
– Половина твоих подданных, Анна, – нехристи. Это честные, трудолюбивые люди. Злодеев среди них не больше, чем среди христиан.
– Всё равно их надо окрестить, – возразила Анна решительно, – пусть будут, как все. Маменька сказывала: общая вера объединяет людей и самая правильная вера наша, почему и зовётся православие.
– Эх, Анна, не об этом тебе сейчас думать, суетишься много. Главное забываешь. Великие мужи и до тебя мечтали обратить лесных людей в свою веру, да не сумели. Князь Ярослав-Константин, – основатель Переяславля, епископ Василий их крестили, а потомки христиан всё богам своим в капищах и священных рощах молятся. Кострому на весне провожают, русальины дни справляют. И боги древние не оставляют их, Анна.
– Страшные слова говоришь, Еввула, креста на тебе нет.
– Есть крест, есть, – потянула та гайтан из-за выреза рубахи.
– Тогда еретичка ты. Гореть тебе на костре. Не смогу я и своим княжеским словом тебя спасти. Вон ведь сожгли мать боярина Григория Мамоны в Можайске. Боярина! А ты кто?
– Кто я – не знаю! – усмехнулась Еввула. – Но меня не сожгут!
Она вдруг села на постели и протянула ладонь над пламенем свечи.
– Ой! – вскрикнула Анна. Пламя закачалось, вроде бы отпрянуло от ладони. Еввула поводила рукой из стороны в сторону, яркий язычок послушно повторял её движения и одновременно лизал пальцы. Анна не верила глазам. Еввула взяла свечку и, как цветок, приблизила её к лицу.
– Что ты делаешь!
– Не бойся, огонь мне не сделает вреда. Он прикасается ко мне так же, как листья травы. Крапива жжёт, а он нет.
– Тебя научили или ты сама? – спрашивая, Анна поднесла ладонь к огоньку, но тут же её и отдернула, и не решилась повторить опыт. Еввула сделала вид, что не заметила этого, и заговорила, как бы отвечая на вопрос:
– Я испытала огонь случайно. Прыгнула в костёр в Купальную ночь, не нарочно прыгнула, споткнулась о корень. Девки так заорали, что я тут же и выпрыгнула, – невредима, испугаться не успела. Потом дрожь так била, что ворох сена на меня набросали.
Анна слушала с восхищением и ужасом и всё-таки спросила:
– Как же одежда?
– Что, одежда? А-а-а… – Еввула не стала объяснять, что прыгала через костёр, как и все в эту ночь, голой. Было это на берегу Пры, лесной речки, о существовании которой Анна знать не знала. Не знала и о деревеньке Деулино. Жители её ищут и находят на Ивана Купала в лесу папоротника цвет и хороводятся у Пры с русалками.
– Не берёт меня огонь, – продолжала Еввула, – не раз из лесных пожаров выходила целёхонька. Ребят из горящих изб вытаскивала, – и замолчала, то ли вспоминая свои встречи с большим огнём, то ли пытаясь объяснить себе, почему же он щадит её.
– Может быть, ты святая, – произнесла Анна полувопросительно.
– Святыми людей церковь делает, после их смерти, – усмехнулась Еввула. – Пока же человек жив, никто и не догадывается о его святости.
– Ну почему? Святых по деяниям определяют, по чудесам, по нимбу над головой.
Еввула как-то странно посмотрела на Анну и возразила без тени досады, что не совпадают их мнения:
– Деяния людские не одинаково оцениваются, за чудеса на кострах сжигают, вон ведь боярыню сожгли. А нимбы – у всех. Только не все их видят, не умеют смотреть. У тебя большой, правильный нимб, а ты ведь не святая, Анна. Не святая?
– Я не верю тебе. Не хочу тебя слушать! – Анна встала и направилась к выходу.
– Подожди, Анна? Не кипятись! И посмотри на меня. – Еввула села на ложе, повернулась спиной к стене. – Эх, темновато тут, и тень может помешать. – Она подвинула свечу. – Но ты смотри. Не так, как всегда, а как бы внутрь себя. У тебя должна появиться несильная боль над переносицей, там, где, если верить сказкам, у некоторых – третий глаз. Ну – попробуй же! Это ведь не пальцы в огонь совать.
Анна отошла от двери к столику, всмотрелась и – не поверила глазам.
– Видишь?
Анна молчала.
– Неужели не видишь?
– Нимба не вижу, а – как бы прозрачный кокон вокруг твоего тела. Он похож на ореол вокруг пламени.
– Какого цвета ореол?
– Цвета? Он прозрачный. Бесцветный? Нет, голубоватый!
– Тогда я могу вставать! – обрадовалась Еввула.
– Но почему кокон, а не нимб – сомневалась Анна, досадовала, что видение далось так легко. – Иконники пишут нимб.
– Это они красоты ради, да по привычке. – Еввула медленно, осторожно поднялась, протянула левую ногу, касаясь пола, точно пробуя теплоту воды или толщину льда. Её пошатывало – опёрлась одной рукой о столик, другой зачем-то потянула прядку волос к носу. Посмотрела на неё и предложила Анне. – Попробуй посмотреть на волосы, приблизив их к глазу.
– Чудно! – изумилась Анна. – Вроде бы вижу волосок, однако он куда толще суровой нитки, а внутри полый. Разве такое возможно?
– Люди не умеют пользоваться своим зрением. – Еввула отошла от стола, сделала несколько неуверенных шагов и потеряла равновесие, Анна подскочила поддержать. Еввула отстранила её, выпрямилась и продолжала: – А если бы научились, то увидели бы, что пространство ещё заселено и мельчайшими существами, куда меньше блохи. И всё это кишит вокруг, на нас наталкивается, но толчков мы не ощущаем. Или видели бы вдаль на несколько вёрст. – Она уже уверенно шагала по каморке и вдруг остановилась, пошарила за пазухой, достала уже знакомую Анне бусинку, посмотрела в неё и сказала:
– А с помощью этой бусины я вижу намного дальше. Вижу, как сейчас князь Юрий собирается в путь. Ему бы повременить до утра – темнеет, снег повалил. Однако он спешит, тревожится – получил твоё письмо…
– Моё письмо? Ты тоже его видела?
– Не видела, – Еввула убрала бусинку, – узнала по твоим мыслям. Ты со мной говорила и беспокоилась, дошло ли письмо, и сразу подумала о нём, как я сказала о Юрии. Так?
– Ты мысли читаешь? – воскликнула Анна, ещё не зная, как отнестись к этому.
– Не всегда. – Еввула опять опустилась на ложе. – Сил на это много уходит, пользы – мало. Твои мысли легко читаются. Человек ты открытый, бесхитростный. Да и загораешься легко. Отзывчивая. К ведомству способная. Может, поучиться тебе…
– Нет, нет! – испуганно возразила Анна. – Меня уж точно сожгут. Разве если научишь определять болезни по нимбу…
– Догадливая! – обрадовалась Еввула. – Научить можно. Но наука не день, не два займет, и едва ли польза от неё будет. Что толку оттого, что недуги распознавать будешь, когда лечить их не умеешь. Или всё, или ничего, княгиня.
Анна молчала и опять смотрела на нимб над головой Еввулы. Ей показалось, что он значительно увеличился и погустел.
– Ты не спеши с ответом. Да и не в знахарстве твоё призвание, не в обязанностях княжеских. Тебе дар необыкновенный дан, а ты им пренебрегаешь. А сейчас иди – кончилось наше время, князь беспокоится.
– Видишь? – спросила Анна, хотя и не сомневалась в этом.
– Слышу! – засмеялась Еввула. – Полтерема слышит, это ты, как глухарь, слышишь только себя.
Действительно из-за двери доносился громкий, возбуждённый и недовольный голос князя. Ему вторил нежный и певучий, как родничок в жару, голос мамки княжича. Ни в том, ни в другом Анна не уловила тревоги, а потому не бросилась выяснять, чем недоволен князь, замешкалась у дверей, заговорила:
– Я в долгу перед тобой, Еввула. В долгу неоплатном. Тебе ничего не нужно – ни богатства, ни почестей. Я бессильна рассчитаться с тобой и не могу и впредь не принимать твою помощь. А значит, долг мой будет всё расти и расти. Единственное, что могу, – так это признать тебя сестрой старшей. Мне и кажется, что ты старше меня.
– Не терзайся, – отозвалась Еввула со своего неудобного ложа, – я и впрямь старше.
– Но ты была совсем ребёнком, а я…
– У нас будет ещё время об этом поговорить, – ответила Еввула, заворачиваясь в тулуп. – Ступай с миром.
Но поговорить им об этом не пришлось никогда.
Дня через три приехал Юрий в сопровождении малочисленной собственной охраны и милославских стражников. У него не оказалось грамоты на въезд в Рязанское княжество, и никто на засеке не смог подтвердить, что он шурин великого князя, а не какой-то лазутчик. По дороге он узнал о горестных событиях в Милославском и заготовил слова утешения вдове и дочери покойного. Произнося их перед хозяйками, опасался, что разбередит ещё не зажившую рану. Однако рана затянулась быстро. Юная вдова более в утешениях не нуждалась. Страх, вызванный неминуемой переменой в её жизни и покойником в доме, прошёл. Утрата старого господина-мужа не печалила. Она обрела наконец свободу, наконец стала взрослой и теперь мечтала получше распорядиться своим новым достоянием. Дождаться не могла, когда высокие гости отбудут к себе.
Престарелая дочь Григория Ивановича тоже ждала – окончания череды поминок, чтобы отправиться в монастырь.
Гости также прибывали в ожидании – нужен был хороший, устоявшийся санный путь, чтобы пуститься с хворым в обратную дорогу. Анна предлагала остаться в Милославском до Рождества. Но Василий и слушать об этом не хотел, надеялся стать на ноги по прибытии в Переяславль, верил, что в своём дому и стены помогают. Приезду Юрия поначалу обрадовался, но, сообразив, что тот появился не случайно, в помощь, а может, как соглядатай, обозлился на Анну. Держал при себе шурина только что не на привязи и причины не скрывал, говорил с усмешкой:
– Не хочу, чтобы за моей спиной сестрица с братцем шушукались да решали по-родственному, как княжеством моим управлять. Сам управиться в состоянии – ноги поломал, а голова целёхонька.
И всё-таки не углядел. Крепкий сон сморил то ли после сытного обеда, то ли потому, что ромашкового настоя выпил сверх меры, и Анна не преминула этим воспользоваться, увела Юрия в один из дальних переходов терема. Рассказала ему всё без утайки – о княжеском соборе, о своих опасениях, что кто-то из князей удельных, может, даже дядюшка, замыслил погубить Василия, поняв, что тот не намерен противиться Москве. Про птиц зловещих она сказать забыла.
Опасность заговора Юрий решительно отверг. Губить Василия, чтобы вместо него иметь на Рязанском столе малолетнего наследника и сестру великого князя Московского соправительницей, рязанцам нет смысла. Поведение Василия одобрил, сказал, и Анна не уловила в его словах ни торжества, ни семейной гордости:
– Противостоять Ивану на Руси сейчас не может никто. Недаром его прозвали Грозным. Все князья до него мирные прозвища имели, хотя и спать ложились с мечами. У Ивана в жизни особое предопределение. Говорю это сестричка, не потому, что сторону Москвы представляю или брата боготворю. Трудное дело он затеял – собрать княжества русские в одну кучу. Соберёт – и двинет на Орду. Не одолеть нас Ахмату, даже если Казимир Литовский вздумает ему пособить. Но не пособит – сам распрями в своём княжестве занят.
Юрий обнял сестру. Они присели на какой-то ларь у обшитой тёсом стены. Вверху кошачьими глазами светились два малюсеньких слюдяных оконца.
– Ну что насупилась, Лисонька? Великое княжество из рук выпускать не хочется? Понравилось великой княгиней быть? Не горюй – оставит Иван тебе эту ляльку. Об этом не раз уж говорено. Но только тебе, любя. Не зятю, не племянникам. Родство для него мало значит. Братьев меньших не щадит в их строптивости. Если бы не матушкино заступничество, сломил бы их, свернул бы в бараний рог.
– А тебе, – спросила Анна, сдерживая слёзы от обиды и причинённого братом, невольно, унижения, – тебе не горько быть у него в пристяжных? Ведь ты всего на год моложе, умнее, добрее и, говорят, храбрее его. Слышала я в Переяславле от бояр – редкий дар у тебя воинский. Василий сказал, что благодаря тебе москвитяне одолели хана Ибрагима под Казанью.
– А что, может, и верно говорят! – Юрий взял сестру за руку, стал, как в их далёком теперь детстве, перебирать её длинные тонкие пальцы. Рука была иной – утратила мягкость, податливость, но от неё по-прежнему исходили привычные, родные тепло и нежность. «Наверное, я смогу узнать Анну с закрытыми глазами, по руке», – подумал Юрий и продолжил прервавшийся было разговор:
– Что до моей доброты, то она правителю не нужна. Вредна даже. Не успел раньше Ивана родиться – сам виноват! Что ещё там? Ум? Что такое быть умным? Молчишь – не знаешь! Должно быть, я не умнее, а начитаннее Ивана. Не мудрец, не умник – книгочей. Эх, если бы не походы, заперся бы я у себя в Серпухове и читал бы, читал. А ты читаешь ли, Анна?
– Некогда мне!
– А ты брось всё на мамок-нянек и читай. Негоже великой княгине невежей быть, тем паче тебе – вот-вот новая невестка объявится, умнейшая девушка…
– Так уж и умнейшая!
– Поймала на слове, сестрица! Начитанная, обладающая обширными познаниями, что не каждому великому князю известны, имеющая, говорят послы, богатейшее, дивное собрание книг. Вот бы взглянуть на него, – сказал Юрий мечтательно, – думаю, случай представится, привезёт его в Москву.
– Ты о Зое Полеолог говоришь? – спросила Анна враждебно. – Разве уже всё решено?
Юрий не уловил в вопросе враждебности. Присутствуя при разговорах Ивана о Зое Палеолог с послами римского кардинала Виссариона греком Юрием, итальянцами Карлом и Антонием, а также обосновавшимся в Москве и снискавшим особое расположение великого князя чеканщиком монет «денижником» Иваном Фрязиным, он проникся уважением к византийской царевне (чужеземцы именовали её принцессой) и считал, что брак Ивана с нею – большая удача для московского княжеского дома. С радостным возбуждением он поведал Анне, что посольство уже готово отправиться за невестой, ждут, когда прекратятся дожди и слякоть. Иван спешит с женитьбой, поскольку невеста очень завидная и много до неё охотников.
– Благодаря этому браку, – сказал Юрий, – Иван станет единственным в мире православным государем: ведь отец её, Фома, родной брат последнего Византийского императора.
Не скрыл он и того, что не всё зависит от самой Зои, её опекает могущественный папа Римский. Он и предложил ей в женихи великого князя Московского, после того как она отказала французскому королю и герцогу Миланскому. Но сама ли отказала или по совету папы Павла II, в Москве не знают. Семейство Зои обязано Павлу II за его покровительство. Он и герцог Миланский обещали Фоме, когда он, спасшись от турок, нашёл в Италии пристанище, возвратить ему потерянный венец. Но несчастный изгнанник так и умер, не дождавшись этого. По Москве прошёл слух, что он даже исполнял обязанности чуть ли не виночерпия на герцогских торжествах. А ведь Фома имел несомненные права на престол Византийский, кроме того, он привёз в Рим великую христианскую святыню – голову апостола Андрея.
Заметив, что Анна слушает его невнимательно, без должного сочувствия к будущей невестке, Юрий сказал:
– Зоя вместо священной реликвии принесёт нам новую культуру. В Италии превосходные зодчие, изографы, чеканщики, ваятели. Там не пишут икон, но в храмах росписи на стенах. Изографы могут изображать и простых людей.
– И это не грех? – оживилась Анна.
– У них – нет. Послы привезли несколько персон, так они эти образы называют, на них люди, как живые. Вот бы тебе… Да, Зоя тоже хорошо владеет кистью и вышивает великолепно.
– Сколько лет этой умелице? – спросила Анна подозрительно.
Юрий помолчал, соображая, возраст невесты его не занимал.
– Двадцать три, кажется, а может больше…
– Толстуха, значит, и вековуха!
– Ну что, ты, сестричка, мелешь? Так ты и меня в старики произведёшь.
– Ты мужчина! – отрезала Анна. – Идём – вон уже темнеет. Василий, наверное, нас хватился.
Кошачьи глаза на стене померкли, сумрак заполнял переход. В конце его кто-то прошёл со свечой.
– Посидим ещё немного: мы так редко видимся, и бог знает, увидимся ли ещё… Хотелось поговорить с тобой по душам, а ты злишься. Отчего?
– А противно, как вы с этой иноземкой носитесь: ни кола ни двора у неё, ни кожи ни рожи. Одно звание – царевна. Королевна! – Анна произнесла последнее слово с преувеличенным подобострастием, подражая мамке. Вышло очень похоже. Юрий засмеялся.
– Добро бы сами были худородными, – продолжала она уже серьёзно, – а то ведь от кесаря римского Августа род свой ведём. Знаешь ведь, что пращуры наши – потомки брата Августа – Пруса.
– Ну молодец, сестрица! – искренне восхитился Юрий. – Не забыла наставлений бабки нашей Марии Федоровны Голтяевой, хотя и редко с ней встречалась и вроде слушала её вполуха. Как и я. Но и я помню, что кто-то из предков наших, то ли дед, то ли прадед прапрадеда нашего Андрея Кобылы пришёл в Москву из Прусской земли. А был ли он родственником Пруса…
– Да как ты можешь сомневаться! – вскипела Анна. – В казне у Ивана хранится каменная шкатулка самого цезаря Августа!
– Иван верит, что у него в казне подлинная шапка Мономаха, – засмеялся Юрий, – а я сомневаюсь. И что толку в этом старье. Но коль ты придаёшь ему значение, подарю тебе ожерелье нашей бабки Софьи. Оно тоже очень древнее.
– Но бабушка завещала его твоей будущей дочери.
– Я не женюсь, Анна.
Юрий встал и увлёк за собою сестру. Они быстро и бесшумно пошли по переходу. Теперь навстречу им попадались слуги. Час послеобеденного сна кончился. Князь пробудился.
– Ты думаешь, что знаешь причину, – вернулся к разговору Юрий, – ошибаешься. Я добился согласия. Она меня любит.
Анна так резко остановилась, что шедший чуть сзади Юрий едва не сбил её с ног. Сохраняя равновесие, Анна ухватилась за брата, потом обняла, расцеловала:
– И почему сразу не сказал? Целый час петлял вокруг да около. Я, дура, не догадалась, что к своему подойти не можешь, взревновала даже. – Анна засмеялась и, отступив, посмотрела на брата со стороны, будто посторонняя. Статный, высокий, белокурый. Светлая небольшая борода оттеняет смуглость щёк, редкие у светло-русых – карие глаза, густые чёрные брови. «А ведь он красив, – заключила она радостно, – к тому же умён, добр и храбр. Как отказать такому!»
– Что значит после этого «не женюсь»? Бедная я головушка – не видать мне ожерелья, – веселилась она.
– Я не имею права жениться, – сказал Юрий очень тихо, – и узнал об этом после того, как получил согласие. – Он замолчал, точно раздумывая, посвящать ли Анну в своё горе дальше.
– Но почему, почему же? – она хотела теперь знать всё.
– Жить мне осталось меньше года.
– Ты болен? – вскрикнула Анна и, припав к брату, заглянула ему в глаза. Он смотрел на неё печально и виновато.
– Зря я тебе сказал. Прости – смалодушничал. Тяжело это пророчество при себе носить. Мне недавно предсказали близкую смерть. Я теперь, как тяжелобольной, душой, конечно, не телом. Кабы эта немочь не помешала мне в бою. – Он улыбнулся.
– Не верь, – торопливо заговорила Анна, – это тебе нарочно нагадала какая-то вражина, чтобы смутить покой. Костёр её ждёт, ведьму проклятую.
– Гадал Иванов астролог по звездам, он же и по руке потом сверял, вышло одно – не доживу до 32 лет. Может, оно и к лучшему…
– К лучшему? Как у тебя язык поворачивается такое говорить? А как же я? Ведь у меня ближе тебя некого нет! – И не дожидаясь объяснений, Анна вдруг побежала по переходу.
– Не верь чернокнижникам! – кричала она на бегу, не заботясь о том, что крик её разносится по терему и уже всполошил стражу и случившихся рядом слуг. – Пусть Еввула в бусинку посмотрит.
Еввулы в каморке не было, и в Милославском её не нашли. Когда и куда она исчезла, не знал никто.
– Какое бессердечие – оставить нас теперь, когда мы, когда ты нуждаешься в её помощи! – возмущалась Анна в покоях князя.
– Она нам ничего не должна, – сказал Василий. – Это мы ей по гроб обязаны. Меня же она сможет лечить и на расстоянии, так что успокойся.
Успокоиться после признания Юрия Анна не могла, но Василию о нём ничего не сказала, хотя Юрий и не брал с неё слова молчать. Юрий тоже делиться своими тревогами с зятем не стал, посидел у него немного и прошёл в соседнюю горницу к племяннику. Через открытую дверь Анна, сидевшая на низенькой скамеечке у постели мужа, видела, с каким удовольствием Юрий начал играть с малышом. Тот сразу залился счастливым смехом. Родители играли с ним редко. Василий считал, что воспитывать сына надо в строгости, и всё порывался сдать его на попечение дядьки, хотя сыну не было ещё четырех лет.
Анна не играла потому, что боялась утратить солидность. Юрию опасение супругов были не ведомы, и он от души забавлялся: став на четвереньки, катал племянника на спине, ржал, лаял, трубил в игрушечную трубу
«Неужели ему не суждено иметь детей?» – подумала Анна и не смогла сдержать слёз. Чтобы скрыть их от Василия, она уткнулась лицом в край его постели. Ей очень хотелось спать, но до часа, когда в тереме все отходили ко сну, было ещё далеко. Ночами она не высыпалась, приглядывая то за мужем, то за сыном, тревожно прислуживаясь к ночной тишине за стенами чужого терема. Ей казалось, он стоит на краю света – дальше полная опасностей неизвестность.
Глаза закрылись сами, хотя она и противилась…
И сразу перед её внутренним взором возникли какие-то покои, видимо, в княжеском тереме. Они были очень просторными, с тремя стрельчатыми окнами, забранными не слюдой, а настоящими прозрачными стёклами, с высоким сводчатым потолком (значит, над ними были ещё и другие), с большой двухстворчатой дубовой дверью. Такие покои могли принадлежать богатому владельцу – князю, епископу. Она только мечтала о подобных. Но обставлены они были очень бедно и странно. Вместо ковров на полу какое-то подобие кожи, потёртой и порванной; плохо выбеленные, без следов росписей стены. Побелка как на Милославских глинобитных теремках, перенёсших осенние дожди. Ни одной иконы! Вдоль стен – разновеликие обшарпанные поставцы, некогда дорогие – в дверцах стекло. За ним виднеются сваленные без разбору кипы книг или летописей в бедных переплётах. Перед окнами два простых стола, сдвинутых вместе. Столы чудные: на маленькие поставцы положены столешницы. Столешницы завалены какими-то мелкими вещами, назначение которых Анна смогла лишь угадать, прежде нигде их не видела. Какие-то круглые металлические, с неровными острыми краями не то чаши, не то маленькие короба, наполненные разной мелочью и сором. В одной чаше – будто маленькие гвозди, в другой – пепел, обгорелые с одной стороны, деревянные короткие и тонкие спицы (что на них вяжут?). Рядом с чашами что-то похожее на плинфу[35], ломоть хлеба и нож. А поблизости – дорогая норковая шапка. Что шапка – точно: такие носили очень зажиточные женщины в Москве и Переяславле, и у неё была похожая.
И увидев весь этот несуразный беспорядок (на столе, помимо перечисленного, громоздились ещё какие-то летописи), Анна едва не засмеялась, но смогла удержаться. Знала: засмеётся – и видение исчезнет. Видения перед сном у неё случались нередко, обычно когда уставала. Она тогда ещё не спала, слышала все ночные звуки, сознавала, где находится, и в то же время видела то, что в жизни видеть никак не могла. Как-то померещилась ей улица неведомого города. Каменные, островерхие, высокие дома, впритык один к другому, мощённая булыжником мостовая. Люди на ней в незнакомых одеждах, мужчины, даже старые (о чудо!) без бород. По улице, ловко минуя прохожих, мальчишка катил обруч. Наперерез мальчишке кинулась женщина в необъятной коричневой юбке, коротенькой душегрейке, в огромном, белом, крылатом повойнике. Поймала мальчишку, принялась отчитывать. Анна не слыхала слов, но поняла, что чужестранка ругает сына за то, что снял обруч с хорошей бочки. Догадалась и захохотала. Услышала свой хохот, а видение исчезло.
Видела она и отдельных незнакомых людей, но никогда не слышала их – уши воспринимали звуки реальной жизни. Каждый раз, как появлялись видения, Анне представлялось, что она заглядывает в ненароком приоткрытую дверь. Теперь же ей казалось – дверь в иной мир открыта для неё.
Внимательно всё разглядев на столах и не обнаружив для себя ничего любопытного, Анна стала ждать, что будет дальше. Поняла – не для созерцания чужого неряшества она допущена. Тотчас же на один из столов откуда-то сбоку плюхнулся свиток какой-то ткани. Женская рука (сама женщина оказалась вне поля зрения) поспешно сдвинула хлам со столов к подоконнику и развернула свиток.
Это была шитая на алом шёлке пелена. Собственно, алым был средник, широкая кайма вышита на белом. На среднике изображена Евхаристия (причащение). Анну поразило, что изображение поделено на две части, совмещает два действия, два времени. Такой приём принят в иконописи, в шитье ничего подобного ей не встречалось. Участники и того и другого действия разбиты на две группы. И в той и в другой присутствует Христос. В левой части средника он предлагает ученикам хлеб, в правой – вино. Да и склоняется к ученикам по-разному. Лики Христа и учеников показались Анне знакомыми. Но она не стала тратить времени на узнавание – спешила ухватить, получше запомнить общий строй этой удивительной пелены.
Узенькая кайма с какими-то письменами вокруг средника. На верхней – клейма. На них представлены житие Богородицы и четыре Евангелиста по углам. Анна не стала рассматривать клейма. Её словно торопили: «Скорее, скорее! На пристальный погляд время не отпущено». Её внимание привлекла шитая золотом надпись вокруг средника. Слова были выведены сплошным узором без промежутков. Она затруднилась их прочитать – прав Юрий: читать надо больше. Кто-то, вне поля зрения, пришёл на помощь и громко произнёс: «Шито 6993–6995 годах замышлением великой Рязанской княгини Анны…»
– Но сейчас только 6979 год! Я ничего не замышляла! – Анна не смогла смолчать.
– Пелене пятьсот лет, – ответил всё тот же голос, не то женский, не то мужской.
– И через пятьсот лет ничего не изменится, – добавил Юрий.
«Юрий! Откуда, здесь Юрий? Я ведь не сплю», – Анна открыла глаза. Она лежала поверх одеяла на лежанке у изразцового бока печи в одежде. Дверь в покои княжича закрыли. Юрий сидел подле Василия на той скамеечке, на которой только что сидела она, и тихо говорил:
– Жестокость, Василий, в натуре всех людей. Всех без различия. Нечего её связывать только с басурманами. Мы любим возмущаться ордынцами – изуверы, замучили благоверных князей Фёдора и Романа, погубили многие сотни людей… А сами, от князя до простого воина, алкаем[36] крови. Иван этим летом перед битвой на Шелони отдал приказ сжигать все новгородские селения и пригороды, не щадить ни стариков, ни младенцев. Что, кто-нибудь воспротивился и не стал выполнять? Нет, ещё дальше пошли в своей свирепости; уже без приказа стали отрезать у пленных носы и губы. Спросил, зачем это сделал, у простого воина, ответил – для устрашения, отпускают безгубых и безносых к своим. А пленные были земледельцами и ремесленниками. Над воинами измывались ещё гнуснее.
Юрий обернулся и тихо позвал:
– Анна! – Она не откликнулась, но он не решился всё-таки что-то произнести вслух и прошептал, склонившись к Василию.
– Вот я и говорю, – громко откликнулся тот, – есть ли во всех этих зверствах нужда? Устрашились ли новгородцы?
– Не знаю. Но озлобились люто и те и другие. Твориться стало такое – не приведи Господь. Однако понять их можно. Когда увечат, убивают твоего земляка, тем паче того, с кем рядом спал у костра не одну ночь, кто делился с тобой последним глотком воды, то сдержаться от возмездия трудно. На это тоже сила нужна.
– К Ивану твои объяснения не относятся, – запальчиво возразил Василий, – он у костра не спал, последней крошки ни с кем не делил. К тому же, кроме себя, никого не любит. Да! Он трус! И жестокость его от трусости. Я это понял ещё тогда, когда он побоялся Айвину с дерева снять. Готов был её там на ночь оставить приманкой для рыси.
Явная неприязнь Василия к Ивану была Анне в новинку, прежде она её никогда не замечала, думала, Василий боготворит старшего шурина. «Не подействовали, выходит, советы отца, не смог приручить Иван строптивого рязанца. Как же ошибся отец, как мы все ошибаемся», – подумала она.
– Грозным его прозвали, – продолжал горячиться Василий, – а надо бы трусливым. Всё за твоей спиной прячется. Ребята, молодцы, его раскусили, а ты всё на поводу.
– Уймись! – остановил его Юрий. – Анну разбудишь. Я не во всём согласен с Иваном и не ратую за жестокость, но не в моих силах унять её.
– Надо издавать иные указы. Иван указал: не щадить! Все подчинились. Опусти «не» – и все тоже подчинятся. – Я уже так сделал, – сказал Василий и добавил чистосердечно: – Проверить ещё не проверил, подействовало ли: с тех пор не было сражений.
– Едва ли подействует, – заметил Юрий с сожалением.
– Здесь случай особый, – пояснил Василий без прежней горячности и замолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли не желая поведать об этом случае. Анна знала, что ему вспомнилось, что привиделось в это мгновение.
Ордынцы напали на юго-западные пределы Рязанского княжества, как всегда, без приказа хана, но, как всегда, с его ведома. Василий во главе своего войска выступил против них. За помощью к соседям не обращался. В битве, где у нападавших не было перевеса, им всё-таки удалось захватить знамя рязанцев. Довольствуясь этой добычей, они отступили к своему стану. Там их ждали повозки, шатры, а некоторых жёны и дети. Многие ордынцы жили и умирали в воинских походах. Получив отпор, эти вечные разбойники намеревались покинуть рязанские пределы, поискать более лёгкую добычу. С рязанцами они просчитались: сбила юность князя, его небольшой воинский и княжеский опыт – княжил он тогда года четыре. Василий отдал приказ захватить стан. Застигнутые врасплох разбойники, почти не оборонялись, оставили и повозки, и скот, и шатры. Рязанцы преследовали их до засечной черты. Потом вернулись к стану. Он представлял ужасное и в то же время привычное для каждого воюющего зрелище. Поваленные, изодранные шатры, изломанные повозки, трупы людей и лошадей. Лошадей убивали пешие воины, чтобы свергнуть всадника. Существовал для этого особый плоский топорик с длинным топорищем. Поверженные не вызывали жалости, даже земляки, – лишь досаду, что придётся их хоронить. Хоронили своих, не развозя по домам, погода не позволяла. Медлить с похоронами было нельзя: тучи ворон затмевали небо над побоищем, подбирались к телам псы. Их татары брали с собой вместо могильщиков. Русских, прежде чем опустить в ров, отпевали. Молодой, справный воин извлёк из котомки рясу и скуфью. Рясу надел поверх кольчуги, снял шлем, чтобы заменить его скуфьёй. Открылись его светлые, негустые, довольно коротко, «под горшок», стриженые волосы с выбритым на темени гуменцом. По этому гуменцу и распознавали священников, павших на поле боя. В бою они не отличались ни снаряжением, ни доблестью от прочих воинов и, чтя память инока Пересвета, нередко первыми начинали сражение. Василий уважал их.
Среди тех, кого поспешно отпевал батюшка, не было воинов, знакомых князю, потому жалость не тронула его сердце. Конечно, огорчили потери, но это были издержки любого сражения. Сожалел, что меньше стало у него землепашцев, ремесленников и скотоводов (они во время набегов и превращались в воинов). Василий жалел об утрате части добычи: бездумно порушенных шатрах и повозках, порубленном скоте. В угаре битвы рязанское войско крушило всё подряд. Такое он наблюдал и в предыдущих своих, ещё московских походах. Василию казалось, он нашёл причину безжалостного уничтожения завоёванного добра: оно несправедливо распределялось. Военачальники завладевали почти всем. Простые воины должны были довольствоваться малым да сознанием того, что не пустили врага на свою землю. Размышляя, как всё это переменить, Василий шёл к большому шатру. Издали тот выглядел невредимым, Василий не собирался в нём останавливаться на ночь. Не любил чужих жилищ, а вражеских опасался. Ему казалось, что, покидая их, хозяева оставляют там зло, которое способно погубить нежелательного пришельца. «Может быть, и воины крушат всё вокруг, потому что тоже чувствуют забытое неприятелем зло?» – подумал он и едва не споткнулся. Шагах в двадцати от шатра, в высокой траве, лежали два тела – старика и мальчика. Оба были в дорогой татарской одежде.
Василий не испытывал жалости к врагам, не раз ему приходилось убивать их и, совершая это, он не воспринимал их людьми. Они для него ничем не отличались от зверей, которых он без сожаления бил на охоте. Отторгнутые от него расстоянием, незнакомцы теряли человеческий облик, превращались просто в цель. Её следовало поразить.
Как-то, возвращаясь с охоты, он увидел впереди крестьянку, которая устало брела по дороге. Она заметила охотников и заблаговременно уступила им путь, но не остановилась, а продолжала двигаться, ковылять, проваливаясь по снежной целине. Ему вдруг захотелось пустить в неё стрелу… Он устыдился своей жестокости. Поравнявшись с крестьянкой, взглянул на неё. Это была старая женщина. Она согнулась в низком поклоне, ещё дальше отступив от дороги. Василию показалось – сжалась от страха. «Боится, что собьём, – подумал он, – а ведь знает, что свои». А свои между тем сворачивали с дороги и в опасной близости проносились мимо старухи. «Озоруют, лихость свою друг перед другом выказывают», – решил он. Не остановил разгулявшихся, не подумал срамить их.
Убивший мальчишку тоже озоровал, опьянённый сражением, пиром всеобщей жестокости. Василию не хотелось сразу признать это. Оправдывая своих воинов, он предположил, что мальчишка – татарский пленник (он был на удивление белокур) и его при отступлении убил старик. Но в спине мальчишки торчал плоский конский топор, тем же топором прежде убили старика.
Василий приказал собрать дружину. Сам пронёс перед строем мальчишку. Виновного в его гибели доискиваться не стал. Призвал дьяка и продиктовал, ему указ…
Замолчав, Василий и вспомнил этот случай, но заговорил о другом, тихо и медленно, словно убеждая себя:
– Хорошему князю-хозяину надлежит растить прежде всего хлебопашцев, ремесленников. Это мой прадед Олег завещал своим детям-внукам. И сам уклонялся от ненужных битв, не разевал рта на чужой каравай, не в пример москвичам, о своём хозяйстве пёкся. Оттого-то Рязанское княжество и богаче Московского.
«Что он говорит? – удивилась Анна. – Почему Юрий не возразит ему?» А тот, вздохнув, согласился:
– У вас земли плодороднее.
– Земли землями, но князь Московский и скудными не гнушается: новгородцев стрижёт, как овец длинношёрстных, раз за разом. Чужих поселян разоряет, а из-за походов и свои лучше жить не стали. И у нас ведь есть соседи, – и с востока и с севера – но мы на их достояние не посягаем. Как не поймёт он, что управлять большим княжеством тяжелее, чем малым. Орда – тому примером: распадается матушка! Ханство Крымское, ханство Казанское, теперь вот Русь утекает.
Анна не могла понять Василия: не поддержал дядюшку, не стоял, оказалось, и на стороне Ивана.
– Соберёт братец огромную державу. Станет царём. А держава развалится.
– Когда это ещё будет, – усмехнулся Юрий.
– Когда-никогда, а рассыплется, потонет в крови.
И опять Юрий не возразил. Помолчали. Анна заворочалась, давая понять, что уже не спит, но собеседники не заметили этого, собираясь с мыслями. Юрий первым продолжил разговор.
– Мы должны объединиться против татар, – произнёс он уверенно, заученно, как не раз говорил младшим братьям. В Москве не прекращалась распря между ними и Иваном. Младшим надоело воевать и ничего не получать из добытого. Они так же, как и Василий, были против увеличения княжества. О ссоре братьев Анна знала от матери, но та не объяснила причины. Анна приняла сторону Ивана. Довод Юрия ей показался, как и младшим братьям, убедительным, но Василий возразил:
– Это всё отговорки! Лисий шаг! Объединяются за дружеской беседой в трапезной. А на поле брани какое объединение? Стань немедля моим другом, не то я тебе голову оттяпаю! – Василий засмеялся. У него был неприятный смех. Анна не любила, когда он смеялся. И смеялся он не чужим, а своим злым шуткам. Смех придавал его красивому лицу хищное выражение. Если он смеялся при людях, Анне было неловко за него. На Юрия, видимо, этот смех не произвёл такого впечатления, он пояснил миролюбиво:
– Наши соплеменники иной меры не понимают и готовы до скончания века, да что там века – света, жить под татарским игом.
– А чем для новгородцев, псковитян и рязанцев татарское иго хуже московского?
– Татары – басурмане!
– Ба-сур-ма-не, – Василий растянул слово, будто проверил на слух. – Басурмане. И кто определил, что их вера уступает нашей? – Василий опять засмеялся и сам ответил: – Такие же нечестивцы, как мы с тобой.
– Но-но! – только и произнёс Юрий, а Василий продолжал:
– Нам веру выбрали пращуры. Но правильно ли выбрали, ты задумывался? Кто выбирал, кто выбирал! Не учёные мужи, не жёны-мироносицы – воины в доспехах с обнажёнными мечами, княгиня Ольга, нещадно истребившая древлян. А ведь бабки-мамки в пример нашим жёнам её ставят. Те уже стесняются быть добрыми и жалостливыми. На казни глазеют с удовольствием, ребят с собой тащат. Чуть ли не на лобное место их сажают. Это супротивно природе! Злые женщины рожают злодеев.
– Ну это ты, брат, чересчур!
Василий не обратил внимания на замечание:
– Твари и те не выносят вида смертоубийства. Казнили однажды мужика. За дело казнили. Народу тьма-тьмущая собралась. Любопытно – княжеское семейство извести пытался. Палач на лобное место поднялся. Уж и топор вынул. Но тут кудахтанье раздалось – курица в ужасе из-под помоста выскочила, за ней – выводок. Улепетывают с верещанием от этого ужаса. А женщины детей на руки подняли. Так-то.
– А что же Указ?
– Указ? Пришлось его дополнить. Запретил жёнкам на казни смотреть и всякую скотину и птицу жизни лишать собственными руками.
– Перестарался – испокон веков женщины ножа в руки не берут.
– Сегодня не берут, завтра возьмут, коли запрета не будет.
– Так ты, не ровен час, и казни отменишь.
– Непременно. Уже и с епископом переговорил. Он поддержал.
– По ветру княжество развеешь. Не советую. Рано это.
– Ничего не рано! – не выдержала Анна. – Я тоже против казней. Я согласна с Василием – нельзя женщинам нож в руки брать. Топор – тоже. – Она вскочила с лежанки, стала за спиной у Юрия. Он поднялся, уступая ей место, но Анна не села.
– Ну против такой поддержки мне не устоять! – Юрий обнял сестру. – И не стыдно подслушивать?
– Подслушивать! Да вы так раскричались, что в мазанках слышали.
– Против ножа, значит? – переспросил Василий. – Но тебе, женушка, взять его придётся. Княгиня – не баба простая, чтобы доброй стать. У тебя же доброты – через край. Поутру курицу зарежешь и на снеданок[37] нам подашь.
– Не княжеское это дело – кур потрошить, – возразила Анна, не понимая, шутит ли Василий или от лихоманки заговаривается.
– Выпотрошит служанка, а зарежет княгиня. Или я…
– Мужа слушаться надо, сестра, – сказал Юрий строго, но Анне показалось, что строгость напускная.
Однако поутру ей всё-таки пришлось отправиться в курятник. Она села на порог его с пойманной курицей в руках, над большой глиняной миской. Курица рвалась, вертела головой, Анна едва удерживала её, а полоснуть по горлу ножом не хватало ни смелости, ни рук.
– Ах ты, тварь, – говорила она, – ах ты, тварь. – И слезы ярости и бессилия капали в миску. Поодаль столпились птичницы. Сопереживали.
– И чего мучаешься? Крови захотела? Так птичья не полезна. Барашка прикажу заколоть или телёнка, – говорила Ульяна, а сама уже держала несчастную курицу. – Подай нож!
– Эх, а ведь эта моя любимая пеструшка! – воскликнула она, когда с беднягой было покончено. – Кто надумал – под нож её?
– Так ить не несётся, – ответили птичницы хором.
– Другие несутся. Я покажу вам, как самоуправничать.
– Это я её поймала, – призналась Анна, – она в руки далась. Извини.
Княгини оставили курятник и пошли на чистый двор.
– Неладно как получилось, – винилась Анна. – Это всё Василий. От жара, видно, у него в голове помутилось. – Она рассказала о его странном приказе. – И ведь Юрий поддержал. А твой брат? Он бы вступился за тебя?
– Да все мужики одинаковы! Вступился, как же! Где он? Ускакал. Бросил меня в горе. Вы скоро уедете – с ягой этой, золовкой, останусь. Грызться будем – кто кого. Одна надежда – найдётся кто-нибудь на молодую вдову помоложе Григория Ивановича. – Ульяна захихикала, но не забыла перекреститься, прошептать: – Царство ему небесное.
– Сбегаем посмотрим, как розы укрыли, – продолжила она весело, – холода идут: вишь, как дым поднимается.
Подмораживало, хотя занимался день. К вечеру сковало землю, пошёл снег. Считается – настоящий снег ложится на мокрую землю, но этот не растаял. Скоро укрыл пашню и луговину, сровнял бугры и кочки, подготовил санный путь. После недолгих сборов гости покинули Мирославщину. Юрий в Переяславль не поехал. Расстались на постоялом дворе у развилки дорог.
– Молись за меня, Анна, – сказал Юрий на прощанье, – и прости за предательство.
– Да что ты, какое предательство? Я сразу поняла – ты принял сторону слабого. – Юрий был уже в седле, она прижалась щекой к его высокому сапогу, пренебрегая острым запахом дёгтя, кожи и лошадиного тела. Конский бок уже куржавился инеем. – Всё будет хорошо. Не верь чародеям. Я икону напишу тебе.
– Напиши Одигитрию…
Юрий тронул коня. За ним двинулся его небольшой отряд. Анна смотрела им вслед, пока их не скрыл перелесок.
8
– А-а-а! Мой сыночек, крохотка! А-а-а! Мой сыночек ладушка! Стану я, раба Анна, благославясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из двора – в ворота, выйду в чистое поле, в подвосточную сторону. В подвосточной стороне стоит изба, среди избы лежит доска, под доской – тоска. А-а-а! Сыночек мой, лапушка.
– Матушка княгиня! Очнись, голубушка, не тот, не тот заговор плачешь. Это ж на тоску добру молодцу. – Мамка княжича теребила Анну за рукав.
– Отстань, Анисья! Я уж все заговоры перепробовала, перед всеми чудотворными молилась. И святая Анна не помогла! – Анна сновала по детской горнице с сыном на руках. Он полыхал жаром через красные мокрые тряпицы.
– И лоскутья твои не помогают – преет под ними только. Знахарки, бесстыжие, хлеб зря жрут! А-а-а!
– Ну чего, чего над угольком пыхтишь! Сил подуть не хватает? – Анна метнулась к печке. Её зажгли, чтобы хворь вылетела с дымом из трубы. А на дворе завис июльский зной. – Гнать вас всех надо!
Знахарка со страху выронила уголёк, бухнулась перед княгиней на колени.
– За Еввулой послали? – И не слушая ответа, Анна тут же справилась о князе, где он, скоро ли будет, а ведь знала, что тот в отъезде, в Перевлесе, в двух днях пути, а Еввулы нет как нет уже несколько месяцев.
– Ох, я, бедная головушка, не доглядела: брата от беды уберечь хотела – сына упустила.
– Не казнись, княгиня голубушка, нет твоей вины. Это я, раба нерадивая, не уследила: попортил княжич свой оберег.
– Что? – испугалась Анна.
– На обереге он лик начертил. – Мамка протянула Анне тряпичную куклу. С плоского личика глянули огромные печальные глаза под горестно сдвинутыми бровями, сжатые в чёрточку губы, казалось, вот-вот разомкнутся. Анна залюбовалась куклой, оставив на мгновение мысли о больном. Такой ей видеть прежде не доводилось. Все её и Марьюшкины куклы не имели лица. Точнее, лицо было, но гладкое, как яйцо. Мамки-няньки внушали малым детям, что разрисовывать или расшивать лик нельзя – накличешь беду, что кукла, лелька, не просто забава – оберег. Первую куклу мать делает ребёнку незадолго до его рождения. Эту куклу прежде новорождённого кладут в зыбку. Потом каждый год добавляют к ней новых, пока дитя не выйдет из младенчества, лет до семи. Оберегу лица не полагается, чтобы злые силы не распознали, чей он, кого охраняет. Да и лелька с лицом может изменить тому, кого оберегает: черты-то у них разные, а если одинаковые, – ещё хуже: через такую куклу колдунам легче лёгкого навредить ребёнку.
Сын её нарушил запрет. Отважился или не знал его. Но ведь и она, Анна, когда-то не послушалась мамки и вышила огненные кресты. – С них всё и началось.
– Сжечь! Что ты держишь тут эту нечисть?
– Я не знала, – залепетала мамка. – Я не знала, что с ней делать. Такого отродясь не было. Да и жечь, видно, тебе надо, княгиня: ведь ты мать, ты её делала… Давай мне Третного. – Мамка назвала княжича прозвищем, которое он сам себе дал. Забавлялся как-то с отцом, определял, играючи, своё главенство в тереме и расставил всех по старшинству: отец – первый, мать – вторая, а он сам – третий, третной. Так и пошло, сначала по терему, потом и по Переяславлю – Tpeтной.
Няньки-мамки радовались, что их подопечного редко называют крещёным именем, помнили старый завет – ребёнка его настоящим именем не звать, чтобы сбить с его следа злые силы. Вот ведь и Анну именовали дома Лисонькой, а прадеда Василия – Олегом, хотя при крещении его нарекли Яковом. Няньки-мамки блюли завет, а все прочие пренебрегать им стали. Василий охранного прозвища не получил и отец его тоже. Не оттого ли беды их подстерегали на каждом шагу?
Анна замешкалась – не могла оторвать от себя сына. Руки онемели от его тяжести. Давно он вышел из того возраста, чтобы на руках его носить, и здоровым избегал материнских ласк, а тут приник к матери, обвил её шею горячей рукой и не отпускал. Анна боялась от него освободиться: казалось, она оберегает его от беды страшной.
– Ну, давай же! – прикрикнула мамка. Она, случалось, повышала на княгиню голос, потому как была не только боярыней (простых баб в мамки не брали), но и троюродной сестрой Василия. Сильная и ловкая, она отняла у Анны мальчика, тотчас заменив его куклой. И, приняв эту новую маленькую и совсем лёгкую ношу, Анна почувствовала, как её прижимает к полу, как странной, небывалой тяжестью наливаются ноги – не переставить их, не сдвинуть, не сделать ей и шага, и сил нет, чтобы, размахнувшись, швырнуть куклу в открытую топку.
– Не надо, мамка! Не хочу! – заплакал Ванюшка, и Анна метнула куклу в огонь. Тут же рухнула на пол сама.
– Ах-ти! Никак сомлела? Три ночи не спавши, – запричитали женщины, засуетились, поволокли Анну к печке на лежанку.
– Окаянные, куда же вы её в полымя тащите? – Василий ворвался в горницу, выхватил у опешивших женщин жену. – Ставьте лавку к окнам и поднимите створки. От духоты тут и богатырь сомлеет.
– Кабы княжичу сквозняк не повредил, – усомнилась мамка.
– Ты кому перечишь?
Женщины мигом поставили лавку, завозились у окон. Их едва ли открывали с тех пор, как поменяли рамы и вставили в них дорогие иноземные стеклышки. Няньки опасались, что с вольным воздухом влетит в детскую поветрие.
Василий уложил жену, шагнул к ближнему окну.
– Ну чего копаетесь, бейте!
Женщины не двинулись с места: не знали, чем бить, и жалели эдакую красоту. Василий рванул раму, и она подалась…
– Теперь воды несите или квасу.
– Не надо, – отозвалась Анна, – мне уже полегчало. Тряпиц несите – новый оберег сделаю, – и, улыбнувшись, сказала мужу: – Приехал, а у нас…
– На дороге к дому гонца повстречал. Как сердце чувствовало – ты тут измаялась. Всё обойдётся, Анычка. Еввула в бусинку глядела. Поправится мальчонка. – Василий опустился на колени перед лавкой, взял жену за руку.
– Если бы… Я ведь почти пять крестов вышила.
– Дались тебе эти кресты. Суеверие, языческие выдумки. Обереги – тоже.
Нянька принесла тряпицы. Анна, не вставая, принялась привычно сворачивать из них куклу.
– Не пристало христианке в них верить.
– А бусинка? – спросила Анна и с тревогой посмотрела на сына. Он заснул на руках у мамки и дышал ровно.
– Бусинка? – не сразу ответил Василий. – Не знаю…
В горнице установилась тишина. Женщины столпились у дверей, не решаясь уйти самовольно. Мамка, примостившись на единственном стуле, дремала. Клонила, клонила к ребёнку голову, касалась его подбородком и, тотчас проснувшись, рывком выпрямляла шею.
Василий поднялся. Махнул рукой, выпроваживая женщин, взял у мамки сына, положил в колыбель. Направившись к жене, он заметнее, чем обычно, прихрамывал.
«Он останется хромым на всю жизнь, – подумала Анна с жалостью. – Пусть! Только бы жил долго – дольше меня. Но если… Тогда кто же? Сын или брат?»
– Ты сама должна сделать выбор, Анна! – произнёс за окном знакомый голос. – Помнишь, Авдотья-рязаночка выбрала брата – и спасла всех. Выбирай же!
– Нет, я не могу! – воскликнула Анна и с испугом посмотрела на Василия. Он смеялся, подумал, что она не может отказаться от своих суеверий.
Княжич выздоровел, и отец приставил к нему дядьку. Мамка обиделась, стала бегать к Анне наушничать на нового наставника. А прежде на правах родственницы похаживала к князю жалиться на Анну.
Анна и сама жалела малыша: его теперь поднимали, как взрослого, чуть свет, одновременно с отцом (русские князья не залёживались в постелях – вставали в четыре часа утра), обучали ездить на лошади, лазить по верёвке и шесту, плавать и – другим необходимым для воина и князя навыкам. Все они, как и Анне в детстве, давались княжичу плохо. Василий злился и даже при челяди называл сына (княжича!) размазнёй. Анна попробовала вступиться, ведь отец с дядькой совсем замордовали мальчугана, да и опасалась, что «размазня» пристанет прозвищем на долгие годы, но Василий отрезал гневно:
– Родишь дочь, будешь сама её воспитывать – вмешиваться не стану. А воспитание отрока – не женское дело. Займись чем-нибудь своим. Про икону Юрию совсем забыла.
Она и впрямь забыла, не только про икону. Болезнь сына, страх за него вытеснили мысли о брате, о всём московском семействе. Напоминание о прерванной работе прозвучало справедливым укором. С чувством вины, с желанием поскорее всё исправить она поднялась к себе в светёлку, где, вернувшись из Милославского, урывками писала икону.
Образ Богоматери уже сложился. Но Анна сомневалась теперь, что возникшее на кипарисовой доске милое озабоченное лицо могло принадлежать Царице Небесной. Не такой, совсем не такой её писали иконники испокон веку. Меняя от иконы к иконе ненароком внешние черты Богоматери, они оставляли в неприкосновенности суть её характера: сильную волю, целеустремленность, самоотверженность, готовность, спасая людей, пожертвовать не только собой, но и своим возлюбленным чадом.
Анна не помышляла менять эту суть. Она сознательно писала лишь облик, полагая, что в таком отступлении от канона нет греха. Ведь все, кто веками писал юную мать, никогда не видел её воочию молодой. Изображать стали только после того, как уверовали в чудо, – после воскресения Христа и скорее всего после её вознесения. И, видимо, одним из первых, кто попытался увековечить её облик, был евангелист Лука. По преданию, он изобразил Богоматерь на доске от стола, за которым в последний раз трапезовал Христос. Но он тоже не видел Богоматери, мог составить представление о ней, уже зрелой женщине, лишь по рассказам своего учителя апостола Павла.
Анне хотелось написать Марьюшку, но она не была уверена, что это удастся: не могла вспомнить её лица, вернее видела его как бы на расстоянии, когда нельзя разглядеть черты и человека узнаешь по каким-то одному ему присущим признакам. Анна попыталась усилить эти признаки, а главное – передать свою любовь к Марьюшке, тоску по ней… И на доске возник облик. Но это была, конечно, не Одигитрия, не путеводительница. Она никого не звала за собой и сама не отваживалась сделать следующий шаг, стояла в нерешительности с улыбкой смущения.
И ещё одно отступление от канона: женщина на будущей иконе никак не могла взять на руки ребёнка. Анне не нравились изображаемые иконниками младенцы: они были похожи на крохотных несоразмерных матери старичков, видимо, так иконописцы старались подчеркнуть не соответствующую малым летам мудрость Иисуса. Она попробовала написать младенца таким, каким бывают в этом возрасте обычные дети, большеголовым, пухлощёким, с толстыми ручками, словно стянутыми у запястьев нитками. Младенец получился таким живым, что испугал Анну и непозволительно утяжелил изображение, сместил его центр. Пришлось его замазать. На новом изображении он оказался не лучше – не воспринимался ни младенцем, ни старичком, выглядел какой-то… вещью. И руки Одигитрии не давались Анне. Промучившись несколько дней и поняв, что без советов ей не обойтись, она поспешила в Солотчинский монастырь.
Ей не раз приходилось бывать у солотчинских иконников. По тому, о чём она их спрашивала, им не трудно было догадаться, что княгиня искушена в иконописи: возможно, и слух прошёл о её былой монастырской учёбе. Однако работ княгини иконники не видели, руку Анны не знали. Образ Одигитрии был первым, какой она решилась показать чужим людям…
– Что скажешь, отец Кирилл? – стараясь не обнаружить волнения, спросила Анна у настоятеля, положив перед ним доску. Настоятель был искусным личником, прошедшим обучение на Афоне.
– Дивный лик! – не задумываясь и не лукавя, ответил тот. – Обнаруживает душу светлую, тихую, ласковую. Здравствует эта женщина или её уже нет в живых?
– Скончалась пять лет как…
– Иконники наши редко пишут славянок, – продолжал настоятель, не допытываясь, кого изобразила Анна, – образов пять всего и знаю. Один из них поновляю – «Параскеву Пятницу». Говорят, писали икону с великой княгини Софьи, прабабки князя Василия…
– Бабки. Знаю этот образ. Его епископ Иона подарил моему покойному свёкру, а тот передал вашему монастырю, мне князь Василий сказывал. Но Параскева там сурова и непреклонна, как надлежит быть святым на иконах, а тут…
– Сама доброта, робость, пожалуй, даже страх. Это и ценно. Да кто придумал, что Мария была жёсткой? Она же кротка и милосердна. Она, как и должно очень молодой женщине, страшится и сомневается! Фряжские изографы часто пишут её именно такой – молодой, прекрасной. У них она – мать-девочка, чистая, робкая… Как жаль, что ты, княгиня, не видела их фресок, их досок. У них человек имеет объём. Твой иконник тоже видел нечто подобное, потому и Богоматерь у него, как живая.
– Я видела фряжский образ и хотела… – Анна спохватилась и замолчала, настоятель словно не заметил этого и продолжил:
– Большой, редкий дар у него, что называется от Бога, горько будет, если не удастся ему основательно и много писать, умения не хватает, потому и шея у матери на рыбий хвост, прости, смахивает, и лик у младенца вялый, дурноватый. Надо было младенца с княжича Ивана писать – пригож он ликом и разумен не по летам…
– Нет, нет! – воскликнула Анна. – Как можешь ты, отец Кирилл, предлагать такое – писать с живого – несчастье на него накликать.
– Ну это если писать самого человека, а если святого наделить его земными чертами – беды не будет.
– Не будет… С меня икону святой Анны поновляли – и с тех пор беда за бедой.
– И что же это за беды? – с улыбкой спросил настоятель.
– Близких, любимых хороню одного за другим и новых смертей дожидаюсь, – сказала Анна очень тихо, почти прошептала, хотя и знала, что настоятель туговат на ухо. Но на сей раз настоятель расслышал:
– Эх, княгиня-голубушка, да разве смерть – большая беда? Это избавление от земных тягот… И оставшиеся на земле скорбят по ушедшим в мир иной не из-за любви к ним, не из-за сострадания – из жалости к себе: как сами-то без них будут?
«А как же воины, как же большие пожары, выжигающие целые поселения, как же моровые поветрия? – хотела спросить Анна. – Ведь если мириться со всеми смертями, считать смерть благом, то и жизнь на земле прекратится», – но не решилась прервать настоятеля, а тот, поднявшись со скамьи, продолжал:
– Дело не в поновлении, не в том, что с тебя писан образ, а в предначертании твоей судьбы. Она определена до твоего рождения. И зримый знак её – твое имя. Анна – Благодать…
– Благодать! Да не вижу я никакой благодати, не испытала.
– А тебе и не суждено её испытать.
Настоятель подошёл к книжной полке, снял одну из тяжеленных книг. Толстая дубовая доска прогнулась от них. «Как у матушки Ксении», – отметила Анна, – полистать бы их».
– Твоё назначение – давать благодать. Я вот тут, в старой книге, обнаружил сведения прелюбопытные. Оказывается, многих великих княгинь, великих духом, а не званием, нарекали при крещении либо Анна, либо Евфросиния. Анной звали дочь Ярослава Мудрого, она стала королевой франков, Анной звали и внучку его, деву премудрую. Летописцы называют её ласково Анка, Янка, как родную. Знала она грамоту, говорила на нескольких языках. Постриглась в монахини, стала девиц благородных обучать и не просто чтению и письму, но и разным полезным умениям, иконописи например. Теперь все эти знания не поощряются как у жён, так и у мужей. Более всего сила телесная ценится. – Настоятель не справился с застёжкой книги, нераскрытую положил на стол и, поглаживая её, говорил, почти бормотал, не глядя на слушательницу, вроде бы даже забыв о ней: – Да, да, да! В нашем грешном и жестоком мире возобладало грубое мужское начало. Даже мужам, сильным духом, стремящимся к познанию мира, коли они слабы телом, нет в этой жёсточи места. Одна дорога – в пустынь, в келью, только тут в тесном пространстве можно познать многокрасочность мира. Вот и преподобный Сергий Радонежский удалился в келейку от алчности и вражды.
– А жёнкам, что по естеству своему все слабее мужей, что им остаётся?
– Что? – встрепенулся настоятель, отдернул от книги руку, словно ожёгся. – Извини, княгиня, задумался вслух, и думы мои греховные, видно. Но не стану мыслей своих от тебя таить: жёнки и без келий в родительском ли, мужнем ли доме в затворниц превращаются, ещё больших, чем монахини. На волю их не пускают – остерегаются татар. В домах мужи над ними измываются, татарами униженные. Чтобы силу свою мужскую отстоять. Владеющие лишь мечом да пикой, они в женских руках пера да кисти не потерпят!
Анна улыбнулась, не понимая странной горячности настоятеля.
– Или я не правду говорю? Свободна ли ты, княгиня, в своих поступках? Молчишь… И это ты не свободна, княгиня! – Он выделил слово «княгиня». – С твоим-то даром.
– Василий мне не мешает, – смутившись, Анна назвала мужа не по чину.
– Значит, другие мешают, иначе чего тебе таиться, что пишешь? Стесняешься дара своего. Сама прихотью его считаешь. Так?
Анна кивнула, почувствовав, как предательски у неё краснеют щёки и шея. Шея-то – ладно, под ожерельем не видно, но щёки, пожалела, что не принято румяниться и белиться, едучи в монастырь.
– Я вот пригляделся и узнал, кого ты написала – великую княгиню Московскую, царство ей небесное. Думаю, лучше не написал бы и Дионисий. Чтобы так написать, знать и любить человека надо. Догадаться только не могу, как ты до объёма дошла. Лик, десница – прямо выпуклые!
– Фряжский образ видела…
– Царевны византийской, – продолжил настоятель.
«Мысли читает», – подумала Анна и смутилась: вдруг догадку настоятель поймёт, и что сказать про царевну византийскую, если спросит. Не спросил, заговорил о другом:
– Вспоминая величие твоих тёзок, я забыл сказать ещё об одной, Анне Кашинской. Великой княгиней Тверской она была. Много невзгод испытала: похоронила мужа, двух сыновей, внука, позора натерпелась, когда средний сын, Александр, в Литву бежал… Земляки за все эти муки чтят её как святую. На иконах изображают. При жизни не раз с княгини Богоматерь писали. Мне довелось поновлять образы, с неё писанные. Она долгую жизнь прожила. Постригшись, Евфросинией стала, в схиме прежнее имя обрела. Правнучка, княгиня Марья, удивительно похожа на неё. А что ты будешь со своей иконой делать? Сама допишешь? Покажу, как. Или мне доверишь?
– Допиши ты, отче. Я не смогу. Я не успею…
– Не успеешь? К чему? – настоятель испытующе взглянул на Анну подслеповатыми глазами. «Как только он с такими глазами пишет? А может, сам и не будет писать – отдаст другому иконнику, сколько их тут. Ну да пусть делает, как знает».
– Ах, не спрашивай. Я слово дала, да только его не сдержала.
Анна вдруг почувствовала странную тревогу. Не потому, что обета не выполнила в срок, она ведь и не назначала его точно, а от чего-то другого, не имеющего пока определения. Росла беспричинная тоска, гнала прочь. Что могло случиться за стенами тихой обители? С кем беда? С сыном? С Юрием? С суженым? Она уехала, не сказавшись, как уезжала не раз, и не раз беспокоилась о родных, но не так, как теперь. Значит, что-то стряслось.
– Прощай, отче, домой поеду, загостилась.
– Удостой чести, княгиня, отобедай со мной. Солянка грибная удалась, пирог твой любимый готов, с дерябой. Ох, и хороша нынче деряба!
– Спасибо, в другой раз! – Она устремилась к дверям так поспешно, будто возвестили о пожаре. По монастырскому двору почти побежала… Настоятель что есть мочи старался поспеть за ней. Дышал хрипло, кашлял. Анна опомнилась, пожалела его, хилого, немощного. Остановилась, сказала ласково:
– Не провожай, отец.
Но тот упрямо заковылял следом. Пришлось ей сбавить шаг, пойти с ним рядом. Им кланялись со всех сторон, сгибались до земли, издали и вблизи.
Во дворе сохло сено. Его сгребали в маленькие стога, носили охапками в ниши толстенной монастырской стены, в закрытую со стороны села пещеру главных ворот. С удивлением заметила Анна, что неподсохшее сено ворошат черницы. Они тоже почтительно поклонились. Только одна, повернувшись спиной к идущим, так и не оставила работы. Высокая, статная, со знакомой Анне осанкой.
Ледра! Но откуда ей здесь взяться? Так вот почему тревога – Лед-ра! Однако тревожиться из-за её появления не стоит: что значит искусство любовных утех этой девки по сравнению с властью княгини! Власть, подкреплённая рождением наследника, – вот это сила, так сила. Только бы с ним ничего не случилось…
Тревога не отпускала. Анна не слушала настоятеля, а он говорил:
– Не поклонилась – застеснялась. Теперь миряне охальничают, как завидят монахинь и монахов вместе, за работой. Ей более других хулы достаётся: лицом и статью прекрасна. Мужики на неё заглядываются, и мысли у них, – настоятель закашлялся, – греховные. А прежде, в старые времена, доордынские, чернецы и черницы живали в одних стенах, общежитийный уклад имели. – И, уже попрощавшись, когда Анна села в возок, а дружинники княгини вскочили на коней, оградили её спереди и сзади, сказал тихо, доверительно: – Богоматерь была доброй, кроткой женщиной на земле, вернее Пречистой Девой, и на небе она лишь посредница между Богом и людьми, – и, усмехнувшись, бормотнул: – Там тоже главенствует мужское начало…
Во власти неослабевающей тревоги, Анна больше не думала о своём творении, не хотела и размышлять о борьбе мужского и женского начала, не замечала убывающих под колесами возка вёрст. Ей казалось, колёса перестали крутиться, возок стоит, и она то и дело кричала вознице:
– Скорей, скорей, скорей!
Мчались навстречу могучие сосны, ближе к реке их сменили дубы, потом справа и слева от дороги замелькали одинаковые жёлтые нивы. Лишь количеством расставленных на них копен отличались они одна от другой. Но копны, что справа, что слева, – одна в одну, похожи на кукол, разбежавшихся по столешнице. Сравнение это мелькнуло в сознании Анны, но не вернуло к действительности. Очнулась она только у переправы через Оку.
На переправе, как всегда в летнюю пору, было полным-полно народу. Люди, собравшиеся из приокских сёл, смиренно ожидали в тени ивняка, когда отдохнут перевозчики. Те от солнца и чужого любопытного глаза укрывались в шатре. На солнцепёке крутилась детвора, на этом и том берегу: купались до посинения (вода в Оке холодная), пытались ловить рыбёшку. Княжеская ладья была наготове, и гребцы лежали на песочке близ неё. На другой стороне дожидалась своего часа – другая. Ждал Анну любимый конь. Завидев княгинин поезд, он протяжно и радостно заржал. Он всегда радовался встрече с хозяйкой и волновался, когда она оставляла его на городском берегу: рвался за ней, готовый плыть рядом с ладьёй. Но, опасаясь коварной, мощной окской стремнины, Анна предпочитала менять лошадей.
«Вот ведь, вроде бы и не разумное существо, а тревожится, любит», – думала Анна, потчуя коня припасёнными с утра сухариками. Близость к дому, мирная обстановка переправы, приятное покачивание ладьи успокоило её. Тревога сменилась обидой: князь не заметил отсутствия жены за своими княжескими заботами. Они же представились Анне сущей мелочью. Даже княжеские советы, что проводились ежеутренне и где бояре переливали из пустого в порожнее. И зачем каждый день собираться, чтобы воду в ступе толочь! Был ещё княжеский суд – да кого на нём судить!
Оставались псарня, голубятня и кречеты. В последнее время князь охотно их навещал, стараясь позабавить сына или пытаясь за детской забавой спрятать своё не проходящее с годами увлечение. И сын за кормлением щенков, за натасканием алчных челигов[38] не вспомнит о ней – распаляла себя Анна всё больше и больше, – и вокруг ничего не изменится, даже если она умрёт: так же будут сновать по улицам унизанные репьями собаки, а в тени под вязом будет укачивать младенца старуха, будут возвращаться с Лыбеди ко дворам гуси. А её не будет… Анна плакала и не вытирала слёз – никто не мог их увидеть – город затих в послеполуденный час.
Мост через ров у Глебовских ворот оказался поднятым: наконец-то починили. С месяц, наверное, его не поднимали. Розмысл, ведающий хитрыми военными сооружениями, клялся, что неисправность сложная, и медлил с починкой. Утром, когда Анна выезжала в Солотчу, ещё не приступали к работе. «Может, и не было нужды его чинить, – подумала Анна, – поднимать ленились, и плут розмысл в сговоре с бездельниками и ротозеями». И тут же увидела этого нерадивого слугу. С кучкой мужиков он суетился на крепостной стене. Его рвение поразило Анну: без строгого приказа он не хотел ничего делать. Значит, Василий не голубей гонял (да как ему было гонять – хромому!), а слуг прибирал к рукам – давно пора! Ей бы власть – они бы так не обнаглели, не распустились!
На княжеском подворье была суматоха. Сновали бабы с узлами, озабоченно проходили мужики. Что-то стучало, гремело, скрипело. К чему-то готовились. Татары? Но в Нижней слободе, по которой она только что проехала, все спокойно отдыхали. У конюшни какие-то распоряжения отдавал сам князь. «Меня искать собирается, – подумала Анна радостно и виновато. – Что сказать-то? Кинуться на грудь – да люди кругом». А князь, прихрамывая, спешил навстречу. За ним, не решаясь обогнать и опасаясь не поспеть, пересекали задний двор стременной и конюх.
– Где тебя носит? – с досадой спросил князь, помогая жене спешиться, и, не дав ей повиниться, быстро добавил: – Ордынцы наступают!
– Ванятка! – вскрикнула Анна. – Как уберечь его? – Так вот почему она тревожилась!
– Немедля поедешь с ним за Оку! – Василий направился к терему, Анна поспешила за ним: несмотря на хромоту, он шёл быстро. – Как дальше всё будет складываться, а то, может, в Москву лучше.
– Я никуда не поеду! – Василий остановился. – Ты представляешь, что начнётся в городе, если княгиня его покинет? Все двинутся следом.
– Людей сбережём…
– Город потеряем! Я останусь. Ванятку с мамкой отправим, если что…
– Город потеряем – людей спасём. Без людей город мёртв. И не препирайся со мной при народе!
Никого рядом как раз не было, что редко случалось, когда они разговаривали в тереме, и, по привычке понизив голос почти до шёпота, Анна сказала:
– Ни за что не оставлю тебя одного, ни за что!
– Ну ладно, ладно, у нас есть время до утра. Решим, что дальше делать.
Ничего решить они не успели: вечер и часть ночи провели каждый в своих хлопотах, потом прощались в опочивальне, с разной степенью страстности, но с одной мыслью: может, вместе в последний paз… За тонкой стеной разговаривали, двигали лавки, бряцали оружием. Среди невнятной мужской разноголосицы Анне почудился голос Владимира Пронского. Она боялась, что их тоже слышат. А если не слышат, то знают, что они не спят, а потому и шумят так беззастенчиво.
– Вели им уйти, – шептала она, – вели…
– Не обращай внимания, – отвечал Василий и клялся, что никогда ни с кем ему не было так хорошо. «Ну зачем он сейчас об этом?» – думала она и ревниво вспоминала возможных соперниц. И мысли о них мешали ей не меньше голосов за стеной.
– Я Ледру нынче видела, – сказала Анна мстительно, когда Василий попытался заснуть. Сказала и тут же пожалела об этом: на пороге вечной разлуки оба, и она старые обиды вспоминает, пусть – и новые, но что они значат по сравнению с грядущей бедой.
– Этого не может быть, – сказал Василий с таким безразличным спокойствием, что у Анны не осталось сомнений: обозналась.
– А Еввула почему не объявляется? Она всегда помогает в лихую годину…
– Значит, лихое время пока не пришло. Спи. У Еввулы своя жизнь…
Заснуть она не могла. Представляла, что ждёт их в ближайшие дни.
Василий возглавить войско едва ли сможет – без стремянного на коня не садится и держаться в седле долго не может. Значит, военачальником будет князь Пронский. Говорят, он отважный воин. А если… Тогда осады не миновать, и случись что – она останется одна с двумя детьми… Анна была уверена, что ночное прощание даром не пройдёт. «Случись что» она распространила только на Василия и не испытала к нему жалости или чувства невосполнимой утраты – только великую тревогу за детей и тяжесть неминуемых забот. Она тотчас же спохватилась с суеверным ужасом. Но ужас опять-таки не касался мужа. Она представила, что может погибнуть сама с неродившимся ребёнком: княгини во время войны гибли почти наравне с князьями, хотя и не вместе с ними. «Нет, – решила Анна, – так просто я им не дамся. Не стану запираться в соборе, как эти гусыни: буду держаться до последнего…»
«Беда миновала!» – Князь Пронский стоял у самого ложа и улыбался. «Как посмел ты войти, не спросившись?» – возмутилась Анна и – проснулась. В дверь стучали. Василий спешно одевался и, не надев сапоги, разрешил войти. Вошёл князь Пронский и сказал то, что Анна услышала во сне:
– Беда миновала! – и пояснил, глядя только на князя: – Ордынцы прошли прочь наших окраин. Движутся на Москву.
На Москву! – какая радость. На Москву – какое горе. Там мать, там братья, там Юрий. Ему сражения не избежать! А смерти? И опять она виновата, ленивая неумеха.
Анна хотела ехать в Солотчу, торопить иконника, писать сама, но Василий воспротивился: беда миновала, но угроза осталась. Он собрал совет. Вопреки обыкновению, пригласил на него Анну. И предложил выступить на помощь Москве. Не столько, чтобы поддержать Ивана в трудную минуту, сколько для того, чтобы нанести сокрушительный удар ордынцам. Он считал, что для этого настало самое подходящее время. Бояре роптали, бояре сомневались. Василий напомнил им, как его прадеды Дмитрий Московский и Олег Рязанский, враждуя и ослабев в этой вражде, упустили время и не воспользовались случаем освободиться от ига. А он представился, когда Тимур развалил Орду, когда пала её столица Сарай-Берке – разделила страшную участь Рязани. С землёй сровнял цветущий город железный хромец.
– Опасались твои прадеды, наступая на басурман, отрываться от родных пределов, – возразил судный боярин Шиловский. – У Москвы ведь и с юга, и с севера соседи миролюбием не отличались, и чуть что, всадили бы нож в спину. С Рязанью замирилась – да, но надолго ли? Родственные связи, конечно, крепче союзничьих, но и они рвутся.
Анне показалось, что боярин намекал на вражду её братьев. А тот, оправдав княжеских прадедов, продолжал урезонивать князя:
– Сегодня поможем Москве, завтра под пятой у неё окажемся, хотя и так приберёт она к рукам Рязанию. К тому всё идёт, но когда ещё будет…
Неожиданно князь Пронский поддержал Василия, сказал, что готов выступить сегодня же.
– А на сколько дней вперёд ушли татары? – спросила Анна.
– Значит, к битве нам уже не поспеть, – сказал кто-то, – дня три от них отделяет, от татар.
– А за это время король польский Казимир к ним на подмогу поспеет.
– Не поспеет – с чехами да уграми разбирается.
Решили повременить, держать силы наготове и, если что, встретить врага.
«Одного маленького, простого вопроса оказалось достаточно, – думала Анна, – чтобы сомнения стали уверенностью». Она не жалела, что задала этот вопрос. Ей не хотелось, чтобы Рязань ввязывалась в кровавую распрю между Москвой и Ордой. Страшно было за братьев. Но она знала, что война – смысл их жизни. Не встретятся с татарами – пойдут против ближайших соседей – кто там ещё не склонил голову? Только Юрия было жалко, до слёз.
Послала в Солотчу нарочного с письмом к настоятелю. Он ответил, что работа почти завершена, и к вечеру следующего дня Анна получила новую икону.
Икона была в ризе, которую Анна не заказывала. Риза из тончайшего, почти прозрачного серебра выглядела светлым покрывалом. В него зябко куталась юная мать и пыталась укрыть им сына. А того, видимо, тяготил и такой невесомый покров, и казалось, мальчик сам, нарочно прорвал его в нескольких местах, чтобы выпростать голову с плечом, крохотные кисти рук и ступни. Левая ступня при этом усилии как-то неестественно вывернулась. Мать не обращала внимания на такой неполадок: она уже смирилась с самостоятельностью сына. Понимала: через день-другой не удержит его не то что паутина покрывала, но и она сама своими руками. А потом неизбежно настанет час, когда взлелеянное матерью дитя решительно и безжалостно отвергнет её опеку – пойдёт по жизни своим тяжёлым и, возможно, неверным путём, а она, не переставая любить сына, отправится следом.
Увы, такова участь почти всех матерей…
Отрок был хорош лицом. Под покрывалом угадывалось его стройное, ловкое и сильное тело, уменьшенное до кукольных размеров: ступня его равнялась материнскому мизинцу.
Анна рассматривала новую икону, как встретившуюся в книге миниатюру, с пристальным вниманием и любопытством. Она умела и любила читать рисунки, порой они говорили больше, чем написанный уставом или полууставом рассказ. Читая изменённый ризой и не только ею почти до неузнаваемости образ, она не воспринимала его уже своим творением. Новое, преображённое, ей нравилось куда больше. От него исходили доброта, нежность и неизбывная печаль… Но икона ли оно, презревшее каноны, нарушающее привычные представления? Разве эта красивая грустная женщина – Одигитрия, Путеводительница? Нет, она лишь – Идущая следом и не святая даже. Нимба нет над головой. А корона, венец, придерживающий покрывало на голове, воспринимается не символом власти, а всего лишь дорогим украшением. У младенца, вернее отрока, тоже нет нимба, и он удивительно похож… на суженого. Она перевела взгляд на женщину и – увидела, будто в зеркале, себя. Старый иконник не изменил на лике ни одной черты, ничего не поправил, и, тем не менее, это была не Марьюшка.
Но как же так? – заволновалась Анна. – Ведь он сам намекал на сходство изображённой с прабабкой Марьи Анной Кашинской? Или Анну вспомнил не из-за этого?
Выходит, на руках у княгини Рязанской – муж! Как понимать такое преображение? Как намёк на детскую зависимость рязанского князя от жениной (считай – московской!) опеки, недопустимой ни в его зрелом теперь возрасте, ни в звании его великого князя. Можно иначе: это предупреждение княгине – как бы ни держала мужа, вырвется и уйдёт. Но куда – к Ледре или в мещёрские леса к Еввуле?
Анна отложила икону и отошла от стола к окну – там ей лучше думалось. Под окном и у ограды дворовые мужики безжалостно рубили пышную вишнёвую поросль. Она радовала глаз по весне пенным обилием цветов, и ягоды удавались сладкие, урожайные, вопреки поздним заморозкам, – и на тебе – под корень, чтобы уберечь двор от лазутчиков. Остерегаясь их, на острове, у самого Трубежа, палили бурьян и сбегающие к воде кусты ивняка. Глядя на огонь, обескровленный всё ещё сильными лучами августовского солнца, Анна думала о настоятеле, нежданно подбросившем неприятную загадку: неужели доброжелательный на вид старик так коварен и зол, что не боится даже кощунствовать?
Она знала, что иконники зачастую вкладывают в свою работу, помимо основного, известного всем, ещё и потаённый смысл. К примеру, чудовище, которое разил Георгий Победоносец, было символом ордынского владычества. Но чтобы кто-то из иконников или заказчиков использовал икону для сведения счётов со своими соплеменниками, для насмешки над ними, такого не было никогда, такого не могло быть.
Этого и нет, успокаивала себя Анна, напрасно она заподозрила благонравного старца в злом умысле и гнусным подозрением осквернила святыню. Она быстро подошла к столу, склонилась над образом. От него по-прежнему исходило ласковое тепло. В женщине (Анна не могла назвать её Богоматерью) она не нашла теперь сходства с собой, да и отрок едва ли был похож на мужа. Ведь настоятель не видел Василия парнишкой? И сходство ликов, и недоброжелательство старца ей почудилось потому, что она сама с собой не в ладу и не в силах одолеть душевного разлада: постоянно борется с Василием за власть – в постели, тереме, княжестве, не хочет с ним делить любовь к сыну. И дело не в извечном противостоянии мужского и женского начала, как полагает многомудрый настоятель. Через неё московский княжеский дом ведёт борьбу с рязанским. Как жестоки были родные, уготовившие ей с пелёнок такую участь. Или они не предвидели, на какие муки обрекают любимую дочь и сестру?
«Не заставить лаять волка по-собачьи» – такую надпись прочитала недавно на заборе рынка. Кто написал, почему? Надпись старательно забеливали, значит, её смысл кого-то смущал, к кому-то взывал. Она тогда проехала мимо, даже не придержав коня, отметив только, что дёготь надписи едва ли закроет побелка, а теперь думала – кто-то неизвестный обращался и к ней тоже. В ней волчья кровь пращура Ивана Даниловича Калиты. Он не гнушался ни подкупом, ни наветом, ни мечом. Сколько невинных душ сгубил, чтобы добиться большой власти, чтобы возвеличить княжество Московское. И никто из потомков его не постыдился родства с ним. В её семье о Калите рассказывали как о славном витязе, правда, без Марьюшки, поскольку в рассказе упоминался и пращур той, князь Тверской Александр. Он вдруг заупрямился, перестал платить дань Орде. Иван Данилович, прознав про это, вызвался помочь ордынцам покарать ослушника. Хан Узбек отдал под начало Ивана Даниловича пятьдесят тысяч своих воинов с пятью темниками. Навели порядок. Иван Данилович стал Великим князем. Историю эту рассказывали московским княжичам с гордостью, в назидание. Братья слушали её внимательно, справлялись о подробностях. Им позволялось спрашивать, пока Юрий не осведомился – только-только кончили трапезничать:
– Почему Иван Данилыч не поддержал Александра Тверского? Вместе бы они, глядишь…
– Нельзя плевать против ветра! – зло оборвал его отец.
– Отчего же тогда, – не унялся Юрий, – Васяткиного прадеда Олега хулят, что не поддержал князя Дмитрия?
И вместо ответа получил деревянной ложкой по лбу. Отец очень метко достал его ложкой через стол – у неё был длинный черенок.
– Надо уметь задавать вопросы, – сказал он спокойно.
Она запомнила наставление, свой вопрос нынче задала умеючи. Оказавшись в чужой стае, она приняла её правила. Ей суждено выступать против своих. Со своими бороться за власть. Этого хитромудрые родственники не предусмотрели.
Анна припала губами к холодному серебру ризы, сказала шёпотом:
– Бог покарает меня за отступничество, за властолюбие, за грехи пращуров моих…
И тут громыхнуло, да так, что задребезжали стёклышки в окнах. Анна рухнула на стул, крикнула негромко:
– Девки! – Громыхнуло второй раз. – Вьюшки, окна!
Девки не шли: зубоскалили, видно, с рындами где-нибудь в переходе или на лестнице, а то и во двор выбежали свежего воздуха дохнуть. Она несмело поднялась и с опаской подошла к окну, надеясь, что это не кара божья, а начинается обычная гроза. Кусок неба над островом был по-прежнему чист, но мужики, что приглядывали за палом, оставили работу и смотрели куда-то в сторону Глебовской башни. Дворовых же не было видно, хотя они и не расправились с кустами окончательно: на траве под уцелевшими вишнями валялись топоры и пилы. Неужели набег?
– Княгиня-матушка, напугалась, чай? – спросила, едва справляясь с одышкой, девка, – со двора вбежала. – Не бойся. Пушку испытывают, ту, что пять лет тому назад купили! Без дела стояла. Воробьи в ней вывелись. Прости, что убежала без спросу, уж больно поглядеть хотелось, как палит.
Анна в растерянности кивнула. Её поразило, как девка весело говорит о пушечной пальбе, словно речь идёт о новом святочном игрище. Впрочем, можно было понять глупую: ей лет десять всего и было, когда татары напали на Рязанское княжество и были побиты далеко от Переяславля. Из пушек тогда не палили, их приобрели позже. Анне и самой любопытно было бы взглянуть, как заряжают пушки, как далеко летят ядра, но не во время же надвигающейся опасности любопытствовать.
– А что, князь был при пальбе?
– Нет, он посла принимает, то есть гонца, – ответила девка, не придав значения сказанному.
– Гонец прибыл из Москвы? И ты молчишь! – Анна махнула рукой, отсылая девку. Та попятилась в дверях и в них столкнулась с князем. Остановилась, не зная, что делать – пропустить его с поклоном или самой прошмыгнуть между ним и дверным косяком. Прошмыгнула – молодая была, неучёная, хотя из хорошей семьи.
Василий не обратил внимания на неучтивость, заговорил от порога:
– Ахмат захватил Олексин. Перерезал всех жителей.
– Боже мой! А что же москвитяне?
– Иван послал к Олексину воевод Фёдора Давыдовича, Данилу Холмского да Ивана Стригу-Оболенского с их ратями, но они не успели наладить переправу через Оку, не было лодок. Стояли напротив города не в силах помочь. Ахмат бесчинствовал, потешаясь над ними.
– А где Юрий?
– Брод охраняет через Оку. Да ты не тревожься: он не один, там ещё двое воевод с ратями, князь Василий Михайлович со своим полком. Иван ведёт туда главные силы.
Василий обнял за плечи подошедшую к нему жену, прошёл с нею в глубь горницы, к столу, усадил на стул, сам сел на скамеечку для ног.
– Испытание москвитян ждёт нешуточное, – сказал он, перебирая и слегка сжимая пальцы жены, так же делал и Ванятка, когда волновался, искал защиты у матери, – Ахмат движется вдоль Оки к броду…
– Может, он на нас повернуть хочет?
– Мы ему сейчас не нужны. Он намерен покарать Ивана за ослушание, за превышение данной ему Ордой власти. То есть за то, что Иван без разрешения на то Ахмата подчиняет себе соседние княжества.
– Но это же не нынче началось, – возразила Анна, – ещё покойный батюшка…
– Да, вначале татары как бы и потворствовали объединению – лучше с одним дело иметь при сборе дани, чем со многими. Не сразу сообразили, что объединение против них и обернётся. Соберёт Иван у них в тылу царство не меньше Золотоордынского – прощай, дань! Уже сейчас Иван утаивает её немалую долю.
– Что-то я не слышала про это, – усомнилась Анна только в последнем доводе.
– Зато люди верные и слышали, и видали. Не зря же Иван мать в Ростов отправил с Ваняткой, с братичем нашим: «знает кошка, чьё мясо съела», готовится к большой битве.
Василий поднялся со скамеечки, стал разглядывать лежащую на столе икону и, не поворачиваясь к Анне, сказал тихо, словно разговаривая с собой:
– Может, всё-таки нападём на Ахмата сзади, пока он брод будет переходить?
– Нет, нет! – не раздумывая, ответила Анна и тоже встала, подошла к двери и плотно закрыла. – Делать этого нельзя. Мы не успеем, и Ахмат повернёт на нас. А если успеем, Иван может замешкаться у брода, а то и вовсе в него не ступить. – Она вернулась к столу и, будто кто-то был рядом, зашептала: – Ты и впрямь поверил, что не было лодок у переправы? Иван побоялся переправиться. А вдруг Казимир с тылу подойдёт или соседи сзади ударят. Соседи-то у него ненадёжные – всех их он в страхе держит, одних покорил мечом, над другими меч занёс. На нас только у него и надежда – не предадим.
– Не предадим? А это…
– Да, не предадим, – быстро перебила Анна, – но и не поможем. Своя рубашка ближе к телу. У нас сын растёт, даст бог, ещё дети будут, и что же им из-под дядиной десницы на мир смотреть?
Анна замолчала, но Василий не спешил возразить.
– Да уж если быть до конца честным друг перед другом, – продолжала она, – и перед собой, то мы оба сознаём, что победа Ахмата нам куда выгоднее, чем его поражение.
– Да что ты говоришь, Анычка! – Василий поднял икону и как бы заслонился ею от жены. – Там же твои братья!
– А здесь – муж и сын. И сердце у меня от этого выбора разрывается…
Анна заплакала. Василий не утешал её. Слезы его злили. Ему казалось, что это женское оружие против мужчин. Ждал, когда она перестанет плакать. Анна быстро овладела собой и рассказала о пророчестве Юрию, о своём обете написать икону, о том, что не выполнила обета вовремя, не смогла отвести от Юрия опасности.
– Ну это дело поправимое, – повеселел Василий, – пошлю гонца к Юрию. Глядишь, и в самом деле подарок твой беду отведёт. Нам остаётся только на это надеяться, если сами помочь не хотим. – Он поцеловал жену, как бы примиряясь с её решением и, уже взявшись за ручку двери, добавил: – Прекрасная работа. Я с детства знаю иконника и люблю его.
Икону он забрал. На рассвете гонец отправился с ней в стан москвитян. Назад он не вернулся…
Другие гонцы приносили каждый день вести: татары движутся вдоль Оки, подошли к броду, стали у него лагерем, обмениваются с москвитянами стрелами, ни те, ни другие через реку не идут.
Анна пришла в сад посмотреть, как убирают яблоки. Она всё ещё опасалась, что урожай может достаться врагу или погибнуть при осаде. Следовало спешить, чтобы собрать хотя бы половину, убрать да понадёжнее спрятать. Хоть яблоко и не пшеница, но и оно зимой сгодится.
Молодые работницы и помогавшие им мальчишки не усердствовали то ли потому, что не представляли опасности, то ли оттого, что считали нелепым заботиться об урожае, когда беда не за горами. А урожай удался небывалый. Ветки ломались от плодов. И откуда только взялось такое обилие, – деревья весной цвели, вроде как всегда, и пчёлы трудились в цветах вроде и не больше обычного, по крайней мере, мёда принесли столько, сколько в прошлые годы. И на тебе! – яблоками унизана каждая веточка, крупными, яркощёкими. И созревать они начали рано. Спелые, не подточенные червяками, сыпались градом даже в безветрие и смачивали землю, разбиваясь, сладким соком. Вертоградарь[39] говорил, «кислили», и по его приказу слободские бабы-подёнщицы разбрасывали под деревьями золу. А яблоки все падали и падали, в княжеском саду, в монастырских вертоградах, огородах горожан. Ими кормили скотину. Чуть надкусанные, а то и целые, они валялись на мостовых. Их на выброс свозили в овраг, и в сумерках к нему пробирались вепри из окрестных лесов. И только на рынке сыскать яблок было нельзя: они перестали считаться товаром.
Для княжеского стола и для заготовки впрок яблоки снимали с веток. Ловкие мальчишки с торбами у пояса, как белки, сновали по деревьям. Торбы принимали справные молодицы, одетые по летнему времени в одни лишь полотняные рубахи и обвязавшие головы белыми платами так, что виднелись лишь глаза и жадно хватающий воздух рот. По двое тащили корзины к амбару, где хозяйствовали вертоградарь, повар и стольник, определяли дальнейшую судьбу плодов.
Анна в их распоряжения не вмешивалась и сидела на дерновой скамейке под грушей для порядка. Слободские бабы выказывали ей расторопность и усердие, их юркие сыновья или братичи её не занимали. Заботил сын – он никак не мог вскарабкаться на дерево выше своего роста. А дядька раз за разом понуждал его лезть ещё и отпускал громко, на весь сад, нелестные замечания. И это при навостривших оттопыренные золотушные уши мальчишках на деревьях, при их матерях, тётках.
«Э-эх, – думала Анна, – нашёл время старый, когда учить! Разнесут востроглазые болтушки по всему городу, что княжич – недотёпа. Одна вон уже оставила корзинку, направляется к княжичу: “Милок, я пособлю!” – “Милок” – княжичу! А старый дурак улыбается, сомлел перед посадской красулей…» Анна решительно поднялась – прекратить безобразие – и не сделала ни шагу…
По дорожке шел Юрий. Не тот, каким она его видела в последний раз, в предзимье. Юрий, что был в монастырском саду матушки Ксении – та же пружинистая быстрая походка, та же простая одежда, не князя – ратника, непокрытая голова – ветер чуть треплет стриженные под горшок светлые волосы над смуглым лицом. Юрий!
– Тятя! – заверещал Ванятка. – Тятя, смотри, как я умею! – и…
– Ахти, батюшки! – возопила молодка под деревом и задрала рубаху, намереваясь в подол поймать княжича.
– Держись крепче, сынок! – Василий, прихрамывая, бежал к рябине. Её когда-то нарочно посадил князь Олег, чтобы учились княжичи лазить.
Сейчас по ней медведем карабкался дядька.
– Не суетитесь, – повелительно и спокойно сказал Ванятка, – спущусь сам. – И спустился в подставленные отцом руки. Тот на миг прижал к себе сына, что-то сказал ему и передал дядьке. Дядька повёл его прочь.
– У меня хорошие вести, – сказал Василий побледневшей жене, которая смотрела на него с каким-то странным недоумением. Она же в это время соображала, почему князь одет иначе, чем ей привиделось, и волосы у него тёмные и обрамляют бледное, не успевшее задубеть из-за болезни лицо. Да и к рябине он подбежал не со стороны тропинки, по которой шёл Юрий.
– Где Юрий? – спросила Анна тревожно.
Василия не удивил вопрос. Он рассказал, что Ахмат быстро идёт к Астрахани, минуя рязанские пределы, и о том, что Иван отправился в Ростов за матерью и сыном, оставил за себя в войсках Юрия.
– А ты была права, моя военачальница, – радовался Василий, – что уговорила не встревать. Откупился Иван от Ахмата Олексином. Тут, у брода, и лодки были не нужны, но через речку он не стал переправляться и боя Ахмату не навязал. И теперь ещё время не упущено с татарами сразиться. Двинул бы им вслед, врасплох и смял бы. Тем паче немочь какая-то в татарском войске объявилась. Идут они быстро, словно спасаются от неё, но по пути воинов своих теряют. Самое время сейчас с Ордой покончить. Казимир не выступит, мы на сей-то раз обязательно поможем.
– Угомонись! – весело сказала Анна – радость переполняла её: всё так прекрасно сложилось. Братья живы, здоровы, рязанская помощь им не потребовалась, так что едва ли им придёт в голову, что и не дождались бы они этой помощи, ордынцы возвращаются подобру-поздорову и не по рязанской земле. Теперь можно было передохнуть, развеяться, съездить в Заборье за грибами или в Криуши за дерябой, навестить настоятеля, отведать у него пирога и расспросить, с кого он младенца писал, самой что-нибудь написать.
– Угомонись! – И бросила суженому невесть как оказавшееся в руках яблоко. Не успела глазом моргнуть, как Василий уже вгрызался в его сочную мякоть, вгрызался, как конь, с отвратительным хрустом, с брызгами во все стороны, от которых увлажнился его подбородок, негусто прикрытый более светлыми, чем на голове короткими волосами. Анна терпеть не могла, когда при ней грызли яблоко или морковь, и Василий знал об этом с детства, считал причудой и не желал этой причуде потворствовать. Сейчас же она почувствовала непреодолимую тошноту и сонливость и вместо того, чтобы привычно возмутиться и в ответ услышать насмешку, сказала жалобно:
– Хочу спать. Спать, спать. Буду спать целый день, нет, сутки, неделю.
Василий швырнул надкушенное очень вкусное, медовое, яблоко, и они пошли по дорожке к терему, на которой только что Анна видела Юрия… Теперь, уступая им дорогу, с неё сходили бабы с полными и пустыми корзинами, сгибались в поклонах до земли, и не одна не запомнилась Анне – белые платки, холщовые рубахи. «Есть ли под этими рубахами что-нибудь? – подумала Анна вяло. – Наверное, есть, иначе не подняла бы подол та баба, что намеревалась спасти княжича, надо бы наградить её чем-нибудь». Анна не узнала бы сейчас этой посадской молодухи, но вдруг позавидовала ей и всем её товаркам: счастливые – живут со своими мужьями и детьми без назойливых слуг, без их любопытного и осуждающего, завистливого погляда. Ей захотелось невозможного, чтобы Василий отнёс её в опочивальню, но он не мог войти туда в неурочное время. Она не могла кормить своих детей сама, а чтобы поймать ребёнка в подол прилюдно, у неё самой смелости не хватило, хотя чего только не было на ней понадёвано даже в эту августовскую жару.
Василий говорил что-то оживлённо и ласково. Она не слушала: перенеслась в выдуманный лад вольного, посадского житья, забыв или плохо представляя, что живут бабы в избах с одной горницей, спят вповалку с детьми на полу, а нестарые их свёкры – на лежанке, древним бабкам-дедам достаётся печь, и с мужьми наедине эти счастливицы бывают разве в бане да где-нибудь в овине, где на них с любопытством поглядывает всяческая живность. Она не подумала, что не решившиеся даже разогнуться, пока она не уйдёт, они не в состоянии даже завидовать ей.
Она спряталась в сон. Ушла в другой мир с радостной готовностью, не раздумывая, что её там ожидает. Спала без видений до вечера. Потом с часок, совершенно разбитая и невыспавшаяся, побродила по своей опочивальне и опять улеглась. Ночной сон тоже не принёс бодрости, и на удивление прислуге, встревожив мужа, она после снеданка забралась под одеяло. Её знобило, несмотря на не отступавшую жару. Василий послал за лекарем. Тот долго мял руку дремлющей Анне, трогал её лоб и сказал, что горячки нет, по-видимому, слегла от утомления, пусть-де княгиня спит, сколько захочет, но попоить кровью загнанного зайца её все-таки следует.
Лекарь ушёл к себе, боярыни зашушукались по углам, ловчие поспешили гонять зайцев, пополз по Переяславлю слух о странной княгининой хвори. На время и о татарах забыли. Да что о них помнить? Миновали рязанские пределы и – беда миновала!
Проснувшись на четвёртый день, Анна почувствовала необыкновенный прилив сил – может, заячья кровь помогла. Заря только занималась. Терем безмолвствовал. У порога на ворохе половиков спала одна сенная девка, на лавке за столом другая. Анна не стала их будить, проворно поднялась и на цыпочках подошла к окну.
Туман поднимался над Трубежем, закрыл остров и двигался к яру разбушевавшимся, как в половодье, потоком, поднимаясь всё выше и выше, вот-вот преодолеет обрыв и вряд ли тогда удержит его новая, сложенная из плинфы крепостная стена.
Анна взглянула на стену – в её белёном боку зияла дыра. Не дыра даже – огромный провал с неровными, выщербленными краями, с кучей побитой плинфы посередине. И на этой горе обломков, стоя на задних ногах, дрались три большие козы. Они сцепились рогами и тем только сохранили равновесие. Дойные козы, молочные – вымя, что бурдюк, почти обломков касается. И откуда только взялись? – в кремле коз не держали, на конюшне козёл жил, чтобы духом своим противным ласок отпугивать. Пока Анна соображала, почему в стене пролом, будто её пороком молотили, как очутились на кремлевском подворье козы, и с кого за это спросить, как козья борьба кончилась. Козы обрушились наземь, подогнув передние колени, вскочили и оказались уже на значительном расстоянии от стены. У той, что стояла ближе к окну, сломался рог, из его основания хлестала кровь.
– Ой! – воскликнула Анна. – Девки! – и проснулась. Над нею склонился Василий и смотрел горестно, сочувственно. Глаза у него были воспалены то ли от недавних слёз, то ли от длительной бессонницы.
– Суженый! Не смотри так печально. Я наконец совсем выспалась. И сил у меня… – Она обняла мужа за шею. – Давай поедем куда-нибудь. Сейчас оденусь, поснедаем[40] и… Девки!
– Погоди одеваться, – попросил Василий и присел на край постели.
– Но-но, князь! – засмеялась Анна. – Не нарушай теремного порядка. Сейчас время снедать. – Она ловко соскочила с ложа и, не найдя возле него своего наряда, побежала, пританцовывая, дурачась, к каморе, где висела одежда. Там быстро надела на рубаху красную клетчатую понёву, вышитый красной строчкой запон, хотела убрать косы под повойник, да вспомнила, что не умылась ещё, но всё-таки покрасовалась чуток перед зеркальцем, покусывая губы, чтобы краснее были, и приглаживая вздыбившиеся на затылке волосы, и наконец, довольная собой, выглянула в опочивальню.
– Ау! – игриво позвала мужа и помахала повойником, словно приглашая к танцу. Василий игры не принял, хмурый, продолжал сидеть на постели.
– Фу, какой скучный, фу, какой старый! – проговорила Анна без обиды и недовольства, принимая необычную строгость мужа тоже за игру: разве мог он хмуриться на самом деле в такой благодатный день. Направляясь к рукомойнику, она глянула в окно. Там, на воле, вовсю светило солнце, и целехонькая стена прямо-таки сияла под его лучами, никаких коз, конечно, и в помине не было.
– Мне такой странный сон приснился, Васенька, – сказала она раздумчиво с некоторым беспокойством, – а проснулась – и забыла, сейчас вот вспомнила, – и попросила, прежде чем рассказать: – Полей-ка, пожалуйста, на руки.
Василий покорно прошёл в угол, где стояли ушат и поливной, синий с бабочками кувшин. Под кувшином была лужица – он прохудился от старости. Но Анна любила его и не желала с ним расставаться. Придумала под него ставить медный таз, но его теперь почему-то не было.
Умываясь, она рассказала про дерущихся коз, о рухнувшей стене.
– Это очень плохой сон, – заключил Василий, – он сулит беду. – Василий протянул Анне рушник.
– Почему? – испугалась она – рушник провис на вытянутых руках.
– Тебе открылась борьба трёх главных сил на обломках Ордынского царства. Точнее, вернее, бесполезность, ненужность её.
– О чём ты, не понимаю? – Анна так и не вытерла лица.
– О золотоордынцах, москвитянах и о нас, грешных рязанцах: мы противоборствуем, а всё уже рухнуло, лишь сами себе увечья наносить будем в схватках. Одна коза рог себе сломала…
– Не говори загадками, не говори! – Анна затрясла мужа, уже понимая, что случилось.
– Я не могу, – Василий всхлипнул.
– Юрий! – Анна швырнула рушник в ушат. – Это я, я опять виновата!
– Прекрати винить себя! – зло сказал Василий и усадил её на скамейку, возле синего кувшина. – Не возвеличивайся попусту: что сделает слабая жёнка против рока, против набравшей скорость государевой колесницы!
– Мне нужно было кинуться под колёса… А я, я с иконой опоздала.
– Куда кинуться! Какие колёса! И смешно, понимаешь, смешно наделять кипарисовую доску сверхъестественными свойствами. Новгородцы-стригали давно уже не признают икон, даже апостолами писанных…
– Как можешь ты говорить о каких-то еретиках, когда у меня, у меня горе неизбывное! – Анна так стремительно поднялась, что Василий едва удержался на ногах.
– Ненавижу! – прокричала она ему в лицо. – Ты приносишь мне одни несчастья. Ты злой вестник! – и бухнула дверью.
Простоволосая, в рубахе и понёве, как простолюдинка, бежала Анна по саду, теряя разношенные постолы. Ей было всё равно, куда бежать, лишь бы скрыться от горя. Она не видела никого кругом, не разбирала дороги. А та вела прямехонько к Лыбеди, скрывающейся за кустами шиповника и лещины. Здесь, у реки, сад напоминал лес, не потому, что вертоградари обленились, – князю хотелось иметь вблизи от терема кусочек рощи. Это была наследственная прихоть. При Олеге Рязанском посадили в конце вертограда над Лыбедью дикие деревья и кусты, отчего зваться стал он садом. С тех пор и росли дубы, липы и ясени наперегонки, застили белый свет, выпрастывали из земли толстые и твёрдые корни. Они змеями вились через дорожку. О такой корень споткнулась Анна, и была подхвачена чьми-то сильными руками.
– Куда ты летишь, голубушка, сломя голову? – весело полюбопытствовал встречный и развязно-шутливо привлёк к себе. Анна подняла на него заплаканные глаза – перед нею был князь Пронский.
– Извини, княгиня, – смутился он, – не ожидал увидеть тебя здесь, в такой час… – и, говоря это, продолжал держать её в объятиях. Анна с удовольствием ощущала тепло его мускулистых твёрдых, надёжных рук. Это были родные руки – отца, старшего брата, из них не хотелось высвобождаться. Кольцо их смыкалось всё теснее – вот уж не отступить и на полшага. Она шагнула вперёд – и приникла мокрым лицом к рубахе князя. Уловила знакомый, любимый с детства запах душицы и чебреца, почувствовала упругую зыбь широкой груди и заплакала ещё безудержнее.
– Юрий, – бормотала она сквозь слёзы, – Юрия не стало. Я виновата.
Князь гладил её растрепавшиеся волосы, говорил ласково какие-то слова. Она не прекращала плакать и не слушала слов, они утратили смысл. Тогда князь разомкнул объятие, взял обеими руками её маленькую голову и крепко поцеловал в припухшие губы. Анна задохнулась в поцелуе. Оборвался плач. И вдруг чёрная лохматая собака кинулась на князя. Злобно рыча, ухватила за голенище сапога. Князь заслонил собою Анну, сказал собаке миролюбиво, чуть насмешливо:
– Уймись, глупая, ведь ничего ещё не происходит.
Собака послушно отступила, виновато вильнула хвостом.
– Надёжный страж у тебя, Анна, – усмехнулся князь, – лишнего не позволит.
– Страж? Да я этого пса вижу в первый раз. Вот и нет его! – И тут же почувствовала, как вместе с собакой ушло и доверительно-родственное чувство к князю. Стало стыдно за свой непозволительный для женщин порыв, за слёзы, а последнее замечание князя показалось оскорбительным. На что ещё рассчитывал Владимир, размышляла она, если поцелуй среди бела дня не посчитал событием, и соображала, потупившись, как достойно преодолеть возникшую неловкость. Князь стоял теперь на почтительном расстоянии от неё, когда успел отпрянуть и отойти, Анна не заметила.
– Анычка! – окликнул женский голос. На свете почти не осталось людей, кто бы мог назвать её так. Она испугалась, что голос лишь почудился ей, не решалась оглянуться.
– Анна! – Еввула взяла её за руку. – Никак не докличусь, – сказала она буднично, словно они расстались не далее, как за снеданьем. Князь смотрел на неё с ужасом, словно на нежить лесную, проросшую из-под земли. Еввула перехватила его взгляд, улыбнулась насмешливо и низко-низко поклонилась. И тут же повела рукой слева направо, будто очертила дугу. Анна знала силу этого безобидного на вид плавного движения: теперь их от князя отделила невидимая непреодолимая стена.
– Доброго здоровья, князь, – сказала Еввула, выпрямившись.
Он ничего не ответил и Анне не кивнул – пошёл прочь. Еввула повела Анну в другую сторону, к терему.
«Видела она или нет?» – думала Анна, покорно следуя за нею и опасаясь, что та прочтёт мысли. Сердце у Анны частило, но горе стало избываться, оседать, как сугроб под лучами солнца.
– Не будоражься, – сказала Еввула и, приостановившись, взяла Анну за руку, – это повредит ребёнку, что растёт в тебе.
Так вот оно что… Вот отчего этот странный озноб, эта сонливость, ведь уже так было, было.
«Да-да, – подтвердила Еввула беззвучно, – это ребёнок заявляет о себе».
И дальше они разговаривали мысленно. Однако Анна не понимала этого и принимала разговор только за свои размышления. А сводились они к тому, что рождение ребёнка многое изменит в её жизни, появятся новые заботы, новая любовь и тревога. Она перестанет сомневаться в своей привязанности к Василию (будет не до сомнений!), перестанет сопоставлять его с князем Пронским, который своим невольным восклицанием оскорбил её, унизил, да, унизил, не будет горевать о Юрии. Он выполнил своё предназначение на земле. Бог, призвав его, оградил от грядущих страданий. Юрий был славным, честным воином, сражался с басурманами за родину и веру. Теперь враги ослабли, бегут без боя. Москву ждут впредь лишь войны братоубийственные. Иван Васильевич станет против соплеменников, пойдёт против братьев родных. Засадит их в темницу.
Богородица заступилась за Юрия, избавила от участия в делах неправедных.
В терем Анна вошла почти успокоенная. Василий поджидал там же и не высказал обиды, не спросил, где была, как бы и не заметил её отсутствия. Опять усадил на лавку, примостился рядом и продолжил печальный рассказ. Юрий умер не от ран, как подобало воину. Его сразила моровая язва, болезнь (чума, холера?), что обрушилась одновременно на московский и ордынский станы. Видимо, она обратила ордынцев во внезапное бегство. Ивана ужасная немочь миновала: он загодя покинул войско, спешно отправился в Ростов к захворавшей матери. Во время непродолжительной болезни Юрия и его кончины рядом с ним не было никого из близких. С похоронами замешкались, ждали Ивана. Он прибыл на четвёртый день. Покойного отпевал митрополит Филипп с епископами сарским и пермским, погребли его в Архангельском соборе. Не надеясь, что останется жив, Юрий во время болезни составил завещание: братьям и матери – всю недвижимость, сестре – драгоценное, волшебное ожерелье бабки Софьи, то самое, сделанное из пояса Дмитрия Донского.
Василий протянул Анне небольшой, вишнёвого цвета кошель. Его кожаный верх местами был истёрт так, что обнажилась подкладка. Любимый, единственный кошель Юрия. Он не расставался с ним, как с оберегом, как с ладанкой. Говорил, что это калита[41] их пращура Ивана, ей-де и обязан пращур своим прозвищем. Мать смеялась, думала, что Юрий всё выдумал, чтобы подразнить братьев, купил кошель на Красной площади у какой-нибудь нищей старухи или у лукавой цыганки. Иван поддакивал матери, но видно было – завидует. Анна не сомневалась, что обтрёпанный кошель и есть знаменитая калита: не такой человек Юрий, чтобы говорить напраслину. И, получив теперь в наследство маленький бесспорно древний мешочек, Анна задумалась, случайный ли это дар, подвернувшееся под руку Юрию вместилище для ожерелья, или своеобразный наказ ей – быть рачительной хозяйкой в княжестве своём, преумножать его богатства, как делал Иван Калита. Она не смогла развязать узел шнура. Василий же справился с ним быстро и сам вынул ожерелье. Оно оказалось невзрачным: несколько рядов слабо мерцающего крупного жемчуга, потускневшие яхонты – незавидное на первый взгляд наследство. Даже не видавший ожерелья писец, который писал под диктовку Юрия завещание, посчитал, что обделил князь сестру, её доля наследства не сопоставима с тем, что предназначалось братьям. Не мог он предположить, как завидовали они все Анне, с каким удовольствием поменяли бы на невзрачное, но волшебное ожерелье полученные уделы.
Анна протянула к ожерелью руки, как тянут их в стужу к огню костра. Но Василий сам возложил бесценное украшение поверх её рубахи. Оно оказалось слишком свободным для шеи, спустилось ниже ключиц. От ожерелья исходило тонкое тепло. Анне почудилось, что Юрий положил ей на плечи руки.
– Он приходил ко мне попрощаться в день кончины, – прошептала Анна. – Это было перед тем, как Ванюша залез на дерево.
Василий улыбнулся, так улыбаются ребенку, когда он говорит нелепицы.
– Не веришь? Спроси Еввулу. Да где же она?
Еввулы в опочивальне не было.
– А кто её знает, – продолжая улыбаться, ответил Василий, – она человек свободный, вольный, а мне, Лисонька, пора за дела браться. – И, поцеловав жену, он поспешно вышел.
Анна пошарила в кошеле, в надежде найти письмецо от Юрия, и вынула истёртый клочок пергамента с выцветшей, едва различимой надписью на нём. Но она всё-таки разобрала буквы, было начертано: «Не в богатстве – счастье».
9
Ещё не кончился траур по Юрию, а в Московском княжеском доме уже готовились к свадьбе. Иван перед походом получил согласие Зои Палеолог на брак и сразу же отправил Ивана Фрязина за невестой. Он же и представлял великого князя на обручении в папском Риме. Во время этого торжественного действа Иван Фрязин надел Зое на палец дивное кольцо с таким драгоценным яхонтом, что всех присутствующих пробрала дрожь и не только от зависти – какой мощью, каким богатством обладает властелин далёкой варварской страны! О великолепном яхонте говорили долго потом не только в Риме, но и во Флоренции, и в Венеции, возможно, и в Неаполе, хотя гостей из этих городов-государств на обручении и не было.
Распространению слухов немало способствовал сам Иван Фрязин. Ещё в первый свой приезд, без позволения на то великого князя, он свободно перемещался по Италии. Отправился, к примеру, в Венецию. Там выдал себя за посла великого князя Московского, наделённого большими полномочиями, с почестями был принят дожем Николаем Троно. Тот как раз в это время намеревался отправить в Золотую Орду своего посла Джованни Батиста Тревизано с просьбой помочь Венеции в борьбе с турками. Фрязин то ли вызвался, то ли согласился взять посла дожа себе в попутчики. Благополучно доставил Тревизано в Москву, а там почему-то выдал его за купца, своего родственника, и отправил его дальше как частное лицо. Великий князь Московский узнал правду, когда его лукавый тёзка был уже опять на пути в Рим, и страшно разгневался. Однако вдогонку за ним не послал, предоставив ему возможность выполнить важное поручение – привезти невесту. Тревизано же задержали в Рязани, вернули в Москву и посадили в тюрьму как лазутчика. Незадачливый Иван Фрязин пировал в Риме, бахвалился и заносился, не представляя, что в Москве его ждёт жестокая кара.
24 июня 1472 года он с царевной Софьей (после обручения она стала зваться этим именем) выехал из Рима. Кроме него и его свиты, царевну сопровождали папский легат Антоний, получивший задание от папы обратить великого князя Московского в католичество, посол от братьев Софьи, некто Дмитрий, и несметное количество греков – всяческая обслуга да ещё какие-то лица, занятий которых Софья не представляла, но не считала лишними, так как присутствие их придавало процессии торжественность и пышность. Сразу было видно – едет царевна, а не какая-то захудалая герцогиня.
Пришлось царевне ехать в коляске и верхом, плыть под парусами по Балтийскому морю, проделать огромный опасный путь по Европе. Промелькнули перед ней и не запомнились чужие большие и малые города, богатые и не очень замки, а то и совсем нищенские аустерии. Кое-где в её честь устраивали даже пышные приёмы – хозяева радовались лишнему поводу повеселиться. Католики на этих негаданных празднествах чествовали её не как невесту властелина могущественной державы (не все, к огорчению Софьи, о такой державе знали), а как любимую воспитанницу покойного папы Павла и подопечную нового папы Сикста IV. Сведения о Зое-Софье, поднимающие её в глазах гостеприимных хозяев, распространял папский легат, а Фрязин рассказывал, чтобы повеселить их, о курьёзе, который произошёл во время сватовства. Отправляя за невестой посольство в Рим, Иван, великий князь Московский, ещё не знал о смерти папы Павла, с которым велись переговоры о браке, и на его имя написал верительные грамоты. В пути выяснилось, что Павла нет в живых, и послам пришлось выскабливать его имя и вписывать новое. С большим тщением вывели всюду «Калист», а потом узнали, что папа вовсе не Калист – протёрли грамоты до дыр.
Софья тоже развлекала хозяев, но непроизвольно: она привычно очаровывала, блистая красотой, прекрасными манерами, отличным умением танцевать. Глядя на неё, легко и весело движущуюся в танце, Иван Фрязин думал: «Бог мой, как грациозна. Да-да, грациозна, несмотря на полноту. Но там, в Москве, это никому не нужно. Никто не знает даже, что это значит, никто не ведает, кто такие грации». Он жалел её, красивую, образованную, умную, и не мог понять, что заставляет Софью ехать в Московию, становиться женой деспотичного, грубого, малообразованного человека, которого она и знать не знает. Да если бы у него, Фрязина, были её богатство и положение, он никогда бы не поменял солнечную Италию на холодную землю москвитян, никогда бы не получил обидного, неуважительного прозвища Фрязин, что значило по-русски просто «итальянец».
На счёт богатства Софьи он, конечно, очень заблуждался, и положение царевну не устраивало: она хотела властвовать, и было тайное желание – просветить дикий восточный народ. И, преследуя эту цель, она прихватила с собой несколько повозок книг, всю наследственную библиотеку, которую к тому же пополняла по дороге, предполагая, что ничего подобного ей в Москве не сыскать. В пути Софья усердно учила русский язык, в этом ей очень помогал ловкий, услужливый Фрязин.
12 ноября царевнин поезд прибыл в Москву.
Анна приехала двумя днями раньше. Опять, как два года назад, пустилась в путь, четыре дня езды, в предзимье. Ехала на сей раз без Василия. Он занемог или сказался хворым, чтобы не встречаться с московской родней. Советовал и ей отсидеться дома, боялся, кабы худо ей не сделалось в дороге – того и гляди растрясёт по кочкам да ухабам. Но Анне не терпелось увидеть иноземку: какая она, эта царевна, что четыре с половиной месяца едет к суженому, которого видать не видала, в страну чужую, со своими обычаями и языком. Чем только прельстилась? Голытьба, видно, бесприданница, только и привезёт с собой одно звание – царевна. Да и поддержать мать хотелось: шуточное ли дело – два удара приняла, один за другим, – смерть Юрия, сватовство Ивана.
Отправилась в удобной татарской кибитке, с надёжной стражей, конечно. А чтобы не скучно было, взяла в кибитку, помимо девки сенной, еще и сказительницу, разбитную молодку, лицом пригожую, Пичугу дочь Степанову, умелицу всякие сказки сказывать. Прославилась эта молодка, остроносенькая и вертлявая, за что и прозывалась Пичугой, тем, что в отличие от прочих сказителей и сказительниц, коих в Переяславле было немало, не про времена стародавние сказывала и не про нынешние, о будущем слагала весёлые небылицы. И такую несуразицу напридумывала, что не каждый слушал её. Пару раз за них бедную молодку даже поколачивали. И вознамерилась она в Москву податься: там-де сказителей больше, чем в Рязании, ценят, да денег на дорогу собрать не могла. Наконец, дождалась, когда княгиня узнала об её способностях, и сама в Москву позвала, пообещала за дорожное развлечение отпустить на все четыре стороны. Хотя скоморохи и были люди вольные, но кочевать им без разрешения из одного княжества в другое тоже удавалось редко. Благодарная Пичуга старалась изо всех сил, трещала без умолку, сидя на полу кибитки в коротком, шерстью наружу, тулупчике и шапке, похожей на покинутое грачиное гнездо. Сказывала, однако, не о будущем, врала про времена стародавние, Добрыню Никитича поминала, какого-то бога языческого Велеса и змея-Горыныча. Анна слушала плохо: свои думы и видения оказались куда увлекательнее, хотя и не были радостными: появление в московском тереме чужестранки сулило не только перемены для Москвы, но и для Переяславля, не могли они не коснуться и сестры великого князя Московского.
Москва встретила рязанцев грязищей и толчеёй на улицах. От дома к дому горожане сновали по высоким деревянным мосткам. Ближе к Красной площади мостки и справа, и слева прогибались всё ниже, черпали через края чёрную жижу. Прохожие погружались в неё по щиколотку, но не смущались этим – в распутицу без грязи, что зимой без снега. В Переяславле, отметила Анна с удовольствием, было почище, и спросила весело Пичугу, притихшую, нахохлившуюся:
– Здесь ссадить или подвезти дальше? Сапожки-то у тебя не для такой грязищи.
– А разве ты раздумала, княгиня, отвезти меня к своей матушке?
– Раздумала?! – Анну возмутила наглость сказительницы. – Ох, и ловка же ты – да у меня и в мыслях такого не было, и уговора – у нас.
– Стой! – крикнула вознице.
– Стой! – эхом откликнулся тот, и рязанский обоз замер перед Красной площадью.
– Стало быть, не поможешь, княгиня, – спокойно заключила Пичуга и, подхватив котомку, шагнула из кибитки мимо мостков. Сенная девка захохотала, а ведь с удовольствием слушала Пичугины небылицы. Анна тоже не удержала смеха и всё-таки пожалела глупую молодку: пропадёт в Москве одна-одинешенька. Но нахалок следует учить, потому и не окликнула сказительницу.
У Спасских ворот пришлось остановиться ещё раз, переждать, пока проедет отряд нарядных всадников, со знамёнами, хоругвями, иконами. Анна подумала было, что её встречают, но тут же сообразила – царевну. На её же обоз никто внимания не обратил, хотя стражники спереди и сзади его были одно загляденье, а отличные лошади впряжены в богатые повозки. Рязанцы москвитян не привлекали, поскольку сразу было видно – соседи, пусть и по-своему живут, да всё равно свои, наши, по языку, обычаям, вере. Москва с нетерпением ждала дальних, истинных иноземцев, ждала царевну.
Анна застала мать в её опочивальне у раскрытых, как по пятницам, сундуков, а был вторник. Возле них высились груды дорогой рухляди, которую вынули на сей раз не для просушки – Мария Ярославна что-то искала. Обе не виделись со времени рождения Ванюши, и обе удивились произошедшим в них переменам, но оставили удивление при себе. Мария Ярославна потому, что боялась сглазить, сказав, как Анна похорошела. Впрочем, она никогда не хвалила дочь за красоту, чтобы не загордилась.
Анна же промолчала, не желая опечалить мать – за годы их разлуки та попросту увяла. Морщины исполосовали вдоль и поперёк её лицо, и даже кисти некогда проворных и легких рук, пальцы распухли так, что казалось, перстни вросли в них, ногти изменили форму – стали широкими, короткими, покрылись бороздками. Морщины, конечно, можно было забелить и зарумянить, ногти подправить, но глаза омолодить невозможно.
Неласково оглядела Мария Ярославна дочь и, недовольная увиденным, спросила насмешливо:
– Надеюсь, не в этом наряде будешь гостью встречать? Или за восемь лет ничего лучше не справила?
– Так с дороги же я, матушка! – добродушно ответила Анна и, обняв мать, усадила её в кресло. – Ты же сама учила в дорогу особо не наряжаться.
Глаза у Марии Ярославны вроде потеплели, голос явно помягчал, когда задала следующий вопрос, уже не насмешливо, обеспокоенно:
– Ожерелье-то бабки Софьи не забыла? – и тут же приложила плат к лицу. – Горе-то какое, господи! Такой молодой, желанный, справный – и на тебе! Лучше бы мне помереть. Ведь совсем плоха была, – говорила она глухо через плат, через плач, – уж и соборовалась. Да неугодна пока. – Она отняла платок от лица – оно было совершенно сухим.
– Из-за траура, – продолжала Мария Ярославна, уже деловито, – и свадьбу сыграть по-людски нельзя…
Больше о смерти Юрия она не вспомнила, сокрушалась, что Иван презрел старинные свадебные обряды: не разрешил в опочивальне ложе из снопов складывать, деревенский это обычай, сказал; запретил сватам и свахам, а через них и всей свадьбе поутру к молодым входить и бельё разглядывать – неприлично-де это и молодую смутит, в Риме так не принято.
– И знаешь, что заявил ещё, – Мария Ярославна перешла на шёпот: – «Не дело подданных – судить о невинности великой княгини, царевны». Так-то оно так, – Мария Ярославна обеспокоено посмотрела на дверь, – да только смекаю я, доченька, сомневается он в невинности невесты. Говорят, иноземные девки, прости меня, Господи, с мужиками до свадьбы живут. А бабы княжеского звания, при живом-то муже, полюбовников имеют. Иван Фрязин сказывал, что в Риме кардинал живёт со знатной женщиной чуть ли не двадцать лет, и дети есть. Вот тебе и монах! Кажется, кардинал этот участвовал в сватовстве…
Анна слушала мать с нарастающим чувством обиды и досады – не спросила про внука, о зяте ни словечком не обмолвилась, про сыновей ничего не сказала. А Мария Ярославна, не замечая настроения дочери, уже рассказывала о боярине Полуэктове и его жене, той, что якобы извела Марьюшку. Иван, наконец, простил обоих, разрешил им на свадьбу приехать. Тут Марии Ярославне пришлось прервать разговор, чтобы отдать распоряжения служанкам, они то и дело входили в опочивальню, что-то вносили, что-то выносили. Дождавшись, когда служанки в очередной раз вышли, Мария Ярославна сказала с нелепым, не идущим ей теперь лукавством:
– Нет худа без добра. И если бы не Полуэктовы с их колдовством, не видать бы нам царевны…
– Ты бы лучше о ребятах рассказала! – Анна едва сдержалась, чтобы не нагрубить матери.
– А чего о них говорить, – печально отозвалась Мария Ярославна, – грызутся, словно псы в лютень, – и тут же пояснила: – Не между собой – с Иваном не ладят. Наследство Юрия теперь никак не поделят. Иван, вишь, как старший, как великий князь, намеревался себе большую долю взять, а они взбунтовались, не приведи господи. Насилу помирила.
Мария Ярославна замолчала и задумалась. Осела в дубовом кресле, расплылась по нему, как снежная баба под лучами мартовского солнца. И хотя Анне пришло в голову это недоброе сравнение, ей стало жаль мать: сыновья выросли не такими, какими хотелось бы матери их видеть, и сил уже недостаёт, чтобы направлять их, чтобы хоть как-то их изменить.
– Вот отбуду свадьбу – и уйду в монастырь, – бесцветно проговорила Мария Ярославна, будто подумала вслух. – Все надоели…
– А как же я, матынька? – Анна опустилась перед матерью на старый ковёр, положила, как в детстве, голову ей на колени. Мария Ярославна привычно занесла над её головой руку и – резко отвела: волосы Анны покрывал повойник замужней женщины.
– У тебя муж, у тебя сын, и ещё дети будут. Я тебе не нужна и ничего не должна. Моя мирская жизнь кончилась. И прожила я её не напрасно. – Она погладила всё-таки Анну по плечам и, не дождавшись её отклика на сказанное, воскликнула с яростной запальчивостью: – Не напрасно, слышишь? Дай бог тебе воспитать… женить сына на царевне!
Это пожелание изумило Анну тем, что предстоящую женитьбу Ивана мать считала почему-то своей личной заслугой, основным достижением в жизни. Обида захлестнула её – в этой опочивальне, со старинными сундуками, – с неизбывными, знакомыми ей с пелёнок, запахами и шорохами, с огромным мягким ложем, где не раз она засыпала у горячей материнской груди, со старым-престарым ковром из приданого бабки Голтяевой, который спешно расправляли, заслышав шаги князя-батюшки, ей, Анне, больше нет места, ещё не вступивши в Москву, здесь уже властвует царевна.
– Царевна… Ну и что? – проговорила она беспечно, поднявшись и охорашиваясь. – Будто сами какие-то худородные, будто царская кровь нам в диковинку.
– Эх! – выдохнула Мария Ярославна и тоже поднялась, с трудом выпросталась из своего кресла. – Всё это у нас, Анычка, в прошлом. Только благодаря этой чужестранке внуки мои или правнуки наконец смогут стать полноправными царями. А Москва станет наследницей поверженного Царьграда! – И, не давая Анне возразить, громко позвала: – Девки!
Впорхнули нарядные красивые девушки, поклонились почтительно, сначала хозяйке, потом гостье. Новые девушки, не те, что хлопотали в опочивальне только что, Анне они были незнакомы, но она не сомневалась, что они из хороших родовитых семей и у них самих полно девок на услужении.
– На стол накрывайте живёхонько, а то совсем мы заморили великую княгиню Рязанскую. Да проверьте, все ли пожитки княгини перенесли в её покои.
Девушки согласно поклонились и ловко выскользнули в дверь, не поворачиваясь к княгиням спиной.
– Хороши девки, а? Сама учила, – самодовольно пояснила Мария Ярославна. – Теперь в грязь лицом не падут.
Анна поняла, что отвлечь мать от мыслей о царевне ей не удастся.
Трапезничали с непривычной для обеих поспешностью, почти не разговаривали, перекинулись несколькими замечаниями о том, что из поданных кушаний понравилось, а что нет. Уже собираясь идти к себе, Анна спросила о матушке Ксении.
– Приехала третьего дня, – ответила Мария Ярославна равнодушно, – остановилась в Вознесенской обители. Ты можешь повидаться с ней до свадьбы, коли успеешь – невеста уж на Воробьёвых горах.
Вознесенская женская обитель размещалась почти что на княжеском подворье, рядом с Фроловской башней, у Кремлёвской стены. Своим необычным местоположением она была обязана великой княгине Евдокии, вдове Дмитрия Донского, бабке Василия Тёмного. Похоронив мужа, в память о нём, она воздвигла на своём подворье у Фроловских, Спасских ворот небольшой скромный храм Вознесения Господня. Позднее, намереваясь оставить мирскую суету, но не решаясь покинуть малолетних детей на произвол судьбы, основала при храме женскую обитель, куда и перебралась из княжеского терема. Там под именем Евфросинии приняла иночество. В конце жизни она заложила в обители новый храм взамен прежнего. Но из-за смерти княгини, последовавшей вскоре, из-за всяческих прочих бед (набеги, войны, голод и моровая язва), строительство растянулось на шестьдесят лет и завершилось благодаря Марии Ярославне, в знаменательный для Анны год рождения сына.
В кельях монастыря обитали отнюдь не простолюдинки, насельницы его были в основном из богатых княжеских и боярских семей. В ризнице нового храма собралось много их даров: золотая и серебряная утварь, старинные иконы в драгоценных окладах, украшенных жемчугом и самоцветами, искусное шитьё.
Анна решила навестить матушку Ксению тотчас же, не заходя к себе. Отпустила дожидавшихся её девушку и рынду и поспешила к монастырскому подворью. Оно было хорошо знакомо ей с детства: туда она частенько сбегала от мамки, пряталась в высоких лопухах, пережидала очередную мамкину взбучку. Лопухи росли в тени у трапезной, осенью к ним слетались стаи чечёток лакомиться доспевающими семечками. Наблюдая за ними, она возвращалась к остывшей, но теперь встревоженной не на шутку мамке вся в репьях. Именно этот, Вознесенский монастырь, имела Анна в виду, когда грозила матери постричься в монахини. Два других московских были какими-то чужими, далёкими, кремлёвский же и назывался ласково – Девичий, а те, чужие, звались женскими. Сравнивая про себя разные названия, она решила тогда, что девичий предназначен для девушек и девочек, а другие – для безутешных унылых вдов и несчастных старушек. Девочек, правда, она никогда на монастырском подворье не видела, взрослых монахинь в упор не разглядывала – издали же они казались все юными, стройными красавицами, которые надели чёрное, чтобы отделиться от дурнушек.
Улыбаясь своим воспоминаниям, Анна ловко и смело скользила по обледеневшей брусчатке и вдруг остановилась – вспомнила, что ей говорила перед поездкой бабка-повитуха: беременным падать никак нельзя – может прирасти послед, и тогда роженице – верная смерть. Испугавшись, она сразу не решилась сдвинуться с места, стояла, переводя дух, осматривалась. Старого Вознесенского храма не было. Новый же оторвался от Фроловой башни, шагнул на площадь, увлекая за собой прочие монастырские строения. Теперь они оказались за Кремлёвской стеной. В ней, однако, Анна увидела ворота и две калитки по их сторонам. Увы, они были заперты на огромные замки. Пришлось отложить встречу на другой день.
На обратном пути еле плелась, проклинала нарядную брусчатку, хваталась, как немощная, за какие-то кусты и сорные сухие травы, попадающиеся на пути, и ненавидела себя в это время – цепляться за жизнь, а чего цепляться, когда в этой жизни она одна-одинёшенька. Все ушли, кто любил её, все! Даже мать ушла, хотя и не умерла… И тут же вспомнилось… не лицо, а ощущение от тесного и бережного объятия, и сразу же полыхнуло нестерпимой, грозовой синью, как год назад в Мирославщине. Князь Пронский…
Матушка Ксения остановилась в гостевых покоях монастыря, вопреки своему обыкновению, – прежде она гостила в княжеском тереме. Анна предположила, что причина кроется в какой-то пока неведомой ей перемене отношений между матушкой Ксенией и обитателями терема, и приготовилась к прохладному приёму. Но опасения оказались напрасными: матушка Ксения радостно устремилась Анне навстречу, как только келейница сообщила о её приходе.
– Анна, голубка! Опередила, – говорила она, увлекая гостью в свою келью, – я сама собиралась к тебе. Ждала, пока рассветёт. Да, верно, рассвета не будет: полдень скоро, а за окном – тьма. – Она плотно закрыла дверь, внимательно оглядела Анну. – Ну, здравствуй, милая!
Они обнялись и, не желая того, вдруг расплакались. Каждая плакала о Юрии и знала, что другая плачет о нём же. Плача, сели за стол друг против друга. Одинаково опёрли головы о руки. Не отрывая ладонь от лица, Анна тихо сказала:
– Я не успела, не помогла…
– О чём ты, дитятко! – В восклицании не было вопроса. – Я была не в силах помочь, хотя находилась рядом. А ведь считаюсь искусной врачевательницей.
Анна с удивлением посмотрела на матушку, прежде об этой её способности она не слышала.
– Да, я умею и люблю лечить. Поэтому митрополит и послал за мной, когда прочие лекари отступились.
– Как же ты успела?
– Я была в Москве, так что долго ехать не пришлось, а успела… только проститься… – Она закрыла лицо обеими руками. – Я уеду, Анна. Наверное, навсегда. В Иерусалим. У меня нет сил здесь оставаться, бывать в тереме, где всё напоминает о нём, встречаться с людьми, которые его знали. Каждая встреча будет мне укором.
Она поднялась, прошла к узкому, подслеповатому оконцу, за ним косо летел крупный снег.
– В Иерусалиме буду постигать искусство врачевания. Может, достигну знаний и умений Евпраксии. Ты не слыхала о ней?
– Нет, – равнодушно ответила Анна, не желая слушать сейчас ни о ком, кроме Юрия.
– О, это была удивительная девушка, Евпраксия-Зоя.
Матушка Ксения отошла от окна и принялась шагать от него к дверям и обратно, успокаиваясь в ходьбе, успокаивая Анну своим чудным голосом, рассказом о жившей давным-давно киевской княжне, внучке Владимира Мономаха. Она усердно изучала медицину, для этого поехала в Константинополь, потом написала на греческом языке трактат, где предлагала новые способы ухода за младенцами, врачевания ран и болезней, советовала для лечения пользоваться банями.
– Трактат – это лечебник? – спросила Анна. Рассказ её заинтересовал: ей нравились истории о замечательных женщинах.
– В прямом смысле – нет, скорее научное рассуждение о чём-нибудь. Но рассуждать о лечении и не приводить новых способов нельзя. Поэтому Евпраксия их приводит. Вот только ни один не подошёл для Юрия, – и тут же спросила: – Счастлива ли ты, Анна, в семейной жизни?
– Я не люблю Василия, – просто ответила Анна и тоже подошла к окну, прижалась к свинцовому переплёту лицом, – он для меня всё ещё озорной мальчишка из моего детства. И всегда им останется. Я не уважаю его, потому что помню все его ребячьи проделки. Мне всё время хочется с ним спорить. Думаю, он тоже меня не любит…
Матушка Ксения за её спиной больше не расхаживала и никак не выражала своего отношения к сказанному.
– Я никудышная любовница, – продолжала Анна свою негаданную исповедь: – он не может забыть Ледру. Я ему и не друг: он постоянно напоминает о своём старшинстве, о том, что мужчина. И тут ещё кто-то внушил ему неприязнь к Ивану. Друг у него один – Еввула.
– Кто? – спросила матушка Ксения с тревогой.
Анна рассказала о Еввуле. В рассказе не было и намёка на недоброжелательность, ведь Анна любила её, была многим ей обязана и вроде не ревновала, но матушка Ксения за искренними словами увидела какой-то иной образ, не тот, который желала передать Анна, и горячо воскликнула:
– Положи конец этой дружбе, во что бы то ни стало! Она к добру не приведёт. Ты разве не понимаешь: Еввула – язычница или того хуже?
– Она ходит в храм.
– Коварное притворство. Место ведьме – на костре!
Непонятная Анне злоба обезобразила, состарила прекрасное лицо матушки Ксении, напугала больше несправедливых слов, не давала собраться с мыслями, чтобы возразить поубедительней, отстоять честь Еввулы, а матушка уже приготовила новый довод:
– Я боюсь…
– Она не сгорит! – с торжествующим злорадством воскликнула Анна и внутренним взором увидела огромный полыхающий пламенем сруб, над ним цела-целёхонька в заревом сарафане, опережая искры, взмывала в тёмное поднебесье Еввула. Густая тьма то ли глубокой ночи, то ли позднего вечера. Исполинский костёр в золотой короне пламени. Еввула, словно оторвавшийся зубец короны. Высоко взметнувшийся сноп искр.
Всё это было так зримо, так ярко и явно, что Анне показалось: волшебное видение предстало и перед матушкой Ксенией. И как бы в подтверждение этого та сказала уже без злобы и без уверенности:
– Тогда в срубе сожгут тебя, как сожгли мать Григория Мамона.
– Но две трети моих подданных – язычники. Рязания – совсем особая страна, в ней куда меньше истинных славян и православных, чем в московском княжестве. Представь, матушка, на востоке – сплошь мордва, деревянным идолам молятся, на юге татары, те никак веру не выберут, на севере совсем дикие люди, в священных рощах собираются, поклоняются берёзе, кусту ивовому молятся. Я думаю, наше несогласие с Москвой из-за разницы в вере, оттого ордынцы нам, рязанцам, ближе вас, москвитян. Так что, если меня сожгут, то как христианку.
Анна улыбнулась, желая подчеркнуть, что последние её слова – шутка, обняла матушку Ксению, поцеловала в душистую щёку. Кожа была упругой и шелковистой. «А ведь она немногим моложе матыньки, лет на пять, на семь. Матынька – старуха… А Ксения на вид чуть ли не мне ровесница. Язык не поворачивается звать её матушкой».
– Не будем ссориться, сестрица.
Матушка Ксения промолчала, но злобное выражение сошло с её лица, и оно снова было прекрасным. Анна не знала, как положить конец и этому недовольному молчанию, и неожиданно тягостному свиданию. Себе на удивление, она легко смирилась с потерей наставницы, возможно, из-за того, что они редко виделись и почти не переписывались, и думала теперь, что ссора ещё больше отдалила их друг от друга, смягчила горестное ожидание разлуки, не просто разлуки – навеки. Думала, как несопоставимо невообразимое понятие «вечность» с маленькой убогой гостевой кельей – вот тебе и богатый монастырь. Вечность, не имеющая границ, – и три шага от окна до двери, потемневшая столешница в пятнах воска, растрёпанное, хоть и недавно переписанное Евангелие, два расшатанных стула (они опять сидели на них), узкое ложе, покрытое грубошёрстным платком, каким бабы укутываются в пургу. Вечность – и грубо расписанный сундук у печного бока.
– В нём подарки для молодых, – перехватив взгляд Анны, пояснила матушка Ксения, – ярковат немного, но для свадьбы подойдёт.
– Жаль Зою, ей придётся нелегко, труднее, чем мне.
– О, не жалей! Она стремится только к власти, большой власти. И для достижения её готова перенести всё: и кучу детей, и нелюбовь мужа, и свою нелюбовь к нему. Она – не ты!
Анна недоверчиво улыбнулась, а матушка Ксения продолжала:
– Знаю – по письмам. Их было мало, однако почерк говорит о многом. Поэтому наши владыки предпочитают услуги писцов. Да и ничто так не обнажает души человека, как его писания. Зоя – сильная волей, хитрая женщина. Её, уж точно, не сожгут: сама отправит на костёр кого пожелает. Думаю, окружение нового папы Сикста IV и он сам её недооценили.
И матушка Ксения рассказала о том, что ещё не было известно Анне, о чём в Рязании могли только догадываться.
Римские католики предложили Ивану в жёны свою воспитанницу в расчёте на то, что она обратит великого князя Московского в их веру. И это будет способствовать подчинению Русской православной церкви папе. Надеялись, что царевна убедит его выступить против магометан за освобождение её родины. Они не сомневались в успехе: привыкли, что для некатоликов сближение с римским двором приводило к перемене веры. Сватовство Ивана было принято как убедительный залог. Папа написал Ивану хвалебное письмо и послал с Зоей легата, чтобы тот наставил москвитян на путь истинный. Легат не успел ещё появиться в Москве, а Ивану надоело уже читать и обсуждать с боярами доносы о его нечестивом поведении.
Православных смущала красная одежда легата и перчатки, в коих он и крестился, презрение к церковным святыням и то, что впереди него несли «латинский крыж», серебряное католическое распятие на длинном древке. «Никогда такого у нас не было, – сокрушались подданные, – чтобы латинская вера была у нас в почёте».
Иван обратился к митрополиту Филиппу за советом, как быть с легатом. «Нельзя тому статься, – ответил митрополит, – чтобы он так входил в город, да и приближаться к городу ему не следует. – И для вящей убедительности пригрозил великому князю: – Если ты его почтишь, то он – в одни ворота в город, а я в другие ворота вон из города». Иван предложил легату убрать крыж, тот согласился и спрятал его в санях.
– Кстати, Зоя уже изменила имя, и зовётся Софьей, – сказала матушка Ксения. – Всё, что происходит в поезде царевны, Москве становится известным: гонцы беспрерывно снуют туда-сюда.
– Любопытные новости, – нарочито протянула Анна. – Мне матынька ничего о них не сказала. О каких-то пустяках всё толковала. А в Москве, выходит, уже и вера – на торгу! И князь великий зашатался.
– Не говори так! – горячо возразила матушка Ксения. – Иван и его бояре – ещё не вся Москва. Да, забыла: митрополит сказал: «Кто чужую веру хвалит, тот над своею ругается». Заметь это, Анна.
– Мне пора, – мягко ответила та. – До завтра, сестрица, – и уже у дверей спросила: – Неужели ты оставишь нас в такое время?
– Дитятко, – сказала матушка Ксения, припадая к её плечу, – я порушила жизнь себе, Юрию и тебе. И – ещё многим, кого ты никогда не узнаешь…
Они увиделись ещё раз, на следующий день.
Двенадцатого ноября, незадолго до полудня, у Марии Ярославны собрались все единокровные родственники великого князя. Собрались по-семейному без большой обслуги и приближённых. Братья встретили Анну с искренним радушием, расспросили коротко о житье-бытье, потом обособились в простенке у поставца. На нём красовался венецианский кубок, его историю они тут же принялись шёпотом рассказывать племяннику, Ивану Молодому. Мария Ярославна несколько раз взглядывала на сыновей строго, но те не унимались – приятно было вспомнить, как Василий, в невежестве своём, осквернил драгоценный сосуд.
Мария Ярославна, дабы не унизить себя перед матушкой Ксенией и дочерью подозрением, что сыновья вовсе с ней не считаются, перестала обращать на них внимание, даже думать об этом не стала: мысли занимала предстоящая встреча с будущей невесткой. Казалось бы, всё предусмотрела, но всё-таки сильно волновалась. Горницу ради торжественной, хоть и домашней, встречи переустроила: все старые пожитки велела вынести, поставец оставила из-за кубка венецианского да пять кресел поставила с обеих сторон красной суконной дорожки. Кресла велела камкой узорчатой обить, такую же камку, но с каймой золотою, посреди дорожки постелить. Горница после таких преобразований сделалась обширной, строгой и холодной. Мария Ярославна сидела посреди неё в своём высоком кресле тоже холодная, неприступная, в дорогой, тяжёлой, негнущейся одежде из парчи. Эту одежду надевала в особо торжественных случаях Софья Витовтовна. Мария Ярославна надела теперь её в первый раз.
По правую руку от неё сидела Анна, в кресле поскромнее, по левую – матушка Ксения. Мария Ярославна придирчиво оглядела их, но разговора не завела: торжественность не терпит пустых слов. Нарядом Анны великая княгиня Московская осталась довольна – не посрамимся перед царевной. На Анне было светло-зелёное фряжское платье. Через замысловатые вырезы на рукавах его и раскрытую на подоле застёжку проглядывало другое – из золотистой парчи. На голове тончайшее белое, шитое золотом покрывало, закрывающее лоб и шею, а на нём плоская зелёная, как и верхнее платье, вышитая каменьями шапочка-венец. Этот наряд Анна приобрела в Переяславле. Через Переяславль в Орду ехал купец, говорил, что везёт товары к самому хану и платье это – для младшей ханши. Потом, когда за ним прибыла стража из Москвы, выяснилось, что купец не купец вовсе, а то ли посол венецианский, то ли лазутчик. Он спешно распродал свои товары рязанским перекупщикам, желая подкупить стражу московскую, князя Рязанского, чтобы не выдавал. Князя не подкупил, а платье, таясь от мужа, Анна взяла у перекупщика и жалела потом, что дорого за него заплатила – всё равно носить негде. Теперь вот оказалось кстати. К удовольствию матери, Анна и ожерелье не забыла. Оно тяжелым хомутом прижимало покрывало, не давало выбиться ему из глубокого выреза. Если бы не покрывало, то вырез этот не то что шею до ключиц, но и плечи бы открыл. От купцов, побывавших в Италии, да от Ивана Фрязина Мария Ярославна слышала, что женщины тамошние, и благородного звания, открывают бесстыдно даже верх груди, до ложбинки, католички, конечно. Марии Ярославне было приятно, что, надев фряжское платье и тем желая почтить будущую невестку, Анна сумела соблюсти приличия своей стороны.
В наряде матушки Ксении никаких новшеств не было, присутствие же её смущало, тяготило великую княгиню: опасалась, что монахиня при сговоре – дурной знак, – но и другого чужого толмача среди родственников видеть не желала. Сговор уже был, успокаивала она себя, а здесь знакомство родственников, и Ксения – родственница, хоть и дальняя, но по крови.
– Таких родственников – пруд пруди! – вырвалось вдруг у неё вслух. Все встрепенулись, переглянулись, не понимая. Мария Ярославна ничего не стала объяснять, продолжала сидеть с каменным лицом, его выражение она могла изменить только после умывания – столько на нём было белил, румян и всяческих притираний. В горнице повисла тишина, даже братья замолчали, утомившись стоять, а невеста всё не шла. Иван тоже что-то задержался, должно быть, ждал известия, что невеста выходит из церкви, не хотел на разговоры с родственниками время тратить.
Софья въехала в Москву ранним утром и сразу направилась в храм, где её встретил митрополит, после молитвы она должна была представиться свекрови.
Три женщины замерли в ожидании. Наконец раздался звук открываемой двери. Не скрип, конечно, – все двери в тереме тщательно смазали, но так и не смогли добиться, чтобы открывались они совсем бесшумно. Вошёл великий князь. Братья меньшие и сын согнулись в поклонах, женщины приподнялись и под благосклонный кивок князя сели. Ещё не был разработан теремной порядок, как вести себя с великим князем женщинам его рода, как всем общаться с ним в домашней обстановке. А он больше и больше возвеличивался, отдалялся от братьев, с которыми, впрочем, никогда не был близок, и те перестали держаться с ним по-родственному свободно. Теперь все ждали, как «этот напыщенный индюк», так братья его именовали, поздоровается с Анной.
Иван почтительно поклонился матери, поцеловал ей руку, того же удостоил и матушку Ксению, потом склонился над Анной – и вдруг выдернул её из кресла и, не отпуская на пол, закружил, ловко переступая через подол её длинного платья. Высоким он был и сильным, хотя и худощавым и красивым. Очень красивым, особенно в этот день.
– Не зарься, Лисонька, на чужое, – рокотал он, и этому рокочущему голосу был обязан отчасти своим прозвищем «Грозный», – не занимай моего места подле матыньки.
– Твоё место давно уже не подле, а во главе, – сказала Анна, – пусти, подол оттопчешь.
Иван усадил её в кресло, сел в своё, посмотрел на сестру оценивающе, может быть, с кем-нибудь сравнивая.
– Красавицей Анна стала. А, матынька? Зря мы её рязанцу отдали – продешевили. Любви их потворствовали, – и добавил грустно, доверительно, только для Анны: – А я вот меняю вольную волюшку на титул царский да на орла двуглавого.
– Но и невеста твоя – не уродина, к тому же девица умная, учёная. Грех тебе – сиротой подневольной прикидываться, – возразила Мария Ярославна.
– Марьюшки мне ни одна красавица, ни одна умница не заменит!
Только проговорил, и зычный голос первого боярина Патрикеева возвестил:
– Её высочество царевна Византийская Софья!
«Её высочество – надо же, – подумала Анна, – и Византии давно нет!» А Иван уже шёл навстречу невесте по двухслойной дорожке. Софья остановилась в дверях, будто для того, чтобы её лучше рассмотрели. Невысокая, тучная или нет – не понять из-за накинутой на плечи парчовой, подбитой соболями шубы (подарок жениха). Повела плечами, сбрасывая шубу, кто-то за её спиною подхватил. Платье на ней оказалось русским свадебным, алым, с золотой полосой посередине и подолу. Белый плат, как у Анны, на нём полукруглая невысокая, отороченная соболем шапочка. Лицо – лучезарное, круглое, красиво полное, что яблочко наливное, розово-белое, без белил и румян, или так они искусно положены, что не заметны, брови выщипаны, синие глаза – в пол-лица. Красавица. Да, такая могла отказать королю французскому.
«Эх, приберёт она к рукам великого князя», – подумали родственники его – все одинаково, и каждый почувствовал в прелестной иноземке сильную, удачливую соперницу. Иван подал царевне руку и торжественно повёл её к матери. Царевна не доставала ему до плеча, и всё-таки её нельзя было назвать маленькой. В ходьбе выглядела она величественно, шла плавно и очень красиво опустилась перед Марией Ярославной на колени, поцеловала ей руку.
– Полюбите меня, матушка, – сказала по-русски.
Мария Ярославна подняла её, трёхкратно расцеловала.
– Рассчитываю на дружбу твою, – с улыбкой обратилась царевна к Анне, матушку Ксению уверила в своей искренней приязни, для деверей нашла любезные слова, а Ивану Молодому пообещала не быть злой мачехой. Наконец невеста и жених заняли свои места напротив Марии Ярославны, и та завела приличную случаю беседу.
– Хорошо ли доехала? – спросила она, хотя отлично знала о каждом шаге невесты на пути в Москву.
Софья стала рассказывать, как одиннадцать дней плыла по морю до Ревеля, как на третий месяц своего путешествия сделала в Ревеле большую остановку и была пышно встречена тамошними жителями, а московский посол встретил её в Дерпте. Рассказывала о прекрасном приёме, устроенном ей, будущей великой княгине, псковитянами. Говорила по-русски, очень правильно, старательно выговаривала слова, произнося их несколько деревянно (как учёная птица, – подумала Анна).
– Когда же ты, Софья Фоминична, так хорошо научилась говорить по-нашему? – полюбопытствовала Мария Ярославна.
– За время пути, великая княгиня, я ведь четыре с половиной месяца до вас добиралась, и учитель был у меня хороший, Иван Фрязин, да его московская стража почему-то взяла, уже под самой Москвой.
Она вопросительно посмотрела на Ивана. Тот переменился в лице: стал злым, некрасивым, – помолчал, потом заговорил с нарочитой какой-то смешной важностью:
– Иван Фрязин предал своего господина, великого князя.
«О ком это Иван? – удивилась Анна. – О каком великом князе говорит? Если о себе, то почему сам себя величает?» А Иван продолжал:
– Едва не нанёс вреда непоправимого княжеству Московскому, привёз с собой посла венецианского, а великому князю доложил, что это купец, его родственник. За деяние такое Фрязин заслуживает смерти. Однако великий князь милостив: учёл, что Фрязин выполнил его поручение, и велел предателя и лжеца только сковать цепями и сослать.
– В Коломну, матушка, пока лишь в Коломну, – пояснил Иван, перехватив тревожный взгляд матери.
– Да бог с ним, с этим Фрязиным, не стоит он того, чтобы о нём мы сейчас вспоминали, – сказала Мария Ярославна. – Я чаю, детушки, обручиться вам надо. Хоть и было уже обручение, да не при нас, не перед образами нашими семейными. Обменяйтесь, дети, кольцами, помолимся тут все вместе и в церковь пойдём.
Все сидящие поднялись, остальные к ним приблизились, с большим вниманием смотрели, как молодые обмениваются кольцами. В результате этого обмена преподнесённый Фрязиным от имени великого князя царевне перстень опять оказался у Ивана, Софье же достался – куда скромнее, к её явному разочарованию.
«Всё равно к себе всё подгребёт», – подумала Анна и невольно улыбнулась. Софья приняла улыбку за знак внимания или поощрения и благодарно кивнула в ответ.
После недолгой молитвы Мария Ярославна молча направилась к дверям. Они уже были распахнуты, и за ними в просторной передней горнице теснились прочие родственники великого князя, бояре, приехавшие с Софьей именитые греки. За Марией Ярославной послушно и слаженно последовали жених с невестой, Андрей Большой с Борисом, Андрей Меньшой с великим князем Иваном Молодым. По примеру своего отца Иван Васильевич сделал своего сына соправителем, хотя личной нужды, как в своё время у отца, у него и не было. Хотел таким образом утвердить право сына на наследование великокняжеской власти. Сын тоже стал именоваться великим князем Московским, а поскольку великие князья Московские были тёзками, началась путаница. Чтобы как-то избежать её, пришлось к имени сына прибавить прозвище Молодой. Назначение это, кроме путаницы, вызвало ещё недовольство у части бояр и злую обиду у младших братьев Ивана Васильевича, они не рассчитывали занять великокняжеский стол, но значиться в грамотах ниже мальчишки, братича, – такое разве спокойно выдержишь.
Иван Молодой никогда не подчёркивал перед дядьями своего главенства и зачастую в их распрях с его отцом принимал вовсе не его сторону, а в торжественных семейных выходах уступал место Андрею Большому. Иван Васильевич не раз упрекал сына за это: опасался, кабы подданные ни признали старшинство Андрея, ни привыкли бы считать его наследником.
Теперь Иван Васильевич был занят невестой и тем, как подданные воспримут его первый с царевной выход. Ему хотелось выглядеть с ней величественно, внушительно и отстранённо от всех остальных. Но произвести желаемое впечатление ему не удалось: он был очень высок и худ, а Софья – мала и тучна.
Придирчивый, ревнивый взгляд Анны тотчас же приметил эту несуразицу, и подумала она, что великокняжеской чете не стоит показываться рука об руку: рядом с Иваном Софья – сущая карлица.
Она постаралась представить на месте Софьи Марьюшку и не смогла: не вспомнила её роста, её дородства. Марьюшка в воспоминаниях вдруг оказалась бестелесной – одна душа, светлая, радостная, тёплая. Прости, Марьюшка, прости!
Анна осталась в материнских покоях. Идти в храм из-за беременности ей было нельзя. Она осталась, и никто из родственников не заметил, никто не обеспокоился этим. Возможно, родственники лишь сделали вид, что не заметили, как Анна замешкалась, – из скромности, поскольку хорошо знали, в каких случаях женщине негоже посещать храм. Однако Анна усмотрела в их поведении равнодушие к ней и обиделась. Обидело её и то, что мать не указала ей заранее место в торжественном шествии. Забыла? – Или посчитала, что каждый сверчок должен знать свой шесток? И младшая дочь (великая княгиня Рязанская!) должна была замыкать шествие вместе с Андреем Меньшим, удельным князем.
В своём огорчении Анна не заметила, что в горнице не одна, и вздрогнула, когда к ней обратилась матушка Ксения:
– Поздравляю, Анна. Нет, не с нынешним событием, а с тем, что ещё будет. Ты ведь ждёшь ребёнка…
– Откуда тебе это известно? Ведь это ещё не заметно!
– Заметно – по твоему взгляду, устремлённому, будто внутрь себя, точно ты пытаешься разглядеть младенца. Заметно – по мягкости твоих жестов, по тому, как плавно и осторожно ты движешься, – Матушка Ксения обняла Анну. – А я осталась, чтобы чёрной рясой своей не смущать счастливых новобрачных. Иван суеверен. Вот ведь не захотел, чтобы венчал здешний протопоп. Его духовник к тому же. Поскольку тот вдовец. Вдовец, как и он сам, впрочем. Коломенского протопопа вызвал. Так что мне на свадьбе делать нечего. Посмотрела на Зою, пора и честь знать. Я сейчас уеду, Анна. Прости, что говорила с тобой намедни так нравоучительно: хотела уберечь тебя от беды. Но все мои усилия тщетны, а желания идут от моей самонадеянности, от привычки наставлять и повелевать. Ты жила без меня, ты живёшь без меня, и будешь жить дальше. Я лишь случайная встречная на твоём жизненном пути. Прости и прощай!
Матушка Ксения низко поклонилась Анне и быстро вышла из горницы. Анна не удерживала её и не пошла следом. «Долгие проводы – лишние слёзы», – пришла на ум и навязчиво повторялась пословица. А может, и самой уехать? Не гадать, какое место отведут ей за свадебным столом. Но уехать могла обиженная дочь и сестра, великая же княгиня Рязанская не имела права уходить. Она осталась, и сидела за свадебным столом рядом с матерью, между нею и великим князем Иваном Молодым, напротив них расположились братья, два Андрея и Борис, далее, справа и слева стола, остальные гости согласно их знатности. А жених с невестой – за отдельным маленьким столом.
Софья отличалась ото всех присутствующих женщин, прежде всего алым нарядом невесты. Много веков подряд, ещё до принятия христианства, русские девушки надевали подобный наряд перед свадьбой. С тех пор и вошло в обиход выражение – «заалела (покраснела), как маков цвет». Однако к Софье оно не подходило: сравнивать её можно было разве что только с шиповником, и прекрасным, и жизнестойким, и унизанным опасными колючками.
Но если бы даже на Софье не было особого наряда и не звалась она царевной, то всё равно бы привлекала внимание москвитян – уж очень непривычно для них держалась: не краснела, смущаясь, под взглядами жениха, лукаво ему улыбалась в ответ на них, не закрывалась платком, когда гости произносили свадебные «солёные» шутки, с поспешной готовностью подставляла губы при криках: «Горько, горько!»
А крики эти между тем всё ослабевали, утратили первоначальную весёлую слаженность, и не только многолетний мёд и доброе гречневое вино было тому причиной – новым Софьиным подданным и впрямь сделалось горько: на их глазах чужестранка беззастенчиво и уверенно прибирала великого князя к рукам. Что-то будет дальше? Э-эх! Ночная кукушка дневную перекукует.
Анна с ревнивой пристрастностью следила за новой невесткой. Зорче всех бояр приметила её промахи – и не осудила: поняла, они не от дурного воспитания. Так непринуждённо, видимо, ведут себя все знатные женщины италийской стороны, и позавидовала им. Ещё подумала, что столь вольное поведение поможет Софье в предстоящем тайном общении с мужем. Шуточное ли дело – лечь в постель с едва знакомым мужчиной! Шуточное – не шуточное, но дело государственное. С него начинается нелёгкий путь женщины к власти. Она не сочувствовала брату, хотя понимала, что и ему придётся нелегко, и не забыла Марьюшкиных рассказов о его мужской слабости, – возможность выбора у него была куда больше, чем у этой немолодой чужеземки. Однако велению сердца (а было ли у него сердце?) Иван предпочёл родство с императорским домом, которого давно не было, а обитатели его рассеялись по свету. И всё-таки, когда молодых провожали в опочивальню, она мысленно пожелала: «Дай-то бог, чтобы у этих двоих всё сложилось счастливо».
Свадебный пир длился недолго и не запомнился гостям пышностью. Да и неуместна, неприлична была бы пышность: ведь траур по князю Юрию не кончился. По правилам, в таком случае свадьбу следовало бы отложить. Её бы отложили, если бы невеста была не чужеземной. А что до того, что не длился пир до утренних петухов, так невеста с дороги устала.
На другой день легат послал братьев Софьи торжественно представиться великому князю Ивану и преподнести подарки от папы, брата Мануила и Андрея, а также – их письма. Софья тоже одарила жениха и родственников его. Подарки никому не запомнились, никого богатством не удивили. Книги, иконы, посуда – летописцы перечислять их в своих записях не стали. Анне досталось великолепное венецианское зеркало и маленькая бутылочка с розовым маслом. Если бы бутылочку заполнили золотом, оно оказалось бы намного дешевле этого благоуханного притирания.
В то утро новобрачные в баню вместе не пошли, Софья застеснялась своей полноты – и напрасно: не в пример жителям италийской и прочей немецкой стороны москвитяне не считали тучность недостатком. Напротив, как раз из-за тучности все гости признали Софью красавицей.
Анна после свадьбы сразу не уехала, погостила ещё дня два-три, поближе познакомилась с невесткой, пересмотрела все её наряды, а заодно и наряды брата. Он любил и умел прекрасно одеваться, и не только родственников водил в особую горницу полюбоваться ферязями да шубами, которых у него было такое множество, что он тут же их без особого ущерба для себя и раздавал гостям. Анне он тоже вручил одну из шуб для Василия, а Софья подарила одно из своих платьев. Потом показала собрание книг, библиотеку, как назвала она. Книги уже развязали, и какой-то учёный старый грек расставлял их по полкам в нарочно отведённой под них комнате. Анна спросила, есть ли среди них трактат Евпраксии.
– Внучки Владимира Мономаха? – уточнил старик и посмотрел на Анну с уважительным вниманием. – Есть, но книгой часто пользовались, и она обветшала. Не успели в Риме её перепечатать, теперь переписывать придётся.
«Как странно он сказал “перепечатать”, что это такое?» – размышляла Анна, пока старик искал книгу. Она оказалась небольшой и действительно очень потрёпанной.
– Надо переложить на русский. Потом переписать, – сказала Софья, взяла у старика книгу и стала гладить её, как кошку. – Научусь хорошо по-русски – переложу. Долго? Толмачу дать? – спросила она. Анна не поняла, к кому вопрос, и промолчала, старик тоже не ответил.
– Пугаюсь, толмач…
– Боюсь, – поправил старик.
– Да? – Софья виновато посмотрела на него. – А как дальше?
– Потеряет, изведёт, – подсказала Анна.
– Изведёт, – повторила Софья певуче, как бы прислушиваясь к звучанию незнакомого слова, – изведёт, – и бережно поставила книгу.
– Ты пишешь иконы, – сказала она утвердительно, отойдя к противоположной стене, там стояло что-то прикрытое холстиной. – Я писала. Плохо. В Италии стыдно (позор, да?) писать плохо. Пишут хорошо. Так! – И сорвала холстину – под ней были иконы, каких прежде Анне видеть не приходилось. Они ей только грезились. Она сама хотела писать так. Она смогла бы писать так. Но русские иконописцы писали совсем иначе.
Никто из них не осмелился бы изобразить архангела Гавриила крепким рыжеволосым парнем с лукавым и, пожалуй, даже нахальным взглядом серых глаз. Протягивает, словно навязывает, он Марии ветку мирты, очень похожую на ветку рязанско-московской береговой ракиты. С этой веткой, да ещё в венке из каких-то листьев, Гавриил – ни дать ни взять, обычный пастух с приокских пастбищ. И багряные крылья за его спиной не ослабляют этого впечатления: кажутся украшением стены. Смущает лишь простое, клетчатое, опять-таки пастушье покрывало, наброшенное на плечи парня, – не может оно взметнуться в комнате так высоко. Вихрь для этого нужен или какая-то сила. Вихря нет: не шелохнулись цветы в стоящем на полу кувшине, не вздымаются одежды Марии, гладки, волосок к волоску, её косы. Сила неземная подняла покрывало! Она, да ещё золотисто-багряный цвет, разлившийся вокруг и окрасивший в комнате Марии всё, что прежде было белым, указывают на божественность происходящего. А то, что Гавриил представлен обычным парнем, так это тоже легко объясняется: непривычный облик посланца напугал бы простую девушку до смерти. Она и так взволнована нежданным вторжением, съёжилась в громоздком, совсем как у Марии Ярославны, кресле, прикрывается тёмным плащом, а под ним алое платье невесты, отворачивает от непрошенного гостя лицо. Как она похожа на Марьюшку.
И ещё одна Богоматерь! Белокурая (опять белокурая, не как у русских иконописцев!) женщина выглядывает из круглой рамы, будто из распахнутого настежь окна. На руках у неё толстенький голый младенец – выбрался из красной пелёнки. Дрожь пробирает от его наготы – на матери тёплый отороченный мехом золотисто-коричневый плащ, под ним глухое красное платье, на голове замысловатая, цвета плаща, повязка, не прикрывающая всех волос.
За спиной у женщины просторная опочивальня, залитая солнечным светом. И в ней, как воспоминание женщины, живописец изобразил первый час жизни младенца на земле. Он уже завёрнут в белую пелёнку. Взволнованные женщины показывают его матери. Одна из них удерживает в дверях мужчину (отца?), и какой-то малыш, двух-трёх лет, помогает ей – цепляется за отцовский красный плащ. Обычная людская жизнь, если бы не странная нагота ребёнка, не золотисто-багряный цвет окружающего его пространства.
«Словно окно открылось в моё будущее», – подумала Анна и воскликнула:
– Неужели у вас можно писать такие иконы?
Софья не нашла сразу нужных слов для ответа. Объяснил старик, что у католиков нет икон. Изображения – картины. Назначение их – украшать жилища, напоминать верующим евангельские события. События же перенесены в знакомую живописцам обстановку, чтобы они стали понятнее, ближе живущим в один век с живописцами людям.
– Великий князь сказал нам, – вмешалась Софья, – что в Москве, на Руси… Как, падре? – Она забыла слово.
– Они несвоевременны.
– Несвоевременны, – повторила Софья, запоминая, – нельзя вешать, Анна, смотреть. Сказал, пишешь. Хорошо. Несвоевременно.
Разговаривая, Софья сняла холст ещё с одной доски.
У цветущего, совсем райского куста – такие на нём были великолепные, диковинные цветы – стояла женщина. Живописец изобразил её по пояс. Стояла, неестественно выпрямившись, точно выполняла приказ из детской игры «Замри!». Не обращала внимания даже на бабочку, доверчиво порхающую над самой головой. «Крапивница – как хорошо! Неужели и там они есть?» Молодая женщина, болезненно некрасивая, худая, с очень длинной, вогнутой сзади шеей, с выпуклым, слишком большим для женщины лбом – волосы начинают расти едва ли не на темени. И у неё они белокуры, собраны в тугой пучок на затылке, опутаны светло-жёлтой лентой. Впрочем, определение их цвета неточно. Скорее они похожи на медь, как и на предыдущих картинах. Но назвать их попросту рыжими – язык не поворачивается. Такого же цвета рукава платья, все в мелкую складочку, только само платье желтоватое то ли изначально, то ли этот золотисто-багряный цвет вокруг так его окрасил.
– Это тоже Богородица?
– О нет! Моя мать. Скоро умерла.
– Умерла, такая молодая – жаль, – сказала Анна и подумала, что между изображением женщины и её смертью есть связь, и не напрасно на Руси не принято изображать живых людей.
– Государь разрешил эту картину повесить, падре, – сказала Софья и передала её старику.
– Он и платья моего не хотел позволить, – обратилась она к Анне, та опять разглядывала женщину в окне. – Но как послов принять? Не в том! – Она подёргала подол богатого парчового сарафана.
– Великие княгини у нас при живом муже послов не принимают, – возразила Анна.
– Я царевна!
Анна почувствовала, как этим гордым восклицанием Софья воздвигла между собой и ею невидимую, но непреодолимую стену – швырнуть бы ей за эту стену дарёное платье: рязанской великой княгине никогда послов не принимать. «В коровник в нём ходить буду», – решила мстительно. Однако не показала Софье, что уязвлена. Тут же перевела разговор – спросила, теперь уже прямо обращаясь к старику, почему на картинах у всех женщин волосы одинакового цвета, к тому же неестественного, и такие огромные лбы. Старик объяснил, что италийские женщины волосы красят и выбривают их надо лбом, даже брови выщипывают, чтобы не отвлекали внимания ото лба, поскольку лоб у них считается главным признаком красоты.
– У вас же, насколько я помню, – сказал старик, – лоб и волосы прикрываются, и главенствуют в женской красоте глаза и губы.
Старик внимательно посмотрел на Анну. Держался он слишком свободно для слуги. Анна не могла определить его положение при дворе Софьи – советник, наставник, звездочёт или родственник? Софья почему-то не представила старика, но обращалась с ним уважительно и называла его «падре». Анна покраснела под его пристальным взглядом, а он сказал:
– Мне больше нравится русский обычай. У ваших женщин дивные глаза, у всех разные, как драгоценные каменья, так бы и глядел в них, не отрываясь, а у итальянок – один агат…
– Ты прекрасно говоришь по-русски, – заметила Анна, несколько раздосадованная, что старик похвалил глаза русских женщин вообще и ничего не сказал о её. – Извини, не знаю, как тебя величать.
– Зови меня Стефаном Каземировичем, великая княгиня.
«Ого, выходит, он не грек, а скорее литвин или поляк», – подумала Анна.
– Я долго жил в Москве. В отрочестве был пажем великой княгини Софьи Витовтовны…
– Бабушки! Это было так давно?
– Да, я очень немолод, – усмехнулся старик, – наверное, это видно. И всё-таки на старости лет хочу ещё послужить внуку… прекрасной Анастасии,
– Анастасии, почему Анастасии? – переспросила Софья.
– Софьи Витовтовны, то есть, великой княгини Московской, у неё тоже не одно имя.
– Но, падре, – с неудовольствием произнесла по-гречески Софья, – вы не говорили, что были пажем.
– Ох, ваше высочество, – ответил старик по-русски, – я многое делал в жизни и сообщил вам лишь о самых значительных событиях, чтобы не перегружать вашу память маловажными сведениями. Теперь не стану скрывать, что именно моё первое и самое скромное занятие, точнее воспоминание о нём, привело меня в Москву, побудило заниматься с вами русским языком, знакомить с московскими обычаями.
«Значит, не Фрязин Софью обучал, значит, она вступилась за предателя или лгуна по какой-то иной причине и солгала сама. И будет лгать ещё, чтобы отвести кару от старика – Иван не жалует двуликих, и старик едва ли придётся ему по душе».
– Да, да! Падре! – прервал установившуюся и, как показалось Анне, зловещую тишину весёлый голос Софьи. – Каждый имеет право на… Как сказать по-русски?
– На свою тайну, наверное?
– Да-да! – смеясь, Софья погрозила старику пальцем, но сделала это не так, как делают русские.
– А не спокойнее ли будет тебе, Стефан Каземирович, – сказала Анна, – послужить внучке Софьи Витовтовны?
Но старик отклонил её предложение, и Софье попытка Анны переманить его не понравилась. Старик остался, а на прощанье вдруг подарил ей «Женщину в окошке». Анна не хотела принимать подарка от малознакомого, подозрительного, хотя и чем-то нравящегося ей человека, но Софья настояла, говорила, как учёная птица:
– Возьми – она дорогая очень, возьми – она дорогая очень.
Старик застыл в почтительном поклоне. Анна не устояла – приняла подарок, хотя понимала, что придётся в Переяславле прятать картину от посторонних глаз. Спросила перед тем, как откланяться, жива ли женщина, изображённая на картине, и кто она. Старик затруднился ответить: картина была написана в дни его далёкой молодости, женщина на ней – натурщица, то есть бедная горожанка, зарабатывающая себе на жизнь тем, что её образ запечатлевают живописцы.
– А долго ли живут эти девушки? – полюбопытствовала Анна.
– Кому как на роду написано, – ответил с усмешкой старик.
На другой день Анна уехала, хотя Мария Ярославна делала вид, будто хочет удержать её, посокрушалась, что не успели они поговорить по душам. Но о каких доверительных разговорах могла идти речь, когда обе оказались невнимательны друг к другу. Мария Ярославна так и не заметила беременности дочери, а та равнодушно отнеслась к предстоящим горестным переменам в её жизни. Отчего-то все члены большой и слаженной когда-то семьи проявили поразительное равнодушие друг к другу. Братья не нашли даже времени поговорить с младшей сестрой, Иван перепоручил встречу с ней молодой жене. Только Андрей Меньшой навестил мать, хотя три младших сына её виделись с нею очень редко. И никто не заметил в охватившем всех близких отчуждении неладного. Собрались за общими трапезами, вместе показывались московскому люду на торжественных выходах – этим ограничились в свадебную неделю родственные отношения в московском княжеском доме. «Все чужие, все друг другу чужие, неласковые, недобрые», – не раз в эти дни думала Анна. Она испытала облегчение, когда наконец покинула Кремль.
Москва успела покрыться снегом и стала благообразнее, просторнее. Многочисленный люд, недавно ещё теснившийся на улицах и Красной площади, с морозами покинул их и перебрался на реки. На их прочном и гладком льду обосновались торговые ряды. Самым ходовым товаром стало мясо – как прожить без него суровой московской зимой! Кусочки, кусища, окорока, тушки и туши! Освежёванные, страшные коровы, растопырив ноги, стыли на льду, а неподалёку от них высились горы брошенных навалом баранов и гусей. Тут же в рядах можно было и отведать мяса: оно жарилось на огромных противнях, запекалось на вертелах. Жаркие костры горели прямо на льду, но не растапливали, не портили его – так искусно были сложены поленья.
Базар на Яузе уже ожил после ночи, когда покинувшие с рассветом Кремль рязанцы проезжали мост. За ним начиналась Болвановка, одна из городских окраин, знаменитая тем, что более двух веков на выезде из неё московские великие князья, а с ними их подданные терпели унижение, встречая с почестями ордынских послов. Встреча входила в княжескую обязанность, предписанную ханом. Здесь очередной великий князь, ордынский ставленник, с нижайшим поклоном преподносил послу золотой кубок с кумысом и собственноручно стелил ему под ноги соболей, на которые ступал тот, спешившись. Болвановкой Заяузье звалось со времён хана Батыя. Тогда понаехавшие в Москву ордынцы заселили окраину и наставили в ней своих языческих богов, болванов, сделанных из войлока и шёлка. Побывавшие в Орде москвитяне говорили, что такие же болваны стояли перед входом в ставку хана. Более ста лет прошло с тех пор, как ордынцы поменяли религию, приняли ислам, исчезли из московской ордынской слободы болваны, но она продолжала зваться Болвановкой. К этому времени болванами на Руси стали именовать глупцов и про князя, унижающегося перед послом, говорить: «Во болван!» Болвановкой князья ездить не любили.
Рязанцы хотели поскорее её миновать, и вдруг обоз встал.
«Что стряслось? Столкнулись с кем-нибудь? Под коня кто-то угодил?» – неслось от саней к саням. А к повозке Анны уже спешил старший страж.
– Прости, княгиня-матушка! Девка давешняя настырная поезд остановила. Под ноги переднему коню едва не попала, просит твоей милости. Может, прогнать её, назойливую.
– Нет, веди!
Два рынды приволокли вырывающуюся из их рук Пичугу, дочь Степанову.
– Со вчерашнего дня дожидаюсь тебя тут, княгиня, – сказала она вместо приветствия, едва кивнув. Может, и поклонилась бы, как следует, да рынды мешали.
– Отпустите сказительницу, – сказала им Анна, – и ступайте.
– Измёрзла вся, – продолжала Пичуга, потирая предплечья. – Подвезёшь до дома?
Зуб на зуб не попадал у глупой нахальной девки. Турнуть бы её, но ведь сгинет на холоде.
– Сутки, что ли, ждёшь на морозе?
– Да что ты! Совсем бы окоченела, – отвечала Пичуга, забираясь в повозку. – У бобылки здешней обреталась. – Она недовольно сморщила остренький синий нос. – Спозаранку к заставе выбежала – боялась упустить, а вы припозднились.
Пичуга говорила с такой уверенной напористостью, что Анна, вместо того чтобы рассердиться, почувствовала себя виноватой: бедная девка едва не окоченела, дожидаючись, да ещё ночевала у какой-то нечистоплотной старухи… Сенная девушка, видимо, испытала подобное чувство, потому что протянула сказительнице свою грелку. Та приняла её как бы между прочим, как бы даже не поняв, что с ней делятся теплом, отрывая его у себя, устроилась в ногах Анны и, повертевшись немного, сказала:
– Можно ехать!
– Трогай! – крикнула обескураженная Анна. Обоз двинулся.
Под скрип полозьев Пичуга начала рассказывать о своих московских злоключениях. К великой княгине Марии Ярославне, оказалось, она не попала только потому, что той нынче не до сказок – в монастырь собралась. О намерении Марии Ярославны поведала как о новости, пока известной только ей одной, и очень развеселила Анну и её девушку. Они засмеялись, Пичуга не поняла почему, но на всякий случай надулась. Потом сказала, что и Софьей Фоминичной не была принята: та ещё не осмотрелась в Кремле, не узнала, кто друг ей, кто враг. Возможно, и сделала бы для молодой сказительницы исключение, да греки окружают царевну – через них не пробиться. Невежественные греки – страх! Не знают, кто такие сказители, как их, сказителей, чтят на Руси. Да и у неё самой сомнения появились, стоит ли с царевной дело иметь: говорят, она ханжа. И нахальная сказительница тут же спросила, какое впечатление новая великая княгиня произвела на Анну. Анна не удостоила её ответа. Не узнав о Софье ничего нового, Пичуга заговорила о московских сказителях – все барыги и пьяницы, знакомство поддерживать с ними ей нет нужды: мелко плавают – перед голытьбой кабацкой выступают, в кружалах глотку дерут – вот до чего опустились.
– Да, по правде говоря, – заключила она, – настоящему сказителю, сочинителю, нечего делать в Москве: в ней, как и в Переяславле, книги всё ещё переписывают. А сказителю от продажи ничего не идёт. Поневоле в кабаках приходится деньги искать. Для порядочной женщины такое неприлично.
Она немного передохнула и заключила печально:
– Надо к иноземцам подаваться – там книги печатают.
И опять, услышав о печатании книг, Анна постеснялась спросить, что же это значит. А сказительница говорила уже о том, что поездку всё же не считает неудачной – судьба свела её с влиятельным и добрым человеком, жаль, в годах уже он, дьяк Курицын.
– Кто, кто? – стряхнула дремоту Анна. – Фёдор Курицын? Так он же ровесник великого князя или даже года на два его моложе.
– Я и говорю, что в годах, – спокойно отмела Пичуга княгинину поправку и перешла к каким-то подробностям знакомства с дьяком. Анна её не останавливала и не слушала, вспоминала Фёдора Курицына, каким знала его в детстве.
Фёдор был наперсником Ивана и Юрия. Попал в княжеский терем случайно, отроком, из какой-то небогатой и незнатной семьи. Привёл его дядька Ивана, чтобы он был примером княжичам в учёбе. Смышлён оказался парнишка не по годам, все науки схватывал на лету, проявил большие способности к чужим языкам, так что его сделали толмачом при Иване. За способности к языку Иван прозвал его скворцом. Был у них тогда учёный скворец, верещал по утрам дядькиным голосом: «Вставайте, бездельники!» – или мяукал, передразнивал старого кота… Других прозвищ у Фёдора не было. Проще было бы дразнить его петухом или курицей, пробовали, да только он на это не обижался. Прозвище такое носил какой-то его предок, от него и фамилия пошла. Фёдор ею очень гордился, говорил, что она древняя и куда знатней тех, что происходят от имён. Однажды княжичи даже поколотили его за это зазнайство, а Анна побежала к отцу выяснять, правда ли, что у князей нет фамилий, и прозываются они по уделам – Можайский, скажем, Волоколамский, Московский.
– Фамилии нужны людям незнатным, – сказал великий князь, – чтобы не путать их при разных сделках – сколько таких Фёдоров, без роду и племени на Руси! – вот и добавляют к их именам прозвища, передаются потом эти прозвища по наследству вместе с нехитрой убогой худобой. Князю достаточно одного имени. А название удела указывает не на княжеский род, а на то, чем этот князь владеет.
– Но бабушку все называют Голтеевой, – Анну не удовлетворило объяснение, – и ребята говорили, что мы то ли Захарьины, то ли Кошкины…
– Рюриковичи мы! – сказал великий князь гордо. – Рюриковичи, запомни, и оставим этот разговор – ты мне мешаешь.
Она послушно отошла (дело было в саду) и, направляясь назад к терему, размышляла, чему могла помешать, ведь отец ничего не делал, просто сидел на любимой дерновой скамейке. Теперь, вспоминая, поняла: он думал, но именно это важное занятие и дети, и взрослые принимают за безделье, не стесняются прерывать его. Она думала, а Пичуга продолжала болтать, не помышляя, что мешает.
Анна прислушалась: сказительница говорила, что Фёдор Курицын горазд сочинять разные истории, но времени у него мало, чтобы все их записывать. Он подарил ей несколько историй, чтобы она сделала с ними, что захочет: прибавила что-нибудь (убавить в них нечего), переиначила, записала, если грамоту знает, и не указывала его имени. Не хочет, чтобы великий князь узнал, что его дьяк сочиняет всякие пустяки. Великий князь и в молодые годы не поощрял его сочинительства, к тому же в сочинениях этих может усмотреть и некий намёк.
«А ведь девка не выдумывает, – решила Анна, – Фёдор в отрочестве рассказывал всякие сказки, собирал вокруг себя по вечерам дворню, даже матынька любила его слушать. Но какая чудная эта сочинительница – ей вроде бы и невдомёк, что рассказом своим предаёт дьяка». Анна попыталась представить его и не смогла; лет десять они не виделись, и она вспоминать бы его не стала, если бы не Пичуга. И сейчас разговора не прекратила только затем, чтобы чем-то заполнить дорожную скуку.
А Пичуга уже принялась рассказывать о греческой веры христианине, воеводе, именем Дракула, правившим лет десять назад в Мутьянской земле.
– К грозному князю-воеводе именем Дракула-цепеш (то есть прозвищем Дьявол-Сажатель на кол) пришли турецкие послы. Ну, как к нашим князьям ордынцы приходят, – говорила она. – Пришли, важные, высокомерные, и не сняли перед грозным князем шапки. Объявили, издеваясь, что обычай не велит им головы обнажать. Снявши капы перед чужим князем, иноверцем, они, забывшись, вдруг снимут их и перед своим пашой или того хуже – забудут надеть.
«Не беда! – сказал грозный князь Влад Дракула-цепеш. – Я позабочусь, чтобы не произошло этого!» – и приказал прибить капы гвоздями к головам послов.
– Молодец воевода! – Анна засмеялась. – Следовало бы и нам так проучить ордынцев – не спешат и они ломать шапки перед нашими князьями. Ну что там дальше было?
Четыре дня пересказывала Пичуга историю Дракула-цепеша, услышанную от Курицына, хотя в его передаче она заняла не более четверти часа.
Зломудрый Влад Дракула безмерной жестокостью наводил порядок в своём княжестве, искоренял в нём грабежи, воровство, ложь и необязательность, сажая на кол трусов и разного рода мерзавцев. А перед смертельным наказанием загадывал своим жертвам загадки. Отгадав их, можно было избежать казни. Задавал он и двусмысленные вопросы. Ответ на них тоже стоил жизни. «Хотите, – спрашивал он нищих бездельников, – избавлю вас от тревог на сём свете, и ни в чём вы не станете нуждаться?» Алчные нищие глупцы, собранные на большой княжеский пир со всей страны, радостно отвечали: «Хотим, великий князь!» Дракула приказал сжечь дворец, вместе с пирующими.
На вопросы коварного Дракулы, как мухи на мёд, попадались богатые и бедные, воины и землепашцы, монахини и прекрасные блудницы. Он с удовольствием сажал их на кол и пил из драгоценной чаши кровь, что лилась из их ран, тут же, не отходя от места казни.
– А что сталось с этим Дракулой? – спросила Анна, когда Пичуга закончила своё повествование. – Я понимаю, ты придумала сказку, но всё же…
– Не так уж много и придумала! – возразила сказительница. – Тем более князь Влад жив и здоров и пребывает в Валахии.
– И ему удалось такой страшной жестокостью навести порядок в княжестве?
– Вот уж этого я не знаю. – Пичуга брезгливо поморщилась. – Порядок в княжестве для меня значения не имеет. Я сказала о нём, потому что к слову пришлось. Главное – сам князь. Он кровопийца, получающий удовольствие от смерти людей. И красавица на колу ему куда желаннее, чем в постели. У-у, человечище! – сказительница зажмурилась и, сглотнув, спросила: – Ты никогда не ловила бабочек?
– Что? – не поняла Анна.
– А для меня бабочка на шпильке была прекраснее той, что порхала на воле, живая. Такова суть человеческая – жизни не хватит, чтобы разобраться в ней. Дракула (как, верно, ты заметила по моему рассказу) не вызывал у меня неприязни. Я бы хотела с ним встретиться. Думаю, до кола дело бы не дошло. Я бы нашла бескровный способ порадовать его… – она захохотала и подмигнула сенной девушке: – Ну, чего, несмеяна, рот разинула – научить?
– Галка, прости, Пичуга, – сказала Анна, пресекая её нахальную опасную речь, – когда напишешь книгу, сообщи мне – я найду изографа, чтобы сделал для неё миниатюры. – Она имела в виду себя. Пока Пичуга рассказывала, Анна мысленно рисовала события. Ей казалось, что её зрительное воплощение событий сильнее и ярче словесного, но, тем не менее, она чувствовала Пичугино влияние, сознавала, что сказительница главенствует над нею в понимании этой страшной истории, навязывает своё отношение к грозному князю Владу – Анне он тоже не казался омерзительным.
– И без твоей помощи найдётся много желающих пристроиться к моей книге, – ответила Пичуга на её предложение. Но Анна подавила гнев, охвативший её жаркой волной, пояснила смиренно:
– Я оплачу работу изографа, – и, помедлив, добавила уже по-княжески покровительственно: – Твою – тоже.
– Это другое дело, – сказительница была явно обрадована. – А сейчас разве ты не хочешь заплатить за четыре дня рассказов?
– Заплачу, конечно, как только получу от тебя, Галка, за четыре дня езды.
– Я думаю, мы, княгиня, в расчете, – заспешила Пичуга и на ходу выпрыгнула, выпала, на сей раз в сугроб.
Часть третья Великая княгиня Рязанская
1
Обоз двигался улицами Переяславля. Сгущались сумерки. Разбрелись по домам горожане. Отдёрнув занавеску, Анна ревниво всматривалась в бегущие навстречу строения, сравнивала с московскими. Увы, переяславские ей показались проще и беднее, только кремль порадовал. Он был расположен на высоком крутояре, удачнее московского, и обособился от городских слобод глубоким рвом и валом, поэтому неказистые домишки горожан не теснили его нарядных строений. Далеко от него была и базарная площадь с её постоянными суетой, шумом и грязью.
Мост у Глебовских ворот был уже поднят. Пришлось обозу подождать, пока его спустят и откроют ворота. Но эта досадная задержка почти перед родным порогом обернулась для Анны радостью – на крыльце терема ждал Василий. Чуть прихрамывая, он подбежал к кибитке, помог Анне выйти и, не выпуская её руки, повлёк за собой. Они почти бежали по слабо освещённым коридорам, узким переходам, поднимались и спускались по скрипучим крутым лестницам. И этот странный бег не вызвал у Анны тревоги, она не стала спрашивать, отчего такая спешка, не справилась о сыне. Ей было радостно и легко от сознания, что она, наконец, дома, что здесь её любят и ждут.
Василий выпустил её руку только в опочивальне, когда сенная девушка, не та, что ездила с Анной, принялась её раскутывать. Он весело и лукаво улыбался, глядя, как падают на пол бесчисленные платки, платочки и душегрейки, расхохотался, когда, собрав всё в охапку, девушка рассыпала половину.
– Ступай, неумеха, – сказал шутливо, – сами управимся, – и подтолкнул девушку к дверям. – Ну, здравствуй, Лисонька дорогая! Как же я по тебе соскучился…
Дух у Анны перехватило от долгого поцелуя, от жаркого объятия, а Василий поднял её уже на руки, понёс к ложу. Не было сил ему противиться, да она и не хотела противиться, хотя и не забыла, что плотская близость для беременной – грех, большой грех, что она может повредить будущему ребёнку. Э-эх, будь, что будет!
– Да что это мы, Лисонька, совсем голову потеряли! – Василий бережно посадил жену на край ложа, предложил буднично: – Давай помогу тебе умыться, – и, не дождавшись её согласия, поднял синий кувшин. Анна ещё раз убедилась в его умении владеть собой. Она же никак не могла унять дрожь, и ноги плохо слушались, и было стыдно, досадно, что не первой пришла в себя, но, не желая выдать Василию своего состояния, сказала игриво:
– Теперь не станешь упрекать меня в холодности! – и, резво подбежав к нему, подставила под ласковую, пахнущую ромашкой струю ладони. Показалось, что вода из Трубежа мягче московской – в баню бы сейчас, жаль, время позднее.
– Знаешь, Васенька, – сказала, наклонившись над тазом, с удовольствием растирая по лицу подогретую воду, – молодая-то наша в баню не пошла. Говорят, тучности своей застеснялась.
– Неправду говорят: не тучности – грязи. В их стороне бань вовсе нет, тамошние люди мыться не приучены.
– Да как же так? – Анна выпрямилась и от удивления не взяла протянутого полотенца, вода струйками стекала с лица на рубаху. – От них же должно…
– Они благовониями пользуются, разными притираниями.
– Бедный Иван! – произнесла искренне и рассказала, что и другие обычаи не были соблюдены на свадьбе: – Мы-то, глупые, пальцы погрызли, а они – ничего показывать не стали, и никто не посмел их укорить.
– Да чего их корить! – усмехнулся Василий, и сам вытер Анне лицо. – Поди, все бояре уже знали, что вдовый Иван женится на вдове римского князя, не запомнил его прозвания…
– Не может быть! – воскликнула Анна, но тут же добавила раздражённо, не сомневаясь в истинности услышанного: – И почему ты все неприятные известия сообщаешь мне как-то между прочим, за умыванием?
– Не в трапезной же о них говорить, – возразил Василий миролюбиво, – сама сокрушалась, что у наших слуг слишком чуткие уши и длинные языки. Да и узнал я об этом нынче. Но ты-то как об этом в Москве не услышала? Почему матушка не поделилась с тобой? Или она заодно с Иваном и тоже стала пренебрегать родовыми правилами? Знать, византийский герб и царский титул им важнее будущего Иванова отцовства!
Анна не знала, что и сказать. Её не посвятили в семейную тайну, значит, не считаются с ней, значит, она и впрямь отрезанный ломоть. А это не только обидно… Родственники пренебрегли семейным обычаем – похоже, рушится, а скорее уже разрушился казавшийся вечным семейный уклад. И что сказать на это? Заплакать? Броситься к Василию на шею: «Единственный мой, единственный». Недаром же при венчании сказывал священник: «Прилепись к мужу своему», – она не запомнила всех слов. Но Василий, с какой-то непонятной ей неприязнью, говорит о её матери и брате, хотя она ещё не успела вырвать с корнями их из своего сердца и, наверное, никогда не сумеет сделать этого, и ей больно, очень больно, и против своей воли она озлобляется на Василия, на единственного, кто её любит.
Непроизвольно Анна отошла к зеркалу. Во время сильного волнения она всегда успокаивалась, глядя в его сумрачную глубину, но сейчас не взглянула даже на его замутившуюся поверхность, не потёрла мягкой тряпицей, как обычно, – стала перебирать на поставце перед ним какие-то мелкие вещицы. Василий не мешал ей. Она, не оборачиваясь и не прерывая своих дум, поняла, что он обрезает фитили на свечах. У неё было зеркало, у него – свечи.
А размышляла она о том, почему на протяжении многих веков московские князья, да и рязанские, не женились на вдовах, и почему стоило соблюдать этот обычай. То ли от Юрия, то ли от Василия она узнала, будто происходил он из-за опасения, что такой брак не обеспечит мужу желанного отцовства, даже если жена останется ему верна до гроба. Существовало поверье и передавалось из поколения к поколению, что ребёнок (какой ужас, если наследник престола!), родившийся у бывшей вдовы, может унаследовать черты её прежнего мужа и лицом быть похож на него. Сомневавшимся в этом княжичам дядьки приводили в пример чистопородных лошадей и собак. У них, случалось, рождались ублюдки. И повинна была в том самка, имевшая некогда дело с коротконогим крестьянским Савраской или дворовым крючкохвостым Полканом. Для поддержания породы такая самка больше не годилась – её уничтожали, а конюха или псаря за недогляд строго наказывали. Говорили ещё дядьки, что необходимость показывать брачные простыни возникла как оберег от негаданного посягательства на чистоту рода, как доказательство, что чужая кровь не сольётся с семейной и младенец родится в отца, а не в прохожего молодца, след которого, может, уже и быльём порос, но семя осталось в сохранности. Оттого и не уберегшую девство невесту наказывали, и судил её не только муж, но и вся его родня.
Вспомнила Анна и как спросила мамку, почему она не поведала ей о поверье, а та отмахнулась небрежно от вопроса. «Глупости всё, – сказала, – мужики нарочно придумали его, чтобы на девочках непорочных жениться. Скоро конец этому придёт – безрассудство пренебрегать вдовами, богатыми да знатными. Тогда и не вспомнит никто, почему простыни показывают. А их показывать будут всегда, чтобы девки не баловали, в подоле не приносили да на шею родителям ребятишек не сажали».
Василий же обычай одобрял, очень одобрял: радовался, что в случае его кончины на ней никто не женится.
«Но, бывало, всё-таки женились князья на вдовах, – подумала Анна, но не в связи со своим возможным вдовством – не дай бог, а пытаясь оправдать Ивана, – давно такое было, однако было». Увы, справедливость подсказала, что в этих редких случаях князья брали в жёны вдов родных своих братьев – кровь их оставалась незамутнённой. «Бедная-бедная Ульяна Милославская – неужто ей вдовствовать с таких юных лет». И тут же в памяти всплыло лицо её брата, точнее не лицо, а его глаза немыслимой синевы. Она тряхнула головой, желая поскорее избавиться от наваждения.
– Не кручинься, Лисонька! Наше ли дело – осуждать Ивана, что нарушил завет пращуров. Да и всё взвесил он, прежде чем на такое решиться, и наследник у него уже есть, с его, чистой, кровью. Идём вечерять, небось проголодалась в дороге.
И на самом деле она проголодалась, но только после замечания Василия почувствовала это,
– Хороша, хороша, жёнушка! – Василий отстранил Анну от зеркала, оглядел внимательно. – Причесалась как-то по-иному.
Она-то сама и не заметила, что вообще причесалась. Руки действовали самостоятельно, по привычке, когда она и думать не думала о причёске и краситься вроде не собиралась – и надо же, нарумянилась, подвела глаза и губы.
– Хороша! Слыхал, на свадьбе красотой и нарядом невесту затмила. Может, и мне в нём покажешься, – говорил Василий без насмешки, – или новым порадуешь? Сейчас и надень.
– В нём только послов принимать, – буркнула Анна, надевая снятый при умывании повойник, волосы прикрывать она не любила.
Василий легко согласился:
– Послов, так послов!
Анна не поняла, действительно ли он готов нарушить обычай, по примеру Ивана, в пику ему, или не возразил, чтобы окончательно не омрачить их встречи. Однако из опочивальни муж и великий князь вышел первым и в трапезную направился чуть впереди жены, следуя заведённому порядку во времена незапамятные.
Ужинали, как всегда, вдвоём. Но от обычных этот ужин отличался праздничной скатертью и серебряной посудой.
– Что за торжество? – изумилась Анна.
– Твоё благополучное возвращение! – просиял Василий.
Она промолчала, постаралась скрыть недовольство: не такое уж событие благополучное прибытие домой с чужого пира, чтобы лучшую посуду доставать: от частого употребления она портится. Серебро, правда, не бьётся, как редкое венецианское стекло или тот драгоценный материал, из которого изготавливают прекрасные кувшины в стране Шин. В Москву и Переяславль они попадали из далёких стран и стоили так дорого, что к трапезе никогда не подавались, украшали поставцы. Но и серебро требовало заботливого ухода. С малолетства знала Анна, что оно чернеет от дурного воздуха, покрывается язвами, съедается. Она была бережлива, как её мать, бабки и прабабки. Усвоила – богатство копится годами, исчезает враз. А потому строго следила, чтобы не пускались в ход попусту новые скатерти, рушники, особенно белые. Получить белый истинный цвет было очень-очень трудно. Недаром все белые изделия независимо от их назначения именовались уважительно бельём, по цвету. Потом уж определения прибавились – столовое бельё, постельное бельё, нижнее бельё. Но всё это бельё могли позволить себе люди очень богатые и то в особо торжественных случаях. Она спала на красных простынях. И сразу поняла, что многочисленные разрезы на рукавах дареного иноземного платья сделаны для того, чтобы надевшая платье смогла похвалиться снежной белизной своей нательной рубахи, своим богатством.
Оглядев внимательно стол, Анна с удовлетворением отметила, что расточительность Василия не распространилась до её сундука с приданым: скатерть и рушники были из сурового полотна, а перед её серебряной миской стоит глиняная кружка для кваса. Она всегда пила квас из глиняной кружки. Мамка говорила когда-то, что квас любит глину. Василий не знал мамкиного наставления, но запоминал все привычки жены, всегда был осведомлён о её поступках.
Вот ведь, думала Анна, и о московских делах узнал, да так подробно, будто сам невидимкой побывал на свадьбе. Особенно поразило замечание о новом платье. Она хорошо помнила, что они с Софьей были одни, когда та открыла сундук и чуть ли не нырнула в него. Огромный сундук, с тяжёлой даже на вид крышкой в накладном серебре убранства. Испугавшись, что эта громада ненароком упадёт невестке на шею, она ухватилась за её край, а Софья засмеялась и показала на хитроумную подпорку внутри сундука. Подпорка членилась и сгибалась, как нога кузнечика. «Вот перенять бы», – подумалось тогда. Никого в горнице не было. Но… но потом платье видела сенная девушка, дивилась его крою, когда укладывала в дорожный короб. Неужели эта милая боярская дочь – соглядатайка?[42] Неужели князь следит за женой? Чего ради? Опасается её, не доверяет или хочет уберечь от чего-либо?
Кусок не лез в горло из-за безрадостных, тревожных дум. Но когда с трапезой было покончено, Анна оставила при себе свои сомнения и спросила о сыне.
– Наконец-то вспомнила – мать называется! – пошутил Василий. – Жив-здоров, каждый день о тебе справляется. Насилу нынче уложили – предчувствовал, что ты приедешь. Спит, поди, уже, нет надобности к нему ходить.
Но она всё-таки пошла, постояла у его колыбельки. Ванюшка никак не хотел отказаться от своего младенческого ложа, требовав, чтобы его качали перед сном. А зыбка давно уже была ему мала. Вот и теперь он лежал в ней, скрючившись, свесив через край ноги в полосатых чулочках. Анна попеняла дядьке, что не перенёс мальчика на лежанку, сделала замечания для порядка женской обслуге княжича и, поцеловав осторожно сына, пошла к себе.
На её половине было тепло и покойно. Неярко горели свечи, где-то за печкой уютно стрекотал сверчок. Откуда он только взялся! Давно она его не слышала, почитай, с самого раннего детства, когда захотела посмотреть, что за певец поселился в её светёлке. Подняла рёв на весь терем, требуя, чтобы няньки-мамки немедленно сыскали его: мечтала посадить в золочёную клеточку, любоваться и слушать. Женщины усердно обшарили все углы и, наконец, показали ей маленькое полупрозрачное существо, что-то вроде таракана. Оно было так безобразно, так не подходило для золочёной клеточки, что рёв превратился в ор, выплеснулся из терема на Красную площадь. Перепуганная мамка потащила орунью к ведру сплёвывать, накопившуюся злость выбрасывать и говорила при этом, что незачем быть сверчку красивым, коли он пением своим счастье приносит. Его чтят и в избах бедняков, и в хоромах княжеских. Она не хотела сплёвывать, она не желала, чтобы в её светёлке жило страшилище, пусть и крохотное, ей не нужно было счастье. Сверчка, сверчков из её покоев вымели. Мамки-няньки посокрушались, похныкали, но против воли княжны не пошли и княгине не пожаловались. Теперь Анна обрадовалась его немудрёной песенке – к счастью! Счастье стало нужным. Представление о нём совпадало с любовью, а любовь – с глазами лунной синевы…
Сенная девушка, переодевавшая княгиню на ночь, пыталась с ней поговорить, робко расспрашивала о свадьбе, но Анна не ответила – не в силах была оторваться от греховных грёз, навеянных певцом запечным, и более того – жена верная, старалась в это время представить, что не девичьи нежные пальцы переплетают ей косы.
– Великая княгиня! – прервал её мечты постельничий, возвестил из-за двери громко, грубо: – Великий князь велит тебе пожаловать в его покои не мешкая.
– Велит пожаловать, – насмешливо повторила Анна, – коли велит, то прийти, если пожаловать, то просит.
– Что так, что эдак, всё равно идти! – обидчиво отозвался постельничий. – Аль не пойдёшь?
– Идём, обожди чуток.
Анна набросила на ночную свежую, всю в узорах цветной перевити[43], но не белую, рубаху стёганный ордынский халат. Халаты полюбились богатым рязанкам, но стали одеждой сугубо домашней. Спрятала косы под плат. Девушка взяла тёплую шаль и какое-то шитьё или вязанье, чтобы скоротать ночь, если княгиня останется у князя до утра. С небывалой торжественностью, словно в тереме гостили посторонние, отправились на половину князя. Впереди шагал рында, освещая путь, ещё один замыкал шествие. Две девушки несли одежду, постельничий шагал для порядка. Пять человек сопровождали княгиню к мужу, пять человек обязаны были праздно ждать, когда она соберётся обратно. Чего ради эта пышность? – недоумевала Анна. – Всё на людях, всё на людях. Может, в доме посторонний? Поэтому Василий вспомнил о правилах.
– Извини, что побеспокоил, Лисонька, у меня теплее, – объяснил он и подвинулся, уступая ей место с краю, – не ожидали, что нынче приедешь, и твою опочивальню плохо нагрели.
– Да, конечно, надо дрова беречь, – согласилась Анна, не веря мужу: у неё было теплее, и необычный приём настораживал.
– У нас гости?
– Нет никого. Откуда им взяться! – Василии подоткнул край одеяла жене под спину и, невольно коснувшись её, отпрянул – обычай не позволял мужу трогать беременную жену. Анна знала о нём и всё-таки обиделась – рванулся, как от чумной, уж поцеловать-то мог, спросила сухо, противным даже себе голосом:
– О платье как узнал?
– Фёдор Курицын грамотку прислал. Обижен, что не приветила его.
Фёдор Курицын – странно как! Опять из её детства всплыло это имя.
– Не приветила! Да я его и не признала там.
– Умнейшая голова! Который уж год мы переписываемся. Ему бы быть великим князем, а не нам с Иваном…
– Кому на роду что написано. А пока вы княжите! Он же сказки или побывальщины сочиняет и скоморохам передаёт, чтобы людей позабавить. Страшные они, однако. Знаю одну, да боюсь к ночи пересказывать, – и тут же рассказала о Пичуге Степановой, девке или молодухе настырной. Передала с подробностями, на ходу их присочиняя, историю воеводы Дракулы. Василий слушал с большим вниманием, а когда она замолчала, сказал, что и не сказочка это вовсе. Не для развлечения праздного люда выпустил Фёдор историю иноземного воеводы в свет. Она предупреждение Ивану не от одного дьяка Курицына, от народа, какого скоморохи да сказители представляют, – плохо кончит, если не переменится, не урежет свою жестокость, свою гордыню непомерную. Вон ведь не помогла мудрость жестокосердному воеводе – погиб хоть и в бою, однако от стрел своего войска, от рук своих подданных.
– Не было в истории такого, я этого не говорила, и Галка, Пичуга то есть, сказывала, жив воевода, живёхонек!
– Ну как же, – усмехнулся Василий. – Дракула поднялся на гору, чтобы посмотреть на поле брани, а подданные приняли его за врага или потом сказали, что приняли…
– Не было этого!
– Не было – будет, не с Дракулой, так с Иваном, если не перестанет согражданам своим головы на Москве-реке сечь. То купца, слышишь, головы лишил, то лекаря, а на свадьбе (на свадьбе!) посла своего, свата своего в темницу заключил, всё состояние отобрал.
– Фрязин предал Ивана!
– Но нет, разве с такой женой он остановится! – Василий придвинулся к Анне, заговорил быстро и очень тихо, почти зашептал: – Слух идёт: Софья не только толста непомерно, но и свирепа. Отравителя с собой привезла. Да не какого-то там грека неизвестного, а недоброй памяти Стефана Бородатого, того самого, что Шемяку помогал отравить. За звездочёта выдаёт. Какой он звездочёт? – старый шут. Бороду сбрил, под латинянина рядится, а как был негодяем, так и остался.
«О ком это? Почему с такой злобой? Неужели о хранителе Софьиных книг? Он такой милый старец… Ужас, если всё правда…»
– Моего отца, думаю, не без его помощи на тот свет отправили.
– Господи! Что за страшные выдумки! Видно, и впрямь не к часу я про Дракулу рассказывала. Болел дяденька Иван сухоткой, от неё и умер…
– Сухотку отравой вызвали.
– Не верю! – перебила Анна со смехом и села в пышно взбитых подушках. – Кому он свет застил, тихий да добрый?
– Тому, кто на княжество Рязанское зарился. – Скорее догадалась, чем услышала она и переспросила:
– Кому?
Василий промолчал. Ей показалось, что молчит он вечность. И не в силах вынести этого обличающего молчания, жуткой, кладбищенской тишины, в опочивальне Анна закричала, как в детстве, не беспокоясь, что услышат за дверью – пять человек, сопровождавших её, и ещё человек пять караула.
Василий пытался успокоить её, обнял, презрев завет. Она уклонялась от его поцелуев, барахталась, путаясь в длинной рубахе, в тяжёлом беличьем одеяле.
За дверью тревожно переговаривались, но вмешаться не решались: думали, наверное, князь жену учит. Разве могли они представить, что у княгини рушится жизнь не только настоящая, но и будущая, и прошлая, с безмятежным детством, и княгиня бедная не в состоянии выбраться из-под обломков – прикована к постели. Коротка цепь, три шага до двери, три до окна, люди за стеной – один выход – крик. А с криком вырывается, уносится в небытие любовь к отцу, сама память о ней.
– Навет! Козни! Он не был убийцей! Он боролся за престол!
– И превыше всего ценил власть.
– А что ценнее её, богатство?
– Любовь.
– Любовь? – с горестным сомнением уже тихо протянула Анна и откинулась на подушку. – Любовь…
Глаза сами собой закрывались – одолевала дремота, и сквозь дремоту она услышала напористый, высокий, ломкий голос:
«В сущности, на этом свете никто никого не любит», – и увидела внутренним взором незнакомца, очень похожего на Фёдора Курицына, каким он вспомнился, но значительно старше, в странной одежде. Он стоял на невысоком, поросшем только-только пробившейся травой узком валу. С трёх сторон вал окружала чащоба камыша, за ней искрилось большое озеро. Удивительное озеро – составленное, как окошко, из отдельных разновеликих кусков прозрачной глади с переплётами камыша между ними, в обрамлении зубчатой полосы ещё безлистого леса. Множество чаек бушевало над его серединой. И они верещали так неистово, что почти не различались иные звуки. Однако Анна отчётливо расслышала ответ незнакомцу и тут только заметила чуть поодаль от него наклонившуюся за первоцветом женщину и, когда та выпрямилась, узнала в ней гостью своих снов, бескосую, простоволосую, хотя и немолодую уже, одетую почти так же, как незнакомец – длинные штаны, рубаха без пояса, сума перемётная через плечо.
Небрежно, как бы между прочим, женщина говорила: «Вы не правы. Дело в том, что женщинам надоела зависимость от мужчин. Они устали обслуживать мужей, не желают связывать себя брачными узами».
– Разве такое возможно? – выкрикнула Анна, забыв, что смотрит на происходящее как бы из дальней дали, вроде бы откуда-то сверху, и то, что видит ясно лица чужаков, слышит и понимает их речь, – чудо из чудес. Но мужчина вскинул голову в недоумении. «Чайка!» – сказала женщина и засмеялась молодо, счастливо.
Видение исчезло.
– Эх! – вздохнула Анна сокрушённо, жалея, что невольно прервала его, и вдруг до неё дошло, что чужаки не только были одеты иначе, чем её современники, они говорили на ином языке, вроде и по-русски, но по-другому.
– Анычка, ты задремала? Не отвечаешь, вскрикиваешь. Что с тобой?
– Я думала, как мы жить будем дальше. После того, как такое открылось.
– Для меня ничего не изменилось. Ещё мальчонкой об этом догадался. Дядьки старших княжичей шептались, а я подслушал. Говорили: умер Шемяка с отравы, кою из Москвы привезли и дали ему в куряти. Великий князь узнал о его смерти и не по заслуге вестника наградил. Оттого тайное стало явным. Никто из приближённых князю на промашку не указал: то ли трусливы бояре, то ли недогадливы. Он повторил промашку, когда умер второй двоюродный братец, рязанский, и опять ползут слухи по Москве. «Жаль мальца», – сказал один из дядек. – «Его не отравят, – возразил другой, – заложником держат». Вот так возникла догадка.
Василий замолчал на мгновение, переводя дух, и, страшась, что Анна вновь вспорет тишину криком, взволнованно зачастил:
– Намедни догадка подтвердилась – повар признался. Поварёнком случайно увидел, как лекарь в княжеские щи порошок подсыпает. Думал сперва – так надо. Потом понял и страху натерпелся, боялся, что соучастником сочтут, и молчал. Перед кончиной покаялся. Я хорошо помню лекаря, и, думается, это он вернулся с Софьей.
«Так потому он отказался поехать со мной, что побоялся быть узнанным», – подумала Анна, но заговорила о другом:
– Всё, что ты мне рассказал, – догадки и домыслы. Подозрением своим ты только бросил тень на моего отца и ничего не доказал. От кого стало известно, что Шемяку отравили зельем в куряти? Повар признался? Но на дыбе в чём угодно признаешься. Отец обрадовался смерти Шемяки? Конечно, тот был заклятым врагом. А лекарь ваш рязанский мог подсыпать порошки тайно, от излишнего усердия. Мне в детстве все лекарства давали то в молоке, то в варенье.
– Твои доводы не сильнее моих домыслов, Анна. Матушка умерла чуть раньше отца, порошки ей тоже подсыпали. Страшный, неизбывный порок – властолюбие, наследственный. Вон и братья твои грызутся, и Юрий скончался в одночасье. Боюсь за тебя, Анна, потому и открылся. Прости мою слабость.
– Простить? Да если бы я знала, я бы никогда, никогда… Как я буду теперь от тебя детей рожать? Что стану рассказывать им про дедов? Юрия ты помянул… Он никогда никого не порочил подозрением.
Анна опять села и, передохнув, спросила, запальчиво:
– Каково тебе было жить среди нас, злодеев? И зачем ты женился на дочери убийцы, когда вырвался на свободу?
– Я любил тебя. Люблю. И хочу, чтобы дочь наша была похожа на тебя и звалась твоим именем…
Анна не успела ответить – застрекотал сверчок, громко, ликующе.
– К счастью, – произнесли оба печально и – вдруг потянулись друг к другу…
В ту ночь они нарушили завет предков и думали потом, что оттого-то и не исполнилось их желание иметь дочь.
2
Родившегося летом мальчика назвали Фёдором.
Происходящие после рождения сына события не запомнились Анне: не отличались разнообразием, да и утратили для неё остроту – время замедлило ход и подчинялось теперь лишь нуждам её детей. Они же плохо росли, часто болели. Старший уросил, расшибался, падая, казалось бы, на ровном месте, гонял нахально забредавших на княжеское подворье посадских псов, те вполне могли оказаться бешеными – и тогда… Лучше было об этом не думать, но она думала и не раз в мыслях хоронила сыновей.
Дядька старшего между тем всё больше отстранял мальчика от матери, и с этим она не могла примириться и поделать ничего не могла. Как не могла тотчас же найти младшему кормилицу, когда у прежней вдруг пропало молоко. И даже грецкие орехи сыскались не сразу – исстари известно, что они молока прибавляют, – да вот беда – не в наших краях растут.
Тут новая забота появилась – показалось, что вновь беременна. Грех, конечно, препятствовать рождению ребенка, она и не препятствовала, но страдала очень – куда ещё одного мальчишку, разорвут княжество на лоскутки… Да и страшно рожать. Ох, как страшно! Каждый раз, как перед концом света. Говорили, татарки рожают легко! Может, и так, только и в татарской слободе бабы сгорали в родильной горячке, и главный баскак похоронил младшую жену. У неё было дивное имя Баисаилдана. Умерла страшно, в грязном окровавленном тряпье, распространяющем ужасную вонь – по поверью, одежду и постель роженице нельзя было менять, чтобы не повредить ей. Не меняли и укладывали её, горемычную, на какие-то обноски, которые сжечь потом не жаль. О, она не хотела последовать за несчастной Баисаилданой и позвала лекаря, хотя удостоверилась, что опасения напрасны (но это ведь только до следующего раза!). Лекарь призвал звездочёта, и вместе они составили её лунный календарь. Василий, узнав, попробовал сопротивляться, говорил, что и это грех, обман, но уступил. После ночного откровения он сделался уступчивым. Её это раздражало, казалось, муж наслаждается своим великодушием. Она чувствовала себя мухой, попавшей в паучью невидимую, невесомую, но губительную сеть. Любое проявление её чувств Василий мог теперь истолковать как отклик на его обвинение.
Анна жалела, что нет Юрия, что подевалась куда-то Еввула, они могли бы развеять её сомнения. Хотела было написать Ивану, спросить начистоту, как было дело, но, поразмыслив, побоялась прогневать его, подставить под удар Василия. Поняла, в любом случае, оклеветал ли Василий их отца, раскрыл ли ненароком семейную тайну, Иван ему не спустит, не остановит и то, что сестру вдовой сделает. Ещё и благодетелем себя считать будет: Анне досталась власть, о которой всю жизнь грезила их мать, да так и не дождалась – взрослые сыновья после смерти отца оттеснили от престола, власть, за какую боролась, не жалея сил, денег, здоровья баба Софья и какой воспользоваться не смогла, власть, в расчёте на которую другая Софья проехала полсвета и, не робея, легла на брачное ложе чужеземца.
Да, Анна тоже мечтала о власти едва ли не с пелёнок и не обрела желаемого, но получить её такой ценой не была готова. И всё-таки примеряла на себя мысленно вдовий убор. За любовь к живописи она уже заплатила жизнью брата.
Утрату Юрия она перенесла и вспоминала его теперь изредка, в случае какой-либо нужды, когда сама не могла решить, как ей поступить. Но она не видела его мёртвым. Он просто ушёл из её жизни, как ушла Ксения. А муж… Анна вдруг представила гроб и лежащего в нём под парчовым по-кровом Василия, его восковое лицо, изменившееся до неузнаваемости, и себя, склонившуюся над ним для прощального поцелуя. Толпа придворных ждёт своей очереди для последнего целования, а она не в силах прикоснуться губами к холодному лбу.
– Господи! Какая я мерзкая баба, – вскрикнула она и отодвинула листок толстой шершавой иноземной бумаги, на которой намеревалась писать Ивану. – Прости меня, Господи, прости грешную. Не нужно мне власти, лишь бы он был жив.
Анна вдруг почувствовала опасность – она грозила Василию уже сейчас, в этот самый день. При их теремных порядках он мог быть отравлен уже за вечерей. Он! – о себе она не подумала, хотя трапезничали в тереме они вместе. И оба слепо доверялись прислуге: лишь от повара и стольника зависела безвредность яств. Беспечны были великие князья рязанские – трапезничали, словно захудалые дети боярские или, тем паче, простолюдины, без затей, не обременяя прислугу. И княжна московская переняла их порядки, хотя в Москве строго придерживалась иного, помнили о коварстве и беспощадности отравителей, о губительной силе яда. Её же и случай с толчёным стеклом ничему не научил. Испуганная, Анна принялась спешно вспоминать и записывать, как и в какой последовательности подавались в Москве княжеские кушанья.
Сначала в трапезной дворецкий и ключник стелили перед собравшейся за стол княжеской семьёй чистую скатерть. В сенях ставили переносной стол и тоже застилали его такой же скатертью. На него из поварни ключник с подключниками носили яства. Но прежде, чем передать в трапезную, ключник сам их отведывал в присутствии дворецкого. Дворецкий тоже откушивал всего понемногу и отдавал яства стольнику, питьё – чашнику, те относили всё в трапезную и там, на глазах у всего княжеского семейства, яства пробовал крайчий, а питьё чашник.
И, записывая этот не одно десятилетие действующий и строго соблюдавшийся порядок, Анна и в нём обнаружила изъян: стольник ничего не пробовал и оказывался безнадзорным, когда входил из сеней в трапезную. Конечно, он был лицом важным, благонадёжным, боярином из родственников великого князя. Но что значит родство перед властью! Она исправила эту оплошность такой записью: «Прежде крайчия и чашника все яства и питьё непременно пробовать стольнику», – и тут вспомнила, что нередко они с Василием снедают у неё в покоях, а сенные девки, боясь потучнеть, вовсе ничего не пробуют, и она им потворствует. Пришлось добавить ещё строку: «Князю кушать и пить надлежит исключительно в трапезной». Но прежде надлежало согласовать с ним это нововведение.
Василий внимательно прочитал написанное и, улыбнувшись, сказал:
– Бережёного бог бережёт! Будь по-твоему! Но учти, отравой и книги пропитывают и даже образа. Александр Македонский пал замертво, примерив подаренный венец. Всего не предусмотреть нам, Лисонька. Последним же заветом ты обрекаешь меня на голодную смерть. Какая трапезная в поле или курной избе! Да и не стану я за собой ораву дармоедов таскать – стольник, ключник, крайчий – и не по одному ведь! Стряпчие назойливостью своей надоели – только у копны какой присядешь, кто-нибудь из них уже тут как тут: «Стульчик, пожалте!»
В последнее время Василий то и дело куда-нибудь отъезжал. И цель его частых отлучек из Переяславля была одна – купля новых угодий и поместий. И каждый раз он пространно объяснял Анне, что заботится о возрастающем семействе, что звание великого князя ничего не значит, коли в брюхе пусто, что сыновей следует обеспечить прилично, да и дочь с пустым сундуком не выпроводишь. Ей было смешно, что Василий заботится о неродившейся дочери, и всю затею она не принимала всерьёз, но не ревновала его к возможным разлучницам – пусть тешится, лишь бы не с Ледрой. И, вспомнив беспутную девку, Анна стала думать, что это она оклеветала великого князя Московского, чтобы отомстить ему и его семейству.
И ещё представлялось ей, что Василий посещает Еввулу в мещёрском непроходимом лесу. Анна закрывала глаза и видела лесное озеро, круглое, как блюдо, голубое и чистое. У озера – крохотную, в одно оконце, избушку. На её островерхой, покрытой осиновой щепой крыше сидела Еввула, простоволосая, босоногая, в простой, без вышивки рубахе. Из-под согнутой ладони вглядывалась она в озёрную слепящую гладь. Пустынна была эта гладь и незыблема. Казалось, спокойной и нерушимой пребывать ей вечно. Как вдруг всколыхнулась она, раскололась надвое под узким и быстрым челном. Чайкой слетела Еввула ему навстречу. Анна вздрогнула, открыла глаза: она не желала видеть, что будет дальше.
Ей было больно, очень больно, хотя она и осознавала, что не имеет теперь на ревность права: открывшаяся тайна оторвала от неё Василия, сильнее связала с Москвой, припутала к Отчизне, к источнику всех её бед и радостей. Беды были настоящими, радости прошлыми, но те и другие держали, словно путы. Да, путы! Не пуповина, по которой идёт к ребёнку живительная сила, а лишающий его возможности самостоятельно двигаться жёсткий, крепкий, бесконечный свивальник. Младенец не чает, как от него избавиться, и – не может без него уснуть. Она разочаровалась в самой близкой родне, разуверилась, но не представляла жизни без встреч с матерью и старшим братом (год от года они становились всё реже), без их писем, тоже нечастых. На письма Анна набрасывалась, как на кусок хлеба. А они, преодолев двухсотвёрстное расстояние, приобретали некую самостоятельность, как бы отстранялись от написавших, начинали жить собственной жизнью, становились не только вестниками, но и собеседниками. Анна многократно перечитывала их и раздражалась, если кто-нибудь отрывал её.
Писала в основном невестка, Софья. Мать всё больше удалялась от мирских дел, всё больше сживалась с монастырскими насельницами. Анна всё ещё не любила невестку и не надеялась, что полюбит когда-нибудь, но письмам её радовалась. То есть радовалась, получая их, потом, при чтении, могла испытывать самые разные чувства (как при разговоре с собеседником), но первым – всё-таки была радость. За Софью какое-то время писал толмач, но и это обстоятельство не умаляло радости.
Чуть ли не в первом письме поведала Софья о событии горестном, о смерти митрополита Филиппа. У него она получила благословение, когда приехала в Москву. И вот спустя короткое время почтенный старец скончался – от сильного испуга. Перепугался, как говорят, насмерть во время сильного пожара в Кремле, когда дотла сгорел его дом. Правда, умер владыка не на пожарище – плохо ему стало в новом, строящемся соборном храме Успения, где он поклонялся мощам святого чудотворца, – отнялась рука. Великий князь сам отвёз митрополита в Богоявленский монастырь и был с ним до самой кончины, последовавшей на другой день. Ни на кого более, замечала Софья, пожар не возымел столь пагубного действия.
Замечание заставило Анну задуматься. Бесспорно, письмо содержало весть печальную, но смерть митрополита была подана в нём как возмездие за его алчность – почтенный старец добро своё пожалел.
Что это, размышляла Анна, таинственное и коварное свойство всякого письма перетолковывать события и людские поступки или за сообщением кроется торжество недоброжелательницы? Оно-то и лишило известие траурной окраски? У Софьи не было причин скорбеть о митрополите, а радоваться его унижению (обстоятельство смерти навсегда унизило его) – сколько угодно! Он лишил её поддержки Рима, воспрепятствовал проникновению католицизма в Москву, нарушил планы Софьиных покровителей, своей непреклонностью заставил сделать Ивана выбор не в их пользу. А краткая запальчивая речь Филиппа передаётся от православного к православному и не только в Москве: «Буде ты позволишь в благородной Москве нести крест перед латинским епископом, то он войдёт в одни врата, а я, отец твой, изыду другими вон из града».
Скорее всего, торжество доверила Софья шершавому листку – не утерпела и не побоялась, что станет оно прежде достоянием толмача. Кто он, этот человек, небрежно, наспех набросавший корявые буквицы на дорогую фряжскую бумагу?
И тут же вспомнилось Анне благообразное худощавое лицо, обрамлённое небольшой бородой и негустыми седеющими кудрями причёски. Библиотекарь! Отравитель?
Она поднесла листок к губам и нерешительно лизнула строчку. Вкуса не почувствовала, но язык саднило – отшвырнула листок и с нетерпеливым тревожным любопытством наблюдала за ползающей по строчкам мухой. Та отведала засохшей туши и благополучно улетела, потом долго с видимым удовольствием умывалась на оконном переплёте. Да и с какой стати было Софье и её советнику травить сестру великого князя?
Письмо не порадовало, но развлекло Анну, перенесло её в полную ярких событий Москву, и она с нетерпением стала ждать следующего. Будут идти годы, Анна не раз встретится с невесткой, но ни одна их беседа, даже с глазу на глаз, не доставит ей такого удовольствия, как письма Софьи.
Как-то Софья сообщила, что выпроводила ордынцев из Кремля. Они съехали на Болвановку, в Замоскворечье. Ей удалось провести старшую жену хана Ахмата – послала ей письмо, сопроводив его щедрыми дарами. Покорно просила уступить княжеской семье Ордынское подворье, ей-де видение было, указание свыше, построить храм именно на этом месте. И правильно рассчитала: не посмела суеверная ханша противостоять потусторонним силам, да и дары были очень убедительными.
От такого известия Анна сначала возликовала: наконец-то московский терем освободился от вечных соглядатаев, от шумного, наглого сброда послов, купцов, ханских баскаков и их слуг. Так просто оказалось от них избавиться – молодец Софья! Однако следом за радостью пришла досада – чужачка, без году неделя, как в Москве, и сразу добилась того, что не смогли сделать до неё великие княгини Московские, ни Мария Ярославна, ни Софья Витовтовна, не говоря уже о Марьюшке. А ведь им тоже неприятно было ордынское соседство, по крайней мере, мать не раз сокрушалась. Анне не хотелось признать, что Софья оказалась смелее, находчивее своих предшественниц, и она сыскала оправдание матери и бабке. Мать – истинная православная христианка, не отважилась на обман. Бабка не стала время тратить на устранение мелких неудобств – всю жизнь сыну великокняжеский престол отвоёвывала. Мало что значило для неё соседство нескольких десятков иноверцев, когда год пробыла она в татарском плену, правда, в Казанском ханстве.
И хоть оправдание ближайшим родственницам нашлось, досада не избылась. Из-за неё и следующую в письме новость Анна приняла как похвальбу. Софья сообщала, что уговорила Ивана не ездить встречать ордынских послов, не унижаться самому и, главное, не унижать её, царевну византийскую, коленопреклонением и целованием ханской басмы. «Я сказала Ивану, – писала она, – отец мой и я захотели лучше отчины лишиться, чем дань давать; я отказала в руке своей богатым, сильным князьям и королям для веры, и вышла за тебя, а ты теперь хочешь меня и детей моих сделать данниками; разве у тебя мало войска? Зачем слушаешься рабов своих и не хочешь стоять за честь свою и за веру святую?»
Это хвастливое заявление невестки изобличало уже не только княгинь – весь род московских князей в трусости, в рабской несамостоятельности, в унизительной зависимости не столько от ордынских царей, сколько от своих же подданных – «зачем слушаешься рабов своих». Над таким письмом невозможно было размышлять в одиночку – Анна побежала к Василию.
3
Был послеобеденный час, когда в тереме все почивали или тихо занимались любимыми неурочными делами. Василий обычно в это время что-нибудь читал, Анна редко его беспокоила. И теперь перед ним лежала какая-то толстая книга. Анна бросила на неё письмо.
– Полюбуйся! Наша римлянка распри и войну разжигает. Иваном, что лелькой тряпичной, вертит. Иваном, коего Грозным величают!
Василий с неохотой оторвался от книги, бегло просмотрел письмо. Анна стояла за его спиной и тоже читала, но дошла только до середины страницы, когда он отложил листок.
– Искусно написано – почерк отменный, слово к слову ловко подогнаны, но всё в нём показуха. На простачков рассчитано. Не кручинься, Лисонька, – войны не будет. Никто нынче к ней не готов – ни Иван, ни Ахмат, у союзников их свои заботы. Король польский Казимир – не помощник сейчас Ахмату, сыновьям сейчас помогает на чешском да венгерском престолах удержаться, крымский хан тоже не пособник Ивану, он на разбои дюже горазд, в большую бойню его трудно втянуть.
– Да ты что стоишь? – Василий приподнялся, посадил Анну себе на колени, и, чуть покачивая её, продолжал: – Иван послов не встречает? Так это за него делает Патрикеев. Помнится, Иван ещё до Софьи перед встречей больным сказывался. Эко геройство – татар с подворья погнал! Так почти тотчас же принял шестьсот ордынцев на довольство, когда их с собой посол Ахматов привёл. Позволил купцам татарским, а их, сказывают, более трёх тысяч, расположиться своими табунами в Москве.
– Не в Москве же конские торги были!
– И не в Твери! Табуны, голов с полсотни тысяч, вблизи наших пределов прошли. Дерьмом по сей день в придорожных деревнях воняет, и всё ещё его с тракта счищают. Нет, по одной бабьей прихоти от Ахмата сейчас не избавиться. Равны сейчас силы москвитян и ордынцев. И Ахмат, и Иван это знают: под Олексином поконались[44]. Годочка через два или три Иван подкопит деньжат, тогда и басму топтать можно, а пока покорность изображать будет. А что до невестки нашей, так это она перед тобой выхваляется, цену набивает. Наперсниц римских лишилась, московских заводить опасается, вот и будет выдумки тебе свои поверять.
– Меня залучить не так-то просто, – сказала Анна и поёрзала, устраиваясь поудобнее, – к тому же из письма следует, что ни бабка моя, ни мать…
– Да, – подхватил, смеясь, Василий, – из него следует, что ни они, ни, слава богу, ты, Лисонька, в дела княжеские, государственные не встревали, а если и встревали, то об этом помалкивали, мужей уму-разуму не учили, а если и случалось, не хвалились этим в письмах, толмачами писанных. Сегодня мы с тобой узнали, что великий князь Московский под каблуком у жены-чужеземки, завтра москвитяне об этом заговорят, до летописцев дойдёт, они же, ребята – не промах, – пропишут на века. А он хотя и трус, но не подкаблучник. Это я у тебя под каблуком, однако об этом никто не знает, – Василий засмеялся и поцеловал жену в шею, один раз, другой, третий…
Анна засмеялась от щекотки, от неожиданности и нелепости его порыва.
– А знаешь ли ты, радость моя, недотрога, что скоро нашим богомазам делать нечего будет?
– Отчего же? – спросила Анна с вызовом
Василий помолчал, полистал книгу, словно отыскивая нужную страницу. Анна ожидала, что в доказательство своим словам он прочтёт что-нибудь, но Василий вдруг захлопнул её и рассказал о новом религиозном учении, которое стало известно ему от Фёдора Курицына. Учение это уже довольно распространилось по Руси. Появилось в Киеве, оттуда попало в Новгород, достигло Москвы и занимает умы людей знатных, просвещённых и могущественных. А отличается оно от православия тем, что не признаёт таинства Святой Троицы, отрицает божественное происхождение Христа и, следовательно, не чтит Богоматери, обходится без икон и не предрекает скорого конца света. Были ещё кое-какие мелкие отличия, Василий затруднился их перечислить. Анна не стала ждать, заявила возмущённо:
– Это ересь! Выдумка христопродавцев, потомков Иудиных. И за распространение её твой любомудр Курицын поплатится!
От вспыхнувшей вдруг ревнивой ненависти к московскому дьяку Анну бросило в жар, будто удавкой стянуло ей горло – не могла произнести больше ни слова, мысли больно бились в голове, не в силах вырваться наружу злыми словами. Так вот, значит, кого ей следовало опасаться – не девок вольных, гулящих! Те завладеют лишь телом суженого и то ненадолго. Дьяк же на душу Василия нацелился, в помыслы его проник, овладел ими. Письма шлёт, может, наговорённые, книги – а вдруг чёрные? Она понимала, что не сравняться ей с Фёдором в учёности, в государственном опыте, в каких-то доступных лишь мужчине знаниях, и выходило, не отвратить ей Василия от него никогда. Злые слёзы увлажнили глаза – одолел её чернокнижник!
– Курицын – чернокнижник! Мы уже говорили о нём. Если забыла, повторю: это достойнейший человек. Я горжусь знакомством с ним. А что до чернокнижия, то отличишь ли ты белую книгу от чёрной, Анна? Ведь ты едва ли пяток книг прочитала и при этом полагалась на выбор своих наставников.
Василий отошёл от стола и привычно зашагал по горнице. Анна невольно залюбовалась им: глаза, словно излучающие свет, тронутые загаром щёки над белокурой бородкой, ловкое сухощавое тело ладно облегает зелёная сурожского шёлка ферязь. Слушала невнимательно, что он говорит, да и что бы ни сказал, всё сводилось к одному – выгораживал дьяка.
– Мы невежественны, Анна. Князья едва читать умеют. Ни на одном языке, кроме своего, да и то с грехом пополам, говорить не могут. Толмачей призывают. Невеждами были и учителя наши. Такие нынче и пастыри. Священство друг у друга перенимает, как службу отправлять, а грамоту едва разумеет. Мыслимое ли дело, мясники, горшечники в одночасье попами становятся! Где им о вере рассуждать, о несовершенстве её задумываться. Потому-то и восстают против всего нового, что не в силах понять его. Да, из-за своего скудоумия! А Создатель наделил человека самовластным умом. Самовластным! Открыл вольное произволение к добродетели или злобе. И не ограничивал в вере. Оттого-то и не может быть единой веры на свете.
Василий вдруг резко повернулся, спросил скорее себя, чем Анну:
– А что такое вера? – и тут же раздумчиво ответил: – По-моему, это признание одного какого-то учения о поклонении Создателю, о способах обращения к нему. Изначально вера основывается на убеждении, что Бог есть. Когда говорят, что кто-то не верит в Бога, то разумеют, что он не ходит в церковь, прилюдно не молится, то есть не соблюдает принятых правил поклонения Богу. Но можно ведь всё это соблюдать и не верить в самого Создателя или сомневаться в его существовании. Однако ревнителей веры это не заботит: главное для них – незыблемость правил, установленных полторы тысячи лет назад. Время идёт, мир меняется, а правила остаются неизменными… – Смешно!
– Я не всё поняла из того, что ты говорил, – сказала Анна строптиво, – зато почувствовала – скверна ереси коснулась и тебя, кто бы ни был тому виной, Курицын ли, книги ли, кои ты читаешь по собственному выбору. – Она показала на книгу, лежащую на столе.
– О, это чудесный роман, – оживился Василий, – «Александрия», путешествия Александра Македонского по разным дивным странам. Ты ведь знаешь, кто это? Ему с детства, оказывается, была предсказана ранняя смерть, но он не отчаялся и продолжал жить наперекор судьбе. Постоянно рисковал головой! Однажды, во время войны с персами, сам явился во дворец к их царю Дарию под видом собственного посла. Его узнали. Пытались пленить. Он сумел убежать. Потом победил Дария в бою. Прекрасная, завидная судьба! Как мне хочется путешествовать. Если бы не хромота, тоже прикинулся бы послом и отправился куда-нибудь на край света, в Персию или Индию, – Василий увлёкся рассказом, казалось, забыл про обвинение, про еретиков.
Александр умер нестарым, но какие деяния совершил, какое войско собрал, кого только у него не было: греки, сирийцы, индийцы, египтяне. Чудная книга – почитай обязательно. Кстати, после смерти царя ангел Господен его душу и отнёс, куда Бог повелел. А ведь царь Александр был язычником. Мы же с Фёдором – православные с пелёнок и от православия не собираемся отказываться. Учения новгородцев полностью не разделяем, но кое-что готовы были бы принять. Я, как и они, против монашества. Против: оно противно человеческому естеству, да сам Христос монахом не был. Еретики, когда отрицают монашество, приводят это как довод. Смешно! Забывают, что не признают самого Христа.
Василий подошёл к Анне и обнял её за плечи (во время его длинной речи она устроилась в деревянном старом кресле за столом). В объятии не было страсти, только нежная доверительность.
– Я, как и они, не верю, Анычка, в скорый конец света: его уже не раз предсказывали и называли год, и всякий раз ошибались. Этого не может быть, чтобы мне осталось каких-то семнадцать лет или даже меньше любить тебя. Я так рад, что ты пришла сегодня ко мне в неурочное время. Я действительно ошалел от счастья, прости меня. Любовные утехи непристойны, грубы, некрасивы, и настоящий мужчина должен уметь их приукрасить. Меня этому не обучили. Но чтобы доставлять тебе впредь только удовольствие, я готов отправиться хоть к турецкому султану, перенять у него искусство любви.
– Ну и ну! И прихватить с собой пару-тройку его наложниц для продолжения науки, – Анна поднялась, легонечко оттолкнула Василия.
Терем ожил: слышались быстрые шаги прислуги, голоса, глухое хлопанье дверей, какая-то опять скрипела. Анне следовало поспешить, чтобы не пришлось боярыням ждать её. Они собирались по четвергам на посиделки. Рукодельничали, сплетничали, делились новостями, слушали сказителей.
4
Посиделки не отличались от всех предыдущих: то же надоевшее Анне сборище знатных горожанок, разных по возрасту, но одинаково скучных с их всегдашним хвастовством иноземными цветными нитями, материей, иглами, с их услужливо-льстивыми предложениями уступить тотчас же ей что-нибудь из этого, послать немедля девку за особо удавшимися красителями; те же раз за разом повторяющиеся сказки, которые собравшиеся слушали с неизменным вниманием. Сказки в Рязанском княжестве были в чести. Рассказывались были и небыли, но особенно ценились с явным вымыслом. Вот и пришлись по вкусу многочисленным слушателям придумки Пичуги Степановой. Но на этот раз на посиделках её порицали: воображения девке недостаёт, всё с жизни списывает, взять, к примеру, того же Змея-Горыныча – не выдумка это.
– Ох, не выдумка Огненный Змей, нет, не выдумка, – горестно вздохнула боярыня Клавдия и сдвинула на бок кичку – обнажились влажные завитки редких пегих волос, да и как им не упреть под многослойной стёганной то ли на пакле, то ли на шерсти кичкой. – Любак он зовётся у нас в Рязани, – пояснила она Анне, – летает к девкам да бабам, когда очень уж сильно тоскуют они по покойникам, по мужьям, либо суженым. Шибко-то тосковать нельзя, ох, нельзя – не к добру. Во всём надо меру знать. – Боярыня строго посмотрела на притихших слушательниц. – Да! Так вот. Намедни Любак к одной вдове в Рыбацкой слободе наведывался. Рассыпался искрами над трубой сперва (через трубу он в горницу влетает), а перед вдовой явился в облике покойного. Слава богу, вдова опомнилась, да и знала, что делать. «Тпру» сказала ему и тут же рубаху на себе порвала – от горловины до подола. Тем и спаслась. Улетел Огненный Змей. А не сделай она этого, погибла бы, ох, погибла.
– Надо было заслонку на трубе закрыть, он бы и не влетел, – заметила робко самая молодая из женщин и незнатная, купеческая жена.
– Заслонку! – возразила её соседка. – Да они не на всех трубах стоят, не во всех избах и трубы есть. Змей – вездесущ. И не только вдов посещает. – Она торжествующе взглянула на боярыню Клавдию. – Вон ведь к жене Муромского князя Павла летал и ложе с ней при живом муже делил. С княгиней! Хоть и давненько беда такая стряслась, но ведь не забылась.
– Да, да, не забылась! – поддержали её остальные и наперебой принялись рассказывать Анне, что со змеем справился брат князя Муромского, Пётр, что бился со змеем, и тот забрызгал его своей поганой кровью. От неё пошли по всему телу доблестного Петра болячки. Не знал от них князь покоя, мучения терпел ужасные. А вылечила его простая девка, знахарка из рязанского села Ласково. За это князь женился на ней.
Анна знала историю Петра и Февроньи с малых лет. Они считались в её московском семействе сородичами. Иван даже ездил в Муром на поклонение их святым мощам. Однако в россказни про змея она верила слабо, допускала, что заболел Пётр от порчи, если не от поветрия, как её отец, вылечила его знахарка, а Огненный Змей…
– Есть они, есть, – словно прочитав её мысли, подытожила боярыня, – их ещё называют Спящие. Они жили на земле до людей, потом впали в долгую спячку. Змеи обычные, те только зимой спят, а эти – веками! Иногда просыпаются на погибель людям. Ничего сказительница не выдумала.
– А про Дракулу она рассказывает? – спросила Анна.
О Дракуле женщины ничего не слышали и стали умолять Анну разрешить Пичуге, дочери Степановой, прийти на княгинины посиделки прямо на следующей неделе. Анна согласилась: понимала, что надо уступать подданным в мелочах, чтобы потом настоять на своём, отказать в чём-то значительном.
А Пичуга на княгинины посиделки не пришла.
Анна смотрела в окно своей светёлки. Сколько русских женщин из поколения в поколение предавались этому пустяшному занятию, а были это не только теремные затворницы, послушные смиренные дочки на выданье или ненадёжные красавицы жёны, коих мужья держали под замком, – всех женщин неизменно тянуло к окнам, и тяга увеличивалась, когда появились в них стёкла. Девочкой Анна дивилась материнскому пристрастию. Ну что любопытного можно было увидеть во дворе? Спешное или неспешное перемещение по нему слуг, иногда – их опасливые задержки (увидят – накажут), однако мать подолгу простаивала у окна и раздражалась, когда в это время дочь приставала к ней.
Настал черёд Анны застывать у окна, принимать подле него важные решения, собираться с мыслями, находить успокоение в созерцании открывающихся из него скупых на перемены видов. Она смотрела на небо.
Серая пухлая туча повисла над макушками далёких деревьев в странной неподвижности. А те отчаянно шевелили ветвями, уклончиво раскачивались, словно кто-то невидимый и сильный будоражил их снизу, неистово тряс, ухватившись сразу за несколько стволов, чтобы стряхнуть пришелицу, заставить подальше сползти с наконец-то открывшегося кусочка небесной сини. Туча оставалась непоколебима. Мало того – ей на помощь споро двигалась союзница размером поменьше, но плотнее и пасмурнее. Оценивая её, Анна не уследила, каким образом первая прекратила своё героическое стояние – ветром сдуло, испарилась, но только и след её простыл. Деревья замерли. Небесная синь очищалась, суля ясный тёплый день, один из последних тёплых в неотвратимо надвигающейся осени. Был конец сентября.
Накануне ночью отбушевала, видимо, последняя в году гроза. Обрушила на Переяславль не успевшую растратиться за сухое лето мощь. Проснувшаяся от первых раскатов грома, перепуганная, Анна укрылась в молельне, всю ночь простояла на коленях перед иконой Богородицы, вздрагивала при каждом ударе (они следовали почти непрерывно), шептала одно и то же: «Дева пречистая, заступи и помилуй».
Василий же безмятежно спал и не сразу понял, что вместо жены с ним рядом – пёс. Пёс – поганое животное, так считалось и в Московии и в Рязании: «яко пёс смердящ». А Василий любил этих «поганых», особенно вислоухого Резвеца, позволил даже жить ему в сенях. Отец Василия тоже пускал псов в княжеские хоромы. Полагал, что пёс более надёжный страж, нежели самый преданный рында. Посему поганые несли службу ночами у дверей опочивальни, в трапезной же вертелись с утра до вечера – первыми пробовали яства, но вот не уберегли… Василий учёл это горестное обстоятельство и не держал в тереме своры, сделал исключение лишь для Резвеца, и то велел его дальше сеней не пускать, но во время ночных гроз тот неизменно оказывался в ложнице. Постельничий каждый раз винился перед князем за недогляд, а про себя решил извести пса. Любви своего господина к вислоухой твари он не разделял никогда и не понимал. Собак признавал дорогих, породистых, за этого же и ломаного гроша бы псари не дали, поскольку беспородный. А что до ума, размышлял постельничий, то зачем он псу, пёс должен быть злым и на добычу алчным. Дум своих ни от князя, ни от княгини он не скрывал и не раз предлагал увезти Резвеца в Шумашь, деревню за Окой, к своей тётке, уверял, что будет он там в тепле и сытости. Господа на уговоры не поддавались и стали скрывать от ревностного слуги собачьи прегрешения. И о том, что Резвец забрался на ложе (осквернил его), Василий постельничему не сказал. Анну же очередная проказа пса позабавила, и она приказала только поменять простынь: слышала, будто от блох приключаются болезни, даже чёрная немочь.
После завтрака в весёлом расположении духа Василий отправился вершить дела княжеские, что именно, Анна не стала допытываться: её тоже ждало занятие важное – надо было написать матери письмо. Последнее время матери было писать нелегко – её перестали интересовать события житейские, незначительные; озорство и болезни внуков, хозяйские хлопоты дочери, – а сообщить о чём-то ином Анна не могла, поскольку этого иного просто не было. Соображая, что же такое на сей раз поведать удалившейся от мирской жизни Марии Ярославне и поменявшей вместе с именем и привычки, Анна не услыхала, как вернулся Василий, неслышно стал за спиной, и, обернувшись на едва уловимый шелест его платья, испугалась, вскрикнула, а потом сказала со смехом слова, что произносила в сказке премудрая дева Февронья:
– «Плохо, когда двор без ушей, а дом без глаз». Заведу-ка я, князь, собачонку крохотную, не больше кошки. Говорят, таких держат в Италийской стороне все богатые женщины в своих ложницах.
– Эх, с приездом нашей невестушки Русь заполонили итальянцы, того и гляди, потеснят ордынцев. Уже княжество наше проходным двором сделали, снуют в Орду, в Персию, ещё куда-то, а мы лишь диву даёмся, да завидуем. – И он рассказал, что накануне вечером в Переяславле появились гости из италийского города Венеции, столицы самостоятельного княжества. Прибыл посол, Василий заглянул в листок, Амброджо Контарини. Однако в княжество Рязанское попал он случайно, по дороге из Персии.
– Побывал в Персии! – говорил Василий восторженно. – Столько всего повидал! Попал в плен к ордынцам. Его выкупили, в долг. А я не могу принять этого отважного человека, послушать его рассказы – твой братец, будь он неладен, разгневается, опозорит, как тогда, когда задержался у нас, как его…
– Джан Травизан.
– Да, но вроде он был не Травизан, и звали его иначе, но это неважно.
Василий опять заглянул в бумажку, однако имени венецианского посла не назвал, продолжал рассказывать, в какие передряги попал тот, выполняя поручение светлейшей синьории.
– Намедни только мы читали записки тверского купца, а теперь он! Совпадение? Нет, предзнаменование. Кстати, где записки? Надо их переписать.
– Дядька Ванятке читает.
Василий удовлетворённо кивнул. Записки, назывались они «Хождение за три моря», прислал Василию всё тот же Фёдор Курицын и пояснил, что составил их тверской купец Афанасий Никитин. Отправился он самостоятельно по своим торговым делал в Персию, пробыл там около года и вынужден был оттуда двинуться – аж в Индостан. Предприятие его с самого начала не заладилось, ещё в начале пути ограбили татары. Лишившись средств, он, однако, не пал духом и не только старался поправить свои дела, но и вёл записи о хождении за три моря, Хвалынское, Индостанское, Чёрное.
Увы, писал Курицын, купец Афанасий Никитин скончался, правда, уже на подступах к родине, близ Смоленска. Записки его попали в Москву и вошли в летопись. Их раз за разом переписывают и читают просвещенные москвитяне.
Василий тоже не стал держать их при себе, дал почитать Анне, она рассказала о них на посиделках, потом одна из грамотных боярынь прочитала «Хождение за три моря» собравшимся женщинам. Истории Афанасия Никитина поразили тех больше россказней об Огненном Змее. К примеру, дивились они, что в Индийской земле, «люди ходят все голые: голова не покрыта, груди голы, волосы в одну косу плетены. <…> Мужы и жёны – все черны.
А князь их – фата на голове, а другая – на бёдрах; бояре у них ходят – <…> фата на плече, а другая – на бёдрах; княгини ходят – фатой плечи обернуты, а другой – бёдра. Слуги же княжие и боярские – фата на бёдрах, обогнута, щит да меч в руках, а другие с копьями, или с ножнами, или с саблями, или с луками и стрелами. И все голые, босые и сильные. А жёнки ходят с непокрытой головой и голыми грудями; мальчики же и девочки ходят голыми до семи лет, и срам у них не покрыт».
– Ах ты, Господи! Голые! Простоволосые! – хором возмущались знатные горожанки. – Да как же так можно!
– И у нас в банях все сообща моются, голыми, – попробовала возразить самая молодая. Её не стали слушать, её не услышали – «жёнки ходят с непокрытой головой и голыми грудями» – страсти-то какие.
Василий же обратил внимание на то, что индостанцы воюют на слонах. «Слонам же к хоботу и к клыкам привязывают большие мечи кованные, весом по кентарю[45], одевают их в булатные доспехи и делают на них городки; а в каждом городке находится по 12 человек в доспехах, с пушками и стрелами». Теперь ему очень хотелось узнать, каких животных приучили к бою персы:
– Я слышал – верблюдов. Ты поточнее спроси, Анычка.
– Спросить, кого? – не поняла Анна, и Василий рассказал ей о своём плане. Он немедля отправится на охоту, благо на самом деле накануне собирался на кабанов. Она в его отсутствие примет венецианского посла – будто из женского любопытства, по своему разумению. Её самоуправство едва ли разгневает Ивана, тем паче сам Василий уже встречался с его послом Марком. Тот тоже побывал в Персии, там познакомился случайно с Амброджо Контарини, и вместе они отправились в обратный путь. Марк и рассказал Василию о злоключениях венецианца на пути в Персию. О цели своей поездки к персидскому шаху и о своих приключениях он умолчал. Василий не пытался его расспрашивать – посол хранил государственную тайну. Но принять, приветить, снабдить всем необходимым до Москвы – посчитал своим долгом как родственник великого князя московского, чтобы все путники в течение ближайшей недели, пока доберутся до Москвы и устроятся, ни в чём не испытывали нужды.
– Так что прихорашивайся, Анычка, надевай своё немецкое платье и принимай иноземного гостя, – заключил Василий. – Кстати, и я на тебя в этом наряде погляжу. Открывай, открывай сундук! – Он потянул Анну за руку. Она, не успев ничего осмыслить, повиновалась, открыла тяжёлую крышку, на которую так и не установила хитроумного италийского приспособления.
Платье-подарок Софьи лежало под обвязанной холстом картиной, как его наспех положили, возвратясь из Москвы. В отличие от своей матери, став самостоятельной хозяйкой, Анна не любила ворошить сундуки – не терпела беспорядка, неминуемо при этом возникавшего, – кучи одежды на полу, запах лежалого тряпья и пересыпавших его, превратившихся к концу зимы в труху, трав, клубы искрящейся на солнце пыли. Отдавала обычно приказ прислуге всё перебрать, выбить, просушить, сама же занималась чем-нибудь иным. Прислуга же, безнадзорная, делала всё кое-как, а то и вовсе не делала. Подняв крышку, Анна поняла, что в сундук не заглядывали почти четыре года. И это тот, что на виду – хорошо, моль в нём не завелась. Почему вот только? Не от запаха ли картины? Тонкий, едва уловимый, он постоянно ощущался в опочивальне, и никто не мог объяснить ей, что же благоухает. Летом говорили, пахнет донником с лугов, весной – береговой вербой, в холодное время грешили на дрова. Она сама нашла разгадку. Запах усиливался, казалось, что от него закружилась голова, но некогда было выяснить, так ли это.
– Что это, икона или зеркало? – спросил Василий, помогая вынуть тяжёлый свёрток.
– Картина, изображение – подарок Софьи.
– Ты о нём ничего не говорила.
– Разве? – буркнула Анна и склонилась над лежащим в сундуке платьем – стало стыдно от вранья, но лгать пришлось и дальше.
– Посмотрю?
А сам уже развязывал верёвку, снимал холстину. Анна вынула платье, встряхнула, приложила к плечам – и тут же, радуясь, что Василий не смотрит на неё, швырнула обратно. Платье Софьи не пришлось ей впору – широченное и короткое, не доставало до щиколоток. Зачем только взяла, зачем столько лет хранила!
Василий поставил картину к спинке стула и начал медленно пятиться от неё, словно в испуге, пока не упёрся в стену. И замер. И посветлел лицом. Слыша прежде это выражение, Анна думала, что так говорят для красного словца, но тут оно пришло ей на ум – точнее определить, как переменился Василий, не могла. Однако, несмотря на замешательство, поспешила закрыть сундук, чтобы Василий не увидел злополучного платья, не догадался, что на свадьбе была в другом и не подумал, не дай бог: коль способна на малый обман, жди большого, чтобы не вспомнил: «яблочко от яблони…» Э-эх! Анна слишком поспешно опустила крышку, и та громыхнула. Василий вздрогнул, но не отвёл взгляда от картины, спросил еле слышно:
– Что это? Неужели творение простого, смертного человека? Они как живые. Нет, прекраснее живых – они светятся и благоухают. И такое чудо я мог не увидеть! В своём доме! Как можешь ты держать такое в сундуке, среди тряпья!
– А куда её? – Анна заговорила быстро и зло. – В молельню? Уразумел, что прекрасная женщина – Богоматерь. Но разве такую Богоматерь у нас чтят? Да меня предадут анафеме, коль поставлю её в молельню! И никто, слышишь, никто… – Она не договорила. – Нареку просто горожанкой, кормилицей, повешу в опочивальню – сочтут сумасшедшей, глядишь, в монастырь упекут. Даже наша римлянка, даже она, царевна, не отважилась повесить картину в своей опочивальне и рисовать бросила. Так, как рисует она, тут не рисует никто! За иголочку ухватилась, чтобы с боярынями московскими уравняться. Быть как все! И нам не позволят стать иными. У нас же дикая страна! Дикая! У нас людей на дорогах татары, как овец, как зайцев, арканами ловят. Даже обычная женщина, не княгиня, не боярыня, без провожатого носа на улицу не высунет. Нам не до картин!
– Марк отметил, что у нас на удивление спокойно, – усмехнулся Василий и добавил решительно: – Я повешу её у себя.
– Не делай этого, заклинаю! Она принесёт тебе, нам несчастье. Её… – Анна осеклась, побоялась открыть правду. Василий набросил на картину холст и понёс её к дверям, будто только за ней и приходил.
– Я не стану принимать посла! – крикнула ему вдогонку Анна и пояснила спокойнее: – Не гнева Ивана боюсь – прогневаются твои подданные.
– Как знаешь, – спокойно произнёс Василий и осторожно закрыл за собой дверь. Примерно через час он уехал на охоту. Однако успел повесить картину у себя в передней горнице над столом, за которым читал и писал. Повесил невысоко, так что казалось, прекрасная белокурая женщина смотрит через окно печально и сочувственно.
Анна не приняла Амброджо Контарини. Изодрала в клочья дарёное платье и собственноручно сожгла его в печи, которую приказала для этого затопить. Потом прогнала с глаз долой боярыню, отвечающую за сохранность княгининых сундуков. Её подручных, безродных, повелела высечь и, успокоившись, отправилась в детскую горницу к младшему сыну, с ним забавлялась до вечера.
Послы оставили Переяславль наутро. Амброджо Контарини, подобно Афанасию Никитину, вёл путёвую тетрадь. Обиженный невниманием княжеской четы, он вскользь упомянул в тетради о столице Рязанского княжества, но сумел унизить великого князя Василия, назвав его «князьком», подчеркнул его зависимость как от князя московского, так и от жены. Запись стала достоянием истории, а великие князья Рязанские о маленькой мести венецианского посла не узнали…
5
Анна привычно оторвалась от своей охраны и неспешно ехала вдоль неровного берега. Далеко внизу вилась Ока.
Уже убрали хлеба, и на нивах некрасиво топорщилась жесткая рыжая стерня. Луга больше не радовали глаз разноцветьем. Только кое-где у кустов беспечные косцы оставили высокую траву, и на ней солнечными зайчиками вспыхивали головки пижмы, яхонтами посверкивали крохотные колокольчики. У них были тонкие, почти прозрачные лепестки, и всё-таки они давали густую, пронзительную синь, видную издалека.
Давно отошла сладкая пахучая полуница[46], которой славились окские косогоры, и лишь неразумные дети могли надеяться сыскать её в эту пору. И всё-таки из-за этой былой ягоды Анна затеяла далёкую прогулку вдоль Оки. Верные стражи княгини, конечно, не знали об этом, как не знали, не могли предугадать, что заставляет её вдруг пускаться вскачь, мчаться куда глаза глядят.
Ездила теперь Анна хорошо и уверенно. Но обязана этим была не столько своей настойчивости и терпению, сколько прекрасному коню. Выросший у неё на глазах, в княжеской конюшне, он отличался необыкновенной привязанностью к хозяйке, послушанием, был резв и понятлив. Выполнял не только её приказы, но и словно опережал их, улавливая её желание и настроение. Не раз представлялось Анне, что и не животное он, то есть не тварь изначально бессловесная, а какой-то добрый дух, скрывающий до поры до времени свои возможности, или заколдованный принц. Детские грёзы о сказочных принцах так и не оставили княгиню, хотя и шёл ей тридцатый год. Правда, не имели теперь образного воплощения, всяких там красных сапожек или шитых жемчугом ожерелий, – присутствовали, как постоянное ожидание чуда, и она была готова к тому, что её выкормыш возьмёт да заговорит человеческим голосом. Никому не пыталась поведать своих представлений: опасалась, что ретивые слуги заподозрят, что любимец её – оборотень, изведут коня. Она так боялась за него, что сама задавала ему корм. Конь настолько привык к этому, что, когда ей случалось захворать, голодал по нескольку дней, но не брал пищи даже из рук холившего его конюшего.
Повинуясь то ли своему, то ли хозяйскому желанию, конь нёс Анну к кустарнику над обрывом, а достигнув его, замер, как вкопанный. Анна легко спешилась, радуясь, что одна и без насмешливых взглядов может пошарить в высокой, всё ещё зелёной, в тени куста, траве. И только нагнулась – сразу ухватила подвяленную, ставшую коричневатой полуницу. Но прежде, чем отправить её в рот, взглянула на коня – ни поделиться ли? Конь смотрел на неё с радостным пониманием и словно проговаривал беззвучно: «Не надо! Ешь сама».
Послышались обеспокоенные возгласы приближавшейся охраны. Анна шагнула за куст – и тут же отпрянула. Из середины его, ломая ветки, нечто громоздкое стремительно взмывало вверх. Анна так испугалась, что даже не вскрикнула. Конь успокоил её коротким ласковым ржанием, но не сдвинулся с места. Не было причины тревожиться – по краю жнивья, припадая и волоча крыло, заковыляла обыкновенная пеструха, самка полюха, обычного степного тетерева. Анна, чтобы разглядеть её, чуть подалась вперёд – тут же из куста брызнули, разлетелись в разные стороны птицы поменьше – полюшата. И вместе с матерью все исчезли где-то под обрывом.
– Эх, не успели, – сокрушались подоспевшие стражники. – Такое жаркое пропало! Дозволь, княгиня! – И не дождавшись согласия, припустили к обрыву. Анна поскакала следом.
Птиц нигде не было видно – опять где-то затаились, улететь в темневший на окоёме лес они, конечно, не успели.
Анна перевела взгляд с небес на землю. Пойма реки была пустынна – ни построек, ни людей, ни пасущихся стад, а ведь время послеобеденного отдыха миновало.
«Неужели так отдалились от города, что кругом ни души?» – только подумала, как откуда-то слева появился отряд всадников. Они быстро двигались, почти мчались по влажной полоске приречного песка. Сверху казались маленькими, игрушечными, и она не сразу заметила, что передняя лошадь не осёдлана, а на постромках за ней волочится какой-то куль. Всадники понукали её нагайками и криками. Вот-вот все они должны были оказаться под стоящими на обрыве.
– Эк мордва веселится! – сказал стремянной.
– Не веселится, а учит кого-то, наказывает, – возразил ему кто-то.
– Никак в мешке баба, голову выпростала, волосья…
– Стойте! Стойте!
Анна потом не могла вспомнить, сама ли отважилась ринуться с обрыва или конь решился. «Только бы ног не переломал», – успела подумать на лету и, не испытав испуга, уже мчалась наперерез неосёдланной лошади. А та вдруг резко и круто свернула к воде, погрузилась по брюхо и остановилась. Следующая взвилась на дыбы, чтобы не ступить на лежащий куль.
– Стойте, воры! – вопила Анна, хотя отряд остановился. – Стойте! Самосуд в моём владении? Не позволю!
Всадники, было их четверо, поражённые её внезапным явлением, замерли, оцепенели, испуганно соображая, кто перед ними – языческая ли мать богов Ангепатяй или христианская Богородица.
– Освободите немедленно!
Приказание поняли, спешились, бросились обрезать постромки, все враз суетливо завертелись у куля. Подоспела стража. Завидев её, преступники пришли в себя и кинулись к своим лошадям… Княгиня первой метнула аркан. Не промахнулась. А люди её в ратных делах были куда искуснее. Не успел стременной распутать бездыханное тело, как все лиходеи оказались заарканены.
– Боже праведный! – вскрикнул стременной. – Госпожа, глянь, кто это!
Не слезая с коня, Анна склонилась к женщине. На разодранной в клочья мешковине лежала Еввула.
– Нет! Нет! Нет! Не может быть! Не она! Да лейте же воду! Скорее!
Но зачем вода, к чему она, когда в лицо бедняге волна хлещет.
– Не нужно! Унесите от реки – на траву. И под голову что-нибудь. Осторожнее! Дышит ли?
Анна соскочила с коня, сняла с себя душегрейку, но Еввуле уже подложили что-то мягкое под голову. Она дышала и вдруг всхрапнула коротко и шумно, как лошадь.
– Кончается!
Однако Еввула пришла в себя, глянула на Анну и, узнав тотчас же, не удивилась, сказала тихо, но внятно:
– Прости, что озаботила тебя, княгиня, в беду втянула.
Анна обрадовалась, что Еввула очнулась, и сразу не придала её словам значения. Потом по дороге к дому вспомнила их и подивилась, отчего Еввула так сухо обратилась, почему назвала, словно чужая, княгиней, повинилась. Разве не сроднились они так, что помощь друг другу стала для каждой не обузой, а душевной потребностью? К тому же её спасение было совсем негаданным: цепочка случайностей привела к нему. А может, это не случайности, думала Анна, – знаки свыше, подобные засекам на малохоженном лесном пути, что указывают направление.
Она то и дело поглядывала на Еввулу. Та ехала сама рядом, но было видно, как слаба. Она вообще могла держаться в седле благодаря своей лошади, немолодой, беспородной, добродушной толстухе. «Хорош, хорош для котла», – говорили не раз татары, ласково похлопывая её по лоснящимся бокам, просили продать и цену давали немалую. И вот эта смиряга заартачилась, как осёл, когда к ней привязали хозяйку, хотя и не видела вроде, что в куле. С места не сдвинулась и под ударами нагайки. Только когда принялись отвязывать куль, чтобы обременить им другую лошадь, пошла не шатко не валко. Бережно и любовно несла она избавленную теперь от пут, ставшую немощной хозяйку, и не предчувствовала новой беды.
Не предполагала новой напасти и Анна, размышлявшая, почему Еввула не воспользовалась своим даром и не воздвигла перед лиходеями неприступную стену, что за люди – эти лиходеи, почему они решились казнить сами, не дожидаясь суда, и выбрали необычную казнь?
Анна знала, что так казнят в Орде, что прежде такая казнь существовала у мордвы, когда же мордва вошла в русские княжества, обычай привязывать к лошади куль и сечь его нагайками на ходу сохранился только в игрищах. Сама как-то награждала ловких мордовских молодцев за искусность в игре, названия которой не запомнила. Но, чтобы игрой воспользовались в Рязанском княжестве как карой, такого не случалось. Лиходеев следовало примерно наказать.
Связанные, притороченные к сёдлам, перепуганные, они смиренно ехали посредине маленького отряда и похожи были на обычных поселян.
Еввула проспала три дня. В это время княжеский лекарь смазывал её избитое, всё в ссадинах тело целебными мазями и уверял князя и княгиню, что пострадавшая вне опасности и кости у неё, слава богу, целы. Проснувшись, Еввула захотела, чтобы её судили по всей строгости, как было принято это в княжестве. Анна предлагала устроить побег, хотя он только бы укрепил правоту обвинителей. Еввулу обвинили в том, что она пьёт кровь младенцев, и пытались казнить как вампира. А казнь вампира должна быть особой, иначе от него не избавишься – обернётся в упыря. Всё это Пичуга Степанова растолковала жителям села Канищево. Там Еввулу пленили.
Как искусная знахарка славилась она, оказывается, в переяславском приочье. Жила неделями то в одном, то в другом селе, пока хворых на ноги не поставит. Бывала не раз и в Канищеве. Не все её приезду радовались: кое-кому дорогу переходила своим умением врачевать, лакомого куска лишала, кое-кто сомневался, на пользу ли пойдёт это умение, от Бога ли? Слух прошёл, что кусту она ракитовому молится. Опасливые люди слух на заметку взяли, а решить не могли, так ли уж грешно это: кое-кто из добронравных поселян тоже кустам да березам по старинке молился, но и в церковь ходил, и знали в Канищеве про деву Февронью – она тоже кусту молилась, однако княгиней стала. Сомневались, но как беда случалась, Еввуле кланялись – помоги.
В тот день ребёнок у богатой вдовы занемог: поросёнком верещал, и никому невдомёк – отчего. Мать, как полоумная, по селу бегала, на помощь звала. Понять её можно было: дитя единственное, другие едва ли появятся, немолодая уже.
Поскакали за Еввулой. Приехала. Крик ещё на подворье услыхала. В избу опрометью ворвалась. Глянула только на младенца, вроде и в руки его не брала, и сразу нож из-за пояса вынула.
– Резать? – спросила вдову.
– Режь! – ответила вдова, беспамятная. Да, так и сказала! Потом говорили послухи, одни, что промолвила будто: «Дело твоё», – другие, что промолчала, и все забыли – мать сама ребёнка держала. Еввула полоснула ножом – и сразу же к ране на шее припала.
– Вампирша! Вампирша! – Пичуга Степанова расталкивала столпившихся в дверях. – На ваших глазах кровь пьёт, а вы рты разинули. Вяжите её! – И первая то ли половик, то ли попону на Еввулу накинула.
Под этим тряпьём Еввула давилась, захлёбывалась кровью, невнятно бормотала:
– Пустите, пустите – младенец кончится.
Не пустили. Ребёнок был нужен только матери. Он больше не верещал…
Добрые, богобоязненные поселяне были рады, что не придётся рук обагрить. Желая поскорее искоренить чудовищное зло, они не подумали, что вершат беззаконие, что перед княжеским судом будут отвечать наравне с вампиршей.
В Переяславле их сразу же посадили в острог. Каждый день водили к дьяку на допрос… Лиходеи говорили одно и то же. Свою вину признавали, да и как было её отрицать, когда сама княгиня их застала. Не было причин сомневаться в их правдивости, но дьяк всё-таки оделил их зуботычинами и приказал недолго подержать на дыбе, для острастки.
Еввула тоже пребывала перед судом в остроге. Содержалась одна, как особа важная, да и подозревали её в преступлении нешуточном. Дьяки утверждали, что на их памяти подобного в княжестве не было, не сыскали записей о нём и в бумагах воеводского приказа, оставленных на вечное хранение.
Надзиратели смотрели на Еввулу с отвращением и ужасом. Не видевшие её соседки, обычные преступницы: воровки, девки гулящие и даже убийцы, – возненавидели лютой ненавистью – стучали в стену оловянными мисками, орали похабщину. За стенами острога вольные добропорядочные горожанки, сходясь, судачили о ней, приписывали знахарке такие богомерзкие деяния, о коих никогда не слыхали подьячие.
А по слободским площадям и кружалам ходила весёлая, красивая сказительница и добавляла страха историями о вампирах. Её слушали со вниманием и любопытством, но верили не всему. Говорила она, к примеру, что вампирам необязательно кровь пить, чтобы насытиться, есть такие, что единой жизненной силой питаются. Предлагала вспомнить супругов, из коих один, что называется кровь с молоком, другой на ладан дышит, а вскоре умирает. Вдовец, вдовица ли, новой парой обзаводится – и всё повторяется. Сомнения нет: здоровяк – вампир.
Да разве могли такому вдовцы и вдовицы поверить! А близкие их? Ведь что же получалось: несчастная вдовица, ребёнка которой Еввула погубила, – вампирша сама!
А из уст сказительницы истории так и лились. Бывает, говорила, встретятся двое незнакомцев на дорожке, в дверях ли кружала столкнутся, и словно холодом на одного от другого повеет, и ноги подкосятся у того, кто холод почуял, значит, второй – вампир.
– Может статься, – заключила она, – что и здесь, среди нас есть вампиры! – и победно сверкала синими глазищами. От их сини голубизна разливалась по её узкому лицу, оно казалось зловещим. «Уж не водится ли она сама с вампирами? – думали её слушатели. – Уж больно хорошо их повадки знает». Мужики в кружалах опасливо отодвигались друг от друга, а то и уходили прочь, оставив недопитую кружку, – от греха подальше.
Город пришёл в волнение. Осенние работы велись спустя рукава.
«Ох и мерзкая девка, – думала Анна, – одна всех взбаламутила – в острог бы её за речи лукавые, вредные. Так ведь не придерёшься к ним: ни на кого она, подлая, пальцем не указывает, великокняжеской семьи не задевает, бояр не поминает. Да и как упрятать её, когда она главный послух в деле? А не избавишься от неё, окаянной, новые выдумки будоражить народ будут».
Впервые пришла к мысли княгиня, что писклявый голосок сказительницы не уступает по воздействию набату. И испугалась – так много времени упущено, не счесть теперь, сколько бездельников, кормящихся россказнями, бродит по княжеству, не определить, сколько мыслей вредных посеяли они в умах слушателей. Хорошо, если Василий положил конец этому. Надо запретить сказителям свободно на людях болтать, пусть записывают истории, а подьячие проверяют с пристрастием, что полезно знать люду, что вредно для порядка в княжестве.
«А ведь Пичуга не своим умом до нелепицы этой дошла, – поняла Анна, – это Фёдор Курицын своей небылью её натолкнул».
– Дружок твой виноват в нашей беде! – сказала она Василию накануне суда.
– Брось, и без тебя тошно, – непривычно грубо отозвался он.
Анна проплакала всю ночь. Сожалела, что отняла Еввулу у лиходеев: только продлила ей мучения и себе добавила. Корила Василия, что не уступил, не позволил устроить побег. Он не возражал, не утешал и казался Анне спокойным. Это бесило её: выходило, что ни она, ни Еввула не были ему дороги, и значило, что он мог допустить, чтобы погубили Еввулу, а его признали наисправедливейшим князем.
6
Самая большая палата княжеского терема не вместила всех желающих присутствовать на суде. Стояли у открытых дверей, под окнами. Слободской люд, не допущенный и в Кремль, чтобы избежать какого-либо непорядка, толпился у Глебовских ворот.
В послухи напросилось чуть не всё Канищево, хотя не все могли видеть, что делала Еввула с младенцем. Истицей выступала не его мать, как все ожидали в Переяславле, а сказительница Пичуга Степанова. Держалась перед высоким судом безбоязненно, словно знала хорошо бояр, да и самого великого князя. Говорила красноречиво, убедительно о вампирах, кои представляют для княжества куда большую угрозу, чем иноземные захватчики. Про Еввулу не сказала ни слова, будто не из-за неё все собрались.
Анна отметила, что Пичуга очень хороша собой и наряд надела праздничный, чтобы выделиться: лазоревого цвета шёлковые шаровары, затканный серебром по лазоревому короткий парчовый кафтанчик, на чёрных волосах маленькая, луковичкой, шапка с лазоревым пером. Перо всё время подрагивало и словно испускало сияние. Анна встревожилась, что Пичугина красота может стать для судей главным доводом её правоты, в то время как Еввулин вид обернётся против той. Горемычная знахарка не пожелала переодеться к суду, хотя Анна послала ей хороший дорогой наряд, более скромный, конечно, чем татарское платье Галки.
«Надо узнать, что за покровитель у сказительницы, откуда у неё платье, какое княгине в пору носить только по большим праздникам? – размышляла Анна. – Курицын? А что, если он не Курицын – другой, – пронзила догадка, – задумал заговор против нашей семьи, и поимка Еввулы – начало? А там: докажут, что она вампир, и нас привлекут за потворство ей, за пособничество. На Рязанский стол посадят Ванюшу».
Анна взглянула на сына – совсем ребёнок, хотя двенадцать лет скоро, вертит головой по сторонам, а судей не слушает, скучает. Впрочем, она тоже не слушает, совсем упустила нить допроса, не знает, что предпринять, как сообщить Василию о догадке.
– Видела ли ты, истица, – спросил судный боярин Василий Шиловский, – что ответчица пьёт кровь?
– Да, Господи, Боже мой! – воскликнула Пичуга и сдвинула на бок шапочку. – О чём речь!
– Отвечай, истица: «да, нет, затрудняюсь сказать», – поправил её молодой судный дьяк Михаил Мелентьев, по прозвищу Язвец. Отчего ему было дано такое прозвище, Анна не знала, на барсука он не был похож, а после того, как он приструнил нахальную девку, стал особенно приятен княгине.
– Да! – вызывающее ответила Пичуга – Язвеца она в грош не ставила, не раз встречаясь с ним перед судом.
– Ты видела, истица, как ответчица глотала кровь? – спросил боярин Шиловский.
– Я же мешок на неё нахлобучила.
– Так «да» или «нет»? – Шиловскому изменяла выдержка.
– Затрудняюсь сказать, – ответила Пичуга, хотя всем ясно было, что следовало произнести «нет».
Язвец принялся вызывать в душную палату отдохнувших где-то в тенёчке послухов. К удивлению Анны, не все считали Еввулу вампиршей. Особенно порадовал княгиню своим показанием древний старичок. Маленький, тщедушный, он едва на ногах держался, а говорил звонко, молодо:
– Да не пила она кровушки, властители мои, не пила! Нету! Нету! Отсасывала дурную, да! У младенца, властители мои, веред был, чирей, по-вашему. А при вереде, всяк знахарь знает, одно спасение – дурную кровь отсосать. Так испокон веку в деревнях делают, да. В городе, не скажу, не знаю. И помогли бы без Еввулы, властители мои, да все трусливы оказались. Веред-то у его на шее был – как тут ножом чиркнуть? Да и дурной крови, гноя много накопилось, тут надо, чтобы у знахаря рот был чистый и зубы целы. – Старик вдруг оскалился и показал свои – не по возрасту белые. – Не решились! Нету! Нету! Она, голубушка, одна не побоялась, о себе позабыла, чтобы младенца спасти. А вы её в упыри произвели. Царица Небесная не простит вас, коли Еввулу, голубушку, засудите. Сказительницу надо судить – она народ взбаламутила!
– Да, как раз! – взметнулась Пичуга. – Я, что ли, младенца погубила? Кто погубил, с того и спрос!
– Жив младенец!
– Ха-ха! – засмеялась Пичуга. – Я собственными ушами слышала, как он затих.
– Покажите его! – гаркнул кто-то с задней скамьи.
Дьяк кивнул ярыжке. Тот вышел и тотчас же вернулся с женщиной в белой вдовьей одежде. На руках она держала младенца. На нём была красная рубашечка, голова и шея обмотаны холщовым платком. Женщина прошла к судейскому столу и остановилась, спиной к прочим. Язвец что-то сказал ей. Она повернулась к собравшимся лицом, сняла с ребёнка платок. Под ним была повязка.
– Не тот ребёнок, не тот! – опять гаркнул кто-то сзади.
– Подменили? – вроде бы удивилась Пичуга.
– Подкупили! Её подкупили! – раздалось с нескольких сторон.
«Началось!» – решила Анна, соображая, как пробраться к сыну. Тот испуганно жался к дядьке. Женщина заметалась у передних скамей. К ней тянулись руки. Шиловский лупил в било, призывая к порядку. Ярыжки оттесняли от женщины любопытных. Ярыжек было мало, им не хотели подчиняться. Язвец вдруг выскочил из-за стола и юркнул в заднюю дверь.
– Хватит! – крикнул, поднимаясь, великий князь. – Спасибо, потешили. Не хотел вмешиваться в суд по причине, всем понятной. Да вижу, без меня не обойтись. Всем сесть. Лишних из палаты убрать!
Через заднюю дверь следом за Язвецом входили вооруженные ярыжки и ратники. При виде их сидящие попытались потесниться, чтобы усадить остальных, но всё-таки кое-кому пришлось уйти. Анне показалось, что ушли все те, кто горланил – стоя орать сподручнее.
– Назначаю испытание огнём, – дождавшись полной тишины, негромко сказал великий князь.
Шум одобрения прошёл по рядам. «Ну, молодец так молодец!» – возликовала Анна и победно посмотрела на Пичугу – у той на щеках, несмотря на белила, выступили багровые пятна, пёрышко на шапке ходуном заходило.
Дьяк взял с поставца многорогий бронзовый подсвечник и поставил на стол перед князем. Тот собственноручно высек огонь и зажёг одну толстую витую свечу. Спросил спокойно, буднично:
– Кто готов?
Этот короткий вопрос враз уравнял в виновности ответчицу с истицей. Теперь, чтобы доказать свою правоту, они вступали в личный поединок. Исход его зависел только от них – не от судей, не от князя.
– Я! – поспешила вызваться Еввула.
Ярыжки подвели её к княжескому столу. Двое других шагнули к оторопевшей Пичуге, взяли её за острые локотки, так что она не смогла бы теперь и шелохнуться, не то что попытаться скрыться. Рядом с могучими стражами сказительница казалась особенно маленькой и тщедушной. Даже некоторые сторонники Еввулы невольно пожалели её. Анна к их числу не относилась. Она жалела только Еввулу, она думала только о ней, нескладной, некрасивой, горемычной: «Глупая, и чего выскочила? Мерзавку что ли эту пожалела? Да пусть бы руку обожгла. Ей не руку – язык бы обжечь!»
Князь кивнул Еввуле. Она стояла к нему и судьям боком, лицом – ко всем остальным. Все, как один, затаили дыхание. Ждали: кто с ужасом, кто со злорадством, кто с недоверчивым любопытством. Сердобольный княжич закрыл глаза.
Довольно высоко подняла Еввула над свечой руку и медленно, очень медленно стала опускать её, пока не коснулась ладонью пламени. Оно забилось, затрепыхало, словно птичка под сачком, но не погасло.
– Хватит! – не выдержал кто-то. – Она не виновна!
– Не виновна! – прокричало сразу несколько голосов.
Заверещал младенец на руках у вдовицы. Сочувствующие Еввуле, теперь их было чуть ли не вся палата, повскакивали опять с мест, Анна сама едва усидела.
– Э нет! – воскликнула Пичуга и вдруг ловко выскользнула из рук ярыжек. Никто опомниться не успел, как она, оттеснив Еввулу, стояла перед князем:
– Ты назначил испытание двоим, великий князь, али не так?
– Испытание не кончилось, – ответил тот и приказал ярыжкам: – Отведите знахарку на место.
И опять в палате установилась тревожная тишина, нарушаемая лишь предгрозовым гудением мух. Пичуга оголила руку по локоть. Потом взяла подсвечник и провела огнём по нежной белой коже, от впадинки на сгибе до кончика среднего пальца, и обратно.
– А-ах! – пронеслось по палате.
– Может, на угольях сплясать? – спросила сказительница нахально, опуская рукав. Свеча уже опять стояла перед князем.
– Шайтанка! – раздалось за окном.
«Что делать, что делать? – мучилась Анна, в то время как Пичуга победоносно улыбалась у стола. – Опасный народ сказители и скоморохи. Она не только на углях спляшет, но и расплавленного олова хлебнёт и не поморщится».
– Назначаю ратный поединок до первой крови, – положил конец всеобщему замешательству боярин Шиловский. – Спорящие стороны по жребию выбирают вид оружия. Поскольку у нас спорят девицы, сражаться лично им не обязательно: за каждую из них может выступить любой ратник. Итак, кто представляет соперниц?
– Еввулу – я! – раздался мальчишеский голос, и взволнованный княжич подскочил к судейскому столу. В палате захохотали: очень уж не соответствовал низкорослый, коренастенький мальчишка высокой худой знахарке.
– Сын мой пребывает в отроческом возрасте, – перебил хохот великий князь, – и, как верно тут заметили, пока не воин. – Он помолчал, дожидаясь полной тишины. – А потому за Еввулу выступлю я как её воспитатель. Как великий князь я не имел права решать её судьбу на суде, а уж на поле постою за неё. Но сражаться, конечно, я буду только с мужчиной.
«Господи, сохрани его! – взмолилась Анна. – Если выпадет рукопашный бой, его и девка с ног собьёт».
– Я хочу пояснить, – продолжал великий князь, – что сражаться намерен не для того, чтобы доказать невиновность Еввулы, а чтобы вернуть девушке доброе имя. Итак, кто принимает мой вызов?
– Я! – отозвался радостно откуда-то из-за двери красивый и вроде знакомый Анне голос. «Неужели князь Пронский?» – Она боялась оглянуться. А по рядам покатилось, нарастая: «Я! Я! Я!» – то ли эхо, то ли у великого князя столько было противников.
– Не станем нарушать правила, – сказал боярин спокойно, – спросим Еввулу, принимает ли она такую себе замену.
– Нет! – ответила Еввула решительно. – Спасибо, великий князь, за доброту, за то, что веришь мне, но сражаться я буду сама.
– Ну а я боюсь крови, – сказала Пичуга, – воспользуюсь правом замены. Я вполне доверяю витязю, что вызвался выступить против великого князя.
Кликнули витязя. Он оказался высоким, как каланча, и с такими белыми волосами и кожей лица и рук, будто его месяц вымачивали в сметане.
– Я, боярский сын Богдан Логвинов, готов вступиться за честь прекрасной девы Людмилы, дочери Степановой,
«Почему Людмилы? Ах, да – это её крещёное имя, хотя нет, Людмила – имя домашнее, значит, есть ещё какое-то. Но он-то кто?»
– Что-то я не знаю никаких бояр Лонгвиновых, – сказала тихо Анна боярыне Клавдии.
– Логвиновы они, – поправила та, – служили ещё великому князю Олегу Ивановичу. Потом род их захирел, вроде избылся. Но вот выходит, не избылся. Парень этот – хоть куда. Жаль, за девку непутёвую вступается.
И, словно услышав её, боярский сын сказал:
– Цены вы этой деве не знаете. Пройдёт время – на могилах ваших, людей ныне знатных, богатых, чтимых, и крестов не останется. Её же имя не забудется.
– Что он мелет, что он мелет! – не выдержала молчавшая прежде боярыня Клавдия.
– Речь твоя, – оборвал его Шиловский, – к нашему делу не относится. Начинаем жеребьёвку. Конаться будете или…?
– Или. В отличие от великого князя, – усмехнулся Богдан, – меня не останавливает, что мой противник – девица. Но мы ещё не на ристалище, право выбора принадлежит слабейшему. – Он поклонился Еввуле.
Выпал поединок с короткими мечами – рукопашный.
«Ну, кажется, пронесло! – обрадовалась Анна. – Еввула ближе вытянутой руки его к себе не подпустит».
Боярин Шиловский дал час на сборы и зажёг трут на часах. Поединок назначил на малой площади перед княжеским теремом, чтобы зевак было поменьше. Они же, как осаждающие, карабкались по крепостным стенам. Стражники с ног сбились, не давая им преодолеть стену, и всё-таки некоторые смельчаки оказались на княжеском подворье, так что народу на поединке собралось больше, пожалуй, вдвое, чем на суд. Плотным кольцом окружили наспех огороженную совсем небольшую площадку. Под удар била вышли на неё противники. На обоих были лёгкие доспехи: латы и невысокие шлемы. У рыцаря через левое плечо перекинута шкура белоснежного барса, дорогая шкура, видимо, наследственный оберег, едва ли мелкий владелец поместья в отдалённой от Переяславля деревне мог такую приобрести. Анна перед поединком успела справиться о нём у Василия. Он сказал, что боярский сын злобится на него, хочет отомстить, считает, что из-за великого князя Ивана Фёдоровича род бояр Логвиновых пришёл в полный упадок.
– А ты говоришь, нет у меня врагов! – заключил Василий. – Как им не быть – не на меня, так на пращуров моих обиду таят. Вон их сколько вызвалось со мной потягаться. Не побоялись в открытую неприязнь свою выказать. А на девку эту им наплевать, да и понимают, в княжестве ей не оставаться…
– Ты на заметку их взял?
– Зачем? Явные неприятели – самые безобидные. Татей надо опасаться, жёнушка! – Он обнял Анну. – Пора идти, тревожусь всё-таки, кабы чего… Сын боярский, говорят, ловок, да и зол. Отчего волосы у него такие, не знаешь?
Анна пожала плечами, а за Еввулу она не беспокоилась.
Начался поединок. После первых движений сражающихся зрители уже поняли, что видят бойцов искусных. И всех поразила Еввула: она была ловка, смела и хладнокровна. Подпускала противника на такое близкое расстояние, что сочувствующие ей зрители вопили от ужаса, и тут же стремительно увёртывалась. Поединок и внешне преобразил её: воинский костюм показал, какое у неё ладное тело, щеки порозовели, разгладились на них горестные складки, глаза, всегда прищуренные, точно спросонья, распахнулись, загорелись. И ещё почудилось Анне, что Еввула не сражается, а показывает Богдану замысловатые движения какой-то новой пляски. Боярский сын тоже выглядел молодцом, хотя всё-таки уступал Еввуле в ловкости и напористости.
– Славные-то какие! – вдруг воскликнула проникшая в Кремль посадская тётка, не вытерпела. – Им бы не мечами махаться, а кольцами обменяться.
Анна мысленно согласилась с ней. Пичуга от восклицания скривилась, а Богдан вдруг споткнулся, упал на колени – прямо под занесённый меч. Еввула резко подняла руку.
– Рази его! Рази! – завопили в толпе.
– Я тоже боюсь крови, – ответила Еввула, усмехнувшись, и спрятала меч в ножны.
– Предатель! Ненавижу! Дурак! – Пичуга перескочила через низенькую ограду и, сорвав с боярского сына шлем, колотила его по опущенной голове – осенней паутиной струились по ветру его непривычно белые и длинные волосы. – Ненавижу!
Ярыжки насилу уняли её.
Суд признал деву Еввулу Мещёрскую невиновной. Постановил за клевету на неё изгнать сказительницу Людмилу-Евлалию-Пичугу, дочь Степанову, за пределы княжества навсегда. Постановление надлежало выполнить ей не далее как следующим утром. Сын боярский к ответственности не привлекался и волен был сам распорядиться своею судьбой.
Пичуга спокойно выслушала боярина Шиловского, смиренно поклонилась князю, судьям и всем присутствующим и направилась к выходу. За ней поплёлся боярский сын. В дверях, однако, она повернулась круто, отстранила Богдана и, обращаясь к Анне, прокричала:
– Твоя нынче взяла, княгиня. Но наши дорожки ещё перекрестятся! Не в нынешней жизни, так в другой! Тогда ты не будешь княгиней! Тогда…
Богдан не дал ей договорить, взял, как уросливого ребёнка, под мышку и унёс.
Анне было неприятно, что сказительница напоследок всё-таки задела её, угроза же никак не подействовала. Анна не верила в перевоплощение и сомневалась, что есть загробная жизнь, и тем самым, не зная того, впадала в ересь, которую насаждал неприятный ей Фёдор Курицын.
Вечером княжеская чета устроила маленький пир, только для себя и Еввулы, и тем не менее на сей раз Анна не пожалела для него богатой белой скатерти. Говорили о счастливо закончившемся событии. Князь сказал, что накануне хорошо продумал возможные испытания, и с лёгким сердцем назначил огонь: помнил, что Еввуле он нипочём, но, когда сказительница не уступила ей, испугался. Он не знал, насколько искусны обе в ратном деле. Предположил, что Пичуга в единоборстве может оказаться сильнее: ведь у скоморохов выучку проходила. А те ребята ушлые: с медведями в обнимку ходят, по лезвиям мечей, как по ступенькам, поднимаются, много разных хитростей знают.
– А у меня от сердца отлегло, когда Шиловский поединок назначил, но тут ты вызвался… – Анна осеклась, увидев, как помрачнел Василий, и сказала совсем не то, что думала: – Всем в княжестве известно твоё воинское умение, а вдруг да не найдётся охотника с тобой сразиться. Слава богу, всё уладилось. Этот – как его?.. не смог преодолеть круга. Только, показалось мне, Еввула, круг ты сделала почему-то маленьким. Места, что ли, не хватило?
– Я не делала круга, – улыбнулась Еввула, – если бы очертила его у всех на виду, меня бы обвинили в чародействе. Так что сражалась с единственной мыслью о вас, мои дорогие. То есть собрала все свои силы, чтобы вас не подвести. И ещё… – она покраснела и добавила совсем тихо: – Мой противник нарочно уступал мне…
– Ха-ха! – засмеялся Василий. – С него станется! Да он враг мой заклятый. И людишек своих, холопов, в палате рассадил, чтобы мне напакостить, не иначе. С чего бы ему мою воспитанницу пожалеть? Видно, Пресвятая Богородица пожалела нас.
– А что было бы, когда бы он победил? – спросила Анна.
– Что было бы – не знаю и думать не хочу! – вспылил Василий. – И, словно устыдившись своей вспышки, предложил миролюбиво: – Давайте сказочку расскажу, недавно слышал. Про двух охотников.
И рассказал:
– Двое встретили в лесу старика и спросили его, забавы ради, не видел ли он поблизости волков и лис. Старик буркнул в ответ: «Погибель вашу видел». Подивились приятели стариковской злобе, и пошли дальше. Вскоре попался на дороге им мешок – с золотом. Посмеялись тут они стариковской глупости – то ли прошёл он мимо, не заметив мешка, то ли его погибелью назвал, разве здравый человек назовёт богатство погибелью? Собрались было приятели с мешком назад, да кваску испить захотелось, благо какая-то деревня невдалеке оказалась: коровы мычали, собаки лаяли. Один направился туда. А когда обратно с квасом шёл, поганый гриб в него опустил, чтобы отравить дружка и завладеть золотом одному. Оставшийся стеречь мешок тоже раздумал делиться, и камень приготовил, коим и убил подошедшего. Потом с устали кваску хлебнул и возле мешка помер.
– Страшная какая сказочка, – сказала Анна, – зачем ты её рассказал – назидания ради или намёк в ней какой-то?
– И почему оставшийся сторожить мешок не убежал? – спросила Еввула.
– Честный он был, честный! – На вопросы Анны Василий не ответил.
Разошлись поздно. Анна проводила Еввулу до её светёлки: хотела убедиться, всё ли девки приготовили для спокойного сна и безбедного житья. Надеялась, что Еввула погостит недельки две. Всё было, как надо, даже пяльцы стояли у окна, и это позабавило Анну – никогда не видела Еввулу за вышиванием. Но тут же решила, что пяльцы сгодятся для неё самой: будет заходить к Еввуле и за разговорами вышивать.
Уже расцеловались на прощанье, и тут Еввула призналась, что утаила за вечер происшествие удивительное: отправившийся, казалось бы, следом за сказительницей боярский сын нашёл время прислать со своим человеком на имя девы Мещёрской грамотку. А в ней винился за участие в поединке, писал, что девы с таким поразительным дарованием не встречал прежде и при новой встрече, на которую очень надеялся, сулил сказать ей нечто весьма важное.
– Любопытно, очень любопытно! – обрадовалась Анна. – Покажи грамотку.
– Я сожгла её – от врага. Василию неприятно будет, – залепетала Еввула, – да и зачем встречаться? Где ему найти меня, когда в лес уеду.
Поняв её смятение, Анна засмеялась:
– Повременишь уезжать. Сегодня враг – завтра друг. Не век же тебе в девках сидеть, давно пора самой детками обзавестись, а не за сироток безвестных жизнь отдавать.
– Мне на роду написано быть вековухой, – грустно возразила Еввула.
– И всё-таки я помолюсь за него в молитве на сон грядущий: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, Человеколюбче. Благотворящим благотвори. Братиям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прощения и жизнь вечную». – Анна опять поцеловала Еввулу. – Лихой он парень, ой лихой!
7
– Пуре пре за марта! – кричали чёрные вороны, вещие птицы. – Пуре пре за марта! – застили неяркое солнце.
– За марта! За марта! – вторило им эхо. И где-то за стеной вековых дубов то ли дети, то ли птицы, а может, лесные духи верещали:
– Пащин коди! Пащин коди! Пащин коди!
Пахло тленом и болотом. Хилые бледные стебли травы только кое-где пробивались через толщу не перепревшей за зиму и позднюю весну листвы. И листья на деревьях только-только начали распускаться, хотя до Троицы было совсем недалеко.
Анна с Еввулой стояли у высокого частокола в неприветливом и не по времени холодном дремучем лесу. Лесная поляна с сооруженным на ней частоколом была рукотворной – виднелись на ней низко срубленные, но не выкорчеванные пни, хорошо утоптанные тропы, колеи, заполненные водой и не избавляющиеся от неё, наверное, никогда. Анна подивилась, что возникают они как бы ниоткуда, обрываются у кромки поляны, исчезают, словно люди ездят только по поляне, не углубляясь в лес. Она не могла вспомнить, как оказалась перед частоколом, где оставила своих стражников и брала ли их с собой.
– Мы у мольбища Анге-патяй, матери богов, и её сестрениц[47], дочерей то есть, – говорила Еввула, – она родила восемь детей, сыновей и дочерей поровну. И ещё, высекая огонь, произвела на свет множество добрых духов, озкс они называются. А дал ей огниво отец, верховный бог Чама-паз, миродержец. Но раньше Анге-патяй создал Чама-паз, сам не желая того, злого бога Шайтана. Теперь этот Шайтан постоянно борется с Анге-патяй, вредит ей и тоже без конца высекает огонь, и сколько при этом вылетит искр, столько будет злых духов.
Еввула замолчала, прислушиваясь к чему-то. Ветер шумел в верхушках дубов, и кто-то тише и теперь совсем невнятно продолжал: верещать где-то невдалеке.
– Это чайки над Перкино, озеро тут поблизости. Рыбы там много. Они ссорятся из-за неё, галдят. А кажется: дети плачут, да? – И, возвращаясь к своему прерванному рассказу, посоветовала доверительно: – Ты не старайся запомнить всего – тебе надо просто немного подготовиться к молению, понять главное. Атепокш тей, старейшина рода, собрал нынче своих людей: чтобы воздать тебе хвалу, помолиться за тебя богам и открыть тайну рода.
– Открыть, открыть, открыть! – закричали, примолкнувшие было вороны, закружились, снижаясь круг за кругом, едва ли не норовя сесть гостьям на головы.
– Кыш вы, кыш! – отогнала Еввула вещих птиц, как обычных куриц. А за стеной вековых дубов кто-то опять верещал пронзительно, уж не чайки, конечно:
– Чатьмонеде, чатьмонеде, чатьмонеде!
– За что меня хвалить? – обеспокоено спросила Анна, лес её пугал, к тому же она всё не могла вспомнить, как оказалась в нём, и стеснялась спросить Еввулу. А та уж стучала в ограду:
– Мы здесь, атепокш тей!
Открылись не замеченные Анной ворота, и вышел высокий, благообразный старик в белом, расшитом многоцветным узором одеянии.
– Рад приветствовать тебя, великая княгиня! – старик низко поклонился. – Спасибо, что вняла нашей просьбе – пришла к нам и готова присутствовать на нашем молении.
Вняла просьбе – как странно! Ну конечно, её просили приехать – не в плен же взяли. Но почему старик сказал «пришла» – разве лес рядом с Переяславлем? И кто этот старик, хорошо говорящий по-русски? Еввула так странно назвала его атепокш тей. Атепокш тей!
– Бог у всех людей один, – между тем продолжал он, – только зовётся у каждого народа по-своему, – и, заметив растерянную улыбку Анны, пояснил: – Оглядись – видишь, даже деревья в этой священной роще разнятся между собой листьями и цветом стволов, так и разные роды на земле имеют свою веру и свой язык. И это угодно Чама-пазу, Вель-пазу, то есть Богу, потому что эта разница им самим и дана. А значит, обращать человека в иную веру, отличную от веры его рода, грешно. – Старик подал Анне руку и ободряюще улыбнулся: – Идём, княгиня! Пусть твои сомнения и страхи останутся по эту сторону частокола.
Анна последовала за ним послушной телушкой и не заметила, что Еввула оставила её.
За оградой не оказалось внушительных строений. Анна ожидала увидеть если не деревянный храм, какие встречались ей в православных лесных сёлах, то хотя бы что-то вроде часовенки. Но на гладкой, лишённой травы площадке стояли только шесть столбов – по три на противоположных сторонах ограды. На одной тройке висели связки каких-то старых шкур, у другой – была яма, полуприкрытая каменной плитой. Невдалеке от ямы под небольшим навесом виднелись три котла. А посреди площадки рос невысокий, вровень с частоколом, но раскидистый, примерно в два обхвата, дуб. Над ним вились уже знакомые ей чёрные вороны, но садиться на ветви то ли не хотели, то ли не решались, хотя поживиться на них было чем: ветки унизали огромные куски яичницы, пироги и ещё какая-то снедь.
Под дубом Анна приметила несколько кадок, некоторые из них стояли вверх дном, рядом, прямо на земле, лежали хлеб, соль небольшими кучками и соты.
Старик подвёл Анну к дубу и усадил на одну из кадок.
И тотчас же на мольбище вошло много людей. Стали, поворотясь лицом на запад, – мужчины по правую сторону от дуба, женщины – по левую.
Анне бросилось в глаза, что на всех женщинах, молодых и старых, очень короткие рубахи, открывающие непомерной толщины ноги, обмотанные белоснежным, белее праздничных её скатертей, полотном. Рубахи многоцветьем напоминали июньский луг, так густо и ярко они были вышиты, вдобавок к этому украшены свисающими с поясов и тоже вышитыми платками. У девушек, они стояли отдельно, за женщинами, на головах красовались повязки с шумящими подвесками, у женщин – высокие жёсткие шапочки, похожие на туески. Одежда мужчин отличалась от той, что носили крестьяне близ Переяславля, разве только цветом узоров.
Пришедшие тоже разглядывали Анну. Она подумала, что и они, должно быть, сравнивают её наряд со своим, и заволновалась: совсем запамятовала, как одета, и до этой минуты здесь, в лесу, её одежда вроде бы и не имела большого значения – тепло и ладно. Незаметно оглядела себя – всё, как надо для выхода на люди: шёлковый бирюзовый сарафан с широкой затканной серебром каймой на подоле, на плечах светло-коричневый распашной охабень с бобровой оторочкой. Его длинные узкие рукава спускались до земли, ладные, новёшенькие, тоже коричневые сапожки. Что на голове, увидеть, конечно, не могла, но как раз головной убор меньше всего и беспокоил – все были хороши и шли ей, но для полной проверки она всё-таки коснулась мягкого меха опушки.
– Чатьмонеде! – повелительно произнёс старик, и все собравшиеся сразу же перевели на него взгляды. Он долго говорил не по-русски. Его слушали, улыбаясь, согласно кивая головами.
Кто эти люди, – пыталась догадаться Анна, – мещера, мурома, мордва? Пять веков прошло, как славяне овладели лесным краем за Окой, а жители его всё хранят свои обычаи, веру, язык. И никому из русских князей не подчиняются. Живут сами по себе, едва ли понимая, на чьей земле. Она с досадой отметила, что тоже не знает, кому принадлежит окружающая её глухомань, Московскому или Рязанскому княжеству. Лёгкое беспокойство овладело ею – уж не заложница ли она этих неизвестных людей, наивно доверилась совершенно незнакомому старику, позволила отстать Еввуле, а теперь её нет на моленье. Да и моление ли это?
– Великая княгиня Анна среди нас! – торжественно возвестил старик, переходя на русский язык. – Возблагодарим её и помолимся нашим богам о её благополучии. Когда злые духи Шайтана восторжествовали ненадолго, княгиня Анна помогла добрым духам спасти нашу Айвину, прапраправнучку Пурьгина-паза, бога грома, любимую жрицу богини Нишкенде-тейтерь, богини судьбы и покровительницы пчёл.
«Бред, какой-то бред. Всё это снится – прапраправнучка громовержца, добрые духи, озксы, богиня судьбы, – Анна ущипнула руку. – Но Айвина – такое знакомое имя…»
– Сегодня Айвина вновь с нами! Встретим её!
Старик направился к открытым воротам. В их проёме показалась высокая худая женщина в короткой, до колен, зелёной рубахе, с зелёным венком на распущенных спускающихся ниже подола рубахи светлых волосах. Длинные стройные ноги её были обмотаны белым холстом. Старик взял её за руку и повёл к дубу. Жрица шла, высоко подняв голову в дубовом венке, уверенной лёгкой поступью породистой кобылицы.
«Мне бы такую походку, – позавидовала Анна, – и впрямь прапраправнучка громовержца».
Старик подвёл жрицу к Анне. Та встала, а жрица рухнула перед нею на колени, поцеловала носок сапога.
– Еввула! Ну что ты, Еввула! Я ничего не могу понять…
Еввула поднялась, села на кадку, стоящую рядом. Старик остался стоять и опять крикнул:
– Чатьмонеде!
Собравшиеся приветствовали Еввулу радостными возгласами и битьём в ладоши. Но, услышав старика, сразу замолкли.
– Тертерь морадо! – произнёс он тише.
Из девичьего ряда вышли три девушки и запели. Анна сразу поняла, что поют величальную: в песне прозвучало её имя, да и строем она была похожа на русские величальные.
– Рязанань Анна! Шечк лазань пеша, – слаженно пели девушки. Дудники подыгрывали им. Еввула тихо начала переводить:
– Анна Рязанская! Как облупленная липа, бело её тело. На ногах её обувь, как скатанный льняной холст. А походка её, как у породистой кобылицы.
Услышав последнее сравнение, Анна засмеялась:
– Почему здешние женщины так холят ноги, – тихо спросила она, – что даже весной наматывают на ноги по версте холста? Походка кобылицы мне вовсе не нравится. – Но, говоря всё это, она продолжала улыбаться девушкам.
– Главный признак женской красоты здесь – толстые ноги, и поступь их должна быть твёрдой, – ответила Еввула и снова принялась переводить. Анна перестала слушать – думала, отчего Бог, которого здесь называли Чама-паз, дал людям не только разные языки и верования, но и представления о женской красоте: у одних ценятся лбы, у других – глаза, у третьих – ноги… Девушки тем временем величали Василия, и без перевода Анна знала, что они не будут петь о его красоте: красота – для мужчины не главное, но обязательно упомянут его ум, отвагу и богатырскую мощь, которой и в помине нет.
Величание закончилось, наконец, певицы вернулись на прежние места.
Пока Анна размышляла, как их отблагодарить и надо ли это делать, ввели лошадь, быка и овцу, привязали к столбам, на которых висели шкуры. Там они остановились ненадолго. Молодцы наносили воды в котлы, разожгли под ними огонь, и старики повели животных к другим столбам – на заклание. Они прошли рядом с дубом, и Анна отметила, как хороши, ухожены животные. Лошадь повернулась к сидящим под дубом и коротко заржала, словно попрощалась.
– Как похожа! – изумилась Анна. – Ну прямо – твоя.
– Это она, – спокойно подтвердила Еввула и добавила назидательно: – В жертву следует приносить самое дорогое – тогда это истинная жертва. – Но, почувствовав, что Анну не убедил такой довод и ей жаль лошадь, утешила: – Её не зарежут. Утопят в священном озере Перкино. Это его водой наполняют котлы.
Лошадь увели. Быка и овцу молниеносно зарезали, распотрошили, внутренности и кровь сбросили в яму, накрыли камнем, шкуры повесили, приобщили к уже высохшим на первых столбах, куски мяса опустили в котлы, не мешая говядину с бараниной.
И снова раздалось над мольбищем:
– Чатьмонеде!
На сей раз голос нёсся с вершины священного дуба, но кричали не вещие птицы вороны, которые куда-то вдруг исчезли, голос был человечьим.
– Пуре пре за марта, пайгуре за марта, андре за марта…
Все принялись низко кланяться, что-то негромко приговаривая, но шум поднялся такой, будто в лесу началась буря. Анна во многоголосице различала названные прежде Еввулой имена богов: Чама-паз, Волцы-паз, Назаром-паз, Нишке-паз, Свет-Вирь-Нешке-Велень-паз, Анге-патяй.
– Это вазатя, жрец, начал молитву, – шепнула Еввула, – она будет длиться долго, пока варится мясо, потом начнётся жертвенный пир.
– Если тебе твоя вера не позволяет разделить с нами жертвенный пир, – сказала Еввула, – мы можем сейчас потихоньку уйти.
Анна не знала, не помнила запретов, но сидеть безучастной на бочке, когда все молятся, нелепо. Да и грешно, наверное, православной смотреть, как молятся язычники, даже когда они молятся за тебя, решила она и не осталась. А так хотелось посмотреть, что же будет дальше и как выглядит жрец, сидящий на дереве, и ещё – хотелось есть и пить.
Вышли в ворота, противоположные тем, в какие входили. Через них водоносы носили священную воду. Делалось это, наверное, часто – тропка к озеру была хорошо утоптана. Анне показалось, что она заметила следы несчастной лошади. Прогулка к озеру, где топят особо любимых животных, не радовала. Но отказаться от неё Анна не решилась – куда было идти в этой глухомани? Она оказалась в непривычном положении, когда от неё самой ничего не зависело, и не знала, как это изменить.
Тропинка упёрлась в невысокий вал и, поднявшись, зазмеилась по нему. Справа и слева к ней подступали заросли каких-то прибрежных трав, названия которым Анна не знала. Все они были сухие, ржаво-жёлтые, но ещё крепкие, не желавшие полечь и скрывали тех, кто шёл по тропинке, кто мог оказаться на другом берегу. Другой берег! Как определить его, когда озеро имело почти правильную форму круга.
Вал оборвался, ушёл в воду. На его мысу, наполовину выпроставшись из воды, лежал чёлн. Всё, как тогда, в полудрёме, в полусне!
– Еввула, я уже видела это место! Ну, помнишь, я рассказывала про сон…
– Конечно, ты видела всё это, когда заглянула в будущее. И чёлн был этот. Те двое из будущего могли сесть в него – тогда бы им открылось прошлое, нынешний день, например, или время ещё более давнее. Встретились бы со своими пращурами. Чёлн их дожидался. Но они не посмели воспользоваться чужим. А мы воспользуемся!
Еввула столкнула чёлн в воду и принялась возиться с вёслами и шестом.
«Уж не собирается ли она отправить меня к праотцам следом за любимой лошадью?» – мелькнуло запоздалое опасение. Только покинула мольбище и сразу забыла, что Еввула – жрица и зовётся иначе, и необычный наряд её не насторожил. Анна посмотрела на согнутую спину Еввулы – и не поверила своим глазам: зелёного платья как не бывало – опять привычная чуть тронутая вышивкой рубаха. Может, сон всё это?
А с мольбища доносилось пение, звучали дудки и бубны – начался жертвенный пир. Анна сглотнула слюну.
– До пира ещё далеко, – усмехнулась Еввула, разгибаясь. – Это продолжается моленье, девушки поют позморо – жертвенную священную песню. А мы сейчас поплывём к старшей дочери Анге-патяй-паз, к Нишкенде-тейтерь. Старейшина рода и жрецы удостоили тебя чести увидеть великую и узнать у неё свою судьбу. Богиня вняла их просьбе и согласилась принять тебя. Садись же в чёлн и не бойся – никто и не подумал приносить тебя в жертву. Да и в нашем роду давно не приносят людей в жертву.
Богиня соблаговолила принять. Но у неё-то, Анны, вовсе нет охоты видеть эту Нишкенде-тейтерь – она неуверенно и неуклюже ступила на дно узкого и, казалось, утлого судёнышка. Ей представлялось, что опасно накренившийся чёлн обязательно опрокинется и не миновать ей холодной купели, а в одежде, какая на ней, на берег не выберешься…
Маленький чёлн был устойчив и легко заскользил к острову. Еввула лишь изредка отталкивалась шестом. Увидев не вёсла, а шест, Анна успокоилась – мелко.
Еввула рассказывала о богине. Иногда очень редко, раз или два в столетие, Нишкенде-тейтерь посещала здешние места, то есть остров на озере, оттого оно и стало священным. Перкино означает «огороженное». Появление её обычно связано с каким-то важным событием или предшествует ему. Старики думали, что нынешнее появление богини вызвано злоключениями одной из её жриц, но ошиблись. Нишкенде-тейтерь явилась, чтобы подготовить мещёрский люд к грядущим большим переменам.
– А почему богиня заботится о вас?
– Она покровительница рода. К этому роду относишься и ты, – заметила Еввула совершенно буднично.
– Как это? – Анна засмеялась: она, княгиня Рязанская, в жилах которой течёт кровь великого Прусса, и эти лесные, едва ли не дикие люди, молящиеся даже деревьям, и вдруг одного рода. Да, её пращуры приходили на эту землю когда-то давным-давно, но вовсе не за тем, чтобы жениться на каких-то дикарках.
– Одни твои пращуры приходили сюда ненадолго, другие – уходили отсюда к холодному морю балтов. Женились там на светлокосых девушках. Их дети знали о здешней земле понаслышке, внуки и правнуки полагали уже, что деды и прадеды жили у моря всегда. И никто из них не вёл своих родословных. Однако Нишкенде-тейтерь держала древо рода в памяти. Ведь она стояла у колыбели каждого младенца в нашем роду.
– Только не у моей. Я крещёная. И этого не может быть!
– Детей крестят не сразу и не по их воле. Нишкенде-тейтерь успевает после их первого крика легонечко подуть на младенца и привить ему любовь к земле предков. Особенно сильно она потом проявляется у женщин. Неслучайно твоя бабка Софья и прабабка Василия Евфросиния с лёгким сердцем покинули Литву – сами того не зная, они возвращались к своим корням. Да и ты с младенчества мечтала стать княгиней Рязанской. О твоём суженом и говорить нечего – он крепко-накрепко привязан к этой земле через мать и отца.
– Ну всё, сестрица, приплыли! – Еввула воткнула шест в илистое дно, стала привязывать к нему чёлн: берег острова оказался обрывистым, хотя и невысоким. Анне показалось, что остров рукотворный и зиждется на каких-то мостках.
– Он на толстой торфяной подушке, – объяснила Еввула, – и свободно перемещается по озеру. Сейчас почти посередине, а недавно совсем был вон у того берега. – Она кивнула налево. – Давай руку! Будь умницей и слушай меня, – и ловко выпрыгнула из челна.
Анна предположила, что почва под ногами станет оседать и зыбиться, но твердь её была такой же, как на валу, и ракитовые кусты росли такие же, как у матёрого берега, их сменил молодой ухоженный березняк – ни кустика под деревцами, ни хворостиночки, будто кто-то спозаранку прошёлся по нему с метлой, только обильные россыпи грибов подставляли солнцу тёмно-коричневые морщинистые головки, да кое-где вспыхивали огонёчки медуницы.
У Анны всё тревожнее и тревожнее становилось на душе – вот-вот кончится путь, что ждёт её там?
И опять показалась поляна, но намного меньше той, которую они оставили, и вся в ярких цветах: донник, колокольчики, смолка, иван-да-марья. Пчёлы гудели над цветами, было тепло как в июле. Простой деревенский плетень огораживал две невысокие раскидистые берёзы. Взрослые берёзы на плавучем острове! – поразилась Анна, но тут же вспомнила, какая берёза вымахала на крепостной стене и как жалко было смотреть на неё, поверженную, – срубили, чтобы не разрушала стены. Красивое, неприхотливое дерево, быстро всходит и где только не растёт!
– Берёза, келу, – любимое дерево Анге-патяй. Во время летнего праздника в честь Анге-патяй дома украшают берёзовыми ветками, из них девушки плетут венки, а зимой вместо живых ветвей употребляют распаренные веники. Такой же обычай был и у древних славян, – сказала Еввула, – и христиане от него не отказались: парятся берёзовыми вениками, украшают берёзками храмы на Троицу.
– Мы подошли к самому святилищу, – объяснила она, – и можем сделать ещё только семь шагов – дальше тебе хода нет – за плетень заходят только жрецы. Под берёзами ложе Нишкенде-тейтерь. Ей тяжело на земле, и она всё время пребывает в дремоте, но это не мешает ей всё слышать и общаться с избранными.
Анна со страхом посмотрела на берёзы, но у их подножия, как и при первом беглом взгляде, ничего не увидела – гладкая утоптанная земля.
– Посмотри повыше, – шепнула Еввула.
Между берёзами чуть покачивались качели – тяжёлая плита на толстых цепях. На плите навзничь лежала женщина в жёлтой с чёрными полосами рубахе («Как пчела, – мелькнуло у Анны сравнение, – ну да – она же покровительница пчёл»), золотая шапочка-повязка не удержала толстых, длинных иссиня-чёрных кос, и они волочились по земле следом за качелями.
– Станешь так, чтобы богиня случайно не посмотрела на тебя – может ненароком испепелить взглядом. Идём!
– А как же… Как я буду говорить с ней, ведь я не знаю её языка?
– С ней можно разговаривать мысленно. Ты не услышишь её голоса. Её прорицания войдут в твои думы.
Они сделали семь шагов. Остановившись, Еввула возвестила:
– Великая богиня Нишкенде-тейтерь! Жрица твоя Айвина-тейтерь и княгиня Рязанская Анна-анге пришли к тебе и ждут твоего пробуждения.
Свежий порыв ветра прошумел в верхушках берёз, пригнул травы на поляне. Он был так внезапен и силён, что Анна в тревоге подалась к Еввуле, но испугалась ещё больше: женщина, которую она пыталась обнять, была чужой – незнакомое лицо, иная, чем у Еввулы стать, наряд как у Нишкенде-тейтерь.
– Пробудилась, – радостно шепнула незнакомка голосом Еввулы.
– Успокойся, Анна, никто не причинит тебе вреда, – пришла в голову Анны первая чужая мысль, ей показалось даже, что слышен и голос, тихий и мягкий, словно шелест листвы. – Я рада тебе. Но должна прежде покаяться.
«Чудно как, богиня – и покаяться!»
– Да, да! По просьбе матери своей, верховной богини Анге-патяй, я ткала к твоему рождению рубашку, однако замешкалась. Анге-озаис не успел принести рубашку на землю ко времени – и ты не родилась в рубашке. Я лишила тебя счастья, покровительства Анге-патяй. Она по ладанкам, где хранятся такие рубашки, определяет, кого нужно опекать. Тебе надеть ладанку не успели…
– Анна, горюшко моё, Анна! С тех пор я стараюсь, как могу, исправить свою оплошность. Вот и любимую жрицу к тебе приставила оберегать от невзгод. Но Шайтан тоже не дремлет и всячески вредит мне.
Анне показалось, что богиня горько улыбнулась – вот бы увидеть её лицо, неужто и впрямь взгляд её может испепелить?
– У меня нет постоянного облика, – тут же откликнулась богиня, – нет и единственного, своего, голоса. Каждый, кому являюсь, видит и слышит меня по-своему. Айвина-тейтерь тоже всё время меняется: с тобой она – одна, со мной такая, какой я хочу её видеть.
– А на простого смертного мне лучше не смотреть, и находиться ему рядом со мной долго вредно. Так что, Анна, говори скорее свое заветное желание – выполню, или спроси о чём-нибудь важном, могу судьбу тебе открыть.
– Великая богиня, продли жизнь тем, кого я люблю. Пусть они умрут после меня.
– Жизнь и смерть не в моей власти, – грустно призналась богиня, – просить Анге-патяй или Чама-паза не могу: ведь я не призналась матери в своей промашке. Хочешь, увеличу твои богатства? Умножу твои бортни, запущу в старые новых лучших пчёл?
Анна молчала.
– Могу изменить твою судьбу, если ты ею не довольна.
– Довольна! Довольна! Вот разве… – и оборвала мысль: не решилась поведать богине, что не такого мужа желала. Стала быстро думать-говорить о другом. Собственную судьбу знать не желает, она будет сама открываться год за годом, а хотелось бы узнать, что ждёт внуков-правнуков, как управлять они княжеством будут, смогут ли приумножить его, сохранить.
И опять сильный порыв ветра всколыхнул деревья и травы.
– Вздохнула великая, – объяснила жрица. – Зачем тебе ведать, что будет после тебя? Нам пора уходить – ты и так узнала много.
– Оставь её! – приказала богиня. – Она заслужила и это знание. На внуке твоём, Анна, Иване Ивановиче, прекратится род князей Рязанских. Княжество лишится самостоятельности. Покорится Москве. Внук твой, человек смелый и отчаянный, мятежный, попытается отстоять независимость, но потерпит поражение от своего двоюродного дяди…
– Ивана Молодого?
– Нет, от сына Софьи, Василия. Бежит в Литву к королю Сигизмунду за помощью. И получит её – в виде имения в местечке Стоклишки, там и умрёт.
– Отпрыски дочери твоей, княгини Анны Бельской, будут приближёнными российских государей. Но за пять без малого веков их княжеский род измельчает. Последний из Бельских станет школьным учителем в маленьком городке. Будет скрывать своё княжеское происхождение.
– «Школьным учителем», – повторила Анна, не понимая, что это значит, но догадываясь о незначительности такого звания, – школьным учителем!
Она не замечала, что плачет, и не боялась больше открыть свои мысли богине и женщине, которую всегда считала чуть ли не родной, и которой совсем не знала. А думала она о безнадёжно упущенных годах, о неумении распорядиться своим даром, о мечтах, которым лучше не сбываться: зря, выходит, зря мечтала стать великой княгиней Рязанской – княжество на ладан дышит, а далёкий потомок её от ещё не родившейся дочери будет скрывать своё происхождение. Не кичиться – скрывать! Внук, которого она, возможно, дождётся, если Иван лет в шестнадцать женится, будет жить на подаяниях родственника, седьмой воды на киселе. Позор! Тягостные знания! Зачем только пришли они… И всё-таки есть в них чему порадоваться. Да! Да! Потомки её умрут не от руки наёмного убийцы, подкупленного кем-нибудь из их родственников, не в кровавой схватке на поле брани. Значит, к тому времени поутихнут войны и самое главное – так и не наступит конец света.
– Анна, очнись, Анна! – теребила её Еввула. – Великая засыпает, кончается жертвенный пир. Нам пора уходить.
Засыпает? Как можно углядеть это? До берёз неблизко. Всё так же раскачиваются качели, хотя нет никого рядом с ними. Лежащая на них женщина всё так же неподвижна. Да женщина ли? От запаха донника кружится голова, пчелиный гул усыпляет. Лечь бы прямо здесь в траву и ни о чём не думать… Пора уходить. Прощай, Нишкенде-тейтерь, богиня судьбы, покровительница пчёл!
Анна неуклюже повернулась к ней спиной – ноги стали пудовыми, да и всё тело отяжелело, навалились усталость и тоска.
«Хорошо бы ещё узнать, как долго будут властвовать татары», – не то подумала она, не то услышала подсказку, но сил больше не было стоять перед богиней, вдыхать дурманящий запах трав. Он делался всё нестерпимее. Лишний вопрос, убеждала она себя: Москва глотает княжество за княжеством и вскоре проглотит Рязанское, а татары потворствуют, позволяют Москве усилиться, значит, сами ослабли, и нет у них власти. И с этими мыслями брела по разнотравью к березняку. За время её стояния перед богиней у него явственно подросла листва, и он теперь не казался сквозным и поменял цвет с янтарного на бирюзовый. Ещё несколько шагов – и он скроет поляну, временное пристанище богини Нишкенде-тейтерь. Анна хотела оглянуться и не смогла – тело не слушалось. Виной тому – весеннее солнце, решила она: глупо стоять на открытом месте столько времени (сколько именно – не представляла, час, два, несколько минут), да ещё среди цветущих трав, грешно взирать на языческую богиню и внимать её словам, хорошо хоть ноги идут вперёд, уводят от гиблого места. Не отошла далеко от священных берёз, а уже подумала об их губительной силе, усомнилась в пророчестве Нишкенде-тейтерь и всё-таки у самой опушки пожалела, что не спросила, как и когда избавится Русь от татар. И шага не успела сделать, как березняк вдруг раскололо надвое. Какая-то невидимая могучая сила стремительно и беззвучно потянула деревца направо и налево. Узкая тропа-просека превратилась в заснеженную равнину. Почва под ногами вздыбилась, обращаясь в кручу.
– А-а! – возопила Анна.
– Пуре пре за марта! – кричали чёрные вороны, вещие птицы. – Пуре пре за марта! – вились над равниной, она была теперь внизу под кручей.
– Чекломенде, – сказала Еввула ласково, обнимая сзади Анну за плечи, – чекломенде. Молчи и смотри.
Всё огромное пространство равнины, до окоёма, заполнилось воинами. И казалось, они собрались на равнине давно, хотя только-только она напоминала чистый лист фряжской бумаги, теперь же выглядела обжитой: горели костры, из повозок были выпряжены лошади, стояли богатые юрты и кое-как слаженные шалаши, снег обратился в грязное месиво. Первозданно белый и лёгкий, он лежал только на реке и белизною выявлял её очертания, да ещё указывали на неё невысокие круглые ракиты.
Река разделяла людское скопище. Приглядевшись, Анна поняла, что разведены враги: на одном берегу татары, на другом – русские, москвитяне. Ей показалось, она различает среди воинов своих братьев и Ивана Молодого. Слава богу, живы! Сама же она находилась на стороне татарской, но далеко от неприятелей и соотечественников, так что те и другие казались игрушечными.
– Эта река Угра, – пришла к ней первая, но не её мысль, – ордынцы и москвитяне стоят перед ней почти месяц. Ты видишь исход октября нынешнего года. Угра покрылась ранним льдом, но всё ещё непреодолима: лёд не выдержит перехода многих сотен людей. Поэтому ничего не происходит. И воины устали от праздного стояния и бескормицы. И ждут чуда, чтобы, наконец, столкнуло их или развело навсегда. Смотри, смотри, сейчас оно произойдёт!
И опять, как у священных берёз, сильный порыв ветра охолодил Анне спину, пронзил до самых костей и пронёсся к реке, поднял, закружил пургой на ней лёгкий снег, взбудоражил осевших на ракитах воронов. Несметной стаей поднялись они.
– Пуре пре за марта! – орала стая. – Пуре за марта!
– Пащин коди! Пащин коди! Пащин коди! – верещали то ли какие-то птицы, то ли духи.
Тьма спустилась на равнину, объяла ужасом многотысячное воинство и с одной и с другой стороны. И дрогнуло оно, пришло в движение, заметалось. И вдруг помчалось прочь от реки. Остались на равнине юрты, шалаши, кибитки, повозки, не запряжённые лошади. Посветлело. Повалил снег, выбеливая округу.
– Вот и всё! – возликовала Еввула. – Стоянием на Угре назовут несостоявшееся противоборство.
– Ты тоже все видела? Видела!
– Хан Ахмат погибнет этой зимой. Будет зарезан, спящим, в своей юрте. – Его убийца, князь Тюменских улусов Ивак, без сражения овладеет Ордой, присвоит его богатство, жён и дочерей. Все пророчества сбудутся, Анна. Сбудутся…
Последнее уверенье Еввула произнесла с печалью.
8
Анна проснулась в своей постели, но с ощущением, что вернулась к яви из небытия. Подобное она испытывала несколько раз прежде – после обмороков: понимаешь, где находишься, узнаёшь тех, кто рядом, а что было перед этим, забываешь начисто и словно утрачиваешь способность вспоминать. Потом она восстановится, но сначала натерпишься страху, явившись в привычный мир вроде бы ниоткуда, тем более, если в это время окажешься в одиночестве.
Страх не успел одолеть Анну – за дверью раздавались голоса. Негромко разговаривали девушки, и она сразу вспомнила, кто они, как зовут. Можно было кликнуть их. Она не стала: чувствовала себя вполне здоровой и отметила, что, как всегда, для неё уже приготовлена будничная одежда, вода и свежее полотенце. Василия не было рядом, и это тоже убеждало, что ничего необычного не произошло. Никто не беспокоится о ней, и все уверены, что она никуда не отлучалась.
Почему возникла мысль о какой-то отлучке, Анна не поняла, но сознание, что она накануне отсутствовала в тереме, заставило вспомнить поле брани, увиденное с высоченной кручи, чуть ли не из поднебесья, священные берёзы с качелями, неподвижное тело богини на них, её горестные пророчества, поразительные превращения Еввулы (её второе имя так и не всплыло в памяти), жертвенный пир. Так что всё это – сон или явь?
Анна вскочила с постели, поспешно перебрала одежду на скамье – да, совсем не та, что была на ней у озера. Тотчас же вспомнилось и название его, Перкино. Выходная одежда обнаружилась в сундуке, чистая и сухая – ни листочка на ней, ни травиночки, и пахла привычно сундуком. Как узнать, было ли путешествие в священную рощу? Как узнать, каким образом совершались её перемещения – в лес, домой?
Вошедшие девушки не проявили к ней особого внимания, и встреча с Василием тоже ничего не прояснила. Он держался так невозмутимо, будто они расстались накануне вечером или спали вместе. Анна осторожно спросила у него, кто такая Нишкенде-терьтей.
– Нишкенде-тейтерь, – поправил он и рассеянно объяснил, что это одна из мордовских богинь. На вопрос же, откуда ему известно о богине ответил, что князь должен знать, каким богам поклоняются его подданные, и следить, чтобы молились за его здравие и княжеского семейства.
– А разве ты не хочешь, чтобы все твои подданные молились одному Богу? – удивилась Анна.
– Хочу, но добиваться перемены веры не стану. Навязывать веру силой нельзя: вместо молитвы во здравие получишь стрелу или нож в спину. Потому татары так долго удерживаются у нас, что на веру нашу не посягают и священство поддерживают. Так и нам следует поступать с иноверцами. Так что пусть соседствует Нишкенде-тейтерь с Параскевой Пятницей.
Анна не стала возражать, но о своём приключении не рассказала. Поразмыслив, сочла для себя за благо посчитать всё увиденное сном, тем более Еввула, исчезнув после суда, в городе не появлялась.
Однако через несколько дней пророчества начали сбываться.
Хан Ахмат с шестью сыновьями и племянником, возглавляющими несметное войско, двинулся из своих волжских улусов к Оке, вроде бы на Московию. Выбрал для нашествия подходящее время: между Иваном и его братьями разразилась очередная ссора. Поводом к ней, как говорили в Переяславле, послужило смещение великим князем московского наместника в Великих Луках князя Оболенского-Лыка. Обиженный несправедливым наказанием (Иван сместил Лыка по наговору), он направился не в Москву, чтобы предстать перед своим господином, а прибыл в Волок Ламский к князю Борису Васильевичу и попросился к нему на службу – воспользовался древним правом бояр переходить, по своему желанию, из службы великого князя к князьям удельным.
Иван не желал считаться со старыми правилами и правами – требовал выдать перебежчика. Борис не подчинился, ответил резко: «Своих людей не выдаю, а если он виновен, то нарядим суд». Нашла коса на камень – Иван приказал схватить тайно Лыка и в кандалах доставить в Москву. Верные слуги выполнили приказ. Иван показал всей Руси, что он настоящий господин и родство для него – пустой звук. Непереносимо унизил Бориса. Вроде бы его одного, но и Андрей Большой принял унижение на свой счёт. Встретившись, они вспомнили все прежние обиды, которые потерпели от брата, вспомнили, как он распорядился имуществом Юрия, как присваивает себе без дележа с ними новые земли, и решили, что невмоготу им больше терпеть его самоуправство. А коль ничего они поделать с всесильным великим князем и бесчестным братом не в состоянии, то один выход – бежать к королю польскому Казимиру, просить у него пристанища и защиты.
Какое горе обрушило это решение на их семейства, на семейства преданных им подданных! Но снялись все с родной земли, разорили худобу свою и поспешили на чужбину. Честь княжеская оказалась дороже нажитого.
Казимир ликовал: непомерное расширение Московии его очень беспокоило. На радостях он отдал княжеским семействам для содержания город Витебск.
Узнав о движении ахматовских войск, в Москве поняли, что не избежать решающей битвы, судьбоносной. И не было в городе ни одного человека, от самой последней нищенки до великого князя, кто бы усомнился в надвигающейся смертельной опасности. Знали, чтобы вернуть былое владычество, Ахмат будет сражаться до последнего воина.
Тревога объяла все ближайшие к Москве города.
В Переяславле Рязанском прошёл слух, что в грядущем нашествии виноват Иван – разъярил хана недавней неучтивостью. Рассказывали, будто в Москве побывали послы, требовали дани, Иван же в ответ на это поломал басму на глазах у простого народа, растоптал её, а послов приказал казнить. Правда, одного помиловал, но ему всё равно не избежать смерти, наверное, он уже принял её от Ахмата, потому что повелел Иван послу: «Спеши объявить царю виденное тобою; что сделалось с его басмою и послами, то будет и с ними, если он не оставит меня в покое».
Отношение к этому слуху в Переяславле было различным. Одни считали его досужей выдумкой сторонников московского князя, то есть противников своего, рязанского. Другие восхищались поступком Ивана: наконец-то – доколе терпеть владычество басурман! Третьи, робкие, осторожные, боязливые роптали: «Разгневал царя напрасно! Ох, напрасно. Безбедно мы с ним жили: мяса и хлебушка хватало, и молочко было, медок и квас перепадали. Что будет, что будет?»
И все одинаково опасались, что дерзость Ивана может выйти боком и рязанцам – вдруг да двинет на Москву Ахмат по рязанской земле.
Прослышав о поступке Ивана, Анна испытала гордость: брат выказал явное мужество, обычно он действовал исподтишка, на рожон не лез и смелостью не кичился. Василий Ивана не одобрил. Василий посчитал его отвагу мальчишеством, заявил, что Иван сделал первый весьма необдуманный шаг на пути к большой крови, что она уже пролилась в Москве, жаль, очень жаль несчастных послов.
– Братец твой любезный, – распалялся он в ненависти, – ни с кем не считается, ребят отчины лишил, Москву в крови готов утопить в угоду своей жёнушке.
– Не будет большой крови! Не будет! – закричала Анна и, не выдержав, рассказала якобы о своём сне. Она не помнила, чтобы Нишкенде-тейтерь требовала от неё хранить пророчества в тайне, и всё-таки не решалась поведать о них. Но тут был особый случай.
Василий слушал с большим вниманием, но так, если бы ему вторично рассказали любопытную историю. Потом хмыкнул и изрёк:
– Бережёного бог бережёт – придётся нам выставить свои войска вдоль Оки. На всякий случай.
Горожане тоже не сидели сложа руки. Как не раз бывало, во время надвигающейся опасности, потянулись за Оку обозы, переяславцы погнали поближе к мещёрским лесам скот, крестьяне поспешно убирали сено, молили Бога, чтобы напасть, уж если суждено ей быть, повременила, пока управятся с жатвой.
Неурочное, небывалое движение по дорогам от Переяславля к лесу взбудоражило мелкую дикую живность окрест, и она с перепугу устремилась к лесу. А навстречу неслись чёрные вороны, застили небо, орали необычно:
– Чекломенде! Чекломенде! Чекломенде!
– Не к добру! – сокрушались старые люди. – Ох, не к добру вылетели они из лесу, снялись с гнездовий до срока, не иначе конец света вещают или сечу большую чуют.
Не могла Анна оставаться спокойной во всеобщей тревоге, боялась надеяться, что пророчество сбудется и нашествие обрушит несчастья только на его участников. И всё-таки посчитала, что не имеет права держать свои знания о нём при себе, долг дочери и сестры обязывает предупредить, успокоить московских родственников. Послала матери и Софье письма, опять-таки, как вещий сон, подробно описала видение – стояние на Угре. Ни та, ни другая на её письмо не ответила, потом стало известно, что мать, инокиня Марфа, осталась в готовой к осаде Москве, то ли благодаря письму, то ли из-за увещеваний митрополита и прибывшего в город архиепископа Ростовского. На Софью же письмо уж точно не подействовало: она со своим двором выехала в Дмитров, оттуда на судах все поплыли к Белоозеру. Софья знала цену вещим снам.
Прослышав, что великая княгиня покинула Москву, возроптали люди уже по всей Руси: Иван не верит в свою победу, скоро в Московии будет другой великий князь, король Казимир пророчит на княжеский стол Бориса и обещал Ахмату помощь, вот-вот в поддержку хану выступят литовские войска.
Разведав, что берега Оки заняты войсками, ордынцы миновали рязанские пределы, пошли южнее, к Угре. Навстречу им двигались московские полки под предводительством Ивана Молодого и Андрея Меньшого. Иван Молодой выглядел прирождённым военачальником и напоминал старым воинам решительностью и смелостью дядю своего Юрия. Отец же его, как всегда, осторожничал. Взял на себя главное управление войсками, но медлил покинуть Москву, отправился в Коломну, только когда Ахмат приблизился к Дону, то есть недель через шесть после того, как ушли из неё полки сына и брата. Побыл некоторое время с войсками и вдруг возвратился. Его несвоевременное появление едва не вызвало бунта. «Государь выдаёт нас татарам! – шумели в Москве. – Не стоит за отечество!» Испугавшись народного гнева, он не доехал до Кремля, остановился в Красном селе, а свой внезапный приезд объяснил желанием посоветоваться с матерью и духовенством. Он всё ещё надеялся хоть на худой, да мир с Ахматом. Советники же его настаивали на решительных действиях, на сражении.
«Смертным ли бояться смерти? – увещевал архиепископ Ростовский Вассиан. – Рок неизбежен. Я стар и слаб, но не убоюся меча татарского, не отвращу лица моего от его блеска». Мать тоже считала, что другого выхода нет, как идти на врага.
Иван выжидал и зачем-то вызвал в Москву сына, но тот остался с войсками, а своё непослушание объяснил отцу через гонца так: «Ждём татар. Лучше мне умереть здесь, нежели удалиться от войска».
Все свои переговоры с приближёнными и родственниками Иван, конечно, вёл тайно, и, тем не менее, чуть ли не в тот же день они становились известны тем, кто не входил в избранный круг, а дней через пять их обсуждали в Переяславле Рязанском. «Смертным ли бояться смерти?» – восклицали даже на торгу у Лыбеди.
Третьего октября Иван уступил московским советникам и, наконец, отправился к войску, а восьмого на восходе солнца несметные силы хана Ахмата подступили к Угре. Московские войска успели занять противоположный берег на протяжении шестидесяти вёрст. Началась примерочная перестрелка. Преимущество сразу оказалось на стороне русских – у них были не только луки, но и пищали. Ахмат, не желая попусту терять своих воинов, несколько удалился от реки на поле, недосягаемое пищалям.
И тут неожиданно для него Иван запросил мира: направил посла с дарами. Ахмат дары отверг и заявил послу: «Я пришёл сюда наказать Ивана за неправду, за то, что он не едет ко мне, не бьёт челом и уже девять лет не платит дани. Пусть сам явится предо мной: тогда князья наши за него будут ходатайствовать, и я могу оказать ему милость». Однако князья соглашались ходатайствовать на унизительнейших для Ивана условиях, один из них сказал послу: «Иван должен вымолить себе прощение у царского стремени».
Иван на эти условия не согласился, но опять не смог сохранить в тайне позорные переговоры. Узнали о них в Москве. Духовенство вновь принялось убеждать великого князя постоять за отечество. Он получил грамоты от митрополита, архиепископа Ростовского и ещё от нескольких высоких духовных лиц. Говорили потом, что особенно убедило Ивана пространное письмо архиепископа, которое якобы даже было прочитано княжеским сподвижникам. Кое-кто запомнил из послания некоторые наставления. И до Переяславля дошло одно: «О, Государь! Кровь паствы вопиет на небо, обвиняя пастыря. И куда бежать? Где воцаришься, погубив данное тебе Богом стадо? Взыграешь ли яко орёл, и посреди ли звёзд гнездо себе устроишь? Свергнет тебя Господь и оттуда…<…> Нет, ты не оставишь нас, не явишься беглецом, и не будешь именоваться предателем отечества!..»
Однако среди передававших этот слух были и такие, кто полагал – не прекрасное письмо старца удержало Ивана на поле, а его братья Андрей и Борис, внезапно явившиеся в расположение русских войск.
– Вот это действительно изъявление любви к отечеству! – узнав о возвращении братьев, восхищался Василий. – А какая поддержка Ивану… Молодому: ребята – добрые воины, не то, что его батюшка! – и сожалел, что сам не может отправиться к Угре: опасно оставлять княжество – чем бы ни кончилось нашествие, победой или поражением ордынцев, их полчища будут возвращаться к себе назад, на Волгу, и могут пойти по рязанской земле. Один раз беда миновала, но минует ли в другой? Иван Москву отстоит, а до Переяславля ему дела нет!
– Не боишься участи прадеда своего Олега? – осторожно спросила Анна.
Она не знала, как должно Василию поступить, страдала, что он не идёт на помощь её братьям, и понимала, если покинет Василий в это тревожное время своё княжество, будут негодовать его подданные, и тогда уж он или она услышит: «Государь выдаёт нас татарам! Не стоит за отечество!»
– Не та у меня величина, Анычка, – ответил спокойно Василий, – прадеды мои Олег и Дмитрий Ивановичи – исполины, коим суждено было жить рядом и соперничать. Ни тот, ни другой не могли одержать победы в своём единоборстве, поскольку равны были по силе, как теперь ордынцы и москвитяне. Но заразили соперничеством своих приспешников, в том числе сказителей разных и летописцев. Преуспели москвитяне, их летописцы были плодовитее и летописи хранили лучше. Но и то в одной из них мне прочитать довелось, что Дмитрий победил Мамая, чтобы, увидев потом пепел Москвы, платить ещё большую дань, но Тохтамышу.
Анна хотела вступиться за своего прадеда, бывшего одновременно и нелюбимым прадедом Василия, но воздержалась – ну, сколько можно тлеть огню вражды между княжескими семьями, ни общие внуки исполинов, ни их правнуки не смогли его окончательно погасить. «А вдруг соперничество между москвитянами и рязанцами будет длиться и тогда, когда иссякнет кровь наших прадедов?» – подумала она и засмеялась нелепости этой мысли.
Ехать к Угре вскоре не стало нужды – наступила развязка. Первую весть о ней принесли птицы. Чёрные вороны потянулись к лесу, поодиночке, парами, небольшими стаями. Пролетали низко и молча над Кремлём и в неспешном тяжёлом полёте были похожи на уставших воинов, выполнивших свой долг.
– Чекломенде! – приветствовала их Анна с крыльца, не зная, что слово это означает «молчите». – Чекломенде!
Наконец в Переяславле стало доподлинно известно, что ордынцы без боя признали своё поражение и отступили от московских пределов. Движутся по Литве, разоряя земли, подвластные недавнему союзнику королю Казимиру. Его теперь якобы наказывают за отступничество, за то, что пообещал помочь и не помог.
– Да не в отступничестве дело! – горячились бояре в Переяславле и иной бывалый люд на торгу и в кружалах. – Как иначе им прокормить такое скопище людей и коней.
– Ну, коней-то, поди, уже съели. Счастье наше, что не к нам пошли.
Победу, удачу праздновали и в княжеском терему. Народу собралось много, радовались и веселились искренне. Славили мать великой княгини инокиню Марфу за мужество – не оставила столицу в тяжёлое время, – за то, что воспитала и вырастила доблестных сыновей. Славили Андрея Большого и Бориса – презрели обиды и вернулись защищать отечество. Славили духовенство.
Об Иване молчали. Втихомолку все порицали его за нерешительность, трусость и самолюбие, не могли простить ему и того, что жёнушку свою иноземную отправил за тридевять земель. Говорить о нём дурно на пиру, да ещё при его сестре никто, конечно, не решился бы, но и петь ему славу, кривить душой, чтобы угодить родственникам, не желали. Да и саму победу считали московской – общерусской её не воспринимали. Рязанцам она, как Куликовская битва век назад, ничего не дала: никто договора платить ордынцам дань не отменил. У Москвы с ордынцами были свои расчёты, у Переяславля – свои.
Москва якобы узаконила на Угре своё право не платить дань, рассуждали рязанские бояре, но как бы за это право дороже казне не стало – сколько денег на подкуп разных татарских царевичей уйдёт, так называемых союзников, молодых волков, что в лес смотрят, Данияра, Нордоулата, Айдара и прочих. Нет уж, определенность лучше: платишь дань и знаешь – никто разбойничать не будет.
«Господи, неужели свершилось? – думала Анна, сидя за небольшим княжеским столом сбоку от общего длинного. – Это же особый пир, каких ещё не было на Руси. А всё так обычно, разве только татар за столом нет. А выйдешь за ворота – и встретишь их на улице, и никто камней в них не кидает, собаками не травит, и татарская слобода, как стояла, так и стоит. И здесь, в трапезной, вроде никто и не понимает, что произошло событие величайшее, о котором столько лет мечтали…»
Ей хотелось плакать. Неужели мечта сильнее свершения?
Лились мёд, квас, заморское вино, пятнали дорогие скатерти. Слуги с кушаньями выстроились в очередь, скрывающуюся за дверями. Шумели подвыпившие гости. Возились под столами не то собаки, не то шуты. Галдели скоморохи. И чем дольше длился пир, тем меньше помнили пирующие, из-за чего собрались.
И вдруг всеобщий галдёж перекрыл голос князя Пронского. Он сидел за длинным столом лицом к княжеской чете и часто встречался взглядом с Анной, однако это теперь её не радовало.
– Слушаю и думаю, – начал он, – что не о том мы говорим, не тому радуемся. Ведь сброшено иго монгольское! Исполнилась наконец мечта наших отцов, дедов и прадедов и даже прадедов наших прадедов. Пусть не сразу это скажется на нашей жизни, не сразу изменит её к лучшему. Какое-то время нам придётся ещё ходить в должниках ордынских. Но их хан – больше не царь наш. О его здравии не будут молиться в церквях, наши князья не станут ездить к хану на поклон, унижаться перед его послами.
Все слушали с большим вниманием, оставив яства и питьё, слуги замерли с большими блюдами на вытянутых руках, унялась возня под столом. Анна смотрела на Владимира Пронского с восхищением. Перехватив её взгляд, он продолжал с ещё большим пылом:
– К нам вернулось попранное два с лишним века назад достоинство. И заслуга в этом всецело принадлежит великому князю Московскому, его смелости. Да, да, смелости! Не мог он не думать о последствиях, когда раз за разом дерзил хану через его послов, не платил дани.
Ропот прошёл по застолью, на многих лицах появились ухмылочки, даже слуги позволили себе насмешливо улыбнуться. Анна не видела лица Василия, но поняла, что и он не стал скрывать, что речь князя пришлась ему не по вкусу. А тот, не смутившись всеобщим недовольством, говорил уже о мудрости Ивана: не поспешил – людей не насмешил, избежал кровопролития, вдобавок выказал себя истинным стратегом. Да, стратегом, потому что, пока войска двигались к Угре, он договорился с крымским ханом Менгли-Гиреем, и тот напал на Литовскую Подолию, отвлёк Казимира, в это же время тайно посланный Иваном отряд напал на ордынскую столицу, заставил хана оставить поле боя и ринуться на её защиту.
– И всё великому князю Московскому удалось с лихвой, – заключил Владимир и, поклонившись Анне, осушил чашу.
Теперь уже зашумели вовсю, так что Василию пришлось постучать по столу, а любимому псу его тявкнуть. Несколько человек поднялось сразу, чтобы высказать возражение, но опередил всех боярин Шиловский:
– Говоришь, князь, Ахмат бросился защищать свою столицу, оттого и не принял сражения на Угре? А почему же передумал он и не вернулся до сих пор в свои улусы, рыщет по Литве?
Не успел князь Пронский ответить, как поднялся епископ, сказал спокойно и веско:
– Не пищали великого князя Московского, не мудрость его, всеми признанная, а Господь спас Московию, избавил народ от кровопролития. Значит, и славословить надо Всевышнего.
Как было не согласиться с епископом. Все воздали хвалу Всевышнему.
А в конце пира Владимир Пронский, сияя на Анну глазами, рассказал сказочку. Она решила, что за пиршеством её и придумал:
Козел и баран сошлись для драки в полдень солнечный. Уже и головы пригнули – рогами сцепиться или лбами стукнуться, как вдруг шарахнулись, разбежались, что есть мочи в разные стороны… Тени своей испугались.
Сказочка рассмешила захмелевших гостей. Порадовался их веселью рассказчик. Анна же вспомнила о непутёвой сказительнице: где-то теперь она, бедная, горе мыкает? Подумала ещё: сказительницу прогнала, а Еввулу не удержала, зато увидела богиню Нишкенде-тейтерь, узнала судьбу своего рода – лучше бы её не знать, богини не видеть…
– Чекломенде, – сказал кто-то тихо или это только послышалось, – чекломенде.
За стенами трапезной лениво сыпал мелкий колючий снег, медленно, неотвратимо закрывал землю теперь уж до весны. Ненастное небо приблизило окаём к самому Трубежу. За плотным серым пологом оказалась Ока и подступающий к ней мещёрский лес. Едва ли Нишкенде-тейтерь оставалась в эту пору под священными берёзами. Да и что было предначертано свыше, она, наверное, выполнила…
9
И опять была весна на грани лета. Розовые сквозные облака опустились на яблони в садах, осели на опушках бескрайних лесов. Белой пеной вскипел в оврагах и лощинах терновник.
И опять Анна оказалась далеко от дома. Теперь вместе с Василием. Князь Пронский выдавал сестру замуж: и на вдовую Ульяну нашёлся жених. Был он в отличие от её покойного мужа чистокровным татарином и не собирался переходить на службу ни к великому князю Рязанскому, ни к его могущественному родственнику. Остался верен Орде. Теперь ею правил Ивак, тот самый, что зарезал зимой где-то под Азовом спящего Ахмата.
Предстоящий брак Ульяны обсуждался у Анны на посиделках и не вызвал недоумения или порицаний. Женщины искренне порадовались, что наконец молодая вдова нашла себе опору – каково без мужа в восемнадцать или в двадцать лет. Весело, развлекаясь, посудачили, что Ульяна, не надеясь на помощь брата, сама нашла себе жениха. Говорили, будто бы знакомство молодых произошло на соколиной охоте, до которой вдова большая любительница. Будто бы Ульяна и Заур охотились порознь где-то под Кипчаковом (и что только Ульяну туда занесло?), но их соколы вместе напали на какую-то дичь, то ли на полевую тетёрку, то ли на дрофу. Вот возле этой дрофы они и встретились, хозяева. Тогда-то Ульяна и обменяла свою половину добычи на сердце Заура.
Всезнающая боярыня Клавдия уверяла, что охотники были знакомы прежде, ещё при жизни старика, и молодой красивый татарин, часто бывавший у него, приглянулся уже тогда Ульяне. Она сама напросилась ему в жёны, а он никогда бы не решился к ней посвататься, зная отношение русских к многожёнству и не надеясь, что Ульяна согласится стать четвёртой женой.
– Да это ж хорошо, что четвёртая! – как всегда возразила боярыне молодая спорщица, она с каждой посиделкой становилась всё смелее.
– Четвёртая – последняя? Значит, новых не будет, а старые мужику небось уже надоели. Хорошо!
Кто-то из женщин знал татарские обычаи, а по ним не обязательно было молодой встречаться с другими женщинами, по крайней мере, год.
– Молодая, – рассказывала женщина, – может жить в своём доме до рождения ребёнка. Муж будет посещать её раз в неделю, по четвергам.
– Нам бы такой обычай, – сказала боярыня Клавдия, и все загалдели: принялись обсуждать достоинства и недостатки многожёнства. Анна с удивлением узнала, что среди женщин, окружающих её, немного ревностных христианок, есть такие, кто многожёнство одобряет.
– Мы уже приучены к нему, – горячилась жена стольника, – просто оно у нас не узаконено, и от этого бедным обманутым жёнам – одни слёзы.
Она говорила с такой страстной убедительностью, что Анна перестала жалеть Ульяну и с лёгким сердцем отправилась на свадьбу, тем более хотела увидеть, хотя бы увидеть князя Пронского. Они так редко встречались…
Как и в Милославском, мужчины и женщины на этой свадьбе пировали порознь. Анне не пришлось даже посмотреть на жениха, но её уверяли, что он действительно молод и хорош собой. Ещё сказали, что он родом из Кипчакова и предки его – кипчаки. Заур первый в роду стал зваться татарином. А жёны его – так и вовсе не татарки: две вроде бы мордовки, одна откуда-то из-под Чернигова. Её Зауру подарил как награду сам хан Ахмат, тогда же и звание татарина ему присвоил.
Анна давно знала, что в Орде татарами именуются только люди знатные, особо отличившиеся, а не по родовой принадлежности, но, как все на Руси, называла ордынцев без всякого различия татарами, и, посмотрев на собравшихся к пиру женщин, привычно отметила, что большинство из них татарки. Были тут и две жены Заура. Первая не приехала – хворала. О ней ещё в Переяславле стало известно Анне, что не молода, постоянно нездорова, что Заур вынужден был взять её в жёны по обычаю, как вдову старшего брата, а тот вроде бы тоже женился на ней, уже немолодой, годящейся ему в матери. Так что женою того и другого эта старая женщина только числилась.
Наблюдая на свадьбе за другими жёнами Заура, пышными привлекательными молодками, Анна заметила, что они делают вид, будто счастливы принять к себе Ульяну и готовы уступить ей свои обязанности без борьбы. Они так ласково её обхаживали, так умильно на неё поглядывали, что не воспринимались соперницами. В их искренность Анна не могла поверить и встревожилась, решила, что прошли они суровую выучку и в совершенстве овладели искусством притворства – каково-то будет простушке Ульяне противостоять коварству этих зрелых красавиц!
Ульяна казалась наивной и неопытной девочкой, словно выходила замуж в первый раз и плохо усвоила наставления свах: выявляла поведением своим совершенно недопустимые на свадьбе беззаботность и радость. Правда, отмечая это, Анна имела в виду русскую свадьбу, но и на татарской женщины были очень сдержанны. Может быть, из-за того, подумала она, что пьют айран и шербет[48] и ухоженными ручками, с накрашенными хной ладошками, едят элбэ, жареную сладкую муку, и бал-май, смешанный с маслом мёд, – кушанья, которые подаются только на свадьбе.
Да и какое веселье без мужчин, без скоморохов! Анна уже жалела, что приняла приглашение – Владимир Пронский мелькнул ясным солнышком при встрече, мелькнёт при прощании – стоило ли из-за этого ехать за сто вёрст и киселя не хлебать, и мазать руки о бал-май!
Невеста заметила, что самая именитая гостья заскучала, подозвала служанку, что-то приказала ей, потом обратилась к Анне тихо по-русски – за столом говорили по-татарски:
– Улизнём? Дышать нечем тут и скукотища! – и, не дожидаясь согласия, поднялась из-за стола. Пирующих их уход не удивил.
Подворье оказалось очень похожим на переяславское и тоже обрывалось у реки. Из примыкавшего к ней сада уже доносилось соловьиное щёлканье, сменявшееся раз от раза набирающими большую силу трелями. Казалось, соловьи задумали перекрыть нестройный гул мужских голосов, грубо и властно врезающихся в майскую ночь и бездумно разрушающих её красоту. Но тщетны были усилия пернатых певцов – мужчины веселились вовсю и без женщин.
«Эх, умеют мужики везде веселиться!» – подумала Анна с одобрением и некоторой завистью и шагнула с крыльца.
– Пойдём к реке, – предложила Ульяна. – Там у меня есть любимое с детства местечко.
Сумерки спустились на усадьбу. Дорожка почти пропала из виду – угадывалась едва по мягкой пыли, чуть светлеющей на тёмной мураве.
Анна неуверенно шла по ней, глядя не себе под ноги, где и не пыталась что-нибудь рассмотреть, а на задники новых тончайших ичигов Ульяны и дивилась, как ловко и бесстрашно она в них ступает – ведь через такие едва ли не каждая пылинка ощущается. Ещё за столом Анна подумала, что татарский костюм очень идёт невесте, сделал её, в общем-то, малоприметную молодушку, настоящей красавицей. Показалось тогда, что особенно преобразила её шапочка. Надвинутая на лоб, дорого, искусно разукрашенная, она, тем не менее, не к себе привлекала внимание, а усиливала глубинную синь Ульяниных глаз, подчёркивала их величину, выявляла её не очень тёмные и густые брови и ресницы.
Теперь, осторожно плетясь за почти бегущей впереди, словно ночной зверок, Ульяной, Анна решила, что дело не в одной шапочке, а в непостижимом слиянии русской по рождению девушки с чужим нарядом и, наверное, с чужим образом жизни, который почему-то стал ближе, роднее своего. Наряд на ней как шкурка на кунице – без крови не снимешь. А всего-то в нём – рубаха жёлтая с воланами и мелкими оборками, вышитая на груди кусочками цветной ткани, зелёный безрукавный бархатный камзол, отороченный соболиным мехом, свободные, звенящие браслеты на запястьях да чудесная шапочка. Только она по-настоящему и ценна: жемчужная вышивка, золотое шитьё, золотые монеты, изумрудные подвески. Подобные наряды нередко надевали русские женщины, когда отправлялись со своими русскими мужьями к влиятельным татарам, чтобы расположить их не менее влиятельных жён. Но никогда не видела Анна, чтобы сидели они на этих женщинах ладно: непременно в глаза бросалась нарочитость одеяния, как у ряженых на Святки. А ведь ичиги и другие предметы татарской одежды уже основательно вошли в русский быт, но использовались иначе, чем у татар. Анна представила боярыню Клавдию, только что вставшую с постели, в тонких, как лепесток шиповника, алых ичигах на распухших синюшных ногах, в распахнутом на огромной обвисшей груди дорогом длинном мужском халате, который богатые татары носили как верхнюю одежду. Пугало, настоящее пугало! – Анна засмеялась. Смех остановил Ульяну.
– Прости, – сказала она, то ли оправдываясь, что убежала от гостьи, то ли оправдывая её неловкость, – я здесь хожу ночью, словно кошка. С малолетства знаю каждую травинку. Да, да! Трава тут каждый год одна и та же, хотя и косят её по два раза в лето.
Спустились к самому краю обрыва, где росли три огромных осокоря.
– Вот он мой любимый! – Ульяна потёрлась щекой о средний. – Сядем? Да ты не бойся – не застудимся: тут попонка лежит.
– Попонка? Почему?
– Ну да – я же здесь каждый день сижу…
– Скамеечку бы приказала сделать.
– Скамеечка от земли отрывает.
Сели, прижались спинами к осокорю. Но Анне его могучий древний ствол показался слишком твёрдым, неприятно бугристым и будто бы исторгающим какую-то недобрую силу, и она отодвинулась в сторону, насколько позволяла попонка. Разговор не ладился: Анна хотела, но не решалась спросить о неудачном, на её взгляд, выборе жениха, Ульяна опасалась этого вопроса и не желала ничего объяснять сама. Скучно поговорили о лошадях, о слугах, о детях. Старшему сыну Анны миновало пятнадцать лет. Он считал себя взрослым, и впрямь недалеко было до этого – родители уже задумывались, на ком его женить, конечно, хотелось бы на богатой и знатной, да кто из них пойдёт теперь за наследника рязанского, когда Московия так возвысилась. Пока выбор остановили на московской княжне Агриппине из рода Бабичевых, предок их некогда перешёл из Орды на службу к великому князю Московскому. Младший сын Фёдор, хотя из детского возраста и не вышел, подражал во всём брату, а не отцу, от родителей обособился и намедни ревмя-ревел, чтобы на свадьбу Ульяны не ехать, и настоял на своём – остался с братом «управлять княжеством».
– А моя напротив – тоскует по отцу, хотя и не помнит его, и так привязалась к Владимиру, что придётся её оставить в Пронске, – грустно сказала Ульяна.
– Как же ты?..
– Не будем об этом! Браки заключаются на небесах! – Ульяна вскочила.
– Нас, наверное, уже хватились! – забеспокоилась Анна, тоже пытаясь подняться, но в длинной одежде встать так ловко, как Ульяна, не смогла.
– Ты посиди. Я сейчас! – Ульяна шагнула в пустоту и сразу пропала из виду. Там, под обрывом, до реки простирался небольшой луг, без единого кустарника, поросший короткой и всегда влажно-прохладной травой. Над ним сгущалась темнота, поглотившая Ульяну. А может, она не пошла на луг – присела где-нибудь под обрывом, думала Анна, тщетно вглядываясь во тьму и различая в ней только поблёскивающую неширокую полоску воды.
В этот поздний час неприметная, заурядная речка источала свежее сильное благоухание, составленное из множества разных запахов. Наиболее резко выделялся запах рыбы, для которого толща воды не была помехой. Да и не таилась рыба на глубине, то и дело выскакивала на поверхность, давая о себе знать мощными частыми всплесками, громким, жадным чавканьем.
Голосили лягушки, заглушая соловьиные трели и далёкие мужские голоса. Где-то за рекой простучал в колотушку деревенский ночной дозор. Пора было бы Ульяне вернуться, но она как в воду канула.
– Уля! – Анна позвала тихо, чтобы не очень себя обнаруживать – мало ли кто ещё в этой темноте таится, – в ответ ни звука.
Уж не попала ли она в руки каким-нибудь разбойникам? Хоть и охраняется усадьба, но речку переплыть в темноте незаметно можно, и на дереве затаиться ничего не стоит. – Тревога росла, ночная прогулка представлялась теперь Анне детской глупой выходкой, неприличной дерзостью – невеста ушла из-за свадебного стола – и пропала, великая княгиня потворствовала ей, что подумают о них гостьи!
А вдруг! – Анна испугалась самой мысли, но позволила всё-таки ей завершиться: а вдруг эта нелепая прогулка – ловушка для великой княгини, и какому-нибудь ордынцу, тому же Зауру, будет лестно пленить её, назначать потом большой выкуп… Ей показалось, что кто-то уже подкрадывается сзади…
Тёплые руки закрыли ей глаза…
– А-а! – она не успела крикнуть или крикнула, но от радости, потому что сразу узнала прикосновение, уловила знакомый, любимый с детства запах душицы и чабреца, почувствовала упругую зыбь широкой груди и, легко развернувшись, приникла к ней лицом.
– Анна, Анна, – шептал князь Пронский, – я рад, я безумно рад, что мы с тобой наконец свиделись.
Она ощущала тепло его мускулистых, твёрдых, надёжных рук. Это были родные руки – отца, старшего брата, из них не хотелось высвобождаться. Не заметила, не поняла, как очутилась у него на коленях, как руки её скользнули под его рубаху, пальцы с наслаждением ощутили горячую нежную гладь его кожи, округлую выпуклость позвонков, едва касаясь их, спускались ниже. («Господи, что делаю я!») Губы припали к ложбинке над левой ключицей и слушали (да, слушали!), мощный размеренный ток его крови. Ответных действий она не воспринимала: князь перестал существовать отдельно от неё. Он был ею самой! Сколько длилось это наваждение, забытьё – минуту, час? И всё-таки, и всё-таки она очнулась и сказала трезво, с излишней, пожалуй, сухостью:
– Нет! Не сейчас, нет! – и отпрянула.
Пронзительно и свежо пахла река, вопили лягушки, какая-то разбуженная птица завозилась в ветвях осокоря: «Чекломенде! Чекломенде!»
– Нет!
– У тебя?.. – в вопросе Владимира было буднично-заботливое понимание, которое сближало их не меньше самой близости, но в то же время лишало происшедшее между ними романтической возвышенности. И понимая это, Анна всё-таки ухватилась за подсказку – ответила утвердительно. Конечно, дело было не в этом, не в желании сохранить супружескую верность, не в боязни обзавестись незаконнорождённым ребёнком – она хлебнула колдовской настойки после рождения Фёдора. В последнюю минуту Анна испугалась, испугалась потерять Владимира – знала, как разочаровывают достижения.
Забытьё забытьём, но она словно бы раздвоилась. Одна была страстная, бесстыдная, опрометчивая. Вторая – хладнокровная, даже расчётливая. Эта вторая снисходительно наблюдала за всем происходящим и успела остановить на самом краю.
– Я люблю тебя! – сказала Анна в некотором отдалении от князя, поправляя в темноте помятую и расстёгнутую одежду. – Ты вообразить не можешь, как! – Она подошла к нему, потёрлась лбом о плечо: – И цена моего отказа – любовь.
– Не печалься, – Владимир, конечно, не понял её, – «это» у меня никогда не было связанно с любовью. Я не люблю свою хворую жену. И никогда не любил. Не люблю глупых девок.
«Зачем он сейчас о девках?» – сердце сдавило от ревности, спросила обиженно:
– А меня-то ты любишь?
– Милая! – Владимир обнял её так, что она подумала с озорной радостью: «Ну, всё, пропала!» Однако он разомкнул объятие: – Не думал, что и у тебя, как у всех жёнок, сердце в ушах. – Он легонечко поцеловал её в щёку: – Идём, похолодало – лихоманку ещё подхватишь, – и накинул на плечи Анне кафтан.
Усадьба затихла. Все в ней отошли ко сну. Умолкли на пару часов, до рассвета, звонкоголосые обитатели реки и сада. Только комары звенели тонко и хищно.
– Как Ульяна догадалась, что я люблю тебя? – подивилась Анна, когда они уже споро шагали по мягкой пыли тропинки – путь к дому в обратном направлении оказался короче.
– Это я догадался, – Владимир самодовольно усмехнулся, – и велел ей устроить нам свидание.
– А где она? – спросила и поняла, как нелеп вопрос.
– Где ей быть – мужа ублажает!
Ухмылка Владимира и слово «ублажает» резанули Анну, как некогда брошенное им бродячей собаке «ничего ведь не происходит». Но она подавила неприятное воспоминание – не та была сейчас минута. Её радовали любовь Владимира и собственная неизведанная прежде пылкость и более этого – обнаружившаяся вдруг способность не потерять голову от страсти и одним коротким возгласом отрезвить опытного в любви и, разумеется, никогда не знавшего в ней отказа зрелого мужчину. «Сколько же ему лет?» – думала она, искоса поглядывая на молчавшего Владимира. Чем большая бы обнаружилась в их возрасте разница, тем сильнее бы она порадовала – приручила, приручила. Никогда она так не гордилась собой.
Остановились у крыльца покоев, отведённых рязанским гостям. Одна ночью Анна бы его не нашла. У крыльца застыла стража.
– Великий князь, поди, спит беспробудно, – сказал Владимир довольно громко, не заботясь о том, что стража услышит. – Давеча он перебрал лишнего.
В словах Владимира Анна не уловила ни насмешки, ни неприязни к её мужу – печаль ей послышалась в них – и с жалостью подумала: «Как же горестно ему сейчас…»
– Мне тяжело отпускать тебя, – прошептал Владимир, снимая с её плеча свой камзол. Стражники, будто повинуясь приказу, повернулись. – Но не в нашей власти… Приятных сновидений тебе, милая.
– Прощай, любимый, и прости меня. Я дура, жадная и бестолковая баба. Всё оставляю на потом, а потом может никогда не наступить. Прощай!
Анна почти бегом поднялась на крыльцо и в дверях оглянулась: князь, понурившись, стоял внизу. Она почувствовала, что теряет его навеки, и заплакала.
Под удивлённые и обеспокоенные взгляды своих девушек, ничего им не объясняя, быстро прошла в опочивальню. Там было ещё темнее, чем во дворе, едва теплилась лампадка. На постели, которая угадывалась по светлому пологу, шумно, сонно дышал Василий. Не удерживая слез, Анна принялась раздеваться. Потом тщетно искала ночную рубашку и полотенце – таз был, кувшин с ещё тёплой водой был, полотенце забыли положить.
– Перестань шарить в темноте – зажги свечу. И почему ты плачешь? Что у тебя произошло с Фёдором? – Василий говорил совершенно трезво и холодно-спокойно.
– С Фёдором? С каким Фёдором?
– Так князь Пронский именуется в бумагах – Владимир его домашнее, дедово имя. Так что у тебя с ним?
– Всё, всё, всё!
И тихо, ужасно тихо стало в опочивальне, будто никого в ней и не было. Василий затаил дыхание. А вдруг умер – испугалась Анна.
– Что ты молчишь? – вскрикнула она и бросилась к постели. – Ну, ударь меня, побей – только не молчи, скажи что-нибудь!
– Я очень люблю тебя, Анна.
10
«Умерла та курочка, – говорили на Руси, – что несла татарам золотые яйца», – и ошибались: курочка была жива-живёхонька и яйца продолжала нести, может, даже чаще, чем прежде, но перестали ими москвитяне делиться с ордынцами. Иван собирал Русь, присоединяя к Москве одно княжество за другим. Иван перестраивал Москву, желая придать ей пышность как единственной на свете столице православия. После неудачного нашествия Ахмата, после его позорного отступления никто из ближайших соседей не отважился противостоять великому князю Московскому. И это всё с каждым днём укрепляло в нём уверенность, что Москва – наследница Византии, а он преемник самодержавной власти византийских императоров.
Столица православия должна была, прежде всего, иметь достойный её предназначения кафедральный собор, а построить его мог только очень искусный зодчий, «муроль», как говорили тогда в Москве. Ивану хотелось, чтобы этот «муроль» был самым лучшим на земле. Софья убедила, что сыскать такого можно лишь в Италийской стороне. Много, очень много вёрст отделяло эту тёплую сторону от Московии, добираться до неё предстояло несколько месяцев, и всё же, благодаря новой великой княгине Московской, она стала москвитянам, да и рязанцам ближе иного государства Европы. Подобно древнему Шёлковому пути, открылся новый путь из Рима – в Москву. Двигались по нему искать лучшей жизни, точнее лучших заработков, купцы, лекари, ремесленники. Многие из них проходили через Переяславль Рязанский и – не задерживались, хотя великие князья Рязанские и пытались залучить умельцев. Но те признавали лишь величие Ивана, который начал именовать себя государем всея Руси и готовился переменить герб княжества, дело было только за Тверью. Великий князь Тверской, брат Марьюшки, мешкал с присоединением к Москве: дал устное согласие, а закрепить его на бумаге не спешил. Иван не торопил его, ведь Рязания тоже сохраняла пока самостоятельность – пускай тешутся ею до времени. Сам он тоже тешился – самодержавием: любил посидеть на троне, подаренном ему Палеологами, покрасоваться в «шапке Мономаха», которая якобы была вручена великому князю Киевскому Владимиру Мономаху византийским императором.
За «муролем» Иван отправил посольство во главе с боярином Симеоном Толбузиным. Конечно, тот не мог возвратиться в Москву, не найдя никого достойного, и привёз из Венеции некоего Ридольфо Фьораванти, прозванного за многие умения и ум Аристотелем. Толбузин уверял великого князя, что еле уговорил зодчего ехать в Москву и с большим трудом получил разрешение на его выезд. Злые же языки, из соотечественников зодчего, поговаривали, что тот рад был пуститься хоть на край света, так как скрывался от гнева папы Римского. В Риме подозревали, что появившиеся было на потеху людям фальшивые монеты со смешным и заведомо искажённым изображением папы чеканил Фьораванти. Его посадили в тюрьму, лишили должности. Хотя вина зодчего так и не была доказана и его выпустили, подозрение осталось, и благочестивые католики даже в Венеции опасались иметь с ним дело. Так что приглашение великого государя Руси спасло Ридольфо Фьораванти от нищеты. Великий же князь Московский положил иноземному зодчему жалованье огромное.
Иван не прогадал: Фьораванти построил за четыре года собор, о котором летописец сделал на всякий случай, вдруг прекрасное строение не дойдёт до потомков, запись: «…была та церковь чудна вельми величеством и высотою и светлостью, и звонкостью, и пространством, такой же прежде не было на Руси опрочь Володимирской».
Прежде чем приниматься за постройку, Фьораванти осмотрел храмы в Ростове, Ярославле и Владимире. Владимирский храм произвёл на него большое впечатление, и его зодчий взял для новой постройки за основу. Однако переосмыслил его образ, наполнил иным содержанием: Успенский собор в Москве должен был восприниматься уже не как первопрестольный храм одного, пусть и могучего княжества, а всей православной Руси.
Требовательные московские правители, Иван и Софья, были весьма довольны Фьораванти: он и впрямь оказался Аристотелем – выказал себя искусным литейщиком, знатоком военного дела. Отливал пушки, ядра, не раз сопровождал Ивана в его походах. Софья писала о нём Анне, звала её посмотреть Успенский собор, постройка которого была закончена за год до нашествия Ахмата. Теперь прославленный иконописец Дионисий «со товарищами» украшал собор настенной росписью. Предпочтение на сей раз было отдано русским искусникам – иноземцы не справились бы с этой работой.
Анне хотелось посмотреть, как пишет Дионисий, что-нибудь заказать для себя, но она опасалась, что поездка в Москву принесёт ей огорчения больше, чем радости, откладывала её с месяца на месяц, потом счёт и на года пошёл – легче слышать о чужом богатстве, чем видеть его.
Василий ехать не собирался. После поражения Ахмата отношения у него с Иваном ещё больше разладились. Рязанское княжество не освободилось от ордынской зависимости, поскольку не участвовало в противостоянии на Угре, а прежде у Ахмата не было причин карать рязанцев – они исправно платили дань. Конечно, великий князь Рязанский мог не признать преемников Ахматовых – и навлечь на себя грозу. В этом случае оставалось надеяться только на Ивана – поможет, но и приберёт к рукам. Личная же встреча с ним в Москве за семейным столом неминуемо бы привела к «родственному» разговору о воссоединении, которого Василий не желал: с пелёнок не терпел никому подчиняться – озноб пробирал его, когда представлял себя под началом у Ивана. И лукавить не умел, как лукавил брат Марьюшки Михаил Тверской. Но тому ничего другого не оставалось – самостоятельность его была ещё менее надёжна, чем у Василия: Тверское княжество после многочисленных походов Ивана оказалось в кольце Московского, и всего восемьдесят вёрст отделяли его от Москвы. И всё-таки наивный Михаил надеялся остаться великим князем, вёл переговоры с королём Казимиром о поддержке и вознамерился даже жениться на его внучке. А у Казимира рука помощи коротка: Ахмату не помог, Михаилу едва ли поможет, до Рязани уж точно – не дотянется.
Не поехали.
Не поехали, когда в год окончания строительства собора Софья родила, наконец, долгожданного сына. Трёх дочерей они уже с Иваном имели, но оба мечтали о наследнике, хотя мечтать о нём Ивану вроде бы и негоже было при живом, здоровом, входящем в силу старшем сыне и соправителе. Однако не только печалились и надеялись, но и меры всякие принимали, чтобы непременно родился мальчик.
Софья написала Анне, что пешком ходила в Троицкую обитель к мощам святого Сергия Радонежского, покровителя московских князей. Ходила не напрасно – явился ей там сам святой с благообразным младенцем на руках и, приблизившись к ней, вверг ребёнка в её недра. Родившегося через девять месяцев мальчика назвали Василий-Гавриил. Преемственность имён в Рязанском и Московском княжеских домах продолжалась, но теперь она скорее была случайной, чем преднамеренной.
Не поехали, когда получили горестную весть о внезапной кончине в Москве Андрея Меньшого. Да и скорбели недолго, как скорбят о человеке просто знакомом – ни Василий, ни Анна не водили с ним дружбы. Он к ним тоже относился равнодушно и в завещании своём даже сестру не упомянул. Он умер холостым, оставив удел свой Ивану, кое-какие волости Борису и Андрею Большому, сорок деревень Троицкому монастырю, драгоценности – братичам, то есть сыновьям Ивана.
– Заметила ли ты, – спросил Василий Анну, – что все внезапные смерти наших московских родственников случаются в отсутствие Ивана, словно тщится он отвести от себя подозрение в причастности к ним? Да и умирают все похоже и завещания составляют в пользу любимого старшего брата…
– Что ты хочешь сказать?
– А то, что все эти непреднамеренные роковые кончины укрепляют его власть. Следующим буду я.
– Глупости – это совпадения! Я не допущу! Ты не умрёшь!
– Сколько там ещё у тебя вышитых крестов осталось?
– Каких крестов? А… Но ты же не веришь в это! Я тоже! Нет, нет! Я люблю тебя…
Анне было неловко раз за разом отказываться от приглашений, скучала по матери, понимала, что мать обижается на неё. Но ведь и они с Василием тоже обижались на родственников за их высокомерие: их приглашения очень смахивали на былые приглашения ордынского хана и его жён – приезжайте выказать нам свое почтение. Ни Иван, ни Софья за десять лет своего супружества Рязанию так и не посетили.
Было ещё приглашение из Москвы: Фёдор Курицын звал Василия проститься. Иван отправлял его к венгерскому королю Матфею Корвину для возобновления связи между двумя народами, которая была прервана чуть ли не на два века. Курицын не имел возможности приехать в Переяславль и сознавал, что Василий не сможет приехать в Москву, и предлагал встретиться на пути в Венгрию в любом удобном для Василия месте. Анна предостерегала Василия от поездки: узнает Иван о странной встрече – не сносить Курицыну головы. Подозрительный и осторожный, Иван истолкует дружбу своего дьяка с великим князем Рязанским как предательство и в бескорыстность их встречи на дороге не поверит ни за что.
Василий согласился с ней – и поехал. Успели место назначить, успели свидеться, поговорить недолго. Никаких посольских тайн Курицын не открыл, Василий и сам догадался, что Иван ищет поддержки у короля венгерского против короля польского. Поговорили о предстоящем путешествии, о его опасности, о возможных весёлых приключениях и прекрасных иноземках.
– Ничего не было сказано ни доверительного, ни сердечного, – признался Василий жене после поездки, – а ведь это была наша последняя встреча…
Анна порадовалась про себя, что встреча последняя – наконец-то прервалась опасная дружба, и полюбопытствовала, не взял ли с собой Фёдор сказительницу: ходили слухи, что она прижилась у дьяка.
– Нет, – ответил Василий рассеянно, – в посольском обозе не было женщин.
Анна усмехнулась – Пичуге ничего не стоило обрядиться парнем.
Семейная жизнь Анны становилась спокойнее.
11
Великий князь Рязанский Василий Иванович скончался внезапно в год своего тридцатипятилетия. Умер в Успенском соборе во время обедни. Опустился с молитвою на колени и вдруг рухнул ниц, растянулся на стылых каменных плитах.
Анна не сразу увидела – была в левом приделе перед иконою своей святой. Протискалась к мужу через сгрудившуюся вокруг него толпу. Те, что оказались ближе к нему, расступились, и кто-то сказал негромко:
– Отошёл.
Суетился причт, толком не зная, что делать. Сновали со свечами и иконами монахини, священник начинал отходную. Никто не пытался привести князя в чувство. Собрались, столпились лицезреть княжескую кончину. На лицах одних было любопытство – такое негаданное событие. Другие, их было больше, восприняли случившееся с благоговением как чудо Господне:
– Благодать снизошла, благодать!
– Отметил Господь!
– В храмах угодники помирают…
– Так ведь грешил покойный, – произнёс кто-то с сомнением.
«Покойный» – это слово вывело Анну из оцепенения:
– Не покойный! Ноги ещё не успели захолонуть, а уж судачат о его праведности, – она ринулась к мужу, рванула застежку однорядки, разодрала нательную рубаху. Сердце ещё слабо билось…
– За Еввулой скорей!
– Нет её в городе!
– Есть, есть – намедни прибыла.
А та уже мчалась от Глебовских ворот к храму, простоволосая, босая, оставляя на январском снегу маленькие, но глубокие, до прошлогодней травы, следы-проталины.
– Из храма выносите! Выносите! – кричала она на бегу.
Ей повиновались – быстро вынесли князя на паперть, уложили на шубы.
Еввула наклонилась над ним, шумно задышала ему в рот, принялась с силой сводить и разводить ему руки. За её странными действиями следили с надеждой – не впервой помогала. Но она медленно поднялась, одёрнула рубаху, отёрла косой вспотевший лоб и – двинулась прочь. Анна, помедлив, бросилась следом, ухватила её за рукав.
– Поздно, княгиня, поздно! – Еввула отмахнулась равнодушно и небрежно и вдруг свистнула – сорвались с колокольни галки, загалдели, захлопали крыльями.
– Еввулушка, милая, ну попробуй ещё! Ты можешь! – Анна бухнулась на колени прямо в снежный намёт. – Оживи, хотя бы как Евсея…
– Как Евсея, князя нельзя.
Толпа охнула, приблизилась к ним: значит, всё-таки Еввула полгода назад чуть не сделала из борковского старосты вурдалака. Два дня после своих похорон расхаживал он по селу и городским слободам, пугая людей, потом исчез. Выходит, зря выпороли пастушат, которые доложили борковскому батюшке, что Еввула, по просьбе старостихи, открывала гроб. Батюшка убедил прихожан, что Евсей им только мнится, и корил их, что распустили слух и по городу.
Ни Еввула, ни Анна не уловили враждебности во всё увеличивающемся людском окружении, не замечали его и беспрепятственно оказались опять подле князя.
– Господин мой, ясный сокол мой, – заговорила Еввула нежно и певуче, – не могу я взять греха на душу. Слышишь – не могу. Два денёчка всего походишь по земле. Что за них успеешь? А ценой тому будет чья-то жизнь. Разве ты хочешь этого? Да и кто платить будет!
– Я! – всхлипнула Анна. – Мне нужны эти два дня. Я не успела… Я не сказала…
– Матушка, опомнись! – княжич Иван обнял Анну за плечи. – Не убивайся так. Мы же с тобой. О нас подумай.
– Никто из вас мне его не заменит! – отрезала Анна и, ни к кому не обращаясь, приказала: – Несите в терем.
Больше она не сделала никаких распоряжений и быстро направилась к себе. Иван остался у храма и принимал соболезнования приехавшего из владычной слободы епископа. Никому больше не было дела до Еввулы. Простоволосая, босая, в одной рубашке, она поплелась в Глебовскую башню. Снег под её ступнями больше не таял.
Великого князя Рязанского Василия Ивановича похоронили 8 января, на следующий день после кончины, в Успенском соборе Переяславля, за правым столбом близ епископского места. Там уже находились две великокняжеские гробницы, его деда Фёдора Ольговича и отца Ивана Фёдоровича, прах прадеда, знаменитого князя Олега покоился в Солотчинском монастыре.
После тризны пришлось выслушать Анне епископское порицание. Владыка Симеон пенял ей за то, что она устроила перед храмом неприличное якобы, греховное действо. Так и сказал «греховное действо». Анна не согласилась и напомнила епископу о воскрешении Лазаря. И не успел он возразить, уже сама поняла, что пример неудачный: Господь было призвал к себе Лазаря, однако сам же, через сына своего Христа, и вернул его к жизни. Спешно стала искать в памяти имя святого, чья святость воскрешала умерших, но ни одно имя не приходило на ум.
– Еввула – не святая, – сказал епископ. – Жизнь и смерть в руках Господа. Девица же, неразумная, дерзнула восстать против власти Всевышнего и в который уже раз совершила тяжкий грех. Пришло время разобраться, не по воле ли дьявола исполняются чудеса. Добро бы хворых исцеляла, а то и за усопших принялась. И до чего додумалась, стараясь обелить себя, говорит – живых хороним, рано земле предаём. А люди между тем про неё доносят – по воде, будто по суху, ходит, в проруби на Крещение уткой плавала.
– Про утку, полагаю, посадские бабы придумали от скуки, владыка, – Анна старалась казаться спокойной. – Что до ходьбы по воде, то ведь и владыка Василий не вплавь по Оке передвигался. И только из-за этого его признали святым.
Епископ не стал пререкаться, благословил Анну и отправился к себе.
Он объявил княгине войну, и развязана война была не действиями Анны, не чудесами Еввулы, которые прежде Симеон приветствовал, – он сделал выбор между княгиней, чужачкой, и входящим в силу наследником рязанского стола, между женским и мужским началом. Анна поняла это.
Она готова была к тому, что кто-то (не сын!) начнёт оспаривать её право на власть. Епископ оказался первым. Но он не мог быть единственным, думала она, будут ещё: кто-то не успел опустить забрало, кто-то точит меч, а есть и такие, что предпочитают остаться в засаде, нападать исподтишка. Ей придётся бороться, каких бы усилий и жертв это не стоило. Она так долго мечтала о полной, единоличной власти, что упустить её не имеет права.
Сознание того, что она теперь хозяйка в княжестве, смягчило горечь утраты. От храма едва добрела до постели, проплакала всю ночь, искренне хотела себе смерти, не представляла, как будет жить без Василия. То, что его нет рядом, привычно, вполне переносимо: уехал куда-то, но то, что не вернётся никогда, вообразить нельзя. Однако под утро пришло озарение: для неё начинается новая жизнь, как для куколки, которая превращается в бабочку. Да, да! Она была прожорливым детёнышем, гусеницей ненасытной, в Переяславле сделалась дремлющей, ожидающей своего часа куколкой, теперь стала бабочкой. «Страдания и боль во время превращений неминуемы», – то ли подумала сама, то ли услышала полузабытый «голос» Нишкенде-тейтерь. Выходило, что утраты и потеря близких были необходимы, чтобы обрести крылья.
На похоронах она предусмотрительно сложила их и дала волю слезам. И сквозь слёзы заметила всё-таки, что плачут многие, и ревниво подумала, будут ли так горевать подданные, когда им придётся хоронить великую княгиню Рязанскую.
12
После разговора с епископом Анне стало не до слёз, не до скорби, не до вдовьих приличий – необходимо было действовать немедленно и решительно. Откровенное выступление всегда осторожного Симеона открыло ей глаза: нет у неё права на власть, остался один только титул, и тот придётся делить с невесткой, как только Иван женится. И этого права её лишало завещание покойного. Она не предполагала, что Василий его предусмотрительно составил. Она не предполагала, а Симеон о нём знал. Возможно, и посоветовал его сделать. По завещанию, старшему сыну вместе с титулом великого князя достались города: Переяславль, Ростиславль и Пронск (при живом-то князе Пронском!), младшему – Перевитск и Старая Рязань, за вдовою оставались купленные на её же деньги дворы в городе, кое-какие сёла и угодья и четверть доходов от уделов сыновей. Анне можно было безбедно существовать. Но не властвовать!
Узнав о завещании и даже прочитав его, она не обнаружила сначала в нём для себя угрозы: не рассчитывала, что князь открыто передаст ей правление – не принято было передавать власть вдовам, и, тем не менее, они правили и при совершеннолетних сыновьях. Примером тому были и Софья Витовтовна и Мария Ярославна. Она не знала, что отец её и дед назначали своих вдов сопровительницами малолетних сыновей до их совершеннолетия. Епископ поведал ей об этом и посокрушался, что Василий не сделал важного распоряжения, а потом добавил скорбно, оправдывая его:
– Завещание составлено недавно, видимо, великий князь надеялся дожить до совершеннолетия сына. Месяца три до него осталось?
– Да, да, – подтвердила Анна, – три месяца и неделя, – всё ещё не понимая, как шатко, как уязвимо её положение. Разговор с епископом состоялся до похорон. Тогда Анна не сомневалась в его доброжелательности, теперь же, после трапезы, видела в нём врага. И виною тому суженый, думала она, как всегда в минуты душевного смятения, шагая по светлице от дверей к окну. У окна ей лучше думалось, но это в тёплую пору, сейчас через разновеликие и всё-таки малые стёклышки, покрытые корочкой наледи, ничего не было видно, да и не было ничего там, кроме снегов. Снега, снега, снега.
Обида на мужа вытесняла остатки скорби. Выходило, не простил он жене несостоявшейся измены. Хотя почему несостоявшейся? – для Василия приход жены под утро был изменой и без её признания. Он простил сгоряча или на словах, а потом помышлял отомстить. Отомстил!
С досадой, вспомнив свою измену, Анна представила князя Пронского, но образ его мелькнул с той же равнодушной поспешностью, что и неясный вид вяза, дуба или иного какого-то дерева, росшего на берегу речушки, название которой забылось. «Разлюбила», – пришло и тут же отправилось следом за князем и дубом объяснение, не доставив Анне ни радости, ни огорчения.
Клубились, путались, распирали голову мысли о том, что ей осталось всего три месяца, чтобы упрочить своё положение, чтобы убедить любимое дитя, что оно не готово править княжеством, а может, и вовсе не способно, убедить в этом его сторонников и сплотить своих. Последние, конечно, были: тот же конюший Фёдор, дьяк Язвец, игумен Солотчинского монастыря и ещё разные люди. Но после выступления епископа Анна усомнилась в их преданности, не знала, как её проверить, и тут подумала о Еввуле. Она могла посоветовать что-нибудь – недаром же звалась Еввула, благосоветная – или посмотреть в волшебную бусинку. Еввула не была на похоронах и поминках. Она часто нарушала обычаи, и, привыкшая к этому, Анна не стала беспокоиться. Упрёк, угроза епископа заставили заволноваться. Кремль хорошо охранялся, Глебовская башня была под особым присмотром, и всё же нельзя было исключить опасность – угрожал ведь не тать какой-нибудь.
Воображение нарисовало Анне так ярко картину нового несчастья, что она немедля сама поспешила к башне. За ней следовали девушка и рында. Анна подумала, что на сей раз сопровождение слабовато, но не кликнула стражу.
Еввула действительно лежала на полу у постели, босая, раскинув руки и обратив лицо вверх, как лежат летней порой на лугу. На ней была та же рубаха, в какой она прибегала к храму. При появлении Анны она не вздрогнула, не пошевелилась, а та на мгновение застыла у дверей. Девушка за её спиной слабо вскрикнула:
– Убита!
– Я жива-живёхонька, – произнесла Еввула, однако едва слышно. – Проходи, Анна, а стражей своих отправь на лестницу – мне поговорить с тобой надо с глазу на глаз.
– Мне тоже! – Анна махнула провожатым. Они вышли, плотно закрыв за собой дверь. «Радёхоньки небось», – подумала Анна, подозревая давно, что этих двоих связывает не только служба.
– Ложись рядом, – предложила Еввула, словно и в самом деле распласталась на разнотравье.
– Ложись? Тут и сидеть-то долго нельзя, – возразила Анна, но всё-таки присела на голый холодный пол. Все кремлёвские помещения настыли за время похорон – печи не топились до выноса, а эта каморка в башне едва ли отапливалась вообще.
– Идём ко мне, тут ты до костей продрогнешь. – Анна взяла Еввулу за руку. – И так в ледышку превратилась. На постель ложись. Давай помогу.
– Пустое! Я повиниться перед тобой должна, Анна.
– О чём ты говоришь! Какая вина! Это я согрешила, когда просила оживить его. Епископ…
– Я сосестрой твоей пыталась стать, Анна. Да, как Ледра! Ночами под окнами ложницы простаивала, когда тебя там не было. Стражу подкупала. В трубу к нему лазила. Но не нужна ему была моя любовь…
– Он любил тебя очень, как сестру.
– А я из-за любви к нему тебя полюбила. Гибели его страшилась больше собственной смерти. А вот не хватило сил за ним последовать и, чтобы жить, их не осталось. – Еввула замолчала, потом вдруг приподнялась, обняла Анну за шею и заголосила по-бабьи: – Ох, да как же мы жить без него будем? Как жить?
– Помоги мне, голубка, – попросила Анна, целуя её мокрые холодные щёки. – Сейчас я просто не знаю, с чего начать. Но мы с тобой выдюжим, обязательно выдюжим.
Еввула разомкнула руки, отстранилась и, глядя Анне в глаза, сказала холодно, повелительно:
– Оставь мысли о правлении. Нишкенде-тейтерь даёт тебе последнюю, слышишь, самую последнюю возможность исправить судьбу. Ты совсем запуталась в мелких, суетных желаниях и забыла о своём предназначении. Будешь противиться судьбе, долго не проживёшь, а ведь ты жизнелюбка, Анна. Да и счастья тебе власть не принесёт. – Еввула вертела в руках волшебную бусинку.
– Э, ты хватила! – Анна поднялась, пересела на скамейку, Еввула осталась сидеть на полу. – Языческая богиня наставляет меня писать иконы? Этого не должно быть! А коли есть, значит… Так вот почему мои образа не имеют силы! Вот почему моя икона не помогла Юрию!
– Она не дошла до Юрия. – Бусинка сверкнула нестерпимо ярким огнём, рассеяла полумрак каморки. – Вскоре икона объявится в заречном селе и станет Чудотворной, а ты не решишься признаться, что написала её.
– Такова судьба всех иконников, – усмехнулась Анна, – потомки не узнают их имён. Летописцы замечают только правителей.
– Я не буду помогать тебе, Анна. Не только оттого, что не хочу, чтобы ты окончательно загубила свой талант, ещё и потому, что служу Нишкенде-тейтерь и не нарушу клятвы, данной ей.
– Что ж, тогда остаётся одно – Москва!
– Одумайся – Москва погубила Василия!
– Меня не погубит! – Анна встала и направилась к дверям, Еввула тоже поднялась.
– Посмотри, какую участь ты готовишь своему потомку, упорствуя.
Еввула протянула бусинку. Бусинка оказалась очень горячей и слепила. «Её невозможно поднести к глазу», – хотела сказать Анна, но вдруг увидела перед собою большое помещение непривычной постройки: высокий потолок, высокие окна, в их рамах огромные стёкла, которые можно было бы принять за отсутствие их, если бы они были тщательно вымыты. Прекрасное помещение, однако в нём обитала нищета. Нищета! – облупившаяся краска на потолке и стенах, чёрный, будто нарочно покрытый грязью, пол, кособокие столы и скамьи, неряшливые дети, тесно сидящие друг подле друга. Анна не могла понять, бедно ли они одеты: никогда прежде не видела подобной одежды. «Который же из них мой потомок?» – «Он у доски!»
На короткой стороне стены висело нечто, похожее на вышитую пелену, всё в зелёных и коричневых разводах, в голубых прожилках. Возможно, за этим и скрывалась какая-то доска, но её Анна не увидела. Невысокий щуплый мужчина в поношенной одежде и стоптанных сапогах водил по голубым прожилкам тонкой длинной палочкой. Дети рассеянно следили за её перемещениями. Внезапно, как на крик, он повернулся и встретился с Анной взглядом. Суженый! Таким бы Василий стал лет в пятьдесят, если бы сбрил бороду и оставил усы.
– Леонид Бельский лишится службы за сокрытие своей родословной. Умрёт в большой нужде и забвении, – сказала Еввула.
– А как изменилась бы его судьба, откажись я от власти?
– Он стал бы известным живописцем, прославленным на века.
– И только-то! Овчинка выделки не стоит!
– Но он обрёл бы духовную власть над людьми…
– Помышлять о духовной власти грешно! – Анна хлопнула дверью. Но тут же открыла её и предложила ласково: – Не будем ссориться! Идём ко мне, Вуля, тут тебе оставаться опасно.
– На рассвете я покину Кремль, – сухо отозвалась Еввула и даже не повернулась к Анне, – так что не о чем тебе беспокоиться.
Однако Анна, хоть и обиделась, всё-таки приказала усилить охрану Глебовской башни, а потом не могла допроситься у стражников, когда же и как Еввула оставила город. Несли они все какую-то нелепицу – будто галкой она из бойницы вылетела, и кружили в это время над кремлём чёрные птицы-вороны.
Только летом, по замышлению Анны, между Рязанским и Московским княжеством наконец был заключён новый договор о дружбе и взаимопомощи. Договорную грамоту привёз из Москвы князь Пронский и передал Анне. Она сразу же, при нём, стала её читать с большим вниманием, хотя знала уже, что грамота в Москве на сей раз не претерпела никаких изменений. Всё было улажено и, если смотреть правде в глаза, не в пользу рязанцев. Великий князь Рязанский Иван Васильевич обязывался считать великих князей Московских Ивана III и его сына Ивана Молодого старшими братьями, всегда быть заодно с Москвой, не вступать в литовское подданство и не сноситься с князем Литовским, не принимать к себе на службу мещёрских князей, отыскивать их, беглых, и передавать москвитянам. Договор сокращал и пределы Рязанского княжества. И со всем этим Анна примирилась, поскольку брат Иван со своей стороны обязывался обеспечить безопасность Рязании от врагов внешних, а Рязанскому княжескому дому, то есть в первую очередь своей сестре, – от врагов внутренних. Кроме того, надеялась Анна, что, заручившись скреплённой печатью, поддержкой Ивана, она всё-таки сумеет на деле обойти его и сохранить княжеству былую самостоятельность, недаром же он прозвал её Лисонькой, да и на помощь матери рассчитывала, не допустит она, чтобы дочь единственная подчинялась невестке, даже царского рода.
Договор требовал от Анны новых немалых хлопот, но она рада была хоть тотчас же приняться за них – утёрла нос местным недругам, доказала, как глупо, как смешно им уповать на самостоятельность и зрелую волю шестнадцатилетнего парнишки. «А сын – молодец, – думала, – не тщится сам править, сказал намедни: “Я за тобой, матынька, что за каменной стеной”, – и в грамотах пишет неизменно “яз…и мати наша”».
Анна свернула грамоту и удовлетворённо улыбнулась, не сомневаясь, что сын подпишет её.
– Мой батюшка покойный, – продолжая улыбаться, теперь уже князю, заговорила она, – обычно награждал послов, принёсших добрую весть. Я намерена ввести в нашем княжестве этот порядок и начну с тебя…
– Анна! – перебил князь Пронский и вдруг неловко, грузно припал на колено, сохраняя, однако, почтительное, в пять шагов, расстояние до великой княгини. Она удивлённо подняла брови, хотя отлично поняла, что последует дальше, и осталась сидеть за столом.
– Голубушка моя! – пылко продолжал князь Пронский. – Ты же знаешь, что наградой мне может быть только любовь твоя. Ты ведь сказывала, да? Сказывала, что любишь меня? Я до сих пор не получил доказательство тому. Я понимаю – ты не могла… траур, но ведь прошло уже полгода, и потом ты… Или это были только слова?
– Оставайся…
– Что?
– Оставайся!
– На сколько? – спросил князь деловито и резво поднялся. – Мне необходимо сообразно сроку сделать своим людям кое-какие распоряжения. – Он попятился к дверям.
– Навсегда, князь, навсегда! – весело пояснила Анна и тоже поднялась, однако из-за стола не вышла, опёрлась ладонями о столешницу, высокая, статная, пополневшая за время вдовства, красивая – теперь, в свои тридцать два года, точь в точь такая, какой увидели её много лет назад, изобразили иконники. – Мы же теперь оба свободны, Владимир.
– Свободны? – пролепетал князь. – Ах, Анна, Анна! – Он сделал шаг назад. – Если бы всё это случилось раньше… У нас взрослые дети. У меня – внуки. Они не поймут. Да и одно дело – подчиняться твоему сыну, будучи удельным князем, лицом посторонним, другое – отчимом.
На Владимира жалко было смотреть, он как-то сразу постарел, осунулся, словно не только перенёс длинную дорогу, но ещё изнурительную болезнь.
– Не мучайся, князь! – Анна вышла из-за стола. – Я пошутила. Нам нельзя быть вместе. Я беременна. – Она провела рукой по заметно округлившемуся животу. – Ступай с богом – нас ждут дела, куда более важные, чем любовь…
Князь Пронский низко-низко поклонился и поспешно вышел.
Анна опустилась на пол. И этого слабого, старого человека она любила? Да! Любила! Видела в нём опору, защиту от всяческих бед, искреннего, мудрого советника. Раз за разом посылала с договором в Москву как самого преданного ей, особо близкого человека. Впрочем, никто лучше него и не выполнил бы этого поручения. Ему, единственному из рязанских вельмож, была безразлична судьба княжества – утратив свою самостоятельность, какой корысти ради стал бы он печься о независимости рязанцев? Какое счастье, что она разлюбила его не теперь – гораздо раньше, а «навсегда» произнесла, чтобы остаться верной своим словам, не платить немедленно долга и не опускаться до объяснений, и ещё, чтобы испытать князя…
Но, если бы он согласился остаться, она бы не стала хитрить и приняла его в любом качестве… Да! Не потащила бы под венец, нашла, нашла бы способы заткнуть рты осуждающим. А Владимир не понял этого, оттого что никогда не любил её и даже не желал. Да! То есть желал не плотью, а разумом, чтобы отомстить Василию, надругаться над ним…
Мысль о действительном равнодушии к ней князя Пронского пришла к Анне впервые, и безболезненно перенести её она, конечно, не могла. «Все мужчины такие, – пыталась она утешить себя, избавиться от той странной мучительной силы, что вдруг отяжелила её тело и удерживала на полу. – Для мужчин любовь – пустой звук. Они готовы удовлетворять плотские желания с кем попало, как петухи, и говорят о любви несговорчивым бабёнкам, равнодушным к тугим кошелькам, чтобы обольстить их».
«Отказом князя Пронского и своим поруганным досто- инством ты заплатила за безответную любовь к тебе Василия», – услышала она Нишкенде-тейтерь.
«Неправда! – Анна не ожидала, что может вскочить с былой лёгкостью. – Я любила его! И доколь языческая богиня будет вмешиваться в жизнь православной княгини?» И тут же одёрнула себя: наваждение, нет никакой богини – это её, Анны, думы, это она сама постоянно противоречит себе в мыслях и поступках и не хочет признать, что при жизни Василия не оценила его любви, не дорожила им. Вот за это и понесёт наказание куда большее, чем пренебрежение князя Пронского – после рождения дочери её женская жизнь кончится…
Анна не сомневалась, что родит девочку. А повивальные бабки упорно прочили ей мальчика и не кривили душой – знали, что княгиня мечтает о дочери, что выбрала загодя ей имя. «Великий князь хотел назвать дочь Анной», – говорила она и, не таясь, прилюдно, сокрушалась, что не успела поведать ему о своей беременности – радостная весть, глядишь, и прибавила бы ему лет.
Теперь она подумала, что одного имени дочери для памяти о Василии мало, надо возвести храм, один, другой, третий, и в каждый собственноручно вышить пелену.
«В память о любви и предательстве», – ехидно заметил голос, от которого Анна пыталась избавиться. И не успела она возразить, как увидела эту пелену. Пелена уже являлась Анне в одном из снов-бодрствований – полотнище в полтора на два с лишним аршина, состоящее из средника и широкой каймы. Но тогда пелена лежала на каких-то захламлённых столах, сейчас же словно висела в воздухе, представ во всех подробностях.
Опасаясь, что видение быстро исчезнет, Анна не стала отвлекаться на кайму и пристально рассматривала средник. Евхаристия. Тайная вечеря. Христос и двенадцать апостолов, Христос вышит дважды, в зеркальном изображении. Тянущиеся к нему за причастием апостолы равно распределены по сторонам. С удивлением Анна признала в облике апостолов, слева, своих ближайших родственников: Ивана, отца, мать, в её любимом алом сарафане, братьев Бориса и двух Андреев. На правой стороне средника, благоговейно склонившись подобно Иуде, лобзал подающую хлеб десницу Христа… князь Пронский, за ним смиренно ждали причастия постельничий, сокольничий и чашник, подданные Василия, коим он особенно доверял, а также Еввула в неизменной серой рубахе и обернувшаяся к ней она сама, Анна, в наброшенном на плечи бордовом иматионе. Одежды на апостолах нельзя было признать истинно библейскими. И только непокрытые головы и причёски тех, в ком Анна увидела мать, Еввулу и себя, давали понять зрителям, что изображены не женщины, а безбородые и безусые юные апостолы Иоанн, Варфоломей и Филипп.
Уловка изографа, усмехнулась Анна, попытка следовать канонам, придавая библейскому событию новый смысл. Однако почему новый? Тайная на все времена вечеря – пример любви и предательства, предупреждение, что постоянно соседствуют они. И на пелене под видом апостолов те, кто любил или только уверял Василия, что любит его, и вольно или невольно предавал…
Не дожидаясь, пока исчезнет видение, Анна крикнула:
– Бумагу мне и карандаши фряжские!
Послесловие
Великая княгиня Рязанская Анна скончалась в апреле 1501 года, в пятьдесят лет, то есть ещё нестарой женщиной, по нынешним меркам. И тем не менее она пережила своих сыновей. Ей довелось попестовать[49] внука (от старшего сына), порадоваться наследнику Рязанского престола, забыв, что ему уготована горестная участь последнего великого князя Рязанского. Унаследовав мятежный нрав своего пращура князя Олега и независимый характер бабки Анны, он не желал подчиняться великому князю Московскому, своему двоюродному дяде Василию III, и яростно отстаивал независимость своего княжества, но потерпел поражение и вынужден был бежать в Литву. Там, на чужбине, и умер беженцем.
Анна тоже не хотела мириться с властью Москвы, но действовала осторожно и хитро. Многие историки полагали и полагают, что именно Анна, а не её старший сын Иван, правила княжеством после смерти Василия и была правительницей очень авторитетной, сильной, дипломатичной.
Видный историк конца позапрошлого, начала прошлого века Д.И. Иловайский в «Истории Рязанского княжества» пишет: «Одна из главных ролей в Рязанской истории второй половины ХV века, бесспорно, приходится на долю княгини Анны Васильевны, пользуясь расположением к себе брата, она имела большое влияние на его дружеские отношения к рязанцам. <…> С именем княгини Анны связаны воспоминания о мире и тишине, господствовавших на Рязани в продолжение 37 лет, которые провела в этом краю любимая сестра Ивана III».
В пространной статье о княгине Анне из Русского биографического словаря, 1900 года издания, говорится, что она, официально признав договорные границы Рязанского княжества, втайне от Москвы присоединила к нему спорные земли, заселила их казаками, одаривала этими землями «наиболее деятельных бояр своих», а переселявшихся на «Рязанские украйны» освобождала на длительный срок от налогов. Приглашала якобы Анна остаться в Переяславле учёных и ремесленников, которые в поисках лучшей жизни, точнее высоких заработков, направлялись из Европы и Византии в Москву. Многие соглашались на её условия. Во время её правления в княжестве были построены храмы, открыты богадельни, развивались иконопись, разного рода прикладные искусства и ремёсла.
Так, наверное, и было, но документов или памятников старины, подтверждающих эти сведения, сохранилось очень мало. Известны кое-какие жалованные грамоты Анны да несколько летописных записей о ней. Записи скорее касаются её семейной жизни, нежели государственной деятельности. Среди чудом уцелевшего – шедевр древнерусского искусства, великолепная соборная пелена «Евхаристия». Средник её обрамлён замысловатым узором надписи, сообщающей, что шита пелена в 1485–1487 годах «замышлением благородныя и благоверныя и христолюбивыя великия княгини Анны…».
Примечания
1
Восет – в недалёком прошлом.
(обратно)2
Ложница – спальня.
(обратно)3
Рясная – крупная, яркая, обильная.
(обратно)4
Благостить – кричать благим матом.
(обратно)5
Собиный – милый, дорогой.
(обратно)6
Уросить – упрямиться, упираться, капризничать.
(обратно)7
Братич – сын брата.
(обратно)8
Махоточка – маленькая миска
(обратно)9
Оберемок – охапка.
(обратно)10
Шушпан – верхняя одежда.
(обратно)11
Изурочить – сглазить, навести порчу.
(обратно)12
Позастить – заслонить, загородить свет, лишить временно зрения.
(обратно)13
Аксамит – бархат.
(обратно)14
Алтабас – персидская парча.
(обратно)15
Балты – народ, живущий на побережье Балтийского моря.
(обратно)16
Святотатка – богохульница.
(обратно)17
Узвар – компот.
(обратно)18
Сурожский – шёлковый.
(обратно)19
Смердящий – вонючий.
(обратно)20
Шурпа – бульон, в данном случае жидкая часть похлёбки.
(обратно)21
Стасидия – место в храме, предназначенное для сидения.
(обратно)22
Одигитрия – одно из изображений Богоматери.
(обратно)23
Челядь – работники по двору.
(обратно)24
Насельницы – жительницы.
(обратно)25
Муровать – строить из камня.
(обратно)26
Ряднинка – грубый холст, идущий на мешки.
(обратно)27
Тафта – шёлковая ткань.
(обратно)28
Куржавиться – индеветь или создавать морозные блёстки в воздухе.
(обратно)29
Крайчий – придворный чин, в обязанности которого входило прислуживать за трапезой.
(обратно)30
Хитник – вор.
(обратно)31
Бортни – колоды для пчёл.
(обратно)32
Тиун – управитель.
(обратно)33
Челядник – работник по двору.
(обратно)34
Тмутаракань – древнерусский город на Таманском полуострове.
(обратно)35
Плинфа – кирпич.
(обратно)36
Алкать – жаждать.
(обратно)37
Снеданок – еда, трапеза.
(обратно)38
Челиг – молодая охотничья птица.
(обратно)39
Вертоградарь – садовник.
(обратно)40
Поснедать – поесть.
(обратно)41
Калита – сумка, кошелёк.
(обратно)42
Соглядатайка – надсмотрщица, надзирательница, наблюдательница.
(обратно)43
Перевить – тип вышивки.
(обратно)44
Поконаться – потягаться, померяться силою.
(обратно)45
Кентарь – мера веса, около 40 кг.
(обратно)46
Полуница – клубника.
(обратно)47
Сестреница – дочь сестры, или двоюродная сестра.
(обратно)48
Шербет – восточный фруктовый напиток или сладкое кушанье.
(обратно)49
Пестовать – нянчить, воспитывать.
(обратно)
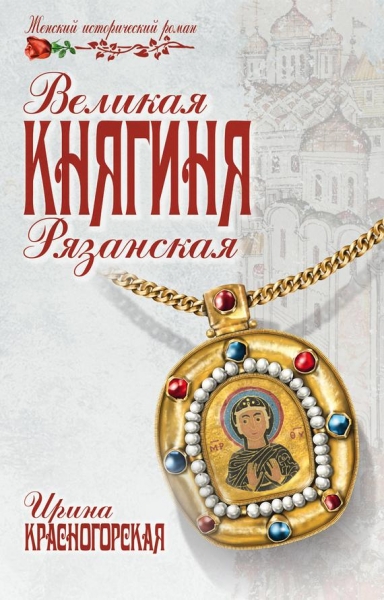

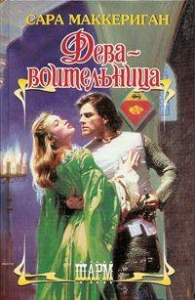
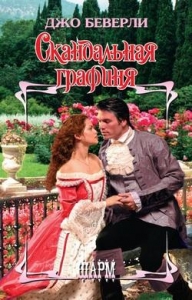
Комментарии к книге «Великая княгиня Рязанская», Ирина Константиновна Красногорская
Всего 0 комментариев